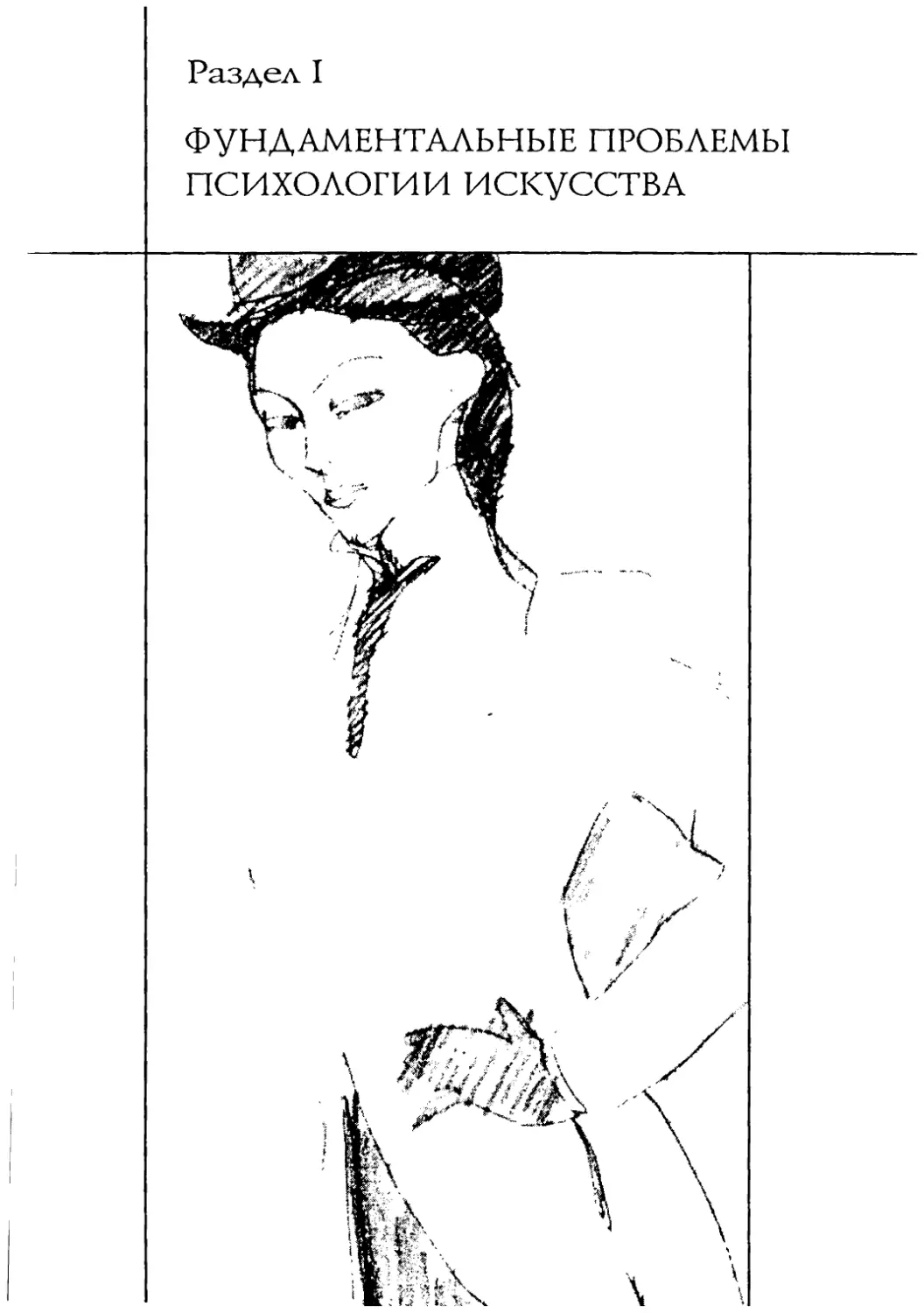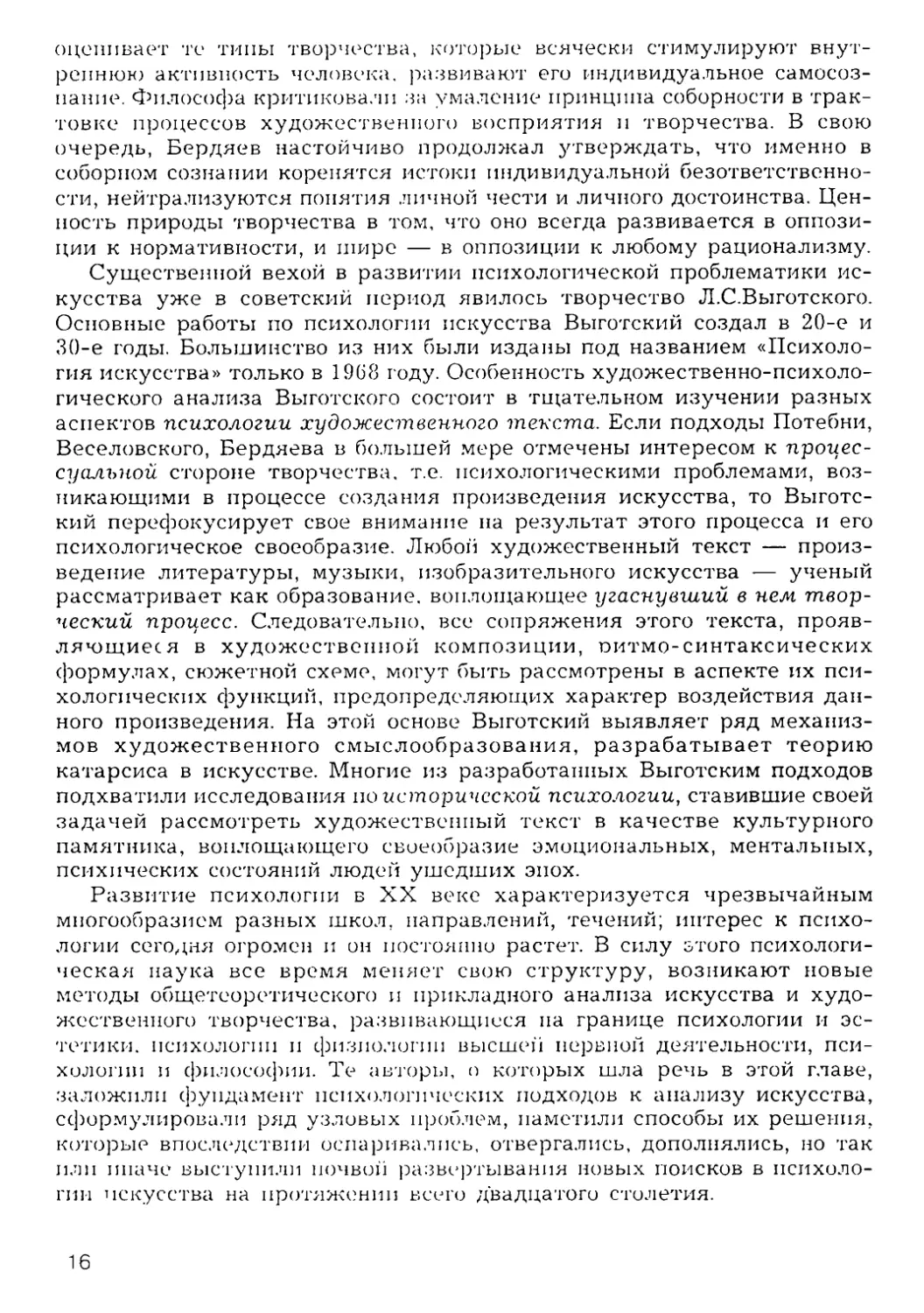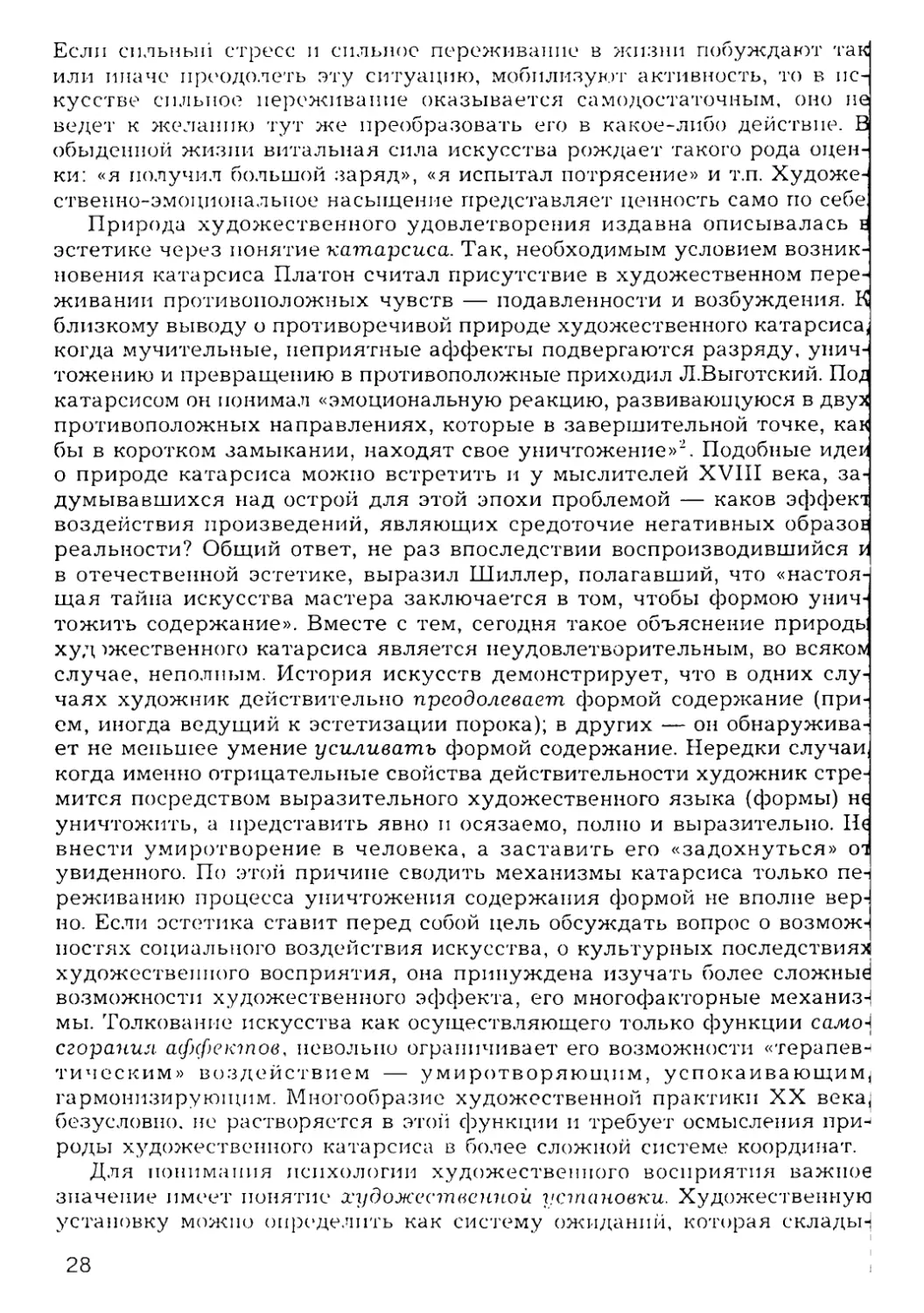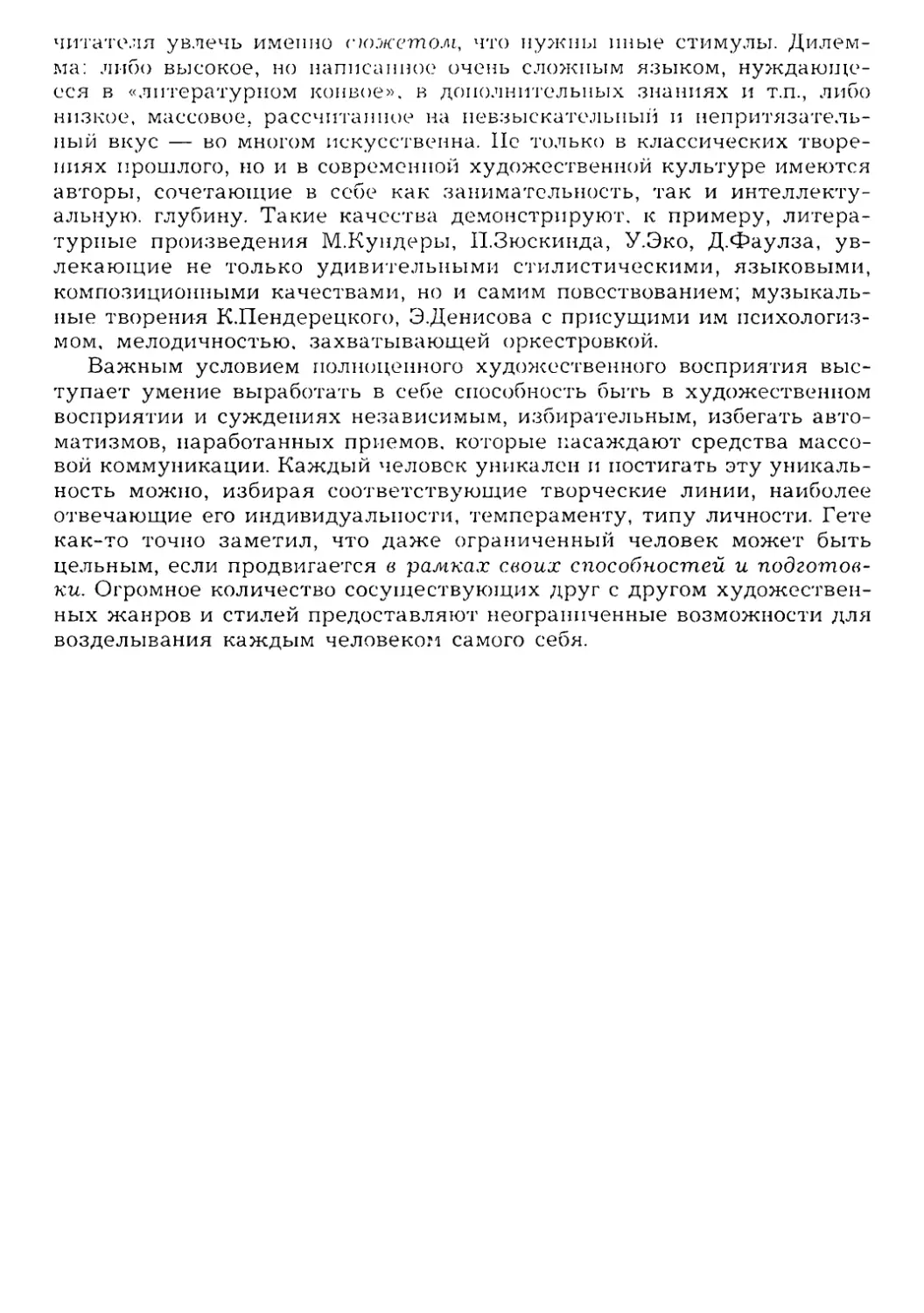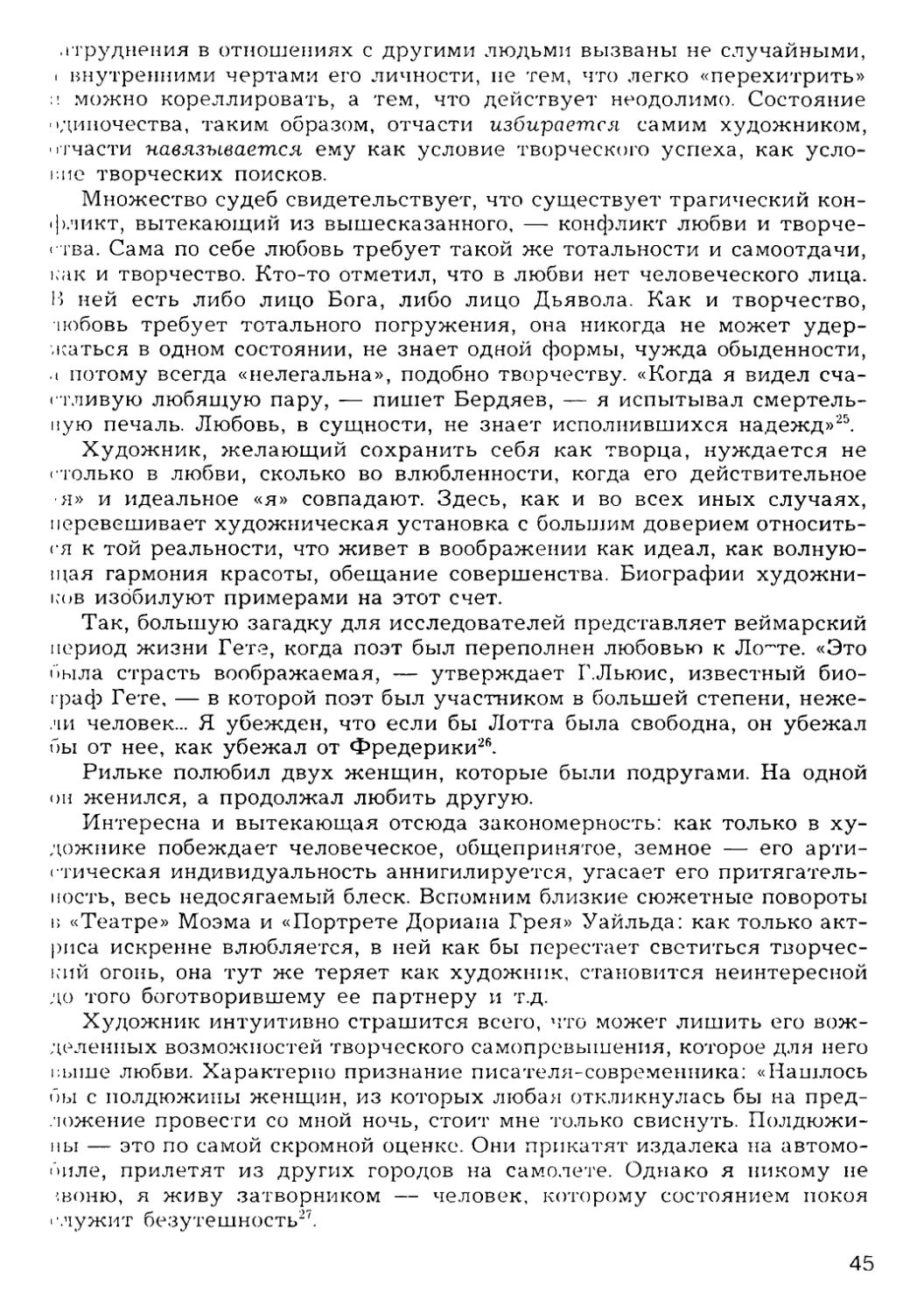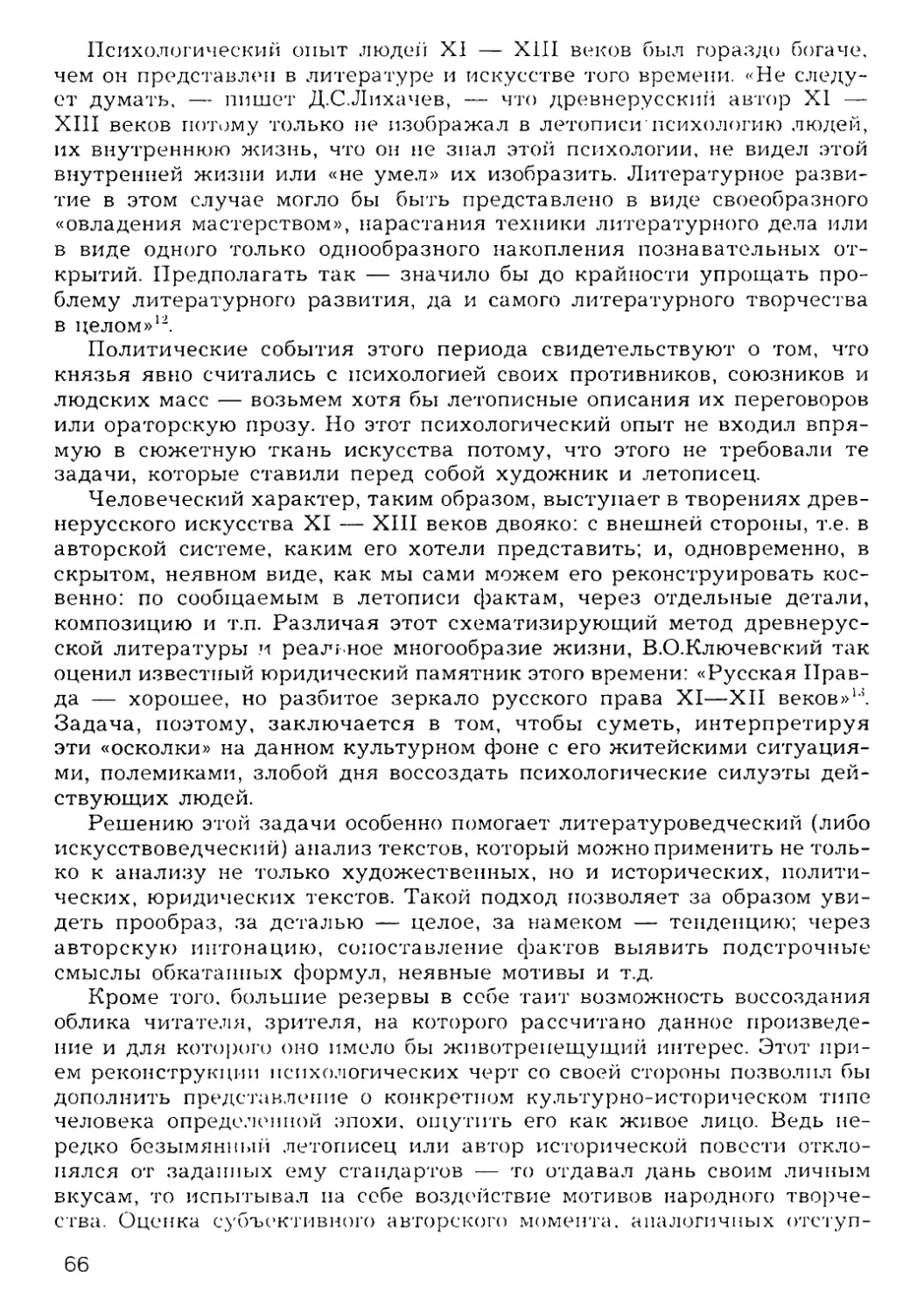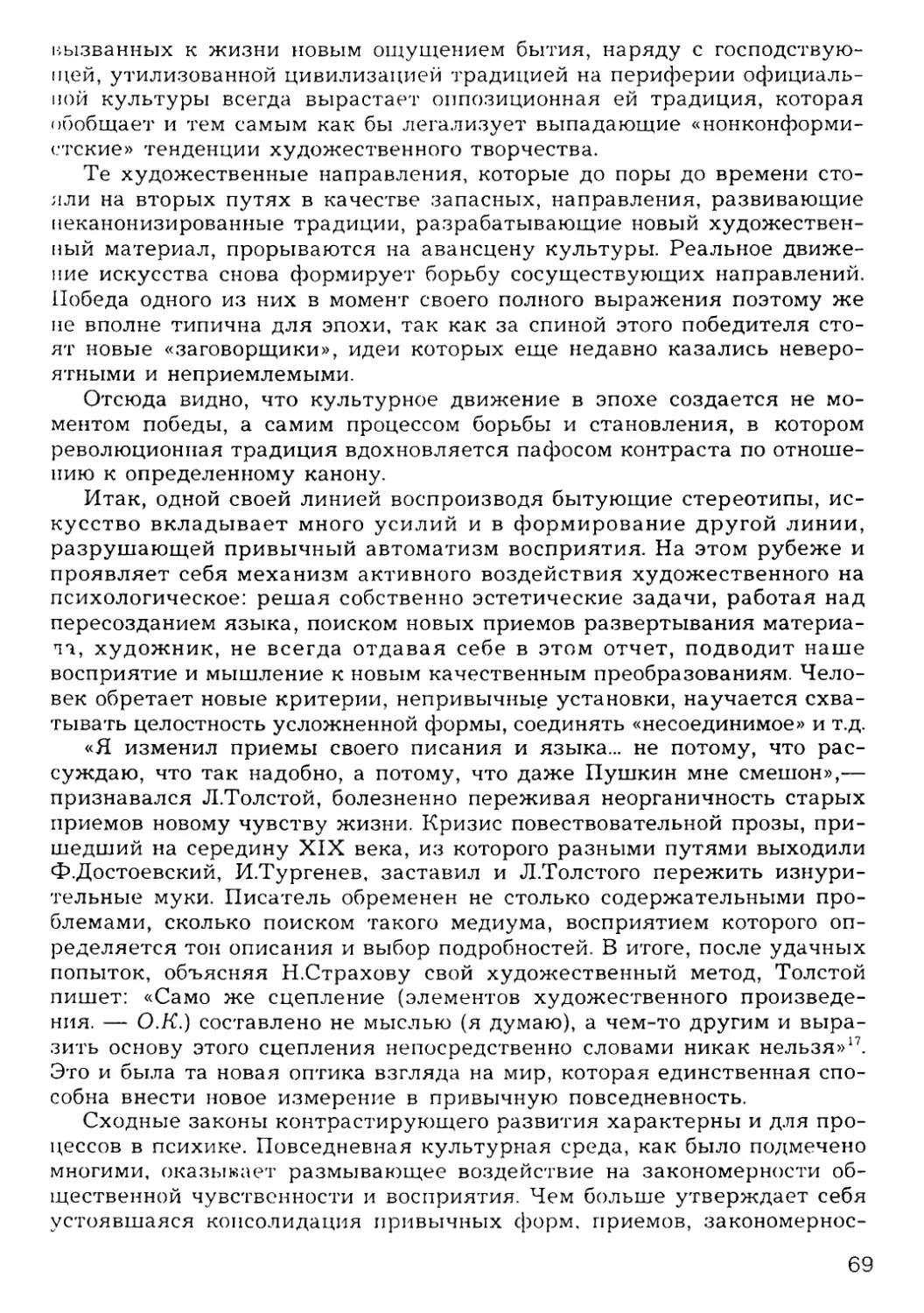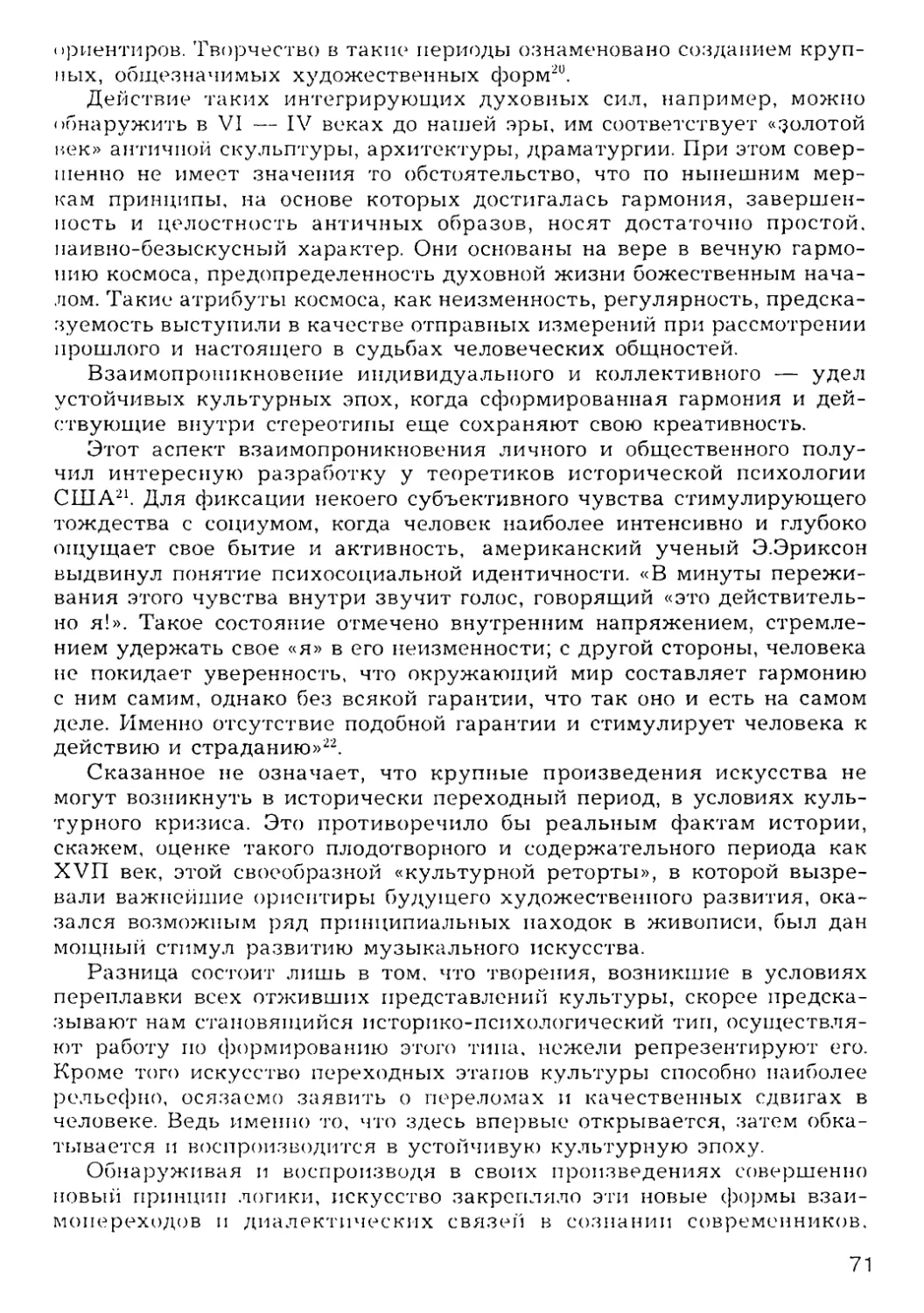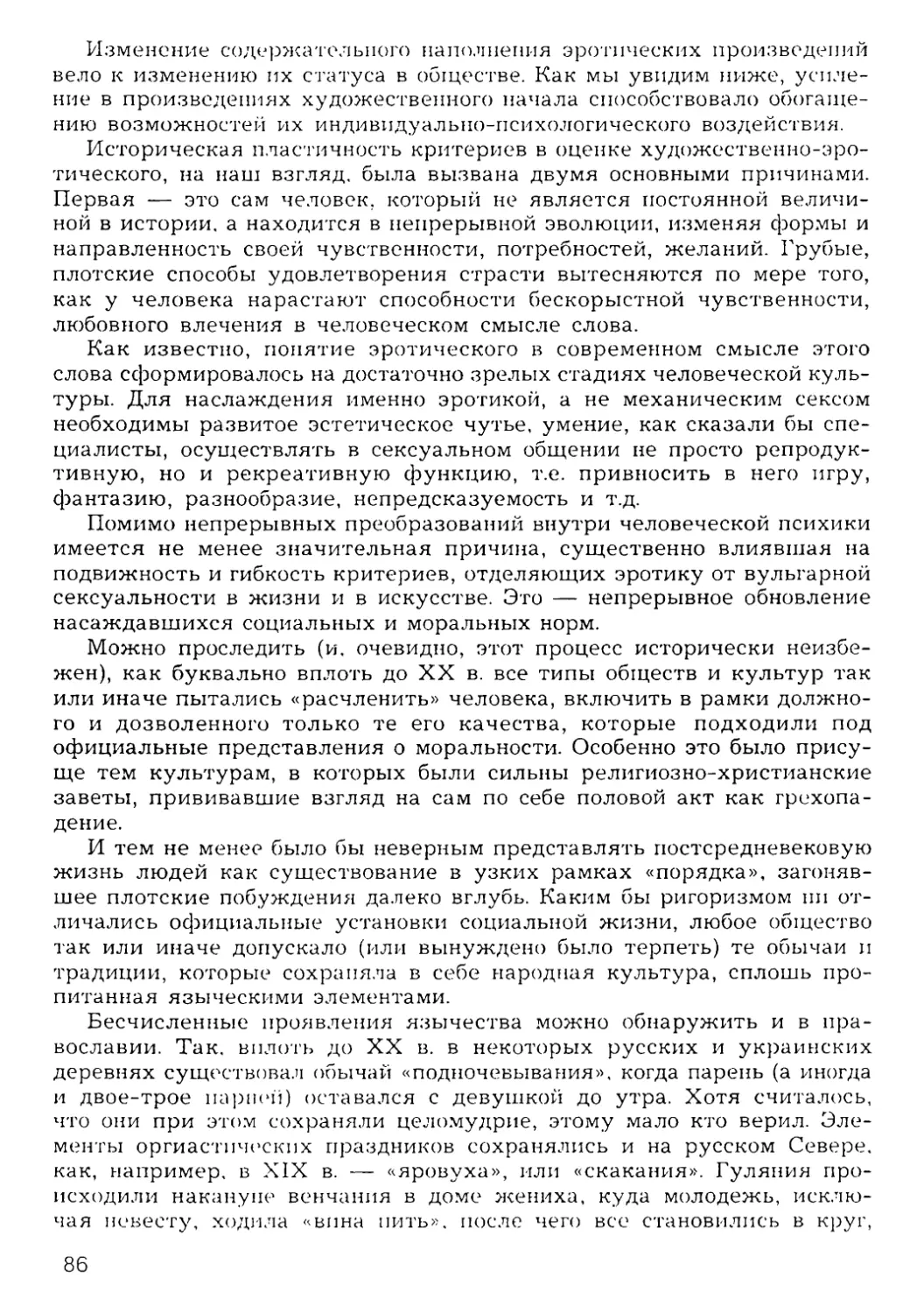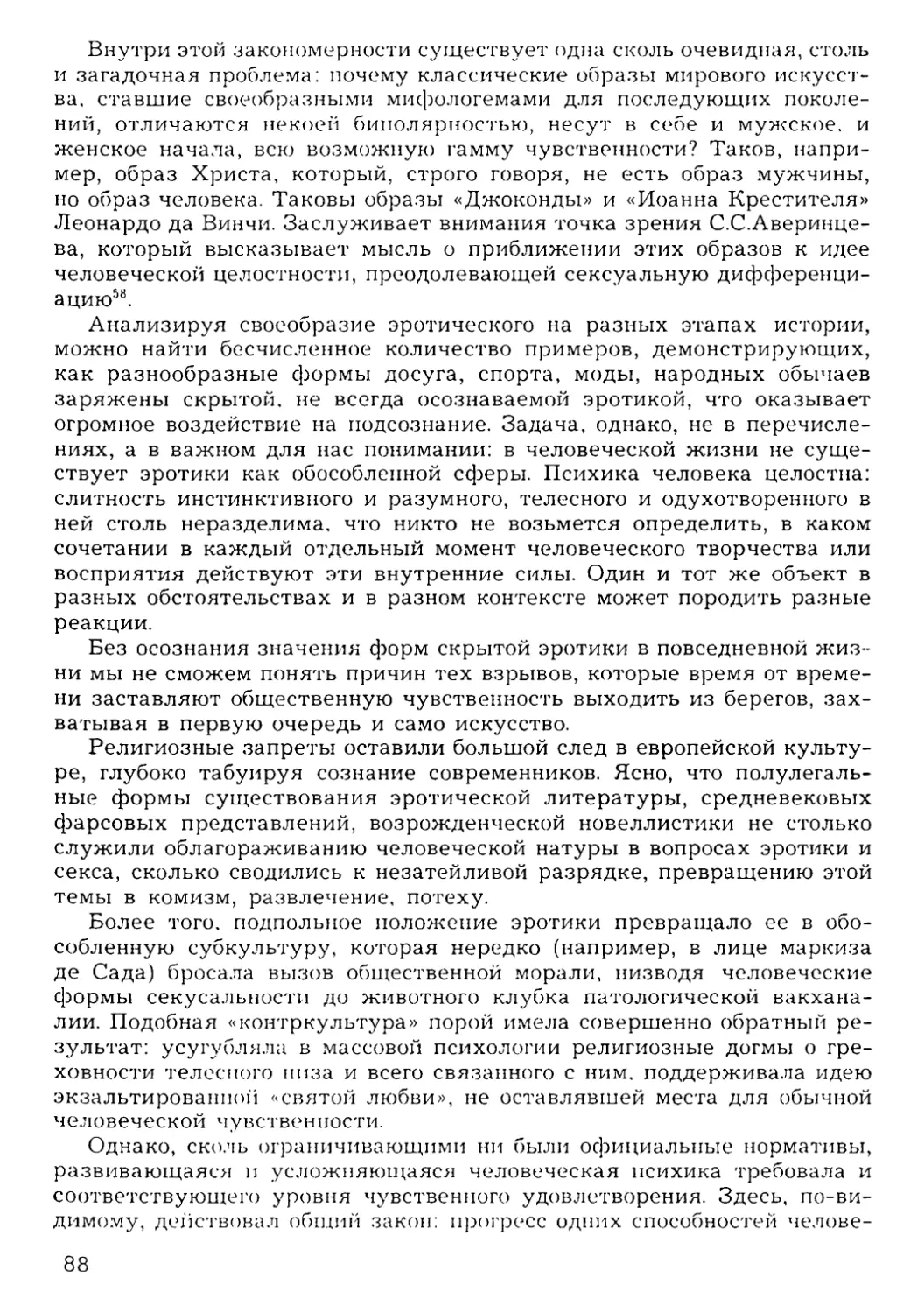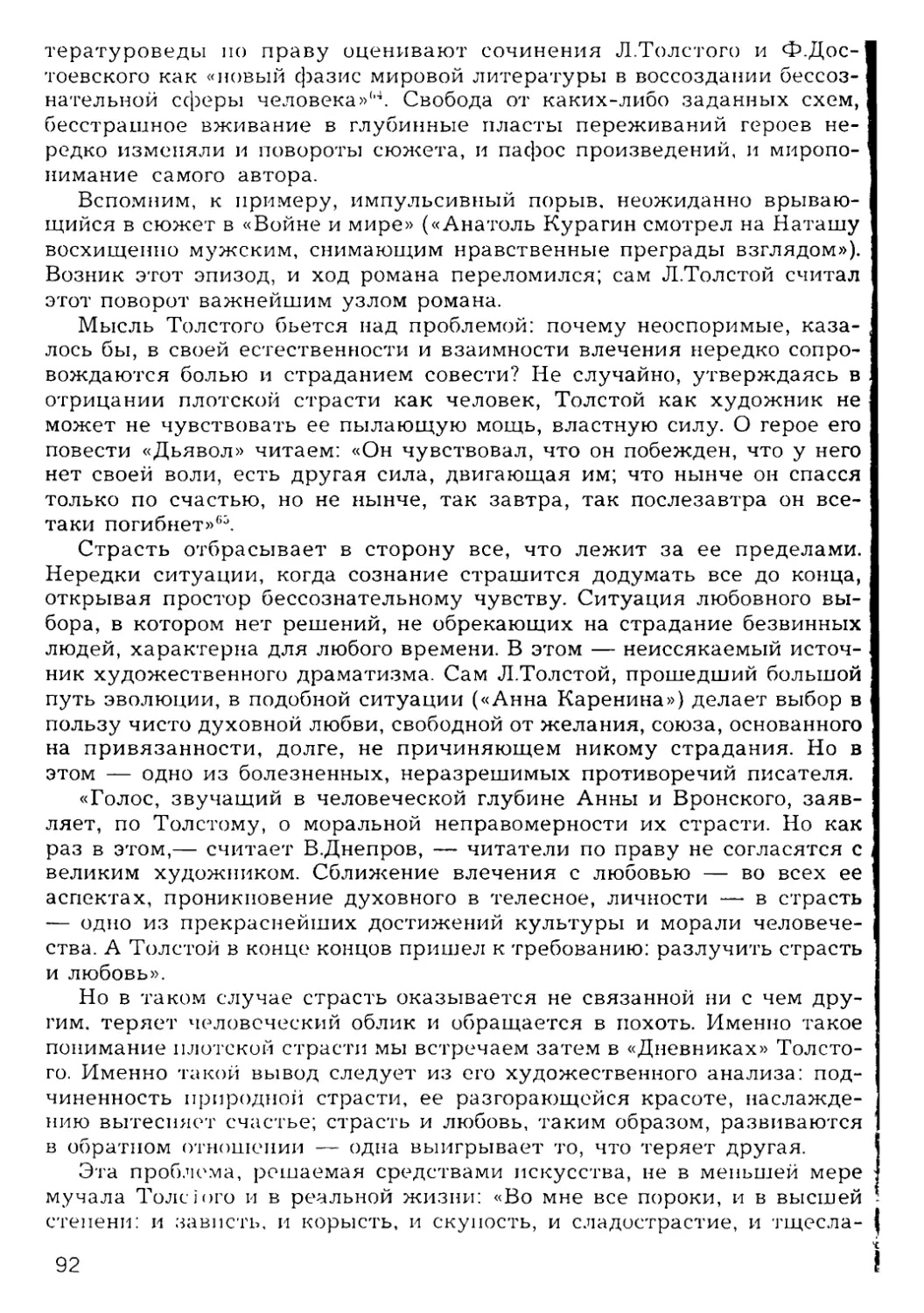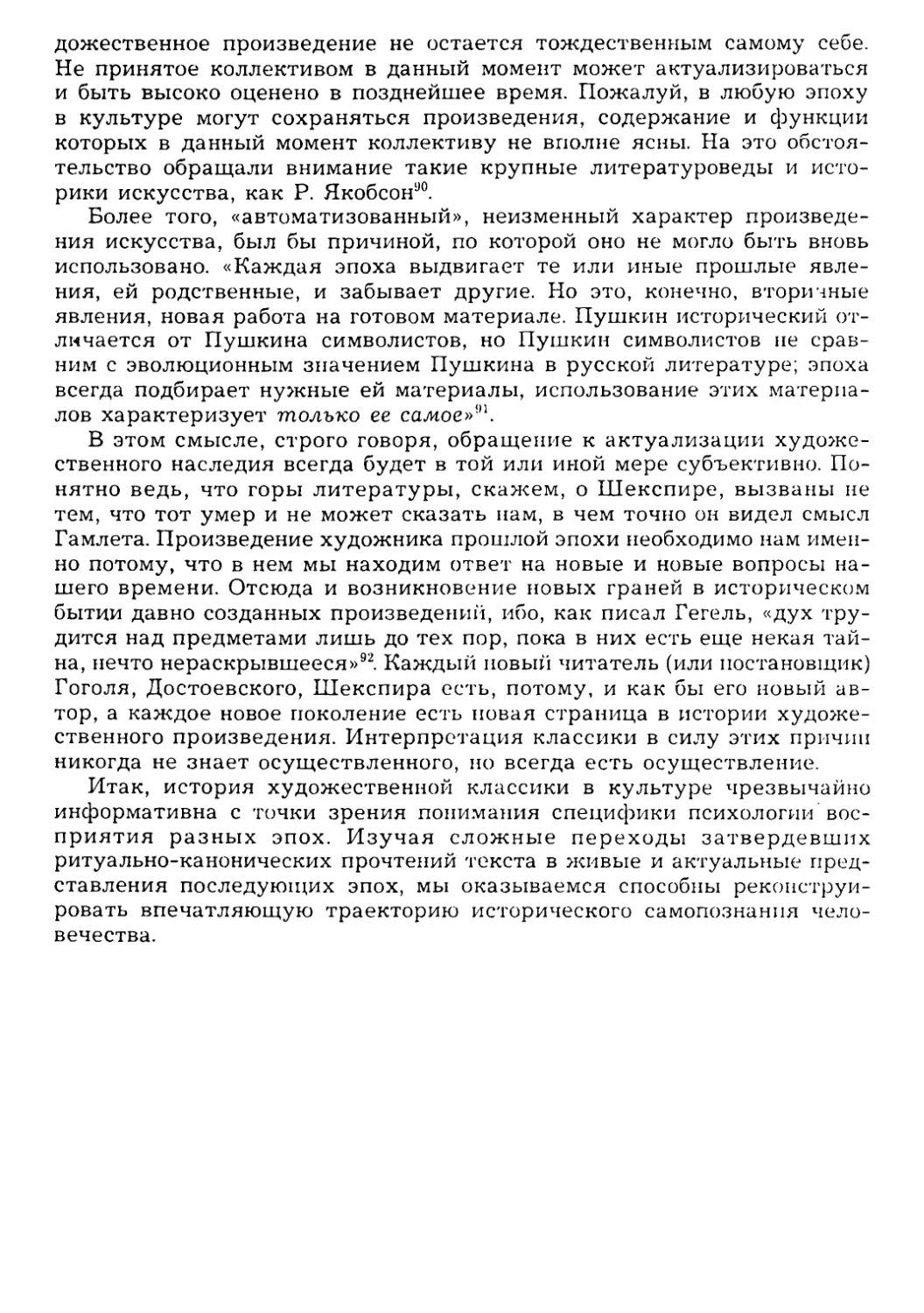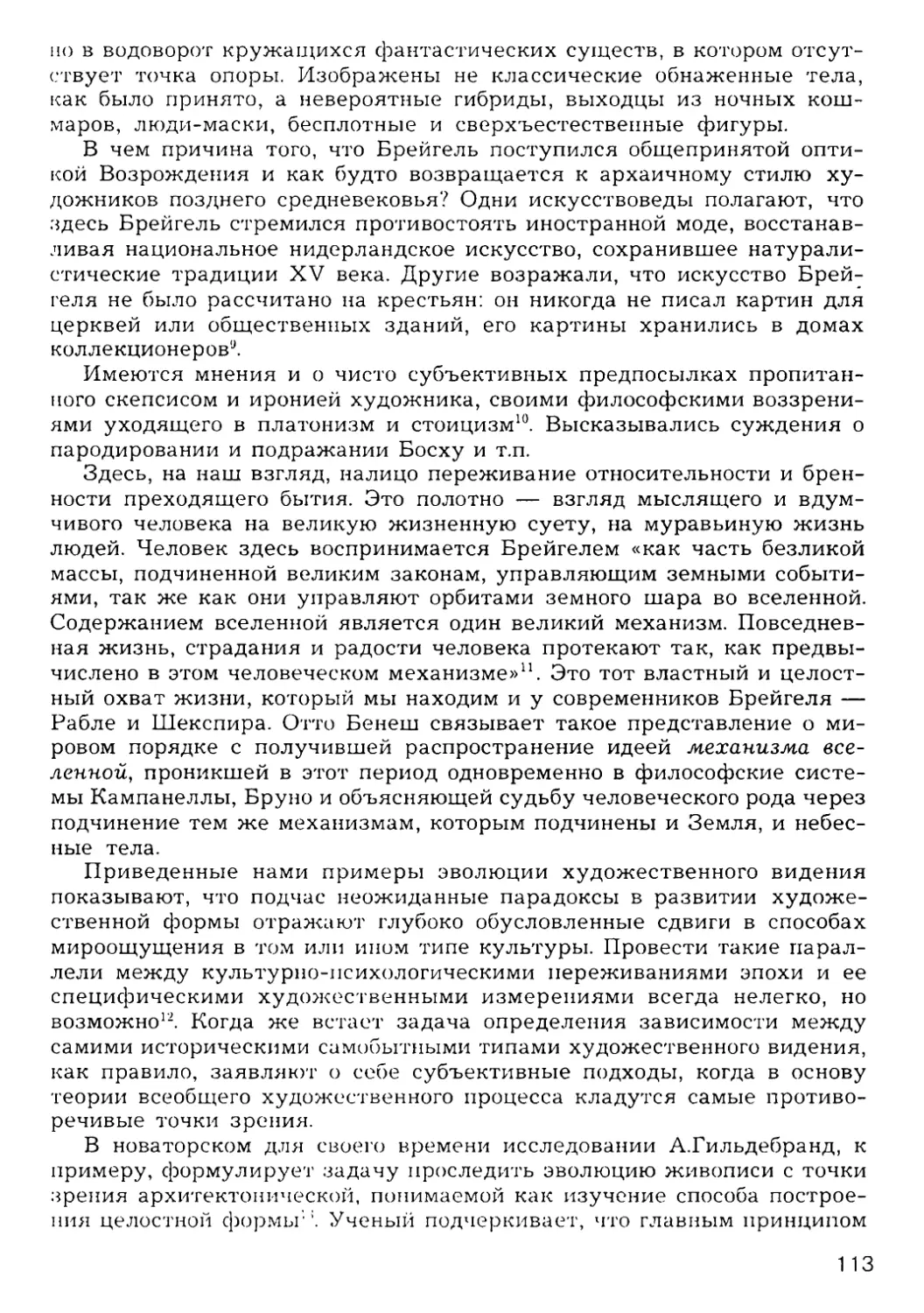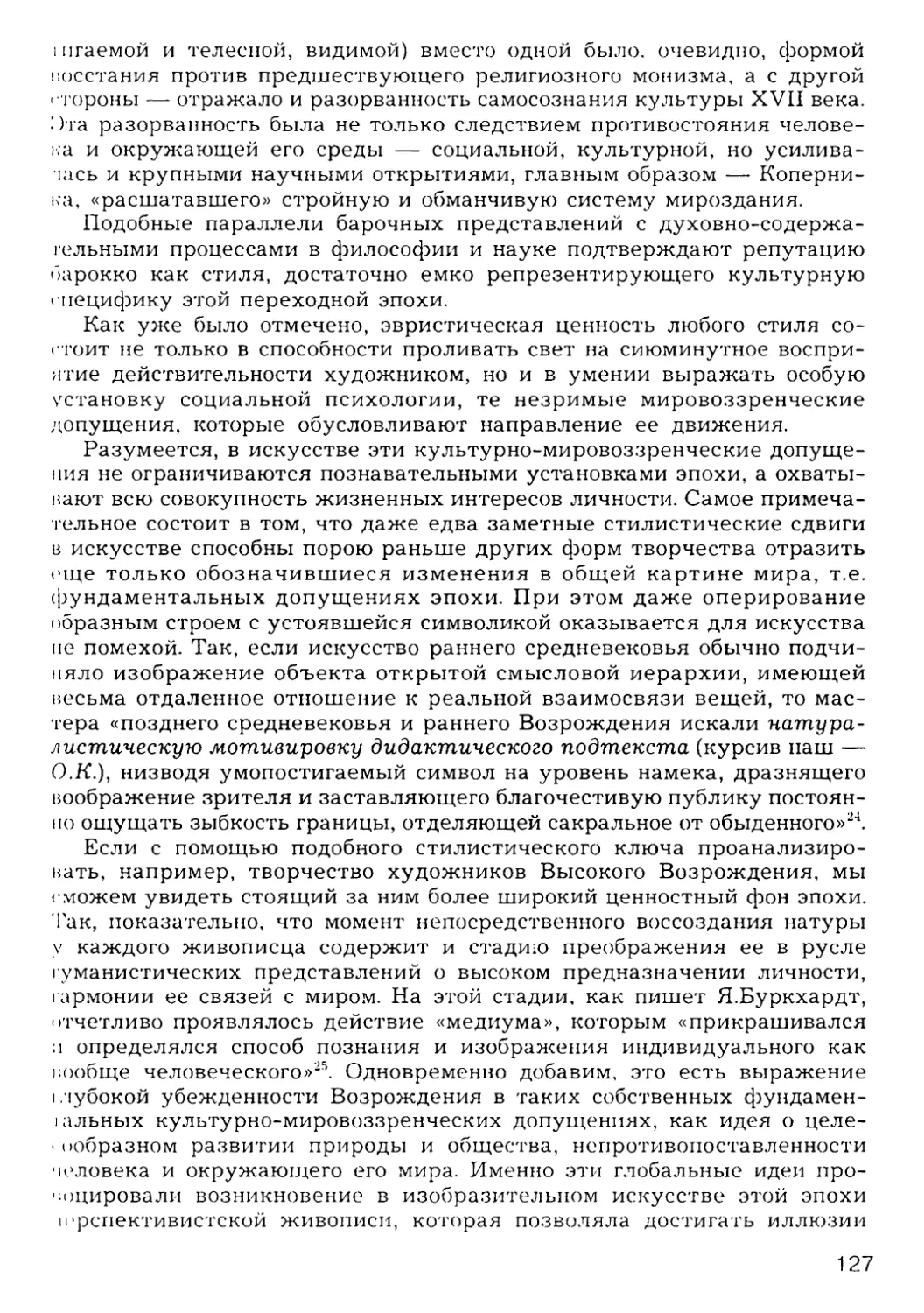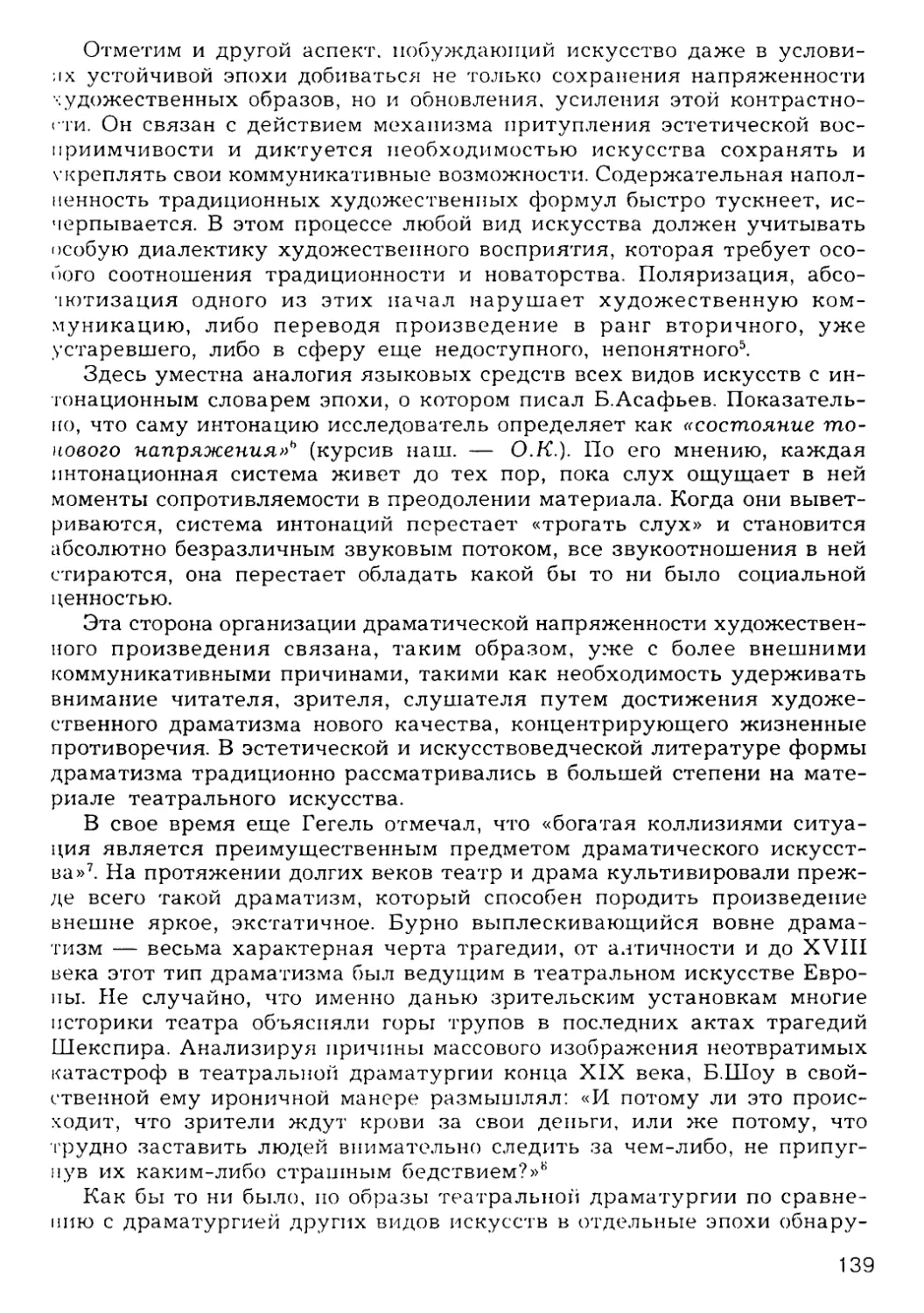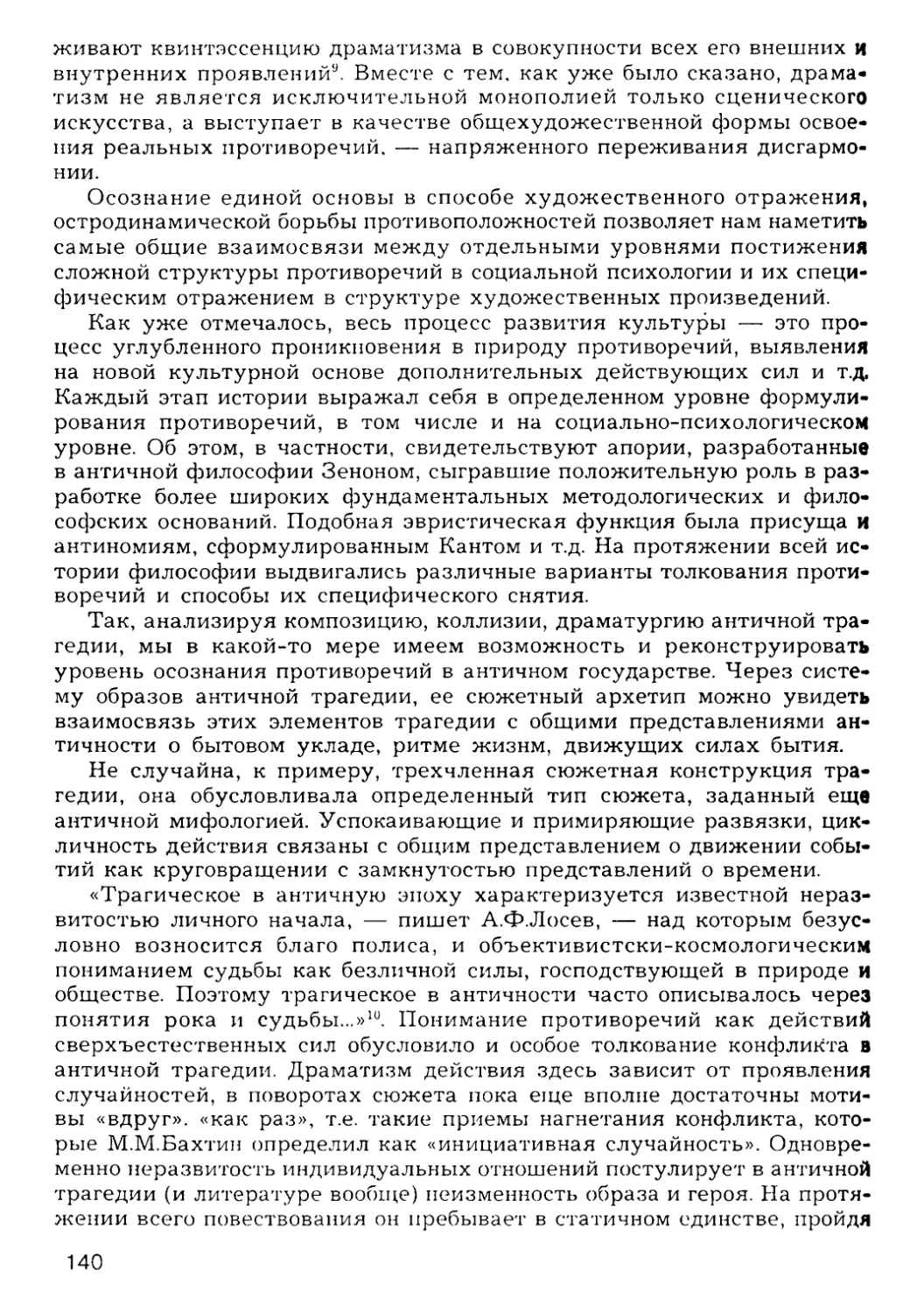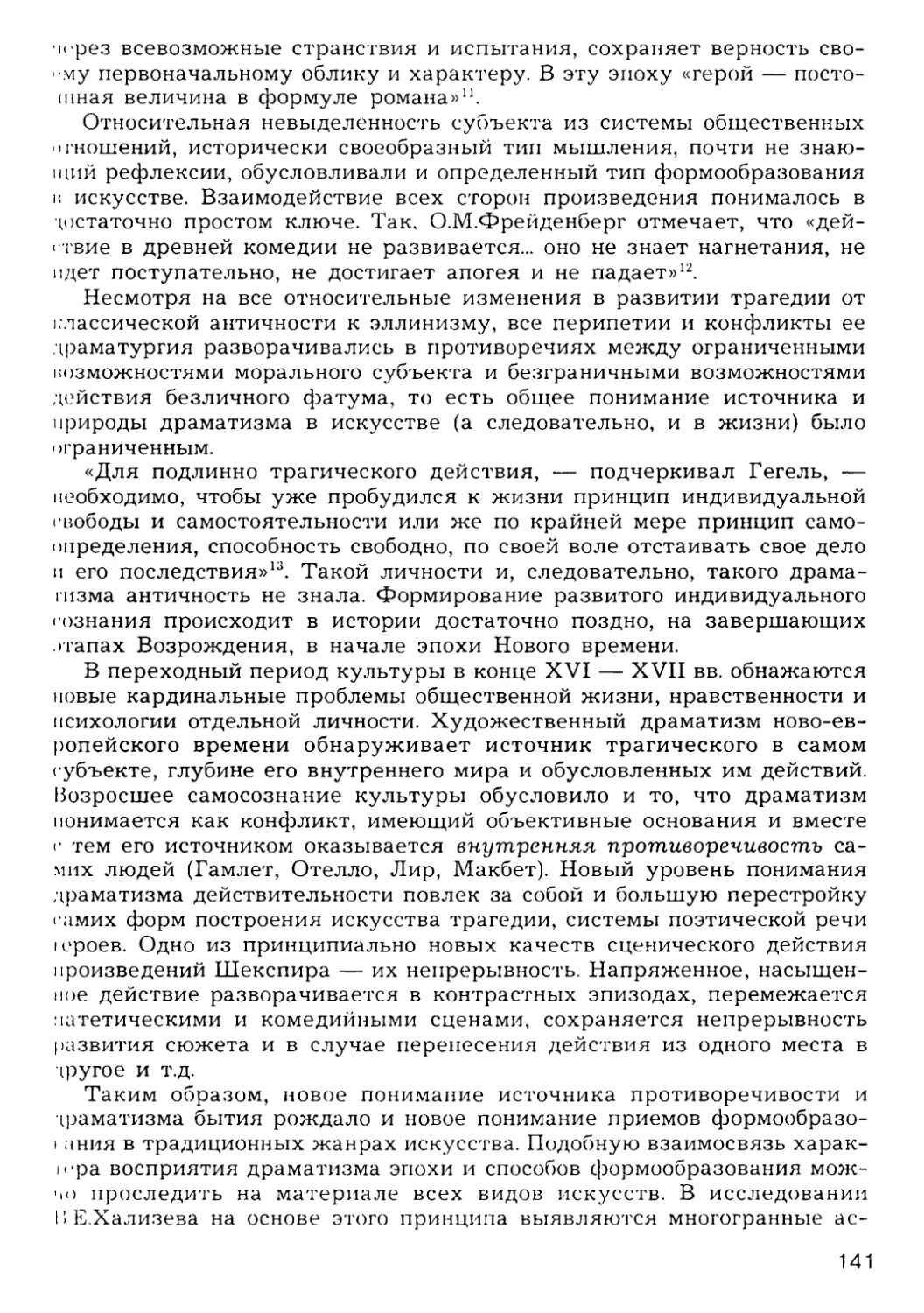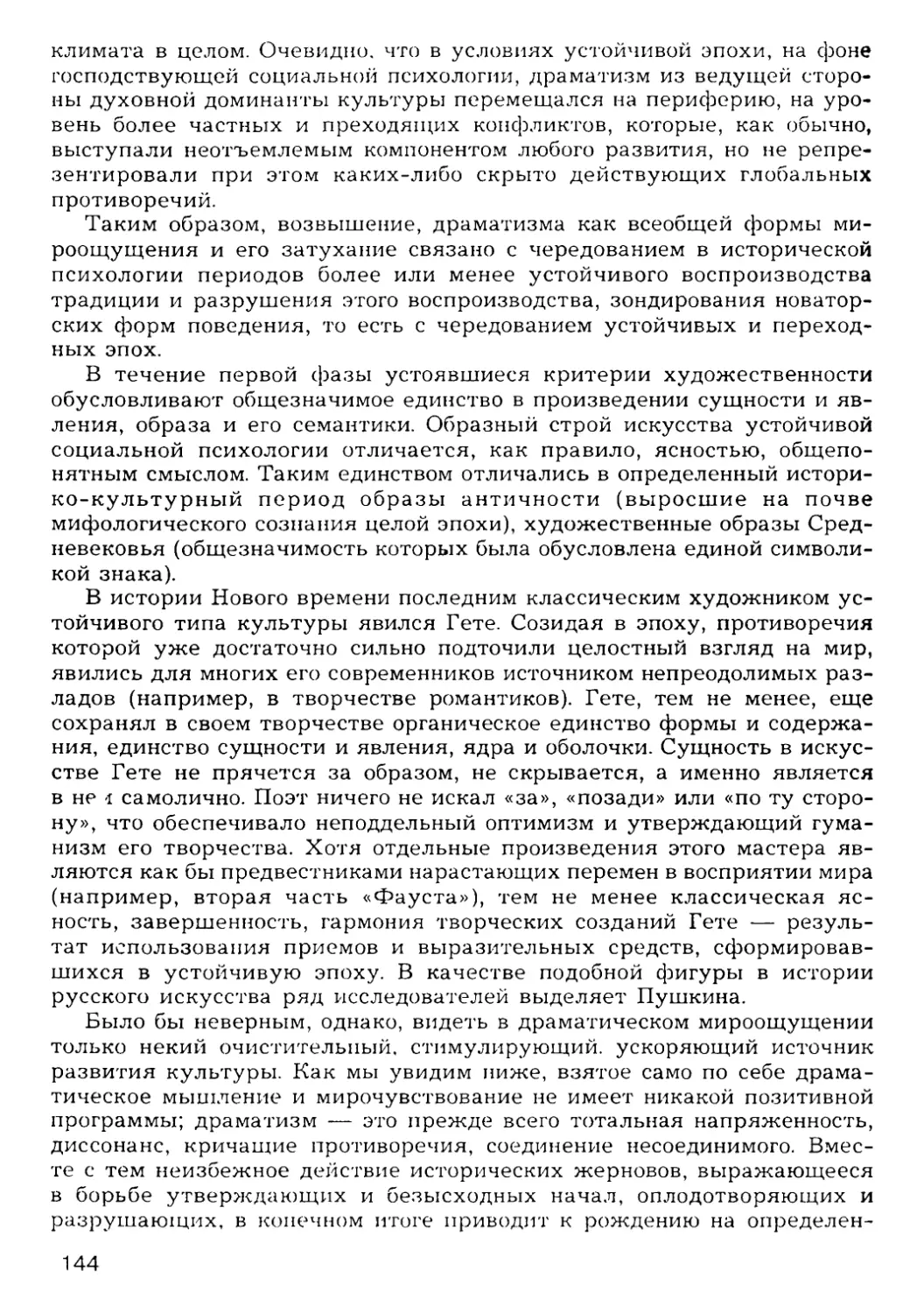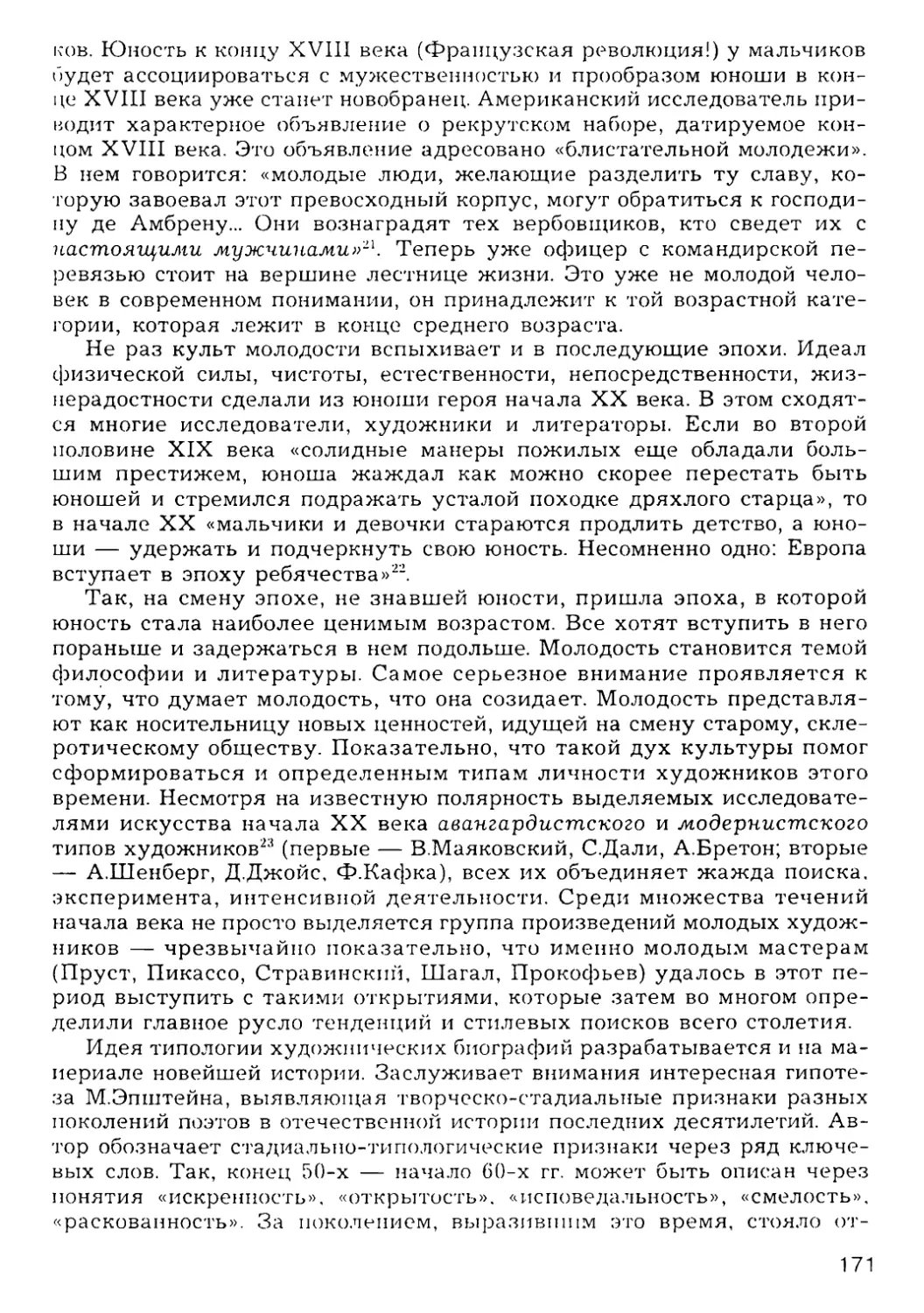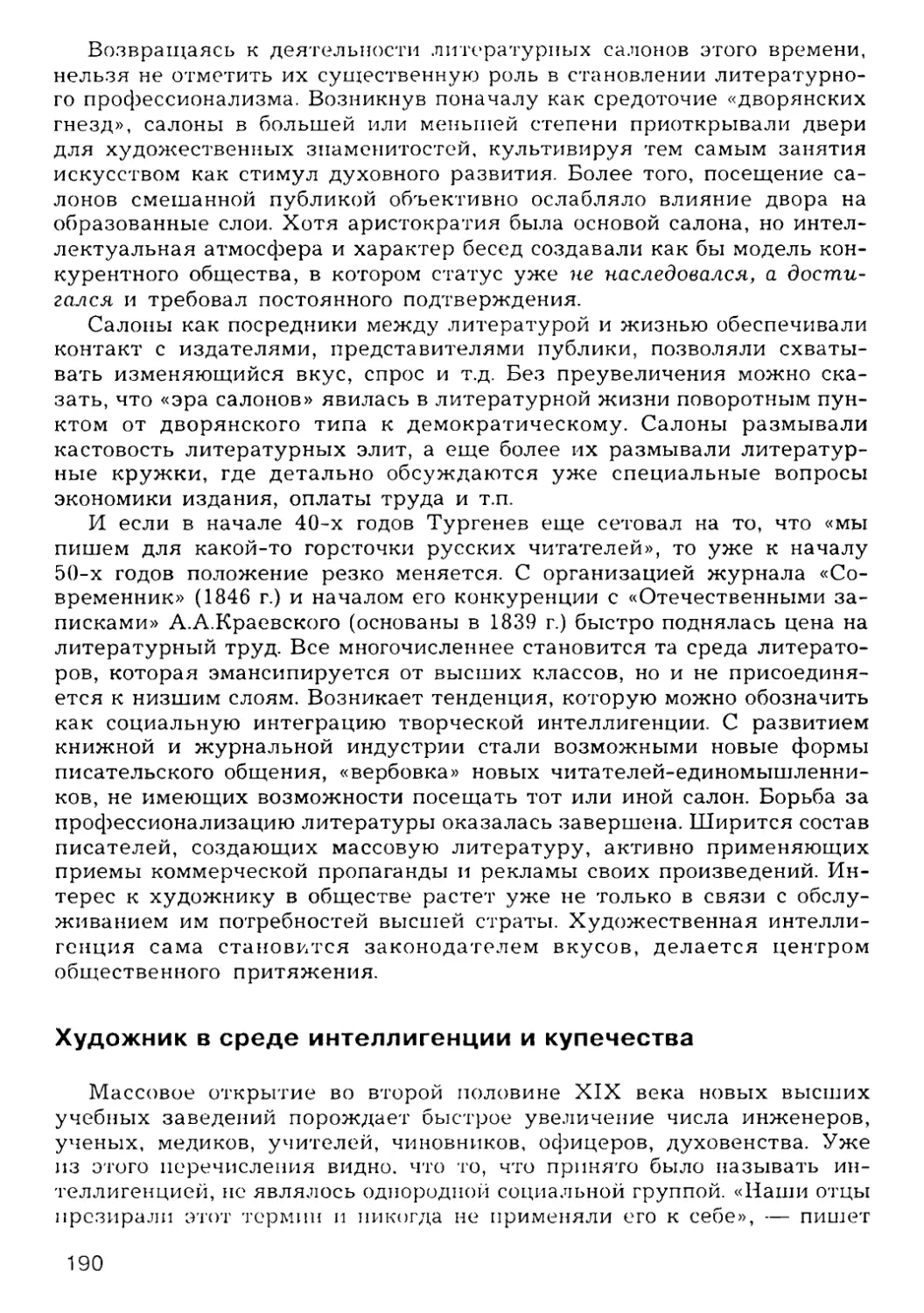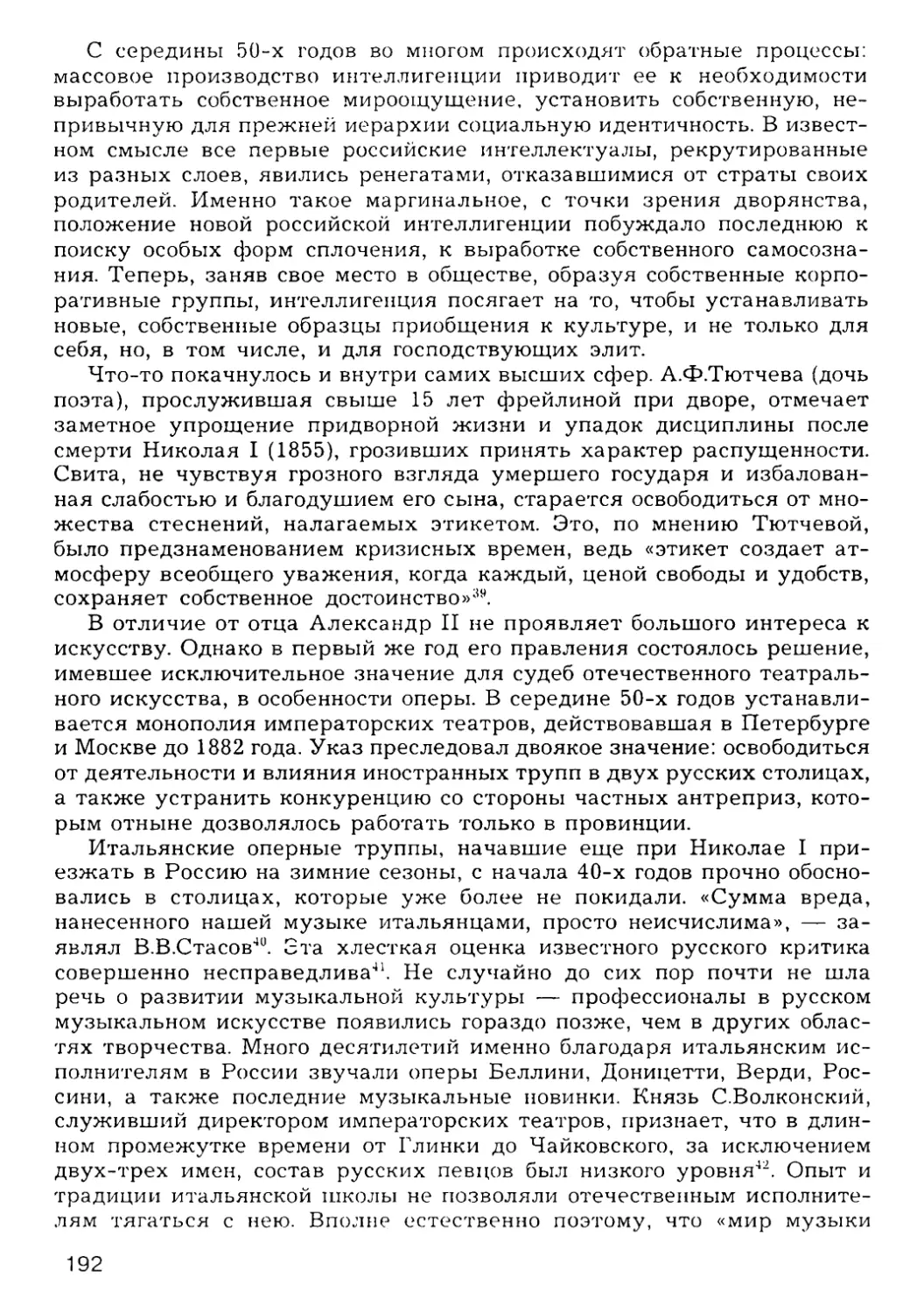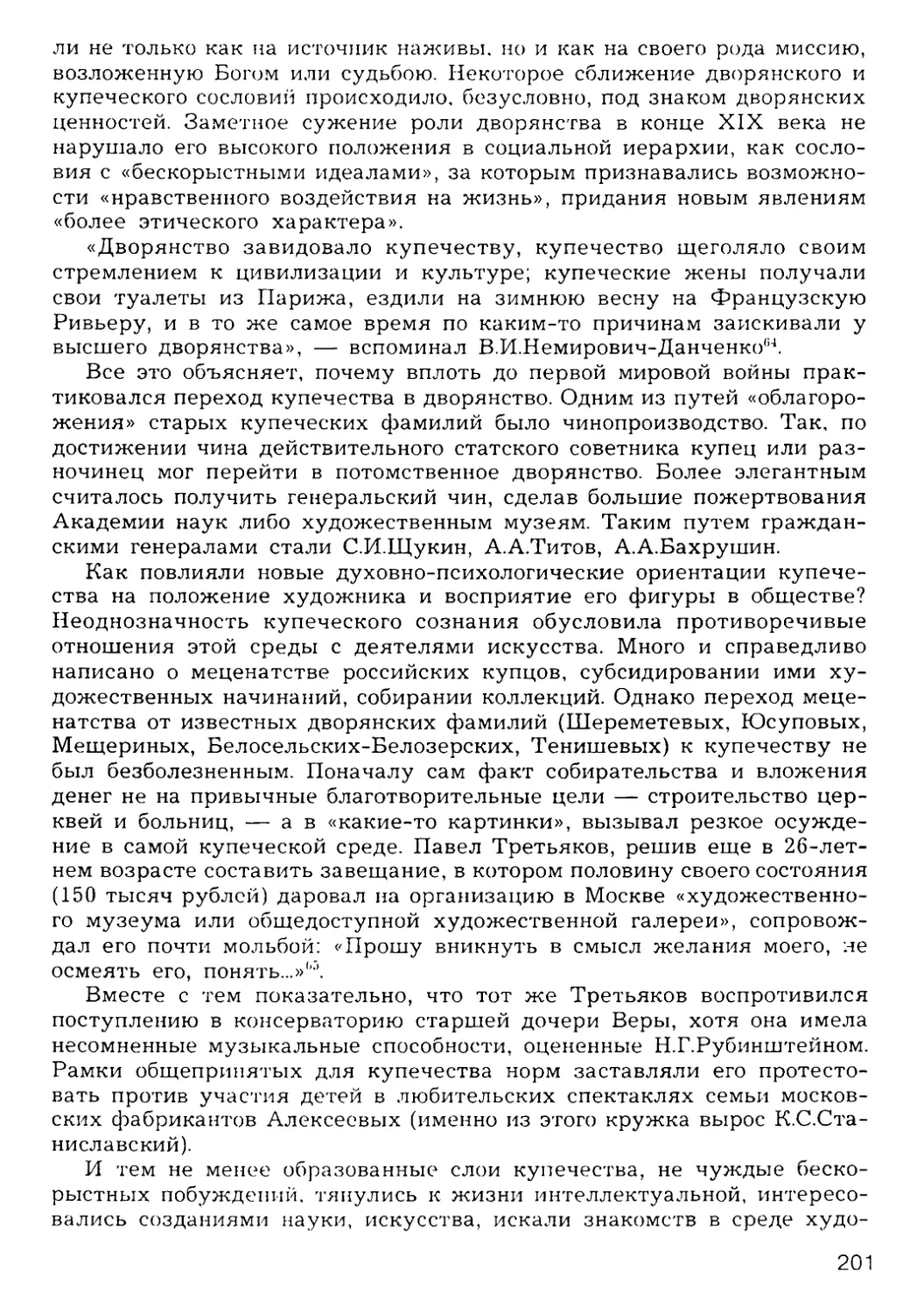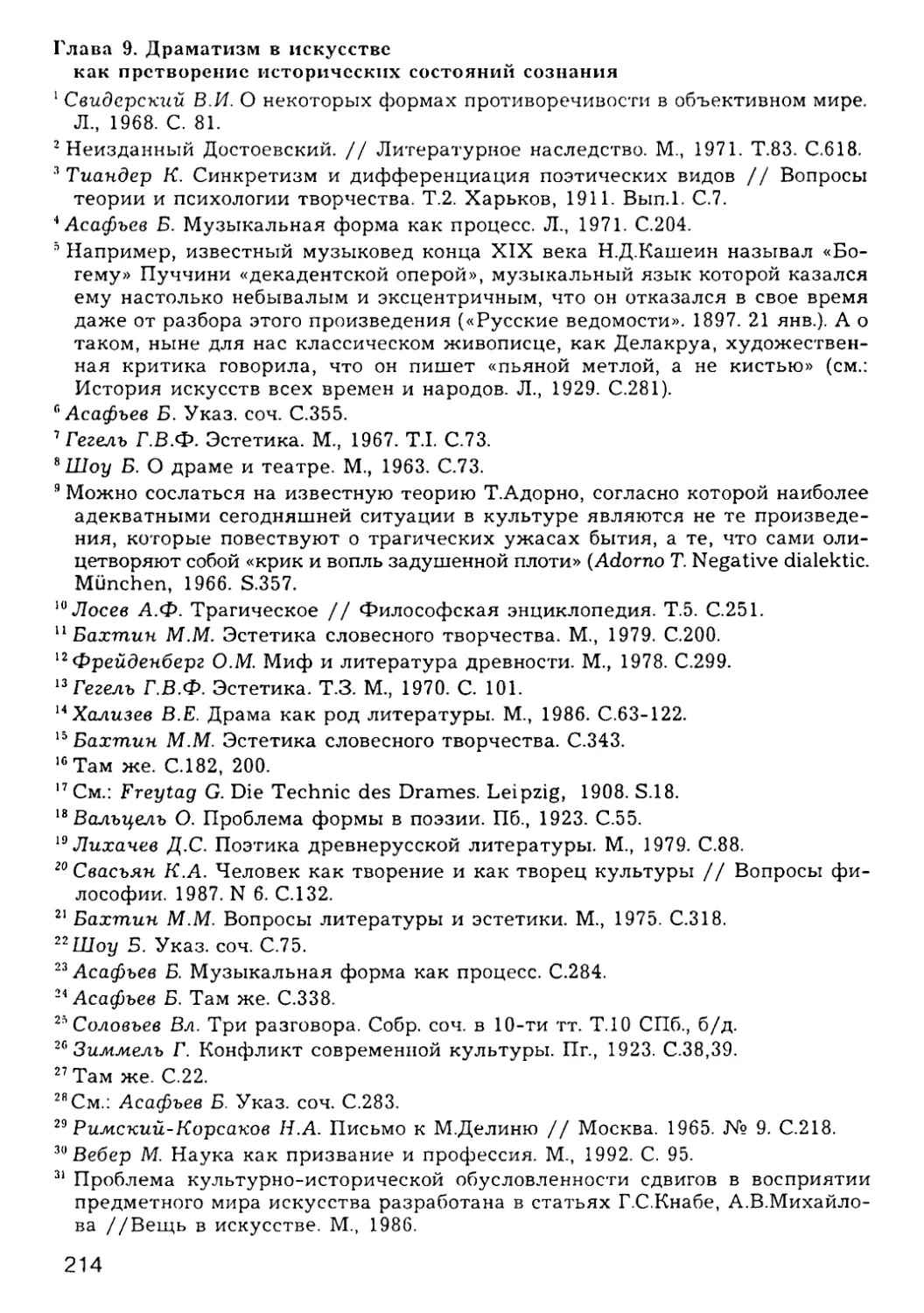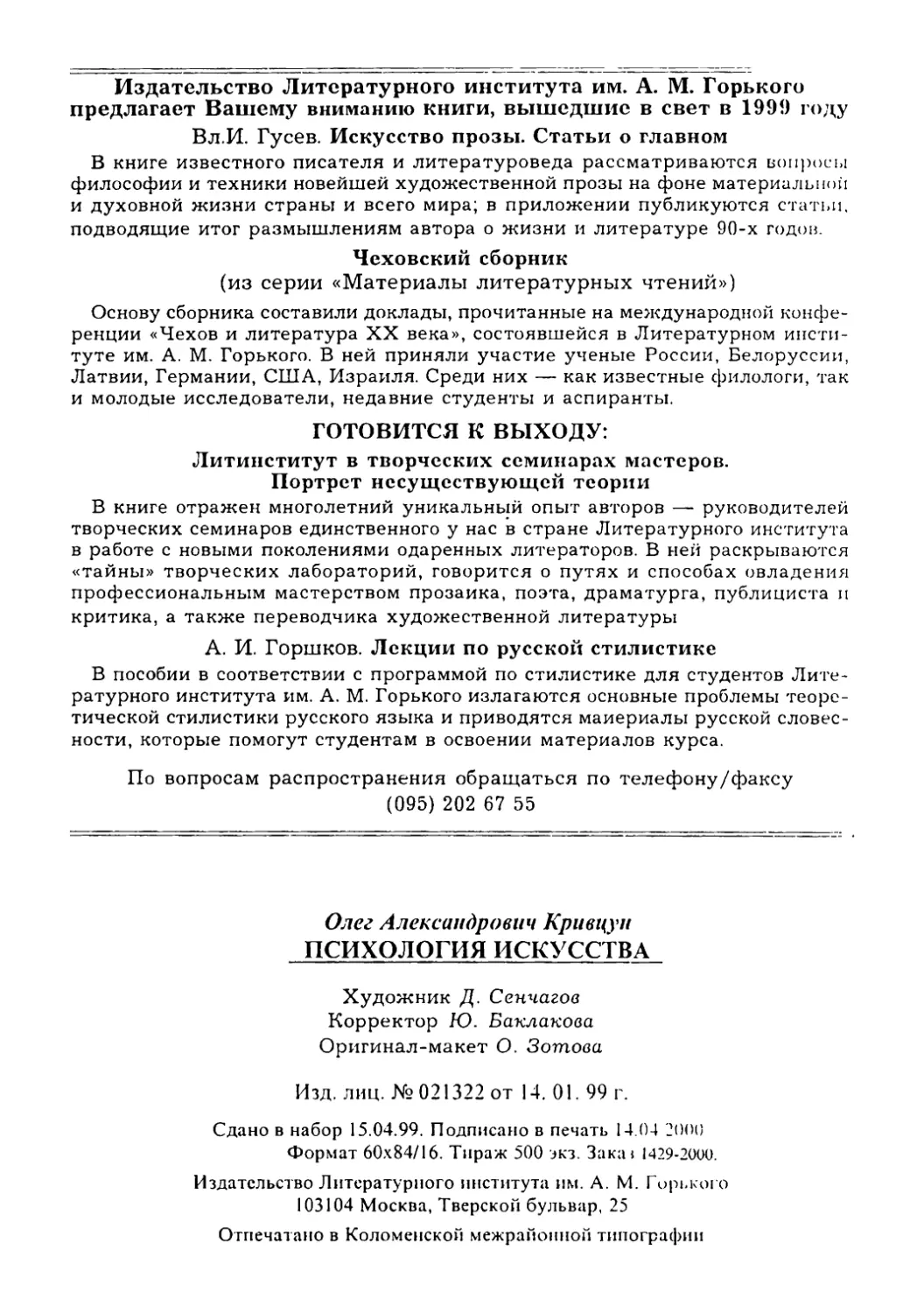Автор: Кривцун О.А.
Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран искусство психология культурология
ISBN: 5-7060-0035-2
Год: 2000
Похожие
Текст
Литературный институт им. А.М. Горького
психология
ИСКУССТВА
O.yl. Кривцун
ПСИХОЛОГИЯ
ИСКУССТВА
Москва
Издательство Литературного института
им. А. М. Горького
2000
Г>БК 83.3
К82
Серия изданий
Литературного института им. А.М.Горького
Ректор С.Н.Е СИН
Кривцун О.А.
К82 Психология искусства — МИздательство Литературного института
им. А. М. Горького, 2000. — 224 с.
ISBN 5-7060-0035-2
В книге рассматриваются как классические проблемы психологии искусства (психоло-
гия художественного творчества и восприятия, психологические аспекты строения про-
изведения искусства), так и новые, еще только рождающиеся на стыке психологии, искус-
ствознания, культурологии, антропологии. Специальное внимание уделено
малоизученным вопросам самоидентификации художника на разных этапах истории,
эволюции культуры художественного воображения, сложению «формульиости» художе-
ственных потребностей в разных типах культур.
Анализ фундаментальных основ и современных поисков психологии искусства пре-
допределил жанр книги, которая в своем содержании совмещает учебно-образователь-
ный п исследовательский материал.
Книга предназначена для студентов гуманитарных вузов и факультетов. а также для
всех, кто интересуется проблемами психолонш искусства и художественного творчества.
ББК 83.3
ISBN 5-7060-0035-2
& О.А. Кривпуи,2000
© ЛитераIурпып институт, 2000
Предисловие
Современная психология искусства — одно из самых перспективных
и интенсивно развивающихся направлений гуманитарных исследова-
ний. В большом массиве современных отечественных и зарубежных раз-
работок выделяются относительно самостоятельные русла: изучение
психологии процессов художественного творчества и художественного
восприятия; выявление психологических аспектов строения художе-
ственного текста (психология композиции, языковых и жанровых взаи-
модействий внутри произведения искусства); анализ нейродинамичес-
ких основ творчества (действие механизмов возбуждения и торможения,
типы темпераментов, нейрофизиологические механизмы творческо-ис-
полнительской деятельности).
Интенсивное взаимодействие в XX столетии психологии, истории,
искусствознания, культурологии, антропологии значительно обогатило
проблемное поле психологии искусства. На основе изучения памятни-
ков искусства продуктивно исследовались формы психической плас-
тичности человека в истории, изменение типов эмоциональных пе-
реживаний людей прошедших эпох; культура художественного
воображения, социально-психологические условия творчества в обще-
ствах разного типа.
Содержание настоящей книги отличает внимание как к классичес-
ким проблемам психологии искусства, так и к её новейшим поискам.
Детальное рассмотрение получили малоисследованные, дискуссионные
проблемы, рождающиеся сегодня на стыке наук: это культурно-психо-
логические истоки становления художественной символики, формы са-
моидентификации художника на разных этапах истории, причины со-
впадения (несовпадения) художественных способностей и призвания,
характер воздействия биографического сознания разных эпох на фор-
мы творческого самоосуществления художника.
В XX столетии активно изучалась проблема взаимовлияния твор-
ческой и бытийной биографии художника, позволяющая осмыслить его
как особый психологический тип. Поскольку творческий процесс не
является выгороженной сферой, а составляет единое целое с жизнен-
ным процессом художника, постольку не только собственно творчес-
кая активность, но и разные формы бытийной активности художника
сопряжены с целями одного типа: созданием произведения искусства,
возделыванием благоприятной для этого почвы, изобретением особых
условий, провоцирующих художественное открытие. Устойчивые пси-
хические состояния, которые провоцирует художественно-творческий
акт, в конечном итоге и определяют своеобразие личности художника
Творец как самобытная личность все время меняет «формулу» свое-
го существования, демонстрирует отсут< твие прикрепленности к одно-
му видению, одной позиции, одной, не вызывающей сомнения, идее.
Его неостановимый переход от одного состояния к другому и представ-
ляет собой собственно человеческое бытие культуры: бытие, знающее
осуществление, но не знающее осуществленного. В психологическом фе-
номене художника концентрируется, таким образом, ряд жизненно
важных характеристик, которые пусть в малой степени, но присут-
ствуют в любом человеке, способны объяснить смену ролевых устано-
вок, тягу к жизни в воображаемом мире, его творческие порывы и
потребности.
Парадоксы, встречающиеся в истории художественного творчества,
невозможно интерпретировать только в опоре на индивидуальную пси-
хологию (психологию личности). Тенденции социальной психологии, до-
минанты исторических состояний сознания способны властно рас-
поряжаться судьбами художников, их творческим потенциалом:
стимулировать одни способности и приглушать другие. Немцу Генделю
удалось реализовать себя только на почве английской культуры; ита-
льянцу Растрелли пришлось почти всю жизнь работать в России. Мно-
гочисленные примеры подтверждают роль социально-психологической
среды как важнейшего фактора и условия творческой самореализации,
способной либо помочь развернуть созидательный инстинкт автора во
всю мощь, либо приглушать характер природного дарования, ради-
кально трансформировать его окраску, направленность.
Все перечисленные проблемы освещаются поэтапно, сгруппирова-
ны в четыре раздела. Для желающих продолжить более детальное
ознакомление со специальными вопросами психологии искусства в кон-
це книги помещен список дополнительной литературы.
Раздел I
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА
Глава 1. Становление психологии искусства
Современная психология искусства отмечена большим объемом ис-
следований, образующих достаточно самостоятельную сферу знания.
Вместе с тем становление этой междисциплинарной области знания
произошло не так давно и было связано с выделением во второй поло-
вине XIX века психологии в самостоятельную науку. Именно в этот
период в европейской науке встречаются две традиции, в рамках кото-
рых психическая жизнь человека изучалась с разных сторон — с фило-
софских позиций теории сознания и с точки зрения физиологии выс-
шей нервной деятельности. Соединение этих двух подходов с их опытом
Изучения человека как «снаружи», так и «изнутри» привело к форми-
рованию особого предмета психологической науки, объединившей ис-
следование не только внутренних факторов, предопределяющих пси-
хические свойства организма, но и всей совокупности внешних факторов,
которые влияют на эти внутренние.
Предметом психологии, таким образом, выступило отношение меж-
ду двумя отношениями: в процессах психической жизни выявлялась
сфера действия как физиологические предпосылок, так и социокуль-
турных факторов. Не без труда проникала в психологию идея об отде-
лимости сознания от мозга, понимание того, что деятельность созна-
ния целиком не детерминирована физико-химическими реакциями,
происходящими в мозге. В итоге развитие психологии пошло в двух
руслах, которые получили обозначение биотропной (прикладная, экс-
периментальная, эмпирическая психология) и социотропной психоло-
гии, проблематика которой носит гуманитарно-теоретический характер,
ориентирована на изучение социокультурных факторов психической де-
ятельности. Эти два русла с разных сторон изучают механизмы дей-
ствия сознания, воли, памяти, воображения, интуиции, врожденных и
приобретенных способностей и т.п.
Первые специальные работы по психологии искусства сразу же об-
наружили свой междисциплинарный характер. Естественно, что не все
школы и направления психологической науки одинаково близки к раз-
работке проблем психологии искусства. Особое значение для эстетико-
психологического анализа имеют как минимум три направления. Это
ассоциативная психология, изучающая способы соединения представ-
лений по определенным правилам. В свое время вклад в становление
ассоциативной психологии внес еще Аристотель, писавший о том, что
представления соединяются по принципам смежности, сходства и кон-
трасту. Ассоциативная психология важна для изучения механизмов ху-
дожественного восприятия, принципов взаимодействия образной
системы художественного текста. Существенное значение для худо-
жественно-эстетических исследований имеет гештальтпсихология —
9
направление. разрабатывающее природу психики человека с позиций
теории иелоспиюсти. Выявление единства действия осознаваемых и
безотчетных стимулов, типов личностей и темпераментов напрямую
связано с изучением психологического своеобразия фигуры художника.
И наконец, чрезвычайную важность представляют разработки теории
бессознательного, проливающей свет на малоизученные процессы ху-
дожественного творчества и художественного восприятия.
Несмотря на интенсивное развитие прикладных психологических
исследований] в конце XIX века, психологическая и философская на-
ука этого времени приходят к выводу, что величайшие тайны челове-
ческого поведения и творчества невозможно дедуцировать только из
внешней реальности или только из внутренних физиологических про-
цессов. Нет таких научных процедур, которые могли бы позволить пол-
ностью «десакрализовать» то или иное психическое действие и побуж-
дение. Каждый из отдельных научных подходов обнаруживает
закономерности на своей территории, но целое (человек) не может быть
объяснено через сумму частей.
Подобная ситуация выступила благоприятной почвой для возникно-
вения психологической концепции З.Фрейда, получившей столь боль-
шую известность за пределами психологии. Важно отметить, что инте-
рес к проблемам бессознательного в науке наблюдался задолго до
появления Фрейда. Скажем, в Древнем Египте существовала практика,
когда врачи прикрепляли к изголовью кровати больного специальную
табличку и записывали весь бред, который тот излагал в состоянии
невменяемости. Последующее толкование этого текста, как считали
врачи, могло приблизить к постановке диагноза. В основе этого мы ода
лежала важная посылка: уже изначально человек знает о себе все, но в
ранопальном, социально «(фокусированном» состоянии он не способен
этого выразить.
В период деятельности Фрейда в психологии в целом доминировало
негативное определение бессознательного. Причина особой привлека-
тельности концепции Фрейда состояла в ее интегративности. Австрий-
ский исследователь начинал как врач, занимался лечением неврозов.
Полученные обобщения привели его к выходу в проблематику истории
культуры, социологии, философии. Таким образом, и биотропные, и
социотроиные подходы в системе Фрейда представлены в единстве. С
большой исторической дистанции можно оценить мужество Фрейда,
отважившегося разрушить предрассудки и стремившегося к познанию
самых закрытых сфер человеческой психики.
Как известно, Фрейд, по его словам, разработал новую «археоло-
гию личности», выдвинул гипотезу о том. что в основе любых форм
человеческой активности лежит единый стимул, а именно — стремле-
ние к удовольствии). Все модусы поведения и особенно творчества так
или иначе находятся в зависимости от потребности удовлетворения,
получения удовольствия. Корень невротических состояний личности, по
мысли психолога, лежит в тенденциях развития цивилизации, эволю-
ционирующей в противовес интересам отдельной личности, набрасыва-
ющей узду на полноту нооявления индивидом своих склонностей. Конф-
ликт современной культуры с эгоистическими устремлениями людей
10
г.ыражается в усилении всевозможных таоу, запретов, насаждении
унифицированных норм. Все они оказывают искажающее воздействие
на возможности эмоционального самовыражения, тормозят и загоняют
внутрь многие естественные порывы. Все линии эмоциональной жизни
человека фокусируются, по мнению Фрейда, в единой страсти, кото-
рую он обозначает как либидо. Либидо понимается не просто как стрем-
ление к сексуальному удовольствию, а в широком смысле как энерг'цм,
которую излучает пол. Энергия либидо конфигурируется в ряде ком-
плексов: в эдиповом комплексе, в комплексе априорной бисексуальнос-
ти и в комплексе агрессивности, направленной как вовне, так и вов-
нутрь человека. Общество не может дать выход всем побуждениям
индивида без исключения. Отсюда и возникают превращенные формы
сексуальности, находящие выражение в разных видах творчества и
поведения человека^ которые есть осуществление процесса сублима-
ции, т.е. непрямого, превращенного действия либидо.
Лю-бые психические травмы, особенно детские, изменяют формы
сексуальных фантазий человека, воздействуют на особенности его сек-
суальной ориентации, трансформируются в особенностях художествен-
ного творчества. «Современная культура не допускает сексуальность
как самостоятельный источник наслаждения и склонна терпеть ее толь-
ко в качестве до сих пор незаменимого источника размножения»,—
приходил к выводу Фрейд. Корыстное, калечащее отношение общества
к человеку способна ослабить процедура психоанализа. Техника психо-
анализа строится на том, чтобы помочь индивиду осознать вытеснен-
ный аффект, найти объяснение патологическим реакциям и тем самым
помочь «раздраматизировать» свое состояние. Основные посылки тео-
рии психоанализа можно свести к трем: аффективно окрашенные впе-
чатления, будучи вытесненными, продолжают оказывать действие на
человека и его поведение (1), источник патологических изменений са-
мим больным не осознается (2), чтобы добиться эффекта, необходимо
освобождение от травмирующих впечатлений ничем не скованным рас-
< казом(З). Обнаруживая, чему соответствуют речевые ассоциации не
но внешнем, а во внутреннем мире пациента, психиатр затем помога-
ет человеку понять природу травмирующего аффекта, тем самым осво-
оождая от его разрушительного действия. Особую роль в постижении
первоэлементов глубинной психологии имеют сбивки, ошибки, замеша-
юльства в потоке речевых ассоциаций пациента. Сознание, как полагал
Фрейд, обладает защитными механизмами. Болезненные, аффектиро-
ванно окрашенные воспоминания сознание стремится вытеснить, суб-
лимировать, разложить на отдельные элементы. Отсюда важный вывод
х чеиого, что невроз необходимо лечить, воздействуя не на организм, а
<ia личность. Необходимо раскрыть «зонтик сознания», маскирующий
непостижимые для индивида мотивы.
Неудовлетворенные влечения имеют далеко идущие последствия.
Во множестве трудов Фрейд разрабатывает теорию либидо, трактуя
то как мощное мотивационное начало, всегда готовое пробиться через
цензуру сознания. Либидо разряжается и получает воплощение в са-
чых разных формах человеческого поведения и творчества. Сооруже-
1 1
пне плотин вокруг сексуальных прихотей бесперспективно, но понять
их особую окрашенность можно, анализируя детские переживания че-
ловека. На этих посылках построены методы Фрейда, которые он реа-
лизует в своих работах «Леонардо да Винчи» и «Достоевский и отце-
убийство». На разнообразных примерах Фрейд стремится показать, как
специфическая сексуальность обусловливает своеобразное течение твор-
ческих процессов, а психические комплексы крупных художников пре-
ломляются в их произведениях, в тематическо-образном строе, в худо-
жественно-мотивационных решениях.
Вместе с тем важно отмстить, что психоаналитические поиски в
сфере художественного творчества не привносят чего-то нового для
понимания содержательности самих произведений искусства. Пафос
фрейдовского анализа направлен на отыскание в художественных тво-
рениях знаков-символов, подтверждающих его «диагноз» тому или ино-
му художнику как личности. В этом смысле любой художник предстает
для Фрейда в качестве обычного пациента. Этим объясняется и особый
ракурс его работ — они сконцентрированы на психологии художествен-
ной личности, а не на психологии художественного текста.
Новый этап в разработке психологической проблематики искусства
ознаменован появлением такой фигуры, как К.Юнг. Юнг был учеником
Фрейда, однако серьезно критиковал своего учителя во многом за ги-
пертрофию роли индивидуальных сексуальных комплексов в творче-
стве и деятельности отдельных личностей. То, что применимо к ху-
дожнику как к личности, неприменимо к нему как к, творцу, считал
Юнг, полагая, чте» ошибка Фрейда состояла в том, что природа невро-
зов толковалась им симптоматически, а не символически. То есть ху-
дожественные произведения, несущие на себе отпечаток индивиду-
альных психических комплексов творца, трактовались как своего рода
рефлекс. Такой взгляд необычайно упрощает понимание истоков худо-
жественных творений. Рождение каждого крупного произведения, по
мысли Юнга, всегда связано с действием мощных сил, дремлющих в
коллективном бессознательном и проявляющих себя через творчество
отдельного художника. Сущность произведения поэтому состоит не в
обремененности персональными особенностями, специфическая худож-
ническая психология есть вещь коллективная. Достоинства произведе-
ния состоят в его возможностях выражать глубины всеобщего духа.
Художественное творчество, по Юнгу, действительно испытывает
сильное воздействие бессознательного начала. Однако последнему свой-
ственна не столько индивидуальная окраска, сколько всеобщие мен-
тальные качества той или иной общности, к которой принадлежит тво-
рец. Подобно древнему человеку художник мог бы сказать: «не л думаю,
а во мне думается*. Проникновение создателя произведения в коллек-
тивное бессознательное — одно из важнейших условий продуктивнос-
ти художественного творчества. «Поэтому и не в состоянии отдельный
индивид развернуть свои силы в полной мере, если одно из тех коллек-
тивных представлений, что зовутся идеалами, не придет ему на по-
мощь и не развяжет всю силу инстинкта, ключ к которой обычная со-
знательная воля сама найти никогда не в состоянии»
12
Юнг не отрицает .те психические комплексы, которые живут в ин-
'ивиде и которые сформулировал Фрейд. Однако Юнг истолковывает
ox'iio-иному, рассматривая в качестве архтотшпсж. Архетипы, согласно
Юнгу, выступают как всеобщие образы, формы, идеи, представляю-
щие собой доопытные формы знания, бессознательные мыслефюрмы.
Коллективные образы наиболее явно претворились в формах народно-
ю фантазирования и творчества. Разрабатывая эту линию, ученый внес
весомый вклад в теорию мифа. Юнг убежден в том, что коллективные
)бразы так или иначе предопределяют природу творческой фантазии и
отдельного художника. Наблюдение над повсеместностью схожих ми-
фотворческих мотивов у народов, которые никогда не приходили в со-
прикосновение друге другом, приводит Юнга к идее об укорененности
истоков мифотворчества и фантазирования в общей природе людей.
Продуктивной явилась и разработка Юнгом теории психологическо-
го и визионерского типов творчества. Психологический тип творчества
основан на художественном воплощении знакомых и повторяющихся
переживаний, повседневных людских скорбей и радостей. Психологи-
ческий тип творчества эксплуатирует «дневное» содержание человечес-
кого сознания, которое «высветляется в своем поэтическом оформле-
нии». Переживание, которое культивирует визионерский тип творчества,
напротив, заполняет все наше существо ощущением непостижимо’й
тайны. Визионерский тип творчества — это взгляд в бездну, в глубины
становящегося и еще не ставшего, в скрытые первоосновы человечес-
кой души. Именно такого рода первопереживание приближает к пости-
жению онтологической сущности мира. Примеры художественного твор-
чества, отмеченные визионерской окраской, — это вторая час\ъ «фаустд»
Гете, дионисийские переживания Ницше, творчество Вагнера, рисун-
ки и стихотворения Уильяма Блейка, философско-поэтическое творче-
ство Якоба Беме, а также грандиозные и забавные образы Гофмана;
«ничто из области дневной жизни человека не находит здесь отзвука,
но взамен этого оживают сновидения, ночные страхи, жуткие пред-
чувствия темных уголков души»2.
Нередко визионерский тип творчества граничит с такого рода изло-
жением и фантазированием, которые можно встретить в воображении
душевнобольных. Не следует, однако, ни в коей мере сводить визио-
нерский тип творчества к личному опыту и индивидуальным комплек-
сам. Такое сведение сделало бы визионерский тип творчества, проры-
вающийся к чему-то неизъяснимому, приоткрывающему завесу над
тайной бытия, простой личностной компенсацией или творческой суб-
лимацией. Потрясающее прозрение, лежащее по ту сторону челове-
ческого. как раз и позволяет толковать визионерское переживание как
। дубинное проникновение художника с помощью символов, языка ис-
кусства в природу мироздания, в душу культуры.
Общий пафос творчества Юнга, как видим, во многом оппозиционен
пафосу Фрейда. Фрейд в значительной мере может быть истолкован как
рационалист, много усилий потративший на то, чтобы выявить границы
н превращенные формы действия подсознательного с том. чтобы научить
человека управлять этим подсознательным, т.е. обуздать его. заставить
подсознательное действовать в интересах сознания. Напротив, вся сис-
13
тема размышлении Юнга показывает, что в бессознательном он видит
ценнейшую часть внутреннего мира человека. Доверие к бессознатель-
ному — это доверие к глубинным основам жизни, которыми наделен
каждый человек. Фрейд полагал, что невроз — это помеха полноценной
жизни, то. от чего следует избавляться. Счастливый человек, по мыс-
ли Фрейда, не фантазирует, невротик — фантазирует всегда, поскольку
не вполне способен «легально» реализовать свои желания. Другую пози-
цию занимает Юнг, считая, что в определенной мере невротическое
состояние творчески продуктивно, есть удел художника. «Относитель-
ная неприспособленность есть по-настоящему его преимущество, оно
помогает ему держаться в стороне от протоптанного тракта, следовать
душевному влечению и обретать то, чего другие были лишены, сами того
не подозревая», — пишет Юнг3. Большая сила неосознанных внутренних
влечений, нереализованных порывов есть обещание и предпосылка твор-
ческого акта. Таким образом Юнг настаивает на том, что не следует
искоренять бессознательное, оно способно дополнять сознание и пло-
дотворно с ним сотрудничать. На этом выводе Юнга были основаны
многие последующие психологические теории искусства, а также сама
художественная практика — творчество Пруста, Джойса, Лоуренс,
Вулф, которым юнгианские положения посылали сильный импульс,
помогали сформулировать собственные творческие манифесты.
Определенные традиции психологического анализа к первым десяти-
летиям XX века накопила и отечественная наука. Так, уже у литерату-
роведа, фольклориста А.Н.Веселовского проявляется внимание к изу-
чению психологических истоков художественной и литературной
композиции, к психологии формообразования в искусстве в целом. Ана-
лизируя историческое развитие эпитетов, Веселовский показывал, что
их эволюция происходит через непрерывные психологические скрещи-
вания. Образование всех метафор и эпитетов, по его мнению, происхо-
дит через «бессознательную игру логики». Результаты действия этих
механизмов проявляются в таких эпитетах, как «черная тоска», «мерт-
вая тишина», в выразительных поэтических формулах: «цветы, шепчу-
щие друг другу душистые сказки», «мысли пурпурные, мысли лазур-
ные» и т.п. Веселовский склонен полагать, что «история эпитета есть
история поэтического стиля в сокращенном издании», настолько емко
эпитет аккумулирует в себе существенные характеристики породившей
его культуры. Поэтические эпитеты оказываются суггестивными, то
есть обладают огромной силой внушения именно потому, что созданы не
просто путем экспериментов с языком, а на основе психологического
скрещивания, т.е. наделения способов художественной выразительности
человеческп-духовным содержанием. Веселовский развивал взгляд на
поэтические формулы как определенные «нервные узлы», прикоснове-
ние к которым будит в нас ряды определенных образов.
Значительным этапом в развитии отечественной психологии искус-
ства явилась и деятельность так называемой харьковской психологи-
ческой школы, основоположником которой выступил А. А. Потебня. Глав-
ные усилия Потебни были направлены на выяснение вопроса — в какой
мере концептуальные формы поэзии и литературы зависят от их грам-
матических форм. Много усилий ученый’ потратил на то, чтобы иссле-
14
довать механизмы переработки чувственного опыта человеческим со-
знанием, ведущие к образованию поэтического языка особого качества.
Подлинно поэтический язык «есть средство нс выражать готовую мысль,
.1 создавать ее». Новые соединения, непривычные комбинации слов
рождают новую форму, существенно изменяющую смысл обозначаемо-
го. Истина поэтического образа, по мнению Потебни, состоит в способ-
ности возбуждения поэтической деятельности у воспринимающего
его4. Между поэтическим образом и его внсхудожсственным значением
всегда существует неравенство, уничтожение которого привело бы к
уничтожению поэтического качества. Поэтичность образа тем больше,
чем больше он располагает читателя или слушателя к сотворчеству.
В процессе обыденной и поэтической речи уже полученные впечат-
ления подвергаются новым изменениям, вторичное восприятие явле-
ния происходит на основе отождествления объясняющего и объясняе-
мого. Как звук получает значение? Через внутреннюю форму слова.
Внутренняя форма показывает, какой представляется человеку его соб-
ственная мысль. Это объясняет, почему в одном языке может быть
много слов для обозначения одного и того же предмета.
Потебня видит три источника образования слов: первый — из сближе-
ния восприятий слуха и зрения. Низкий тон мы так или иначе сравни-
ваем с темнотою, высокий — со светом, в ряду гласных находим сход-
ство с гаммой цветов. Следующий источник словообразования —
звукоподражательные сочетания. Слово «кукушка» имитирует звук ку-
кования, воробей — от соединения «вора-бел - и т.д. Третий источник —
это символизм звука. Слово «стол» родилось от слова «стлать», сыр — от
слова «сырой» и т.п. При кажущейся произвольности в образовании ли-
тературно-художественных образов и метафор большинство из них не-
сет на себе отпечаток действия обозначенных механизмов. Потебня
уделял много внимания и изучению психологии художественного вос-
приятия, отмечая, как всякий раз что-то меняется в самой мысли, когда
она входит в сознание. К числу продуктивных необходимо отнести раз-
работанный им механизм апперцепции, раскрывающий роль объектив-
ных и субъективных факторов в процессе восприятия. У Потебни было
немало последователей, к числу которых относится прежде всего Д.Н.Ов-
сянико-Куликовский, создавший ряд трудов по психологии творчества.
Заметное влияние на развитие интереса к психологии художествен-
ного творчества оказал И.Л.Бердяев. Исследователь толкует творческий
акт как процесс самопревышения, способность выхода за пределы соб-
ственной субъективности и за границы данного мира. Отстаивая гума-
нистические и антирационалистические мотивы творческого акта,
философ резко разделяет адаптированные формы деятельности и соб-
ственно творчество, способное прорываться в мир неявленных сущно-
стей. Вопреки известной позиции Гете («классическое — здоровое, ро-
мантическое — больное»). Бердяев утверждает: «Романтизм здорово
хочет откровения человека; классицизм болезненно хочет прикрытия
человека»^. В творчестве романтиков происходит внутреннее самораск-
рытие человека, освобождение от классицистских шаблонов, от рутин-
ного. общепринятого. Главный пафос теории творчества Бердяева —в отста-
ивании права человека на индивидуальность, самобытность. Он высоко
15
оценивает те типы творчества, которые всячески стимулируют внут-
реннюю активность человека, развивают его индивидуальное самосоз-
нание. Философа критиковали за умаление принципа соборности в трак-
товке процессов художественного восприятия и творчества. В свою
очередь, Бердяев настойчиво продолжал утверждать, что именно в
соборном сознании коренятся истоки индивидуальной безответственно-
сти, нейтрализуются понятия личной чести и личного достоинства. Цен-
ность природы творчества в том, что оно всегда развивается в оппози-
ции к нормативности, и шире — в оппозиции к любому рационализму.
Существенной вехой в развитии психологической проблематики ис-
кусства уже в советский период явилось творчество Л.С.Выготского.
Основные работы по психологии искусства Выготский создал в 20-е и
30-е годы. Большинство из них были изданы под названием «Психоло-
гия искусства» только в 1968 году. Особенность художественно-психоло-
гического анализа Выготского состоит в тщательном изучении разных
аспектов психологии художественного текста. Если подходы Потебни,
Веселовского, Бердяева в большей мере отмечены интересом к процес-
суальной стороне творчества, т.е. психологическими проблемами, воз-
никающими в процессе создания произведения искусства, то Выготс-
кий перефокусирует свое внимание на результат этого процесса и его
психологическое своеобразие. Любой художественный текст — произ-
ведение литературы, музыки, изобразительного искусства — ученый
рассматривает как образование, воплощающее угаснувший в нем твор-
ческий процесс. Следовательно, все сопряжения этого текста, прояв-
ляющиеся в художественной композиции, оитмо-синтаксических
формулах, сюжетной схеме, могут быть рассмотрены в аспекте их пси-
хологических функций, предопределяющих характер воздействия дан-
ного произведения. На этой основе Выготский выявляет ряд механиз-
мов художественного смыслообразования, разрабатывает теорию
катарсиса в искусстве. Многие из разработанных Выготским подходов
подхватили исследования по исторической психологии, ставившие своей
задачей рассмотреть художественный текст в качестве культурного
памятника, воплощающего своеобразие эмоциональных, ментальных,
психических состояний людей ушедших эпох.
Развитие психологии в XX веке характеризуется чрезвычайным
многообразием разных школ, направлений, течений; интерес к психо-
логии сегодня огромен и он постоянно растет. В силу этого психологи-
ческая наука все время меняет свою структуру, возникают новые
методы общетеоретического и прикладного анализа искусства и худо-
жественного творчества, развивающиеся на границе психологии и эс-
тетики. психологии и физиологии высшей нервной деятельности, пси-
хологии и философии. Те авторы, о которых шла речь в этой главе,
заложили фундамент психологических подходов к анализу искусства,
сформулировали ряд узловых проблем, наметили способы их решения,
которые впоследствии оспаривались, отвергались, дополнялись, но так
или иначе выступили почвой развертывания новых поисков в психоло-
гии искусства на протяжении всего двадцатого столетия.
16
Глава 2. Психология художественного творчества
Как возникает художественный мир, новая реальность, которая не
может быть целиком объяснена из уже существующего мира? Начиная
< ранних трактатов, посвященных изучению природы художественного
творчества, мыслители отмечали иррациональные, непостижимые ме-
ханизмы этого процесса, невозможность выявления закономерностей,
в соответствии с которыми осуществляется творческий акт. В диалоге
' Ион» Платон приходит к мысли, что в момент творчества художник не
отдает себе отчета в том, как он творит. Акт творчества демонстрирует
умение художника выйти за пределы себя («ех-stasis», «ис-ступление»),
когда его душа проникает в мир запредельных сущностей. Конечно,
экстаз — это в некотором смысле безумие, изменение нормального
состояния души, но это, по словам Платона — божественное безумие,
божественная одержимость. Души становятся вместилищем самого бо-
жественного, вдохновляются его силой и «тогда говорят они с великой
действенностью многое и великое, сами не зная, что говорят» («Федр»).
Фиксация непроговариваемых, нерациональных сторон творческого
акта как бы сама собой снимала вопрос о выявлении неких формул и
алгоритмов .ч художественном творчестве. Действительно, по самому
своему определению творчество — это создание того, что еще не су-
ществовало; в этом смысле любой творческий акт не может быть изме-
рен критериями, сложившимися в культуре до него, любое творческое
действие находится в оппозиции к нормативности, противостоит адап-
тированным формам деятельности. Откуда приходит творческий импульс,
разбивающий прежние правила, коды, приемы, рождающий новое
художественное озарение? Творческий акт никогда целиком не детер-
минирован извне. Вместе с тем он не может быть полностью сведен
только к реализации «чувства формы», живущего в душе художника.
Ни объективные, ни субъективные предпосылки, взятые сами по себе,
не могут служить объяснением творческой продуктивности, которая
живет в душе художника.
Явно или неявно, но все формы творческой активности художника
в конечном итоге подчинены целям одного типа — созданию произведе-
ния искусства, предвосхищением возможных действий, которые при-
званы привести к этому результату. Мотивация деятельности худож-
ника выступает как сложная динамичная самоподкрепляющаяся система.
Весь комплекс его восприятия, мышления, поведения стимулируется
целями творчества как высшими в иерархии побудительных мотивов
его личности. Достижению этих целей способствуют, с одной стороны,
направленная (осознанная) деятельность художника, в которую вклю-
чены его аолеъьш .усилия, рациональная оценка намеченных целей —
произведение каттю жанра он стремится создать, какого объема, в
17
какой срок, ощущение внутренней отве тственности за результаты и т.д.
С другой стороны, едва ли не большее значение в подготовке и осуще-
ствлении творческого акта у художника приобретает так называемая
непроизвольная активность. Она отмечена непрерывным художествен-
ным фантазированием, это своего рода внутренняя лаборатория, в ко-
торой клубятся, наплывают друг на друга, прорастают подспудные
переживания и их художественные формы. Этот скрытый от глаз, во
многом хаотический и непроизвольный процесс вместе с тем не может
быть оценен как нецелесообразный, выпадающий из сферы мотивации
творчества. Спонтанной активности художника всегда присуща опреде-
ленная интенция. Известный германский психолог Х.Хекхаузен истол-
ковывает интенцию как своего рода намерение, вписанное в природу
самого творца, несущее на себе отпечаток особой окрашенности его
таланта1.
Мотивы творчества, которые так или иначе провоцируют действие
интенции художника, по существу, ненаблюдаемы. Мотив в этом слу-
чае можно описать через такие понятия, как потребность, побужде-
ние, склонность, влечение, стремление и т.д. Отсюда творческий про-
цесс оказывается мотивированным даже в тех случаях, когда не
сопровождается сознательным намерением художника. Уже внутри
творческой интенции живет нечто, что позволяет выбирать между раз-
личными вариантами художественного претворения, не апеллируя к
сознанию, нечто, что запускает творческое действие, направляет,
регулирует и доводит его до конца.
Интенция любого художника проявляет себя как внутренняя пред-
расположенность его к неким темам, способам художественной выра-
зительности, к характерным языковым и композиционным приемам. В
этом смысле интенция выступает своего рода регулятором, ориентиру-
ющим разных художников на разработку соответствующих их дарова-
нию тем и жанров. Как известно из истории, таких примеров множе-
ство: Пушкин презентовал Гоголю фабулу «Мертвых душ» не потому,
что он сам не мог создать такого произведения, а потому, что сама
идея не разжигала в нем интереса и воодушевления. Можно привести
немало других примеров. Образный строй каждого крупного мастера
отличается в этом смысле некоторым проблемно-тематическим един-
ством, избирательной ориентированностью сознания на близкие ему
стороны окружающего мира. Хекхаузен справедливо говорит об опре-
деленной валентности или требовательности вещей, посылающих зов
только автору такого склада и такого темперамента, который способен
откликнуться на эти импульсы. Следовательно, интенция как особая
направленность сознания на предмет позволяет видеть, что в художни-
ке живет некая предзаданность. художник ощущает себя в атмосфере
данного произведения еще до создания этого произведения.
Хрупкое балансирование между интенцией собственного сознания
и той мерой, которую диктует природа самого предмета — меха-
низм, объясняющий взаимодействие внутри художника в каждый от-
дельный момент как сознательных усилий, так и непроизвольной ак-
тивности. Интенция как творческое веление, существующее накануне
18
•роизведения, всегда оказывается оогаче л многостороннее, чем от-
н‘явный конкретный результат — произведение искусства. В этом смыс-
художник знает осуществление, но не знает осуществленного. Та-
им образом процесс творчества обнаруживает двойную ориентацию:
обор тем и способов их претворения со стороны автора и одновремен-
но — отбор авторов со стороны самих фактов и тем. Интенциональ-
ность творческого сознания художника позволяет ему смотреть на себя
на к на своеобразный словарь, в котором уже предуготовлены главные
н\мы и ведущие способы их претворения.
По сей день в психологии по-разному используют понятие «мотив» и
мотивация» применительно к художественной деятельности. В искусстве
юрмин «мотивация» зачастую используется как синоним художественной
достоверности, оправданности логики поведения художественного пер-
сонажа. Как известно, психология выводит мотивацию как из свойств
самого человека, так и из требований ситуации. Обращает ли художник
столь же большое внимание на ситуацию, в которой находится, как и
на свои внутренние побуждения? Многочисленные примеры позволяют
г. этом усомниться. «Предложите Руо или Сезанну изменить свой стиль
и писать такие полотна, которые нравятся, т. е. плохую живопись, чтобы
н конце концов попасть на Выставку французских художников. Или
предложите им посвятить жизнь семейному благосостоянию и исполнять
свои моральные обязательства перед женой и детьми; даже если семья
будет находиться в непроглядной нужде, они вам ответят: ради Бога,
замолчите, вы не знаете, что говорите. Последовать такому совету оз-
начало бы для них предать свою художественную совесть»2.
Внутренняя потребность творчества, художественное чутье оказы-
ваются гораздо сильнее многих внешних факторов, оказывающих дав-
ление на художника. Устройство художника таково, что его психи-
ческий аппарат прежде должен справиться не с внешними, а с
внутренними импульсами, от которых нельзя уклониться. Императив
диктует не столько ситуация, сколько «океаническое чувство» самого
мастера, которое просится наружу, которое нельзя удержать в себе.
Как было известно еще Канту, природа гения сама дает искусству
правило. Гений мыслит собственную деятельность как свободную и орга-
ничную, побуждающую с большим доверием относиться к собственному
чутью и склонен сам задавать тональность ситуации, чем соответство-
вать уже имеющимся ожиданиям. Из этого можно понять, почему са-
моуглубляясь в художественном переживании, художник достигает не
н)лько. ослабления внешней реальности, но и укрепления своего вооб-
ражаемого мира как не менее важной реальности, способен сделать
этот мир для множества вовлеченных в него живым, динамичным, са-
модостаточным.
Особо важно отметить, что, как и у любого человека, переживание
художника — это борьба прежде всего против невозможности реали-
зовать внутренние необходимости своей жизни. Вместе с тем работа
художника по перестройке своего психологического мира направлена
не столько на установление смыслового соответствия между сознани-
>’м и бытием (естественная потребность большинства людей), а скорее
19
на достижение соответствия между каждъич новым замыслом и его
художественным претворением. Художнику приходится преодолевать
таким образом не разрыв сознания и жизни, а разрыв сознания (замыс-
ла) и его художественного воплощения.
Если переживание обычного человека нацелено на выработку «со-
владающего» поведения, достижение реалистического приспособления
к окружению, то переживание художника озабочено проблемой выра-
жения собственного видения и чувствования в максимальной степени
полноты и совершенства. Внутренние импульсы, которые получает твор-
ческий дух его натуры гораздо сильнее и действеннее, чем те, что
диктуют реальные необходимости жизни. Более того, смысловое при-
нятие бытия у художника, только тогда и может состояться, когда
открывается простор осуществлению природы его дарования. Таким
образом, приоритетное стремление художника не просто в том, чтобы
выжить, адаптируясь и приспосабливаясь к окружающему миру, а чтобы
иметь возможность сотворить то, что ему предназначено.
Развивая идею о силе проницательного творческого начала у ху-
дожника, можно утверждать, что в известном смысле любовь худож-
ника к творчеству есть его нелюбовь к миру, невозможность оста-
ваться в границах этого мира. Не случайно обыватель, рассказывающий
о жизни художника, всегда фиксирует некие «странности» и «анома-
лии», свидетельствующие, на его взгляд, о неустроенности и неприка-
янности творца. Действительно, художник не вполне приспособлен к
окружающему миру, в гораздо большей степени живет, влекомый внут-
ренними импульсами. В психологической науке удачное совладающее
поведение описывается как повышающее адаптивные возможности лич-
ности. У художника — наоборот, чувство обретенной в завершенном
произведении искусства адаптивности усиливает стремление заглянуть
за новые горизонты, расширить границы, углубиться в муки выращи-
вания нового замысла, приводящие творца к превышению уже най-
денных состояний.
Внутри художника, поэтому, действуют две как бы исключающие
друг друга силы. С одной стороны — стремление к снятию напряжения
в окончательном результате творческого акта, несущее удовлетворе-
ние и некоторое угасание созидательной потребности, и одновременно
тяга к подъему напряжения, концентрации, новому активному преодо-
лению среды. Первый комплекс движущих сил поведения был подробно
разработан Фрейдом в теории сублимации, превращенных форм снятия
напряжения. Однако если обычному человеку снятие напряжения при-
носит успокоение, ведет к завершению деятельности, то у художника,
напротив, реализованный результат влечет за собой потребность ново-
го подъема сил, нового нарастания напряжения. Второй комплекс дви-
жущих сил получил разработку в трудах А.Берталанфи и Ш.Бюлер.
Близкие идеи высказывал и Гессе, когда утверждал, что путь худож-
ника — это непрестанное самоотречение, в то время как идеал меща-
нина — самосохранение.
Беспристрастный анализ любого творческого акта показывает, что
процесс этот далеко не только спонтанный. В какой бы мере человек.
20
осененный талантом, ни полагался на силы извне, ему необходимо ма-
стерство, то есть овладение ремеслом, умение точно выбирать среди
множества путей свой единственный, терпеливо взращивать в себе
установку на творчество — все это требует овладения разными навы-
ками защиты от бесконтрольности аффектов и инстинктов, от диктата
канона, шаблона, рутины и т.п. Главный защитный фактор — это спо-
собность художника осуществить интеграцию своего «я». Именно по-
тому, что интенсивность творческой жизни художника слишком велика
и амплитуда его переживаний гораздо выше, чем у обычного человека,
он принужден в творческом акте максимально собирать себя. Требуется
жесткая самодисциплина, чтобы добиваться концентрации, синтеза,
гармонии, удерживать установку на целесообразность действий. Взаимо-
действие двух линий — спонтанности и контролирующего самосознания
— необходимый компонент деятельности как творцов, так и исполните-
лей. В работе «Парадокс об актере» Дидро обращал внимание на умелое
сочетание естественных порывов темперамента и холодного расчета в
достижении художественного эффекта; сама по себе спонтанность мо-
жет нейтрализовать художественное воздействие — отдавшись без ос-
татка своим переживаниям, актриса захлебнется в слезах, спазмы гор-
ла лишат ее возможностей выразительных интонаций. Напротив, актер,
действующий в рамках разработанных мизансцен, застрахован от про-
валов, всегда сопутствующих тем, кто полагается лишь на «нутро».
Проблема переживания и его художественного воссоздания — одна
из главных проблем психологии творчества. Как это ни покажется на
первый взгляд странным, большинство художников свидетельствуют,
что сильное переживание препятствует продуктивной творческой дея-
тельности. Гейне, Бодлер, Врубель и многие другие авторы пишут о
том, что в момент сильного экстатического переживания они не в со-
стоянии творить, захватывающее переживание парализует творчес-
кую деятельность. Необходимо дать переживанию немного остынуть,
чтобы затем увидеть его со стороны и найти максимально выразитель-
ные краски для воссоздания его художественной заразительности. Мо-
мент апогея переживания действует на творческую способность, как
правило, разрушительно. Вот как писал Пушкин о методе сочинения
«Бориса Годунова»: «Большая часть сцен требует только рассуждения,
когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения — я жду
его или пропускаю эту сцену. Такой способ работы для меня совершен-
но нов». Пушкин исходит из того, что задачу создания большой конст-
рукции, разработки последовательности эпизодов можно осуществить
чисто волевым, сознательным усилием, в то время как для сочинения
отдельных деталей и эпизодов недостаточно одного мастерства и про-
фессиональных навыков, здесь все решает импульс озарения, который
должен подстеречь художник.
Дополнительные наблюдения и объяснения процессов творческого
акта предлагает современная естественнонаучная психология, те экс-
периментальные разработки и исследования, которые ведутся в сфере
нейродинамики творческой деятельности. Этот подход к изучению
творческой деятельности имеет достаточно давнюю биографию. Ученых
21
интересует, что происходит в структурах мозга в момент творческой
деятельности, что побуждает человека к выбору профессии художни-
ка. музыканта, писателя. Имеются ли физиологические основы, позво-
ляющие говорить о предрасположенности человека к занятиям искус-
ством? Ряд исследователей отвечают на этот вопрос отрицательно. В
других работах (Ауэрбах, Тандлер) можно встретить наблюдения о
некоторых особенностях строения мозга музыкантов и писателей (зна-
чительное развитие височных извилин мозга, поперечной извилины, в
некоторых случаях — лобных долей мозга).
Исследования нейродинамических процессов показали, что одни И|
те же звучания вызывают более сильные реакции у музыкантов, чем,
у обычного человека. Как известно, все процессы высшей нервной дея-
тельности основываются на механизмах возбуждения и торможения.
Разная конфигурированность механизмов возбуждения и торможения
обусловливает разные типы темпераментов, которые были выявлены
еще Гиппократом. Сангвиника в этом отношении отличает сильный, под-
вижный, уравновешенный тип высшей нервной деятельности. Холерик
— сильный, подвижный, неуравновешенный. Флегматик — сильный,
уравновешенный, спокойный. Меланхолик — это слабый тип.
Механизмы возбуждения и торможения лежат в основе формирования
и завязывания рефлекторных связей, выступающих фактически
инструментом профессиональных умений, навыков, приемов творческой
деятельности. Соотношение сил возбуждения и торможения определяет
успешность осуществления творческого акта. Их дисбаланс даже у одного
человека в разное время приводит к тому, что творческий акт
осуществляется в разных темпах, с разной интенсивностью и т.д.
Завязывание рефлекторных связей между клетками слухового и
зрительного анализатора осуществляется не при всяком уровне
возбуждения. Если этот уровень будет минимальным, то возбуждение
не сможет преодолеть инертности среды и разлиться в должной мере
по тканям мозга, следовательно, не сможет создать новые условно-
рефлекторные замыкания3. Такое состояние во время творчества субъек-
тивно оценивается как неудовлетворительное. В одном из писем
Н.Ф. фон Мекк П.И. Чайковский повествует о близком состоянии:
«Заниматься здесь очень удобно, но до сих пор я еще не мог войти в
тот фазис душевного состояния, когда пишется само собой, когда не
нужно делать никаких усилий над собой, а повиноваться внутреннему
побуждению писать».
Если в момент творчества возбуждение будет слишком сильным, то
волны раздражительного процесса разольются свободно, предоставляя
полную возможность для осуществления нервных замыканий. В резуль-
тате такой «рефлекторной свободы» реставрация звуковых, музыкаль-
ных, изобразительных следов осуществится хаотично, не приведя к
созданию законченного художественного произведения. Обуздание воз-
буждения. отсекание всего лишнего, ненужного, случайного осуще-
ствляются с помощью механизма торможения. Поэтому, с одной сторо-
ны. продуктивность творческого процесса зависит от умения достигать
сильного возбуждения, ведущего к быстрому образованию рефлектор-
22
пых связей, новых «нервных узоров»: с другой — от упорядоченного
действия механизмов торможения, закрепляющих складывающуюся
канву, позволяющих соразмерять часть и целое, создавать завершен-
ный фрагмент или сразу все произведение. Частая беда холерического
темперамента, когда действие механизмов возбуждения превышает
механизмы торможения — неструктурированная творческая деятель-
ность, по существу — бесконечная. Холерический темперамент более
других присущ графоманам в литературе, музыке, изобразительном
искусстве. Мысли путаются и скачут, чувства обуревают и затопляют
художника, но он не владеет ими, не может поставить себя в необхо-
димые для этого рамки. Такое сверхперевозбуждение действует отри-
цательно на достижение творческого эффекта.
Оптимальное условие для творчества — когда и возбуждение, и
торможение выступают как равнозначные величины. В данном случае
это прерогатива сангвиника — сильного типа. Субъективно такое со-
стояние оценивается как наилучшее для творческой деятельности, по-
является возможность сосредоточиться на главном, отстранить ненуж-
ные мысли и ненужные ощущения. Творческое возбуждение может
быть и достаточно мимолетным — в сознании музыканта, писателя,
художника мелькают какие-то мотивы, стилистические приемы, но в
целом они не укладываются в единую художественную ткань. Для того
чтобы состоялось рождение произведения, необходима длительная под-
держка возбуждения, то есть наличие так называемой творческой до-
минанты. Доминанта — это специфическое понятие психологии твор-
чества. Физиологическая доминанта выступает как очаг стационарного
возбуждения. С существованием у людей разных доминант мы постоян-
но сталкиваемся в жизни. У всякого фанатика, энтузиаста, преданного
определенной идее, имеются свои выраженные пристрастия; затевая
разговор в обществе, он всегда садится на своего «конька». Доминанта
есть результат наличия в структурах мозга прочных, образовавшихся в
течение жизни связей, которые, находясь обычно в притушенном со-
стоянии, ярко вспыхивают при определенных условиях.
По мере формирования профессионально-художественных доминант
человек начинает замечать такие стороны природного и художественного
мира, которые до этого были ему недоступны. Каждый художник зна-
ет, как нелегко бывает разогреть творческую доминанту и добиться
состояния, когда творческий процесс идет сам собой. «Иногда я с любо-
пытством наблюдаю за той непрерывной работой, которая сама собой,
независимо от предмета разговора, который я веду, от людей, с кото-
рыми я нахожусь, происходит в той области головы моей, которая отдана
музыке, — пишет Чайковский. — Иногда это бывает какая-то подгото-
вительная работа, то есть отделываются подробности голосоведения
какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз яв-
ляется совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль, и ста-
раешься удержать ее в памяти»4. Все эти самонаблюдения подтверждают
взгляд на творческий процесс, который не является выгороженной сфе-
рой. В моменты бодрствования и сна, прогулок и разговоров в художни-
ке подспудно действует уже запущенны!] творческий процесс.
23
Некоторые типы художнического темперамента приводят к столь
сильному процессу возбуждения, что художник часто даже не в со-
стоянии успевать фиксировать на бумаге возникающие мысли и идеи.
Так, например, было с Генделем, темпы работы которого требовали
стенографии. Работая над большими хоровыми произведениями, он вна-
чале записывал эскизы всех партий, затем постепенно терял их, при-
ходя к финишу лишь с одной.
Энергия постоянно воспроизводимой доминанты поддерживает твор-
ческий тонус. Вот почему систематическая творческая работа, даже
начатая с большим усилием, может привести в деятельное состояние
весь творческий аппарат. «Вдохновение — это такая гостья, которая не
любит посещать ленивых» — этой известной максиме художников нахо-
дится тем самым экспериментальное подтверждение. При системати-
ческой работе, когда постоянно завязываются, обновляются и трени-
руются рефлекторные связи, исходный толчок к творчеству может быть
незначительным. Самого слабого воздействия иногда бывает достаточ-
но, чтобы пустить в ход весь сложнейший творческий аппарат. И наобо-
рот, при длительном бездействии сдвинуть с мертвой точки его «зар-
жавевшие» детали оказывается гораздо труднее. В случае, если были
большие перерывы, требуется значительный толчок извне, т.к. укре-
пившееся торможение внутри мозга не сразу дает побороть себя воз-
буждению.
Особенности высшей нервной деятельности — степень ее силы, под-
вижности, уравновешенности — лежат в основе разных требований к
окружающей обстановке. Так, авторы со слабым возбуждением и тор-
можением, трудно образующие физиологические доминанты, крайне
требовательны к условиям творческого труда, нуждаются в «оранже-
рейных» условиях. Благоприятная обстановка во время творчества при-
обретает у них исключительное значение, активизируя протекающие в
данный момент нервные процессы. Художники другого типа, к приме-
ру, М.Булгаков, на своем опыте отмечали, что «лучшие произведения
пишутся на краешке кухонного стола».
Особая проблема психологии творчества — проблема изношенности
и истощенности психики как результат продолжительных творческих
усилий. От ее разработки зависит эффективность профилактики твор-
ческого труда, имеющей значение как для художника, так и для уче-
ного. Главное состоит в умении рассчитывать свои силы и дозировать
напряжение. Одни стремятся в момент интенсивного творчества делать
перерывы между одиночеством и общением, другие чередуют творчес-
кий процесс с прогулками на природе, для третьих очень важен режим
труда, четвертые могут сочинять только в определенные периоды года
и т.п. Некоторые художники, отдавая себе отчет в характере своего
темперамента, в особенностях индивидуальной психологии, предпри-
нимали даже некоторые профилактические меры, направленные на
охрану творческого процесса. Моцарт, к примеру, в письме отцу про-
сит: «Не пишите мне печальных писем, мне необходимо сохранять
спокойствие, ясность, свободу мысли и расположение к работе. Каж-
дое грустное известие лишает меня всего этого». И в другой раз: «Моя
24
жизнь здесь полна забот и огорчений, жалобных и слезливых писем я
не стану читать»5. Процесс завязывания прочных рефлекторных связей
прилагает знакомые пути, которые проявляются в почти автоматичес-
ком владении некоторыми приемами художественного письма. Со вре-
менем эти приемы окостеневают. У каждого художника можно обнару-
жить такого рода стилистические обороты, только ему присущие
лейтмотивы, которые со временем могут превратиться в языковые
штампы. На физиологическом уровне это означает, что рефлекторные
( вязи превращаются в «задолбленные стереотипы». Здесь важно, что-
бы сила новых творческих атак была такова, чтобы она позволяла по-
стоянно разрушать и менять эти стереотипы, предохранять их от пре-
вращения в штамп. Ломка фонового стереотипа успешнее всего
осуществляется у холериков, которые более других способны творить,
систематически меняя исходную основу. Художник-холерик отмечен
экстравагантными порывами в творчестве; освоив один жанр, он стре-
мится испытать себя в незнакомых и т.д.
Таким образом, разработки в области прикладной (естественнонауч-
ной) психологии помогают детализировать и объяснять ряд наблюде-
ний, накопленных общетеоретической психологией творчества. Взаимо-
дополнительность этих научных сфер очевидна, она позволяет пролить
свет на труднообъяснимые процессы рождения, вынашивания и пре-
творения художественного замысла.
Глава 3. Природа художественного восприятия
Воздействие произведения искусства зависит не только от свойст!
уже готового художественного текста, но и от характера его восприя-
тия. Множественность интерпретаций произведения искусства всегдг
остро ставила вопрос, какую роль играют объективные и субъектив
ные факторы в процессе художественного восприятия; в какой мер*
сама художественная ткань является источником смыслопорождения i
в какой степени дополнительные смыслы привносит реципиент — чита-
тель, зритель, слушатель.
Одной из первых психологических теорий, специально посвящен-
ных изучению процесса художественного восприятия, явилась теории
«вчувствования», которую разработал немецкий психолог и эстетш
Т.Липпс. Липпе исходил из того, что природа художественного наслаж
дения есть не что иное, как «объективированное самонаслаждение»
Все эмоциональные реакции, возникающие у человека в момент вое
приятия искусства, есть лишь ответ на самые общие импульсы, посы
лаемые произведением. Главный эффект воздействия впрямую зависи'
от умения преобразовать эти импульсы в собственное интимное пере
живание. Основополагающую роль при этом играют индивидуальны*
воображение и фантазия, способные создавать в вымысле «идеальн*
возможную и полную жизнь».
С одной стороны, Липпе стремился выявить необходимый «минимум
зависимости восприятия от объекта. Исследователь отмечает элемен
тарные влияния, оказываемые пространственными композициями раз
ного типа в архитектуре, изобразительном искусстве, сценографии
замечая, что мы поднимаемся вместе с высокой линией и падаем вме
сте с опускающейся вниз, сгибаемся вместе с кругохМ и чувствуем опо
ру, воспринимая лежащий прямоугольник. И тем не менее иконо
графическая сторона произведения искусства не способна, по ег*
мнению, быть определяющим фактором восприятия. Вчувствование —
это не познание объекта (произведения искусства), а своеобразный ка
тарсис. дающий ощущение самоценности личностной деятельности. Об
ращает на себя внимание известная близость теории художественное
восприятия Липпса Канту: по мнению обоих, художественно-ценно
связано не с объектом, а зависит от духовного потенциала субъекта
его способности «разжечь» в самом себе волнение и безграничную чув
ствителыюсть. Наслаждение силой, богатством, широтой, интенсивно
стыо собственной внутренней жизни, к которой побуждает произве
дение искусства и является, по мнению Липпса, главным итого!
художественного восприятия.
Подчеркивая роль субъекта в процессе восприятия. Липпе настой
чнво утверждает определяющее' влияние психических свойств отдель
26
noj'o человека на характер «распредмечивания» произведения искусст-
ва. Вместе с тем ученый исследовал и вскрыл ряд механизмов художе-
ственного моделирования психических переживаний, в частности,
икон «психической запруды»: если художественное событие задержи-
вается в своем естественном течении, то психическое движение обра-
зует «запруду», то есть останавливается и повышается именно на том
месте, где есть налицо задержка, помеха, перерыв. Этим приемом ча-
сто пользуются авторы, стремящиеся к созданию острых форм драма-
тческой напряженности, когда в художественном тексте умышленно
нарушается предсказуемая логика повествования, сознательно оттяги-
вается развязка. Вместо ожидаемого разрешения конфликта он внезап-
но обрастает новыми эпизодами и т.п., — во всех этих случаях «психи-
ческой запруды» эмоциональное переживание становится более
интенсивным.
Теорию «вчувствования» критиковали за то, что Липпе не делает
различия между художественными эмоциями и повседневными эмоция-
ми человека в обыденной жизни. В частности, на это обратил внимание
Л.Выготский, отмечавший вслед за одним из оппонентов Липпса, что
художественное произведение пробуждает в нас аффекты двоякого рода.
«Если я переживаю вместе с Отелло его боль, ревность и муки, или
ужас Макбета — это будет соаффект. Если же я переживаю страх за
Дездемону, когда она еще не догадывается, что ей грозит опасность —
это будет собственный асффект зрителя, который следует отличать от
соаффекта»1. Именно в этом собственном аффекте зрителя, который
не вызывается мотивами сопереживания, Выготский видел особенности
художественной эмоции. Он справедливо подчеркивал, что «мы только
частично переживаем в театре, литературе чувства таковыми, какие
они даны у действующих лиц; большей частью мы переживаем не с
действующими лицами, а по поводу действующих лиц».
Для понимания природы художественного восприятия важно видеть
связь, существующую между фантазией и эмоцией. По этому поводу
каждый человек может найти пример из собственной жизни. Если вися-
щее в комнате пальто кто-то ночью принимает за фигуру человека,
ясно, что это заблуждение, но возникающее чувство страха оказыва-
ется совершенно реальным. Точно так же и в искусстве: история, рас-
сказываемая в театре, кино, литературном произведении, -— вымыш-
ленная, но слезы, проливаемые зрителем. — реальные слезы. Здесь
действует психический механизм, который обозначают как феномен
допущения, заставляющий смотреть на вымышленное как на реальное,
на заблуждение как на действительный факт. В самом деле, повседнев-
ная жизнь любого человека подтверждает, что эмоцию вызывает как
реальное событие, так и воображаемое. Оказывается, что иллюзии жизни
рави/ы ей самой, между воображаемым и реальным — проницаемая гра-
ница. Степень интенсивности переживания художественной реальности
может быть ничуть не меньше, чем действительного события.
Важно отметить, что художественные эмоции — это всегда парци-
альные эмоции, то есть эмоции, которые не стремятся к переходу в
действие, не стремятся к реализации, к практическому претворению.
27
Если сильный стресс и сильное переживание в жизни побуждают так
или иначе преодолеть эту ситуацию, мобилизуют активность, то в ис-
кусстве сильное переживание оказывается самодостаточным, оно не
ведет к желанию тут же преобразовать его в какое-либо действие. В
обыденной жизни витальная сила искусства рождает такого рода оцен-
ки: «я получил большой заряд», «я испытал потрясение» и т.п. Художе-
ственно-эмоциональное насыщение представляет ценность само по себе
Природа художественного удовлетворения издавна описывалась е
эстетике через понятие катарсиса. Так, необходимым условием возник-
новения катарсиса Платон считал присутствие в художественном пере-
живании противоположных чувств — подавленности и возбуждения. К
близкому выводу о противоречивой природе художественного катарсиса,
когда мучительные, неприятные аффекты подвергаются разряду, унич-
тожению и превращению в противоположные приходил Л.Выготский. По/]
катарсисом он понимал «эмоциональную реакцию, развивающуюся в двух
противоположных направлениях, которые в завершительной точке, как
бы в коротком замыкании, находят свое уничтожение»2. Подобные идеи
о природе катарсиса можно встретить и у мыслителей XVIII века, за-
думывавшихся над острой для этой эпохи проблемой — каков эффект
воздействия произведений, являющих средоточие негативных образоЕ
реальности? Общий ответ, не раз впоследствии воспроизводившийся и
в отечественной эстетике, выразил Шиллер, полагавший, что «настоя-
щая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою унич-
тожить содержание». Вместе с тем, сегодня такое объяснение природь:
худ ^жественного катарсиса является неудовлетворительным, во всяком
случае, неполным. История искусств демонстрирует, что в одних слу-
чаях художник действительно преодолевает формой содержание (при-
ем, иногда ведущий к эстетизации порока); в других — он обнаружива-
ет не меньшее умение усиливать формой содержание. Нередки случаи,
когда именно отрицательные свойства действительности художник стре-
мится посредством выразительного художественного языка (формы) не
уничтожить, а представить явно и осязаемо, полно и выразительно. Не
внести умиротворение в человека, а заставить его «задохнуться» от
увиденного. По этой причине сводить механизмы катарсиса только пе-
реживанию процесса уничтожения содержания формой не вполне вер-
но. Если эстетика ставит перед собой цель обсуждать вопрос о возмож-
ностях социального воздействия искусства, о культурных последствиях
художественного восприятия, она принуждена изучать более сложные
возможности художественного эффекта, его многофакторные механиз-
мы. Толкование искусства как осуществляющего только функции само-
сгорания афифектов, невольно ограничивает его возможности «терапевт
тическим» воздействием — умиротворяющим, успокаивающим^
гармонизирующим. Многообразие художественной практики XX века^
безусловно, не растворяется в этой функции и требует осмысления при^
роды художественного катарсиса в более сложной системе координат.
Для понимания психологии художественного восприятия важное
значение имеет понятие художественной установки. Художественную
установку можно определить как систему ожиданий, которая склады-,
28
м'тся в преддверии восприятия произведения искусства. Каково соот-
инение сознательных и бессознательных компонентов художсствен-
-•»ii установки? Отдавая себе отчет в том, какое произведение он соби-
; .к'тся слушать, человек настраивается на особый образно-тематический
। рой, язык, стилистику этого произведения. Неосознаваемые компо-
енты установки зависят от внутренних особенностей самого реципиен-
та. от интенциональности его сознания. Особая направленность в боль-
шей степени ориентирует одних на детективы, других — на мелодрамы,
: ретьих — на трагедии и т.д. Изначальная установка формируется ок-
раской темперамента, особыми эмоциональными свойствами индивида.
Всякий раз, когда кто-то отправляется на театральный или кинофе-
шваль, он знает, как важно прочесть хотя бы несколько строчек ан-
нотации перед фильмом или спектаклем, получить элементарную ин-
формацию о режиссере, месте производства фильма и т.п. — все эти
- ведения способны направить систему наших ожиданий в нужное рус-
|о. Любой художник отдает себе отчет в значимости художественной
установки и сам способен влиять на ее формирование через обозначе-
ние жанра своего произведения. Есть жанры канонические — комедия,
’ рагедия, боевик, мелодрама и др. Однако большинство авторов не
удовлетворяются тем, чтобы подверстать свое произведение под рамки
канонического жанра, а старается в его обозначении указать на важ-
ные особенности своего творения. Не случайно, к примеру, Ф.Шиллер
предпослал своему произведению «Орлеанская дева» жанровое опреде-
ление романтическая трагедия, в этом обозначении — определенный
’.-•1юч к восприятию. Жанр «Мертвых душ» Гоголя — поэма — также
i-.ыбран непроизвольно, здесь заложен смысл, помогающий оценить про-
изведение целиком. Чайковский определил свое произведение «Евге-
ний Онегин» как лирические сцены, т.к. жанр оперы в сознании совре-
менников связывался с большими, масштабными произведениями
и тальянской традиции (Верди, Пуччини) с присущими им развернуты-
ми ансамблями, большими хоровыми сценами и т.п. В стремлении не
обмануть ожиданий публики Чайковский и указал «лирические сце-
ны», жанр, проявляющий корректное отношение как к источнику (Пуш-
кин), так и к традициям музыкальной культуры.
Теории, отмечающие зависимость художественного воздействия от
ожиданий, складывающихся внутри субъекта, появились уже в XIX
кеке. Так, у А.Потебни имеется достаточно разработанное понятие ап-
перцепции. Оно фиксирует такие особенности процесса восприятия, когда
происходит отождествление свойств объясняющего и объясняемого. Вот
.арактерный пример из произведения Гоголя: «Дама приятная во всех
отношениях находит, что губернаторская дочка манерна нестерпимо,
что не видано еще женщины, в которой было бы столько жеманства,
ч то румянец на ней в палец толщиной и отваливается, как штукатур-
ка, кусками»; другая полагает, напротив, что губернаторская дочка —
<-1атуя и бледна как смерть»... Обе они, по словам Потебни, различно
ншерципируют восприятия, полученные ими в одно и то же время, и
!ервоначально весьма сходные. Это происходит оттого, что совокуи-
29
ность соответствующих мыслей и чувств, которые уже живут внутри
этих дам бо момента восприятия, подчиняют себе воспринимаемое,
происходит отождествление свойств объясняемого и объясняющего.
Действие апперцепции, таким образом, можно обнаружить всюду, где
данное восприятие объясняется наличием хотя бы самого незначитель-
ного запаса других. «Мысль о том, какой эффект произведет ее но-
вость, требовала осуществления, но новые восприятия не мирились с
этой мыслью. Дама ощущала препятствие между имеющимися в душе
восприятиями и восприятиями, входившими в нее вновь. Тем не менее
рассказ о новости был уже готов до восприятия этой новости. Дама
не считала нужным приготовляться к восприятию этой новости, просто
чувствовала непреодолимое побуждение скорее сообщить ее»3. Действие
«следов» субъективной установки может обнаружить и каждый из нас
на множестве примеров повторного восприятия одних и тех же произ-
ведений.
Заметной вехой на пути разработки проблемы психологии восприя-
тия стало исследование Р. Арнхейма «Искусство и визуальное воспри-
ятие», имеющее подзаголовок «Психология созидающего глаза». Эта
книга в основном выросла из прикладных исследований восприятия раз-
нообразных изобразительных форм, проведенных в русле гештальт-
психологии, т. е. психологии, занимающейся изучением целостного вос-
приятия. Основная посылка Арнхейма состоит в том, что восприятие
не является механическим регистрированием сенсорных элементов, а
выступает способностью проницательного и изобретательного схва-
тывания действительности Арнхейм стремится выявить, как конфигу-
рируются и взаимодействуют в художественном восприятии объектив-
ные факторы, как они провоцируют те или иные способы понимания.
Одновременно — какова субъективная активность нашего глаза, в
чем проявляются его возможности постижения значимых моделей изоб-
разительной структуры и созидания внутреннего эффекта. Способность
глаза человека сразу оценить главные качества художественного цело-
го основаны, по мнению исследователя, на определенных свойствах
самого изображения. Он приводит пример: белый квадрат, внутри кото-
рого помещен темный диск.
Если мы видим, что диск смещен от центра квадрата, то такой вид
неуравновешенной композиции, или, как считает Арнхейм, «эксцент-
ричного» диска, вызывает определенное чувство неудобства. Симмет-
ричное положение диска в центре квадрата рождает ощущение
устойчивости, вслед за которым появляется нечто, вроде чувства удов-
летворения. Аналогичное наблюдение можно обнаружить и в музыке.
Что такое диссонанс? Это неустойчивое созвучие, требующее разре-
шения, выхода, предполагающее некое дальнейшее развитие, ожида-
емое* действие. Консонансу, напротив, всегда соответствует ощущение
устойчивости, утверждения, стабильности, разрешения.
Размышляя в этом направлении. Арнхейм приходит к выводу, что
каждая имеющая визуальные границы модель, то есть картина, скуль-
птура, архитектурное сооружение, обладает точкой опоры или цент-
ром тяжести, которые наш глаз моментально фиксирует. Этой осо-
30
• •иностью восприятия сознательно пользуются и скульпторы, и
•итографы. когда сознательно стремятся изобрести неустойчивую ди-
(мичную композицию, т.е. через неподвижное изображение передать
• •йствис, движение, натяжение, требующее разрешения. Так, танцов-
щицу пли спортсмена можно изобразить в позе, которая будет самодо-
гаточна, или в позе, которую наше воображение будет воспринимать
iK продолжающееся движение.
История изобразительного и фотоискусства накопила огромное ко-
шчество приемов, позволяющих, не меняя объема одного и того же
шсунка, поместить его либо в глубину пространства картины, либо
и двинуть его на передний план. Анализируя множество произведе-
ние АрнхейхМ показывает, в частности, какими способами Сезанн в
юртрете своей жены (1890) добивается эффекта, когда фигура отдыха-
ющей в кресле женщины полна энергии; с одной стороны, она остается
м месте и в то же время как бы поднимается. Особое динамичное
।симметричное расположение головы в профиль заряжает портрет эле-
оптом активности. Главный вывод Арнхейма в следующем: мы можем
не отдавать себе отчета, сколь сложную работу совершает наш глаз,
io он всегда устроен так, что схватывает центральные элементы
нормы, моментально дифференцируя их от частных в любом изобра-
жении4. Случайные или частные композиционные образования всегда
। ристаллизуются вокруг таких частей картины, которые можно оце-
нить как достаточно независимые и самостоятельные.
Разрабатывая теорию художественного воздействия произведений
изобразительного искусства, Арнхейм опирается на ряд идей, которые
"ыли высказаны ранее. Так, Вёльфлин в свое время пришел к выводу,
i го если картина отражается в зеркале, меняется не только ее вне-
шний вид, но полностью трансформируется и ее смысл. Вёльфлин по-
1агал, что это происходит вследствие обычной привычки чтения кар-
и1ны слева направо. При зеркальном перевертывании изображения его
। неприятие существенно меняется. Вёльфлин обратил внимание на та-
•ше константы восприятия, как оценка диагонали, идущей от левого
нижнего угла в правый как восходящей, в то время как диагональ,
идущая от левого верхнего угла вниз, будет восприниматься как нис-
ходящая. Один и тот же предмет выглядит тяжелым, если находится
не в левой, а в правой части картины. Анализируя «Сикстинскую Ма-
шину» Рафаэля, исследователь подтверждает это примером: если фи-
vpy монаха, изменив положение слайда, переставить с левой стороны
м право, то она становится настолько тяжелой, что композиция цели-
। ом опрокидывается.
Изучение социально-психологических проблем восприятия открыва-
г картину сосуществования в одной и той же культуре разных типов
неприятия искусства. Современные исследования позволяют диффе-
онцировать мотивы приобщения к искусству. Так, по данным опроса,
.роведенного в 1988 году социологами Государственного института ис-
усствознания совместно с Академией образования выявлена тлполо-
ня публики, состоящая из четырех основных групп. К первой относит-
з так называемый проблемно ориентированный зритель (25-27%).
31
Вторая —нравственно ориентированный зритель (14-15%). Третья груп-
па — гедонистически ориентированный зритель (свыше 40%). И пос-
ледняя — эстетически ориенитированный зритель (около 16%).
Группы, как видим, отличаются по характеру изначальных худо-
жественных установок, определяющих их потребность в искусстве. Пер-
вая (проблемно ориентированная) группа зрителей ждет от искусства
прежде всего возможности расширить свой жизненный опыт, яркие
впечатления, прожить несколько жизней, испытать ситуации, кото-
рые, вероятно, никогда не встретятся в судьбе этого человека. Вторую
группу (нравственно ориентированный) отличает первоочередной инте-
рес к восприятию образцов и моделей поведения в сложных ситуациях,
способам разрешения конфликтов. Тяга к искусству представителей этой
группы связана с потребностью обретения нравственной устойчивости,
формирования навыков общения. Третья группа (гедонистически ориен-
тированных) зрителей — наиболее многочисленная. Это публика, жду-
щая от искусства прежде всего удовольствия, наслаждения, релакса-
ции. Для этого зрителя искусство ценно прежде всего тем, что способно
выполнять компенсаторную функцию эмоционального насыщения, от-
дыха, развлечения, выступающую противоположным полюсом моно-
тонной рутинной повседневной жизни. При этом гедонистически ориен-
тированный зритель заранее рассчитывает, что восприятие искусства
не потребует от него особых усилий и будет происходить легко, само
собой. Наконец, эстетически ориентированный зритель — тот, который
хорошо владеет языком искусства, знаком с многообразием художе-
ственных форм и стилей и в силу этого он способен подходить к каждо-
му произведению искусства с присущей ему меркой. Эстетически ори-
ентированный зритель таким образом, обладает и познавательными, и
нравственными, и гедонистическими потребностями, однако каждый
раз актуализирует именно те измерения, в которых нуждается худо-
жественный текст; рассматривает акт художественного восприятия не
как средство решения каких-либо прагматических задач, а как цель,
имеющую ценность саму по себе.
Из подобных наблюдений и исследований следует простой вывод:
произведение искусства дает реально каждому столько, сколько чело-
век способен от него взять. Иными словами, произведение искусства
всегда отвечает на те вопросы, которые ему зададут. Известно, на-
сколько многослойным является художественное содержание. Каждая
встреча с уже известным произведением искусства раскрывает новые
смыслы, обнаруживает новые композиционные взаимосвязи. В этом от-
ношении для полного и адекватного восприятия произведения искусст-
ва большое значение имеют навыки собственного художественного твор-
чества каждого человека. Тот, кто в детстве занимался в музыкальной
или художественной школе, в танцевальной или в театральной студии,
в зрелом возрасте в большей мере, чем другие, обладает отзывчивос-
тью к импульсам художественного языка, способен чувствовать его
«изнутри». Художественные навыки дают возможность почувствовать
едва заметные музыкальные интервалы, иную восприимчивость цве-
тосветовых отношений, пластики движений и т.д.
32
Изучение закономерностей массового восприятия обнаруживает та-
кое его устойчивое качество, как инертность. Постижение уже знако-
мого требует гораздо меньшего напряжения, чем восприятие стилисти-
чески принципиально новых произведений. Между тем всякое новое
творение всегда в той или иное мере отличается преодолением стерео-
типных, клишированных приемов восприятия. С этой трудностью стал-
кивается любой художник. Традиции художественного восприятия, в
огромном объеме эксплуатирующие художественные каноны, оказывают
кущественное обратное влияние на сам процесс художественного твор-
чества, внутри которого действуют два сильных конкурирующих фак-
тора. Один — это требование вкуса, другой — желание нравиться.
Требование вкуса — проявление внутренней художнической убежден-
ности, которую не может поколебать ни материальная нужда, ни непо-
нимание окружения автора. Второй фактор — желание нравиться —
тоже очень силен: любому художнику хочется видеть общественную
потребность в плодах своего творчества, получить признание при жиз-
ни. Опытный художник всегда знает, каким стилистическим приемам,
какому образному строю и жанру уготован больший массовый успех. В
художественной практике всегда очевидно натяжение между этими
двумя полюсами творчества. В истории можно обнаружить массу случаев,
когда талантливые художники шли по проторенному пути, и, напротив,
когда мастера пытались отстаивать право на собственное видение, твор-
ческое своеволие в борьбе с накатанными традициями.
Размышляя о процессах художественного восприятия важно не со-
вершать ошибки, резко противопоставляя массовые и элитарные фор-
мы искусства. В современной художественной культуре сложилась та-
кая ситуация, когда почти невозможно представить себе критика,
который написал бы, что роман хорош, потому что он занимателен.
Чаще говорится, что художественное произведение требует больших
интеллектуальных усилий, что это не простое чтение, зато оно воз-
награждает умного читателя. Нередко возникает ситуация, когда и эс-
тетики, и критики призывают любить скучные книги, пусть и содержа-
тельные сами по себе, но с явным недостатком художества. Конечно,
есть определенные творческие жанры, сама природа которых рождает
моментальную реакцию, не требует дополнительных усилий для спе-
циального извлечения содержания: «Если я держу в голове все произ-
ведения Баха и Гайдна и могу сказать о них самые умные вещи, то от
этого нет еще никому никакой пользы. А если я возьму свою трубу и
сыграю модное шимми, то это шимми, хорошее или плохое, все рав-
но, доставит людям удовольствие, ударит им в ноги и в кровь», —
говорит один из героев «Степного волка» Гессе.
Важно отметить, что и в больших произведениях, которые мы на-
зываем классическими, содержательность и занимательность соседству-
ют. Конечно, с одной стороны, сознание человека все время развивает-
ся, как и инструментальные способы его восприятия и мышления; все
это предъявляет новый счет к художественному творчеству. Распрост-
ранено мнение критиков, что сейчас невозможно мало-мальски серь-
езное произведение, которое могло бы мыслящего и подготовленного
33
читателя увлечь именно сюжетом, что нужны иные стимулы. /Дилем-
ма: либо высокое, но написанное очень сложным языком, нуждающе-
еся в «литературном конвое», в дополнительных знаниях и т.п., либо
низкое, массовое, рассчитанное на невзыскательный и непритязатель-
ный вкус — во многом искусственна. Нс только в классических творе-
ниях прошлого, но и в современной художественной культуре имеются
авторы, сочетающие в себе как занимательность, так и интеллекту-
альную. глубину. Такие качества демонстрируют, к примеру, литера-
турные произведения М.Кундеры, П.Зюскинда, У.Эко, Д.Фаулза, ув-
лекающие не только удивительными стилистическими, языковыми,
композиционными качествами, но и самим повествованием; музыкаль-
ные творения К.Пендерецкого, Э.Денисова с присущими им психологиз-
мом, мелодичностью, захватывающей оркестровкой.
Важным условием полноценного художественного восприятия выс-
тупает умение выработать в себе способность быть в художественном
восприятии и суждениях независимым, избирательным, избегать авто-
матизмов, наработанных приемов, которые насаждают средства массо-
вой коммуникации. Каждый человек уникален и постигать эту уникаль-
ность можно, избирая соответствующие творческие линии, наиболее
отвечающие его индивидуальности, темпераменту, типу личности. Гете
как-то точно заметил, что даже ограниченный человек может быть
цельным, если продвигается в рамках своих способностей и подготов-
ки. Огромное количество сосуществующих друг с другом художествен-
ных жанров и стилей предоставляют неограниченные возможности для
возделывания каждым человеком самого себя.
Глава 4. Личность художника
как предмет психологического анализа
Богатство мировой литературы от Платона и Фомы Аквинского до
Фрейда, Юнга, Ортеги-и-Гассета. Выготского, Маритена свидетель-
ствует о том, что личность художника и способность его творческого
воображения не были обойдены вниманием. Правда, исследовательский
интерес главным образом ограничивался самим творческим актом —
проблемами, вдохновения, таланта, мастерства и т.д. Почти не изучен-
ной по сей день остается проблема взаимовлияния, а точнее — един-
ства творческой и бытийной биографии художника, позволяющая ос-
мыслить его как особый психологический тип.
Названная проблема, предполагающая изучение художника не только
в рамках творческого акта, но и за пределами искусства, как человека
со своей самобытной судьбой, поведением, образом жизни постоянно
ускользала из рук исследователей. Слишком уж летучей и нестрогой
казалась эта материя: психологическое своеобразие в каждом отдель-
ном случае столь различно, что обнаружение какого бы то ни было
инварианта поведения художника казалось большой натяжкой. Всевоз-
можные «странности» характера художника, его «аномалии» в обыден-
ной жизни оставались уделом либо устных форм (предания, анекдоты),
либо мемуарной литературы.
Между тем феномен художника как особый психологический тип,
предполагающий изучение скрытых, но прочных форм сопряженности
творческого дара художника и его образа жизни, повседневного пове-
дения, мотиваций действий — большая философская, психологическая
проблема. Исследовательский интерес здесь усиливается догадкой о том,
что творческий процесс не является выгороженной сферой, но, напро-
тив, составляет единое целое с жизненным процессом художника. Не
только собственно творческая активность, но и разные формы бытий-
ной активности художника сопряжены с целями одного типа: созданием
произведения искусства, возделыванием благоприятной для этого почвы,
изобретением особых условий, провоцирующих художественное открытие.
Безусловно, у всякого человеческого занятия есть свои опасности,
свои хитросплетения, свои искушения, идущие вразрез с идеалом со-
вершенной жизни. Точно в такой же мере, как и художественное твор-
чество, любая профессиональная деятельность — ученого, политика,
бизнесмена формирует устойчивые параметры поведения, особенности
жизненного уклада. Вопрос, очевидно, сводится к тому, не являются
ли самыми искусительными именно те опасности, которые таятся в
призвании художника, питая его вдохновение каким-то необычным,
особым греховнььм жаром? «Да. именно так обстоит дело». — отвечал
35
на этот вопрос Жак Марлтон. Французский ученый глубоко обнажил
парадоксальность внутреннего мира художника, чье таинство «откры-
то как'для Неба, так и для Ада», который предстает пред нами одно-
временно как «безумец, захваченный иррациональным порывом, и
ремесленник, самым изощренным образом упражняющий свой испол-,
нительский разум»1. ।
Непрерывная смена ролевых установок, нравственно рискованная
пища романиста, живописца, драматурга — это возможные качества
каждого из нас, отголоски явных и скрываемых черт, побуждений,
страстей. Сверхчеловеческое напряжение необходимо художнику, чтобы
вместить в себя всю эту разрушительную полярность, овладеть обо-'
стренной отзывчивостью к миру.
Психологи фиксируют тесную связь между состояниями и характе-i
ром. «Психические состояния кумулируются, становятся характерны-'
ми. В этом — отдаленный эффект события жизни»2. Следовательно, за-
дача состоит в выявлении того, что представляют собой эти устойчивые;
состояния, возникновение которых провоцирует любой творческий акт.]
Следующий шаг — как эти повторяющиеся, константные состояния!
приводят к «сгущению» определенных психических признаков, делают*
их характерными во внутреннем устройстве творца? ;
Несомненно, одно из главных состояний, сопровождающих творчество
любого художника, — способность и потребность жить в вымышленных
ролях, непрерывная самоидентификация то с одним, то С другим пер-
сонажем. Каждый замысел, каждое творческое увлечение довольству-
ются не частью внутреннего мира художника, а поглощают его целиком,।
тотально. Более того, история хранит множество примеров, когда писа-
тель, актер, художник могли отдавать себя без остатка сразу несколь-'
ким творческим заданиям или заниматься абсолютно несовместимыми
проектами в одно и то же время, достигая при этом исключительной
убедительности в претворении противоположных замыслов и ролей.
Когда эта потребность безостановочного вживания становится систе-
мой, она создает своеобразную надстройку над жизнью и ставит ху-
дожника в трудное положение. Он должен последовательно переходить
от действительности к вымыслу и от вымысла к действительности, и
такая смена положений, одновременное обладание сразу несколькими
формами существования вносит в его душу заметную дисгармонию.
Множество самонаблюдений художников свидетельствует об этом. Гете
вспоминает, что писал «Вертера» в каком-то забытьи и внутреннем жаре,
не отличая поэтического от действительного, и боялся прочитать свой
роман, чтобы снова не впасть в то «патологическое» состояние, в каком
он его писал3. Гейне считал это постоянное «переселение душ» болез-
ненным состоянием, говорил о необходимости особого усилия воли, чтобы
положить этому конец. Флобер, описывая нервный припадок Эммы Бо-
вари, словно переживает его сам, он должен открыть окно, чтобы ус-
покоиться. Голова его как в тумане, он дрожит от возбуждения. «Когда
я описывал отравление Эммы Бовари, на самом деле ощутил во рту
вкус мышьяка, чувствовал, что отравился, дважды мне становилось
не на шутку плохо, так плохо, что меня даже вырвало»4.
36
Способность художника обитать во всяком существе — быть и муж-
чиной и женщиной, влюбленным и влюбленной, с одинаковой убеди-
ч'льностью достигать художественного претворения в противополож-
ных персонажах — порождала и множество объясняющих теорий. В
• гой связи Платон выдвигал идею андрогинности как отличительный
признак души художника и условие творческого акта; Бердяев наста-
ивал на «исконной бисексуальности» (понимаемой не антропологически,
I космически) как условии духовной целостности и, следовательно, твор-
ческого потенциала. Мужское начало привносит в эту целостность Ло-
!ос, порядок; женское — Природу, бессознательную стихию5.
Несомненно, что приведенные наблюдения ставят перед психологом
। рудную проблему: можно ли за всем спектром вымышленных ролей
обнаружить действительное ядро личности художника, как отделить
• то подлинную субстанцию от нарочито сотворенной им жизни? Что
остается незыблемым в качестве человеческой самости художника «за
вычетом» из всех его деятельностей художественно-воображаемого,
ролевого, сотворенного для публичного восприятия?
Как известно, форма внешнего бытия — всегда результат некото-
рых усилий, стремление придать постоянно неопределенной и неза-
конченной внутренней жизни некий внешний вид, в каком ее и воспри-
нимает наблюдатель. «Жизнь отличается именно погруженностью «я»
человека в то, что не есть он сам, в чистого другого», — так формули-
рует этот парадокс Ортега-и-Гассет. «Жить — значит выходить за пре-
делы себя самого»6. Это направление мысли испанского философа со-
прикасается с параллельными идеями М.М.Бахтина: «Изнутри себя самое
жизнь не может породить эстетически значимой формы, не выходя за
свои пределы, не перестав быть самой собою»7.
Имеется ли связь между сокровенно-внутренней жизнью художника
самой по себе и жизнью, принявшей эстетические очертания? Кажет-
ся, неразрешимая дилемма искренности и оформленности сквозит в
рассуждениях Ортеги-и-Гассета и Бахтина. Может быть, ответ достаточ-
но прост: «за вычетом» комедианства и лицедейства остается пустота, в
ней нельзя разглядеть ни стержня личности художника, ни сколько
нибудь устойчивой его человеческой ментальности. Один из исследова-
телей начала века так и считал: «Если бы его (художника. — О.К.) изя-
щество было искренне, оно не было бы столь могущественно, оно не
обольстило бы и не пленило общества, чуждого естественности8.
Прав в таком случае Ж.Маритен, утверждающий, что искренность
художника — «это искренность материи, готовой принять любую фор-
му. Она состоит не в том, чтобы видеть себя, но в том, чтобы прини-
мать и лелеять себя именно таким, каким в тот или иной момент себя
обнаруживаешь»9. И все же такой ответ вызывает неудовлетворение.
Акцент на беспредельной пластичности художника делает из него едва
ли не безвольное существо, увлекаемое прихотью настроения, потока-
ми жизни то в одну, то в другую сторону. Это феномен, уже более
принадлежащий природе, чем культуре.
Можно, правда, смягчить это толкование, отметив, что голосом
художника говорит сама культура, сама история, сам Абсолют. Поэто-
37
му неостаноы 1мый круговорот его творческих порывов — проявление
некоей надчеловеческой субстанции, объективного хода вещей. Это,
однако, не отменяет проблемы поиска человеческого, личностного на-
чала художника. Как бы мы ни подчеркивали божественную силу его
таланта, реализация его связана не только с некими силами вне нас,
но и через включение в многомерную череду внехудожественных по-
вседневных отношений. Потребность художника в чередовании ролевых
установок вполне осязаемо проявляется и в повседневной среде.
Много написано о театрализации бытового поведения художника, о
его старательных усилиях по возделыванию имиджа, соответствующе-
го разным ситуациями10. Небезынтересно, что даже крупные художни-
ки, жители поэтического Олимпа, которых никак не заподозришь в не-
дооценке собственной личности, считали необходимым прибегать к
созиданию «особой» формы, когда заходила речь о новом знакомстве,
представительстве и т.д. А.Наймап вспоминает, как в 1964 году для встре-
чи с Ахматовой в Москву приехал председатель Европейского литера-
турного сообщества Джанкарло Вигорелли. Ахматова, принимая его на
Ордынке, в доме Ардовых, старалась продумать всю семантику внеш-
него образа, максимально «кодифицировать» это первое впечатление.
«На ордынском совете решено было, что удобнее и эффектнее всего
сделать это в «детской», полулежа на кушетке. Она (Ахматова. — О.Я.)
надела кимоно, припудрилась и прилегла, опираясь на руку, — класси-
ческая поза держательницы европейского салона, мадам Рекамье и др.
— на что-то в этом духе был направлен замысел сценария; плюс сразу
возникшее сходство с рисунком Модильяни, неожиданно^.
...Вигорелли вошел в комнату, остановился в дверях, картинно от-
шатнулся, картинно распахнул руки, воскликнул «Анна!» Она подняла
ладошку, легонько помахала ею в воздухе и произнесла не без строго-
сти: «Привет, привет»!11).
Уже с начала XIX века художник входит в культуру, в обществен-
ное сознание не только своими произведениями, но и своей личнос-
тью, судьбой. Вокруг Гельдерлина, Бодлера, Тулуз-Лотрека, Рембо,
как и вокруг Врубеля, Комиссаржевской, Шаляпина, Нижинского, сло-
жилась поэтическая легенда. Сам творец, его жизнь (а не только твор-
чество) становились тем центром, вокруг которого происходила крис-
таллизация чувств, идей, представлений, рассеянных в духовной
атмосфере эпохи.
Публичное поведение художника упрочивает его славу мистифика-
тора, лицедея. Томление по вымышленному миру грез, стремление
соответствовать ожиданиям, претворить несуразную, непутевую, греш-
но-взбаламученную жизнь в легенду, сказку, рассчитанную на эффект,
нередко привносит в его действия элементы маскарада. Показательна
зарисовка Георгием Ивановым вечера группы поэтов и прозаиков «Кра-
са», состоявшегося в 1915 году: «Николай Клюев... спешно одергивает у
зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на
щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки вокруг
умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную, сладкую,
глуповатую улыбочку»12.
38
Даже в тех случаях, когда художник слитком заботится о своем
ультурном избранничестве, лелеет свою культуртрегерскую миссию
гак, например, молодые «мирискусники»), не позволяя себе в пуб-
личной жизни громкие, шокирующие жесты, его внешний образ тща-
н’льно выверен, продуман, возделывается со старательностью, не ус-
ыпающей творческой одержимости.
Подобная театральность бытового поведения художника базируется
на развитом чувстве своей уникальности, призванности. Артист созна-
< т, что любой его поступок в жизни попадает в орбиту внимания, а
порой и обсуждения, и поэтому стремится придать ему некий сверхбы-
ювой смысл. Отсюда — культивирование импровизационности, выбор
стилей поведения в зависимости от ситуации. Улавливая на себе заин-
1 спресованный взгляд общества, артист как бы доорганизовывает себя,
становясь, с одной стороны, «типичнее» для наблюдателя, с другой —
продолжая удивлять его, осуществляя своим поведением своеобразный
творческий акт.
Никто нс может сказать, откуда приходит новый импульс, разбива-
ющий прежние коды, порождающий новый стимул, новое озарение.
'Творческий акт никогда целиком не детерминирован извне. Точно так
же он не может быть сведен только к реализации чувства формы,
которое живет в душе художника. Хрупкое балансирование между
интенцией собственного сознания и той мерой, которую диктует приро-
да другого существа, самой вещи — вот механизм, объясняющий вза-
имодействие внутри художника в каждый отдельный момент как созна-
тельной, так и непроизвольной активности.
«В психологическом мире время от времени обнаруживаются особые
феномены, которые как бы кивают в сторону непсихологического (кур-
сив мой. — О.К.), источником чего данный жизненный мир быть не мог.
Через эти феномены в психический мир заглядывает нечто трансцен-
дентное ему, нечто «оттуда», но заглядывает оно уже в маске психо-
логического, уже, так сказать, приняв психологическое гражданство,
в ранге жизненного факта»13). Отсюда чрезвычайно трудно объяснить
процесс объективации художественной мысли — как несуществующее
становится существующим? Как субъективное, мимолетное, интимное
приобретает объективное, надличностное бытие?
«Понимание другого произойдет от понимания себя», — рассуждал
А.Потебня. Этим вызваны бесконечные художественные эксперимен-
ты. комбинации, «подгонка» емких выразительных средств для того,
чтобы нужное эмоциональное состояние раскрылось в движении, зву-
ке, изображении, слове и т.д. Запас самонаблюдений безгранично пре-
гворяется через художественное слово, — считал Потебня, — в
отличие. скажем, от пластики актера, обладающей более скромными
возможностями выражения внутренних состояний. «В большей части
случаев движение, произведенное чувством, исчезает без видимого сле-
та, потому что нельзя же находиться под влиянием сильного чувства и
наблюдать в зеркале игру своей физиономии»14.
Особенности психологического устройства творца свидетельствуют
об обратном. Режиссер, актриса Галина Волчек рассказывает: однаж-
ды. переживая стресс, она находилась дома одна, сидела на полу, ры-
39
дала. Потянулась к зеркалу за платком и увидела часть своего покрас-
невшего, залитого слезами лица. «Какой потрясающе выразительный
мог бы быть кадр», — пронеслось в сознании. Позже об этом самонаб-
людении актриса рассказала в беседе журналисту. Интервью было опуб-
ликовано без этого эпизода. Журналист объяснил купюру просто: обы-
денное сознание нс поверит, что ваше страдание было искренне и
глубоко, если в то же мгновение вы могли думать о художественной
выразительности.
Тем не менее подлинность и даже показательность этого примера
для понимания внутреннего устройства творца очевидна: творческий
акт не существует в художнике как выгороженная сфера. Возмож-
ность обладания не одной формой существования, а сразу несколькими
оставляет в сознании художника некий люфт, лабораторное простран-
ство, в котором никогда не затихает процесс выколдовывания новых
образов. Более того, генерирование новых метафор, приемов оказыва-
ется возможным даже «внутри» уже протекающего творческого акта,
когда художником, казалось бы, владеет совсем иная творческая инту-
иция. Не раз многие актеры с удивлением отмечали, что процесс рабо-
ты над новой ролью не затухает даже во время исполнения на сцене
уже «состоявшихся» ролей. Как ни парадоксально, но в момент колос-
сальной концентрации энергии для достижения одной цели где-то на
периферии сознания идет параллельный процесс нахождения и крис-
таллизации новой пластики, интонации, мимики для другой цели.
Возвратимся к сказанному выше: очевидно, что явно или неявно,
но все формы как бытийной, так и творческой активности художника в
конечном итоге стимулируются целями одного типа — созданием про-
изведения искусства, предвосхищением возможных действий, которые
призваны привести к этому результату. Мотивация деятельности ху-
дожника, таким образом, выступает как сложная динамичная самопод-
крепляющаяся система. Весь комплекс действий, восприятий, поведе-
ния художника в конечном счете диктуется целями творчества как
высшими в иерархии побудительных причин его личности.
Также очевидно, что наряду с направленной деятельностью (воле-
вые, сознательные усилия, оценка намеченных целей, ответственность
за результаты и т.д.) едва ли не большее значение в подготовке и осу-
ществлении творческого акта у художника приобретает «непроизволь-
ная активность». Последняя, как мы убедились, отмечена непрерывным
художественным фантазированием, подспудными переживаниями и, в
свою очередь, конечно же, не может быть оценена как нецелесообраз-
ная, «выпадающая» из сферы мотивации психологии творчества. Этой
спонтанной активности присуща определенная интенция, следователь-
но, по точному замечанию Х.Хекхаузена, она может быть истолкована
как своего рода намерение (хотя и недоступное внешнему наблюде-
нию), то есть поддается объяснению с точки зрения ее мотивов15.
По сей день разные авторы по-разному используют понятия мотив и
мотивация применительно к художественной деятельности. Последнее —
мотивация — зачастую используется как синоним художественной дос-
товерности, оправданности логики художественного образа, понимаемой
40
|))01ценно. Разворачивая спор с иными творческими системами, это
юно употребляет Ф.Феллини: «Не знаю почему, англоязычные акте-
•I I, особенно принадлежащие к определенному поколению, культиви-
•\ ют миф об осознанной игре, о сознательном сотрудничестве и все вре-
и требуют четкой идентификации образа, пресловутой «мотивации»16...
Проясняет дело один из выводов уже упоминавшегося немецкого
• следователя, обосновывающего необходимость различать мотивацию
|.пнкретные побудительные причины использования уже имеющихся
и.1выков, возможностей) и мотивы (общая направленность на достиже-
ние цели творчества). Последние, по существу, ненаблюдаемы, есть
.< ловные конструкты, помогающие объяснять деятельность. Мотив в
и ом случае включает в себя такие понятия, как потребность, побуж-
|' ние, склонность, влечение, стремление и т.д. Отсюда творчество ока-
ывается мотивированным даже в тех случаях, когда не сопровождается
- ознательным намерением художника. Уже внутри творческой интуиции
к цвет это нечто, что позволяет выбрать между различными варианта-
ми художественного претворения, не апеллируя к сознанию, нечто, что
запускает действие, направляет, регулирует и доводит его до конца»17.
Особенности поведения художника, отсюда, отмечены ослаблением
иачения внешнего мира. Своеобразное объяснение этому можно обна-
ружить в теории американского психолога де Чармса, различающего
два типа личности — «самобытных» и «пешек». «Чувства, присущие
। амобытному индивиду, сильнее влияют на поведение, чем чувства,
присущие «пешке». Этот личностный аспект — гораздо более важный
мотивационный фактор, чем реальные события. «Самобытному» инди-
виду присуще сильное чувство личной причастности, ощущение, что
центр сил, влияющих на его окружение^ находится в нем самом. «Пеш-
ка» же ощущает эти силы как неподвластные ему, как личностные
силы других людей»18.
Самоуглубляясь в художественном переживании, художник дости-
гает не только «ослабления» внешней реальности, но и укрепления сво-
его воображаемого мира как не менее важной реальности; способен
« делать этот мир для множества вовлеченных в него живым, развива-
ющимся, самодостаточным.
Как и у любого человека, переживание художника — это прежде
всего борьба против невозможности реализовать внутренние необходи-
мости своей жизни. Вместе с тем работа художника по перестройке
своего психологического мира направлена не столько на установление
смыслового соответствия между сознанием и бытием (как естественный
результат переживаний большинства), а, скорее, на достижение соот-
ветствия между каждым новым замыслом и его художественным пре-
। ворением. Художнику приходится преодолевать, таким образом, не
разрыв сознания и жизни, а разрыв сознания (замысла) и его действи-
1 ельного воплощения.
Если обычное переживание нацелно на выработку «совладающего»
поведения, достижение реалистического приспособления человека к
• кружению, то переживание художника озабочено проблемой выраже-
ния собственного видения и чувствования в максимальной степени пол-
41
ноты и совершенства. Импульсы, которые получает творческий дух его
натуры, гораздо сильнее и действеннее, чем те. которые диктуют ре-
альные необходимости жизни. Более того, «смысловое принятие бытия»
у художника только тогда и может состояться, когда открывается про-
стор осуществлению внутренних необходимостей его жизни. Таким об-
разом. приоритетное стремление художника — не в том, чтобы просто
выжить, проникнувшись императивами внешней действительности, а в
том, чтобы иметь возможность сотворить то, что ему предназначено.
На этих путях рушится увлекающая некоторых психологов и фило-
софов сентенция, гласящая, что «жизнь выше, чем ее смысл». Худож-
ник, пожалуй, мог бы сказать иначе: художественное прозрение жиз-
ни, ее одухотворение выше, чем то, что формулируется как ее смысл,
оправдание языком теории. Развивая эту идею о силе проницательного
творческого начала, можно утверждать, что в известном смысле лю-
бовь художника к творчеству есть нелюбовь его к «миру», невозмож-
ность оставаться в границах этого «мира». В психологической науке
удачное «совладающее» поведение описывается как повышающее адап-
тивные возможности личности. У художника же все наоборот: чувство
обретенной в завершенном произведении искусства адаптивности уси-
ливает стремление заглянуть за новые горизонты, расширить грани-
цы, углубиться в муки выращивания нового замысла, в конечном итоге
вновь приводящего творца к выходу за пределы данного мира.
Беспристрастный анализ любого творческого акта показывает, что
это процесс далеко не только спонтанный. В какой бы мере человек,
осененный талантом, ни полагался на силы «извне», ему необходимо
мастерство (овладение мастерством), умение точно выбирать среди
множества путей свой единственный, терпеливо взращивать и себе ус-
тановку на творчество. Все это требует овладения разными навыками
защиты — от бесконтрольности аффектов и инстинктов, от диктата ка-
нона, шаблона, рутины и т.п. Главный защитный фактор — -эте способ-
ность художника осуществить интеграцию своего «я». Именно потому,
что интенсивность «повышенной» жизни художника слишком велика и
амплитуда его переживаний гораздо выше, чем у обычного человека,
он принужден в творческом акте максимально «собирать» себя. Требуется
жесткая самодисциплина, чтобы добиваться в этой концентрации синте-
за. гармонии, удерживать установку на целесообразность действий.
Необходимость достигать колоссальной концентрации сил в момент
создания произведения, наряду с потребностью вживания в разные роли,
может быть оценена как еще одно константное, повторяющееся состо-
яние, сопровождающее жизнь художника. Способность художника до-
биваться собранности души в ее высшем средоточии, выходить в ирра-
циональном порыве за пределы себя, за пределы данного мира,
подчинять этому все прочие цели обсуждалась в литературе уже на-
чиная с античности. История искусств храпит- множество примеров, когда
смертельно больному писателю, живописцу удавалось оттянуть время
смерти до момента завершения произведения. Энергия творчества спо-
собна на время нейтрализовать не связанные с ней физические ощу-
щения, болевые стрессы. Так, Г.Вишневская вспоминает, как во время
42
пополнения партии Тоски на сцене Венской оперы от пламени свечи
' (-пыхнул ее парик. После краткой остановки оркестра спектакль был
:родолжен и завертев. Только спустя несколько часов певица почув-
। вовала изнемогающую боль в руках — обгорели ногти, когда она им-
елась сдернуть парик19.
Кумулятивный эффект от необходимости постоянной концентрации,
собирания себя», необходимости удержания высокой амплитуды чувств
повышенная впечатлительность, нервность, порой — неуравнове-
шенная экзальтация, иногда принимающая болезненные формы. На-
пиление наблюдений об этих состояниях уже в начале века дало по-
год возникновению многочисленных исследований, трактующих
психическую паталогию как имманентную составляющую гения.
Художник — это костер, который требует много дров. Состояние
нюрческого исступления счастливит глубже, но и пожирает быстрее.
Даже при внешне монастырской жизни оно (искусство. — О.К.) порож-
дает такую избалованность, переутонченность, усталость, нервное
нобопытство, какие едва ли может породить жизнь самая бурная, пол-
ная страстей и наслаждений», — размышляет Т.Манн21’. Не секрет, что
со временем становится трудное и труднее сохранять отзывчивость к
новым переживаниям. Импульсы, вдохновлявшие вчера, должны быть
усилены, чтобы помочь удержать вдохновение сегодня. В процессе твор-
ческой эволюции, с одной стороны, налицо потребность психики худож-
ника в новых и новых сильных впечатлениях и переживаниях, а с дру-
। oii — в той или иной мере очевидны симптомы ее изношенности.
Дирижерам известны многочисленные случаи, когда оперные певцы
вынуждены в определенный момент жизни оставлять большие партии не
потому, что «умаляется» голос или музыкальная память, а потому, что
психика уже не в состоянии, как прежде, выдерживать неослабного
напряжения, длящегося на протяжении трех-четырех часов спектакля.
Как результат систематического переживания высокой амплитуды
чувств — усиление лабильности психики, быстрые и частые переходы
<>т «повышенной» жизни к угнетенности, и наоборот. Сколь ни был бы
удачным отдельный творческий акт, по существу, это всегда стресс.
Во множестве дневников, писем, мемуаров описаны состояния исчер-
панности, возникающие как результат завершения творческой работы
iM.Цветаева: «Какая на сердце пустота после снятого урожая!») Нема-
io художников свидетельствовали, что массовый успех действовал на
них как депрессант (в частности, Грета Гарбо21). Действительно, спустя
некоторое время (снижение апогея) чувство опустошенности становит-
ся чрезвычайно острым.
В этой связи не столь уж парадоксальной кажется догадка о том, что
любой поэт нуждается в «не-поэте»: творческая личность нуждается в
неких компенсаторных механизмах, позволяющих переболеть отчаяни-
ем, пережить апатию, скрыться от постороннего взгляда в постстрессо-
г.ом состоянии. Тот, кто подсмотрел жизнь художника в ее непоэтичес-
;ие минуты, бывает сильно разочарован. «Писатели, художники,
которые должны были бы зажигать в других чувства и впечатления, и
\м которых, проявляясь в беседе, должен бы искриться золотой пылью
43
уединенных трудов, в обществе блекнут наравне с посредственностями,
— свидетельствует посетитель кафе на Монмартре. — Усталые мыслить
или притворяться мыслящими, они приходят по вечерам отдохнуть...»22.
Необходимость в колоссальной концентрации сил в момент создания
произведения и сопровождающий ее последующий «откат» — этот ус-
тойчивый механизм любого творческого акта также проявляет себя в
бытийной, повседневной жизни, накладывает отпечаток на человечес-
кие характеристики художника. Пламя угасает, и состояние творчес-
кого порыва сменяет обыденность. Отсюда и безудержное стремление к
одиночеству, которое принимает у художников характер пандемии.
С одной стороны, творчество есть то, что связывает художника с
другими людьми, становится для него убежищем от одиночества. С другой
—• «писатель может говорить свободно только наедине с самим собой... Для
того, чтобы установить контакты с современниками, он должен порвать
всякие контакты с ними и в этом всегда есть что-то от безумия»23. Чем
в большей степени художник достигает уровня индивидуального само-
сознания, утверждая свое уникальное личное тождество, тем в большей
степени он сталкивается лицом к лицу со своим одиночеством.
С одной стороны, одиночество художника, когда оно выступает как
условие его творчества, есть добровольное уединение. («Только тот
любит одиночество, кто не осужден его испытывать».) Такого рода
наблюдения накоплены и психологической наукой: «Здоровое развитие
психики требует чередования периодов интенсивного получения ощу-
щений и информации с периодами погруженности в уединение с целью
их переработки, поскольку в глубинах нашего сознания происходит го-
раздо большая часть процесса мышления, чем на уровне линейного
мышления, привязанного к внешнему миру»24.
В случае художника можно говорить о «позитивном типе одиноче-
ства», переживаемом как необходимое условие раскрытия новых форм
творческой свободы, генерирования нового опыта, новых эксперимен-
тов. В противовес этому негативный тип одиночества связан, как прави-
ло, с переживанием отчуждения от своего «я», состоянием «печальной
пассивности», летаргического самосострадания и т.п.
Многие художники, называющие себя одинокими, не были изоли-
рованы от остальных в объективном смысле. Многие состояли в браке,
жили с друзьями и семьей. Сильной детерминантой одиночества здесь
была неудовлетворенность наличием имеющихся друзей и взаимосвя-
зей и связанное с ней чувство депрессии (М.Лермонтов, Л.Толстой. П.Чай-
ковский, В.Комиссаржевская, А.Ахматова и др.).
Художник знает осуществление, но не знает осуществленного. Сам
производящий принцип, живущий в его душе, оказывается сильнее
тех конкретных произведений, которые он производит. Творец как са-
мобытная личность все время меняет «формулу» своего существова-
ния, присваивает новые пространства и смыслы, которые его окруже-
нию бывают далеко не всегда ясны. Всепоглощающая творческая
интенция зачастую является причиной того, что раз установившиеся
дружеские связи тают и идут на убыль. На каждой ступени своего раз-
вития такой человек склонен ощущать потребность з?вести новых дру-
зей, непохожих на прежних. Нередко сам художник сознает, что его
44
атруднения в отношениях с другими людьми вызваны не случайными,
। внутренними чертами его личности, не тем, что легко «перехитрить»
:* можно кореллировать, а тем, что действует неодолимо. Состояние
одиночества, таким образом, отчасти избирается самим художником,
отчасти навязывается ему как условие творческого успеха, как усло-
вие творческих поисков.
Множество судеб свидетельствует, что существует трагический кон-
фликт, вытекающий из вышесказанного, — конфликт любви и творче-
ства. Сама по себе любовь требует такой же тотальности и самоотдачи,
гак и творчество. Кто-то отметил, что в любви нет человеческого лица.
В ней есть либо лицо Бога, либо лицо Дьявола. Как и творчество,
побовь требует тотального погружения, она никогда не может удер-
жаться в одном состоянии, не знает одной формы, чужда обыденности,
и потому всегда «нелегальна», подобно творчеству. «Когда я видел сча-
стливую любящую пару, — пишет Бердяев, — я испытывал смертель-
ную печаль. Любовь, в сущности, не знает исполнившихся надежд»25.
Художник, желающий сохранить себя как творца, нуждается не
столько в любви, сколько во влюбленности, когда его действительное
я» и идеальное «я» совпадают. Здесь, как и во всех иных случаях,
перевешивает художническая установка с большим доверием относить-
ся к той реальности, что живет в воображении как идеал, как волную-
щая гармония красоты, обещание совершенства. Биографии художни-
ков изобилуют примерами на этот счет.
Так, большую загадку для исследователей представляет веймарский
период жизни Гете, когда поэт был переполнен любовью к Ло~те. «Это
была страсть воображаемая, — утверждает Г.Льюис, известный био-
граф Гете, — в которой поэт был участником в большей степени, неже-
ли человек... Я убежден, что если бы Лотта была свободна, он убежал
бы от нее, как убежал от Фредерики26.
Рильке полюбил двух женщин, которые были подругами. На одной
он женился, а продолжал любить другую.
Интересна и вытекающая отсюда закономерность: как только в ху-
дожнике побеждает человеческое, общепринятое, земное — его арти-
стическая индивидуальность аннигилируется, угасает его притягатель-
ность, весь недосягаемый блеск. Вспомним близкие сюжетные повороты
в «Театре» Моэма и «Портрете Дориана Грея» Уайльда: как только акт-
риса искренне влюбляется, в ней как бы перестает светиться творчес-
кий огонь, она тут же теряет как художник, становится неинтересной
до того боготворившему ее партнеру и т.д.
Художник интуитивно страшится всего, что может лишить его вож-
деленных возможностей творческого самопревышения, которое для него
выше любви. Характерно признание писателя-современника: «Нашлось
бы с полдюжины женщин, из которых любая откликнулась бы на пред-
ложение провести со мной ночь, стоит мне только свиснуть. Полдюжи-
ны — это по самой скромной оценке. Они прикатят издалека на автомо-
биле, прилетят из других городов на самолете. Однако я никому не
>.воню, я живу затворником — человек, которому состоянием покоя
i‘лужит безутешность27.
45
Осознание призванности побуждает оберегать саму способность тво-
рить, и здесь уже не имеет значения — в реальных или воображаемых
ситуациях пребывает чувство художника. «По-настоящему одаренный
автор создает своих героев с помощью бесконечных возможных направ-
лений своей жизни», — писал Андре Жид2В. Именно поэтому перехо/
произведения из замысла в бытие не может быть объяснен из уже
существующего бытия. В жизни художник может приходить в столкно-
вение с нормой и законом, черпать вдохновение в греховной, чаете
нравственно небезопасной пище, однако она никак не характеризуе!
его нутра, не есть материал для оценки качеств его души. Искренность
художника обнаруживается в самом произведении искусства, когда те
или иные ипостаси его «достраиваются», приобретают силу вырази-
тельной и самодостаточной художественной целостности. Рождаето
художественная форма — результат творческого исступления, напря-
женного состояния ума, «когда человек сильнее, умнее, красивее себя
Такие состояния приближают нас к мирам запредельным, простирают
особенно сильное влияние над художником24.
Все на свете способно являть свою сущность, лишь превосходя <'ебя
Эта догадка, возникавшая у Гейне, В.Соловьева, Л.Пастернака и многих
других, подводит к выводу о том, что подлинность личности художни-
ка обнаруживается лишь в его творчестве. Творчество есть усиление себя
А если это так, то снимается вышеприведенное противоречие, волновав-
шее Бахтина и Ортегу-и-Гассета. Невозможно создать эстетической
формы, не выходя за пределы себя, однако в этом акте самопревыше-
ния и обнаруживается истинное лицо творца, уникальная самореализа-
ция его личности.
Искренность самоосуществления художника и есть олицетворение
этой философской максимы. Непрерывная потребность в самопревыше-
нии и есть наиболее устойчивый способ существования, позволяющий
художнику плодоносить, реализуя все грани своей индивидуальности
Способность и потребность художника в акте творчества выходить за
пределы себя — это и есть он сам, это и есть его подлинная жизн^ й
особом, им самим устроенном мире. Беспредельная преданность худож-
ника требованиям творчества и формирует его особый психологический
облик, предопределяет особые черты его судьбы, жизненного пути.
Более того, отсутствие у художника как бы собственного «места»,
прикрепленности к одному видению, одной позиции, одной, не вызы-
вающей сомнения, идее, его неостановимый переход от одного состоя-
ния к другому и представляет собой собственно человеческое бытие
культуры. Ведь в идеале любой человек в каждый момент своей жизни
«как бы заново должен решать задачу соотнесения в его жизнедея-
тельности натурального языка социально преобразованной природы и
языка как самоговорящего бытия человеческого рода30.
В психологическом феномене художника концентрируется, таким
образом, ряд жизненных характеристик, которые пусть в малой степе-
ни, но присутствуют в любом человеке, способны объяснить смену ро-
левых установок, тягу к жизни в воображаемом мире, его творческие
порывы и потребности.
Раздел II
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА
Глава 5. Человек в истории:
психологические и художественные измерения
Способы исторического познания человека в XX столетии обогатились
новыми ценными результатами. Речь идет о столь продуктивной и пер-
> I[активной тенденции как тяге наук к междисциплинарному синтезу.
Новые подходы в историческом познании ломают барьеры, надолго зак-
реплявшие герметичность отдельных научных областей: истории ис-
кусств, истории культуры, истории религии, истории науки, истории
цивилизаций и т.п. Ученые Франции, США, Германии, России направ-
1яют свои усилия на воссоздание исторического бытия человека в его
реальной целостности, вырабатывают новые подходы к реконструкции
юго, что сегодня называют «тотальной историей», свободной от фрагмен-
шрованных изображений, от цеховой обособленности историков.
На этих путях возник и развивается словарь исторической психоло-
। пи, в котором ключевую роль играют такие понятия, как менталитет,
сознание и подсознание культуры, ценностные ориентации, автома-
тами и навыки поведения, неявные установки мысли, культура вооб-
ражения эпохи и другие, помогающие объединить в целостном видении
разные аспекты исторической действительности. Традиционные исто-
рические подходы, ограничивавшие свой предмет лишь анализом со-
бытий одного ряда — художественных, политических, социальных,
научных — неизбежно оказывались подобны «сундуку для хранения
фактов» (Л.Февр), обрекали себя на отсталость и провинциализм.
Выдвижение в центр научных подходов проблем понимания и ин-
трпретации, чрезвычайно обогативших «ремесло историка», безус-
ловно, в первую очередь, было продиктовано стремлением «замкнуть»
историческое познание на его главном предмете — изучении человека.
Как изменялись формы его психической пластичности в истории?
Что в них было продиктовано традициями культуры, а что — стихией
нового чувства жизни? Эволюционировал ли сам объем, гипотетичес-
кий спектр психических реакций человека?
Рождение новых междисциплинарных исследовательских направле-
ний, известных сегодня как историческая психология и историческая
антропология, в значительной мере связанных с деятельностью фран-
цузской Школы «Анналов», достаточно подробно освещено в отече-
ственной литературе1. От изучения отдельных событий — к изучению
\ стойчивых, повторяющихся структур. От анализа устойчивых систем
- к пониманию природы социально-психологических колебаний, в ито-
н‘ — механизмов эволюции самого человека. Научный арсенал исследо-
г.ателей, стремящихся изучать человека не как абстрактное существо,
.1 как представителя конкретной страны и эпохи, интегрировал все пред-
49
шествующие накопления структурной антропологии, семиотики, син-
тетической истории искусств и культуры, социальной! психологии.
Первое поколение Школы «Анналов» — Марк Блок и Люсьен Февр —
в своих работах, ставших уже классическими, показали, как пересека-
ющееся, наслаивающееся действие множества осознаваемых и не-
осознаваемых факторов лежит в основе становления менталитета той или
иной эпохи. Эта ментальность, рассеянная всюду, обнаруживает себя как
«умственная оснастка» или «интеллектуальный инструментарий», объяс-
няющие устойчивость типов восприятия, миропонимания, переживания
людей в их конкретной жизненной практике.
Изучению исторической психологии, ориентированной на реконст-
рукцию психического склада людей прошлого, отводится здесь важ-
нейшая роль. Ведь именно интегративность психического склада соци-
альной группы, этноса вырабатывает особые ценностные ориентиры —
отношение к богатству, бедности, труду; к смерти, болезни, женщи-
не, браку; находит отражение в особой сексуальной морали и сексуаль-
ной практике.
Все частные измерения — демографические, экономические, соци-
ологические, художественные — демонстрируют известное несовпаде-
ние ритмов человеческой жизнедеятельсти. Это, однако, не отменяет
возможности возникновения «общего пространства встреч», устойчи-
вых ментальных представлений. «Подумать только, — восклицал Февр,
— у нас нет истории любви! Нет истории смерти. Нет ни истории жало-
сти, ни истории жестокости. Нет истории радости»2. В конкретно-исто-
рических состояниях исторической психологии можно и важно обнару-
живать особые «формулы» взаимодействия обычая и права, элитарной
и народной культуры, чувственности и аскезы, порождающих те или
иные стереотипы поведения людей, проведения ими досуга, действия
коллективных фобий и психозов. Эти стереотипы обнаруживают своеоб-
разие коллективного воображения, коллективной воли, памяти, пре-
творяются в социальной иерархии отдельных профессий, в формах уч-
тивости, ухаживания и брачного поведения.
В 1948 году французский ученый Иньяс Мейерсон в книге «Психоло-
гические функции и творения» продолжил разработку методологии это-
го направления. На богатом историческом материале ему удалось пока-
зать, что психика человека обнаруживает единство с порождаемыми
ею культурными продуктами. Человек исторический всегда в чем-то
объективирован: в произведениях литературы и искусства, в поступ-
ках, психических реакциях, формах трудовой деятельности, социальных
иерархиях и т.д. Следовательно, условием всестороннего изучения эво-
люции человека должен быть выход в широкий мир конкретной челове-
ческой деятельности’.
Масштабную картину того, как ментальные характеристики могут
вычитываться из хозяйственных отчетов, деловой переписки, стереоти-
пов бытового поведения, демографических данных, географических карт,
продемонстрировал Фернан Бродель". Препарируя материал, составля-
ющий «макроструктуру» эпохи. Бродель создал и обосновал учение о
трех ритмах исторического времени. Важнейшая заслуга ученого —
50
иле показать, как человеческая природа может быть реконструиро-
.<1 вне мер индивидуального человека, в длительной протяженности,
•г.ышающей судьбу и жизнь отдельного человека и поколения.
Таким образом, в 1950 — 1960-е гды французские исследователи
•ютную приблизились к разработке направления, которое можно
•значить, как историю ментальностей — воссозданию совокупнос-
авных и неявных установок мысли, пронизывающих всю деятель-
гь человека определенной среды; умонастроений, автоматизмов и
• г.ыков психики, разлитых в определенном времени и пространстве.
' юрическое исследование, тем самым, приобрело новые критерии
. •• >фессионализма: теперь наряду с традиционным «внешним» описани-
; феноменов прошлого, какими они видятся современникам, специ-
н.ные усилия направлялись на воссоздание типа человека прошлого,
конструкцию особых образов мира и общества, которые были укоре-
• ны в их сознании. Сколь ни казались бы разбросанными и несочетаю-
.ямися пристрастия, желания, фобии отдельной эпохи, в конечном
юте они стягиваются к единому центру — общественному человеку
юге времени, к «базовой» личности, которая формируется в зависи-
х'ти от типа культуры.
Психология «людей книги» и психология «людей зрелищ», религиоз-
•ю сознание теологическое и обыденное, взаимодействие «культуры
.раха», «культуры стыда» и «культуры вины» — эти и многие другие
.-.морения исторической психологии не есть хаотичное нагромождение
связанных вопросов. Поиск особого «силового поля» разных измерений
Iиного позволяет воссоздать траекторию историко-антропологической
|.олк)ции, дает возможность осмыслить любую частную историю (искус-
и;а, пауки, общества, религии) именно_как человеческую историю.
Подобное стремление реконструировать символический мир, окру-
жающий человека, диктовалось вовсе не желанием украсить истори-
< ские изыскания художественно-беллетристической образностью.
. 1<-торико-психологический анализ открывал принципиально новые пер-
нективы. В самом деле, главное отличие гуманитарного знания от ес-
- ственного в том, что его объект — человек — не инертная физичес-
ки частица или безгласное запрограммированное растение. В любую
•чоху человек проявляет свою деятельную, мыслящую, чувственную
\ гь, он — персонаж жизненной и исторической драмы. Следовательно,
t-торик не вправе отнестись к нему как к вещи — монологический
рпнцип здесь буксует; разглядывание прошлых эпох сквозь категории
.•временной мысли неизбежно искажает картину. Полноценное «сте-
• оскопическое» воссоздание минувшего возможно лишь в условиях
:’.алогической позиции, когда найден ключ, заставляющий заговорить
-ми ситочпики, когда полученные ответы разбивают все схемы, заго-
• •пленные заранее, и самостоятельно формируют содержательный лан-
нафт эпохи.
В этой связи труды Робера Мандру, Ле Гоффа, Андре Бюргьера,
• жданные в 50 — 70-е годы'1 вновь продемонстрировали продуктив-
нть научных методов психологической реконструкции, прошлого: лю-
i;i история создается людьми, не существует истории, которая раз-
51
!•.<•]) 11>i।'«।,’i»i<‘i» иы помимо человека, над ним. Следовательно, изучение
того, как менялась история восприятия мира, ориентация индивида и
группы, история систем рациональных приоритетов и неконтролируе-
мых порывов «ночного сознания» — все эти грани бытия не могут рас-
цениваться как факультативный довесок к «серьезной истории». Напро-
тив, все аспекты психологии людей, сопричастных историческим
событиям, выступают как важное смыслообразующее основание для
интерпретации этих событий.
Такие положения резко акцентировали активную роль самого ученого:
получалось, что существование архивов и библиотек само по себе еще
не есть свидетельство того, что объект исследования уже дан и оста-
лось лишь его препарировать. Ученый, вопрошающий прошлое, должен
уметь гибко изменить свой вопросник в зависимости от получаемых
ответов. Ушедшие культуры не могут оцениваться как «уснувшая дей-
ствительность», которая терпеливо ожидает приговора последующих
исследователей. Таким путем ученый как бы сам конструирует свои
объекты. Обнаружение и создание таких объектов и есть осуществление
подлинно исторического синтеза, результат интеллектуальной интуиции
и опыта ученого, который принимает в расчет «тысячи сложных причин»,
определяющих в итоге психические силуэты людей конкретной эпохи.
Аналогичная логика поисков спровоцировала близкие линии исследо-
вания в американской исторической науке. В США историческая психо-
логия получила название психоистории — направления содержательно
неоднородного, объединяющего таких ученых, как Э.Эриксон и Л.Димо-
уз, Б.Вольман и К.Кенистон6. Теории психосоциального развития Эрик-
сона, получившие всемирную известность в 1960-х годах, устанавлива-
ли сложные опосредованные связи между индивидуальным поведением,
характером и событиями социального окружения. Создав психологичес-
кие биографии М.Лютера, 3.Фрейда, А.Гитлера, М.Ганди, ученый вы-
работал концепцию существования восьми фаз жизненного цикла. Мен-
тальные установки как конгломерат глубинных бессознательных
ожиданий и социокультурных традиций в каждой пограничной фазе
человеческой жизни определяют новое русло ее «автономного» развития.
Работы Эриксона — пример того, как частная биография может быть
осмыслена с позиций более общей социальной и культурной истории.
Большой объем публикаций, немалое количество междисциплинар-
ных периодических изданий7 — свидетельство неподдельного интереса
англоязычных специалистов к социокультурному функционированию
психики, к стремлению выявить глубинные психологические парамет-
ры исторического процесса, и наоборот — обосновать «психогенные»
гипотезы средствами документального анализа.
Неустанные штудии историков самых разных областей показали,
как в итоге из «лоскутного» видения мировой истории может вырастать
картина ее противоречивого единства; на всех уровнях сознания чело-
века — от утонченных философских идей до непрорефлектированных
«темниц» подсознательного — историческая психология стремится об-
наружить тот базовый узел, который дает жизнь всем этим разнообраз-
ным движениям.
52
Подобная стереоскопичность исторических исследований характерна
и для ряда российских ученых. Методологические импульсы, излучае-
мые трудами С.С.Аверинцева, Л.М.Баткина, М.М.Бахтина, А.Я.Гуреви-
ча, Г.С.Кнабе. Ю.М.Лотмана и некоторых других8 демонстрируют воз-
можность достижения синтеза духовно-психологических интенций эпохи
как посредством скурпулезности и научной строгости, так и через ори-
(инальность и остроту проблематики, изящество формы. Впечатляю-
щие успехи, достигнутые отечественной историко-психологической
школой (ее содержательный смысл гораздо шире этого названия), сти-
мулировали рождение междисциплинарных подходов в истории искус-
ства, истории религии, политической истории.
Вместе с тем, современные изыскания в области исторической пси-
хологии не свободны от ряда общих трудностей. С одной стороны, пред-
ставители «частных» историй, отправляясь в путь, воодушевлялись идеей
претворения «общей методологии наук о человеке». Отсюда уже упоми-
навшийся интерес к тотальной («глобальной») истории, к большим исто-
рическим длительностям, демонстрирующим едва ощутимые сдвиги в
иерархии человеческих интересов, занятий, развлечений. С другой сто-
роны, достаточно большое число специалистов изучение всех проце-
дур анализа, понимания, восприятия ограничивало рамками отдель-
ных обществ. Со временем стал ощутим заметный крен от динамики в
сторону статики, от изучения проблем развития — к изучению про-
блем функционирования. Добровольное ограничение себя рамками «мик-
ромира» отдельной эпохи явилось реакцией на кризис философии исто-
рии, ответом на распрстранение вульгарных концепций линейного
исторического прогресса. Деятельность историков, склонных к диффе-
ренциации всемирного процесса на «краткое» историческое время, объяс-
нялась желанием сохранить критерии профессионализма и научной доб-
росовестности на малом историческом участке.
Однако, когда мы обращаемся к историческим сочинениям такого
рода, справедливо замечает А.Я.Гуревич, — «то легко убеждаемся в
том, что специалисты зачастую не затрудняют себя поисками объясне-
ния причин развития, — создается впечатление, что они им заранее
известны. Констатируя различия в структуре общества, зафиксирован-
ные в разные моменты истории, исследователь склонен объяснять при-
чины этих различий, исходя из общих представлений о ходе исто-
рического процесса»'1. Когда же эти представления даны не самим
материалом источников, то неизбежно превращаются в произвольные
объяснительные схемы.
Опасность перевеса «микроистории» над «макроистроией» грозит пе-
ревесом синхронии над диахронией, новым дроблением истории на ло-
кальную и региональную. Как следствие — возможность разрушения
столь заманчивой методологии «новой исторической науки»: построени-
ем панорамы развития человечества как рода, извлечения из. неповто-
римой самоценности культур «межэпохальных» эволюционирующих
смыслов. Вместе с тем сохраняющийся интерес новейших историков к
дискуссиям о том, как соотносится история ментальностей и истори-
ческая психология, как задача изучения истории картин мира связана с
53
разработкой идей исторической антропологии можно расценить как про-
должение реализации многообещающего стремления к историческому
синтезу, к воссозданию истории человечества в противоречивом един-
стве «краткого» и «длительного» исторического времени.
★ ★ *
Из всего вышесказанного вполне понятно, почему энтузиазм школы
«Анналов» и опыт исторической психологии в целом оказались столь
соблазнительными для историков искусства — изложенные подходы во
многом совпадали с внутренними установками наук об искусстве. Как
известно, разработка фундаментальных проблем атрибуции произведе-
ний искусства, стилевой принадлежности всегда базировалась на изу-
чении символики художественно-языкового словаря эпохи. Уже к кон-
цу XIX века появились специальные искусствоведческие школы,
утверждавшие, что язык искусства не может рассматриваться только
с точки зрения внутрихудожественных и технических проблем: приемы
художественного мышления крепко спаяны с самим способом бытия и
мироощущения человека разных эпох, особенностями его культурного
самосознания. Много сделала в этом отношении немецкая школа искус-
ствознания, представленная трудами таких ученых, как К.Фолль,
А.Гильдебранд, О.Вальцель, Б.Зейферт, К.Фосслер, В.Дибелиус, Г.Фрей-
таг, позже — Г.Вельфлин; широкое признание получили исследования
венской школы искусствознания — О.Бенеша и М.Дворжака10.
На материале разных художественных эпох эти ученые показали,
что в любых социокультурных ситуациях произведение искусства ока-
зывается сформированным влияниями как «изнутри», так и «снаружи»,
выступает носителем психологии групп и социальных слоев своего вре-
мени, способно опосредованно выражать эту психологию через компо-
зиционные приемы, разнообразие языковых выразительных средств,
тематические пристрастия и т.п. Более того, в каждом конкретном слу-
чае трудно указать на источник новых психологических ориентаций,
претворенных в данном произведении: не только картина мира и об-
щие ментальные установки, но и сама лабораторность художественно-
го процесса (феномен «творческой робинзонады») способен генериро-
вать и культивировать новые типы реакций, представлений, вкусов.
Таким образом, как это было показано немецкими и венскими учены-
ми, само искусство нередко способно выступать фактором сложения
новых психических структур и в этом его возможности безграничны11.
Захватывающим интересом отмечена и современная разработка этих
проблем на Западе. Наиболее авторитетные подходы, представленные
именами Э.Панофского. А.Хаузера, Г.Зедльмайра, Э.Гомбриха, благо-
даря их междисциплинарному характеру легли на уже возделанную
почву. Удачный синтез истории искусства с культурологией, истори-
ческой психологией, антропологией позволил объяснить столь сложные
проблемы как истоки возникновения устойчивых типов художественно-
го мышления в разных видах искусств одновремено; единые компози-
54
цпонные приемы в художественных произведениях обществ, никогда
не вступавших в прямое взаимодействие и др. Было обнаружено мно-
жество «капилляров» как прямого, так и обратного влияния между пси-
хическим складом этноса и процессом формообразования в искусстве.
Традиции иконологического анализа искусства, восходящего к А.Вар-
бургу и Э.Кассиреру12, были существенно обогащены Э.Панофским,
выявившим тонкие формы взаимопереходов «имманентного» и духовно-
психологического смыслов художественного явления. Разные уровни
произведения искусства, взятые в их синтезе, демонстрируют право-
мерность толкования художественных фактов как «символических форм
цивилизации». Близкие идеи стимулировали поиски А.Хаузера, кото-
рый в двух своих наиболее известных работах «Социальная история
искусств» (1951) и «Философия истории искусств» (1956) стремился раз-
работать новое понимание художественного произведения как «зашиф-
рованного» единства текстуальной и социально-психологической тради-
ций. Очевидная иерархичность смысловых структур произведения, по
мысли Хаузера, есть отражение столь же многомерного взаимодей-
ствия в менталитете психологического, художественно-стилистического
и социологического.
Новейшая картина синтеза искусствоведческих, психологических и
эстетических подходов столь выразительна, что порой становится трудно
определить — где мы сталкиваемся со структурированием художествен-
но-ментальных тенденций со стороны эстетиков, как в случае с Т.Ман-
ро и Д.Каррьером13, а где наблюдаем стремление к генерализации сво-
ей проблематики музыковедов, искусствоведов, литературоведов14.
Важная отличительная черта подобных подходов — серьезное внима-
ние к диахронии, стремление избежать ошибок предшественников,
преодолеть поверхностный синтез («синтез переплетчика»), находить
приемы культурно-психологического понимания, исходя из глубокой
верности историко-художественному материалу. Наиболее удачные ис-
следования этого ряда по истории образного строя и языка изобрази-
тельного, музыкального искусства, литературы построены таким обра-
зом, что собственно историко-психологические мотивы не привносятся
извне, а раскрываются как неотъемлемая внутренняя сторона эволю-
ционирующего художественного процесса15.
Опыт междисциплинарного подхода к изучению истории искусств в
Западной Европе и США заметно стимулирует творческое беспокой-
ство современных отечественных исследователей. Нельзя не отметить в
этой связи, что еще в 20-е годы в научных кругах Ленинграда и Мос-
квы активно разрабатывались идеи параллелизма психической деятель-
ности и художественного творчества. Труды Тынянова, Шкловского,
Эйхенбаума и Жирмунского1”, во многом базировавшиеся на теорети-
ческом наследии А.Веселовского и А.Потебни, сделали изучение пси-
хологических корней сюжетообразования, принципов художественной
эволюции предметом общего интереса филологов, искусствоведов, эс-
тетиков.
Механизмы художественной «абсорбции» культурно-психологического
и, с другой стороны, эвристические способности художественное» во-
65
ображения. обогащающие сферу психологических переживаний соб-
ственным взносом, лежали в основании оригинальных концепций II.Со-
кулина, П.Шмидта, типологии синтетической истории искусств
И.Иоффе1'. В истории искусств действовали не сами по себе готовые
художественные формы, а более или менее послушные им люди. Вне
этих форм они были бы безъязыкими и бессловесными. Наиболее чут-
кие историки изобразительного искусства, музыки, театра, литерату-
ры всегда в своих исследованиях осознанно или неосознанно «восходи-
ли» к культурно-психологическому уровню, выявляя если не тип человека
соответствующей художественной эпохи, то черты и своеобразие это-
го типа.
Сам по себе образный строй искусства, тематически-содержатель-
ная направленность, способ художественного выражения сопряжен с
глубоко человеческим измерением: ни один из параметров искусства не
бывает человечески бесстрастным, обнаруживает возможности воспри-
ятия, мышления, оценки конкретного человека в истории. В каких ху-
дожественных параметрах прочитываются психологические состояния
эпохи? Имеется большое количество работ, когда в одних случаях ис-
следователь уделяет главное внимание стилевым характеристикам, в
других — сосредоточен на культурно-психологической природе компо-
зиции, в третьих — воссоздает типы мироощущения через изучение
типологии художественной целостности и т.д. Главной трудностью при
сопоставлении таких многомерных анализов является учет качествен-
ной совокупности признаков, на основе которых производится «сече-
ние» художественного процесса.
Многообразие исследовательских «оптик» заставляет искать возмож-
ность общего пространства встреч разных научных подходов. Кроме того,
всегда следует учитывать, что магистральная линия художественного
процесса реализуется в рамках не только одной школы, стиля, направ-
ления; в сложении этой магистральной линии участвуют все типы худо-
жественных культур, школ и стилей данной эпохи. Множество не согла-
сующихся, оппозиционных художественных явлений затрудняет
обнаружение общей «формулы» доминирующих психологических харак-
теристик эпохи, при первом взгляде нередко приводит в замешательство.
Возьмем, к примеру, Ренессанс как художественный стиль. Обще-
признанные характеристики этого искусства — близость к природе,
отражение всего богатства чувственного опыта, раскрепощенность по-
мыслов человека, ощутившего в себе масштаб и цель всего существу-
ющего, пожалуй, более всего, свойственны изобразительному искус-
ству (Донателло, Верроккьо, Леонардо да Винчи, Боттичелли,
Микеланджело) и, отчасти, литературе (в XIV столетии новая италь-
янская литература мощно насаждает национальный общедоступный ли-
тературный язык). В это же время совершенно иные тенденции доми-
нируют в музыкальном искусстве: ведущим музыкальным жанром эпохи
Ренессанса остается полифоническая месса с ее возможностями выра-
жения отвлеченной, возвышенной христианской мысли. Конечно, име-
лись музыкальные формы, складывавшиеся в это время в светской
городской среде (баллады, мадригалы, канцоны, лютневые песни), од-
56
'мио они были скорее боковой, чем столбовой дорогой профессиональ-
ном музыки эпохи Возрождения.
В этой связи сохраняет актуальность выдвинутая в свое время О.Валь-
т’лем теория, согласно которой национальные художественные языки
одной и той же эпохи могут принадлежать к совершенно иным куль-
1 срно-психологическим слоям. Отсюда часто встречающиеся препят-
< твия в социально-психологическом взаимопонимании культур одного
временного этапа. Так, например, немецкий язык XVI столетия, язык
Потера, не обладал еще теми средствами, какими обладал Шекспир в
Англии. По рафинированности духовно-психологического содержания
>п никак не был соизмерим с придворным языком времен королевы
Елизаветы. Детальный анализ дальнейших сдвигов в диапазоне худо-
лсественно-языковой выразительности показал, что «немцам понадоби-
лось свыше двухсот лет, чтобы волне достигнуть степени выразитель-
ности, необходимой для созвучного перевода Шекспира на немецкий
язык»18. Причины, порождающие этот сдвиг, всякий раз оказываются
двойственны: коренятся не только внутри художественного опыта, но
н в более широких процессах социальной психологии.
Если же устраниться от этих звуков «подземного гула» глобальной
истории, исследовательская оптика легко меняется, приводя к диск-
ретному взгляду на художественный процесс. Зачастую пособия по ис-
юрии изобразительного, музыкального искусства, литературы отлича-
ются таким «прерывным» взглядом на свой предмет как сумму эпох,
। [(‘известно как сочетающихся между собой в общей историко-культур-
ной панораме. Весь материал художественных фактов группируется,
гак правило, хронологически или же замыкается рамками отдельных
регионов. Исследователь добросовестно описывает необходимый массив
произведений искусства, традиции, цеховой опыт, опосредованное воз-
действие картины мира на приемы восприятия и мышления и т.д. Вме-
сте с тем, как только вопрос перемещается со статики на динамику —
как и почему из случайных экспериментов авторского своеволия скла-
дывается новый стиль, почему, казалось бы, эпатирующие художе-
ственные приемы вдруг приобретают надличностный характер,
превращаются в норму — специалист нередко прибегает к чисто меха-
нической связке. Завершение власти одной художественной эпохи и
воцарение другой зачастую объясняется способом, который Бахтин (ана-
лизируя приемы сюжетообразования в возрожденческой новелле), оп-
ределил как «инициативную случайность». Подобные объяснитель-
ные схемы широко известны: «а в это же самое время...», «вдруг на
привычном фоне», «именно в этот момент возникает фигура...» и т.п. Как
н в иных вышеописанных случаях, здесь проявляет себя установка ис-
: ориков искусства и культуры (нередко обоснованная, как мы стреми-
1ись показать) оставаться философобами.
Вместе с тем анализ механизмов «стыковки» эпох, воскрешения и
рансляции старых смыслов, наслоения традиционных и новейших ху-
южественных практик невозможен, если исследователь не чувствует,
। го за историей искусств всегда разворачиватеся более масштабная
ч горня самого человека. Именно конкретно-историческая природа че-
57
ловека. своеобразие его психики и сознания и есть тот «узел». гдй
смыкаются все движения художественной, социальной, культурной
жизни эпохи.
Таким образом, линейный принцип построения истории искусств —
от шедевров одной эпохи — к шедеврам другой — не только устраняет!
ся от анализа причин и факторов, «ответственных» за историко-худо
жественную динамику, но и стоит препятствием на пути пониманий
сложнейших состояний психики, которые переживал человек в пере^
ходные эпохи. Как было показано в свое время Тыняновым, всякой
победившее художественное направление уже в момент своей победь
не выступает в качестве доминанты эпохи. Победивший стиль не впол-
не репрезентативен для понимания духовно-психологического состоя^
ния эпохи, ведь за его спиной стоят новые «заговорщики». Противоре^
чивое единство художественного процесса складывается из живоп
переплетения конца и начала, итога и перспективы. Художественно^
движение в эпохе, таким образом, создается не фактом победы како'<
го-либо направления, а самим процессом борьбы, натяжения, отража-
ющем столь же непрямые мутации самого человека и его творчества. I
силу этого можно придти к парадоксальному — но только на первы!
взгляд — выводу: шедевры одной эпохи восходят своими корнями не 1
шедеврам другой эпохи, а к тому, что не осуществилось. Традицион
ные принципы написания истории искусств, отсюда, оказываются, ка1
правило, излишне линейными.
В единой ткани ведущего художественного направления всегда можн!
обнаружить ее «самораспускающуюся бахрому», иначе — лес и подле
сок. Из случайного, необязательного, факультативного одних эпох впос
ледствии складываются ведущие художественные школы других, от
ражающие, помимо прочего, и новые модусы ее психических состояние
Углубляясь в анализ механизмов взаимодействия художественного
и психологического, нельзя не отметить и еще одну чрезвычайно важ
ную трудность. Множество исторических эпизодов демонстрируют ка]
тенденции художественного творчества и эволюция психики развива
ются не параллельно, а как бы опровергая друг друга. Особенно эт1
расхождения между историей художественной и историей психологи
ческой характерны для так называемых переходных эпох. Здесь прояв
ляется интересный и мало исследованный механизм — способность :
автономному развитию как художественного, так и психологического.
Игровая сторона творческого акта сплошь и рядом претворяется
панораме экспериментальных, поисковых результатов, во вмогом про
воцируется внутренней логикой развития художественного языка, сум
мой цехового опыта, потребностью достижения контраста по отноше
нию к традиции и т.д. Еще Вельфлин обратил внимание на этот фак
«самодвиженпя> искусства в ситуации, когда художественные накопле
ния человечества оказываются достаточно основательными. По его мне
нию, уже начиная с XVII века, скажем, воздействие картины на кар
тину в качестве фактора сложения стиля становится не мене
значительным стимулом, чем адаптация мироощущения окружающе
действительности.
58
Подобное самодвижение характерно и для психического развития,
:алеко не ограниченного только функцией адаптивности. Во многих
• лучаях инстинкт «разведки» психики преобладает над инстинктом са-
мосохранения. В результате таких «психических мутаций» рождаются
формы реакций и типы поведения, которые «схватываются» и прочиты-
ваются художественным свидетельством эпохи как «необоснованные»,
остаются для нее факультативным материалом. Нет нужды говорить
«•коль подобные примеры автономного развития затрудняют исследова-
ние параллелизма психологического и художественного.
Особую сложность представляет необычайное ускорение ротации
форм художественного творчества, наблюдаемое с начала XX столе-
тия по сегодняшний день. Нарастание мозаичности, наслаивание раз-
нородных художественных практик может легко дезориентировать ис-
следователя, заставить его отказаться от поиска репрезентативных, с
точки зрения социальной психологии, конструктивных художественных
принципов. Кажущаяся «одновременность исторического», ощущение
связи всего со всем несет в себе искус мыслить XX век как «свалку
ментальностей», перечеркивающую любые траектории исторической
психологии и антропологии. Тревожное предостережение в этой связи
высказывал А.Бюргьер, замечая, что «велик соблазн идентифициро-
вать историческую действительность с суммой дискурсов, в которых
эта действительность дана нам и полагать, что историческое познание
есть не что иное, как история представлений»19.
Словом, на пути изучения форм взаимовлияния исторической пси-
хологии и истории искусств — еще множество нерешенных проблем.
ГТх методологические и социальные ракурсы не раз еще будут стано-
виться предметом коллективных и индивидуальных исследований.
Глава 6.Психологический фактор
в истории искусства
Долгое время сама идея психической эволюции человека была окру-
жена разного рода сомнениями; накопленный к настоящему времени
исследовательский опыт, несмотря на его высокий уровень, отмечен
фрагментарностью, несистематичностью. Чаще всего вопросы истори-
ческого развития психики рассматривались в связи с решением более
общих исследовательских задач. Заметным в этом направлении стал ряд
положений, выдвинутых в трудах А.Р.Лурия, Л.С.Выготского,
С.Л.Рубинштейна, М.Г.Ярошевского, В.В.Брушлинского, К.А.Абульха-
новой-Славской, Л.И.Анциферовой, А. Н.Леонтьева, Б.Ф.Поршнева,
Н.В.Симонова, П.Тульвисте и других1.
Подобная же участь постигла ту линию искусствознания, которая
стремилась раскрыть определенные аналоги во взаимодействии психо-
логической деятельности и художественного творчества. Труды Б.Эй-
хенбаума, В.М.Жирмунского, Ю.Н.Тынянова, В.Б.Шкловского положи-
ли начало междисциплинарному изучению истории искусства и
литературы, объединяющему методы исторической культурологии, ис-
кусствоведения, психологии, социологии, философии2. Затем эта тра-
диция была прервана, не успев окрепнуть. Позже в отдельных работах
делались попытки обнаружить некоторые психологические корни сю-
жетообразования, народного творчества3. Трудно представить, что та-
кая центральная для истории культуры проблема на много десятилетий
выпала из словаря нашей науки.
Как известно, искусство любой эпохи — это неповторимый способ
взаимодействия «практических» и теоретических» форм социальной па-
мяти, мифологических и научных представлений, сознательного и бес-
сознательного. Такая многосоставность искусства есть не что иное как
отражение всех структур исторической психологии человека с особыми
формами «сцепления» рационального и безотчетною, архетипического
и новаторского.
Кристаллизация в творениях искусства множества невербализуемых
моментов психики человека позволяет рассматривать художественные
произведения как уникальные «психологические затвердения», выпол-
няющие особую миссию среди иных культурных образований. В опоре
на материал искусства становится возможной разработка проблемы,
важность которой не раз подчеркивалась специалистами: не отожде-
ствление культурного процесса с развитием лишь его рациональных
аспектов, а выявление взаимодействующих с ним «бессознательных»
сторон социокультурной истории. Вполне объяснимым становится в этой
связи интерес психологов к художественным источникам. Сохранилась
60
•!<’большая ранняя работа Д.Н.Узнадзе, позволяющая оценить внимание
•. нового к этой проблеме4.
Таким образом, человеческая психика и отражающее ее художе-
। венное творчество выступают как явления рядоположенные, взаимо-
। и'реходящие, когда каждое из них может выступать как объектом, так
и субъектом другого. Конечно, психологический фактор — не един-
। гвенный. стимулирующий эволюцию искусства; традиционными сфе-
рами заимствования выступает философия, религия, наука и т.п. Тем
не менее психологическое измерение художественного, как и художе-
। твенное измерение психологического способно пролить свет на важ-
нейшие этапы в истории человека, характер его восприятия и мышле-
ния, формообразования в культуре.
Как подступиться к выявлению закономерностей в таких необозри-
мых сферах как историческая психология и история искусства? Одна
из существенных трудностей, встающих на этом пути — укоренившая-
ся в науке традиция представлять историю искусства как историю ше-
девров, классических творений, ставших вехами в духовной истории
человечества.
В данном случае такой подход оказывается неприемлемым. Ведь ху-
дожественная жизнь общества не состоит из одних лишь вершинных
достижений: сфера искусства гибко реагирует на запросы и вкусы всех
социальных слоев, на самые разнообразные побуждения человека и
потому в достатке поставляет произведения, призванные удовлетво-
рить многочисленные потребности обыденного сознания, насытить ху-
дожественными формами область быта, досуга, развлечения, праздни-
ка и т.д. С обслуживанием такого рода потребностей, зависящих от
сменяющих друг друга этнических стереотипов поведения, традиций
образа жизни и деятельности связана вторая, не менее важная для нас
линия в истории художественной культуры.
Если в первом случае среди произведений искусства, входящих в
золотой фонд» культуры, мы можем вскрыть известную ценностную
преемственность, определенный вектор в движении приоритетов чело-
веческой духовности, то во втором случае такая преемственность от-
сутствует. Перед нами открываются как бы разрозненные страницы
функционального использования искусства: оно гибко откликается на
доминирование и смену общественных настроений, поддерживает тра-
диционные социально-психологические установки, привычную симво-
лику, обеспечивает воспроизводство стереотипов общественной и ин-
дивидуальной жизни.
И одна, и другая ветви искусства в реальной жизни сосуществуют в
неразрывном пересечении, составляя единый художественный процесс.
Гюлее того, вторая линия искусства, отражающая совокупность по-
вседневных потребностей человеческого бытия, зачастую выступает той
особой территорией, вне которой оказывается невозможным рождение
шедевров культуры. Как верно заметил С.С.Аверинцев, «есть целый
ряд бесславных, с нашей точки зрения, событий литературного про-
цесса. без которых вершинные результаты были бы немыслимы или
оыли иными»’. К тому же было бы ошибкой видеть в знаменитых произ-
61
ведениях эпохи знак ее психологического, духовного состояния. В це-
лом ряде случаев большие и новаторские произведения возникали в
русле оппозиционных процессов.
В контексте сказаиного встает вопрос о психологической атрибуции
так называемых «бесславных» событий художественного процесса. Яв-
ляются ли они неизбежным суррогатом, подготовительно-черновым ма-
териалом для «высокого» творчества? Можно ли отнестись к произведе-
ниям, смытым новыми волнами художественной жизни как к ошибке
истории, непродуктивным случаям художественной практики? Или же
предстающий перед исследователем зигзагообразный, противоречивый
художественный процесс есть своего рода закономерность, отражаю-
щая непрямые пути становления человеческой психики и сознания в
истории, демонстрирующая тщетность однозначной дифференциации
человеческих потребностей в аспекте «культурного» и «некультурного».
Если оценивать художественное произведение не только с точки
зрения сугубо эстетических критериев — новизны языка, оригинально-
сти формы, авторской манеры, — но и попытаться увидеть в нем фено-
мен социальной психологии своего времени, ничто в таком случае в
истории художественного процесса не оказывается случайным или ма-
лозначительным. Исследование нашей проблемы требует понимания
важного методологического принципа: вся совокупность проявлений
человеческой духовности — от особенностей восприятия и мышления
до характеристики интимных чувств — отражается не в одной магист-
ральной линии искусства, а во всем противоречивом массиве «высоко-
го» и «низкого», где усложняющейся внутренней жизни соответствуют
изменяющиеся системы жанров искусства.
И, пожалуй, главное замечание. Что нового открывается при сопос-
тавлении психологического и художественного рядов в истории куль-
туры? Итоги исследования были бы вееьмсГ скромны, если бы в его
результате мы указали лишь на некоторые соответствия, обнаружили
определенные параллели в ценностных ориентирах психики и искусст-
ва. Думая об актуальности намеченных задач, мы исходим из того, что
ни одна из этих сфер — ни область исторической психологии, ни об-
ласть искусства, несмотря на свою многосоставпость, не способна оха-
рактеризовать человека целиком. Каждая из этих автономных сфер
ухватывает какой-то срез, отражая сущность и формы человеческого
существования. Построение замкнутого психологического ряда, вклю-
чающего описание этапов познавательного развития, мотивации пове-
дения, круга потребностей (история нравов, обычаев, развлечений) столь
же обречено на неполноту в характеристике человека исторического,
сколь и воссоздание самостоятельной панорамы художественного про-
цесса.
Достаточно сказать, что в истории культуры социально-психологи-
ческий заказ далеко не всегда сопрягается с внутрихудожественной
логикой развития. Одно это уже свидетельствует о своеобразии пред-
метов этих областей!, о том, что ни искусство, пи историческая психо-
логия не обладают особой монополией на отражение всего содеожа-
тельного комплекса внутренней жизни человека.
62
Гем ценнее и показательнее для нас исторические периоды, когда
пересечении этих сфер обнаруживаются безусловные, органичес-
• * слияния. В подобном случае перед нами — своеобразная культур-
психологическая доминанта, нечто особо значимое для человека.
" потребовало своего выражения сразу в нескольких культурных
• рмах. Когда одни и те же потребности, установки, эмоции захваты-
• ют возможно большее пространство человеческого существования.
• • свидетельствует, что мы имеем дело с далеко не случайными со-
11 иями в духовной биографии человека.
В выявлении содержательных смыслов подобных исторических эпи-
цов. в поисках сквозь психологический и художественный ряды об-
шх культурных закономерностей и состоит основная проблема. Наме-
• •нный подход способен, на наш взгляд, пролить свет па неслучайность
яда этапов, которые прошел человек, реализующий себя в самобыт-
i.ix культурно-художественных формах.
Взаимодействие исторической психологии и искусства
Разумеется, ни художественная, ни психологическая сферы не ра-
1 воряются друг в друге. Бесспорным является утвердившийся в эсте-
. пке взгляд на искусство не только как на специфическое воспроизве-
д-пие действительности, но и как на уникальную форму самовыражения
и'ловека, специфичную в законах собственной лексики и саморазвития.
* пособ художественной организации звуков, линий, движения несет в
»‘бе большой гедонистический и эвристический потенциал, обладает
-невидной самостоятельной ценностью.
Вместе с тем любое произведение искусства существует не только
как материальная целостность, но и открыто к «распредмечиванию»
• овременниками и последующими поколениями. В исторической эволю-
ции искусства можно регистрировать массу разнообразных характери-
• 1ик. Все меняющиеся параметры искусства являются знаком не
юлько внутрихудожественной эволюции, но и зеркалом перемен, про-
исходящих в самом человеке, его самочувствии и самопознании. Речь,
..1ким образом, не идет о редукционизме: художественное в своей це-
юстности несводимо к нехудожественному. И вместе с тем нельзя иг-
норировать того, что особые исторические состояния человека по-сво-
- му отразились в развитии языка и образного строя искусства, в
। риоритетном развитии его видов и жанров, во взаимодействии вечно-
• | и преходящего в искусстве и многом другом*’.
По этой причине любые подвижные характеристики искусства в
о местных пределах могут выступать источником реконструкции эволю-
шонирующих психологических структур внутреннего мира человека.
Сложнее обстоит дело с выявлением и дифференциацией психоло-
ических факторов, обладающих способностью вторгаться в художе-
1 венный процесс и определять его судьбы. Из чего складываются сами
снятия — психологические структуры, психологические факторы?
:м‘дь было бы неоправданно узким сводить психические явления толь-
63
ко к совокупности настроений, эмоций, установок и т.п. Психика любо-!
го индивида носит интегративный характер и нет никаких оснований,
как это еще встречается, выводить за ее скобки развитие рациональ-1
ных представлений, общих закономерностей сознания и мышления. |
Многоаспектность психической сферы делает ее очень близкой поня-
тию духовности — также комплексному и многосоставному.
Содержание психических структур, олицетворяющих внутренний!
мир «я», — это целостный духовный комплекс, субъективная реаль-,
ность, выражающая себя через деятельность, потребности человека во!
множестве мыслительных и эмоциональных, осознанных и неосознан-
ных форм.
Такое интегративное, широкое содержание психического обуслов-,
ливает и соответствующую неоднозначность в его воздействии на худо-’
жественный процесс. Исследователь, стремящийся к воссозданию цело-;
стного психического облика человека определенной эпохи сталкивается,!
по меньшей мере, с двумя препятствиями. С одной стороны, октрыва-
ются несомненные параллели между господствующей парадигмой куль-
туры и способами мышления, восприятия, бытующими в этот период.1
Очень точно неизбежность такого влияния подметил А.Швейцер: «Кант
и Гегель властвовали над умами миллионов людей, которые за всю жизнь
не прочли ни одной строчки их сочинений и даже не подозревали, что
повинуются им»7.
Складывающийся в сознании людей наиболее общий взгляд на ми-
ровой порядок, господствующую картину мира оказывал заметное воз-
действие и на деятельность функциональных психических систем: раз-
витие инструментальных навыков, закономерности мыслительной
работы и т.д.
С другой стороны, исторически конкретное психическое своеобра-
зие человека имеет своим источником его положение в мире, воздей-
ствие ближайшего окружения, всегда пропитанного сложными сочета-
ниями этнических традиций, религиозных обычаев, социальных норм и
т.п. Эта сфера, формирующая устойчивые формы поведения, эмоцио-
нальные характеристики социальных групп — особый источник, позво-
ляющий понять возникновение комплекса доминирующих потребностей
и мотиваций. Особый характер факторов, образующих эту линию воз-
действия на формирование исторической психологии, побуждает неко-
торых специалистов классифицировать такого рода исследование как
сферу компетенции общественно-исторических дисциплин, а не соб-
ственно психологии8.
Таким образом, несмотря на то что философско-мировоззренческие
и специфически этнические, социальные влияния формируют психику
человека одновременно, в исследовательских целях их можно разде-
лять как два относительно самостоятельных русла. Условно говоря, их
можно обозначить как. с одной стороны, кулг>турно-пси:гологическое,
а с другой — как социально-пси дологическое влияния, формирующие
психику человека в истории. Такая дифференциация соответствует при-
нятому в психологии разделению сфер духовного бытия личности на
познавательную и мотивационную.
64
Нельзя не заметить, что и научная литература, исследующая раз-
। очные срезы становления психики человека в истории, соответствен-
но распадается на два больших направления. К первому примыкают
публикации, анализирующие эволюционные процессы в восприятии и
мышлении, общие для тех или иных стадий развития человека (в фи-
югенезе и онтогенезе)9; ко второму — труды, выявляющие роль обыч-
ных, «земных» влияний в формировании стереотипов поведения, круга
потребностей и т.д.10.
По мере того, как мы углубляемся в анализ конкретного материала,
г.се больше дают о себе знать скрытые рифы проблемы. Главные из
них говорят о том, что знания общих факторов, составляющих воз-
можные линии взаимовлияния исторической психологии и искусства
оце недостаточно. Как правило, прямого перетекания художественных
характеристик в психологические и, наоборот, в истории культуры по-
чти не происходит. Препятствием во взаимопроникновении психологи-
ческой и художественной сфер часто выступает художественный эти-
кет, система навязанных автору эстетических канонов; препятствием,
наконец, может служить особое видение мира художником, его крите-
рии художественности и вкус, часто опережающие распространенные
стандарты. Рассмотрим подобные отношения, складывающиеся в раз-
ных культурных общностях, подробнее.
Обратимся,например, к древнерусскому искусству. Если мы попыта-
емся реконструировать состав психической жизни человека XI — XIII
кеков по материалам летописей, то сразу столкнемся с очевидным пре-
пятствием: история для летописца не имеет «второго» плана — скрытой
психологической или даже просто экономической подоплеки. В данном
случае литературный ряд и ряд психологический, казалось бы, абсо-
лютно разобщены, не совмещаются. Образы князей в летописях не
знают душевной борьбы, внутренних переживаний, того, что можно
было бы назвать содержанием психической жизни. Мы легко заметим,
что характеристики князей сотканы не столько из психологических,
сколько их политических понятий. Не будет преувеличением сказать,
что и само понятие характера как представления об индивидуальной и
неповторимой психологии в этот момент отсутствует.
В принципах изображения человека литература XI — XIII веков очень
близка изобразительному искусству. Трактовка персонажей в одном и
другом видах творчества диктовалась теми особыми целями, которые
ставил перед собой жанр проповеднических и житийных произведений.
Максимум обобщения и минимум жизненно наблюдаемых деталей —
зтот стиль, мало что повествующий нам о реальных психических со-
стояниях, получил название «монументального историзма»11.
Следует ли на основании этого делать вывод о скудности психиче-
ской жизни наших предшественников? Полагаем, было бы ошибкой
наивно-реалистически отнестись к сохранившимся литературным про-
изведениям. Важно различать реальный процесс становления психо-
юго-исторических представлений, характеров и умения «носителей»
стих характеров познать и адекватно воплотить свое содержание в ис-
кусстве.
65
Психологический опыт людей! Xi — ХШ веков был гораздо богаче,
чем он представлен в литературе и искусстве того времени. «Не следу-
ет думать, — пишет Д.С.Лихачев, — что древнерусский автор XI —
ХШ веков потому только не изображал в летописи’психологию людей,
их внутреннюю жизнь, что он не знал этой психологии, не видел этой
внутренней жизни или «не умел» их изобразить. Литературное разви-
тие в этом случае могло бы быть представлено в виде своеобразного
«овладения мастерством», нарастания техники литературного дела или
в виде одного только однообразного накопления познавательных от-
крытий. Предполагать так — значило бы до крайности упрощать про-
блему литературного развития, да и самого литературного творчества
в целом»12.
Политические события этого периода свидетельствуют о том, что
князья явно считались с психологией своих противников, союзников и
людских масс — возьмем хотя бы летописные описания их переговоров
или ораторскую прозу. Но этот психологический опыт не входил впря-
мую в сюжетную ткань искусства потому, что этого не требовали те
задачи, которые ставили перед собой художник и летописец.
Человеческий характер, таким образом, выступает в творениях древ-
нерусского искусства XI — ХШ веков двояко: с внешней стороны, т.е. в
авторской системе, каким его хотели представить; и, одновременно, в
скрытом, неявном виде, как мы сами можем его реконструировать кос-
венно: по сообщаемым в летописи фактам, через отдельные детали,
композицию и т.п. Различая этот схематизирующий метод древнерус-
ской литературы и реальное многообразие жизни, В.О.Ключевский так
оценил известный юридический памятник этого времени: «Русская Прав-
да — хорошее, но разбитое зеркало русского права XI—XII веков»11.
Задача, поэтому, заключается в том, чтобы суметь, интерпретируя
эти «осколки» на данном культурном фоне с его житейскими ситуация-
ми, полемиками, злобой дня воссоздать психологические силуэты дей-
ствующих людей.
Решению этой задачи особенно помогает литературоведческий (либо
искусствоведческий) анализ текстов, который можно применить не толь-
ко к анализу не только художественных, но и исторических, полити-
ческих, юридических текстов. Такой подход позволяет за образом уви-
деть прообраз, за деталью — целое, за намеком — тенденцию; через
авторскую интонацию, сопоставление фактов выявить подстрочные
смыслы обкатанных формул, неявные мотивы и т.д.
Кроме того, большие резервы в себе таит возможность воссоздания
облика читателя, зрителя, на которого рассчитано данное произведе-
ние и для которого оно имело бы животрепещущий интерес. Этот при-
ем реконструкции психологических черт со своей стороны позволил бы
дополнить представление о конкретном культурно-историческом типе
человека определенной эпохи, ощутить его как живое лицо. Ведь не-
редко безымянный летописец или автор исторической повести откло-
нялся от заданных ему стандартов — то отдавал дань своим личным
вкусам, то испытывал на себе воздействие мотивов народного творче-
ства. Оценка субъективного авторского момента, аналогичных отступ-
66
от принятого стандарта в других произведениях способны при-
•изить нас к реконструкции определенного исторического типа чело-
ка. у которого автор ищет понимания.
Показательно, что не только искусствоведы, но и сами историки
ргвнерусской культуры избирают этот путь, позволяющий почти сквозь
|.|зетную» хронику проникнуть вглубь истинных интересов и страстей.
этом отношении выделяется исследование самых разных древнерус-
i.iix памятников Б. А. Романова14, проведенное с широким использова-
.н‘М литературоведческих приемов, позволяющих заштриховать су-
н'ствующие доселе пустоты в представлениях о психологических
роцессах эпохи.
Для того чтобы регистрировать отдельные стороны исторической
гпхологии как неслучайное и распространенное явление необходимо
мблюдать их на протяжении большой исторической! длительности. В
•< кусстве единый конструктивный принцип наиболее осязаемо выра-
•.ается в понятии стиля. Романика, готика, барокко, классицизм — каж-
Ы11 из этих стилей есть знак не только особого эмоционально-образно-
> строя, но и целостной мировоззренческой программы.
Возможность художественного процесса культивировать и в массо-
1 i.iх масштабах производить найденный им конструктивный принцип
энаруживает его как могущественную силу, способную нередко ме-
чать свои культурные функции — перерастать из результата психи-
ческого склада нации в причину, формирующую этот склад.
Закономерность, которая здесь действует, едина как для историчес-
। ой психологии, так и для истории искусства. Всякое развитие есть
- -щиство изменчивости и устойчивости при ведущей роли изменчивос-
111 Вехами в этом бесконечном процессе'являются исторические пери-
оды, на протяжении которых культура отрабатывала каждый раз но-
11.ie стереотипы, удовлетворяющие своей формой и содержанием данной
исторической секунде.
Однажды обретенная формула, парадигма, обладая животворной
илой, всегда стремится расшириться, распространиться на возможно
- п.чее широкие области и тем самым продлить свое существование
1< ).Н.Тынянов в свое время назвал это «империализмом» конструктив-
н)го принципа). Побеждая, каждое художественное направление пре-
ращается из революционного в мирно властвующее, обрастает эпиго-
лми и начинает вырождаться. Господствующее направление в искусстве
силу этого никогда не исчерпывает собой эпоху и, взятое изолиро-
вано, характеризует собой не столько состояние искусства, сколько
кусы и ориентации публики. Последним, однако, свойственна сильная
порция и было бы несправедливо винить в этом только читателей и
1 > отелей.
Система социальных институтов всегда заинтересована в том, чтобы
. юдлить жизнь действующих стереотипов в общественной психологии
общественном сознании. Действие стереотипов поддерживает состоя-
it социального консенсуса, однажды закрепленный баланс. Кроме того,
. на культура в определенной мере заинтересована в стереотипном
иуктурпровавии духовной жизни — ведь любой акт познания, люоой
67
процесс адаптации новых организмов в данной культуре начинается с
усвоения общепринятого, распространенного, рутинного.
Установившийся и повторяющийся алгоритм жизни созвучен и при-
роде психических структур: воспроизводство знакомого требует мень-
шего напряжения, чем освоение непривычных мыслительных ходов,
изменения повседневных ориентиров. Таким образом, если поначалу
психическое своеобразие исторического индивида вызывает к жизни
определенную форму художественного продукта, то затем, многократ-
но транслируясь, данная форма сама оказывает воздействие как на
других индивидов, так и на самого творца.
Эта способность обратного влияния присуща в принципе всем про-
дуктам культуры: ведь в них запечатлен и передается способ ориента-
ции человека в окружающей среде, способ общения, восприятия, пове-
дения. Обращая внимание на эту активную сторону продуктов культуры,
Л.И.Анциферова вскрывает ее механизм: «Усваивая способы обраще-
ния с различными творениями и способы их создания, правила манипу-
лирования орудиями, речевыми знаками, осваивая правила общения с
другими людьми, человек, вместе с тем, формирует и развивает те
психические процессы, которые регулируют усваиваемые действия»15.
В этом — причина того, что еще вчера господствующая художе-
ственная форма не умирает в тот момент, когда возникает новая. Вос-
питанная на привычных образцах, публика сохраняет установки к уз-
наваемому. В этом, в частности, проявляет себя противоречие между
социально-психологическим и художественно-культурным заказом. Ра-
ботающий внутри такой культурной общности художник, всегда ощу-
щает напряжение, складывающееся между этими двумя полюсами:
желанием нравиться и требованием вкуса.
Так, например, пользовавшиеся большой популярностью в конце
XVIII — начале XIX века интимно-лирические жанры поэзии — клас-
сические романсы, элегии, молитвы, песни на много десятилетий пе-
реживают их создателей — Жуковского, Батюшкова, Баратынского. На
волне массового интереса эти жанры, с течением времени обрастали
эпигонским творчеством, доведшим «пленительную сладость» Жуков-
ского до приторности: и тем не менее продолжали удовлетворять по-
требности публики даже в тот период, когда в поэзии воцарились но-
вые формы стиха (лирика Фета, Тютчева и др.).
Б.Эйхенбаум усматривал в такой полифонии художественной жизни
действие закона «исторического контраста», когда верхнему, лидиру-
ющему слою культуры должен противостоять не промежуточный, а
нижний. Анализируя панораму художественного процесса конца XIX
— начала XX века и противопоставляя творчество символистов «зем-
цу», Эйхенбаум считал вполне объяснимым положение, когда «высокой
и сложной философской поэзии должна была противостоять «плохая
литература», сильная своей наивностью, банальностью, доступностью»16.
Важно всегда учитывать эту разнонаправленность художественного
творчества: всякое подлинное искусство даже в замкнутых и тотали-
тарных цивилизациях является функциональным и дисфункциональ-
ным одновременно. Под давлением этих дисфункциональных элементов,
68
вызванных к жизни новым ощущением бытия, наряду с господствую-
щей, утилизованной цивилизацией традицией на периферии официаль-
ной культуры всегда вырастает оппозиционная ей традиция, которая
обобщает и тем самым как бы легализует выпадающие «нонконформи-
стские» тенденции художественного творчества.
Те художественные направления, которые до поры до времени сто-
яли на вторых путях в качестве запасных, направления, развивающие
неканонизированные традиции, разрабатывающие новый художествен-
ный материал, прорываются на авансцену культуры. Реальное движе-
ние искусства снова формирует борьбу сосуществующих направлений.
Победа одного из них в момент своего полного выражения поэтому же
не вполне типична для эпохи, так как за спиной этого победителя сто-
ят новые «заговорщики», идеи которых еще недавно казались неверо-
ятными и неприемлемыми.
Отсюда видно, что культурное движение в эпохе создается не мо-
ментом победы, а самим процессом борьбы и становления, в котором
революционная традиция вдохновляется пафосом контраста по отноше-
нию к определенному канону.
Итак, одной своей линией воспроизводя бытующие стереотипы, ис-
кусство вкладывает много усилий и в формирование другой линии,
разрушающей привычный автоматизм восприятия. На этом рубеже и
проявляет себя механизм активного воздействия художественного на
психологическое: решая собственно эстетические задачи, работая над
пересозданием языка, поиском новых приемов развертывания материа-
ла, художник, не всегда отдавая себе в этом отчет, подводит наше
восприятие и мышление к новым качественным преобразованиям. Чело-
век обретает новые критерии, непривычные установки, научается схва-
тывать целостность усложненной формы, соединять «несоединимое» и т.д.
«Я изменил приемы своего писания и языка... не потому, что рас-
суждаю, что так надобно, а потому, что даже Пушкин мне смешон»,—
признавался Л.Толстой, болезненно переживая неорганичность старых
приемов новому чувству жизни. Кризис повествовательной прозы, при-
шедший на середину XIX века, из которого разными путями выходили
Ф.Достоевский, И.Тургенев, заставил и Л.Толстого пережить изнури-
тельные муки. Писатель обременен не столько содержательными про-
блемами, сколько поиском такого медиума, восприятием которого оп-
ределяется тон описания и выбор подробностей. В итоге, после удачных
попыток, объясняя Н.Страхову свой художественный метод, Толстой
пишет: «Само же сцепление (элементов художественного произведе-
ния. — О.К.) составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим и выра-
зить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя»17.
Это и была та новая оптика взгляда на мир, которая единственная спо-
собна внести новое измерение в привычную повседневность.
Сходные законы контрастирующего развития характерны и для про-
цессов в психике. Повседневная культурная среда, как было подмечено
многими, оказывает размывающее воздействие на закономерности об-
щественной чувственности и восприятия. Чем больше утверждает себя
устоявшаяся консолидация привычных форм, приемов, закономернос-
69
тем, тем вероятнее появление в социальной психологии противостоя-
щих. неорганизованных форм. Усиление действия в социальных уста-
новках восприятия ядра со знаком плюс, в той или иной мере оказыва-
ет влияние на возникновение другого ядра с иной направленностью —
минус. Происходит развитие по поляризации — отрицание отрицания.
Здесь, как отмечалось, действует общий закон развития культуры: дух'
всегда ищет в неизвестном то, ито отсутствует в известном.
«Современная психофизиология, объясняя процесс эволюции живых
существ, доказывает, что причиной этого являются не только измене-
ния окружающей среды, но и врожденное противоречивое стремление
живых организмов одновременно к гомеостазу (покою и равновесию
существования этих организмов) и к его нарушению, и иногда исследо-
вательский инстинкт подавляет инстинкт самосохранения»18. Это поло-
жение, высказанное П.В.Симоновым, чрезвычайно интересно. Никакая
внешняя детерминация не обладает жесткой монополией на развитие
собственно психических процессов. Это же отличает и динамику искус-
ства. В определенные исторические отрезки, вполне возможно, суще-
ствуют ситуации, когда психика развивается на основе самостоятель-
ных ресурсов, так же как и искусство, вполне способное к развитию
собственной лексики и в условиях герметичности художественного мира.
Искусство, как и психика, далеко не всегда отклоняется только в сто-
рону, предначертанную теорией. И там, и здесь зачастую идет слепой
поиск. Новый художественный признак может возникнуть на основе
«случайных» результатов, «случайных» выпадов, ошибок, т.е. наруше-
ний художественной нормы «Литературе «закажут» Индию, а она от-
кроет Америку»19 — сплошь и рядом в истории мы сталкиваемся с таки-
ми фактами.
Особенно важно в этой связи другое: на фоне невычисленных ходов
развития психики и искусства тем не менее вдруг устанавливается их
соответствие. Неслучайность и закономерность такого временного един-
ства очевидна. Возможность то содержательного пересечения, то рас-
хождения линий массово-психического и художественного ставит пе-
ред нами вопрос: в каких своих стадиях художественный процесс
наиболее репрезентативен с точки зрения реконструкции доминирую-
щих тенденций исторической психологии?
Нельзя не видеть, что новаторские поиски, художественные фор-
мы, лидирующие в плане способов выражения, композиционных
свойств, языка, далеко не всегда являются отражением распростра-
ненных психологических установок. Выступая с новаторским творчеством,
художник ведь как бы порывает с коллективным субъектом и обособля-
ет себя от данной культурной общности. Обратное «включение» в нее
происходит только в том случае, если коллектив сможет адаптировать
результаты творчества, природа и функции которых первоначально были
ему неясны. Таким образом фигура художника, как правило опережа-
ющего своей деятельностью содержание массовой психики и сознания,
не всегда репрезентирует последнее. Для решения этой проблемы необ-
ходимо обнаружение особых интегративных общностей в истории куль-
туры, демонстрирующих совпадение индивидуальных и общественных
70
ориентиров. Творчество в такие периоды ознаменовано созданием круп-
ных, общезначимых художественных форм20.
Действие таких интегрирующих духовных сил, например, можно
обнаружить в VI — IV веках до нашей эры, им соответствует «золотой
век» античной скульптуры, архитектуры, драматургии. При этом совер-
шенно не имеет значения то обстоятельство, что по нынешним мер-
кам принципы, на основе которых достигалась гармония, завершен-
ность и целостность античных образов, носят достаточно простой,
наивно-безыскусный характер. Они основаны на вере в вечную гармо-
нию космоса, предопределенность духовной жизни божественным нача-
лом. Такие атрибуты космоса, как неизменность, регулярность, предска-
зуемость выступили в качестве отправных измерений при рассмотрении
прошлого и настоящего в судьбах человеческих общностей.
Взаимопроникновение индивидуального и коллективного — удел
устойчивых культурных эпох, когда сформированная гармония и дей-
ствующие внутри стереотипы еще сохраняют свою креативность.
Этот аспект взаимопроникновения личного и общественного полу-
чил интересную разработку у теоретиков исторической психологии
США21. Для фиксации некоего субъективного чувства стимулирующего
тождества с социумом, когда человек наиболее интенсивно и глубоко
ощущает свое бытие и активность, американский ученый Э.Эриксон
выдвинул понятие психосоциальной идентичности. «В минуты пережи-
вания этого чувства внутри звучит голос, говорящий «это действитель-
но я!». Такое состояние отмечено внутренним напряжением, стремле-
нием удержать свое «я» в его неизменности; с другой стороны, человека
не покидает уверенность, что окружающий мир составляет гармонию
с ним самим, однако без всякой гарантии, что так оно и есть на самом
деле. Именно отсутствие подобной гарантии и стимулирует человека к
действию и страданию»22.
Сказанное не означает, что крупные произведения искусства не
могут возникнуть в исторически переходный период, в условиях куль-
турного кризиса. Это противоречило бы реальным фактам истории,
скажем, оценке такого плодотворного и содержательного периода как
XVII век, этой своеобразной «культурной реторты», в которой вызре-
вали важнейшие ориентиры будущего художественного развития, ока-
зался возможным ряд принципиальных находок в живописи, был дан
мощный стимул развитию музыкального искусства.
Разница состоит лишь в том, что творения, возникшие в условиях
переплавки всех отживших представлений культуры, скорее предска-
зывают нам становящийся историко-психологический тип, осуществля-
ют работу по формированию этого типа, нежели репрезентируют его.
Кроме того искусство переходных этапов культуры способно наиболее
рельефно, осязаемо заявить о переломах и качественных сдвигах в
человеке. Ведь именно то, что здесь впервые открывается, затем обка-
тывается и воспроизводится в устойчивую культурную эпоху.
Обнаруживая и воспроизводя в своих произведениях совершенно
новый принцип логики, искусство закрепляло эти новые формы взаи-
мопереходов и диалектических связей в сознании современников.
71
оказывая тем самым обратное воздействие на динамику процессов в
исторической психологии. Новые формы контрастности, драматизма при-
водят к открытию поистине новых форм художественной выразитель-
ности, во многом впоследствии трансформирующих прежние формы
функционирования психики.
Подобных примеров рождения новых культурно-психологических
стереотипов с активным участием художественного творчества в исто-
рии можно отыскать немало. Важно, однако, суметь не просто зареги-
стрировать эти интегративные общности, не просто обнаружить их
согласованные отношения, но осмыслить их как непрерывную формо-
образующую цепь истории культуры.
Развитие потребностей человека
и их связь с направлениями художественного развития
Сама идея развивающихся потребностей как одна из основных черт
эволюции духовного мира человека оценивалась в науке неоднозначно.
Мозаичность этнических культур в прошлом и настоящем, варьирова-
ние и повторение социально-психологических установок в истории от-
разилось в библейском: «Что было, то и будет, и что делалось, то и
будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем»23.
Достаточно долгой оставалась позиция, согласно которой человечес-
кая природа с ее запросами едина во все времена, а каждый этап
культуры полагал лишь новые формы удовлетворения ставших тради-
ционными потребностей. Утверждение общечеловеческого инварианта
модели поведения объяснялось, как правило, едиными биологичяески-
ми свойствами человека.
С другой стороны, неизменность человеческой природы всякий раз
постулировалась, когда теоретики имели дело с абстрактным челове-
ком. К примеру, по мнению просветителей XVIII века, если бы не су-
ществовало объективных регулярностей, стали бы невозможными ка-
кие-либо наблюдения над человеком вообще. Отсюда и основной порок
натуралистического историзма, состоящий в игнорировании проблемы
человека исторического.
Вот характерное на этот счет мнение Д.Юма: «Общепризнано, что
существует большое единообразие в действиях людей — всех наций и
всех времен и эта человеческая природа остается одной и той же по
приемам ее функционирования: одни и те же мотивы сопровождаются
одними и теми же действиями, одни и те же события следуют из одних
и тех же причин»24. Аналогичные утверждения о том, что «основные
социально-психологические потребности людей немногочисленны и до-
вольно универсальны», можно встретить и в наши дни23.
В подавляющем большинстве современных и философских, психо-
логических, культурологических исследований утвердилось положение
о том, что нет универсальных раз и навсегда заданных «законов духа»,
а мышление и восприятие подвергаются в ходе своего развития каче-
ственным преобразованиям. Рассмотрим эти общие взгляды подробнее.
72
Как известно, наряду с жестко классовым разделением представле-
ний о гуманизме в культуре всегда сохранялась сфера общезначимых,
общечеловеческих начал, таких ценностей, которые и сегодня являют-
ся фундаментом взаимопонимания различных общепринятых систем. В
соответствии с этой основой весь комплекс открытий и заблуждений,
формировавших в истории сознание и психику человека, можно попы-
1аться оценить сквозь призму того, какой вклад в развитие меры чело-
веческого вносил тот или иной тип культуры.
Степень приближения к истине в истории всегда была относитель-
ной. Однако это не означает, что непрестанно происходило движение
но кругу и мы не в силах зафиксировать важнейшие этапы процесса
самопревышения» человека.
В отечественной и зарубежной науке получила распространение свое-
образная культурологическая типология регулятивных механизмов куль-
туры, которая выделяет основные вехи изменения духовной природы
человека. Согласно этой типологии выявляются три основных уровня
мотивации человеческого поведения:
— доморальный уровень, когда послушание обеспечивается страхом
возможного наказания или ожидаемого поощрения;
— уровень конвенциальной морали с ее выраженной потребностью в
одобрении со стороны авторитетов;
— уровень автономной морали, которая обеспечивается совестью че-
ловека, его убеждениями, чувством вины26.
Отсюда видно, что роль ситуативных, когнитивных и личностных
факторов как активных сил культуры различно на каждом этапе ее
истории. Так, историки древнегреческой цивилизации считают ее «куль-
турой стыда», в которой превалирует реакция на внешнее одобрение
или неодобрение. Однако, как известно, уже Демокрит включает в по-
нятие стыда некое внутреннее измерение, пишет о необходимости че-
ловеку чувствовать сначала стыд перед собой (фрагмент 84). Таким об-
разом, как стыд, так и чувство вины понимаются как специфически
человеческие, сформированные культурой психические механизмы,
гарантирующие соблюдение норм и обязанностей и связанных с само-
оценкой27.
Историческая последовательность в регулирующем воздействии та-
ких мотивов, как страх, стыд и совесть, отражает основные этапы
становления человеческой личности: ее первоначальную слитность с кол-
лективным субъектом, затем вычленение из него и разделение, обо-
собление социальных функций, которое затем вновь приводит к специ-
фическому включению в общность23.
Вскрывая механизмы углубления меры личности и усиления роли
внутренних духовных факторов в истории, нельзя тем не менее не
согласиться, что даже достаточно тонкое и убедительное обоснование
стой теории оставляет ее восприятие как достаточно общей схемы.
В действительности в любой культурной общности факторы мораль-
ного побуждения тесно переплетены с этническими, групповыми инте-
ресами, рутинными традициями; то же самое касается и взаимодей-
<ч’вия понятий страха, стыда и совести, которые с расширением
73
культурно-исторической базы сосуществуют как мотивы поведения че-|
ловека. не отменяя друг друга, осуществляя свое попеременное влия-
ние. У общественных наук оказывается достаточно скепсиса, чтобы не^
заблуждаться относительно воздействия на ход истории и духовную]
природу людей тех закономерностей, которые выявляются ими как вехи
поступательного развития.
Кроме того, данные моральные понятия — лишь одно из измере-
ний. позволяющих проследить этапы эволюции человека в истории. Эту
же эволюцию можно исследовать и в системе иных координат: изучая
взаимодействие чувственного и рационального, осознаваемого и не-
осознаваемого, практического и бескорыстного на разных стадиях раз-
вития человеческой психики.
Выявляя действие конкретно-исторических механизмов, необходи-
мо всегда обращаться к непосредственной практике и непосредственно-
му опыту действующих индивидов — тем базисным реалиям, которые
кристаллизуют и корректируют принятые внутри культурной общнос-
ти ценности.
«Различные формы практики, — считает А.Р.Лурия, — которые
соответствуют разным периодам или разным укладам социально-эко-
номического развития, определяют формирование различных по своей
структуре психологических процессов... значительные социально-исто-
рические сдвиги, связанные со сменой общественно-исторических ук-
ладов и коренными культурными изменениями, приводят и к коренным
изменениям строения психических процессов, в первую очередь к ко-
ренной перестройке познавательной деятельности»29.
Социально и культурно обусловленная деятельность людей есть ес-
тественная форма бытия человека, в процессе которого развивается
его психика, весь комплекс потребностей. Это положение находит ши-
рокое подтверждение в филогенетических и онтогенетических исследо-
ваниях.
Так, на первоначальных ступенях развития, когда уровень самосоз-
нания был еще недстаточен для того, чтобы объединить всю совокуп-
ность потребностей в одну систему, каждый вид деятельности совер-
шался человеком под знаком отдельной, разрозненной ценности.
Показательно, к примеру, что первобытный человек имел несколько
имен, каждое из которых он носил в определенных условиях. С измене-
нием имени человек как бы превращался в иное существо — так реаль-
ное единство человека дробилось на множество обозначений в зависи-
мости от выполнения той или иной роли, общения с той или иной
группой-'0.
В эпоху античности превращение очеловеченного космоса в архе-
тип, с помощью которого объяснялось все сущее, оказывало соответ-
ствующее воздействие на объяснение людьми собственных мотивов
поведения, оценку результатов деятельности. Концепция природы в
конечном счете являлась в античности ключом к пониманию законов
общества и государства.
Исторические источники дани возможность обнаружить качествен-
ное1 отличии античной памяти от современной Так. у греческих истори-
74
ков Геродота. Фукидида, Полибия господствовала идея циклического
движения человеческих судеб и поступков, память прежде всего свя-
зывалась со своеобразием понятий о времени. Изобретение счета, ка-
лендаря, часов, умение датировать события — все это изменило и
развивало память человека.
Интересно и наблюдение, что в древнегреческом языке отсутство-
вало наименование для фиолетового и оранжевого цветов. А желтый и
зеленый цвета носили одно и то же название. Не подлежит сомнению,
что греки прекрасно их различали, однако в понятийном строе такой
дифференциации не было, так как она не провоцировалась нуждами
созидательной деятельности.
Качественный перелом в преобразовании человеческой психики можно
зафиксировать на исходе средневековья в связи с образованием горо-
дов. выделением в них социальных групп, разделением труда, раз-
витием ремесла, усилением миграции. Все это формировало новые
многослойные ряды в психике человека, вело к дифференциации и
углублению внутренней жизни. С возникновением слоя светской интел-
лигенции под покровом традиционной корпоративной этики давала о
себе знать тенденция становления индивидуальности. «Главная черта
этой новой ментальности, — считает М.А.Барг, — интерес человека к
самопознанию, к сути отношений между себе подобными... появление
новых измерений личности, основанных не только на наблюдаемых
действиях, но и на скрытых склонностях, намерениях, чертах харак-
тера»31.
Возрождение оторвало человека от «пуповины» группы и наделило
его индивидуальными чертами. Развитие капиталистического товарно-
го производства, торговли, банковских- опреаций, кооперации приво-
дит к формированию своеобразных психологических характеристик бур-
жуазии: духа индивидуальности, предприимчивости, инициативы,
любознательности. Все это самым непосредственным образом повлияло
на формирование потребностей как в художественной, так и внехудо-
жественной сферах.
Представитель французской школы исторической психологии Р.Ман-
дру выявляет зависимость желаний человека и содержания развлече-
ний в обществе от особенностей ведущей трудовой деятельности. Так,
по его мнению, практика обмена и риска, столь характерная для капи-
талистических отношений, привила вкус к азартным играм, распрост-
ранившимся в XVI — XVII веках. Он же показывает, как развивающееся
буржуазное общество постепенно формирует новые психологические
способности индивида — умение хорошо владеть и управлять своими
чувствами, если необходимо — подавлять их и проявлять лишь в нуж-
ный момент32.
Важно учитывать, что изучение эволюции познавательно-аффек-
тивной целостности психики человека в истории культуры не может
опираться на анализ только одного типа деятельности, даже если он
является на данном этапе ведущим. Это замечание тем более суще-
ственно, чем более поздняя стадия культуры является предметом на-
шего исследования: с течением времени в исчерни усиливается соци-
75
альная дифференциация по самым разнообразным признакам, множится
число социальных слоев и групп, разнится содержание их деятельнос-
ти, жизненных укладов, привычек, и потребностей. Как правило, в
условиях такого сосуществования сильнейщий конформизм к традици-
ям и обычаям своей группы сочетается с враждебным и агрессивным
отношением к членам иных групп. Задача воссоздания целостной исто-
рической картины потребностей человека требует характеристики са-
мых различных проявлений его деятельности в рамках одного и того
же периода.
С учетом этого отмеченные выше характеристики человека стано-
вящейся буржуазной культуры необходимо дополнить психологически-
ми чертами широких трудящихся масс. Господство рутины в области
ручного труда, примитивные средства обработки земли порождали в
этой среде ожесточение, чувство беспомощности как доминирующие
настроения масс в XVI — XVII веках.
Исторический анализ процессов в сфере материального производ-
ства, сопровождающийся расширением базы социального и культурно-
го опыта, всякий раз свидетельствует об усилении гетерогенности в
мышлении, поведении, восприятии людей. Причина возрастающей мно-
жественности социальных установок, ориентаций людей обусловлена
накоплением распространенных в обществе типов деятельности, слож-
но взаимодействующих и сосуществующих одновременно33.
Применительно к нашей проблеме фиксация этой закономерности
имеет особое значение. Она свидетельствует о том, что исторически
обусловленные нормы удовлетворения человеческих потребностей, как
и сам их «состав», вызревают объективно. При этом непрерывное на-
пластование новых форм деятельности — лишь один из факторов про-
воцирования развития новых потребностей. Среди других действующих
сил, оказывающих влияние на этот процесс — сложные внутренние
процессы онтогенеза и антропогенеза34, происходящие вне непосред-
ственной внешней обусловленности.
П.В.Симонов определил этот специфический механизм эволюции пси-
хики через понятие «психической мутации»; генерирование новых струк-
тур происходит здесь благодаря собственным возможностям «самодви-
жения» психики на основе взаимодействия гипотез, интуитивных
озарений, догадок, которые П.В.Симонов относит к сфере «сверхсозна-
ния» с рациональными сторонами психики.
«По своему функциональному назначениею этот механизм может быть
сопоставлен с ролью мутаций в прогрессивном развитии живой приро-
ды от простого к сложному, имея в виду не лучшее приспособление к
внешней среде, не повышение устойчивости (способности к самосохра-
нению), но такое усложнение внутренней организации, которое позво-
ляет живым существам осваивать новые, ранее недоступные сферы
окружающего мира»35.
Вот почему в каждую эпоху мы сталкиваемся с неполной, лишь ча-
стичной осознаваемостью человеческих желаний: они все время преоб-
разуются, дифференцируются, меняют свою иерархию, выступая в
форме не вполне рационально объясняемых структур. Культурно-ис-
76
.орическая обусловленность потребностей, кроме того, дополняется
Факторами субъективной предрасположенности, зависит от условий
жизнедеятельности личности, восприятия усвоенных норм, наследствен-
ными задатками.
Таким образом, возникновение исторически-специфического строя
человеческих потребностей — это объективный и в значительной мере
• амодвижущийся процесс. «Психические мутации», участвующие в нем,
четко размывают устоявшиеся нормы, если те приходят в противоре-
чие с условиями непрерывно развивающейся действительности. Такого
рода психическая трансформация может происходить «сама собой», т.е.
оез прямой апелляции к сознанию (хотя, разумеется, и не исключает
его участия). «Сознание, — как точно замечает П.В.Симонов, — пре-
имущественно занято средствами, вооружением и нормами удовлетво-
рения потребностей»36 — последние же складываются на основе пере-
сечения сознательных и неосознаваемых факторов, участвующих в
психических мутациях».
Исследователю конкретного типа культуры всегда приходится иметь
в виду следующее обстоятельство: доминирующие потребности данной
эпохи как результат филогенетического развития не являются отправ-
ной основой, на которой развиваются онтогенетические процессы. Ка-
кую бы эпоху мы ни наблюдали, ступени становления духовного мира
личности в ней никогда не начинаются с вершинных результатов фило-
генетического процесса; напротив, они зачастую повторяют стадии ис-
торического развития всего человечества.
Это приводит к заключению, что в структуре психики становяще-
гося индивида всегда будут существовать потребности, которые не ис-
черпываются содержанием наличной культуры, а во многом присут-
ствуют как рутинный элемент, «повторение пройденного». Можно
дискутировать, выделяя объективные основания подобного «стадиаль-
ного» становления психики личности37, но в историко-теоретическом ис-
следовании более важно исследовать уже существующие комплексы
потребностей как «работающие» стимулы, вызывающие то или иное
художественное наполнение.
Следует понимать, что множественность бытующего в современной
культуре социального и индивидуального опыта не просто выступает
качестве расточительной избыточности культуры. Условием каждого
ее нового поступательного шага является не только «верхний слой»,
действующий в современных условиях, но и все разнообразие накоп-
лений, предшествующих этому «верхнему» слою и не покрываемых им.
В истории не раз высказывались проницательные догадки о том, что
формирование полноценного субъекта культуры возможно лишь через
непосредственное присвоение уровней уже состоявшегося культурно-
го опыта. Так, в частности, В.Г.Белинский полагал, чтобы развитие
каждой отдельной личности было полноценным, оно должно пройти
через пору юношеского романтизма, кратко повторив этим всемирную
историю.
Наиболее явно и выпукло историческое лицо человека проявляется
через реализацию его потребностей в момент досуга, т.е. в периоды
77
свободного волеизъявления. Художественные формы насыщения досу-
га — ото «культурный инвентарь» особого качества с присущим ему
обратным воздействием на направленность в развитии сознания, навы-
ков общения и т.д. Деятельность человека в момент досуга превращает
того, что им обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного
субъекта он вступает затем в непосредственный процесс производства.
В сфере досуга действует давно обнаруженная закономерность: со-
держание художественных потребностей и формы их удовлетворения
есть показатель «меры личности» самого индивида. Сколь бы ни был
«хорош» или «плох» тот или иной комплекс желаний у различных соци-
альных групп, ни один из них не лишается соответствующих форм
художественного удовлетворения.
Мого написано о том, что древний Рим заимствовал античную тра-
дицию, жил духовной жизнью во многом благодаря «снятию пенок» с
античного художественного наследия. Тем не менее это была другая
эпоха и специфические общественные потребности Рима воспринимали
античность не как данность, а существенно препарировали ее.
Вот один из примеров художественного наполнения новых потребно-
стей в поздней античности: «Одеоны практически существовали во всех
более или менее крупных городах; они продолжали восприниматься
как неотъемлемая часть архитектурного облика античного полиса и его
общественной жизни. Но идеи и конфликты великой греческой трагедии
уже не трогали основную массу населения империи. Греков все больше
и больше привлекали другие зрелища, где была возможность испы-
тать острые ощущения, получить эмоциональную разрядку, увидеть
проявление силы и ловкости, т.е. приобщиться (хотя бы в качестве зри-
телей) к тому, чего они были лишены в их достаточно однообразной
повседневной жизни. Такими зрелищами стали гладиаторские бои и трав-
ля зверей в амфитеатрах»38.
Изменение художественных функций греческих одеонов демонстри-
рует трансформацию потребностей людей в поздней античности. Был ли
это шаг назад с точки зрения уровня духовного наполнения этих жела-
ний или. напротив, может расцениваться как расширение культурной
шкалы переживаний, обогащение эмоционально-эффективных сторон
психики? Думается, что в отношении художественных форм развлече-
ния и досуга такая постановка вопроса не вполне корректна. Требова-
ние непрерывного обновления впечатлений заложено в самом понятии
досуга, это сфера наиболее быстрого реагирования на колебания в пси-
хологических установках людей. Цели досуга ориентированы преиму-
щественно на то. чтобы обогатить палитру ощущений, развлекатель-
ные функции. На этом пути возникают столь неожиданные и
парадоксальные художественные формы, которые далеко не сразу
могут быть подведены под знаменатель «истинных» или «неистинных»
человеческих потребностей.
Более однозначно то, что совокупная структура художественных
потребностей в сфере досуга способна характеризовать последний либо
как условие умножения духовных сил человека, либо как время, сво-
дящееся к чисто физической передышке.
78
Если согласиться с положением, что содержание и формы досуга в
".’юм определены характером ведущей трудовой деятельности данного
.ша культуры, то неизбежным будет и постулирование обратного вли-
пни. Отсюда следует вывод о необходимости объяснить «гомеостаз»
. еховпой жизни личности в ту или иную эпоху особой содержательной
•< »алансированностью труда и отдыха.
Переплетение в досуге игровых, художественных, развлекатель-
ных, компенсаторных элементов делает его свободным от шаблона,
и.щиональной заданности, культивирует эксперимент, вариацию, ало-
. измы и т.д. Благодаря этим качествам художественные формы досуга
•.лжно рассматривать как своеобразную культурную модель, в которой
проигрываются» оппозиционные ценности, моделируются «неправиль-
ные» типы поведения, т.е. складываются такие образы, которые затем в
качестве устойчивого художественного эквивалента эпохи — метафор,
< имволов, мофологем — подхватываются «большим» искусством. В мо-
мент развлечения смещаются представления о норме и ее нарушении,
<» дозволенном и запретном. «Во всяком обществе и во все времена
первый тип поведения неизбежно перемежался вторым, ярким выра-
жением которого являлся праздник»39.
Нельзя не заметить, что в «репертуарах» художественных форм
досуга, принятых в различных культурах, всегда можно обнаружить и
крайние, эпатирующие мотивы, связанные с гипертрофией и абсолю-
iизацией инстинктивных, эротических и других сторон человеческой
психики. Степень приемлего содержания здесь оказывается шире, чем
> остальных сферах духовной культуры именно в силу упоминавшегося
жспериментально-игрового, «несерьезного» отношения к художествен-
ным формам досуга. Вместе с тегл известную роль здесь играют и под-
ключающиеся интересы индустрии развлечений, озабоченной не столько
обогащением гуманистического содержания досуга, сколько его вызы-
вающих, удивляющих, дразнящих форм.
Чувственно-эротические пики, безусловно, возникают в обществен-
ной психологии не случайно. Живая, полнокровная чувственность под-
держивает тонус культуры. Именно по этой причине исходя из своих
потребностей и ожиданий «многие общества отводят определенное ме-
< то поискам возбуждения и уделяют этому специальное время»411. Одни
фазы исторического развития вызывают к жизни гладиаторские бои,
другие — смертельные схватки тореадоров, третьи — грандиозные
•страдные шоу.
Однако однобокое удовлетворение потребностей способно породить
дурную бесконечность: «Пересыщение информацией вызывает дальней-
шую интенсификацию перемен и поиски интенсифицированной остроты
• опущений и так до бесконечности, до крайних форм «объедания» от-
.ыхом. Внешняя свобода буржуазного мира отмщала человеку страш-
юй несвободой; побег от однообразия превращался в механическую од-
юобразную гонку неизвестно куда»41.
Противодействовать расщеплению в художественной сфере духов-
ных и психофизиологических влечений можно лишь в случае, когда
.(мосознание личности и общества оказывается в состоянии найти та-
79
кие интегративные духовные ценности, которые в качестве современ-
ного культурного менталитета явились бы обобщением индивидуально-
го и социального опыта в его историческом измерении. Для борьбы как
со стандартизацией духовной жизни, так и с безудержной калейдоско-
пичностью необходимо обретение неких нерушимых начал бытия. Стрем-
ление к наиболее полному самовыражению в условиях предоставления
культурой безграничного выбора традиций, моделей, форм поведения
приходит в столкновение с потребностью в психологической защите,
удовлетворяемой с помощью торможения психических процессов, под-
ведения спонтанности, инерции, темперамента под контроль ценност-
ных установок сознания.
Это, однако, не ведет к ущемлению выбора, возможности опереться
на различные комплексы ценностей. Для одних — это может быть дом
и семья как интеграция бытовых, творческих, субъективно-личност-
ных потребностей (в XIX веке особенно характерно для дворянской
интеллигенции, начиная от Пушкина и кончая Л.Толстым). Для других
наиболее адекватной формой жизнедеятельности становится скиталь-
чество (Лермонтов, Достоевский, Горький) и связанная с ним возмож-
ность ролевых перемен.
Таким образом, вопрос не стоит так, что на каждом этапе в культу-
ре существует единственный верный комплекс духовно-психологических
установок и предпочтений. Для сбалансированного исторического дви-
жения важно, чтобы человек мог находить себя в актуализированных
обществом культурных ценностях и, напротив, чтобы последние для
подтверждения своей актуальности нуждались в преломлении в инди-
видуальном творчестве.
История чувственности в образах искусства
Эротическое искусство, присутствующее в культурах всех времен и
цивилизаций, представляет большой интерес для специалистов различ-
ных дисциплин с точки зрения возможностей реконструкции чувствен-
ной пластичности человека в истории, меняющейся психологической
мотивации интимного поведения.
К сожалению, в отечественной науке эта работа почти не проводилась:
слишком сильна была инерция разведения <светлого» и «темного» в чело-
веке, заставляющая противопоставить «верх» и «низ» и т.д. Достаточно
поздно мы пришли к осознанию того, что область чувственности, эро-
тики не существует в человеке и в культуре как обособленная сфера,
что из взаимопереплетения рациональных и бессознательных побужде-
ний в конечном итоге складывается единый модус психической жизни
человека, определяющий его внутренний мир на каждом этапе истории.
Нельзя не согласиться с американским исследователем Р.Таннахилл,
пришедшей на этом основании к выводу, что «без изучения чувственно-
сексуальной стороны жизни человека — этого важнейшего стимула
человеческого поведения — любая «всеобщая история человечества»
будет неполной и искаженной»42. При формировании нового цивилизован-
80
него порядка большое значение отводили сфере чувственности такие
шторитетные мыслители XX века, как П.Сорокин и Г.Маркузе41.
Первый в своей книге «Разумный сексуальный порядок» (1961) раз-
работал целую систему гармонизации сексуальной жизни человека, воз-
(агая большие надежды на современные психолого — педагогические
приемы воспитания и образования. Работа Маркузе «Эрос и цивилиза-
ция» (1956), написанная трудным языком и прочитанная немногими, тем
не менее оказала существенное влияние на характер социальных дис-
куссий о проблемах сексуальной революции в 50—60-е годы, повлияла
как на развитие теории, так и на практическую деятельность различ-
ных общественных институтов Запада: систему информации, журнали-
стику, индустрию развлечений.
Еще раньше, в 1948 году видный академически!! французский пси-
холог И.Мейерсон опубликовал программное исследование «Психологи-
ческие функции и творения», в которой обосновал важность выхода в
широкий мир конкретной человеческой деятельности для любого, кто
ставит своей целью воссоздание культурной истории «Я»44. Специаль-
ное место уделено реконструкции представлений о любви как свиде-
тельству «работы духа» на разных исторических стадиях. Мейерсон под-
робно анализирует структурные изменения этого чувства — от
относительной слитости духовного и физического начал в древнем эпо-
се до вычленения интеллектуального элемента в романтической любви
средневековья.
Высокая историко-культурная репрезентативность интимной сферы
человеческих отношений не оставляет сомнения и у соотечественника
П.Мейерсона — Мишеля Фуко. В объемном двухтомнике «История сек-
суальности» выстраивается впечатляющая панорама отношений «сексу-
альность и цивилизация»45. Цивилизация преследует, контролирует,
по-своему стимулирует сексуальность; сексуальность маскируется, рас-
сеивается в повседневности, интенсифицируется, сопротивляется. В
межличностной игре полов поздних эпох Фуко обнаруживает реализа-
цию стремления к «психовласти», аналогичного по своей природе все-
проникающим механизациям политической власти.
Современные исследования подтверждают усиление «образа тела» в
зарубежной психологии46. «Естественный» язык тела, телесные пережи-
гания находятся в сложных отношениях с социально адаптированным
образом тела в повседневной жизни, художественном творчестве. С.П.Бат-
ракова обращает внимание на тенденцию возвышения в представлени-
ях современного человека такого основания, как «точка зрения жиз-
ни», т.е. безусловного предпочтения природного бытия — культуре,
естественного» человека — человеку, обремененному «обманными» цен-
ностями цивилизации4'. Подобные формы высвобождения «естественно-
ю» интимного поведения из-под наслоений культуры, импульсивные
г.зрывы чувственности чрезвычайно информативны для понимания глу-
бинных линий в исторической психологии.
Чувственная сторона жизни человека в не меньшей степени, чем
поведение, воплотилась и в его творчестве. Мировое эротическое искус-
> гво образует весьма значительный сектор культуры, игнорирование
81
которого неизмеримо бы оскопило и упростило наше представление о
человеке. Нельзя не вспомнить, что в любые эпохи наиболее тонкие и
принципиальные критики готовы были выступить против господствую-
щих норм и вкусов, если последние провоцировали создание «закруглён-
ных», предельно идеализированных образов человека. Так, ироничный
Дидро, делясь впечатлениями о парижском художественном Салоне 1767
года, выражал сомнение о возможности существования прекраснейших
мужчин и женщин, «которые достигли возраста самого полного своего
развития, не выполняя ни одной из этих функций»48. В вечном споре —
что подчеркивать и что скрывать в человеческой натуре, как совместить
в искусстве культурную норму и спонтанность живой чувственности —
это был один из голосов, призывающих к возможно полному охвату
пространства человеческого существования.
Гораздо чаще в эстетике и критике слышались совсем иные призы-
вы, предлагающие художникам специальные критерии различения «до-
стойного» и «недостойного» в человеческих побуждениях. Но художники
редко оказывались податливыми, выказывали упрямство, и тогда по-
являлись сопровождаемые общественными скандалами «Письма» Жан
Поля, «Орлеанская девственница» Вольтера. «Воспитание Лауры» Ми-
рабо, «Цветы зла» Бодлера, «Жамиани» Мюссе, живописные произве-
дения Рубенса и многие, многие другие, известные не только специа-
листам-искусствоведам.
Запретная стена сокрушалась многократно. И чем строже были гра-
ницы дозволенного, тем с большим интересом художники стремились
прикоснуться к той сфере человеческих влечений, которая считалась
греховной и сатанинской — в самом ли деле инстинкт и страсть дей-
ствуют как роковая сила, всегда ли эта сила нейтрализует возможности
человеческого начала?
Нет нужды говорить о том, что такой интерес не был искусствен-
ным. «Любовь и голод правят миром»,— писал Шиллер. Но и голод, и
инстинкт самосохранения нередко оказывались перекрыты силой чув-
ственной страсти. Вполне объяснима потребность искусства попытаться
понять человеческую судьбу сквозь призму этого непредсказуемого,
иррационального, часто драматического начала.
Под знаком неудержимого влечения человека к человеку достига-
лись невиданные восхождения духа, триумф жертвенности и благород-
ства. Эта же сила могла бросить человека в пропасть, унизить, толк-
нуть к преступлению, смерти. В произведениях искусства нашли
отражение все грани и оттенки любовной страсти, ведь во многом эти
сферы родственны: и в любви, и в искусстве до неразличимости пере-
плетены реальность и вымысел, наслаждение и познание, чувствен-
ность и духовность.
Уже на ранних этапах культуры «свойственная человеку сексуаль-
ность становится объектом относительно самостоятельного эстетичес-
кого созерцания. Она не шокирует мышление, не возбуждает страсти,
а доставляет сознанию высшее наслаждение», считает болгарский ис-
следователь К.Василев49. Однако многовековая панорама художествен-
ных образов, которая нам является здесь, далеко не однозначна.
82
Любой исследователь, обратившийся к изучению этой панорамы,
прочтет в ней одно очень важное для психолога обстоятельство: воз-
никновение самостоятельного эротического воображения, отличающее
• >тносителы-ю независимую, «вырвавшуюся на волю» психику индиви-
дуума, происходит в истории достаточно поздно. Скорее всего, этот
процесс заявляет о себе на исходе Средневековья. До этой поры харак-
тер воплощения эротических тем в европейском искусстве почти цели-
ком был обусловлен не столько внутренне психологическими, сколько
внешними факторами: мифология, господствующие религиозные дог-
маты, устоявшиеся формы социальной жизни, бытового уклада.
Большинство ученых склонны видеть в многочисленных приклад-
ных, изобразительных, скульптурных эротических произведениях ран-
ней античности скорее реализацию безусловной веры в сакральную силу
сексуальных символов, нежели собственно воплощение потребности в
эротическом переживании. «Если мы захотим понять эрос в античности,
нам необходимо искать его соответствующие пересечения с мифологи-
ей, религией, правом, ритуалом, легендами столь тщательно, пока мы
не сможем представить все эти духовные взаимодействия как единое
। юлое»50.
Синкретический характер античного эроса делал восприятие эроти-
ческого скорее ритуализированным, чем индивидуально-неповторимым:
в его корнях еще очень мало собственно психологического содержа-
ния. И сейчас, с большой исторической дистанции, гораздо легче выя-
вить этические, познавательные, сакральные функции античного эро-
а, нежели уловить невидимые связи между его эстетическим профилем
и внутренними потребностями личности. Исключение здесь, пожалуй,
(оставляет лишь античная лирика, по своей природе ориентированная
на интимно-личностное, сокровенное. Подобные произведения, в кото-
рых явно прорастают мотивы индивидуальной психологизации чувствен-
ной сферы, можно обнаружить и в культурах Востока, Средней Азии,
Латинской Америки.
Анализируя многочисленные оргиастические культы Древней Гре-
ции, шумные празднества в честь Дионисия, Венеры и т.п., нельзя не
отметить их всегда общественный, публичный характер. Поэтому, за-
даваясь вопросом — психология ли определяла такой уклад жизни или
нее, напротив, она сама была результатом такого установившегося по-
рядка греческого полиса.— мы предпочтительным считаем второй от-
пет. Чувственность отдельной личности была всецело растворена в со-
циальной психологии классической античности. Не выявив этого
равновесия индивидуального и общественного, трудно понять истоки
никоторых специфических форм чувственности в эту эпоху, например,
распространенность однополой любви. Спарта и Крит, Коринф и Фивы
здесь каждый молодой человек овладевал искусством борьбы и воен-
ых действий часто благодаря любви того, кто годами был старше его.
Закрепленная в законах и в религии, эта форма эроса нашла свое за-
иршенное воплощение в arete, рассматривалась как гражданская доб-
><)детель.
Нельзя отвергать и такую основу, формировавшую античную чув-
83
ственность, как природа. По мнению ряда авторов, греки очень интим-
но переживали природу, были тесно связаны с ней на протяжении всей
античной истории, ощущали глубинную потребность понять всю без-
брежность затаенного в ней мира чувств31.
Но, конечно же, основным источником художественных образов эро-
тического содержания стали неисчислимые истории любви античных
богов. Среди наиболее популярных сюжетов — обольщение Леды Юпи-
тером, превратившимся в лебедя. Изображение этой экзотической люб-
ви многократно претворялось в прикладном искусстве (вазы, винные
кубки), затем перешло в скульптуру; позже не раз воспроизводилось
в эллинистическом искусстве и спустя много веков вновь возникло у
Микеланджело.
Безусловно, повторяющиеся художественные сюжеты эротического
содержания оказали существенное влияние на формирование устойчи-
вых психологических структур. Здесь, как и всюду, дает о себе знать
специфика искусства, выступающего в качестве вполне автономной
«второй реальности», соприкосновение с которой рождает иллюзию
действительного опыта и, следовательно, формирует у человека соот-
ветствующую направленность чувств и потребностей.
Не случайно на поздних этапах античной культуры мы сталкиваем-
ся с художественным воспроизведением эротических сюжетов уже от-
нюдь не только из-за их сакрально-религиозной подоплеки. Сформиро-
ванные поначалу общественным укладом и ритуализированными
художественными формами, новые психологические структуры со вре-
менем начинают уже в своих недрах воспроизводить внутреннюю по-
требность человека в эротическом переживании. «Раз появившись в гре-
ческом искусстве, эротическая тема постепенно истощала свою
религиозную и мифологическую мотивацию», — высказывает наблюде-
ние Р.Мельвиль52. Остается добавить, что чувственное воздействие ан-
тичных эротических произведений в последующих культурах во много
крат усиливалось, полностью сводя на нет их ритуальность и компенси-
руя ее абсолютизацией эмоциональных реакций.
Любопытно, что эротическая сфера испытала на себе воздействие
глобальных тенденций, присущих античной культуре в целом. Если,
например, в классической Греции эротические сюжеты отмечены особой
эмоциональностью и нежностью, «две фигуры вовлекаются в связь толь-
ко друг с другом, что придает этому акту великолепный шарм»5’, то в
эпоху эллинизма эмоционально-духовное качество эротической темы
заметно нисходит; интимный акт воспроизводится среди других как
своеобразный каталог сексуальных позиций, в которых абсолютизируется
физиологический элемент. Показательно, что это было совершенно не
характерным для искусства классической античности, даже в тех слу-
чаях, когда художник создавал групповые образы мужчин и женщин.
Так, еще на рубеже новой эры заявляет о себе серьезная пробле-
ма. надолго укрепившая сомнения относительно возможностей худо-
жественного воспроизведения эротического — проблема соотношения
эротики и порнографии. Как отмечается в Британской энциклопедии
истории мирового искусства, «проблема критерия, отделяющего фиои-
84
• логические проявления сексуальности от их художественно-эротичес-
ких форм, долгое время оставалась краеугольным камнем бесчислен-
ных споров в мировой культуре»54. И по сей день существует разноголо-
сица мнений на этот счет. В частности, американский исследователь
Кен Байнес, обобщив большой фактический материал, предложил не-
сколько критериев различения художественной эротики и порногра-
фии. В первой, по его мнению, всегда присутствует индивидуальность
с ее неповторимой психологией, придающая произведению гуманисти-
ческий пафос, в то время как деградация художественного начала в
норнографии прявляется в том, что она безлична. Кроме того, воспри-
ятие художественно-эротического вполне может быть публичным, в
го время как порнография всегда рассчитана на сугубо приватный ха-
рактер55.
И тем не менее раз и навсегда установленных критериев здесь быть
не может, ведь участие искусства в развитии и обогащении человечес-
кой чувственности всегда было многопланово: на разных этапах куль-
туры имелось достаточно большое число произведений, раскрываю-
щих и осознающих эротические формы человеческого поведения как
особый дар, воспевающих красоту очеловеченной сексуальности самой
по себе, ее волнующую эмоциональность и притягательную силу.
Не менее многочисленной была и другая группа произведений, ко-
торая как бы фиксировала накопленный в этом отношении опыт, свое-
образный этикет, придавая ему романтические, возвышенные тона. Тогда
появлялись «Камасутра», «Наука о любви» Овидия, средневековый «Ро-
ман о розе» и многие другие.
Естественно, что при этом по-разному использовались и неравно-
ценные возможности искусств. Так, многочисленные «эпиталамичес-
кие» повествования, призванные рассказать и научить, чаще станови-
лись уделом художественной литературы. Воссоздание же эротического
как самоцели, как нерасторжимого триумфа чувственности и красоты в
большей степени встречалось в произведениях изобразительного ис-
кусства, скульптуры, архитектурных барельефах.
Таким образом, художественные произведения всегда играли замет-
ную роль в формировании эталонов сексуального поведения и, кроме
того, сами выступали важным компонентом этой эмоциональной среды,
которая дарила человеку радость, ощущение полной реализации жиз-
ненных сил, чувственно компенсировала заземленность повседневного
существования.
Эта двойственная роль произведений искусства проходит через всю
историю культуры. С развитием наук, изучающих формы человеческой
сексуальности, обособлением психологии, этнографии, антропологии,
сексологии постепенно уходила потребность в обобщающих литератур-
ных трактатах об искусстве любви; просветительские функции в такого
рода литературе со временем замещаются собственно художественными,
когда главным становится не столько антология наблюдаемого опыта,
сколько авторский анализ, субъективный взгляд, воспроизводящий
бесчисленные коллизии и драмы, вызванные чувственным влечением,
судьбы людей, втянутых в водоворот силой страсти.
85
Изменение содержательного наполнения эротических произведений
вело к изменению их статуса в обществе. Как мы увидим ниже, усиле-
ние в произведениях художественного начала способствовало обогаще-
нию возможностей их индивидуально-психологического воздействия.
Историческая пластичность критериев в оценке художественно-эро-
тического, на наш взгляд, была вызвана двумя основными причинами.
Первая — это сам человек, который не является постоянной величи-
ной в истории, а находится в непрерывной эволюции, изменяя формы и
направленность своей чувственности, потребностей, желаний. Грубые,
плотские способы удовлетворения страсти вытесняются по мере того,
как у человека нарастают способности бескорыстной чувственности,
любовного влечения в человеческом смысле слова.
Как известно, понятие эротического в современном смысле этого
слова сформировалось на достаточно зрелых стадиях человеческой куль-
туры. Для наслаждения именно эротикой, а не механическим сексом
необходимы развитое эстетическое чутье, умение, как сказали бы спе-
циалисты, осуществлять в сексуальном общении не просто репродук-
тивную, но и рекреативную функцию, т.е. привносить в него игру,
фантазию, разнообразие, непредсказуемость и т.д.
Помимо непрерывных преобразований внутри человеческой психики
имеется не менее значительная причина, существенно влиявшая на
подвижность и гибкость критериев, отделяющих эротику от вульгарной
сексуальности в жизни и в искусстве. Это — непрерывное обновление
насаждавшихся социальных и моральных норм.
Можно проследить (и, очевидно, этот процесс исторически неизбе-
жен), как буквально вплоть до XX в. все типы обществ и культур так
или иначе пытались «расчленить» человека, включить в рамки должно-
го и дозволенного только те его качества, которые подходили под
официальные представления о моральности. Особенно это было прису-
ще тем культурам, в которых были сильны религиозно-христианские
заветы, прививавшие взгляд на сам по себе половой акт как грехопа-
дение.
И тем не менее было бы неверным представлять гюстсредневековую
жизнь людей как существование в узких рамках «порядка», загоняв-
шее плотские побуждения далеко вглубь. Каким бы ригоризмом ни от-
личались официальные установки социальной жизни, любое общество
так или иначе допускало (или вынуждено было терпеть) те обычаи и
традиции, которые сохраняла в себе народная культура, сплошь про-
питанная языческими элементами.
Бесчисленные проявления язычества можно обнаружить и в пра-
вославии. Так, вплоть до XX в. в некоторых русских и украинских
деревнях существовал обычай «подночевывания», когда парень (а иногда
и двое-трое парней) оставался с девушкой до утра. Хотя считалось,
что они при этом сохраняли целомудрие, этому мало кто верил. Эле-
менты оргиастических праздников сохранялись и на русском Севере,
как, например, в XIX в. — «яровуха», или «скакания». Гуляния про-
исходили накануне венчания в доме жениха, куда молодежь, исклю-
чая невесту, ходила «вина нить», после чего все становились в круг,
86
оохватив друг друга за плечи, и скакали, высоко вскидывая ноги, за-
бирая подолы и распевая песни откровенно эротического содержания.
Заканчивалось все это сном вповалку, причем допускалась большая
с вобода отношений36.
Думая о той роли, которую выполняла многоликая историческая
панорама сексуальных игр, возбуждающих празднеств, карнавалов,
гуляний в формировании человеческой психологии, в том числе чув-
ственности, можно обнаружить, что помимо собственно любовных от-
ношений существовало и многое другое, что являлось дополнительным
источником эротики как в жизни, так и в искусстве. Человека всегда
волновала тайна, особый человеческий смысл, который он ощущал в
каждом предмете и который превышал простое знание о вещи. Имен-
но в этом — истоки одухотворения, психологизация и символизация
окружающего мира, истоки художественного воображения и творче-
ства. Нет поэтому ничего удивительного в том. что многие продукты
человеческой деятельности с углублением его психической сферы в
какой-либо мере оказывались пропитаны эротическим ферментом. Этот
фермент явно или неявно проявлял себя в костюме, в интерьере жи-
лища, в формах общения, этикете и т.д. Все эти повседневные прояв-
ления несли в себе выраженную и общепонятную символику, эротичес-
кий код, ритуал ухаживания, сексуальную технику, регулирующую
отношения полов, формирующих особый стиль жизни.
Таким образом, весь антураж, окружавший человека в быту, то,
<'что в состоянии выступать и как форма жизненного уклада, и как
украшение жизни есть, — по мнению голландского культуролога, —
<жрытая, непрямая эротика, и темы ее — возможность удовлетворе-
ния, обещание, желание, недоступность или приближение счастья. Здесь
высшее удовлетворение перемещается в область невысказанного, оку-
танного тончайшим покровом смутного ожидания. Эта непрямая эроти-
ка обретает тем самым и более долгое дыхание, и более обширную
область действия»57.
В этом плане становится вполне объяснимым, почему сама область
искусства, даже столь отвлеченный ее вид, как архитектура, подпада-
ла под сферу действия эротического чувства: так, к примеру, в англо-
американских исследованиях стало уже традицией видеть в романской
архитектуре с ее тяжеловесностью и монолитностью мужское начало
и.напротив, в утонченной ломкости прозрачности готики — женствен-
ные черты.
Такого рода поляризация половых различий либо их сближение от-
четливо видно с большой исторической дистанции. Нивелирование по-
ловых различий характерно, в частности, для раннего (’редневековья,
когда и в жизни, и в искусстве культивировался образ женщины-под-
ростка: почти незаметная грудь, тонкие губы и т.д. (в поэзии вагантов
можно встретить взгляд на женщину как на неполноценного мужчину).
Через 2-3 столетия в преддверии Ренессанса развивается процесс поля-
ризации полов: все мужчины стараются быть похожими на Геркулесов
и Аполлонов, а идеальная женственность — уже не юная девушка, а
цветущая взрослая женщина.
87
Внутри этой закономерности существует одна сколь очевидная, столь
и загадочная проблема: почему классические образы мирового искусст-
ва. ставшие своеобразными мифологемами для последующих поколе-
ний, отличаются некоей биполярностью, несут в себе и мужское, и
женское начала, всю возможную гамму чувственности? Таков, напри-
мер, образ Христа, который, строго говоря, не есть образ мужчины,
но образ человека. Таковы образы «Джоконды» и «Иоанна Крестителя»
Леонардо да Винчи. Заслуживает внимания точка зрения С.С.Аверинце-
ва, который высказывает мысль о приближении этих образов к идее
человеческой целостности, преодолевающей сексуальную дифференци-
ацию58.
Анализируя своеобразие эротического на разных этапах истории,
можно найти бесчисленное количество примеров, демонстрирующих,
как разнообразные формы досуга, спорта, моды, народных обычаев
заряжены скрытой, не всегда осознаваемой эротикой, что оказывает
огромное воздействие на подсознание. Задача, однако, не в перечисле-
ниях, а в важном для нас понимании: в человеческой жизни не суще-
ствует эротики как обособленной сферы. Психика человека целостна:
слитность инстинктивного и разумного, телесного и одухотворенного в
ней столь неразделима, что никто не возьмется определить, в каком
сочетании в каждый отдельный момент человеческого творчества или
восприятия действуют эти внутренние силы. Один и тот же объект в
разных обстоятельствах и в разном контексте может породить разные
реакции.
Без осознания значения форм скрытой эротики в повседневной жиз-
ни мы не сможем понять причин тех взрывов, которые время от време-
ни заставляют общественную чувственность выходить из берегов, зах-
ватывая в первую очередь и caivio искусство.
Религиозные запреты оставили большой след в европейской культу-
ре, глубоко табуируя сознание современников. Ясно, что полулегаль-
ные формы существования эротической литературы, средневековых
фарсовых представлений, возрожденческой новеллистики не столько
служили облагораживанию человеческой натуры в вопросах эротики и
секса, сколько сводились к незатейливой разрядке, превращению этой
темы в комизм, развлечение, потеху.
Более того, подпольное положение эротики превращало ее в обо-
собленную субкультуру, которая нередко (например, в лице маркиза
де Сада) бросала вызов общественной морали, низводя человеческие
формы секусальности до животного клубка патологической вакхана-
лии. Подобная «контркультура» порой имела совершенно обратный ре-
зультат: усугубляла в массовой психологии религиозные догмы о гре-
ховности телесного низа и всего связанного с ним, поддерживала идею
экзальтированной «святой любви», не оставлявшей места для обычной
человеческой чувственности.
Однако, сколь ограничивающими ни были официальные нормативы,
развивающаяся и усложняющаяся человеческая психика требовала и
соответствующего уровня чувственного удовлетворения. Здесь, по-ви-
димому, действовал общий закон: прогресс одних способностей челове-
88
ка не может не повлиять и на изменение других. На каждом этапе
истории формообразующий порыв культуры призван осуществиться как
с. интеллектуальной, так и в эмоциональной — инстинктивной сфере.
Возможный разрыв только способен углубить проблему. Такую ситуа-
цию уже предполагал М.Монтень: «нельзя ли вывести, что чем меньше
мы упоминаем в наших речах о сексуальных отношениях, тем больше
останавливаем на них наши мысли?»59.
По общему мнению, уже в XVIII в., преодолевая прежние табу,
продемонстрировали невиданную раскрепощенность в отношении к сек-
суальности. В этом столетии наблюдается настоящий взрыв разговоров
о сексе, эротизм проникает в формы этикета, общения. Особая роль в
создании этой атмосферы принадлежала искусству, которое к тому
времени смогло уже многого добиться, культивируя психологическую
интимность, индивидуальную эротическую вовлеченность, утонченную
чувственность. «Французская живопись XVIII в. отражала аморализм
любовных игр в придворной жизни»,— считает П.Вебб60. Но, пожалуй,
самые фривольные изображения были даны в книжных иллюстрациях
этого времени. Полотна Рафаэля, Карраччи, Дж.Романо, Буше, лите-
ратурные произведения Г.Филдинга, Л.Стерна вносили разнообразие в
представления о возможностях чувственных наслаждений. Однако в
подавляющем большинстве эротические сцены в искусстве XVIII в. еще
вырастали из незатейливых мифологических мотивов, где бесконечные
сатиры, пылающие страстью кентавры бросали в дрожь незащищен-
ных дев, вызывая в них влечение то ласками, то агрессивностью.
Психологическое воздействие подобных произведений, пожалуй, и
состояло в том, чтобы исходить вдоль и поперек все мыслимое поле
желаний, прочно укрепившись в сознании волшебства эротического дара.
Конечно, относительно реального, заземленного существования этот
«жанр, изображающий мужчин всегда неустанными, а женщин — из-
нывающими от желания; жанр этот так же, как преисполненная благо-
родства куртуазная любовь, есть романтический вымысел ...» Такой ху-
дожественный тон смягчал монотонность будничной действительности.
И в этом тоже, как считает И.Хейзинга, «проявляется грандиозное ус-
тремление культуры: влечение к прекрасной жизни, потребность ви-
деть жизнь более прекрасной, чем это возможно в действительнос-
ти.— и тем самым насильно придавать любви формы фантастического
желания»61.
Сегодня, с большой исторической дистанции, можно с уверенностью
говорить и о том, что изменения в психологическом содержании лите-
ратуры и искусства задаются не только колебаниями общественной
чувственности, но и саморазвивающейся выразительностью поэтичес-
кого языка, результатом его внутренней эволюции. Так, Вяземский,
анализируя истоки эротической поэзии К.Батюшкова, писал, что он
обнаруживает их не столько в психологии автора, сколько в его язы-
ковых поисках и экспериментах, в приемах обновления поэтической
речи. Это вполне объяснимо: одическая, ораторская установки поэзии
к этому времени мертвеют. Попытка оттолкнуться от рутинной тради-
ции рождает новое отношение к выразительным средствам поэзии —
89
любование поэтическим словом, его новое восприятие. Таким образом,
лингвистический генезис, сама эволюция поэтического языка задают
новые способы чувствования эпохи. Схожие причины вызвали возник-
новение интимной интонации сентименталистов в целом. Вот как об этом
писал Ю.Н.Тынянов. также обративший внимание на эту закономер-
ность: «Подобно тому как позже у Батюшкова эротические темы воз-
никают не из мировоззрительных причин, а из работы над его поэти-
ческим языком (см. его речь «О влиянии легкой поэзии на язык»), так и
темы «сентиментализма» возникают как наилучший материал для новой
установки поэтического слова»62.
«Неизбежность непредсказуемого» — зачастую именно такой форму-
лой можно обозначить тягу к контрастности сменяющих друг друга эта-
пов художественного творчества. Скажем, Б.Эйхенбаум точно подме-
тил, что в истории литературы не раз складывалась ситуация, когда
для решения стилистических проблем, обогащения и оживления языка
нужно было жертвовать и «художественной мерой», и «вкусом». Рож-
дались новые способы повествования и организации литературного язы-
ка, не все из которых, однако, приживались и пускали корни. К при-
меру, в сороковые годы прошлого столетия хмель пушкинского стиха
уже казался слишком легким, слишком воздушным — явилась потреб-
ность в особого рода специях. Лермонтов по-своему возрождает лири-
ческие жанры и сообщает им новый вкус тем, что смешивает с некото-
рой дозой горького алкоголя. В результате получился тяжелый хмель,
но он-то и нужен был эпохе. Однако, перенесенный на почву эротичес-
ких произведений, этот «хмель» дает разные результаты. Если у Пуш-
кина эротика легко входила в общую систему его творчества («Гаври-
лиада», «Телега жизни», то совсем другое наблюдается у Лермонтова:
место иносказаний и каламбуров занимает у него скабрезная термино-
логия и грубость («Гошпиталь», «Уланша», «Петергофский праздник»).
«Эротика Лермонтова производит впечатление какого-то временного
запоя и имеет не столько эротический, сколько порнографический ха-
рактер»,— делает вывод литературовед63.
Художественное освоение чувственно-эротического в послевозрож-
денческие столетия не прошло бесследно. И хотя искусство еще не
могло вобрать в свой образный строй все сложности и перипетии лю-
бовных отношений, этой практикой оно формировало новую почву куль-
туры, на которой смогли состояться художественные открытия, начи-
ная с XIX в. Именно в начале прошлого столетия происходит коренной
перелом в общественном и в художественном сознании: проблема чув-
ственной страсти, поглощающей всего человека, внезапного наважде-
ния, играющего с ним злую шутку, извлекается из подполья, освобож-
дается от мифологического фона и становится открыто обсуждаемой,
равноправной темой в искусстве.
Бальзак и Золя. Стендаль и Флобер, Прево и Мопассан, с большой
проницательностью воссоздававшие причудливые перипетии страсти,
тонко раскрывавшие ее возвышающую и разрушительную силу, сде-
лали существенный шаг вперед в анализе тысячи сложных причин,
определяющих состояние человеческого «я». Сколь бы в обществе по
90
••порции ни противопоставлялись инстинктивное и светлоразумное на-
йма в человеке, художники XIX в. нс склонны были разделять их.
Бальзака, к примеру, обуревают серьезные сомнения, можно ли
читать добродетельной женщину, не испытавшую силу влечения. Доб-
родетель такой женщины, по мнению писателя, для собственного удо-
вольствия. Если она не знала наслаждения, «то искушение ее весьма
неполно, у нее не будет заслуги сопротивления. Как можно желать
ч<'известного? Описать же ее добродетель без искушений — бессмыс-
кчшо». Возвышенный самообман вернее всего делает наш разум иг-
рушкой темных влечений. Пучок лучей, брошенный в ночные, аффек-
швные стороны души, напротив, помогает сопротивляться дурному и
постыдному.
Именно внимание к «ночному», болезненному, иррациональному,
дьявольскому» в человеке стало признанным достижением романа
XIX в. Этот период, можно без преувеличения сказать, ознаменован
расширением объема психологического мира человека в искусстве до
• •го действительных границ. И несмотря на то, что «Нана» Золя, «Ма-
дам Бовари» Флобера, «Цветы зла» Бодлера не на шутку взбудоражили
общественное мнение и некоторые из них стали предметом судебного
разбирательства, трудно переоценить открытия этой литературы в плане
воспитания чувств, ориентации человека внутри себя.
Возникают тесные творческие контакты между мастерами разных
видов искусств: Ф.Ропс создает знаменитую серию иллюстраций к «Кар-
тинам современной жизни» Бодлера; последний был увлечен обсужде-
нием планов совместной работы над эротическими произведениями с
Э.Дега и т.д.
Здесь необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство:
чем большую биографию набирало эротическое искусство, чем теснее
и актуальнее становились взаимодействия между различными культу-
рами и цивилизациями, тем меньшее влияние на чувственность оказы-
вал официальный «культурный код», закрепленный в безличных соци-
альных нормах и правилах. Разные модусы чувственности отныне не
столько сменяют друг друга в истории, сколько наслаиваются и сосу-
ществуют. Искусство в свою очередь также уже не стремится к кано-
низированной трактовке эротических тем, а демонстрирует в различ-
ных художественных направлениях и течениях всю противоречивую
мозаику действия эротического переживания.
XIX век проникнут множеством несочетающихся оптик в понимании
и трактовке чувственности: наиболее крупные эротические произведе-
ния здесь одновременно создаются романтиками, реалистами, симво-
листами, натуралистами. Важнейшее культурное завоевание искусст-
ва XIX в. сказалось в том, что закостенелая нормативная субординация
запретных тем в общественном сознании теперь отныне заменяется их
координацией, сексуально-эротические темы и мотивы человеческой
жизни извлекаются на поверхность, участвуя в формировании полнок-
ровного и многосоставного жизненного смысла.
В ряду первопроходцев, освоивших неизведанные глубины челове-
ческой психологии, стоят и великие мастера русской литератуты. Ли-
91
тературоведы по праву оценивают сочинения Л.Толстого и Ф.Дос-
тоевского как «новый фазис мировой литературы в воссоздании бессоз-
нательной сферы человека»64. Свобода от каких-либо заданных схем,
бесстрашное вживание в глубинные пласты переживаний героев не-
редко изменяли и повороты сюжета, и пафос произведений, и миропо-
нимание самого автора.
Вспомним, к примеру, импульсивный порыв, неожиданно врываю-
щийся в сюжет в «Войне и мире» («Анатоль Курагин смотрел на Наташу
восхищенно мужским, снимающим нравственные преграды взглядом»).
Возник этот эпизод, и ход романа переломился; сам Л.Толстой считал
этот поворот важнейшим узлом романа.
Мысль Толстого бьется над проблемой: почему неоспоримые, каза-
лось бы, в своей естественности и взаимности влечения нередко сопро-
вождаются болью и страданием совести? Не случайно, утверждаясь в
отрицании плотской страсти как человек, Толстой как художник не
может не чувствовать ее пылающую мощь, властную силу. О герое его
повести «Дьявол» читаем: «Он чувствовал, что он побежден, что у него
нет своей воли, есть другая сила, двигающая им; что нынче он спасся
только по счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-
таки погибнет»65.
Страсть отбрасывает в сторону все, что лежит за ее пределами.
Нередки ситуации, когда сознание страшится додумать все до конца,
открывая простор бессознательному чувству. Ситуация любовного вы-
бора, в котором нет решений, не обрекающих на страдание безвинных
людей, характерна для любого времени. В этом — неиссякаемый источ-
ник художественного драматизма. Сам Л.Толстой, прошедший большой
путь эволюции, в подобной ситуации («Анна Каренина») делает выбор в
пользу чисто духовной любви, свободной от желания, союза, основанного
на привязанности, долге, не причиняющем никому страдания. Но в
этом — одно из болезненных, неразрешимых противоречий писателя.
«Голос, звучащий в человеческой глубине Анны и Вронского, заяв-
ляет, по Толстому, о моральной неправомерности их страсти. Но как
раз в этом,— считает В.Днепров, — читатели по праву не согласятся с
великим художником. Сближение влечения с любовью — во всех ее
аспектах, проникновение духовного в телесное, личности — в страсть
— одно из прекраснейших достижений культуры и морали человече-
ства. А Толстой в конце концов пришел к требованию: разлучить страсть
и любовь».
Но в таком случае страсть оказывается не связанной ни с чем дру-
гим. теряет человеческий облик и обращается в похоть. Именно такое
понимание плотской страсти мы встречаем затем в «Дневниках» Толсто-
го. Именно такой вывод следует из его художественного анализа: под-
чиненность природной страсти, ее разгорающейся красоте, наслажде-
нию вытесняет счастье; страсть и любовь, таким образом, развиваются
в обратном отношении — одна выигрывает то, что теряет другая.
Эта проблема, решаемая средствами искусства, не в меньшей мере
мучала Толе iого и в реальной жизни: «Во мне все пороки, и в высшей
степени: и зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщесла-
92
’ не, и честолюбие, и гордость... Все, все есть, и в гораздо большей
гепени, чем у большинства людей. Однако мое спасение, что я знаю
• io и борюсь, всю жизнь борюсь».
Биполярность страсти, ее многоликость и грозную силу хорошо со-
навал Ф.М.Достоевский, стремящийся развить все характеры до пре-
|.<‘ла, проникая в бездонные глубины человеческой природы. Оценивая
г.клад великих русских реалистов, так решительно вторгшихся в область
।ьявольского, инстинктивного в человеке, нельзя не ощущать их гума-
нистического пафоса. Видеть подавляющую силу слепых влечений и тем
не менее стоять на стороне разума — в этом, пожалуй, заключалась
идея человечности, выработанная опытом искусства XIX века.
Как уже отмечалось, сфера любовных отношений далеко не покры-
вает всю область сексуальных переживаний, культуры телесных на-
слаждений, эротики, бытующей в обществе. Обогащенный психологизм
человека новой буржуазной эпохи, которая «интериоризирует сексу-
альность, выдвигая на первый план ценности аффективно-психологи-
ческого порядка»66, в полный голос варьирование этой тематики в ис-
кусстве — все эти, как и многие другие причины, вызвали в конце
XIX — начале XX в. такой взрыв чувственности, сравнение которого
с «сексуальной революцией» нашего времени выглядело бы, пожалуй,
слабым. Подобные «пики», время от времени встряхивающие разме-
ренную жизнь, думается, подтверждают наблюдение, что в системе
общественной жизни всегда должна быть такая почва, которая могла
бы стимулировать остроту ощущений, не давала бы угаснуть краскам
человеческой эмоциональности, репродуцировала бы их.
Живая, полнокровная чувственность поддерживает тонус культуры.
Именно по этой причине исходя из своих потребностей и ожиданий
многие общества отводят определенное место поискам возбуждения и
уделяют этому специальное время. Одни фазы исторического развития
вызывают к жизни гладиаторские бои, другие — смертельные схватки
тореадоров, третьи — грандиозные эстрадные шоу, ночные клубы,
конкурсы танцев.
Завершение прошлого века было окрашено всеми мыслимыми тона-
ми эротики. Стихия необузданных желаний, обстановка непринужден-
ности и доверительности характера для множества возникающих в это
время мюзик-холлов, кафешантанов, ревю, театров-кабаре, супершоу.
Такие известнейшие из них, как «Эльдорадо», «Амбассадор», «Зимний
Альказар», традиционную программу из отдельных номеров заменяли
оглушающим спектаклем-ревю, где, как правило, «занято еще боль-
шее число участников, наличествует роскошное оформление, а в ак-
терском исполнении присутствуют элементы подчеркнутой эротики».
Водопад сценических эффектов, искрометный канкан, сногсшибатель-
ные туалеты, момент предстоящего «чуда» отличали такие принадле-
жащие международному классу мюзик-холлы, как «Мулен Руж», «Ша
нуар», «Фоли Бержер» (последний с восхищением нередко называли
«вавилонской башней порока»).
Художественные эскапады рубежа столетий вконец раскрепостили
общественное сознание. В 1905 году в Берлине Эдуард Гризебах выпус-
93
кает каталог мировой эротической литературы, содержащий несколько
сотен названий и свидетельствующий о ее существовании у всех наро-
дов и во всех культурах.
Концентрация эротического была заметна и в традиционных видах
искусства: в феерических полотнах Тулуз-Лотрека, в скандально встре-
ченном «Завтраке на траве» Э.Мане, по-своему осуществились в порт-
ретах Ренуара, Матисса, Модильяни. Обнаженная натура в произведе-
ниях Л.Бакста, В.Сомова, С.Судейкина, М.Кузмина, Б.Кустодиева,
К.Петрова-Водкина, хореографическом творчестве В.Нижинского, М.Фо-
кина окутана негой влечения, сливающейся с порядком всей природы.
Не находится, пожалуй, ни одной сферы в искусстве, не затронутой
этим дурманящим благоуханием чувственности. Словом, «пол в нас дро-
жит, колеблется, вибрирует, лучится», как писал влиятельный и са-
мобытный В.В.Розанов. Он же развивает идею об относительности «нор-
мальных» и «ненормальных» половых установок, о безошибочном чутье
эротического как естественного ориентира: «между тем пол — именно
океан, и в нем не зародится водоворот там, где ему не указано быть».
В начале века, пожалуй, уже во всем объеме сформировался тот
круг сексуально-эротических тем, их аспектов и проблем, с которыми
мы имеем дело и в наши дни. Происходит сдвиг в самом жизненном
укладе: из жизни городов напрочь вымываются языческие обряды и
обычаи, связанные с сезонностью, крестьянским бытом, и тем самым
освобождается пространство, быстро заполнившееся тем, что получи-
ло название «массовой культуры».
Поиски возбуждения самого по себе, в отрыве от формировавшей
их прежде традиции жизненного цикла — сезонных игр, праздников,
гуляний, стали приобретать черты демонической и неконтролируемой
силы, ориентированной на оглушающий эффект как самоцель. Принци-
пиальная неудовлетворяемость, ненасыщаемость такой страсти превра-
щала человека в раба собственных удовольствий.
Всевозможные Чарские, Вербицкие и прочие беллетристки поло-
жили начало той услаждающей литературе, которая не испытывает
недостатка в популярности и теперь. Волна полового движения, не без
сарказма свидетельствует современник, бросила «огромное козлоногое
стадо молодых бездарных поэтов и беллетристов из наэлектризованной
атмосферы митингов в сладостно-загадочные тайны обнажений и поло-
вых эксцессов»67. *
Эротическая тема в искусстве приобретает новое измерение: эман-
сипируется женская чувственность, определившая во многом новую
трактовку интимных отношений. Не надо забывать, что при всей своей
раскрепощенности художественные образы чувственности XIX в. все
же сохраняли одну особенность: эротическим воображением всецело
управлял мужчина. Мы не найдем ни одного произведения прошлого
столетия, которое было бы создано на основе потребностей в эротике
самих женщин. Изобразительные1, литературные произведения прошлого
столетия и возникшее в последней трети XIX в. порнографическое фото
— все это ориентировалось только на вкус мужчин. Отсутствие женс-
кой точки зрения в эротике прошлого века стало быстро компенспро-
94
i .тгься в начале XX столетия, опровергая точку зрения исследовате-
1я. предсказавшего скорое нисхождение эротической литературы как
преходящего поветрия»68.
Повлияла ли новая эмоциональная среда, в которую оказался поме-
щен человек, на традиционные формы его чувственности и сексуально-
ю поведения? Безусловно, красноречивый ответ на этот вопрос дает
ют всеохватывающий анализ поисков жизненного смысла, который мы
находим в произведениях таких классиков искусства XX в., как М.Пруст,
Г.Манн, Г.Гессе, Г.Маркес, X.Кортасар, Ж.Амаду и многих других. В
-. художественном творчестве нашего времени эротическая тематика бо-
•;ее чем когда-либо становится символом процессов, характеризующих
общее духовное состояние человека и общества.
Но для того, чтобы говорить о вещах откровенно, искусство вы-
нуждено вводить их в свой образный строй, оперировать тем, что есть
на самом деле. Художник, поставивший перед собой задачу сказать че-
ловеку новое о нем самом, не имеет права расчленять его внутренний
мир, побуждения, разводить «верх» и «низ». Но, таким образом, чем
шире и многообразнее становятся формы проявления сексуальности в
жизни, тем в большей мере они проникают и в искусство. Это противо-
речие негативного художественного содержания и реабилитирующей
его формы, на которое уже не раз обращалось внимание в истории,
продолжает сохранять значение и для новейшей художественной прак-
I ики.
Более того, как уже говорилось, художник часто обращается к эро-
тическим сценам не как к самоцели, а как к авторскому приему: ему
важен не умозрительный пересказ, а порой даже утрированное вос-
создание живых сцен, когда эмоциональная атмосфера нагнетается на-
столько, чтобы зритель «задохнулся», перенося себя на место персона-
жа, оценивая поступок, характер. Единственной мерой, обосновывающей
авторский выбор, здесь может быть только уровень таланта. Томас Манн
утверждал, что «только плохой натурализм культивирует патологи-
ческое ради него самого, патологическое допустимо в художественном
произведении только как средство к духовным, поэтическим, символи-
ческим целям»69.
Сам выдающийся писатель смело шел на такой шаг, когда в мета-
морфозах сексуального поведения видел обобщающий знак происходя-
щего в современной культуре. Много написано о проницательности
Г Манна, художника, создавшего «Смерть в Венеции», где эротичес-
кий сюжет наделен глубокой символикой, обнажившей исторические и
«оциальные приметы перелома в аристократическом духе.
Трудно даже вскользь коснуться всех многообразных причин, кото-
рые объясняют пристальное внимание искусства XX века в эротичес-
кой сфере. Один из вечных аспектов этой темы — стремление сопоста-
вить интеллект и чувственность в их самодостаточности как два
равноправных полюса бытия — характерно для творчества Г.Гессе.
художественные эксперименты писателя, анализирующего противо-
положные полюса человеческих возможностей, попытки исчерпать каж-
.VK) до дна в конечном счете показывают, что подлинная полнота жиз-
95
ценности — в сложном сцеплении этих полюсов, ни один голос не суще-
ствует без другого, образуя напряженную гармонию человеческого мира.
Жгучими словами воссоздает власть страсти, ее непосредственность,
самоистязание Марсель Пруст. С большой силой чувства в романном
цикле «В поисках утраченного времени» писатель проигрывает разно-
образные возможности, связанные с отношением к любви не как к ре-
альному факту, а только как к субъективному наслаждению. Показы-
вая, как пассивный человек может превратиться в игралище собственной
чувственности, как любовь к другому в этом случае непременно оказы-
вается косвенной формой любви к самому себе, М.Пруст формирует и
новый взгляд на симптомы изменяющейся психики личности: изобра-
жение вырождающегося чувства оценивается им как явление истори-
ческое.
Новое развитие эротическая проблематика получила в кинематогра-
фе. Предельная приближенность языка кино к образам реальной жизни
определила его поистине безграничные возможности в воссоздании тон-
чайших нюансов психологии и эмоциональности. Наряду с литературой
искусству кино принадлежит собственная инициатива в раскрытии мно-
гих новых аспектов эротического поведения, в глубоком проникновении
в парадоксы внутреннего мира человека XX в. Конечно, массовая по-
пулярность нередко диктовала кино коммерческие установки — тогда
эротические сюжеты использовались как приманка, для «оживления»
лент самого разного жанра: детектива, мелодрам, комедий и прочих.
Вместе с тем существует целый ряд художников кино, для которых
эротическая тематика далеко не случайна. В тайне влечения, его вне-
запности и непреложности эти художники слышат глубинный голос при-
роды, врывающийся в человеческую жизнь и часто все перестраиваю-
щий в ней. Для М.Антониони, к примеру, характер влечения, его
разнообразные повседневные проявления высвечивают саму личность,
обнажают все детское, изначальное в ней, причудливо сопрягают ин-
стинктивно-свободные и «усвоенные» черты характера.
Далеко не иллюстративный интерес проявлял к этой сфере и II.Па-
золини. Эротическая проблематика, выступающая стержнем большин-
ства его фильмов, не является самодовлеющей. Чувственное изобилие
в таких сфлльмах, как «Цветок тысячи и одной ночи», «Декамерон» —
это гимн играющей молодости, наивности, просветленности, открытос-
ти, выплескивающейся искрение и естественно. Бесспорное достоин-
ство этих произведений — захватывающий пафос человечности и гума-
низма, на основе которого стирается граница между национальным и
общечеловеческим, этнографически преходящим и вечным. Преподне-
сенный автором образ наготы как прекрасного и естественного дара
теснит внешние критерии дозволенного и недозволенного. Ибо оказы-
вается. что дело здесь не в степени обнажения натуры, а в характере
выражаемого посредством этого смысла.
В какой мере общение полов стало истинно человеческим общением
характеризует не только самих людей, но и условия их жизни, состо-
яние общественной психологии. В культивируемых формах эротическо-
го как в капле воды способен отразиться весь человек, все общество.
96
Краски, которые здесь находит художник, иной раз говорят нам об
общем духовном климате больше, чем публицистические приемы «пря-
мой речи».
Как мы видели, в истории культуры художественно-эротическое
никогда не выполняло одной, раз установленной функции, а всегда
являлось различными гранями. От простого любования человеческим
телом художник переходил к анализу интимной сферы как важнейшей
психологической составляющей поведения, затем снова шел дальше,
раскрывая значение инстинктивного и бессознательного в сложных
зигзагах человеческой судьбы. С усложнением задач одна художествен-
ная оптика сменялась другой, не оставляя после себя никакой вечной
нормы.
Предметом нашего рассмотрения стали лишь отдельные эпохи, от-
дельные формы взаимоперехода художественного и психологического.
Однако уже и они показали, что укоренившиеся в духовной культуре
любой эпохи своеобразные формы чувственности в одинаковой мере
являются содержательной почвой как дли художественного творчества,
так и для психической жизни человека. Более того, в каждом конкрет-
ном случае трудно указать, в какой сфере — художественной или
психологической сформировались те или иные модусы чувственности,
вкусы, влечения. Многочисленные исторические эпизоды творческой
деятельности художников показывают, что само искусство нередко
выступает фактором, формирующим и обогащающим сферу интимных
переживаний, этикет чувственного общения.
Сопоставление классических произведений эротического искусства,
оставивших след в мировой кульутре, с аналогичным творчеством со-
временных мастеров разворачивается в грандиозную панораму эволю-
ции человеческих страстей, заблуждений, желаний — словом, всего
того, без чего невозможно себе представить движение и поиски чело-
веческого духа. Множится объем мировой литературы, обсуждающей
тенденции развития эротического искусства, его роль в обществе. Пес-
симистический взгляд на вырождение чувств как явление историчес-
кое, при котором эротика есть лишь наркотическое средство, ослабля-
ющее чувство страха перед жизнью, соседствует с противоположными
взглядами на эротическое искусство как органичный и захватывающий
способ избежать автоматизма существования, противостоять рациона-
лизму «здравого смысла», погружаясь в очищающее пространство вле-
чения, разбуженного инстинкта.
Как бы то ни было, но эволюция эротического искусства свидетель-
ствует о его способности проникновенно реагировать на разнообразные
внутренние состояния личности, общественные установки. Его история
являет выразительную панораму переходов от мощной чувственной па-
тетики к утонченной расслабленности, от сильного света взаимного
влечения — к болезненному самоистязания страсти. Совокупность всех
этих состояний не просто демонстрирует возможности эротического
искусства, но оказывается чрезвычайно информативной для реконст-
рукции процесса эволюции внутреннего мира человека, этапов его пси-
хического развития как рода.
97
Формы «присвоения» художественной классики как
отражение исторического сознания
Постижение своего •— через чужое, незнакомого — через уже зна-
комое обнаруживает себя как общий механизм познавательной деятель-
ности в истории. Процесс самоидентификации есть не что иное как
стремление среди множества психологических практик обосновать соб-
ственную «территорию», утвердить некую «формулу» мироощущения и
миропонимания, достаточно общезначимую и убедительную. Заимство-
вание и интерпретация культурных ценностей и идей из других эпох —
важнейший источник непрерывных «обменных процессов» исторической
психологии. Очевидно, что в художественной культуре эти «обменные
процессы» отличаются заметной спецификой. Характер присвоения той
или иной эпохой произведений художественной классики, то есть унас-
ледование их, во многом определяет сам процесс культуротворчества:
стимулирования определенных социально-психологических стереотипов
поведения и неосознанных ожиданий, установок и т.д. Актуализация
художественного наследия в этом случае выступает важнейшим меха-
низмом самоидентификации социума через соотнесение вечных образ-
цов искусства с «временностью» сегодняшнего момента.
Очевидная важность этой проблемы породила специальное исследо-
вательское направление — «рецептивную эстетику». Многолетняя прак-
тика наблюдений об исторических изменениях восприятия, позволив-
шая выявить широкий исторический диапазон в интерпретации
произведений искусства, легла в основу специальной системы изучения
«принципа истории воздействия», разработанной немецким ученым
Г.Р.Яуссом. Подвижность художественных смыслов, их колебания и про-
тиворечивость на разных исторических стадиях в равной мере характе-
ризует как мобильную природу самого художественного текста, так и
ментальные установки воспринимающей его эпохи.
Ряд своих методов исследователи истории восприятия заимствовали
у герменевтики. Еще в начале XIX века В.Шлейермахер, основопо-
ложник герменевтики, обосновал возможность и необходимость рассмат-
ривать тексты независимо от притязания на истину как чисто вырази-
тельные феномены. Психологические и моральные факторы каждой
эпохи «переплавляют» изначальный смысл художественного произведе-
ния так, что он начинает выражать собой «ментальный горизонт» дан-
ной эпохи.
Спустя столетие В.Дильтей связал характер интерпретации в гума-
нитарных науках с тем, что он обозначил как «совокупность человечес-
кой природы». В любом акте интерпретации, в том числе художествен-
ном восприятии встречаются и взаимодействуют, с одной стороны, некие
схематические универсалии — семиотизированные текстом символы,
аллегории, знаки; с другой — исторический и психологический опыт
самой эпохи, ее самоощущение, рефлексия, животрепещущая потреб-
ность вчувствования. Иначе говоря, в любую эпоху художественный
образ соседствует с «необразным» знанием, внутренним опытом этой
эпохи. Последний всякий раз по-новому распредмечивает вечные худо-
98
жественные образы, демонстрируя особые сопряжения «сиюминутной»
чувственности с канонизированной исторической символикой текста.
Однако возможности присвоения уже однажды обретенных идей и
ценностей ограничены: ведь то, что эпоха не вырабатывает, не вынаши-
вает, не переживает сама, может существовать в ней лишь формально,
как умершие истины. Такую ситуацию и имел в виду О.Шпенглер, вос-
создавая художественную панораму своего времени: «Стили, изобража-
емые на сцене, и экзотические заимствования должны заменить недоста-
ток судьбы и внутренней необходимости. Полусерьезность и сомнительная
подлинность господствуют в искусстве. В таком положении находимся мы
сегодня. Происходит утомительная игра мертвыми формами, и таким
способом пытаются сохранить иллюзию живого искусства»70.
Человек всегда нуждается в ощущении того, что его действия пра-
вильны не только в смысле их узкотехнической целесообразности, но
и в смысле их соответствия той или иной общезначимой истине. Чело-
век страдает, если утрачивает ощущение, что руководствуется в своем
поведении истинными представлениями, и наоборот, обретает покой и
уверенность в своих силах, когда убеждается, что он не одинок в своем
понимании целей и смысла деятельности. В попытке утвердиться в кон-
солидирующей силе ценностей и идеалов, которые несут в себе клас-
сические образцы искусства, коренится одна из причин, побуждающих
человека вновь и вновь обращаться к истолкованию художественного
наследия.
Интерпретация и присвоение классики предстает таким образом как
важная форма культуротворческой деятельности человека, в которой
одновременно совмещены функции репродуцирования и порождения,
присвоения и дистанцирования смыслов произведения, который во мно-
гом определяется направленностью социально-психологического разви-
тия самой эпохи.
История демонстрирует немало примеров, когда самопознание эпох,
ощутивших новизну и необычность своих социально-психологических
состояний, заставляло их активно препарировать общепризнанные тво-
рения искусства как «близкие по духу».
Показательны в этой связи способы толкования и освоения наследия
Гоголя, предпринятые на новой волне исторических перемен деятеля-
ми символизма начала XX века.
Обобщая работы В.Брюсова и А.Белого, написанные к 100-летию со
дня рождения Гоголя, можно обнаружить, что ведущую роль играл
тезис об изначальном трагизме мироощущения художника, вырастав-
шем из непреодолимости разрыва между банальным окружением и иде-
альными представлениями о мире71. Акцентировались такие особеннос-
ти творческой манеры Гоголя, как склонность его к художественному
преувеличению, к сочетанию реального и фантастического, языковое
своеобразие, символисты в духе своих воззрений стремились подчерк-
нуть принципиальную враждебность действительного мира задачам до-
стижения художественного совершенства.
После Гоголя «всякий стал любить и уважать только свои мечты, в
то же время чувствуя отвращение ко всему действительному, частно-
99
му, индивидуальному. Все живое не притягивает нас более, и от этого-
то вся жизнь наша, наши характеры и замыслы стали так полны фан-
тастического», — декларировал свое отношение к наследию писателя
В.Розанов72. В способности Гоголя к созданию художественного мира
одновременно реального и нереального и виделась символистам высшая
задача искусства. Анализируя гоголевскую гиперболу, В.Брюсов отмечал:
«Он (Гоголь. — О.К.) сотворил свой особенный мир и своих особенных
людей, развивая до последнего предела то, что в действительности
находил лишь в намеке. И такова была сила его дарования, сила его
творчества, что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их
как бы реальнее самой реальности, заставил ближайшие поколения
забыть о действительности, но помнить им созданную мечту»73.
Отношение символистов к толкованию художественного наследия
русского классика весьма показательно. В основе такого препарирова-
ния творческого наследия лежали более широкие социально-психоло-
гические и мировоззренческие основания, нежели только определен-
ная эстетическая платформа. Сказались исходные посылки символизма,
с его убежденностью в несомненной ценности индивидуализма, ирра-
циональной интуиции, культом самоуглубления. Процессы пережива-
ния, самоуглубления, поиска собственного содержания современных
обществ также являются той основой, на которой вырастают сложные
нетрадиционные приемы препарирования произведений Гоголя.
Так, заметным явлением стали нетрадиционные формы новейшего те-
атрального претворения «Ревизора», «Носа» выдающимися режиссера-
ми 1980—90-х годов Г.Некрошюсом и П.Фоменко. В мировом гоголеведе-
нии имеется огромный массив литературы, свидетельствующий о том,
что в собственном ключе прочитывают Гоголя, зачисляя его в свои
учителя представители импрессионизма, сюрреализма, «нового романа».
В образном строе гоголевских произведений многие зарубежные
критики пытаются реконструировать те элементы, которые могут быть
оценены как родственные модернизму XX века: воссоздание мира как
кошмарного, непредсказуемого, где отношение человека к действитель-
ности определяется страхом, внезапными ужасами, визионерскими пе-
реживаниями, где смещается грань между реальным и нереальным.
Так, английский исследователь русской литературы XIX в. Р.Пийс,
анализируя гоголевскую повесть «Старосветские помещики», отмечает
в ней противоположность внешнего и внутреннего смысловых планов и
считает, что «лежащее на поверхности» изображение идиллического
бытия, патриархального образа жизни — лишь прием, призванный от-
тенить ощущение трагической экзистенции. При более пристальном же
рассмотрении — «изобилие картин природы контрастирует с бесплод-
ностью человеческой жизни, щедрость и привязанность оборачиваются
узостью и привычкой, а в самых ярких и спокойных днях вдруг про-
скальзывает неожиданный, необъяснимый ужас»74. По мнению Р.Пий-
са, Гоголь явился первым русским писателем, которому удалось по-
настоящему воспроизвести образ невротической личности.
Общая позиция, характерная для английских литературоведов, про-
является в тенденции видеть в Гоголе писателя-фантаста, с помощью
100
своего воображения пытающегося уйти от окружающего мира с его
дегуманизированными законами, распадом и вырождением подлинных
ценностей. Исследуя мотивы и пафос творчества писателя на примере
поэмы «Мертвые души», другой английский теоретик, Т.Литтл, прихо-
дит к выводу, что, создавая это произведение. Гоголь вовсе не был
озабочен вопросами социальной критики; создание поэмы — это реали-
зация потребности русского классика удовлетворить свое «чувство аб-
сурдности бытия»75.
Его соотечественник Д.Фэнджер делит все работы о творчестве Го-
голя на два типа: первая группа, ориентирующаяся на реалистическую
сторону творчества писателя, восходит к «традиционным» приемам ана-
лиза В.Г.Белинского; вторая, базирующаяся на «эксцентрической точке
зрения», принадлежит новейшим исследованиям американских и запад-
ноевропейских литературоведов. При этом Фэнджер рассматривает ре-
алистический метод анализа как один из возможных ликов Гоголя, кото-
рый был в последующем канонизирован группой критиков — наследников
В.Г.Белинского. Сам Фэнджер настаивает на том, что наиболее ценным
достоянием писателя выступают мистические, гротесковые, фантасти-
ческие элементы его творчества, подхваченные и развитые модерниз-
мом XX века70.
Особое значение придается городским повестям Гоголя — «Нос» и
«Шинель», в которых английские литературоведы Р.Пийс и А.Джонге
усматривают воссоздание мироощущения, перекликающегося с идеями
экзистенциализма77. Подчеркивается, что главная функция этих повес-
тей состоит в косвенном изображении характеров, которые служат глав-
ным образом нереалистическому изображению человеческой психоло-
гии. Воссозданный в этих произведениях мир,.лишенный человеческих
ценностей, превращающий одинокого человека в безымянную жертву
столицы, формирующий апатичную, потерянную личность, может быть
сравним, по мнению английских авторов, лишь с миром Ф.Кафки. Та-
ким образом Гоголь видится как родоначальник традиции, в опоре на
которую, по их мнению, сформировался образ беспомощного и поте-
рянного человека, трагического пораженца XX века, сошедший со
страниц С.Беккета, Ф.Кафки, Э.Ионеско.
Известный историк русской литературы К.В.Мочульский опублико-
вал на Западе ряд монографий, посвященных творчеству Гоголя, Дос-
тоевского. Блока. Выступая сторонником христианского миросозерцания,
Мочульский направляет усилия на реконструкцию религиозно-мисти-
ческих идей Гоголя, приводя доказательства, что именно они явились
основополагающим пафосом творчества писателя78. Критик акцентирует
отдельные факты биографии Гоголя, отмечает сложности в мировоз-
зрении писателя, пытаясь вывести все богатство нравственно-фило-
софских идей Гоголя из противоречий религиозного сознания. С этим
связано и утверждение Мочульского о том, что «линия Гоголя воз-
рождается в пореволюционном религиозном сознании»79.
Особое толкование творчества русского классика получило и в тру-
дах В.Зеньковского, который отрицает наличие реалистических эле-
ментов в творческом методе писателя8". Исследователь ставит в упрек
101
К.Мочульскому односторонний взгляд на наследие Гоголя, ограничен-
ный рамками духовной биографии писателя. Дополняя такой взгляд ис-
кусствоведческим анализм произведений, Зеньковский стремится дока-
зать нерациональную, бессознательную основу их возникновения. Отсюда
и использование по отношению к творчеству Гоголя таких определе-
ний, как «художественный платонизм», «религиозный романтизм», «язык
эроса». По-своему интерпретируя пафос русского классика, Зеньковс-
кий отводит словесным образам роль «внешней оболочки», «словесной
плоти», за которой надо различать потаенный смысл. Анализируя об-
раз забитого, униженного человека, воссозданного в «Шинели», лите-
ратуровед приходит к выводу, что художественный облик этого чинов-
ника осложняется «мотивами мечты, охватившей героя в линиях
подлинного эроса...»81.
Фигурой, приковывающей неослабное внимание западных литерату-
роведов, остается Достоевский. К 100-летию со дня смерти писателя
западное достоевсковедение пополнилось многочисленными новыми ис-
следованиями82. Панорама этих работ противоречива: от авторов, стре-
мящихся осознать глубокий общечеловеческий смысл нравственных
исканий писателя, до славистов, ограничивающих свои методы религи-
озно-иррационалистическими подходами. Ощутима и уже знакомая в свя-
зи с анализом творчества Гоголя установка: обнаружить в манере пись-
ма Достоевского черты литературы модернизма и, кроме того, выявить
в его образном строе элементы, позволяющие говорить о писателе как
предтече религиозно-философских концепций XX столетия.
Показательно, что при этом исследователи не всегда удерживают
целостное социальное содержание произведений Достоевского, акцен-
тируют отдельные грани творческой манеры писателя; нередко смысл
образов героев и их поступков интерпретируется вне контекста произ-
ведения. Так, в исследовании «Очищение страданием», посвященном
анализу романа «Братья Карамазовы», норвежский историк литерату-
ры О.Хетсо противопоставляет глубокий психологизм писателя его взгля-
дам на литератора как критика социального зла82. Здесь, по мнению
исследователя, заложено противоречие — ведь тщательная разработ-
ка и художественное воссоздание внутренних психологических движе-
ний человека делает изображение любых персонажей «мировоззрен-
чески равноценными». Хетсо пытается представить Достоевского как
художника, занимающего нейтральную позицию по отношению к дей-
ствующим героям, который не чернит своих идейных противников, а
обосновывает их аргументы и мнения сильными выразительными сред-
ствами, что, по мнению норвежского ученого, есть свидетельство того,
что у самого Достоевского окончательное мнение еще не сложилось.
Этому же исследованию принадлежит суждение о том, что одна из
самых глубоких и пугающих мыслей в «Братьях Карамазовых» — ут-
верждение, будто человек любит смотреть на унижение себе подобных
(Хетсо приводит эпизоды, изображающие злорадство монахов, уви-
девших, что останки Зосимы тленны; радость Ракитина при мысли о
том, что Алеша может потерять свою веру; одобрение публикой в суде
приговора Дмитрию и т.д.).
102
Попытки видеть в Достоевском «певца жестокости», безусловно во
многом уходят корнями еще в русскую дореволюционную критику, об-
наруживают точки соприкосновения с характером интерпретации твор-
чества Достоевского у А.Волынского. К.Леонтьева, Л.Шестова. В книге
последнего «Достоевский и Ницше», опубликованной в 1922 г. в Берли-
не и неоднократно переиздававшейся, проводятся параллели между
ницшеанской идеей, «сверхчеловека» и героями русского классика. Л.Ше-
стов предпринимает усилие продемонстрировать историю перерожде-
ния убеждений Достоевского, свести их к стремлению реабилитировать
права «подпольного человека», представить воссозданный писателем
трагичный и противоречивый мир как апофеоз жестокости. Эти идеи,
так радикально препарирующие пафос и значение Достоевского, ска-
зались впоследствии на восприятии и оценках творчества писателя мно-
гими зарубежными искусствоведами.
Некоторые парадигмы современной зарубежной социальной психо-
логии обнаруживают себя и в интерпретации некоторых произведений и
русской классики XX века. Уже упоминавшийся нами К.Мочульский в
монографии, посвященной творчеству А.Блока, делает основной упор
на трагическом мироощущении поэта, пытается доказать, что в основе
его творчества лежало чувство гибели, отравленность иронией84. От-
сюда символистские поиски Блока, стремление поэта отгородиться от
жизни, претворить ее в искусстве, отсюда «превращение живого лица
в маску трагического актера»83. Творческий путь Блока исследователь
представляет через тенденцию, когда «поэт все больше отталкивается
от рационализма и формализма... все глубже чувствует мистическую
основу искусства». Разрабатывая эту идею, в поэме «Двенадцать» кри-
тик усматривает воплощение эротических переживаний поэта, «состо-
яния дионисийского исступления»86.
Близкая оптика видения пронизывает и толкование творчества Горь-
кого как художника, выдвинувшего собственную модель ницшеанского
«сверхчеловека», певца стихии, бури, опьяненного жаждой тотально-
го разрушения87. Достаточно многочислен ряд зарубежных исследова-
ний, в которых творчество Горького представлено как проповедь хри-
стианской морали; проводятся и параллели между его отдельными
произведениями и декадентским искусством.
Обращаясь к опыту анализа зарубежной критикой другой группы
советских классиков, можно отметить пристальное внимание к творче-
ству Пильняка, Зощенко, Пастернака. Стало уже традицией для за-
падного литературоведения проводить параллели между творчеством
Платонова и философским учением Н.Федорова88, определять пафос
творчества Булгакова через постулирование изначальной иррациональ-
ности его мироощущения и т.п?'9.
Безусловно, в каждой крупной творческой фигуре можно обнару-
жить множество неожиданных и парадоксальных граней, следы твор-
ческой манеры его отечественных и зарубежных предшественников.
Важно, однако, не просто акцентировать их, а суметь увидеть в еди-
ном духовно-психологическом комплексе, олицетворяющем пафос твор-
чества художника. На протяжении исторической эволюции ни одно ху-
103
дожественное произведение не остается тождественным самому себе.
Не принятое коллективом в данный момент может актуализироваться
и быть высоко оценено в позднейшее время. Пожалуй, в любую эпоху
в культуре могут сохраняться произведения, содержание и функции
которых в данный момент коллективу не вполне ясны. На это обстоя-
тельство обращали внимание такие крупные литературоведы и исто-
рики искусства, как Р. Якобсон90.
Более того, «автоматизованный», неизменный характер произведе-
ния искусства, был бы причиной, по которой оно не могло быть вновь
использовано. «Каждая эпоха выдвигает те или иные прошлые явле-
ния, ей родственные, и забывает другие. Но это, конечно, вторичные
явления, новая работа на готовом материале. Пушкин исторический от-
личается от Пушкина символистов, но Пушкин символистов не срав-
ним с эволюционным значением Пушкина в русской литературе; эпоха
всегда подбирает нужные ей материалы, использование этих материа-
лов характеризует только ее самое»'".
В этом смысле, строго говоря, обращение к актуализации художе-
ственного наследия всегда будет в той или иной мере субъективно. По-
нятно ведь, что горы литературы, скажем, о Шекспире, вызваны не
тем, что тот умер и не может сказать нам, в чем точно он видел смысл
Гамлета. Произведение художника прошлой эпохи необходимо нам имен-
но потому, что в нем мы находим ответ на новые и новые вопросы на-
шего времени. Отсюда и возникновение новых граней в историческом
бытии давно созданных произведений, ибо, как писал Гегель, «дух тру-
дится над предметами лишь до тех пор, пока в них есть еще некая тай-
на, нечто нераскрывшееся»92. Каждый новый читатель (или постановщик)
Гоголя, Достоевского, Шекспира есть, потому, и как бы его новый ав-
тор, а каждое новое поколение есть новая страница в истории художе-
ственного произведения. Интерпретация классики в силу этих причин
никогда не знает осуществленного, но всегда есть осуществление.
Итак, история художественной классики в культуре чрезвычайно
информативна с точки зрения понимания специфики психологии вос-
приятия разных эпох. Изучая сложные переходы затвердевших
ритуально-канонических прочтений текста в живые и актуальные пред-
ставления последующих эпох, мы оказываемся способны реконструи-
ровать впечатляющую траекторию исторического самопознания чело-
вечества.
Раздел III
КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
стимулы
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
Глава 7. Исторические типы мироощущения
и формы художественного видения
По мере исторического движения духовная жизнь и деятельность
человека получает новую интеллектуальную и психическую оснастку, но
одновременно и некоторые его способности утрачиваются. Сопоставле-
ние исторических типов мироощущения человека разных эпох не может,
поэтому, быть понято с позиций «хуже» или «лучше», а нуждается в иных
измерениях, которые были бы способны охватить все пространство
действия исторического сознания как некую качественную целостность.
Меняющаяся культура человеческой рефлексии, специфический мента-
литет разных эпох скорее свидетельствуют о своеобразии различных ис-
торических состояний психики и сознания человека, чем об их соподчи-
ненности, прямой взаимообусловленности и зависимости.
На каждом этапе истории творческий процесс в искусстве формиру-
ет такой тип специфической художественной целостности, который ока-
зывается весьма информативным в плане обнаружения соответствую-
щего «силового поля» культуры его психологических характеристик.
Более того, на материале художественного творчества оказывается
возможным выявить не только характерные черты мироощущения ти-
пичного человека эпохи, но и ощутить их культурные пределы, исто-
рические границы, за которыми начинается творчество иного «типа.
Немецкая и венская школы искусствознания, проложившие первые
борозды в разработке этого направления в начале XX века, ввели в
обиход новое понятие художественного видения, чрезвычайно плодо-
творное и для понимания мироощущения разных эпох.
Реализация художественной рефлексии всегда подчинена определен-
ному историческому моменту, какой бы сферы творчества это ни каса-
лось. Разделяя этот взгляд, О.Бенеш стремился к обнаружению в образ-
ном строе искусства таких «стилистических фаз», которые были бы
общими как для искусства, так и для науки. «История идей учит нас
тому, что одни и те же духовные факторы лежат в основе различных
сфер культурной деятельности. Это позволяет провести параллели меж-
ду художественными и научными явлениями и ждать от этого их вза-
имного разъяснения». «Творческое сознание в каждый данный истори-
ческий момент воплощается в определенных формах, однозначных для
искусства и для науки»1-2.
Художественное видение обнаруживает себя прежде всего в фор-
ме, построении произведения искусства. В способах художественной
рефлексии раскрывается отношение художника к модели, к действи-
тельности не как его субъективная прихоть, а как высшая историчес-
кая обусловленность.
107
Изучение исторических состояний мироощущения человека показы-]
вает, что в каждую данную эпоху возможно не все. Каждый художник
находит определенные «оптические возможности», с которыми он свя-j
зап. Художественное видение поэтому имеет свою психологическую и
социально-психологическую историю и обнаружение этих «оптических
слоев» может рассматриваться как важнейшая задача исторического
искусствознания, одновременно проливающая свет и на логику разви-
тия человека, на стадии социально-психологического процесса.
Конечно, понятие художественного видения достаточно обобщен-
ное и, учитывая уникальность любой творческой индивидуальности в
искусстве, необходимо проявлять особую осторожность, избегая опас-
ности в процессе анализа «спрямить» художественный процесс, подо-
гнать его под намеченную схему.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с Г.Вельфлином, отдавшим много
сил разработке этого подхода, считавшим, что всеобщий ход развития
искусства не распадается на отдельные точки: при всем своеобразии
художественных индивидуальностей по своему общему мироощущению
они сочетаются в более значительные группы. «Отличные друг от друга
Боттичелли и Лоренцо ди Креди, будучи сопоставлены с любым венеци-
анцем, оказываются, как флорентийцы, схожими; точно так же Гоббема
и Рейсдаль, каково бы ни было расхождение между ними, сейчас же
становятся родственными, если им, голландцам, противопоставить ка-
кого-нибудь фламандца, например, Рубенса»3.
Разумеется, нельзя не считаться и с тем фактом, что у одного и того
же парода различные типы художественного видения сосуществуют. Эту
расщепленность, например, можно наблюдать в XVI веке в Германии,
где Грюнвальд, как подробно показывает Г.Вельфлин, принадлежит к
другому тину художественного представления, чем Дюрер, хотя оба они
современники. Однако можно заметить, что этой расщепленности худо-
жественного видения соответствуют и различные социально-бытовые
уклады, сосуществующие в этот период в Германии, что лишний раз
подтверждает особое значение «видения» как понятия социальной пси-
хологии искусства. Таким образом, чувство формы, непосредственно
соприкасающееся с основами национального восприятия, в более широ-
ком масштабе может быть осознано как источник общезначимого миро-
ощущения культурно-исторической эпохи. Интересные близкие идеи о
пограничном — внутрихудожественном и социально-психологическом —
характере' художественной формы высказывались еще гораздо ранее
А Шлегелем, который считал возможным говорить не только о стиле
барокко, по и о «чувстве жизни» эпохи барокко, и о «человеке барокко».
И хотя эволюция художественных форм никогда не останавлива-
лась, в искусстве нетрудно обнаружить эпохи более напряженных ис-
каний! и эпохи с более вялой фантазией. Проблема состоит в том, чтобы
в этой истории художественных форм суметь разглядеть не только пос-
ледовательный процесс решения собственно художественных задач, но
и найти ключ к пониманию всеобщности породившего их социально-
психологического склада, к пониманию культурной онтологии сознания
человека, действующего в этом времени и пространстве.
108
Отмеченная проблема с ходом истории становится все более ощути-
так как с расширением арсенала найденных искусством приемов,
•; разительных средств, возрастают и способности «самодвижения» ху-
••жественного творчества. Потребность противостоять притуплению
"(•приятия, добиваться интенсивного воздействия на зрителя застав-
нет каждую форму усложняться в том направлении, когда каждый
I идейный эффект предопределяет новый художественный эффект. Эта
• нюномерность привела Г.Вельфлина к заключению, что «в истории
поразительного искусства действие картины на картину в качестве
^актора стиля гораздо значительнее, чем результаты непосредствен-
">го наблюдения природы»4.
И тем не менее, форма и ее новые составляющие элементы явля-
"1ся не в качестве произвольного украшения содержания, а глубоко
предопределены спецификой художественного видения, общей духов-
|"й ориентацией эпохи.
Говоря об активности художественной формы, ее богатых возможно-
1ях в атрибуции культур, нельзя не упомянуть о вкладе, который внес
возвышение статуса формы в западноевропейском искусстве Джотто.
1 )ц первый среди художников отошел от церковных канонов и положил
1. основу своего повествования чувственное восприятие. «Благодаря этому
искусство приобретало новое место в духовной жизни: оно уже пере-
। звало служить лишь комментатором христианского мировоззрения. —
ч ныне художественная форма как таковая становилась драгоценным
1уховным достоянием человеческой жизни»3. М.Дворжак, по достоинству
••ценивший этот факт, считает его началом рождения третьей вселенной:
• миру ограниченному и посюстороннему и миру непреходящему и поту-
юроннему прибавился третий мир — мир художественной концепции
и интуиции, следующий собственным законам.
Усиление авторского начала не только возвышало художественную
лмобытность произведения, но одновременно укрепляло и его куль-
.урную определенность. Не случайно осознание внутренней ценности
•нормы в литературе произошло на этой же стадии культуры. Здесь
i 1<*трарка сыграл роль, аналогичную роли Джотто в изобразительном
л кусстве: возвысил художественную форму до уровня самостоятель-
">и задачи и сути любого творения.
Не следует, однако, на наш взгляд принижать и значение произве-
"IIий так называемого «досистемного периода» европейского искусства
VI по XI в. н.э.) как феноменов культуры своего времени. Некая кано-
нзированная «иррациональная идеальность» раннего средневеко-
"Ю искусства не являлась помехой к тому, чтобы отразить мироощуще-
•;;е и миропонимание человека своего времени. Отсутствие самобытной
|. юрской формы, возможно, и лишало эти произведения дифферен-
зрованных культурных примет, но тем не менее, и общепринятый
• рковный канон может быть оценен как вполне исторически вырази-
н>ный. Например, в период между поздней античностью и романской
Юхой можно заметить, что фигуры в живописных изображениях все-
। в большей или меньшей степени оторваны от зелГш. Они либо парят
-"(•крайнем пространстве, либо не обнаруживая тяжести своего тела,
109
стоят на грани обрамления картин или узкой полоске земли. Уже сам
по себе этот прием прочитывается как стремление придать фигурам
надматериальность, оторванность от всего реального, живого. Можно
обнаружить и иные художественные характеристики мироощущение
этого исторического периода, которые могло выражать искусство, еще
не подошедшее к обретению авторской формы как самостоятельной
ценности.
Появление Джотто знаменовало собой все более явственное рож-
дение в сознании его современников нового отношения к миру. Хотя
пока не изменились религиозные сюжеты его картин — изменилось
видение этих сюжетов. Начиная черпать из источника чувственного
опыта, а не из трансцендентальных предпосылок, художник вызывал у
зрителя впечатление ясного, раскрепощающего мира и духовного ов-
ладения им. В этом коренились и предпосылки постепенного изменения
статуса художника в культуре: из ремесленника он превращается в
вождя и героя народа, из ярмарочного певца — в пророка.
Пожалуй, ни одна из хрестоматий по истории изобразительного ис-
кусства проторенессанса не обходится без ссылок на «Тайную вечерю»
— фреску Джотто, написанную для капеллы дель Арене в Падуе. Это
один из ярких примеров того, как художник меняет выработанную ве-
ками твердую иконографическую схему. Традиционно вдоль фрески
помещали длинный стол, в середине которого сидел Христос, слева и
справа от него — группы апостолов, соединенные в симметричные груп-
пы, а напротив, в отдалении от участников собрания всегда помещался
Иуда. Совершенно иную картину наблюдаем у Джотто: апостолы сидят
за столом двумя рядами, в том числе спиной к зрителям, предатель
сидит в ряду других. Не все апостолы (как бывало прежде) смотрят на
Христа, некоторые обратились друг к другу, склонились к своим сосе-
дям. И композиция, и портретные образы — все призвано создать впе-
чатление, что перед нами не герои, которым предопределено вопло-
щать важнейшие моменты откровения, но просто чувствующие люди,
ощущения и мысли которых, радости и страдание призваны заразить и
самого зрителя.
Продвигаясь по этому пути наполнения старого содержания новым
культурно-художественным видением, Джотто в своих поздних фрес-
ках обнаруживает очень показательный для него прием, отмечавшийся
многими искусствоведами: чтобы усилить художественное воздействие
авторской формы, художник избирает сюжеты случайные и малоизве-
стные, стремясь собственно повествовательный момент отвести в тень6.
Не случайно поэтому впоследствии такие джоттовские начинания,
как перспективное построение пространства, целостная композиция,
интегрирующая картину, красочность, изящество убранства, оказав-
шись созвучными мироощущению Ренессанса, прочно утвердились в
арсенале этой эпохи.
Дальнейшее развитие искусства еще более подтверждает взгляд на
«пограничную» природу художественного творчества: каждый худож-
ник наделен собственным чувством жизни, собственной волей и вместе
с тем эта воля всегда несет на себе печать социально-психологической
110
1 условленности. Именно эта теоретическая посылка лежит в основе
;< следований, призванных дать точную историческую атрибуцию про-
: введений искусства.
Язык живописи не должен рассматриваться в первую очередь с точ-
и зрения чисто художественных и технических проблем — он крепко
паян с самим способом бытия человека разных эпох, его культурного
.(мосознания и мироощущения. Отмечая этот факт как основополагаю-
щий для историков искусства, реставраторов, Карл Фолль, автор из-
|.» стной в начале XX века книги «Опыты сравнительного изучения кар-
н1н», выросшей из занятий художественно-исторического семинара
мюнхенского университета, ставит перед собой задачу «показать раз-
|цчия между ранее существовавшим культурно-историческим толко-
|.<шием художественных произведений и нынешним восприятием ду-
ховного содержания картины»7.
Показательно, что в основе исторической атрибуции картин у Фол-
1я лежат новые установки: исследователь озабочен поисками достовер-
ности не столько с помощью характерных приемов языка, сколько че-
рез анализ доминирующих представлений, вкусов, духовных ориентации
и юхи и степени их выраженности в данной форме произведения искус-
ства. В частности, такой метод применяет Фолль, изучая картину Ганса
I ольбейна «Мадонна», написанную в 1526 году и хранящуюся в Дармш-
1адте, и ее копию, попавшую в Дрезденскую галерею.
Исследователь подробно анализирует измененную фигуру Мадон-
ны, способ выписывания деталей одежды, вещей и делает заключение,
что все привнесенные поправки не позволяют оценить картину как
превосходную копию». Более того, сам характер столь основательных
исправлений позволяет установить, что копиист совсем неверно понял
оригинал и привнес в него редакцию, отразившую видение совсем иной
исторической эпохи. Новые детали языка и трактовки образов картины,
отразившие эстетические и культурно-психологические представления
другой культуры, убеждают, что дрезденская картина — «сознатель-
ное и очень последовательное переложение позднего готического про-
изведения на язык зрелого барокко конца XVII века»8.
Те же сопоставления типов ментальностей разных культур лежат в
основе объяснения своеобразия произведений Леонардо да Винчи и
Рубенса на один сюжет: «Голова медузы». Фолль показывает, что ис-
кусство барокко нередко доходило до чрезмерного преувеличения,
когда уже не отличали искренней страсти от пустого пафоса. Способы
организации изображения также во многом подчинены достижению раз-
шчных эффектов: если Леонардо да Винчи следует старому принципу
композиции, помещая центр тяжести картины в самую ее середину
। кортикальные и горизонтальные линии преобладают), то Рубенс как
чркий представитель эпохи XVII века, напротив, подчиняет компози-
цию диагонали.
Знакомство с искусствоведческими работами, в которых дан анализ
юльшого фактического материала разных эпох, позволяет обнаружить
1 способе организации изображения не просто решение технических
|роблем или ответ на случайные вкусы публики, а глубинные систем-
11 1
ные связи этой композиции с породившей ее культурой. Принцип сиМ1
метрик, ритма, исторические вариации этого принципа всегда отражав
ли существенные сдвиги в культуре восприятия, «аксиоматические!!
взгляды на то, как понимается, как осмысляется человек. I
Так, хорошо известный в истории изобразительного искусства пеЧ
реход от классической симметрии («пирамидали») Возрождения к диа^|
тональной композиции в конце XVI — начале XVII века не был произЦ
вольным. Он знаменовал собой правомерность возникновения точки*
зрении на живописное полотно, отход от имперсональности средневе-
ковья8. Сам этот факт свидетельствовал о новом сдвиге в мироощуще-
нии, о сознательном подчеркивании того, что картина является ре-
зультатом субъективного восприятия зрителя, что художник, как И
зритель, могут свободно менять точку зрения и не обязаны непремен-|
но останавливаться против центральной оси действия.
Когда заходит речь о радиакальных изменениях в языке и образном
строе искусства конца XVI века, то чаще всего этот грандиозный пе-
релом связывают с рождением нового представления о мировом поряд-
ке, с замешательством, которое внес в сознание современников Копер-
ник. Культурная онтология сознания и социальная психология в этот
период характеризуются различными формами переживания потряс-
шей всех идеи о том, что Земля больше не является центром Вселен-
ной. Чаще всего говорят и пишут о существенном влиянии научных
достижений этого времени на художественное творчество. На наш взгляд,
такое сопоставление обосновано лишь отчасти: вряд ли в таких само
стоятельных сферах творчества как наука и искусство следует усмат1»
ривать непосредственное влияние. Скорее можно предположить, что
великие проблемы и идеи конца XVI века столь насытили духовную
атмосферу времени, что независимо друг от друга нашли свое выра-
жение в искусстве и в науке.
Построение пространства в искусстве этого периода сделалось од-
ной из главнейших художественно-культурных проблем. Из простран-
ства статистического оно становится пространством со всевозрастающей
«кривизной», динамическим и напряженным. Эволюция мироощущения*
и художественного видения этой эпохи очень выразительно проявилась
в творчестве П.Брейгеля. Обратим внимание хотя бы на такой хресто-?
матийный пример: Брейгель несколько раз писал картину на сюжет
«Вавилонская башня». Любопытно и, очевидно, не случайно, что в по-
зднем варианте этой картины (из музея Бойманс ван Бойнинген в Рот- .
тердаме) Брейгель придает башне еще меньше устойчивости, по срав-;
нению с башней 1563 г. с легким наклоном в Венском музее истории
искусств.
Большую загадку представляет картина Брейгеля «Падение ангелов»
(1562 г.. Брюссельский музей). Это произведение как бы располагается
на рубеже двух художественных эпох. С одной стороны, характерный
для его современников и предшественников сюжет, с другой — силь-
ный и странный контраст по отношению к возрожденческому художе-
ственному опыту. В картине нет ни равновесия, ни целого в том его.
понимании, как оно сложилось в Ренессансе. — все действие вовлече-
112
но в водоворот кружащихся фантастических существ, в котором отсут-
ствует точка опоры. Изображены не классические обнаженные тела,
как было принято, а невероятные гибриды, выходцы из ночных кош-
маров, люди-маски, бесплотные и сверхъестественные фигуры.
В чем причина того, что Брейгель поступился общепринятой опти-
кой Возрождения и как будто возвращается к архаичному стилю ху-
дожников позднего средневековья? Одни искусствоведы полагают, что
здесь Брейгель стремился противостоять иностранной моде, восстанав-
ливая национальное нидерландское искусство, сохранившее натурали-
стические традиции XV века. Другие возражали, что искусство Брей-
геля не было рассчитано на крестьян: он никогда не писал картин для
церквей или общественных зданий, его картины хранились в домах
коллекционеров9.
Имеются мнения и о чисто субъективных предпосылках пропитан-
ного скепсисом и иронией художника, своими философскими воззрени-
ями уходящего в платонизм и стоицизм10. Высказывались суждения о
пародировании и подражании Босху и т.п.
Здесь, на наш взгляд, налицо переживание относительности и брен-
ности преходящего бытия. Это полотно — взгляд мыслящего и вдум-
чивого человека на великую жизненную суету, на муравьиную жизнь
людей. Человек здесь воспринимается Брейгелем «как часть безликой
массы, подчиненной великим законам, управляющим земными событи-
ями, так же как они управляют орбитами земного шара во вселенной.
Содержанием вселенной является один великий механизм. Повседнев-
ная жизнь, страдания и радости человека протекают так, как предвы-
числено в этом человеческом механизме»11. Это тот властный и целост-
ный охват жизни, который мы находим и у современников Брейгеля —
Рабле и Шекспира. Отто Бенеш связывает такое представление о ми-
ровом порядке с получившей распространение идеей механизма все-
ленной, проникшей в этот период одновременно в философские систе-
мы Кампанеллы, Бруно и объясняющей судьбу человеческого рода через
подчинение тем же механизмам, которым подчинены и Земля, и небес-
ные тела.
Приведенные нами примеры эволюции художественного видения
показывают, что подчас неожиданные парадоксы в развитии художе-
ственной формы отражают глубоко обусловленные сдвиги в способах
мироощущения в том или ином типе культуры. Провести такие парал-
лели между культурно-психологическими переживаниями эпохи и ее
специфическими художественными измерениями всегда нелегко, но
возможно12. Когда же встает задача определения зависимости между
самими историческими самобытными типами художественного видения,
как правило, заявляют о себе субъективные подходы, когда в основу
теории всеобщего художественного процесса кладутся самые противо-
речивые точки зрения.
В новаторском для своего времени исследовании А.Гильдебранд, к
примеру, формулирует задачу проследить эволюцию живописи с точки
зрения архитектонической, понимаемой как изучение способа построе-
ния целостной формы1'. Ученый подчеркивает, что главным принципом
113
такого рода анализа должен быть историзм, а не онисательносты Ху-
дожник может не отдавать себе отчета в предопределенности его лек-
сики устойчивым художественным видением эпохи, «инстинктивная
потребность создать из кусков пережитого нами некоторое целое, тво-
рит и распоряжаежтся отношениями непосредственно из себя, как му-
зыка»14. И вместе с тем, в зависимости от ориентации культуры и соци-
альной психологии, всегда именно та, а не иная проблема выступает на
передний план творчества, разрешается как главная. Художественная
мощь поэтому, по Гильдебранду, «лежит не в произвольном игнориро-
вании предметных требований, но именно в ответе на них, как бы
индивидуально не смешивались между собой проблемы»15.
Исследователь уделяет много внимания тому, чтобы подчеркнуть
историзм художественной формы, которая является результатом не
просто восприятия, а именно переработки восприятия в определенном
смысловом ключе. Однако разрешение этой сложной проблемы худо-
жественно-психологической эволюции формы Гильдебранд видит в том,
чтобы разделить все ее исторические модификации на «правильные» и
«неправильные». Такой подход формирует взгляд на художественный
процесс, который своим развитием как будто бы подготовил и вырабо-
тал некие «всеобщие законы художественной формы», т.е. все истори-
ческие типы художественного видения как бы послужили ступенями к
некоей «абсолютной форме» с совершенной композицией, «оптималь-
ным» взаимодействием контрастов» и т.д. По мнению ученого, существу-
ет такой тип плоскостного изображения в живописи, который дает ил-
люзию представления полной формы предмета и это свидетельствует о
некоей «строгой закономерности, поскольку именно определенное пред-
ставление формы является для всех смотрящих необходимым следствием
определенного плоскостного впечатления»16.
Нормативность концепции Гильдебранда контрастирует с принципом
историзма, положенного им в основу исследования. Можно было бы не
останавливаться подробно на такой точке зрения, если бы она не была
и сегодня достаточно распространенной. Возможность абсолютизировать
представления актуальной для человека культуры оказывается всегда
соблазнительной. Точно охарактеризовал такое заблуждение В.А.Фавор-
ский. Бытует мнение, рассуждал искусствовед, что «есть, мол, правиль-
ный, точный, — объективный, так называемый, академический рисунок.
Он некомпозиционен, он просто точно передает натуру. Композиция же
является после, как некоторое более или менее произвольное украше-
ние этого рисунка... Такой взгляд представляет, следовательно, рисунок
как точную передачу действительности и композицию как особый про-
цесс, почти что трюк, меняющий это объективное изображение в ху-
дожественно интересное. Взгляд этот самоочевидно ложен ...»17.
Любые исторические типы художественного сознания, мироощуще-
ния, художественного видения, конечно же, не могут быть оценены
как звенья на пути к некоему «классическому способу представления»,
а должны быть поняты как самобытные культурно-психологические
модусы, выразившие себя через специфическую художественную це-
лостность, имеющую самоценное значение.
114
Гораздо более успешной попытка объединить разнообразные типы
художественного видения в закономерный процесс оказалась у знаме-
нитого современника Гильдебранда — Генриха Вельфлина. Один из глав-
ных его трудов «Основные понятия истории искусств» (первое издание
появилось в Мюнхене в 1915 году) и по сей день активно используется
историками и теоретиками искусства.
Вельфлин в полной мере отдает себе отчет в том, что культурная
обусловленность мировосприятия в каждую эпоху полагала и опреде-
ленные границы художественной трактовки мира. В этом смысле ус-
тойчивые формы художественного видения эпохи имеют общий корень,
единую основу с общими формами созерцания в обыденном сознании,
внехудожественного видения, которые, будучи выстроены в законо-
мерную последовательность, могли бы пролить свет на историю челове-
ческого восприятия в целом.
Подобный подход, осуществленный немецким исследователем в ос-
новном на материале искусства Возрождения и барокко, явился, фак-
тически, первым опытом построения «истории искусств без имен». Эта-
пы этой истории — специфические типы художественного видения —
выступали ни чем иным как художественно превращенными формами
культурной онтологии мироощущения человека разных эпох.
Вельфлин формулирует несколько пар понятий и их модификации
внутри каждой пары, чередование которых, по его мнению, характе-
ризует глобальные тенденции художественного творчества от Возрож-
дения (XV в.) к барокко (XVII в.). Это движение осуществляется в сле-
дующем направлении:
1) от преимущественной пластичности художественного образа — к
его живописности;
2) от плоскостности — к глубине;
3) от замкнутого пространства — к открытому;
4) от множественности — к единству;
5) от ясной — к относительно неясной форме. Для содержательного
понимания вышеназванных тенденций важно отметить, что русский
перевод четвертой пары понятий в разных изданиях разнится: можно
встретить ее обозначение через «тектоническое — атектоническое»;
имеется и другой вариант перевода: «от составного — к слитному».
Безусловно, многие из приведенных понятий вошли в научный оби-
ход еще ранее, были сформулированы на рубеже XVIII — XIX веков.
Вельфлин сделал смелую попытку от отдельных характеристик и опи-
саний перейти к обнаружению всеобщих закономерностей искусства как
целостного процесса, прочертить его вектор.
Известно, например, что в эпоху Возрождения даже у таких заме-
чательных мастеров светотени как Леонардо да Винчи, Тициан, рас-
пределение световых и красочных пятен в живописи было строго сообра-
зовано с расположением объемов и контуров предметов и, по существу,
имело второстепенное значение. В соспоставлении таких установок с
XVII веком нельзя не заметить, что, к примеру, Рембрандт, Тинто-
ретто, Рубенс, Веласкес с гораздо большим интересом относились к
соотношениям световых и цветовых пятен, вступая в сложные взаимо-
115
отношения с линейной композицией и композицией цвето-световой. Чаще
всего как пример вытеснения одного видения и победы другого искус-
ствоведы анализируют «Ночной дозор» Рембрандта, в котором цветовая
и световая композиция даже несколько перебивает линейную. Самосто-
ятельное воздействие светлых и темных частей, своевольное располо-
жение световых пятен в значительной мере изменяет и обогащает смысл
картины, привлекает внимание к отдельным фигурам второго плана,
отвлекает от центральных персонажей, линейной композиции и т.д.
Одним словом, как специалисты прошлого, так и наши современни-
ки едины в оценке этого перелома: «Признавая основой композиции
расположение фигур и линий, эта новая живописная система выдвига-
ла, вместе с тем, как самостоятельную сторону реального мира, об-
ласть световых и цветовых явлений, которая еще в глазах большинства
мастеров итальянского Возрождения, за исключением разве венециан-
цев, имела второстепенное значение. Все дальнейшее искусство дока-
зало правоту Рембрандта, плодотворность его творческого метода, ко-
торый он в своем произведении отстаивал»18.
Оценивая подобные сдвиги в художественном видении от линейнос-
ти к живописности, от плоскостности к глубине и т.д., Вельфлин под-
черкивает самобытность каждого такого типа художественного пред-
ставления как феномена культуры и психологии своего времени. «То
обстоятельство, что барокко отказалось от идеалов Дюрера и Рафаэля,
знаменует собой не прогресс и не упадок, но другую ориентацию к
миру»19.
По этой причине различия в художественном видении — это не
различия достоинства. Нововведения барокко не стоят ни в каком пря-
мом отношении к умению лучше изображать пространственную глуби-
ну, «оно означает скорее в корне иной способ изображения, подобно
тому как и «плоскостный стиль» в нашем смысле не есть стиль прими-
тивного искусства, но появляется лишь в момент полного овладения
перспективным сокращением и впечатлением пространства»20.
Разумеется, появившись как первая попытка реализации новой ме-
тодологии историко-искусствоведческого исследования, труд Вельфли-
на не был свободен от некоторой схематизации художественного про-
цесса. Оставляя за рамками нашего внимания всестороннюю оценку этой
работы, отметим одно его примечательное противоречие: с одной сто-
роны переход от осязательного, пластического восприятия к восприя-
тию живописному, чисто оптическому имеет свою естественную логику
и, по утверждению Вельфлина, «не мог бы совершаться в обратном
порядке»21. С другой стороны, исследователь констатирует господство
живописности как процесс, продолжающийся только до конца XVIII
века и достигающий своего последнего цветения в картинах Гварди или
Гойи. «Затем наступает резкий перелом, кончилась целая глава истории
западноевропейского искусства, следующая же начинается новым при-
знанием господства линии»22.
Вновь налицо новый переход, но, тем не менее, теперь уже в об-
ратном порядке. Стремление Вельфлина увидеть в истории искусства
вектор, закономерный процесс оказалось «работающим» только на огра-
116
ниченном временном отрезке, охватываемым XV — XVII веками. Более
масштабный охват истории либо демонстрирует модификации понятий,
которыми оперирует Вельфлин в самой неожиданной последовательно-
сти, либо их исчерпанность, необходимость введения новых.
В данном месте своей концепции Вельфлин остановился перед за-
гадкой, остающейся неразрешимой и для современного искусствозна-
ния: те приемы художественного творчества, которые, казалось бы,
отошли навсегда в прошлое вместе с породившими их культурами, вне-
запно воскрешаются более поздним культурным сознанием, вовлека-
ются в лексику новых художественных эпох как актуальные, вырази-
тельные, смыслонесущие формы.
Разумеется, «открытие прошлого» на новых этапах истории всегда
совершается на иной социально-психологической и культурной почве и
поэтому те приемы, которые оказались заимствованы из других эпох,
оказываются не тождественны сами себе, не повторяют в точности уже
отработанные функции. И тем не менее сам по себе факт, что для
выражения новых духовных ориентации эпоха испытывает потребность
в оптике, возникшей в далеко отстоящих от нее культурах, очень зна-
менателен. Это обстоятельство, по-видимому, — важный аргумент в
пользу концепции единства всеобщей человеческой истории и культуры.
В самом деле, несмотря на все уже упомянутые новшества творче-
ства Джотто и оценку его как поворотной фигуры в истории западно-
европейского художественного видения, нельзя обойти молчанием тот
факт, что проблема перспективного построения пространства нередко
толкуемая как открытие Джотто, уже использовалась в позднем ан-
тичном искусстве. Подобные пространственные представления, напри-
мер, были обнаружены в больших циклах росписей в старом соборе
святого Петра и в базилике Сан Паоло фуори ле Мура во времена
Джотто еще остававшихся в целостности. В этих росписях, созданных
в период раннего христианства и выразивших нормы живописи, дос-
тигнутые еще античностью, вполне отчетливо ощущаются определен-
ные схемы в изображении интерьеров и пейзажей23.
Вспомним и такой чрезвычайно важный исторический эпизод как
эволюция музыкального мышления от Возрождения к XVII веку. Как
известно, господствующей музыкальной формой в эпоху Ренессанса
оставалась полифоническая религиозная месса, пришедшая из средне-
вековья и не имеющая никакого отношения к тому, что возникало как
зачатки музыкального стиля Ренессанса. Первая профессиональная свет-
ская музыкальная школа Возрождения — ars nova — стремилась возро-
дить идеалы античности в музыке, обратилась к сочинению произведе-
ний на основе мелодии, одноголосия. Однако в тот период культурные
предпосылки для музицирования на основе древнегреческой монодии
еще не созрели. Ярко выраженная мелодичность светской итальянской
школы XIV века, усиливающаяся тенденция к слиянию музыки и слова
так и не привели к одноголосию, столь естественному, казалось бы,
для музыки бытового склада.
Этот пример — один из величайших парадоксов в развитии языка
искусства, эволюционирующем в музыкальном творчестве Возрожде-
117
ния в обратном направлении — от более сложного к более простому.
Такое движение диктовало особое мироощущение человека в культу-
ре Возрождения: ведь коллектив мог петь только более сложную поли-
фонию, а более простое одноголосие могла петь только индивидуаль-
ность, которая в эту пору еще не сформировалась.
«Нашим современникам, не занимавшимся специально историей
музыки, трудно поверить в то, что в профессиональном искусстве слож-
нейшая многоголосная полифония утвердилась на много веков раньше,
чем одноголосная мелодия, что сольное пение — наиболее непосред-
ственная форма музыкального выражения — появилось в профессио-
нальном творчестве только через три столетия после, что и народно-
бытовые жанры с их ясно выраженным тяготением к господству верхнего
голоса и прозрачной почти аккордовой полифонией, тем не менее все
еще оставались многоголосными»24.
Подобные, казалось бы, «алогизмы» в эволюции художественного
языка, его непредсказуемые возвраты к прошлому, либо, напротив,
радикальные новшества, минующие сразу несколько стадий, убежда-
ют в том, что возможности самодвижения способов художественной
выразительности — не единственный фактор эволюции художествен-
ного процесса. Художественное видение, таким образом, предстает и
как начало обусловливающее, и как начало обусловленное. А если это
так, если художественное творчество любой эпохи есть составная часть
человеческой деятельности и сопутствующих ей доминирующих форм
сознания и мироощущения, то и объяснить всеобщий художественный
процесс как единое сквозное движение через границы, отделяющие
один этап от другого, возможно только при условии привлечения ис-
следований, способных пролить свет на всеобщую логику развития че-
ловечества как рода.
Ведь как мы уже имели возможность наблюдать, и художественная
преемственность, и традиция культуры не раз в истории разбивались
новыми установками социально преобразующего себя человека, не все-
гда на первый взгляд ясными лабиринтами его сознания.
Без соблюдения этого условия, без привлечения исследований об-
щегуманитарного характера, изыскания в сфере социальной психоло-
гии искусства будут всегда методологически ограничены, замыкаясь воп-
росами: исходя из чего стало возможным то или иное художественное
видение? В соответствии с какой почвой нового мироощущения возни-
кает стиль, художественный идеал? и т.д.
История, описываемая таким образом, сосредоточена на объяснении
условий возможности, возникновения, жизни и угасания отдельных
художественных систем и будет чувствовать себя бессильной в понима-
нии всеобщей теории художественного процесса с позиций историко-
психологического развития.
Для того, чтобы продолжить рассмотрение ряда намеченных выше
вопросов, перейдем к анализу иных механизмов, способных пролить
свет на способы сопряжения художественного и культурно-психологи-
ческого.
Глава 8. Стиль как духовно-психологический
горизонт исторической эпохи
Особые принципы толкования и интерпретации мира в искусстве
находят свое выражение в понятии стиля. В привычном понятии худо-
жественный стиль заключено единство интеллектуально-смыслового и
эмоционально-психологического. В этом смысле «стиль не есть нечто
такое, чем обладает искусство, а нечто такое, чем искусство является»1.
Через восприятие стиля, его предметных форм эпоха получает возмож-
ность «пережить» самое себя, прочувствовать свои глубинные истоки.
Формы такого переживания исторической эпохой своей специфической
субстанции также могут быть выявлены через понятие стиля не толь-
ко в искусстве, но и в других ее областях — общеупотребительными
стали понятия «стиль мышления», «стиль жизни», «стиль поведения».
В истории изучения культуры это понятие уже использовалось в
расширительном толковании. К примеру, В.Фриче и И.Иоффе еще в
20-е годы оперировали понятием «стиль эпохи», выявляя ее главную
стилевую черту2. Однако само понимание стиля у этих авторов своди-
лось, главным образом, к совокупности отдельных приемов. Позже это-
му понятию не повезло: внимание лишь к аспекту формы в анализе
стиля подверглось критике, и его разработка на протяжении несколь-
ких десятилетий в отечественной эстетике почти не велась.
Между тем в самом феномене стиля таится глубинное содержание,
проливающее свет на явные и скрытые интенции культуры, отражаю-
щее ее духовную субстанцию.
О возможности и целесообразности его широкого толкования говорит
тот факт, что многие исследователи связывают понятие «стиль» с такими
основополагающими философскими понятиями, как «человек», «жизнь»,
«деятельность», полагая, что определенный исторический склад чело-
века является родовым для образования соответствующего стиля»3.
Аналогичные догадки о стиле как знаке динамичного самосознания
культуры находим и у других художников. «То, что мы называем вели-
колепием и живостью описания, — писал Б.Пастернак, — это не толь-
ко черты, относящиеся к стилю, но нечто гораздо большее. А именно
— присутствие нового восприятия и философского понимания един-
ства и цельности жизни»4.
Расширение содержательных границ стиля, перенесение этого по-
нятия с искусства на всю культуру может помочь продвинуться в пони-
мании сложной диалектики общего, особенного и индивидуального в
развитии духовных форм. Это понятие может стать одним из централь-
ных в построении модели исторического процесса, в выявлении пара-
метров. которые репрезентировали бы коренные качества историчес-
ких типов культуры, обобщающие ее эмпирическое бытие.
119
Изучение культуры сквозь призму стилей позволяет обнаружить не
только принципы ее структурного членения, но и выявить динамичес-
кие характеристики процесса формообразования в культуре, придания
уникального облика ее частям и целому. Именно эти возможности сти-
левого анализа спровоцировали в последние десятилетия рост к нему
интереса зарубежных ученых5.
Каждый стиль в истории культуры имеет свое название, выявляет
определенную целостность устойчивой культурной формы и одновремен-
но отличается своим уникальным единством от единства любого друго-
го духовного образования. В силу этого любой стиль предстает важней-
шей пространственной и временной характеристикой одновременно,
снимающей противоречие между состоянием и процессом. Как верно
отмечал западногерманский ученый В.Вейсбах, стиль — это образ вре-
мени и образ культуры, в основе которого лежат «культурно-психоло-
гические, формально-эстетические, духовно-душевные факторы»6.
Характеризуя определенный тип целостности духовного бытия и его
своеобразное качество, свойственное культуре, каждый стиль одно-
временно позволяет почувствовать и скрывающиеся от внешнего взора
глубинные установки культуры, то есть содержит в себе некую инту-
итивную пружину, невербализуемый смысловой фермент, обладающий
как способностью суггестивного воздействия, так и придания этой суг-
гестии направленной духовной устремленности.
Однако расширенное толкование стиля, о котором мы ведем речь,
требует некоторого, уточнения понимания его внехудожественных смыс-
лов, границ применения. Отражение в стиле «шкалы» всех проявлений
духовности в их динамике позволяет рассматривать стиль как обобща-
ющий знак определенного культурного видения, т.е. с точки зрения
смыслового единства, которое несет в себе любая культурная форма.
Именно это качество стиля и является основополагающим, делает его
необходимым инструментом анализа любых — как художественных,
так и нехудожественных — форм культуры.
Обогащающаяся и изменяющаяся знаковая функция стиля есть не
что иное, как зримое действие принципа избирательности в культуре,
когда неосознанные внутренние интенции культуры проступают в сти-
ле через язык его форм.
Рост и дифференциация духовной жизни ведет к более сложному
составу и взаимопереплетению доминирующих категорий культуры,
размыванию ее единого стержня. Послевозрожденческие эпохи в зна-
чительной мере отмечены «разноголосицей» во взаимодействии куль-
турных форм. Усиливающаяся автономность и нередкая оппозицион-
ность их развития приводит к тому, что одни из них отстают в своем
развитии от господствующего строя мышления и мироощущения, а
другие опережают его. Стиль как раз и позволяет обнаружить, как «ча-
стное» видение отдельных культурных форм или даже индивидуальных
творцов становится общим, то есть завладевает культурой в целом. И
наоборот, как доминирующие параметры восприятия и мышления «под-
тягивают» до своего уровня отстающие виды деятельности.
Глубиной социально-психологической и культурологической разра-
120
ботки отличается понятие стиля в трудах Мейера Шапиро. «В стиле
заявляет себя культура как целое, он является видимым знаком ее
единства»7. Не только.художественному творчеству, но и всем другим
видам человеческой деятельности присуще общее стремление образо-
вывать выразительные и связные структуры. Превращение отдельных
( тилевых приемов в устойчивую формулу со своими постоянными эле-
ментами всегда преследует цель достижения нужной выразительности,
определенного «качества» действия в то или иное время. Стиль отсюда
— это язык, на котором говорит эпоха, язык, обеспечивающий «про-
никновенное единство» всех способов ее чувствования, мышления, по-
ведения, творчества, восприятия и т.д. Понятен и следующий отсюда
вывод: «Совершенное искусство возможно в любом стиле и на любой
сюжет»,— ведь стили эпох не могут соревноваться между собой в выра-
зительности или завершенности. Сама внутренняя природа того или иного
стиля уже наделена содержательностью особого качества — основопо-
лагающие приемы культурного и художественного видения эпохи все-
гда есть следствие ее предельного видения в трактовке самой себя,
картины мира, понимания природы человека и т.д. Как следствие — в
истории культурных эпох не существует никакого предпочтительного
смысла и способа изображения. Исторические эпохи сочетаются между
собой не по принципу субординации, а по принципу координации, каж-
дая предстает осуществлением только ей присущей иерархии ценнос-
тей. Вопрос об общей направленности европейского художественно-ис-
торического процесса — чрезвычайно сложный и противоречивый9. Что
же касается художественной эволюции, действующей в рамках отдель-
ного стиля, то здесь в теоретическом искусствознании были выдвину-
ты серьезные гипотезы. Такие выдающиеся исследователи, как Г.Вель-
флин, А.Ригль, Э.Панофский, разработали собственные модели развития
художественного сознания, которые, по их мнению, вытекают из им-
манентной природы художественных форм. Их теории представляют
особую важность для изучения исторической психологии на материале
искусства, поскольку каждая из них в той или иной степени отражает
эволюцию глубинных механизмов восприятия, выстраивает закономер-
ную траекторию смены приемов творчества в истории10.
У Вельфлина, как было показано ранее, этот вектор исторического
движения творчества и восприятия обнаруживает себя в пространстве,
развертывающемся от пластичности к живописности, от плоскостности
— к глубине и т.д. У А.Ригля характер художественного изображения
последовательно проходит череду стадий от архаики к классике и от
нее — к импрессионизму11. Такая эволюция типов художественного во-
ображения соответственно ознаменована доминированием воли, затем
ощущения (переживания) и, наконец, мысли.
Широкую популярность приобрели и изыскания Э.Панофского, раз-
работавшего методологию иконологического анализа художественного
произведения. Разные уровни «снятия» содержания позволяют осуще-
ствить интерпретацию художественных форм, символов, мотивов как
фокусированного выражения эпохи, базового типа личности этой эпо-
хи, устойчивых механизмов восприятия и т.д.12. Исследования Панофс-
121
ким «зашифрованных» соотношений текстуальной и изобразительной^
традиций привнесли плодотворные результаты в понимание тенденций
эволюции художественного сознания и исторического менталитета в
целом13.
Понимание сквозной природы стиля, проявляющегося как в при-
емах художественного претворения, так и в разнообразных способах
деятельности в ту или иную эпоху, дали повод говорить о «человеке
греческой классики», Средневековья или Возрождения. Все это необы-
чайно возвысило в глазах представителей разных наук роль художе-
ственного творчества как мощной формы социально-психологической
регуляции. Если великий художник является непосредственным источ-
ником стиля эпохи («За изменения в формах эпохи отвечает один чело-
век»14), следовательно, ему подвластно усиливать или ослаблять ин-
тенсивность психических переживаний современников, направлять их
в нужное русло и т.д.
Этот подход выявил и очевидные трудности. Во-первых, множество
стилей и художественных течений создавались без резких изменений или
отчетливых начальных точек. Феномен художественной инерции, «пере-
текания» приемов выражения обнаруживал, порой, немало общего в
способах создания художественных конструкций сменяющих друг друга
стилей. Во-вторых, авторское сознание часто оказывалось не столько
детонатором социальной психологии, сколько ее пленником. Полагаясь
на внутреннее чутье, художник отыскивает формальные начала и соот-
ношения, которые в выразительном отношении окажутся наиболее убе-
дительными. Однако труднейший процесс утверждения новых критериев
вкуса в итоге, нередко, оказывается производным от уже ставшего
мироощущения. Таким образом, самая успешная из новых попыток, что
повторяется и развивается в стилевую норму в итоге сама оказывается
спровоцирована «новым чувством жизни», доминантным состоянием со-
знания.
Разумеется, широкое толкование стиля как не ограничивающегося
специфическими приемами, но выражающего собой культурное виде-
ние, «манифестацию культуры как целого», по выражению М.Шапиро,
не может сочетаться с тенденцией к дифференциации творцов и их
произведений только по принципу стилевого творчества. Так, выявляя
содержание и творческую манеру мастеров XVIII века, А.М.Кантор,
пишет, что «почти никто из названных художников (Буше, Грез, Ват-
то, Шарден, Гудон, Фальконе, Левицкий, Рокотов и другие. — О.К),
как и великий испанец Гойя, не укладывался в стилевые рамки. «Над
стилями» стояли и некоторые крупнейшие художники XVII века — Ве-
ласкес, Рембрандт»13. Действительно, это так. Никакое творческое про-
изведение не должно и не может укладываться в теоретически выяв-
ляемые стилевые ограничения. В предлагаемом нами понимании стиль
— это обобщенный исторический конструкт. И если бы отдельное
произведение целиком растворялось в стилевых нормах — это означа-
ло бы, что перед нами суррогат, лишенный голоса автора, индивиду-
альной неповторимости его руки, произведение, которому нечего вы-
разить, кроме повторения распространенных приемов-формул.
122
Нельзя в этой связи не сказать и о том, что сама природа искусства
шкова, что за «обычным» смыслом художественного образа всегда скры-
вается «необычный». То есть в самом способе художественного изъясне-
ния заложена способность раздвигать смысловые границы образа; даже
через воспроизведение устоявшихся форм композиции и взаимодействия
нести такую «прибавку», которая выражется и в передаче особого эмо-
ционального состояния, и в личностной доверительности диалога худож-
ника и зрителя, в том «нечто», что определяет уникальность и неповто-
римость духовного содержания каждого произведения искусства.
Для достижения такого эффекта в художественно-творческой дея-
юльности в известной степени обязательна установка на «превышение
। ребований» — эстетических, культурных, предъявляемых к каждой
вещи, предмету, модели. Только в таком случае в образных комбина-
циях и сочетаниях проявятся новые духовные горизонты. Границы же
предъявления этих превышенных требований детерминированы куль-
турной эпохой. Поэтому каким бы «надстилевым» ни казалось творче-
ство того или иного автора, «необщее» всегда получается как итог уси-
лий, направленных на общее; на общее как исторически очерченные
поиски общезначимых конечных смыслов бытия.
Стоит ли поэтому удивляться тому, что не только творчество от-
дельного автора, но и порой отдельное произведение может быть про-
читано в разном стилевом ключе. Принадлежность искусства многим
стилям есть, таким образом, не только результат роста противоречиво-
сти в составе духовной культуры, эти стилевые напластования как бы
спровоцированы самой природой искусства, возможностью бесконеч-
ных углублений и комбинаций в подстрочных смыслах художественно-
го образа. Не случайно поэтому, когда представители литературы ба-
рокко объявляют себя продолжателями эстетико-стилевых принципов,
заложенных в литературе римской патристики16 последние сами уже
могут восприниматься в ином ключе. Точно так же, как богатый образ-
ный строй творчества Гоголя, Лермонтова, Достоевского, не сводящийся
жестко ни к одному стилевому направлению, позволяет прочесть их
произведения и в плане принадлежности их к реализму, и в плане
романтического стиля.
Строго говоря, ни одно художественное произведение поэтому не в
состоянии представить собой всю полноту единства определенного сти-
ля, точно так же как и стиль в качестве доминирующей культурной
формы не может быть выражен в отдельном продукте культуры, в
деятельности одного индивида.
Это обстоятельство тем не менее не лишает сам феномен стиля
статуса реального существования. Хотя, как можно заметить, метафо-
ричность применения этого понятия по мере возрастания его куль-
турного фона, усиливается. Нам кажется продуктивным выявить
некую иерархическую структуру этого понятия, которая дифференци-
ровала бы типы стилевого единства, по степени их обобщенности. Наи-
более общее различие, которое отделяло бы доминирующие принци-
пы всей культуры от целостного единства ее отдельной сферы и затем
от уникальной стилевой вариации можно выразить через понятия все-
'•бшего, основного и индивидуального стиля.
123
Всеобщий стиль олицетворяет собой строгое и всепроникающее един-
ство внутрихудожественных и общекультурных приемов воображения;
менталитет искусства, менталитет эпохи, психологию «базовой лично-
сти» этой эпохи. Основной стиль распространяет свое влияние лишь на
художественную сферу, или даже отдельную группу искусств. И, на-
конец, индивидуальный стиль подчеркивает достаточно оппозиционное
положение отдельного автора по отношению к приемам творчества его
современников, социально-историческому контексту в целом.
Интенсификация духовной жизни в поствозрожденческие эпохи,
приводящая к усилению существующей между стилями напряженной
связи, когда около одной формирующей тенденции сосуществует дру-
гая, ведет к изменению понимания самого существа стилевой целостно-
сти культуры. Фиксируется феномен культурной целостности нового
порядка. Не менее важным свойством поэтому, чем изначальная общ-
ность культурных сфер, теперь видится их взаимная функциональная
согласованность. Эта внутренняя борьба стилевых тенденций, олицет-
воряющая динамику жизни самой культуры, хотя и приводит к уско-.
ренной смене субстанции культуры, но тем не менее не отменяет эту
субстанцию вообще как организующее ядро культуры. Таким образом/
стиль в широком культурологическом смысле — это как бы действи-
тельность второго порядка, реальность которой не очевидна. Однако в
каждый исторический период именно эта действительность является,
тем интегрирующим центром, который позволяет говорить о культуре'
как целостности.
Главные признаки стиля состоят в том, что качественную опреде-,
ленность содержания социальной психологии конкретной эпохи стиль
выражает в столь же своеобразной определенности формы. Такого рода
зримая, предметная представленность духовного содержания эпохи
позволяет не только умозрительно отметить ее основные характерис-
тики, но пережить это содержание через культурно-стилевые формы,
прочувствовать его глубинные смыслы.
Стиль барокко. «Чувство жизни барокко».
«Человек барокко»
«Что последовало за Возрождением?»17 Подобные заголовки науч-
ных исследований не случайно завершаются знаком вопроса, ибо пос-
левозрожденческое развитие, захватившее период вплоть до начала
XVIII века, в самом деле характеризуется отсутствием единой пози-
тивной культурной программы и потому воспринимается как «истори-
ческое бездорожье».
Доренессансные переходные эпохи в культуре носили столь дли-
тельный характер, что внутри них на протяжении нескольких веков
успевала сложиться и поддерживаться своя культурная форма, отсюда
и эта переходность, ломка старых устоев, вызревание новых (как это
было, например, в эпоху эллинизма) не выступали обнаженно.
То же самое касается и Возрождения. Олицетворяя собой соедине-
124
ню двух больших эпох («формула этой переходной культуры... уже не
редневековая и еще не буржуазная»13), Возрождению тем не менее
далось сформировать и некоторое время удерживать господство идеа-
|ов, которые придали целостность и единый идейный пафос развитию
искусства, науки, морали. В этом контексте культурные процессы XVII
кека выступают как явное отрицание, как время брожения, в котором
'прессовано действие разрушительных и созидательных сил.
Для нашего рассмотрения этот период и последующие этапы куль-
туры представляют особый интерес, так как знаменуют собой новый
гнп развития, продолжающегося по сей день и вызванный к жизни
возникновением общества, преимущественно новационного типа19.
Начиная с эпохи Нового времени социокультурная деятельность рег-
чаментируется уже не природой и традицией, а собственной динамич-
ной основой, созданной предпосылками общественной деятельности пред-
шествующих поколений.
Именно к этому периоду зрелости и накопленное многообразие куль-
турного опыта обеспечивает возможности его интенсивной внутренней
динамики, самодвижения культур. В этом отношении возникновение в
XVII веке явления параллельного, а не последовательного развития
художественных стилей есть не что иное, как отражение действия
свободной культурной рефлексии, ищущей и экспериментирующей, не
стесненной жесткими социально-ценностными установлениями.
Одновременное сосуществование, начиная с Нового времени, раз-
личных художественных моделей мира разрушало «автоматизм» куль-
турной ориентации индивида, возможный в предшествующих условиях.
Теперь, чтобы выявить свою культурную принадлежность, идентифи-
цировать себя с определенными культурно-социальными группами, нуж-
но было сделать выбор. Эта задача способствовала углублению индиви-
дуальности и росту личностного самосознания. В Новое время происходил
и обратный процесс. Возрастание роли авторского начала в художе-
ственном творчестве, вовлечение произведений искусства в систему
рыночной экономики расширяло возможности формирования индиви-
дуальных стилей, утверждения собственного видения, что, безуслов-
но, также обогащало многообразие духовно-культурного процесса.
Одновременное сосуществование двух и нескольких художествен-
ных стилей вело, начиная с Нового времени, к сужению стилевой общ-
ности культуры, неоднородности поисков в каждой ее области. Если, к
примеру, романский стиль, как отмечал Д.С.Лихачев, в полной мере
может быть оценен как широкий и всеобщий, охватывающий науку,
искусство, религию, подчиняющий все социальные установления раз-
витой церемониальности, то «по мере дифференциации человеческого
i ворчества сфера действия стиля становится все уже. Думаю, что ба-
рокко не захватывает собой науку, оно менее определенно, чем стиль
романский, выражено в политической мысли и быту»2и.
Тем не менее способность художественной культуры найти для сво-
< го развития в переходный XVII век такуй стилевую форму, как ба-
|><)кко, косвенно свидетельствует о существовании неких констант в
• неприятии и мироощущении этой эпохи. Попытаемся выявить, в какой
125
степени главные стилевые характеристики барокко репрезентирую
собой духовно-категориальный строй этого этапа культуры.
Главенствующее положение стиля барокко в истории искусства XVII
века несомненно. Существенно и то, что он не ограничивается рамками
какой-либо национальной принадлежности, а пронизывает буквально
все европейские культуры с некоторой хронологической спецификой.
Таким образом, можно сделать вывод о неслучайности барочного ми-
роощущения в период между Возрождением и Просвещением, об опре-
деленном параллелизме и регулярности духовно-художественного раз-
вития Европы, хотя и «сама продолжительность фазы барокко в каждой
литературе неодинакова. Во Франции и Англии период барокко был
относительно коротким, в Испании, Германии и Центральной Европе,
напротив, он длился около двух веков»21.
Это обстоятельство позволяет видеть в барочном мировосприятии
такие качества, которые в этот момент оказались доминирующими и в
философском, и в научном творчестве, несмотря на то, что деятель-
ность в этих сферах культуры по своей форме не может быть сведена
к стилю барокко.
Глобальная перестройка ценностных установок эпохи, интенсивная
работа культурного самосознания сформировали основополагающие
черты барокко: видение мира как метаморфозы, акцент на парадок-
сальности в восприятии действительности, подчеркивание ее ожесто-
ченной динамики, безличной стихийности22, фиксируемые историками
литературы, изобразительного искусства, музыки.
Патетика и внутренняя раскованность образного строя барокко, бес-
конечная вариативность, перетекание и самодвижение его форм дела-
ют этот стиль в глазах ряда исследователей синонимом самой движу-
щейся, трансформирующейся культуры. В этом смысле барокко может
рассматриваться как вневременное явление, вечный антитезис класси-
цизму, как принципиальная альтернатива свободы творчества — пра-
вилам, фантазии — реализму, ощущения бесконечности и незакончен-
ности всего сущего — строго ограниченным формам.
Барокко, последовавшее за тем периодом в искусстве, который
А.А.Смирнов определил как творчество представителей «трагического
гуманизма» (Шекспир, Монтень), с особой силой выразило крах устой-
чивой картины мира, девальвацию иллюзорных идеалов Возрождения
и всеми своими средствами было устремлено к тому, чтобы до предела
развить ощущаемые противоречия, вскрыть двуликость действитель-
ности, показать, что она в равной степени заключает в себе возможно-
сти «ада» и возможности «рая». Отсюда и близость искусства барокко
всем уголкам деятельности, оно «не испытывает страха ни перед чем
отдельным, ни перед самым жутким, ни перед самым безобразным,
отвратительным и омерзительным»23.
Такая установка, заключающаяся в потребности испробовать, про-
играть в художественном мире полярные ситуации и положения, дове-
сти до крайности ту или иную тенденцию, как нельзя более соотноси-
лась и с философским дуализмом XVII века, характерным для всякого
переходного времени. Выделение Декартом двух субстанций (умопос-
126
шгаемой и телесной, видимой) вместо одной было, очевидно, формой
восстания против предшествующего религиозного монизма, а с другой
«•тороны — отражало и разорванность самосознания культуры XVII века.
)та разорванность была не только следствием противостояния челове-
ка и окружающей его среды — социальной, культурной, но усилива-
лась и крупными научными открытиями, главным образом — Коперни-
ка, «расшатавшего» стройную и обманчивую систему мироздания.
Подобные параллели барочных представлений с духовно-содержа-
гельными процессами в философии и науке подтверждают репутацию
барокко как стиля, достаточно емко репрезентирующего культурную
специфику этой переходной эпохи.
Как уже было отмечено, эвристическая ценность любого стиля со-
стоит не только в способности проливать свет на сиюминутное воспри-
ятие действительности художником, но и в умении выражать особую
установку социальной психологии, те незримые мировоззренческие
допущения, которые обусловливают направление ее движения.
Разумеется, в искусстве эти культурно-мировоззренческие допуще-
ния не ограничиваются познавательными установками эпохи, а охваты-
вают всю совокупность жизненных интересов личности. Самое примеча-
тельное состоит в том, что даже едва заметные стилистические сдвиги
в искусстве способны порою раньше других форм творчества отразить
еще только обозначившиеся изменения в общей картине мира, т.е.
фундаментальных допущениях эпохи. При этом даже оперирование
образным строем с устоявшейся символикой оказывается для искусства
не помехой. Так, если искусство раннего средневековья обычно подчи-
няло изображение объекта открытой смысловой иерархии, имеющей
весьма отдаленное отношение к реальной взаимосвязи вещей, то мас-
тера «позднего средневековья и раннего Возрождения искали натура-
листическую мотивировку дидактического подтекста (курсив наш —
О.Я.), низводя умопостигаемый символ на уровень намека, дразнящего
воображение зрителя и заставляющего благочестивую публику постоян-
но ощущать зыбкость границы, отделяющей сакральное от обыденного»24.
Если с помощью подобного стилистического ключа проанализиро-
вать, например, творчество художников Высокого Возрождения, мы
сможем увидеть стоящий за ним более широкий ценностный фон эпохи.
Гак, показательно, что момент непосредственного воссоздания натуры
у каждого живописца содержит и стадию преображения ее в русле
гуманистических представлений о высоком предназначении личности,
гармонии ее связей с миром. На этой стадии, как пишет Я.Буркхардт,
отчетливо проявлялось действие «медиума», которым «прикрашивался
и определялся способ познания и изображения индивидуального как
вообще человеческого»25. Одновременно добавим, это есть выражение
। лубокой убежденности Возрождения в таких собственных фундамен-
тальных культурно-мировоззренческих допущениях, как идея о целе-
< ^образном развитии природы и общества, непротивопоставленности
человека и окружающего его мира. Именно эти глобальные идеи про-
воцировали возникновение в изобразительном искусстве этой эпохи
юрспективистской живописи, которая позволяла достигать иллюзии
127
совпадения того, что изображено на картине с предметом изображе- |
ния, т.е. всячески укрепляла представление о единстве человека и внеш-
ней среды.
Не случайно, что эти посылки единения природного и человеческо-
го бытия высоко подняли приоритет пространства в искусстве, науке,
философии XIV — XVI веков. Культура Возрождения, опиравшаяся в
своих ориентациях прежде всего на зрение, а не на умозрение, обрати-
лась лицом к пространственным формам большинства видов творчества.
Обоснованные аналогии между искусством и наукой проводит в этой
связи П.П.Гайденко: «Как живопись XV — XVI вв. обращается к перс-
пективе, так наука этого периода — к геометрии... Подобно тому, как
перспектива становится методом для изображения природы, геометрия
становится методом познания природы»26. Если в соответствии с духом
своего времени с помощью геометрических построений ученые пыта-
лись найти законы упорядоченного описания природных процессов (Га-
лилей), то художники на основе перспективы обретали способ упоря-
дочения явлений на холсте.
Любопытно и далеко не случайно то обстоятельство, что в сфере
художественного сознания XVI — XVII вв. происходит такая борьба
пространственно-временных представлений, аналоги которой можно
обнаружить и в противоречивом взаимодействии научных концепций
этой эпохи.
Так, противоборство временных концепций классицизма и барокко t
можно сопоставить с противоборством концепции классической меха- .
ники Ньютона и релятивистской концепцией времени и пространства j
Лейбница. «Совершенно очевидно, например, стремление Пуссена от- 4
влечься от кажущегося и обыденного, стремление, приведшее к свое- |
образной «универсализации» художественного пространства — време-
ни, а его эпигонов — к формализации живописного языка. С другой
стороны, не менее очевидно развитие релятивистской концепции про-
странства — времени в творчестве Рубенса и других представителей
барокко», — считает С.М.Даниэль27.
Явная перекличка художественной и научной культурной рефлексии
этого времени породила немало специальных исследований, сопоставля-
ющих мировоззренческую методологию деятелей искусства и науки28.
Кризис возрожденческих идеалов, которые лишь на время востор-
жествовали в культуре, углублялся неустойчивостью и противоречиво-
стью социальной и духовной жизни: победы буржуазных революций
сменялись новым наплывом феодальных контрреволюций, гуманисти-
ческие мотивы творчества художников переплетались с религиозной
экзальтацией и т.п. Трудно найти хотя бы одного автора XVII века,
внутренний мир и произведения которого не отмечала бы раздвоен-
ность и противоречивость; таковы Джон Мильтон и Кальдерон, Гонгора
и Гриммельсгаузен, Гассенди и Бем, Бернини и Караваджо, Фреско-
бальди и Перселл и другие их современники.
Существенно, что традиции предшествующей культуры затрагива-
ют развитие живописи, литературы и музыки XVII века в минималь-
ной степени. Творческий процесс еще не ориентирован на сколь-нибудь
128
определенную положительную программу; отсюда многочисленные
вспышки мистицизма, сопровождавшие художественное осмысление
неразрешимых противоречий. «Уже искусство маньеристов, — замеча-
ет С.П.Батракова, — допускало в изображении райского совершенства
элемент несерьезности, игры так, что кажется, будто художник под-
дразнивает зрителя, строя гримасы, искажающие образ классической
гармонии»29.
Дискредитация видимого мира как истинного быстро развенчивает
ренессансные представления о субстанциальности пространства.
Обнаружение «по ту сторону» осязаемого и телесного мира скрытых
смыслов, действующих сил лишает образный строй искусства былой
ясности и определенности. Не случайно поэтому ранее всего — во II
половине XVI века — кризис наступает в изобразительном искусстве,
в то время как в литературе (Шекспир, Сервантес) еще возможны
достижения.
Движение в природе, открытое наукой (Коперник) и разрушившее
иллюзорно-стройную возрожденческую систему мироздания, воцаря-
ется и во всех видах искусства. Естественно, что это ощущение напря-
женной динамики бытия разрушило прямолинейность и законченность
классических форм. В изобразительном искусстве это разрушение, как
уже отмечалось, вело к переходу художников и скульпторов от «ли-
нейного» изображения к «живописному». В живописных произведениях
контуры сливаются с окружающим, а само ощущение формы перехо-
дит с поверхности предметов в глубину, сливаясь с бесконечностью.
Нарастание черт песссимизма, тревоги, меланхолии у Веронезе, Бас-
сано, Тинторетто проявляется в напряженных цветовых оттенках кра-
сочной феерии, выразительная функция цвета приобретает все более
субъективный характер. Неотъемлемым атрибутом для живописных
решений такого рода становится сгущение мрака, обилие комбинаций
со светом в пластической ориентации и эмоциональном воздействии
картины. Для нового стилистического направления характерно появле-
ние «открытого» мазка, размывание замкнутой цельности отдельных
цветовых плоскостей, порождающих своеобразную живописную вибра-
цию. Контур в живописных произведениях теряет свою плавность и
направленную текучесть, дробится и частично растворяется в окружа-
ющей среде30.
Разумеется, все перечисленные приемы носили не самоцельный
характер и не могут быть объяснены, исходя лишь из внутренних тен-
денций изобразительного искусства. Подобно философскому дуализму,
явившемуся реакцией на утрату единой субстанции, искусство по-сво-
ему отражает эту утрату сквозь призму изменившейся индивидуально-
сти, эволюции человеческого восприятия мира.
Личность в XVII веке гораздо более прозаичнее личности Ренессан-
са с ее иллюзорно-подчеркнутой самоценностью. Накопленный куль-
турный опыт позволяет в XVII столетии осознать зависимость личности
не только от собственной натуры и прихотей фортуны, но, главным
образом, от окружения, людской массы, то есть объективных условий
и закономерностей бытия. Правда, в ситуации зыбкости и нейустойчи-
129
вости бытия вмешательство любой внешней силы воспринимается как
враждебное. Без преувеличения можно сказать, что главная тема ис-
кусства этого времени — это тема «малого человеческого атома», бью-
щегося за сохранение своего существования против множества диких и
страшных сил. Многими исследователями высказывается наблюдение,
что «Левиафан» Гоббса с его формулой «война всех против всех» —
явление в области философии, параллельное тем открытиям, которые
делал в те же годы роман XVII века. По убеждению исследователя,
романы Ф.Кеведо. Р.Гэда, П.Скаррона, Ш.Сореля, А.Фюретьера, Г.Грим-
мельсгаузена являются именно воровскими, а не плутовскими романа-
ми. В романе такого типа особенно остро и неумолимо воплощаются
условия «борьбы всех против всех».
Эти новые отношения индивидуальности и окружающей среды, ча-
стного и общего, заземленного и гуманистически-возвышенного лежат
и в основе образных решений живописи. Исследуя черты нового виде-
ния в послеренессансной художественной культуре, М.Свидерская под-
черкивает нацеленность авторов на выявление разнообразных форм
контраста человека и мира, составляющих основу картины. Показательно,
что для художественного раскрытия этой противопоставленности узко-
го индивидуального круга и «широкой среды» уже не годится принцип
линейной математической перспективы, найденный мастерами Возрож-
дения. Большой мир как целостность мыслится недоступным прямому
индивидуальному соприкосновению и к нему можно приобщиться лишь
«от противного», ощутив его огромность и далекость в контрасте с ост-
ро переживаемой близостью замкнутой отдельной среды. В художе-
ственном раскрытии таких противоречивых связей человека и мира боль-
шую роль приобретают образы-символы, намеки, знаки; как, к примеру,
луч света в картинах Караваджо, приходящий извне и вскрывающий
относительность значения данного явления в объективном контексте.
Таким образом, подчеркивается относительность этой разомкнутос-
ти образа вовне — ведь он теперь соотносится с пространством не в
самой картине, а за изображением. Специфическое единство этого об-
раза «есть единство положенного в его основу противоречия, а его
художественное воздействие складывается не в попеременном созер-
цании его сторон, а как известный эмоциональный контрапункт, как
энергия, излучаемая контрастным противосостоянием противополож-
ных начал»31.
Подобное видение демонстрирует нам новый уровень художествен-
ного освоения противоречивости бытия. Достигаемый здесь определенный
тип синтеза противоположных начал изменяет отныне и наши пред-
ставления о целостности художественного образа, следовательно, ре-
конструирует критерии художественности, вкус зрителя, а главное —
его культурно-художественные установки. Несомненно, что это обога-
щенное художественное видение, в свою очередь, делает более диалек-
тичной мировоззренческие ориентиры зрителя, готовность его воспри-
ятия к постижению новых связей и взаимопереходов действительности,
осознанию новой картины мира.
Этот пример обнаруживает органичную мобильность искусства как
феномена культуры, его готовность без труда отказаться от своих про-
130
шлих завоеваний и находок, несмотря на их очевидную (с научной точ-
ки зрения) целесообразность, если последние оказываются непригод-
ными для выражения нового мироощущения человека в культуре. В
отличие от науки, где каждый новый этап развития возможен на осно-
ве использования предшествующих достижений, искусство обращает-
ся со своим арсеналом выразительных приемов и методов достаточно
расточительно, зачастую отбрасывая уже найденное и опробованное,
демонстрируя несопоставимость художественной и научной истин на от-
дельных этапах истории. Культурное своеобразие искусства, таким
образом, не сводится только к тому, чтобы раздвигать горизонты по-
знания, пролагая пути, оценить которые человек сможет в будущем,
но состоит также и в способности отразить все оттенки наличного пси-
хического самочувствия человека, пережить вместе с ним духовность
бытия целостно, что, заметим, также ведет к обогащению понимания
реальности, хотя и не всегда выражается рационально. Положение ис-
кусства в культуре поэтому двойственно: искусство как и наука, есть
генофонд культуры, источник всех новых духовных образований, а с
другой — выражает свою специфическую функцию в качестве сферы
«охраняющей» целостность духовно-психологического бытия человека
на любом, в том числе кризисном этапе истории.
Антропоцентризм искусства таким образом проявляется в обуслов-
ленности его образного строя и выразительных средств не только из-
меняющимися культурными параметрами внешнего мира, но и сдвига-
ми, происходящими внутри самого человека, его глубинном психическом
самочувствии.
Вполне закономерно поэтому, что драматизм душевной жизни че-
ловека, противоречивость и углубление личностного начала явились
стимулом для развития тех видов искусства, для которых эмоциональ-
ные контрасты и напряженная динамика служат своеобразной пита-
тельной почвой. В этом отношении XVII век гораздо большее значение
имел для музыки, чем для других видов искусств. «XVII столетие, —
пишет Т.Н.Ливанова, — в сущности дало человеку самое музыку —
как свободное от церковных рамок искусство, развивающееся, нако-
нец, в самостоятельных крупных формах»32.
Стилевые особенности музыкального творчества этого периода, от-
разившие движение от полифонического лада (фуга) к гомофонно-гар-
моническому (симфония) были выражением более общих процессов
культуры, а именно — становлением в ней самостоятельной индивиду-
альности со своим неповторимым психологизмом, особым эмоциональ-
ным складом.
Монументальные формы хорового искусства в XVII в. внезапно от-
ступают перед лицом скромного ариозного речитатива. Это нововведе-
ние положило начало возникновению музыкального тематизма нового
типа, ориентированного на пение солистов, а не хора. Ведущий соли-
рующий голос, вокруг которого отныне вращаются хоровые, оркестро-
вые партии, клавесин, приобрел значение смыслового центра не в силу
традиции, а в противовес ей — как непосредственный ответ на новое
требование времени показа индивидуального героя.
131
Борьба противоположных сил в культуре вызвала и в музыке эпоху
«великого преодоления» — преодоления религиозной темы, внеличнос-
тного начала хоровой классики XVI века, а главное — породила саму
музыкальную драматургию в современном ее понимании.
Важной предпосылкой формирования драматических возможностей
музыкального симфонизма явилось возникновение оперного жанра, с
распространением которого музыка успешно вступила в область освое-
ния конфликтов и драматических ситуаций33.
Об этом свидетельствуют такие оперные шедевры, как «Орфей» (1607)
Глюка и «Коронация Поппеи» (1642) Монтеверди, «Армида» (1686) Люл-
ли, «Дидона и Эней» (1689) Перселла и другие.
Принципиально новое, что было открыто музыкой послевозрож-
денческой эпохи, пишет С.С.Скребков, «состоит в способности перерас-
тания одной образной индивидуальности в другую: уже не просто со-
поставление контрастирующих тем, не показ связанной галереи
индивидуализированных картин-образов, а драматическая сцена рож-
дения новой индивидуальности из противоречий начального образа»34.
Обнаруживая и воспроизводя в своих произведениях совершенно
новый принцип логики, музыкальное искусство закрепляло эти новые
формы взаимопереходов и диалектических связей в сознании современ-
ников, оказывая таким образом обратное воздействие на динамику про-
цессов в духовной культуре.
Несомненно, что все богатство родившегося музыкального симфо-
низма было результатом новых культурно-временных ориентации лич-
ности. Художник и его творчество соотносилось уже не с вечным,
божественным временем. Само время под влиянием постоянных транс-
формаций действительности стало пониматься не как пустая длитель-
ность, а как деятельно-культурное наполнение этой длительности. А
это, в свою очередь, привело и к формированию новых особенностей
музыкально-тематического развития, когда каждый момент культур-
ного времени стал восприниматься как преходящий и уникальный.
Так, новая культурная реальность, особенности ее восприятия ху-
дожником вели к дифференциации и углублению индивидуально-ду-
ховного начала в искусстве, отражая одновременно аналогичный про-
цесс созревания личности, происходящий за рамками искусства.
Отметим, что формирование новых психологических структур духов-
ного мира человека происходит не только оттого, что усиливается кон-
трастность и углубляется драматизм окружающей его среды, но и от-
того, что на каком-то этапе истории само человеческое зрение
становится глубже и объемнее, вызывая новое духовное самочувствие
в уже привычной среде — микромире. В этом процессе формирования
новых культурных координат, новой культурной интуиции, данной
субъекту, проявляет себя культурологический аспект психологическо-
го развития.
Точно так же и в XVII веке медленное освобождение человека от
власти религиозно-божественного начала, возрождавшее земную при-
роду времени, в сущности, восстанавливало подорванную христиан-
ством власть смертного начала над миром. Новые источники причин-
132
ности и следствия, новые детерминанты поведения и целеполагания
рождали и новые оттенки эмоциональных реакций, качественно новые
переживания, усиливали интенсивность психической жизни в целом.
Аналогичное наблюдение в связи с усложнением внутреннего мира че-
ловека в XVII веке высказывает Т.Н.Ливанова: «одиночество, забве-
ние, разлука, утрата стали трагедией личности лишь с тех пор, как
человек острее и зорче ощутил среду — мир вокруг себя, ощутил себе
подобных, течение жизни именно как преходящее, а не устойчивое»35.
Таким образом, контрастность, драматизм, противоречивость и ди-
намика социальной психологии XVII века содействовали открытию по-
истине новых форм музыкальной выразительности, многие из которых
(как, например, репризная трехчастная форма) легли впоследствии в
основу классической симфонии венской школы.
Добавим к этому, что подобное центральное положение музыкаль-
ного искусства среди других видов художественного творчества в пере-
ходную культурную эпоху далеко не случайно. Столкновение смыслов,
противостояние ценностей, трансформация узнаваемого в неузнавае-
мое — все эти разрушительные признаки, вовлекающие устойчивую
картину мира в водоворот превращений и коллизий и вызывающие кри-
зисные процессы в живописи, литературе, оказываются весьма благо-
приятными для музыки, обращающей эту пульсирующую напряжен-
ность в новые формы движения и развития музыкальной ткани.
Как и в других сферах художественного творчества, в переходный
период культуры художник, по выражению А.Якимовича, как бы «иг-
рает в свое искусство»3'’. Интуитивные поиски существенного и необходи-
мого в духовной жизни эпохи усиливают вариативность художественного
мышления и образного строя, вызывают пристрастие к метафоричнос-
ти, сочетанию иррационального и чувственного, тягу к диссонансам,
игре, динамике, смешению контрастов, трагического и комического.
Эта жанровая многосоставность — характерная черта большинства
произведений XVII века, в которых патетика и объективность сосед-
ствуют с иронией и субъективностью, переплетаются гротесковые и
трагические образы. Подобный синтез эпического, лирического, коми-
ческого и драматического отличает «Потерянный рай» Д.Мильтона,
«Похождения Симплиция Симплициссимуса» Г.Гриммельсгаузена,
«Странствование паломника» Дж.Бэньяна и другие столь же показа-
тельные произведения этого времени — Конгрива, Сореля, Мольера.
Их современник, итальянский теоретик Эмануэле Тезауро так сфор-
мулировал это отношение искусства к парадоксам времени: «Не суще-
ствует явления ни столь серьезного, ни столь печального, ни столь воз-
вышенного, чтобы оно не могло превратиться в шутку»37.
Представления о тяжеловесности и вечной материальности барокко
сформировалось во многом благодаря пышному развитию одного из
центральных искусств этого стиля — архитектуры. Вместе с тем име-
ются причины, лежащие и в более общих культурных основаниях. Глав-
ное, на наш взгляд, заключается в том, что материальный мир, рас-
сматривавшийся прежде как чистая проекция, эпифеномен духовного,
133
впервые в Новое время приобретает права самостоятельности. О том.
как прежнее отношение порождения и следствия трансформируется в
этот период в сторону телесности, достаточно подробно описано в ли-
тературе38.
Культ материального, чувственного, земного, повлекший за собою в
литературе и живописи натуралистическую образность в ее разнооб-
разных проявлениях, был осуществлением своего рода нового художе-
ственного моделирования мира и человека, специфического само-
утверждения человека через нередко жестокие эксперименты с
«перемалыванием» вещного.
Авторы не сдерживают себя в натуралистическом описании сцен
насилия, бойни, сокрушения любых препятствий. Один из характерных
примеров такого рода — приключенческие произведения Гриммельсга-
узена. Комментируя рассказ Симплиция из знаменитого романа писате-
ля о его напряженной битве с завороженным от пуль и ударов грабите-
лем — этот яркий, жестокий, поистине барочный динамический эпизод,
А.В.Михайлов справедливо замечает, что направленность данной ситу-
ации — балансирование на грани жизни и смерти — заранее задана,
тщательно выстроена автором и типична для барочного мировосприя-
тия. Она развивается « в сторону растаптывания, размалывания веще-
ственности, материальности, от прочности и твердости тел — к праху,
пыли, тлену: насильственное и издевательское превращение действи-
тельности, что— в ничто»39.
В этом эпизоде выражает себя общая духовная ориентация барокко,
заключенная в стремлении со всех сторон, в том числе самых безоб-
разных и отвратительных, рассмотреть действительность, испытать
физическую власть человека над ней в самых разных областях. По этой
причине не стоит и пересерьезнивать описанную ситуацию — ведь в
ней прочитывается не просто трагизм, но и игра, попытка разрушения
и одновременно нового воссоздания ситуации во всей ее красочности и
полнокровии.
Разумеется, свободная игра образами самого различного содержа-
ния порой легко превращалась в абстракцию, в построения изящные,
но лишенные содержания. Такие представители умеренного барокко,
как например, литератор Бартоли, осознавали, «что слишком утон-
ченные сравнения поэтов его времени напоминают сновидения боль-
ных». Вместе с тем литературное творчество переходной эпохи, не
сдерживаемое сколь-нибудь жесткими эстетическими нормами, и не
могло быть иным: экспериментируя, оно отбрасывало случайное и пре-
ходящее, сохраняло и закрепляло новые содержательно-выразитель-
ные приемы художественной образности. Новые находки искусства,
балансирующего на рубеже освоенного и неизвестного, обретали и бо-
лее тонкие измерения в эстетических характеристиках действительно-
сти. Не случайно, что эти находки в условиях конфликтности драмати-
ческой эпохи вели к возрастающей точности психологического мастерства
художника. Многие из этих приемов художественного психологизма
переходной эпохи впоследствии были подхвачены и ассимилированы ху-
дожественными системами последующих этапов культуры.
Глава 9. Драматизм в искусстве
как претворение исторических состояний сознания
Вопрос об отражении противоречий реального мира в искусстве как
одной из форм культурного освоения действительности очень сложен,
что связано, прежде всего, с семантической многоплановостью худо-
жественного содержания и формы. Воссоздание противоречивости бы-
тия можно обнаружить уже в непосредственно предстоящем анализу
содержательном уровне произведения: специфический образный строй,
тип конфликта — эти элементы художественного содержания в некото-
рых случаях свидетельствуют о параллельности противоречий реаль-
ного мира и их художественном отражении. Вместе с тем природа ху-
дожественного обобщения такова, что сама по себе система образов,
типы сюжетов и конфликтов далеко не всегда способны репрезентиро-
вать противоречия действительности. Особое значение имеет своеоб-
разная логика взаимодействия образов, работающая на «сверхзадачу»
произведения, специфика композиции, принцип построения и взаимо-
действия целостной структуры произведения с его отдельными элемен-
тами, сознательно достигаемое противоречие общей формы и содер-
жания — т.е. всего того, что, как хорошо знает каждый искусствовед,
может придать дополнительные смысловые штрихи имеющимся обра-
зам, обнажить многослойность внешне не видимых противоречий, пе-
реместить основной конфликт в глубокий подтекст произведения..
Выше мы могли убедиться в тщетности попыток художников и ис-
кусствоведов обнаружить то, что выступало бы некоей «абсолютной
формой» в живописи с оптимальной композицией, «совершенным» взаи-
модействием контрастов и т.д. Подобных «всеобщих законов художе-
ственной формы» не существует и в музыке, литературе, театральном
искусстве, поскольку в историко-психологическом бытии человека нет
и быть не может того, что могло бы быть названо «классическим спо-
собом представления». Меняются типы мироощущения и каждый новый
культурно-психологический модус бытия человека вызывает к жизни
новые механизмы формообразования в искусстве.
Не сама по себе тема, не тип конфликта и строй образов создают
полнокровное произведение, способное жить в веках. Особый «пульси-
рующий» смысл в произведение привносит его художественная конст-
рукция. Намеренное натяжение между содержательными компонентами
и их оформлением, натяжение внутри самого сюжета, повествователь-
ных ходов создает неповторимое «силовое поле», способное источать
энергию самой жизни.
Всякий раз своеобразие новой художественной конструкции можно
фиксировать в самых разных измерениях: через изучение меняющихся
135
типов композиции, главенствующих жанров, выявление общих истоков
специфической целостности, новых художественно-символических сис-
тем. Представляется плодотворным сосредоточить внимание на таком
исторически изменчивом параметре искусства, который находит свое
отражение в феномене художественного драматизма. В литературе
часто встречаются суждения об особом драматизме живописных про-
изведений Эль Греко, о новых способах воплощения драматического
мироощущения в творениях Вагнера, об особом драматизме компози-
ции и сюжетной интриги в пьесах Чехова. Драматическое начало, про-
являющееся в музыке, живописи, литературе, позволяет вести речь о
драматизме в искусстве как общем наджанровом признаке художе-
ственного произведения, разумеется, не тождественном драме как роду
литературы или театральному жанру. Очевидна и несомненная двой-
ственная характеристика художественного драматизма — с одной сто-
роны, как результата воплощения особого мироощущения, с другой —
как исторически своеобразного способа организации всех элементов про-
изведения в выразительное целое.
Драматизм в искусстве, таким образом, осмысляется как специфи-
ческая художественная форма реакции на действие .социально-психо-
логических противоречий, как такой способ бытия искусства в услови-
ях дисгармонического мироощущения, который, с одной стороны,
демонстрирует определенный тип снятия этих противоречий, а с дру-
гой — через специфическую выразительность художественной формы
производит глубокую перестройку лексических средств, приемов худо-
жественного видения, языковых возможностей искусства.
Разнообразные способы воплощения драматического мироощущения
в музыке, изобразительном искусстве, литературе, театре позволяют
проследить, как изменялось драматическое начало в искусстве в связи
с углублением возможностей художественного освоения социально-пси-
хологических противоречий. Художественный драматизм каждой эпохи
в широким смысле отражал то общее, что было присуще всем различ-
ным по характеру и способам разрешения конфликтам: он мог дости-
гать в искусстве трагедийной остроты, мог воплощаться в форме «се-
рьезной комедии» (Дидро), мог выявляться через подтекст произведения,
мог даже опровергаться оптимистическим или комическим снятием про-
тиворечий. Однако во всех случаях характер драматизма в искусстве
позволяет ощутить ту ось, которая выражает особый тип сопряженно-
сти художественного и социально-психологического преломления про-
тиворечий реальной жизни в образной ткани произведения, компози-
ции, средствах художественной выразительности. И хотя развитие
приемов достижения драматизма происходило в искусстве, фактичес-
ки, непрерывно (исторически изменчивые способы достижения худо-
жественного напряжения есть один из аспектов общего процесса
формообразования), тем не менее особенно концентрированно оно про-
являлось в переходные культурные эпохи. «Главный смысл противоре-
чивости любого изменения заключается в том, что в нем всегда нали-
чествует единство сторон изменчивости и устойчивости при ведущей
роли изменчивости»1.
136
Таким образом, природа драматизма в искусстве в значительной мере
может быть понята как адаптация психологического принципа противо-
речивой целостности; единства, связывающего противостоящие смыс-
лы и стороны бытия. Разумеется, исходя из сказанного, художествен-
ный драматизм не сводится к приемам композиции или типу конфликта.
Драматизм в искусстве постигается как способ взаимодействия всех
образов и выразительных средств произведения.
На уровне мышления драматизм осознается как напряженное про-
тивоборство различных сил, тенденций, сторон, как несоответствие
имеющегося интеллектуально-мыслительного материала для адекват-
ной ориентации в новых обстоятельствах, как обнаружение историчес-
кой ограниченности человека в его столкновении с превосходящими его
возможности силами. Драматизм мироощущения характеризуется рез-
ким нарушением относительно устойчивых норм обычной эмоциональ-
ной жизни. Он всегда сопряжен с активным переживанием какой-то
дисгармонии, беспокойством и тревогой. Психологические и социально-
психологические колебания драматического мироощущения разворачи-
ваются в большой амплитуде: от напряжения острого аффекта, экзаль-
тации до напряженности безысходности, упадка.
Драматизм как качество и способ мышления и мироощущения всегда
отражает столкновение основных культурно-исторических противоре-
чий, выступающих движущими силами ее развития. Во-вторых, драма-
тизм есть не только способ реакции искусства на действие социально-
психологических противоречий, но и одновременно, как мы увидим
ниже, выступает в качестве побудительного мотива интенсивных изме-
нений внутри самого искусства, выработки новых приемов художествен-
ного освоения мира, ломки старых и рождения новых языковых средств.
Изучение динамических процессов в искусстве на фоне широкого
культурно-исторического контекста сквозь призму драматизма (через
выявление закономерностей его усиления и затухания, тормозящего
или ускоряющего приближение новых культурных эпох) позволяет в
итоге обнаружить формы взаимоперехода нехудожественных и внутри-
художественных противоречий и тем самым подвижный характер со-
пряженности в истории художественного и психологического.
Категория драматического, таким образом, есть исторически неиз-
бежный способ мышления и мироощущения, который время от времени
входит в содержание социально-психологической доминанты эпохи,
нередко становясь ее ведущей силой, подавляющей и подчиняющей
все иные признаки. В этом заключено еще одно преимущество этой
категории, в опоре па которую можно осмыслить «поведение» искусст-
ва не только в рамках устойчивого периода культурно-исторического
развития, но, что особенно важно, в контексте переходной эпохи. Ис-
следуя формы проявления драматизма в искусстве, необходимо помнить,
что все свойственные произведению искусства противоречия имеют как
внехудожественный. так и внутрихудожественный источник. И те и дру-
гие — результат определенной стадии культурного развития, разными
способами все они обеспечивают определенное состояние напряженно-
сти образной системы и элементов формы произведения искусства.
137
Дифференцируя формы проявления драматизма в искусстве, следу-
ет различать напряженность как свойство, имманентное художествен-
ному образу и произведению в целом, и напряженность, превосходящую
эстетически общепринятый уровень, отражающий остроту действия
социокультурных противоречий, порой в кризисной для искусства форме.
В первом случае мы имеем дело с общей спецификой освоения мира
человеком, его восприятия и деятельности. Все существует и развива-
ется в мире через борьбу противоположностей. Принцип контраста,
противоречивости отличает не только развитие объективного мира,
но и процессы человеческого мышления, чувственности, восприятия,
деятельности. Наиболее адекватное восприятие рождается через со-
споставление, столкновение, взаимодействие противоположных начал и
их оценку. «Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит
небытие», — заметил Ф.М.Достоевский2.
Художественное творчество как co-бытие реального бытия хорошо
знает все богатство выразительных возможностей, связанных с исполь-
зованием приемов контраста. Не будет преувеличением сказать, что
принцип контрастности «держит» художественный образ, обеспечивает
полноту семантики произведения искусства, взаимодействие с другими
образами.
Драматизм, проявляющийся в напряженности, конфликте, кульми-
нации, развязке, активно используется как способ построения содержа-
ния в любом виде творчества. Напряженность как принцип организации
действия присущ не только художественным, но и массово-политичес-
ким действиям. К примеру, «народную свадьбу, — пишет исследователь
начала века, — некоторые исследователи называли даже народной дра-
мой, до того она богата драматическими моментами»3.
Итак, драматизм и противоречие, напряженность и действие проти-
воположных начал неразделимы. По мере обогащения культурных форм
освоения мира, появлялась возможность постигать и более сложную
структуру противоречия. В произведении искусства это выражалось в
обнаружении и культивировании более тонких связей между элемента-
ми и всей структурой, внутри отдельных образов и т.д. Первоначаль-
ное, наиболее общее и простое противоречие между реальным пред-»
метом и его художественным обобщением дополнялось сознательно
вводимыми контрастами, обеспечивающими сложную логику взаимо-
действия всей образной системы, отдельных элементов формы. В ста-
новлении общей семантики художественного произведения все боль-
шее участие стали принимать контрасты и опосредованные сочетания
внутри художественного языка и многие другие противоречия.
Таким образом, принцип контраста, противоречивости, столкнове-
ния всегда выступал имманентным свойством как отдельного образа,
так и произведения в целом. «... Движения вне сопротивления материала
нет», —утверждал Б. Асафьев4, обобщая приемы композиции в различ-
ных музыкальных формах. С полным основанием этот принцип взаимо-
действия контрастов можно отнести и к закономерностям оформления
содержания в живописи, архитектуре, театру, литературе, а также
новых видах искусства — кино, фотографии и т.д.
138
Отметим и другой аспект, побуждающий искусство даже в услови-
ях устойчивой эпохи добиваться не только сохранения напряженности
художественных образов, но и обновления, усиления этой контрастно-
сти. Он связан с действием механизма притупления эстетической вос-
приимчивости и диктуется необходимостью искусства сохранять и
укреплять свои коммуникативные возможности. Содержательная напол-
ненность традиционных художественных формул быстро тускнеет, ис-
черпывается. В этом процессе любой вид искусства должен учитывать
особую диалектику художественного восприятия, которая требует осо-
бого соотношения традиционности и новаторства. Поляризация, абсо-
лютизация одного из этих начал нарушает художественную ком-
муникацию, либо переводя произведение в ранг вторичного, уже
устаревшего, либо в сферу еще недоступного, непонятного5.
Здесь уместна аналогия языковых средств всех видов искусств с ин-
тонационным словарем эпохи, о котором писал Б.Асафьев. Показатель-
но, что саму интонацию исследователь определяет как «состояние то-
нового напряжения»6 (курсив наш. — О.К.). По его мнению, каждая
интонационная система живет до тех пор, пока слух ощущает в ней
моменты сопротивляемости в преодолении материала. Когда они вывет-
риваются, система интонаций перестает «трогать слух» и становится
абсолютно безразличным звуковым потоком, все звукоотношения в ней
стираются, она перестает обладать какой бы то ни было социальной
ценностью.
Эта сторона организации драматической напряженности художествен-
ного произведения связана, таким образом, уже с более внешними
коммуникативными причинами, такими как необходимость удерживать
внимание читателя, зрителя, слушателя путем достижения художе-
ственного драматизма нового качества, концентрирующего жизненные
противоречия. В эстетической и искусствоведческой литературе формы
драматизма традиционно рассматривались в большей степени на мате-
риале театрального искусства.
В свое время еще Гегель отмечал, что «богатая коллизиями ситуа-
ция является преимущественным предметом драматического искусст-
ва»7. На протяжении долгих веков театр и драма культивировали преж-
де всего такой драматизм, который способен породить произведение
внешне яркое, экстатичное. Бурно выплескивающийся вовне драма-
тизм — весьма характерная черта трагедии, от античности и до XVIII
века этот тип драматизма был ведущим в театральном искусстве Евро-
пы. Не случайно, что именно данью зрительским установкам многие
историки театра объясняли горы трупов в последних актах трагедий
Шекспира. Анализируя причины массового изображения неотвратимых
катастроф в театральной драматургии конца XIX века, Б.Шоу в свой-
ственной ему ироничной манере размышлял: «И потому ли это проис-
ходит, что зрители ждут крови за свои деньги, или же потому, что
трудно заставить людей внимательно следить за чем-либо, не припуг-
нув их каким-либо страшным бедствием?»8
Как бы то ни было, но образы театральной драматургии по сравне-
нию с драматургией других видов искусств в отдельные эпохи обнару-
139
живают квинтэссенцию драматизма в совокупности всех его внешних и
внутренних проявлений9. Вместе с тем, как уже было сказано, драма-
тизм не является исключительной монополией только сценического
искусства, а выступает в качестве общехудожественной формы освое-
ния реальных противоречий, — напряженного переживания дисгармо-
нии.
Осознание единой основы в способе художественного отражения,
остродинамической борьбы противоположностей позволяет нам наметить
самые общие взаимосвязи между отдельными уровнями постижения
сложной структуры противоречий в социальной психологии и их специ-
фическим отражением в структуре художественных произведений.
Как уже отмечалось, весь процесс развития культуры — это про-
цесс углубленного проникновения в природу противоречий, выявления
на новой культурной основе дополнительных действующих сил и т.д,
Каждый этап истории выражал себя в определенном уровне формули-
рования противоречий, в том числе и на социально-психологическом
уровне. Об этом, в частности, свидетельствуют апории, разработанные
в античной философии Зеноном, сыгравшие положительную роль в раз-
работке более широких фундаментальных методологических и фило-
софских оснований. Подобная эвристическая функция была присуща и
антиномиям, сформулированным Кантом и т.д. На протяжении всей ис-
тории философии выдвигались различные варианты толкования проти-
воречий и способы их специфического снятия.
Так, анализируя композицию, коллизии, драматургию античной тра-
гедии, мы в какой-то мере имеем возможность и реконструировать
уровень осознания противоречий в античном государстве. Через систе-
му образов античной трагедии, ее сюжетный архетип можно увидеть
взаимосвязь этих элементов трагедии с общими представлениями ан-
тичности о бытовом укладе, ритме жизнм, движущих силах бытия.
Не случайна, к примеру, трехчленная сюжетная конструкция тра-
гедии, она обусловливала определенный тип сюжета, заданный еще
античной мифологией. Успокаивающие и примиряющие развязки, цик-
личность действия связаны с общим представлением о движении собы-
тий как круговращении с замкнутостью представлений о времени.
«Трагическое в античную эпоху характеризуется известной нераз-
витостью личного начала, — пишет А.Ф.Лосев, — над которым безус-
ловно возносится благо полиса, и объективистски-космологическим
пониманием судьбы как безличной силы, господствующей в природе и
обществе. Поэтому трагическое в античности часто описывалось через
понятия рока и судьбы...»10. Понимание противоречий как действий
сверхъестественных сил обусловило и особое толкование конфликта а
античной трагедии. Драматизм действия здесь зависит от проявления
случайностей, в поворотах сюжета пока еще вполне достаточны моти-
вы «вдруг», «как раз», т.е. такие приемы нагнетания конфликта, кото-
рые М.М.Бахтин определил как «инициативная случайность». Одновре-
менно неразвитость индивидуальных отношений постулирует в античной
трагедии (и литературе вообще) неизменность образа и героя. На протя-
жении всего повествования он пребывает в статичном единстве, пройдя
140
через всевозможные странствия и испытания, сохраняет верность сво-
ему первоначальному облику и характеру. В эту эпоху «герой — посто-
йная величина в формуле романа»11.
Относительная невыделенность субъекта из системы общественных
• п'ношений, исторически своеобразный тип мышления, почти не знаю-
щий рефлексии, обусловливали и определенный тип формообразования
в искусстве. Взаимодействие всех сторон произведения понималось в
достаточно простом ключе. Так. О.М.Фрейденберг отмечает, что «дей-
ствие в древней комедии не развивается... оно не знает нагнетания, не
идет поступательно, не достигает апогея и не падает»12.
Несмотря на все относительные изменения в развитии трагедии от
классической античности к эллинизму, все перипетии и конфликты ее
драматургия разворачивались в противоречиях между ограниченными
возможностями морального субъекта и безграничными возможностями
действия безличного фатума, то есть общее понимание источника и
природы драматизма в искусстве (а следовательно, и в жизни) было
ограниченным.
«Для подлинно трагического действия, — подчеркивал Гегель, —
необходимо, чтобы уже пробудился к жизни принцип индивидуальной
свободы и самостоятельности или же по крайней мере принцип само-
определения, способность свободно, по своей воле отстаивать свое дело
и его последствия»13. Такой личности и, следовательно, такого драма-
тизма античность не знала. Формирование развитого индивидуального
сознания происходит в истории достаточно поздно, на завершающих
этапах Возрождения, в начале эпохи Нового времени.
В переходный период культуры в конце XVI — XVII вв. обнажаются
новые кардинальные проблемы общественной жизни, нравственности и
психологии отдельной личности. Художественный драматизм ново-ев-
ропейского времени обнаруживает источник трагического в самом
субъекте, глубине его внутреннего мира и обусловленных им действий.
Возросшее самосознание культуры обусловило и то, что драматизм
понимается как конфликт, имеющий объективные основания и вместе
с тем его источником оказывается внутренняя противоречивость са-
мих людей (Гамлет, Отелло, Лир, Макбет). Новый уровень понимания
драматизма действительности повлек за собой и большую перестройку
самих форм построения искусства трагедии, системы поэтической речи
юроев. Одно из принципиально новых качеств сценического действия
произведений Шекспира — их непрерывность. Напряженное, насыщен-
ное действие разворачивается в контрастных эпизодах, перемежается
патетическими и комедийными сценами, сохраняется непрерывность
развития сюжета и в случае перенесения действия из одного места в
чругое и т.д.
Таким образом, новое понимание источника противоречивости и
•драматизма бытия рождало и новое понимание приемов формообразо-
> ания в традиционных жанрах искусства. Подобную взаимосвязь харак-
1 <‘ра восприятия драматизма эпохи и способов формообразования мож-
но проследить на материале всех видов искусств. В исследовании
Г> Е.Хализева на основе этого принципа выявляются многогранные ас-
141
пекты внутренних связей и взаимообусловленности драматизма и теат<1
ралыюсти14. Вместе с тем, как свидетельствует история искусства, xy-J
дожественный контекст такого взаимодействия не исчерпывается только^
театральным искусством, вполне обоснованно можно говорить о взаи-
мообусловленности таких сторон произведения, как глубина драматиз-*
ма и глубина художественности.
В исследованиях культурно-исторического бытия искусства было
сделано немало наблюдений, общий итог которых состоит в следую-
щем: всякий предшествующий этап художественного развития, отме-
ченный художественным раскрытием противоречивости в характерах-
героев по отношению к последующему периоду предстает в виде наи-
вно-целостных представлений. С точки зрения горизонтов современного
восприятия дисгармонии и противоречий, предшествующие формы ча-,
сто выглядят чуть ли не мелодраматическими, гораздо более просты-
ми, а подчас и обедненными представлениями о всех возможных слож-
ностях бытия.
Очевидно, такой ретроспективный взгляд позволил М.М.Бахтину сде-
лать достаточно категорический вывод о том, что «все герои русской
литературы до Достоевского от древа познания добра и зла не вкуша-
ли. Поэтому в рамках романа возможны были наивная и целостная по-
эзия, лирика, поэтический пейзаж. Им (героям до Достоевского) еще
доступны уголки земного рая, из которого герои Достоевского изгнаны
раз и навсегда»15. По этой причине Печорин при всей его сложности и
противоречивости представляется Бахтину цельным и наивным по срав-
нению со Ставрогиным.
Нет необходимости доказывать и насколько радикальные изменения
в форме романа у Достоевского произвел тот характер драматизма,
который специфическими приемами вскрывал и разрабатывал этот ху-
дожник. «Сюжет у Достоевского лишен каких бы то ни было заверша-
ющих функций... В сущности, все герои Достоевского сходятся вне вре-
мени и пространства, как два существа в беспредельности ... Время
вносится вовнутрь человека»16 — вот лишь некоторые специфические
черты романной формы Достоевского, которые сделали феномен его
творчества подлинным открытием.
Все это позволяет сделать вывод о том, что исторически обуслов-
ленное понимг ше драматизма действительности, совокупности ее ос-
новных противоречий, наиболее характерного способа разрешения
конфликтов оказывает существенное влияние на критерии художествен-
ности в искусстве, способы художественного повествования, становле-
ние новых принципов формообразования. Отношения взаимозависимос-
ти, таким образом, действуют не только между характером драматизма
и типом театральности, но и обусловливают связь между драматизмом
и принципами художественности в целом.
В каждую культурную эпоху искусство вынуждено расставаться с
некоторыми из своих старых приемов, которые изнашиваются и пере-
стают быть действенными. Привычное уже не задевает внимания, ста-
новится автоматичным; новые приемы удержания зрительского инте-
реса выдвигаются, поэтому, как отклонение от канона.
142
Г.Фрейтаг, исследовавший логические ступени развития трагедии
введение, вершину, поворот, катастрофу, — считает, например,
сметной вехой на пути обретения искусством новых форм драматичес-
1 ой выразительности появление романов Вальтера Скотта. Заслуга со-
чинений английского писателя в том, что в них впервые, по мнению
Фрейтага, получила разработку кульминационная точка и сильный зак-
ночительный эффект17.
Потребность удержать внимание читателя заставляла каждого круп-
ного художника искать собственные приемы драматизации действия.
( ).Вальцель, посвятивший этой проблеме специальную . работу, сопос-
тавляет способы выразительности, выработанные разными авторами.
Жан Поль, к примеру, «пользуется бросающимися в глаза, почти аля-
поватыми орнаментами. Его украшения — это свинцовые арабески в
Нюрнбергском стиле, иронизировали иенские романтики»18.
Другие приемы выразительности можно обнаружить у Фонтанэ,
Рикарды Гух, Клары Фибих, Эмиля Золя, если проанализировать не-
значительные, но характерные изменения в способах заключения глав
каждого из них. Это и богато орнаментированные концовки, служащие
средством выделить вершины действия, это и краткие энергичные зак-
лючения в духе морализаторских романов, рассчитанные на специаль-
ный эффект.
Столетиями писатели и художники разрабатывали в той или иной
плоскости сюжеты, уже использованные до них другими (античная
мифология, сюжеты из истории христианства и т.д.). В XIX веке уси-
лилось требование к тому, чтобы искусство создавало новые сюжеты
или, по крайней мере, оперировало еще не использованными. Это тре-
бование в известной степени стало фактором дальнейшего развития
искусства. Нельзя, однако, отрицать того, что в большинстве случаев
оно привело к несомненному понижению художественного чувства. «Та-
кая нехудожественность особенно очевидна в романе ужасов. Там мож-
но наблюдать сильно преувеличенную и уплотненную технику заклю-
чения глав. Там господствуют чрезмерно сильные эффекты», — считает
Вальцель.
В середине XIX века техника романа ужасов достигла вершины раз-
вития во Франции и Англии. Это, однако, не свидетельствовало о том,
что были достигнуты новые приемы в построении художественной формы.
Захватывающее содержание романа ужасов держит читателя лишь
замысловатостью интриги; работе над формой здесь часто не придава-
лось никакого значения.
Новое ощущение драматизма в восприятии жизни, как правило,
всегда приводило к тому, что сдвигались с мест все привычные нормы
и ценности, пересматривались художественные каноны и значения, а
то, что выполняло роль неостывающей художественной лавы обновле-
ния, в жарких спорах приятия и неприятия формировало новые крите-
рии художественности. Сам факт того, что возникшие новые критерии
художественности начинали жить, высвечивая и определяя на какое-
то время направление художественной практики, свидетельствовал,
помимо прочего, и о некоем сбалансированном основании духовного
143
климата в целом. Очевидно, что в условиях устойчивой эпохи, на фоне
господствующей социальной психологии, драматизм из ведущей сторо-
ны духовной доминанты культуры перемещался на периферию, на уро-
вень более частных и преходящих конфликтов, которые, как обычно,
выступали неотъемлемым компонентом любого развития, но не репре-
зентировали при этом каких-либо скрыто действующих глобальных
противоречий.
Таким образом, возвышение, драматизма как всеобщей формы ми-
роощущения и его затухание связано с чередованием в исторической
психологии периодов более или менее устойчивого воспроизводства
традиции и разрушения этого воспроизводства, зондирования новатор-
ских форм поведения, то есть с чередованием устойчивых и переход-
ных эпох.
В течение первой фазы устоявшиеся критерии художественности
обусловливают общезначимое единство в произведении сущности и яв-
ления, образа и его семантики. Образный строй искусства устойчивой
социальной психологии отличается, как правило, ясностью, общепо-
нятным смыслом. Таким единством отличались в определенный истори-
ко-культурный период образы античности (выросшие на почве
мифологического сознания целой эпохи), художественные образы Сред-
невековья (общезначимость которых была обусловлена единой символи-
кой знака).
В истории Нового времени последним классическим художником ус-
тойчивого типа культуры явился Гете. Созидая в эпоху, противоречия
которой уже достаточно сильно подточили целостный взгляд на мир,
явились для многих его современников источником непреодолимых раз-
ладов (например, в творчестве романтиков). Гете, тем не менее, еще
сохранял в своем творчестве органическое единство формы и содержа-
ния, единство сущности и явления, ядра и оболочки. Сущность в искус-
стве Гете не прячется за образом, не скрывается, а именно является
в не 1 самолично. Поэт ничего не искал «за», «позади» или «по ту сторо-
ну», что обеспечивало неподдельный оптимизм и утверждающий гума-
низм его творчества. Хотя отдельные произведения этого мастера яв-
ляются как бы предвестниками нарастающих перемен в восприятии мира
(например, вторая часть «Фауста»), тем не менее классическая яс-
ность, завершенность, гармония творческих созданий Гете — резуль-
тат использования приемов и выразительных средств, сформировав-
шихся в устойчивую эпоху. В качестве подобной фигуры в истории
русского искусства ряд исследователей выделяет Пушкина.
Было бы неверным, однако, видеть в драматическом мироощущении
только некий очистительный, стимулирующий, ускоряющий источник
развития культуры. Как мы увидим ниже, взятое само по себе драма-
тическое мышление и мирочувствование не имеет никакой позитивной
программы; драматизм -— это прежде всего тотальная напряженность,
диссонанс, кричащие противоречия, соединение несоединимого. Вмес-
те с тем неизбежное действие исторических жерновов, выражающееся
в борьбе утверждающих и безысходных начал, оплодотворяющих и
разрушающих, в конечном итоге приводит к рождению на определен-
144
ной стадии развития новой устойчивой формы, которая отныне высту-
пает как форма, пригодная для всеобщего употребеления.
Относительность этой новой формы связана с процессом непрерыв-
ного самообновления социально-психологических структур, который
слагается из двух противоположных по своей природе течений: с одной
стороны, процессов преодоления существующих культурных стандар-
тов, а с другой — процессов стереотипизации, стандартизации во всех
областях культуры.
Сложившаяся устойчивая форма определенного типа культуры на-
правляется и воспроизводится под влиянием определенной культурной
доминанты. Развитие, и функционирование искусства под влиянием
доминанты относительно устойчивой культурной эпохи предполагает
культивирование в нем таких форм драматизма, которым были посвя-
щены предыдущие страницы. Устойчивый период развития культуры
отмечен превалированием в образах искусства драматического напря-
жения, интенсивность и направленность которого контролируются са-
мим автором. Это драматизм, сохранения которого требуют законы
художественного обобщения, и художественной коммуникации и кото-
рый в целом имманентен строению полноценного художественного об-
раза и произведения.
В такие периоды в художественном творчестве проявляется ощути-
мая тенденция, которую Д.С.Лихачев определяет как феномен литера-
турного этикета. Эта потребность подчинять художественное высказы-
вание определенному канону, рождающему устойчивые стилистические
формулы, устойчивые символы-метафоры, сравнения, формирует из-
вестную традиционность искусства. Основной признак традиционно-ус-
тойчивого этапа культуры — это превалирование средств и способов
деятельности, воспроизводящих (а не обновляющих) заранее данный
тип отношений.
Имеется ли закономерность в том, что переходлные процессы в со-
циальной психологии ознаменованы нарастанием как рефлективного, так
и драматического начала? По всей видимости, да. Однако возможность
генерирования новых смыслов происходит в искусстве далеко не сразу
и не безболезненно. Отвергая предшествующие стереотипы, каноны
«этикета», сфера социальной психологии переходит в экстатическое
состояние. Повышается интерес к нерациональному, возрастает роль
случая, предельно смещаются границы между истиной и заблуждени-
ем, знанием и незнанием. Примечательно, что и историки науки, выяв-
ляя переходные периоды ломки культурных оснований, определяют
этот период как «постоянную пульсацию умственных сумасбродств»,
когда «сама наука в конце — концов больше характеризуется суммой
отступлений от научности, чем прилежным следованием ей»20.
Само по себе состояние социальной психологии, уже потерявшей,
но еще не нашедшей своего целостного основания, сохраняет напря-
женный драматизм психики и сознания. Неослабевающий драматизм,
стремящийся к разрешению противоречий, выявлению и устранению
конфликта, в свою очередь, необычайно интенсифицирует действие
рефлексии. То, что раньше выступало в виде нерасчленимого элемен-
145
та социальной памяти, превращается в нечто анализируемое на от-
дельные части, внутри их обнаруживаются новые связи и отношения,
происходит дифференциация всевозможных процессов.
Так возникают новые культурные представления, входящие в со-
став более широкого, чем прежде, целого, формирующие культурную
целостность на новой основе.
Главное отличие художественного драматизма переходной эпохи от
драматизма устойчивого этапа развития культуры состоит в том. что
первый олицетворяет тип драматизма, который «вышел из-под контро-
ля» художника. Это драматизм не сознательного художественного напря-
жения, демонстрируемого автором в «искусстве нагнетания», построе-
ния сюжета и т.д., а драматизм разбившейся формы, интуитивно
обретающий и ищущий свои новые возможности, состоящий из взаимо-
действия элементов прежних художественных систем и зачатков новых
художественных образований. Случайность, эклектика, кричащие про-
тиворечия и алогизмы — характерный признак образной системы и вы-
разительных средств, находящихся в процессе брожения и вызревания.
Переживание и интеллектуальное освоение новых противоречий
углубляет дифференциацию всеобщих культурных связей и отноше-
ний, приводит к разъединению традиционно связанного и сближению
традиционно далекого. Отсюда и неожиданные образные соседства,
нарушение привычных канонов языка, целостной формы, стиля.
Причины подобных переворотов на примере такой переходной эпо-
хи, как позднее Возрождение, хорошо раскрыл М.М.Бахтин. Так, к
примеру, художественное нарушение привычной логики поведения,
эпатирующие средства выражения, наполняющие роман Ф.Рабле, есть
как бы обратная реакция на то, что «схоластическое мышление, лож-
ная богословская и юридическая казуистика, наконец, и самый язык,
проникнутый вековой и тысячелетней ложью, закрепляют эти фальши-
вые связи между прекрасными вещными словами и действительно че-
ловеческими идеями. Необходимо разрушить и переустроить всю эту
ложную картину мира, порвать все ложные иерархические связи меж-
ду идеями, уничтожив все разъединяющие идеальные прослойки между
ними. Необходимо освободить все вещи, дать им возможность вступить
в свободные, присущие их природе сочетания, как бы ни казались эти
сочетания причудливыми с точки зрения привычных традиционных свя-
зей»2'.
Таким образом, можно признать закономерным тот факт, что пре-
ломление социокультурных противоречий переходной эпохи в материа-
ле искусства провоцирует возникновение алогичных, необъяснимых,
нерациональных, с традиционной точки зрения, способов их художе-
ственного воплощения. И хотя элементы алогизма и нерациональности в
известной степени выступают как субстанциальные качества художе-
ственного образа, тем не менее абсолютизация этих сторон способна
привести к разрушению без созидания, к появлению болезненных явле-
ний искусства. «Многоукладность» и мозаичность пронизывают и весь
арсенал используемых в переходный период художественно-выразитель-
ных. средств. Это ситуация, когда <*все старые трюки, которыми хотят
146
завоевать и удержать внимание зрителя, кажутся глупыми и никчем-
ными»22, воспринимаются как жалкие уловки, результат морального и
художнического бесплодия.
На первоначальных стадиях переходной эпохи искусство бывает еще
не в состоянии достичь полноты и адекватности воплощения новых про-
тиворечий так, чтобы невольно не обеднить конфликт, не соскольз-
нуть на метафизические, субъективистские позиции в его освещении.
Подобное состояние неизбежно для переходной эпохи, когда в горниле
экспериментов и поисков еще нс найдены соответствующие способы
художественной ориентации в новом социокультурном контексте.
Переходная эпоха обнаруживает два типа реакции искусства на со-
циокультурные противоречия, два типа драматизма. В одном случае
это драматизм искусства, сквозь который просматривается отражение
совокупной сложности всех происходящих процессов, реальная драма-
тическая направленность движения культуры, историческая тенденция.
В другом случае мы сталкиваемся с драматизмом, когда не находится
адекватных средств для художественного переживания действитель-
ности и все, что удается художнику, — это выразить состояние отча-
яния, усталости, безысходности. Содержательный аспект драматизма
второго типа целиком ограничен рамками авторской субъективности,
художнику не удается нащупать и соответствующими средствами пере-
дать существо складывающихся новых доминант социальной психоло-
гии. Такой драматизм искусства может усиливаться по мере углубления
разрыва между нарастающими проблемами культуры и возможностями
разрешающего их сознания.
Различная степень широты исторического видения обусловливает
возможность одновременного сосуществования двух типов драматизма
в искусстве одной эпохи. Сошлемся, к примеру, на принципиальное
различие утверждающего драматизма музыкальной формы Бетховена
и нервный, ломкий, импульсивный драматизм музыки романтиков. Дра-
матизм Бетховена в чем-то родственен повышенному эмоциональному
тонусу, заданному культурными завоеваниями просветителей, их уве-
ренностью в торжестве гуманизма. В отличие от «раздражения», «не-
рвозности», «чувственности» музыкального симфонизма романтиков как
стимуле их интонационного напряжения, бетховенский драматизм не-
сет в себе страстность, пламенный пафос, гнев. Его произведения за-
вершает не просто формальная тоника, а тоника «твердого убежде-
ния, тоника как «напряженная устойчивость»23.
Вместе с тем было бы неверным считать, что новые музыкальные
построения Бетховена, обогащенные сложными контрастами, оказали
плодотворное воздействие на последующее музыкальное мышление, а
художественный опыт романтиков остался невостребованным. Процесс
художественного наследования весьма специфичен и строится по осо-
бым законам по сравнению с другими сферами культуры. Большую цен-
ность здесь имеет и художественный опыт заблуждений, сам процесс
«разведки», на первый взгляд безрезультатный.
Этот экспериментальный художественный опыт, с одной стороны,
есть уникальная художественная летопись истории духовных поисков
147
современников, отражающая всю зигзагообразность реального истори-
ческого процесса. С другой стороны, само понятие заблуждения в ис-
кусстве крайне относительно. То, что сегодня эпатирует зрение, слух,
завтра может стать неотъемлемым и содержательным средством худо-
жественного выражения. Поэтому было бы неправильным даже в не-
адекватных художественных реакциях на социокультурный процесс
видеть только отрицательный опыт. Как бы то ни было, но и явно
успешные творческие решения и то, что на первый взгляд восприни-
мается как забава художника, «игра в свое искусство», неизбежно ос-
тавляет след в восприимчивости современников, впечатлительности и
развитости их зрения и слуха, художественного мышления и памяти.
Не случайно, что и новые художественные средства канонизируются
ненадолго; исчерпав возможности отражения определенного духовного
состояния, они сами опровергаются последующим художественным раз-
витием. «Характерная для XIX века «нервность» интонации — отраже-
ние изменений всей психики человечества, — писал Б.Асафьев, — и
трудно было бы музыке как искусству интонации не «отразить» явле-
ний, обычно называемых «нервностью», «нервной жизнью», а не отра-
зив их — не омертветь самой, не оторваться от характерной черты
душевного строя современности»24.
Происходит это оттого, что процесс эволюции исторической психо-
логии, по своей сути, бесконечен, абсолютен. Относительны только
формы, в которых функционирует социальная психология на протяже-
нии устойчивых этапов культуры.
История культуры есть, таким образом, история постоянного раз-
решения противоречий между бесконечной творческой силой культуры
и преходящим характером ее объективированных форм. То. что в со-
держании реального культурно-психологического процесса заключено
больше, чем вмещает конкретно-историческая форма, мы видим толь-
ко тогда, когда обнаруживается противоречие самой этой формы. Нарас-
тающий драматизм выступает предвестником кризиса традиционных
форм, открытия новых резервов социальной психологии, обусловлива-
ет как целененаправленный, так и хаотичный поиск художественно-
образных сочетаний и связей. Любая форма, превращенная в канон,
перестает функционировать в творческой деятельности в качестве ме-
тода, становится оковами, парализует творческий потенциал индиви-
дуальности.
Как мы увидели, драматизм является постоянной стороной культур-
но-психологического процесса, усиливающийся в самосознании куль-
туры и искусства переходной эпохи. Проследим конкретные формы его
воплощения в духовной культуре конца XIX — начала XX века. Куль-
турно-художественная значимость и смысл этого этапа еще далеко не
исчерпаны. Значение такого обращения объясняется тем, что многие
способы художественного освоения противоречий, найденные в этот
преиод, «проигрываются» и варьируются в культуре и по сей день. Опыт
анализа зачаточных форм поможет понять некоторые процессы и тен-
денции, развернувшиеся в современной художественной культуре.
148
Типы драматического мироощущения в истории
и формы их художественной адаптации
Усиление ротации культурных представлений, идей, ценностей,
начиная с эпохи Нового времени, существенно изменяет закономерно-
сти динамики культуры. Человек, овладевший этим новым культурным
сознанием, не стремится оставаться чем-то окончательно установив-
шимся, а находится в абсолютном движении становления. В обществе
возникают такие индивидуумы и социальные группы, которым орга-
нично состояние незаконченности, незавершенности, неудовлетворен-
ности, то есть абсолютное движение становления представляется вполне
оптимальным. Смещается, во-первых, само представление об истори-
ческом процессе как подчиненном общей диалектике изменчивости и
устойчивости. Непрерывная изменчивость становится главным призна-
ком духовно-психологической жизни общества. Нарастание рефле-
ксивного момента в содержании и способах социально-психологической
деятельности способствовало, с одной стороны, большей ее само-
стоятельности по отношению к материально-экономическим предпосыл-
кам, возвышению роли индивидуального творчества; с другой — пре-
доставляло возможность более тщательного самоконтроля и анализа,
оценки собственной направленности и результатов. Возникший в этих
условиях шквал научно-технических достижений изменял перцептив-
ную картину мира быстрее, чем поспевали в ее осмыслении возможно-
сти культурно-исторического сознания.
Остро заявивший о себе кризис традиции нашел отражение в кон-
цепциях иррациональной воли Шопенгауэра, и морального произвола
сверхчеловека Ницше. Весь комплекс проблем, завязавшихся в узел в
духовной культуре рубежа XIX и XX веков, можно обозначить как
кризис классических устоев рационализма. Лидирующее положение
психологии, нередкое перерастание отдельных наблюдений психологов
в этот период в развернутые философско-мировоззренческие концеп-
ции (З.Фрейд, К.Юнг) объяснялось характерным стремлением эпохи
найти в иррациональном, инстинктивном, природном более тонкие воз-
можности жизненной ориентации, чем те, которые предоставлял ин-
теллект как «ограниченная сила», не способная обеспечить прогресс
человечества.
Приближение радикальных изменений в культуре ощущалось уже
в том драматизме, который задолго до возникновения острого кризиса
отразился в духовном самочувствии современников, в произведениях
искусства. Как и в предыдущие переходные эпохи, драматизм как фе-
номен духовной культуры выражался в предчувствии катастрофы,
распространении мистических учений. Показательна популярность
распространившихся в России конца XIX века идей Вл.Соловьева, до-
казывавшего наивность теории исторического прогресса, провозгласив-
шего наступление последних времен истории человечества, умираю-
щего от своих неизлечимых болезней, неизбежность всеобщей мировой
катастрофы23.
149
Драматизм, нараставший в условиях утраты единой культурной и
социально-психологической доминанты, разворачивался на рубеже ве-
ков на иной социально-культурной! основе, чем, скажем, драматизм
переходной эпохи XVI — XVII веков (по-своему отразившейся в искус-
стве барокко). Создание культуры к этому времени было уже доста-
точно развитым самосознанием, обладающим возможностями самокон-
троля и самокоррекции. Это обстоятельство, а также необычайно
широкие и неподвластные видимой гармонии раскинувшиеся горизон-
ты нового бытия привели к тому, что становящиеся культурные пред-
ставления не торопились облечь себя в общезначимую форму. Возника-
ют теоретические учения («философия жизни»), которые в качестве
оптимального взгляда на мир предлагают освобождение от любых це-
лостных завершенных мировоззренческих концепций. В «философии
жизни» утверждалась пагубность самой тенденции придавать текучим,
трансформирующимся культурным процессам ограниченную, сковыва-
ющую форму. Так, Г.Зиммель видел в иллюзорных формах, творимых
«самонадеянным разумом», глобальное противоречие современной куль-
туры. В истории постоянно «возникает противоречие с самим суще-
ством жизни, ее текучей динамикой, ее судьбами и неудержимой диф-
ференциацией каждого момента. Жизнь неизменно воплощается в
формах, ей противоположных. Это противоречие обостряется по мере
того, как то внутреннее состояние, которое можно назвать жизнью,
проявляет себя с неоформленной силой... Мне кажется, из всех истори-
ческих эпох, в которых этот хронический конфликт принимал форму
острого, стремясь охватить весь объем жизни, ни одна не обнаружива-
ла его в виде основного мотива и в такой мере, как наша»26.
Представление о жизненном процессе как принципиально откры-
том любым новым веяниям, как обладающем самодвижением, подвер-
женном непредвиденным противоречиям, налагало отпечаток на фор-
мирование нового типа мышления и восприятия. Все сферы культурной
деятельности этого периода как бы боятся завершенности, окончатель-
ного итога. Как теоретические, так и художественные произведения
обрываются на многоточии, композиция их такова, что почти всегда
она может быть дополнена и продолжена без ущерба для содержания
произведения искусства. Хотя, заметим, сила традиции все-таки про-
является; например, в том, что для отражения неохватной полноты
новой действительности многие ищут хотя и новый, но все же стиль.
Так. в частности, тот же Г.Зиммель, не колеблясь, отдает несомнен-
ный приоритет искусству экспрессионизма, которому предсказывает
большое будущее. Пульсация экспрессионистских произведений, по
мнению теоретика, сливается с пульсацией жизни. Экспрессионизм из-
бегает законченных форм и тем самым преодолевает извечный конф-
ликт реальности и формы, в которую заключена эта реальность.
Художественная практика экспрессионизма оценивается им как. по су-
ществу, свободная от каких бы то ни было критериев и потому устра-
няющихся от любых оценок: «Вот почему такое искусство безразлично
к понятию красоты и безобразий, связанных с проявлениениями этих
форм ... Если же художественные произведения, полученные таким
150
образом, не удовлетворяют нас. то ото доказывает только, что новая
форма еще не найдена и вопрос о ней, так сказать, висит в воздухе»-'.
Драматизм переходной эпохи рубежа веков возник как результат,
реакция на нежизнеспособность прежнего духовно-психологического
основания. Однако, согласно логике Г.Зиммеля, поскольку сегодня мысль
приходит к выводу об априорной искусствнности и иллюзорности каких
бы то ни было форм, то нынешний драматизм оказывается вполне
закономерным явлением, имеющим право на существование, и пере-
стает восприниматься как нечто, подлежащее устранению.
Отстаивая на первый взгляд идею максимальной преданности исти-
не обновляющейся действительности, очищения явлений культуры от
всего формально-традиционного, Зиммель отождествляет индивидуаль-
ную душевную жизнь художника с этой стихией действительности, ог-
раничивает свои доказательства субъективной методологией, снимает
проблему культурного освоения возникающих противоречий действи-
тельности.
Художественная реальность, которая не всегда в переходную эпоху
могла содержательно адекватно отразить конфликтность и противоре-
чивость мира, часто передавала эту противоречивость через драматичес-
кую напряженность формы. Очень чутко и непосредственно растущее
ощущение драматизма отразила музыка, выработавшая к этому времени
новые выразительные средства в сфере гармонии, связанные с исполь-
зованием вводного тою Преобладание этой сферы гармонии, как отме-
чали специалисты, неизбежно вызывало состояние нервности и неустой-
чивости наряду с чувствительностью и утонченностью28.
Явно и красноречиво дыхание времени сказалось и в тенденциях
развития оперного искусства. Характерно, что уже веристская опера
(Масканьи, Леонкавалло, Пуччини), освобождаясь от музыкально-сце-
нических штампов, стремится превратиться в экспрессивную драму,
способную воплотить новую логику развития сценических образов, близ-
кую обычному «жизпеподобному» действию.
Непрерывное движение и изменчивость новой картины мира блес-
тяще воплотил в оперном творчестве Р.Вагнер. Открытия его оперной
реформы были подхвачены дальнейшим развитием европейской музы-
кальной культуры. Динамизируя оперное действие, Вагнер размывал
грани архитектоники завершенных номеров, формировал сквозную не-
прерывность действия. «Вагнер мучает по целым актам, не давая ни
одной каденции», — писал Н.А.Римский-Корсаков'29. В одном из самых
примечательных произведений Вагнера — «Тристан и Изольда» — уси-
лия мысли композитора направлены к тому, чтобы добиться максималь-
но длящейся напряженности, незатухающего страстного воздействия
путем «оттягивания» появления тоники всеми имеющимися средствами.
Нескончаемое продолжение, вариативность, «прорастание» открытых
лейтинтонаций — все это были, по сути, приемы художественного
воссоздания текучести и непрерывности новой картины мира, устране-
ния от однозначности, формальной завершенности.
Неразрешимое противоречие между течением внешних форм жизни
и их скрытым смыслом было столь сильным, что в попытке наполнить
151
произведение общепонятными образами художник переходной эпохи
уходит в историю, обращается к многократно испытанным сюжетам.
Для художественной практики конца XIX века характерны ретроспек-
тивные интересы, привлечение в качестве содержательного начала
фольклора, мифологии, исторических событий средних веков и Воз-
рождения. Трансформируя и перерабатывая сюжеты прошлого, пыта-
лись подобрать ключ к пониманию сегодняшней духовной ситуации сим-
волисты (Метерлинк, Малларме, Рильке), композиторы (Р.Штраус,
Дебюсси, Римский-Корсаков. Скрябин), художники (М.Врубель, А.Ря-
бушкин, В.Борисов-Мусатов).
Однако тенденция к иносказанию порой еще больше увеличивала
разрыв между внешней оболочкой и содержанием художественного об-
раза. Такой разрыв был неминуем, так как с развенчанием устоев клас-
сического рационализма из-под ног культуры выбивалась та основа,
которая формировала общую социально-психологическую доминанту,
устойчивые ориентиры и критерии. Кризисная эпоха проявляла себя в
отсутствии высшего начала над любым суждением — философским и
художественным. Провозглашаемые мыслителями и художниками пе-
реходной эпохи ценности не связаны в систему, разорваны, каждый
может выдвигать свою ценность в качестве высшей. Требование дня
«будет простым и ясным, — писал М.Вебер, — если каждый найдет
своего демона и будет послушным этому демону, ткущему нить его
жизни»30.
Однако субъективный голос, сам по себе, недостаточен для искус-
ства. Ведь выразительным средствам искусства всегда противостоят
утвердившиеся в общественном сознании образы, со знаковой и семан-
тической природой которых художник вынужден считаться. Одновре-
менно трудность состоит в том, что художник оказывается не в состо-
янии отразить более глубокую сущность, оперируя лишь традиционными
средствами, знакомой внешней оболочкой31.
Всякий подлинный художник переходной эпохи отдавал себе отчет в
ограниченности имеющихся художественных средств, накладывающих
шоры на его эстетическое чутье. Адекватно отразить новые, не подда-
ющиеся полной рационализации реалии действительности, означало для
автора и в самом художественном произведении оставить место для
недосказанного, невыразимого.
Такого рода драматизм, возникающий как результат несоответствия
имеющихся культурно-психологических механизмов и представлений
усложнившимся формам и тенденциям реальной жизни, выступал по-
будительным стимулом принципиально новых открытий в построении
художественной формы.
«Если драму оживляет борьба, то ни в одну эпоху поэт-драматург
не должен был чувствовать себя так хорошо, как в наш век», — писал
на рубеже столетий театровед Э.Штейгер32. Как и в других видах худо-
жественного творчества, источником драматизма и одним из ведущих
стимулов развития, поисков театрального искусства была необходи-
мость преодолеть возникший в сознании и восприятии распад явления и
сущности, найти средства, с наибольшей полнотой воссоздающие весь
152
потаенный смысл переживаемой эпохи, квинтэссенцию ее сущности. К
достижению этих целей театр двигался в двух направлениях. «Новая
драма» (Г.Ибсен, Г.Гауптман, А.Чехов), отметая все предшествующие
приемы построения сюжета, «искусства нагнетания», стремилась в ка-
кой это было возможно мере «слиться» с будничным, бытовым течени-
ем жизни. Здесь отвергались традиционные приемы завязки, кульми-
нации, развязки в организации драматического действия.
Драматизм «новой драмы» рождался на основе художественного вос-
произведения двойственности окружающего мира, через осознание не-
соответствия внешне непримечательной повседневности и ее острокон-
фликтного содержания. Отсутствие видимого драматизма в предмете
отражения и его вулканическое проявление во внутренней жизни —
отличительная черта поэтики театра этого направления. «Единствен-
ный взгляд, брошенный из окна в сад, лес или на озеро, должен был
теперь сказать зрителю больше, нежели ослепительные феерии и ше-
ствия прежнего театра». Внешняя сторона такого спектакля могла бы
показаться зрителю пустой и незначительной, «если бы он не должен
был сам всюду подмечать в мертвых декорациях скрытое соотношение
с трепещущими душами действующих лиц»33.
Художественное освоение эпохи средствами новой драмы было на-
целено на максимально точную имитацию реалий самой эпохи. Неслу-
чайно поэтому квинтэссенцией ее мироощущения провозглашался
пессимизм и усталость. Такой настрой рефлексирующего времени пред-
ставлялся вполне закономерным. «Я спрошу каждого из нас, когда он
лучше наблюдал себя, когда лучше подслушивал то, что происходит в
его душе, — не тогда ли, когда он был в удрученном настроении? А
ведь такое самонаблюдение и составляет главную сущность искусст-
ва», — отмечал современник34.
Если в течение всей предшествующей истории театра напряжен-
ность и драматизм спектакля находились в зависимости от динамики
развертывающегося действия, его композиции, ритма, то в постанов-
ках «новой драмы» такая напряженность достигалась вне действия: на-
меками, загадками, вопросами, паузами и т.д. Напряженность в этих
пьесах возникает уже с открытием занавеса, хотя и ничего еще не
произошло. Э.Штейгер метко замечает, что все пьесы нового направ-
ления напоминают пятые акты шекспировских трагедий — за исключе-
нием катастрофы действие в них отсутствует вообще. Гипнотизирую-
щее воздействие спектаклей, воссоздающих обыденное, будничное
настроение, было воздействием концентрированно переданной невыра-
зимой загадочности эпохи, отразившейся в зеркале искусства.
К такому типу драматизма были близки и некоторые произведения
изобразительного искусства этого времени, выявлявшие контрастность
видимого мира, наполнявшие повседневные банальные образы превос-
ходящим их конфликтным содержанием. К их числу можно отнести не-
которые произведения И.Левитана, занимающие, по признанию мно-
гих искусствоведов, такое же место в живописи, как произведения
Чехова в литературе.
Болес заостренные контрасты пронизывают образы К.Сомова, идил-
153
лические, эстетизированные сцены произведений которого рождают
ощущение фальшивости, кукольности человеческих чувств. Художни-
ка, как и многих его других коллег, притягивает тема маскарада, теат-
ра с ее возможностью раскрытия таинственной изнанки жизни. «Тихие
прогулки, чтения, вечерние разговоры, — писал о художнике М.Куз-
мин, — овеяны летучей жертвенностью, словно к фиалкам примеши-
вается слабый запах тления»35.
Ощущение несоизмеримости внешних форм жизни и их оборотной
стороны имело и иные художественные последствия, развившиеся в
лоне символистского искусства. Если «новая драма» и близкие ее по-
этике художественные направления пытались воплотить недосказан-
ность и «невыразимость» жизни через соответственно воспроизведен-
ные формы самой жизни, то символизм делал центром своего внимания
непосредственно это мистическое, скрытые стороны жизни.
Отсюда стремление символизма в поэзии, театре, живописи разра-
ботать художественные приемы, позволяющие выявить сокровенный
смысл, проникнуть в иррациональные сферы, неподвластные разуму.
Присущее искусству качество неоднозначности художественного со-
держания объявлялось символистами главной ценностью. «Некоторые
загадки в искусстве должны оставаться навеки нерешаемыми, хотя,
быть может, их решение в теории и возможно. Точно так же главная
прелесть (и прямо даже смысл) известных музыкальных произведений
в том, что заключения их не безусловны, но остаются как бы вопросами,
энигмами, оборванными на полуслове речами». — утверждал А. Бенуа36.
Большое распространение в сценическом искусстве получают сим-
волистские произведения М.Метерлинка. Ст.Малларме, С.Пшибышевс-
кого. Обращение символистской драматургии к нарочитой недосказан-
ности, интуитивному постижению «тайны бытия», к легендам и мифам
сопровождалось специфическим сгущением драматических тонов, зна-
менующих приближение неотвратимой роковой развязки .
В одной из своих программных статей с характерным названием «Тра-
гизм повседневной жизни» (1896) М.Метерлинк изложил теорию «стати-
ческого театра» и «молчания». По его мнению, настоящее «общение
душ», устремляющихся к сущности бытия, осуществляется без помо-
щи слов посредством молчания, скрытой символики, что порождает в
искусстве мистический принцип «второго диалога».
Характерные приемы символистского спектакля — холодная чекан-
ка слов, падающих, «как капли, в глубокий колодезь», «трагизм с улыб-
кой на лице», «пластика, не соответствующая словам», и т.п., были
подсказаны самой поэтикой этого направления, варьировавшего моти-
вы таинственного рока, играющего людьми как марионетками. Драма-
тизм символистской драмы — это драматизм зыбкости и непрочности
реального существования, уход в отрешенность, от которой у зрителя
«непонятный ужас колотился, царапался в сердце»37. В слове, интона-
ции символистской пьесы доминировало фонетическое, музыкальное
звучание. Благодаря отвлеченности от предметной образности музыка
для художника-символиста выступала идеальной воплотителышцей «тай-
нописи неизреченного» (Вяч.Иванов).
154
К подобной отвлеченной музыкальности тяготели и произведения
приверженцев «чистой живописности», избегавших в. своем творчестве
< южетного тематизма. Такие тенденции были характерны для худож-
ников «Мира искусства» — Л.Бенуа, Л.Бакста, К.Коровина, А.Головина
и других. В этом направлении вел свои поиски и М.Врубель, творческий
процесс которого, как пишет Э.Голлербах, «вытекал из глубин подсоз-
нательного, окрашивая возникающие произведения в мистические тона;
отсюда «несказанность», «невыразимость» последних глубин врубелевс-
кого творчества: оно музыкально по существу, и всякое словесное его
истолкование было бы нарушением и осквернением его сокровенной
природы»38.
Драматическую напряженность символистских произведений усили-
вали культ алогизмов в речи, поведении, взаимоотношениях персона-
жей, таинственная отрешенность ситуаций, имитировавших действие
безжалостных мистических сил.
Разумеется, что воплощаемый в художественных произведениях тот
или иной тип драматизма не мог оказаться бесследным для общего ду-
ховного климата переходной эпохи. На каком-то ее этапе ощущение
пеослабеваемой конфликтности и противоречивости бытия в морали,
философии, искусстве соединилось воедино, достигло апогея и тогда
драматизм возвысился до одной из ведущих сторон социально-психоло-
гической доминанты этой эпохи.
Действие этой стороны доминанты не ограничивалось специфичес-
кой драматической окраской современных ей процессов, как магнит оно
притягивало и актуализировало близкое по существу духовное насле-
дие иных времен и народов, а также интерпретировало в собственном
ключе нетождественные духовные явления. В частности, по этой при-
чине сквозь призму безысходности и апатии апологеты символизма оце-
нивали в этот период творчество П.Чайковского. В одной из публикаций
Н.Суворовского Чайковский изображался как субъективист и пессимист,
певец «мировой скорби». Автор сопоставляет композитора как «поэта
тоски» с Пшибышевским, находя, что «струны обоих поэтов часто зву-
чат в унисон»39.
Имея возможность с большой исторической дистанции оценить эта-
пы эволюции драматического мироощущения на рубеже XIX—XX вв.,
его нарастание, кульминацию, спад, можно прийти к выводу, с одной
стороны, об исторической ограниченности многих пророчеств, абсолю-
тизировавших трагизм и пессимизм этого времени, с другой — о нео-
бычайной чуткости этой эпохи, сумевшей сфокусировать ряд социаль-
но-психологических тенденций, прошедших через все последующее
развитие духовной культуры XX века. Не будет преувеличением ска-
зать, что во многих случаях реальная практика художественного твор-
чества оказалась мудрее некоторых теоретических и критических обоб-
щений и немало художественных достижений этого времени вошло в
классический фонд культуры.
Драматизм эпохи рубежа веков в культурном сознании и зеркале
искусства прошел несколько стадий. Усиление общей напряженности в
мироощущении эпохи, как и в предшествующие кризисные периоды
155
культуры, было вызвано предельным обострением противоречий меж*
ду развившимися новыми реалиями социального бытия и недостаточно*
стью имевшихся культурно-психологических форм для адекватного их
освоения, адаптации. Отсюда — динамика различных спектров драма-
тической напряженности в интеллектуальной, художественной, соци-
ально-психологической сфере — от состояния отчаяния и катастрофич-
ности до этапов более осознанной ориентации в контексте новых
противоречий бытия.
Своеобразие динамики драматического начала в искусстве переход-
ной эпохи определяется его способностями не только быть отражением
противоречивой картины мира, но и ее активным освоением (и отчасти
преодолением). Следует обратить внимание на то, что присущие ис-
кусству специфические формы воплощения драматизма оказывают зна-
чительное влияние на динамику драматического мироощущения во всех
сферах культуры. Драматизм искусства обнаруживает себя многопла-
ново: в напряженных отношениях между внешней оболочкой образа и
его содержанием (распад явления и сущности), в контрастности сосед-
ствующих в произведении «разнозаряженных» образов, в нарушении
традиционной логики их взаимодействия и, наконец, в усилении обще-
го противоречия между формой произведения и его содержанием.
Различные формы воплощения драматизма в искусстве — это как
бы своего рода отражение динамики драматизма как самосознания куль-
туры и социальной психологии переходной эпохи. Общий вектор в осво-
ении художественным творчеством противоречивости кризисного этапа
развития, как и других сфер культуры, — стремление выработать
адекватные формы ориентации в новой духовной ситуации и ее про-
дуктивного творческого отражения и преобразования. Двигаясь в этом
направлении, искусство, говоря условно, проходит два этапа, пережи-
вает два типа драматизма. Первый тип — это напряженность, которая
исходит от самой разрушенной формы, это драматизм негармонизиро-
ванных, часто эклектичных противоречий внутреннего мира искусства
как своеобразный художественный ответ на неподдающийся рациональ-
ному осмыслению хаос реальности. Этот тип драматизма побуждает ис-
кусство «выходить» из своих берегов, толкает его на заимствования,
самые неожиданные, эпатирующие и экзотические обращения, прин-
ципиально новые по отношению к бытующим традициям.
Второй тип художественного драматизма — это тип «художествен-
но выверенный», сознающий все нюансы своего воздействия, все оттен-
ки художественной действенности своих приемов. Такой тип драматиз-
ма рождается на том этапе переходной эпохи, когда уже в значительной
степени кристаллизуются адекватные художественные средства для
воплощения главных тенденций новой социокультурной ситуации. Меж-
ду этими этапами в развитии и становлении художественных форм рас-
полагается кульминационная точка драматизма как доминирующего
мироощущения переходной эпохи.
Какой взнос делает искусство в гармонизацию драматизма как само-
сознания культуры переходной эпохи? Искусство помогает культуре
миновать «пик» драматизма, используя свой творческий потенциал, в
156
\ шественной мере содействующий процессу адаптации. К началу пер-
он мировой войны драматизм художественного, философского, нравст-
< иного сознания пошел на убыль, происходит постепенная канонизация
к’которых новых приемов, форм, оптики восприятия и интерпретация
июхи. Свидетельствовало ли это о том, что все проблемы, заявившие
» себе у истоков переходной эпохи, были решены? Конечно, нет, мно-
ие из противоречий разрастались и, в частности, обостряли драматизм
политического сознания, достигшего в годы войны своего апогея. Одна-
ко число радикально новых, «эпатирующих» произведений в искусстве
' тало заметно снижаться.
Произошло это, во-первых, по причине того, что художественное
< ознание отчасти осуществило к этому времени все мыслимые экспе-
рименты, проиграло все богатство своих культурных возможностей. И
v>Ke потому, что различные формы художественного драматизма, воп-
лощенные в многоликой панораме новых направлений, были выплесну-
ла полностью, привело к некоторой сублимации драматического миро-
ощущения. К тому же проигранные искусством возможности, все
упражнения художественного сознания не прошли даром. Вызвав пона-
чалу эклектику художественных форм, взорвав традицию, драматизм
художественного мироощущения необычайно усиливает интенсивность
поисков художественного творчества. От стихийного и во многом хао-
тичного нагнетания диссонансов и контрастов искусство переходит к
более или менее осознанному их художественному воспроизведению.
Многократно проигранные новые художественные приемы и сред-
ства входят в действующий творческий арсенал, изменяя как критерии
художественности, так и саму человеческую чувственность.
Сошлемся, к примеру, на серьезные сдвиги, происшедшие в музы-
кальном ладогармоническом мышлении к началу XX века. Интонацион-
ное взаимодействие, отступающее от традиционной логики разреше-
ния из неустоя в устой, допускающее целые последования неустойчивых
созвучий, которые прежде использовались весьма осторожно, теперь
получают новую жизнь К.Дебюсси, Р.Штраус, отчасти Н.Римский-Кор-
саков). Эти средства, казавшиеся ранее неудобными для слуха, позво-
лили значительно усилить сложность интонационного конфликта, обо-
гатить взаимодействие антагонистических сфер. В симфоническом
мышлении и опере XX века утверждается новая «фоника», связанная
со смелым использованием радикально новых созвучий: целотонной
гаммы с системой увеличенных, уменьшенных и даже цепных ладов,
система тритонов, политональных наложений, уплотненных модуляций,
позволявших воссоздавать сложные формы импульсивности, взаимо-
действия. Причем музыкальные выразительные средства, которые
прежде использовались только как «злая» фоника (например, в марше
Черномора, построенном на основе целотонной гаммы, в опере «Руслан
и Людмила» М.И.Глинки). теперь широко используются для музыкаль-
ной характеристики положительных сил и персонажей4'1.
Те же самые процессы можно отметить, наблюдая взлет и станов-
ление новых приемов графического искусства Лансере, Билибина, До-
оужинского. Их многообразные эксперименты, сформировавшиеся в лоне
157
порой скандальных художественных исканий «Мира искусства», впос-
ледствии переросли в бесспорные художественные открытия.
Таким образом, те контрасты, алогизмы и диссонансы художестен-
ной формы, которые поначалу были кричащими, постепенно находят
свое место в общем ряду художестенно необходимых выразительных
средств. Их значение от спонтанно-стихийных формальных средств обо-
рачивается устойчивой семантикой приемов отражения новой культур-
ной эпохи.
Выявление закономерностей возвышения и нисхождения драматиз-
ма как «мерцающего» признака культурной доминанты эпохи, позволя-
ет обнаружить некоторые ускорения и замедления процесса формооб-
разования в искусстве, раскрыть значение самого художественного
творчества в преодолении общего драматизма культурного сознания
переходной эпохи.
Изучение миграции драматизма как подвижной стороны социальной
психологии эпохи на определенной исторической дистанции предостав-
ляет исследователю большие возможности: помогает уяснить истори-
ческое своеобразие и характер противоречий определенной ситуации
культуры (в особенности в переходную эпоху); обнаружить историчес-
ки обусловленные способы их разрешения; вскрыть типологию, инва-
риантные формы художественного формообразования, понять специ-
фику последующих творческих процессов в искусстве.
Раздел IV
художник
И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Глава 10. Биография художника
как проблема социальной психологии
Личная жизнь художника и
биографическое сознание эпохи
Один из основоположников жанра литературной биографии Шарль
Сент-Бев любил повторять: «в великом человеке меня интересует все,
даже то, как он завязывает галстук». Часто даже самые мелкие дета-
ли жизни гения несут на себе отсвет его таланта, позволяют ощутить
ту «ауру», которая окутывала не только его творчество, но и проявля-
лась в повседневной жизни. Дает ли что-то новое для понимания произ-
ведений художника внимание к его личностным особенностям — зна-
ние, скажем, того, что Шиллер любил запах увядших яблок, которые
держал у себя в столе? Или известие о том, что участию в похоронах
матери Сезанн предпочел работу с этюдами на плейере («была хорошая
погода»)?
Классическое искусствознание и литературоведение чаще всего
отвечало отрицательно. «Мы почти ничего не знаем о Шекспире и в
состоянии чуть ли не день за днем проследить биографию Пушкина; это
вряд ли помогает проникнуть нам в «Маленькие трагедии» лучше, чем в
«Гамлета»1. С одной стороны, в самом деле, так — когда музыкальный
или литературный текст оказывается создан, он приобретает надлично-
стное, объективное бытие, все его важнейшие смыслы мы можем
вычерпать, не выходя за пределы этого текста. Вместе с тем, если мы
зададимся вопросами: почему в произведениях преобладает и варьиру-
ется определенный образный строй, чем объяснить неожиданные изме-
нения стиля, большие перерывы в творчестве, как совмещались у дан-
ного автора его призвание и способности? — нам не избежать обращения
к житейским подробностям и деталям характера художника, его интел-
лектуальной эволюции, среде общения и формам досуга2.
Борис Томашевский еще в 20-е годы с сожалением отмечал, что для
многих попытка осмыслить произведение искусства сквозь призму био-
графического метода «есть научная контрабанда, забегание с заднего
крыльца»3. Тем не менее интерес к человеческому облику художника
неослабен: история демонстрирует множество примеров, когда каждое
новое столетие, наталкиваясь на очередную — в биографическом отно-
шении — «железную маску» литературы или искусства, старательно
сочиняло собственную биографию для интересующих его художников.
Таким образом, уже на стихийном уровне претворялась взаимосвязь
между творческой и бытийной биографией, как ее понимала эпоха.
161
Неостановимый процесс «достраивания» и «домысливания» житейских
образов кумиров с последующим проецированием их произведений на
эти измышленные биографии — далеко не только дань любопытству
или жажда особой мифологии. Даже неискушенному сознанию трудно
мириться с расхожим представлением: одна часть способностей гения
отвечает за высокие порывы, другая — за обыденные деяния. А как же
быть с внутренним единством личности? Откуда этот водораздел, не-
ужели незаурядность гения не проявляется и в сфере повседневной
жизни? Андре Моруа формулирует такую точку зрения: «Если бы ко-
ролева Виктория не была королевой, она была бы, пожалуй, занятной
старой дамой, но не была бы исполнена той странной и тонкой поэзии,
которую придает ей смешение качеств самой заурядной женщины с
необходимой для королевы цельностью характера»4. Следовательно,
любые «незначительные» детали частной жизни приобретают непости-
жимую сложность только в соотнесенности с масштабом действующей
личности. Каким-то иным, особым смыслом наполняется толкование
всех жизненных перипетий в этом случае.
Привычное мнение: существуют писатели «с биографией» и писатели
«без биографии». К числу последних, к примеру, относят Тютчева, по-
святившего жизнь дипломатической карьере и не придававшего боль-
шого значения своему поэтическому дару; Гончарова, до конца своих
дней остававшегося чиновником по делам «ценсуры иностранной». В этих
случаях отмечают несоразмерность полной душевных бурь творческой
жизни и жизни частной, протекавшей .в урегулированных, спокойных
формах. Но именно такой взгляд и предполагает, что жизненный путь
и творческий путь художника — это сообщающиеся сосуды, что в са-
мой природе таланта заключена предуготовленность к судьбе особого
рода. Уже В.А.Жуковский, сознавая, что выразительность собственной
жизни уступает красочности его творчества, не хочет обманывать ожи-
даний потомков: «Мемуары мои и подобных мне могут быть только пси-
хологическими, то есть историею души; событиями интересными для
потомства, жизнь моя бедна...»5
Интересно, что Ортега-и-Гассет укоряет Гете за измену самому себе
именно в образе жизни — в несоответствии между занятиями поэзией
и министерским укладом жизни; в этом Ортега видит причину творческой
ослабленности произведений поэта в веймарский период («разом была
решена экономическая проблема, и ...Гете привык плыть по жизни, за-
быв, что потерпел кораблекрушение»6). Гнет собственной биографии —
если она не органична для творца — один из самых тяжких гнетов.
Высокая амплитуда переживаний, экстремальное напряжение в
момент создания произведения7 — все эти многократно описанные со-
стояния творческого процесса, безусловно, не могут не сказаться и на
способах самоосуществления художника в жизни. Признания, выры-
вавшиеся у самих художников, красноречивы: «Чтобы быть художни-
ком слова, надо, чтобы было свойственно высоко подниматься и низко
падать», — делает запись в дневнике Л.Толстой8. «Жить стоит только
так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни... Художник
должен быть немного (а может быть, и много) дикарем. Искусство.
162
мирно сожительствующее с прогрессом, цивилизацией — ремесло»
(А.Блок). Развивая эти идеи, В.Розанов приходит к заключению: «Я ценю
людей не за цельность, а за размах совмещающихся в них антиномий»,
трактуя саму цельность как сложное противоречивое единство неред-
ко взаимоисключающих сторон личности художника.
Таким образом, сама природа творчества, можно сказать, «навязы-
вает» художнику в жизни девиантные формы поведения. («Картина —
это вещь, требующая не меньше козней, плутней и порочности, чем
совершение преступления»,— повторял Дега.) Много написано о том,
что воплощение противоположных по духу персонажей побуждает ху-
дожника быть в одинаковой близости как от сил Бога, так и от сил
дьявола, направляет его внимание к нравственно рискованной пище и
т.д. Задевают ли художественно претворенные автором сильные страс-
ти его реальное бытие? Непрестанная тяга художника к самообновле-
нию, балансирование между мерой и чрезмерностью меньше всего со-
вмещается с представлением о его умиротворенности в частной жизни.
Если его жизненный путь и оказывается запрограммированным его
призванием, то он видится как ломаная линия взлетов и поражений, а
не плавная линия восхождения. Оскар Уайльд заметил: жизнь, чтобы
быть прекрасной, должна закончиться неудачей. Его современники —
Рильке, Верлен, Рембо — входят в литературное сознание не только
своими произведениями, но и жизненной судьбой, по-своему иллюст-
рируя эту максиму. Для не имеющих судьбы эпоха сама сочиняет жиз-
ненный путь, полный созвучного их таланту «узорчатого геометризма».
Начало XX века не сомневается: профессия художника — небезопас-
ное для личности занятие.
«Стилистические формы поэзии суть одновременно стилистичес-
кие формы личной жизни» — так подытоживает свои наблюдения о
судьбах художников, рассыпанных по разным эпохам, Григорий Вино-
кур9. В его новаторском произведении «Биография и культура» утверж-
дается взгляд на личную жизнь как на своеобразную сферу творчества.
Строительство самого себя — трудный, не всякому подвластный твор-
ческий акт. Более того, в истории нередки случаи, когда важнее ока-
зывается именно то, каким человек был, нежели то, что ему удалось
создать. Личность Вольтера, к примеру, оказалась гораздо объемнее,
чем его творчество. «Его произведения были не самым главным, что
возникало в уме при его имени»10. Однако его человеческий масштаб,
взрывчатый темперамент, воля, упорство как нельзя лучше ассоции-
руются с веком Просвещения. Образ Вольтера жив и поныне, даже
если его трагедии, поэмы и трактаты оказались не самым главным для
культурной памяти.
Типы биографий художников в истории
Одно дело — зафиксировать взаимосвязи бытийной и творческой
биографии художника: как бы не были скрыты, они действуют контек-
стуально, опосредованно и неодолимо, демонстрируя внутреннюю цель-
163
ность человека творящего и человека живущего. Другой, более слож-
ный ракурс проблемы связан с обнаружением зависимости типов био-
графий от своеобразия исторических эпох.
Как произведения искусства группируются в истории по определен-
ным стилевым признакам, точно так же и отдельные общности худож-
ников оказываются объединены схожестью стиля жизни, осознания своих
целей, способов самоосуществления. Несомненно, к примеру, что худож-
ники Возрождения — это особая социальная группа, объединенная об-
щностью профессионального самосознания, мотивов своей деятельнос-
ти не только в искусстве, ио и вне его. Новое качество самосознания
деятелей искусства Возрождения чрезвычайно заметно по сравнению с
предшествующей эпохой, когда к художникам привыкли относиться так
же, как к плотникам, каменщикам, мастерам стекольного дела. С одной
стороны, сами художники порывают с замкнутой цеховой средой, обра-
щаются к широким слоям интеллигенции, усваивают стиль жизни и
поведения гуманистов. Показательно, что когда Филиппо Виллани впер-
вые решил создать жизнеописание выдающихся людей, он включил туда
и художников. «Мне должно быть позволено, по примеру античных
писателей,., включить сюда и художников», — пишет он, как бы оправ-
дываясь. Совсем недавно такой аргумент был бы, конечно, необычным.
Много написано и о том, что мастерские художников Возрождения
во многом становятся центрами интеллектуальной жизни. Сюда загля-
дывали и ученые, и философы, и аристократы, как пишет Вазари, «в
мастерских не только работали, но и вели прекраснейшие речи, и
важные диспуты». В связи с последним такие цеха порой называли
«академией бездельников», тем не менее художники рассматривались
как носители широкой духовности, интенсивно, наравне с гуманиста-
ми, усваивали теоретические интересы эпохи.
Каждое произведение возрожденческого мастера — это создание
целостного мира, зримый образ должного бытия. Раз так, следователь-
но и каждый художник мыслит себя вровень с титаном, центром ми-
роздания, демонстрирующим невероятный универсализм способностей.
Из маргинальной фигуры, которой являлся художник в средневековье,
он попадает едва ли не в сферу социальной элиты.
Если в средние века с обликом художника традиционно были связа-
ны представления об озорных и непристойных выходках, об уме попо-
лам с придурью, то в Возрождении эти странности во многом отступают.
Художник уже далеко не всегда демонстрирует «неотрефлектирован-
ное» поведение своего круга, а наоборот, в противовес экзальтирован-
ным и эпатирующим формам поведения культивирует медитативную
сосредоточенность, одиночество, тишину, соединение чувственности и
созерцательности.
В тех же случаях, когда художник являет свои «аномалии» и выла-
мывается из общего ряда (скажем, при дворе Медичи или даже при
дворе папы), то возникают новые аргументы в защиту своеволия ху-
дожников. Так, Козимо Медичи склоняется к тому, что «редкие талан-
ты — это небесные существа, а не ослы с поклажей», следовательно,
164
их нельзя мерить общей меркой, а надо относиться снисходительно и с
пониманием. Художники в эпоху Возрождения были достаточно обеспе-
чены, если и возникали проблемы, то по причине развитого самосоз-
нания художника, не желающего поступиться своими творческими ус-
тремлениями, своей профессиональной гордостью, когда она приходит
в столкновение со вкусом и капризом заказчика, особенно, когда речь
шла о создании монументальных произведений, требовавших дорогих
материалов и долгих лет работы.
Точно такой же группой, где обнаруживается относительное един-
ство поведенческих характеристик, цехового самосознания предстают,
скажем, художники Голландии и Фландрии XVII века. Творчество боль-
шинства современников Рубенса, Рембрандта, Хальса вовлекается в
условия рыночных отношений, основной корпус живописных произве-
дений создается уже не для меценатов или церкви, а для свободной
продажи.
Следующая группа, которая, тоже несомненно, выявляет общность
своего жизненного уклада — это немецкие писатели XVII века. В био-
графиях немецких писателей этого времени, особенно выходцев из среды
мелкого бюргерства, есть одна общая черта. Это касается и Лессинга, и
Клопштока, и многих других, более мелких писателей. Как правило
этот тип писателя «происходит из бюргерской семьи, достаточно бед-
ной. Родители отдают его в гимназию, он получает хорошее образова-
ние. Родители мечтают, чтобы их сын, поступив в университет, стал
впоследствии пастором. Почти все крупные немецкие писатели XVII
века — неудавшиеся пасторы, — высказывает наблюдение В.М.Жир-
мунский. — Они поступают на богословский факультет, где сразу начи-
нается конфликт между внутренним свободолюбием и обязанностями
проповедника христианской веры. Будущий писатель бросает в конце
концов богословие, лишаясь тем самым верного куска хлеба, на кото-
рый надеялись родители, и становится литератором. Нередко эти недо-
учившиеся пасторы, лишившиеся верного места в жизни, вынуждены
были поступить воспитателями, или, как их называли, гофмейстерами
в семью какого-нибудь знатного дворянина. Трагедия гофмейстера, быв-
шего студента, человека с образованием и личными претензиями, ко-
торого в грубой невежественной дворянской семье третируют как ла-
кея, эта трагедия нередко изображается немецкими писателями того
времени»11. Пример этому — написанная другом молодого Гете поэтом
Ленцем пьеса, которая так и называется «Гофмейстер». Один из самых
трагических случаев — это судьба Гёльдерлина, который, поступив на
должность воспитателя в богатую банкирскую семью, влюбляется в жену
банкира, которой он посвятил свои стихи и которая стала его музой,
затем он был изгнан из этой семьи, что стало для Гёльдерлина боль-
шой жизненной трагедией.
Другая группа, выделяющаяся общностью своей биографии — это
художники романтики. Биография поэта-романтика — это уже не только
биография деятеля-автора. Сама его жизнь была поэзией, и скоро даже
стал складываться примерный перечень поступков, которые должен
165
был совершить поэт. «Так, в конце Хуш века был создан тип умираю-
щего поэта. Юноша-поэт, не одолевший житейских невзгод, погибает в
нищете, в то время, как его ждет слава, приходящая слишком поздно...
Поэты своей жизнью осуществляют литературное задание. И эта-то
литературная биография и была нужна читателю»12.
Огромную роль романтики придавали деятельности субъекта: с од-
ной стороны, субъекту творчества, а с другой — субъекту восприятия.
Много веков прошло в европейской культуре, пока искусство смогло
состояться как самоценный и суверенный вид деятельности, свободный
от какой либо функциональности. И вот в эпоху романтизма, в эпоху
триумфа самораскрытия воли художника, когда не существует ника-
ких преград для создания произведений, имеющих ценность в самих
себе, вдруг обнаруживается желание творцов расширить зону дей-
ствия искусства, направить его потенциал вовне. Тем самым романти-
ки как бы обозначили пограничный период, когда искусство, с одной
стороны, набрало максимальную творческую высоту как самодостаточ-
ная творческая сфера, а с другой — вновь пытается выйти за преде-
лы себя, но теперь уже демонстрируя в своих связях с действительно-
стью отношения не вассала, а сюзерена.
Эта невиданная ранее «самонадеянность» искусства и художника,
мыслящего себя средоточием важнейших истин и смыслов бытия, об-
наруживается и в новом взгляде на творца как исполнителя этого вели-
чественного замысла. Теперь он уже не мастер создания художествен-
ных иллюзий действительного мира, а Творец, Демиург, от которого
ожидают много большего.
Способность к испытанию сильного внутреннего переживания была
ценна для романтиков прежде всего потому, что она возвращала чело-
веку ощущение личного достоинства. Человека может возвысить не
только художественное, но и религиозное переживание, нравственное
воодушевление. Однако только художественное переживание, по мне-
нию романтиков, свободно от заданных рамок, способно сообщить сво-
боду и самодеятельность импульсам человека. Художественно-со-
зидательное отношение к окружающему миру, помогающее ослабить
зависимость от него, позволяющее превзойти этот мир, диктовало и
цеховые «правила» жизнетворчества.
Утверждая особую ценность внутренней жизни как основы творче-
ства, немецкие романтики тщательно разрабатывают столь важное для
них понятие как «ирония». Иронический субъект, человек, наделенный
ироническим мироощущением, оценивается Ф.Шлегелем как в высшей
степени свободный, произвольно творящий и себя, и окружающий мир.
Однако где развивается ирония, там она рано или поздно трансформи-
руется и в самоиронию. Любой иронически мыслящий человек и худож-
ник делает предметом и объектом иронии самого себя, т.е. противостоит
в своем ироническом отношении не только реальному миру, но и само-
му себе. Такое бесконечное возделывание иронии в дальнейшем вело к
болезненному развитию рефлексии — как бы сам собой снимался воп-
рос об общезначимом идеале и начинал возобладать принцип относи-
тельности всего существующего.
166
К каким обобщениям провоцируют нас приведенные наблюдения?
Очевидно, что на каждом отрезке истории существует то, что можно
обозначить как биографическое сознание эпохи. Биографическое созна-
ние — это представление о том, какой жизненный путь человека мож-
но считать удавшимся, завершенным, полноценным, применительно к
разным социальным слоям и профессиям; это определенные традиции
выстраивания своей судьбы и наиболее желанные для людей модели
жизни. В полной мере это понятие «работает» и в отношении художни-
ка. Для того, чтобы жизнь художника мыслилась как состоявшаяся и
полноценная, она должна соответствовать определенному канону био-
графии художника, сложившемуся в этой эпохе.
Когда большинство авторов, к примеру, утверждают, что канон
биографии романтического поэта дал Байрон, они исходят из того, что
существует некий «кодекс деяний», который ожидает от художника та-
кого типа эпоха. Свой кодекс деяний — у профессии политика, священ-
ника, точно так же как особый он — у художника. Специфика положе-
ния творца в общественной иерархии, обслуживание им потребностей
высшей страты, либо стремление самому выступать законодателем
вкусов, социально адаптированный или « возмущающий спокойствие»
характер творчества — все это формирует в сознании современников
наиболее вероятные константы его человеческого облика и жизненно-
го пути.
Если поэтому наиболее общая схема этапов жизни художника ка-
жется простой — ученичество, овладение мастерством — первый ус-
пех — признание — большой успех — крушение карьеры или,напро-
тив, собственные ученики и подражатели — в каждой конкретной эпохе
эти стадии конфигурируются по-разному: может изменяться их после-
довательность (большой успех не в конце, а в начале жизни), отдель-
ные этапы спрессовываются или вообще выпадают из биографии (ху-
дожник может миновать стадию специального образования, порой
традиции замкнутой жизни исключают появление учеников) и т.п.
Та или иная «формульность» существования мастера в определенную
эпоху складывается, таким образом через предметную фактуру биогра-
фии, устойчивость которой подтверждают схожие параметры жизни
других его собратьев по профессии. Сюда входит все то, чем обставля-
ет художник свою жизнь, каких соратников избирает (в художествен-
ной среде или преимущественно вне ее), каков его типичный семей-
ный статус, каковы формы досуга и общения оказываются наиболее
почитаемы.
Сопоставление биографий художников одного типа позволяет убе-
диться, что сам характер жизненных и творческих противоречий, и,
особенно, способ их преодоления, глубоко укоренены не только в осо-
бенностях индивидуального темперамента, но и в ментальности соот-
ветствующей культуры. Следовательно, жизненный путь художника,
все расставленные на этом пути ловушки и способы уклонения от них
характеризуют не только витальную силу индивидуальности, но и саму
почву культуры, породившей этот выбор, это поведение, эту драму,
167
это творчество. Из взаимодействия витальности и ментальности скла-
дывается конкретный рисунок жизни, судьба таланта корректируется
незримой логикой культуры.
Изучение групп художников, помещенных в ту или иную истори-
ческую систему биографий, позволяет обнаружить то, что можно на-
звать взаимоориентированностью судеб представителей разных видов
искусств. Речь идет не просто о схожести жизненных мотивировок, но
о близости поэтов, музыкантов, актеров как определенных психологи-
ческих типов. Строго говоря, очень трудно понять и доказать, что вы-
ступает здесь первоначалом: художник, формирующийся эпохой или,
напротив, сам изменяющий ее через утверждение новых способов ми-
роощущения и бытия. Сопоставление этапов жизненного пути худож-
ников, обнаруживающих общность своих судеб, свидетельствует о том,
что чисто индивидуальные антропологические характеристики могут
становиться и характеристиками культурно-антропологическими13.
Интересно наблюдение о существовании несомненных перекличек и
тесной связи между фигурами М.Лермонтова и его известного совре-
менника актера П.Мочалова. Б.Алперс отмечает, что «между Лермонто-
вым и Мочаловым есть много поразительно схожего, это сходство за-
частую идет очень далеко, вплоть до своеобразных изгибов их
человеческих характеров. В созданиях Лермонтова и Мочалова, по су-
ществу, даны варианты одной и той же психологии, одного и того же
психологического типа человека этой эпохи... И самое одиночество Мо-
чалова в театре и в художественном мире близко напоминает гордое
и, вместе с тем мучительное одиночество Лермонтова и его героев»14.
Знаменитые «мочаловские минуты», вспышки необычайного эмоцио-
нального подъема (актер органически был неспособен играть ровно на
протяжении всего спектакля) сопоставимы с сильными романтическими
импульсами и озарениями поэзии Лермонтова.
Творческие усилия, направляемые на совершенствование своего
искусства, таким образом, сказываются и на собственной жизни ху-
дожника. Так что искусство, являясь первоначально предметом жиз-
ненных усилий личности, ее целью, постепенно превращается в сред-
ство творения жизни этой личности15.
С помощью каких понятий можно описать сам процесс жизнетворче-
ства, в чем он выражается? Уже возможность подобной постановки
вопроса обличает самосознание человека Нового времени. Как ни странно,
но большинство статей в современных словарях и энциклопедиях осве-
щают понятие судьбы, опираясь на традиционные взгляды античности
или средневековья. Отсюда толкование судьбы лишь как того, что пре-
допределено, отождествление ее с роком, фатумом и т.п. Близкие зна-
чения обнаруживались и в традиционной русской культуре: судьба как
«доля», «участь», от которой не уйдешь, «согласного судьба ведет,
несогласного — тащит» и т.п.)16.
Идеи сознательного жизнетворчества, т.е. авторства своей собствен-
ной судьбы складываются, как это не покажется парадоксальным, в
русле религиозной доктрины кальвинизма, благодаря пуританской эти-
168
не. Как известно, кальвинизм придавал огромное значение действию,
усилию, земному успеху. Считалось, что только через действие, при-
носящее осязаемые плоды, человек подтверждает свою веру, может
выполнить свое призвание и тем самым воздать славу Богу.
Но начавшись, процесс развивался далее в соответствии со своей
собственной логикой. Богопочитание пуританского рода вело к интен-
сивной деятельности, интенсивная деятельность вела к успеху в земной
жизни, а успех в земной жизни, полученный благодаря своим собствен-
ным усилиям, подрывал взгляд на жизнь как зависимую от непостижи-
мых сверхъестественных сил. Таким образом оказывалось, что в саму
пуританскую этику встроен процесс секуляризации: богопочитание в
конечном итоге приводило к богатству, а богатство — к упадку рели-
гии. «Пуританство привело к рационализированному пониманию жизни
как особого призвания. Затем произошла трагедия, капитализм увидел
значение призвания для бизнеса, удалил трансцендентальные, связан-
ные с иным миром мотивы и превратил призвание в работу»17. Эта
смена перспективы с потусторонней на мирскую и способствовало тому,
что понятие «судьба» постепенно теряет в европейской культуре ори-
ентированность на иной мир. Осознание этого, несомненно, вносило новый
элемент свободы в формы самоосуществления художника. Влечение к
действию, стремление к личному успеху в жизни, конкуренция — все
это плохо сочеталось с идеей о том, что жизнь человека не зависит от
его собственных усилий. Такое понимание формирует новый взгляд на
человеческую судьбу: судьба представляется как история отвергну-
тых альтернатив.
Как обнаружить зыбкую границу, когда «альтернативы начинают
отвергаться по-другому»? Иначе: где кончается система одних биогра-
фий и начинается система других? Нередко уже следующее поколе-
ние художников в той же стране разительно отличается по способу
своего жизнестроительства от своих предшественников. В качестве од-
ного из признаков, который может помочь проложить границы между
разными общностями художников, выступает совокупность определен-
ных фаз-этапов, охватывающих содержание жизненного пути.
Самый общий взгляд позволяет увидеть, что, к примеру, длитель-
ность жизни голландских и фламандских живописцев XVII века была
значительно больше, чем немецких художников-романтиков начала XIX
века (первые — 60-70 лет, вторые редко переваливали за 40). Уже это
позволяет предположить, что составляющие их жизнь фазы были раз-
ными, отражали совсем иной мироуклад.
Давно было замечено, что характерной особенностью жизни чело-
века является ее дискретность, наличие в рамках единого жизненного
цикла разных фаз, стадий, периодов развития. Этот динамизм, эта пос-
ледовательная смена возрастных и социальных ролей во многом тоже
несет на себе отпечаток культуры и истории. Каждой эпохе соответ-
ствует не просто определенный тип художника, а даже некий приви-
легированный его возраст.
Проблема возраста, разных возрастных стадий в жизни художника
169
— очень любопытный сюжет, помогающий объяснить особую конфигу-1
рацию его жизненного пути. Все фазы, которые проходит художник,!
не есть его внутренняя заданность. Эти стадии связаны с признаками ’
гражданского состояния, семейного статуса, консолидации или разоб- |
щения социальных ролей, зависят от смены жизненной среды, обще-
ния, от тех конфликтных ситуаций, которые возникают в жизни и рез-
ко меняют ее течение, и, наконец, зависят от успеха или неуспеха,
триумфа или поражения в творческой борьбе, в творческих исканиях.
Каждое изменение в жизненном пути позволяет говорить о новом эта-
пе в жизни художника и всегда связано с возникновением нового отно-
шения к среде, нового отношения к традиции, то есть с тем особен-
ным, что позволяет художнику выделяться из окружающего мира и
по-новому соотноситься с ним.
Здесь возникает проблема возрастов жизни и того, как каждый воз-
раст влияет на последующий, как они взаимозависят друг от друга, как
способ прохождения того или иного возрастного этапа определяет со-
бой следующий этап. Эта идея очень интересовала и продолжает инте-
ресовать исследователей18. Понятие возрастов жизни получило широ-
кое распространение как один из показателей таинственных связей ’
человека и мира. В XVI веке выходит книга «Великий собственник всех I
вещей», в шестой части которой детально обсуждается вопрос возрас-
тов жизни — излюбленная тема средневековой литературы19. Изобра-
жение всех ступеней жизни человека от колыбели до смерти можно
встретить на множестве французских гравюр XIV — XV веков. |
Если обобщить современные исследования, которые пытаются клас- ;
сифицировать возрасты жизни человека, как правило, все они в соот-
ветствии с многовековыми традициями выделяют семь основных фаз:
детство (до 12 лет), отрочество (приблизительно с 12 до 15 лет), юность
(15 — 23), молодость (иногда обозначают как «средний возраст»: 24 —
39), зрелость (40 — 65), старость (66 — 75), последний период старости
(после 75 лет). Нет необходимости говорить, что хронологические рам- ’
ки каждого возрастного периода всегда колеблются в зависимости от |
общей демографической ситуации. ।
Интересно, что каждая эпоха в качестве идеального культивирова- |
ла одни возрасты и скептически относилась к другим. Так, Франция ’
XVIII в. не уважала период старости — он описывался как возраст j
покоя, книг, набожности и болтовни20. Образ совершенного человека в i
XVIII веке — это образ человека молодого. Привилегированный воз- '
раст часто угадывается в художественных созданиях эпохи; так , мож- t
но говорить о некоторой репрезентативности литературных (театраль-
ных) образов Бомарше. Во Франции долго оставались неопределенными
границы между, с одной стороны, отрочеством, а с другой — юностью.
В образе Керубино («Свадьба Фигаро») как раз подчеркивается извес- I
тная двусмысленность периода полового созревания, акцентируется
женственность мальчика-подростка, расстающегося с детством. Это
объясняет ту легкость переодевания мужчин в женскую одежду, и на-
оборот, которая была чрезвычайно распространена в романе барокко.
У Керубино уже в следующем поколении не оказывается преемни-
170
ков. Юность к концу XVIII века (Французская революция!) у мальчиков
будет ассоциироваться с мужественностью и прообразом юноши в кон-
це XVIII века уже станет новобранец. Американский исследователь при-
водит характерное объявление о рекрутском наборе, датируемое кон-
цом XVIII века. Это объявление адресовано «блистательной молодежи».
В нем говорится: «молодые люди, желающие разделить ту славу, ко-
торую завоевал этот превосходный корпус, могут обратиться к господи-
ну де Амбрену... Они вознаградят тех вербовщиков, кто сведет их с
настоящими мужчинами»21. Теперь уже офицер с командирской пе-
ревязью стоит на вершине лестнице жизни. Это уже не молодой чело-
век в современном понимании, он принадлежит к той возрастной кате-
гории, которая лежит в конце среднего возраста.
Не раз культ молодости вспыхивает и в последующие эпохи. Идеал
физической силы, чистоты, естественности, непосредственности, жиз-
нерадостности сделали из юноши героя начала XX века. В этом сходят-
ся многие исследователи, художники и литераторы. Если во второй
половине XIX века «солидные манеры пожилых еще обладали боль-
шим престижем, юноша жаждал как можно скорее перестать быть
юношей и стремился подражать усталой походке дряхлого старца», то
в начале XX «мальчики и девочки стараются продлить детство, а юно-
ши — удержать и подчеркнуть свою юность. Несомненно одно: Европа
вступает в эпоху ребячества»22.
Так, на смену эпохе, не знавшей юности, пришла эпоха, в которой
юность стала наиболее ценимым возрастом. Все хотят вступить в него
пораньше и задержаться в нем подольше. Молодость становится темой
философии и литературы. Самое серьезное внимание проявляется к
тому, что думает молодость, что она созидает. Молодость представля-
ют как носительницу новых ценностей, идущей на смену старому, скле-
ротическому обществу. Показательно, что такой дух культуры помог
сформироваться и определенным типам личности художников этого
времени. Несмотря на известную полярность выделяемых исследовате-
лями искусства начала XX века авангардистского и модернистского
типов художников23 (первые — В.Маяковский, С.Дали, А.Бретон; вторые
— А.Шенберг, Д.Джойс, Ф.Кафка), всех их объединяет жажда поиска,
эксперимента, интенсивной деятельности. Среди множества течений
начала века не просто выделяется группа произведений молодых худож-
ников — чрезвычайно показательно, что именно молодым мастерам
(Пруст, Пикассо, Стравинский, Шагал, Прокофьев) удалось в этот пе-
риод выступить с такими открытиями, которые затем во многом опре-
делили главное русло тенденций и стилевых поисков всего столетия.
Идея типологии художнических биографий разрабатывается и на ма-
иериале новейшей истории. Заслуживает внимания интересная гипоте-
за М.Эпштейна, выявляющая творческо-стадиальные признаки разных
поколений поэтов в отечественной истории последних десятилетий. Ав-
тор обозначает стадиально-типологические признаки через ряд ключе-
вых слов. Так, конец 50-х — начало 60-х гг. может быть описан через
понятия «искренность», «открытость», «исповедальность», «смелость»,
«раскованность». За поколением, выразившим это время, стояло от-
171
крытие личности как полноправного суоъекта и героя творчества, не-
исчерпаемого в своей реализации. Однако позже, когда это самодовле-
ющее «я» стало многих раздражать, казаться суетным и горделивым,
поэзия перемещается на лоно пашен и лугов, в смиренномудрую жизнь
природы. Этот период претворился в иной предметной и ментальной
фактуре, выражает себя через понятия «память», «род», «природа»,
«теплота», «родство» «укорененность». Для периода 80-х и 90-х годов,
вовлеченного в интенсивные обменные процессы с мировой культурой,
наиболее адекватны иные ключевые слова: «культура», «символ», «миф»,
«опосредованность», «рефлексия», «многозначность»24 и т.п.
Таким образом, изучение систем биографий художников, соотне-
сенности биографического сознания с историей позволяет обнаружить
новые точки соприкосновения художественного творчества с подвиж-
ными ориентирами социальной психологии, изменением ценностных
предпочтений публики, ментальными особенностями разных эпох.
Глава 11. Сословная психология
и эволюция статуса художника в России
Социальная и культурная биография профессионального художника
г. России — чрезвычайно интересная и малоизученная область. Вхожде-
ние профессиональных живописцев, актеров, музыкантов в обществен-
ную жизнь произвело существенные сдвиги в традициях национально-
го сознания и психологии, привнесло новые обертоны в культурные
ориентиры разных сословий, то резче очерчивая их границы, то, на-
оборот, их размывая.
С момента своего появления на русской почве, фигура художника
будоражит общественное мнение, создает в нем новую диспозицию «сво-
его» и «чужого», приводит в движение устоявшиеся нормы этикета,
способствует наложению «западных» и «славянских» ценностей.
Представление о XIX веке в России как удивительно изобильном
времени художественных шедевров вполне справедливо. Пушкин, Го-
голь, Брюллов, Тургенев, Чайковский, Достоевский, Толстой вошли в
общеевропейское культурное сознание, снискали поистине мировую
славу. Вместе с тем очевиден парадокс: в столь восприимчивой и худо-
жественно чуткой русской культуре художники-профессионалы появи-
лись удивительно поздно. В Европе уже несколько столетий играют
Шекспира и Мольера, исполняют концертные и оперные произведения
Баха, Глюка, Перселла, тиражируют романы Рабле и Сервантеса, в
то время как в России еще не существует ни одного специального
художественного учебного заведения, нет и профессиональных деяте-
лей искусства. Художественные формы досуга исчерпываются либо
примерами «скоморошьяго гудения», либо развлекательными постанов-
ками крепостных трупп в дворянских поместьях.
Стремительный путь, который проделала культурная биография
художника в России, оказался очень спрессован: за полтора столетия (с
середины XVIII до начала XX века) эволюция общественного положе-
ния художника миновала все те значительные этапы, которые в Евро-
пе заняли около трехсот лет. Менявшийся статус художника в России
отражал и динамику сдвигов в сословном самосознании российского об-
щества. Художественное творчество, развивающееся то под покровом
дворянской этики, то сближающееся с ориентирами разночинной пуб-
лики, обогащалось разнообразием вкусов, испытывало множество нео-
днозначных стимулов. Восприятие фигуры художника современника-
ми, положение художника в социальной иерархии — все это было
|{ажным фактором мотивации творчества, наряду с влиянием собствен-
но художественного опыта и традиции. Одним словом, творческая дея-
173
тельность определялась не только творческими факторами. Общест-
венные установления и нормы задавали совершенно особый тон, кор-
ректировали своеволие художника, нарушали предсказуемость худо-
жественной деятельности. Размышления в этом ракурсе, к сожалению,
еще не вполне привычны для отечественного искусствознания, хотя
способны прояснить многие художнические импульсы.
Процесс профессионализации искусств воспринимался как «подтяги-
вание» России к европейским стандартам. Действительно, начало обра-
зования в области изобразительного, балетного, музыкального искус-
ства было связано с адаптацией и переработкой опыта итальянских
(музыка, театр) и французских (театр, балет) мастеров, интервенция
которых во второй половине XVIII и первой половине XIX века была
весьма ощутимой.
Вместе с тем культурно-художественная «европеизация» России при-
обрела яркие самобытные черты. Художник и дворянская аристокра-
тия, художник и первая русская интеллигенция — все эти соприкосно-
вения определяли противоречивые условия творческой деятельности
и, в конечном итоге — особенную судьбу художника в России. Попыта-
емся, хотя бы отчасти, разобраться в этих коллизиях.
Художник и социопсихология дворянства
Для понимания условий, в которых происходила профессионализа-
ция искусств и деятельность первых оплачиваемых художников, арти-
стов, писателей, не обойтись без обращения к традициям дворянского
сословия, ведущей социальной группы этого времени. Становление ис-
торической психологии российского дворянства имело одну существен-
ную особенность, радикально отличающую его от землевладельческой
аристократии Западной Европы: российское дворянство было сложено
в привилегированную общественную группу государственной властью,
отсюда и та возделываемая в нем идея благородства, основанная на
служении государству, в отличие от идеи благородства западноевро-
пейских аристократических кланов, возвысившихся на крови, на кон-
тракте с государственной властью1. Полезность отечеству, дворянская
честь, верноподданнический долг, служение императору, знатность,
слава — все эти понятия и составляли то, что было принято называть
высокими идеалами благородства. Во второй половине XVIII века к этим
качествам русского аристократа присоединяются и такие ценности, как
образованность и просвещенность.
Общеизвестно, что до этого времени нравы дворян в России вплоть
до середины XVIII века в отношении наук и искусств оставались до-
вольно грубы. Примеров на этот счет немало: Артемий Волынский, ка-
бинет-министр, бывший губернатор, собственноручно бьет палкой ака-
демика Третьякова. Специалисты-иностранные медики, работавшие в
воинских частях, были у полковых командиров и штаб-офицеров как
бы в услужении, жили при их домах и выполняли разнообразные пору-
чения, как, напрмер, расчесывание париков.
174
Из текста указа об учреждении Московского университета (1755 год)
видно, что дворяне серьезно начали заботиться об образовании своих
детей, приглашали для них учителей. Для поступления в университет
ныл определен известный минимум знаний, это повлияло и на харак-
тер учебы тех «недорослей», образование которых ограничивалось ча-
стными программами. При Московском университете действовали две
гимназии: одна для дворян, другая для разночинцев. Соответственно
этому университет должен был удовлетворять сразу двум целям: шля-
хетским и академическим. В гимназии дворянский сын не соприкасался
с детьми из «подлаго звания». Разночинцев, как и дворян, помимо тех-
нических знаний, учили музыке, пению, живописи.
Таким образом владение художественными способностями с появле-
нием казенных учебных заведений стало входить в состав хорошего
образования, которым должны были владеть «знатные граждане». Те
небольшие группы разночинцев, которые оканчивали курс универси-
тета (первоначально не более 7-10 человек в год) и составили, по-види-
мому, первую отечественную интеллигенцию, выпадавшую за рамки
основных феодальных сословий. В «Наказах» Екатерины II говорилось о
«среднем роде» городских людей, специальном сословии, которые «уп-
ражняются в ремеслах, торговле, в художествах и науках». Так пер-
вые представители художественной интеллигенции получили самое
общее правовое оформление.
Екатерина II гордилась широтой образования, прививавшегося вы-
пускникам Шляхетского корпуса, целью которого было «не приготов-
ление офицеров единственно для войны». «Мои кадеты, — писала ца-
рица, — сделаются всем тем, чем пожелают быть и выберут себе
поприще по своим вкусам и склонностям»2. И хотя по замечанию одно-
го недоброжелателя выпускаемые корпусом военные «хорошо играли
комедию, писали стишки, одним словом, знали все, кроме того, что
надо знать офицеру», современники соглашались с тем, что художе-
ственные умения есть неотъемлемое качество настоящей культуры.
Как известно, датой основания первого русского профессионально-
го театра считается 1756 год, когда в Петербурге (в Головкинском доме)
указом сената был учрежден «Российский театр для представления тра-
гедий и комедий». Труппу возглавил А.П.Сумароков. Однако при дворе
уже задолго до этого прививался вкус к восприятию театрального дей-
ства. При Анне Иоанновне в 1735 году в столицу была выписана боль-
шая итальянская труппа. Позже на службу при дворе в течение не-
скольких сезонов зачислялись немецкие артисты, получавшие большое
содержание3.
Особый энтузиазм в приобщении дворянства к театру проявила Ели-
завета Петровна. Всякий, кто не хотел затеряться при дворе, должен
был посещать многочисленные балетные, драматические спектакли. Для
придворных лиц, состоявших на гражданской и военной службе, бы-
вать в театре являлось неукоснительной обязанностью. Более того, в
1736 году в Петербурге при дворе Елизаветы был организован театр,
где спектакли игрались без профессиональных артистов, а роли разда-
вали «знатным дамам и кавалерам». Дело шло успешно, даже стал
175
сказываться недостаток в пьесах. Была сочинена сказка «О Яге-бабе»,
главную роль в которой играл обер-гофмаршал Дмитрий Андреевич
Шепелев.
Из показаний придворного Камер-Фурьерского журнала видно, что
русские спектакли, к сожалению, посещались мало. Поэтому нередки
были случаи, когда на «забывающих о спектакле» Елизавета налагала
штраф в размере 50 рублей. В 1751 году для увеличения публики («чтоб
смотрителей не мало было») она издала указ, по которому на спектак-
ли разрешалось допускать знатное российское и чужестранное купече-
ство — для них отводили верхний ярус и задние ряды в партере, пред-
писывая одеваться «не гнусно». Что же касается восприятия спектаклей,
то современники отмечали не один случай, когда императрица «роняла
слезу» и, встав с места, «изволила аплодировать».
Знаменательно, что начиная с Елизаветы, русские государи жало-
вали выдающимся актерам шпаги — символ чести и достоинства. Со-
хранились свидетельства, что Екатерина II в своей заботе и внимании
к театру доходила до того, что дарила артисткам, выходившим за-
муж, подвенечные платья.
Как и в любом аристократическом обществе самоуважение актера в
России конца XVIII — первой половины XIX века целиком зависело от
его успеха у аристократических групп. Вполне естественно поэтому,
что в классицистском театре этого времени развивались стандарты,
отражающие вкусы и этикет дворянства как социально доминирующе-
го сословия. Этикет был пропитан элементами театрализации придвор-
ной жизни, театр, в свою очередь, также оттачивал свою выразитель-
ность за счет этикета.
Наблюдается максимальное сближение в этот период приемов пове-
дения, речи, манер в придворной жизни и на сценических подмостках.
О чем бы ни шла речь в классицистской пьесе, ее эстетика требовала
особой пластики: жестикулировать надо было плавно, медленно и мяг-
ко. Жест надо начинать от плеча и локтя, кисть идет последней. Необ-
ходимо избегать парных движений как признака вульгарности. Обилие
жестов не рекомендуется. Прикасаться к актрисе, брать ее за руку,
сжимать в своих объятиях можно только в очень редких случаях и то
с соблюдением возможной благопристойности.
Близость сценических манер повседневному светскому этикету вы-
зывала возможность и их обратного воздействия; нередко дамы света
быстро и охотно перенимали у профессиональных актрис новые фор-
мы причесок, способы пользования косметикой, гримом и т.д. Все это
упрочивало взгляд на профессиональный театр как роскошь и при-
хоть, как на дорогую забаву. О понимании высокого назначения артис-
та-художника пока речь идти не могла. Да и сам театральный спектакль
воспринимался скорее как представление звезд, ярких актерских ин-
дивидуальностей, еще не сложился как целостное и высокое произве-
дение искусства. Возможности режиссуры не использовались, изредка
сам автор пьесы «стихотворец» мог давать советы по проведению ми-
зансцен. Того, кого мы называем художником театра, также не суще-
ствовало. Актрисы сами решали, какие шить себе платья и только до-
176
говаривались между собой, чтобы не совпадали цвета. Подобное взаи-
модействие творцов и исполнителей делало престиж исполнителей не-
сравненно более высоким. Это нашло отражение и в системе оплаты.
В екатерининское время в оперной труппе жалованье распределялось
так: стихотворец — 600 рублей в год, примадонна — 2000 рублей в год,
первый оперный певец — 3500 рублей в год4.
Интересно, что если любительское участие в так называемых «бла-
городных спектаклях» и музицировании всячески поощрялось, расцени-
валось в высшем свете как лучший признак изящества и культуры, то
переход дворянского сына на профессиональную службу в театральную
труппу был бы поступком немыслимым. Спустя столетие князь А.И.Сум-
батов, сам с немалыми сложностями пришедший к актерскому творче-
ству, свидетельствовал, что «ни один не только дворянин, но и купец
того времени, кроме разве отдельных деклассированных индивидуу-
мов, не решился бы стать актером-профессионалом»5. Помимо потерь,
связанных с утратой сословных привилегий, здесь сказывалась харак-
терная черта русской национальной психологии, проявлявшаяся в об-
щественном мнении: стыдно за безделье, за потеху получать мзду, жить
за счет забавы. Действовала давняя традиция снисходительно-презри-
тельного отношения к скоморошеству, балаганам, фокусникам с их «хит-
ростями художническими». В среде служилого чиновничества, к при-
меру, оставалось твердым убеждение — если уж придется выбирать из
всех сомнительных форм дохода, то лучше взятки брать, чем получать
деньги от «собравшихся на потеху». Как это не покажется странным,
при всем внимании и интересе к творчеству актера, в конце XVIII века
это была почти единственная всеми классами общества отрицаемая форма
заработка.
Если попытаться представить иерархию искусств, какой она скла-
дывалась в сознании дворянина конца XVIII — начала XIX века, то,
несомненно, высшую шкалу занимали деятели изобразительного ис-
кусства — живописцы, скульпторы, архитекторы. О том, как делили
между собой славу другие — актеры, музыканты и литераторы, —
говорить очень трудно. Если исходить из того, что определяется как
массовый успех, то, конечно, в большой мере он приходился на долю
деятелей театра, нежели литературы, с явным перевесом в сторону
музыкальных жанров — балета и оперы. Раз оценив и полюбив итальян-
ские и французские труппы, высший свет в Петербурге и Москве энер-
гично заявляет спрос на них. Несмотря на уже появившиеся в это вре-
мя произведения Державина, Крылова, Жуковского, литература не
занимала большого места в жизни русских столиц. Привычка к чтению,
по-видимому, еще не сложилась, первые литературно-художествен-
ные салоны только появлялись (о них речь впереди) и интерес к лите-
ратуре оставался весьма элитарным, хотя и уважаемым (все вышепе-
речисленные поэты происходили из дворян).
Безусловно, высокий статус изобразительного искусства, в первую
очередь диктовался насущными потребностями придворного обихода.
Постройка дворцов, разбивка парков, установка скульптур, декориро-
вание помещений; парадно-портретная, историческая живопись — все
177
это было призвано укрепить престиж рода и являло собой симбиоз
утилитарно-практического и художественного. Знание инженерного
устройства сооружений, техники отливки скульптур, приемов компо-
зиции, перспективы и т.п. сближали деятелей изобразительного искус-
ства с представителями точных наук. В глазах высшего общества польза
от деятельности тех и других была очевидной. Не случайно в первой
рисовальной школе, открытой еще в 1715 году при Петре I, объединя-
лись не только «живописна, скульптурна, граверна» мастерские, но и
«столярное, токарное, медное дело». Показательно, что и самосозна-
ние больших мастеров того времени было таково, что они не чужда-
лись прозаической работы, например, Растрелли, архитектор, брался
помимо основных занятий за обучение механики, портретист Даннау-
эр преподавал устройство и починку часов и т.д.
Система подготовки художников высокого класса требовала боль-
ших затрат и вложений. Для Академии наук, в системе которой рисо-
вальная школа действовала в 30 — 50-х годах XVIII века такие расходы
были непосильны, а часто, и несоизмеримы с тратами на естественно-
научные исследования. Соглашаясь с тем, что «художники необходимы
для рисования анатомических фигур, трав и других натуралей», Ака-
демия наук жалуется на обилие расходов, без которых ей можно было
бы обойтись, «ежели б Академия художеств, на которую надежда име-
лась, учреждена была»
Из всего этого вполне понятно, почему первым высшим учебным
заведением в России, начавшим осуществлять подготовку профессио-
нальных деятелей искусства стала не консерватория, не театральный
институт, а Академия художеств. Первые шестнадцать ее учеников
вербовались из студентов Московского университета (среди них ока-
зался и будущий знаменитый архитектор В.Баженов), еще двадцать
человек было набрано в Санкт-Петербурге, преимущественно из сол-
датских детей. В 1764 году, в год своего основания. Академия худо-
жеств рассылает в разные учреждения «объявление», в котором сооб-
щается о наборе в каждые три года шестидесяти мальчиков «всякого
звания кроме крепостных».
В пышном празднестве заложения нового здания Академии худо-
жеств 28 июня 1765 года (существующего и поныне) участвовала и сама
Екатерина II. Императрица возложила специально приготовленный ка-
мень «и приняв лопатку и известь, изволила оныя вмазать при 31 пу-
шечном выстреле с яхт и при игрании на балконах труб и литавр6.
Учреждение Академии художеств в России сопровождалось боль-
шим воодушевлением в придворных кругах. Задачей нового учебного
заведения, как говорилось в его уставе, было «образование новой по-
роды людей, свободных от недостатков общества». Окрыленные таким
максимализмом, приобщиться к числу покровителей Академии худо-
жеств считали для себя честью выдающиеся титулованные особы. Ека-
терине II были направлены письма от князя А.М.Голицына, графа
И.Г.Чернышева, графа Г.Г.Орлова, которые объявили желание быть
принятыми в число почетных любителей Академии. Заглядывая впе-
ред. отметим, что на протяжении всего своего существования Акаде-
178
мия художеств привлекает к себе особое внимание высшего общества,
а, начиная с 1843 года президентами Академии, сменяя друг друга,
становятся уже не просто именитые дворяне, а члены императорской
фамилии.
Как это и бывает во всяком новом деле, после звона литавр рутин-
ная жизнь Академии столкнулась с немалыми трудностями. Главные из
них касались качества и направленности преподавания. Эстетика того
времени считала: облагороженная природа человека есть итог специ-
альных усилий, возделывания; писать, поэтому, то, что видишь кру-
гом, казалось совершенно диким и недостойным искусства. Все реаль-
ное, пройдя через академическую выучку, должно было явиться
облагороженным, т.е. прикрашенным и стилизованным. Приемами такой
выучки в России поначалу владели только итальянские, французские
и немецкие мастера, выписанные Елизаветой, а затем Екатериной для
преподавания в Академии художеств.
Но и их деятельность не вполне удовлетворяла потребностям ново-
го учебного заведения. Первое время сказывается стесненность Акаде-
мии в средствах, что вызывает частые отъезды преподавателей на ро-
дину до окончания срока контракта. Дела Совета Академии того времени
пестрят ходатайствами о прибавке жалованья. Танцмейстер Жирарди
подносит высочайшим особам «пукеты», но никак не может выбиться
из долгов; скульптор Ролланд «за долги из своего дома взят и в погребу
содержится» и т.п.
Частая смена учителей и воспитателей в первые годы была явлени-
ем заурядным и вызывала острый дефицит образованных и талантли-
вых преподавателей. Французские гувернеры не знают русского язы-
ка, а воспитанники — французского; первые вследствие этого «не могут
делать вразумительные наставления по встречающимся иногда надоб-
ностям. Музыкант Генс — большой лентяй и только значится, будто
преподает клавесин; на уроки является редко, причем зимой отговари-
вается, будто лед на Неве слишком слаб, однако, несмотря на слабость
льда, за жалованьем всегда преисправно приходит»7.
И тем не менее первые выпуски Академии показали, что в России
появляются собственные художники-профессионалы, не уступающие
иностранцам. Старшее поколение составили художники Антропов (сын
солдата), братья Аргуновы (бывшие крепостные графа Шереметева),
Рокотов. Ученикам прививается любовь к изящному, они увлекаются
театром, учатся «клавикордной музыке», танцуют контрдансы и мену-
эты.. Начиная с первого выпуска (1767г.), воспитанники, получившие
золотые медали, посылаются за границу для совершенствования своих
способностей. Следующее поколение — Левицкий, Лосенко, Борови-
ковский — учились уже у русских художников. Академия быстро наби-
рала темпы и в конце 70-х годов русские мастера преобладали среди
заведующих классами: портретным — Левицкий, историческим — Коз-
лов, пейзажным — Щедрин, батальным — Серебряков.
Руководство Академии было готово мириться даже с «несветским»
поведением некоторых отечественных знаменитостей, когда это пове-
дение перекрывал талант. Так, в связи с большим дефицитом хороших
179
отечественных профессоров президент Академии И.И.Бецкой в 1780 году
решается вызвать из-за границы для заведования классом гравирова-
ния талантливого пансионера Академии художеств Семена Васильеви-
ча Васильева, до того навлекшего на себя немало нареканий разгуль-
ною жизнью, долгами и «вольным поведением». Ему обещано «забвение
прошлаго» и высылаются деньги на проезд до Петербурга8.
Продолжает широко проявлять себя и меценатство со стороны выс-
шего дворянства. Граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, назначен-
ный в 1795 году новым президентом Академии, с целью возбудить в
художниках «похвальное любочестие» учреждает для членов Академии
премии за лучшие произведения: одну в 700 рублей, другую — 500,
две по 300 и две по 200 рублей. На выдачу этих премий Мусин-Пушкин
отдает свое жалованье9.
Репутация Академии художеств стоит высоко и звание академика
считается весьма почетным10. Ряд фактов подтверждает уже высказан-
ное предположение, что социальный статус художника в этот период
значительно превышает статус актера. Так, в частности, в 1810 году
талантливый живописец-самоучка, артист Императорских театров Ва-
ренн представил в Академию серию пейзажей и просил признать его
академиком. Совет нашел, что «не прилично быть актеру членом Ака-
демии» и «не было примера, чтобы кто из сего звания, оставаясь в
оном, был когда принят в какую академию членом». Большинством го-
лосов (19 против 3) Варенн не был даже допущен к баллотированию.
Как это ни покажется парадоксальным, но на рубеже XVIII и XIX
вв. исполнители (актеры, музыканты, вокалисты) в оплате труда лиди-
руют по сравнению с живописцами и скульпторами. Это свидетель-
ствует о расщеплении факторов, определяющих статус разных твор-
ческих профессий. Оценка современниками степени престижа отдельных
видов искусств оказывается не тождественной экономическому поло-
жению представителей этих сфер.
Другой случай социального несоответствия, происшедший в этом же,
1810 году — когда вольнообучающемуся ученику Дубровину была при-
суждена большая серебряная медаль. Однако «вместо нея он получил
только одобрение, ибо оказался крепостным»11.
Нельзя в полной мере понять гибкие и противоречивые отношения
дворянской аристократии с деятелями искусства, не уяснив самобыт-
ности духа и традиций, которые унаследовало российское дворянство.
Восприимчивость к изящным художествам, театральному, музыкаль-
ному исполнительству, желание меценатствовать соседствуют со стрем-
лением дистанцироваться от импульсивности и стихии «другого» мира.
Увлечение развитием литературно-художественных способностей од-
нозначно входило в состав хорошего образования, но никак не могло
выливаться в художественную профессию.
С одной стороны, несомненно, можно обнаружить ряд черт, обеспе-
чивающих близость психологии аристократа и художника, делающих их
мироощущение понятным друг другу. В первую очередь это связано с
многосторонностью гуманистического идеала аристократии. Ее ориента-
ция на создание универсальной, интегрированной личности весьма близка
180
установкам художественной среды. Для занятий неутилитарной деятель-
ностью, духовным творчеством необходим был досуг, которого никогда
не имел рядовой человек, вынужденный работать, чтобы жить, но
преимуществами которого могли пользоваться как аристократия, так и
представители «свободных и вольных» художественных профессий.
Такой процесс самоосуществления, связанный с творчеством интел-
лекта, возможен только для групп, отдаленных от жизненной сумяти-
цы и мира повседневности. И если первые аристократические поколе-
ния, непосредственно переживавшие риск в войне или финансовой
борьбе, могли придавать значение определенным «низким» ценностям,
то уже их потомки, унаследовавшие привилегированное положение,
склонны не замечать «жизненные факты», жить в мире вымышленных
и нередко искусственных символов.
Все источники, проливающие свет на формирование менталитета
российского дворянства, свидетельствуют: промышленность и торгов-
ля, представляющие способы быстрой наживы и приобретения круп-
ных состояний, оставались всегда чуждыми поместному дворянству12. И
хотя закон предоставлял всякому дворянину брать торговое свидетель-
ство, поместные дворяне крайне редко этим пользовались и к купе-
ческому сословию не примыкали. При имениях нередко бывали фабри-
ки — винокуренные, свеклосахарные заводы, суконные фабрики. Однако
объем их деятельности, как правило, ограничивался собственными нуж-
дами дворянина. К примеру, деятельность по винным откупам вообще
считалась несовместимой с дворянским достоинством. Такие традиции
нашли отражение и в нормах этикета. Так, на приемах и вечерах для
высшего сословия было не принято обсуждать, в частности, проблемы
денег или пищи — слишком уж элементарными казались эти вещи и,
следовательно, несли на себе отпечаток вульгарности. Имеется и мно-
жество иных примеров этого ряда.
Словом, идея внутреннего благородства, по своему существу беско-
рыстная, была чрезвычайно сильной в среде российского дворянства.
Это и предопределило то, что в лоне дворянской культуры были сфор-
мированы нравственные ценности, которые по своей сути не ограни-
чивались клановыми интересами. Культурный, интеллектуальный ари-
стократ, с чем мы еще столкнемся ниже, продолжал оказывать
этическое воздействие на духовную жизнь России на протяжении все-
го XIX века, оставаясь примером для верхнего среднего класса.
Умение дворянина дать простор бескорыстным творческим побуж-
дениям, руководствоваться силой идеала, а не интереса, конечно, не
могло не импонировать психологии художника. В противовес этому ку-
печеское сознание почти единодушно мыслилось губительным для ис-
кусства, т.к. в первую очередь осознавало непреодолимую силу мо-
мента и было чуждо «парению над ситуацией».
Максимальное сближение между аристократом и художником уста-
навливалось тогда, когда первый, обладая независимыми средствами,
мог по своему желанию посвящать значительную часть своей жизни
творчеству. Вместе с тем и здесь неуклонно проявляло себя различие:
творчество ради удовольствия или творчество ради хлеба? Особая кон-
181
центрация созидательной энергии у художника-профессионала по-осо-
бому окрашивала и его психологию. Нельзя не согласиться с К.Ман-
хеймом, тонко увидевшим в таком универсальном занятии, как пу-
тешествие, претворение разных психологических обертонов: «Дворянин,
путешествующий за границей для своего удовольствия, не испытыва-
ющий необходимости утверждать себя на каждом шагу, воспринимает
новых людей и их обычаи как разновидность уже знакомых (курсив
мой. — О.К.)- Для художника, у которого отсутствует твердое социаль-
ное положение, путешествие выступает как источник нового опыта.
Так, будучи относительно свободным и странствуя, художник стано-
вится выразителем рефлексивного и многомерного взгляда на жизнь»13.
Можно привести по крайней мере две причины, побуждавших ари-
стократию дистанцироваться от профессиональных занятий искусством.
Во-первых, это неустойчивое правовое положение художественной
интеллигенции, с небольшими законодательными поправками, оставав-
шееся таковым вплоть до конца XIX столетия. Наряду с громким чество-
ванием отдельных талантов в области театрального, музыкального, изоб-
разительного искусства, время от времени появлялись неожиданные
указы. Так, 11 октября 1827 года состоялось распоряжение, что чинов-
ники, решившие поступить на сцену, лишаются всех чинов. Через четы-
ре года, правда, было выпущено добавление: актерам, при их совершен-
ном увольнении от службы, возвращать те чины, которые они имели до
поступления на театральное поприще. Очевидно, такое противопостав-
ление занятий государственной службой и службой в театрах не способ-
ствовало размыванию социальных границ. Какой бы известностью ни
пользовался актер или живописец, в первой половине XIX века впол-
не обычным считалось обращаться к нему на «ты». Эту унизительную
традицию однажды пытался прервать Каратыгин, но случившийся в
связи с этим скандал изменил положение лишь его одного.
Следующий фактор, который вызывал предвзятое отношение к ху-
дожникам-профессионалам со стороны дворянина — это подозрение
последних в «неструктурированном», как бы мы сегодня сказали, пове-
дении. Аристократические культуры вообще неодобрительно относят-
ся к спонтанному, импульсивному поведению, считая его вульгарным.
Любые ситуации, возникающие в общении, развлечениях, регулиру-
ют твердые нормы этикета, подчеркивающие сословную элитарность.
К сожалению, охотно распространявшиеся были и небылицы о заку-
лисных нравах художников в большинстве случаев поддерживали о
них мнение как о людях «полусвета». Даже серьезные исследователи
прошлого века не обходят стороной такие истории, считая, к приме-
ру, нужным сообщить, что пользовавшаяся большим успехом «певица
Персиани выпивала после II или III акта оперы рюмку водки, а иногда
и более, смотря по величине оперы или по другим обстоятельствам»14.
Можно предположить, как действовали на сознание дворянина такие
«творческие тайны».
Регламентированная атмосфера высшего света приводила к тому,
что и в самой художественной среде, например, у литераторов, в по-
вседневном общении помнили о «табели о рангах». Современник вспо-
182
мииает: «Аристократические литераторы держали себя с недоступной
гордостью и вдалеке от остальных своих собратий, изредка относясь к
ним только с вельможескою покровительственностью. Пушкин, правда,
был очень ласков и вежлив со всеми, но эта утонченная вежливость
была, быть может, признаком самого закоренелого аристократизма. Его,
говорят, приводило в бешенство, когда какие-нибудь высшие лица при-
нимали его как литератора, а не как потомка Аннибала»15...
Известно, что литературная профессия, как дающая средства к су-
ществованию, сложилась в России в 1830—1840-х годах. Превращение
литературного творчества в оплачиваемый гонораром труд происходи-
ло не без множества коллизий в общественном сознании, привыкшем
рассматривать стихотворство как любительское занятие для собствен-
ного досуга. Так, назначение, к примеру. Карамзину пенсии было встре-
чено критикой, мягко говоря, с недоумением. Неоднократно критика
вооружалась и на Гоголя за то, что он «получал пособия от правитель-
ства»; для характеристики оплачиваемых литераторов поначалу даже
вводится обидный термин «литературные торгаши». Несмотря на это,
как отмечает Пыпин, уже в кружке Пушкина утверждается представ-
ление, «что литературная деятельность, даже не историография (как
в случае с Карамзиным, — О.К), может и должна быть поощряема
подобным образом и что если поощрение замедлялось, его можно было
искать и выпрашивать»16.
Обеспеченные «стотысячные писатели редки», рассуждает П.А.Вя-
земский, поэтому нынче «вопрос о гонорариях все-таки стоит перед
нами как роковая необходимость». После получения известия о пред-
стоящей женитьбе Пушкина он делится с женой в 1830 году: «Я желал
бы, чтобы государь определил ему пенсию, каковую получают Крылов,
Гнедич и многие другие... Независимость состояния теперь нужна Пуш-
кину в новом его положении. Она будет порукою нравственного благо-
состояния его»17.
Сохранилось любопытное свидетельство о том, что дворянин И.С.Тур-
генев, ощущая все еще двойственное общественное мнение по поводу
литературных гонораров, бравировал в светских салонах, утверждая,
что не унизит себя, чтобы брать деньги за свои сочинения, что он их
дарит редакторам журнала. «Так Вы считаете позором сознаться, что
Вам платят деньги за Ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за
Вас, Тургенев», — упрекал писателя В.Г.Белинский18.
Многочисленные примеры побуждают признать, что в сословной
иерархии России люди умственного труда (к которым причислялась и
художественная интеллигенция) по крайней мере до конца XIX века
не были приняты на равных в высшем обществе. Покровительство ис-
кусствам и художественное любительство, как уже говорилось, по-
ощрялось. Но «когда у вельможи дарование — горе ему... Ему не заслу-
жить снисхождения и он останется бельмом в глазу», — писал Вильгельм
Ленц, русский музыкальный писатель и пианист19.
Первый дворянин, оказавшийся на ученической скамье в Академии
художеств, был Федор Толстой, позже — выдающийся художник, ма-
стер медальерного искусства. Впоследствии он рассказывал об огром-
183
ном изумлении со стороны родственников и даже посторонних, «кото-
рые упрекали меня за то, что я первый из дворян, имея самые корот-
кие связи со многими вельможами, могущими мне доставить хорошую
протекцию, наконец, нося титул графа, избрал путь художника, кото-
рому необходимо самому достигать известности» (курсив мой. — О.К.).
Титулованный дворянин, решивший посвятить себя профессиональным
занятиям изобразительным искусством, испытал давление не только
со стороны родственников («связался с немецкими и русскими профес-
сорами и проводит с ними все время»), но, как ни странно, и со сторо-
ны своих будущих коллег, с недоверием относившихся первое время к
таким фигурам. Когда Ф.П.Толстой начал ходить в академические клас-
сы, профессора «смотрели с каким-то негодованием; в особенности скуль-
птор Мартос везде с насмешкой и пренебрежением говорил о моем
желании быть в одно и то же время графом, военным и художником,
чего, по его мнению, дворянину достичь невозможно»20.
Правовое положение выпускника Академии художеств оставалось
неустойчивым, социальные привилегии были весьма относительны, они
целиком зависели от того места и чина, которое художник сможет по-
лучить в системе государственной службы, само же по себе звание
«свободного и вольного художника» ничего не давало. Одним словом,
художественное достоинство творца определялось внехудожественны-
ми мерками.
Можно только догадываться, какое унижение должен был испы-
тать Брюллов, возвратившись после своего «пансионерства» в Россию.
В городах Италии, где выставлялась картина «Последний день Пом-
пеи», Брюллова носили на руках по улицам с музыкой, цветами и фа-
келами, ему устраивали торжественные приемы, посвящали стихотво-
рения. Слава мастера была уже европейской, когда, прибыв в Россию,
он вдруг узнал о немотивированном отклонении Николаем I присвоения
ему звания профессора. Сохранившиеся документы доносят до нас об-
раз несколько растерявшегося и, пожалуй, испуганного художника,
еще не забывшего о безмятежном периоде итальянского творчества.
Видевшийся и подружившийся с ним в эти дни П.В.Нащокин сообщает в
письме о совместном обеде с Брюлловым Пушкину: «очень желает с
тобою познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного пись-
ма. Каково тебе покажется? Знать его хорошо у нас приняли, что он
боялся к тебе быть, не упредив тебя. Извинить его можно — он заме-
тил вообще здесь большое чинопочитание, сам же он чину мелкого,
даже не коллежский асессор. Что он гений — нам это не почем — в
Москве гений не диковинка...»21.
Не приходится удивляться тому, что получив образование в Рос-
сии, большинство русских художников стремились жить за границей,
в основном в Италии. Там почти всю жизнь прожил и умер пейзажист
Матвеев. Сильвестр Щедрин так и не вернулся на родину. Орест Кип-
ренский, возвратившись в Россию, все время помышлял вновь пере-
ехать в Италию, что ему и удалось за два года до смерти. Посылая из
Петербурга письма скульптору С.Гальбергу в Италию, Кипренский уго-
варивал его не возвращаться на Родину.
184
И тем не менее с трудом, но неуклонно, время делало свое дело.
Расширение тематического диапазона живописных произведений (клас-
сические и библейские сюжеты сменяются историческими картинами
из деятельности Петра Великого, Марфы Посадницы и т.п.), обогаще-
ние репертуара театра (в первой трети XIX века играется уже почти
вся мировая драматическая и оперная классика) — все это развивало
национальное художественное сознание, делало взгляд на искусство
более разносторонним и глубоким. Постепенно русские танцовщицы
вытесняют в балетах иностранных: в 20-е годы громко звучат имена
Колосовой, Даниловой, Истоминой, Лукутиной, Зубовой, Телешовой.
Огромное влияние на приобщение к высокому театральному искусству
оказало творчество Каратыгина, Мочалова, Щепкина.
Наблюдается даже дефицит актерских сил. Еще в 1808 году Нарыш-
кин, «главный директор над зрелищами придворными», пишет жалобу
Александру I, в которой сетует на то, что «некоторые из содержате-
лей партикулярных театров сманивают к себе лучших российских ак-
теров, при театральной дирекции служащих». В результате последовало
запрещение артистам императорских театров участвовать в спектак-
лях и концертах, устраиваемых частными лицами. В этом же году в
обеих столицах были основаны театральные школы, призванные слу-
жить «разсадниками дарований».
В 1832 году состоялся указ, имевший огромное значение для некото-
рой стабилизации общественного положения российских деятелей ис-
кусства. Николай I учреждает новый привилегированный класс личных
и потомственных почетных граждан. К дворянству этот класс отноше-
ния не имел, но занимал место в верхней иерархии, его представите-
ли выступали в качестве высшего городского сословия. Личное почет-
ное гражданство приобретали: I) действительные студенты и кандидаты
университета, 2) художники, получившие аттестат из Академии, 3)
иностранные художники, ученые, капиталисты, фабриканты. К потом-
ственному почетному гражданству причислялись законные дети лич-
ных дворян. Все почетные граждане получали право на обращение
«ваше благородие». В общественном мнении этот жест повысил пре-
стиж художественной и научной интеллигенции.
Происходят и большие события в самом творчестве. Серьезный ус-
пех сопровождает такие театральные постановки, как «Горе от ума»
Грибоедова (премьера в 1831 г.), «Моцарт и Сальери» Пушкина (1832),
«Ревизор» Гоголя (1836). В художественном сознании публики происхо-
дит важный перелом, приведший к иному пониманию самой природы и
назначения театра. Зрители чувствуют, что это уже не «игра в красо-
ту», не забава для собравшихся, «тут свершается дело, настоящее
дело, когда спектакли Мольера или Шекспира осознаются как одно из
бесчисленных колес механизма жизни, вносящее свою силу в его не-
прерывное, великое движение»22.
Сама организация театрального дела усложняется, к формированию
трупп подходят очень тщательно, в каждой из них выделяют ее «глав-
ное зерно», «лучшую часть», «полезную часть» и «самую многочислен-
ную часть». Может быть, сфера театра в первой половине XIX века стала
185
одним из начальных источников социальной диффузии. В 20—40-е годы
широкое распространение получают артистические пикники-кавалькады
за город с аристократами, причем современники подчеркивают их весе-
лый и приличный характер. Браки с актрисами, ведущие к постепенным
сословным смешениям, уже не взрывают общественного мнения и не
считаются предосудительными. Напротив, завоевать расположение ак-
трисы порой становится делом нелегким. В одной из таких нашумевших
историй конца 20-х годов в качестве посредника оказался замешан Гри-
боедов, который был даже вызван на дуэль, где получил легкое ране-
ние руки.
Правда, если актриса выходила замуж за аристократа, считалось
естественным, что она должна покинуть сцену. В тех очень редких слу-
чаях, когда работа в труппе продолжалась, повседневная жизнь акт-
рисы обставлялась со всем шиком, подобающим новому положению. Так,
выдающаяся русская актриса Екатерина Семенова, выйдя замуж за
князя Гагарина, приезжала на репетиции в дом актеров Брянских в
своей карете с ливрейным лакеем.
В 30—40-е гг. театральные школы ежегодно поставляли уже гро-
мадный контингент молодых актеров и актрис. Обращает на себя внима-
ние их государственная опека. Если вакансий в государственных теат-
рах не оказывалось или работы было мало, допускались всевозможные
льготы: все желавшие могли увольняться в продолжительные отпуска
для практики в провинциальных городах. На эту меру актеры шли охот-
но, так как жалованье удерживалось только с тех, кто уезжал на пол-
года или больший срок.
Исследователи конца XIX века склонны оценивать 20—40-е годы
как «цветущий период русского театра»23. Высокая исполнительская
культура, неизменный интерес публики даже обусловили рентабель-
ность такого хлопотного и сложного занятия как театральное дело. Но
и позже, в начале 50-х годов, когда рентабельность утрачивается, на-
чинает ощущаться недостаток в материальных средствах для постоян-
ного покрытия расходов, в официальных документах появляются не-
привычные доселе аргументы: «Императорские театры в столицах,
служа проводниками искусства и нравственных идей (курсив мой. —
О.Я.), не могут, не обременяя казну, существовать одними собствен-
ными сборами»24.
Актер середины XIX столетия уже высоко ставит свое место в
общественной жизни, он сознает себя художником. Самоуважение теат-
ральных исполнителей теперь гораздо выше, чем оно было еще в начале
XIX века. К примеру, в 1848 году в Императорском Большом театре в
Москве случилось происшествие, продемонстрировавшее актерскую
солидарность как реально существующий факт. Даже этот внешне не-
значительный эпизод позволяет оценить зрелость самосознания актеров,
не останавливающихся перед нарушением жестких предписаний, когда
речь идет об актерской чести. Приведем донесение Московской конторы
Директору императорских театров полностью: «Сего, 5 декабря, во время
представления балета «Пахита» в 1-м акте после saltarello, которое
танцевали г-жа Андреянова и г-н Монтасю и которое публика потребо-
186
вала повторить, на сцену была брошена мертвая кошка с привязанной к
хвосту надписью: Первая танцовщица2'. Представление на время остано-
вилось. Между тем вся публика в креслах и большая часть в ложах при-
поднялась со своих мест и с громкими криками — мущины махая шля-
пами, а дамы платками — стали вызывать г-жу Андреянову. Андреянова
объявила, что выйти она выйдет, но что продолжать представление она
не в силах, что было очень вероятно. Когда она показалась, то прием
публики был таков, какого еще не случалось видеть. Кавалеры, дамы,
все единодушно как бы стремились доказать ей, что все приносят дань
уважения ея таланту. Вызовы повторялись три раза, после чего пред-
ставление продолжалось. В последнем антракте постепенно возрастав-
шее негодование артистов возросло очень высоко. Все приняли случай
за обиду общую. По окончании балета все занятые и незанятые артис-
ты собрались массой на сцене, а когда Андреянова к ним вышла, то все
в один голос закричали ей браво. Опустить занавес не было возможно-
сти — все они стояли под занавесом. Этим был, может быть, нарушен
порядок, предоставляющий одной только публике выражать такую
награду артистам, но общее чувство товарищей, принявших обиду не
только личною, незаслуженною, но и общею всему сословию артистов,
было так искренно и так сильно, что удержать или остановить от этого
не было никакой возможности»26.
Еще более быстрыми темпами процесс самоутверждения художника
происходит в сфере изобразительного искусства. Пережив тяготы вель-
можного самоуправства, Брюллов, в отличие от многих других худож-
ников, впоследствии сумел поставить себя на равную ногу с аристокра-
тическими заказчиками. В мастерскую Брюллова со всей Европы за
портретами стекались канцлеры, великие князья, высшая титулован-
ная аристократия. И что было уже совсем ново для прежних порядков
— неоднократно к Брюллову приезжал сам Николай I в связи с написа-
нием художником портрета императрицы27. О том, насколько уверенно
и самостоятельно ощущал себя мастер, говорит тот факт, что Брюллов
однажды уехал со встречи, не дождавшись Николая I, опоздавшего на
20 минут. Впоследствии портрет императора им так и не был написан.
Все годы своего царствования Николай I (как и его отец) щедро
покровительствовал искусствам: не жалел средств на отправку худож-
ников в Италию, на пополнение и расширение коллекций Эрмитажа. В
1845 году император лично посетил пансионеров Академии художеств
в Италии.
Более двадцати пансионеров были вызваны в собор Св. Петра в Риме,
куда после российско-итальянских переговоров прибыл Николай I в
сопровождении вице-президента Академии графа Ф.П.Толстого. Прохо-
дя от алтаря, «Николай I обернулся, приветствовал легким наклонени-
ем головы и мгновенно окинул собравшихся своим быстрым, блестя-
щим взглядом. «Художники Вашего величества», — указал граф Толстой.
«Говорят, гуляють шибко», — заметил государь. «Но также и работа-
ют», — ответил граф»28.
Материальную опеку император, как и его предшественники, считал
возможным сочетать с цензурой и даже с советами по способам художе-
187
ственного претворения. Так, посетив в окрестностях Рима мастерскую
одного из пенсионеров, Николай I обратил внимание на скульптурную
группу, «в которой Сатир, поймавши Нимфу у фонтана и обхвативши ее
по нижним конечностям, просит у стыдливой красавицы вытянутыми
своими губами поцелуя. — Ну, это чрез чуръ выразительно! — заметил
государь. Надо эту группу обработать и ускромнить»29. Впоследствии,
сделанная в мраморе, скульптура была куплена для дворца.
К середине XIX века Академия художеств вырастает в широко при-
знанное высшими слоями государственное учебное заведение. Дворян-
ские дети в ней хотя и не доминируют, но их поступление туда уже
не является событием. Особое значение Академии начинают придавать
и центральные правительственные учреждения.
Так, в 1843 году к ней обращается Министерство финансов с просьбой
помочь «установить границу между художественными и промышленны-
ми изделиями из бронзы и мрамора, привозимыми из-за границы»30.
Правда, как и прежде, новые рубежи в художественном сознании обще-
ства переплетаются с предрассудками. Последние проявились и в таком
частном вопросе, как работа натурщиков. Кто бы ни писал о деятельно-
сти художников, всегда отмечает это уязвимое место — найти подхо-
дящих натурщиков всегда было чрезвычайно трудно. Несмотря на то, что
в императорской Академии художеств существовали достаточно выгод-
ные должности штатных натурщиков, их вакансии никогда не были
заполнены целиком. Одна из причин — решительный запрет молодым
людям из дворян позировать на сеансах; кандидаты в натурщики долж-
ны были набираться исключительно из представителей податного сосло-
вия. «Во время летних купаний, — вспоминает художник-современник,
— нам нередко случалось встречать такие образцы красоты в молодых
людях, что мы только жалели: зачем эти юноши не из простого звания,
дабы можно было художнику воспользоваться их формами»31.
Не в меньшей степени сословные различия давали о себе знать и в
такой исконно дворянской области творчества, как литература. С той,
правда, разницей, что если изобразительное искусство «кооптирова-
ло» в свою среду дворян, то литературные сферы, напротив, были
обеспокоены бурным вторжением разночинцев. Доходило до того, что
одни и те же литературные салоны, как, например, салон князя
В.Ф.Одоевского, распадались как бы на две территории: его супруга на
своей половине принимала изысканный цвет пишущей аристократии, в
то время как сам князь исповедовал принцип индивидуальной одарен-
ности и проявлял большую демократичность в своих вкусах, не боясь
открыто смешиваться с «литературною толпою». Такая же ситуация
отличала и известный музыкальный салон графа М.Виельгорского и его
супруги.
Бывали случаи, когда отдельные литераторы, в частности Некра-
сов, в поисках творческого самоосуществления резко дистанцирова-
лись от сословных помещичьих привилегий. Дух «кающегося дворянина»
вызывал ядовитую обструкцию. Нередко после ухода Некрасова, чи-
тавшего свои стихи, посетители салонов подтрунивали над его несвет-
скими манерами; даже В.П.Боткин. стоявший по социальной иерархии
188
ниже Некрасова, доказывал, что литературная деятельность после-
днего исполнена низменных мотивов и оттого вульгарна.
Потомственный дворянин И.И.Панаев, известный писатель и .журна-
лист, с открытой симпатией относившийся к писателям-разночинцам,
нередко по этой причине становился объектом раздражения. Его дядя-
генерал, также впоследствии литератор, преуспевший в воспевании
«аркадских пастушков и пастушек», видел во вкусах, новой интелли-
генции крушение патриархальных ценностей: «Прежде все литерато-
ры были из привилегированного класса и поэтому в ней (литературе. —
О.К.) была благонадежность, сюжеты брались сочинителями нравствен-
ные, а теперь мерзость, грязь одну описывают»32.
Тургенев, входивший в 40-е годы в литературный кружок Белинс-
кого и Панаева, в меру своих сил пытался «облагородить» Некрасова и
даже агитировал его баллотироваться в члены Английского клуба, где
«придется бывать в обществе и шлифоваться». Когда Некрасову не хва-
тало решимости на этот шаг, Тургенев находил дополнительные аргу-
менты: «Ты ведь понятия не имеешь о светских женщинах, а они одни
только могут вдохновлять поэта. Почему Пушкин и Лермонтов так мно-
го писали? Потому, что постоянно вращались в обществе светских
женщин. Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщин
для нас — писателей»33.
Заботы Тургенева, а в основном, конечно же, творчество самого
Некрасова и резонанс этого творчества в широких общественных кру-
гах привели к смене имиджа «крестьянского поэта». Чуть позже мно-
гие уже завидовали Некрасову, у подъезда его квартиры по вечерам
стояли блестящие экипажи очень важных особ; его ужинами восхища-
лись богачи-гастрономы; сам Некрасов бросал тысячи на свои прихоти,
выписывал ружья и охотничьих собак из Англии.
Остается ощущение некоторой противоречивости сознания литера-
торов-разночинцев. С одной стороны, они, безусловно, ощущали себя
подвижниками в литературном деле, утверждали свое понимание бла-
городства как бескорыстного служения общественному предназначению
литературы. С другой стороны, такое патетическое сознание сосед-
ствовало с какой-то внутренней неуверенностью и даже ущербностью:
сказывались пробелы в образовании и светском воспитании. Характерен
эпизод с молодым М.Н.Катковым, которому Огарева, светская барыня
(супруга Н.П.Огарева), привезла с оказией посылку от матери. По пра-
вилам этикета явиться в дом Огаревой надлежало во фраке, которого
у Каткова не было и который одолжил ему И.И.Панаев. «Перед одева-
нием Катков пошел в парикмахерскую у Пяти Углов и явился оттуда
крутозавитой и жирно напомаженный какой-то дешевой душистой по-
мадой. Панаев доказывал Каткову, что нельзя с такой вонючей помадой
явиться в салон светской дамы, Катков покорился. Меня удивило, что
Катков так волнуется от визита к светской барыне. Он сам не раз гово-
рил при мне, что презирает светское общество, что он — студент-
бурш, и подтрунивал над слабостью Панаева к франтовству и светско-
му обществу'4. (Как известно, впоследствии Катков сделался истовым
пропагандистом идей самодержавия.)
189
Возвращаясь к деятельности литературных салонов этого времени,
нельзя не отметить их существенную роль в становлении литературно-
го профессионализма. Возникнув поначалу как средоточие «дворянских
гнезд», салоны в большей или меныпей степени приоткрывали двери
для художественных знаменитостей, культивируя тем самым занятия
искусством как стимул духовного развития. Более того, посещение са-
лонов смешанной публикой объективно ослабляло влияние двора на
образованные слои. Хотя аристократия была основой салона, но интел-
лектуальная атмосфера и характер бесед создавали как бы модель кон-
курентного общества, в котором статус уже не наследовался, а дости-
гался и требовал постоянного подтверждения.
Салоны как посредники между литературой и жизнью обеспечивали
контакт с издателями, представителями публики, позволяли схваты-
вать изменяющийся вкус, спрос и т.д. Без преувеличения можно ска-
зать, что «эра салонов» явилась в литературной жизни поворотным пун-
ктом от дворянского типа к демократическому. Салоны размывали
кастовость литературных элит, а еще более их размывали литератур-
ные кружки, где детально обсуждаются уже специальные вопросы
экономики издания, оплаты труда и т.п.
И если в начале 40-х годов Тургенев еще сетовал на то, что «мы
пишем для какой-то горсточки русских читателей», то уже к началу
50-х годов положение резко меняется. С организацией журнала «Со-
временник» (1846 г.) и началом его конкуренции с «Отечественными за-
писками» А.А.Краевского (основаны в 1839 г.) быстро поднялась цена на
литературный труд. Все многочисленнее становится та среда литерато-
ров, которая эмансипируется от высших классов, но и не присоединя-
ется к низшим слоям. Возникает тенденция, которую можно обозначить
как социальную интеграцию творческой интеллигенции. С развитием
книжной и журнальной индустрии стали возможными новые формы
писательского общения, «вербовка» новых читателей-единомышленни-
ков, не имеющих возможности посещать тот или иной салон. Борьба за
профессионализацию литературы оказалась завершена. Ширится состав
писателей, создающих массовую литературу, активно применяющих
приемы коммерческой пропаганды и рекламы своих произведений. Ин-
терес к художнику в обществе растет уже не только в связи с обслу-
живанием им потребностей высшей страты. Художественная интелли-
генция сама становится законодателем вкусов, делается центром
общественного притяжения.
Художник в среде интеллигенции и купечества
Массовое открытие во второй половине XIX века новых высших
учебных заведений порождает быстрое увеличение числа инженеров,
ученых, медиков, учителей, чиновников, офицеров, духовенства. Уже
из этого перечисления видно, что то, что принято было называть ин-
теллигенцией, не являлось однородной социальной группой. «Наши отцы
презирали этот термин и никогда не применяли его к себе», — пишет
190
потомок старинного дворянского рода35. Многочисленные источники под-
тверждают однозначно отрицательное отношение большинства арис-
тократии к интеллигенции. Хотя во второй половине столетия дворянс-
кие учебные заведения постепенно прекращают свое существование и
отмечается смешение сословных различий, удельный вес студентов из
высших сословий, как показывает статистика, остается очень незначи-
тельным.
Стало уже общим жестом отмечать «опрощение» нравов как след-
ствие демократизации системы образования. Безусловно, наиболее энер-
гично на студенческую скамью ринулись представители всех тех слоев,
для которых именно вузовский диплом открывал допуск к государствен-
ной службе и, следовательно, к карьере. Государственная служба, в
свою очередь, делала возможным невиданное ранее социальное вос-
хождение. По российской табели о рангах чинопроизводство в граж-
данской службе в четвертый класс (соответствовал чину действитель-
ного статского советника), а в военной — в шестой класс (чин полковника)
давало возможность получения потомственного дворянства.
Нет необходимости подробно объяснять причины негативного отноше-
ния большинства служилого и поместного дворянства к интеллигенции.
Здесь и мнения о том, что значительная часть студенчества «отличает-
ся большою простотою нравов, часто грубостью форм, напоминающею
жизнь простолюдина»’36. Упреки в том, что «так называемая интелли-
генция не имеет никакой связи с прошлым России» и, следовательно,
для нее нет высших идеалов37.
Обвинения разночинцев, поступивших на службу в правительствен-
ные учреждения, «в эксплуатации общественных интересов в пользу
кармана ловких людей» выливается в общий взгляд на интеллигенцию
как «собрание лиц разного воспитания, разных понятий, наклонностей
и стремлений, не имеющих между собой никакой связи»38.
Более того, некоторые дворянские общественные деятели видят в
развитии демократических процессов управления угрозу ослабления
государственной власти. Аристократов раздражает бесцеремонность ин-
теллигенции, неумение и нежелание в нормах этикета видеть тонкие
знаки отношений. Князь Г.Г.Гагарин в воспоминаниях о Брюллове скло-
нен даже противопоставлять уровень прежней и нынешней художе-
ственной интеллигенции. Как бы мы ни воспринимали посещение Нико-
лаем I мастерской Брюллова, сам по себе этот факт этикета для
дворянина очень существенен. Если аристократ отклоняет приглашение
своего гостя и не наносит ему ответный визит — это всегда знак того,
что его появление более не желательно в этом доме. Пренебрежение
этой нормой, по свидетельству Гагарина, нередко демонстрировали
разночинцы, посетители литературных салонов.
Как бы ни ощущали в первой половине XIX века свою «особость»
художник, литератор, актер, поведение и культурный облик аристок-
рата, как правило, оставались для них безусловным примером. Худож-
ник стремился «подтянуться» к стандартам высшего общества. Вне дво-
рянской среды утонченность, как признак рафинированной духовной
жизни, в целом не существовала.
191
С середины 50-х годов во многом происходят обратные процессы:
массовое производство интеллигенции приводит ее к необходимости
выработать собственное мироощущение, установить собственную, не-
привычную для прежней иерархии социальную идентичность. В извест-
ном смысле все первые российские интеллектуалы, рекрутированные
из разных слоев, явились ренегатами, отказавшимися от страты своих
родителей. Именно такое маргинальное, с точки зрения дворянства,
положение новой российской интеллигенции побуждало последнюю к
поиску особых форм сплочения, к выработке собственного самосозна-
ния. Теперь, заняв свое место в обществе, образуя собственные корпо-
ративные группы, интеллигенция посягает на то, чтобы устанавливать
новые, собственные образцы приобщения к культуре, и не только для
себя, но, в том числе, и для господствующих элит.
Что-то покачнулось и внутри самих высших сфер. А.Ф.Тютчева (дочь
поэта), прослужившая свыше 15 лет фрейлиной при дворе, отмечает
заметное упрощение придворной жизни и упадок дисциплины после
смерти Николая I (1855), грозивших принять характер распущенности.
Свита, не чувствуя грозного взгляда умершего государя и избалован-
ная слабостью и благодушием его сына, старается освободиться от мно-
жества стеснений, налагаемых этикетом. Это, по мнению Тютчевой,
было предзнаменованием кризисных времен, ведь «этикет создает ат-
мосферу всеобщего уважения, когда каждый, ценой свободы и удобств,
сохраняет собственное достоинство»39.
В отличие от отца Александр II не проявляет большого интереса к
искусству. Однако в первый же год его правления состоялось решение,
имевшее исключительное значение для судеб отечественного театраль-
ного искусства, в особенности оперы. В середине 50-х годов устанавли-
вается монополия императорских театров, действовавшая в Петербурге
и Москве до 1882 года. Указ преследовал двоякое значение: освободиться
от деятельности и влияния иностранных трупп в двух русских столицах,
а также устранить конкуренцию со стороны частных антреприз, кото-
рым отныне дозволялось работать только в провинции.
Итальянские оперные труппы, начавшие еще при Николае I при-
езжать в Россию на зимние сезоны, с начала 40-х годов прочно обосно-
вались в столицах, которые уже более не покидали. «Сумма вреда,
нанесенного нашей музыке итальянцами, просто неисчислима», — за-
являл В.В.Стасов40. Эта хлесткая оценка известного русского критика
совершенно несправедлива41. Не случайно до сих пор почти не шла
речь о развитии музыкальной культуры — профессионалы в русском
музыкальном искусстве появились гораздо позже, чем в других облас-
тях творчества. Много десятилетий именно благодаря итальянским ис-
полнителям в России звучали оперы Беллини, Доницетти, Верди, Рос-
сини, а также последние музыкальные новинки. Князь С.Волконский,
служивший директором императорских театров, признает, что в длин-
ном промежутке времени от Глинки до Чайковского, за исключением
двух-трех имен, состав русских певцов был низкого уровня42. Опыт и
традиции итальянской школы не позволяли отечественным исполните-
лям тягаться с нею. Вполне естественно поэтому, что «мир музыки
192
русского человека середины прошлого века — в значительной мере
мир итальянской оперы»4\ сформировавшей его музыкальный вкус.
Русская опера (Глинка, Даргомыжский) в конкуренции с итальянс-
кой проигрывала, большой популярностью не пользовалась и не разви-
валась. Причины, конечно же, коренились не только в итальянской
«интервенции», но значительно глубже — в устоявшихся представле-
ниях о назначении музыкального искусства как «утешения и услады».
До середины XIX века понимание музыки еще составляло роскошь в
кругу образованных людей; наслаждение произведениями Бетховена,
Мендельсона, Шумана и других классиков было доступно лишь из-
бранным посетителям знаменитых вечеров в доме графов Михаила и
Матвея Виельгорских. Братья поддерживали тесные отношения с Г.Бер-
лиозом, Ф.Листом, К.Шуманом, которые, приезжая в Россию, неодно-
кратно выступали на их камерных концертах.
С какой бы стороны ни оценивать время Александра44, объективно
принятие указа о монополии императорских театров послужило сти-
мулом для воспитания плеяды русских композиторов и исполнителей.
Происходит выход концертирования за пределы салонов, в музыкаль-
ный быт русских столиц внедряются монументальные вокально-симфо-
нические, инструментальные, хоровые сочинения. Увеличение испол-
нительских составов и числа слушателей потребовало строительства
дополнительных концертных залов. В 5()-е годы уже начала сказывать-
ся нехватка музыкантов — ведь их обучение до этого времени было
подчинено преимущественно задачам театра и велось в Императорском
театральном училище и Театральной школе Книппера. Братья Антон и
Николай Рубинштейны активно выступают в печати, высказывая мыс-
ли о бесплодности русского дилетантизма, о положении русских про-
фессиональных музыкантов. Необходимо было предпринять что-то ра-
дикальное. Важнейшие решения были приняты зимой 1857 года в Ницце,
где отдыхала вдовствующая императрица и великая княгиня Елена
Павловна, попечительница Русского музыкального общества. В резуль-
тате этого после долгой подготовки в 1862 году состоялось открытие
Санкт-Петербургской консерватории, а затем и Московской (1866).
К этому времени в России уже был широко известен ряд имен музы-
кантов-исполнителей из дворянской среды. Так, еще при Екатерине II,
Павле I и Александре I обязанности «директора музыки» выполнял Осип
Антонович Козловский, небогатый белорусский дворянин, сочинивший
кроме прочего полонез «Гром победы раздавайся», бывший одно время
национальным гимном. В 20—40-е годы при дворе служили уже упоми-
навшиеся сыновья графа Виельгорского — Михаил (композитор и певец)
и Матвей (виолончелист). И совсем вольноопределяющуюся жизнь в се-
редине века вел князь Ю.Н.Голицын, который, по всей вероятности, был
первым дворянином, получавшим гонорарную оплату за дирижерско-
концертную деятельность. Князь artiste de profession, «позволяющий
аплодировать себе даже тем. у которых, может быть, нет предков», —
так называли его в свете45.
Особенно любопытным является тот факт, что здесь мы впервые
сталкиваемся с участием дворянства в исполнительских видах искусств.
193
Разделение художников на творцов и исполнителей всегда было суще-
ственно, по-разному социально окрашено. Именно поэтому дворяне
раньше проявили себя в литературе и изобразительном искусстве и
гораздо позже и в меньшей степени — в музыке и театре.
Развитие музыкального профессионализма в России постепенно при-
водит к тому, что статус музыканта-исполнителя становится выше ста-
туса актера драматического театра. По-видимому, на это повлияли боль-
шие трудности приобщения к музыкантской среде — необходимость
длительного и коропотливого образования для овладения мастерством,
высокие критерии техники, потребность соответствовать уровню евро-
пейских стандартов. Выдающиеся достижения русской музыкальной
школы второй половины XIX века хотя и с опозданием, но нашли от-
ражение в указе от 1902 года. В нем выпускникам консерватории впер-
вые предоставлялось право государственной службы и, следователь-
но, потенциального получения дворянства. До этого окончившие
консерваторию могли, как и другие свободные художники, получать
звание почетных граждан и право сокращения воинской повинности.
Таким образом, законом 1902 года музыкальные деятели были постав-
лены на один уровень с прочей дипломированной интеллигенцией.
Рост взрыва массового приобщения к искусству в России, начиная с
60-х годов, трудно переоценить. Большими тиражами издаются произ-
ведения Тургенева, Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина. Вы-
ходит первое посмертное собрание сочинений Пушкина, снимается зап-
рет на ряд произведений для театра, в том числе на «Бориса Годунова».
Активно работает филармоническое общество, массовые слои интел-
лигенции знакомятся с произведениями Бетховена, Гайдна, Берлиоза,
Вагнера, Верди, Шуберта. Оглушительный успех пьес А.Н.Островского
соседствует с победоносным шествием французской оперетты (Оффен-
бах, Лекок).
Нарастает публичный интерес к выставкам изобразительного искус-
ства. Показательно, что в экспозиции Академии художеств, начиная с
60-х годов, наряду с живописью, скульптурой и графикой уже включа-
лась и фотография. Заметно перемещение общественного интереса от
исторической живописи к бытовой картине. Человек в частной жизни,
поглощенный практическими делами, становится основным предметом
литературы, живописи, театра. В 1863 году широкую огласку получил
бунт в Петербургской Академии художеств четырнадцати дипломников
под руководством Крамского, ратовавших за свободу от академических
установлений, от чиновничьего вмешательства в творческие дела. Орга-
низованная будущими передвижниками свободная Артель художников
(исполнение по заказам портретов, скульптур, рисунков для памятни-
ков и каминов) явилась примером первых «вневыставочных контактов»
художника и широкого зрителя. С этого времени частные отношения
между художником и заказчиком заявлены и существуют в виде обще-
ственной нормы.
Быстро разраставшееся количество частных антреприз (особенно с
1882 года) активно завоевывает провинциального зрителя. В отличие от
императорских театров частные труппы продолжают играть и Великим
194
постом, и в летний сезон, значительно увеличивая свою аудиторию.
Тематический диапазон искусства новой волны откликается на весь
спектр жизненных ситуаций: помогает частному человеку осознать себя,
коллизии своего бытия, заполнить досуг. Широкая «реорганизация» ху-
дожественного сознания обнаруживает и разные типы психологичес-
ких реакций на искусство. Заметное в это время расслоение публики
явилось результатом расслоения в среде самих художников. Первая
перепись Петербурга показывает стремительное увеличение числа ин-
теллигенции, в том числе художественной. Внутри интеллигенции об-
наруживается своя элита, средний слой и так называемые «массы».
Если попытаться выстроить иерархию деятелей искусств по прояв-
ляемому к ним общественному интересу и социально-экономическому
положению, которое они занимали во второй половине столетия, то
теперь в первый ряд выдвигаются литераторы. Гонорары русских писа-
телей этого времени позволяют достигать вполне обеспеченного суще-
ствования. В частности, за один печатный лист Тургенев получал 400
рублей, Л.Н.Толстой (за «Войну и мир») — 300 рублей за лист, П.Д.Бо-
борыкин — 300 руб., А.Н.Островский — 150-175 руб., В.Г.Короленко —
150 руб., Салтыков-Щедрин — 100-125 руб. Для сравнения — Н.И.Кос-
томаров за научные статьи получал 75-80 рублей за лист46. В суммар-
ном отношении среднегодовой достаток писателей этого времени пре-
вышает годовое жалованье многих категорий чиновников, врачей,
учителей47.
Особый интерес представляет тот факт, что в абсолютном исчисле-
нии литературные гонорары в России в 70—90-е годы были значитель-
но выше48, чем в это же время в Европе, в частности, во Франции.
Здесь сказалась важная черта развития России, заслуживающая спе-
циального внимания, — рост во второй половине XIX века массовых
учебных заведений не привел к тому перепроизводству интеллигенции,
которое наблюдалось в этот период в Европе.
Известно, что чисто демократический метод «рекрутирования» но-
вых слоев интеллигенции в большинстве обществ неизбежно создает
ее избыток и, следовательно, ожесточенную конкуренцию. Не обеспе-
ченные постоянной работой деятели искусства часто влачат жизнь «ху-
дожественных пролетариев», оказываясь порой в состоянии социальной
изоляции. Нетрадиционные стиль жизни, формы общения, одежды,
жаргона породили и новые формы сплочения — богемные кружки, кафе
и т.п., явившиеся, как, к примеру, Латинский квартал в Париже, но-
вой средой творчества и «неотрефлексированного» поведения. Подобное
маргинальное существование художников на Западе особенно резко
противостояло традициям среднего класса.
Возможно, что именно поздняя профессионализация литературного
дела в России в этом случае обернулась своей положительной стороной.
В 70—80-е годы отмечается не перепроизводство, а, напротив, боль-
шой спрос на журнальных работников, а их обеспечение вполне позво-
ляет жить единственно литературным трудом48. Достаточно стабильное
положение занимают и деятели изобразительного искусства. Еще с 30-х
годов художники, пожалуй, стали первыми, способными своей профес-
195
сией себя высоко обеспечить. Несмотря на открытие в 40-х годах в
Москве конкурирующего с Петербургской Академией художеств заве-
дения — Училища живописи, ваяния и зодчества, спрос на художников
превышает предложение. Отсутствие перепроизводства художествен-
ной интеллигенции в сфере литературы, изобразительного искусства,
музыки способствовало укреплению и стабилизации в России литера-
турно-художественных элит.
Передвижники «остыли» уже к концу 70-х годов; ряд видных пере-
движников Академия художеств принимает в свою среду: И.Е.Репина,
В.Е.Маковского, И.И.Шишкина, А.И.Куинджи (правда, скоро вышед-
шего). Последний даже жертвует в 1904 году 100 тысяч рублей (на вы-
дачу процентов с этого капитала) для организации конкурсных премий
на весенних выставках в Академии художеств.
Более низкий статус по сравнению с перечисленными творческими
группами во второй половине XIX века занимают артисты драмати-
ческого театра. Огромное количество мемуарной литературы свидетель-
ствует о том, что путь на сцену частного театра был несложным. Но-
вички овладевали приемами профессии в самой труппе. Поставленное
на коммерческую основу, театральное дело (особенно в провинции)
вынуждало гастрольные труппы выпускать порой до 12-15 премьер в
сезон, часто с двух-трех репетиций49. Понятно, что критерии художе-
ственного уровня здесь могли отступать перед соображениями рента-
бельности. Диктат вкуса непритязательного зрителя, настроенного на
минутное удовольствие, сказывался и на репертуаре. В частных драма-
тических труппах огромный удельный вес занимает водевиль. Подобный
процесс, к сожалению, наблюдается и в оперных антрепризах: масш-
табные оперные спектакли вначале частично, а затем целиком вытес-
няются опереттами50.
Сближение искусства с жизнью частного человека, перешагнув че-
рез хрупкую грань, грозило повальным снижением уровня художествен-
ного сознания. Здесь вырабатываются собственные ориентиры, не обес-
покоенные потерей связи с линией высокого искусства. Популярнейший
портретист С.К.Зарянко, отражая интересы «заказчика из толпы», за-
являет: «Если портрет и оригинал будут неразличимо похожи, то тор-
жество живописи будет в этом случае пределом». М.Е.Салтыков-Щед-
рин, в свою очередь, также предпочитает воспринимать живопись
глазами «простого зрителя»: «я рад этому, потому что очень искусно
написанных картин не понимаю, и требую, чтоб художник относился
ко мне доступным для меня образом, ... вводил бы в этот мир так же
просто и естественно, как я вхожу в собственную квартиру»31.
Об изменениях в составе столичного театрального зрителя выра-
зительно говорит небольшой эпизод из «Анны Карениной»: Вронский
вошел в театр, окинул взглядом публику и отметил, что «во всей этой
толпе, среди посетителей райка, разноцветных женщин, в ложах и в
первых рядах были человек сорок настоящих мужчин и женщин». Ко-
нечно, такое расслоение публики и вкусов оказывало влияние на испол-
нителей. Одна часть артистического мира еще продолжала ориентиро-
ваться на настроения «человек сорока настоящих мужчин и женщин»,
196
другая — вовлекалась в коммерческое творчество по массовым стандар-
там. О доминировании «незрелого, некультурного, неуравновешенного
актера» с болью размышлял корифей Малого театра А.П.Ленский. Театр,
по его мнению, тогда только способен интересовать собой общество,
«когда мы, представители сценического искуства, будем стоять по сво-
ему образованию и развитию если не выше, то, по крайней мере, ни-
как не ниже его». Признанный мастер отвергал дилетантизм, настаивал
на глубоком прохождении школы: «Мы видим, до какого абсурда дове-
ла несчастную сцену эта пресловутая игра актеров одним нутром»52.
Важное обстоятельство: несмотря на все коллизии, происходившие
в общественной жизни России, социальная конъюнктура дворян, сого
сословия во вторил половине XIX века оставалась очень высокой.
Понятие светского человека, сформированное в этой среде, являло
образец для верхнего среднего слоя интеллигенции и купечества.
Ведущие актеры императорских драматических театров — Александрий-
ского в Петербурге и Малого в Москве — придавали большое значение
формированию утонченных манер, изящного лоска, не только внешне-
го, но и внутреннего. Характерна история с М.Г.Савиной, примадонной
Александрийской труппы. Раз в год при Александре III в Гатчине акт-
риса играла придворный спектакль. Присутствовал дипломатический
корпус, и так как многие не понимали по-русски, пьеса специально
писалась на двух языках сразу. Русской актрисе приходилось на сцене
говорить по-французски сейчас же вслед за французскими артистами.
Как известно, М.Г.Савина по рождению не принадлежала к той среде,
где у детей первый язык — французский и где его учат в учебных за-
ведениях. Как впоследствии стало известно, Савина в эти годы, уже
будучи знаменитой, брала себе гувернантку и на протяжении всего се-
зона, каждый день утром и вечером, каждую свободную минуту занима-
лась, как школьница, ради одного спектакля в год. «Надо было перед да-
мами высшего света играть даму высшего света. Это не то, что играть
«гранд-дам» перед скромным рецензентом, который на слово верит»53.
Известный театральный писатель свидетельствовал, что Савина произ-
носила текст, как могла бы произносить актриса «Комеди Франсез».
То же можно было сказать о многих, в частности, о петербургском
актере Дальском, изяществе его языка, одежды и туалета. «Рядом с
эффектной внешностью он очаровывал благородством тона, — вспоми-
нал барон Н.В.Дризен, историк театра. — Везде это был светский ден-
ди, знавший обычаи своего круга и никого не шокировавший манерами»54.
Общая культура как на сцене, так и за сценой — итог большой воли и
незаурядных усилий — сближала звезд императорской сцены с арис-
тократическим обществом. Это отчасти объясняет статус, доселе совер-
шенно непостижимый, который заняла солистка балета Мариинского
театра Матильда Кшесинская. Отношения примадонны с будущим импе-
ратором Николаем II, а затем с его братом, великим князем Сергеем
Михайловичем, возможно, окутывала дымка сложного отношения
света; тем не менее на рубеже XX века этот факт уже не мог поколе-
бать репутацию ни одной из сторон. Кшесинская чувствовала себя впол-
не уверенно во всех своих капризах, и когда требовалось, вполне ле-
197
гально «восходила к Государю, который, в память своих когда-то близ-
ких к ней отношений, разрешал все ее просьбы», — вспоминает рабо-
тавший с ней директор Императорских театров князь С.Волконский55.
Нараставший разрыв в бытийном и творческом облике художествен-
ной среды второй половины века отразил особые черты русского наци-
онального менталитета. Противостояние, которое в это время ощуща-
ется внутри литературных, театральных и художественных кругов,
являлось противостоянием позиций подвижничества и артистизма. За-
воевание искусством особого места в общественной жизни России этого
времени разные группы художников начинают трактовать по-разному.
Без преувеличения можно сказать, что необычно резкое столкнове-
ние идей артистизма и подвижничества — едва ли не основная ось,
вокруг которой вращаются все творческие побуждения, споры и про-
граммы художественной интеллигенции этого времени.
Поначалу кажется необъяснимым, как укрепление чувства самоува-
жения художника, его роли в общественном сознании может соседство-
вать со странным самобичеванием. И.Н.Крамской пишет в 1876 году
В.В.Стасову: «Да, мы не избалованы, и слава Богу... Плохо тому наро-
ду, где искусство прососется во все закоулки и станет модой, база-
ром, биржей! Не дай Бог мне дожить до того времени, когда мною
станут заниматься как важной особой. Дурно это во Франции! Дурно
потому, что как-то потерялось равновесие. Серьезным интересам наро-
да надо всегда идти впереди менее существенных»56.
Такой взгляд видит назначение искусства в служении чему-то выс-
шему, что существует за пределами искусства. Позиция спорная. У нее
немало сторонников, но и противников. Конечно, входить в художе-
ственный мир так же «просто и естественно как в собственную кварти-
ру» удобно, но способствует ли такой комфорт развитию творческого
потенциала самого искусства? Да и сами художники не раз пережива-
ли моменты, когда одобрение со стороны мещанской толпы только лиш-
ний раз доказывало поверхностность, и банальность их произведений.
Когда средства творчества усваиваются в совершенстве, цели творче-
ства начинают становиться безразличными. Это в свое время испытали
и передвижники, выслушивая упреки в «повествовательности» их жи-
вописи, подражании ее литературе.
И тем не менее идеи подвижничества, взгляд на искусство как сред-
ство служения высшим идеалам были для общественного сознания Рос-
сии очень сильны и привлекательны. Драматически и даже трагически
окрашенный строй образов, отражающий все проблемы бытия, доми-
нировал в театральном, изобразительном искусстве, литературе. «Уни-
женные и оскорбленные», «Бедные люди» Достоевского, «Власть тьмы»
Л. Толстого, «Волки и овцы» Островского, произведения Гоголя, Салты-
кова-Щедрина, Сухово-Кобылина, Ге, Перова и других — этот беско-
нечный ряд воспринимался как судилище над жизнью. «Искусство» и
«приговор» — понятия из таких разных областей в русском сознании
совмещались. Тяжелый, скорбный облик русской жизни, каким он пред-
ставал в большинстве произведений второй половины века, сформиро-
вал и особый взгляд на природу таланта художника, который уже по-
198
нимался не как счастливый, но скорее как трагический дар. Г.Г.Поспе-
лов очень точно отмечает, что приблизительно с 80-х годов в обще-
ственном восприятии «страдание входило в самый состав дарования
артиста, в самое его возвышенное, а вместе с тем и жертвенное пред-
назначение»57.
Блеск артистического самовластия, искусство-дивертисмент, дио-
нисийский выплеск радостного, романтического мироощущения — к со-
жалению эта сторона искусства не вполне состоялась на русской почве.
Трудно однозначно ответить на вопрос, почему идея художнического
служения приняла в России столь жертвенную окраску (хотя многочис-
ленны примеры и сильных «артистических» энергий — Серов, Врубель,
Бунин, Сомов, Борисов-Мусатов, Стравинский и др.). Художественный
контекст формирования русского менталитета, настойчивый интерес к
«низким и грязным» сюжетам особым смыслом наполняет восклицание
Достоевского: «Я объявляю, что Шекспир и Рафаэль выше освобожде-
ния крестьян, выше социализма, выше юного поколения, выше хи-
мии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий
плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой может
быть; форма красоты уже достигнутая, без достижения которой я, мо-
жет быть, жить-то не соглашусь...»58. Разумеется, здесь речь идет не
только об искусстве — шире, о красоте как формообразующем начале
человеческой жизни, внутреннем камертоне всей его деятельности...
Правда, обдумывая условия, в которых оно прозвучало, это восклица-
ние Достоевского воспринимается как отражение должного, а не су-
щего в русской жизни.
Странное противоречие — очевидно, можно говорить о существо-
вании какого-то непреодолимого контраста в русском общественном
сознании между проявлением публичного интереса к искусству и весь-
ма скромным местом, которое оно занимало в повседневной жизни. Какой
бы всемерной отзывчивостью ни была отмечена русская душа, в ней
обнаруживается этот барьер, из-за которого эстетика искусства поче-
му-то не переходит в эстетику бытия. Возможно, такая черта русского
менталитета обеспечила глубину художественного переживания, не
растворила его в обыденности, возвела искусство в ранг едва ли уни-
версальной формы национального сознания. Однако эта же тенденция
«пересерьезнивания жизни» противилась возникновению на русской по-
чве фейерверка изысканных, играющих художественных форм.
Трудно представить, но в истории музыкальной культуры России
не состоялся целый музыкальный жанр — оперетта. Вплоть до появле-
ния в 20-х годах XX века произведений Дунаевского театрами оперет-
ты использовался только западный материал. По этой же причине и в
русской драматургии не найти ни одного автора, подобного Бомарше
или Гольдони. Профессиональный художник князь С.Щербатов, будучи
истовым поклонником оперы и балета, возможно, несколько субъек-
тивно отмечал, что никогда не мог любить наш драматический театр.
«Последний все время ввергал вас в некую власть тьмы... У нас отлично
играли, но тяжело дышалось в театре. Приглашения на зимние сезоны
блестящей парижской труппы в Михайловский театр в Петербурге яв-
199
лялись показательным и обидным пополнением пробела. Общество тре-
бовало других «харчей», красоты, изящества, веселья, ухода в другой
быт, пусть даже чужой»’’9.
И со стороны самих авторов можно было встретить подобные при-
знания. Об «изгнании смеха с русской сцены» как характерной черте
отечественной драматургии говорил в 1897 году актер В.А.Соколович на
Первом Всероссийском съезде сценических деятелей. Отсутствие ис-
кренней веселости, по его мнению, губительно для самой природы те-
атра60. В другом ракурсе об этом же говорил уже упоминавшийся С.Вол-
конский: «самый главный недостаток русских певцов — нехватка в них
той нарядности, которая является результатом поборотой трудности, в
них не было той легкости, которую требовал от всякого, пожалуй,
художника Леонардо да Винчи»61.
Как бы то ни было, но именно эта особая серьезность и глубина
снискали литературно-художественному творчеству в конце столетия
даже больший престиж, чем тот, которым пользовались занятия капи-
талистическим производством и торговлей. Для новых «хозяев жизни»
— купечества, заводчиков, промышленников — приобщение к изобра-
зительному, музыкальному, театральному искусству зачастую служи-
ло именно целям социального самоутверждения. У «новых русских»
наступает несравненно более выраженное осознание недостатка обра-
зования, чем недостатка средств. При всем том, что в руках представи-
телей крупного капитала оказались рычаги создания несметных состо-
яний, все же у третьего сословия в России было сильно сознание
социальной неполноценности.
Во-первых, здесь сказались особенности социально-политического
развития страны: даже после всех известных преобразований в России
рубежа веков сохранялась дистанция между теми, кто владел реаль-
ными механизмами государственного управления (дворянство), и теми,
кто являлся собственником основных средств производства (промыш-
ленники, купечество). Во-вторых, традиции национального менталите-
та, во многом сформированные дворянской этикой, стушевывали в об-
щественном сознании такие безусловные для европейского общества
ценности, как прибыль и нажива. В России «большие деньги» далеко не
всегда вызывали уважение и давали большую власть. Как ни странно,
но деятельность не только купца, но и промышленника не пользова-
лась большим общественным престижем. В отечественной художест-
венной литературе нельзя найти ни одного примера апологетики капи-
талистической наживы. «Сознание неправды денег в русской душе
невытравимо», — считала М. Цветаева62.
Стремительное возвышение купеческого сословия хотя и привнесло
в социальную психологию новые обертоны, однако общая тенденция
прагматизации сознания оказалась не слишком сильной. В России так и
не сложился культ богатых людей, который наблюдается в западных
странах. По статистике все купеческие семьи, лидирующие в конце
века в смысле их значения и влияния, были не из тех, которые слави-
лись бы своим богатством63. (Недаром говорили, что Москва ни ростов-
щиков, ни откупщиков не любит.) На купеческую деятельность смотре-
200
ли не только как на источник наживы, но и как на своего рода миссию,
возложенную Богом или судьбою. Некоторое сближение дворянского и
купеческого сословий происходило, безусловно, под знаком дворянских
ценностей. Заметное сужение роли дворянства в конце XIX века не
нарушало его высокого положения в социальной иерархии, как сосло-
вия с «бескорыстными идеалами», за которым признавались возможно-
сти «нравственного воздействия на жизнь», придания новым явлениям
«более этического характера».
«Дворянство завидовало купечеству, купечество щеголяло своим
стремлением к цивилизации и культуре; купеческие жены получали
свои туалеты из Парижа, ездили на зимнюю весну на Французскую
Ривьеру, и в то же самое время по каким-то причинам заискивали у
высшего дворянства», — вспоминал В.И.Немирович-Данченко64.
Все это объясняет, почему вплоть до первой мировой войны прак-
тиковался переход купечества в дворянство. Одним из путей «облагоро-
жения» старых купеческих фамилий было чинопроизводство. Так, по
достижении чина действительного статского советника купец или раз-
ночинец мог перейти в потомственное дворянство. Более элегантным
считалось получить генеральский чин, сделав большие пожертвования
Академии наук либо художественным музеям. Таким путем граждан-
скими генералами стали С.И.Щукин, А.А.Титов, А.А.Бахрушин.
Как повлияли новые духовно-психологические ориентации купече-
ства на положение художника и восприятие его фигуры в обществе?
Неоднозначность купеческого сознания обусловила противоречивые
отношения этой среды с деятелями искусства. Много и справедливо
написано о меценатстве российских купцов, субсидировании ими ху-
дожественных начинаний, собирании коллекций. Однако переход меце-
натства от известных дворянских фамилий (Шереметевых, Юсуповых,
Мещериных, Белосельских-Белозерских, Тенишевых) к купечеству не
был безболезненным. Поначалу сам факт собирательства и вложения
денег не на привычные благотворительные цели — строительство цер-
квей и больниц, — а в «какие-то картинки», вызывал резкое осужде-
ние в самой купеческой среде. Павел Третьяков, решив еще в 26-лет-
нем возрасте составить завещание, в котором половину своего состояния
(150 тысяч рублей) даровал на организацию в Москве «художественно-
го музеума или общедоступной художественной галереи», сопровож-
дал его почти мольбой: «Прошу вникнуть в смысл желания моего, не
осмеять его, понять...»63.
Вместе с тем показательно, что тот же Третьяков воспротивился
поступлению в консерваторию старшей дочери Веры, хотя она имела
несомненные музыкальные способности, оцененные Н.Г.Рубинштейном.
Рамки общепринятых для купечества норм заставляли его протесто-
вать против участия детей в любительских спектаклях семьи москов-
ских фабрикантов Алексеевых (именно из этого кружка вырос К.С.Ста-
ниславский).
И тем не менее образованные слои купечества, не чуждые беско-
рыстных побуждений, тянулись к жизни интеллектуальной, интересо-
вались созданиями науки, искусства, искали знакомств в среде худо-
201
жественной интеллигенции. В регламент их жизни все чаще входят Grand
tour — путешествия, которые устраивают отдельные представители
купечества для самосовершенствования в Италию, Грецию, Францию.
Гранд-туры, не имеющие никакой прямой связи с профессиональными
интересами делового человека, являлись как бы «входным билетом» в
избранный круг интеллигенции.
Занятия меценатством не проходили бесследно — известно, сколь
точной была художественная интуиция и вкус у Саввы Мамонтова, Сер-
гея Щукина. Известно, что последний сам порой пребывал в сомнениях
и даже в шоке от собственного выбора66. И тем не менее природное
чутье, непрерывное самообразование привели к созданию Щукиным
уникальной коллекции французской живописи. Все они вместе: теат-
ральный музей А.А.Бахрушина, собрания икон С.П.Рябушинского,
Щукинский и Морозовский музей современной живописи, галерея рус-
ского искусства П.М.Третьякова — позже заложили основы националь-
ного художественного достояния России.
Существенную роль в музыкальной жизни Москвы сыграло откры-
тие в 1885 году частной оперы промышленника С.Мамонтова. На подго-
товку и выпуск первых спектаклей — «Русалка» Даргомыжского, «Фа-
уст» Гуно и «Виндзорские проказницы» Николаи — были затрачены
огромные средства. К сожалению, критика отнеслась к ним весьма скеп-
тически. Даже молодой А.Чехов в своих фельетонах саркастически оце-
нивал необычное побуждение С.Мамонтова, считая его тщеславной
купеческой прихотью. Новый театр не смог выдержать конкуренции с
оперной труппой Большого театра — сказались трудности в подборе
солистов и музыкантов. Колоссальные вложения в создание первых спек-
таклей себя не оправдали. На несколько лет театр пришлось закрыть.
Вторичное возобновление работы театра в 1896 году позволяет оценить
темперамент и страстность характера С.Мамонтова. На этот раз дела
идут гораздо успешнее. Особенно триумфально проходят гастроли в
Петербурге в 1898 году. Именно в этом году в этой труппе взошла
звезда Ф.Шаляпина. Проработавший некоторое время до этого в Мари-
инском театре, солист не был еще оценен и замечен.
В круг друзей Мамонтова входили звезды первой величины: Н.Г.Ру-
бинштейн, И.Н.Крамской, И.Е.Репин, В.А.Серов, К.А.Коровин, В.Д.По-
ленов, М.А.Врубель, К.С.Станиславский, М.Н.Ермолова и другие. Все
они часто бывали у Мамонтова в Абрамцеве, подолгу жили и работали
в доме, который был приобретен у писателя Аксакова. Двое из них —
Серов и Коровин — явились авторами эскизов декораций к спектаклям
Мамонтовской оперы. Их участием была значительно поднята роль ху-
дожника в русском театре. До этого по старой традиции оформлением
спектаклей занимались «декораторы», приглашать настоящих худож-
ников не приходило в голову.
Состоятельный купеческий дом в конце XIX — начале XX века
теперь все чаще являлся местом, где происходило стирание сослов-
ных границ, процесс социального сближения. Так, жена Саввы Тимо-
феевича Морозова, Зинаида Григорьевна, всячески старалась превра-
тить их новый особняк на Б.Никитской в один из известнейших светских
202
салонов. В этом доме встречались как аристократическая, так и худо-
жественная элита: Шаляпин, Книппер. Врубель, Горький, Шереметевы,
Олсуфьевы, Орловы-Давыдовы. Там же бывала и сестра царицы — ве-
ликая княгина Елизавета Федоровна. В условиях, когда и в начале века
представители купечества не допускались даже на большие официаль-
ные балы Московского генерал-губернатора вел.князя Сергея Алексан-
дровича67, такие формы общения воспринимались как новые, свобод-
ные от предрассудков.
Весь процесс художественной жизни России рубежа веков говорит о
невозможности однозначно согласиться с распространенным в дворянс-
ких кругах мнением о губительности купеческого сознания для искус-
ства. Конечно, дворян бесконечно раздражало, что новый жизненный
уклад разрушал «высокие идеалы» и подталкивал их самих к буржуаз-
ности. В конце века, к примеру, был введен имущественный ценз для
тех из дворян, кто желает принимать участие в корпоративной жизни.
То есть возможность пользоваться сословными преимуществами стави-
лась в прямую зависимость от материального благосостояния.
«Известность как и благородное происхождение налагает обязанно-
сти (noblesse oblige)» — это высказывание князя Г.Г.Гагарина68, боль-
шого знатока византийского искусства, обращенное к живописцам, в
какой-то мере уже уравнивает художественную славу и сословную
знатность. Более того, по мере расширения своего влияния слава писа-
теля, музыканта, живописца заметно оттесняет славу старинных дво-
рянских родов. Улавливая на себе заинтересованный взгляд общества,
художник как бы «доорганизовывает» себя в повседневной жизни, стре-
мясь упрочить собственный мифопоэтический образ. Самосознание ху-
дожника, восприятие его фигуры современниками демонстрирует, что
образ богемы в русской культуре начала XX века, в отличие от Запа-
да, отождествляется с понятием художественной элиты.
Художник отдает себе в этом отчет и при случае даже обыденному
поведению стремится придать своеобразный творческий акт. Вот одна
из зарисовок, сделанная К.Коровиным: «К вечеру мы — я, Серов и
Врубель — поехали обедать в «Эрмитаж». Врубель долго одевался, по-
вязав галстук, причесывался, надушил платок, надел фрак и тщатель-
но оправил рукава рубашки. В «Эрмитаже», заказывая обед, он гово-
рил с метрдотелем почему-то по-немецки. — Зачем это ты, Миша,
спрашиваю, по-немецки с ним говоришь? Он же знает русский язык. —
Он знает, но ему приятно говорить на родном языке, — сказал просто
Врубель. ...Врубель ел красиво. В какой-то особенной форме был этот
изящный, гладко причесанный, нарядный человек»69. Как известно,
Врубель владел восемью иностранными языками.
Ощущение собственной призванности, уникальности сообщало чув-
ство большого достоинства и поведению В.А.Серова. Художественный
максимализм (Серов работал над одним портретом в среднем три меся-
ца), уверенность в собственном видении делали его независимым и
свободным от какого бы то ни было сервелизма. Как и большинство
его коллег, Серов был принят в высших сферах, ему позировал Алек-
сандр III, в разные годы он написал несколько портретов Николая II и
203
не поступился, своим вкусом, когда ситуация грозила разрывом с цар-
ским домом. Вот как выглядит история с последним портретом Николая
II в пересказе И.Э.Грабаря. «Уходя с последнего сеанса, бывшего нака-
нуне, царь просил Серова прийти еще раз на другой день, сказав, что
императрица хотела посмотреть портрет и познакомиться с его автором.
Серов отправился раньше, чтобы тронуть еще кое-что. В назначенный час
пришли царь с царицей. Царица просила царя принять свою обычную позу
и, взяв сухую кисть из ящика с красками, стала внимательно просмат-
ривать черты лица на портрете, сравнивая их по натуре и указывая
удивленному Серову на замеченные ею мнимые погрешности в рисунке.
— Тут слишком широко, здесь надо поднять, там опустить. Серов, по
его словам, опешил от этого неожиданного урока рисования, ему кровь
ударила в голову, и, взяв с ящика палитру, он протянул ее царице со
словами: — Так Вы, Ваше величество, лучше сами уж и пишите, если
так хорошо умеете рисовать, а я больше слуга покорный»70.
Именно в это время, в декабре 1901 года, произошел разрыв Серо-
ва с царским домом, а не после январских событий 1905 года, как это
отмечалось в ряде искусствоведческих работ71.
Начало XX века принесло с собой творческие открытия, упрочив-
шие положение художника в русской культуре: драматургия Чехова,
деятельность Московского Художественного театра, художественного
объединения «Мир искусства», «Русские сезоны» Дягилева в Париже
— все эти события сформировали устойчивый интерес к русскому ис-
кусству во всем мире, выдвинули созвездие имен. В совокупности с
достижениями XIX века — творчеством Гоголя, Брюллова, Достоевс-
кого, Чайковского, Толстого — русское искусство продемонстрирова-
ло чрезвычайно плотную и быструю эволюцию от поздней профессио-
нализации к невиданному взлету статуса художника в общественном
сознании.
Фигура художника начала XX века оказала существенное воздей-
ствие на то, что впоследствии назовут социальным симбиозом, рожда-
ющим новую гомогенную культуру. Именно из этой смешанной культу-
ры в дальнейшем вырастали новые формы социальной утонченности.
Для «микрокосма» каждого русского человека художник становится
особой фигурой, к нему апеллируют как к «метафизической констан-
те», той, что спасает от рационализации жизни, поддерживает состо-
яние «вечной тревоги духа, вечного трагизма»72, так присущее нацио-
нальному характеру. К столь притягательному и столь непостижимому
образу художника эпоха обращала свои фантазии и желания.
Примечания
РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА
Глава 1. Становление психологии искусства
1 Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному
творчеству // Зарубежная эстетика и теория литературы. М., 1987,с. 230.
2 Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской
культуры XX века. М., 1991. С. 107.
3 Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному
творчеству. С. 231.
4 Потебня А. А. Мысль и язык // Его же. Эстетика и теория искусства. М.,
1978.
5 Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1989. С. 347.
Глава 2. Психология художественного творчества
1 Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. М., 1986. Т. 1. С. 13.
2 Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской куль-
туры XX века. М., 1991. С. 177.
3 Подробнее об этом см.: Блинова М. П. Музыкальное творчество и закономер-
ности высшей нервной деятельности. Л., 1974.
4 Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. М.-Л., 1934. Т. 1. С. 373-374.
5 Цит. по: Корганов В. Моцарт. Биографический этюд. . М., С. 169,182.
Глава 3. Природа художественного восприятия
1 Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. С. 262.
2 Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. С. 272.
3 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 123-125.
4 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 119.
Глава 4. Личность художника как предмет психологического анализа
1 Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской куль-
туры XX века. М., 1991. С.194,196.
2Логинова Н.А. Развитие личности и ее жизненный путь //Принцип развития
в психологии. М., 1978. С.163.
3 Эккерман. Разговоры с Гете. М., 1934. С.636.
1 Flaubert G. Correspondance. Р., 1959. Р.349.
5 Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 1989. С.402-404.
ъ Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия творчества. М., 1991. С.339-440.
7 Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 63.
к Барбэ д’Оревилъи. Дендизм и Джордж Брэммель. М., 1912. С. 108.
9 Маритен Ж. Указ. соч. С. 190.
10 Подробнее об этом см.: Кривиун О.А. Художник и артистический мир //
Человек. 1993. № 2.
205
11 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М, 1989. С.182.
12 Иванов Г. Петербургские зимы. — Париж, 1928. С.83.
13 Василюк Ф.Е. Психология переживания. М, 1984. С.25.
14 Потебня А.А. Мысль и язык // Эстетика и поэтика. М, 1976. С.142.
15 Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. М., 1986. T.I. С. 13.
1Г ‘ Cirlo R. Mestiere Di regista. Intervista con Federico Fellini. Milano, 1994. S.59.
17 Хекхаузен X. Указ. соч. С.36.
18 de Charms R. Personal Cansations. N.Y., 1968. P.274.
19 Вишневская Г. Галина. M., 1991. С.472-474.
20 Манн Т. Новеллы. Л.. 1984. С. 109.
21 Perry В. Greta Garbo. N.Y, 1994. Р.45;
22Барбэ д’Оревильи. Указ. соч. С.99.
23 Уильямс Теннесси // Америка. 1982. № 305. С.29.
2*Рэлф Оди Дж. Человек — существо одинокое: биологические корни одиноче-
ства // Лабиринты одиночества. М, 1989. С.132.
25 Бердяев Н.А. Самопознание. М, 1991. С.71.
2G Lewes G.H. The story of Goethets Life. L, 1873. P. 97.
27 Доктороу Э.Л. Жизнь поэтов // Иностранная литература. 1988. № 5. С.109.
28 Цит. по: Арнаудов М. Психология литературного творчества. М, 1970. С.251.
29 Бальмонт К. Горные вершины. М, 1904. С.49.
30Тищенко П.Д. Жизнь как феномен культуры // Биология в познании челове-
ка. М, 1984. С. 253.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА
Глава 5. Человек в истории: психологические и художественные измерения
1 См.: Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. М, 1980; Бессмертный
Ю.Л. «Анналы»: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. М, 1991;
Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М, 1993.
2 Февр Л. Бои за историю. М, 1991. С.123.
3 Meyerson Г Les fonctions psychologiques et oenvres. P, 1948.
4 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII
вв. Т. 1-3. М, 1986-1992.
5 Mandrou R. Introduction a la France moderne. Essai de psychologie historique
1500-1640. P, 1961; Mandrou R. La France aux XVII siecle. P, 1974; Burgiere
A. Dictionnaire des sciences historiques. P, 1986; Ле Гофф Ж. Цивилизация
средневекового Запада. М, 1992.
6 Erikson E.N. Identity. Youth and Crisis. N.Y, 1968; Erikson E.N. Life history and
the historical moment. N.Y, 1975; Wolman B. The psychoanalitic Interpretation
of History. N.Y, 1971; Keniston K. Psychological Development and Historical
Change // The Family In History. N.Y, 1973; Bourguignon E. Psychological
Antropology. N.Y, 1979.
7 Cm.: History and Theory; Comparative Studies In Society and History; Journal
of Interdisciplinary History.
8 C 1987 года при Научном совете по истории Мировой культуры АН на базе
Института всеобщей истории АН работает семипар по исторической психо-
логии под руководством А.Я.Гуревича. Результаты его работы нашли отра-
жение в ежегодниках «Одиссей. Человек в истории», издающихся с 1989 г.
206
Там же с 1994 года работает семинар под руководством Ю.Л.Бессмертного
«История частной жизни в Европе».
*' Гуревич А.Я. Указ. соч. С.282.
1 ,1 Dibelius W. Engllsche Romankunst. В., 1910; Freitag G. Die Technic das Drames.
Leipzig, 1908; Gundolf F. Shakespear und der deutsch Geist. B., 1911;
Seuffert B. Beobachtungen uber dichterische Komposition. B.. 1910-1911;
Bd. 1-2; Spitzer L. Italienische Umgangsprache. Bonn, 1922; Vossler K.
Positlvismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft. B.. 1904; Walzel O. Vom
Geistesleben alter und neuer Zeit. B., 1922.
На рус. яз. см.: Валъиель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной
Германии. СПб., 1920; он же: Проблема формы в поэзии. Пб., 1923; Вельфлин
Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрожде-
ния. СПб., 1912; он же: Ренессанс и барокко. СПб., 1913; он же: Истолкова-
ние искусства. М., 1922; он же: Основные понятия истории искусств. М.-Л.,
1930; он же: Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. Л., 1934; Гиль-
дебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1914; Зим-
мель Г. Гете. М., 1928; Фолль К. Опыты сравнительного изучения картин. М.,
1916. См. также: Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Воз-
рождения. М., 1978; Бенеш О. Искусство северного Возрождения. Его связи
с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973.
11 Подробнее об этом см.: Кривцун О.А. Эволюция художественных форм. Куль-
турологический анализ. М., 1992. С.3-91.
12 Иконология (учение об изображении) была дефинирована голландским ис-
следователем Г.Хугеверфом как «попытка установить, какое культурное
значение или социальный смысл могут иметь некоторые формы, способы
выражения и изображения в определенную эпоху». См.: Hoogewerff J.
L’iconologie et son Importance pour 1’etude systematique de 1’art chretien //
Revistadi Archeologia Cristiana. 1931. VIII. P.80.
13 Munro Th. Evolution In Art.Clevlend, 1965; Carrier D. Principles of Art History
writing. — Pennsylvania, 1993.
14 Allen W. Philosophies of music history. A study of general histories of music,
1600-1900. N.Y., 1962; Hughes D. A History of European music. The art music
tradithion of Western culture. N.Y., 1974; Saathen F. Music In Spiegel der Zeit.
Wien, 1975; Schnaider A. Musikwissenschaft und Kulturkeislehre. Bonn, 1976;
Walter D. Men and music In Western culture. N.Y., 1969; Fleming W. Art, music
& Idies. N.Y., 1970; Van Beest Hoile G.D. Welt — und Kulturgeschichte. Baden-
Baden, 1970-1974; Myss W. Kunst und Kultur Europas von Daidalalos bis Picasso.
Insbruck, 1981; Lafuente F. La fundamentacion у los problemas de la historia
del arte. Madrid, 1985.
15 См., например: Алпатов M. Композиция в живописи. Историч. очерк. М.,
1940; Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971; Батракова СНГ
Искусство и утопия. М., 1990; Конен В.Д. Театр и симфония. М., 1975; Ми-
хайлов А.В. Историческая поэтика в истории немецкой культуры. М., 1989.
16 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977; Эйхенбаум Б.
О литературе. М., 1987; Жирмунский В.М. Теория литературы: Поэтика. Сти-
листика. Л., 1977; он же: Литературные течения как явление международ-
ное. Л., 1967.
17 Сокулин П. Русская литература: социолого-синтетический обзор литератур-
ных стилей. — М.. 1929; Шмит Ф. Искусство: его психология, стилистика,
его эволюция. Харьков, 1919; он же: Предмет и границы социологического
искусствоведения. Л., 1928; Иоффе И. Культура и стиль. Л., 1927; он же:
Синтетическая история искусств и звуковое кино. Л., 1936.
207
lh Валъиель О. Сущность поэтического произведения // Проблемы литератур-
ной формы. Л., 1928. С.6.
19 Burgiere A. De la comprehension еп histoire // Ann ales. E.S.C. 45e annee,
№ 1’, 1990. P.124.
Глава 6. Психологический фактор в истории искусства
1 См.: Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М.,
1980; Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957; Брушлинский В.В. Куль-
турно-историческая теория мышления. М., 1968; Анцыферова Л.И.
Материалистические идеи в зарубежной психологии. М., 1974; Лурия А.Р.
Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974; Выготский
Л.С. Психология искусства. М., 1968; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание.
Личность. М.. 1975; Симонов. П.В. Эмоциональный мозг. М., 1981; Белявский
И.Г., Шкуратов В.А. Проблемы исторической психологии. — Ростов-на-Дону,
1982; Тульвисте П. Культурно-историческое развитие вербального мышле-
ния. — Таллин, 1988; Ярошевский М.Г. Психология в XX веке. М., 1974;
Поргинев Б.Ф. История и социальная психология. М., 1966; Шкуратов В.А.
Историческая психология. Ростов-на-Дону, 1994.
2 См.; «Труды Государственной Академии художественных наук», издававши-
еся в Ленинграде с 1927 по 1930 г.
3 См. напр.: Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1933; Богатырев
П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
4 Узнадзе Д.Н. Художественная литература как психологический документ.
Тбилиси, 1922 (на груз, языке).
5 Аверинцев С.С. Книга — как письмо до востребования // Книжное обозре-
ние. 1987. № 49. С.З.
G Подробнее об этом см: Кривцун О.А. Актуальный вид искусства в истории
культуры // Проблемы методологии искусствознания. М., 1989.
7 Швейиер А. Культура и этика. М., 1973. С.79.
8 «Исследование психического склада нации, класса и т.д., поскольку их пси-
хический склад выявляется из исторического развития их культуры и ха-
рактеризует ее как историческое целое, безотносительно к психическим
свойствам того или иного индивида, относится к историческому материа-
лизму, к общественно-исторической дисциплине, а не к психологии». (Ру-
бинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С.241.)
9 См., напр.: Брушлинский В.В. Культурно-историческая теория мышления.
М., 1968; История и психология. М., 1971; Мегрелидзе К.Р. Основные про-
блемы социологии мышления. Тбилиси, 1973; Лурия А.Р. Об историческом
развитии познавательных процессов. М., 1974; Маргелашвили Г. Сюжетное
время и время экзистенции. Тбилиси, 1976; Тульвисте П. Культурно-исто-
рическое развитие вербального мышления. Таллин, 1988.
1 ,1 См., напр.: Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896; Краинский И.В.
Порча, кликушество и бесноватые как явления русской народной жизни.
Новгород, 1890; Гиро А. Частная и общественная жизнь римлян. СПб., 1897;
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. М., 1913; Романов Б.А. Люди и
нравы Древней Руси. Л., 1947; Очерки по истории русской психологии. М.,
1957 и др.
11 См.: Андриаиова-Перети В.П. К вопросу об изображении «внутреннего че-
ловека» в русской литературе XI-XIV вв // Вопросы изучения русской ли-
тературы XI-XX вв. М., 1958.
12 Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.. 1970. С.155.
208
13 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1923. 4.1. С. 78.
14 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М., 1947.
15 Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. М.,
1974. С.222.
lfi Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987. С.436.
17 Толстой Л.Н. Письмо Н.Страхову от 21.10.1876 г.
18 Симонов П. Искрящиеся контакты // Новый мир. 1979. № 9. С.241.
19 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.392.
2( 1 Понимание этой проблемы как существенного условия полноценной твор-
ческой деятельности отмечали многие исследовательские школы, независи-
мо от теоретической ориентации: «Потому и не в состоянии отдельный ин-
дивид развернуть свои силы в полной мере, — писал К.Юнг. — если одно из
тех коллективных представлений, что зовутся идеалами, не придет ему на
помощь и не развяжет в нем всю силу инстинкта, ключ к которой обычная
сознательная воля одна найти никогда не в состоянии» (Юнг К.Г. Об отноше-
нии аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству //
Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. М., 1987. С.230).
21 Kardiner A. Psychological frontiers of society. N.Y., 1946; Erikson E. Life history
and the historical moment. N.Y., 1975.
22 Erikson E. Identity. Youth and crisis. N.Y., 1968. P. 19.
23 Екклезиаст. Гл.1, ч.9.
24 Цит. по: Барг М.А. Эпохи и идеи. М., 1987. С.310.
25 См.: Мадиевский С.А. Методология и методика изучения социальных групп в
исторической науке. Кишинев, 1974. С.34.
26 Dodds E.R. The Greeks and Irrational. — California Univ, press., 1951; Benedict
R. The Chrysantemus and the sword: Pattens of Japanese culture. N.Y., 1946;
а также: Лотман Ю.М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизмах
культуры // Тезисы докладов IV летней школы по вторичным моделируе-
мым системам. Тарту, 1970; Социальная психология личности. М., 1979.
27 Подробнее см.: Ярхо В.Н. Вина и ответственность в гомеровской эпохе //
Вестник древней истории. 1962. №2.
28 «Таким образом, — пишет К.А.Абульханова-Славская, — исторически ме-
няется мера личности, начиная от состояния поглощенности общностью, за-
тем переходя к более сложным способам вхождения в состав коллективного
субъекта...» (Абулъханова-Славская К.А. Деятельность и психология личнос-
ти. — Mr, 1980. С.121).
29 Лурия А.К. Психология как историческая наука // История и психология.
М., 1971. С.48-49.
30 См.: Анциферова Л.И. Указ. соч. С.228-230.
31 Барг М.А. Указ. соч. С.149.
32 Mandrou R. Introduction a la France moderne. P., 1961. P.88.
33 Тульвисте П. О теоретических проблемах исторического развития мышле-
ния // Принцип развития в психологии. М., 1988. С.93-96.
34 См.: Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С.16-48.
35 Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М., 1981. С.189.
3G Там же. С.190.
37 К.Ф.Леонтович, к примеру, считает, что «закономерная смена стадий (эсте-
тического и этического развития индивида — О.К) соответствует последо-
вательности сензитивных периодов восприятия человеческой психики» (Ле-
онтович К.Ф. Стадии морального развития личности, стиль поведения и
209
художественный вкус // Психологические механизмы регуляции социаль-
ного поведения. М., 1979. С.212).
38 Кнабе Г.С. Категория престижности в жизни Древнего Рима // Быт и исто-
рия в античности. М., 1988.
39 Байбурин А.К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения
// Этнические стереотипы поведения. М., 1985. С.10-11.
40 Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М., 1961. С.191.
41 Егоров Б.Р. Труд и отдых в русском быту и литературе XIX века // Куль-
турное наследие Древней Руси. М., 1976. С.324.
42 Tannahill R. Sex In History. N.Y., 1980. P.4.
43 Sorokin P. Sane sex order. Bombay, 1961; Marcuse G. Eros and civilization. L.,
1956; русскоязычное издание: Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995.
44 Meyerson L. Les fonctions psychologiques et oeuvres. P., 1948. P.90-91.
45 Foucault M. Histoire de la sexualite. V.I. La volonte de savoir. P., 1976; V.II.
L’usage des plaisirs. P., 1985.
Соколова E.T.. Дрожовец A.H. Исследования «образа тела» в зарубежной пси-
хологии // Вестник МГУ, серия Психология. 1985. № 4.
47 Батракова С. П. Искусство и утопия. М., 1990. С.147.
48 Дидро Д. Собр. соч. М., 1946. Т.6. С.291.
49 Василев К. Любовь. М., 1982. С.248.
30 Eros in antiquity. N.Y., 1978. Р.9.
51 См.: Eros in antiquity. N.Y., 1978. P.10; Grant M. Erotic in art In Pompeii. N.Y.,
1982. P.66-70.
52 Melville R. Erotic art of the West. N.Y., 1973. P.ll.
53 Ibid. P.12.
54 Sex and Erotica // Encyclopedia of World art. L., 1966. Vol.XII. P.888.
55 Saynes K. Art in society. L., 1975. P.115.
56 Подробнее см.: Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1988. С.141-142.
57 Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988. С.123.
58 См.: Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века.
Вып.2. М., 1980. С.214.
59 Монтень М. Опыты. Кн. 37. М.-Л., Наука, 1960. С. 84.
60 Webb Р. The Erotic Arts. L, 1976. P.136.
61 Хейзинга И. Указ. соч. М., 1988. С.122-123.
62 Тынянов И. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.251.
63 Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987. С. 226.
64 Днепров В. Идеи времени и формы времени. Л., 1980. С.231.
65 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Т.12. М., 1913. С.146.
GG Кон И. Введение в сексологию. — М.. 1988. С. 145.
G7 Тригорин М. Проблема пола и «Санин» Арцыбашева. М., 1908. С.12.
G8 Новополин Г.С. Порнографический элемент в русской литературе. СПб., 1908. С.8.
G9 Манн Т. Собр. соч. в 10-ти т. Т.9. С.215.
70 Шпенглер О. Закат Европы. Пг., 1923. С.296.
71 Брюсов В. Испепеленный // Весы. 1909. № 4. С.110.; Белый А. Гоголь // Там
же. С.79.
72 Розанов В.В. Пушкин и Гоголь // Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Дос-
тоевского. СПб., 1906. С. 259.
73 Брюсов В. Испепеленный // Весы. 1909. № 4. С.ПО.
210
74 Peace R. The enigma of Gogol: an examination of the writings of N.V.Gogol
and their place In Russian literature tradition. Cambrige etc., 1981. P.47.
75 Little T. Dead Souls // Knaves and Swindless: Essays on the picaresque novel in
Europe. Ch., 1974. P.130.
7( i Fanger D. The creation of Nicolai Gogol. L., 1979. P.YII.
71 Peace R. Op.clt..; Jonge A. de. Gogol // Niniteenth century Russian Literature. L..
1973. P.69-129.
78 Мочулъский К.В. Духовный путь Гоголя. Париж, 1934.
70 Там же. С.93.
80 Зеньковский В. Н. В. Гоголь. Париж, 1961.
81 Там же. С. 93.
82 См.: Мотылева Т.Л. Достоевский: новые зарубежные работы // Вопр. лит.
1981. № 4.
83 См.: Зарубежные исследования по литературоведению. Вып. 1. М., 1981. С.73-74.
84 Мочулъский К.В. Блок. Париж, 1948.
85 Там же. С. 17 9.
86 Там же. С.431, 408.
87 См., в частности: Rischbieter Н. Maxim Gorky. Hannover, 1973; Scherr В. M.Gorky.
Boston, 1988; Brown E. The symbolist contamination of Gorky’s «realistic style»
// Russian Literature. Amsterdam, 1988. Vol.24. № 4.
88 Cm.: Teskey, Ayleen. Platonov and Fydorov: The influence of Christian philosophy
on a soviet writer. Amsterdam, 1982.
89 Cm.: Edwards T. Three russian writers and Irrational. Cambrige. 1982; Milne L.
Mikhail Bulgakov: The status of the dramatist and the status of the text //
Russian theatre In the age of modernism. L., 1990.
^Якобсон P. Избранные работы. M., 1985. С. 68-69.
91 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1988. С.292.
92 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. С.18.
РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Глава 7. Исторические типы мироощущения
и формы художественного видения
1 ‘2 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связи с современными
духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973. С.170, 172.
3 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.-Л., 1930. С.7.
4 Там же. С.272.
5 Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. T.I. С.22.
6 Таковы, например, фрески из церкви Санта Кроче во Флоренции: изобра-
жая Иоанна Крестителя, Джотто останавливается не на самых излюблен-
ных и распространенных эпизодах из его жизни. Создается впечатление,
что фреска должна была, по мысли художника, воздействовать на зрителя
скорее как самостоятельное произведение искусства.
7 Фолль К. Опыты сравнительного изучения картин. М., 1916. С. 16.
8 Там же. С.23.
9 См.: Gluck G. Bruegels Gemalde. Wien, 1955.
1( 1 Tolnay G. de. Pierre Bruegel L’Ancien. Bruxelles, 1935.
11 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. С.142.
211
12 Например, Гете не раз обращал внимание на то, что для восприятия худо-
жественной формы произведения как единого целого нужна особенная чут-
кость, вырабатываемая в себе длительным общением с искусством. Массово-
му сознанию, считал писатель, гораздо легче воспринять «что», а не «как».
Первое можно воспринять по частям, а для второго нужны труд и извест-
ные навыки.
13 Гильдебранд А Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1914. С.4.
14 Там же.
19 Там же. С.5.
16 Там же. С.16.
17 Фаворский В А. О композиции // Искусство. 1933. N 1-2. C.I.
11 Алпатов М.В. Композиция в живописи. Исторический очерк. — М.. 1940. С.62.
19 Вельфлин Г. Указ. соч. С. 18-19.
2 * Там же. С. 17.
21 Там же. С.19.
22 Там же. С.39.
23 Подробнее см.: Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Воз-
рождения. М., 1978. T.I. С.17.
24 Конен В.Д. Проблемы Возрождения в музыке. С.155.
Глава 8. Стиль как духовно-психологический горизонт исторической эпохи
1 Леш Б. Стиль как инструмент и стиль как видение // Материалы YII Меж-
дународного эстетического конгресса в Бухаресте. Вып.1. М., 1973. С. 112.
2 См.: Фриче В. Социология искусства. М.-Л., 1930; Иоффе И. Культура и стиль.
М, 1927.
3 См.: Устюгова Е.Н. Проблема стиля культуры в буржуазной культурологии
XX века // Искусство в системе культуры. Л., 1987.
4 Цит. по: Типология литературных стилей. М., 1978. . С.71-93.
5 См.: Schapiro М. Style // Antropologie Today. Chicago, 1953; Sandmann M.
Das Zeitalger als Schicksal. Bazel, 1956; Kroeber A. Style and Civilisation. Los
Angeles, 1963; Munro Th. Form and Style In the arts: an introduction to aesthetics
morphology. L., 1970.
6 Weisbach W. Stilfegriffe und Stilphanomene. Wein, Munchen, 1957. S.40.
7 Шапиро M. Стиль // Советское искусствознание. M., 1988. N 24. С.386.
8 Там же. С.392.
9 Подробнее об этом см.: Кривцун О.А. Эволюция художественных форм. М.,
1992. Главы 1,2.
10 Вельфлин Г. Указ. соч. М.-Л., 1930; Riegl A Stilfragen. Berlin, 1893; Panofsky Е.
Studies in Iconology. Oxford, 1939.
11 Подробнее об этом см.: Базен Ж. История истории искусства. М., 1995. С.119-125.
12 Здесь несомненна перекличка с многоуровневой теорией стиля М.Шапиро.
13 Panofsky Е. Studies in Iconology. — Oxford, 1939; Panofsky E. Meaning of
Visual Arts. N 4. 1957.
14 Шапиро M. Стиль. C.422.
15 Кантор A.M. Искусство XVIII века // Искусство XVIII века. М., 1977. С.15.
16 И. Н. Голенищев-Куту зов указывает на то, что авторы барокко находили
родственные черты и заимствовали известные стилистические приемы в
латинской поэзии IV-VI столетий у Марциала и других (см.: Голенищев-
Кутузов И.Н. Романские литературы. М., 1975. С.347).
212
17 См., напр.: Кланицаи Г. Что последовало за Возрождением в истории лите-
ратуры и искусства Европы? // XVIII век в мировом литературном разви-
тии. М, 1969. С. 84-101.
18 Баткин Л.М. Замечания о границах Возрождения // Советское искусствоз-
нание 79. Вып. 2. М., 1976. С. 96.
19 Ряд авторов склонны выделять в истории не два, а три типа цивилизаций:
стационарный тип (Древний Египет, Индия, Китай), адаптивный тип (ара-
бо-мусульманская цивилизация) и динамический тип (европейская цивили-
зация, обладающая возможностями саморегуляции) (см.: Завадский С.А., Но-
викова Л.И. Искусство и цивилизация. М., 1986. С.137-188). Важно, однако,
что подобное разделение осуществляется на основе уже приведенного нами
критерия: либо преобладания наличных культурных традиций, либо посто-
янного развития условий культуротворческой деятельности.
20 Лихачев Д.С. XVII век в русской литературе // XVII век в мировом литера-
турном развитии. С.320.
21 Кланицаи Т. Указ. соч. С.86.
22 См.: Голенищев-Ку ту зов. И.Н. Романские литературы. С.348; Теория литератур-
ных стилей. Типология стилевого развития Нового времени. М., 1976. С.448-229.
23 Михайлов А.В. Вещественное и духовное в стилях немецкой литературы //
Теория литературных стилей. Типология стилевого развития Нового време-
ни. М., 1976. С.446.
24 Соколов М. Границы иконологии и единство искусствоведческого метода. М.,
1976. С.242.
25 Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. СПб., 1876. С.247.
26 Гайденко П.П. Видение мира в науке и искусстве Ренессанса //Наука и
культура. М., 1984. С.263.
27 Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Л., 1986. С. 95.
28 См.: Balet L. Rembrandt and Spinosa. N.Y., 1962; Panofsky E. Galileo as critic of
arts. Hadue, 1954; Warnke M. Kommentare zu Rubens. Berlin, 1965, etc.
29 Батракова С.П. Искусство и утопия. М., 1990. С.61-62.
30 Подробнее см.: Свидерская М.И. Становление нового художественного виде-
ния в итальянской живописи на рубеже XVI-XVII веков и творчество моло-
дого Караваджо // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.
31 Там же. С.424.
32 Ливанова Т.Н. Семнадцатый век и пути развития музыки Запада // Там же.
С.369.
33 Подробнее см.: Конен В.Д. Театр и симфония. Роль оперы в формировании
классической симфонии. М., 1975.
34 Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973.
С.115.
33 Ливанова Т.Н. Указ. соч. С.380.
™ Якимович А.К. Барокко и духовная культура XVII века // Советское искус-
ствознание. 1976. № 2. С.98.
37 Цит. по: Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы. С.348.
38 См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне-
вековья и Ренессанса. М., 1965.
39 Михайлов А.В. Вещественное и духовное в стилях немецкой литературы //
Типология стилевого развития Нового времени. М., 1976. С.452.
213
Глава 9. Драматизм в искусстве
как претворение исторических состояний сознания
1 Свидерский В.И. О некоторых формах противоречивости в объективном мире.
Л., 1968. С. 81.
2 Неизданный Достоевский. // Литературное наследство. М., 1971. Т.83. С.618.
3 Тиандер К. Синкретизм и дифференциация поэтических видов // Вопросы
теории и психологии творчества. Т.2. Харьков, 1911. Вып.1. С.7.
4 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. С.204.
5 Например, известный музыковед конца XIX века Н.Д.Кашеин называл «Бо-
гему» Пуччини «декадентской оперой», музыкальный язык которой казался
ему настолько небывалым и эксцентричным, что он отказался в свое время
даже от разбора этого произведения («Русские ведомости». 1897. 21 янв.). А о
таком, ныне для нас классическом живописце, как Делакруа, художествен-
ная критика говорила, что он пишет «пьяной метлой, а не кистью» (см.:
История искусств всех времен и народов. Л., 1929. С.281).
6 Асафьев Б. Указ. соч. С.355.
7 Гегель Г.В.Ф. Эстетика. М., 1967. T.I. С.73.
8 Шоу Б. О драме и театре. М., 1963. С.73.
9 Можно сослаться на известную теорию Т.Адорно, согласно которой наиболее
адекватными сегодняшней ситуации в культуре являются не те произведе-
ния, которые повествуют о трагических ужасах бытия, а те, что сами оли-
цетворяют собой «крик и вопль задушенной плоти» (Adorno Т. Negative dialektic.
Munchen, 1966. S.357.
10 Лосев А.Ф. Трагическое // Философская энциклопедия. Т.5. С.251.
11 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С.200.
12 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С.299.
13 Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т.З. М., 1970. С. 101.
14 Хализев В.Е. Драма как род литературы. М., 1986. С.63-122.
15 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С.343.
16 Там же. С.182, 200.
17 См.: Freytag G. Die Technic des Drames. Leipzig, 1908. S.18.
18 Вальцель О. Проблема формы в поэзии. Пб., 1923. С.55.
19 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С.88.
20 Свасьян К.А. Человек как творение и как творец культуры // Вопросы фи-
лософии. 1987. N 6. С.132.
21 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С.318.
22Шоу Б. Указ. соч. С.75.
23 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. С.284.
24 Асафьев Б. Там же. С.338.
25 Соловьев Вл. Три разговора. Собр. соч. в 10-ти тт. Т.10 СПб., б/д.
26 Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Пг., 1923. С.38,39.
27 Там же. С.22.
28 См.: Асафьев Б. Указ. соч. С.283.
29 Римский-Корсаков Н.А. Письмо к М.Делиню // Москва. 1965. № 9. С.218.
30 Вебер М. Наука как призвание и профессия. М., 1992. С. 95.
31 Проблема культурно-исторической обусловленности сдвигов в восприятии
предметного мира искусства разработана в статьях Г.С.Кнабе, А.В.Михайло-
ва //Вещь в искусстве. М., 1986.
214
32 Штейгер Э. Новая драма. СПб., 1902. С.61.
33 Там же. С.185.
34 Там же. С.75.
35 Цит. по: Голлербах Э.Ф. Пути новейшего искусства на Западе и у нас //
История искусства всех времени народов. Л., 1929. С.299.
36 Там же. С.298.
37 Так А.Ремизов описывает свое впечатление от постановки Вс.Мейерхольдом
пьесы «Снег» Пшибышевского в «Товариществе Новой драмы» (1903 г) (цит.
по: Русская художественная культура конца XIX — начала XX века. Кн.1.
М., 1968. С.186).
38 История искусств всех времен и народов. С.294.
39 «Весы». 1904. № 8. С.15.
40 Подробнее см.: Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века.
Кн.1. М, 1971.
РАЗДЕЛ IV. ХУДОЖНИК И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Глава 10. Биография художника как проблема социальной психологии
1 Баткин JI. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого
мышления. М., 1990. С. 20.
2 М. Чудакова склоняется к тому, что письмо, дневник писателя могут помочь
прояснить генезис того или иного произведения, «но не могут заставить нас
решительно переоценить уже свершившийся творческий акт» (Чудакова М.,
Дело поэта // Вопр. литературы. 1973, №10. С. 64. )
3 Томашевский Б. Литература и биография // Книга и революция. 1923,
№ 4. С. 6.
4 Мору а Андре, О биографии как художественном произведении // Писатели
Франции о литературе. М., 1978. С. 127.
5 Жуковский В. А. Соч. в 3-х томах. М., 1980. Т. 3. С. 544.
6 Ортега-и-Гассет X. В поисках Гете // Ортега-и-Гассет X. Эстетика.
Философия культуры. М., 1991. С. 459-460. «Мы можем проследить практи-
чески день за днем то своеобразное окаменение, в которое ввергает его
Веймар. Человек превращается в статую... Жизнь Гете движется против его
судьбы и начинает себя изживать» (С. 454. )
7 Подробнее об этом см.: Кривцун О. А. Личность художника как предмет пси-
хологического анализа // Психологический журнал. 1996. № 2.
8 Толстой Л. Запись в дневнике от 3 декабря 1909 г.
9 Винокур Г. Биография и культура. М., 1927. С. 82.
10 Томашевский Б. Указ. соч. С. 7.
11 Жирмунский В. М., Введение в литературоведение. СПб., 1996. С. 140-141.
12 Томашевский Б. Указ. соч. С. 7.
13 Идеи обратного воздействия жизни личности на сознание эпохи активно
поддерживаются современными психологами и культурологами: «Личность в
своем движении заставляет двигаться, развертываться, преобразовываться
окружающую действительность, — преобразовываться целенаправленно в
соответствии со своими замыслами» (Аниыферова Л. Н. О динамическом под-
ходе к психологическому изучению личности // Психол. журнал. 1981. № 2.
С. 9. ); «Жизнь отдельных личностей помогала глубже и полнее уяснить
смысл и ход исторических событий, делала хронологию более конкретной»
(Вильсон А. Биография как история. М., 1970. С. 1. )
215
14 Адлере Б. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979. С. 179,181.
15 Ф. Шлегель о своем герое романа «Люцинда»пишет: «подобно тому, как
совершенствовалось его искусство, к нему само собой пришло то, чего ему
прежде не удавалось достичь никакими стараниями, так и жизнь его пре-
вратилась в некое произведение искусства, причем,в сущности, он даже не
уловил, как это произошло». (Избранная проза немецких романтиков. М.,
1979. Т. 1.С. 177.)
10 Интересное замечание в этой связи делает А. Вежбицка: «Если в русской
судьбе присутствует, грубо говоря, оттенок фатализма, квиетизма и сми-
ренного приятия жизни, ничего подобного нет в польском los. Напротив, los
акцентирует случайность, переменчивость, непредсказуемость судьбы, пред-
ставляя жизнь как игру случая или как азартную игру... Польский культур-
ный словарь воплощает один лишь образ — жизни как попеременных взле-
тов и падений, а не как плавного движения к пункту назначения» (Вежбицка
А. Судьба и предопределение // Путь. 1994. № 5. С. 131. )
17 Fullerton К. Calvinism and capitalism: the Weber thesis and its critics. Boston,
1959. P. 20.
18 См., напр.: Богданов В. А. Психология жизненного пути. Спб., 1994; Мардов
И. Б. Этапы личной духовной жизни. М., 1994 и др.
19 Le Grand Proprietaire de toutes choses. 1556.
20 Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и методология истории. М., 1977. С.
237.
21 Там же. С. 235.
22Ортега-и-Гассет X. Указ. соч. С. 257.
23 Подробнее см.: Руднев В. Модернистская и авангардистская личность как
культурно-психологический феномен // Русский авангард в кругу европей-
ской культуры. М., 1993.
24 Эпштейн М. Парадоксы новизны. М., 1988. С. 142.
Глава 11. Сословная психология и эволюция статуса художника в России
1 Это важное отличие не обходит ни одно исследование по истории русской
аристократии. См., напр.: Романович-Славатпинский А. Дворянство в
России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870.
C.II-IV.
2 Цит. по: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Париж, 1931.
С.754.
3 См: Танеев С.В. Из прошлого императорских театров. СПб., 1885. С.4 и далее.
4 Танеев С.В. Из прошлого императорских театров. СПб., 1885. С.4.
5 Южин-Сумбатов А.И. Воспоминания. Записи. Статьи. Письма. — М.-Л., 1941.
С. 417.
г > Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств. СПб., 1914. С.З.
7 Материалы для истории Императорской Академии художеств. T.I. С.27.
8 Архив Академии художеств 1776 года. Дело № 29. С.12.
9 Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств. СПб., 1914. С.13.
10 На протяжении всего XIX века сохранялась существенная разница между
званием академика и профессора Академии художеств. Первое можно было
получить значительно легче (например, за одну или за серию работ). Вто-
рое предполагало стабильное служебное положение и жалованье и было
216
достижимо значительно труднее. В частности, в звании профессора в сере-
дине века было отказано такому сверхпопулярному портретисту как Н.Л.Тют-
рюмов, дворянину, бывшему и к этому времени академиком живописи.
11 Вольноприходящие люди разного звания принимались в рисовальное учи-
лище, открытое при Академии художеств в 1798 году.
12 См., напр.: Семенов Н.П. Наше дворянство. СПб., 1898; Мещерский А.В., кн.
Воспоминания. М.» 1901.
13 Манхейм К. Проблема интеллигенции. М., 1993. 4.1. С. 50.
14 Танеев С.В. Из прошлого императорских театров. СПб., 1887. Т.4. С.8.
15 Головачева-Панаева А.Я. Русские писатели и артисты. СПб., 1890 С.7.
16 Вестник Европы. 1873. № 4. С.44.
17 Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С.426.
18 Цит. по: Головачева-Панаева А.Я. Указ. соч. С.98.
19 Лени В. Приключения Лифляндца в Петербурге // Русский архив. 1878.
Кн.2^ С.259.
20 Записки гр. Ф.П.Толстого // Русская старина.1873. N 7. С. 26.
21 Пушкин А.С. Поли. собр. соч. в 17-ти тт. М., 1949. Т.16. С.68.
22 Южин-Сумбатов А.И. Указ. соч. С.418.
23 Танеев С. В. Из прошлого императорских театров. Т.П. СПб., 1886. С. 33.
24 Там же. С.39.
2э Инцидент был инспирирован поклонниками итальянской балерины этого же
амплуа, соперницы Андреяновой (прим. авт.).
26 Цит. по: Танеев С. В. Указ. соч. Т.П. С. 33-34.
27 К.П.Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. М.,
1961. С.160.
28 Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России. М., 1863. С,127-
128.
29 Там же. С.132.
30 Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств. СПб., 1914. С.45.
31 Там же. С.152.
32 Головачева-Панаева А.Я. Указ. соч. С.178.
33 Там же. С.217.
34 Там же. С.86.
35 Семенов Н.П. Наше дворянство. СПб., 1898. С. 4.
36Яблочков М. История дворянского сословия в России. М., 1876. С.465.
37 Дворянство в России. Исторический и общественный очерк //Вестник Евро-
пы. 1887. Кн.З. С.283.
38Семенов Н.П. Указ. соч. С.43,46.
39 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1928. С.101.
40 Стасов В.В. Статьи о музыке. М., 1977. С.204.
41 Не вдаваясь в специальное обсуждение этой противоречивой фигуры, отме-
тим, что крайнее славянофильство В.В.Стасова побудило П.Милюкова на-
звать его «страстным пропагандистом русского национального провинциа-
лизма» (Милюков П. Очерки по истории русской культуры. — Париж, 1931.
С.656).
42 Волконский С. Мои воспоминания. Т.З. Париж, 1933. С. 118.
43 Корабельникова Л.З. Музыка // Русская художественная культура второй
половины XIX века. М., 1988. С.110.
217
44 Вкусы императора проявились и в том, что консерваторию с момента ее
основания надо было называть «музыкальной школой», а профессоров —
«преподавателями» (см.: Пузыревский А.И., Саккети Л.А. Очерк пятидесяти-
летия деятельности Санкт-Петербургской консерватории. СПб., 1912. С.6.)
45 Голицын Ю.Н. Прошедшее и настоящее. СПб., 1870. С.4.
46 В 70-е годы прошлого века можно было достаточно обеспеченно жить на
30-35 рублей в месяц.
47 Подробнее см.: Гонорарные ведомости «Отечественных записок» //Литера-
турное наследство. Т. 53-54. М., 1949. С.304.
48 Подробнее см.: Шашков С. Литературный труд в России // Дело. 1876. № 8.
С.32-33.
49 См., напр.: Бураковский А.З. Воспоминания. Закулисная жизнь артистов. М.,
1906.
59 «Вольтеровское расшатывание уважения к властям продолжено Оффенба-
хом», — вздыхал Н.К.Михайловский.
51 Салтыков-Щедрин М.Е. Об искусстве. М.-Л., 1949. С.347.
52 Цит. по: Всеволодский-Гернгросс В.Н. История русского театра. T.I. Л.-М.,
1929. С. 462.
53 Дорошевич В.М. Старая театральная Москва. Пг. М., 1923. С.159.
54 Дризен Н.В. Сорок лет театра. Воспоминания. П., 1916, С.48.
55 Волконский С. Мои воспоминания. T.III. Мюнхен, 1923. С.152.
™ Крамской И.Н. Письма, статьи. T.I. С.356.
Ъ1 Поспелов Г.Г. О концепциях «артистизма» и «подвижничества» в русском ис-
кусстве XIX — начала XX в // Советское искусствознание-81. М., 1982.
С.143.
58 Достоевский Ф.М. Бесы // Поли. собр. соч. в 30-ти тт. Т.10. М., 1974. С.372-373.
59 Щербатов С. Художник в ушедшей России. Нью-Йорк, 1955. С.285.
69 Труды Первого Всероссийского съезда сценических деятелей. СПб., 1898.
С.172.
61 Волконский С. Мои воспоминания. Т.З. С.120.
02 Цветаева М. Соч. в 2-х тт. Т.2. Минск, 1988. С.7.
03 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1990. С.100 и далее.
64 Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. М., 1938. С.83.
05 Боткина А.П. П.М.Третьяков в жизни и искусстве. М., 1951. С.53-54.
сс Так, купив у Матисса в 1910 году панно «Музыка», Щукин вдруг решает
закрасить у одного из мальчиков не дававшие ему покоя «признаки пола».
07 См.: Щербатов С. Художник в ушедшей России. С.43.
68 Гагарин Г.Г. Воспоминания. СПб., 1885. С.60.
69 Коровин К.А. М.А.Врубель // «Возрождение». Париж. 1936. 26 мая.
70 Вал. Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. М., 1971.
T.I. С.527.
71 Впоследствии царь не забыл происшедшего. Назначая пенсию в 1911 году
вдове скончавшегося художника О.Ф.Серовой, Николай II сказал: «Он, Се-
ров, меня сильно оскорбил в лице императрицы».
72 Бердяев Н. Subspecie aeternitatis. СПб., 1907. С.378.
218
Приложение
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА
Абрамян Д.Н. Общепсихологические основы художественного творчества. М.,
1994.
Абрамян Д.Н. Специфика художественного воображения и проблемы психоло-
гии личности. Ереван, 1985.
Андреева Г.М. Социальная психология групп // Андреева Г.М. Социальная
психология. М., 1994.
Арнаудов М. Психология литературного творчества. М. 1970.
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
Беляева-Экземплярская С. Об иллюзии выступающих вперед цветов // Жур-
нал психологии, неврологии, психиатрии. М., 1924. Т.4
Блок Вл. Потребность в искусстве. М., 1997.
Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 1989. Главы: 4,7,8,9.
Бойко М.Н. Психологическое направление в русской академической науке XIX
века // Проблемы методологии современного искусствознания. М., 1989.
Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной дея-
тельности. Л., 1974.
Брехт Б. Малый органон для театра // Брехт Б. Театр. М., 1965.
Василюк Ф.Е. Психология переживания М., 1984.
Вейнингер О. Пол и характер. М., 1991
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1940.
Волкова Е.В. Парадоксы катарсиса Варлама Шаламова // Вопросы филосо-
фии. 1996. № 3.
Воррингер В. Абстракция и одухотворение // Современная книга по эстетике.
М., 1957.
Вундт В. Фантазия как основа искусства. М., 1914.
Выготский Л.С. Психология искусства.М., 1968.
Гессе Г. Степной волк // Гессе Г. Избранное. М., 1977.
Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве.М., 1995.
Гончаренко Н.Ф. Гений в искусстве и науке. М., 1990.
Горяев В.Г Психологические аспекты профессиональной самореализации учи-
теля музыки. Тверь. 1999.
Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М., 1993.
Гоффман Э. Представление себя другим // Современная зарубежная соци-
альная психология.Тексты. М., 1984.
Гройсман А.Л. Методы профилактики пограничных психических расстройств
у актеров // Художественное творчество и психология.М., 1991.
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1978.
219
Дидро Д. Парадокс об актере. М., 1957.
Дранков В.Л. Психология художественного творчества. Спб., 1991.
Евлахов А.М. Гений-художник как антиобщественность. Варшава, 1909.
Ержембский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. СПб., 1995.
Ершов П. Режиссура как практическая психология. М., 1972.
Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней. 1990.
Жоли Г. Психология великих людей. Спб., 1894.
Зоркая Н.М. Комбинации, сюжетные ходы, основные типы сюжетов // Зор-
кая Н.М. На рубеже столетий. М., 1976.
Иоффе И. Культура и стиль. Л., 1927.
Искусство и социальная психология. М., 1996.
Искусствознание и психология художественного творчества. М., 1988.
Камю А. Абсурдное творчество (глава кн. “Миф о Сизифе”) // Сумерки богов.
М., 1990.
Кириенко В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности. М.,
1959.
Кон И.С. Социологическая психология. М., 1999.
Кракауэр 3. Психологическая история немецкого кино. М., 1977.
Кривцун О.А. Историческая психология и художественный процесс // Психо-
логический журнал. 1990. № 5.
Кривцун О.А. Психологические корни эротического искусства // Психологи-
ческий журнал. 1992. № 1.
Кривцун О.А. Художник и артистический мир // Человек. 1993. №2.
Кривцун О.А. Историческая психология и история искусств. М., 1997.
Кривцун О.А. Художник в истории русской культуры: эволюция статуса //
Человек. 1995. № 1, 3.
Кривцун О.А. Художественная богема как феномен русской культуры начала
XX века // Элитарное и массовое в русской художественной культуре. М.,
1996.
Кривцун О.А. Личность художника как предмет психологического анализа //
Психологический журнал. 1996.№ 2.
Кривцун О.А. Человек в его историческом бытии: опыт психологических и ху-
дожественных измерений // Психологический журнал. 1997. № 4.
Кривцун О.А. Биография художника как культурно-историческая проблема
// Человек. 1997. № 4-5.
Кривцун О.А. Эстетика как психология искусства. М., 1997.
Лановенко О. Художественное восприятие: опыт построения общетеоретичес-
кой модели. Киев, 1987.
Левашев В.И. Введение в психосемиотику. М., 1994.
Левшина И.С. Как воспринимается произведение искусства. М. 1983.
Лейбин В. Русскость Фрейда. М., 1994.
Лейтц Г. Психодрама. М., 1994.
Леонтьев А.Н. Философия психологии. М., 1994.
Леонтьев А.Н. Психология образа // Вестник Московского университета. Се-
рия “Психология”, 1979, № 2.
Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1999.
Липпе Т. Эстетика // Философия в систематическом изложении. СПб., 1909.
220
Логинова А.И., Ананьев Б.Г. О психологии искусства // Психологический жур-
нал. 1981.№4.
Ложброзо Ч. Гений и помешательство. М., 1995.
Лосев А.Ф. Катарсис // Проблемы общего и русского языкознания. М., 1972.
Лурия А.Р. Психология как историческая наука // История и психология. М.,
1971.
Мальро А. Голоса молчания // Писатели Франции о литературе. М., 1978.
Манн Т. Смерть в Венеции // Манн Т. Новеллы. М., 1984.
Маритен Ж. Поэзия и совершенство человеческой жизни // Самосознание
европейской культуры XX века. М., 1991.
Мейлах Б.С. Талант писателя и процессы творчества. Л., 1969.
Мелетинский Э.М. Аналитическая психология и проблемы происхождения
архетипических сюжетов // Бессознательное. Новочеркасск, 1994.
Мелик-Пашаев А., Невлянская 3. К проблеме “общего” и “специального” в ху-
дожественно-творческой одаренности человека // Искусствознание и пси-
хология художественного творчества. М., 1988.
Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века.
М., 1955.
Миллер С. Психология игры. СПб., 1999.
Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
Обуховский К. Психология влечений человека. М., 1972.
О вс янико-Куликовский Д.Н. Из лекций об основах художественного творче-
ства // Вопросы теории и психологии творчества. Т.1. Харьков, 1911.
О вс янико-Куликовский Д.Н. Потебня как языковед-мыслитель. Киев, 1893.
Ортега-и-Гассет X. В поисках Гете // Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Филосо-
фия культуры. М., 1991.
Оствальд В. Великие люди. СПб., 1910.
Петрушин М.И. Музыкальная психология. М., 1997.
Платон. Ион // Платон. Соч. в трех тт. Т.1. М., 1968.
Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Эстетика и теория искусства. М.,
1978.
Психологический универсум образования человека поэтического. Томск, 1999.
Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
Пустовойт П.Г. От слова к образу. Киев, 1974.
Райков В.П Роль гипноза в стимуляции психологических условий творчества
// Психологический журнал. 1983. № 1.
Райнов Т. “Психология творчества” Д.Н.Овсянико-Куликовского // Вопросы
теории и психологии творчества. Т.5. Харьков, 1914.
Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительское восприятие. М., 1994.
Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. 1991. № 1.
Рождественская II.В. Творческая одаренность и свойства личности // Психо-
логия процессов художественного творчества. Л., 1980.
Рубакин Н. Психология читателя и книги: краткое введение в библиологичес-
кую психологию. М-Л.. 1929.
Рууберг Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. Тал-
лин. 1985.
221
Сапего И.Г. Предмет и форма. Роль восприятия материальной среды художни
ком в создании пластической формы // Сов. искусствознание. М., 1986. Выл.2О
Семенов В.Е. Искусство как межличностная коммуникация. Спб., 1995.
Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М., 1981.
Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. Происхождение духовности. М .
1989.
Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. М., 1994.
Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978.
Теплое В.М. Заметки психолога при чтении художественной литературы //
Вопросы психологии. 1971. № 6.
Теплое В.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1976.
Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984.
Фрейд 3. Леонардо да Винчи // З.Фрейд. Художник и фантазирование. М.,
1995.
Фрейд 3. Достоевский и отцеубийство // Там же.
Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному // Там же.
Фромм Э. Автоматический конформизм // История зарубежной психологии.
Тексты. М., 1986.
Фромм Э. Антология человеческой деструктивности. М., 1998.
Хренов Н.А. Социальная психология искусства. М., 1998.
Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и
публики. М., 1981.
Homo musicus: Альманах музыкальной психологии. М., 1994
Художественное творчество: Вопросы комплексного изучения. Л., 1986.
Художественное восприятие. Л., 1971.
Художественное творчество и психология. М., 1991.
Цвейг С. Зигмунд Фрейд. М., 1990.
Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмер-
тии. М., 1991.
[Пашковский Г. Развитие музыкального слуха. М., 1996.
Шмит Ф. Искусство: его психология, стилистика, его эволюция. Харьков.1919.
Эйзенштейн С.М Психология композиции // Искусствознание и психология
художественного творчества. М., 1988.
Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование.
М, 1998.
Юнг К. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской
культуры XX века. М., 1991.
Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному
творчеству // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. М.,
1987.
Юнг К., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М., 1996.
Якобсон П.М. Психология сценических чувств актера. М., 1936.
Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М., 1985.
Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.
Содержание
Предисловие...................................................5
РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА
Глава 1. Становление психологии искусства.....................9
Глава' 2. Психология художественного творчества..............17
Глава 3. Природа художественного восприятия...................26
Глава 4. Личность художника
как предмет психологического анализа.......................35
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА
Глава 5. Человек в истории:
психологические и художественные измерения.................49
Глава 6. Психологический фактор в истории искусства..........60
Взаимодействие исторической психологии и искусства..........63
Развитие потребностей человека
и их связь с направлениями художественного развития.....72
История чувственности в образах искусства..................80
Формы «присвоения» художественной классики
как отражение исторического сознания....................98
РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Глава 7. Исторические типы мироощущения
и формы художественного видения...........................107
Глава 8. Стиль как духовно-психологический горизонт
исторической эпохи..........................................119
Стиль барокко. «Чувство жизни барокко». «Человек барокко».124
Глава 9. Драматизм в искусстве как
претворение исторических состояний сознания.............. 135
Типы драматического мироощущения в истории
и формы их художественной адаптации....................149
РАЗДЕЛ IV. ХУДОЖНИК И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Глава 10. Биография художника как проблема социальной психологии... 161
Личная жизнь художника и биографическое сознание эпохи....161
Типы биографий художников в истории.......................163
Глава 11л Сословная психология
и эволюция статуса художника в России...................... 173
Художник и социопсихология дворянства.................... 174
Художник в среде интеллигенции и купечества.............. 190
ПРИМЕЧАНИЯ..................................................205
ПРИЛОЖЕНИЕ. Список дополнительной литературы
по проблемам психологии искусства.......................... 219
Издательство Литературного института им. А. М. Горького
предлагает Вашему вниманию книги, вышедшие в свет в 1999 году
Вл.И. Гусев. Искусство прозы. Статьи о главном
В книге известного писателя и литературоведа рассматриваются вопросы
философии и техники новейшей художественной прозы на фоне материальной
и духовной жизни страны и всего мира; в приложении публикуются статьи,
подводящие итог размышлениям автора о жизни и литературе 90-х годов.
Чеховский сборник
(из серии «Материалы литературных чтений»)
Основу сборника составили доклады, прочитанные на международной конфе-
ренции «Чехов и литература XX века», состоявшейся в Литературном инсти-
туте им. А. М. Горького. В ней приняли участие ученые России, Белоруссии,
Латвии, Германии, США, Израиля. Среди них — как известные филологи, так
и молодые исследователи, недавние студенты и аспиранты.
ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:
Литинститут в творческих семинарах мастеров.
Портрет несуществующей теории
В книге отражен многолетний уникальный опыт авторов — руководителей
творческих семинаров единственного у нас в стране Литературного института
в работе с новыми поколениями одаренных литераторов. В ней раскрываются
«тайны» творческих лабораторий, говорится о путях и способах овладения
профессиональным мастерством прозаика, поэта, драматурга, публициста и
критика, а также переводчика художественной литературы
А. И. Горшков. Лекции по русской стилистике
В пособии в соответствии с программой по стилистике для студентов Лите-
ратурного института им. А. М. Горького излагаются основные проблемы теоре-
тической стилистики русского языка и приводятся маиериалы русской словес-
ности, которые помогут студентам в освоении материалов курса.
По вопросам распространения обращаться по телефону/факсу
(095) 202 67 55
Олег Александрович Кривцун
ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА
Художник Д. Сенчагов
Корректор Ю. Баклакова
Оригинал-макет О. Зотова
Изд. лиц. № 021322 от 14. 01. 99 г.
Сдано в набор 15.04.99. Подписано в печать 14.04 2000
Формат 60x84/16. Тираж 500 экз. Зака* 1429-2000.
Издательство Литературного института им. А. М. Горького
103104 Москва, Тверской бульвар, 25
Отпечатано в Коломенской межрайонной типографии
Автор - Олег Александрович КРИВЦУН,
доктор философских наук, профессор.
Его работы по эстетике, психологии искусства,
истории художественной культуры переведены
на ряд европейских языков. Автор книг «Эволюция
художественных форм. Культурологический анализ»,
«Историческая психология и история искусств»,
учебника для вузов «Эстетика» и др.
Член Союза писателей и
Союза театральных деятелей РФ.
Член Американского эстетического общества