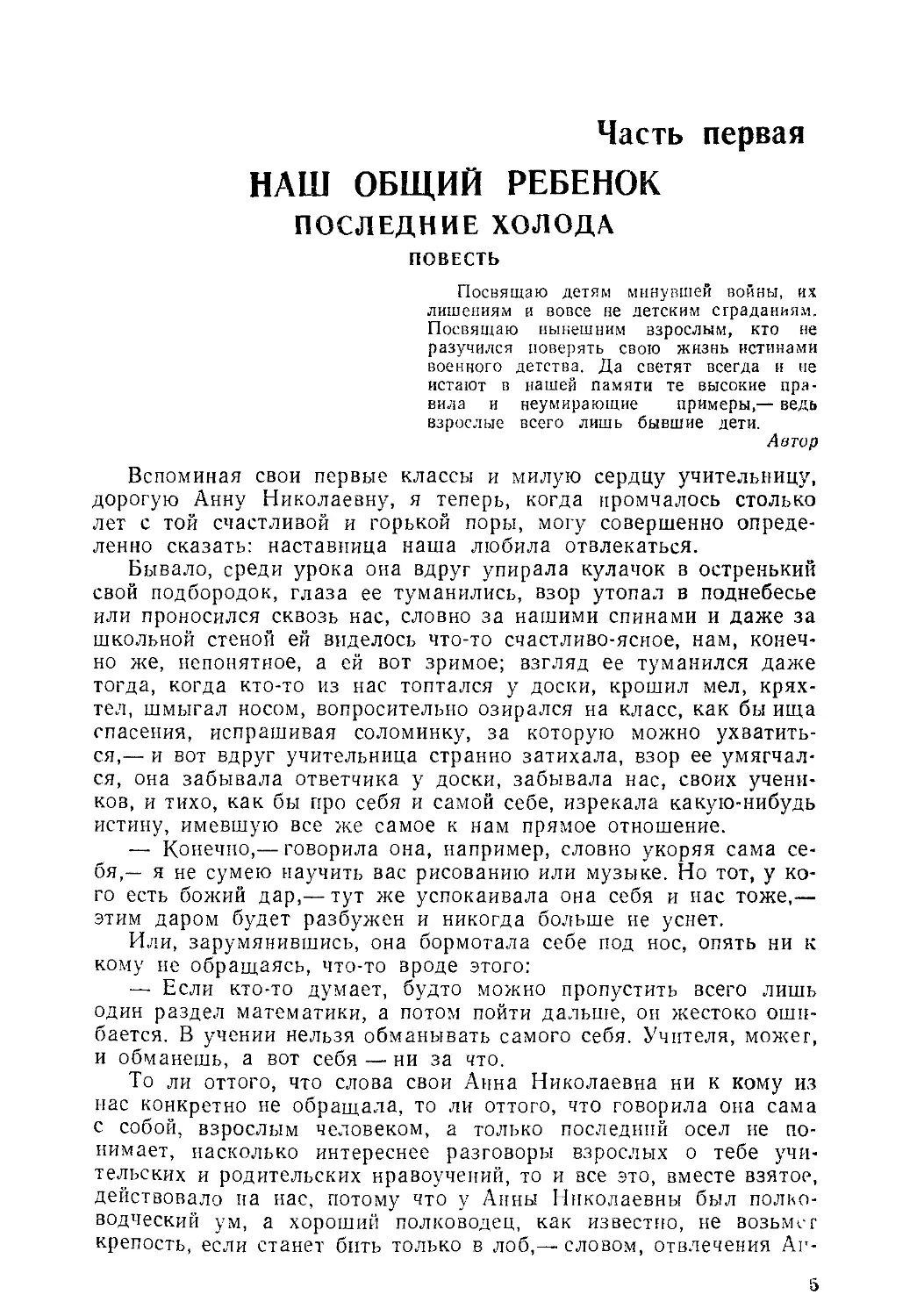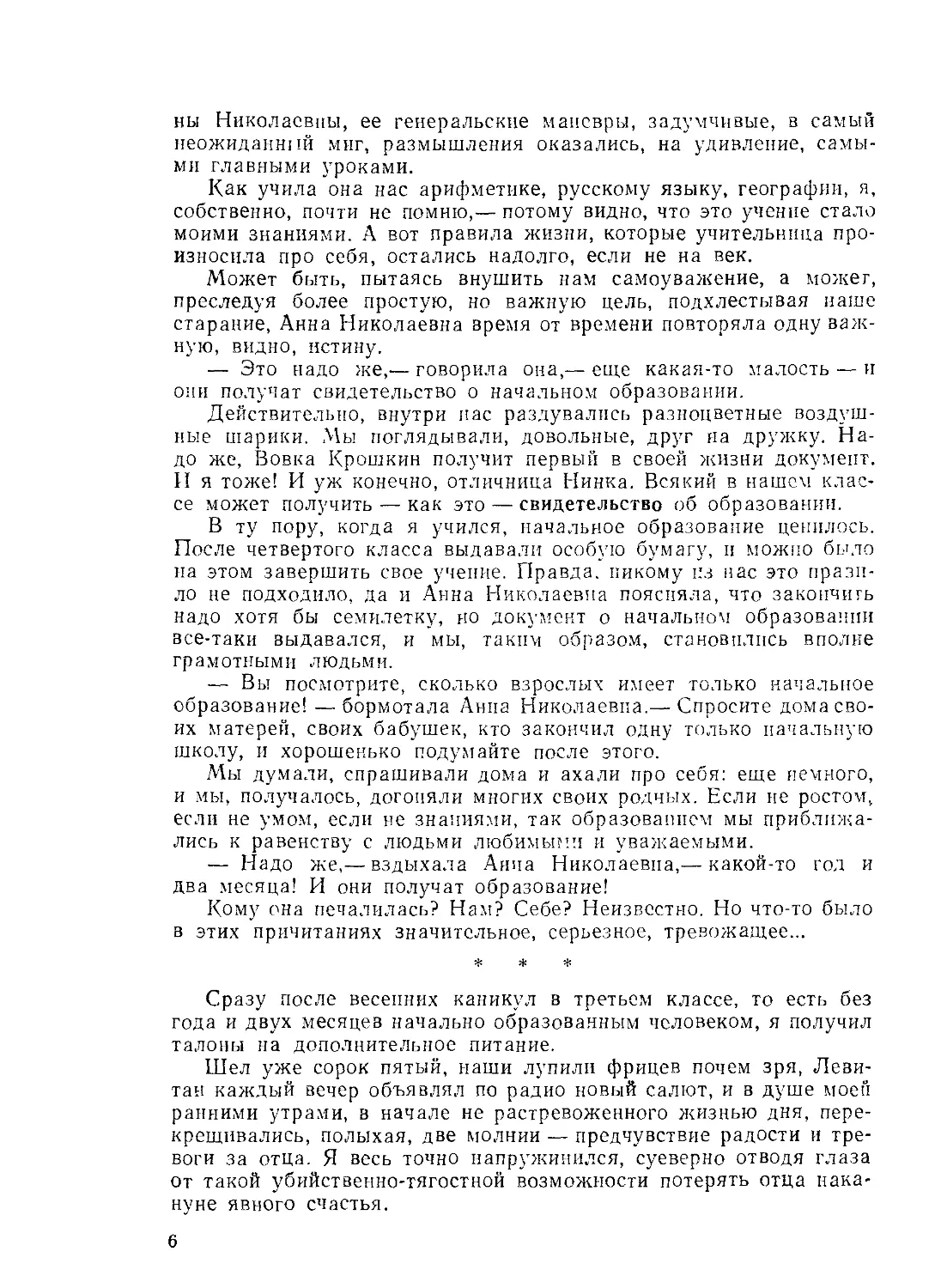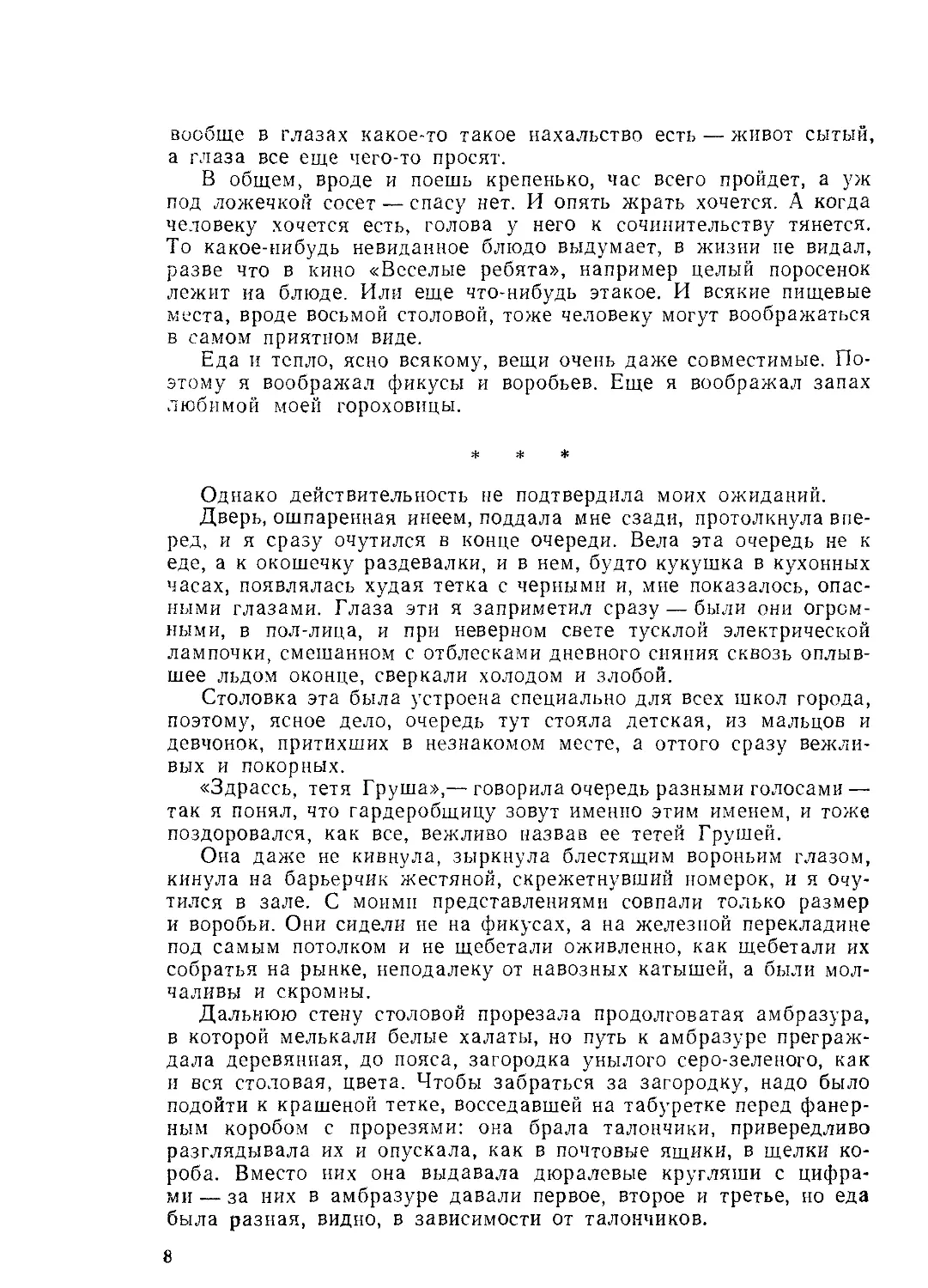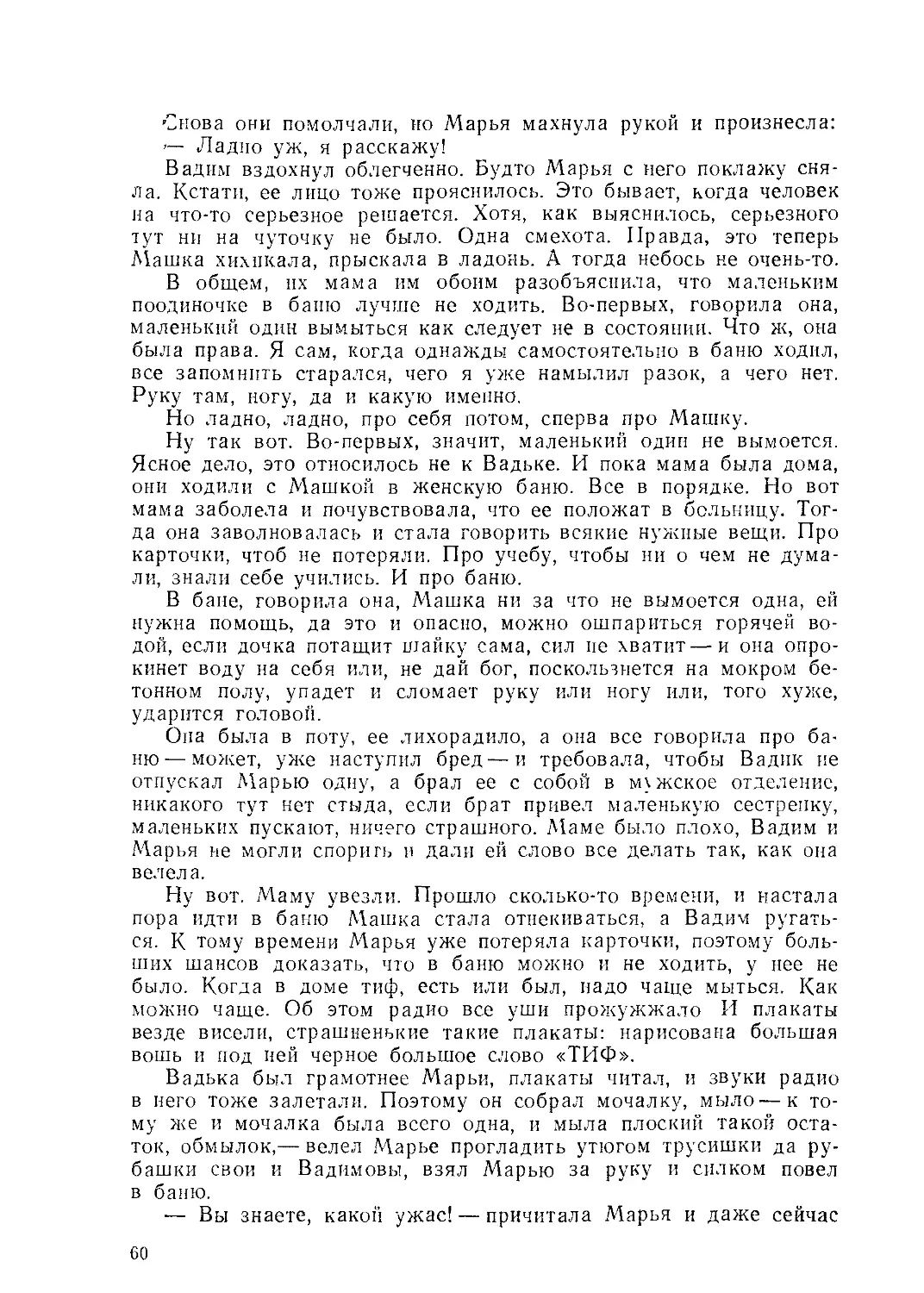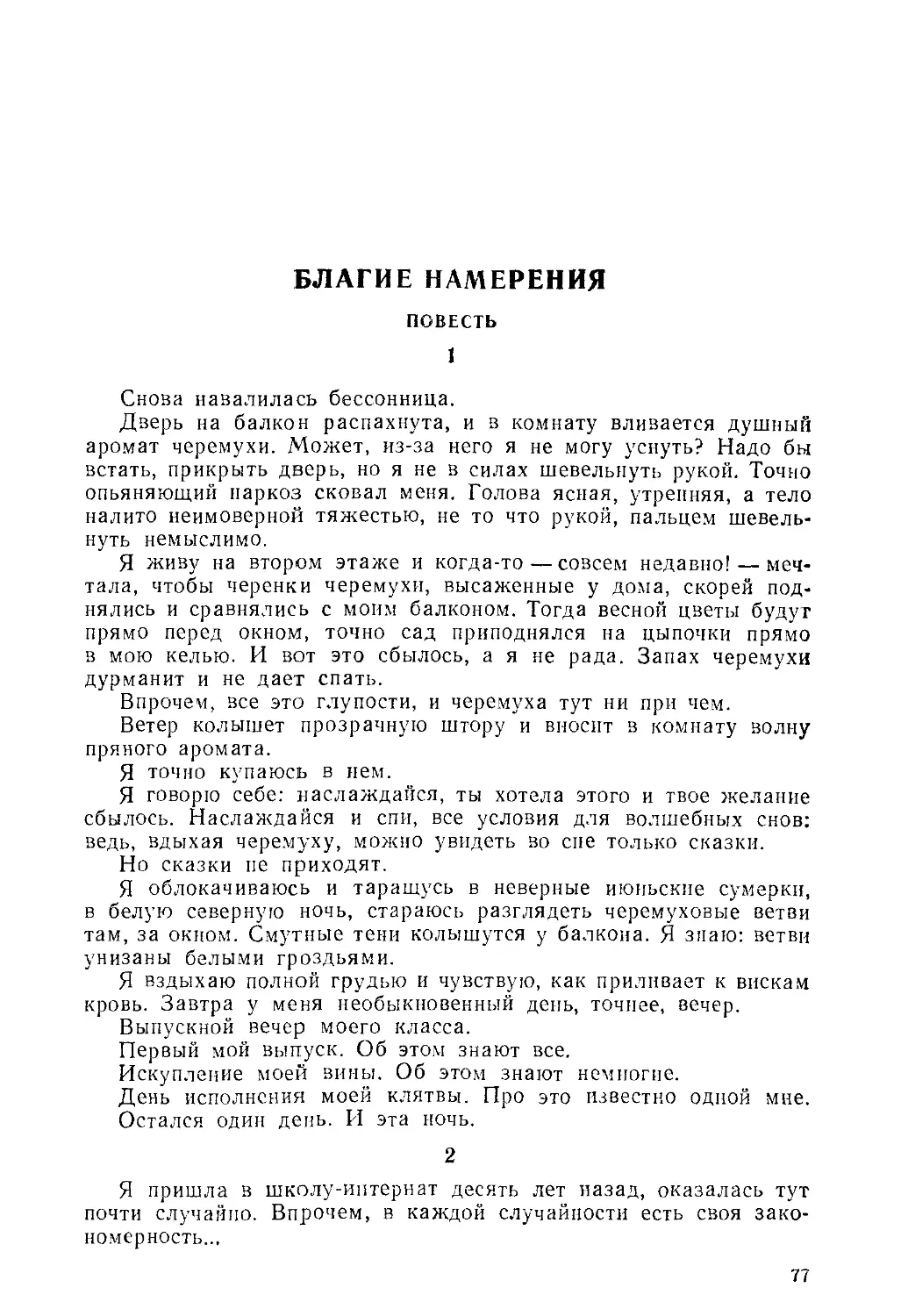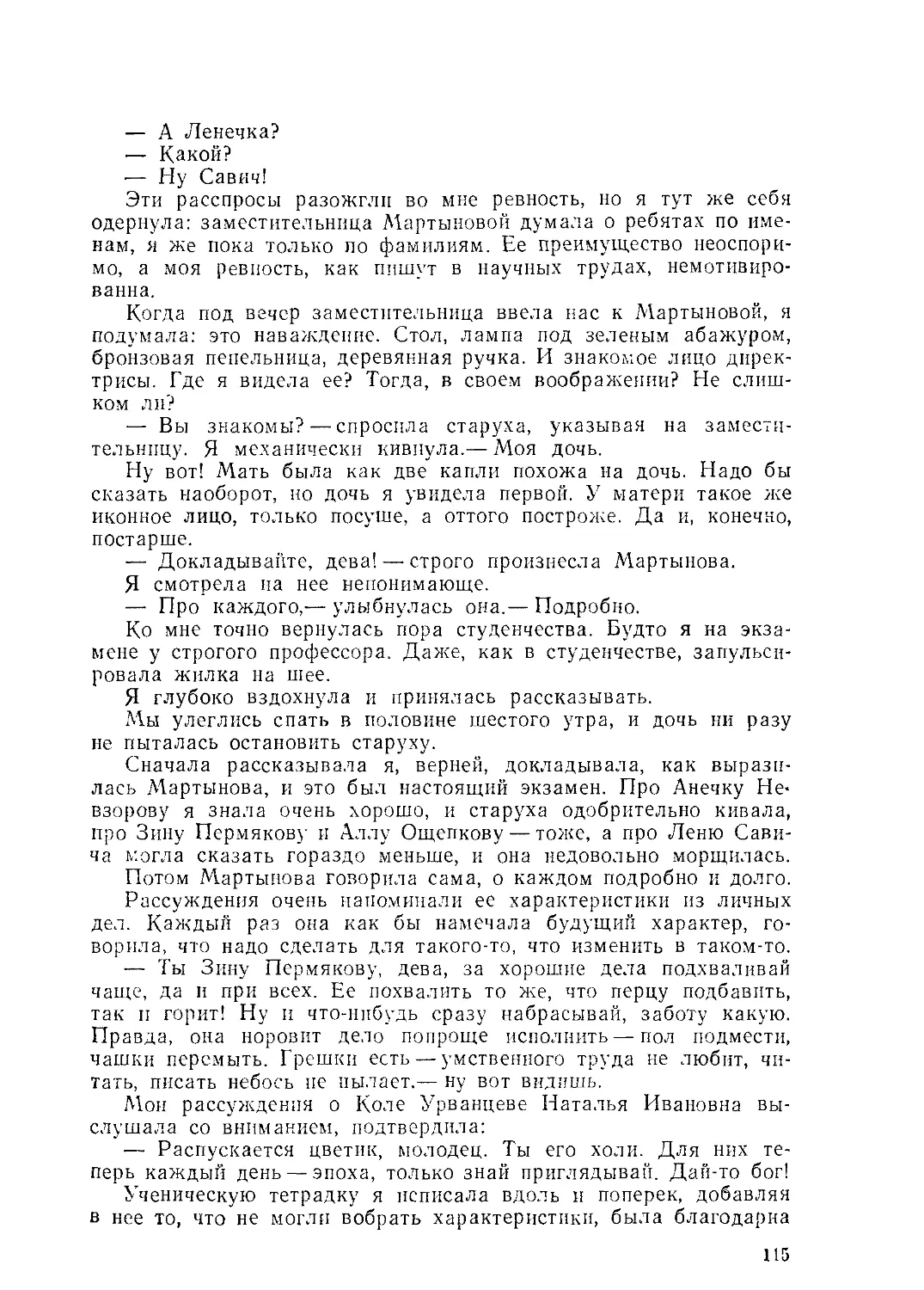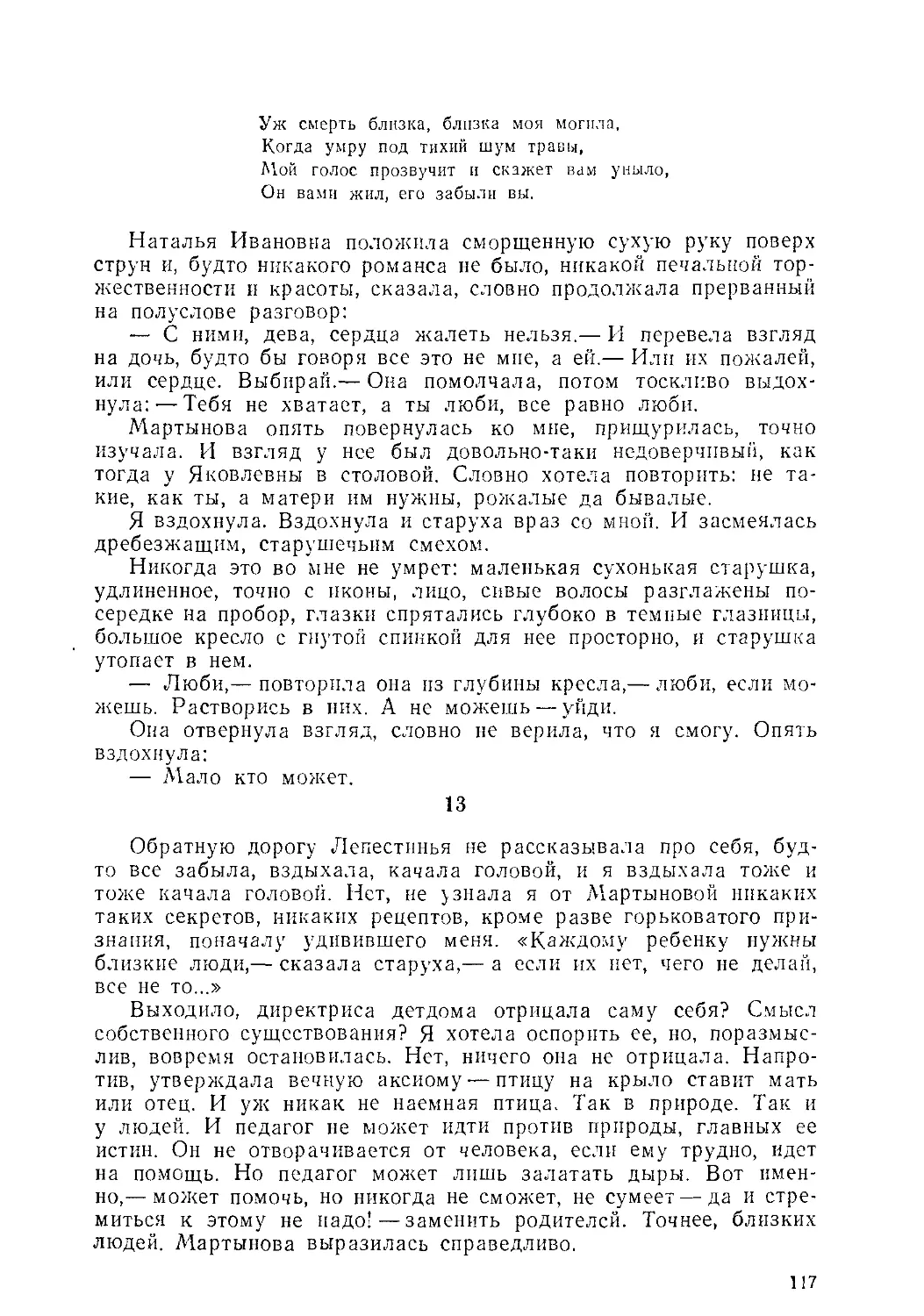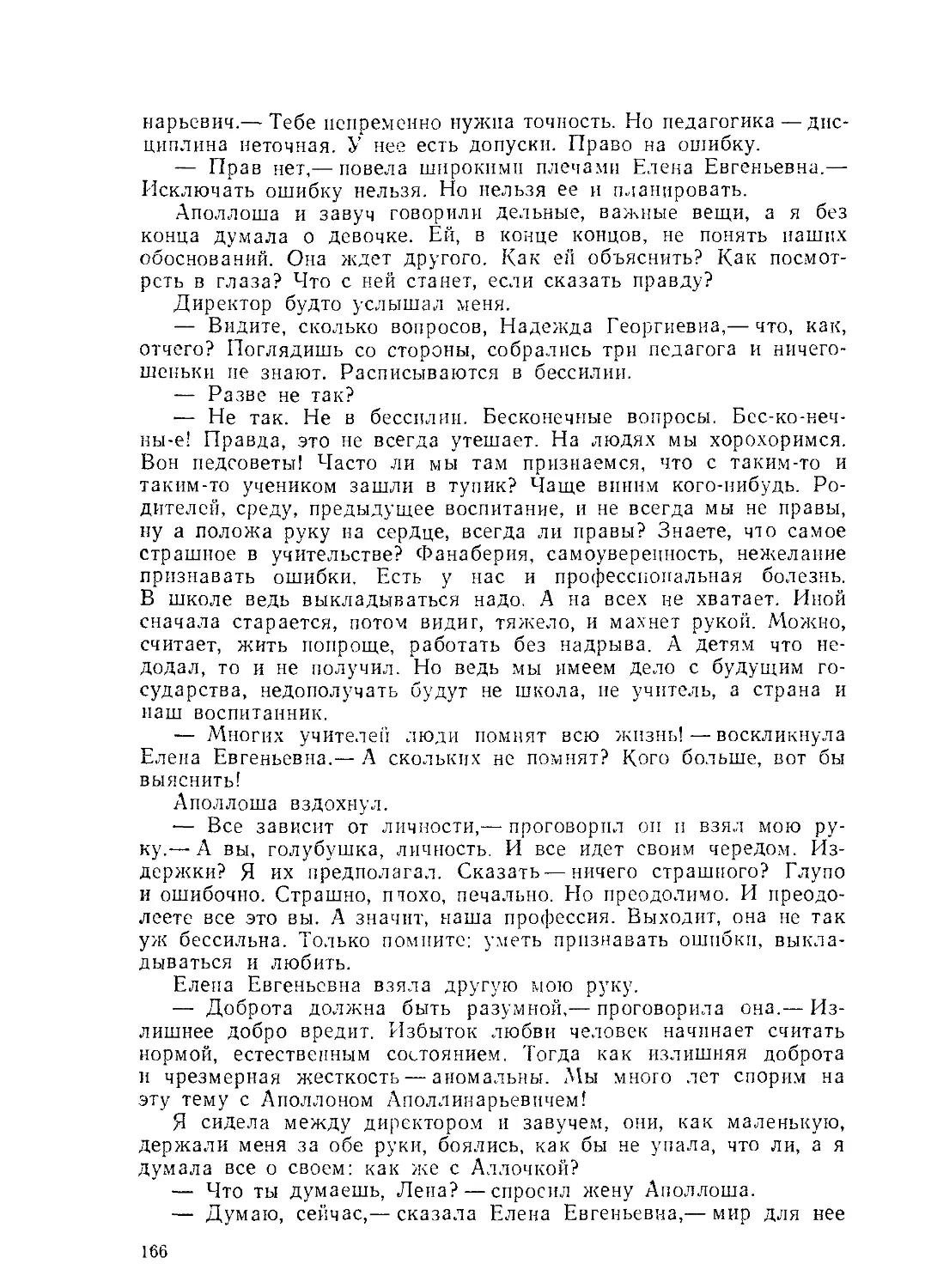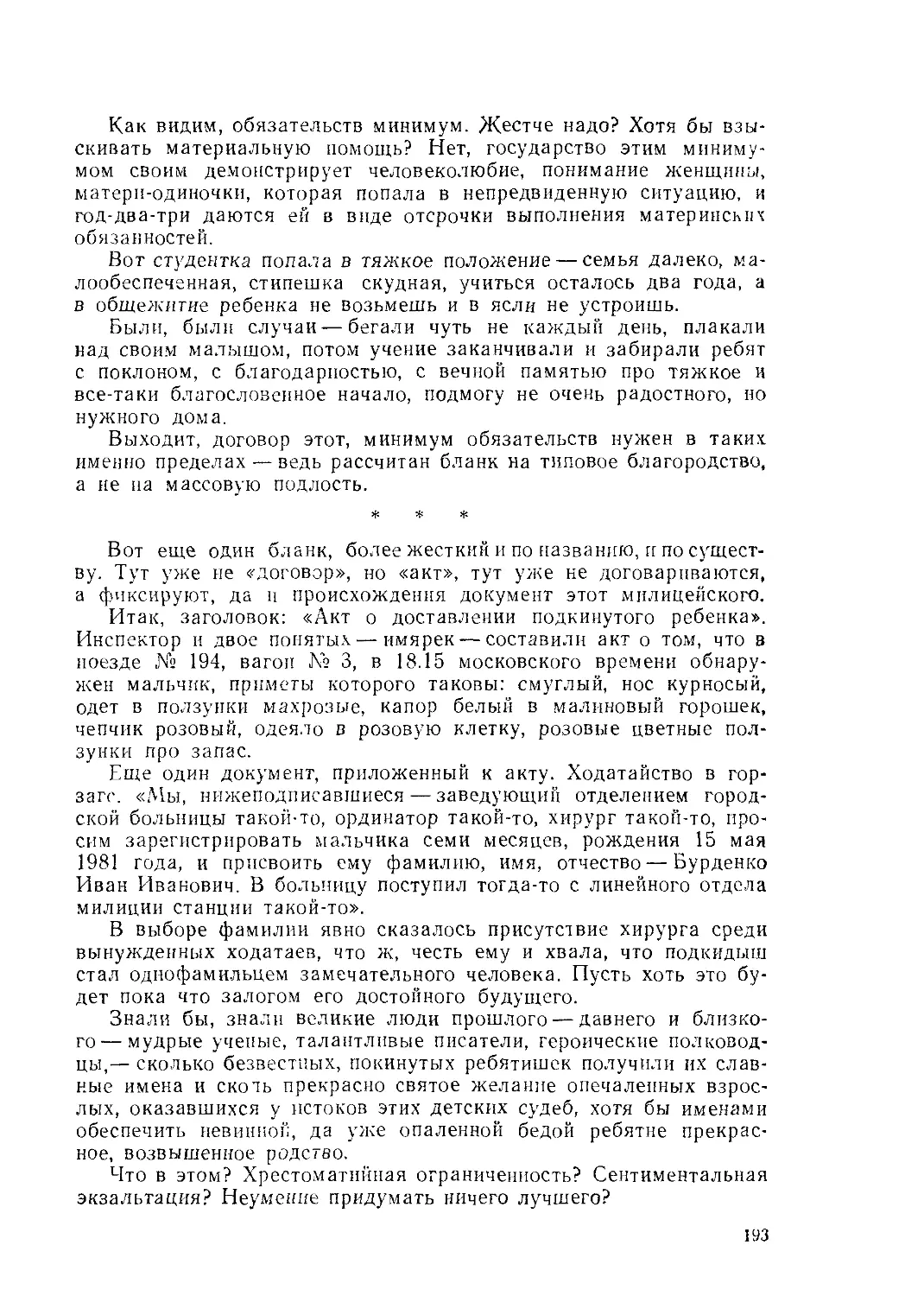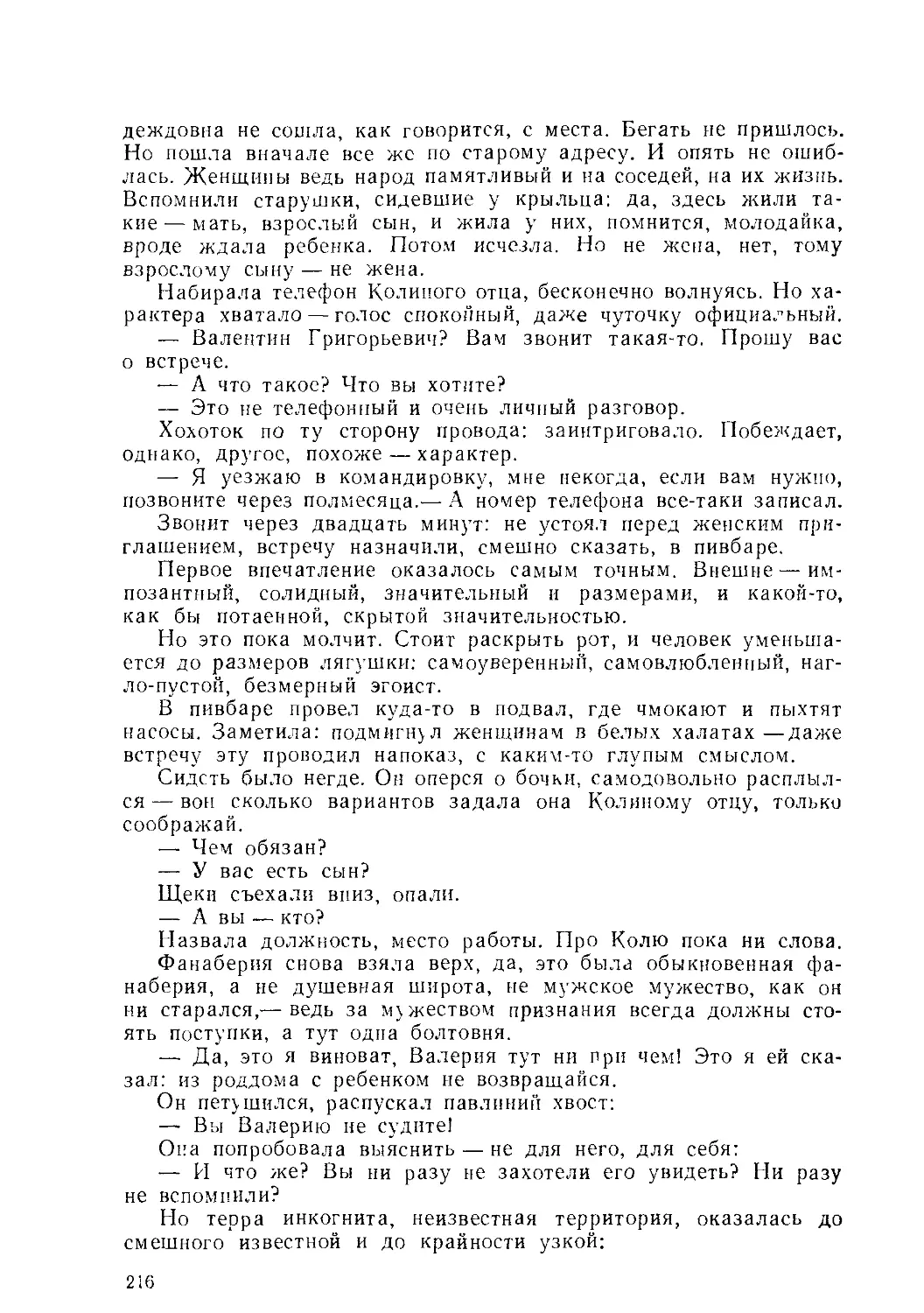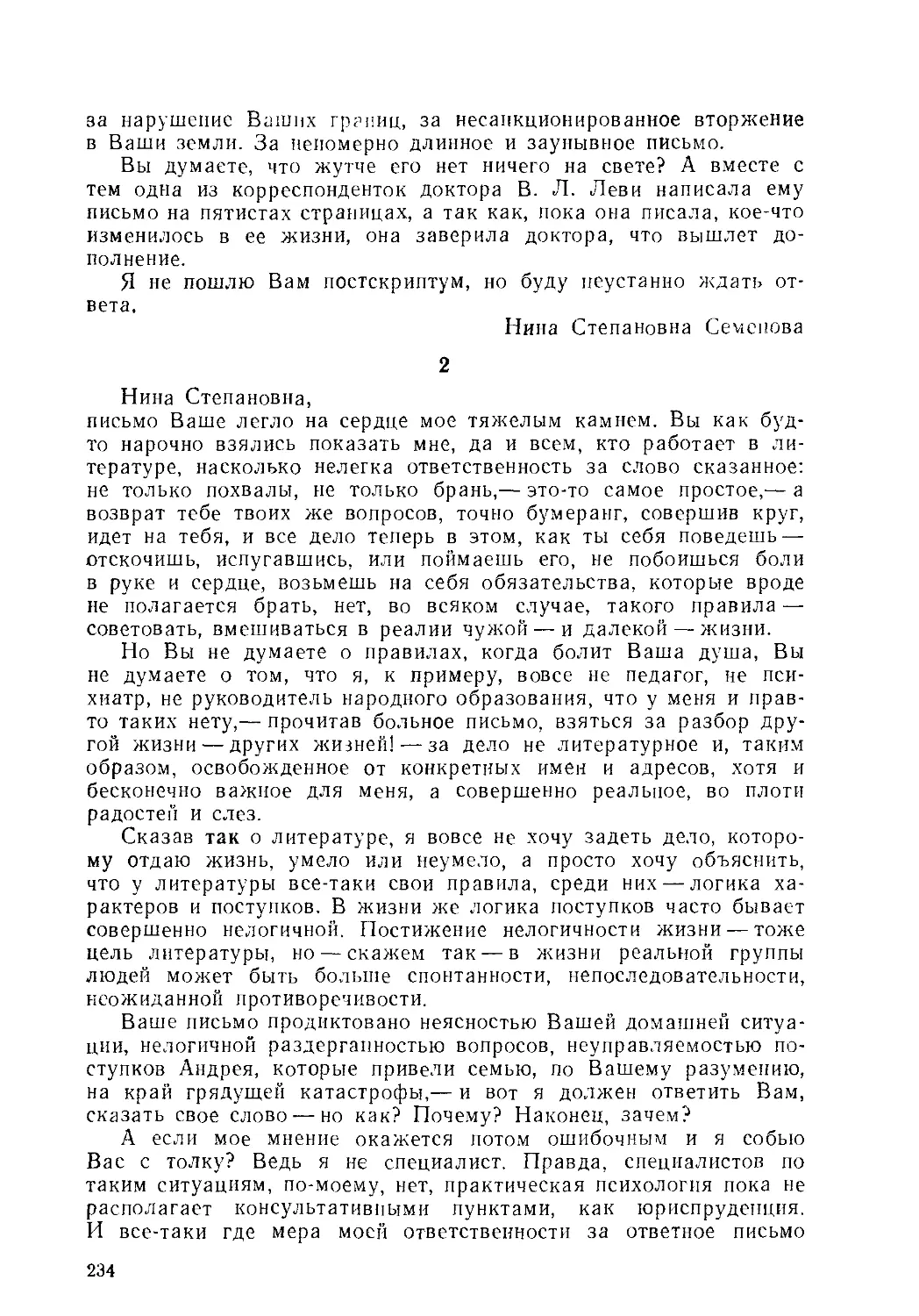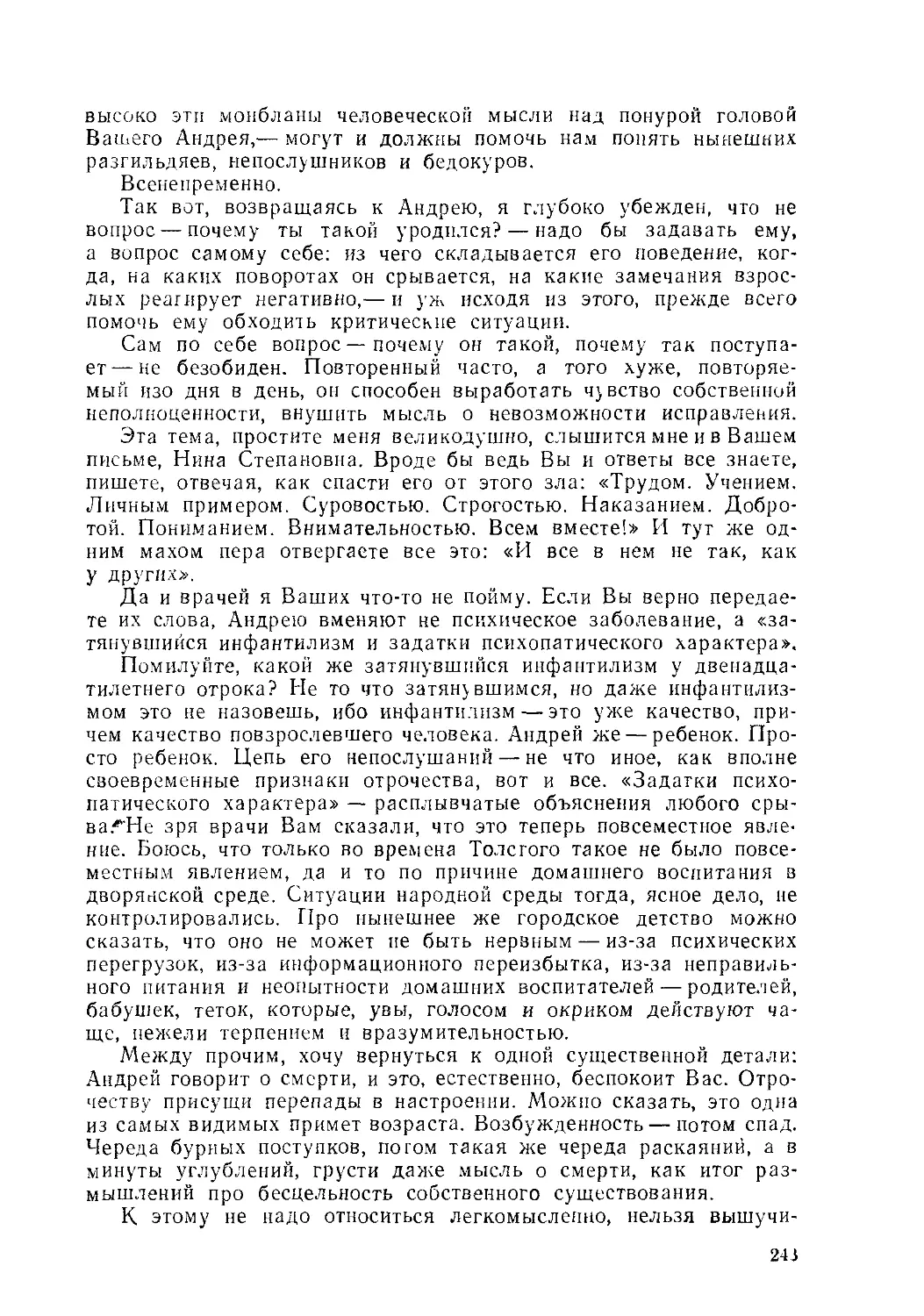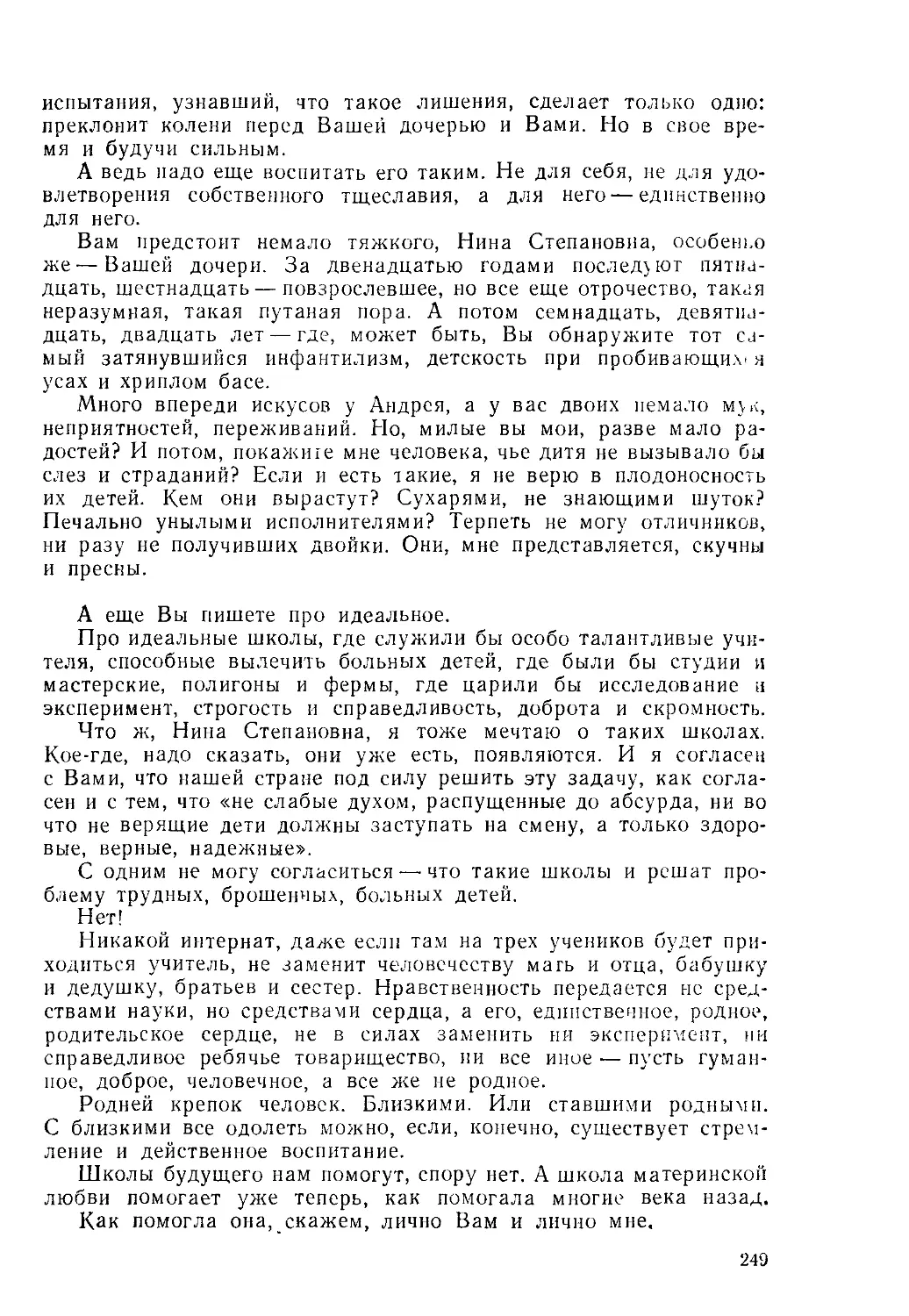Текст
Альберт Лиханов
Нет, не останется голодным, сирым, никому не нужны®
у нас ребенок, опаленный бедой, есть ему куда отступить,
коли невмоготу, под теплую сень государственной длани.
Многотрудная сложность детского дома и решительное
отличие его от всех остальных педагогических систем в
том, что он не просто воспитывает, а уже перевоспиты-
вает, и не одного из десяти, а всех поголовно, причем жи-
тейский опыт здешней малышни такой горечи и боли, ка-
кой другому взрослому за всю жизиь не испытать.
Альберт
Лиханов
ДЕТИ
БЕЗ
РОДИТЕЛЕЙ
Книга для учителя
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1987
ББК 74 24
Л 65
Рецензент
Л. П, Шило ’{Главное управление народного образованна Мосгорнсполкома)
Лиханов А.
Л65 Дети без родителей: Кн. для учителя.— М.; Просвещение,
1987,—271 с.
Книга писателя Альберта Лиханова, лауреата Государственной премии РСФСР
имени Н К Крупской и премии Ленинского комсомола, заведующего лаборато-
рией воспитательной работа в детских домах и школах интернатах для сирот
Института общих проблем воспитания Академии педагогических нах к СССР, по-
вествует о проблемах воспитания детей сирот в детских домах, о долге материн-
ском и педагогическом по отношению к детям, оставшимся без род петей
„ 4306010000-384
Л----ГЛ—Г-------КБ-47-25-1986
103(03)—87
ББК 74.24
© Издательство «Просвещение», 1987
ОТ АВТОРА
Дети без родителей. Может ли быть положение более горькое,
более неправедное. Ведь в основе основ человеческого общежития,
в первооснове мироздания — любовь родительская к детям, за-
бота старших о младших; именно в этой первооснове заключены
корни таких многоважиТ>1х понятий, как «преемственностью, «род-
ство», «взаимное воспомоществование поколений».
И вот, все-таки, дети — без родителей.
Да, они остаются без родителей — в силу стихийных бедст-
вий, катастроф, всегда нежданных, беспощадных. Беда неотлучна
от счастья, и следом за радостями к нам приходят беды, не щадя-
щие и малых сих.
Но есть беды другого толка — неизвинимые, подлые, о кото-
рых говорить и писать не хочется, а приходится. Дети остаются
одни в силу родительской подлости, слабости. Детей отнимает
суд—дабы защитить их от собственных родителей, от их бестол-
ковой, пьяной, преступной жизни.
Настает миг, когда дети остаются никому не нужными, кроме
нашего государства, социальная суть, полнокровное родительство
которого проявляется в заботе, в ответственности за этих детей,
может быть, с не сравнимой ни с кем и ни с чем гуманистической
силой.
Дома ребенка, детские дошкольные и школьные дома, школы-
интернаты для сирот и детей, лишившихся родительской опеки,—
вот нравственно-педагогическая система, созданная страной для
защиты малого человека от бедствий раннего одиночества. Ребе-
нок не остается у нас один, и в этом проявляется важное челове-
колюбие Отечества, всегда считающего дитя своим. Но разве одно
государство ответственно за гуманизм? Разве армия педагогов-
воспитателей. директоров детдомов, нянечек, поварих, касте-
лянш, народных судей, определяющих детские судьбы, работников
отделов народного образования, наконец, шефов — по прежде
всего родителей, оставивших своих детей на попечение государст-
ва, всего общества, способного и должного влиять на беспорядоч-
ную часть свою,— разве все мы не должны нести ответственность
и простую укоризну совести за детей — без родителей.
Эта книга адресуется всякому, кто неравнодушен к этим де-
тям, молодым педагогам, посвящающим себя малому человечеству
з
без родительской опоры. Как, впрочем, и педагогу опытному, бы-
валому.
В многолетних поисках истины, в постижении житейской беды,
когда дети приходят под государственное крыло, я пришел к важ-
ному выводу: в этом деле можно и нужно сказать и знать многое,
но никогда не узнаешь и не скажешь всего. Жизнь предлагает
такую множественность человеческих вероятий, что энциклопедия
этой горькой темы становится невозможной.
Однако возможен импульс, возможен духовный посыл такой
силы и страсти, который способен всколыхнуть — равнодушие,
потрясти — незнание, укрепить — единомыслие. А прежде всего
разбудить желание дополнить сказанное, хотя бы самому себе,
но лучше всего — в коллективе коллег, в компании друзей, в тес-
ном кругу семьи.
Сплотить ряды обычных семей наших дней перед лицом воз-
можной беды, побудить людей к состраданию, а главное, к за-
щите ребенка своей семьи — какое же это важное, нравственное,
высокое дело, когда узнаешь беды многих невинных.
Книга состоит из двух частей.
Одна половина ее —• проза, выношенная мной. Повесть о си-
ротстве военном и повесть о сиротстве мирном, непростимом, но
по-прежнему требующем самоотверженности педагога, особенно
молодого.
Вторая половина книги — открытая публицистика, пытаю-
щаяся осознать природу преступления родителей перед детьми
и природу великой человеческой доброты, способной принять и
утешить, вырастить, воспитать и выпустить в жизнь дитя, остав-
шееся без родителей.
Повторюсь еще раз: эга тема не может быть до конца завер-
шенной. Потому и книга моя, обращенная к сердцу и совести
учителя, лишь повод к размышлению, лишь воззвание к чести,
лишь попытка — словом писательским — оберечь и сохранить ре-
бенка, попавшего в беду.
Альберт Лиханов
Часть первая
НАШ ОБЩИЙ РЕБЕНОК
ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА
ПОВЕСТЬ
Посвящаю детям минувшей войны, их
лишениям и вовсе не детским страданиям.
Посвящаю нынешним взрослым, кто не
разучился поверять свою жизнь истинами
военного детства. Да светят всегда и не
истают в нашей памяти те высокие пра-
вила и неумирающие примеры,— ведь
взрослые всего лишь бывшие дети.
Автор
Вспоминая свои первые классы и милую сердцу учительницу,
дорогую Анну Николаевну, я теперь, когда промчалось столько
лет с той счастливой и горькой поры, могу совершенно опреде-
ленно сказать: наставница наша любила отвлекаться.
Бывало, среди урока она вдруг упирала кулачок в остренький
свой подбородок, глаза ее туманились, взор утопал в поднебесье
или проносился сквозь нас, словно за нашими спинами и даже за
школьной стеной ей виделось что-то счастливо-ясное, нам, конеч-
но же, непонятное, а ей вот зримое; взгляд ее туманился даже
тогда, когда кто-то из нас топтался у доски, крошил мел, крях-
тел, шмыгал носом, вопросительно озирался на класс, как бы ища
спасения, испрашивая соломинку, за которую можно ухватить-
ся,— и вот вдруг учительница странно затихала, взор ее умягчал-
ся, она забывала ответчика у доски, забывала нас, своих учени-
ков, и тихо, как бы про себя и самой себе, изрекала какую-нибудь
истину, имевшую все же самое к нам прямое отношение.
— Конечно,— говорила она, например, словно укоряя сама се-
бя,— я не сумею научить вас рисованию или музыке. Но тот, у ко-
го есть божий дар,— тут же успокаивала она себя и нас тоже,—
этим даром будет разбужен и никогда больше не уснет.
Или, зарумянившись, она бормотала себе под нос, опять ни к
кому не обращаясь, что-то вроде этого:
— Если кто-то думает, будто можно пропустить всего лишь
один раздел математики, а потом пойти дальше, он жестоко оши-
бается. В учении нельзя обманывать самого себя. Учителя, можег,
и обманешь, а вот себя — ни за что.
То ли оттого, что слова свои Анна Николаевна ни к кому из
нас конкретно не обращала, то ли оттого, что говорила она сама
с собой, взрослым человеком, а только последний осел не по-
нимает, насколько интереснее разговоры взрослых о тебе учи-
тельских и родительских нравоучений, то и все это, вместе взятое,
действовало на нас, потому что у Анны Николаевны был полко-
водческий ум, а хороший полководец, как известно, не возьмет
крепость, если станет бить только в лоб,—словом, отвлечения Аг-
ны Николаевны, ее генеральские маневры, задумчивые, в самый
неожиданный миг, размышления оказались, на удивление, самы-
ми главными уроками.
Как учила она нас арифметике, русскому языку, географии, я,
собственно, почти не помню,— потому видно, что это учение стало
моими знаниями. А вот правила жизни, которые учительница про-
износила про себя, остались надолго, если не на век.
Может быть, пытаясь внушить нам самоуважение, а может,
преследуя более простую, но важную цель, подхлестывая наше
старание, Анна Николаевна время от времени повторяла одну важ-
ную, видно, истину.
— Это надо же,— говорила она,— еще какая-то малость — и
они получат свидетельство о начальном образовании.
Действительно, внутри нас раздувались разноцветные воздуш-
ные шарики. Мы поглядывали, довольные, друг на дружку. На-
до же, Вовка Крошкин получит первый в своей жизни документ.
И я тоже! И уж конечно, отличница Нинка. Всякий в нашем клас-
се может получить — как это — свидетельство об образовании.
В ту пору, когда я учился, начальное образование ценилось.
После четвертого класса выдавали особую бумагу, и можно было
на этом завершить свое учение. Правда, никому из нас это прави-
ло не подходило, да и Анна Николаевна поясняла, что закончить
надо хотя бы семилетку, но документ о начальном образовании
все-таки выдавался, и мы, таким образом, становились вполне
грамотными людьми.
— Вы посмотрите, сколько взрослых имеет только начальное
образование! — бормотала Анна Николаевна.— Спросите дома сво-
их матерей, своих бабушек, кто закончил одну только начальную
школу, и хорошенько подумайте после этого.
Мы думали, спрашивали дома и ахали про себя: еще немного,
и мы, получалось, догоняли многих своих родных. Если не ростом,
если не умом, если не знаниями, так образованием мы приближа-
лись к равенству с людьми любимыми и уважаемыми.
— Е1адо же,— вздыхала Анна Николаевна,— какой-то год и
два месяца! И они получат образование!
Кому она печалилась? Нам? Себе? Неизвестно. Но что-то было
в этих причитаниях значительное, серьезное, тревожащее...
* * *
Сразу после весенних каникул в третьем классе, то есть без
года и двух месяцев начально образованным человеком, я получил
талоны на дополнительное питание.
Шел уже сорок пятый, наши лупили фрицев почем зря, Леви-
тан каждый вечер объявлял по радио новый салют, и в душе моей
ранними утрами, в начале не растревоженного жизнью дня, пере-
крещивались, полыхая, две молнии — предчувствие радости и тре-
воги за отца. Я весь точно напружинился, суеверно отводя глаза
от такой убийственно-тягостной возможности потерять отца нака-
нуне явного счастья.
6
Вот в те дни, а точнее, в первый день после весенних каникул,
Анна Николаевна выдала мне талоны на доппитание. После уро-
ков я должен идти в столовую номер восемь и там пообедать.
Бесплатные талоны на доппитание нам давали по очереди —
на всех сразу не хватало,— и я уже слышал про восьмую столовку.
Да кто ее не знал, в самом-то деле! Угрюмый, протяжный дом
этот, пристрой к бывшему монастырю, походил на животину, ко-
торая распласталась, прижавшись к земле. От тепла, которое про-
бивалось сквозь незаделанные щели рам, стекла в восьмой столо-
вой не то что заледенели, а обросли неровной, бугроватой наледью.
Седой челкой над входной дверью навис иней, и, когда я проходил
мимо восьмой столовой, мне всегда казалось, будто там внутри
такой теплый оазис с фикусами, наверное, по краям огромною
зала, может, даже под потолком, как на рынке, живут два или
три счастливых воробья, которым удалось залететь в вентиляци-
онную трубу, и они чирикают себе на красивых люстрах, а потом,
осмелев, садятся на фикусы.
Такой мне представлялась восьмая столовая, пока я только
проходил мимо нее, но еще не бывал внутри. Какое же значение,
можно спросить, имеют теперь эти представления?
Объясню.
Хоть и жили мы в городе тыловом, хоть мама с бабушкой и
надсаживались изо всех сил, не давая мне голодать, чувство не-
сытости навещало по многу раз в день. Нечасто, но все-таки ре-
гулярно, перед сном, мама заставляла меня снимать майку и сво-
дить на спине лопатки. Ухмыляясь, я покорно исполнял, что она
просила, и мама глубоко вздыхала, а то и принималась всхлипы-
вать, и когда я требовал объяснить такое поведение, она повторя-
ла мне, что лопатки сходятся, когда человек худ до предела, вот
и ребра у меня все пересчитать можно и вообще у меня мало-
кровие.
Я смеялся. Никакого у меня нет малокровия, ведь само слово
означает, что при этом должно быть мало крови, а у меня ее хва-
тало. Вот когда я летом наступил иа бутылочное стекло, она хле-
стала, будто из водопроводного крана. Все это глупости — мами-
ны беспокойства, и если уж говорить о моих недостатках, то я бы
мог признаться, что у меня с ушами что-то не в порядке — ча-
стенько в них слышался какой-то дополнительный, кроме звуков
жизни, легкий звон, правда, голова при этом легчала и вроде бы
даже лучше соображала, но я про это молчал, маме не рассказы-
вал, а то выдумает еще какую-нибудь одну дурацкую болезнь,
например малоушие, ха-ха-ха!
Но это все чепуха на постном масле!
Главное, не покидало меня ощущение несытостп. Вроде и на-
емся вечером, а глазам все еще что-нибудь вкусненькое видит-
ся — колбаска какая-нибудь толстенькая, с кругляшками сала,
или, того хуже, тонкий кусочек ветчины со слезинкой какой-то
влажной вкусности, или пирог, от которого пахнет спелыми ябло-
ками. Ну да не зря поговорка есть про глаза ненасытные. Может,
7
вообще в глазах какое-то такое нахальство есть — живот сытый,
а глаза все еще чего-то просят.
В общем, вроде и поешь крепенько, час всего пройдет, а уж
под ложечкой сосет — спасу нет. И опять жрать хочется. А когда
человеку хочется есть, голова у него к сочинительству тянется.
То какое-нибудь невиданное блюдо выдумает, в жизни не видал,
разве что в кино «Веселые ребята», например целый поросенок
лежит на блюде. Или еще что-нибудь этакое. И всякие пищевые
места, вроде восьмой столовой, тоже человеку могут воображаться
в самом приятном виде.
Еда и тепло, ясно всякому, вещи очень даже совместимые. По-
этому я воображал фикусы и воробьев. Еще я воображал запах
любимой моей гороховицы.
* * *
Однако действительность не подтвердила моих ожиданий.
Дверь, ошпаренная инеем, поддала мне сзади, протолкнула впе-
ред, и я сразу очутился в конце очереди. Вела эта очередь не к
еде, а к окошечку раздевалки, и в нем, будто кукушка в кухонных
часах, появлялась худая тетка с черными и, мне показалось, опас-
ными глазами. Глаза эти я заприметил сразу — были они огром-
ными, в пол-лица, и при неверном свете тусклой электрической
лампочки, смешанном с отблесками дневного сияния сквозь оплыв-
шее льдом оконце, сверкали холодом и злобой.
Столовка эта была устроена специально для всех школ города,
поэтому, ясное дело, очередь тут стояла детская, из мальцов и
девчонок, притихших в незнакомом месте, а оттого сразу вежли-
вых и покорных.
«Здрассь, тетя Груша»,— говорила очередь разными голосами —
так я понял, что гардеробщицу зовут именно этим именем, и тоже
поздоровался, как все, вежливо назвав ее тетей Грушей.
Она даже не кивнула, зыркнула блестящим вороньим глазом,
кинула на барьерчик жестяной, скрежетнувший номерок, и я очу-
тился в зале. С моими представлениями совпали только размер
и воробьи. Они сидели не на фикусах, а на железной перекладине
под самым потолком и не щебетали оживленно, как щебетали их
собратья на рынке, неподалеку от навозных катышей, а были мол-
чаливы и скромны.
Дальнюю стену столовой прорезала продолговатая амбразура,
в которой мелькали белые халаты, но путь к амбразуре преграж-
дала деревянная, до пояса, загородка унылого серо-зеленого, как
и вся столовая, цвета. Чтобы забраться за загородку, надо было
подойти к крашеной тетке, восседавшей на табуретке перед фанер-
ным коробом с прорезями: она брала талончики, привередливо
разглядывала их и опускала, как в почтовые ящики, в щелки ко-
роба. Вместо них она выдавала дюралевые кругляши с цифра-
ми — за них в амбразуре давали первое, второе и третье, но еда
была разная, видно, в зависимости от талончиков.
8
Взгромоздив на поднос свою долю, я выбрал свободное место
за столиком для четверых. Три стула уже были заняты: на одном
сидела тощая, с лошадиным лицом, пионерка, класса так из ше-
стого, два других занимали пацаны постарше меня, но и помлад-
ше пионерки. Выглядели они гладко и розовощеко, и я сразу по-
нял, что пацаны гонят наперегонки — кто быстрее съест свою
порцию. Парни часто поглядывали друг на дружку, громко чав-
кали, но молчали, ничего не говорили — состязание получалось
молчаливое, будто, тихо сопя, они перетягивали канат: кто кого?
Я поглядел на них, наверное, слишком внимательно и чересчур
задумчиво, выражая своим взглядом сомнение в умственном раз-
витии пацанов, так что один из них оторвался от котлеты и ска-
зал мне невнятно, потому что рот у него был забит едой:
— Лопай, пока не получил по кумполу!
Я решил не спорить и принялся за еду, изредка поглядывая
на гонщиков.
Нет, что ни говори, а еду эту можно было только так и про-
звать— дополнительное питание. Уж никак не основное! От кис-
лых щей сводило скулы. На второе мне полагалась овсянка с жел-
той лужицей растаявшего масла, а овсянку я не любил еще с
довоенных времен. Вот только третье обрадовало — стакан холод-
ного вкусного молока. Ржаную горбуху я доел с молоком. Впро-
чем, я съел все — так полагалось, даже если еда, которую даюг,
невкусная. Бабушка и мама всю мою сознательную жизнь настой-
чиво учили меня всегда все съедать без остатка.
Доедал я один, когда и пионерка и пацаны ушли. Тот, кото-
рый победил, проходя мимо, больно щелкнул меня все-таки по
стриженой голове, так что молоком я запивал не только кусок
ржаного хлеба, но еще и горький комок обиды, застрявший в
горле.
Перед этим, правда, был один момент, в котором я толком ни-
чего не понял, разобравшись во всем лишь на следующий день,
через целые сутки. Победив соперника, гладкий парень скатал
хлебный шарик, положил его на край стола и чуть отодвинулся.
Задрав голову, пацаны посмотрели вверх, и прямо на стол, точно
по молчаливой команде, слетел воробей. Он схватил хлебный круг-
ляш и тут же убрался.
— Повезло ему,— хрипло сказал чемпион.
— Еще как! — подтвердил проигравший.
У чемпиона оставалась хлебная корка.
— Оставить? — спросил он приятеля.
— Шакалам? — возмутился тот.— Дай лучше воробьям!
Чемпион положил корку, но воробей, подлетевший тут же, не
сумел ухватить ее. Тем временем пацан, проигравший соревно-
вание в еде, уже встал.
Ну, ладно!—поднялся победитель.— Не пропадать же! —
И запихнул корку в рот.
Щека у него оттопырилась, и вот с такой скособоченной рожей
он прошел рядом со мной и щелкнул меня по макушке.
9
Я уже не озирался больше. Давясь, глядя в стакан, доел ржа-
нуху и пошел с номерком к тете Груше.
Не очень-то вкусным вышло дополнительное питание.
* * *
Школы учили ребятню в три смены, и потому восьмая столов-
ка дополнительного питания пыхтела с утра до позднего вечера.
На другой день я воспользовался этим: сразу после уроков в сто-
ловой очередь, да и вчерашних гладких парней встречать не хо-
телось.
Вот ведь гады! Я припоминал, как они соревновались, кто бы-
стрее съест свой обед, силился представить их похожие лица, но
ничего, кроме одинаковой гладкости, вспомнить не мог.
Словом, я погулял, побродил по улицам и, уж когда стало со-
всем голодно, переступил порог столовой. Народу к тете Груше
не было совсем, она скучала в окошке раздевалки, а когда я при-
нялся расстегивать пуговицы пальто, сказала вдруг;
— Не раздевайся, сегодня холодно!
Видно, на лице моем блуждало недоверие, а может, и просто
недоумение — я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым,
и она улыбнулась:
— Да не бойся! Когда холодно, мы разрешаем.
Для верности стянув все-таки шапку, я вошел в обеденный
зал.
В столовой был тот ленивый час, когда толпа едоков уже схлы-
нула, а сами повара, известное дело, должны поесть до общею
обеда, чтобы не раздражаться и быть добрыми, и поэтому по обе-
денному залу бродила дрема. Нет, никто не спал, не слипались
глаза у поварих в амбразуре, и крашеная тетка возле короба
сидела настороженная, напружиненная, точно кошка, видать, еще
не отошла от волнения ребячьей очереди, но уже и она напряга-
лась просто так, по привычке и без надобности. Еще малость —
она притихнет и замурлычет.
Дреме было, понятно, неуютно в этой столовой. Ведь ей тре-
буется всегда, кроме сытости, еще и тепло, даже духота, а в вось-
мой столовой стояла холодрыга. Похоже, дрова для котлов, чтобы
еду сварить, еще нашлись, а вот обогреть холодный монастырский
пристрой сил недостало. И все-таки дрема бродила по столовой —
стояла тишина, только побрякивали ложки немногих едоков, из-за
амбразуры медленно и нехотя выплывал белый вкусный пар,
крашеная тетка, едва я подошел к ней со своим талончиком, смеш-
но закатив глаза, протяжно, со стоном зевнула.
Я получил еду и сел за пустой столик. Есть в пальто было не-
ловко, толстые стеганые рукава норовили заехать в тарелку, и,
чтобы было удобней сидеть, я подложил под себя портфель. Дру-
гое дело! Теперь тарелки не торчали перед носом, а чуточку'опу-
стились, вернее, повыше очутился я, и дело пошло ходче.
Вот только еда сегодня оказалась похуже вчерашней. На пер-
10
вое — овсяный суп. Уж как я не хотел есть, уж как я не терпел
овсяную кашу, одолеть суп из овсянки было для меня непомерное
геройство. Вспоминая строгие лица бабушки и мамы, взывавшие
меня к твердым правилам питания, я глотал горячую жидкость с
жутким насилием над собой. А власть женской строгости все-таки
велика! Сколь ни был я свободен здесь, в далекой от дома сто-
ловой, как ни укрывали меня от маминых и бабушкиных взоров
стены и расстояние, освобождаться от трудного правила было не-
легко. Две трети тарелки выхлебал пополам с тоской и, вздохнув
тяжко, помотав головой, как бы завершая молчаливый спор, отло-
жил ложку. Взялся за котлету.
Как он присел напротив меня, я даже и не заметил. Возник без
единого шороха. Вчерашний воробей нашумел куда больше, когда
слетал на стол. А этот мальчишка появился точно привидение.
И уставился на тарелку с недоеденным супом.
Я сначала не обратил на это внимания — меня тихое появление
пацана поразило. И еще — он сам.
У него было желтое, почти покойницкое лицо, а на лбу, прямо
над переносицей, заметно синела жилка. Глаза его тоже были
желтыми, но, может, это мне только показалось оттого, что такое
лицо? По крайней мере, в них что-то светилось такое, в этих гла-
зах. Какое-то полыхало страшноватое пламя. Наверное, такие
глаза бывают у сумасшедших. Я сперва так и подумал: у этого
парня не все в порядке. Или он чем-то болен, какой-то такой
странной болезнью, которой я никогда не видывал.
Еще он бросал странные взгляды. У меня даже сердце сжалось,
слышно застучала кровь в висках. Мальчишка смотрел мне в гла-
за, потом быстро опускал взгляд на тарелку, быстро-быстро дви-
гал зрачками: на меня, на тарелку, на меня, на тарелку. Будто
что-то такое спрашивал. Но я не мог его понять. Не понимал его
вопросов.
Тогда он прошептал:
— Можно я доем?
Этот шепот прозвучал громче громкого крика. Я не сразу по-
нял. О чем он? Что спрашивает? Можно ли ему доесть?
Я сжался, оледенел, пораженный. Меня дома учили всегда
все съедать, мама придумывала мне всякие малокровия, и я ста-
рался, как мог, но даже при крепком старании не все у меня вы-
ходило, хотя я и знал, что скоро снова засосет под ложечкой.
И вот мальчишка, увидевший недоеденный противный суп, просит
его — просит!
Я долго и с натугой выбирал слово, какое должен сказать
пацану, и это мое молчание он понял по-своему, понял, наверное,
будто мне жалко или я еще доем эту невкусную похлебку. Лицо
его — на лбу и на щеках •— покрылось рваными, будто родимые
пятна, красными пятнами. И тогда я понял: еще мгновение — и я
окажусь свиньей, самой последней свиньей. И только потому, види-
те ли, что у меня не находится слов.
Я быстро кивнул. И потом еще кивнул раза три, но мальчишка
н
уже не видел этих кивков Он схватил мою ложку и быстро, в одно
мгновение, доел овсяный суп.
После того как я кивнул, пацан больше не смотрел на меня.
Ни разу не взглянул. Быстро съел суп и, спрятав глаза, двинулся
от стола. Я посмотрел ему вслед. Пацан ушел в дальний угол
столовой и только там обернулся. Он не глядел на меня, я, видно,
уже не интересовал его. Он смотрел на зал, передергивая взгляд
от одного столика, где кто-то ел, к другому. Рядом с ним, в углу,
стояла маленькая девчонка.
Я доел котлету, выпил чай и слез с портфеля. Медленно, на-
рочно утишая шаг, я направился к выходу, украдкой, чтобы он не
заметил этого, разглядывая пацана. Одет он был ничего, прилич-
но, в серое пальто с черным собачьим воротником, такие, я знал,
давали по ордерам в универмаге, а па девочке было ючно та-
кое же пальто, только, понятно, маленького размера, и я подумал,
что, может, это детдомовские ребята — там одевают всех похоже,
будто в форму.
Когда я совсем приблизился к мальчишке с его сестрой — ка-
кой же мальчишка в наше время мог стоять с девчонкой, если она
не сестра? — маленькая быстро, точно мышь, шмыгнула к столу
возле окна.
Там сидела большая девчонка, тонкая и бледная, как бумага.
Она кивала маленькой головой. И когда та подбежала, подвинула
ей половину котлеты с половиной картофельного пюре. Я задер-
жался в дверях и увидел, что большая девчонка дала маленькой
еще и хлеба. Она что-то шептала, маленькая, а большая девчонка
говорила ей неслышные мне, но добрые слова—это сразу видно,
что добрые, потому, что когда говорят добрые слова, в такт им ки-
вают головой.
Меня осенило.
Так вот про каких шакалов говорили вчера гладкие парни!
* * *
Я шел домой и все думал: а я бы смог так? Ведь это небось
стыдно. Да, наверное, и противно — доедать за другими. Еще и
просить...
Нет, пожалуй, паренек с сестренкой не из детского дома, там
ведь кормят исправно, а эти .. Какими же надо быть голодными,
чтобы отираться в столовке, доедать чужие куски, вылизывать
чужие тарелки?
В детстве человечество не страдает риторикой. И этот вопрос,
сколько дней надо голодать, чтобы попрошайничать в восьмой сто-
ловке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что
можно выдержать два дня. Да, два дня. На третий, каким бы ты
ни был стыдливым, придешь, попросишь, взмолишься.
И все же я не мог представить такого стыда. Ясно кому угод-
но: просто так, без нужды, нормальный человек не станет попро-
шайничать. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. «Мо-
12
жет, все-таки он больной? — спрашивал я себя.— Ну а девчонка?
Тоже больная?»
На всякий случай еще с вечера я стянул из буфета kjcok хле-
ба, обернул его аккуратно газетой и положил в портфель.
* * *
Назавтра нас отпустили после четвертого урока. Пятым была
физкультура, но Анна Николаевна болела ангиной — и так-го си-
дела с температурой, а тут еще надо идти во двор и выделывать
всякие упражнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда,
видать, Анна Николаевна чувствовала себя получше и физкульту-
ру заменяла каким-нибудь другим предметом, той же, к примеру,
арифметикой, задавала задачи, а сама куталась в платок, ежи-
лась, а наежившись, чего-нибудь изрекала в конце урока: мол,
кашу маслом не испортишь. Дескать, что там физкультура, разве
можно ее сравнить с арифметикой, где лишний раз повторить —
сущее благо.
Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а
после звонка на пятый урок вместо нее в класс вошла Фаина Ва-
сильевна, наша директриса. Остановившись на пороге и понизив
голос, она сказала, чтобы мы тихо и быстренько собирались и шли
домой, потому что у Анны Николаевны температура.
Я припустил в столовку и застал столпотворение. Змеей пет-
ляла очередь к тете Груше, но многие, не раздеваясь, шли прямо
к тетке с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и
некоторые жевали даже стоя, пристроив тарелки на краешек за-
нятого стола или на широкий монастырский подоконник.
Особенно много было малышей, и я понял, что сошлись две
или, может, даже три смены. Маленькие, которых отпустили рань-
ше, вторая смена ела, ясное дело, перед уроками, а из третьей
пришли те, у кого, наверное, терпения не хватало. Мне хотелось
увидеть желтолицего, и я двинулся на приступ амбразуры одетым.
Когда ты невелик ростом, жить трудно. Тебя отталкивают, мо-
гут дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло
обхохотать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали
проходить вперед и, приметив девчонку или маленького паца-
на, запросто влезали перед ними. Даже не оборачивались, наха-
люги, и, уж конечно, ничего не говорили в оправдание. И малень-
ким приходилось объединяться. Передо мной сперва был красно-
ухий мальчишка, и я взял его за хлястик пальто, чтобы никто не
ворвался между нами. Он только улыбнулся мне, показав пол-лп-
па с кривыми зубами. Сам он держался за девчонку. Но когда
мы приблизились к кассирше, между мной и красноухим влез
Длинный парень с большим горбатым носом. Он так нагло вкли-
нился между нами, будто совсем и не замечал, что мы держимся
Друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку Нос.
— Э! —сказал я тихонько. А про себя добавил: «Нос!»
Длинный повернулся ко мне.
13
— Не рыпайся,— прошипел он, и на меня пахнуло таким ядре-
ным махорочным духом, что я покорился.
А длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней
пять, не меньше, наглец такой.
От шайки этой перло, как из курительной комнаты где-нибудь
в кинотеатре, они галдели, матюгались, правда, понижая при
этом голоса, толкались, и вообще, нестрашные, может, каждый
поодиночке, вместе они были какой-то грубой и злой силой, с ко-
торой даже взрослые предпочитали не связываться.
Портфели эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни
разу не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам,
их тогда было много, чуть не в каждом дворе или даже классе —
там царили неправедные законы, зло и несправедливость. Лад-
но бы, задевали других—они и своего могли запросто избить.
Да что там, почти в каждой компании была своя шестерка — па-
цан, который считался вроде бы адъютантом самого сильного.
Но были у шаек и свои привилегии. Они не боялись взрослых. Они
не тряслись на каждом шагу, если были вместе. Они не озирались
по сторонам и запросто могли свалить в кучу свои сумки. А я вот
не мог даже такой малости. Я был одинок в этой столовке и креп-
ко держал свою сумку, думая о том, как же потащу поднос с едой
да еще портфель.
Это, конечно, удалось плохо, суп, на этот раз любимая горохо-
вица, расплескался наполовину, я и остальное-то еле дотащил.
Хорошо, хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку
гоготала шайка — парни заняли столик, но двоим мест не доста-
лось, и они ели стоя, наклоняясь к своим тарелкам за каждой
ложкой, смешили остальных.
Мне досталось удобное место, в углу, да и вместо портфеля
я устроился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога бы-
ла в большом валенке, поэтому вся столовая открылась передо
мной как на ладони.
Что же вокруг творилось! Я даже хохотнул — никогда я не ви-
дывал такого. Очередь к накрашенной тетке вилась между стола-
ми и заканчивалась возле гардероба, где опять, как кукушка,
мелькала в своем окне черноглазая Груша.
А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вок-
зале. Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не
хватает мест, и все колготятся, дергаются, а сделать ничего не
могут. Народ в восьмой столовой тоже колготился и дергался.
Грохали железные миски у раздавалыциц в амбразуре. Посту-
кивали ложки о края мисок в обеденном зале. Мальчишки и дев-
чонки разного роста и в разной одежде вставали, садились, хо-
дили между столиков, говорили, смеялись, вскрикивали, носили
подносы с едой и волокли их обратно, уже с пустой посудой В та-
кой толкотне отыскать желтолицего было не так-то легко. Да и
пришел ли он сегодня? Мог ведь и не прийти. Или появиться
позже.
Прихлебывая суп, я внимательно изучал столовую. И вдр^г
14
увидел, как к белобрысой девчонке, которая несла подпос, подско-
чил маленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуган-
но вскрикнула, едва не выпустила подюс, а парни из шайки захо-
хотали:
— Молодец, шакаленок! — крикнул длинный.
— Шакалы!—пискнуло у меня под ухом.
Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два
мальчишки, все младше меня. Давясь, они торопливо ели свою
еду, да еще свободной рукой прикрывали миски, будто кто-го вы-
хватит их сейчас.
— Второе-то не отнимут,— сказал я, стараясь их успокоить,—
а суп и подавно!
Я постарался улыбнуться, а веснушчатая и щербатая девчон-
ка— из разговорчивых, видать,— прошепелявила сквозь карто-
фельное пюре:
— Еще как отнимут!
— П-рямо миску? — удивился я.
— Прямо миску! Я видела один раз,— прожевав, будто учи-
тельница, объяснила она,— как парень прямо из миски комету
выхватил и тут же съел! Даже не побежал!
Маленькие пацаны за нашим столом сильнее застучали лож-
ками.
— Главное,— объясняла веснушка,—скорее суп съесть.
— Почему? — удивился я.
— Тогда только одна тарелка останется. Ее можно держать.
Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто за-
поминали урок умной учительницы, но, как только она замолкала,
просто грохотали ложками.
Я снова оглядел зал. И увидел наконец желтолицего. Он похо-
дил на охотника. Стоял в какой-то настороженной позе.
А щербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота
и, видно, теперь не боялась, что ее ограбят. Вот и старалась.
— Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят,— сказа-
ла она и отпила компот.— На них и облавы устраивают. Ничего
не помогает.— Она болтала ногами и уже не думала о страхе.—
Но хуже всех маленьким приходится. И нам, девчонкам. А если
ты маленький и девчонка, то вообще!
Едва она успела проговорить, как желтолицый, ловко огибая
столик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с под-
носом и схватил хлеб.
Та, белобрысая, промолчала,— видать, боялась и знала, как
себя вести,— а маленькая завыла, точно сирена. В столовой сразу
стало тихо, все обернулись к ней и желтолицему, и в этой тишине
шакал молча, уверенно и быстро выскочил из столовой.
— Эт-та что такое опять? — закричала крашеная тетка, с гро-
хотом захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила
со своего возвышения, заорала гардеробщице: — Груша, опять т\т
воруют?
Парни за соседним столом загоготали, началась свара между
15
Грушей и крашеной, и все были на стороне Груши: ясное дело,
уж кто сидит, так эго крашеная, а гардеробщица, будто кукушка
в часах, едва поворачиваться поспевает.
— Это я сижу? — кричала Груша.
— А кто же? — отвечала ей крашеная.
— Посмотри, скоко пароду!
— А у меня меньше? Тебе велено гнать всех этих...— Она при-
тормозила, но не сдержалась и закончила: — Шакалов!
— Какие они шакалы?! — отчаянно крикнула Груша.— Го-
лодные ребята, вот и все!
— Все голодные!
Девчонка, у которой украли хлеб, давно успокоилась и ела уже
второе, а Груша и кассирша все еще переругивались, и тут оче-
редь начала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в сто-
ловке какой-то шелест. Потом кто-то крикнул:
— Кончай базарить! Давай жрать!
Что тут началось!
Грубые и писклявые, девчачьи и мальчишечьи голоса слились
в один протяжный, долгий крик:
— Жра-а-ать! Жра-а-ать!
Мне даже стало страшно. Крашеная тетка заозиралась, словно
кошка в опасности, потом чего-то сообразила, что-то решила свое
и быстро вернулась к коробу.
Из амбразур высовывались раздатчицы в белых косынках.
— Ну что? — спрашивали они.— Опять?
— Ничего! — громко, перекрывая гвалт, ответила крашеная
и принялась принимать талончики. Точно по команде, крик стих,
снова забренчали ложки.
Столовка продолжала кормить малый народ.
— А девчонку-то зовут Нюрка,— объявил длинный, который
оттер меня.— Она с нашего двора!
— У-у-у!—загудела остальная шайка.
— И этого шакала надо проучить,— сказал Нос.
Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за спра-
ведливость. Просто их много, вот и все. А тот, желтолицый,—
неужели он только с сестрой?
Доев, я выскочил за шайкой Носа. Длинный уже разговаривал
с желтолицым. Тот был один и стоял перед мальчишками, при-
жавшись к забору.
— Тебе не стыдно? — фальшивым голосом припевал Нос.—
У маленькой! У девочки! Отнимать хлеб!
Я поразился. Желтолицый был совершенно спокоен. Казалось,
еще мгновение, и он зевнет.
— Да мы, — куражился Нос,— да тебя! Сдадим в милицию,
хулиган такой.
— Сдавайте,'—устало мотнул головой пацан.
16
— Ну нет! — не растерялся Нос.— Это было бы слишком про-
сто! И слишком,— он обернулся к своей шайке,— безболезненно.
Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтоли-
цего полукругом, И портфели их снова лежали горкой — руки сво-
бодны для драки.
Если бы для драки! Для избиения.
Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнав-
шую зверя. «Вот кто шакалы-то»,— подумал я, и в тот же миг
Нос медленно и неуклюже, точно пробуя свои силы, ударил желто-
лицего в грудь. Тот не шелохнулся, не поднял рук, чтобы защи-
титься, не уклонился от удара.
Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что
этот длинный просто трус, а никакой не предводитель и драть-
ся-то он не умеет.
— Отойди! — предупредил желтолицый.— А то будет худо.
Нос фальшиво расхохотался. Было над чем. Шакал один, а
приятелей длинного шестеро; всего семь. И один угрожает се-
мерым.
Нос изловчился и ударил желтолицего, целя по челюсти. Па-
рень снова не уклонился и не защитился; он принял удар с ка-
ким-то непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего
секунду, не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий
миг прыгнул, будто разжатая пружина, к Носу и обеими руками
вцепился ему в горло. Первую минуту драка проходила в полной
тишине. Приятели длинного отпрянули по сторонам, а он ка-
кое-то время валтузил желтолицего по корпусу. Но бить его было
неловко, не с руки, не хватало пространства для размаха, удары
не приносили шакалу никакого вреда, зато он мертвой хваткой
вцепился в горло противника, и я увидел, как побелели, сделались
похожими на снег костяшки его пальцев.
— Ну! Вы! Помогите! — крикнул, задыхаясь, Нос, и шестеро
его подручных, тоже неумело и невпопад принялись лупить жел-
толицего со спины.
Он не уворачивался, и ему пришлось бы худо, если бы он
имел дело с настоящими драчунами. Но шайка Носа могла
только хорохориться в столовой или где-нибудь в киношке на дет-
ском сеансе, могла громко ругаться и курить, а драться она не
умела, и один решительный парень одолел их. Он молча сжимал
горло длинного, тот крутанулся и раз, и другой, бухнулся па зем-
лю, увлекая за собой противника, и вдруг задрыгал ногами —
странно очень задрыгал, по-взаправдашнему задрыгал и захрипел
из последних сил:
— Отпустп-и-н!
Его команда не на шутку испугалась, увидев, как Нос судо-
рожно задрыгал ногами, сбилась в кучу и притихла. Желтолицый
лежал на противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью раз-
жимал собственные пальцы. На горле Носа темнели пятнышки —
это были синяки! Ну и ну! Желтолицый дрался не на шрку.
Еще немного, и он мог бы задушить длинного. Вот тут, возле сто-
17
ловки, посреди бела дня, да еще когда Нос не один, а с целой
компанией помощников!
Такого я не видывал — ни до, ни после.
Желтолицый встал, с трудом поднимался и Нос. Неожиданно
длинный заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него
ничего не получалось, и я не мог понять, угрожает он или жалу-
ется. Казалось, один желтолицый понимает его.
— А как же ты думал? — спросил он спокойно, даже добро-
душно.— Я ведь и убить могу.
Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка Носа кинулась
к своим сумкам и растворилась.
Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой гор-
батый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой.
Снова заревел, но теперь уже по-другому, визжа не от боли, а от
досады.
Он подобрал свою сумку, а поравнявшись со мной, пнул мой
портфель.
За что? За то, что я был свидетелем? Но ведь драку видели
многие. У входа в столовку скопилась настоящая толпа. Только
никто не решался подойти близко.
Я стоял ближе всех.
* * £
Едва драка кончилась, как все разошлись. Остался один я.
И желтолицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого
стоял перед дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким,
будто он вовсе и не дрался. «Вот это воля, надо же!»— восхитил-
ся я.
Два непохожих чувства боролись во мне — восхищения и от-
вращения.
Желтолицый был примерно одного класса с Носом, но ниже
ростом, один, и его отчаянная, ни на что не похожая храбрость
не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчон-
ки в столовой. У маленькой к тому же девчонки, такой, как его
сестра.
Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вы-
зывать, какие чувства?
Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный, я хотел
отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрути-
лись... Я не знал, что делать.
Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв гла-
за. Казалось, он ничего не видит. И даже не дышит.
И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдр^г закатил
глаза и пополз вниз по забору.
Он неловко сел в снег, и голова его откинулась.
Ну, я перепугался!
Первое, что пришло мне в голову,— это коварство Носа. На-
верное, подумал я, во время драки он всадил желтолицему шило
18
в живот. Шпана военных лет обожала ходить с шилом, или с на-
точенным рашпилем, или с каким-нибудь железным прутом,— не
придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что Нос ткнул жел-
толицего шилом, тот сперва терпел, а теперь вот свалился.
Я подбежал к мальчишке, потряс его за воротник — на боль-
шее не решился — и, бросив портфель, кинулся в столовую.
Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я
закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал
по имени, обращаясь без веры, что она поможет, очень уж черные
и злые были у нее глаза, но я все равно кричал, потому что надо
было как-то спасать желтолицего.
— Тетя Груша!—орал я благим матом, от страха не слыша
самого себя.— Там парень упал! Шакал! Помира-а-ает!
— Такой желтолицый? — крикнула тетя Груша.
— Они там дрались,— заорал я в ответ,— и он потом упал.
Но тетя Груша несла какую-то чепуху.
— Чайку надо,—говорила она, выскакивая из своего сквореч-
ника.— Сладкого чайку! — Потом кинулась в зал, к амбразуре,
закричала:—Девочки, дайте чайку послаще! Да побыстрей!
— Опять?—спросила крашеная тетка.
— Опять! — ответила Груша.
Л\елко семеня, она мчалась по столовке, и все перед ней рас-
ступались, точнее, перед железной кружкой, над которой дымился
парок и которую несла в вытянутой руке тетя Груша.
Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же
неудобной позе, откинувшись назад.
— На-ка, мальчик, подержи,— сказала тетя Груша, протяги-
вая мне кружку с чаем. Сама она схватила снег и принялась рас-
тирать им виски желтолицего пацана.
— Ох ты господи! — повторяла тетя Груша.— Ох ты господи!
Что же это деется-то, а?
Я увидел ее при дневном свете и поразился: как же может
ошибаться человек! Она вовсе не походила на ту женщину, кото-
рая, будто кукушка, появлялась в своем окошке. Лицо ее было
вовсе не злое, а усталое, может, тронутое какой-то болезнью, и
синие круги под глазами опустились до середины щек. И сами гла-
за были совершенно другие. Не угольные, не пугающие, а как бы
бархатные и печальные.
— Это что же, господи! — повторяла она, умело растирая виски
желтолицему.— Что же голод-то с нами делает?
Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес
через силу:
— А! Это ты!
— Ну-ка попей чайку! — воскликнула тетя Груша. Она помог-
ла желтолицему встать.
Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и на-
чал прихлебывать горячий чай. Ноги его дрожали. Было видно,
как трясутся коленки.
«Как же он победил? — поразился я.— Ведь только что он чуть
19
не задушил Носа у меня на глазах, а теперь еле держится па но-
гах! Неужели так бывает?»
Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные
красные пятна.
— Спасибо! — вздохнул он и сел прямо в снег.
•— А теперь признавайся,— проговорила тетя Груша,— сколько
дней нс ел?
Он усмехнулся:
— Вот он меня вчера угостил.
— А сегодня,— спросила Груша,— тот хлеб?
— Его сеструхе.
— Ну, как следует? Сколько дней не ел как следует?
— Пять,— проговорил желтолицый.
* & *
— Что с тобой было? —спросил я Вадьку. Теперь я знал имя
желтолицего.— У забора?
Он усмехнулся:
— «Что, что». Обморок! Да мне не привыкать. Да, Марья?
Мы шли втроем — Вадька, его сеструха, которую он смешно и
торжественно называл Марья, и я. Маша доедала кусок хлеба
украденный, а Вадька — который принес я.
— Только зря все это,— сказал Вадька.— Жрать сильнее за-
хотелось.
— Ага!—согласилась Марья.— Если не есть, на третий день
легче становится.
— Тебя это не касается,— оборвал ее Вадька,— тебе надо
есть, ты еще растешь.
— Можно подумать, ты вырос! — как взрослая, проворчала
Марья.
Мы шли по улице, и я думал: мы бредем просто так, без вся-
кой цели, может быть, в сторону дома, где жив^т Вадька и Марья,
но пришли мы к главной почте. Вадька уверенно распахнул дверь,
прошел в большое помещение, сел за стол.
— Доставай,— велел он Марье.
Девчонка открыла портфель, вынула тетрадку в косую линей-
ку, вырвала листок.
— Пиши ты,— строго сказал Вадька сестренке,— мама любит
твой почерк.
Машка, видно, перечила брату не всегда. Высунув язык, она
взяла почтовую ручку, обмакнула перо в казенные чернила и ста-
рательно, большими буквами вывела первую строчку.
— «Дорогая мамочка!»—продиктовал Вадька.
— Уже написала,— сказала Марья.
— «У нас все хорошо,— задумчиво проговорил он,— Вадик
получил три пятерки. По математике, русскому языку и географии.
У меня вообще одни пятерки. Вчера мы были в гостях у тети Фаи,
она нас до отвала накормила холодцом».
20
— А как пишется «до отвала»? — спросила Марья.— На конце
«а» или «у»?
— Да все равно,— сказал Вадька,— главное, холодец.
Я понял, что они врут. Про холодец и про гости врут абсо-
лютно точно, это ясно, но ведь про пятерки, наверное, тоже.
— Зачем врешь? — спросил я Вадьку.
— Затем,— ответил он зло,— что ей нельзя расстраиваться.
Он помолчал.
— Если бы мы написали правду,— качнул он головой.—•
А, Марья?
Она подняла голову, усмехнулась горькой взрослой улыбкой.
Спросила:
— Как я карточки потеряла? И деньги?
Вот так дела! Они живут без карточек и без денег, да мысли-
мое ли это дело в войну-то! Мама и бабушка приносили домой
рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая заболе-
ла так, что все равно померла,— и все из-за проклятых карточек,
из-за того, что их потеряли или украли злобные бандиты.
Да что там! Разве мог я забыть, как ограбили нас, украли от-
цовские костюмы из шифоньера, только пустые плечики постуки-
вали одиноко друг о дружку, а вместе с костюмами прихватили
и карточки. Как мы выжили месяц, один бог знает.
— А родные-то есть у вас? —• спросил я.
— Мы эвакуированные,— ответила Марья.
— Тогда знакомые? — воскликнул я.
Вадька понурился, опустил голову, о чем-то крепко думал он,
и Марья ответила за обоих:
— Мы боимся, они маме скажут. А ей волноваться нельзя.
Он поднял голову, мой новый приятель, и на лбу его я увидел
морщинки, будто он старик.
— Это ее убьет,— сказал он.
* -’Г *
Есть люди, похожие на магниты. Они ничего особенного не
делают, а к ним тянет.
Вадька был такой магнит. Правда, нельзя сказать, что он ни-
чего не делал. Шакалил в столовой — разве этого мало? Отнял
хлеб у девчонки. Но, честно сказать, меня тянуло к нему не это.
Я чувствовал, что желтолицый парень какой-то совсем другой,
чем все остальные знаковые мне люди. Даже если сравнивать его
со взрослыми.
Что? Я не знал. Маленькие люди ведь вообще, многого не зная,
умеют чувствовать. Умеют ощущать. Вот, может, и во мне было
такое ощущение.
Вадька меня никуда не звал, а самому мне надо было идти
домой, учить уроки, но я точно примагниченный, шел за желтоли-
цым и его сестрой. Они даже не очень-то со мной разговаривали,
обращаясь лишь в необходимых случаях, так что болтунами их
никак не назовешь.
21
Они все говорили о матери — похоже, разговаривать о ней
доставляло им большое удовольствие. При этом получалось так,
что говорить о своей маме они принимались с полуслова, будто
отвлекались на минутку от давнего разговора, потом спохвати-
лись, что отвлеклись, и говорили снова о самом важном.
— Ведь если продать утюг, как мама велела,— вдруг засмея-
лась Марья,— так мы ведь до конца войны неглажеными ходить
будем.
Вадька одобрительно оглядел сестру, улыбнулся ей и сказал:
— А что у нас гладить-то?
— Ты что? — возмутилась Марья,— Мамино платье, мое платье,
твои штаны. Да и много ли дадут за утюг на рынке?
— Точно,— ответил Вадим.— А мама вернется, глядь, утюг
целехонек. Ждет ее.
iMaptH слабо улыбнулась, побледнела.
— Ты что? — забеспокоился Вадим.
— Погоди,— прошептала она,— сейчас пройдет.
Вадим схватил снегу, потер Марье виски, как тетя Груша, но
она отдернулась, сказала:
— Чепуха! Я же не теряю сознания! Ты же кормишь меня
каждый день.
Она отчего-то запыхалась.
— Просто идти трудно,— объяснила Марья,— давай помедлен-
ней.
Я чувствовал себя полным дураком. Может, первый раз в жиз-
ни не знал, что делать. Стоял, как суслик, столбиком возле двоих
этих ребятишек, и все. Им нехорошо и одиноко, а я не могу по-
мочь. Эх, быть бы взрослым! Оказаться в один миг самостоятель-
ным человеком! Уж я бы додумался до чего-нибудь. Дал бы тало-
нов от своих карточек, еще бы сообразил, что полагается в таких
случаях.
Но я был обыкновенным мальчишкой и знал не больше Вадь-
ки. А он все-таки старше меня. Как выяснилось, на три класса.
Ему год и два месяца до свидетельства о семилетием образо-
вании.
Марьины глаза прояснились, она глядела на меня, что-то та-
кое соображая, потом неожиданно сказала:
— А ваш городок ничего! Хороший городок! Хуже немного
Минска, но тоже хороший. Мне нравится.
Она хотела сделать мне приятное, разговаривала со мной,а то
я вроде плетусь за ними и молчу.
— Вы из Минска? — спросил я.
— Марья,— укорил сестру справедливый Вадька,— да мно-
го ли ты помнишь про Минск?
Она снова остановилась, на этот раз, видно, от возмущения:
— Все помню! °
Немного мы прошли молча.
— Вот помню, например,—сказала Машка,— что у мамы бы-
ло красное платье в горошинку и оно насквозь промокло, потому
22
что мы попали под дождь. Оно просто прилипло к маме. И она
очень стеснялась.
— Когда это, когда? — нахмурился Вадька.
— А вот тогда! — поддразнила его Марья.— Летом!
Мы медленно шли по апрельской улице, с карнизов свисали
бугристые сосульки, солнце шпарило прямо в глаза, заставляя
жмуриться. На деревьях чирикали одинокие воробьи — война и
воробьев не пощадила, ударила по веселому птичьему племени,
будто даже простого, но радостного чириканья не терпела, удари-
ла по воробьиному народцу страшенными морозами, и я сам видет,
как на дороге лежали оледеневшие пуховые шарики, и бескорми-
цей, ясное дело, ударила война — какая еда, какие крошки для
воробьев, коли люди за каждой крошкой бросались? И вот выби-
ло, выбило воробьев в нашем городе, и чирикали они по весне
как-то неуверенно, робко и стайками не держались, а все больше
нарами, чтоб, видно, совсем не заскучать от тоски да голодухи.
Но все-таки они были, выжили, как и люди, и теперь, весенним
часом, чирикали, одинокие и голодные, напоминая про себя, и я
забылся, дурачок такой, начал посвистывать, сперва под нос, ти-
хо, потом громко, а затем уже и совсем рассвистелся, а на самой
высокой ноте оборвал, стыдясь и раскаиваясь.
Пригрело — и засвистел, как какой-нибудь воробей. Мне хоро-
шо, я сытый, а ребята голодные. Вон Марья едва идет, просит
шагать потихоньку. Что бы придумать?
Незаметно мы пришли к каким-то баракам, издалека совсем
черным, от них несло карболкой, хлоркой, еще чем-то больнич-
ным, и я понял, куда мы забрели. Об этой больнице в городе го-
ворили с суеверным страхом, утишая голос, чтоб, не дай бог, не
сглазить, не поймать ненароком страшную тифозную вошь и не
оказаться в этих самых тифозных бараках, откуда, конечно, выхо-
дят, выбираются некоторые счастливчики, но откуда многих вы-
носят, обрядив в последнюю дорогу.
Бараки эти я видел впервые, хотя знал, в каком примерно ме-
сте они стоят, я подальше обходил не то что больницу, но даже
часть города, где она была.
Вот, значит, в какой больнице лежит мама Вадика и Марьи!
Но знают ли они об этом? Догадываются ли, куда угодила их
мать? Понимают ли, что за беда...
При виде бараков я попятился, и Вадим заметил это. Он оста-
новился и, помолчав чуточку, сказал:
— Вы будете здесь А я отнесу письмо.
Он ушел к проходной, долго был там, потом вернулся,
Вадим подходил к нам какой-то сгорбленной, усталой, взрос-
лой походкой. Он, казалось, даже не видел нас.
— Ну как мама? — окликнула его Марья.
Он вскинул голову, посмотрел на нас.
— Идет на поправку,— ответил он спокойно и уверенно, буд-
то ничего другого и не могло быть. Вадим говорил одно, а думал
другое, я понял это. Но что думает он?
23
— Велит тебя поцеловать,— неожиданно сказал он. Постоял
секунду, наклонился и поцеловал Марью.— Теперь вот надо нам
думать.
Вадька стоял и раскачивался, как от зубной боли. Молчал и
раскачивался. Марья даже сказала ему:
— Хватит качаться!
— Слушай! — повернулся он ко мне.— А у тебя нет какой-ни-
будь куртки? До весны. Не бойся, я отдам.— Вадька воодушев-
лялся с каждым словом, видать, его озарила хорошая идея.— По-
нимаешь,— объяснил он,— я бы толкнул это пальто на рынке, и
мы бы как-нибудь дожили до конца месяца. А там новые кар-
точки!
Я не знал, что ответить. Была ли у меня куртка? Была. Но, ес-
ли по-честному, я ведь не распоряжался ею. Надо спрашивать
разрешения мамы. А она станет обсуждать это с бабушкой. Зна-
чит, разрешение требовалось от обеих.
«Вот ведь как,— оборвал я себя.— На словах сочувствовать,
конечно, легко. А как до дела, так сразу всякие объяснения и
сложности!»
—• Пошли ко мне! — сказал я Вадьке решительно.
* 4- *
Зайти к нам они отказались, как я ни уговаривал.
— Мы подождем здесь,— говорил Вадим.— Подождем здесь.
В конце концов, мы разобрались, поняли тяжкое положение
друг друга. Я, что ни говори, должен был бы показать, кому я
прошу отдать мою куртку до весны. Но и Вадиму, как выясни-
лось, было неловко. Мне ведь потребовались бы доказательства.
А Вадиму слушать про себя не хотелось. Ведь я и про столовую
должен был рассказать.
В общем, я согласился. Уступил. Попросил только Вадика и
Марью стать под нашими окнами, чтобы мне было хоть кого по-
казать.
Дома оказалась одна бабушка.
Бросив портфель у порога, не раздеваясь, не слушая ее упре-
ков в том, что опять стал последним бродягой, я уселся на стул
возле нее и с жаром принялся рассказывать про шакалов в вось-
мой столовой, про Вадима, про его маленькую сестру, про драку
с целой шайкой, из которой мой новый друг вышел победителем,
про то, что он не ел пять дней, а карточки потеряны и мать лежит
в тифозных бараках, уже поправляется, но вот есть такая идея:
продать хорошее пальто. Так как бы насчет моей курточки?
Одолжить? До весны! До тепла! Это же всего месяц!
Чтобы быть доказательным, я подтащил бабушку к окну и
показал ей Вадика и Марью.
Они стояли внизу, два темных человечка в синеющих сумер-
ках, один побольше, другой поменьше, и, наверное, оттого, что
смотрел я сверху, плечи их казались мне опущенными, будто топ-
24
чутся на снегу не пацан и девчонка, а два сгорбленных карлика.
Что удивительного в карликах? Отчего люди показывают на
них пальцами? Оттого ведь, что маленькие ростом, а на самом
деле взрослые люди или даже старики.
Марья и Вадим тоже совсем взрослые — пришло мне в голову.
Взрослые! Им не хватает только роста и знания, чтобы спасти
себя.
* * *
Бабушка глядела на них сверху, крепко задумавшись, и сквозь
задумчивость свою спрашивала меня очень странным голосом, как
заведенная, без всякой интонации, спрашивала меня всякие глу-
пости.
Одну за другой. Даже, кажется, не ожидая моих ответов.
— Разве можно прожить месяц на это пальтишко? И пять дней
без еды — тоже неправда. Никто не выдержит. А школа где же?
Можно в гороно сходить. Эвакуированным помогают, есть специ-
альное учреждение. Ох, сомневаюсь я! Если не вернут? Маму до-
ждаться надо, без нее нельзя.
Не знаю, сколько уж я бился с бабушкой. От окна она ото-
шла, но согласия своего не давала, хотя и возражала тоже стран-
но— молчком. Я уже, распалясь, начал голос повышать — может,
она меня лучше так поймет,— но бабушка глядела на меня округ-
лившимися, перепуганными глазами, часто моргала и неуверен-
но отбивалась.
Мне показалось, она обиделась на меня. Ушла за печку, за-
гремела там кастрюлями, включила керогаз, в миске захлюпала,
вкусно запахла завариха.
«Эх, елки,— подумал я,— а ведь Вадька-то с Марьей, кроме
единственного куска хлеба, ничего не ели».
Я решился. Подошел к шкафу, где хранилась семейная оде-
жонка, вернее, жалкие ее остатки, повернул ключик, потянул на
себя дверцу. Она, как назло, заскрипела — противно, по-козлино-
му, я напугался: вот выскочит сейчас бабушка, примется стыдить
меня и я окажусь вроде как вором в собственном доме. А кому
хочется, чтобы про него плохо думали? Я испуганно толкнул
дверцу обратно, и она снова заблеяла. Прямо не дверь, а бабуш-
кина союзница.
Пришлось сунуть руки в брюки, независимо, как будто ничего
не случилось, обогнуть печку, поводить носом возле кастрюли,
спросить: «Завариха?», а самому украдкой глянуть на бабушку —
не заподозрила ли она что?
Но бабушкино лицо было по-прежнему задумчивое, а взгляд
отсутствующим. Что-то такое с ней происходило, мне совершенно
непонятное и ранее невиданное. Бабушкина задумчивость была
до того крепкой, что она набухала огромную миску муки, помеши-
вала завариху, словно готовила ужин не для троих, а для целой
роты.
Я быстро вернулся к шкафу, не боясь, решительно и резко
25
рванул на себя дверцу, она коротко визгнула, будто ахнула от мо-
ей такой настойчивости.
Куртка, сшитая бабушкой для весны, когда еще не так жарко,
но уже и не холодно, походила, скорее, на серый п тонкий бала-
хон, и, еще натягивая ее, я подумал, что вряд ли выручу Вади-
ма— в такой одежке запросто продрогнешь до самых костей,
все-таки еще вокруг снег, пусть и рыхлый, а утром поджимают
заморозки, так что, выходит, этот худой балахон мой не спасение,
а полный риск.
Но когда человек на что-то решается, отступать нельзя, да п
все равно должен был я показать Вадиму свою куртку, чтобы не
подумал, будто я сдрейфил.
Пальто свое, ворвавшись домой, я не повесил на крюк возле
двери, и это меня спасло. Сперва пришлось натянуть на себя курт-
ку, а потом пальто, лежавшее на стуле. Аккуратно застегнув пуго-
вицы, я опять принял независимый вид и прошел мимо бабушки.
— Бауш,— сказал я,— маму подожду па улице. С ребятами.
Она ничего не ответила. Что тут ответишь, когда человек го-
ворит здраво и непреклонно!
В общем, мама застала всех нас в дурацком положении. Я снял
пальто, стянул куртку, и Вадим рассматривал ее, прикладывал,
будто в магазине, рукава к плечам, подойдет ли, а я зажал свое
пальто между ног, помогая ему, излагая сомнения насчет спаси-
тельности этого балахона. Марья тоже увлеклась, она, как стару-
шенция какая-нибудь, ворчала на нас обоих, говорила, что Вадька
помрет, отбросит копыта, сыграет в ящик, в общем, повторяла
всякие мальчишеские выражения, надеясь, видно, что они скорее
дойдут до наших мозгов.
Вот тут мама и подошла. Она появилась из-за моей спины. По-
этому я не увидел ее, и она спросила прямо у меня над ухом:
— Что происходит?
Вадька и Марья замерли, готовые отбежать в сторону, а пере-
пугался все-таки больше всех именно я. Во-первых, потому, что
мама возникла неожиданно, точнее, в самую неподходящую ми-
нуту, застав меня врасплох, а во-вторых, одно дело, когда гото-
вишься к разговору заранее, тут и лицо, улыбка твоя, и шаг, и
сама фигура тебе помогают, и совсем другое, когда говорить, да
еще того важнее — убеждать принимаешься с ходу, через плечо,
хочешь не хочешь, а первые слова всегда выходят вроде оправ-
дания.
Напрягаясь, стараясь вложить в собственные слова всю силу
убеждения и в то же время обходя неудобные моменты, щадя
самолюбие Вадика и Марьи, я попробовал объяснить суть моего
переодевания.
Вышло куцо и непонятно.
Мама решила, что меня, простофилю, облапошили. Еще бы,
что это значит — дать куртку иа время, до весны пацану, которо-
го она видит первый раз! И мама сказала, избрав самую краткую
и решительную форму приказа:
26
— Ну-ка марш домой!
Я понимал, что она не разобралась только из-за меня, из-за
моего путаного объяснения, но мама тоже поступала нехорошо —
приказывала мне при людях, приказывала, не докопавшись до
сути, и, значит, не доверяла мне, будто я лопух последний, стану
дарить курточку безо всяких причин, не зная будто, что за каж-
дою тряпку на рынке можно выменять драгоценную еду? Даже
яйца!
Поколебавшись, я положил свое пальто на снег, аккуратно
положил, понимая, что от моего поведения, от моей разумности
зависит сама справедливость моя, пусть мальчишечья, по
честь,— я аккуратно положил пальто на снег, вместо того чтобы
просто одеться, подошел к ма.ме, взял ее за рукав и с силой отвел
в сторону. На несколько шагов.
— Оденься! — сказала она встревоженно. Ха, по какое это
имело сейчас значение?
Снова, уже с другим лицом и другими, видимо, интонациями,
я стал рассказывать маме весь свой день. Теперь она слушала
внимательно. Поглядывала на Вадика и Марью. Не перебивала.
Потом повторила:
•— Оденься!
А сама пошла к ребятам.
— Пойдемте к нам! — строго сказала опа.
Но Вадим покачал головой.
Мама, кажется, чуточку смутилась. Она молчала, что-то такое
обдумывая, и это молчание ей помогло, потому что мама приду-
мала хорошие слова.
Смягчив голос, она сказала:
— Пойдемте к нам, ребята, я вас приглашаю.
Я тоже засуетился, надел свое пальто, Вадим протянул мне
куртку, переступил с ноги на ногу, и мы пошли к нашим дверям.
Тем временем мама негромко и несердито поругивала меня.
— Ребята совсем продрогли,— говорила она.— А ты не мог их
привести домой? Подождали бы меня, вместе решили, как быть.
Бабушка вывалилась у меня из головы, не до того было, зато
мы у нее из головы не выходили, оказалось. Едва вошли, едва я
назвал Марью и Вадика, как она потащила всех к умывальнику,
заставила мыть руки, усадила за стол п перед каждым поставила
по тарелке дымящейся аппетитной заварихи с лужицей масла
посередине.
Все неловко молчали, и, чтобы сгладить эту неловкость, ба-
бушка завела разговор про последние известия — она их слушала
чаще, чем все мы,— про то, что вот уже и конец войны, не за го-
рами опять мирная жизнь, когда в магазинах совершенно сво-
бодно и без всяких там карточек будут продаваться и хлеб, и
мука, и молоко, и даже колбаса всякой толщины, вот будет бла-
годать!..
Так уж как-то вышло, что разговоры про скорую мирную
жизнь получались у нас тихими, осторожными, как бы даже свя-
27
щенными разговорами,— каждый мечтал об этом, точно о высшей
мере счастья. Когда кто-нибудь из нас заговаривал об этом,
остальные старались есть тише, задумывались, смотрели друг на
дружку просветленно, с надеждой. Мы и сейчас притихли — мама,
бабушка и я,— но Вадим и Марья будто оглохли. Они стучали
ложками, торопливо глотали завариху и не обращали ровно ни-
какого внимания на бабушкины мечтания. Бабушка деликатно
умолкла. Потом принесла всем добавки. Затем еще Вадику и
Марье.
Они отложили ложки, и я отметил про себя, что в глазах у
ребят появилась какая-то муть. «Вот елки,— подумал я,— им, на-
верное, нехорошо, ведь всем известно, что после голода нельзя
есть много, так и помереть можно. Нам об этом говорила Анна
Николаевна-».
Но муть была совсем другая. Марья положила руки на стол,
а на руки уронила голову и тотчас, будто по волшебству, уснула
Вадька спал по-другому. Чуть отвалившись на спинку стула,
столбиком, сидя, открыв рот и повесив голову набок.
* * $
Втроем мы перетащили Марью и Вадика на мою кровать, и они
даже на мгновение не очнулись. Казалось, это не сон, а тяже-
лое, может, смертельное ранение и ребята лежат без сознания.
— О-хо-хо!—вздыхала бабушка, покачивая головой.— До чего
же голодуха детей доводит! До чего доводит!
— Где хоть они живут? — негромко спрашивала меня мама.
Я пожимал плечами.
— Какая хоть у них фамилия?.. В каких школах учатся?
Но и этого я не знал.
Аккуратно приподнимая Марью, мама сняла с нее платьишко,
внимательно, по швам, оглядела его, потом встряхнула, повесила
на спинку стула.
— Платьице чистое,— сказала она бабушке,— латаное, но ухо-
женное
— Да и он не запущенный,— ответила бабушка. — Пальтишко
и правда новое, ботинки тоже.
— Видать,— подхватила мама,— хозяйку в больницу отправи-
ли недавно.
Разглядывая одежду Марьи и Вадима, бабушка и мама будто
их документы рассматривали. Молодцы, ничего не скажешь! Жен-
ский взгляд видит такое, на что обычный человек внимания не
обратит.
— Раз все новое,— сказала под конец бабушка,— значит, креп-
ко бедствуют. Все выдано по ордерам, все получено в помощь.
Мама решительно взяла Марьин портфель, открыла его — я
и пикнуть не успел,— принялась перебирать содержимое.
Я догадался, что она ищет тетрадку, ведь на обложках все пи-
28
шут класс и школу, там и место для этого есть. Но Марьины тет-
радки— их оказалось три — были сшиты из обыкновенной газеты.
Разрезали газету, прихватили листки иглой и белой ниткой, полу-
чилась тетрадка. И на ней — имя, фамилия, класс, предмет.
«Арифметика», «Русский язык». В портфеле была и чистая, не-
подписанная тетрадка с хорошей бумагой, очень, правда, тонкая,
листы больше чем наполовину уже выдраны, и я догадался, что
на этой бумаге ребята писали записки своей маме в больницу.
Так мы узнали фамилию Марьи и Вадима: Русаковы.
Мамины глаза наливались решимостью, морщины на ее лбу со-
шлись к переносице — она готовилась к действиям. Но я вспомнил
почту и письмо, которое мы отнесли в тифозную больницу. Я пред-
ставил свою маму на месте их мамы, представил на минуточку,
что, кроме тифа, у мамы еще больное сердце, как у мамы Вади-
ка и Марьи, и что бабушки у меня нет, а я потерял карточки и
могу, могу сообщить об этом маме, имею такое право, но все-таки
никак не могу, потому что она и так там плачет — не из-за себя
плачет, не из-за своей болезни, а от страха, от беспокойства за
меня, да еще, окажется, я карточки потерял и должен загнуться
с голодухи. Нет уж! Правильно поступали Вадим и Марья! Как
ни крути, из двух бед надо всегда выбирать ту, которая больше,
о ней помнить, с ней бороться, пока достает сил, а ту, которая
меньше, одолевать втихомолку, придумывая что угодно, шакаля
даже, если придется, только не сдаваясь, не допуская, чтобы боль-
шая беда победила.
И я сказал маме:
— Ни за что! Ни за что нельзя, чтобы она узнала. Представ-
ляешь— она умрет?
Мама, конечно, поняла о чем я говорю. Она опустила голо-
ву, нахмурилась еще сильнее, спрятала Марьины тетрад.’.и в
портфель.
— Но что-то надо делать! Как-то помочь!
Она посмотрела выразительным взглядом па бабушку. Та по-
нурилась, о чем-то задумавшись, потом сказала:
— Ну, на неделю у нас пороху хватит.
Теперь понял я: бабушка говорила о заварихе. Вернее, о запа-
се нашей еды.
— Это не выход,— проговорила мама.— Надо что-то приду-
мать.
— Может, в военкомат? — спросила бабушка.
— В военкомат! — решительно сказала мама.— В собес! В го-
роно! Да мало ли разных учреждений, которые помогают, должны
помочь! Виданное ли дело: два ребенка от голода ну только что
не помирают!
Мама рассердилась на кого-то, неизвестно на кого, лицо ее
порозовело, она встала и принялась повязывать платок, но гляну-
ла на Вадика и Марью, села.
— Куда ж я без них-то? — спросила она.— Без них нельзя.
А они спали. И будить их было жалко.
29
* * *
Они проспали как убитые до самого утра.
Мне мама устроила постель на стульях. Составила их рядком,
спинку через каждый стул в разную сторону, посередке стеганое
одеяло, сверху байковое, и получилось гнездо — лучше некуда.
Только ребята не видели.
Но я расшатал все-таки за ночь свое гнездо. Под утро — уже
вставать пора было — свалился на пол, сперва напугался, потом
вспомнил, что со мной, и расхохотался. Всех поднял смехом.
Не так уж и плохо, в конце концов, начинать день с улыбки.
Бабушка и мама быстро оделись, застучали в прихожей, поли-
лась вода из ведра, зацокал носик умывальника.
Марья сидела на краешке кровати растерянная, обхватив себя
за плечи, искала глазами платье, Вадька отряхивал брюки — так
ведь и проспал в них, мама и бабушка не решились его раздеть;
правильно сделали: зачем смущать человека?
Вадим, похоже, злился на себя. Как тогда, в столовой, не смот-
рел па меня. Хорошо еще, мамы и бабушки не было в комнате.
— Ну чего ты! —толкнул я его в плечо.
Он будто того и ждал — хоть словечка, хоть улыбки.
— Черт его знает, что такое! — пробурчал Вадим.— Будто в
яму провалился. Ничего не помню. Вот сижу за столом, и вот
проснулся.
— Правда, чего это с нами было? — спросила Марья.
Бабушка и мама стояли в дверном проеме, глядели на нас и
улыбались, но Вадька повернулся к ним спиной, не видел.
— Ты, Марья, маленькая,— сказал он, по-взрослому вздох-
нув,— поэтому не знаешь. Сытость, как и голод, с ног сбить может.
Если неожиданно.
— Будто кто-то подошел и сбоку стукнул?—спросила она.
— Точно! — засмеялся Вадим.
И правда, была тогда у нас такая забава. Подойти к приятелю
со спины, сложить обе руки вместе, чтоб удар посильней был, и
стукнуть сбоку по плечу. Можно и свалить, если удар покрепче.
— Ну-ка, бойцы,— сказала мама,— скорей к умывальнику.
В руках она держала отутюженное Марьино платье, и девчонка
вскрикнула:
— Ох! Как при маме!
Мама спешила в госпиталь, поэтому завтрак получился очень
торопливый и нескладный, но кто тогда думал об этом, ведь жили
мы все лишь бы, лишь бы.
Лишь бы дожить до новых карточек, лишь бы перехватить че-
го-нибудь съедобного, лишь бы скорей на работу, в школу, лишь
бы дожить до победы. Война затянулась, голод и холод одолевали
постоянно, и к ним уже попривыкли, только вот к войне никто при-
выкать не хотел, все торопили ее, откладывая радость, удовольствие
да, кажется, и саму жизнь до лучших времен, до мирных дней.
Так что мамину торопливость никто не принял за невежли-
вость. Каждому ясно: некогда, уже утро, нужно на работу.
30
Мама спрашивала Вадима, и он отвечал, при этом часто
повторяя одно и то же: он просит ничего не делать, очень про-
сит.
Она спросила, где живут ребята, где работала их мама, жив
ли отец. Отец погиб давно, в сорок первом, а вот на мамину ра-
боту ходить не надо. Почему — Вадим не сказал. Но мы все это
знали.
/Мама убежала, наказав нам явиться вечером.
— Непременно, обязательно, во что бы то ни стало,— сказала
она и, одевшись, убежала.
Вадим, оказалось, учился во вторую смену, но нам с Марьей
было пора. Он тоже оделся.
Бабушка предложила Вадьке остаться, он отказался наотрез.
— Мне Марью надо проводить,— сказал он,— потом домой,
прибраться, вообще проведать.
Марья оказалась дисциплинированной ученицей, бежала впе-
реди нас, охала, что опоздает, пока Вадька не отпустил ее.
— Хорошо,—сказал он,— беги.— А мне объяснил: — До шко-
лы недалеко, все перекрестки уже прошли.
Перекрестки! Я что-то не слышал, чтоб на наших перекрестках
случались происшествия. Лошадь наедет? Так они тянутся едва-
едва, выбиваясь из последних сил, по рыхлому весеннему снегу.
Машин мало, а если уж идет, шоферша —тыловые газогенератор-
ки водили больше женщины — все уши пробибикает, подъезжая
к перекрестку. Осторожные, такой уж женский характер.
Но я, между прочим, тоже опаздывал, а Вадим никак не мог
этого понять.
— Ну, ладно,— сказал я,— вечером приходите, мне пора.
И прибавил газу.
— А ты что,— спросил меня Вадим вдогонку,— никогда уроков
не пропускал?
Я остановился как вкопанный. Вот такой силой, будто магнит,
обладал Вадим.
— Конечно, пет,— пожал я плечами.
Он вздохнул, пробормотал под нос, но так, чтобы я расслышал:
— Вот чудак! Да так ведь вся жизнь мимо пройдет.
Мы сделали несколько шагов вместе.
— Ну, ладно,— сказал он. обращаясь уже не к себе, а ко
мне,— дуй. А я вот сегодня, пожалуй, в школу не пойду.
Сипло, сначала будто нехотя, потом все решительнее и громче
загудели в разных углах города заводские гудки. А мне остава-
лось еще два квартала. Все! На первый урок я опоздал. Раньше
бы я припустил, гнал до пота, ворвался бы, мокрый, в класс, по-
каялся бы перед Анной Николаевной — тут уж лучше всего при-
знаться, что виноват, долго собирался или проспал, словом, ска-
зать правду, получить помилование и сесть, но теперь я шел, рав-
няя свой шаг с походкой Вадима, и успокаивал себя: один урок
можно!
— Почему ты не пойдешь в школу? — спросил я его.
31
— Надо что-то делать,— проговорил он печально и глубоко-
мысленно. Я уже хотел было посочувствовать ему, но тут он ска-
занул такое, что я опешил: — Сперва пойду в столовку.— После
паузы добавил, усмехнувшись: — Пошакалю.
Ну да, ну конечно, корил я себя. Вообразил, что Вадим тебе
близкий друг, хотя знакомы-то без году неделя — меньше суток.
Вообще, что я знаю о нем? И почему он должен чувствовать себя
обязанным только оттого, что поел у нас заварихи да уснул, смо-
ренный едой?
На самом-то деле он чужой, лишь са-амую чуточку знакомый
парень, и если, поев, он опять тащится шакалить в восьмую сто-
ловую, значит, он злобный человек, вот и все. Негодяй, отбираю-
щий куски хлеба у слабых девчонок.
Мне стало противно. Я чуть прибавил шагу и посмотрел на
Вадима. Может, он шутит, разыгрывает меня? Всякие розыгрыши
были тогда в ходу. Но он смотрел вперед задумчиво, даже тоск-
ливо. Казалось, он видит что-то сквозь снег на дороге, сквозь, мо-
жет, даже землю, что-то видит такое, что недоступно мне. Совсем
как наша учительница Анна Николаевна.
Я все-таки не утерпел, хотя это был стыдный и даже позорный
вопрос. Я долго думал, как бы задать его необидней, но, когда
думаешь о деликатности, всегда получается самое грубое.
— Ты что, не наелся? — спросил я. И покраснел.
Вадим посмотрел на меня сверху вниз. Без всякого удивления
или любопытства посмотрел и ответил:
— Наелся. Но вечером надо чем-то Машку кормить. И завтра
тоже.
В глаза он называл сестру только Марьей, торжественно полу-
чалось, ничего не скажешь. А сейчас назвал попросту. За глаза
человек всегда искренней. Мимоходом я подумал, что, называя
сестру полным именем, Вадька, пожалуй, старается воспитывать
ее. Но главное было не это. Меня поражала его глупость. Мама же
ясно пригласила их вечером к нам. Значит, будем есть.
— Но моя мама вас пригласила! — сказал я, не скрывая сво-
ей досады.
Он опять посмотрел на меня сверху вниз.
— Твоя мама,— сказал он совсем как взрослый,— не обязана
нас кормить.— Он еще глянул на меня. И спросил, точно учи-
тель- — Ты понял?
После этих слов я решил про себя: в школу сегодня не пойду.
Мне было стыдно перед Вадимом. Я готов искупить вину.
За свои дурные мысли о нем я должен раскаяться.
Надо же! Думал о нем—он жадный. Думал — негодяй.
А он! Благороднейший из благородных!
Это бывает часто, во все времена,— в голодные дни войны и
когда беды нет, а есть мирное, счастливое небо: мальчишка помлад-
ше, точно верный оруженосец, готов следовать за мальчишкой,
который едва старше его.
Рыцарь идет, рыцарь говорит, рыцарь поет, рыцарь молчит,
32
и все, даже молчание любимого рыцаря, кажется оруженосцу зна-
чительным и важным.
Счастливы оба.
* * *
Я думал, мы будем гулять просто шляться, но Вадим двигал-
ся скорым шагом, и приходилось поторапливаться, чтобы не от-
стать от него. Время от времени он останавливался и молча смот-
рел на меня терпеливыми глазами.
— Ты что? — спрашивал я.
— Отдохни,— предлагал он.
Сперва я неопределенно хмыкнул: с чего он взял, будто я
устал? Но потом хмыкать перестал. Мы уже прошли километров
пять, наверное. Перед этим получился такой разговор.
— А ведь ты и вчера в школе не был,— догадался я.
— Не успеваю,— ответил Вадим.— Пока все обойдешь..,
— А где ты ходишь?
— Ты думаешь, одной восьмой столовкой прокормишься?
Что-то не сходились концы с концами, я сразу это сообразил. Ну,
неделю назад они потеряли карточки, тут все ясно. Но если чело-
век шакалит всего неделю, откуда он все знает-то? Все столовые?
Вадька будто услышал меня. Понял незаданный вопрос.
— Мама у нас часто болеет, — сказал он. И вздохнул: — Так
что приходится.
Он оживился, стал рассказывать.
— Самое хорошее место — вокзал,— сказал он.— А самые доб-
рые люди — солдаты. Мне целую буханку хлеба однажды дали,—
повеселел он.— А в другой раз банку американской тушенки. А еще
раз — пачку шоколада. Представляешь? — Он даже хохотнул.—
Лучше всего дают, когда на фронт едут! А когда с фронта, разве
что сухарь получишь. Понятно. Хотят домой привезти. Сейчас
всем худо.
— Так давай на вокзал,— предложил я.— Вдвоем больше вы-
просим.
— Там гоняют,— вздохнул Вадька, —На перрон за деньги
пускают, да и то к приходу поезда. А так заберешься — в мили-
цию тащат. Или к военному коменданту. К нему — лучше.
— Почему? — удивился я. Военная комендатура, да еще на
вокзале, ловила всяких шпиков, я это звал, проверяли докумен-
ты не только у солдат, но у всех мужчин: нет ли дезертиров?
— Он всегда отпускает,— ответил Вадька.— Да еще чего-ни-
будь даст, хлеба например. Там добрый дядька есть, безрукий.
А вот мильтонши пристают, будто липучки: где живешь да как
фамилия... Я там предупреждение имею, два раза попадал. Боль-
ше нельзя. Особенно теперь.— Он опять вздохнул, как старик,—
Что будет с Машкой? Нет, рисковать нельзя.
И мы пошли, где попроще. Топали уже где-то на окраине. Я туг
и не был никогда, хотя город для меня родной, а Вадька здесь
только в эвакуации. Ну и словечко!
С уроками сегодня я уже распростился. На первый опоздал.
зз
Ко второму не успел. Ну, а являться на третий урок просто глупо.
Анна Николаевна потребует веских объяснений, еще хуже —
записки от мамы: в чем, мол, дело, какая причина для прогула.
Будь что будет, махнул я рукой. И вот мы брели где-то на окраи-
не, по неизвестной улице, и я, по правде говоря, старательно запо-
минал все повороты: уж очень подозрительно поглядывали на нас
незнакомые ребята.
Одни лупили снежками друг в друга,— весна вышла затяжная,
то таяло, то вдруг погода свирепела, валил снег и город утопал
почти что в январских сугробах — другие были на лыжах, улица
кренилась вниз кое-где довольно круто и получалась хорошая гор-
ка— не зря весь снег укатан. Стояли на горке и бездельные па-
цаны, сунув руки в карманы; некоторые курили. И все эти ребя-
та — и те, кто кидался снежками, и те, кто катался, и бездельни-
ки — при нашем приближении переставали смеяться и хмуро
поглядывали на пас.
— Зря я тебя с собой сюда взял,— сказал мне негромко Вадим.
— Почему это?—слегка обиделся я.
— Да здесь бегать надо быстро.
— Зачем?—удивился я.
•— От здешних пацанов. Будто маслозавод их собственный.
Мы оказались возле деревянного забора, за которым торчала
высокая железная труба, вовсе не похожая на заводскую. У за-
пертых деревянных ворот гоняла конский катыш стайка ребят.
Хорошая игра, если ничего другого нет. Особенно для мороз-
ной погоды. Один водит. Он метит катышем в других ребят, бьет,
как футбольным мячом, до тех пор, пока не попадет в валенок или
ботинок. Дальше водит тот, кого стукнул катыш.
Игра получается быстрая. Чтобы увернуться, мало бегать, да и
далеко бежать не разрешается, надо подпрыгивать, вовремя, ко-
нечно, подпрыгивать, с расчетом.
^Мальчишки прыгали себе, хохотали, обычное дело, и я не обра-
тил бы на них внимания, если бы не Вадька.
— Берегись их,— сказал он.— Будь внимательнее.
Воздух вкусно пахнул семечками, к воротам время от времени
подъезжал транспорт — сани, груженные железными флягами с
молоком пли какими-то мешками. Ребята не обращали на них
внимания, Вадим тоже был спокоен.
Он оживился только тогда, когда первая подвода выехала из
ворот.
Парни, игравшие катышем, остановились, пропустили сани, по-
том побежали следом, выкрикивая что-то. Первые два слова я
разобрат, а вот третье попять не мог.
Получалось, они кричали: «Дядя, дай ха-ха» или: «Дядя, дай
жениха».
— Чего они кричат? — спросил я Вадьку.
— Просят жмыха.
Должен признаться без всякого стыда: я не знал, что это та-
кое. Не знал, и все. Поколебавшись, спросил Вадима. Ведь Анна
34
Николаевна, когда отвлекалась, когда задумывалась, произноси-
ла вслух свои замечательные мысли, часто повторяла истину,
называя ее важнейшей: «Не бойтесь спросить, если чего-то не знае-
те. Пусть над вами даже посмеются. Знайте: это смеются глупые
люди».
В общем, я спросил про жмых Вадима, и он не засмеялся.
Объяснил, что это остатки. Масло жмут из семян подсолнуха —
и вот получаются остатки, называется жмых.
— Вкусно? — спросил я.
— Спра-ашиваешь! — воскликнул он восторженно.
А мальчишки побежали за санями и отстали. Видно, у возчика
не было жмыха. Или просто не дал, не знаю.
Из ворот с перерывами выехали еще три подводы, но, сколько
ни бежали за ними мальчишки, ничего им не перепало. Я стал
сомневаться в нашей удаче. Даже если с саней кинут этот жмых,
ребята опередят нас — их много, они здешние. Вадька, похоже,
тоже не очень-то уверенно чувствовал себя.
— Может, пойдем? — спросил я.— Черт с ним, с этим жмы-
хом. Еще надают.
— Могут,— согласился он и вздохнул. Но, подумав, сказал: —
Все-таки подождем, а вдруг?
Из ворот вышел хромой дядька в полушубке и военной шапке
без звездочки. Мальчишки на дороге не обратили на него ника-
кого внимания, и дядька ковылял по тропинке мимо нас. Мы от-
ступили в снег, чтобы пропустить его.
— Спасибо, молодцы,— сказал он хрипло, будто мы сделали
ему какую-то услугу.
— Дядь! — спросил Вадим.— Жмыха не будет?
— Жмыха? — переспросил хромой и остановился. Не поймешь,
сколько и лет человеку: волосы на затылке совсем седые, точно
снег, а глаза смеются по-молодому.
— Зубы не обломаете? — спросил он, усмехнувшись.
— Новые вырастут! — ответил Вадька.
Хромой мужик рассмеялся.
— А что! — сказал он.— У вас, пожалуй, еще вырастут!
Он сунул руки в карманы полушубка, сразу в оба кармана су-
нул, и достал оттуда по желтому брикету, размером с большую
плитку шоколада.
— Нате, точите зубы,— усмехнулся он,— вам это полезно.
— Пошли! — шепнул мне Вадька.
Я сунул в карман кусок жмыха и оглянулся. Пацаны, играв-
шие у ворот, приближались к нам. Впереди был рыжий крепыш.
— Эй! — крикнул он. — Отдайте одну! Это наше!
— Нет!—ответил ему Вадька.—-Сегодня повезло нам!
Мальчишки могли бы запросто напасть на нас, если бы мы
не уходили вслед за хромым дядькой. Получалось, отступали пот
его прикрытием. Не так уж здорово, но что поделаешь?
— Ну, подожди! — крикнул рыжий и повторил обидное.— Ну,
погоди, шлёндра! Я тебя знаю! Ты шакал из восьмой столовки.
Мальчишки захохотали.
— Бродит по всему городу,— ие унимался рыжий,— будто го-
лодный шакал.
И парни заорали:
— Шакалы! Шакалы!
Мы поднимались вверх по горе вслед за хромым дядькой, и
гора орала нам мальчишечьими голосами:
— Шакалы! Шакалы!
* * *
На горе добрый дядька свернул, а мы пошли прямо. Мы ша-
гали, скребя зубами склизлые от слюны плитки жмыха, и я все
никак не мог понять его вкус. Пахло прекрасно, подсолнечным
маслом, а вот отгрызть хоть кусочек и размять его, чтобы прогло-
тить, никак не удавалось. Вот так еда, топором руби!
Вадим молчал. Наверное, он думал о том же, о чем думал и я.
А я думал о пацанах на горке и у завода. О щедрости и жадности.
О доброте и злобности.
Нелегко доставалась еда Вадьке. Но это что, трудность! Глав-
ное, какой ценой.
Не верил я, что вся горка такой уж сыгой была, нет не верил.
Значит, могли бы понять голодного пацана? Но понимать не же-
лали. Почему? Из-за злобы, из-за выдуманного кем-то права соб-
ственности здешних пацанов на этот жмых, будь он проклят. Как
откусить — и то не поймешь.
И вот они в отместку засвистели, заулюлюкали, заобзывались.
Не смогли властью своей, своим правом, не смогли силой своего
добиться, так давай словом колошматить Вадьку. Вернее, нас
двоих.
Да, колошматили нас обоих, и это мне помогло разобраться
в Вадиме. В его чувствах. Он шел понурый, усталый и, если б не
я, совсем одинокий. Я понимал его тихое отчаяние: за голод при-
ходилось рассчитываться самым неразменным — добрым именем.
И все-таки он был сильный человек, этот Вадик. Улыбнулся мне
и сказал:
— Я этот жмых дома напильником пилю. Получается такая
крошка. Глотай — и все. Вкуснота!
Я засмеялся.
— Как яичный порошок? Никто не догадался выпускать жмы-
ховый порошок. Твое изобретение!
— Аха! — весело согласился Вадим.— Еще и топором рублю
на мелкие кусочки.— Получается как халва, только твердая. Ты ел
халву?
Я пожал плечами. Кажется, ел. Но это было так давно, до
войны, и я уже забыл, какая она такая, эта халва, какого вида
и вкуса.
— Не помнишь? — спросил Вадька. И вздохнул: — А я помню.
Просто житья нет.
— Житья? — удивился я.
36
— Ну да! — воскликнул Вадим.— Когда долго не ешь, вместо
того чтобы забыть, наоборот, всякие вкусности вспоминаешь. Хал-
ву там, ромовую бабу, или кровяную колбасу, или жареные кот-
леты с луком, и так под ложечкой сосет — готов дерево грызть.
Я засмеялся.
— Чего смеешься,— спросил Вадим серьезно,— я и дерево
грыз. Кору. Осиновая горькая, березовая — никакая, ее не раску-
сишь, а вот сосновую — очень даже можно. Прожуешь до муки, и
глотаешь. Пахнет хвоей.
— Да ну? — удивился я.
— Аха,— кивнул он,— только давишься с непривычки. Водой
надо запивать. Ну и живот потом пучит.
— Вадь,— сказал я, решившись наконец спросить о том, что
меня мучило.— А тебе ту девчонку не жалко? У которой хлеб
отнял?
Он опять по-взрослому и без всякого удивления поглядел на
меня сверху вниз. Прошел несколько шагов молча. Мне уже по-
казалось, он оскорбился. Но не такой Вадька был человек. Про-
сто он взвешивал слова.
— Понимаешь,— сказал он мне, помолчав,— я не думаю об
этом. Стараюсь не думать. Иначе мы с Машкой пропадем. Что
тогда будет с мамой?
Опять он умолк.
— А потом, этой девчонке остается обед. Она не помрет с го-
лоду. Я ее как бы поделиться прошу, понимаешь? Только против
ее воли. Силой.
Я вздохнул. Попробуй-ка разберись в таком деле.
— Вообще,— говорил Вадька,— когда не ел хотя бы сутки, все
остальное уже не помнишь. Всякие там правила.
— Ну, а если,— задал я новую задачу,— у той девчонки был
бы только тот кусок? Отнял бы?
Вадька хмыкнул, опять глянув на меня.
— Я, может, и шакал,— ответил он,— но не скотина.
Мы шагали, каждый думал о своем.
— Такие.тоже есть,— сказал он,— тихо садятся за твой столик
и тихо говорят: «Суп мой!» Или говорят: «Отдай котлеты», или
говорят: «Сиди и молчи». Ну и пацан или там девчонка весь обед
отдают.
Я даже остановился, возмущенный.
— Ни за что бы не отдал! — воскликнул я решительно.
— Ха, не отдал!—ухмыльнулся Вадька. — А если тебе но-
жик покажут из рукава?
Вот это да! Вот это столовка! Сказать бы маме и бабушке, вот
бы они всполошились! Пожалуй, велели бы отказаться от бесплат-
ных талонов. Мол, еще зарежут за какие-то щи! За котлету!
— Ну и пырнули кого-нибудь? — спросил я Вадьку.
Он усмехнулся:
— Вроде не слыхать. Стращают только. А там поди разбери,
что случилось за углом.
37
Я спросил Вадьку:
— Неужели из-за еды можно человека убить?
Он помотал головой:
— Не знаю. Но те, что с ножиками по столовке рыщут, не та-
кие \ж голодные. Шпана.
Про шпану у нас в городке толковали много и охотно. Каза-
лось, к концу войны шпана разбушевалась. Однажды дошли до
того, что искололи поясом офицера, который из госпиталя выпи-
сался, на вокзал шел. В мешке у него был большой паек—кон-
сервы там, хлеб,— на него и зарились. Офицер стал защищаться,
дрался, как мог, но против ножа одними кулаками не больно
навоюешь, вот и вышло: вернули офицера обратно в госпиталь.
Едва выжил. Выходит, ничем не лучше хулиганская финка враже-
ских пуль.
Город роптал чуть не месяц. По улицам ходили военные пат-
рули, останавливали всех, кому больше пятнадцати лет. Подозри-
тельных обыскивали, отвозили в городскую комендатуру.
Ходили и смешанные патрули — военные и милиционерши; ясное
дело, что от одних милиционерок толку мало — с кем они справят-
ся? Разве с малолетним. Милиционерши ходили с военными, улы-
бались друг дружке, кокетничали, наверное. Наконец патрули ис-
чезли совсем. До нового происшествия.
Так что я хоть и поразился опасности, которая угрожала каж-
дому в восьмой столовке, но поверил Вадьке.
Не такой он был человек, чтобы врать.
Почему я так верил ему?
Вижу всего второй день, а верю, как учительнице, как маме.
Почему без всяких особых усилий он повел меня по городу, заста-
вив забыть про школу? В чем состояла его магнитная сила?
Думаю, дело в том, чго маленький человек способен сильно по-
ражаться. Вообще сила чувств — великое свойство маленьких лю-
дей. Крепко любить и сильно страдать — замечательные достоин-
ства, да, да, именно так: достоинства. Сильное чувство движет че-
ловеком. Пораженный маленький человек испытывает чувство при-
вязанности к тому, что поразило его.
Меня поразил Вадим. Конечно же! Но еще сильней поразила
его жизнь.
Нельзя сказать, что я не знал лишений. Но бабушка и мама из
сил выбивались, чтобы спасти меня. И я не знал, что такое голод.
Как он ни стучал в наши двери, мама и бабушка не пустили его.
А вот Вадька знал голодуху. Очень хорошо знал, в лицо.
Обстоятельства, которые выпали на долю Вадима с сестрой,
дали ему полную свободу и самостоятельность — что и говорить,
заманчивое преимущество. Но заманчивое при других условиях.
Свобода, дарованная для сражения с голодом, самостоятель-
ность, полученная для того, чтобы не помереть, выглядели иначе.
Они не могли не поражать.
38
Мы стояли у ворот рынка, и я, зачарованный, глазел на мрач-
ную тетку в телогрейке и мужских бурках. В руках у нее была
банка — обыкновенная пол-литровая банка, набитая сладкими пе-
тушками на палочке. Петушки в банке заманчиво топорщились,
сияли на солнце, ведь были они красные, даже алые, и я решал
неразрешимую задачу: какую же, интересно, краску добавляют
в съедобных петухов, если они так горят.
— Ха, чудак,— сказал Вадим, перехватив мои взгляд.— Разве
это еда? Один обман!
И мы пошли искать еду.
Но вначале Вадька как следует объяснил мне, что к чему. Во-
обще рынок он счшал серьезным в смысле жратвы местом. Тут
были, например, тетки, которые даже зимой продавали подогре-
тое молоко, И если есть деньги, можно купить кусок хлеба, стакан
молока и прямо тут поесть.
Как объяснил Вадька, эта радость выпадала ему очень редко,
когда не болела мама, когда она была на работе и когда, на-
пример, не было обеда, но были деньги.
Есть еще один хитрый прием, но им надо пользоваться умело,
редко и, конечно, летом. Взять в руки бидончик или бутылку,
будто мать послала купить молока,— все-таки лучше бидончик,
потому что у него есть своя крышка,— подходить к тетке и гово-
рить ей очень уверенным голосом. Про уверенный голос Вадим
сказал раза два или три подряд. По его словам, это имело решаю-
щее значение. Так вот, надо было подойти к тетке и сказать ей
очень уверенным голосом: «Тетенька, ну-ка попробуем вашего мо-
лочка, не разбавлено ли водицей!» Тут тетка начинала божиться,
что сроду таким делом не занималась, и плескала чуток молока
в подставленную крышку от бидончика. Дальше следовало не
спеша, смакуя, как бы пробуя на вкус, выпить молоко, спросить
подозрительно: «А свежее?» — и, пока тетка или бабка снова бо-
жилась и крестилась, пожать плечами и отойти на достаточно без-
опасное расстояние — туда, где не видели этого подхода. Вот та-
кой военной хитростью, прохаживаясь по молочному ряду, Вадька
ухитрялся, по его словам, выпить стакан молока — из разных бу-
тылок, от разных хозяек, по глоточку.
— Но чуть дрогнет голо-ос! — протянул Вадька.— Берегись!
Торговки друг дружку не любят. Соревнуются. А тут сразу — луч-
шие подруги. В один голос орут: «Жулик! Нахал!» И надо еще
память хорошую,— смеясь, объяснял он,— чтобы к одной и той
же не подойти. И нужно все-таки иногда покупать. Вот уж по-
купать,— рассказывал он,—лучше у той, которую однажды обвел
и которая тебя помнит.
Я представлял, как Вадька уверенно шагает с бидончиком по
молочному ряду, останавливается для блезиру, торговки пригля-
дываются к нему, а одна, узнавшая его, собирает узелком губы,
придерживая до поры бранное, крикливое словцо, Вадька тог е
ЗУ
узнает ее, смело, глядя прямо в глаза, подходит, говорит, как
уже не раз говорил: «Ну-ка, тетенька, дайте на пробу!», пробу-
ет, нарочно тянет, чтобы подразнить молочницу, потом улыбает-
ся и восклицает: «Наливайте литр! Хорошее сегодня у вас мо-
лочко!»
— Одну и ту же тетку,— объяснил мне Вадим,— можно дурить
так до бесконечности. Ясное дело: изредка надо молоко покупать.
Но сейчас было еще не лето, только апрель, и еду мы искали
не на прилавках, а под ними.
Вадька обучил меня: надо идти с задней стороны длинного
базарного прилавка и глядеть под ноги продавцов. Искать следо-
вало только одно: картошку.
Торопясь, продавец может уронить одну картофелину, она
лежит себе у него под ногами, он ее даже истоптать по нечаянно-
сти может, к тому же не часто оборачивается. Подойди, стара-
ясь сделать это незаметно, наклонись и возьми.
Мы шли, медленно переставляя ноги, точно солдаты на мин-
но.м поле, мы шли медленно, успевая заглянуть во все закоулки
деревянного прилавка, отыскивая оброненную картофелину, но
на.м не везло. Да и не одни мы оказались такими хитрыми.
Навстречу нам плелась старуха в лохмотьях, известная всему
городу нищенка.
Она бродила по улицам, согнувшись чуть не пополам, но о
палку никогда не опиралась — руки держала за спиной, и, видно,
только это помогало ей удерживать равновесие. На голове у нее
был черный платок, всегда сбившийся куда-то назад, и потому
лицо нищенки прикрывали обрезанные седые волосы. Они торча-
ли, как пакля, и нищенка смотрела на людей сквозь волосы,
сквозь шторку,— глаза ее мерцали там, в глубине, делалось
страшно, и ребята помладше обходили ее стороной. Один карман
пальто, обтерханного, рваного, торчал всегда наружу, точно воры
вытащили из него деньги, хотя какие там деньги у нищенки! Вот
так она шла, разговаривая сама с собой, потом садилась на углу
или у хлебного магазина и подвывала:
— Подай-айте, ради Христа! Пода-а-айте, ради христа!
У хлебного магазина, я видел, ей подавали иногда маленьким
довеском, и она тут же съедала его, громко чавкая и не переста-
вая причитать свое:
— Подайте, ради христа!
И вот она стояла перед нами, смотрела сквозь седые космы то
на меня, то на Вадьку и спрашивала:
— Ну? Что? — И снова: — Ну? Что?
В руках она держала сморщенную, жалкую мороженую мор-
ковку.
— Отнимете? — спросила она, стараясь затолкать морковку в
рукав. Но страшные, костлявые, в синих венах руки не слушались
ее.— Отнимете? — спрашивала она. И кивала головой.
— Да нет, бабуш! — ответил ей спокойно Вадька. Он и ни-
щенки не боялся, смелый человек.— Не отнимем!
40
Она закивала нам, заулыбалась, спрятала все-таки морковку
в рукав. А мы пошли дальше.
То ли старуха подняла все, что могло лежать на земле, то ли
к весне цена на картошку повысилась и продавщицы обращались
с ней очень осторожно, но нам не повезло.
Ничего мы не нашли.
* * *
После рынка мы зашли к Вадьке домой.
Никогда я еще не видел такой убогости! Комнатка, правда,
вполне приличная, светлая, солнечная и теплая, хотя она прямо
под лестницей трехэтажного коммунального дома, зато две же-
лезные батареи грели вполне исправно, и я подумал, что это все-
таки большое счастье: не надо возиться с дровами. Главное, до-
ставать неизвестно где. Правда, посреди комнаты стояла еще
«буржуйка», голенастая и длинная труба которой выходила пря-
мо в форточку, заделанную для этого железным листом. На «бур-
жуйке», наверное, готовили обед, или, может, она требовалась,
когда не было топлива в котельной. Прямо на печурке, на верх-
ней ее крышке, стояла керосинка.
Но все остальное!
В комнате было две кровати. На одной матрац лежал сверну-
тым, открывая вместо пружин неструганые доски, на другой по-
верх матраца валялось скомканное суконное одеяло, какие быва-
ют в госпиталях, и две подушки без наволочек. Простыней тоже
не было.
У окна стоял дощатый, сколоченный из струганых досок стол,
на нем, прямо по центру, красовался старый угольный утюг, а на
краю одна в другой кособочились две дюралевые миски с лож-
ками.
При входе взблескивали умывальник и ведро, а с потолка све-
шивалась на проводе голая, без абажура, лампочка.
В общем, я был уверен: заведи сюда с улицы десять случайных
прохожих и спроси, живут ли тут люди, девять покачают головой:
мол, может, и жили когда-то, но давно уже не живут.
К тому же окна были крест-накрест заклеены белой бумагой.
Надо же! В начале войны, верно, было такое распоряжение, и все
окна заклеивали бумажными полосками, чтобы, если бомба упадет,
стекла не вылетали, покрепче держались. Но когда я в первый
класс пошел, приказ этот отменили, и хозяйки с такой радостью
принялись их отдирать, отскребать ножичками, отмачивать водой,
что самый несмышленый понял: все, враг до нас не доберется.
И только тут, в комнате под лестницей, было все как в на-
чале войны.
Единственное, что напоминало о людях в этой комнате, боль-
шая фотокарточка в деревянной рамке над той кроватью, где ле-
жал свернутый матрац: мужчина и женщина.
41
Я принялся разглядывать их. Без всяких слов ясно, что это
Вадькины родители. Отец погиб, а мама лежит в больнице. Я по-
старался пожалеть этих молодых людей на стенке, но у меня ни-
чего не вышло. До того заретушированы были их лица, что они
походили на манекенов, которые стоят в витрине универмага еще
с довоенной поры, на двух улыбающихся человекоподобных
кукол.
Вадим подошел к столу, вытащил из кармана плитку жмыха,
потом открыл портфель, порылся в нем и выложил кусок черство-
го хлеба, несколько корок и маленький кусочек сахара.
— Чуешь? — спросил он меня.— Все еще воняет.
Вот-вот! Самое главное, что делало комнату нежилой,— запах
хлорки, смешанный еще с чем-то, более едким и таким же боль-
ничным.
— Как маму в больницу увезли, мы чуть ночью не подохли,—
сказал он.— Приехали санитары. Почему-то в черных халатах.
Белье забрали и увезли, матрацы хотели сжечь, да, видно, нас
пожалели, а в комнате так набрызгали из каких-то банок, что мы,
ей-богу, чуть не преставились.
Он сидел у стола, не раздеваясь сам и не предлагая снять паль-
то мне — до того тут было неуютно.
— Вадь,— спросил я,— ну, а кресты-то на окнах почему не
смоете?
Он опустил голову, помолчал, потом сказал чуть севшим голо-
сом и какими-то взрослыми словами.
— Видишь ли,— сказал он и опять помолчал.— Это мама. Ей
кажется: когда кресты на окнах, война еще только началась.
И папка жив.— Он покачал головой, едва улыбнулся.— Я ей объ-
ясняю, что скоро войне конец, а она плачет и говорит: «Не хочу!
Не хочу!»
— Не хочет, чтоб войне конец? — удивился я.
Он снова покачал головой.
— Не хочет, чтоб отец умирал.
Вадька смотрел на фотографию над кроватью, на застывшие,
неживые лица отца своего и мамы, и, ясное дело, ему совсем
другое виделось в портрете с деревянной рамкой. Наконец он
перевел взгляд на меня:
— Она странной какой-то стала, как похоронку принесли. С от-
цом все говорит. Смеется. Будто во сне все это. Потом проснется,
нас увидит и плачет.— Он помедлил, точно взвешивал, стоит ли
доверить мне что-то очень важное, потом сказал: — Ты знаешь,
она даже салютам не радуется.— Вадим снова замолчал. Сказал,
как старик: — Боюсь я за нее.
Я бы никогда не сказал так. И никогда не подумал. Я знал,
что боятся за меня мама и бабушка. За бабушку я тоже, пожалуй,
мог бы испугаться, если бы, допустим, она упала на ледяном
тротуаре. Но за маму я не боялся — никогда не боялся. Жалел ее,
это да, особенно когда она кровь сдавала, чтобы мне масло ку-
пить. Но бояться?.,
42
Мама была взрослой женщиной, работала лаборанткой в гос-
питале, получала карточки как служащая, строго спрашивала
мои уроки, пробирала, а если требовалось — она походила на энер-
гичный мотор, который крутит всю нашу жизнь — и бабушкину, и,
особенно, мою. Да что там! Мама была главный человек в доме,
а когда отец ушел на войну, за мамой было последнее слово.
И надо сказать, она очень здорово управлялась со мной, с ба-
бушкой, со всем нашим домом и его заботами.
Нет, я не боялся за маму! Она была моей защитницей, моей
кормилицей. И я не боялся за нее, нет! Разве боятся за силу и
справедливость?
А вот Вадька боялся. Выходит, его мама была слабей,
чем он?
Может ли так быть?
Я не знал. Это было слишком серьезно для меня. Слишком.
Опять Вадькина жизнь отличалась от моей. Опять он думал
о таком, чего я не знал.
Не знал, это не значит — не понимал. Понимать понимал, но
разве все? Маленькую частичку...
Вадькина жизнь походила на большой и таинственный дом.
Я стою лишь у входа в этот дом. Из открытой двери на улицу
падает свет, образуя яркое пятно. И я вижу это пятно. Но вижу
лишь его.
Что происходит в доме, мне неведомо.
Л •>: л
Мы пошли в столовую. Я пригласил туда Вадьку. Сегодня он
не станет шакалить, решил я. Мы разделим мой обед, и все будет
прекрасно. Потом подождем Марью и к вечеру поедим у нас.
Как велела мама.
Вади?и тоже спешил в восьмую столовку. Он забеспокоился,
заторопился, и я подумал, что он занервничал из-за еды. Куском
хлеба, корками да плиткой жмыха сыт не будешь.
Вдали показалось крыльцо восьмой столовой, и я вспомнил
вчерашний день.
— Вадь,— спросил я своего нового друга, пораженный, что за-
был выяснить самое главное.— Как ты не побоялся? Вчера-то?
Против целой шайки?
— А-а,— вспомнил он. И вдруг брякнул такое, что я опешил: —
Не знаю.
— Как «не знаю»? — поразился я.— Чуть не задушил этого
Носа, а сегодня не знаешь!
— Голодный был,— усмехнулся Вадим.— Вот сегодня не смог
бы, убежал. А когда человек голодный, он сатанеет. У меня вчера
уже в ушах звенело. Думаю: «Черт с ним, все надоело». Ну и
вцепился. А что делать?
Я крутил головой, рассказывал в лицах, как Нос сначала гро-
зился, пугал, а потом плакал и как победитель Вадька вдруг по-
43
ехал вниз по забору и — раз! — в обморок. После победы-то. И как
тетя Груша бежала с кружкой в вытянутой руке.
— Вадик! Коля! — услышали мы Марьин крик. Она бежала за
нами, если это, конечно, можно было признать бегом. Двигалась
каким-то таким странным манером — быстрым шагом и медлен-
ными пробежками. Минуты две она не могла говорить, пока, на-
конец, добежала до нас.
— Вадик, почему ты не ходишь в школу? — спросила она в
конце концов.— Почему ты обманываешь меня? Тебя везде ищут.
Вадим не на шутку смутился. Такой человек, как он, должен
был отмахнуться, сказать: «Подумаешь!» Или что-нибудь в этом
роде. А он стоял перед Марьей, опустив глаза, будто его ругает
взрослый человек, имеющий такое право.
— ЛАсия сегодня вызывал директор,— сказала Марья.— Дал
талоны в восьмую столовую, велел, чтобы и ты их получил в сво-
ей школе. Очень обижался. Они откуда-то узнали.
Теперь Вадим смотрел на меня. Пристально, с укором. Но я не
понимал его взгляда. Укорять Вадима имел право именно я. Сей-
час он пойдет в школу, а я уже прогулял. Ничего себе!
— Это твоя мама! — сказал Вадька.
— Мама? — Я засомневался. Помотал головой.— Когда она
успела? У нее ведь работа.
В ту пору я не думал о существовании телефонов. Что такое
изобретение есть, известно любому детсадовцу. Но телефонов в на-
ших домах нс было. Если требовалось поговорить, люди шли друг
к другу. И я подумал о том, что мама не могла сбегать в две
школы. К тому же она не знала, где именно учатся Марья и
Вадим.
А потом, что тут плохого, если Марье дали талоны?
Я так и сказал Вадиму.
— Но мама, мама, мама! — трижды исступленно повторил он.
— Я директору сказала,— затараторила Марья.— Он и не со-
бирался говорить маме. Он обещал.
— «Обещал, обещал»! — сердито повторил Вадька. Потом
улыбнулся, что-то сообразив: — А в какой больнице лежит, не
спрашивали?
— Нет! — ответила Марья.
Вадим обрадовался.
— Ну-ка,— воскликнул он,— покажь свои талоны!
Марья протянула ему сжатый кулак, вывалила на его ладонь
смятые бумажки.
— Ха-ха,— засмеялся Вадим,— теперь не надо шакалить!
— Еще не все! — смеялась Марья.— Директор сказал, он что-
то такое напишет. И мне дадут карточки. Но надо куда-то идти.
Она наклонилась над портфелем и вытащила оттуда большой
синий листок.
— Деньги! — воскликнул Вадим.
— Это наша учительница,— сказала Марья.— Тоже ругала ме-
ня. А потом дала деньги.
44
Что-то до странности быстро менялись дела у Вадика и
Марьи. Он, видать, тоже подумал об этом.
— Непонятно! — сказал он нам, но Машка засмеялась.
— Если непонятно,— сказала она,— пойдем в столовую. По-
ешь— и сразу все поймешь.
Мы захохотали. И двинулись к восьмой столовке.
Вадька распахнул дверь в столовую уверенно и спокойно. На-
роду снова было полным-полно. Некоторые ели одетые, другие
стояли к тете Груше. Вадька стал в очередь, первым, за ним мы
с Марьей.
Сегодня мы не торопились.
* * *
— Никак, талоны дали? — сказала тетя Груша, когда подошла
Вадькина очередь.
Он молча кивнул. Щеки у него опять были в красных рваных
пятнах.
— Ну и слава богу! — сказала тетя Груша, подавая ему номе-
рок прямо в руку.
Не торопясь, мы выстояли очередь, и, хотя перед нами снова
прорывались большие пацаны, я не возмущался, насвистывал се-
бе потихоньку под нос, говорил с Вадькой и Марьей.
Мы договорились обо всем, и я уже не чувствовал себя шало-
паем, прогулявшим уроки. Вадьке, конечно, надо идти в школу, а
я с Марьей схожу на почту, она напишет письмо, и мы отнесем
его в больницу. Теперь я сопровождал сестру Вадима. Он просил
меня об этом. Ясное дело, я не мог отказать, это было бы не по-
товарищески. Ведь мне доверяли маленькую девчонку.
Потом мы пойдем к нам. Марья приготовит уроки. Я тоже,
естественно. И после школы Вадим явится к нам. Как штык. Бы-
ла тогда такая поговорка: как штык. Значит, точно. Без подвода.
Штык ведь не подводит бойца!
И тут снова вышло приключение. Да еще какое!
Марья получила еду первой и заняла столик. У Вадима в ру-
ках оказалось сразу три портфеля. И еще он хотел помочь мне
притащить поднос. Мы стали тихо препираться, потом Вадим
ушел за ложками, и я его ждал. На какое-то время мы забыли
про Машку.
Когда подошли к столику, рядом с ней сидел парень с лицом,
похожим на тыкву.
Ложкой Марья плескалась в своем супчике и парализованно
глядела на нас. Будто беззвучно кричала: «Помогите!»
Мы пригляделись. Второго у Марьи не было. Ее второе —
опять котлеты — жадно пожирал парень с лицом, похожим на
тыкву.
Мы не сели, мы упали на стулья.
— Ты чо? — прошептал Вадим парню.
Тот подумал, мы просто храбрецы и не имеем к Марье ника-
кого отношения.
45
— Тихо, пацаны! — проговорил парень, не переставая чавкать.
Вадька уже весь напрягся. И я понял, что грянет бой. Торо-
пясь, я снял с подноса тарелки и ухватил его покрепче. Но Вадь-
ка медлил. Что-то, видать, мешало ему.
— Попросил бы по-хорошему,— сказал Вадька парню уже по-
громче.
Тот только хмыкнул.
— Половину бы попросил,— уговаривал Вадим.
— Не ной,— отмахнулся тыквенный парень.
Это походило на гром и молнию. Точнее, на молнию и гром.
Сначала в воздухе мелькнул портфель, потом раздался громкий
грохот. Мальчишка слетел со стула, миска грохнулась на бетон-
ный пол.
Парень подскочил к Вадиму и прошептал:
— Гад! Попишу!
В руке у него блеснула безопасная бритва, как-то хитро за-
жатая между пальцев.
Но Вадька уже схватил мой поднос. Если надо, из него полу-
чался хороший щит. А если надо, то и боевое оружие, которым
здорово можно треснуть по тыквенному кумполу этого пацана.
— Блатной, что ли? — спросил его Вадька.
— Попишу!—вякнул тот, отступая. Отбежал несколько ша-
гов, но, увидев, что Вадим не нападает на него, повернулся и по-
шел, поглаживая себя по голове. Издалека показал кулак.
Машка сидела ни жива ни мертва. Да и у меня, признаться,
тряслись руки. Вадим опять казался спокойным. Даже, кажется,
огорченным.
Я заставлял его поесть из моей тарелки, но он решительно от-
казывался. Потом стал причитать, как старуха:
— Зря я его! — Кряхтел, вздыхал и снова повторял: — Зря'
— Чего ты выдумываешь! — возмущался я.— Почему зря? Ведь
он грозил. Маша, показывал тебе бритву?
А4арья кивнула, но тоже молчала, будто и она жалела этого
вора.
Наконец мы договорились. Я заставил Вадима съесть полови-
ну моего супа, а котлеты мы разделили на троих.
В миске, которая грохнулась на пол, счастливо уцелела поло-
вина котлеты и немного картофельного пюре. Но ни Вадим, ни
Марья не прикоснулись к ним. Будто этот злобный парень с брит-
вой оставил там отравленную слюну.
Еще вчера Вадим бы доел это, да и Марья тоже. Еще вчера
Вадим мог бы сам отнять у маленькой девчонки ну если не вто-
рое, то кусок хлеба. А сегодня они отводили глаза от тарелки.
Будто во всем виновата она.
«Выходит,— подумал я,— когда голод отступает, человек сразу
становится другим? Но кто и кем тогда правит? Голод человеком?
Человек голодом?»
46
* * *
Скудный обед только растравил меня. Вадька и Марья были
привычнее к недоеданию, но хмурились, все успокоиться не могли.
А солнышко горело ярким, слепящим фонарем, крышу весо-
мой столовки окантовали стеклянные сосулины, с них не капало,
а прямо лилось, и воздух пьянил наши головы. Так что, пока мы
дошли до угла, лица Вадима и Марьи уже разгладились, глаза
поголубели, наверное, это синее небо переливалось в нас.
Я слышал, как пахла весна Некоторые, я знаю, не понимают
этого. А ведь очень просто! Нужно идти не спеша и медленно,
глубоко, до самого дна, вдыхать свежий воздух. И вот когда
вдохнешь совсем глубоко, во рту делается свежо и сладко: у вес-
ны сладкий вкус.
Я показал, как это делается, Вадиму и Марье.
— Чувствуете? — спрашивал я.— Чувствуете?
Они чувствовали. Задерживали дыхание, чтобы весеннюю сла-
дость подольше сохранить. Будто наслаждались необыкновенным!!
конфетами.
— Может, и есть не надо? — спросила, улыбнувшись, Марья.—
Дыши себе и дыши!
— Хорошо бы! —вполне серьезно сказал Вадька.— Вообще,
разве не могут ученые придумать, чтобы получать питательные ве-
щества из воздуха?
Я закатился.
— Зря ржешь! — Вадим был совершенно серьезен.—-Еще уви-
дим! Ведь эта сладость весенняя из ничего не может получиться.
Что-то есть! Какие-то такие, может, пока неизвестные молекулы.
И вот делают такой прибор. Вроде курительной трубки, только
без табака. Или пусть побольше, размером с музыкальную трубу.
Человек втягивает воздух, и специальный прибор перерабатывает
его в питательное вещество.
— Какой прибор? — не понял я.
— Который в этой трубе запрятан! — как бестолковому двоеч-
нику, объяснил Вадим.
— А не боишься,— спросил я его ехидно,— что люди быстрень-
ко весь воздух слопают? И когда его станет мало, им начнут
торговать? Рупь — кубометр. II будут столовки дополнительного
питания.
— И там заведутся шакалы,— подхватила Машка.
Л4ы уже хохотали все втроем над Вадькиной антинаучной мыслью.
— И станут хапать у маленьких девчонок! — говорила, пока-
тываясь, Марья.— Хап! Хап!
Она смешно глотала воздух. И все мы вслед за ней, пока еще
воздух не выдают в столовке, начали хапать его тут, на улице.
И честное слово, вкусно получалось.
Вот тогда мимо нас мелькнула тень.
Я пригляделся. Да, это пробежал тот тыквенный парень. Мне
показалось, он стукнул Вадьку. Или просто его задел...
47
•— Погляди-ка спину,— попросил Вадим.
Я охнул, а Марья в голос заревела.
Новое Вадькино пальто было наискосок разрезано. В Щель
выглядывала прошитая белыми нитками прокладка. Ну, которая
утепляет.
— Вот гад! — повторял Вадим.— Вот гад!
Он расстегнулся, снял пальто, внимательно оглядел разрез, по-
том оделся снова, повторяя одно и то же: «Вот гад!»
Потом добавил:
— Теперь его не продашь!
А ЛТашка заливалась! Мы принялись успокаивать ее, но она
никак не затихала. Прохожие оборачивались на нас, какая-то
старуха, не решаясь приблизиться, стала кричать, что мы обижа-
ем девочку.
— Марья! — напрасно взывал Вадим к сестре.— Ты что? Испу-
галась?
Она мотала головой.
— Марья! — строго говорил Вадим.— Это на тебе не похоже
Да перестань, а то нас заберут!
Наконец, еще всхлипывая, глубоко вздыхая, как вздыхает, наби-
рает в себя воздуха, постепенно успокаиваясь, всякий горько пла-
кавший человек, она проговорила ломким, прерывистым голосом-
— Мама пальто-то выкупала! Опять расстроится! Плакать нач-
нет!
Вадька нахмурился. Наверное, испугался за свою маму.
— Да не бойтесь вы,— сказал я,— моя бабушка зашьет. Без
всяких следов.
— Так не бывает,— еще вздыхала Машка,— чтоб без следов
— Бывает,— врал я. Только бы она поскорей успокоилась!
Мы угомонили Вадькину сестру и разошлись — он в школу, а я
с Марьей на почту.
Это когда большой парень идет с маленькой девчонкой — ни-
чего особенного, сразу можно догадаться, что сестра. А если я
Машки побольше чуть-чуть? Сразу же нарвался па неприятность
Навстречу шла орава обалдуев. Прямо лоб в лоб.
Еще издалека эти дураки заорали разными голосами:
— Жених и невеста! Жених и невеста!
Я старался сохранить выдержку, да что толку — сам весь на-
прягся.
Получилось так, что мы с Марьей двигались по центру тротуа-
ра, а мальчишки, как река, разбились на два рукава и тс)лкнуди
нас друг на дружку.
Тут же они ушли своей дорогой. А мы с Машкой валялись
сбитые с ног: я животом у нее на голове. Какой-то глупый стыд
нашел на меня. Будто эти мальчишки не чушь последнюю» несли
а говорили правду. И я жених. Да еще перед своей невестой опо-
зорился.
Я неловко поднялся, стал отряхиваться, сердито отверцувщИсь
от Марьи, будто она в чем-то виновата.
48
— Идиоты! — ругался я.— Охламоны! Дураки!
Марья легкомысленно засмеялась.
— Да чего ты, Коль? — воскликнула она.— Они же просто
одичалые. Вот кончится война! Снова мальчишки и девчонки
учиться вместе станут! И дикость пройдет! Нам учительница го-
ворила.
Еще этого не хватало! Теперь маленькая Марья успокаивала
меня!
* * *
Я должен был помогать ей, раз Вадька доверил мне свою
сестру. Но разве сразу сообразишь, какие надо придумать слова,
чтобы продиктовать письмо их маме.
Пришлось снять шапку, потому что голова взмокла от на-
пряжения. А Марья сидела рядом со мной, взирая на меня с по-
слушным вниманием. Она взирала, а я потел и краснел. Да еще
она оказалась спорщицей — ворчала на каждом шагу.
— «Дорогая мамочка!» — продиктовал я. Так она даже с этим
не согласилась.
— В каждом письме «дорогая мамочка»! — сказала Машка.—
Надо что-нибудь другое.
— «Любимая мама!» — предложил я. Но и это не подошло.
— «Милая наша мамочка!» — придумала Марья и, высунув
кончик языка, аккуратно вывела на листке, вырванном из тет-
ради.
— «Сегодня я получила...» — продиктовал я.-—Сколько ты по-
лучила пятерок?
— Ни одной,— вздохнула Машка.
— «Три пятерки»,— выдумал я.
Она охотно записала мою ложь.
— «А Вадик,— продолжал я фантазировать,— только одну.
Зато по арифметике».
— У них уже нет арифметики,— вскинула голову Марья,—
алгебра, геометрия
— Погоди,— проворчал я недовольно. Мне эти предметы были
пока неизвестны, а мало ли, маленькая Марья может и перепу-
тать слова. Разбирайся потом. Вдруг их мама забеспокоится,
догадавшись про вранье, будет плакать, ей станет хуже. Нет, не
мог я рисковать такими серьезными вещами.— «Зато по исто-
рии...»— предложил я.
Но Машка не унималась.
— По истории он получил позавчера,— сказала она приверед-
ливо.— Что-то часто!
— Тогда по географии,— сказал я.
Наконец-то привереда согласилась.
И тут на меня накатило. Совершенно неожиданно к голове
прихлынула кровь (а еще мама говорит—-малокровие), и я, мо-
жет, первый раз в жизни испытал на себе, что такое творческий
подъем.
49
— «Мамочка! После зимней непогоды стало тепло. Греет сол-
нышко,— диктовал я, и Марья уже не упрямилась, наоборот, она
пораженно взглядывала на меня, даже не стараясь скрыть вос-
торга.— Чирикают воробьи! Капает капель. Жизнь оживает. Ско-
ро и ты, мамочка, поправишься!»
Я припомнил, что говорил мне сегодня Вадим у себя дома.
Надо было и про это написать.
— «По радио,— продолжал я,— все чаще объявляют салю-
ты. Скоро конец войне. Тебе тоже надс поправляться».
Я попробовал вообразить себя на мдсте Вадьки и маленькой
Маши. Меня опять окатила жаркая волна. Перехватила горло
горькая тоска: я — и один? Но это невозможно! Схватить себя за
голову и завыть!
Пришлось тряхнуть головой. Нет, это не со мной. Слава богу,
слава богу! И если мне только что хотелось взвыть, слова в пись-
ме, которое я диктую от имени Вадика и Марьи, нужны совсем
другие.
Марья дописала предыдущую строчку и смотрела на меня с
интересом. Что я еще способен сочинить?
— «Мамочка,— сказал я, думая о том, что почувствовал,—
будь спокойна. С нами все в порядке. Ты можешь надеяться на
нас. Ни о чем не думай. Только поправляйся. Собери все свои
силы. Для решающей победы».
Я, кажется, брякнул это зря, про решающую победу, но Марья
воспротивилась.
— Ты что! — горячо зашептала она.— Да я бы такого никогда
не придумала. И Вадик тоже.
Пришлось согласиться. Я придумал еще две-три фразы, кото-
рые полагается в конце любого письма, и мы двинулись в боль-
ницу.
Путь к ней мы одолели быстрей, чем вчера. Правда, Марья
опять останавливалась, но реже, и дышала не так загнанно, как
накануне.
У тифозных бараков я опять растерялся. На меня напал страх.
Мама и бабушка всегда говорили, что именно к этой больнице
даже приближаться опасно. А я должен был войти в проходную
и передать письмо.
Я остановился, потоптался на месте. И снова меня прошиб пот.
Марья, маленькая Машка, окинула меня строгим взглядом и ска-
зала голосом Вадима:
— Ты постой тут, а я схожу.
И двинулась к проходной. Какой позор!
Я метнулся вперед, схватил ее за воротник и с такой силой
повернул к себе, что она чуть не упала.
— Стой здесь,— сказал я голосом, не терпящим возражений, и
выхватил письмо из ее руки.
Потом я повернулся и уверенным, спокойным шагом двинулся
к проходной.
Едва я открыл дверь, на меня жарко дохнуло хлоркой и еще
50
чем-то противно больничным. Но я не дрогнул Ведь мой страх
ждал такого запаха.
В маленькой проходной сидели две женщины. Обе в черных
халатах, как говорил Вадим. И лоб и щеки у них были затяну-
ты такими же черными платками. Как будто они хотели поболь-
ше закрыть свое тело. Даже на руках у них я увидел черные пер-
чатки.
Сердце мое колотилось совсем по-заячьи.
— Можно передать письмо? — спросил я у черных теток.
— Письмо мо-ожно,—неожиданно добродушно сказала одна
тетка. Она казалась повыше.
— Да неплохо бы еще и еды,— вздохнула другая.
Еды? Какой еды? Я ведь не знал об этом. И Вадька ничего не
говорил.
Меня обожгло.
* * *
Бывает так в жизни, бывают такие мгновения, когда вдруг ма-
ленький человек думает совсем по-взрослому. А человек взрос-
лый, даже старик, убеленный сединой, думает, как малыш.
Почему, отчего это?
Я думаю, потому, что взрослость приходит к нам не однажды,
не в какой-то установленный всеми миг. Взрослость приходит, ког-
да маленький человек видит важное для него и понимает это важ-
ное. Он вовсе не взрослый, нет. И нету у него взрослого понима-
ния подряд всех вещей. Но в лесу, где много деревьев, которых
он не знает, он вдруг догадывается: вот это, пожалуй, пихта.
А это кедр. Во множестве сложных вещей он узнает самые глав-
ные, понимая их если и не умом, то сердцем.
Ну а взрослый... Это объясняется легче. Просто взрослым на-
до помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот!
Прекрасно!
Прекрасно, если взрослый, даже седой человек способен поду-
мать, как ребенок.
* * *
Меня обожгло. И я подумал: «А что мог сказать Вадька мне?
Что мог он сделать? Отнести кусок жмыха, ломтик черствого
хлеба сюда, своей маме?»
Снова перехватило горло.
Его перехватило потому, что я понял Вадькину беспомощность
перед этой проходной, перед черными, как галки, тетками, перед
тифозными бараками. Перед бедой — своей и маминой.
Он не мог ей помочь. У него не было таких сил.
Я вздохнул, онемелый,— и раз, и два.
— Что, милый? — спросила высокая тетка.
— Тебе худо? — заволновалась другая.
— Тяжко без мамки-то? — вздохнула первая.
51
— О-хо-хо! — вздохнула вторая.
— Нету еды,— сказал я совсем Вадькиным голосом.
Они вздохнули вразнобой.
— Худо! — сказала высокая.
Теперь-то я знал: худо! И страшно оттого, что худо. Надо бы-
ло уходить. Но я топтался. Какая-то ведь у меня мелькнула
мысль.
Да! Я знал, что в госпитале или больнице, если написал запи-
ску больному, можно получить ответ: «Как обрадуются ребята,—
подумал еще я.— Запляшут, закричат. Еще бы: письмо от мамы!»
И я спросил:
— А можно ответ получить?
Черная тетка, что повыше, качнула головой. И сказала
страшное:
— У нас ответов не бывает.
Дверь проходнушки жахнула за моей спиной. Ее приходилось
оттягивать изо всех сил, потому что держалась она на крепких
железных пружинах, но я этот дверной выстрел как теткины
слова понял: приговор!
Я тряс головой, стараясь вытряхнуть дурные мысли, ругал
тетку. Надо же, какие слова выбрала, ясное дело, почему ответов
не бывает, тифозная ведь больница, не простая, а это значит,
зараза передается, это значит, тиф с листочком бумаги, с обык-
новенным письмом может вырваться на волю, как страшный
джинн... Но тоска меня не покидала. Не отставала она от меня
и все тут.
К Марье я подходил другим человеком. Нет, внешне, конечно,
все оставалось таким же, наверное. Но в душе моей много чего
произошло за какие-нибудь десять минут.
Виду, однако, подавать не следовало. Не имел я таких прав
киснуть, расплываться киселем, пугаться и дрожать.
— Порядок! — сказал я ей бодрейшим из голосов и пошел
вперед, не оборачиваясь, чтобы все-таки постепенно прийти в себя.
Машка топала на полшага позади и, слава богу, не видела мо-
его лица, давала мне отсрочку, чтобы я пришел в норму. Она
ничего не спрашивала, похоже, знала, что никаких новостей из
черной проходнушки не поступает. Отдали письмо, и все. Ждите.
А в моих глазах все еще сидели черные тетки. Опасная рабо-
та— служить в такой больнице!
Теперь я думал о черном цвете. Она что, не пристает к черно-
му, эта страшная зараза? Но черный — это цвет смерти
Опять новая и странная мысль, точно глубокая яма, открылась
подо мной. Я подумал, что черный цвет, цвет смерти, люди вы-
брали в этой больнице из суеверия, из страха, из невозможности
победить страшную болезнь. Они знают, что цвет тут ни при чем,
он не поможет, но на всякий случай все же обрядились в черное,
надеясь, что к нему не должна пристать зараза — смысла ей та-
кого нет!
Тяжелые мысли не исчезают разом. Я уже знал: их разрушает
52
только время и другие события. Будто время — это маленький
стальной ломик, который сам по себе ломает черную глыбу — или
только глыбку,— если мысли хоть и тяжелые, но не такие боль-
шие.
Неожиданно — впрочем, жизнь всегда продолжается неожи-
данно: случается что-то новое, вот она и идет дальше, наша
жизнь,— так вот, неожиданно Д1ашка проговорила:
— Мне Вадика жалко!
Медленно, даже, кажется, осторожно, точно по веревочной
лестнице с высокой крыши, я спустился из горьких своих дум об-
ратно на землю. Заставил себя переспросить Марью, чтобы не
ошибиться, чтобы не казалось мне, будто я ослышался. Ведь она
всегда маму жалела. А про брата я слышал первый раз.
— Жалко Вадьку? — переспросил я.
— Ну конечно,—сказала Марья.
«А! — вспомнил я.— Должно быть, она про пальто».
— Сказано же,— опять принялся успокаивать я,— бабушка
зашьет.
— Да я не про то! — ответила Марья.— Я вообще!
Все-таки я был зеленым, сопляком по сравнению даже с Маш-
кой. Как ни старался быть понимающим, а если надо, и абсолют-
но взрослым человеком, все же старание не всегда помогало мне,
потому что Вадим и даже маленькая Машка знали горького го-
раздо больше, чем я.
Я в этом не был виноват. Я знал, что мои дорогие бабушка и
мама изо всех сил защищают меня, ограждают от окружающей
жизни, очень даже нелегкой, хотят, чтобы я поменьше знал о ней,
подольше был обыкновенным ребенком — без всяких горестей, с
одними радостями, какие, конечно, можно придумать военной по-
рой. Я понимал, как мама и бабушка страдают от того, что им
это не всегда удается, а иногда не удается вовсе, и видел, как они
хмурятся и нервничают, если вдруг догадываются, что я знаю
больше положенного мне, по их мнению, если вдруг они сознают
с огорчением, что, как ни укутывай меня в вату, точно елочную
игрушку, когда ее прячут в коробку после новогодней елки, я все
равно вижу настоящую правду. Или имею представление о ней
по осколкам, которые долетают, добираются до меня.
Нет, человек, даже маленький, не елочная игрушка, его нельзя
вынуть только на праздник, дать ему порадоваться огням и смеху,
а потом упрятать га целую войну в мягкую, оберегающую от
ушибов вату. Человек не игрушка, и — хочешь не хочешь — он бу-
дет биться об углы, которые придумывает жизнь, и это битье в
конце концов приучает его к мысли, что жизнь не заменишь
враньем или — скажем мягче — обманом, даже если этот обман
совершенно не грубый, а деликатный и у него нет слов, а есть
только молчание: люди молчат и, значит, скрывают правду.
Машка сказала, что ей жалко Вадима, не пальто даже его
жалко новенькое — ведь она плакала из-за пальто,— а вообще
жалко, и мне перед пей неловко стало.
S3
Мне стало неловко оттого, что Вадьку и в самом деле есть за
что пожалеть, а вот я благополучней его. Мне не надо шакалить,
я живу с талонами на дополнительное питание, у меня есть ма-
ма и бабушка, и отец сражается на фронте, жив, жив, слава богу,
и я не эвакуированный, а шляюсь тут по своему собственному го-
роду без всяких там печалей. А вот Вадька!
— Знаешь, как ему тяжко? — сказала Марья. И вздохнула.—
Да он по ночам стонет, понимаешь? Как больной. Я сперва пу-
галась, будила его, но потом перестала.
В весеннем снегу таились глубокие синие тени, похожие изда-
лека на лужицы, и вообще погода стояла райская. Ни с чем она
не желала считаться. Ни с войной, ни со смертью, которая насти-
гала чьего-то отца в этот самый миг, ни с маленькой Машкой,
которая вот идет по солнечному свету, а вовсе и не видит его, буд-
то ослепла.
— Вечером я долго уснуть не могу, от голода в животе сосет,
ну а утром от голода же проснуться не могу. И Вадька беспо-
коится, потому что боится, я на первый урок просплю.
Машка заглянула в мое лицо, будто спрашивала, понимаю ли
я, о чем она со мной толкует, могу ли я это все осознать.
— И вот он так волю собирает, что от всякого звука просыпа-
ется. Боится, чтобы первый гудок не пропустить. И потом трясет
меня.— Машка улыбнулась: — Когда он трясет, мне снится, будто
я на коне скачу.
На коне! Я усмехнулся. Такие сны мальчишкам могут сниться.
А маленькую Машку на коне даже вообразить себе невозможно.
— Ав столовке! — воскликнула Машка.— Знаешь, какая сты-
доба поначалу! Я вообще к столам ходить не хотела. Раза два
в обморок падала. Прямо там. И Вадька мне каждую крошку
тащит. Как воробей.
Я припомнил столовских воробьев. Они сидели на железных
перекладинах под потолком, но, странное дело, не чирикали. Тог-
да к гладкорожим мальчишкам слетел воробей ведь молча, схва-
тил хлеб и был таков.
И мне вдруг пришла в голову мысль, что воробьи хоть и за-
летели к еде поближе, но толку для них от этого мало. Ведь все
до крошки зализывают маленькие ребята. Уж извините, воробьи!
Ваше молчание так понятно...
— А потом? — спросил я Машку.
— Потом уже не стыдно,— ответила она, опять совсем по-ста-
рушечьи вздохнув. И сказанула такое, что мне снова стало не по
себе: — Голод убивает всякий стыд.
Этого я не знал. Сам, собственным животом. Такое узнать мож-
но только животом, никак иначе.
Выходило, маленькая Марья учила меня. Как и брат ее Вадь-
ка. Добавляла знаний к моему без года и полутора месяцев
начальному образованию. Знания эти были из неписаных учебни-
ков. Из тех, правилам которых учила нас и наша Анна Никола-
евна.
51
* *
Это потом, во взрослой жизни, дни проносятся без всяких собы-
тий. Точнее, людям, привыкшим к разным разностям, просто ка-
жется, что ничего заметного с ними не происходит. Вроде как
едят пищу, и она бессолая. Хотя соли достаточно. Вообще есть
у еды вкус. Но глотают ее, не замечая. Забылись, как во сне.
Детство прекрасно тем, что в нем множество событий. Не толь-
ко замечательных, нет. Всякие бывают события в детстве —го-
рестные и прекрасные. Но они бывают, вот что замечательно.
Жизнь никогда не кажется безвкусной в детстве. Она и прекрас-
но сладка, и печально горька, и солона, конечно же, не всегда в
меру.
За день может произойти не то что одно, а множество событий.
В тот день, и так уже до отказа полный разнообразными со-
бытиями, мне предстояло пережить еще три.
Целых три!
4. * *
Ну, то, что бабушка ждала нас с Марьей, радушно улыбаясь,
была оживленна и говорлива,— это, ясное дело, не событие.
Потом мы выучили уроки.
Машка что-то калякала в своих газетных тетрадках. Время от
времени она тоненько пищала, но, когда я глядел на нее, мужест-
венно улыбалась. Это газета расплывалась под чернилами. Газеты
тогда очень неровные выходили, я по себе знал, у меня ведь тоже
такие тетрадки бывали. Но потом папка прислал с оказией тро-
фейных тетрадок. Ну и бумажка в них! На солнце блестит, гла-
зам больно. Лакированная. Я дал одну тетрадь Марье, но она ее
в портфель тут же спрятала. Ясное дело: чтобы записки маме
писать. Вот. Ну, а неровная газета — это такая, по которой пи-
шешь-пишешь чернилами, и все вроде бы хорошо, а потом —
бух! — словно в какую-то невидимую яму попал: чернила расплы-
ваются по каким-то тонким сосудикам. Немного задержишь пе-
ро— и тут же клякса.
Но учителя знали это дело и отметок не снижали, хотя, на-
пример, наша Анна Николаевна советовала делать тетрадки из
довоенных газет, если у кого сохранились. Но кто до войны знал,
что газеты потребуются для тетрадей? Из всех моих знакомых у
одного Вовки Крошкина были такие газеты. Да и то потому, что
его мама газеты в сарае складывала. Готовилась к большому ре-
монту и, получилось, много тетрадок накопила для военных дней.
Так Вовка рассказывал. Он даже мне старые газеты давал.
В общем, Марья попискивала, отдергивала перо, учила уроки.
Но в этом тоже не было ничего особенного.
Оба мы прислушивались, как за печкой шуршит моя бабуля,
молодчага моя бабуля. Старается кастрюлями не бренчать, воду
ковшом громко не лить, нам, старательным ученикам, не мешать.
Только с запахами она ничего поделать не может. Вкусно пахнет
вареной картошкой, и у меня начинает сосать под ложечкой, а
ь5
Марья — так та, чудачка, закрывает уши ладошками, чтобы не
слышать этот запах. Ну что ж, понять ее можно: нос ведь не за-
кроешь, дышать одним ртом неудобно, а сосредоточиться и что-то
закрыть, чтобы не слышать вкусных запахов еды, все-таки надо.
Если считать ужин событием, то оно еще только назревало,
готовилось под мудрым бабушкиным руководством.
События развернулись гораздо раньше.
Почти одновременно пришли мама и Вадим.
Первой вернулась с работы мама. Она быстро разделась, умы-
лась— она учила меня и жила сама по этому правилу: вернулся
с улицы, сразу умойся, обязательно с мылом, при этом надо на-
мылить не только руки, но и обязательно лицо, потому что на
улице бродят всевозможные бациллы,— так вот, она умылась за
печкой, звонко звякая соском умывальника, потом вошла в ком-
нату и сделала следующее: ласково поздоровалась с Марьей и
строго посмотрела на меня.
Мое сердце дрогнуло. Кошка ведь сразу чует, чью сметану
съела. Есть такая поговорка. Я разом вспомнил, как провел се-
годняшний день. Но мама не могла ничего узнать — я в этом был
абсолютно уверен.
На всякий случай я изъявил мудрую гибкость. Раз мама не
здоровается с тобой, а только окатывает подозрительно холодным
взглядом, нет ничего зазорного, чтобы первым поздороваться с
родной мамой.
Я это и сделал лисьим голосом.
Она кивнула и, кажется, что-то хотела ответить мне. Но имен-
но в это мгновение пришел Вадька.
Он стоял на пороге с совершенно растерянной физиономией.
И подтягивал штаны.
Это выглядело довольно забавно, ведь штаны-то под пальто.
Вадька стоял какое-то время, потом локтем прихватывал пальто
там, где находится талия, и поддергивал его вверх. Глаза при
этом у него совершали стремительное и неорганизованное движе-
ние. Ну просто дергались. На маму, на меня, на бабушку, па
Марью, на пол, на потолок, на окно, в сторону.
В одной руке Вадим держал чуть припухший портфель, а в
другой пачку учебников и тетрадей, перевязанных брючным рем-
нем. Пользуясь дедуктивным методом английского сыщика Шер-
лока Холмса, о котором узнал из детской радиопередачи, я до-
вольно сообразительно вычислил, что вытащить ремень из брюк
Вадьку заставили серьезные причины. И эти причины находились
в портфеле.
Мама нашлась первой. Она приветливо улыбнулась и сказа-
ла Вадьке, чтобы он не стоял на пороге, что довольно странно,
а входил и раздевался.
— Это вы? — спросил он каким-то не своим, чуть севшим го-
лосом.
Мама рассмеялась.
— Да как будто это я, действительно.
56
Вадька смущенно мотнул головой. И обозначил свой вопрос
точнее:
— Это сделали вы?
— Да что сделала я? —удивилась мама.
— Смотрите! — сказал Вадька смущенно. Он положил тетрад-
ки, обмотанные ремнем, и открыл портфель.
В нем грудились пакетики и свертки, а поверху несколько раз-
ных долей ржаного хлеба. Буханки лежали порезанными неоди-
наково— вдоль и поперек, были тут и четвертушки, кажется две.
— Откуда это? — спросила Машка.
— Учителя,— сказал Вадька. Он, кажется, чуть отошел, пере-
стал крутить глазами во все стороны, принялся говорить связ-
но:— Такой устроили бенц!
Теперь уже напрягся я. Вадим, похоже, расслабился, его речь
лилась раскованно, так болтают мальчишки между собой, забыл-
ся товарищ, елки-палки, а когда люди забываются, они могут вы-
болтать что-нибудь лишнее. Хотя бы про сегодняшний день.
Так оно и было. Он с этого и начал, чудак!
— В общем, я несколько дней не ходил в школу,— сказал Ва-
дим и этак скользом проехал взглядом по мне.
«Аккуратней! Аккуратней!» — внушал я ему на расстоянии. Но
Вадька ничего не чуял сгоряча.
— Марья мне говорит вдруг сегодня: «Тебя ищут!» — Он обвел
глазами присутствующих.— Действительно! Едва разделся, как
первыгТ же учитель меня за рукав — и к директору. Ну, думаю,
все! Попался! Выгонят!
Он посмотрел на Машку, как будто услышал ее неслышный
упрек, ее предупреждение, наверное, напоминание про маму, от-
ветил ей одной:
— Ой, и не говори! — Потом продолжил рассказ: — Ну и ко-
нечно! Начинает прорабатывать! Но не за то, что в школу не
ходил. А за то, что не сказал про маму и про карточки.
— У вас что, мужчина директор? — спросила мама.
Вадька на секунду осекся. И тут же засмеялся:
— Не разыгрывайте! Это вы им сказали! Так что вы знаете
кто, мужчина или женщина.
Мама пожала плечами.
— Да я даже номера школы твоей не знаю,— сказала она.
И кивнула на меня: — Спроси Колю.
Я кивнул. Да что мама! Даже я сам не знал, где учится Вадь-
ка. Все утро хотел спросить и забыл.
Теперь настала пора растеряться ему. Он замолчал. Потом
стал скрести макушку. От моей мамы ничего не укроется. Она тут
же Вадьку прихватила:
— Давно в бане не был?
Он смутился окончательно. Мама, по-моему, тоже.
— Ну, ладно,— сказала она.— Рассказывай. Про баню позже.
— Директор у нас старичок,— сказал Вадька.— В общем, он
ругал, ругал, потом открыл шкаф и объяснил, что учителя со-
t>7
брали нам еды. Всего понемногу. А скоро дадут талоны на до-
полнительное питание. Марье уже дали. II школа ходатайствует,
чтобы нам выдали новые карточки.
Он снова поддернул штаны, теперь уже не через пальто, а
напрямую, и уставился на маму.
— А я думал, это вы,— сказал Вадим, приходя в свою обыч-
ную форму: мужество плюс спокойствие.
— И-эх, чудак человек! — вмешалась бабушка. Потом поню-
хала кухонные ароматы и ринулась к керосинке. Уже оттуда, из
темноватой глубины своего закугка, бабушка продолжила свою
речь: — Ведь люди вокруг, люди. А ты!.
Мне показалось, она хотела сказать: «А ты шакалишь!» Но
вовремя удержалась.
Но бабушку перебила Марья.
— А про маму ты предупредил? — воскликнула она.
Вадим хмыкнул.
— И предупреждать не пришлось. Они все знают.
Он засмеялся. Наконец-то совсем пришел в себя.
— Знаешь, он даже чю предложил? Наш директор?
Марья мотнула косицами.
— Пойти нам в детский дом. Временно. Пока мама не вер-
нется А учиться, говорит, будете в своих же школах.
— Чудак человек,— повторила Марья бабушкиным голосом ее
выражение.
Она неторопливо, будто вглядываясь в каждого, будто требуя
подтверждения от всех от нас, обвела глазами маму, бабушку,
меня и Вадьку.
И сказала каким-то поразительно сухим, я бы даже сказал,
официальным голосом — и спрашивая и утверждая сразу.
— Ведь в детском доме,— сказала маленькая Марья,— живут
ребята, у которых все родители погибли, а у нас есть мама.
> Т- *
Портфель Вадима с маленькими кулечками крупы, муки, ми-
кроскопическим сверточком масла, хлебом и даже ломтем дере-
венского сала в чистой тряпице был первым событием из трех по-
следних событий этого дня
Вторым событием оала баня. Вернее, разговор о ней. Ведь
событием может быть и разговор, если он дает пищу для размыш-
лений.
Мама у меня настойчивый человек. Так что, едва мы поели
отварной рассыпчатой картошки...
Но сперва Вадька заупрямился. Бабушка выставила на стол
тарелки, а он приказал Машке собираться.
— Идем! — сказал он каким-то непререкаемым, враз посуро-
вевшим голосом, и Марья принялась послушно и как-то испуган-
но-суетливо натягивать на себя пальто
— Ты что!—закричал я, пораженный, Вадиму.— Не чуешь за-
пахов? У тебя насморк?
58
— У нас же своя еда есть! — искренне удивился мой прия-
тель, указывая на портфель.
— Пого-одьте,— улыбнулась бабушка,— еще поспеете съесть
свои харчи. Не больно они густы-то!
Но Вадька решительно замотал головой, и я вспомнил, как он
еще днем сказал, что, мол, не могут они с Машкой объедать на-
шу семью. Всем, дескать, теперь лихо, и в каждой семье всяк ку-
сок в счет.
Так что бабушкин призыв па него не подействовал. Тогда взя-
лась за дело мама. Она у меня такая! Может, если надо, и при-
крикнуть. И ухватить за плечо крепкой рукой. Усадить силой. Или
повернуть к себе, заглянуть в лицо. Мама часто мне повторяет,
что она теперь в нашем доме не только за себя, но еще и за от-
ца. Впрочем, это она меня могла взять за плечо мужской рукой,
потому что я ее собственный сын. Вадика она бы ни за что за
плечо не взяла с силой. И Марью тоже. Она им улыбнулась и
сказала, мудрая женщина:
— Что ж, раз война, раз голодно, так и в гости теперь не
ходить?
Она спрашивала Вадима, глядела на него мягко и совсем не-
требовательно, и, наверное, поэтому он заморгал, захлопал рес-
ницами, смутился опять, постоял, опустив голову, потом вздох-
нул, словно что-то про себя решил, и, взглянув на маму, улыб-
нулся.
Она не сказала ни «то-то же», ни «давно бы так», как гово-
рила мне, а ответила Вадиму мягкой улыбкой, повела рукой.
— Прошу к столу!
После ужина настойчивая мама опять взялась за свое.
— Понимаете,— сказала она, переводя взгляд с Вадима на
Марью и обратно, словно взывая к их общему разуму,— я ведь
медицинский работник, а ваша мама больна, так что от гигиены...
ну от того, как часто вы ходите в баню, зависит не только здо-
ровье, но даже жизнь.
Что ж, мама оказалась права: у брата и сестры, похоже, был
общий разум и общие сложности. Они потупились и замолчали.
Первым заговорил Вадька.
— Да не-ет! — сказал он, будто с чем-то споря.— Как маму-то
увезли, так и нас тут же забрали. И все белье тоже, в это, как его...
— В санобработку,— подсказала мама.
— Во, во!
Он хмыкнул и заговорил поживее, раскачался наконец.
— Догола раздели, велели шпариться изо всех сил в самой
обыкновенной бане. А одежду всю \ везли. Когда привезли, она
горячущая была! Пришлось ждать, пока остынет.
— А у меня,— улыбнулась Машка,— в пальто целлулоидный
гусенок остался. Потом одеваюсь! Хвать! А вместо гусенка такой
корявый кусочек. Весь расплавился.
— Ну, ну! — подбодрила их мама.— А потом? После этого-то
ходите в баню?
69
Снова они помолчали, но Марья махнула рукой и произнесла:
>— Ладно уж, я расскажу!
Вадим вздохнул облегченно. Будто Марья с него поклажу сня-
ла. Кстати, ее лицо тоже прояснилось. Это бывает, когда человек
на что-то серьезное решается. Хотя, как выяснилось, серьезного
тут ни на чуточку не было. Одна смехота. Правда, это теперь
Машка хихикала, прыскала в ладонь. А тогда небось не очень-то.
В общем, их мама им обоим разобъяснила, что маленьким
поодиночке в баню лучше не ходить. Во-первых, говорила она,
маленький один вымыться как следует не в состоянии. Что ж, она
была права. Я сам, когда однажды самостоятельно в баню ходил,
все запомнить старался, чего я уже намылил разок, а чего нет.
Руку там, ногу, да и какую именно.
Но ладно, ладно, про себя потом, сперва про Машку.
Ну так вот. Во-первых, значит, маленький один не вымоется.
Ясное дело, это относилось не к Вадьке. И пока мама была дома,
они ходили с Машкой в женскую баню. Все в порядке. Но вот
мама заболела и почувствовала, что ее положат в больницу. Тог-
да она заволновалась и стала говорить всякие нужные вещи. Про
карточки, чтоб не потеряли. Про учебу, чтобы ни о чем не дума-
ли, знали себе учились. И про баню.
В бане, говорила она, Машка ни за что не вымоется одна, ей
нужна помощь, да это и опасно, можно ошпариться горячей во-
дой, если дочка потащит шайку сама, сил не хватит — и она опро-
кинет воду на себя или, не дай бог, поскользнется на мокром бе-
тонном полу, упадет и сломает руку или ногу или, того хуже,
ударится головой.
Опа была в поту, ее лихорадило, а она все говорила про ба-
ню— может, уже наступил бред—и требовала, чтобы Вадик не
отпускал Марью одну, а брал ее с собой в мужское отделение,
никакого тут нет стыда, если брат привел маленькую сестренку,
маленьких пускают, ничего страшного. Маме было плохо, Вадим и
Марья не могли спорить и дали ей слово все делать так, как она
велела.
Ну вот. Маму увезли. Прошло сколько-то времени, и настала
пора идти в баню Машка стала отнекиваться, а Вадим ругать-
ся. К тому времени Марья уже потеряла карточки, поэтому боль-
ших шансов доказать, что в баню можно и не ходить, у нее не
было. Когда в доме тиф, есть или был, надо чаще мыться. Как
можно чаще. Об этом радио все уши прожужжало И плакаты
везде висели, страшненькие такие плакаты: нарисована большая
вошь и под ней черное большое слово «ТИФ».
Вадька был грамотнее Марьи, плакаты читал, и звуки радио
в него тоже залетали. Поэтому он собрал мочалку, мыло — к то-
му же и мочалка была всего одна, и мыла плоский такой оста-
ток, обмылок,— велел Марье прогладить утюгом трусишки да ру-
башки свои и Вадимовы, взял Марью за руку и силком повел
в баню.
— Вы знаете, какой ужас! — причитала Марья и даже сейчас
60
еще краснела.— Какой стыд! Вокруг одни голые мужчины! И я од-
на среди них! А Вадька! Ругается! И какие-то мальчишки над ним
смеются.
— «Мужчины»!— передразнил ее Вадим. Первый раз я уви-
дел, как вежливость по отношению к сестре изменила ему. Вид-
но, это было выше его сил.— Одни старики да мальчишки!
— Какая разница!—воскликнула Марья.— В общем, я реши-
ла, будь что будет. Разделась и как в омут нырнула.
— Ну и что? — спросил Вадим голосом человека, знающего
ответ.— И ничего страшного. Раз надо, так надо!
— В мойке стало легче,— согласилась Марья.— Густой пар, и
ничего не видно. Я прикрылась тазиком, а волосы, видите, корот-
кие, так что на меня никто не посмотрел.
— Забились в угол! — перебил сестру Вадим.— Я ее спиной
ко всем посадил. Намылил как следует. Сам воду таскал.— Он
засмеялся.— Трусиха, сидела закрыв глаза. Вся тряслась от
страха.
Бабушка и мама улыбались, поглядывали на меня, и я отлично
понимал, почему они так смотрят. И тут мама сказала:
— Ничего особенного, Машенька. Что же делать? У нас вон
Коля тоже со мной в баню ходит!
Надо же! Не смогла промолчать!
Я чувствовал, что заливаюсь горячим жаром, что лицо мое пы-
лает, что уши, наверное, уже похожи на два октябрятских
флажка.
Марья выкатила на меня свои шары. «Чего увидела-то?» — хо-
тел спросить я. И тут Вадька воскликнул:
— Видишь, Марья!
Будто какая-то великая правда восторжествовала. А Вадька
крикнул снова:
— Так она с тех пор в баню ходить не хочет!
Не успел отпылать я, залилась Машка. Покрылась даже ис-
париной.
Ну, вот и все. Мама принялась говорить Марье, что это глупо,
что в баню следует ходить постоянно, она же девочка, надо брать
шкафчик в уголке, там тихо раздеваться, по сторонам не глазеть,
быстро проходить в мойку и опять в уголок. Очень правильно сде-
лал Вадик, молодец, сразу видно, что большой мальчик, созна-
тельный человек, заботливый брат.
Наверное, она говорила такими же словами, как мама Вадика
и Марьи, а может, так говорят все мамы, очень похоже объясня-
ют разные простые вещи, и Вадим умолк, повесил голову, а из
Марьиных глаз пошла капель: кап-кап, кап-кап.
Мама все это видела, но не останавливалась, говорила свои
слова, считая, наверное, нужным как следует все и очень подроб-
но объяснить, а я думал о том, что все-таки плохо быть ма-
леньким.
Вроде ты и свободен, как все, а нет, не волен. Рано или позд-
но обязательно потребуется сделать что-то такое, чему душа твоя
Ы
противится изо всех сил. Но тебе говорят, это надо, надо, и ты,
маясь, страдая, упираясь, все-таки делаешь, что требуют.
Вот и выходят всякие глупости. Я, мальчишка, моюсь с ма-
мой в женской бане, а девчонка Машка с братом в мужской.
Где тут истина? Где справедливость?
* * *
Ну и третье событие того вечера.
Да. Есть вещи, которые даже вспоминать противно... В общем
Вадим и Марья пошли домой, я хотел их проводить, но мама ме-
ня не пустила.
— Почему? — удивился я.
— Есть дело,— строго ответила она.
Сердце снова заколотилось неровно, с перебоями. Но что же,
что означает эта странная строгость? Ждать оставалось недолго.
Едва Вадим и Марья вышли, как мама оборотилась ко мне, и
я увидел, что лицо ее стало точно таким, как у гипсовой жен-
щины с веслом в скверике у кинотеатра.
— Где! Ты! Сегодня! Был! — не спросила, а отчеканила мама.
«Откуда, откуда она могла узнать?» — думал я совершенно глу-
по. Будто, откуда именно она узнала, могло иметь для меня хоть
какое-нибудь значение.
— Ну... — бормотат я.— Так... В общем... .Мы...
Вот так я и проговорился. Так я поставил под вопрос значе-
ние Вадима в своей жизни. В маминых, конечно, глазах.
— Ах, мы! — воскликнула мама. И уже не дала мне опом-
ниться.— С Вадиком? — продолжала она, и мне не оставалось ни-
чего иного, как послушно кивать.— И с Машей! Ну, ясное дело, и
с ней. И все трое! — восклицала мама.— Прогуляли уроки!
Я помотал головой.
•— Ах, не трое! Только вы с Вадимом?
Но не мог же я клеветать на невинного человека.
— Значит, с Машей! Но ведь она ходила в школу. Так!..
Даже для мамы не такая простая задача. Требуется поразмыс-
лить. Но только мгновение.
— Сначала,— выносила она обвинение,— ты прогулял с Вади-
мом! Ее глаза рассыпали громы и молнии.— А потом с Машей.
Я кивнул и кивнул еще раз. «Хорошо, хорошо,— как бы го-
ворил я.— Но выслушай же, в конце концов. Даже злостный пре-
ступник и тот имеет право на объяснение своих действий».
Мама стояла, скрестив руки на груди, совсем как Наполеон
Бонапарт. Только вот треуголки на ней не было. Ну и конечно,
брюк. А так вылитый император. А рядом с ним покорная слуга —
внимательная, качающая головой, осуждающая меня бабушка.
«Да погодите вы! — встряхнулся я.— Выслушайте меня». И про-
лепетал:
— Мы искали еду.
— Что? — воскликнула мама.
А бабушка горестно подперла ладонью подбородок.
62
— Что? Что? Что? — выкрикивала мама, будто боялась, что
не так меня поняла. Ослышалась.— Ты? Искал? Еду?
— Ну да! — сказал я.— С Вадиком. Достали жмых. Только
он невкусный. Его надо пилить. Напильником.
Когда человека обвиняют не совсем уж напрасно, он чаще все-
го занимается объяснением ничего не значащих мелочей. И как
правило, это только раздражает обвинителей. Маму тоже понесло.
Этот жмых, которого она, может, никогда и не видала, словно свел
ее с ума.
Она вдруг заговорила с бабушкой. Есть такая манера у взрос-
лых: при тебе обращаться к другому человеку, выкрикивая вся-
кие вопросы.
— Представляешь?—крикнула она бабушке.— Мы бьемся! Как
мухи в ухе! Работаем! Не покладая рук! Экономим! Думаем о нем
и на работе и даже во сне! А он! Прогуливает уроки!
Есть еще и другой способ пытки. Обращаются вроде к тебе, а
ответить не дают. Отвечают сами.
— Ты что, голоден? — спросила меня мама, но даже не взгля-
нула на меня.— Сыт! Ты разут? Нет, обут! У тебя нет тетрадок?
Есть! Тебе холодно? Ты живешь в тепле! Тогда чего же тебе
надо? — воскликнула она, и я подумал, что хоть сейчас-то дадут
слово мне. Не тут-то было! У мамы на все имелись свои ответы.—
Хорошо хчиться! — сказала она. И прошлась от стола до ши-
фоньера.— И уж конечно! Не пропускать уроков!
Без всякого перехода Наполеон Бонапарт опустил руки и за-
шмыгал носом. Самый худший вид пытки — материнские слезы.
Да епде из-за тебя. Я этого не мог переносить совершенно. Мне
сразу хотелось в прорубь головой.
Но вот, мама пошмыгала носом и произнесла уже обыкновен-
ным, впол> е маминым голосом сквозь скорые, будто летний дождь,
слезы:
— Мы с бабушкой стараемся, а ты!
— Больше не буду! — искренне и даже горячо сказал я един-
ственно возможное, что говорят в таких случаях.
— Выходит... — вдр^г успокоилась мама. И дальше бухнула
жуткую ерунду: — Выходит, на тебя плохо влияет Вадик!
Мше даже уши заложило от гнева.
— Как не стыдно! — крикнул я ей. Нет, не просто крикнуть та-
кие слова чаме. Да еще повторить: — Как тебе не стыдно!
Меня всего колотило! Ну, эти взрослые! Им лень поверить соб-
ственным детям. Им все кажется, будто их надуют. Трудно раз-
ве— возьми расспроси по шажочку каждый час целого дня. По-
пробуй по: ять! Раздавить легче всего. Попробуй понять, вот что
самое главное. И потом, почему надо думать, будто дети хуже
всех? 'Так и рвутся к беде, к гадостям, так и рвутся натворить
каких-нибудь позорных безобразий.
Машу мой отчаянный крик остановил. Так мне показалось.
Но что-то рухнуло во мне. Какая-то тонкая перегородочка сло-
малась.
63
ф * *
Ах, взрослые, умные, мудрые люди!
Если бы знали вы, как тяжелы ваши окрики! Как неправиль-
но— не звучит, а действует ваше слово, в которое, может, и смыс-
ла вы такого не вкладывали, но вот произнесли, и оно звучит, зву-
чит, как протяжный звук камертона в маленькой душе долгие-
долгие годы.
Многим кажется, что пережать, коли дело имеешь с малым,
совсем не вредно, пожалуй, наоборот: пусть покрепче запомнит,
зарубит на носу. Жизнь впереди долга, и требуется немало важ-
ных истин вложить в эту упрямую голову.
Кто объяснит вам, взрослые, что хрупкое легко надломить.
Надлома, трещины и не заметишь, а душа пойдет вкось. Глянь,
хороший ребенок вдруг становится дурным взрослым, которому
ни товарищество, ни любовь, ни даже святая материнская лю-
бовь не дороги, не любы.
Хрупкая, ломкая это вещь — душа детская. Ох, как беречь на-
до бы ее, ох, как надо!..
* * *
То ли слишком послушным был я тогда, то ли слишком сла-
бым, то ли привык жить в этаком коконе, какой сплели вокруг
меня мама и бабушка, а дрогнул я духом.
Не вышло дружбы у меня с Вадиком и Марьей, вышло зна-
комство. Я заходил к ним домой, и они приходили к нам, бабуш-
ка угощала, чем могла. Но чаще всего мы встречались в столов-
ке— и у Марьи и у Вадика были теперь талоны на дополнитель-
ное питание, да и новые карточки они тоже получили еще до кон-
ца апреля.
Случалось, к нам подсаживался мальчишка или девчонка, про-
сили дрожавшими, тихими, униженными голосами: «Оставь!
Оставь чуточку!» И они оставляли. Теперь оставляли они. Ни Нос,
ни тот тыквенный пацан никогда больше не приближались к нам,
хотя я видел их в восьмой столовке. Бывшего шакала Вадьку
хорошо знали тут и предпочитали с ним не связываться.
Впрочем, может, была совсем другая причина, что мы не ста-
ли друзьями,— время?
Слишком мало его оказалось у нас. Слишком!
Я узнал Вадьку и Марью в первые дни апреля, а весна самая
короткая пора года — кому не известно это?
Весна мчится! Она похожа на добрую дворничиху, эта пре-
красная весна! Сметает остатки сугробов, почерневший лед на до-
роге. Смывает ручьями городскую грязь. Сдувает тяжкие тучи с
неба и чистыми губками белых облаков протирает, протирает,
как прилежная хозяйка оконное стекло, небо до радостной и яс-
ной голубизны.
Веспа — слуга солнца, она работает у него маляром. Раз—и
выкрасила тополя в розовый цвет клейких сережек. Раз — и по-
крыла землю зеленой краской травы. Раз — и мазнула сады и леса
белой черемухой.
64
Весна и на людей влияет. Разгибает спины тех, кто опустил
плечи. Разглаживает морщины на лицах. Заставляет вдохнуть
поглубже воздух, пьянящий до головокружения.
Весна готовит землю и людей к лету, заставляет поторапли-
ваться даже ребят, которым кажется, что вся жизнь у них впе-
реди и спешить совершенно некуда. Жизнь-то, конечно, впереди,
но, как известно, неподалеку конец четвертой четверти в школе,
конец учебного года, последние отметки, а начиная с четвертого
класса — экзамены и совсем невидимый шажок в следующий
класс. Вот так-то!
Ну а та весна вообще была необыкновенной. Голос Левитана
становился все торжественней. Все медленнее и тщательнее, как
будто прибавляя им весу, выговаривал он каждое слово в сооб-
щениях от Советского Информбюро.
Еще бы! Наши сражались в Германии!
Бились в Берлине!
Первомай вошел в наш городок зеленью и обещанием небы-
валого счастья.
Еще, еще денек. Еще...
А мама была мудрым человеком. Не раз возвращаясь с рабо-
ты, тихонько улыбалась и говорила:
— Встретишь Вадика или Машу, скажи, что их мама чувству-
ет себя неплохо.
Первый раз, когда она сказала это, я не поверил:
— Откуда ты знаешь? Туда никого не пускают!
— Ну-у,— улыбнулась мама загадочно.— Я ведь медицинский
работник.
И я передал два или три раза Вадьке мамино сообщение. Ма-
ма никогда не подводила. Уж если говорит, сомневаться не при-
ходится.
Да и вообще! Весна вокруг! Скоро конец войне! Черная про-
ходнушка с черными, как вороны, санитарками, уже казалась мне
невзаправдашней, явившейся в болезненном сне, не наяву. Все
готовилось к счастью и миру, а если человек очень сильно думает
о празднике, он забывает про беду.
Был в сорок пятом, как в любом году жизни, такой день —
восьмое мая. Когда он настал и когда двигались часовые стрелки,
отмеряя его длину, никто в нашем доме и во всем нашем городе
еще не знал, будто это какой-то особенный день. Да и потом мы
не очень думали про него — кто будет горевать о последнем дне
войны, если рядом с ним стоит первый день мира! Но он все-таки
был, этот день. Последний день войны.
Война умирала нехотя. Все было ясно, а где-то там, в Берли-
не, еще строчили автоматы и ухали пушки.
Восьмое мая началось как обычно. Весна рвалась в окна сол-
нечными щедрыми шторами, клокотала мутными ручьями, орала
грачиными голосами. Так что все шло своим ходом.
Я уже давно выучил уроки, когда мама вернулась с работы.
Вообще я считал себя внимательным человеком, но вначале
ь5
ничего не заметил. Хотя потом, когда прошло время, и я понял
чуть побольше, чем понимал вначале, мне стало понятно, отчего
мама не вошла сразу в комнату, почему сразу занялась какими-то
делами на кухне, отчего долго умывалась и говорила с бабушкой
подчеркнуто легким голосом.
Потом она вошла в комнату, порылась на комоде, в шкатулке
перед зеркалом — на этой шкатулке сияли под ярким солнцем
невиданные пальмы па берегу зеленого моря, а внутри хранились
всякие женские мелочи-—заколки, наперстки, пустой флакончик
из-под довоенных духов, довоенная и уже высохшая без употреб-
ления губная помада. Ничему этому не стоило придавать ровным
счетом никакого значения. Я и пе придавал. Это потом уж я по-
думал, что мама копалась в своей шкатулке слишком долго для
ее скорого характера.
Потом она обернулась, сделала шаг ко мне и поцеловала ’пе-
ня в макушку. Я даже вздрогнул с перепугу. Не то чтобы мама
не ласкала меня, напротив! Я рос, пожалуй, скорее, заласканным,
с каким-то девичьим, от жизни в женской семье, характером. Но
мама поцеловала меня так неожиданно, что я дернулся, хотел
обернуть к ней лицо, ио у меня ничего не вышло: мама крепко
держала меня за голову. Она не хотела, чтобы я видел ее.
Потом стремительно, как всегда, отошла к окну. И я увидел,
что она плачет.
Ужас! Меня всегда охватывал ужас, когда мама вдруг плака-
ла. Потому что она никогда не плакала за всю войну. Раза три
или четыре, а может, пять в счет не шли. Я точно знал: мама мо-
жет плакать только от большой радости или большого горя. По-
этому при виде ее дрожащих плеч мне приходило в голову самое
худшее. Отец! Что-то случилось с отцом!
Конечно, я закричал, вскочив:
— Что с папой?
Мама испуганно обернулась.
— Нет! Нет! — воскликнула она.— С чего ты взял!
— А почему ты плачешь? — спросил я по-прежнему громко,
хотя и успокаиваясь...
— Просто так! — сказала мама.— Просто так!
В дверях уже стояла бабушка, опа тоже с подозрением огля-
дывала маму, ей тоже не верилось, что мама станет плакать про-
сто так, ясное дело.
Мама улыбнулась, но улыбка вышла кривоватая,
— Честное слово,— проговорила она,— я просто так. Подума-
ла о папе... Где-то он там?
Где-то он там? Что-то с ним? Боже, сколько я думал об этом!..
Словом, и я, и бабушка — мы, конечно, сразу стали думать про
отца, погрустнев, и я решил, что, пожалуй, мама имеет полное
право всплакнуть.
В молчании мы поели. И мама вдруг спросила меня:
— Как там Вадик? Как Маша?
— В баню ходят исправно,— ответил я.
66
— Вот видишь,— сказала мама,-—какие молодцы.— Она по-
медлила, не сводя с меня внимательного взгляда, и добавила:—
Просто герои. Самые настоящие маленькие герои.
Глаза ее опять заслезились, словно от дыма, она опустила лицо
к тарелке, потом выскочила из-за стола и ушла к керосинке.
Оттуда она сказала подчеркнуто оживленным голосом:
— Коля, а давай сегодня к ним сходим. Я ведь даже не знаю,
где они живут.
— Давай,— сказал я скорее удивленно, чем радостно. И по-
вторил веселей: — Давай!
— Мама! — это она обращалась к бабушке.— Соберем-ка им
какой гостинец, а? Неудобно ведь в гости с пустыми руками.
— Да у меня ничего и нет такого-то! — развела руками ба-
бушка.
— Мучицы можно,— говорила мама, шурша в прихожей куль-
ками, брякая банками.— Картошки! Масла кусочек. Сахару.
Бабушка нехотя вышла из-за стола, там, за стенкой, женщины
стали перешептываться, и мама громко повторила:
— Ничего, ничего!
В комнату Вадика и Марьи мама вошла первой и как-то уж
очень решительно. Ее не удивила убогость, она даже и на ребят
не очень глядела, и вот это поразило меня. Странно как-то! Мама
принялась таскать воду, взяла тряпку, начала мыть пол, а в это
время шипел чайник, и мама перемыла всю посуду, хотя ее было
мало и она оказалась чистой.
Мне показалось, мама мучает себя нарочно, придумывает се-
бе работу, которой можно и не делать, ведь пол в комнате был
вполне приличный. Похоже, она не знала, за что взяться. И все
не глядела на Вадика и Марью, отворачивала взгляд. Хотя бол-
тала без умолку.
— Машенька, голубушка,— тараторила мама,— а ты умеешь
штопать? Сейчас ведь, сама знаешь, как худо. Учиться, учиться
надо, деточка, и это очень просто: берешь грибок такой деревян-
ный, ну, конечно, грибок не обязательно, можно на электрической
лампочке перегорелой, можно даже на стакане, натягиваешь но-
сок, дырочкой-то кверху, но и ниткой, сперва шовчик вдоль, по-
том поперек, не торопясь надо, старательно, вот и получится нитя-
ная штопка, это всегда пригодится...
В общем, такая вот говорильня на женские темы, сперва про
штопку, потом как борщ готовить, потом чем волосы мыть, что-
бы были пушистые,— и так без передыху, не то что без точки,
без паузы, но даже без точки с запятой.
И все бы ничего, если бы не одно важное обстоятельство, впро-
чем, известное одному мне. Обстоятельство это заключалось в том,
что мама терпеть не могла такой болтовни и мягко, но реши-
тельно прерывала подобные разговоры, если за них принималась
какая-нибудь женщина, зашедшая к нам на огонек. Я слушал и не
верил своим ушам.
Наконец вся комната оказалась прибранной и прочищенной,
67
чай вскипел, и не оставалось ничего другого, как сесть за стол.
Мама первый раз за весь вечер оглядела Вадика и Марью.
Вмиг она умолкла и сразу опустила голову. Вадька понял это
по-своему и стал неуклюже, но вежливо благодарить. Мама быст-
ро, скользом глянула на него и неискренне засмеялась:
— Ну что ты, что ты!
Я-то видел: она думает о другом. Нет, честное слово, мама не
походила на себя сегодня. Будто с ней что-то случилось, а она
скрывает. И это ей плохо удается.
Мы попили чай.
Пили его с хлебом, помазанным тонким, совершенно прозрач-
ным слоем масла, и с сахаром — совсем по-праздничному. Сахару
было мало, и мы ели его вприкуску, ничего удивительного. Пить
чай внакладку считалось в войну непозволительной роскошью.
Сахар к чаю был тоже военный, бабушкин.
Получив паек песком, она насыпала его в мисочку, добавляла
воды и терпеливо кипятила на медленном огне. Когда варево осты-
вало, получался желтый ноздреватый сахар, который было легко
колоть щипцами. А главное, его становилось чуточку больше.
Вот такая военная хитрость.
Мы пили чай, ели черный хлеб с маслом, прикусывали сахарку
помалу, а стрелки часов подвигались к краю последнего дня вой-
ны, за которым начинался мир. Разве мог я подумать, что это
последний наш чай в этой неуютной комнате?..
Потом мы вышли на улицу. Вадик и Марья улыбались нам
вслед.
Стояли на пороге комнаты, махали руками и улыбались.
Я еще подумал: как будто они уезжают. Стоят на вагонной
ступеньке, поезд еще не тронулся, но вот-вот тронется. И они ку-
да-то поедут.
Мы вышли на улицу, и я снова почувствовал, что с мамой не-
ладно. Губы у нее не дрожали, а просто тряслись.
Мы повернули за угол, и я опять крикнул:
— Что с папой?
Мама остановилась, сильно повернула меня к себе и неудобно
прижала к себе мою голову.
— Сыночка! — всхлипывала она.—Родной мой! Сыночка!
И я заплакал тоже. Я был уверен: отца нет в живых.
Она еле отговорила меня. Клялась и божилась. Я успокоился
с трудом. Все не верил, все спрашивал:
— Что же случилось?
— Просто^ так! — повторяла мама, и глаза ее наполнялись сле-
зами.— Дурацкое такое настроение! Прости! Я расстроила тебя,
глупая.
* * *
А потом настало завтра! Первый день без войны.
Я ведь, конечно, не понимал, как кончаются войны,— подума-
ешь, без года: и одного месяца начальное образование! Просто я
не знал, как это делается. Правда, я думаю, и бабушка моя не
Ь8
представляла, и мама тоже, и многие-многие взрослые, которые
не были на войне, да и те, кто были,— не могли вообразить, как
закончилась эта проклятая война там, в Берлине.
Перестали стрелять? Тихо стало? Ну а что еще? Ведь не мо-
жет же быть, чтобы перестали стрелять— и все кончилось! На-
верное, кричали наши военные, а? «Ура» орали изо всех сил.
Плакали, обнимались, плясали, палили в небо ракеты всех цве-
тов?
Нет, чего ни придумай, чего не вспомни, все будет мало, чтобы
небывалое счастье выразить.
Я уж думал: может заплакать надо? Всем-всем-всем запла-
кать: и девчонкам, и пацанам, и женщинам, и, конечно, военным,
солдатам, генералам и даже Верховному Главнокомандующему у
себя в Кремле. Встать всем и заплакать, ничегошеньки не сты-
дясь,— от великой, необъятной, как небо и как земля, счастливой
радости.
Конечно, слезы всегда на вкус соленые, даже если плачет че-
ловек от радости. А уж горя-то, горя в этих слезах — полной ча-
шей, немереного, крутого...
Вот и мама — она меня в тот день слезами умыла. Я еще спал,
она схватила меня спящего, что-то шепчет, чтобы не напугать, а
на лицо мне ее горячие слезы капают: кап-кап, кап-кап.
•— Что случилось?
Я вскочил перепуганный, взъерошенный, как воробей. Первое,
что мне в голову пришло: я был прав. Отец! Нельзя же плакать
без серьезных причин целый вечер и утро в придачу!
Но мама мне шепнула:
— Все! Все! Конец войне!
«Почему она шепчет? — подумал я.— Об этом же кричать на-
до!» И гаркнул что было сил:
— Ура-а-а!
Бабушка и мама прыгали возле моей кровати, как девчонки,
смеялись, хлопали в ладоши и тоже кричали, будто наперегонки:
— Ура-а-а!
— Ура-ура-ура!
— А когда? — спросил я, стоя на кровати в трусах и майке.
Надо же, отсюда сверху, наша комната казалась огромной, про-
сто целый мир, и я, простофиля, об этом не знал.
— Что—когда? — засмеялась мама.
— Когда конец войны настал?
— Рано утром объявили. Ты еще спал!
Я вскипел:
— И меня не разбудили?
— Жалко было! — сказала мама.
— Ты что говоришь! — опять закричал я.— Как это жалко?
Когда такое, когда такое... — Я не знал, какое слово применить.
Как назвать эту радость. Так и не придумал.— А как, как?
Мама смеялась. Она меня понимала сегодня, отлично понима-
ла мои невнятные вопросы.
69
— Ну, мы с бабушкой выскочили па улицу. Утро только начи-
нается, а народу полно. Да ты вставай! Сам увидишь!
Никогда в жизни — ни до, ни после — мне не хотелось так на
улицу. Я лихорадочно оделся, обулся, умылся, поел и вылетел во
двор в распахнутом пальто.
Погода стояла серенькая, унылая, что называется, промозглая,
ио если бы даже бушевала буря и гром гремел, мне этот день все
равно показался бы ярким и солнечным.
Народ двигался прямо по булыжной мостовой, освободившей-
ся от снега. Ни одного человека не было на тротуарах. И знаете,
что пришло мне сразу же в голову? Тротуары ведь сбоку от до-
роги, с двух сторон. Люди ходят по одной и по другой стороне
в обычные дни, двумя самостоятельными дорожками. А тут до-
рожки стали смешны! Глупы до отвратительности! Людей потяну-
ло в толпу, на самую середину дороги. Как можно шагать на рас-
стоянии друг от друга? Надо соединиться, чтобы видеть улыбки,
говорить приветливые слова, смеяться, жать руки незнакомым
людям!
То-то радость была!
Будто все на улице знакомые или даже родные.
Сперва меня обогнала ватага мальчишек. Они кричали «ура»,
и каждый стукнул меня — кто в бок, кто по плечу, но не больно,
а дружески, и я тоже крикнул:
— Ура-а-а!
Потом мне навстречу попался коренастый старик с окладистой
бородой. Лицо его показалось мне мокрым, и я подумал, что
он, наверное, плачет. Но старик гаркнул бодрым голосом:
— С победой, внучок!—И рассмеялся.
На дороге стояла молодая женщина в клетчатом платке, со-
всем девушка. В руках она держала сверток с ребенко,м и громко
приговаривала:
— Смотри! Запоминай! — Потом счастливо смеялась и снова
повторяла: — Смотри! Запоминай!
Будто этот несознательный младенец может что-нибудь за-
помнить! Ему, похоже, было не до праздника, он орал в своем
кульке, этот карапуз. А его мать опять рассмеялась и сказала:
— Правильно кричишь. Ура! Ура! — И спросила меня: — Ты
видишь? Он кричит «ура»!
— Молодец! — ответил я.
А женщина крикнула:
— Поздравляю!
На углу стоял инвалид, ему подавала почти каждая женщина,
которая проходила мимо,— это раньше, в простые дни. У него не
Гыло правой руки п левой ноги. Вместо них подвернутые рукав и
штанина — гимнастерки и галифе.
Обычно он сидел на деревянном чурбачке, перед ним лежала
зимняя шапка со звездочкой, в эту шапку и бросали монеты, а
сам инвалид бывал пьянехонек, впрочем, и молчалив, никогда ни-
1 его не говорил, только смотрел на прохожих и скрипел зубами.
70
Слева па его груди слабо взблескивала медаль «За отвагу», за-
то на правой половине гимнастерки, будто погон нашили, длинный
ряд желтых и красных полосок —за ранения.
Сегодня инвалид был тоже выпивши, и, видать, крепко, ио не
сидел, а стоял, опираясь о костыль тем боком, где должна быть
правая рука. Левую он держал возле виска, отдавая честь, и не-
куда было ему класть сегодня подаяние.
Он бы, может, и не взял. Стоял па углу, как живой памятник,
и к нему с четырех сторон подходил народ. Женщины, которые
посмелее, подходили к нему, целовали, плакали и тут же отходи-
ли назад. И он каждой отдавал честь. Все так же молча, будто
немой. Только скрежетал зобами.
Я пошел дальше. И вдруг чуть не присел —такой раздался
грохот. Совсем рядом со мной стоял человек в погонах майора
и палил из пистолета. Трах-трах-трах! Он выпустил целую обой-
му и засмеялся. Это был прекрасный майор! Лицо молодое, усы
как у гусара, и иа груди целых три ордена. Погоны горели зо-
лотом, ордена позванивали и блестели, сам майор смеялся и
кричал:
— Да здравствуют наши славные женщины! Да здравствует
героический тыл!
Возле пего сразу свилась толпа. Женщины, смеясь, начали
вешаться майору на шею, и их нависло сразу столько, что воен-
ный не выдержал и рухнул вместе с женщинами. А они кричали,
визжали, смеялись. Я не успел моргнуть, как все поднялись, а
майора подняли еще выше, над толпой, какое-то мгновение он сто-
ял вот так, над женщинами, потом упал, только уже не на зем-
лю, а им в руки, они ухнули и подкинули его в воздух. Теперь
сиял не только манор, но и его блестящие сапоги. Он еле угово-
рил остановиться, едва отбился. За это его заставили поцеловать
каждую.
— По-русски,— кричала какая-то бойкая тетка.— Три раза!
В школе вообще творилось что-то несусветное. Народ бегал
по лестницам, орал, весело толкался. Мы никогда не допускали
телячьих нежностей, это считалось неприличным, но в счастливый
День Победы я обнялся с Вовкой Крошкиным, и с Витькой, и да-
же с Мешком, хоть он и олух царя небесного!
Все прощалось в этот день. Все были равны — отличники и
двоечники. Всех нас любили поровну наши учителя — тихонь и за-
бияк, сообразительных и сонь. Все прошлые счеты как будто бы
закрывались, нам как бы предлагали: теперь жизнь должна идти
по-другому, в том числе и у тебя.
Наконец учителя, перекрикивая шум и гомон, велели всем стро-
иться. По классам, внизу, на небольшом пятачке, где устраива-
лись общие сборы. Но по классам не вышло! Все толкались, бро-
дили, перебегали с места на место, от товарища к знакомому из
другого класса и обратно. В это время директор Фаина Васильев-
на изо всех сил гремела знаменитым школьным колокольчиком, по-
хожим скорее на медное ведерко средних размеров. Звон полу-
71
чался ужасный, приходилось закрывать ладонями уши, но сегод-
ня и он не помогал. Фаина Васильевна звонила минут десять, не
меньше, пока школа чуточку притихла.
— Дорогие дети! — сказала она, и только тогда мы притих-
ли.— Запомните сегодняшний день. Он войдет в историю. Позд-
равляю всех нас с Победой!
Это был самый короткий в моей жизни митинг. Мы заорали,
забили в ладоши, закричали «ура», запрыгали как можно выше,
и не было на нас никакой управы. Фаина Васильевна стояла на
первой ступеньке, ведущей вверх. Она смотрела на свою бесную-
щуюся, вышедшую из повиновения школу сперва удивленно, по-
том добродушно, наконец засмеялась и махнула рукой.
Дверь распахнулась, мы разбились на ручейки и втекли в свои
классы. Но сидеть никто не мог. Все ходило в нас ходуном. Нако-
нец Анна Николаевна чуть успокоила нас. Правда, спокойствие
было необычным: кто стоял, кто сидел верхом на парте, кто уст-
роился прямо на полу, возле печки.
— Ну вот,— сказала негромко Анна Николаевна, словно по-
вторяла вопрос. Она любила задавать вопросы дважды: один раз
громче, второй — тихо.— Ну, вот,— произнесла снова,— война
кончилась. Вы застали ее детьми. И хотя вы не знали самого
страшного, все-таки вы видели эту войну.
Она подняла голову и опять посмотрела куда-то поверх нас,
будто там, за школьной стеной и дальше, за самой прочной! стеной
времени, просвечивала наша дальнейшая жизнь, наше будущее.
— Знаете,— проговорила учительница, немного помедлив, точ-
но решилась сказать нам что-то очень важное и взрослое.— Прой-
дет время, много-много времени, и вы станете совсем взрослыми.
У вас будут не только дети, но и дети детей, ваши внуки. Пройдет
время, и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. Остане-
тесь только вы, теперешние дети. Дети минувшей войны.— Она
помолчала.— Ни дочки ваши, ни сыновья, ни внуки, конечно же,
ле будут знать войну. На всей земле останетесь только вы, кто
помнит ее. И может случиться так, что новые малыши забудут
наше горе, нашу радость, наши слезы! Так вот, не давайте им за-
быть! Понимаете? Вы-то не забудете, вог и другим не давайте!
Теперь уже молчали мы. Тихо было в нашем классе. Только
из коридора да из-за стенок слышались возбужденные голоса.
* * *
После школы я не помчался к Вадьке, он ведь теперь не про-
пускал уроков, да и разве может хоть кто-нибудь усидеть дома
в такой день?
В общем, я пришел к ним в сумерки.
Коммунальный трехэтажный дом, где они жили, походил на
корабль: все окна светились разным цветом — это уж зависело
от штор. И хотя никакого шума и гама не слышалось, было и так
понятно, что за цветными окнами люди празднуют победу. Может,
72
кто-нибудь и с вином, повзаправдашнему, но большинство — чаем
послаще или картошкой, по сегодняшнему случаю не просто ва-
реной, а жареной. Да что там! Без вина все были пьяны радостью!
В тесном пространстве под лестницей ко мне прикоснулся страх
своей ледяной рукой! Еще бы! Дверь в комнату, где жили Вадим
и Марья, была приоткрыта на целую ладонь, и в комнате не го-
рел свет. Сначала у меня в голове мелькнуло, будто комнату очи-
стили воры. Где у них совесть, в праздник-то...
Но тут я почувствовал, как в приоткрытую дверь бьет тем-
ный луч.
Будто там, в комнате, жарко печет черное солнце и вот его лу-
чи пробиваются в щель, проникают под лестницу. Ничего, что его
не видно, это странное солнце. Зато слышно, зато его чувствуешь
всей кожей, словно дыхание страшного и большого зверя.
Я потянул на себя дверную ручку. Протяжно, будто плача, за-
скрипели петли.
В сумерках я разглядел, что Марья лежит на кровати одетая
и в ботинках. А Вадим сидит на стуле возле холодной «буржуйки».
Я хотел сказать, что это великий грех — сумерничать в такой
вечер, хотел было отыскать выключатель и щелкнуть им, чтобы
исчезло, истаяло странное черное солнце, ведь с ним справится
и обычная электрическая лампочка. Но что-то удержало меня
включить свет, заговорить громким голосом, схватить сзади Ва-
дима, чтобы он шевельнулся, ожил в этом мраке.
Я прошел в комнату и увидел, что Марья лежит с закрытыми
глазами. «Неужели спит?» — поразился я. И спросил Вадима:
— Что случилось?
Он сидел перед «буржуйкой», зажав ладони коленями, и лицо
его показалось мне незнакомым. Какие-то перемены произошли в
этом лице. Оно заострилось, чуточку усохло, по-детски пухлые
губы вытянулись горькими ниточками. Но главное — глаза! Они
стали больше. И как будто видели что-то страшное.
Вадим задумался и даже не шелохнулся, когда я вошел, по-
крутился перед ним и уставился ему в глаза.
— Что случилось? — повторил я, даже не предполагая того,
что может ответить Вадька.
А он смотрел, задумавшись, на меня, вернее, смотрел сквозь
меня и проговорил похудевшими, деревянными губами:
— Мама умерла.
Я хотел рассмеяться, крикнуть: мол, что за шутки! Но разве
бы стал Вадька... Значит, это правда... Как же так?
Я вспомнил, что за день сегодня, и содрогнулся. Ведь конец
войне, великий праздник! И разве возможно, чтобы в праздник,
чтобы такое случилось именно в праздник...
— Сегодня? — спросил я, все не веря. Ведь мама, моя мама,
на которую можно всегда положиться, просила передать Вадику
и Маше, будто дела в больнице идут на поправку.
А вышло...
— Уже несколько дней... Ее похоронили без нас...
73
Он говорил неживым голосом, мой Вадим. И я просто физи-
чески ощущал, как с каждым его словом между нами раскрыва-
ется черная вода.
Все шире и шире.
Будто он и Марья на маленьком плоту своей комнаты отплы-
вают от берега, где стою я, лопоухий маленький пацан.
Я знаю: еще немного, и черная быстрая вода подхватит плот,
и черное солнце, которое уже горит не видимым, а только ощу-
щаемым теплом, светит нестойкому плоту, провожает его в неяс-
1.ЫЙ путь.
— Что же дальше? — едва слышно спросил я В>адьку.
Он слабо шевельнулся.
— В детдом,— ответил он. И первый раз, пока мы говорили,
он моргнул. Посмотрел на меня осмысленным взглядом.
И вдруг он сказал...
И вдруг он сказал такое, что я никогда забыть не смогу.
— Знаешь,— сказал великий и непонятный человек Вадька,—
ты бы шел отсюда. А то есть примета.— Он помялся.— Кто ря-
дом с бедой ходит, может ее задеть,, заразиться. А у тебя батя на
фронте!
— Но ведь война кончилась,— выдохнул я.
— Мало ли что! — сказал Вадим.— Война кончилась, а ви-
дишь, как бывает. Иди!
Он поднялся с табуретки и стал медленно поворачиваться на
месте, как бы провожая меня. Обходя его, я протянул ему руку,
но Вадим покачал головой.
Марья все лежала, все спала каким-то ненастоящим, сказоч-
ным сном, только вот сказка была недобрая, не о спящей царевне.
Без всяких надежд была эта сказка.
— А Марья? — спросил я беспомощно. Не спросил, а проле-
петал детским, жалобным голосом.
— Марья спит,— ответил мне Вадим спокойно.— Вот проснет-
ся, и...
Что будет, когда Марья проснется, он не сказал.
Медленно пятясь, я вышел в пространство под лестницей.
И притворил за собой дверь.
Черное солнце теперь не прорывалось сюда, в подлестничный
сумрак. Оно осталось там, в комнатке, где окна так и заклеены
полосками бумаги, как в самом начале войны.
* * *
Я видел Вадима еще раз.
Мама сказала, в каком он детском доме. Пришла и сказала.
Я понял, что значили ее слезы в день накануне победы.
Я пошел.
Но у нас ничего не вышло, никакого разговора.
Вадима я разыскал на детдомовском дворе — он нес охапку
дров. Конец лета выдался прохладным, и печку, видать, уже то-
74
пили. Заметив меня, молча, без улыбки, кивнул, исчез в распах-
нутой пасти большой двери, потом вернулся.
Я хотел спросить его, мол, ну как ты, но это был глупый во-
прос. Разве не ясно как. И тогда Вадим спросил меня:
— Ну как ты?
Вот ведь один и тот же вопрос может выглядеть глупо и со-
вершенно серьезно, если задают его разные люди. Вернее, люди,
находящиеся в разном положении.
— Ничего,— ответил я. Сказать «нормально» у меня не повер-
нулся язык.
— Скоро нас отправят на запад,— проговорил Вадим.— Уезжа-
ет весь детдом.
— Ты рад? — спросил я и потупил глаза. Какой бы вопрос я
ни задал, он оказывался неловким. И я перебил его другим:—
Как Марья?
— Ничего,— ответил Вадим.
Да, разговора не получалось.
Он стоял передо мной, враз подросший, неулыбчивый парень,
как будто и не очень знакомый со мной.
На Вадиме были серые штаны и серая рубаха, неизвестные
мне, видать детдомовские. Странное дело, они еще больше отде-
ляли Вадима от меня.
И еще мне показалось, словно он чувствует какую-то нелов-
кость. Словно он в чем-то виноват, что ли? Но в чем? Какая глу-
пость!
Просто я жил в одном мире, а он существовал совсем в
другом.
— Ну, я пошел? — спросил он меня.
Странно. Разве такое спрашивают?
— Конечно,— сказал я. И пожал ему руку.
•— Будь здоров! — сказал он мне, мгновение смотрел, как я
иду, потом решительно повернулся и уже не оглядывался.
С тех пор я его не видел.
В здании, которое занимал детский дом, расположилась ар-
тель, выпускавшая пуговицы. В войну ведь и пуговиц не было.
Война кончилась, п срочно понадобились пуговицы, чтобы при-
шивать их к новым пальто, костюмам и платьям,
* * *
Осенью я пошел в четвертый класс, и мне снова выдали талоны
на дополнительное питание.
Дорогу в восьмую столовку приукрасила солнечная осень —
над головой качались кленовые ветви, расцвеченные, точно разно-
цветными флажками, праздничными листьями.
Многое я теперь видел и понимал по-другому. Отец был жив,
и хотя еще не вернулся, потому что шла новая война, с японцами,
это уже не казалось таким страшным, как все, что минуло. Мне
оставалось учиться всего несколько месяцев, и — пожалуйста — в
кармане свидетельство о начальном образовании.
75
Все растет кругом. Деревья растут, ну, и маленькие люди —
тоже, у каждого сообразительности прибывает, и все меняется в
наших глазах. Решительно все!
Осень стояла теплая, раздевать и одевать народ не требова-
лось, и тетя Груша выглядывала из своего окошка черным, антра-
цитовым глазом просто так, из чистого любопытства, тотчас опу-
ская голову,— наверное, вязала.
И вообще народу в столовке стало меньше. Нпкто почему-то
не толкался в тот час.
Я спокойно получил еду — опять славная, во все времена вкус-
ная гороховица, котлета, компот,— взялся за ложку и, не огля-
дываясь по сторонам, бренчал уже о дно железной миски, как на-
против меня возник мальчишка.
Война кончилась, слава богу, и я уже все забыл — короткая
память. Мало ли отчего мог появиться тут пацан! Я совершенно
не думал о таком недалеком прошлом.
На виске у мальчишки вздрагивала, пульсировала синяя жил-
ка, похожая на гармошку, он смотрел на меня очень вниматель-
но, не отрывая взгляда, и вдруг проговорил:
— Мальчик, если можешь, оставь!
Я опустил ложку...
Я опустил ложку и посмотрел на пацана. «Но ведь война кон-
чилась!»—хотел сказать, вернее, хотел спросить я.
А он глядел на меня голодными глазами.
Когда так смотрят, язык не поворачивается.
Я промолчал. Я виновато подвинул ему миску, а вилкой про-
делал границу ровно посередине котлеты.
* * *
Да, войны кончаются рано или поздно.
Но голодуха отступает медленнее, чем враг.
И слезы долго не высыхают.
И работают столовки с дополнительным питанием. И там жи-
вут шакалы. Маленькие, голодные, ни в чем не повинные ребя-
тишки.
Мы-то это помним.
Не забыли бы вы, новые люди.
Не забудьте! Так мне велела наша учительница Анна Нико-
лаевна.
* * *
Это все правда. Все это было.
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
ПОВЕСТЬ
1
Снова навалилась бессонница.
Дверь на балкон распахнута, и в комнату вливается душный
аромат черемухи. Может, из-за него я не могу уснуть? Надо бы
встать, прикрыть дверь, но я не в силах шевельнуть рукой. Точно
опьяняющий наркоз сковал меня. Голова ясная, утренняя, а тело
налито неимоверной тяжестью, не то что рукой, пальцем шевель-
нуть немыслимо.
Я живу на втором этаже и когда-то — совсем недавно! — меч-
тала, чтобы черенки черемухи, высаженные у дома, скорей под-
нялись и сравнялись с моим балконом. Тогда весной цветы будут
прямо перед окном, точно сад приподнялся на цыпочки прямо
в мою келью. И вот это сбылось, а я не рада. Запах черемухи
дурманит и не дает спать.
Впрочем, все это глупости, и черемуха тут ни при чем.
Ветер колышет прозрачную штору и вносит в комнату волну
пряного аромата.
Я точно купаюсь в нем.
Я говорю себе: наслаждайся, ты хотела этого и твое желание
сбылось. Наслаждайся и спи, все условия для волшебных снов:
ведь, вдыхая черемуху, можно увидеть во сие только сказки.
Но сказки пе приходят.
Я облокачиваюсь и таращусь в неверные июньские сумерки,
в белую северную ночь, стараюсь разглядеть черемуховые ветви
там, за окном. Смутные тени колышутся у балкона. Я знаю: ветви
унизаны белыми гроздьями.
Я вздыхаю полной грудью и чувствую, как приливает к вискам
кровь. Завтра у меня необыкновенный день, точнее, вечер.
Выпускной вечер моего класса.
Первый мой выпуск. Об этом знают все.
Искупление моей вины. Об этом знают немногие.
День исполнения моей клятвы. Про это известно одной мне.
Остался один день. И эта ночь.
2
Я пришла в школу-интернат десять лет назад, оказалась тут
почти случайно. Впрочем, в каждой случайности есть своя зако-
номерность...
77
В начале августа у мамы случился инфаркт, я дала в гороно
телеграмму, заверенную врачом, и осталась возле нее.
У меня было странное ощущение — как будто я не нужна ни
маме, ни Ольге и Сергею, старшей сестре и старшему брату. Всю
весну и лето, с тех пор как я получила назначение, они во главе
с мамой без устали дулись на меня.
О матерях не принято говорить дурно, не скажу и я, хотя те-
перь, спустя десять лет, мне многое стало ясным. Кажется, я про-
трезвела за эти годы. Точно во мне бродил молодой хмель, по вог
шибануло меня об острый угол раз-другой, и все стало очевиднее,
реальней, что ли. И мама стала реальней. Ее взгляды.
А тогда я не могла ничего понять — я ухаживала за мамой,
сидела в больнице возле нее дни и ночи, и рядом непременно си-
дела Ольга, или Сергей, или Сережина жена Татьяна, и они уха-
живали за мамой с таким видом, будто меня здесь нет. Я стара-
лась не обращать на это внимания, но не так-то это легко, когда
ты только кончила институт, а взрослые и любимые люди, точно
сговорившись, в один голос осуждают тебя, да еще осуждают вы-
сокомерно, с презрением, мол, молодые должны внимать благо-
дарственно, а не высказывать собственных суждений, пользовать-
ся чужим опытом, пока, скажите спасибо, его предлагают, и
жизнь начинать по общепринятым правилам, а не так, как ты...
Это был молчаливый спор, который начала мама.
Мама вообще очень властный человек. Тогда мне казалось,
что она совершенно не любит меня. Собственная прихоть была
для нее всегда важней моих намерений. Она подавляла. И не от-
дельные дни и часы, а всегда. Теперь я думаю совсем иначе.
Мама любит меня. Может быть, даже сильнее, чем Олыу и Сер-
гея, ведь я младшая, для нее последняя. Просто любовь у нее
властная, вот в чем дело. Властная, как и сама мама.
У нее всегда были странные отношения со всеми нами Даже
явно ошибаясь, мама говорила уверенно и требовательно, никогда
не сознаваясь в ошибке.
— Оля, тебя, кажется, опять провожал этот парень из сосед-
него подъезда. Так запомни, он тебе не подходит, тебе больше
подходит Эдик.
— Но почему? — спрашивала Оля.— Николай очень милый,
ты же знаешь, мы из одной группы,— Оля тогда заканчивала
иняз,— а Эдик мне надоел! И вообще он сухарь!
Эдик был одноклассником Оли, учился в политехе и был не-
красив до предела —длинный, плоский, как бы вырезанный из бу-
маги, а главное, скучно-сухой, протокольно-стандартный, точно
параграф из учебника математики. Словом, розовощекому бас-
кетболисту-крепышу Николаю Эдик, бесспорно, уступал, и Оля
спрашивала маму, округляя глазки:
— Но почему?
— Он тебе не подходит! — резала мама, выделяя последние
слова, выставляя над ними знаки ударения величиной, пожалуй,
со столб, и добилась-таки того, что потом, позже, Оля вышла
78
все же за своею плоского Эдика, и живет, по-моему, без намека
на счастье...
Однако это другая история, я потом еще вспомню про нее, но
тогда, в ту пору, возле мамы, которая уставилась в потолок боль-
ничной палаты тяжелым немигающим взглядом, я еще не все
понимала.
Да, не все понимала, но все чувствовала.
Иначе почему же я поступила по-своему? Единственная из тро-
их детей ослушалась мать?
Перед распределением мы дали слово — вся наша группа —
не финтить, не подключать родителей — словом, не пользоваться
отработанной тактикой и ехать на работу туда, куда пошлют.
Слово, конечно же, не было сдержано, конфузливо улыбаясь,
две девчонки, редкие посредственности, вышли из декана га с на-
правлениями в школы того города, где все мы учились, а я роди-
лась и жила. Мы было бросились их поздравлять, не чуя подвоха,
но девицы, не откладывая, признались, что только вчера — на-
до же, накануне! — вышли замуж за здешних жителей. Да еще
одному парню пришел персональный вызов из специальной — с ан-
глийским уклоном—школы, хотя в английском он был ни в зуб
ногой, а всю жизнь учил немецкий.
Все остальные повели себя честно, так что даже никакой зло-
сти не осталось против тех троих, лишь легкое недоумение: зачем
они так?
Меня больше занимало другое: как скрыть от мамы, от сестры
и брата с его женой три исключения из честного договора? Я скры-
ла. Удалось. Только ничуточки не помогло.
Мама замолчала, как всегда умолкала она, если кто-нибудь в
чем-нибудь — хотя бы в пустяке!—не признавал ее властной силы.
Я приходила с улицы не домой, а в какую-то сурдокамеру, так,
кажется, это называется. Мама говорила с Олей, говорила с Се-
режей, говорила с Татьяной, Татьяна говорила с Олей, Оля с Се-
режей, и никто из них не говорил со мной.
Когда я пробовала заговорить с мамой, она произносила жест-
ким голосом:
— Ты останешься здесь!
Я спрашивала, к примеру, включая телевизор:
— Посмотрим этот фильм?
А мама неизменно произносила одно и то же:
— Ты останешься здесь!
— Но у меня в руках распределение!
— Ты останешься здесь!
— Это же бесчестно! Мы договорились всей группой! Меня,
наконец, ждут!
— Ты останешься здесь!
И это еще в лучшем случае. Мама разговорилась. А то просто
молчит. Молчание гораздо тяжелее. Оно давит на сердце, на душу,
на голову. Где-то в области затылка. И кажется, лучше сделать,
как она требует, только бы не эта тишина.
79
я так всегда и делала. «В магазин?»—«Не гулять с мальчи-
ком таким-то’»—«Хорошо, мамочка дорогая, как скажешь!»—«Со-
седи по лестничной площадке нагловатые люди?»—«Можно с ни-
ми не здороваться!» И хоть лично мне ничего плохого эти соседи
не сказали, не сделали, я вела себя, как хотела того мама, в за-
висимости от ее настроения.
Не замечая сама, я глядела на мир мамиными глазами, оце-
нивала людей с ее точки зрения, даже телевизионным фильмам
выставляла отметки по ее шкале ценностей — правда, шкала была
высокая, но все-таки не моя.
Так что до институтского распределения я никогда ни о чем
не спорила с мамой и никогда, таким образом, не была наказуема
в отличие от Оли и Сергея, которые время ог времени карались
тишиной, давившей на затылок. Впрочем, легко мне жилось толь-
ко до встречи с Кириллом.
Боже мой, какие все красивые имена—Ольга, Сергей, Татья-
на, Кирилл!
Кирилл восклицал когда-то: «Ты учитель словесности!» На-
верное, оттого, что я учитель словесности, отношение к именам
у меня литературное, тотчас ассоциируется с Ольгой и Татьяной
Пушкина, Кириллом Извековым Федина... Боже, но как далеки
мои близкие и знакомые от тех героев! А друг на друга как похо-
жи, оставаясь совсем непохожими...
Но это нынешние мои рассуждения, тогда я думала о людях,
встреченных мною, только в сравнении с литературой, вот дуре-
ха-то! Потом, позже, они не стали ни хуже, ни лучше, просто я
их увидела иначе, а тогда...
Так вот Кирилл.
Он стеснялся, что был на полголовы ниже меня. Учился на физ-
мате, готовил себя в чистую физику, а ничуть не в школу, без
конца повторял о том, что личность должна освобождать себя
от предрассудков, но вот, надо же, стыдился того, что был чуточ-
ку ниже девушки, стыдился, таким образом, предрассудка и за-
ставлял страдать меня.
На студенческих вечерах он ни разу не пригласил меня тан-
цевать по этим причинам, и я вынуждена была кружиться из де-
ликатности с девчонками, чтобы, не дай бог, у Кирилла не ока-
залось возможности приревновать меня к какому-нибудь дылде.
Словом, у нас намечался роман, и в один прекрасный миг я
вдруг поняла катастрофическое: я разделяю взгляды Кирилла точ-
но так же, как взгляды мамы. Охотно и легко!
Одно время Кирилл развивал мне затхлую — за давностью! —
теорию конфликта лириков и физиков, что-де физика, ее достиже-
ния делают ненужной литературу, словесность, и я, дура, умом
понимавшая, что мой Кирюша несет околесицу, кивала ему голо-
вой и поддакивала.
Да, пожалуй, именно это меня остановило. Этот конкретный
повод. Разговор о физиках и лириках. Уж слишком явно пробле-
80
ма была беспроблемной, дело — очевидным, спор — не стоившим
выеденного яйца.
Я покивала Кириллу, мы поцеловались у подъезда, я пришла
домой, села у телевизора рядом с мамой, она что-то проговорила
насчет фильма, который показывали, я ей охотно поддакнула и
будто врезалась лбом в стенку.
Господи! Что со мной происходит!
Да я же двоюсь, как картинка на телевизионном экране, ког-
да антенна не настроена Кирюша мне что-то внушает, я с ним
согласна. Мама высказывается, я и ей не возражаю.
Я будто проснулась. Помню, даже схватилась ладонями за
виски. Ужас какой! Оглядела Сережу с Танечкой — сидят, обня-
лись, Ольга кутается в платок, мама — грузная фигура в стеганом
шелковом халате — смежила брови, точно одна черная черта над
глазами проведена, вжалась в старое мягкое кресло — свой трон.
Черт побери, какой-то иевзаправдашнин, а говоря философ-
ским языком, ирреальный мир. Но я-то кто в этом мире? Пешка?
Эхо чужих голосов и мнений? Мама скажет — яс мамой, Кирю-
ша— я с Кирюшей. А если еще кто-нибудь что-нибудь скажет,
кому я поверю? Незаметнеиько вот так, только чтоб маму не
расстраивать, во что я-то превратилась? В амебу? Амебу, извест-
но, можно па несколько частей разрезать, каждая станет отдель-
но жить, а я как? И вдруг мамино мнение когда-нибудь с Кирю-
шиным не совпадет? Что же я? Как я буду?
Я словно сдирала какой-то налет. Не день, не два, не месяц.
Смывала с себя что-то.
Мое открытие произошло умозрительно, без конфликтов. Сла-
ва богу, я не оказалась между двумя противоположными мнения-
ми, до этого не дошло. И для мамы моя перемена произошла
незаметно. Я по-прежнему поддакивала ей, но мое согласие те-
перь ничего не значило. Оно еще ничего не значило, но и уже
не значило ничего. Я просто произносила слова, которые, казалось,
исходили не от меня. Я соглашалась, не зная еще, согласна я
с этой точкой зрения или нет.
Собственное мнение родилось во мне совершенно неожиданно
и именно тогда, перед распределением. Кто-то из мальчишек, при-
ехавших в институт из деревни, сказал язвительно: конечно, мы,
деревенские, поедем назад, в район, в городе нас никто не ждет,
а вот городские постараются зацепиться за асфальт. Про девчо-
нок же говорить нечего, техника старая, как мир: повыскакивают
замуж за горожан независимо от чувств, и ваши не пляшут.
Не зря в городе полным-полно учителей, работающих не по спе-
циальности.
Бес меня под ребро ткнул:
— А давайте слово дадим! Слово чести! Как в девятнадцатом
веке!
Аудитория загудела, а староста Миронов, бывавший каким-то
случаем в нашем доме, прогудел мне на ухо:
— Надюха, тебя же первую мать ог себя не отпустит!
В1
А я воскликнула, леденея от страха:
— Да куда она денется!
И вот месяц молчания, прерываемый единственной хриплой
фразой: «Ты останешься здесь!», потом «скорая помощь», суета
врачей, послеинфарктная палата, мамин взгляд, упершийся в по-
толок, и ощущение, что меня тут нет, в этой палате, хотя я ухожу
отсюда только поспать.
А потом мамино прощение, точнее полу прощение, полусогла-
сие, полувопрос.
Уже в середине сентября, когда мы перевезли ее домой и Оля
взяла отпуск, чтобы ухаживать за ней, хотя была и я рядом, ма-
ма сказала, оставшись со мной:
— И все-таки?
Со мной так давно не разговаривали, что эта ее фраза бабах-
нула, точно пушка над ухом. Я даже вздрогнула. Но за месяц,
пока мама была в больнице, и за тот месяц, который предшество-
вал инфаркту, во мне произошло много важных перемен. Я ведь
еще не была предметом неодушевленным, слава богу.
Собрав все свои силы, я не отвела глаза в сторону, как должна
была бы сделать, если бы оказалась хорошей дочерью, а посмот-
рела па маму и подтвердила:
— И все-таки...
Она вздохнула. Что-то мелькнуло в ее взгляде, какая-то жа-
лость, что ли. Мама величественно протянула руку, я поняла ее
жест, приблизилась и наклонила голову. Она поцеловала меня
в макушку — до щеки или губ очередь еще не дошла, не дошло
еще до таких высот ее прощение. И я, подоткнув мамино одеяло,
вышла в прихожую, подкрасила подтекшие ресницы и отправи-
лась на почту послать телеграмму в определенное мне гороно, что
ближайшими днями выезжаю на место назначения.
Северный город, куда меня распределили,— мне выпал город,
что уж тут поделаешь, я вела себя честно,—был не так уж мал,
за двести тысяч жителей, и учителей литературы там хватало.
Так что, когда я заявилась туда, в двадцатых числах сентября, мое
место оказалось отданным другому человеку, п мне предложили
то, что оставалось, — вакансию воспитателя в школе-интернате.
На частной квартире, а верней, в частном углу за ситцевой
занавесочкой, куда определил меня интернат, я распаковала чемо-
дан, поставила на стол портрет мамы в старинной затейливой ра-
мочке и разревелась: воспитатель интерната — это вовсе не учи-
тель, и не к этому я себя готовила.
Выходит, мама права, и дома я нужнее, чем тут. Нужнее хо-
тя бы ей.
Но отступать было некуда.
3
Если бы мама жала на меня хоть чуточку полегче, я бы сбе-
жала домой Не раздумывая. Северный городок при ближайшем
рассмотрении оказался серым — то ли от постоянной пасмурной
82
погоды и низких облаков, ползущих прямо над крышами, то ли
от силикатного кирпича, из которого были сложены дома на глав-
ных улицах. К том} же угол с цветастыми ситцевыми стенами, где
я жила, казался ненадежным, неустойчивым, зыбким, верно, все
из-за этих матерчатых стен, колеблющихся от сквозняка. Дом,
куда меня определили, был деревянный, перенаселенный до пре-
дела, настоящий клоповник — каждый день я видела все новые
лица, возникающие в крохотных дверях, а в конце длиннющего
коридора располагался общий туалет, и тетка Лепестинья, сда-
вавшая мне угол,— вот уж имя так имя! — только цокала языком,
созерцая мои страдания.
В те дни мне снились простенькие и примитивные сны Наш
старинный, с лепниной на потолках дом, моя теплая комната с
книжными полками, нарядной китайской вазой, полной цветов,
мягким светом настольной лампы с зеленым абажуром и — о гос-
поди!— туалет, облицованный голубым кафелем с виньетками.
Наверное, со стороны я походила тогда на жалкого и мокрого
щенка, который оступился в лужу, и, хотя молчит, вид у него
хнычущий, бестолковый, растерянный.
Я сужу об этом не по себе — вряд ли в двадцать два года, гля-
нув в зеркало, ты увидишь ничтожество хотя бы уже потому,
что перед зеркалом, пожалуй, и мокрый щенок подтягивается и
глядит бодрым глазом,— а по другим, по их взглядам и по их
словам.
Первым и особенным среди прочих был директор школы — мне
везло на имена—-Аполлон Аполлинарьевич. Очень быстро, бук-
вально через несколько дней, я узнала, что у директора есть лас-
кательное прозвище Аполлоша, которым пользовались не только
ученики, но между собой и учителя, и я рассмеялась тогда: в этом
слове не было обиды, зато было точное совпадение с внешностью
Аполлона Аполлинарьевича. Он состоял из круглой и лысой голо-
вы, точно вырезанной по циркулю, из круглых же очков, круглого
туловища, да и ладошки у него были уютно кругленькие, этакие
пуховенькие подушечки, и вообще весь он был уютненький, этот
Аполлоша.
Когда я вошла к нему и у порога представилась, он округлился
еще больше в благостной, добродушной улыбке, покатился на-
встречу, взял мою руку обеими подушечками и заявил:
— Надежда Георгиевна? Гм-гм... Это какого же Георгия? Побе-
доносца? — Я не знала, что сказать от растерянности, а он и не
ждал ответа.— Великолепно! — восклицал директор, не выпуская
моей руки.— Надежда Победоносная? Послушайте сами! Любовь
Победоносная? Вполне вероятно! Вера Победоносная? Возможно!
Но Надежда! И Победоносная! Как необыкновенно! Вы сло-
весник! Вы должны слышать, о чем я говорю. У вас есть слух?
Выпалив эту тираду, оглушив ею меня, он отцепился от моей
руки, схватил листочек бумаги — направление на работу, подско-
чил к своему столу, спрятал в ящик, щелкнул ключом и потер
свои ладошки-оладышки, будто запер в стол какую-то особую
83
ценность или даже меня. Потом на мгновение задумался и про-
изнес совсем иным, каким-то усталым голосом:
— Нам надо бы серьезно поговорить, группа у вас особая,
но выбора нет, должность только одна и именно в этом классе,
но, может быть, не следует предвосхищать, а? Вы сами присмот-
ритесь, и уж потом? Наговоримся еще...
Слово «наговоримся» предполагает взаимную речь, диалог, но
Аполлоша предпочитал монологи.
Он постоянно приступал ко мне, точно форсировал реку или
брал крепость, этот Аполлон Аполлипарьевич, и первое время я
терялась и краснела, не понимая его замысла и не догадываясь,
что таким манером директор отвлекал меня от моих личных пе-
чалей и старался скорее, как это говорится в науке, адаптировать
меня в чужой школе и чужом городе.
Говоря честно, поначалу я даже стыдилась Аполлоны и норо-
вила куда-нибудь ускользнуть, но он настигал меня своими аф-
ронтами совершенно неожиданно и, что особенно смущало, пуб-
лично. Он мог схватить меня за руку в коридоре и при учениках,
которые тотчас окружали нас плотным кольцом, начинал громо-
гласно излагать новую мысль, ни на кого, кажется, не обращая
внимания.
— Я родился, дорогая Надежда Георгиевна, в доме учителей.
И не просто учителей. Естественников! — Очки при этом у него
вскидывались на носу, а пухленький указательный палец вздымал-
ся восклицательным знаком.— Отец и магь были естественни-
ками, бабка и дед по отцовской линии — естественниками, бабка
и дед по материнской линии — естественниками. Все вместе мы
могли бы составить целое педагогическое общество. Но вместе
нас не было. Нас рассеяло во времени. Представляете, Надежда
Георгиевна, если бы люди разных эпох могли хотя бы ненадолго
собираться в одном времени и обмениваться мнениями! Сколько
открытий! Рылеев и Пушкин встречаются после декабрьского
восстания! Или Пастер, Павлов и ныне здравствующий Дубинин!
И рассуждают о наследственности, а? Вот ты, Юра,— неожиданно
оборачивался он к какому-то третьеклашке,—• знаешь ли, почему
ты черноволосый, хотя твои родители блондины? — Юра от не-
ожиданности распахивал рот и немел, а Аполлон Аполлипарьевич
крутил пуговицу на его пиджачке и объяснял:—Да потому, что
твой дедушка или прадедушка, бабушка или прабабушка черно-
волосые.
— Она же никогда в школу не приходила! — поражался
Юра.— Она в другом городе живет.
— Вот! — энергично кивал директор.— Она! В другом городе
живет, а я знаю, что черноволосая. Закон! Понимаешь! Закон на-
следственности.
Юра краснел от удовольствия, ничего, конечно, не понимая,
но чувствуя какое-то тайное одобрение, мудрено выраженное ди-
ректором, его начинали тискать и подталкивать приятели, круг сам
собой рассыпался, и мы продолжали разговор уже посреди хаоти-
84
ческого, молекулообразиого коридорного движения, ио без свиде-
телей.
Так что это только казалось, будто он ни на кого не обращал
внимания.
Аполлон Аполлинарьевич вообще умел волшебно управлять
окружением. Он мог отвлечь человека от его мыслей и направить
их в другое русло. Он мог отослать человека по какому-то делу,
даже не обратившись к нему с конкретной просьбой, а высказав
ее как будто невзначай и куда-то в воздух. Он мог говорить о ка-
кой-нибудь ерунде, а когда ты расставалась с ним, оказывалось,
он сказал нечто чрезвычайно важное и интересное. Он никогда
особенно не сосредоточивался на собственно школьных делах,
рассуждая часто о понятиях общих, если не отвлеченных, но всегда
как-то так выходило, что речь-то была об интернате, вот об этом
именно интернате и о его конкретных заботах.
На первом же педсовете, представляя меня учителям и воспи-
тателям, Аполлон Аполлинарьевич поразил меня невероятнейши-
ми словами о том, что я, отличница, имевшая право на аспиран-
туру, выбрала их забытую богом школу, а опоздав по семейным
обстоятельствам, пошла, не задумываясь, на подвиг во имя детей,
согласившись стать рядовым воспитателем в интернате. А дальше
он вообще вогнал меня в краску. Снова уцепившись за мое имя,
Аполлон Аполлинарьевич публично восклицал, что я надежда
школы в самом прямом смысле этого слова, что он и весь кол-
лектив надеются на меня как на представителя нового человече-
ского поколения, которое, что ни говори, а ближе к ребятам, луч-
ше их понимает хотя бы по памяти о своей недавней юности и
недавних школьных годах.
Постепенно жар опал с меня, потому что директор, забыв
обо мне, произнес монолог о человеческой надежде вообще, о том,
что надежда—это витализм, жизненность духа и мысли, что
без надежды немыслима мечта, немыслимо будущее, а значит,
немыслима жизнь, что надежда вкупе с верой и любовью не есть
лишь христианская догма — это выстраданные человечеством чув-
ства, принятые моралью нашего общества с той лишь разницей,
что мы верим в человека, надеемся на человека и любим чело-
века и что учитель, поверяющий свою работу этими высокими
мерками, как бы поднимается над обытовленностью повседневно-
сти, становится философом, становится мыслителем, становится
созидателем человеческой личности, а значит, и общества. А если
он таков, то нет для него дела, в которое он бы не верил и не
внушал окружающим эту веру, нет человека, на которого он бы
не надеялся, да если еще этот человек — ученик, и нет человека,
которого он бы мог —даже мысленно — не любить.
Я сидела ошарашенная, очарованная — все вместе! Конечно,
я только начинала. Это мой первый настоящий педсовет, когда я
в школе на работе, а не на практике.
Но институтская практика была основательной, я немало по-
видала педсоветов, там разбирали уроки, требовали планы, скуч-
85
но толковали о методике, жаловались на нерадивых учеников,
так что казалось, школы набиты бестолочами, лентяями, а то и
просто негодяями, а такого — такого я не слышала ни разу.
Когда Аполлон Аполлинарьевич произнес фразу о любви, о
том, что нет человека, которого учитель мог бы—даже мыслен-
но! — не любить, в учительской произошло едва уловимое шеве-
ление. Я, увлеченная речью директора, не услышала шороха и
поняла, что что-то произошло, по его лицу.
Аполлоша умолк, точно запнулся, и произнес после паузы:
— Я слушаю.
•— Ну, это уж толстовство, Аполлон Аполлинарьевич! — произ-
несла женщина, сидевшая от директора справа, его правая рука,
оавуч Елена Евгеньевна, плотная, мускулистая, с мужской широ-
коплечей фигурой.
Было слышно, как в окно бьется басистая муха. Наверное, у
них какой-то затяжный конфликт чисто педагогического свой-
ства, еще подумала я, когда за вежливыми фразами таятся ост-
рые шипы. Но директор не дал мне времени на раздумье.
— Надежда Георгиевна,— спросил он задумчиво, будто я бы-
ла одна в учительской, и головы педагогов снова враз поверну-
лись ко мне,— вы, конечно, помните записки о кадетском корпусе
Лескова?
— Да! — соврала я не столько из желания соврать, сколько
от неожиданности.
— Помните, там эконом был Бобров. Что-то вроде завхоза
по-нынешнему. Так вот этот эконом никогда свою зарплату на
себя не тратил. Детей в кадеты отдавали из бедных семей, по-
этому он каждому выпускнику, каждому прапорщику дарил три
смены белья и шесть серебряных ложек... восемьдесят четвертой
пробы. Чтобы, значит, когда товарищи зайдут, было чем щи хле-
бать и к чаю...
Аполлон Аполлинарьевич говорил без прежнего напора, как бы
рассуждая сам с собой.
— И еще там был директор Перский, генерал-майор, между
прочим, так он жил в корпусе безотлучно, всю, представляете,
свою жизнь отдав выпускникам, а детей туда посылали с четырех
лет, и, когда ему говорили о женитьбе, этот генерал отвечат сле-
дующее: «Мне провидение вверило так много чужих детей, что
некогда думать о собственных».
— Мы тоже о собственных не думаем,— громко сказала Елена
Евгеньевна и обвела взглядом учительскую. Педсовет одобри-
тельно загудел, женщин, как в каждой школе, было большин-
ство, а мне эта Елена Евгеньевна тотчас показалась особой свар-
ливой и неприятной. Но директора не сбила реплика завуча.
— Четырнадцатого декабря, в день восстания, многие солда-
ты, раненые в том числе, перешли Неву по льду — от Сенатской
площади. Кадетский же корпус был прямо напротив нее, пред-
ставляете? — Аполлон Аполлинарьевич оживился, глаза его бле-
стели.— Ну и кадеты спрятали у себя бунтовщиков, оказали им
86
помощь, конечно, накормили. Наутро в корпус сам император при-
езжает, представляете, и ну генерала чихвостить. И что же —
генерал!—на другой день!—после восстания! — говорит разъя-
ренному императору про своих кадетов? «Они так воспитан^',
ваше величество: драться с неприятелем, но после победы при-
зревать раненых, как своих».
Аполлон Аполлипарьевич победительно оглядел учительскую,
посмотрел доброжелательно на Елену Евгеньевну, будто пожалел
ее слегка, и прибавил:
— Видите, какие славные учителя были до нас с вами, доро-
гие друзья! Так что нам-то, как говорится, сам бог велел!
Я не выдержала, захлопала, как хлопали мы нашим лекторам,
когда те бывали в ударе, но на меня уставились, как на сумасшед-
шую, и даже Аполлон Аполлипарьевич, кажется, смутился. Я же
расстроилась до слез. Вот ненормальная. Могут подумать, будто
я хлопаю потому, что директор меня расхваливал.
А! Пусть думают что хотят!
4
Конечно, я была мокрым щенком. Только мокрый щенок, ни-
чего не смыслящий в жизни и сам попавший в передрягу, способен
так увлекаться собой и собственными печалями.
В речах Аполлона Аполлинарьевича я находила утешение
от изводивших меня размышлений о маме и ее правоте. И Аполло-
ша, кажется, чувствовал это, кидая мне спасательный круг своего
повышенного внимания.
Но ведь я же еще работала! Была воспитателем первого «Б».
Я должна бы с ушами погрузиться в работу, как учили нас в ин-
ституте! Но что-то не получалось у меня это погружение. Я шту-
дировала методики обучения в начальной школе и ощущала един-
ственное чувство — протеста: ведь меня учили преподавать стар-
шеклассникам. Я готовила уроки со своими малышами, но вместо
детей видела одну пачкотню в тетрадках и изнывала от само-
едства: какой из меня педагог?
К тому же грозный образ мамы в стеганом халате точно взи-
рал на меня сквозь пространство, отдалявшее от родного дома,
взирал с молчаливым осуждением и неумолимой строгостью. Буд-
то она повторяла, радуясь моим неуспехам: «Вот видишь!», «Вот
видишь!». И я как бы оправдывалась, металась, писала домой
каждый день по письму, правда, не признаваясь в своих пораже-
ниях, и, честно говоря, втайне ждала повторения маминого прика-
за: «Ты останешься здесь!»
Но писем из дому не было. Да это ведь и понятно. Кончалась
всего лишь первая неделя моей самостоятельной жизни.
Пришла суббота.
Та суббота...
Когда я перебираю прошлое, недавнее свое прошлое, оно пред-
ставляется то сжатым в гармошку, спрессованным в предель-
87
ную краткость, то растягивается, и тогда я помню каждый день
и даже, пожалуй, каждый час.
Та суббота растянулась в памяти и окрашена в печально-се-
рый цвет, как и все мое школьное начало.
В каждой группе — а группа совпадала с классом — было по
два воспитателя с пятичасовой нагрузкой. Моей напарницей ока-
залась Маша, Марья Степановна, женщина лет тридцати пяти, не
окончившая когда-то педучилища по причине рождения первен-
ца. Теперь у Марьи Степановны было уже трое, все учились в
этом же интернате в разных классах, так что Маша, добрая, бе-
лолицая, рыхлая, как квашня, находилась тут при своих детиш-
ках или они при ней — эго уж все равно. С группами мы были
поочередно — полагалось по пять часов в день, но часто, особен-
но вначале, когда я плавала на поверхности личных печалей, уст-
раивались так: одна — два часа с утра, а другая — после уроков,
с часу до девяти, то есть до отбоя. На другой день наоборот.
В ту субботу утро выпало мне, и к семи я была уже в группе.
Мне сразу послышалось что-то необычное. Подъем начинался
в семь, и малыши, не привыкшие к школе, просыпались с трудом,
попискивая, даже поплакивая, и воспитателям приходилось их по-
шевеливать— кто уж как умел.
У меня опыта не было, я включала радио погромче, пела ка-
кую-нибудь песню пободрей, а вот Маша — та пошлепывала ма-
лышей по попкам, щекотала тихонечко, а уж с самых «затяж-
ных», как она выражалась, стаскивала одеяло, причем делала
все как-то осторожно, по-матерински, приговаривая при этом всег-
да одно и то же: «Эх ты, макова голова!» — и я ей завидовала,
что у нее так хорошо это получается...
В ту субботу комнаты уже гудели голосами и смехом. Я взгля-
нула на часы — до подъема оставалось минут десять,— потрясла
рукой, может, остановитись, прибавила шагу, но школьные часы
повторяли мои: время подъема еще не наступило.
Старшеклассники, видно, бузили, из их комнат слышались
хлопки, похожие на выстрелы,— сражаются подушками,— но я то-
ропилась к своим.
Это было очень странно: половина мальчиков шустро шныряла
по комнате, пристегивая чулки, натягивая рубашки, конечно, все
это с криком и грохотом, а другая половина спокойненько спала,
не замечая шума, точно их не касалась суета товарищей. Комната
девочек тоже поделилась на две половины.
Я разглядывала ребятишек, не зная, что подумать. Уже по-
том, в конце дня, вспомнив утро, я решила, что походила на не-
грамотного естествоиспытателя, который разглядывает муравьиную
кучу, видит, что муравьишки ведут себя по-разному, так ска-
зать, фиксирует факт, но осознать его не может, ибо ему неиз-
вестны привходящие обстоятельства, короче говоря, он не владеет
ситуацией, а уж совсем точней — он неграмотен.
Заговорило радио — школьный узел включил центральную
программу,— одетые побежали умываться, а я принялась будить
88
отстававших. Они выглядели почему-то одинаково усталыми, точ-
но невыспавшимися. Но я и тогда ни в чем не разобралась, посте-
пенно сделала все, что полагалось, сводила ребят в столовую
дисциплинированно, колонной, и отправила на уроки.
Можно было уходить домой, с уроков малышей встречала, по
нашему распорядку, Маша, но дома меня никто не ждал, никому
я не нужна была, и сердце опять сжала тоска и вина перед мамой.
Странное дело, ее тяжелая властность теперь, вдали от дома,
начинала казаться добротой, желанием мамы помочь мне, сде-
лать мою жизнь лучше и легче, и я уже забывала, как мама и
ее приспешники не разговаривали со мной два месяца, забыв, ка-
жется, что я человек...
Опять раздирала меня душевная сумятица. Чтобы хоть как-то
отвлечься, я пошла в комнату, заправила аккуратнее ребячьи по-
стели, взбила подушки, подмела пол.
К двенадцати появилась Маша. Точно не доверяя мне, снова
подмела пол, потом пошла вдоль кроватей, загибая пальцы и при-
говаривая:
— Владик уходит, Семенов уходит, Миша уходит.
— Чего вы считаете, Маша? — спросила я.
— А кто уходит,— мимоходом ответила она.
— Кто уходит? На воскресенье? А разве не все?
— У нас ведь половина детдомовцев,— ответила Маша, не
оборачиваясь ко мне.— Им некуда.
Детдомовцев. Это слово кольнуло меня, но я еще ничегошень-
ки не понимала. Мелькнуло только: значит, на воскресенье надо
что-то придумать.
Как следует меня стукнуло чуть позже. К часу за ребятами
стали приходить родные — забирать на воскресенье.
В вестибюль заходили матери и отцы, бабки и подростки,
видно, братья и сестры. Малыши разгонялись им навстречу, хло-
пались в объятия, начинали что-то кричать, подпрыгивать, бес-
причинно смеяться. Выдачей наших ребят, понятное дело, зани-
малась Маша. Она знала родителей, бабушек, братьев и сестер,
а когда не знала, строго, но улыбчиво спрашивала фамилии и
только тогда отпускала учеников, которые кричали нам, оборачи-
ваясь в дверях, изо всех сил: «До свидания, Марь Степановна!
До свидания, Надеж Георгиевна!»
Маша кивала головой, махала руками, а я не замечала радост-
ных сцен. Я медленно просыпалась.
Я выбиралась из сна, где главными действующими лицами
были моя особа и мои страсти.
Я смотрела на школьную лестницу, и что-то потихоньку на-
чинало раскачиваться во мне. Вдоль лестницы, на каждой сту-
пеньке, стояли маленькие люди в серых костюмчиках или корич-
невых платьицах, нет, назвать их малышами не поворачивался
язык: это были печальные и усталые маленькие люди. Они стоя-
ли друг над дружкой, голова над головой, руки по швам, они за-
мерли, точно собрались сфотографироваться — на лестнице фото-
89
графироваться удобнее, никто никого не заслоняет,— только вот
глаза были не для фотографии: удивленные, печальные, непони-
мающие глаза.
В школьном фойе возникло нечто несоединимое: те, кто ухо-
дил, не замечали лестницу, зато малыши с лестницы жадно вни-
мали всему, что происходило на площадке.
Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступеньках, дро-
жала обида.
— Маша,— показала я глазами наверх,— это они?
— Каждый раз вот так,— ответила Маша.— Сердце разры-
вается.
Я смотрела снова и снова, вглядывалась в эти лица и точно
начинала прозревать: вот оно, вот оно.'
5
Суета в вестибюле растворилась, интернаг опустел, мы были
одни во всей школе — Маша, я и двадцать два первыша, передан-
ных нам из дошкольного детского дома.
Маша рассказала мне, и я точно сфотографировала своей па-
мятью не виденное мной: августовский двор, пустая еще школа,
притихшие малыши и рядом с ними грудка одинаковых дешевень-
ких чемоданов темно-малинового цвета.
Ребят привезла директриса детдома, Маша говорила, совсем
старуха, сдала Аполлону Аполлинарьевичу документы, расцелова-
ла трижды каждого малыша, а потом настала сцена, которую не-
возможно вспомнить без слез. Старуха влезла в автобус, которым
привезла детей, он затарахтел, а малышня заплакала в один го-
лос и побежала за автобусом, не обращая внимания на гМашу,
на Аполлона Аполлинарьевича, ни на кого не обращая внимания,
и так бежала за автобусом целый квартал, вглядываясь в блед-
ное лицо старухи, пока машина не прибавила ходу. Так что Ма-
ша, Аполлон Аполлинарьевич и дядя Ваня, школьный дворник,
собирали малышей по всему кварталу, а Маша плакала вместе
с ними — от печали и еще от того, что боялась кого-нибудь по-
терять.
Этот Машин рассказ словно стал продолжением моей памяти.
Ни впереди, ни позади у меня не было такого эпизода. Мне ка-
залось: вернись я назад по своей жизни, мне пришлось бы свер-
нуть с дороги, чтобы вновь оказаться в больнице возле мамы, а
я должна была следовать прямо, в пыльный август, к автобусу со
старухой, который уезжал со школьного двора, к грудке фибровых
чемоданов и этим малышам Меня не покидало чувство, что так
или иначе я вынырнула сбоку позже положенного срока, а начи-
нать мне надо было раньше, тогда, в час их приезда. И я должна
начать оттуда.
Я не знаю, откуда взялись эти мысли. Не понимаю, почему я
почувствовала себя виноватой, ведь моя жизнь до этого городка
шла в иной плоскости, в ином пространстве. Но я была винова-
той. Точно помню это ощущение.
90
В конце концов Аполлоша ведь сказал мне про особую груп-
пу. Не объяснил, не разжевал, только намекнул, оставляя mi е
право во всем разобраться самой. Ну и что же? Сама я слепая?
Да, оказалось, слепая. Я погрязла в собственном писке, вместо то-
го чтобы заняться малышами. Я хваталась за спасательные кру-
ги Аполлона Аполлинарьевича, погружаясь в мир его интересных
размышлений, лишь бы утешить себя, отвлечь себя... От чего?.. От
себя же!
Лестница и кучка малышей, прижавшихся к перилам.
И еще рассказанное Машей.
Устыдившись, я кинулась в это, не вполне сознавая даже, что
оно такое. Маши одной не хватало, не могло хватить. И еще я
воспитатель. Педагог, наконец, говоря высоким словом.
В те часы я испытывала ощущения, какие может испытывать
в общем-то, наверное, нормальный человек, по каким-то неуважи-
тельным для него причинам оказавшийся простофилей, растяпой,
олухом. И хотя из-за этого ротозейства пока еще ничего не слу-
чилось, ты без конца дергаешь себя, осознав оплошность, колешь,
мучаешь, одним словом. Легче, правда, не становилось, потому
что, как ни крути, но растяпой оказалась ты по собственной ви-
не, и требовалось время, чтобы от уколов и толчков постепенно
перебраться к мысли, а значит, решениям. Мысли пришли про-
стые. У малышей никого пет, вот что. Им нужен кто-то. Очень
близкий нужен. Им нужен дом. Родные люди.
Им нужно то, что им дать невозможно...
Невозможно!
Это слово вызывало озноб, беспомощность, бессилие.
Из озноба швырнуло в жар. А я-то на что? Я же человек.
И я с ними.
Меня душила любовь, нежность к этим детям, мне хотелось
обнять их, не каждого, не поодиночке, а всех вместе, враз, обнять
и прижать к себе.
Но я не умела этого. Как никто не умел.
Слезы застлали глаза.
Маша читала сказку про мертвую царевну, как раз то место,
где царевич с ветром говорит, и я судорожно зашептала вместе
с ней сызмала любимое, пушкинское:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее».—«Постой,—
Отвечает ветер буйный: —
S1
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».
Дети слушали внимательно. Маша читала как-то очень хоро-
шо, мягко, по-домашнему, а если спотыкалась, то и это у нее
получалось хорошо. Она не отрывалась от книги, не видела,
слава богу, моих слез, и я вытерла их тыльной стороной ладони,
лишь на минутку прикрыв глаза, как меня кто-то обнял за шею.
Я испуганно повернулась. В меня смотрели два жалостливых
черных зрачка.
— Тебе жалко царевну? — прошептал ломкий голосок. Я кив-
нула, чтобы оправдать свои слезы.— Ничего,— утешала девоч-
ка,— она еще оживет.
Я знала только, что девочку зовут Аня Невзорова. И я не вы-
держала. Я придвинула девочку к себе и уткнулась в ее несве-
жий фартук. Руками я ощущала худенькую спину девочки, ее
острые лопатки.
Я еще собиралась их пожалеть, а они меня уже пожалели.
За что?
А разве жалеют за что-то?
6
Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту первую мою субботу,
я думаю о себе в третьем лице: она, у нее, с ней... Впрочем, это
понятно, я — теперь совсем не я тогда. И не только потому, что
прошли годы, хотя известно, что время и исцеляет и разрушает
сразу.
Время изменило меня, я ничуть не лучше других, в этом смыс-
ле, состарило на десять лет. Но, кроме времени, есть еще одна ка-
тегория, воздействующая на тебя, может, даже посильнее, чем
время. Это образ жизни, отношение к ней, сострадание к другим.
Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека
важным истинам. Это аксиома. Но мне кажется, если человек
запоминает только такие уроки, у него заниженная чувствитель-
ность. Плакать от собственной боли нетрудно. Трудней плакать
от боли чужой.
Существует соображение, что сострадание воспитывается. Дей-
ственней всего — собственной бедой. Мне не нравится это сооб-
ражение. Что же, выходит, гуманизм должен быть непременно вы-
страдан? Тогда это будет больной гуманизм. Гуманизм, основан-
ный на собственном страдании.
92
Нет, нет... Я верю, что сострадание — в человеческой природе.
Сострадание как талант — дано или не дано. Но чаще дано, по-
тому что это особый талант. Без него трудно оставаться чело-
веком.
У меня, у тогдашней, было просто бабье — верней, девичье —
сердце, впрочем, какая разница: бабье сердце или девичье, тут-то
все едино. А бабьему сердцу от роду подарена жалость. И я, во-
оружившись жалостью, кинулась к моим детям, окончательно пе-
рестав жалеть себя.
Прозрение обретало у меня энергичные формы. И тут же я
попала в забавную ловушку.
Не успела Маша дочитать Пушкина, как я вытолкала ее
из интерната с собственными детьми. Она упиралась, конфузи-
лась, говорила, что теперь ее смена, но потом, на минуточку
вглядевшись в меня, как-то сразу согласилась. А я принялась
лихорадочно действовать. Сначала мы пошли в кино, название
и содержание которого я так и не узнала, хотя ребята были
счастливы, затем водили хоровод, вырезали из бумаги цветы (де-
вочки) и самолеты (мальчики), приняли решение, что будем все
вместе собирать марки, и долго спорили, на какую тему (реши-
ли— космос), сходили все вместе, очень организованно, взявшись
за руки, построившись парами, в ближайший киоск, купили там
за десять рублей — повезло! — громадный альбом и два пакета
с космическими марками, играли в жмурки, прыгали через ска-
калку в спортзале, снова играли — в серсо — в игровом зале,
смотрели телевизор. Все это в один день и в каком-то неестест-
венно лихорадочном темпе, так что у меня даже мелькнула на
мгновение трезвая мыслишка: а надолго ли тебя хватит?
Во время ужина меня позвали к телефону. Звонила Маша.
— Надя, я забыла сказать, сегодня суббота, их надо купать,
и белье надо сменить!
Я бодро пообещала все сделать, а когда положила трубку,
спохватилась: ладно, с девочками я справлюсь, а как мальчишки?
Ведь они, с одной стороны, еще малыши и сами как следует не
промоются, а с другой--мальчишки и вряд ли дадутся в руки,
да и я, пожалуй, не готова к такому повороту событий.
Чему нас только не учили в педагогическом! Логика, психоло-
гия, философия! А вот как помыть первоклашек в интернате — да-
вай сама, без рецептов.
Я вернулась в столовую. Намаявшись за день, моя рота по-
звякивала в тишине ложками. Повариха Яковлевна в белом крах-
мальном колпаке, похожем на трубу океанского теплохода, сиде-
ла у края стола, облокотись о кулак. Зовут Яковлевну по-стару-
шечьи— одним отчеством, но женщина она моложавая, хотя и не-
молодая, наверное, лакированные жарой румяные щеки убавляют
ей лет. Я присела рядом доесть свой ужин, Яковлевна покосилась
на меня и вздохнула.
— Куда же такую молодайку к малым детям суют,— прого-
ворила она ворчливо и негромко.
93
Я »е ответила.
— Им бы матерь нужна,— тем же тоном сказала Яковлевна,—
рожалая да бывалая
— Уж какая есть,— ответила я беззлобно. Когда, вернувшись
к ребятам, я увидела повариху за столом, у меня мелькнула
мысль посоветоваться с ней, спросить, что ли, как быть с мытьем
мальчишек. Теперь спрашивать расхотелось. Никакой обиды я не
испытывала, ничего обидного Яковлевна не сказала, да и не до
обид было, но после этой ее реплики решила сама все сделать,
без всяких советов. Уж как получится.
После ужина собрались в игровой, и я объявила, что сейчас
будет баня, сначала пойдут девочки, а потом мальчики.
— Сами? — спросила Анечка Невзорова.
— Со мной! — ответила я, и Анечка захлопала в ладоши, а
мальчишки заволновались. Прокатился сдержанный ропоток. Спро-
си меня мальчики, как будут мыться они, я бы не ответила, но
они, верно, растерялись, а я прогнала нерешенную задачку: сна-
чала девочки, а дальше видно будет.
С девочками мне было легко. Попискивая, повизгивая, пор-
хая, напевая, стайка пестреньких бабочек со сменами белья под
мышкой летела вокруг меня вниз, в душевую.
В предбаннике ярко горел свет, и я на мгновение замеш-
калась. Как же быть, в каком виде, елки-палки? Все-таки они
мои воспитанницы, а я их воспитатель. Принято ли, бывает
ли так?
На секундочку я растерялась и выпустила инициативу из рук,
всего на мгновение, а вокруг моего шкафчика уже толпилось один-
надцать голеньких девчонок. О мои боги, Ушинский, Крупская,
Сухомлинский! Что делать? Про себя чертыхнувшись, я вышвыр-
нула из головы всякие науки, расстегнула бретельки, сняла тру-
сики, крикнула командирским голосом:
— За мной!
Я включила все десять душей, наладила нужную воду, объяс-
нила, что каждая моется самостоятельно, а я буду намыливать
голову и прохаживаться мочалкой окончательно, но не тут-то бы-
ло. Все одиннадцать толкались рядом со мной, прижимались ко
мне, я чувствовала худенькие тельца малышек, и визг стоял со-
вершенно невообразимый.
Мои попытки организовать дело оказались совершенно пу-
стыми. Тогда я махнула рукой, схватила губку, мыло и приня-
лась драить первую попавшуюся.
Технология постепенно налаживалась.
— Алла? — спрашивала я, схватив малышку.
— Алла!—соглашалась она.
— Ощепкова?— спрашивала я, чтобы хоть как-то остановить
ее беспорядочную суетливость.
— Ощепкова! — кивала Алла.
— Ну-ка расскажи мне про себя!
— А чего рассказывать-то?
94
— Что ты любишь? Что не любишь? Какие видела фильмы?
Чего хочешь?
И пока рыженькая .Алла Ощепкова излагала мне свою про-
грамму— что поделаешь, действительно целая философия: любит
кататься на трамвае, клубничное варенье, артиста Евгения Леоно-
ва и одеколон «Красная Москва»,-— я мылила ей волосы, охажи-
вала мочалкой спину, живот, ноги и драила пятки, чего Алла сне-
сти уже не могла, разражаясь диким хохотом.
Далее следовал завершающий шлепок, Алла мчалась выти-
раться, предупрежденная, что вытереться надо непременно насухо,
а ее место уже занимала следующая,
— Зина?'—спрашивала я.
— Зина!
— Пермякова?
— Пермякова!
— Запевай!
Смешная Зина Пермякова, щербатая, как старуха,— сразу трех
передних зубов нет,— улыбаясь и щурясь, хитро поглядела на
меня снизу и вдруг затянула:
— Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные!
Наверное, я поперхнулась и глаза у меня округлились. Но ни
Зина, ни остальные девчонки ничего не заметили. Теперь уже
хором, нестройным, правда, неспевшнмся, выводили они слова
романса, написанного явно не для младшего школьного воз-
раста:
— Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я
не в добрый час!
— Откуда вы знаете? — воскликнула я пораженно,
— Наталь Ванна! Наталь Ванна!-—закричали девчонки на-
перебой. После расспросов с пристрастием выяснилось, что На-
таль Ванной зовут ту старуху — директора детдома — и что На-
таль Ванна любит играть на гитаре и петь эту песню, как выра-
зилась Зина Пермякова, но поет ее дома, а окна открыты, и все
эти клопы разучили любимый романс Наталь Ванны.
Вот так да! Сколько же мне предстоит! Разобраться в каж-
дом их слове! Но теперь разбираться не было времени! Из душа
хлестала вода, к потолку поднимался пар, и мытье, похожее на
утренник, выходило веселым и, по-моему, качественным.
Сначала приходилось трудно: девчонки, не понимая этого, ме-
шали мне своим многолюдьем, но постепенно отмытые удалялись,
пока не осталась Анечка.
Я терла ее, как и всех, войдя в веселый ритм бани, и не обра-
тила внимания, что Анечка исподлобья взглядывает на меня. Ког-
да я шлепнула ее, завершив процедуру, она не ушла.
— Ты чего? — удивилась я.
Анины глаза пристально рассматривали меня сквозь блестя-
щие струи,
— Какая вы красивая! — сказала она. Я смутилась под ее
взглядом.
95
— Мы же с тобой на «ты»,— проговорила я, пытаясь переме-
нить тему.
— Неужели и я такой буду? — воскликнула Аня и — о боже! —
смело прикоснулась к моей груди. Меня точно облили керосином
и подожгли. Что я должна сказать? Закричать? Но ведь это она,
Аня, пожалела меня днем. Как же я должна отвечать ей на каж-
дое слово?
— Конечно, будешь! — сказала я серьезно, слыша свой голос
точно сквозь вату.— Куда же ты денешься?
Я еще перебирала ответы решенной задачи, а моя Анечка бы-
ла далеко от нее и снова толкнула меня в тупик.
— А как же ты мальчишек мыть будешь? Так же? — И кив-
нула на меня.
Отложенное чаще всего возвращается в самый неподходящий
момент, и я снова покраснела от Аниного вопроса. Ну снайпер!
В десятку да в десятку!
— А ты как думаешь? — спросила я, растерявшись.
— У тебя же бюстгальтер темненький,— вразумила меня Анеч-
ка,— и труенки тоже. Ты их и надень, а потом просушим.
— Анечка! Золотко! Да какая же ты умница! — Стыд перед
девочкой, страх опростоволоситься исчезли от Аниной неожидан-
ной помощи, будто точный совет подала любимая подруга.
Анечка рассмеялась, я вышла в предбанник, протерла тех, кто
был сыроват, расчесала девочкам волосы, но косы заплетать, не-
смотря на писк, решительно отказалась.
— Будьте сознательными! — сказала я.— Мне же еще мальчи-
шек мыть! Кто уже готов? Зовите их сюда!
Две или три девчонки выскочили, но остальные не шевели-
лись. Стояли вокруг меня, уже одетые и расчесанные, но не вы-
ходили.
Я поняла. Улыбнулась им открыто и весело. Зачем-то вытер-
лась, хотя снова под воду, надела черные трусики и лифчик, слава
богу, маминого шитья, из плотной ткани. Аня привередливо осмот-
рела меня и помотала головой.
— Волосы причеши. Чтоб прилично.
Я послушно достала гребешок, расчесала волосы и наскоро
заплела косу.
— Ой! Ты теперь совсем девочка! — проговорила умиленно
Анечка и побежала к выходу. За ней сорвалась смеющаяся ора-
ва, уступив свое место толпе понурой и молчаливой.
Первое, что я услышала, чуть не свалило меня от смеха.
— Раздевать будете?
— А разве моются в одежде?
Это несколько разрядило обстановку. Прокатился смешок.
— Мы будем в трусах,— проговорил тот же упорный голос.
Еще час назад — да какой час, пятнадцать минут!— я бы не
знала, как выбраться из такой ситуации, но опыт приходит
быстро, надо только захотеть.
— Что ж, я согласна,— ответила я весело и уверенно.— Усло-
96
вне одно: голову, тело до пояса и ноги я мылю сама, а уж
остальное — на вашу совесть — под крайним душем. Я не смот-
рю. Идет?
— Идет!—заорала, разом развеселившись, мальчишечья
команда.
Я глянула в зеркало. Надо же! Почти в спортивном виде стоит
боком ко мне опытная воспитательница, специалистка по банному
вопросу в первом классе интерната.
Ну и дела!
7
Суббота закончилась моим конфузом.
Представьте себе: девчачья спальня, на кроватях, в нарушение
всяких правил, сидят мои птенцы, душ по пять, через комнату
тянется веревочка, на ней сушатся мои трусики и лифчик, а я,
с распущенными по плечам волосами — нимфа, да и только!—си-
жу на стуле и читаю детям сказку Пушкина о золотой рыбке, и
вдруг на пороге возникает Аполлон Аполлинарьевич.
Дети мои, конечно, вежливо здороваются, но ничегошеньки не
понимают, а я хватаю ртом воздух, точно рыбка, выброшенная на
песок, правда, судя по всему, далеко не золотая. Аполлон Апол-
линарьевич тоже, похоже, хватает ртом воздух, таращась на ве-
ревочку, пока я не догадываюсь сорвать с нее черные флажки.
Дверь закрывается, я полыхаю огнем, малыши в один голос
требуют продолжения сказки, я читаю, сначала не слыша себя,
затем успокоившись, а потом начинаю хохотать, просто покаты-
ваюсь, поглядывая на веревочку с черными флажками, и малыши
покатываются тоже, но, я думаю, все-таки тема у них другая —
жадная старуха из сказки Пушкина.
Желания идти домой у меня нет, я укладываю малышей спать
и сама ложусь на свободную кровать в девчоночьей комнате.
Анализировать действительность, переваривать впечатления и
просто соображать у меня нет сил, и я сразу проваливаюсь в
сон. Но новая жизнь не согласна с этим. Я вздрагиваю от испуга,
готова вскочить, даже закричать — кто-то лезет ко мне под одея-
ло,— но вовремя сдерживаю себя.
— Хочу с тобой,— шепчет знакомый ломкий голосок.
Это против всяких правил, да и вообще ни разу в своей жизни
не спала я ни с кем в одной постели — ни с мамой, ни с сестрой,
а вот Анечке безвольно уступаю, думаю лениво: «Хороша воспи-
тательница»— и кладу ей свою руку на грудь.
Последнее, что ощущаю: гулкие удары сердца под моей ла-
донью...
За завтраком вновь возникает Аполлон Аполлинарьевич. На
этот раз директор приближается как-то нерешительно, присажи-
вается напротив меня, глянцевощекая Яковлевна услужливо под-
носит ему порцию отварной рыбы для пробы, и, рассеянно тыча
в нее вилкой, директор осторожно упрекает меня:
97
— Я слышал: вы вчера перемыли ребятишек, напрасно, для
этого есть нянечки.
Я молчу, и Аполлон Аполлинарьевич как бы спохватывается.
Голос у него по-прежнему уверенный, от чего-то меня отвлекаю-
щий:
— А я вам Лескова вчера принес. Признайтесь, Надежда По-
бедоносная, ведь не читали!
— Не читала! — смеюсь я, радуясь, что он отступился от
скользкой темы, кто чего должен и не должен. В конце концов,
он директор и имеет право приказать, а я обязана подчиняться.
Впрочем, педагогика выше приказов, это одно из ее преимуществ.
За это я и почитаю свою профессию. Здесь надо сердцем. Это
внушали нам в институте. Педагогика — форма творчества. Толь-
ко вот сердцем-то выходит не у каждого — тут уж кому что да-
но. Тогда как с творчеством? Так что приказ в школе — обстоя-
тельство щекотливое, творческому решению, пусть непривычно-
му, может повредить, а бесталанному — помочь.
Но, признаюсь, это выводы других, поздних времен. Тогда
же я сказала директору, что хочу зайти к нему.
Я хотела прояснить свою цель — посмотреть личные дела де-
тей, но Аполлоша не дал мне договорить:
— И немедленно. Я должен объясниться.
Поначалу объяснение показалось забавным. Но только пона-
чалу.
— Крепко обиделись? — спросил меня Аполлон Аполлинарь-
евич.
— За что? — искренне удивилась я.
— Толком не сказал о классе. А знаете, почему? Думал, вы
испугаетесь и...
— И?
— Сбежите.
Вот какое я произвожу впечатление! Наверное, эту мысль от-
четливо выражало мое лицо Аполлоша смутился. И совершенно
напрасно. Я была уже способна критически оценить начало моей
педагогической практики. Что ж, мокрый щенок, думающий толь-
ко о себе, мог и сбежать.
— Спасибо за откровенность,— ничуть не обижаясь, кивнула
я, и на Аполлошу, кажется, это произвело обратное впечатление.
Лицо его покраснело, на лбу выступила испарина: ждал, наверное,
упреков, того хуже, слез, а тут...
— Как гора с плеч,— пробормотал он смущенно и тут же вос-
кликнул, приходя в свое обычное состояние: — А вы не такая!
Теперь вижу!
В другую пору я бы маялась, примеряя к себе этот разговор
и так и этак, но тут точно и не заметила: жизнь делала свое де-
ло, теперь меня волновали дети.
— Не знаю, с какого края подступиться,— призналась я Апол-
лоше.
Он вздохнул.
98
— Когда нам дали этих детей,— сказал Аполлон Аполлинарье-
вич,— я, сказать откровенно, растерялся. Специфика интернат-
ская, все как будто понятно, отлажено. Среди наших родителей
народ разный, есть такие, что весь недельный труд школы унич-
тожают за полтора выходных дня. Но все-таки родители, все-таки
есть, а тут все другое. Но деваться некуда. Каждый год облоно
дает одному интернату такую группу. По очереди. Теперь настала
наша. И надо работать, на то мы и учителя, что нас не спраши-
вают, каких детей мы хотим воспитывать, а каких не хотим. Дети
все равны.
Он опять вздохнул, печально посмотрел на меня. Нет, Апол-
лоша явно не походил на себя сегодня. Просто другой человек.
Усталый и замученный. Д1нет руками круглую голову, точно мяч,
и места себе не находит. Директор как будто услышал мои со-
ображения.
— Я мучаюсь,— поднял он на меня глаза,— оттого, что веду
себя непоследовательно, точнее, неверно. Всякий риск и экспери-
мент здесь опасен, и вначале я решил дать этой группе самых
сильных воспитателей. Мария Степановна—одна из них, хотя у
нее трое собственных детей. Впрочем, именно потому, что у нее
трое детей. А еще — опыт и материнская доброта. Другого... — Он
осекся — Маша вам ничего не говорила?
Я пожала плечами.
— Молодец. Истинный педагог. До вас одна уже не выдер-
жала. Из наших. Разочаровался в человеке, казалось бы, весьма
симпатичном.
Вот как! Значит, до меня уже кто-то был. Это новость!
— Яс вами предельно откровенен.— Аполлоша поднялся из-
за стола, прошелся медленно по кабинету, не глядя на меня.—
Может, эта откровенность обидна. Но послушайте до конца. Я все-
таки учитываю, что вы тоже можете уйти. Работа вам предо-
ставлена не по специальности — это козырь. Что меня подкупило?
Что вы согласились идти воспитателем. На что надеялся? Что учи-
тель в роли воспитателя может дать много. И уж совсем откро-
венно: не хотелось больше экспериментировать на старых кадрах.
Разочаровываться больно. А вы если уйдете, то, надеюсь, совсем.
Первый раз за весь разговор он поднял на меня глаза.
— А малыши? Как с ними? — спросила я будто невпопад, но
Аполлоша неожиданно засиял.
— В том-то и дело! — воскликнул он, чему-то радуясь.
Я молчала, разглядывая его с интересом, он тоже молчал и
тоже глядел на меня с любопытством.
— Слабовата надежда, понимаю, и вы рискуете,— сказала
я,— но все-таки дайте посмотреть личные дела.
— Надеюсь на Надежду,— заулыбался он. Но теперь строгая
стала я.
— Это уже известно. Еще с педсовета.
Но он как будто не слышал обиды в моих словах. Напротив,
снова вздохнул облегченно, протягивая ключ от шкафа.
99
Личные дела моих малышей оказались тонкими картонными
корочками с несколькими бумажками, но какими бумажками!
Кроме характеристики из дошкольного детского дома, свидетель-
ства о рождении в обыкновенном почтовом конверте без марки
и фотографии, сделанной любовно, в коричневом тоне — на сним-
ках малыши выглядели маленькими киноартистами,— в папочках
хранились копии документов о смерти родителей, постановления
судов о лишении родительских прав, решения райисполкомов об
отправке в детский дом...
Утром я решила весь день провести с ребятами, снова освобо-
див Машу, но обещания не сдержала, а просидела над горкой
тонких папочек до самого ужина, исписав целую тетрадь.
Я приходила к осознанию истины, точно разделывала капуст-
ный кочан — сперва обрывала большие листья, постепенно при-
ближалась к плотному ядру, видела, как все туже и туже сплете-
но кочанное нутро. Каждая строка в коротенькой характеристи-
ке из детдома, прекрасно не соответствующей сухим стандартам,
вопила о жизни, стенала о беде, требовала помощи, взывала к
любви. Каждая строчка свивалась в тугой виток забот и проб-
лем, имеющих конкретное отношение к коротенькой пока чело-
веческой судьбе. Трагедия шагала по тонким корочкам, оглушая
даже взрослую душу своей жесткой походкой.
Мне показалось тогда, да и сейчас кажется: за те часы
я прожила несколько жизней. Точно вся моя предыдущая судьба
с ее маленькими, ничтожными бедками, все мои двадцать два
года превратились в одну-единственную жалкую минутку, доволь-
но пустенькую, во всяком случае, беспечальную, а подлинная
моя жизнь начиналась вот отсюда, с этой черты, с нескольких
часов, когда я святым правом своей профессии стала владеть
тайнами и бедами, о которых даже их хозяева не всегда знали.
Характеристики походили на письма. Написанные от руки и
подписанные одинаково — «Мартынова»,— они почти всегда закан-
чивались обращением:
«Будущих педагогов Зины Пермяковой просим обратить вни-
мание на неустойчивость ее характера, склонность подвергаться
влияниям — как хорошим, так и плохим, несамостоятельность в
решениях и поступках».
«Аню Невзорову желательно загружать всевозможными пору-
чениями и делами, не давая ей оставаться наедине, так как заме-
чено, что в одиночестве Аня немедленно вспоминает свое прошлое,
оставившее в ней сильный след, и тотчас сторонится взрослых».
«Миша Тузиков очень тоскует по родителям, поэтому при воз-
никновении такой возможности мы рекомендуем его усыновление,
однако непременно с сестрой, Зоей Тузиковой, которая очень лю-
бит брата».
Я представляла себе старуху директрису: наверное, Мартыно-
ва— это она, незнакомая мне Наталья Ивановна,— как сидит пе-
ред настольной лампой, непременно зеленой, старинной, обмаки-
вает перо в чернильницу: она не могла писать характеристики
100
авторучкой — это было видно по нажимам и волосяным старинным
линиям — так выводили буквы когда-то, наверное, на уроках чи-
стописания,— обдумывая каждую строчку, а потом занося ее па
лист бумаги, как выношенную и выстраданную мысль, а не про-
сто нужную фразу.
Да, выношенную и выстраданную — эти просьбы к будущим
педагогам ее воспитанников не могли быть не выстраданы, по-
тому что им предшествовали сведения, холодившие душу.
«Миша Тузиков вместе с сестрой Зоей Тузиковой (близнецы)
переданы в детдом по решению административных органов. Ро-
дители их — Николай Иванович Тузиков, инженер, и Александ-
ра Сергеевна Тузикова, научный работник, погибли во время ав-
томобильной катастрофы (копия свидетельства о смерти родите-
лей прилагается). Единственная родственница родителей—Тузи-
кова Н. С., 85 лет, находится в доме престарелых».
«Мать Ани Невзоровой — Невзорова Любовь Петровна — ре-
шением народного суда за безнравственное поведение лишена ро-
дительских прав (копия постановления суда прилагается). Отец
неизвестен. А1ать совершала неоднократные попытки общения с
дочерью».
«Год, месяц, день и место рождения Зины Пермяковой соот-
ветствуют действительным датам, а имя, отчество и фамилия опре-
делены коллективом Дома ребенка. Имя девочке дано в честь Ге-
роя Советского Союза Зинаиды Портновой, отчество—Иванов-
на— произвольно, фамилия в честь Перми, города, где она пе-
редана из роддома в Дом ребенка (расписка матери в отказе от
материнства прилагается)».
С каким-то непостижимым, суеверным страхом я разглядыва-
ла эту расписку.
«Я, такая-то Галина Ивановна, паспорт номер такой-то, год
рождения такой-то, место рождения такое-то, подтверждаю настоя-
щим, что добровольно отказываюсь от своей дочери. Имя отца со-
общить отказываюсь. Обязуюсь никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не требовать родительских прав. Против перемены име-
ни и фамилии дочери пе возражаю».
И неразборчивая закорючка вместо подписи. Так расписыва-
ются в ведомости па зарплату. Или где-нибудь в книге заказных
писем.
Моя биография не готовила меня к таким обстоятельствам.
Я, дитя благополучия, и вообразить себе подобного не могла.
В этих тоненьких папках я открывала новые, неведомые мне аб-
бревиатуры, сокращения, каких не встретишь ни в едином фило-
логическом справочнике: ЛРП — лишение родительских прав,
МЛС — места лишения свободы.
В кабинете директора висела вязкая тишина, только настенные
электрочасы громко стучали стрелкой, отсчитывая минуты, а во-
круг меня теснились лица малышей, которые еще вчера были
такими одинаковыми. Точно я заново узнавала их. Дети автомо-
бильных катастроф и даже землетрясений, но чаще всего — чело-
101
веческих ошибок и взрослой слабости, это были особенные дети.
Лишенные родительской ласки, они даже не знали, что она бы-
вает. Человек может и не подозревать о счастье, если он его не
испытал. А если испытал?
Вот я испытала. Несмотря на мамин характер, я люблю ее
и не могу не любить, я знаю, что такое дом, уют, близость род-
ного человека. Я знаю. А они не знают.
Конечно, придет время, они вырастут, и к ним придет их соб-
ственное счастье. Но с каким опозданием! А разве счастье имеет
право опаздывать к людям?
Значит, я должна им помочь, не так ли? Я, знающая, что та-
кое счастье.
Только как?
Как помочь Лене Берестову, сероглазому крепышу, весельча-
ку и неунываке, отец которого спился после смерти жены и забыл
не только про сына, но и про себя?
А Женечке Андроновой? Севе Агапову? Косте Морозову? Лене
Савичу? Малышам, чьи имена то подлинны, то выдуманы педсо-
ветами, чтобы оберечь ребят от продолжения материнских оши-
бок?
Я стояла у окна, глядя на улицу, и не видела ее.
Толстой сказал, что все счастливые семьи счастливы одинако-
во, а каждая несчастливая несчастна по-своему. И я, взрослый
человек, только теперь начинала понимать эту фразу.
У каждого моего птенца было свое несчастье. А я, счастливый
человек, не знала, не думала о них. Человек безмятежной судьбы
знает, конечно, о бедах, о том, что есть несчастные, а среди них
и дети. Но жизнь устроена так, что несчастье счастливому ка-
жется чаще всего далеким, порой даже нереальным. Если у тебя
все хорошо, беда представляется рассыпанной по миру маленьки-
ми песчинками, несчастье кажется нетипичным, а типичным —
счастье. Да, когда человек счастлив, ум как бы теряет осторож-
ность, дремлет. Знание уступает место чувству, и, наверное, это
справедливо. Счастье не будет счастьем, если оно каждый миг
станет думать о беде и горе. Но правда трезвее благополучия.
Пока есть жизнь, будет и беда. Будут аварии и землетрясения, бу-
дет смерть, она неизбежна, и будет, наверно, человеческая под-
лость—что-то не исчезает она никак. Да, несчастья'—это неиз-
бежность, но если все несчастья собрать вместе, как здесь, в ин-
тернате? Что же получится? Груды беды? Темный день? Мрак?
Что ж, выходит, так. И нет другого выхода, как развеять этот
мрак, когда речь идет о маленьких людях. И еще: защитить от
тяжелого легче, когда те, кого надо защищать, вместе.
А темный день... Главное, чтобы он не повторился у них, вот
что. Темный день, беда, собранная в тучу, предназначена только
для сердца учителя. Дети должны жить. Расти, радоваться. Слава
богу, они плохо помнят свою беду. Многие и не знают о ней.
Что же касается меня... Я должна содрогнуться от этой беды.
Я должна носить ее в сердце, что поделаешь, оно дано человеку
102
не только для счастливых нош. Но я не имею права жить одним
прошлым этих ребят. Только их тяжестью.
Мне поручили их осчастливить.
Легко сказать...
8
К вечеру в интернат заявилась Лепестинья. Увидев меня, ухва-
тила за локоть и зашептала жарко в ухо:
— Ты чо, девка, сдурела, я ведь извелась вся, думала, не най-
ду в школе, позвоню милиции.
— Что ты!— Мы с ней по-родственному, на «ты».
— Чо, чо, как я перед матерью твоей отвечать стану, а? Вон
на карточке-то строгущая какая!
Вот, какое откровение! Я рассмеялась, повела Лепестинью в
игровую: пусть посмотрит, какая у меня работа, и не горячится
впредь—ночевать я здесь не раз еще буду.
Лицо у Лепестиньи побито рыжими веснушками, а брови и
ресницы такие бесцветные, что кажется, словно их вовсе нет.
Удивление, восторг, негодование она выражает очень явственно:
глаза округляются, линии, означающие брови, превращаются в
дужки, да еще ноздри у Лепестиньи отчего-то расширяются — так
что чувства у нее очень даже заметны. И она их не прячет. Ка-
жется, целый день то удивляется, то возмущается, то радуется, и
все одинаково.
Когда увидела нашу роту, поразилась, цокала, качала головой,
округляла брови, потом полезла под кофту, вытащила из какого-
то тайного уголка конверт.
— На-кась, пока не запамятовала.
Письмо! От мамы!
Я торопливо порвала конверт, развернула большой лист бу-
маги, сложенный вшестеро. Крупным, размашистым маминым по-
черком на листе начертана единственная фраза: «Может, все-таки
пощадишь меня?»
Я сунула письмо в карман, рванулась к окну. Наверное, у меня
было такое лицо, что брови Лепестиньи опять поехали вверх.
Я помахала ей рукой, говорить не было сил.
Мама, моя строгая мамочка, наверное, ни на шаг не отступала
от меня в эти дни и минуты. Когда Маша рассказывала про ав-
тобус, стояла рядом. Там, в вестибюле, тоже не отходила. Читала
вместе со мной ребячьи бумаги. .Моя дорогая мама держала ме-
ня за руку и слушала мой пульс. Следила, когда он чаще. И ког-
да я признала себя счастливой в сравнении с малышами, когда я
признала собственное благополучие, когда я крикнула сама себе,
что человек, имеющий мать, владеет громадным преимуществом,
она прислала ноту наступательного характера.
Я металась по коридору, в бессилии стискивала кулаки и пе-
ребирала варианты ответа, достойного маминой фразы.
Из паники вывела Маша. Вернее, жизнь. Впрочем, Маша ста-
новилась для меня олицетворением жизни. Едва только появля-
103
лась Маша, как я начинала учиться чему-нибудь. Красиво, углом
вверх, ставить подушки, молниеносно, не прекращая разговора,
приметывать пуговицу, аккуратно и ловко штопать носки. Навер-
ное, я толковей объясняла ребятам уроки, но это было единст-
венное, где я обгоняла Машу.
Так вот, Маша возникла передо мной в самый разгар моих ме-
таний и проговорила довольно спокойно:
— У Коли Урванцева болит живот.
— Вызвать «скорую»? — Одним рывком Маша вернула меня
к действительности.
Коля ходил вдоль стенки в игровой комнате и басовито подвы-
вал, а остальные преспокойно возились, кричали и вообще зани-
мались своими делами, совершенно не обращая внимания на Ко-
лю, который, казалось, и не ждал никакого участия, а надеялся
только на себя.
Любопытное дело, Маше, когда она пыталась взять его за ру-
ку, Коля не дался, а завыл еще басовитее, мне же уступил тотчас.
Мы увели Колю в спальню, я положила его на кровать, по-
щупала живот. Дело пахло образцовым аппендицитом — боли
справа внизу, при нажимании усиливаются. Маша побежала к те-
лефону, а когда явилась вместе с бригадой из «скорой помощи»,
Коля сладко всхрапывал у меня на коленях.
Врач оказался довольно свирепого и решительного вида — пи-
ратская борода, рыжие усы, этакие оловянные, безразличные
глаза, и, проснувшись, Коля завыл еше сильнее. Думаю, от
страха.
То ли он стерпел, не желая ехать со страшным врачом, то ли
приступ прошел, живот, как ни мял его доктор, был без всякого
признака болей.
Нам пришлось объясниться с врачом, которого очень разъярил
ложный, как он выразился, вызов, но этим довольно умело заня-
лась Маша, особенно на лестнице, откуда слышался ее бойкий
говорок. Одним словом, Коля встал на ноги и пошел назад в
игровую.
Беззубая Зина Пермякова, увидев его, прошепелявила:
— Я ше говорила, што он шимулируег. Уше второй раш.
Мы еще пошутили с Машей о полезных свойствах страха, но
через час приступ у Коли повторился. Когда мы прибежали, он
лежал на полу, лицо его побледнело, к животу невозможно при-
коснуться, а ребята снова не обращали на него внимания. Только
Зина ворчала:
— Шимулирует.
«Скорая» на наш вызов ехать теперь не торопилась, я гладила
Колю по голове, взмокшей от пота, и кляла себя: надо было на-
стоять, чтобы мальчика взяли в больницу.
Врачи все не появлялись. Меня стало знобить. Что это было?
Да, страх. Но только не за себя. За Колю. Дикая мысль при-
шла мне в голову...
Белые халаты наполнили комнату, молоденькая врачиха, по-
104
жалуй, моя сверстница, смазанные, расплывшиеся за окном ма-
шины, серые дома, больничный коридор с тусклым светом.
Я бегала по нему точно помешанная. Мысль, поразившая ме-
ня в школе, вернулась снова, парализуя всякую способность дей-
ствовать здраво.
Если Коля умрет — ведь умирают от аппендицита! — некому и
поплакать о нем, кроме нас с Машей.
Какими только словами не проклинала я себя! Каких только
клятв не давала на будущее — при первой же боли, при первом
признаке неблагополучия звать врача, директора, самого бога,
только чтобы не прозевать, не пропустить, не проморгать.
Будь Коля моим собственным сыном, я страдала бы, наверное,
меньше. Но именно потому, что он не был моим, и именно потому,
что у Коли не было никого, я не могла простить себя.
Мимо шла нянечка со щеткой в руке. Возле меня она задер-
жалась.
— Не переживай, мамаша,—нянечка подмигнула,—у нас тут
все в лучшем виде.
Колю привезли в палату, пустили к нему меня. Я сидела воз-
ле него, пока он отходил от наркоза, пела ему песенки, рассказы-
вала сказки, говорила какую-то чепуху, меняла пузырь со льдом.
Когда он засыпал, я разглядывала его брови вразлет, ямку на
подбородке, думала о том, что парень из него вырастет краси-
вый, гроза девчонкам. В какую-то минуту я вдруг по-бабьи приль-
нула к Коле, вдохнула слабенький запах мальчишечьего пота, и
мне вдруг до смерти захотелось родить собственного такого
Кольку.
— Ну и ну! — осудила себя. Это, видно, с недосыпа. Рассмея-
лась тихонько. Не этой дурацкой идее, а той, прежней. Как же—
некому плакать! Не такие уж мы с Машей чужие люди этому
Кольке. Не такие. Да и плакать-то чего тут? Пустые страхи.
Не должно было, нет, не должно ничего плохого у Коли слу-
читься.
Все плохое у него позади. Впереди только хорошее. И я с ним.
Каждому человеку, верила я, отпущена своя мера добра и
зла. Зло Коля уже исчерпал, выбрал все. Теперь осталось добро.
9
Утром я разругалась с нянечкой, которая меня вчера утеша-
ла. Ночью Коля учинил под собой лужицу, няньке пришлось ме-
нять простыню и даже матрац, и она, считая меня Колиной ма-
терью, принялась ругать, едва я появилась, за худое воспитание
ребенка.
Я тигрицей набросилась на тетку. Маленький мальчик! После
операции! Да мало ли что может случиться, эка беда! Неужели
У этой женщины собственных детей не было! Неужели у нее серд-
ца нет, коли не только меня, но и малыша обругала принародно,
довела до слез!
Нет, не могла я говорить няньке, что Коля не сын мой, это бы
105
выглядело странным для меня оправданием, объяснением никому
тут не нужным, да и опасным для Коли. Я не имела никаких прав
на Колину тапну, кроме одного права и одной обязанности — бе-
речь ее от всех. А среди прочего Мартынова писала в Колиной
характеристике: «Чем-то испуган, вероятно, смертью бабушки,
замкнут, мочится в постель, необходимо повышенное внимание пе-
дагогов и особое наблюдение врача». А перед этим говорилось:
родители Коли, оба геологи, утонули в Енисее, мальчика воспи-
тывала престарелая бабушка, которая скоропостижно, на глазах
мальчика, умерла.
Так что это просто моя вина: операция затмила важную под-
робность его маленькой биографии. А Коля тут ни при чем.
С тех пор мы с Машей являлись в больницу ни свет ни заря,
приносили сухую простыню, меняли ее до смены техничек, старую
замывали и уносили тайком в интернат.
Когда я входила в палату, сердце обрывалось: Коля смотрел
на меня страдающими, виноватыми глазами.
Тихонько, стараясь не разбудить соседей, я меняла белье, под-
кладывала клеенку. Постепенно Коля приходил в себя, оттаивал,
успокаивался, а когда собиралась уходить, обнимал меня.
Чтобы мальчик не сильно отстал от товарищей, мы с Машей
читали ему вслух, разговаривали — словом, не давали скучать, а
Нонна Самвеловна, учительница наших первышей, занималась с
ним понемножку всеми устными уроками.
Раньше Коля Урванцев казался мне молчаливым, даже угрю-
мым. Похоже, он все время размышлял о своем, общаясь с осталь-
ными людьми — взрослыми и ребятами — только по необходимо-
сти: спрашивал, когда надо было что-нибудь спросить, отвечал,
если самого спрашивали. Но не больше.
В больнице я узнала другого Колю. Во-первых, он без конца
спрашивал, и я осознала, что из множества вопросов тоже выри-
совывается личность.
Сперва Коля долго и подробно выяснял, что случилось у него
в животе, причем односложные ответы его не устраивали, и мне
даже пришлось нарисовать ему схему кишечника и обозначить,
где находится аппендикс и как его удалили
— Отрезали ножницами? — спросил он взволнованно.
— Скальпелем. Такой острый ножик.
Коля крепко задумался, соображая. Потом попросил меня
снять с руки часы и стал расспрашивать, как и почему крутится
стрелка и как вообще устроены часы. Пришлось опять браться за
карандаш, потому что Коля дотошно вытягивал подробности и
успокаивался только тогда, когда не оставалось ни одного неясно-
го пункта. И так далее и тому подобное.
А Колин недостаток волновал нас с Машей. Не раз и не два
я говорила со школьным врачом, потом, пользуясь своим дежур-
ством, с заведующим больничным отделением, но никаких ле-
карств не было, врачи советовали ждать, когда мальчик подрас-
тет. Легко сказать — ждать!
10G
Не ждать надо, действовать! Выходит, только операция за-
ставила обратить наше особое внимание на ребенка. Значит,
грош нам цена? Не заболей Коля, когда бы еще мы до него до-
брались! До его отрешенности, которая оказалась обычным оди-
ночеством, отсутствием индивидуального внимания. До его ма-
ленького, но неприятного порока? А добравшись, когда бы и как
помогли?
Нет, нет, надо поговорить с Аполлоном Аполлинарьевичем. Ле-
скова я прочла, спасибо, благородные, прекрасные люди учили и
воспитывали Рылеева и Бестужева в первом кадетском корпусе,
но сегодня все иное и педагогика иная, и нам надо что-то приду-
мывать для Коли и для других — у каждого свое. Срочно приду-
мывать! Чтоб не получилось, словно мы, учителя, плывем во вре-
мени вместе с нашими малышами, сплавляемся на плоту по тече-
нию, и одно течение правит нами, одно стихийное течение...
Я не успела додумать до конца, как дверь палаты распахну-
лась и в дверной проем протиснулся Аполлоша.
— По щучьему велению, по моему хотению! — не сдержалась я.
Аполлон Аполлинарьевич расплылся в улыбке.
— Если хотите знать, я обладаю свойством возникать там, ку-
да меня зовут.
Он бодро встряхнул Коле руку и протянул громадное красное
яблоко, скорее похожее на мяч. Малыш засмеялся, подкинул яб-
локо вверх, поймал и воскликнул:
— Мне папка такие же привозил!
Мгновение мы молчали. Я видела, как одеревенело лицо у ди-
ректора, впрочем, уверена, и мое было таким же. Вот оно, бесси-
лие прописной педагогики! И такое будет еще не раз! К малышам
будут приходить ассоциативные воспоминания. Все хорошо, и
вдруг из темноты беспамятства выносится яркая картинка. Яб-
локи!
Первым нашелся Аполлон Аполлинарьевич.
— А еще бывают совсем маленькие яблочки. Вот такусень-
кие.— Он свернул пальцами маленькое колечко.— Называются
райские.
— Растут в раю? — спросил Коля.
Я облегченно вздохнула. Кажется, пронесло!
•— Это сказка! — рассмеялась я. — Рая пет!
— Мой папа в раю,— ответил Коля.— Бабушка мне говорила,
пока не померла. Значит, не сказка.
Из этого мы уже не выбрались. Покрякав и погмыкав, Апол-
лон Аполлинарьевич расстегнул портфель и протянул Коле ри-
сунки. На уроке рисования Нонна Самвеловна предложила ребя-
там нарисовать подарки для Колп.
На листочках бумаги были танки, цветы, клоуны, но, слава
богу, не было яблок, и Коля, смеясь, вернулся из своих воспо-
минаний.
Хорошо, что вернулся так скоро. Но ведь это понятно, он еще
маленький. Как будет дальше?
107
10
Из больницы мы шли пешком, и я словно только теперь уви-
дела город. Была середина октября, в ночь ударил мороз и туго,
до бетонной твердости, сковал землю. Голубое полотно над голо-
вой дышало свежестью, оттеняя рыжие березы вдоль улиц. Город
как бы продуло предзимним сквозняком, вычистило унылую се-
рость. Силикатные дома весело посверкивали отмытыми окнами,
домики деревянные будто праздновали: пасмурная погода равня-
ла их одинаковой унылостью, а солнце высвечивало яичную жел-
тизну тесовой крыши, коричневую теплоту старых бревен, брон-
зовый орнамент наличника. Нет, у этого городка был свой харак-
тер и свое лицо, просто я ничего не заметила по своему легкомыс-
лию, как ничего не заметила сперва в своих ребятах. Выходит, к
городу, как и к человеку, надо приглядеться, не спешить, присмот-
реться при разной погоде и — как к ребенку — при разном на-
строении.
Аполлон Аполлинарьевич предложил срезать путь, мы про-
шли какими-то дворами и оказались в осиновой рощице, сквозь
огненную листву которой виднелось школьное здание.
По дороге мы говорили о разных пустяках, и я, не решаясь пе-
ребить мысли директора, все ждала подходящего поворота темы,
когда Аполлон Аполлипарьевич сам заговорит о школе.
Но он восхищался погодой, рассказывал про охоту — сейчас
самое время, оказывается, для охоты на зайца, а Аполлоша, вы-
яснялось, всю свою жизнь, до прошлого года, провел в райцент-
ре, где учительствовали его предки и где начинал он сам, и охота
с гончей на зайца была любимым отдыхом.
— А не жалко? — спросила я.— Зайчишек-то?
— Естественники — народ безжалостный! — ответил Аполлон
Аполлипарьевич и хитровато посмотрел на меня, точно хотел еще
что-то добавить, да не решался.
— Но ведь не всегда? — улыбнулась я.
Лужицы покрыло топким ледком, я наступала на него, и он
хрустко лопался.
— И вообще может ли быть учитель безжалостным?
— Как всякий человек,— ответил Аполлоша.— Должен быть
и безжалостным, если речь идет о дурном, о враждебном, о том,
что калечит душу.
Я срывала осиновые листья, полыхавшие яркими огоньками —
лимонным, оранжевым, алым.
— Надо конкретно,—сказал Аполлон Аполлинарьевич.— Не
люблю общих положений. Они, как рецепты, а в нашем деле ре-
цептов не бывает. Всякий раз новое.
— А я конкретно. О своих зайчишках. Им-то требуется жа-
лость!
Директор закашлялся, но промолчал.
•— Вам приходилось работать с сиротами? — спросила я.
— В моей бывшей школе они были, но, как правило, жили
108
с родными, с бабушкой, например. А чтобы сразу двадцать два,
никогда.
— Я перечитала Макаренко, но кроме общепедагогических по-
сылов — ничего.
— Вряд ли опыт его колонии применим у нас.
— Но ведь порой просто не знаешь, как поступать.
— Да вы не печальтесь. Хотите, раскрою секрет? — Он рас-
плылся, развел руки в сторону.— Этот секрет еще мои бабушки
и дедушки открыли. И родители мои частенько пользовали. Когда
не знаете, как поступать, поступайте естественно.— Он рассыписто
засмеялся.— Это вам я, естественник, говорю. Естественно! Самая
высокая правда!
Я улыбнулась ему в ответ. А он молодец, кругленький наш ди-
ректор! Рассказать бы ему, как я решала, в насколько естест-
венном виде мне с девчонками под душем быть. Но Аполлоше не
расскажешь. Все-таки мужчина, хоть и директор школы. Да и
одной естественности маловато, нужна наука, а книга для работ-
ников детдома, которую я проштудировала, дала не ахти как мно-
го. Но, главное, нужно сердце. Однако и сердце не беспредельно.
На сколько детей может его хватить? На сотню? Но это же про-
сто фраза, которая становится преступно бессмысленной, если го-
ворить о живых людях и о мере, которой взвешиваются реаль-
ные, а не выдуманные, не воздушные чувства. Чувств каждому
дано в пределах, человеческое естество не безгранично, и даже
такая нежная материя, как сердечность, не бесконечна.
И я принялась говорить о том, что мучило меня возле Коли-
ной кровати, о том, к чему без конца возвращалась, о том, что
ни наука, ни самые разумные методики заменить не способны.
Я старалась говорить спокойно, стремясь быть рассудительной,
похожей на настоящую учительницу, взвешивала каждое слово,
но постепенно распалялась, не получалось у меня спокойно, и
Аполлон Аполлинарьевич, я видела, заволновался вместе со мной.
А я говорила про Колю Урванцева, про то, какие у него глаза
по утрам, как он обнимает меня, Машу, Нонну Самвеловну, рас-
спрашивает без конца, но это не обычные расспросы малыша-по-
чемучки, а осознанная любознательность, которую надо всячески
развивать, а главное, про то, что Коля оказался в особых обстоя-
тельствах, которые приблизили нас, взрослых, к нему, а его к
нам. Мы общались с ним в эти дни куда как чаще, чем если бы
он был здоров. Вот в чем закавыка! И этот вывод тянет печаль-
ные мысли. Этот вывод означает, что в обычных условиях нас
просто-напросто не хватает на всех. А малышам из детдома нуж-
но тепло иного порядка — не учительского, а родительского, когда
на одного ребенка хотя бы один взрослый. Так что наше внима-
ние к Коле не норма, а исключение, вызванное операцией, доро-
гой Аполлон Аполлинарьевич, и даже если собрать нас всех —
вас, меня, Машу, Нонну Самвеловну,— если даже присоединить
сюда повариху Яковлевну, которая как-никак старается на выход-
ные сготовить что-нибудь повкуснее, а значит, по-своему воспиты-
10Э
вает ребят, если нянечек собрать, дворника дядю Ваню — всех,
кто имеет прямое отношение к малышам, нас будет мало, слиш-
ком мало на двадцать две непростые души, которым — всем до
единого! — требуется повышенное внимание.
Нет, чет, пусть простит меня Аполлон Аполлинарьевич, я вы-
брала не те слова. Не внимание. Любовь.
Приглядеть, нос вытереть, подшить свежий воротничок, вы-
учить грамоте, вкусно накормить — на это еще куда ни шло, на
это нас хватит. Но нашей любви, ласки, родительского тепла —
если даже каждый будет образцово честен в чувствах — просто
физически не хватит. Вот и подумаем давайте, как быть. Ведь
если серьезно заняться одним, двумя, тремя, то эти трое полу-
чат больше, это бесспорно, но зато остальные окажутся обделен-
ными, хоть в чем-то, но обделенными. И это несправедливо, непра-
вильно, а распределить себя на всех — возможно ли это, верно
ли? Воспитывать надо в глубину, то есть по вертикали, а не по
горизонтали...
Я размахивала руками, а Аполлон Аполлинарьевич стоял пе-
редо мной, нахмурив лоб и опустив голову, будто провинившийся
ученик перед строгим учителем, кепочка блинчиком сдвинулась на
макушку круглой—-по циркулю — лысой головы. Так что в ка-
кой-то самый неподходящий момент, высказав серьезную мысль,
оснащенную графиком, начерченным в воздухе пальцем,— как на-
до воспитывать, изображал этот график,— я неожиданно для се-
бя улыбнулась.
Аполлоша оглядел меня озадаченно, потом что-то сообразил,
покачал головой и укорил меня:
— Нехорошо, Надежда Победоносная, смеяться над старым
человеком!
— Уж над старым!
— А как же! Мне четыреста восемьдесят семь лет! Представ-
ляете? Семидесяти лет умер один дед, второй прожил шестьде-
сят семь, одна бабушка — шестьдесят девять, вторая — восемьде-
сят три, отец — семьдесят два, маме сейчас восемьдесят да самому
сорок шесть. Вот и считайте. Четыреста восемьдесят семь.
Говорил Аполлон Аполлинарьевич грустно и резко сразу, и я
притихла, поняла, что он всерьез.
— Из них только педстажа лет триста, если не больше. А вы,
двадцатидвухлетняя дебютантка, пытаетесь поставить эти триста
лет На колени.
Вот не ожидала такого поворота.
— Помилуйте, Аполлон Аполлинарьевич! При чем тут предки?
— При том! — воскликнул он сердито, глядя куда-то в сторо-
ну.— При том, что я не знаю, как вам ответить. 14 себе как от-
ветить.
Он закинул руки за спину, сгорбился, совсем на колобка стал
похож, и двинулся совершенно невежливо впереди меня, никако-
го внимания ие обращая, как он выразился, на дебютантку, вы-
крикнув напоследок из-за плеча:
110
— Случай у нас нетипичный! Нет главных наших помощни-
ков! Родителей!
— Слушайте, Аполлон Аполлинарьевич! — крикнула я, обгоняя
его. Я даже подпрыгивала от радостного возбуждения. Мне ка-
залось, гениальная идея озарила меня.— А если съездить к спе-
циалистам?
— Куда? — остановился директор, нелюбезный оттого, что сам
не мог ничего придумать.
— К Мартыновой, в детский дом.
11
Когда я сказала Лепестинье, что уезжаю в район проведать
детдом, где росли мои ребята, она ничего не произнесла, но лицо
ее выразило сразу множество чувств. Вообще с тех пор, как моя
хозяйка побывала в школе, она совершенно переменилась.
Ходила по половицам на цыпочках, когда я была дома. Норо-
вила непременно меня накормить, хотя обедала я с ребятами, и
страшно обижалась, если я отказывалась от ее щец или котлет,
причем обижалась молча, ни слова не говоря, так что я ела снова.
Так вот тетка Лепестинья узнала, что я еду в район, и лицо
ее вначале выразило массу смешанных чувств — удивление, опа-
ску, печаль, недоверие, еще что-то такое, неведомое мне, но потом
эта гамма сменилась другим, ярко выраженным — решительно-
стью.
Отъезд намечался на среду — в понедельник предстояло при-
нять ребят, уходивших домой, вторник планировался на стаби-
лизацию обстановки в группе, а уж в среду можно ехать — среду
и четверг Нонна Самвеловна обещала заменять меня. Я еще и
думать не думала о билетах: добраться до Синегорья, где нахо-
дился детдом, можно было поездом за четыре часа.
Словом, я недооценила решительности во взоре тетки Лепе-
стиньи. Подставляя мне тарелку со щами как-то вечерком, она
строго проговорила:
— С тобой поеду, вот и все. Гляди, билеты взяла.
Она выложила их, а я опешила сразу по двум причинам. Во-
первых, от неожиданности. Во-вторых, от маминой интонации в
речах Лепестиньи.
Я медлила минуту, не зная, как себя вести: то ли сердиться, то
ли махнуть рукой,— потом вспомнила совет Аполлона Аполли-
нарьевича: естественней. И рассмеялась.
Выходит, не только к детям применима эта рекомендация. Без-
бровое Лепестиньино лицо расплылось в радостной улыбке, видно,
волновалась, не знала, как посмотрю на ее вмешательство, вздох-
нула облегченно. Принялась разматывать узелок, показывать свои
заготовки в дорогу — внушительные, точно мы на неделю собра-
лись: яйца вкрутую, батон колбасы, шматок сала, соленые огур-
чики в баночке, снова баночка — с маринованными помидорами и
еще баночка с вареньем, эмалированные кружки, ложки, в спи-
чечном коробке соль.
111
А что, подумала я, делать Лепестинье нечего, пенсионерка, по-
чему бы ей не поехать, и мне, глядишь, веселей. Хозяйка, как
опытный терапевт, без всяких стетоскопов прослушала мои невы-
сказанные мысли, сочла, что настроение у меня хорошее, приня-
лась ходить на цыпочках, хотя я книжку не читала, а ела ее
же щи.
— Ну хватит,— попросила я ее,— сядь лучше да объясни.
Лепестинья послушно села, лицо ее вновь выразило смуще-
ние, и она проговорила:
— Ведь я тоже детдомовка.
Вот так да! Педагог называется. Еще проницательность какую-то
в себе находила, а вот два месяца с теткой Лепестпньей прожила
и ни-че-гошеиьки про нее не знаю. Получи свое, подруга!
Мне Лепестинья представлялась молчуньей этакой, себе на уме
хозяюшкой, которая мимо себя рублика не пропустит,— вон угол
сдает учительнице, а добродушие ее напускное, сюит только коп-
нуть, что-нибудь другое обнаружишь, оттого я не копала, не ду-
мала даже с ней сближаться, а тут — вот тебе на!
А молчунья моя словно распахнулась. Говорит, говорит, захле-
бывается прихлынувшей памятью, вспоминает избу под Сарато-
вом, деревню, белую от вишневого цвета, отца и мать, шестерых
своих сестер и братьев, потом несусветную жару, пересыхающее
озеро и ребячью радость оттого, что карасей руками хватать мож-
но, а дальше — голодуху, тонкие оладышки из картофельной ше-
лухи, притихший деревенский порядок, могильные кресты и теп-
лушку, куда заталкивает ее, ничего не понимающую, тощий крас-
ноармеец, а она рвется из вагона, кричит и плачет.
Лепестиньин рассказ — как запутанный след, с петлями, сме-
шанными из разных времен картинками, долгими паузами, слеза-
ми, смехом и новым молчанием, возвращениями в сейчас —пора
спать, пора идти на автобус, вот и дернулся поезд-—продолжается
долгие часы, и я, примолкшая, слушаю ее, точно урок истории, из-
вестный, конечно, мне по книгам и все-таки такой бесконечно да-
лекий и всякий раз новый.
Лепестинья смахивает прозрачные слезы, мне хочется пожа-
леть ее, но она не позволяет этого и сама себя не жалеет, улыба-
ется извинительно, шагает дальше по тропинке памяти и время
от времени говорит очень важное для меня и для себя:
— Ну ладно, тогда голодуха, тяжелое время, сироты понятно
откуда брались, а теперь-то, теперь?
И я как бы выплывала из Лепестиньиной жизни в свою, и ко
мне будто бы подбегали шепелявая Зина Пермякова — поет «Очи
черные, очи страстные», жалельщица моя Анечка Невзорова, тез-
ка полководца Саша Суворов, Коля Урванцев, уснувший после
приступа боли у меня на коленях, брат и сестра Миша и Зоя
Тузиковы, которых ни за что нельзя разлучать, и Женечка Андро-
нова, и Костя Морозов, и Леня Савич и все-все-все.
Простой Лепестиньин вопрос, который она повторяла то и дело,
вызывал во мне смутную, необъяснимую тоску.
112
Ведь я знала ответ на этот вопрос, про каждого из ребят мог-
ла сказать, по какой причине остался он один. А вот про всех
сразу не могла, нет, не могла твердо и уверенно ответить, что дело
обстоит так-то и так-то. Что главная суть проблемы кроется в
том-то и том-то.
Тогда — голод, говорила Лепестинья, тогда — трудно, тогда—-
война. Но теперь-то? Не голод, не война. Нетрудно, в общем,
жить. И что? Дети без родителей — вот они, у меня за плечом.
И я еду вызнавать подробности. Выяснять, как и чем мы должны
помочь. Мы не матери и отцы, а всего только учителя.
Вопрос Лепестиныш правомерен, да, правомерен. И понятно,
почему Дзержинский, назначенный воевать с бандитами и врага-
ми, занялся беспризорниками. Понятна слава Макаренко с его ко-
лонией. Понятно сиротство страшной войны, когда я еще даже не
родилась,— это мне все понятно.
Непонятно, почему сироты есть теперь.
Катастрофы, беды, смерти — это осознать можно, без них мира
нет. Но сиротство — оно непостижимо, потому что так просто: де-
тям— всем детям! — нужны родители. Если даже их нет.
— Хочу посмотреть нынешний детдом,— отвлекалась от своего
рассказа Лепестинья.— Небось совсем другое дело! — И вдруг ска-
зала:— Всю жизнь ребеночка иметь хотела, да бог не дал! А кому
не надо, дает!—Толкнула меня легонько локтем.— Отдай-ка мне
одного, а, девка?
12
Замечали ли вы, что порой совершенно непонятным образом,
неизвестно как и почему вы предполагаете дальнейший ход со-
бытий, и события поворачиваются именно так, как вы думали.
Человек говорит слова, которые вы от него ждете. Или вы вхо-
дите в дом и встречаете там обстановку, которая когда-то имен-
но такой вам и представлялась.
Отчего это? Почему? Может, и впрямь в воздухе движутся ка-
кие-то волны, передающие не только знания, но и чувства, мысли,
даже намерения? И есть что-то таинственное в передвижении этих
частиц, преодолевающих не только расстояние, но и время.
Не об этом ли думал тогда в осинничке Аполлон Аполлинарье-
вич, когда говорил про триста лет педстажа своих предков?
И в самом деле, должно же умение, накопленное ими, существо-
вать и сейчас, в нем, директоре? Или каждый человек начинает
все сначала и предыдущее ему не в зачет?
Впрочем, я увлеклась. А дело было в том, что у Мартыновой
я все узнала: обширный строгий стол, лампа под зеленым абажу-
ром, а па столе — бронзовый письменный прибор и деревянная руч-
ка с обыкновенным стальным пером, позволяющим выводить на
бумаге красивые старинные буквы, которые состоят из толстых
и тонких, то есть волосяных линий.
Старуха сидела в кресле с гнутой спинкой — я еще подумала.
113
что к старости женщины, видно, любят кресла,— и разглядывала
нас с Лепестиньей без всякого удивления, точно давно ждала это-
го визита, даже, кажется, была недовольна, что мы так долго не
приезжали.
Впрочем, до Мартыновой нас допустили не сразу, ее замести-
тельница, женщина крестьянского вида с добрым иконным лицом,
вызнала про нас все необходимое, пояснила, что Наталья Ива-
новна нездорова, но нас непременно примет, и вначале повела по
комнатам.
Детдом располагался в старинном особняке с колоннами, вид-
но, барском, стоял на пригорке в окружении тополей, возвышаясь
над райцентром. Соперничать с особняком, да и то лишь размера-
ми, могли пять-шесть зданий в поселке, но те были современной
конструкции и постройки скуповато-утилитарной, и детдом оста-
вался тут самым красивым зданием, радующим глаз бело-желтой
дворцовой окраской.
Особняк строили когда-то с любовью, мастеровито — все ком-
наты, по которым вела нас иконная заместительница, просвечива-
лись солнцем, и настроение возникало необычайно праздничное,
необыденное. Комнаты, скорее даже залы, были квадратны, высо-
ки, потолки почти всюду украшены великолепной лепниной необы-
чайно затейливого рисунка, а полы дубового паркета застланы
роскошными новенькими коврами. Меня вообще не покидало ощу-
щение, что детский дом новый, так прекрасно сохранилась бар-
ская усадьба и так хорошо она была ухожена внутри. Я еще
подумала о том, что это не случайно. Сохраняя детей, надо бе-
режно хранить и все, что рядом с ними,— дом, где они живут,
деревья, которые окружают усадьбу, летом — цветы и траву. И не-
возможно сберечь детей, разрушая, вытаптывая. В этом заклю-
чалась закономерность, безусловная связь. Да еще с каким-то
особым почтением, придыханием даже нам сказали, что детдом в
усадьбе пятьдесят с лишним лет, а Наталья Ивановна Мартыно-
ва тут с первого дня.
И хозяйка должна быть всегда одна, подумала я, верно. По-
стоянство правил должно охраняться одним.
Заместительница Мартыновой начала с младшей группы, и мы
с Лепестиньей обе враз расстроились, а Лепестинья даже всхли-
пывала. Мы гладили малышей, обнимали, я спела какую-то пе-
сенку, а Лепестинья угощала ребятишек домашним печеньем. Пе-
ченье ребята принимали охотно. Лепестинья угощала и воспита-
тельниц, и мы уже целой группкой прошли анфилады комнат со
специальной мебелью, красивыми кроватками, телевизорами и
множеством игрушек, дивясь богатству детдома.
— Это все Наталья Ивановна,— приговаривала ее замести-
тельница с каким-то особым чувством и тут же расспрашивала: —
А как там Ленечка?
— Какой? — уточняла я.
— Ну какой же? Берестов.
Я рассказывала в общих чертах.
114
— А Ленечка?
— Какой?
— Ну Савич!
Эти расспросы разожгли во мне ревность, но я тут же себя
одернула: заместительница Мартыновой думала о ребятах по име-
нам, я же пока только по фамилиям. Ее преимущество неоспори-
мо, а моя ревность, как пишут в научных трудах, немотивиро-
ванна.
Когда под вечер заместительница ввела нас к Мартыновой, я
подумала: это наваждение. Стол, лампа под зеленым абажуром,
бронзовая пепельница, деревянная ручка. И знакомое лицо дирек-
трисы. Где я видела ее? Тогда, в своем воображении? Не слиш-
ком ли?
— Вы знакомы? — спросила старуха, указывая на замести-
тельницу. Я механически кивнула.— Моя дочь.
Ну вот! Мать была как две капли похожа на дочь. Надо бы
сказать наоборот, ио дочь я увидела первой. У матери такое же
иконное лицо, только посуше, а оттого построже. Да и, конечно,
постарше.
— Докладывайте, дева!—-строго произнесла Мартынова.
Я смотрела на нее непонимающе.
— Про каждого,— улыбнулась она.— Подробно.
Ко мне точно вернулась пора студенчества. Будто я на экза-
мене у строгого профессора. Даже, как в студенчестве, запульси-
ровала жилка на шее.
Я глубоко вздохнула и принялась рассказывать.
Мы улеглись спать в половине шестого утра, и дочь ни разу
не пыталась остановить старуху.
Сначала рассказывала я, верней, докладывала, как вырази-
лась Мартынова, и это был настоящий экзамен. Про Анечку Не-
взорову я знала очень хорошо, и старуха одобрительно кивала,
про Зину Пермякову и Аллу Ощепкову — тоже, а про Леню Сави-
ча могла сказать гораздо меньше, и она недовольно морщилась.
Потом Мартынова говорила сама, о каждом подробно и долго.
Рассуждения очень напоминали ее характеристики из личных
дел. Каждый раз она как бы намечала будущий характер, го-
ворила, что надо сделать для такого-то, что изменить в таком-то.
— Ты Зину Пермякову, дева, за хорошие дела подхваливай
чаще, да и при всех. Ее похвалить то же, что перцу подбавить,
так и горит! Ну и что-нибудь сразу набрасывай, заботу какую.
Правда, она норовит дело попроще исполнить — пол подмести,
чашки перемыть. Грешки есть — умственного труда не любит, чи-
тать, писать небось не пылает.— ну вот видишь.
Мои рассуждения о Коле Урванцеве Наталья Ивановна вы-
слушала со вниманием, подтвердила:
— Распускается цветик, молодец. Ты его холи. Для них те-
перь каждый день — эпоха, только знай приглядывай. Дай-то бог!
Ученическую тетрадку я исписала вдоль и поперек, добавляя
в нее то, что не могли вобрать характеристики, была благодарна
115
Наталье Ивановне за ее меткость и память, хвалила себя за при-
думку навестить детдом, и все же наиглавиого Мартынова мне
не говорила.
А может, и нет никакого такого наиглавиого, в конце концов,
их ведь тут тоже не ах как много, взрослых. Едва ли больше, чем
у нас. Может, старуха и дочка выкладываются, а остальные? Раз-
ве раскусишь такое с налету, и я черпать пришла туда, где у са-
мих мелко?
Записывая, спрашивая, отвечая, я не забывала снова и снова
рассматривать комнату. Меня не покидало ощущение, что я что-то
забыла. Чего-то не хватало в этом доме, что обязательно должно
быть. Наконец вспомнила душ, поющую Зину Пермякову. Поду-
мала и брякнула:
— Наталья Ивановна, спойте под гитару!
Мартынова онемело воззрилась на меня, из-за ее плеча удив-
ленно глядела дочка-заместительница. Старуха расхохоталась,
блеснув фарфоровыми вставными зубами.
— А ты ничего, дева, способная,— сказала она, сделала едва
уловимое движение головой, ее дочка неслышно скрылась, а воз-
никла уже с большим футляром. Это была целая церемония: от-
крывались застежки, аккуратно вынималась гитара, да такая, что
мы с Лепестиньей обе тихонечко охнули: черная, лакированная,
отделанная перламутром, который радужно переливался.
Была глухая ночь, за окном, рядом с тополем, покачивалась
на ветру лампочка под старомодным колпаком, напоминавшим
мужскую шляпу, а старуха сосредоточилась, ушла в себя, пере-
бирала тихонечко струны. Мартынова запела неожиданно, и го-
лос, которым она пела, совершенно не походил на тот, каким ди-
ректриса говорила,— словно она мгновенно помолодела: слова
выпевались негромко, но как-то глубоко п сильно.
Глядя на луч пурпурного заката,
Стояли мы на 6epeiy Невы.
Вы руку жали мне. Промчался без возврата —
Тот сладкий миг, его забыли вы.
Меня не покидало ощущение, что все это уже случалось со
мной. Старинные романсы любила мама, и тот, что пела Марты-
нова, был известен мне, просто я давно его не слышала, с тех пор
как уехала из дому,— неудивительно, у меня началась новая
жизнь,— и вот теперь дохнуло старое. Не домом повеяло на меня,
нет, от дома у меня оставался горький осадок, просто что-то до-
рогое, близкое подошло ко мне. Прошлое, вот что. Мое такое ко-
роткое прошлое. А Наталья Ивановна пела последний куплет.
Сн печальный в этом романсе, и неожиданно я подумала, что
если уж у меня есть прошлое, то у Мартыновой оно по-настоя-
щему давнее. И еще я подумала, что каждый человек — загадка,
и вот эти две женщины, мать и дочь, тоже загадка и, верно, пре-
красная загадка, которую мне не хотелось бы раскрывать. Пусть
так и останется загадкой.
116
Уж смерть близка, близка моя могила,
Когда умру под тихий шум травы,
Мой голос прозвучит и скажет вам уныло,
Он вами жил, его забыли вы.
Наталья Ивановна положила сморщенную сухую руку поверх
струн и, будто никакого романса не было, никакой печальной тор-
жественности и красоты, сказала, словно продолжала прерванный
на полуслове разговор:
— С ними, дева, сердца жалеть нельзя.— И перевела взгляд
на дочь, будто бы говоря все это не мне, а ей.— Или их пожалей,
или сердце. Выбирай.— Она помолчала, потом тоскливо выдох-
нула:— Тебя не хватает, а ты люби, все равно люби.
Мартынова опять повернулась ко мне, прищурилась, точно
изучала. И взгляд у нее был довольно-таки недоверчивый, как
тогда у Яковлевны в столовой. Словно хотела повторить: не та-
кие, как ты, а матери им нужны, рожалые да бывалые.
Я вздохнула. Вздохнула и старуха враз со мной. И засмеялась
дребезжащим, старушечьим смехом.
Никогда это во мне не умрет: маленькая сухонькая старушка,
удлиненное, точно с иконы, лицо, сивые волосы разглажены по-
середке на пробор, глазки спрятались глубоко в темные глазницы,
большое кресло с гнутой спинкой для нее просторно, и старушка
утопает в нем.
— Люби,— повторила она из глубины кресла,— люби, если мо-
жешь. Растворись в них. А не можешь — уйди.
Опа отвернула взгляд, словно не верила, что я смогу. Опять
вздохнула:
— Мало кто может.
13
Обратную дорогу Лепестинья не рассказывала про себя, буд-
то все забыла, вздыхала, качала головой, и я вздыхала тоже и
тоже качала головой. Нет, не узнала я от Мартыновой никаких
таких секретов, никаких рецептов, кроме разве горьковатого при-
знания, поначалу удивившего меня. «Каждому ребенку нужны
близкие люди,— сказала старуха,— а если их нет, чего не делай,
все не то...»
Выходило, директриса детдома отрицала саму себя? Смысл
собственного существования? Я хотела оспорить ее, но, поразмыс-
лив, вовремя остановилась. Нет, ничего она не отрицала. Напро-
тив, утверждала вечную аксиому — птицу на крыло ставит мать
или отец. И уж никак не наемная птица. Так в природе. Так и
у людей. И педагог не может идти против природы, главных ее
истин. Он не отворачивается от человека, если ему трудно, идет
на помощь. Но педагог может лишь залатать дыры. Вот имен-
но,— может помочь, но никогда не сможет, не сумеет — да и стре-
миться к этому не надо!—заменить родителей. Точнее, близких
людей. Мартынова выразилась справедливо.
117
Недаром Аполлоша говорил — да это каждый учитель под-
твердит,— сколько родителей, от которых дети ох как далеки!
Ведь другому рюмка дороже собственного ребенка, его жизни.
И сколько ребят, которым приятель по парте ближе отца или
матери.
Вот ты поди и разберись тут. По идеальной модели педагогика
должна быть рядом с родителями. По жизни же сплошь да рядом
учитель ближе к ребенку, лучше знает его, тоньше понимает, чем
родители. Вообще в родительстве намешано много дурного — не-
опытностью ли, неграмотностью, душевной ли ленью взрослых. Ча-
сто люди забывают о том, что на них глядят дети. Ведут себя
как попало. Ссорятся, ругаются, даже, стыдно сказать, дерутся.
Забывают, что дети, словно промокашки, дурное и хорошее впиты-
вают в себя. И если родители ведут себя дурно, поступают не-
праведно, глядишь, дети, став взрослыми, окажутся точно таки-
ми, вопреки усилиям школы. Как же мы станем лучше, если не
сдерживаем себя, если одариваем собственных детей такой на-
следственностью?
Но зато как ясно и светло, если за спиной у ребенка дорогие
люди. Дом и школа точно два крыла, которые поднимают его в
высоту. Да что там говорить? Разве только для маленьких добро
спасительно?
Я посмотрела на Лепестиныо. Та мне тут же своим взглядом
ответила. Понимающим, добрым.
Вот кто она мне? И знаю-то два месяца. А ведь будто сказала
тогда: я перед твоей матерью отвечаю. И малыши мои ее взбу-
доражили. И в детдом одну меня не отпустила. Не родной чело-
век, даже не очень уж и знакомый, а близкий.
Меня точно осенило! Это ведь она, Лепестинья, сказала мне,
когда в Синегорье ехали: отдай-ка мне одного малыша!
Я с интересом разглядывала ее. Словно только увидела. Тог-
да я ее словам никакого значения не придала, сказала, и ладно,
а сейчас...
Сейчас я была повзрослевшей, точно пробыла у Мартыновой
не одни сутки. Я много знала теперь такого, что и в голову не
приходило раньше.
Я узнала, что малышей привозят в детдом после трех лет, а
до этого они живут в Доме ребенка. Что в Дом ребенка их нередко
доставляют сразу из родильного дома. Что к семи годам ребят от-
правляют в школьный детский дом, а если он полон — в интернат,
как у нас. Я знала еще теперь, что не так уж мало в стране До-
мов ребенка для самых малышек и детских домов, а несчастья и
и легкомыслие довольно вольготно гуляют по миру.
И еще я знала, что старуха Мартынова, проработав в детдоме
пятьдесят с лишком, всю свою жизнь прослужив этому делу,
больше всего мечтает о том, чтобы закрыть его, отдать особняк
под клуб, санаторий'—что угодно, лишь бы не привозили из Дома
ребенка новых и новых детей, лишь бы перестали — навсегда,
навсегда! — терять они своих близких.
118
— Лепестинья! — спросила я.— А ты что, серьезно взяла бы
ребенка?
— Маленького тяжело,— ответила она,— стара я. А вот эконь-
кого, как у тебя, взяла без оглядки.
— Совсем?
— Совсем!
Я застыла. Ведь это же выход! Вон и Мартынова говорила,
что часто ее малышей усыновляют бездетные люди.
Нет, усыновление — дело сложное, да и чем я тут помогу?
Я лично, воспитательница первого «Б». Вот если бы...
Память услужливо выдвинула из своих запасников цветное
воспоминание: ликующий вестибюль, родители, встречающие пер-
вышей, и боль притихшей лестницы — строгие, обиженные, встре-
воженные лица моих детенышей. Они не понимают, почему нико-
го нет за ними.
— Лепестинья,— спросила я,— хочешь взять кого-нибудь на
выходные?
В субботу я увела детдомовских с лестницы в игровую. Какая
простая игра — жмурки, да и словечко-то какое хорошее!
Малыши устроили такой визг, такой переполох, что появле-
ния Лепестиньи никто не заметил.
По лицу ее блуждала растерянная улыбка, и я сразу поняла,
что без помощи ей не обойтись. Мы обсудили все подробности
с моей хозяйкой, разработали целую программу на два дня, куда
входили и кино, и утренник в театре, где, я боюсь, сама Лепе-
стинья бывала нечасто, и покупка какой-нибудь обновки, на чем
особенно настаивала моя домоуправительница, но вот кого хочет
она взять — мальчика или девочку,— не договорились.
Я подумала, Лепестинье, пожалуй, стоит позвать в гости де-
вочку — быстрей найдет общий язык,— и окликнула шепелявую
Зину Пермякову.
Зина только что водила, удачно мазнула кого-то из мальчишек
и теперь нетерпеливо подпрыгивала, была потной — словом, еще
купалась в азарте.
— Познакомься,—сказала я,— это тетя Липа, хорошая очень
тетя. Она приглашает тебя в гости на субботу и воскресенье. Пой-
дешь?
— Нет! — весело крикнула Зина и уже развернулась к игро-
вой, чтобы мчаться в кричащую ораву.
— Зина! — укорила я ее.— Ты поняла? В гости. К тете Липе.
Зина будто только увидела Лепестинью, замерла на мгновение
и вдруг спросила:
— А пошему не к осине?
Я едва удержалась от смеха, а Лепестинья растерялась до
испуга.
— Не знаю,— пролепетала она, и лицо ее выражало такое бес-
крайнее удивление этим незнанием, что Зина расхохоталась. По-
том схватила ее за руку и потащила к выходу.
Лепестинья оборачивалась ко мне, вздымала на лоб брови,
119
как бы спрашивала, что делать, а я махала ей рукой, чтобы уби-
ралась моментально, не привлекая внимания других детей к этому
таинственному исчезновению.
Таков был замысел — не привлекая внимания. Довольно риско-
ванный замысел, потому что я брала на себя всю ответственность
за исход. Никто в школе, кроме меня и Маши, не знал о нем.
Маша одобрила сразу, ничего дурного не увидела. Но и она и я
превосходно понимали всю меру моего риска — не дай бог, что-
нибудь случится.
Ничего не произошло, Лепестинье я могла довериться на мил-
лион процентов. И все-таки произошло. Уход Зины планировался
как дело тайное, но не зря говорится, что все тайное становится
явным.
Во-первых, Анечка Невзорова, от которой не могло ничего
утаиться, прибежала ко мне с круглыми глазами и страшным
голосом прошептала в ухо, что исчезла шепелявая Зинка.
Пришлось, тоже на ухо, признаться Анечке, сделав ее как бы
соучастницей заговора, что Зину пригласила на свой день рож-
дения одна ее знакомая тетя. Анечка как будто успокоилась, но
я заметила, как она подходит к окну и задумчиво смотрит на
улицу.
Во-вторых, в понедельник Зина явилась в красивом красном
капоре, который, конечно, очень шел ей — такая круглощекая ягод-
ка!— и в этом капоре пришла в спальню. Что тут началось! Одни
девчонки закричали, требуя дать капор для примерки, другие
заплакали.
Я смотрела во все глаза на моих малышек и не узнавала их.
Будто кто-то грубый взял и взбаламутил все, что было в этих
девочках,— хорошее и плохое: в спальне раздавался сплошной
крик.
Я едва утихомирила мою девичью ораву, хорошо еще, что маль-
чишки не увидели явления Зины Пермяковой со своим красным
капором, которая улыбалась во весь дырявый рот и порывалась
назад, к двери, куда просовывалось совершенно блаженное лицо
тетки Лепестиньи.
Малыши ушли на уроки, и я увела Лепсстинью в игровую.
Разговора у нас не вышло. Моя хозяйка улыбалась, восклицала
и охала. Маловато для выводов. Хотя как сказать. Она была
счастлива. Счастлива была и Зина.
В -первую же перемену она залетела к нам и схватила Лепе-
стинью за шею. Та заохала, запричитала, что забыла такое важ-
нущее дело, и вынула откуда-то из-за пазухи удивительный бант—
пышными воланчиками, белый, с голубым ободком, настоящий
цветок, и прицепила на голову Зине.
В мгновение девочка преобразилась.
Зина отплыла от Лепестиньи на цыпочках, высоко приподняв
подбородок, и руки ее гибко плавали вокруг головы. Малыши, за-
бежавшие вслед за ней в игровую, расступились перед Зинкой, а
она не побежала, пет, полетела, точно пушинка одуванчика вдоль
120
коридора, несомая ветром, а остальные побежали вслед за ней
с молчаливым непониманием.
Эта сцена сильно подействовала на меня. Лепестинья ушла,
а я бродила по коридору, снова и снова вспоминая летящую Зину.
После уроков, когда появилась Маша, я решительно двинулась
к Аполлону Аполлинарьевичу.
Сбивчиво изложила результаты поездки. Потом призналась в
своеволии. В эксперименте, ответственность за который, конечно,
готова нести.
Он сидел за столом, положив свои круглые щечки в круглые
ладошки, разглядывал меня, словно какую-то невидаль, и ниче-
го не говорил. Опять помогал мне.
И я приступила к главному.
Нас, педагогов, не хватает и не хватит никогда. Это раз. Два —
нельзя сужать круг люден, которые принимают участие в судьбах
детей, границами педагогического коллектива. Пусть он будет
трижды талантливым, этот коллектив, рано или поздно ребята
уйдут из него, станут взрослыми. Таким образом, надо, чтобы у
малышей сложились близкие контакты с другими людьми. Чтобы
эти другие люди были друзьями детей на всю жизнь. Не родными,
так близкими. Друзьями. Хорошими знакомыми, наконец. И в этом
свете опыт Лепестииьи удачен — да, да, удачен! Пусть два дня
в неделю Зина живет у нее. Пусть стремится порадовать ее школь-
ными делами. Пусть отчитывается перед ней. Ждет суб-
боты. А Лепестинья будет заботиться о девочке. Чем и кому это
плохо?
Аполлон Аполлинарьевич смешно почмокал толстыми губами и
пробормотал:
— Тепло, тепло...
Сначала я не поняла, о чем он. Потом сообразила. Ну уж!
Это не жмурки!
— Горячо, а не тепло! — воскликнула я.
— Обкатаем на педсовете, а? — улыбнулся он.
Что ж, педсовет не обойдешь, но он обкатал прежде всего ме-
ня, надолго разделив мои мнения о людях на белое и черное.
Представления об Аполлоне Аполлинарьевиче у меня развива-
лись, так сказать, в белую сторону — ведь ои поддержал в конце
концов меня, а о завуче Елене Евгеньевне — в черную.
— До чего доехали! — говорила она.— По мнению Надежды
Георгиевны, школа не в состоянии обеспечить воспитание двух
десятков детдомовцев.
—• Не воспитание, а сердечность! — отчаивалась я.
— Сердечность, это, конечно, хорошо.— Она недовольно пово-
дила, точно в ознобе, широкими плечами.— Но ведь учитель то-
же человек и не может форсировать свои чувства, выжимать из
себя дополнительные эмоции. Мы не станочники, мы здесь не про-
дукцию делаем и при всем желании не можем перевыполнять
план по чувствам.
— Это верно,— говорила Маша,— чувства или есть, или их
121
нет.— И Елена Евгеньевна бурела от негодования.— Любовь не
компот, ее стаканами не измеряют.
— Самая отличная школа не может заменить родителей,—
рвалась я в бой.
— Это смотря какие родители!—отвечала Елена Евгеньевна,
и хотя наши мнения, в общем, не расходились, я в ту минуту тер-
петь ее не могла.
Вообще в коллективах, где много женщин, да еще таких, как
школа, сражение самолюбий и престижности часто идет в силь-
ном тумане, где туман — это личные вкусы, пристрастия, непри-
язнь и симпатии, мелкие недоразумения и даже, если хотите, за-
висть. И порой выходит, что говорят об одном и том же, только
разными словами, а решение выносит характер: одна говорит
«да», другая — «нет». Так что сшибаются характеры и престижи,
а не точки зрения и взгляды. И Елена Евгеньевна рассуждала
здраво, только с выводом, противоположным моему.
Мы не можем прибавить сердечности, в общем-то правильно
рассуждала она, а вывод делала чисто дамский: значит, ребят
нельзя никому отдавать.
Причина? А вдруг что-то случится? Что скажет гороно?
Словом, педсовет потихоньку превращался в дамскую пере-
палку, и тогда Аполлон Аполлинарьевич вскинул пухлые ладошки
к вискам:
— Дорогие женщины! Если вы не успокоитесь, я куда-нибудь
в таксисты уйду! Ну можно хоть чуточку сопрягать чувства с
мыслями?
— Чувство — лучшая форма мысли! — пальнула я сгоряча по
нему. Аполлоша терпеливо посмотрел на меня.
— Знаете, в чем дело? — спросил неожиданно грустно Аполлон
Аполлинарьевич.— В ножницах.
— В каких еще ножницах? — удивилась Елена Евгеньевна.
— Между нашими желаниями. И возможностями. Надежда
Георгиевна озабочена справедливо. У детей тяжелое прошлое. Не
исключены самые неожиданные осложнения,— он задумчиво по-
смотрел на меня, словно вспомнил Колю Урванцева,— и дальше,
с возрастом, эти осложнения могут быть все более тяжкими. Пред-
ставьте дом с отколотой штукатуркой. Выступает кирпич. Мы
должны заделать изъяны, пока не поздно. Мы штукатуры. А наш
мастерок — любовь, больше ничего. Любовь, которая должна вну-
шить ребятам доверие к нам, а через нас — к жизни. Веру в свет-
лое. Веру в добро и справедливость. Это — желаемое. Действи-
тельное— нас мало. Нормально, когда у ребенка два родителя.
У нас на два десятка детей два воспитателя. Остальные по слу-
жебному положению заняты иным. Вариантов немного. Или мы
отдаем двадцать два ребенка всего лишь двоим, а им не разо-
рваться, или мы все занимаемся детьми. Но тут вступает в силу
поговорка: у семерых нянек дитя без глазу. Есть третий? — Он
оглядел педсовет.— Есть! Его предлагает Надежда Георгиевна.
Приблизить ребят к реальным людям, которые могут стать их
122
друзьями. Привлечь к нам в помощь добрых, хороших, светлых
старших товарищей, которых, я уверен, много рядом.
— Только как их найти? — спокойно произнесла уравновешен-
ная Нонна Самвеловна.
— Шефы у нас есть, их надо привлечь!—воскликнула Елена
Евгеньевна.
— Может, и шефы,— обрадовался Аполлон Аполлинарьевич.
— По обязанности не получится,— вскочила я, чувствуя, что
идея может провалиться. — Разрешите мне написать письмо в га-
зету. Придут только те, кого судьба ребят по-настоящему тронет!
Покрытый зеленым сукном длинный стол, одобрительно-хитро-
ватый взгляд директора, лица учителей — ироничные, сердитые, за-
думчивые, улыбчивые.
Ироничные и сердитые, казалось мне тогда,— это черное. За-
думчивые и улыбчивые—белое.
Просто делился тогда для меня весь мир.
Но он оказался сложней, чем грань между белым и черным.
Педсовет большинством голосов поддержал меня. За-—шест-
надцать. Против — восемь. Восьмерку возглавляла, конечно, ши-
рокоплечая Елена Евгеньевна.
После педсовета ко мне подошел Аполлоша с какой-нибудь,
наверное, вдохновляющей фразой, но я не дала ему высказаться.
Распаленная спором, проговорила:
— Лучше быть одноруким, чем такая правая рука, как Елена
Евгеньевна! Как вы терпите?
Директор крякнул, зарделся и свернул в сторону. Я не обра-
тила на это внимания.
Я ликовала, и все остальное было мелочью.
14
«Процветание раскрывает наши пороки, а бедствия — наши
добродетели»,— выписала я себе тогда цитату из Фрэнсиса Бэкона
и в ней восхищалась второй частью. Как верно сказано: бедствия
раскрывают добродетели.
Так и было. Интернат принял шквал добродетели.
В четверг газета напечатала мое письмо, где я рассказала про
наших ребятишек, в тог же день телефон у Аполлона Аполли-
нарьевича разрывался звонками — люди выспрашивали подроб-
ности, а в пятницу с раннего утра школьный вестибюль был полон
народу.
Ребята сидели на уроках и не ведали ни о чем, а комиссия
работала полным ходом. Мы придумали комиссию, а как же
иначе! Возглавлял ее, понятное дело, Аполлон Аполлинарьевич.
Маша и я составляли надежную основу, и еще директор настоял
на включении завуча Елены Евгеньевны, как человека придирчи-
вого, критичного и в такой обстановке просто необходимого, объ-
яснил он нам, глядя отчего-то в сторону. Никто не возражал, и
123
никаких разногласий с Еленой Евгеньевной у нас не оказалось, по-
тому что все мы были предельно придирчивы, а я и Маша так
просто чрезмерно.
Помню, как мы заняли исходную позицию: Аполлон Аполли-
нарьевич во главе стола, по правую руку, вполне естественно, за-
вуч, мы с Машей рядышком, стул у торца отодвинут — для посе-
тителя, а я в легком от волнения ознобе открываю дверь и при-
глашаю первого гостя.
Он вошел легкой походкой — худощавый, высокий, по левому
виску — глубокий шрам, на груди позвякивает целый иконостас
орденов и медалей. Представился:
— Никанор Никанорович Парамонов, подполковник в отстав-
ке,— и протянул паспорт.
Никто из нас не решался взять паспорт, оскорбить пошлой
проверкой такого человека, и он негромким голосом, будто не во-
енный говорит, а скромный библиотекарь, пояснил, смущенно
улыбаясь, что всю ночь его и жену мучила бессонница. После га-
зеты.
Он помолчал, разглядывая пас поочередно, словно размыш-
ляя, как далеко стоит углубляться, затем опять застенчиво улыб-
нулся.
— Тут такое дело,— проговорил он и быстро взглянул на нас,
точно решился,— в начале войны мне, тогда лейтенанту, поручили
эвакуировать детей из детского дома. Я танкист, и вот три мои
танка приняли ребят. Десятка полтора самых маленьких посадили
прямо в машины, человек, наверное, двадцать; тех, что постарше,
на броню Немец прижимал основательно, детдом эвакуировать
раньше не успели, и вот мы вытаскивали ребят буквально из-
под огня. Довезли их до станции, сами тут же развернулись и
ушли в бой, где все мои таики немцы сожгли. А станцию размо-
лотили бомбардировщики. Думаю, дети погибли.
Он тер переносицу, покашливал, просительно поглядывал па
нас этот удивительный человек,— словом, очень тушевался, пока
не сказал:
— Меня с тех пор совесть гложет, вот не могли уберечь ребят,
а тут ваше письмо, и, хотя время нынче другое, мы с женой ре-
шили усыновить мальчика.
— Усыновить? — удивился Аполлон Аполлинарьевич,—Но мы
этого не предполагаем.
— Не беспокоитесь,— улыбнулся Никанор Никанорович,— у
пас с женой; уже есть опыт, мы усыновили одного мальчика. Наш
Олежек закончил медицинский институт, двое внуков.
— Да вы сначала на них посмотрите!—воскликнула Маша.
— Нет, мы рассчитываем на вас. Кого вы подскажете,— ска-
зал подполковник.
Мы смущенно запереглядывались. Аполлон Аполлинарьевич да-
же покрылся мелкой потной россыпью. Смотрел на меня как на
спасительницу, и я его поняла. Написала на клочке бумаги: «Ко-
ля Урванцев». Он облегченно вздохнул.
124
— Никанор Никанорович, мы еще вернемся к этому разгово-
ру, он слишком серьезен, а наши намерения куда проще.
— Как ваше здоровье? — вкрадчиво спросила Елена Евгень-
евна.
— Соответственно возрасту пока приличное,— вздохнул он,
— А жены? — спросила я.
— Не жалуется.
— Жилищные условия? — поинтересовалась Маша.
— Трехкомнатная квартира.
— Материальные? — спросил директор.
— На двоих двести рублей.
— Мы вам называем Колю Урванцева, но вы посмотрите сами.
Аполлон Аполлинарьевич расчувствовался, глаза у него за-
блестели, он вышел из-за стола, долго тряс руку Никанору Ника-
норовичу, и от этого ордена Парамонова негромко позвякивали.
Когда подполковник вышел, директор подал мне знак, чтобы я не
спешила звать следующего.
— Черт знает что! — рассердился он неожиданно.— Устроили
тут какой-то президиум, сидим официально, пугаем людей!
Аполлон Аполлинарьевич рванулся к столу, потянул его на
себя, потом крякнул, отступился, уселся рядом с Еленой Евгень-
евной.
— Какой человек!—воскликнул он.— А? Но ведь мы не го-
товы! Нам говорят уже об усыновлении, а мы просим взять в
гости!
— Это же прекрасно! — произнесла неожиданно Елена Ев-
геньевна. И улыбнулась. Видно, оттого, что я уставилась на нее,
«как в афишу коза».— Самый лучший вариант. Только осторож-
ней, осторожней!
Я ее расцеловать готова была. Может, тогда и дала первую
трещину моя теория о черном и белом. Я вглядывалась в жен-
щину с широкими плечами, стараясь отыскать в ней какую-ни-
будь симпатичную черточку, но Елена Евгеньевна, будто улитка,
снова спряталась в свою раковину — глаза потухли, лицо сдела-
лось замкнутым и невыразительным.
Но мне было некогда раздумывать. Я придвигала стулья моло-
жавой паре и заранее симпатизировала ей.
Игорь Павлович Запорожец — начальник конструкторского бю-
ро, румянощеквй, гладковыбритый, широкоплечий, спокойный и
улыбчивый, дай ему старинный шлем — вылитый князь Игорь,
только наших нынешних времен. Я так его сразу и прозвала про
себя —«князь» Игорь. Жена его —Агнесса Даниловна, заведую-
щая химической лабораторией в исследовательском институте, под
стать мужу. Этакая лебедь — шея белая, высокая, холеная, глаза
мягкие, с зеленоватым оттенком. Модная прическа, ясное дело,
не то что у нас, замухрышек-учительниц, навертишь на бигуди, а
утром несешься как бешеная в школу, расчесаться толком неког-
да, а уж про парикмахерскую и думать нечего. У «княгини» же,
наверное, в парикмахерской свой мастер, а сними с нее иностран-
125
ные новенькие сапожки — поди-ка педикюр обнаружишь. Еще бы,
средний заработок на двоих — пятьсот рублей. Отдельная квар-
тира с высокими потолками — про квартиру деловито Игорь Пав-
лович сказал, а про потолки Агнесса Даниловна добавила. Авто-
мобиль «Москвич».
Все есть, детей только нет.
— Намерения у нас серьезные,— многозначительно сказал
Игорь Павлович,— только, пожалуйста, подберите нам... — Он за-
мялся, не зная, как выразить свою мысль, и супруга пришла ему
на помощь:
— С нормальной наследственностью.— Она пристально смот-
рит на Аполлона Аполлинарьевича. Что ж, справедливо смотрит.
Он естественник, ему видней,— Вы же знаете,— говорит «княги-
ня»,— сейчас детей производят в пьяном виде, сколько потом не-
счастий, а у нас намерения серьезные.
Наш потомственный естественник пыхтит, произносит общие
фразы, а когда солидная пара выходит, залпом выпивает стакан
воды.
Мы молчим, ему, наверное, слышится неуверенность в нашем
молчании, и он начинает без нужды убеждать нас:
— А что вы хотите! Современные люди. Ничего неприличного
в их вопросах нет. Напротив. Очень даже грамотно и точно.
Мы не возражаем. Все согласны с Аполлоном Аполлинарьеви-
чем. Действительно, современные люди смотрят на жизнь трезво,
и мне эта пара очень нравится. Даже трудно сказать, кто больше.
Следующая пара повергла нас в панику. Всех. Прежде всего
Машу.
На двоих — двести пятьдесят, Он шофер, она бухгалтер.
И главное: трое детей.
Мы засучив рукава вчетвером ворошим жизнь Семена Петро-
вича и Анны Петровны со смешной фамилией Поварешкины. Все
норовим откопать причины: зачем им еще ребенок? Наконец, я не
выдерживаю. Задаю главный вопрос, все-таки я самая молодая,
мне и неприличное прилично, пусть поругают за неопытность.
— Зачем вам лишняя обуза?
Специально формулирую пожестче.
— Жалко,— юворит женщина, теребя простой платочек, сви-
сающий с плеча.
— Детишек жалко,— поясняет Поварешкин, а сам все подви-
гает, по сантиметрику подвигает нам связку документов, словно
опасается, что мы их не смотрим. Не доверяем, что ли?
— Тяжело будет.' — восклицает Маша.— Вот у меня трое, так
я из-за этого в интернате работаю, и они здесь учатся.
•— Как не тяжело! — соглашается Анна Петровна, но Семен
Петрович — мне это видно — торопливо наступает ей на ногу сво-
им ботинком, и Поварешкина поправляется: — Чего же тяжелого?
Старшие помогут. Витя у нас — в девятом, а Саша — в седьмом.
Да и Колька пять кончил! Что же, мы еще одного малыша не
обогреем?
126
Аполлон Аполлинарьевич, усердно потея, просит их подумать,
прийти через неделю, не торопиться. Но Петровичи уперлись, точ-
но бычки, подталкивают нам связку бумаг, и в самую ответствен-
ную минуту Поварешкин достает из кармана большой значок, что-
то вроде ордена.
— Это замечательно,— говорит Аполлоша,— что вы победи-
тель... социалистического... соревнования, но... дети есть дети...
Что-то наш директор жужжит на пределе, вот-вот сломается.
Так оно и есть.
— Ладно,— соглашается Аполлоша,— в многодетной семье то-
же много хорошего.— И вдруг обращается к женщине, кивнув на
ее мужа: — А он не выпивает?
— На Октябрьские приходите! — не моргнув, отвечает Петров-
на.— Там с вами и выпьем и закусим, как полагается. Зараз и
нас проверите.
— М-м-да,— кряхтит Аполлон Аполлинарьевич, когда дверь за
ними закрывается. Он потирает ладошки-оладушки.— Молодцом
Поварешкина! Отбрила!
Были ли люди, которым мы отказали? Были.
Зашли мужчина и женщина средних лет, прилично одетые, у
женщины взволнованное, просительное лицо, чем-то порядочно
смущенное, а мужчина прячет глаза, отворачивается, все больше
молчит, но до нас доносится, правда, едва уловимый запах перега-
ра, и Маша выводит на листке бумаги знак вопроса.
Бумажка быстро обходит четверых, за вопросом возникают три
минуса, и без долгих расспросов Аполлон Аполлинарьевич резко-
вато, на себя непохоже, говорит:
— Не обижайтесь, уважаемые, вам мы ребенка не дадим.
Мужчина и женщина подходят к двери, я вижу, как жена мол-
ча тычет мужа кулаком под ребра, и тот спокойно сносит, пону-
рив голову. Что ж, если и случайность, пусть пеняют на себя. При-
ходить в школу выпивши вообще-то великий грех, а тут — по та-
кому делу...
Отказали мы еще одному человеку, и я до сих пор думаю, что
мы ошиблись. Впрочем, бывают ошибки, глубину которых невоз-
можно проверить объективно. Так что я только предполагаю ошиб-
ку. Доказать ее невозможно. Можно лишь сожалеть, можно толь-
ко чувствовать. Но чувство не всегда верный советчик...
Распахнулась дверь, вошел невысокий человек и, сколько ни
уговаривал его директор присесть, так и стоял, пока мы говорили.
В голубой рубашке, без пиджака, с нарукавными резинками и
галстуком-бабочкой, коричневым в белый горошек, он производил
странное впечатление. Быстро, скороговоркой, назвал фамилию,
имя, отчество, год рождения.
— Работаю экскурсоводом в художественном музее, но в душе
математик и астроном, увлекаюсь «черными дырами», окончил
лесотехникум.
Аполлоша покрякал в кулак и спросил аккуратно:
— А как у вас со здоровьем?
127
— Так я и знал! — воскликнул без обиды странный человек.—
Нормально, но я помешатся!—Мы дружно вздрогнули.— Поме-
шался на астрономии, понимаете, лесные дела мне опостылели,
перешел в музей, а все свободное время посвящаю науке.
Виски у него седоваты, нос картошкой, две залысины проник-
ли в гл\бь шевелюры, не юноша пылкий, да и вообще что-то со-
мнительное, несерьезное. Мы уже проставляли минусы в листочке,
на нашем бюллетене для тайного голосования, а странный чело-
век без пиджака опоздало пояснял:
— Я никогда не был женат. Мама умерла. Нет никого род-
ных. Очень одиноко.
Он старался напрасно, этот странный человек! Четыре минуса
не оставляли надежд. Мы поступали стандартно: по одежде встре-
чают. Какой у нас был выход? Времени для подробного изучения
людей мы себе не оставили.
— Зайдите через неделю,— сказал вкрадчиво Аполлон Апол-
линарьевич.
Нет, он все-таки чувствовал людей. Но это уж потом я поду-
мала. А тогда спросила, едва притворилась дверь:
— Городской сумасшедший?
— Что-то вроде этого,— ответила Елена Евгеньевна, поежив-
шись.
—• Не может быть, чтоб здоровый,— сказала Маша.— Опреде-
ленно больной!
Больной, здоровый,— как часто слова эти теряют всякий
смысл, когда мы говорим о душе и о поступках, которые эта
душа назначает. Человек розовощек, благополучен, но не торо-
питесь с диагнозом: он может быть тяжко болен душой, как не
спешите назвать нездоровым того, кто сам вызывает сострадание.
Простые, казалось бы, истины. И не так глубоко зарыты. Все де-
ло во взгляде. Врачу здоровый вид человека многое говорит, а вот
учителю — ничего. Жизнерадостность, морщины, растерянный или
смущенный взгляд, самодовольство — ничего для тебя не знача-
щая форма, отринув которую надлежит шагать дальше, вглубь,
в человека...
Оговорюсь честно, эти соображения, не такие уж и глубоко-
мысленные, приходили ко мне позже, в муках, а потому и дороги.
Тогда же я не особо задумывалась, бодро согласилась с Машей.
Выбор был велик, желающих пригреть ребят больше чем до-
статочно, один странный человек не задержал нашего внимания.
15
Красный капор Зины Пермяковой кое-чему научил меня, и
субботнюю «выдачу» детей в принципе мы организовали правиль-
но. Правильность была в том, что взрослые пришли враз — это
важно для детей — и что мы, учитывая собственные соображения
и пожелания взрослых — правда, их пожелания сводились в основ-
ном к тому, мальчика или девочку хотели они взять,— заранее со-
ставили списочек, чтобы не было неразберихи.
128
В остальном мы все решили сделать так, как было с Зиной.
Я устроила жмурки, Маша взялась водить, завязала себе гла-
за не очень плотным шарфиком, чтобы все видеть и приходить
в случае чего мне на выручку, и такой гвалт мы учинили в игро-
вой, что взрослые входили с опаской.
Под этот шумок я и раздавала ребят. Отводила в сторонку, зна-
комила со взрослыми, они приглашали малыша в гости, тихо
уводили.
Только что значит тихо с такими детьми? Можно разве все
знать заранее? Колька же Урванцев заорал во всю мочь, позна-
комившись с Никанором Никаноровичем:
—• Смотрите, какой дядя меня берет!
Игра наша, отвлекающий маневр, рассыпалась. Ребята разом
повернулись к дяденьке, увешанному наградами, и никакие Ма-
шины восклицания не могли больше помочь.
Она встала посреди игровой — руки в боки, растрепанная ква-
шоночка, на глазах повязка — и проговорила громко, чтоб успо-
коить остальных:
— Этот дядя часто к нам приходить станет! — И сорванец
Урванцев разоблачил нас окончательно.
— А тетя A'iarna все видит!
В другое время это вызвало бы смех, бурю смеха, теперь же
малыши коротко всхохотнули, точно всхлипнули и снова оберну-
лись к Парамонову.
Никанор Никапорович шел за Колей, тот тянул его обшлаг,
и вся наша орава двинулась за ними. Пришлось действовать нам.
Я, как клуша, раскинула руки, за меня схватились Маша и
Аполлон Аполлинарьевич. Этакая вышла загородка из взрослых
людей, я попробовала форсировать голос, говорить, что сейчас
всех-всех-всех пригласят в гости хорошие дяди и тети. Но не тут-то
было.
Обида, горечь и непонимание, которые я обнаружила тогда, на
лестнице, в мою злосчастную первую субботу, вдруг обрели голоса
и завыли, заплакали, закричали, да не как-нибудь, а хором, это
в двадцать-то голосов!
Могло помочь одно только действие.
Елена Евгеньевна стояла в дверях, пропускала парами взрос-
лых, те проходили в игровую, мы отыскивали по списочку избран-
ника или избранницу, и плач становился все тише и тише.
Наконец ребята поверили, что их всех приглашают в гости.
Они умолкли, стоя неровным рядком, впиваясь жадными взгляда-
ми в новых людей, которые заходили сюда. Когда взрослые на-
клонялись к мальчику или девочке, те, как один, тушевались, опу-
скали головы, кивая при этом на все тихие расспросы взрослых и
моментально исчезали. И вот что поразительно: многие забывали
попрощаться с нами. Махнуть хотя бы рукой.
Все шло гладко, даже слишком гладко, чтобы так же и закон-
читься.
Последней оказалась Анечка Невзорова, Хорошо, что послед-
129
ней. Еще неизвестно, думаю я теперь, чем бы закончился ее при-
мер, будь она средн первых.
За ней пришла Евдокия Петровна Салтыкова, зубной врач,
женщина одинокая, в годах, с лицом очень приветливым и доб-
рым. Но Аня идти отказалась. Забилась в угол и завыла. Что-то
фальшивое в этом вое, подумала я, но менять ничего не стала —
для уговоров момент неподходящий. Вывела Евдокию Петровну
в коридор, утешила ее как могла, сказала, что подготовлю Аню
и позвоню. Телефоны и адреса взрослых у меня в особой книжке,
как же.
Евдокия Петровна ушла, а я вернулась в игровую довольно
злая. Еще бы! Такая неожиданная мина под мою концепцию.
А увидев Аню, забыла тут же про всякие там концепции.
Девочка сидела в углу на корточках и смотрела на меня умо-
ляющими, жалкими глазенками. Маша, Аполлон Аполлинарьевич
и Елена Евгеньевна стояли перед Анечкой, вполголоса перегова-
риваясь, обсуждая ее выходку, а она смотрела мимо них на меня.
Я улыбнулась, и Анечка кинулась мне навстречу.
— Ты чего? — спросила я ее на ухо.
— Да! — сказала она.
— Чего да?
— Она такая гладенькая, сытая, а ты плакала.
— Так это когда было! А тетя хорошая.
— Мне к ней нельзя,— все шептала Анечка,—у меня мамка
есть. Заругает. ~
— Какая мамка? — удивилась я.
И тут Анечка прошептала такое, что я, наверное, побледнела.
Или лицо у меня вытянулось? Глаза полезли на лоб? По крайней
мере, Аполлоша, завуч и Маша бросили разговор и испуганно
уставились на меня.
Анечка прошептала:
— Моя мамка — б...
— Что-о-о?..— протянула я испуганно.
— Шлю-ха,— проговорила она по складам явно не очень из-
вестное ей слово.
Я прикрыла глаза. Перевела дыхание. Главное, чуточку по-
молчать, чтоб не ошибиться.
— Тогда,— сказала я, прижимая к плечу Анечку, чтоб только
не видеть ее лица,— тогда я приглашаю тебя к себе. Согласна?
Анечка схватила меня крепко за шею и громко произнесла:
— Я тебя люблю!..
Что ж, Аня скрасила мою тревогу, растянутую на два дня.
И хотя, пожалуй, не проходило минуты, чтобы я не подумала
то про одну, то про другого, про то, где они да как там, в го-
стях-то, беспокойный щебет голосков Анечки и Зины придавал
осмысленность моим действиям и поступкам. Да, уж так вышло,
Аня встретилась с Зиной, а я, естественно, с Лепестиньей, и полу-
чилась веселая компашка, хотя довольно сложная для меня. Во-
лей-неволей получилось так, что Аня Невзорова, приблизившись
130
ко мне, воспитательнице, оказывалась в особом положении. Хо-
рошо, что пока это без лишних глаз, да еще когда у каждого по-
явились новые знакомые.
В общем, у воспитательницы не должно быть любимцев — вог
какое есть золотое правило. Не мной придумано, не мне и отме-
нять. И, здраво размышляя, мне-то как раз и не следовало никого
брать в гости. Но что делать? Бывают обстоятельства, которые
не перешагнешь. Оставалось вести себя естественно, по совету
нашего Аполлоши. Я и старалась.
Стирала белье, а Зина и Аня стирали свое, хотя Лепестинья
и сильно хмурилась. Потом отправились в баню этаким кварте-
том, в общее отделение, которое, пожалуй, мне единственной по-
казалось в диковинку: я, дитя благополучия, ни разу общих бань
не видела, в этом городе посещала душ и сейчас шарашилась
на мыльной скамье с шайкой, глупо озиралась, поражаясь несо-
вершенству человеческих тел, тихо охала и очень смешила своих
бабешек — старую да молодых. Подружки распоясались до того,
что заволокли меня в парную, и я вела себя там не вполне достой-
но — задыхалась и причитала, будто в душегубке, рвалась на
волю, чего в конце концов и добилась под позорящее меня похо-
хатывание двух шпннгалеток.
Откуда они-то все знают, поражалась я. Потом уяснила: в до-
школьном детдоме старшие группы мылись в бане.
Дальше я читала книгу, и мои девчонки читали тоже, затем
готовили обед вместе с Лепестиньей, и они готовили. Далее за-
претила тетке бежать с девчонками в магазин за обновками.
И так далее и так далее.
Под вечер в воскресенье пришла Маша. На улице топтался ее
выводок: муж и трое ребяг.
— Волнуешься? — спросила Маша.— А вдруг чего-нибудь?
— Никаких вдруг.
Сунула Зине и Анечке по конфете, утопала со своими.
Шли оии по тропке гуськом, и получалось у них смешно —
сперва полногрудая Маша, за ней длинный ее муж и детки — по
ранжиру.
Я смотрела им вслед, улыбалась, думала, как там наш дирек-
тор, тоже переживает? Не могла представить Аполлошу дома.
Какой он? В пижаме, шлепанцах? Есть ли жена? Поглаживает,
наверное, его по круглой голове, а он только что не мурлычет.
Наворожила- раздался стук, и на пороге возник взмокший
Аполлон Аполлинарьевич. Вызвал меня в коридор, по которому
гулял сквозняк.
— Получил нагоняй из гороно,— признался он смущенно —
Несмотря на воскресенье. Газеты, видно, с запозданием читают.
Завтра утром замзав придет.
16
Замзав решительно принял нашу сторону. У них, в гороно,
были главным образом мелкие испуги. Тем ли отдаем детей?
131
Ведется ли учетность? И вообще не сплавляем ли ребят, чтобы
самим жить полегче. Всякая бюрократическая пошлость. Но учет-
ность была в полном ажуре, сведения о взрослых подробные, да
еще, чтобы утешить начальство, Аполлон Аполлинарьевич обещал
собрать характеристики с места работы на каждого из взрослых.
Так что замзав ободрился, и, если оставалась в нем хоть тень
сомнения, ее смыл шквал педагогических побед.
А наши победы возникали в вестибюле с радостными крика-
ми. Глаза горят, с порога слышится бессвязное, но восторженное
бормотание, каждый хвастает подарками — коробкой конфет, ог-
ромной куклой с закрывающимися глазами, кофточкой или книж-
кой. Коля Урванцев тащит маленькую пожарную машину, свер-
кающую никелем, Костя Морозов — пароход. К самому подъезду
тихо подкатывает новенький зеленый «Москвич», и мы охаем:
с переднего сиденья выбирается Алла Ощепкова в новой меховой
шубке и пышной рыжей, под стать ей, шапке, ну вылитая кино-
звезда. В машине улыбаются Запорожцы —«князь» и «княгиня»,
что ж, с такими подарками еще предстоит разобраться, чего тут
больше — пользы или вреда, а пока же скорей, скорей в спальню,
раздеться, подготовиться к уроку, остаются минуты.
Праздник в вестибюле, правда, омрачается для меня одним
человеком. Он молод, худощав, в руках фотоаппарат, которым
целится на моих малышей. Я знакома с ним. Он принимал мое
письмо в редакции, а теперь пришел писать о нас подробнее.
И хотя есть директор, он не отходит от меня, пристает то с од-
ним, то с другим вопросом, и я нервничаю.
Аполлоша разыгрывает отличную комбинацию. Отводит кор-
респондента к замзаву, знакомит их, молодой человек выражает
бурные восторги, начальство вынуждено кивать, газетчик задает
ему вопросы, и получается презабавно: гороно принимает нашу
затею под свой патронаж.
Пользуясь ситуацией, я исчезла и спряталась на уроке у Нон-
ны Самвеловны. Впрочем, первого урока не было. Вернее, это был
урок для меня. Пока еще довольно спокойный.
Малыши никак не могли успокоиться, вертелись, переговари-
вались. Нонна Самвеловна впустую повышала голос. Что ж, то
самое течение, плыть против которого бессмысленно. Я подошла
к учительнице, мы пошептались и пришли к согласию: надо вы-
пустить пар.
— Хорошо,— сказала Нонна Самвеловна.— Пусть каждый в
двух словах расскажет о выходном и своих новых друзьях.
На первой парте у окна сидели Миша и Зоя Тузиковы, брат
и сестра, у которых погибли родители. Миша вскочил, с грохотом
откинув крышку парты. Глаза его сияли.
— У меня три брата есть! — сказал он.
— И у меня!—встала рядом с ним Зоя.
«Это Петровичи, Поварешкины»,— подумала я с тревогой.
В горле першило. Я принимала характеристики Миши и Зои, ведь
они помнят родителей, а вот — поди ж ты! — говорят о братьях,
тянутся, значит, к семье, хоть и чужой. Что-то будет? Всерьез ли
решили эти Поварешкины?
Впрочем, сейчас надо слушать, внимать уроку, вне расписания.
Тут каждая реплика взывает к разбору, раздумью, работе. Я то-
ропливо, сокращая слова, записываю высказывания ребят.
Коля Урванцев. Никанор Никанорович полюбил меня.
Саша Суворов. Я смотрел четыре кинофильма.
Костя Морозов. У нас есть пес. Его зовут Джек, а дядя Коля
зовет его Джексон. Как какого-то американца.
Леня Савич. Мы были в зоопарке.
Женечка Андронова. А у нас книг, книг! Никогда столько не
видала! Мне подарили сказки Андерсена.
Леня Берестов. К моему дню рождения испекут торт.
Сева Агапов. А у нас есть ружье. Степан Иванович обещал
взять меня на охоту.
И вдруг взрыв!
Аня Невзорова (голосом Лисы Патрикеевны). А я-то знаете
где была? Не зна-а-аете! — На лице у нее блаженная улыбка, а
я медленно догораю.— У На-деж-ды Ге-ор-ги-ев-иы!
Весь класс оборачивается ко мне, слышится ропот, но тут же
стихает. У каждого слишком сильные собственные впечатления,
чтобы Анино признание вызвало открытую зависть. А тут еще
одна бомба. Прямо атомная.
Алла Ощепкова победно оглядывала класс, неуловимо жен-
ственным движением поправляя на груди мохеровую кофточку —
еще одну обнову, ждала тишины. Потом не сказала — проде-
кламировала каким-то гортанным, не своим голосом:
— А у нас! Высокие! Потолки! Машина! И еще! Меня! Удо-
черят!
—• Что это? — пискнул кто-то.
— Буду жить дома и ходить в нормальную школу,
— Я тоже,— вскочила Зина Пермякова.
Я чувствовала, как холодеют у меня руки. Будто сунула их
в прорубь. Нонна Самвеловна подошла ко мне, забыв о классе.
Добрые карие армянские глаза смотрят растерянно. «Как хоро-
шо, что дети малы,— подумала я,— и мы можем позволить себе
роскошь растеряться у них на виду».
Я поглядела на Нонну Самвеловну, она на меня, я медленно
поднялась и пошла к директору. Аполлоша еще кокетничал с зам-
завом и журналистом. Увидев меня, они дружно заулыбались, при-
нялись пожимать руку, а у меня от этих поздравлений чуть слезы
не брызнули. Ах, как глупо чувствовать себя не той, за кого тебя
принимают, и получать авансы, не подтвержденные делом! Но вы-
дача авансов только начиналась!
Среди недели газета, печатавшая письмо, опубликовала гро-
мадную статью, и у меня подкашивались ноги от страха, когда
я шла по школьному коридору. Учителя со мной здоровались и
разговаривали обычно, но мне в каждом слове виделось ехидство
и едва скрытый укор. Еще бы! Главной героиней сейчас была
133
я — этакая благодетельница новой формации,— а директор и даже
дети служили фоном, и общее наше дело выглядело моим личным
почином.
Слава богу, что я уклонялась от разговора с тем молодым
парнем из газеты, и это не осталось незамеченным. Да и что я
могла еще тогда сказать? Выходило, материал для статьи давал
Аполлоша. И все-таки мое положение было дурацким. В порыве
откровенности я сказала об этом Елене Евгеньевне.
Да, Елене Евгеньевне! Бывает, сначала сделаешь, потом ду-
маешь. Я сказала и испугалась — неужели засмеется? Е!о завуч
тяжело потупилась и сказала:
— Чепуха, забудьте. Теперь уж что? Назвался груздем, поле-
зай в кузов. Тяжело, если не выйдет. Можно сломаться. А вы
только начинаете. Опасно.
Она приветливо оглядела меня, покачала головой.
— Вы, я вижу, честный человек, вам можно доверять. Так
вот, мы с мужем оба педагоги, всю жизнь в школе, вроде что-то
получалось. А теперь я разуверилась в себе. У нас есть шестнад-
цатилетний сын. Отбился от рук, ничего не помогает, никакая
педагогика, никакой опыт, понимаете? Мы уже утешаем себя: мол,
Ушинский тоже воспитал многих, а своего ребенка не смог.—
Елена Евгеньевна вздохнула и улыбнулась.— Вот что страшно:
понять, что ты все знаешь, но ничего не можешь.
Надо же, я нуждалась в утешении, а теперь утешать приш-
лось мне.
— Да я не к тому, девочка! — воскликнула Елена Евгеньев-
на.— Просто не спешите! Не делайте ошибок. А главное, не под-
давайтесь отчаянию, если оно придет.
«Если оно придет». Я настороженно встречала детей в поне-
дельник. Вглядывалась в их лица.
Каждый понедельник становился новой точкой отсчета в жиз-
ни малышей. По этим точкам можно выстраивать график.
Я принялась за него.
17
Это была толстая зеленая тетрадка. В понедельник я записы-
вала высказывания ребят на разрозненных листочках, а потом
переписывала в тетрадь по главам — каждая глава носила имя
ребенка, а каждый пункт — минувшие выходные.
Вот как это выглядело:
Леня Савич.
1. Мы были в зоопарке.
2. Катались на коньках. Я знаю, как точить коньки.
3. Дядя Леня подарил мне электрический фонарик, и я теперь
не боюсь темноты.
4. Дядя Леня получил премию, и мы ходили с ним в магазин
выбирать подарок тете Ларисе. Купили духи.
Тут же пометки о тезке Савича—Леониде Ивановиче Марке-
лове, токаре с машиностроительного завода: год рождения 1930-й,
134
член КПСС, зарплата — 200—230 рублей. Жена — Лариса Пет-
ровна, 1932-й, медсестра, оклад—НО рублей. Адрес: Садовая, 4,
квартира 12, телефона нет. Сын Витя, 12 лет.
Мои пометки. Против третьего гостевания: «А я и не знала,
что он боится темноты».
Сева Агапов.
1. А у нас есть ружье. Степан Иванович обещал взять меня
на охоту.
2. Мы заряжали патроны порохом и дробью. Скоро пойдем на
охоту.
3. Ходили в тир, стреляли в мишень.
Мои пометки: «Ребята смеются. Спрашивают Севу, когда же
на охоту?»
Точки в графиках то взлетают наверх, то падают. Так у Севы.
После этого смеха он заплакал прямо в классе, развернулся и
стукнул Колю Урванцева, который спросил: «Когда же на охо-
ту?» А в очередную субботу спрятался в шкафчик для одежды,
так что я его обыскалась.
Пришлось объясниться со Степаном Ивановичем, инженером
теплосетей, человеком добродушным, но, пожалуй, безвольным.
Он сам признался:
— Ведь это моя идея — Севу взять. Женя не против, конечно,
но и не очень за. Так что требует от меня в магазины бегать, то,
се, а на охоту никак не вырвусь.
Зато в следующий же понедельник Сева сказал, а я с удо-
вольствием записала:
4. Ходили на охоту. Степан Иванович убил ворону.
На Севу закричал Коля Урванцев:
— Ворона — полезная птица! Ее нельзя!
— А никого другого не было! — ответил Сева.
Засмеялся весь класс. Но он не обиделся, не заплакал, как в
прошлый раз, наоборот, делился впечатлениями:
— У меня ухи будто шапкой закрыло. Ба-б-б-ах! И ничего не
слышно. Степан Иванович глотать учил, чтоб прошло.
Конечно, подробности в мою кардиограмму не укладывались.
А жаль. Впрочем, память не хуже любой тетради сохранила за-
бавное и грустное, слезы, улыбки, слова да, кажется, и сам воздух
тех дней.
Хорошо помню, например, про Анечку.
Ко второй внешкольной субботе я сумела подготовить ее, Аня
охотно пошла с Евдокией Петровной, а в понедельник помчалась
ко мне через весь вестибюль с широко раскрытым ртом.
— М-м! — мычала она.
— Что такое?
— Посмотри!
Я посмотрела в рот, ничего не поняла.
— Евдокия Петровна три зуба запломбировала. Совсем не
больно! Я у нее на работе была! Сама машинкой жужжала. Ста-
ну самотологом!
135
— Стоматологом! — Евдокия Петровна смущенно улыбалась
позади Анечки, мотала головой, повторяла: — Ну огонь! Ну огонь!
Все перемены Анечка приставала к ребятам, открывала рот,
показывала пломбы. Потом щелкала зубами, точно доказывала,
какие они теперь у нее крепкие. Даже Аполлошу порадовала.
Остановила в коридоре и показала рот.
Эти дети, замечала я, или замкнуты, или распахнуты настежь.
В отличие от интернатовских, тех, что брали домой родители, мои
малыши не имели середины. Или скован, или раскрыт. При-
чем и то и другое могло помещаться в одном человеке. Как в
Ане.
Ведь любила она меня, любила, точно я это знаю, и будущее
подтвердило это, могла бы проговориться, сказать, но молчала,
пока не случилось...
Первой это заметила Нонна Самвеловна. Анечка Невзорова
сидела у окна и несколько раз прямо во время урока вставала,
смотрела в окно и не обращала внимания иа замечания учитель-
ницы.
— Стояла так,— сказала Нонна Самвеловна,— точно ничего
не слышит.
На перемене я зашла в класс. Анечка сидела за партой, упер-
шись взглядом в стену. Я присела к ней, погладила по голове.
Она, даже не повернувшись, привалилась ко мне, по-прежнему
задумчиво глядя перед собой.
— Что случилось? — спросила я шепотом.
Анечка молчала. Потом, стряхнув оцепенение, посмотрела мне
в глаза. Взгляд был совершенно взрослый. Точно разглядывала
меня усталая, грустная женщина.
— Что там, за окном? — спросила я, и Анечка сжалась у ме-
ня под ру кой.
— Ничего,— ответила она.
Послышался звонок.
— Будь умницей,— попросила я,— не забывай, что урок. И что
сегодня в гости.
— Может, я не пойду,— загадочно ответила Анечка.
— Почему?
— Может, чего-то случится.
— Ничего не случится.
Но случилось. Посреди последнего урока дверь в спальню грох-
нула, точно выстрел, и, задыхаясь от плача, ко мне подбежала
Анечка.
—• Скажи,— прокричала она в отчаянии,— скажи, чтоб она
ушла!
Я разглядывала посиневшее, ставшее каким-то больным лицо
девочки и ничего не могла сообразить.
— Кто ушла? Евдокия Петровна?
— Нет! Мамка! Она все время тут ходит! К Евдокии Петровне
будет приставать! Материться!
Отрывочные эти выкрики меня оглушали. Я прижала девочку
136
к себе, поглаживала спинку, чтобы успокоить, и она кричала мне
прямо в ухо. Но оглушали меня не слова. Их суть.
Значит, где-то тут возле школы бродиг ее мать? Не первый
раз!
— Покажи! — выпрямилась я. Мы подошли к окну. На улице
никого не было, кроме разве элегантной женщины в голубом бе-
рете с помпошкой, в красивых импортных сапогах на высоком
каблуке, по голенищу — ремешок. Писк моды, я о таких могла
только мечтать. Но эта мадам не походила на Анечкину мать.
Особенно если учесть те два словечка, которыми Аня назвала тог-
да свою маму.
— Ну?! — спросила я.
— Вот! — кивнула Анечка и торопливо отскочила от окна.
— Не бойся,— сказала я.— Она тебя не увидит.
— Как не увидит?
— Ты веришь мне?
Аня прижалась всем телом, облегченно вздохнула, и столько
было в этом вздохе тяжелого отчаяния, что у меня комок под-
ступил к горлу.
В вестибюле я договорилась с «князем» Игорем и его «княги-
ней», что они сядут в машину, приоткроют дверцу, заведут двига-
тель, и в это время к ним быстренько придут Евдокия Петровна
с Анечкой.
Все получилось как по маслу.
Зеленый «Москвич» проскочил прямо перед красоткой, но она
и носом не повела.
Когда в школе стихло, я накинула пальто и вышла на улицу.
Женщина в голубом берете и модных импортных сапогах со шпо-
рами стояла на том же месте. Я приблизилась к ней.
Все в меру, с большим вкусом,— берет, помпошка, пальтецо,
отороченное голубым песцовым мехом, сапожки аховые. Вот ли-
цо, пожалуй, подкачало. Широкоскулое, рябоватое. Слишком яр-
ко подкрашены губы.
— Здравствуйте, Любовь Петровна,— сказала я и увидела, как
она напряглась. Не ожидала, что по имени-отчеству? А как же!
Знаем, знаем, и не только это: ЛРП — лишена родительских прав.
Отец девочки неизвестен.
Мне стало стыдно. А собственно, что еще знаю я про эту жен-
щину? И кто мне дал право судить?
А мать Анн настороженно разглядывала меня.
— Дочку бы мне,— проговорила она наконец сиплым голосом,
и я попятилась от дикого амбре водки и парфюмерии. Насколько
все же, мелькнуло во мне, пьяная баба отвратительнее пьяного
мужчины.
— Любовь Петровна,— сказала я в меру вкрадчиво.— Зачем
вы ходите? Да еще в таком виде? Девочка переживает.
— Что такого? — слегка смутилась Невзорова.— Я же не па-
даю. И вообще! Дайте Аню. Сто лет не видела. Не трогала, не
говорила. Чем я хуже других?
137
.— Успокойтесь и уйдите,— сказала я сдержанно.
— Успокойтесь? — заплакала она, и тушь сразу поползла с
ресниц по щекам.— А кто вам дал право, ответьте? Раздавать чу-
жих детей! Чужим, значит, можно, а родной матери нельзя?
В словах ее, прерываемых монотонным воем, слышалась тоска
и обида, но чем я могла помочь?
— Не надо так,— проговорила я смущенно.— Все зависит от
вас. Родительские права возвращаются. Наверное, надо переме-
ниться.
—• Перемениться! — Лицо Невзоровой враз ожесточилось.—
Вот сама и меняйся! А ко мне не лезь. Живу как хочу. Или я себе
не хозяйка? Ха! Вас послушаешь, все благородные. А на самом
деле? Лишь бы тихо! Если тихо, давай. А громко, во весь го-
лос— сразу под суд! Тихие гады!
Ее куда-то понесло, это она не мне говорила, кому-то другому
кричала, доказывала что-то свое, мне совсем неизвестное. Так
что разве я знаю хоть что-нибудь про нее?
Легкий снежок за спиной торопливо захрустел, я обернулась
и увидела Аполлона Аполлинарьевича. Я остановила его движе-
нием руки, но он закричал из-за спины:
— Уходите! Немедленно уходите! А то вызову милицию!
—• А вот уж такой статьи и вовсе нет!—хрипло просипела
Невзорова — боже, какая литературная фамилия. — Что, нельзя
навещать собственную дочь? Не пугай! — И добавила, презри-
тельно скривив губы: — Тюфяк!
И двинулась, со скрипом вдавливая каблуками снег.
Я обернулась. Еще одна кличка у бедного Аполлоши.
Он стоял, чуточку разведя руки в широких рукавах мешкова-
того пиджака, действительно похожий на тюфяк, и точно хотел
что-то спросить. Снежинки таяли на его широком покатом лбу,
и весь он выражал такое горькое недоумение, что мне хотелось
подойти и погладить его по круглой голове. Так бы и сделала.
Но на нас смотрели с крыльца. Дворник дядя Ваня, повариха
Яковлевна в белом, трубой, колпаке, испуганная Маша, строгая
Елена Евгеньевна.
Вся школа обозревала сцену, как директор бросается спасать
воспитателя от родительницы.
— Да, черт побери,— проговорил, вздохнув, Аполлон Аполли-
нарьевич,— что бы сказали мои предки?
18
С точностью до каждого мгновения помнит человек важные
свои дни.
Мы с Аполлошей возвращаемся в вестибюль, и Елена Евгень-
евна говорит, что меня зовут к телефону. Я иду в учительскую,
с недоумением беру трубку.
— Надежда Георгиевна? — слышится мужской голос.— Выме-
ни узнаете?
138
Я еще под впечатлением ЛРП. Отвечаю довольно резко:
— Не умею разгадывать загадки.
— Ну, не сердитесь,— говорит мужчина.— Это Лобов из га-
зеты. Виктор Сергеевич.
Теперь я узнаю его голос. Но говорить не хочется. Поскорей бы
избавиться от осадка, который оставила газетная статья. Я при-
даю голосу предельную сухость:
— Я вас слушаю.
— Ну-у, Надежда Победоносная,— смеется Лобов,— что-то
вы совсем не любезны!
Какая любезность! Я похожа на выкипающий чайник. Ух, этот
Аполлоша! Разболтался! Едва сдерживаюсь, чтобы чего-нибудь
не ляпнуть в трубку. Но все-таки этот Лобов принимал мое
письмо. Да и статью свою писал, видно, от чистого сердца.
— Слушаю вас,— чуточку потеплее повторяю я.
— Мне надо встретиться с вами.
— Право, очень сложно,— бормочу я, сознавая, что веду себя
не вполне прилично. Когда мне надо было, так время находи-
лось.— Ну, хорошо. В какое время?
— Через час заеду прямо к вам.
Через час школа опустела, все разошлись домой. Я сижу з
учительской одна над своей зеленой тетрадью. Но писать не могу.
Мешает непонятное волнение. Пожалуй, даже досада. Чего ему
еще от меня надо? Снова материал для статьи? Только этого
не хватало!
В коридоре раздаются громкие шаги, дверь распахивается.
Лобов подходит к моему столику, счастливо улыбается. На нем
ладная дубленка, в одной руке мохнатая шапка. Я разглядываю
его внимательнее. Лицо потомственного интеллигента — худощавое,
очки в тонкой золоченой оправе. Похож на учителя, врача, уче-
ного, журналиста. Так что полное совпадение внешности и про-
фессии.
— Наденька!—говорит он, и я удивленно вскидываю брови:
не люблю безосновательной фамильярности. Но он точно не заме-
чает моей реакции, а повторяет: — Наденька! Во-первых, я полу-
чил премию за очерк про вашу школу.
— Поздравляю,— говорю я, и чго-то сжимает сердце, какое-то
непозволительное волнение.
— А во-вторых, пойдемте в театр, а?
Глаза у меня, наверное, округляются. Да и лицо вытягивается.
— Это невозможно,—быстро произношу я, стараясь принять
отчужденный вид. Но Виктор Сергеевич смеется, точно ему из-
вестны все эти уловки.
— Да бросьте! — говорит он совершенно спокойно.— Пойдем-
те — и все!
Что «бросьте»? Откуда такая развязность? Я уже готова вы-
палить эти восклицания, но что-то сдерживает меня. Воспоминание
о Кирюше, моей студенческой пассии? Кирюша, Кирюша! Мысли
о нем ленивы, Кирюша остался за чертой реального, он где-то
139
в аспирантуре, мой бывший чистый физик, а в закутке у Ле-
пестиньи две его натужно лирические открытки. Мысль о Кирю-
ше все сонливее.
— Что вы сказали? — спросила я.
— Айда в театр!
И так он сказал это беззаботно, ни на что не претендуя, что
мне тут же стало обидно — вот женская логика! Стало обидно:
почему же не претендуя?
Местный театр не блистал искусством, поэтому спектакли ча-
стенько подкреплялись танцами в антрактах и после зрелища.
Все вместе это называлось «молодежный вечер». Зрителей в зале
почти не было, зато окрест стоял негромкий, но оживленный гул:
народ, беседуя, ходил по фойе в ожидании танцев и освежался
пивом в буфете.
Мы тоже не пошли в зал. Виктор Сергеевич увлек меня на
диванчик под скульптурой обнаженного бога Аполлона, и я время
от времени, увидев эту композицию отраженной в зеркале — я и
Лобов, а над нами Аполлоша, так непохожий на себя,— весело и
невпопад речам кавалера прыскала.
Он удивленно оглядывал меня, видно, такое поведение не со-
впадало с его представлением о серьезном педагоге-новаторе, а
когда я пояснила, повалился со смеху. И вообще он был смеш-
лив, совершенно прост, очень остроумен, что меня особенно при-
влекало. Было, правда, одно обстоятельство, которое мне мешало.
Полтора года назад Виктор кончил факультет журналистики
Московского университета. И вообще коренной москвич.
Странное дело, это меня уязвляло. Москвичи всегда казались
мне белой костью, и наш старинный педагогический институт в
старинном миллионном городе как-то всегда был несравним с уни-
верситетом и Москвой. Глупо, конечно, но я сама сделала это:
узнав, что он москвич, как бы приспустилась на ступеньку по
сравнению с Виктором.
Да, он был уже Виктором после первого же не увиденного на-
ми акта, а я Надей, Надюшей и даже Надюшенькой и, черт побе-
ри, снова чувствовала себя девчонкой, просто девчонкой, которой
хочется смеяться, танцевать, болтать что попало, а никакой не
воспитательницей.
В антрактах мы танцевали, Виктор был просто молодец, вел
легко и свободно, и когда мы кружились в вальсе, между нами
был целый круг, пространство, наполненное волнами тугого воз-
духа. Мы танцевали все — и всякий модерн, самую что ни на есть
современность,—но я особенно запомнила вальсы, потому что по
нынешним временам, пожалуй, только в вальсе партнер держит
партнершу.
Сначала Виктор просто держал мою руку, но однажды, на ка-
ком-то повороте, легонько пожал ее, и я подумала, что он сделал
непроизвольное движение, стараясь удержать меня. Потом он сно-
ва пожал мою руку, и я вопросительно взглянула на Лобова.
Он смотрел в сторону, точно был занят другими мыслями. На-
140
конец, я снова ощутила едва заметное рукопожатие и вновь взгля-
нула на него. Теперь Виктор улыбался, смотрел в глаза, и я отве-
тила на его движение.
Вечер кончался. Музыка еще играла, а великолепные люстры
постепенно, по ярусу, угасали. Вальс замедлялся, и неожиданно
на последних витках Виктор сильной рукой сократил круг между
нами, останавливаясь, словно ставя точку, прижал меня к себе.
Это было мгновение, одна секунда, но у меня перехватило
дыхание. Я точно застыла. Виктор же болтал без остановки до
самого моего дома и, мне казалось, разговорами скрывал собст-
венное смущение. Главной его темой было учительское благород-
ство, оказывается, его отец часто рассказывал про свою учитель-
ницу-старушку, которая всю свою жизнь отдала школе, прорабо-
тала там шестьдесят лет, даже замуж не вышла — всю жизнь
школе, детям, а умерла почти в девяносто, и вот ее бывшие уче-
ники собрали деньги и поставили на могилке великолепный па-
мятник— прекрасная, не правда ли,судьба?
Я качала головой, соглашалась, рассказ Виктора тронул меня.
У ворот он беспричинно засмеялся, схватил меня за талию,
мы снова закружились, как в театре, и я все чего-то ждала, да
не чего-то, я ждала повторения, и все повторилось, только иначе.
Он прижал меня к себе, его лицо приблизилось.
Мы поцеловались.
«В первый же вечер! — лениво осудила я себя.— Едва знако-
мы!» Но думать об этом было скучно, а целоваться приятно.
Назавтра в группу прибежал сам Аполлоша.
— К телефону! Лично вас инспекция по делам несовершенно-
летних!
Я вслушивалась в чей-то скрипучий голос, который объяснял
мне, что дети из моей группы не соблюдают — надо же! — прави-
ла уличного движения.
— Мои дети,— кричала я,— ходят со взрослыми!
— Вот вчера ваш Урванцев пошел на красный свет.
— Вчера мой Урванцев не выходил из школы! — срывалась
я на крик.
И вдруг без всяких переходов голос Виктора произнес в
трубку;
— Я целую тебя!
— Как это понимать? — крикнула я по инерции. Только туг
до меня стало доходить. Но рядом стоял Аполлон Аполлпнарье-
вич. Смеяться? Я едва сдержалась.
— Хорошо! — ответила я.
— Что хорошо? — не понял Виктор.
— Хорошо то, о чем вы говорите...
— А ты? — допытывался он.
—1 Тоже! — ответила я, бросила трубку, вылетела в коридор
и чуть не задушила в объятиях первого попавшегося под руку
малыша.
Виктор звонил мне по нескольку раз в день, но трубку брал
141
кто угодно, только не я, и он всякий раз выдумывал благовидные
предлоги. Фантазия его била ключом. Бывало так, что я прихо-
дила в школу, а Елена Евгеньевна с удивлением сообщала мне,
что звонили из санэпидстанции и благодарили меня за соблюде-
ние идеальной чистоты в спальных комнатах первого «Б».
— Спасибо,— кивала я.
— Я что-то не припомню,— поражалась Елена Евгеньевна,—•
чтобы в последнее время к нам приезжали из санэпидстанции.
Я пожимала плечами.
За довольно короткое время в мое отсутствие по телефону мне
выразили благодарность за самоотверженную работу моряки раке-
тоносца «Смелый» с Балтийского флота, игрушечная фабрика
доложила о конструировании на общественных началах электрон-
ного Конька-горбунка специально для моей группы, управление
пожарной охраны горисполкома сообщило об избрании меня по-
четным членом механизированного депо, а работники одной рай-
онной библиотеки предложили подарить мне книгу американ-
ского доктора Спока о воспитании маленьких детей.
Виктор шутил, а слухи о моей мнимой славе раздувались, как
воздушный шар. Даже Маша поглядывала на меня с каким-то
недоумением.
19
Я, будто Карлсон, летала по школе. И все так славно выхо-
дило! Удача, наверное, как и несчастье, в одиночку не ходит.
С детьми расчет оправдывался, что и говорить. Они стали при-
лежнее, живее, точно в них что-то пробудилось. Старание и оду-
хотворенность были следствием, а причиной — субботние встречи
в вестибюле. Даже самый маленький и, казалось бы, несмышле-
ный человек легко сознает ответственность перед любящими людь-
ми. На радость всегда хочется ответить радостью, хочется похва-
стать своими удачами и победами. Неудачами ведь не хвастают.
Словом, любой день и час недели окрашивался воспоминанием
прошлого воскресенья и ожиданием следующего.
Когда Леня Савич повторил в очередной понедельник, что ему
на именины испекут торт, порядочно зазнавшаяся Алла Ощепко-
ва воскликнула:
— А у меня каждое воскресенье именины!
Алла тревожила меня, но в этом признании я услышала ощу-
щение праздника. Похоже, стараясь похвастаться, она вырази-
лась довольно точно, и многие могли бы сказать так же.
Пожалуй, все.
Может быть, я не видела тогда чего-то важного?
Пропустила из-за любви, как пропускает по неуважительной
причине уроки плохая ученица?
Может быть. Наверняка. Любовь даже подтолкнула меня к
ужасному изобретению. Трудно сообразить, как я это додума-
лась.
Я много думала о Викторе в те дни. Когда можно и когда
142
нельзя. Когда нельзя — это во время самоподготовки. Следовало
помочь малышам. У кого не выходит задача. Некрасиво пишется
буква. Я это делала, но как-то механически теперь. Без былою
старания и увлечения. Виктор мешал мне.
Одна из трудностей самоподготовки — неравность, если мож-
но так выразиться, скоростей. Один решил задачу раньше, и, хотя
сосед еще пыхтит, трудится, первый начинает ему мешать: возит-
ся, шумит, а то вскочит из-за парты: все-таки не урок, а подго-
товка к уроку. Тот, у кого скорость ниже, нервничает, отвлекает-
ся, дела у него идут хуже.
Однажды я не успела поесть и пришла с печеньем. Тем, кто
готовил уроки быстрее, давала, чтоб сидели тише, по печенушке.
Они притихли! Не отвлекали остальных.
«Эврика!»—говорят, воскликнул Ньютон, когда ему на голову
шмякнулось яблоко. Я же тихо ойкнула, совершив свое изобре-
тение. А на другой день принесла к самоподготовке целый куль
белых сухарей: Лепестинья насушила из буханки хлеба.
Мышата из передовиков хрустели сухарями, не мешая това-
рищам, потом и те получали свою долю, а я вспоминала Виктора.
Надо же! Вот что может наделать любовь!
Только зеленая тетрадь возвращала меня к жизни. Все-таки
двадцать два малыша. И на целый день, даже полтора мы теряем
их из поля зрения. Отдаем посторонним.
Я затеяла проверку. В конце концов у нас все права. Аполлон
Аполлинарьевич одобрил. Даже вызвался пойти со мной. И я се-
ла в калошу.
Дело в том, что проверку придумала не я одна. С Виктором.
Полдня в субботу и все воскресенье мы проводили вместе, ходи-
ли в кино, а чаще всего на лыжах в сосновом лесу.
Стояла уже зима, пухово-снежная, с легким морозцем, без
ростепелей.
Пройдешь квартальчик хотя бы по городу, мозги тотчас про-
чищает, словно свежее купание. Снег звонко хрустел, искрился на
солнце мелким хрусталем. Присядешь пониже, и снежная пласти-
на вспыхивает радугой. Голубым, оранжевым, зеленым.
Виктор рассказывал про себя, про свою работу, и слушать это
мне было очень интересно. Еще бы! Сегодня здесь, завтра там.
Мне нравилось, что Виктора многие знали, как-то льстило, когда
солидный пожилой человек первый приподнимает шляпу — вот
какой известный человек мой ухажер! Но ухажер не кичился зна-
комствами, был предельно вежлив и любезен. Концепция его мне
нравилась, была реалистической, но без пошлостей: Виктор пред-
полагал отработать два года по распределению, а потом вернуть-
ся домой, в Москву, к родителям и устроиться в центральную
газету.
— А сейчас,— говорил он,— познание жизни, приближение к
ней, накопление запаса прочности, который пригодится для буду-
щего.
Эти рассуждения я выслушала раз или два, приняла их к све-
143
депиго и сердцу, но возвращаться к ним не считала возможным
из элементарной гордости.
Когда Виктор говорил про два года, я восклицала про себя:
«Как! Два года!» Но молчала, хотя и замедляла шаг. Выходило,
я не вписывалась в программу Виктора, он не упоминал обо мне
в своих расчетах. На какое-то время холодела, но потом сиюми-
нутность захлестывала меня, и я забывала про два года. А его
второй год шел полным ходом!
В остальном же Виктор был на редкость тактичный человек.
Его жизнь протекала в тысячу раз многообразней моей, но он
рассказывал самые крохи. Мои же дела знал в подробностях.
Он и надоумил, постыдив:
—• Эх ты, Надежда! Была в гостях хоть у одного ребенка?
И вызвался идти вместе со мной. Так что моя тайна, когда в
гости собрался и Аполлоша, оказалась под угрозой разоблачения.
Но доверчивый Аполлон Аполлинарьевич ничего не заметил.
— А! Пресса!—зашумел он одобрительно.— Значит, как у
вас говорится, продолжение следует?
— Следует, следует! —улыбался Виктор.
Больше всего нас интересовали Петровичи Поварешкины.
Не хотели мы им никого давать, а дали сразу двоих — Мишу и
Зою Тузиковых. Все-таки значок победителя соревнования, кото-
рый Семен Петрович из кармана тогда вытащил, произвел впечат-
ление. Он приберег его как последний аргумент в свою пользу,
и чем больше времени проходило, тем все симпатичней мне этот
аргумент казался Но все-таки трое своих. И еще двоих взяли.
Нагрянули мы, конечно, неприлично. Будто ревизия. Могли бы,
конечно, заранее предупредить, чтобы людей не обижать. С дру-
гой стороны, мы представляем ребячьи интересы. Нам нужна
объективная ситуация, а не подготовленная.
Застали семью за едой. Анна Петровна забегала вокруг стола,
велела всем тарелки приподнять, накинула на клеенку скатерть.
Пришлось сесть к столу.
Еда была скромная — оладьи со сметаной, зато оладий — це-
лая гора, и я вспомнила маму.
Надо же — вспомнила! И слова другого не подберешь, раньше
мама из головы не выходила: «Как скажешь, мамочка», «Конечно,
мамочка», «Бегу, мамочка», а теперь я ее вспомнила. На корот-
кую записку, тот грозный ультиматум, так и не ответила — снача-
ла не знала, что написать, а потом времени не нашла, и теперь
прямо под ложечкой засосало. Ну и что ж, если такая записка в
ее жанре? А вот эта гора оладий? Вспомни-ка наш старинный
стол на гнутых ножках, огромное блюдо посредине и банок
шесть — со сметаной и вареньями, малиновым, вишневым, абри-
косовым, еще и еще. Все почему-то добреют за оладьями. Ольга
болтает с Татьяной, Сергей подкидывает незлобивые шпильки
мне, одна мама взирает на нас с Олимпа своего кресла, точно на
шаловливых котят, ухмыляется чему-то своему. Чему? Ясное де-
ло. Вон Анна Петровна тоже улыбается.
144
— Сколько же у вас едоков-то,— говорю я,— накормить и то
целое дело!
Анна Петровна пугается, смотрит на Семена Петровича, а
тот — на директора В его взгляде вопрос. Неужели, мол, старая
тема?
Но Аполлон Аполлинарьевич увлечен оладьями, подбородок его
блестит маслом, вот-вот и он замурлычет, а Семен Петрович пово-
рачивается ко мне.
— Разве это много?—говорит он,—Мой родитель одиннад-
цать имел, а вон Аня-то, спросите у нее, какая по счету?
Мы поворачиваемся к Анне Петровне, та смущенно прикры-
вает ладошкой рот и отвечает сквозь нее:
— Четырнадцатая!
— Аполлон Аполлинарьевич,— неприлично кричу я,— пред-
ставляете?
— Бывало, за столом не помещались,— сказала Анна Петров-
на,—ели в две смены. Зато весело!—Она при: орюнилась.— По-
ловина погибли да померли.— Опять оживилась: — Но зато дру-
гие живые! Народу надо побольше, чтоб семья сохранялась,—
сказала опа, о чем-то мгновение подумав.— А то нынче сколько?
Один да один! Этак вымрем!
Оладьи запивали молоком, потом мужчины удалились на кух-
ню покурить, а я перебралась к малышам. Заметных обновок на
них не было, но носочки, я знала, каждый понедельник новые,
хотя и простенькие, хлопчатобумажные. Зоя носила очки в про-
волочной оправе и сейчас походила на старушку—читала книгу.
Когда я подошла, отложила книжку и прошептала, чтоб не слы-
шали Поварешкины:
— Надежда Георгиевна, можно мы каждый день ночевать
здесь будем?
Миша строго взглянул на сестру.
— Не перебирай! Тут и так тесно!
Зоя не обиделась, послушно отвернулась к книжке, а я снова
подумала о том, как отличаются мои ребята от остальных. Даже,
пожалуй, от тройки Поварешкиных.
Хотя как знать.
К Мише и Зое подошел старший, девятиклассник Витя. В ру-
ках у него ребячьи пальтишки, валенки.
— Вставай, поднимайся, рабочий народ! — сказал грубовато
Витя.
Миша и Зоя стали одеваться, а Витя помогал им, и никто ни
разу не улыбнулся и не сказал ни слова, пока собирались на
улицу.
Вышли они впятером с двумя санками.
Пожалуй, свою сознательность наш Миша черпал здесь.
20
Одним махом мелькнули Октябрьские. Единственное полезное,
что я сделала за три выходных,— письмо маме.
115
Ее записочка свалялась в кармане, углы потерлись, моя оби-
да состарилась вместе с бумажкой, и письмо маме вышло опти-
мистичным, даже восторженным. Я не написала про многое, что
меня распирало, не написала, конечно, про Виктора и мой роман,
зато на все лады расхваливала работу, свой класс и не постыди-
лась даже вложить в конверт газету с очерком Виктора. Конверт
получился пухлый, мама, я знаю, десять раз перечитает мой от-
чет, а вот что последует дальше, никогда предсказать нельзя.
Я точно свалила с души тяжелую гору и снова кинулась в свою
суету, в школьные хлопоты, в ночные прогулки с Виктором.
Тихо, будто тройка по мягкому снегу, подкатил Новый год.
Аполлон Аполлинарьевич устроил роскошную елку в спортив-
ном зале — до самого потолка. Вся она сверкала от изобилия
игрушек, даже хвои почти не видно из-за серебристых шаров, бус,
серпантина. В радиодинамиках грохотала музыка, из городского
театра приехал артист, разряженный Дедом Морозом, со Снегу-
рочкой и целым грузовиком шефских подарков, затеяли хоровод,
а я вглядывалась в лица своих малышей и снова делала малень-
кие открытия.
Зина Пермякова хохочет до изнеможения, так что даже лоб
покрылся испариной — ее веселье чрезмерно, она отдается ему
без всяких сдерживающих начал. Я пробираюсь к ней, отвожу в
сторонку, вытираю лоб платком, прошу успокоиться: мне уже
известно, что у моих малышей от веселья до истерики — один шаг.
А Саша Суворов прижимает к груди пластмассовую матреш-
ку с конфетами и смотрит на елку, хоровод и разряженных арти-
стов с недоумением. Его, напротив, надо встряхнуть, подтолкнуть
к детям, заставить рассмеяться.
В самый разгар радости из толпы выбежала рыдающая Же-
нечка Андронова. Я бросилась к пей, принялась целовать, рас-
спрашивать, что случилось, но ничего не добилась. Женечка была
одной из самых скрытных. Рослая—выше многих мальчишек —
Женечка тянулась в хвосте класса по успеваемости. Причиной
всему — развитие. В характеристике Мартыновой про Женечку
написано, что она угрюма, внимание неустойчиво, легко отвлека-
ется. Я бы могла добавить от себя: плохо выражает свои мысли,
путается в названии дней недели, если перечисляет их вразбивку,
сторонится даже девочек.
Я с тоской смотрю, как Андронова обедает. Без всякого ап-
петита, но много, и может съесть бог знает сколько. Мартынова
про это ничего не написала, думаю, умышленно. Каждому педа-
гогу известно, что чувства сытости нет у умственно отсталых
детей.
По всем правилам девочку следовало обследовать в медико-
педагогической комиссии и отправить в специальную школу, но
я пробовала бороться за нее. Звала не иначе, как Женечка. На-
учила правильно называть дни недели в любом порядке: мы твер-
дили их шепотом на ухо друг другу, у нас как бы получилась ма-
ленькая от всех тайна, и Женина угрюмость начала исчезать. Ког-
146
да мы подбирали взрослых, я нашла для Женечки бывшую учи-
тельницу Екатерину Макаровну, и та уже помогла мне безумно
много. Кто-кто, а Женечка первой среди всех нуждалась в ма-
тери! Не месяцы — годы требовались ей, чтобы ничем не отли-
чаться от сверстников, а специальная школа, казалось мне, спо-
собна только утвердить девочку в своей неполноценности! Нет,
я уж пока помолчу о комиссии!
Женечка проплакалась, я сказала ей какую-то пустяковую шут-
ку, напомнила, что нос надо вытирать почаще, чтоб не оконфу-
зиться перед мальчишками, повернула ее лицом к елке. Глаза
у Женечки засияли, она кинулась в хоровод, совершенно не пом-
ня о слезах, а я вздохнула.
Как же это пробраться в каждого? В самую середку? Как уме-
ло и быстро ставить диагноз любому срыву? Ох, как далеко мне
еще до такого!
Вокруг елки, гораздо больше похожий на Деда Мороза, чем
загримированный, с бородой, артист, расхаживал Аполлон Апол-
линарьевич. Его лысая голова напоминала елочный шар. Дед Мо-
роз снова повел хоровод, и директор подбежал ко мне, потянул
за руку.
— Победоносная! Ваше место в центре!
Я громко, в полный голос подхватила всеми любимую песню,
и малыши мои задвигались быстрей.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла1
Когда дошли до места, как срубили елочку под самый коре-
шок, пришлось выбраться из хоровода: заплакал Леня Савич.
Да, слезы у моих были близко.
Есть примета: что произойдет с тобой под Новый год, весь
год потом будет повторяться.
Женечка и Леня успокоились быстро.
Мои слезы — впереди.
21
На каникулы всех моих малышей забирал зимний лагерь
шефов. Ехать с ребятами вызвалась Маша, тем более что, кроме
малышей, из которых создали специальную группу, нам дали еще
тридцать мест, и директор помог Маше отправиться со своими
детьми.
Я в свободные дни собиралась съездить домой, Аполлоша не
возражал, и мысленно я уже звонила у родной двери, она распа-
хивалась, на пороге возникали Татьяна, Ольга, Сергей, все ахаю-
щие, потрясенные моим изменившимся, совсем взрослым видом,
наконец появлялась мама и вместо какой-нибудь жесткой фразы
начинала всхлипывать.
День, день, еще день, и к вечеру я дома.
А пока предпраздничное волнение, встреча Нового года в ре-
дакции у Виктора, и это для меня не рядовое событие.
147
Во-первых, я никогда не была в редакциях на праздничных
вечерах. Наверное, у них что-то необыкновенное, семейный, узкий
круг, особая обстановка, так что я появлялась там как бы на се-
мейном основании, подруга сотрудника. А во-вторых, Виктор, по-
хохатывая, без всякого зазрения совести сообщил мне, что я буду
на вечере еще и как героиня газеты, так что, верней всего, мне
дадут слово, надо подготовиться к тосту.
Я отшучивалась и отнекивалась совершенно в его духе, по
сердцем понимала, что на вечере в чужой компании, да еще такой
интеллектуальной, мне придется плыть по воле волн. Выглядеть,
однако, следовало достойно, и я попросила Лепестинью еще днем
занять мне в парикмахерской очередь.
Последние в году проводы малышей получились особенно шум-
ными и суматошными. Предновогодние часы вообще всегда су-
матошны — люди еще гоняются за елками, посылают телеграммы,
толкутся в магазинах, при этом, конечно, что-то забыто, скоро-
сти нарастают, автобусы набиты народом, вокруг давка и суета,
но все, как правило, доброжелательны, у всех хорошее в пред-
чувствии особого праздника настроение. Так что малыши наши,
сверхъестественно возбужденные, хоть и кричали нам с Машей
и Нонной Самвеловной новогодние пожелания, исчезали быстро,
видно, поддаваясь настроению взрослых, без обычных своих ко-
паний. Еще бы: многим предстоял первый Новый год в семейном
кругу, пожалуй, с полмесяца они лепили из пластилина и клеили
из цветной бумаги свои новогодние подарки. Что ж, пусть Новый
год принесет всем им новое счастье!
Когда ребята разошлись, я ощутила непривычную опустошен-
ность. Но Маша и Нонна потащили в учительскую. В тарелках
маленькие бутербродики на деревянных шпильках, в стаканах
пенится шампанское, все принаряжены и суетливы.
— Друзья! — воскликнул Аполлон Аполлинарьевич.— Вот и
Новый год! Пусть он принесет счастье всем нам! И всем нашим
ученикам. Особенно воспитанникам Надежды Георгиевны, Марии
Степановны, Нонны Самвеловны! Им счастье необходимо больше,
чем всем нам! Эта осень прошла в школе под знаком первого «Б».
— Пусть же,— перебила его Елена Евгеньевна,— когда-нибудь
мы окажемся под знаком счастливого десятого «Б»!
Зазвенели стаканы. К нам подходили чокаться пожилые учи-
теля, поздравляли, желали удач, обращаясь почему-то прежде
всего ко мне. 1
Я снова оказывалась в центре внимания, и это как-то коро-
било.
— Ну что, подружки дорогие! — прошептала Маша.— За наш
десятый! Дай бог ему счастья!
Мы выпили, Нонна Самвеловна покачала головой.
— Десятый будет без меня,—сказала она.—Я же учительни-
ца начальных классов.
— А я, например,— сказала Маша,— помню, как зовут мою
первую учительницу,
148
— Странно,— улыбнулась я.— Неужели и нас кто-то будет
помнить?
Потом была парикмахерская и время для раздумий.
Наверное, я все время улыбалась чему-то своему, так что па-
рикмахерша наклонилась ко мне и неожиданно спросила:
— Замужем?
— Не-а! — засмеялась я.
— В новом году выйдешь! Предсказываю!
Я усмехнулась, но на всякий случай вгляделась в зеркало.
Неужели похоже?
Я вспомнила панику в интернате, звонок из инспекции, скри-
пучий голос и неожиданный поворот темы: «Целую тебя!»
Сумерки за окном сменил густой мрак. Когда я вышла из па-
рикмахерской, на остановках клубились толпы, а переполненные
автобусы, надрываясь, с трудом набирали скорость. Поразмыслив,
я двинулась пешком.
Вначале шагалось легко, а вспоминала предсказание парик-
махерши и глупо улыбалась. Замуж? Готова ли я к таким пе-
ременам? Правда, дома мне объясняли, что чем раньше, тем
лучше.
Поживем — увидим. Пока никаких намеков нет, и Виктор мол-
чит. Может, сегодня? Как в рассказе у Чехова... Мы поедем с ка-
кой-нибудь ледяной горки после вечера, под утро, и он шепнет
мне: «Я люблю тебя». Только уж я не стану сомневаться, как та
дурочка, то ли ветер ей принес эту фразу, то ли послышалось...
Да, конечно!
Мороз подстегивал меня, я то шла, то, припрыгивая, бежала
и смеялась сама себе: ну какая же я бестолковая! Конечно! Вик-
тор скажет. Именно сегодня. Ведь этот вечер почти семейный, как
он объяснил.
Я катилась по ледяным дорожкам на тротуарах, раза два
шмякнулась как следует, но даже не почувствовала боли.
Мне было смешно и радостно. Бежать, катиться. Мне было
смешно и радостно от дурацких мыслей.
Может, я бегу одна в последний раз?
Нет, я, конечно, могу бегать и кататься в одиночестве, разве
он запретит? Но я буду бежать тогда, зная, что не одна. Что
где-то есть он. Ждет меня. Или даже не ждет — в командировке.
Впрочем, и там тоже ждет.
Он ждет меня, а я его, и я могу бегать, и кататься, и знать,
что я не одна, если даже одна!
О! Я совсем и забыла!
Лепестинья и Зина Пермякова глядят на меня восторженно.
Стол полон яств — холодец, заливное, пироги с капустой, с гри-
бами, с луком — ой, чего тут только нет! — ив двух рюмочках
дрожит алая наливка домашней, с осени, изготовки.
— Заждали-и-ися! — стонет Лепестинья, а я бессмысленно
трачу слова, что опаздываю, что не могу...
Стены моего закутка колышутся от примеряемых платьев, я
149
выбираю макси вишневого цвета с крупными желтыми цветами
по подолу. Выхожу к столу.
Зина ахает совершенно, как Лепестинья, по-старушечьи, и я
еще успеваю подумать, что маленькие дети великолепно приспо-
сабливаются не только к характеру любимого человека, но даже
к его возрасту.
— Надешда, —фамильярничает, балуясь, Зина, — шадитешь
шкорее жа штол! Проголодалишь, крашавиша?
— От красавицы слышу!—отвечаю Зине.
Лепестинья и Зинаида заливаются смехом—один сдержан-
ный, старческий, с хрипотцой, другой звонкий, стеклянно-чистый —•
уж не спутаешь по голосам старого да малого! Но Зина и впрямь
красавица. Она ведь теперь владелица целого набора прицеп-
ных бантов. В интернате хранит их в коробке из-под обуви, а
здесь банты разложены на высокой спинке старинного дивана —•
точно клумба с цветами. Один светло-зеленый с белыми точеч-
ками, другой темно-зеленый, белый с голубыми горошинами, пур-
пурный, спокойно-коричневый, голубой, белый с красными поло-
сками. Зина оказалась кокеткой, каждый час велит Лепестинье
сменить ей бант, а Лепестиньин замысел мне известен — купить
девочке платьев побольше, но с деньгами пока туго, и вот наде-
лала бантов, они с любым платьишком годятся.
Сейчас Зина с нежно-розовым бантиком, на самую макушку
Лепестинья ухитрилась приспособить фонтанчик из серебряного
серпантина, так что в розовом блестят струйки светящихся огней,
и девочка посматривает на себя в зеркало.
— Ну! — говорит Лепестинья, наливая Зине морсу в рюмоч-
ку. •—Давайте выпьем за нашу Надежду!
— Надежда-то может, и ваша,— сержусь я,— но Зине из рюм-
ки пить не надо.
Лепестинья меняет посуду, они тянутся ко мне чокнуться, но
тут уж я упираюсь как могу. Еще этого не хватало! Прийти к Вик-
тору под хмельком? Я из-за этого даже в школе шампанское
едва пригубила.
— Ну! С Новым годом вас! — воскликнула я, чмокнула Ле-
пестинью, посмотрела в глаза Зине.— А тебе желаю — что ж,
совсем неплохое пожелание!—походить на тетю Липу!
Зина серьезно разглядывала меня и кивала на каждое мое
слово. О боже! Как можно думать, что они маленькие и ничего
не понимают?
— Я ее дочка,— сказала Зина, кивнув на Липу.— Она меня
долго не находила. А теперь нашла.
И в это время раздался стук.
«Может, Виктор? — подумала я.— Догадался бы раздобыть
такси!»
Но в комнату ворвалась Евдокия Петровна, зубной врач.
Она вбежала в комнату, схватилась за мое плечо. Будто выстре-
лила в меня:
— Анечка исчезла!
150
22
Я проклинала свое вишневое макси с желтыми цветами. Оно
путалось в ногах, мешало идти, а мы бежали.
Я наклонилась и задрала подол. Видок, наверное, ничего
себе!
Сначала мы двшались в сторону центра, время от времени
останавливаясь и голосуя мчавшимся машинам. Черта с два!
Никто даже не притормаживал. Я попробовала забраться в трол-
лейбус, какие-то подвыпившие парни, пошучивая, втиснули меня
на подножку—дверь у троллейбуса не закрывалась, но Евдокию
Петровну никто не подсадил, она не привлекла внимания парней,
и мне пришлось спрыгнуть на ходу.
Я упала, больно ушибла колено, задрала подол и увидела
лопнувший капрон и ссадину. Весело начинался новогодний вечер!
Время исчезало, безжалостно таяло, как ледышка, принесен-
ная в тепло. Стыдно признаться, но я думала о времени, прежде
всего о нем. И потом об Ане.
Это была нелепость, какое-то недоразумение. Заблудилась, го-
род-то незнакомый, и сейчас в детской комнате милиции играет
куклами. Первым делом, конечно, надо туда. И позвонить, по-
звонить!
Я подбежала к первому автомату, набрала две цифры. Аппа-
рат молчал. До следующего пришлось бежать целый квартал, в
который раз выслушивая подробности от Евдокии Петровны.
Анечка исчезла в сумерках. Попросилась на улицу. Ребята
лепили там снежную бабу. Захватила морковку для носа бабе,
ушла и пропала.
Евдокия Петровна обежала соседских детей. Все видели Анеч-
ку, она принесла морковку, и это запомнилось. Но потом исчезла.
— Я думала, она ушла в интернат,— пояснила Евдокия Пет-
ровна,— а там никого не оказалось, и дежурная дала ваш адрес.
Объяснение казалось мне глупым, просто-таки идиотским, по-
звони тотчас в милицию, и тебе немедля вернут ребенка. Детей
у нас, слава богу, не воруют. Любой взрослый, увидев девочку,
которая заблудилась, передаст ее милиции.
Евдокия Петровна как-то быстро переменилась в моем пред-
ставлении. Прежде казалась мягкой и приветливой, а теперь все
это обернулось безволием и глупостью.
«Как можно отдавать детей таким людям»,— мелькнуло во мне.
Точно это не я отдавала.
Я даже замедлила шаг. Взяла под руку Евдокию Петровну.
Стало совестно. Боюсь опоздать на вечер и спешу ради этого вы-
нести преждевременный приговор хорошему человеку!
Впервые за этот вечер я вгляделась в Евдокию Петровну. Ли-
цо заплакано, постарело. Одинокий добрый человек. Анечке, ко-
нечно же, нет никаких причин сбегать от нее, это отпадает. Ка-
кая-то случайность, вот и все.
Пробуя успокоить женщину, я сказала ей, как Анечка, побы-
151
вав в поликлинике, целый день показывала свой рот ребятам, и
это было очень забавно. Не постеснялась и директора, вот дет-
ская непосредственность!
Врачиха слабо улыбнулась, но тут же принялась плакать.
— Больше не дадите мне Анечку?
— Сначала давайте найдем! — как можно мягче ответила я.
Автомат, который мы разыскали, отозвался удивительно до-
вольным голосом. Будто человек только что сытно пообедал:
— Дежурный по городу майор Галушка слушает!
Милиционер с вкусной фамилией записал все нужные дан-
ные— Анечки, мои, Евдокии Петровны, пояснил, что детская ком-
ната пуста, и обещал объявить немедленный розыск.
— Позвоните через час! — предложил он.
— Звоню с автомата,— ответила я,—И мы очень волнуемся.
— Ну что же делать? — ответил Галушка.— Тогда приезжай-
те сюда.
Он оказался кряжистым, полнотелым, похожим на опиленный
дубок, приветливым человеком. Сразу узнал Евдокию Петровну.
— Не помните? Как мне зуб драли? И плохо стало! Еще на-
шатырем отхаживали.
Такому крепышу, и плохо? Но Евдокии Петровне не до воспо-
минаний.
— Теперь вот мне нехорошо.
— Да ничего страшного не должно быть!—успокоил майор.
Снова принялся выспрашивать подробности. Пояснил:—Уже
ищут. Дана команда по рации всем патрульным машинам.
Найдут!
Надо бы сообщить директору, подумала я, припоминая школь-
ный телефон. Позвонить дежурному, узнать номер директора и...
преподнести подарок к Новому году. Ничего себе сюрпризик!
Я представила Аполлошу — его лопоухое, добродушное лицо,
и меня точно озарило: вот он стоит за моей спиной и говорит рас-
фуфыренной матери Анечки Невзоровой про милицию.
— Послушайте,— волнуясь, сказала я Галушке,— у нее ведь
есть мать, она лишена родительских прав и приходила однажды
к школе. Любовь Петровна Невзорова.
— Попробуем,— кивнул майор.
Щелкнул селектор, раздались голоса, майор назвал имя Ани-
ной матери. Повисла тишина.
Галушка включил радио. Оттуда слышались приглушенные,
какие-то неясные зв\ки. Господи! Это же Красная площадь! Сей-
час начнут бить куранты! Новый год, а мы...
— Поздравляю, дорогие женщины!—сказал, улыбаясь, май-
ор, но я слышала его слова точно через стену.
Новый год я встречаю в милиции. Это, собственно, ничего.
Только ведь у меня не простой Новый год.
Я припомнила, как бежала из парикмахерской, катилась по
льду, думала, что нынче Виктор скажет мне что-то и моя жизнь
изменится. Совсем! Может, и скажет, верней, сказал бы, но ведь
152
меня же нет! Стало жарко. Выходит, я пропустила свой день?
Пропустила собственное счастье?
Я спрятала лицо в руки, и слезы — точно плотину прорва-
ло! — покатились из меня.
— Надеждочка! Георгиевна! — Евдокия Петровна поняла сле-
зы по-своему.— Ну не плачьте, голубушка, она найдется, как же
так, непременно найдется!
— Товарищ майор,— послышалось по селектору.— Таких в
городе трое. Совпадают фамилия, имя и отчество. Одной сорок
восемь лет.— Галушка выразительно посмотрел на меня. Я по-
мотала головой.— Второй — тридцать. Третьей — четырнадцать.
—• Скорей всего вторая,— проговорил Галушка.— Давай-ка
адрес.
Перед тем как уйти, я попросила позволения позвонить. Набра-
ла номер Виктора. Телефон молчал, но в тишине, среди длинных
гудков, где-то играла музыка. Это барахлила связь, а мне показа-
лось, будто Виктор веселится под эту музыку и забыл обо мне.
Мы сели в милицейскую «Волгу», майор, сославшись на не-
обычность случая, поехал с нами.
В самом центре города, окруженная силикатными домами,
стояла двухэтажная деревянная развалюха. Внизу свет потушен,
зато наверху — аж стекла звенят! — гремит сумасшедшая элек-
тронная музыка — такого агрегата вполне хватило бы на
пол-улицы.
Из-за грохота стук наш не слышали, Галушке пришлось толк-
нуть дверь рукой. В крохотной комнатке, половину которой зани-
мал полированный шкаф, топтались две парочки. Увидев мили-
цию, они разомкнулись, и в одной женщине я узнала ЛРП, Не-
взорову.
Она что-то говорила, но музыка рвала барабанные перепонки,
и никто ничего не слышал. Галушка шагнул к системе — зару-
бежная стереофоническая! — нажал кнопку. От резкого перепада
в ушах звенело, и голос Невзоровой доносился как бы издалека.
— Нет такой статьи,— кричала она,— чтобы матери не дава-
ли на праздники собственного ребенка, а спроваживали чужим!
Мужчины испуганно сдвинулись в тень. Да и какие они муж-
чины, мальчишки, намного моложе Невзоровой. Галушка прове-
ряет их документы, руки парней подрагивают — от испуга и не-
ожиданности.
Невзорова напарфюмерена так же, как и у школы, волосы
в нарядной укладке, модное платье-миди. Будь она трезвой, в
голову не придет подумать о ней плохо.
Я оглядываю комнату, но Анечки не вижу.
— Где ребенок?—строго спрашивает Галушка.
— Чем у нее прав больше? — снова кричит ЛРП, указывая
на Евдокию Петровну, и поворачивается к майору.— Где такой
закон, милиция?
Галушка спокойно обходит Невзорову и делает мне знак, что-
бы я приблизилась к нему. За полированным шкафом, в полумра-
153
ке лежит Анечка с закрытыми глазами. Я удивляюсь, как она
спала в таком грохоте. Шепчу ей в ухо, чтобы проснулась.
Но Анечка не просыпается. Она икает, и я слышу запах вина.
Что же такое?
Громко говорю об этом Галушке.
— Ну а за это, знаете, что бывает? — спрашивает он Невзо-
рову и добавляет презрительно: — Тоже мне мать!
Она явно пугается. Голос ее, до сих пор наглый, дрожит.
— Шампанского! Стаканчик! Клянусь!—-повторяет Анечкина
родительница, и я вдруг отчетливо сознаю разницу между этими
словами —«мать» и «родительница». Мы выносим Анечку.
Внизу Евдокия Петровна указывает дом, стоящий рядом. Вот
оно что! По соседству с деревянной развалюхой!
Куда ехать? В интернат? Там пустынно и тоскливо, никого
нет. Домой, к Лепестинье? Наверное, сладко спят. Я соглаша-
юсь пойти к Евдокии Петровне, и майор провожает нас к подъ-
езду, помогает внести Анечку.
Девочка просыпается только на мгновение, когда мы подни-
маем ей руки, чтобы снять платьице, осознанно глядит на меня
и, словно участвовала во всех разговорах, внятно и спокойно го-
ворит:
— А мамку жалко.
Глаза ее тотчас закрываются.
Евдокия Петровна раскладывает ее белье и все время взды-
хает. А я думаю про Анечкины слова. Где же истина? Тут, когда
пожалела? Или там, в школе, когда стыдилась, не хотела видеть,
боялась за Евдокию Петровну?
Маленькое сердце неразумно, поэтому поступки противоречат
друг другу. Но сердце не бывает маленьким, и поэтому в нем уме-
щаются сразу жалость и страх. А может, в соединении противо-
положного заключено высшее согласие? Ах, как бесконечны твои
вопросы, крохотный человек!
Я сижу в чистой квартирке и постепенно примечаю ее уют. Рас-
шитые занавески, накидочки на подушках, дорожки на столе и
комоде.
В тиши громко тикают часы. Я отыскиваю их глазами. Стоят
на комоде. Четвертый час.
Четвертый час нового года. Неужели же целых двенадцать ме-
сяцев мне суждено прожить, как эту ночь?
Внезапно я вижу телефон. Набираю номер. Это бессмысленно:
кто же ночью, пусть и новогодней, станет ждать звонка! Но труб-
ку берут.
—• Да! — слышу знакомый голос.
— Виктор,— говорю я,— у меня украли ребенка!
Он молчит немного, словно собирается с мыслями. И, разделяя
слова, делая между ними холодные, просто ледяные паузы, спра-
шивает:
— И .. часто... будут... красть?
Мне нечего говорить. Я держу трубку обеими руками, боюсь
154
уронить — она стала очень тяжелой. Телефон стоит на подокон-
нике, и я вижу, что темный двор высвечивают тусклые лампочки
из подъездов. В ближайшем углу снежная баба. С морковным
носом.
— Алло! — испуганно кричит Виктор.— Где ты? Я сейчас
приеду!
Но я кладу тяжелую трубку.
23
Спозаранку мы поднимаем Анечку и все трое едем ко мне.
Что ж, новый год начался, пора снимать нарядное платье и жить
дальше. Дальше —это значит отвести Анечку и Зину к школе,
усадить в автобус, отправить их вместе со всеми в лагерь, а ве-
чером идти на вокзал. Предчувствие дороги окатывало то жаром,
то холодом. Еще бы — я увижу всех своих. Но зато не увижу Вик-
тора. Словно гадала на ромашке: ехать — не ехать...
Мы шли по снежной тропе к дому Лепестипьи, я отыскала
взглядом знакомые окна и даже головой потрясла, чтобы сбро-
сить наваждение. В одном окне мне улыбался Виктор, и это мож-
но еще понять. В другом, подперев рукой щеку, на меня грустно
смотрела мама! Я кинулась вперед, обгоняя по рыхлому снегу
Анечку и Евдокию Петровну, промчалась лестницей, коридором,
хлопнула нашей дверью и ткнулась маме в плечо.
Я плакала, никого не стесняясь, и мне становилось легче, сво-
бодней, проще, будто со слезами выходила из меня тревога, обида
на испорченный вечер, ссора с Виктором, непонимание родного
дома...
— Будет, будет! — говорила мама.— Какой пример подаешь
своим ученицам!
Что-что, а одергивать она умела. Я торопливо утерла слезы,
украдкой взглянула на Аню и Зину. Опп разглядывали меня с
какой-то особой сосредоточенностью. Ни радости, ни грусти —
напряженная работа мысли. Событие, происшедшее у них на гла-
зах, требовало осмысления. Слезы воспитательницы, ее мать... Тут
могли быть и ревность, и жалость, и зависть.
Я одернула себя, наклонилась к девочкам, обняла их обеих,
они ткнулись мне в шею, как несмышленые кутята, а я укоряла
себя: слезы взрослых не проходят бесстедпо для маленьких.
Я ушла в закуток переодеться. Мама переговаривалась с Вик-
тором — уже познакомилась, я все поняла,— обсуждали вполго-
лоса какой-то новый роман из «Иностранной литературы». Люди
читают романы, подумала я, а литераторша по образованию уже
не помнит, когда брала в руки книгу. Ну да ладно, у них своя
жизнь, у меня своя. Уж коли влезла в такое дело...
Отступать нельзя!
Да, именно тогда и именно там, первого января, в закутке,
пришла ко мне с полной серьезностью эта мысль. Я держала
в руках свое вишневое макси с желтыми цветами по по-
155
долу, неотразимое платье, которое так и не понадобилось
мне, и думала о том, что отступать мне теперь нельзя, просто
некуда, хотя хрупкий мой домик в новогоднюю ночь дал первую
трещину. Словно предчувствия улавливали то, чего не могло еще
видеть сознание. Л1ожет, именно поэтому подсознание требовало
главного решения теперь, а не когда-то, чтобы прийти к трудному
с готовностью не отступать? И оно возникло, еще не очень моти-
вированное фактами, но давно йотированное чувствами, которым
предстояло выдержать многое...
Я вышла из закутка успокоенная, подошла к девочкам, расце-
ловала их, поздравила с Новым годом. Все зашевелились, завол-
новались, стали собираться. От дома шли по тропке гуськом, как
когда-то Маша со своим выводком.
Автобус уже отфыркивался у подъезда, окруженный взрослы-
ми, и я снова почувствовала себя счастливой. Вон сколько роди-
телей у моих сирот! И ведь, что ни говори, это моя идея!
Лепестинья и Евдокия Петровна толкались в ближних рядах,
Виктор и мама стояли в сторонке — оборачиваясь время от вре-
мени, я ловила в маминых глазах удивление,—а я ходила по авто-
бусу, считала головы моих цыплят, сбивалась со счету, начинала
снова и опять сбивалась.
Вот мама видит меня на работе, первый раз видит меня не
девочкой несмышленой, а человеком, которому доверили детей,
и каких детей! Наверное, она смотрит на меня, и ее разбирает
страх. Еще бы, сама никогда не взялась бы за такое страшное
дело—вдруг что случится? — а дочь взялась, уехала куда-то во-
преки ее воле и вон работает хоть бы хны, работает с такими
тяжелыми детьми и не робеет. Напротив, что-то такое у нее полу-
чается. лаже газета написала.
Но никакая газета маме не заменит этой сцены. Автобус, дети
в нем, я их пересчитываю, сбиваюсь без конца, потому что к каж-
дому наклоняюсь, говорю что-то в напутствие, целую, поздрав-
ляю с Новым годом, желаю каждому свое, особенное, дорогое
ему, а известное только нам вдвоем да еще, пожалуй, тете /М_аше.
На прощание целуемся с Машей. Автобус, точно облитый ине-
ем, белый, волшебно новогодний, исчезает, я объясняю взрослым,
когда дети вернутся из лагеря.
Эти взрослые окружили меня хороводом, кивают, улыбаются.
Никанор Никанорович необычайно громко — вот не знала-таких
способностей' — говорит от имени остальных.
— Мы вас поздравляем, Надежда Георгиевна, благодарим вас,
низко вам за все кланяемся и желаем удач, счастья,— он чуточку
косит в сторону Виктора,— и любви!
Взрослые дружно смеются, а Никанор Никанорович продол-
жает:
— Да, да, любви, вы еще молодая, у вас еще будет много соб-
ственных детей, несмотря на то, что и сейчас их у вас хоть от-
бавляй!
Ко мне — целая очередь, и я долго прощаюсь, пожимая каж-
156
дому руку, желая успехов, выспрашивая подробности из жизни
наших общих детей.
Наконец площадка у подъезда пустеет, остаются мама и Вик-
тор.
Нам надо поговорить с Виктором, про многое поговорить, но
он вежливо кланяется, просит меня позвонить, когда буду сво-
бодна, и удаляется.
— Что ж,— говорит мама, глядя вслед уходящему Виктору,—
все вполне удовлетворительно. Даже хорошо.
«Отлично» мама боится поставить, слишком строга, но я ей
прощаю это, прячу свое лицо в ее пушистый меховой воротник.
Теперь можно. Теперь никто не видит, и мы одни. Наконец встре-
тились.
Не хотелось свидетелей, чужих ушей, хотя бы и доброжела-
тельных взглядов, и мы побрели по городу, еще сонному после
встречи Нового года.
Небо было серовато-белесым, сквозь эту кисею проглядывал
мутный солнечный круг, тротуары переметала поземка, и идти
приходилось с трудом, проваливаясь в мягком снегу, но я не за-
мечала этой трудности, а без умолку говорила...
Время от времени мама поглядывала на меня смеющимися,
влажными глазами, я прижималась к ней плотнее, целовала в ще-
ку, снова и снова возвращаясь к мысли, которая пришла мне в
первый миг, у Лепестиньи: как ужасно, когда человек одинок —
взрослый человек! — как ужасно, если ему некого обнять, некому
поплакать, но как потрясающе ужасно, если человек испытывает
одиночество с самых малых лет. Если он всегда одинок!
— Нет, ты понимаешь, про что я? — тормошила мамин ло-
коть.— Ты можешь вообразить, как это невозможно больно? —
Я снова прижималась к ней.— Что может вызвать одиночество
с детства? Одну боль. И одну злость. А мы должны воспитать
добрых людей!
— Ты очень впечатлительна,— повторила мама несколько
раз.— Ты чересчур впечатлительна. Ты слишком близко прини-
маешь все к сердцу.
— Слишком?—удивилась я.— Разве это слово подходит к та-
ким маленьким детям? К таким обездоленным? Их нужно любить
только слишком!
Мама поглядывала на меня с тревогой. Спрашивала:
— А хватит твоего сердца? Моего бы не хватило. Я бы не
смогла.
Хватит или не хватит? Думала ли я об этом? Нет. Молодость
легко принимает трудные решения, не очень задумываясь о бу-
дущем, и я не думала никогда, хватит ли меня, надолго ли хва-
тит и что я смогу выдержать.
— Надеюсь,— отвечала я маме и повторяла придуманное ут-
ром в закутке, когда стояла с вишневым модным платьем в ру-
ках, как та царевна-лягушка — теперь отступать некуда!
Царевна сняла лягушачью кожу, чтобы повеселиться, а я мак-
157
си-платье, в котором не успела потанцевать с Виктором, все вы-
ходило как бы наоборот, даже решение мое ни от кого не зави-
село, ни от какого волшебства, но отступать действительно не-
куда!
— Не надо красоваться, доча,— сказала мама, все так же
ласково улыбаясь,— отступать тебе есть куда. Это дом. И запом-
ни простую истину: если ты и потерпишь поражение, жизнь этим
не кончается. Жизнь свою человек способен начать снова не раз.
— Ты о себе?
— Прежде всего о тебе.
Я благодарно заглянула ей в глаза Нет, мама говорила о се-
бе, первый раз говорила так. Может, вся ее властность и жесто-
кость оттуда, по той причине? Ведь мама начала жизнь сначала
после папиной смерти, у нее свой опыт, и он властвует ею.
Папа умер, едва я родилась, а Оля и Сережка были школьни-
ками. Он обожал маму, царицу семьи, и все самое тяжелое брал
на себя. Отец умер от тяжелой, мучительно изгрызшей его болез-
ни, и мама начала жизнь заново, став единовластной хозяйкой
дома и вершительницей наших судеб.
На все это намекала мне когда-то тетка, мамина сестра, но
теперь, после маминой фразы, я как бы со стороны увидела ее
жизнь. Будто ясней наводила фокус в фотоаппарате.
Жестокость требовалась маме, чтобы сладить с собой, чтобы
из покровительствуемой стать покровительницей. Советоваться с
нами в детстве она не могла, а потом уже и привыкла не спра-
шивать, а судить...
Но я? При чем здесь я?
Впрочем, если дочь говорит, что ей некуда отступать, мама
всегда укажет выход... Надеюсь, такого не будет!
Целую неделю бродим по городу, возвращаясь домой только
спать, обедаем в кафе и даже ресторане, ходим в кино, катаемся
на тройке возле городской елки, отправляемся в театр, и на этот
раз я смотрю жутко провинциальный спектакль, который мы про-
пустили с Виктором, проболтав в фойе,— словом, ведем себя лег-
комысленно, как девчонки, нисколько не думая о завтрашнем дне.
Время от времени мама порывается меня спровадить к Вик-
тору, и сердце сладко замирает при этих разговорах. Но я не ре-
шаюсь оставить маму и только звоню в редакцию по автомату,
краем глаза наблюдая, как мама отворачивается, стараясь не
слышать моих междометий.
Однажды мы забрели в художественный музей, пристали к
экскурсии, и мама, знаток и почитательница изобразительных ис-
кусств, пришла в восторг от прекрасной коллекции. Тут были
подлинники Венецианова, Боровиковского, Федотова, подлинники,
неизвестные маме, и она стыдила меня почем зря за то, что я,
словесница — подумать только! — впервые, да и то случайно, из-за
мамы, пришла в этот музей.
Экскурсоводом оказался мужчина неопределенного возраста,
без пиджака, несмотря на зиму за окном, в голубой поношенной
рубашке с нарукавными резинками, как у счетовода, в коричне-
вом, с белыми горошинами, галстуке-бабочке.
Мама внимательно слушала его, время от времени согласно
кивала головой, а в конце поставила отметку: пять с плюсом.
Пояснила:
— Приятно слушать! Увлекательно, серьезно, чувствуется на-
стоящее знание.
Мы уже одевались, когда странный человек подошел ко мне.
— Как ваши дети? — проговорил он, опасливо поглядывая на
маму.
— Спасибо. Все хорошо,— ответила я. Добавила, взглянув на
маму:-—Нам очень понравилось, как вы рассказывали.
— А зря!-—Он словно не слышал меня,-—Зря вы испугались
отпустить со мной малыша. Как было бы хорошо вдвоем!
Он произнес это с такой тоской, что я потащила маму за руку.
— Спасибо,— бормотала я смущенно.— Очень интересно.
На улице рассказала, как этот астроном, работающий в музее,
просил ребенка.
— Может, он и прав? — спросила мама.— Важен мотив, ко-
торым руководствуются. Искренность.
— Допускаю,— ответила я.— Но мы не имеем права риско-
вать.
— Вся твоя затея — риск,— усмехнулась мама.
— Ты так думаешь? — поразилась я.
— А ты не догадывалась? — сказала мама и сочувственно
вздохнула,—Дочь, просто ты не знаешь людей. Но ничего. Это
поправимо.
24
Мне порой казалось, мама приехала, чтобы поставить меня на
место. «Ты не знаешь людей»,— сказала она мне, и это была
правда.
Я не знала.
В первую субботу после каникул не пришли за Аллой Ощеп-
ковой. Я впустую набирала номер Запорожцев — отвечали долгие
гудки.
Аллочка сидела на своей кровати, одетая в «княжеские» обно-
вы, меховая шубка и пушистая шапка лежали рядом.
— Наверное, много работы,— сказала она мне строгим голо-
сом,— может быть, конец месяца, горит план.
Я удивилась новому лексикону и, признаться, обрадовалась.
Значит, такие слова произносили при ней. Значит, это может быть
правдой. Одно смущало — до конца месяца еще далеко.
Снова сходила в учительскую, к телефону. Долгие гудки.
Мы прождали допоздна, и я то и дело бегала к телефону. Ухо-
дить тоже не имело смысла: вдруг Запорожцев что-нибудь задер-
жало, они приедут на своем «Москвиче», будут искать Аллочку,
а ее нет. Из-за этого мы даже не пошли ночевать к Лепестинье,
остались в интернате.
159
Свет я погасила в девять часов, но уснуть, понятное дело, не
могла, ворочалась, скрипела пружинами. Ворочалась и Алла.
Обычно ребята, если не могут уснуть, принимаются разговаривать,
но Алла молчала. Тяжело вздыхала. Думала о своем.
Я вспомнила мытье под душем, ту достопамятную субботу мо-
его прозрения. Алле я велела рассказать, что она любит, и та
изложила целую философию: любит кататься на трамвае, любит
клубничное варенье, любит артиста Евгения Леонова и одеколон
«Красная Москва». Тогда это показалось просто забавным, теперь
же меня осенило:
— Аллочка, ты каталась на трамвае?
— У нас ходят одни автобусы.
— А душилась одеколоном «Красная Москва»?
— Им пахла Наталь Ванна.
Есть над чем поразмыслить. Может ли человек любить то, чего
не знает, не пробовал? Еще как может! И чем меньше этот чело-
век, тем больше в его любви самоотречения и настойчивости.
Как же можно обмануть такую любовь?
Припомнила личное дело Аллы. Мать умерла, вместо имени от-
ца— прочерк. Конечно, отец — неизвестное со многими вопроса-
ми, но мать была молодая, умерла от несчастного случая на про-
изводстве, а Игорь Павлович и Агнесса Даниловна говорили о
серьезности своих намерений, и мы с Аполлошей перерыли все де-
ла, пока нашли им эту девочку. Так сказать, с перспективой. Да и
вообще! Крупные веснушки разбрызганы на носу, глаза голубые,
озорные. Чертенок в юбке! «Князь» с «княгиней» прямо в нее вце-
пились. Что же случилось-то?
Неожиданно Алла проговорила:
— Папа Игорь сказал, что после каникул я у них навсегда
останусь,— и вздохнула.— Наверное, последний раз здесь ночую.
— Папа Игорь? — осторожно переспросила я.
— У меня же нет папы,— как бестолковой, объяснила серьез-
но Алла,— а я хочу!
— Ну да,— смутилась я,— конечно.
— А вы приходите к нам в гости, Надежда Георгиевна,— ска-
зала Аллочка, и по скрипу пружин я поняла, что она села.— Вот
вы придете, а я стану угощать вас чаем с вареньем. И потом у
меня вырастут свои детки,— проговорила девочка без перехо-
да,— и я их никогда никуда от себя не отпущу. Даже в зимний
лагерь!
В ее голосе послышались укор кому-то и горечь, Алла снова
вздохнула. Нет, честное слово, у этих девчонок старушечьи вздохи.
•— Хорошо,— сказала я,— давай спать.
Некоторое время Алла молчала.
— А какой папа Игорь красивый,— проговорила она нежным
голосом.—Особенно когда в майке и трусах. Такой большой, та-
кой громадный. И Агнесса Даниловна тоже большая. И белая.
Они по утрам в майках и трусах зарядку делают, так пол ка-
чается.
160
— Аллочка,— спросила я осторожно,— почему ты Игоря Пав-
ловича зовешь папой, а его жену по имени-отчеству?
Алла ответила, секунду подумав:
— Не знаю.
Вот как! Я свернула разговор, обещав завтра утром позвонить
опять и, если дома у Запорожцев никого нег, сходить с Аллой
в кино.
Она притихла, успокоившись. А я, точно анатом, копалась в ее
сердечке. Значит, Игорь — папа, однако его жена — Агнесса Да-
ниловна. У маленьких ничего нет просто так, значит, что-то слу-
чилось? Или чувствует?
И как она сказала о ребятишках, которые будут у нее когда-
нибудь... Так и взрослый не каждый подумает, а вот она, соплю-
ха... Ох, малыши!
А ведь и верно, такая измученная душа, исстрадавшееся сердеч-
ко, став взрослой и вправду, помня себя и свое детство, будет доб-
рым человеком. Такой человек даже собственных детей станет
любить предельно осознанно — собственной памятью, своим горь-
ким прошлым. Надежное дело—такая горечь, она способна охра-
нить, способна защитить, оберечь. Сколько ни говори людям об
их обязанностях, об их долге, о добрых правилах жизни, не
услышат они этих слов, коли собственного нет—силы, чести, по-
нимания... А у этих понимание свое, выстраданное, к таким взы-
вать не надо.
Нет, правда, мои ребята необыкновенные. Разве я первокласс-
ницей о чем таком думала? Знала? Сейчас вот только узнаю, да
и то по работе, по профессии своей, а будь инженером, каким-ни-
будь чистым физиком, глядишь, и не поверила бы, что есть на зем-
ле взрослые малыши.
Утро вызолотило низким солнцем закружевелые березы, и та-
кая стояла тишь на ранних, безлюдных улицах, такая благодать,
что не верилось, будто ты в городе. Народ в воскресенье отсы-
пался, только у детского кинотеатра шумно, и даже очередь в
кассу па первый сеанс. Аллочка просила, чтобы я взяла билеты
поближе к выходу. Что ж, к выходу так к выходу — и я значения
странной просьбе не придала.
После журнала она шепнула мне на ухо: «Пи-пи»,— скользнула
в портьеру у двери. Я и тогда ничего не поняла. Решила, что,
пожалуй, Аллочке надо помочь, как она тут, в общественном ме-
сте, управится. Вышла за ней в фойе и едва ухватила взглядом:
приметная рыжая шапка Аллы уже мелькала па улице.
Еще что за новости! Я прибавила шагу, потом побежала.
Алла не оборачивалась. Неслась уверенно, и было понятно,
что она знает этот кинотеатр, улицу, весь район.
Нет, определенно у Аллы была цель, продуманная заранее.
И кинотеатр именно этот выбран не зря. Алла бежала вдоль до-
ма, через двор, к соседнему зданию, и вначале я хотела оклик-
нуть ее. Потом, поняв, что она не убежит, что все-таки я бегаю
быстрее девочки, сдержалась.
161
Вот она исчезла в подъезде.
Я заскочила за ней и услышала смеющийся, радостный голос:
— А вы, оказывается, здесь! Телефон сломался?
Все предельно понятно. Аллочкин замысел был прост и точен.
Я поднялась на второй эгаж и застала немую сцену, «князь»
Игорь и «княгиня» в спортивных шерстяных костюмах стоят друг
за другом в открытых дверях и очень смущенно молчат, а спиной
ко мне стоит Аллочка и смеется. Рада, что все в порядке и ее род-
ня дома.
Потом она оборачивается, ни капельки не смущена, будто мы
шли вместе с ней и опа только на лестнице обогнала меня.
Я здороваюсь, и Игорь Павлович с женой, как по сигналу, на-
чинают разговаривать, перебивая друг друга:
— Да! У нас сломался телефон! Заходите! Раздевайтесь!
— Аллочка! Какая ты умница! Хорошо, что привела учитель-
ницу.
Приходится пройти, раздеться. Потолки действительно высо-
кие, а дом — полная чаша: горка набита хрусталем, красивая ме-
бель, мягкие ковры.
И в это время звонит телефон.
Игорь Павлович словно спотыкается, этот звонок производит
на него действие резкого окрика, и я снова с грустью все пони-
маю, несмотря на соломинку — да что там, целое бревно! — кото-
рую кидает «княгиня» своему мужу:
— О! Наконец-то исправили!
Игорь Павлович берет трубку, говорит по телефону, а я всмат-
риваюсь в зеленоватые глаза белокожей красавицы. Что-то жест-
кое мелькает в этих изумрудиках, но Агнесса Даниловна продол-
жает бодро щебетать ничего не значащие словечки, а Аллочку
усаживает на диван, приносит ей куклу.
Алла цветет, и вновь какое-то едва уловимое высокомерное вы-
ражение появляется на ее лице.
— Надежда Георгиевна, а у нас цветной телевизор! Агнесса
Даниловна, можно включить?
— Конечно, деточка моя дорогая,— отвечает «княгиня» как-то
растерянно.
Из коридора меня манит Игорь Павлович.
— Al-можно,— мнется он,— с вами поговорить? — Если бы я
была врачом, он прибавил бы слово «доктор», но учителе:! зо-
вут по имени-отчеству испокон веков, а Игорь Павлович не хочет
назвать мое имя, и в конце фразы повисает пустота — Погово-
рить?— повторяет он неловко, и я пожимаю плечами: отчего нет?
Мы проходим в спальню, отделанную под старину. Шторы с
золотыми цветами, взблескивает лак многостворчатого гардероба,
мерцает зеркало в бронзовом овале.
Игорь Павлович предлагает мне кресло, а сам стоит. Вновь ни-
как не называет меня.
— Видите ли, какое дело.— Он дергает коленом, точно хочет
подпрыгнуть, и я оглядываю его снизу вверх. Аллочка права, он
1П2
очень большой и, видимо, очень сильный. Такими всегда видятся
отцы любящим детям. Большой, сильный, а тут еще и красивый.
Настоящий отец.
— Л1ы взрослые люди,— решается наконец настоящий отец,—
вы учитель, и это значит почти врач. А перед врачами у больных
нет т.'вш.
— Вы больны? — спрашиваю я с тревогой.
— Абсолютно здоров. И жена тоже,— отвечает он на мой
взгляд — Это в переносном смысле.
Итак, думаю я, большой человек, руководитель конструктор-
ского бюро, привыкший командовать другими, начинает блеять,
точно барашек. Пора ему помочь.
— Итак? — спрашиваю я довольно резко.
— У нас нет детей, понимаете? — говорит проникновенным го-
лосом Игорь Павлович.— И мы хотели удочерить Аллочку. Но те-
перь . Подумали, посмотрели и решили отказаться.
— Никто не просил удочерять Аллу,— говорю я Игорю Павло-
вичу,— и вы зря ей сказали об этом.
— В этом наша ошибка, спасибо, что поняли! — Он уже обод-
рился.
— Ошибки следует исправлять,— говорю я, стараясь быть спо-
койней
— Алла привязалась к нам,— задумчиво произносит умный че-
ловек, похожий на князя Игоря.— А исправление невозможно. На-
до сразу. Одним рывком.
Он нервно прохаживается передо мной.
— Конечно,— признается неожиданно,— это непростительный
порыв. Думали, сможем. А не смогли. Не рассчитали свои силы.
Если хотите, привычка к покою оказалась сильнее интереса,— с
трудом добавил,— к чужому ребенку. А теперь судите, вы будете
правы.
Он молчит, стоя ко мне спиной у окна. Я тоже молчу. Искрен-
ность всегда обезоруживает.
— Не зря есть поговорка,— негромко произносит Игорь Пав-
лович — Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Я даже вздрагиваю Как?
Благими намерениями вымощена дорога в ад? Да! Да! Меня
начинает знобить.
— А теперь,— говорю я,— помогите мне.
Я стремительно выхожу в гостиную. Можно бы и спокойнее,
но сил нет.
— Алла!—говорю я — Игорь Павлович и Агнесса,— надо же
какое слащавое имя! —Даниловна сейчас уезжают за город к сво-
им друзьям.
— Я поеду с ними! — беззаботно отвечает Аллочка.
— Нет,— говорю я холодно-непреклонным голосом,— это не-
возможно, потому что там собирается исключительно взрослая
компания, верно, Агнесса Даниловна? — Я гляжу в зеленоватые
глаза, и они, точно камушки, начинают перекатываться.
163
— Верно,— послушно отвечает Агнесса Даниловна. Еще бы не-
послушно! В моем голосе столько подтекста, что лучше для нее во
всем мне поддакивать. Потерпеть. Еще минуточку, и я исчезну.
—- Аллочка! Поторопись! — командую я, но Аллочка начинает
плакать. Час назад я бросилась бы ее целовать, как я всегда де-
лала, когда было плохо моим птенцам. Но сейчас у меня не вы-
ходило. Не получалось. Аллочка была не права, хотя не сознава-
ла этого. Она цеплялась за то, что ей не нужно. И я не могла жа-
леть ее.
— Аллочка! — одернула я строго.— Аллочка!
Всхлипывая, но веря, что это ненадолго, Алла надела шубку,
рыжую пушистую шапку, уютную и теплую, и я даже прикрыла
глаза: так противны были мне и эта шапка, и эта шубка, и все
эти тряпки, которыми двое взрослых — так уж получалось! — от-
купались от Аллочки. Будьте вы прокляты с вашим благополу-
чием, с вашими пятью сотнями на двоих, с вашим чистосердечным
раскаянием!
Я хлопнула дверью, пожалуй, громче допустимого и суше, чем
стоило, попрощалась в последний раз. Я даже Аллочку не ощу-
щала, не слышала ее руки в моей ладони. Я ничего не ощущала,
даже себя.
Я двигалась по онемевшему, обезголосевшему городу домой, к
спасительнице Лепестиньс, чтобы свести Аллу с Зиной, а самой
выскочить в коридор, продуваемый сквозняком, к школе, замо-
роженной инеем, и дальше, к дому, где квартира Аполлоши, к по-
рогу, где я, обессилев от тяжкой ноши, завыла, точно волчица.
'л
25
— Победоносная! Что случилось-то? Господи! Выпейте воды!
Аполлон Аполлинарьевич держит перед моим лицом стакан,
а я отталкиваю его руку, вода проливается, и я снова плачу, про-
сто заливаюсь. Дурацкая кличка «Победоносная» звучит издева-
тельски, неужели он не понимает?
Мне кажется, жизнь кончена, пять институтских лет пошли на-
смарку, но это еще не все, я вообще зашла не в тот вагон, и по-
езд мчит меня совершенно в другую сторону, а я только теперь
спохватываюсь, что поехала не туда. Боже, сколько писапо-перепи-
сано, девчонки идут в педагогический только потому, что не зна-
ют, чему учиться, нет никаких серьезных пристрастий, и вот им
кажется, будто школа, педагогика — благое дело, и кто же школу
не знает, коли ты только из нее!
Да, я зашла не в тот вагон, и поезд песет меня в другую
сторону, да, я сломала собственную жизнь, потому что, наверно,
легкомысленно выбрала профессию, никакая я не учительница, не
воспитательница, не педагог — это все враки, ерунда, я просто-
напросто ноль без палочки, вот и все! Прекрасно доказала это!
Я хватаю стакан из рук Аполлоши, пью крупными глотками и
164
чуть не захлебываюсь от неожиданности. Передо мной возникает
завуч Елена Евгеньевна в домашнем халате. Я смущена, не знаю,
что подумать, мне кажется, я вляпалась в какую-то ненужную
мне историю, но женщина быстро понимает женщину, и Елена Ев-
геньевна объясняет, как неразумной:
— Мы не афишируем нашу семейственность. Правда, и не
скрываем.
— Вы муж и жена? — поражаюсь я.
— Не знали?
Не знала! Не замечала. Не обращала внимания, есть ли какие-
то отношения у директора и завуча, кроме служебных. Я вообще
многого не замечала! Вон и «князь» с «княгиней» мне нравились,
даже в голову не пришло, что такие люди могут предать малень-
кого человека со сломанной, печальной, грустной судьбой—пре-
дать в тот самый миг, когда Аллочка полюбила их, уверовала в
обещание.
— Когда жили в районе,— говорит Аполлоша,— об этом все
знали, а здесь никому не интересно.
И я среди этих «никому». Что ж, заслужила. Я вспомнила, как
завуч говорила мне про сына и про то, что они с мужем, оба пе-
дагоги, перестали себе верить. Стоило поинтересоваться ее му-
жем, кто он, где и так далее, и я бы была в курсе, но мое верхо-
глядство беспредельно. Запив эту пилюлю остатками воды, я на-
конец снимаю пальто. Квартирка Аполлоши и завуча новая, но
крохотная, с низкими потолками, хозяева сидят вместе со мной за
круглым столом, покрытым клеенкой, а я подробно описываю по-
бег Аллочки из кинотеатра, фальшивые зеленые глаза Агнессы
Даниловны, повторяю фразу «князя» Игоря про благие намерения,
— Вы были правы, когда возражали,— говорю я Елене Ев-
геньевне.
Она пожимает плечами.
— Не сделать проще, чем сделать.
— Правы, не правы! — неожиданно горячится Аполлон Апол-
линарьевич.— Вы понимаете, Надежда Георгиевна, есть вещи, ко-
торые не зависят от нас. Есть вещи, которые надо делать неза-
висимо от нашей правоты и наших желаний. Не сделать их — пре-
ступно. И ты, Лена, это знаешь!
— Знаю,— ответила удивленно Елена Евгеньевна.
— Вот и не спорь!
— Кто же будет с тобой спорить, если не я?
Я поглядывала на директора и завуча, не вполне разбираясь,
где они говорят, дома или на педсовете.
— Школой жизнь не кончается,—воскликнул Аполлоша,— а
только начинается. Значит, мы должны найти детям друзей, к ко-
торым они могут прийти, окончив школу. Человек сам выбирает
советчиков. Но если мы поможем малышам пробить первую троп-
ку к людям, это надо сделать.
— А издержки? — спросила Елена Евгеньевна.
-— Ты химик, это мешает,— сказал уверенно Аполлон Аполли-
165
нарьевич.— Тебе непременно нужна точность. Но педагогика — дис-
циплина неточная. У нее есть допуски. Право на ошибку.
— Прав нет,— повела широкими плечами Елена Евгеньевна.—
Исключать ошибку нельзя. Но нельзя ее и планировать.
Аполлоша и завуч говорили дельные, важные вещи, а я без
конца думала о девочке. Ей, в конце концов, не понять наших
обоснований. Она ждет другого. Как ей объяснить? Как посмот-
реть в глаза? Что с ней станет, если сказать правду?
Директор будто услышал меня.
— Видите, сколько вопросов, Надежда Георгиевна,— что, как,
отчего? Поглядишь со стороны, собрались три педагога и ничего-
шеньки не знают. Расписываются в бессилии.
— Разве не так?
— Не так. Не в бессилии. Бесконечные вопросы. Бес-ко-неч-
ны-е! Правда, это не всегда утешает. На людях мы хорохоримся.
Вон педсоветы! Часто ли мы там признаемся, что с таким-то и
таким-то учеником зашли в тупик? Чаще виним кого-нибудь. Ро-
дителей, среду, предыдущее воспитание, и не всегда мы не правы,
ну а положа руку на сердце, всегда ли правы? Знаете, что самое
страшное в учительстве? Фанаберия, самоуверенность, нежелание
признавать ошибки. Есть у нас и профессиональная болезнь.
В школе ведь выкладываться надо. А на всех не хватает. Иной
сначала старается, потом видиг, тяжело, и махнет рукой. Можно,
считает, жить попроще, работать без надрыва. А детям что не-
додал, то и не получил. Но ведь мы имеем дело с будущим го-
сударства, недополучать будут не школа, не учитель, а страна и
наш воспитанник.
— Многих учителей люди помнят всю жизнь! — воскликнула
Елена Евгеньевна.— А скольких не помнят? Кого больше, вот бы
выяснить!
Аполлоша вздохнул.
— Все зависит от личности,— проговорил он и взял мою ру-
ку,—- А вы, голубушка, личность. И все идет своим чередом. Из-
держки? Я их предполагал. Сказать — ничего страшного? Глупо
и ошибочно. Страшно, птохо, печально. Но преодолимо. И преодо-
леете все это вы. А значит, наша профессия. Выходит, она не так
уж бессильна. Только помните: уметь признавать ошибки, выкла-
дываться и любить.
Елена Евгеньевна взяла другую мою руку.
— Доброта должна быть разумной,— проговорила она.— Из-
лишнее добро вредит. Избыток любви человек начинает считать
нормой, естественным состоянием. Тогда как излишняя доброта
и чрезмерная жесткость — аномальны. Мы много лет спорим на
эту тему с Аполлоном Аполлинарьевичем!
Я сидела между директором и завучем, они, как маленькую,
держали меня за обе руки, боялись, как бы не упала, что ли, а я
думала все о своем: как же с Аллочкой?
— Что ты думаешь, Лена? — спросил жену Аполлоша.
— Думаю, сейчас,— сказала Елена Евгеньевна,— мир для нее
166
рухнет, но временно. И вы в этом мире должны остаться неру-
шимой опорой. Вот единственное, что можно сделать. Все — в
вас.— Она погладила меня по руке и улыбнулась.— А вообще... Вы
ждете советов, а нам их самим ох как не хватает!
Я рассказала про Аллочку, но промолчала про Анечку.
Аллочка и Анечка. Анечка и Аллочка.
Похожие имена, но непохожие судьбы. И похожий исход.
26
Я прибежала к директору в слезах, уходила без слез, но
только легче не стало. На прощание директор бросился к книж-
ному шкафу, вытащил томик Гоголя, достал из него листочек.
— Для вас вот цитатку выписал, Надежда Победоносная,—
прибавил нерешительно.
— Бедоносная! — поправила я.
— Ну! — воскликнул он довольно радостно,—Так быстро сда-
ваться? Прочтите-ка лучше!
Я прочла, взяла листочек с собой, раз уж он мне предназначал-
ся, и чуть что, хваталась за него, будто за талисман, будто за
универсальное объяснение моих бед, объяснение моих мыслей,
оправдание моих поступков.
Вот что сказал когда-то Николай Васильевич:
«Несчастье умягчает человека; природа его становится тогда
более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих
понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном по-
ложении».
Уж что-что, а обыкновенное положение мне было теперь не-
известно.
В субботу опять пропала Анечка Невзорова. Слава богу, я на-
шла ее довольно быстро, под ее же кроватью.
Она выбралась оттуда без всякого смущения, деловито сняла
кофточку, отдала ее мне,
— Что это значит?
— Отдай, пожалуйста. Я не пойду.
Анечка уселась на кровать, легкомысленно болтая ногами, на-
певая под нос какой-то мотивчик и загадочно улыбаясь.
— Объясни! — Я села рядом с ней. Слишком спокойно вела
себя девочка, и это не радовало.
— Надюша! — воскликнула театрально Анечка, схватила меня
за шею, чмокнула в щеку.— Какая же ты молодчина. Не кри-
чишь! Я тебе объясню. Вот слушан.
Она перебралась на соседнюю кровать, чтобы видеть мое ли-
цо, а я была в отчаянии Что же это? Я-—взрослый человек, вос-
питатель. А эта кроха разговаривает со мной, точно с маленькой.
Внизу мечется несчастная Евдокия Петровна, а ученица объясняет
мне, воспитательнице, какие-то свои замыслы, не я ею, а она ру-
ководит мной.
Я вздохнула, как училась когда-то, набрала в грудь побольше
воздуха, медленно выдохнула. Помогло. И Анечка тут сказала:
167
— Я свою мамку не брошу. Вот выучусь, вырасту и возьму се
к себе. Она тогда состарится, поумнеет, и я ее удочерю.
Меня пробрал озноб от этих слов. Прикрыла глаза. «Удочерю!
Л1ать.’» /Маленькая, глупенькая, наивная девочка! Есть непопра-
вимые вещи. К сожалению. К печали и горю. Твоим прежде всего.
Наверное, это непедагогично, но я попыталась спасти девочку.
— Анечка,— говорю я,— ведь твоя мама...
У меня еще нет слова, не успела выбрать, но и этого доста-
точно. Анечка мгновенно слетает с кровати, и я едва успеваю
откинуться; ее острый кулачок летит мне в лицо. Я хватаю ее
за руку.
— Что ты?
— Не трогай мамку! Поняла! Училка!
Не может быть! Таких перемен не бывает. Мгновенных. Же-
стоких. Яростных.
В ее глазах пылает ненависть. Ненависть ко мне.
Всю свою жизнь я буду помнить эти ненавидящие глаза. Отча-
янный, ненавидящий взгляд ребенка, забывшего обо всем, кроме
матери. Ничего знать не желающего, кроме матери. И какой ма-
тери!
Я схватила Аню за руку, не говоря ни слова усадила па место.
Она покорилась. И тут же заплакала. Снова вскочила с кровати
и бросилась ко мне, схватила за шею.
— Надюшечка,— бормотала она.— Голубушка! Она хорошая!
Ты не знаешь! Она добрая! Она просто дура!
Я закусила губу, чтобы не заплакать, гладила, гладила, гла-
дила Анечку по спине.
Постепенно она приходила в себя. Размазала по щекам слезы,
улыбнулась, какая-то облегченная, посвежевшая. Протянула мне
кофточку, проговорила с грустноватой улыбкой:
— А это верни. Тетенька хорошая. Только зря станет расстра-
иваться.
Осторожно, на цыпочках я вышла из спальни. Ступала по
лестнице, а в ушах отдавались Анины слова. Будто на самом деле
мы поменялись местами, и я первоклассница, а воспитательница
Невзорова учит меня разуму.
Потом вечер в интернате, все та же спальня, и Анечка, не
стесняясь Аллы Ощепковой, кроит передо мной будущую жизнь:
— Вот увидишь, я буду отличницей... Может, стану, как ты,
учительницей.
Придумывает все новое:
— Нянечкой сюда возьму. Пусть попробует у меня тут напить-
ся!.. Она ведь добрая, ты не поняла... А какая модница, заме-
тила?..
Анечка переполнена матерью, а я Анечкой.
Что же это было с ней? Разумность, потом вспышка агрессив-
ности и слезы. Классическая формула истерики. А я? Кто же для
нее я, если она способна кинуться на меня с кулаками?
Кто бы ни была, но мать для нее дороже. Любая мать, даже
168
такая, как Любовь Петровна — лишенная родительских прав.
И я не должна противиться. Не имею права становиться между
ними, вот ведь как, хотя обязана, обязана по своему служебному
положению.
Но что я могу? Анечкины мысли минуют все запреты. Мать
отказалась от дочери, но ведь дочь не отказалась от матери. Го-
това за нее бороться. Разве можно этому противиться? Разве
должно?
Приближался вечер, час отбоя. Меня позвали к телефону.
Виктор предлагал пойти в кино, уже взял билеты. Я отка-
залась.
— Хорошо,— сказал он,— я сдам билеты и подъеду к тебе.
Девочки спать не хотели, спорили со мной. Аня перевозбужде-
на и дергается, крутится, прыгает. Аллочка, напротив, затормо-
жена, шевелится медленно, неохотно. Но уснуть не может. Свои
мысли гложут ее.
Какие разные эти мысли и какие одинаковые! Две малышки,
а намешано в них на десятерых благополучных взрослых.
Я едва уторкала их. Пришлось даже спеть колыбельные пе-
сенки.
Я нервничаю, Виктор уже наверняка ждет меня в учительской,
как договорились, а девочки все не угомонятся. Наконец заснули.
Первой, как ни странно, Аня. Нервничала, а спит ровно и глубоко.
Алла была спокойной, заторможенной, а лежит нервно, веки дер-
гаются, точно вот-вот откроет глаза.
Никакой логики. Никакой последовательности.
Спускаясь вниз, я вспоминаю Евдокию Петровну, наш корот-
кий, но откровенный разговор. Она убита, во всем винит себя, каз-
нит, что в новогоднюю ночь не уследила за Анечкой. Просит по-
звонить, если Аня захочет к ней. От кофточки, конечно, отказы-
вается.
Я вижу, как, выбравшись на крыльцо, женщина достает из
пальто платочек, прикладывает к глазам.
Что ж, много слез пристает к моим детям, и ничего, видно, не
поделаешь тут. Простите, милая Евдокия Петровна!..
Виктор сидит на диване в учительской, и я сбивчиво, торопясь,
принимаюсь объяснять ему подробности моей бурной жизни. Его
глаза откровенно смеются, будто мой рассказ смешон, хотя в нем
нет ни единой забавной крохи.
— И долго это будет? — спрашивает он. Что-то подобное я
уже слышала. Да. В новогоднюю ночь. «И-часто-будут-красть?»—
спросил он ледяным голосом, кажется, так. Вариация на извест-
ную тему.
— Всегда,— отвечаю ему с улыбкой. Я, пожалуй, научилась
у него откровенно прямой, с нахальней, улыбке.— А что? Не под-
ходит?
Смех исчезает из его глаз, одна сплошная трезвость.
— На-адя! — начинает он убежденно.-—Но время самоотвер-
женности в педагогике кончилось!
169
— Ты думаешь? — улыбаюсь я.
— Эпоха старых дев, беспредельно преданных ученикам, оста-
лась в прошлом!
— Ах вот как...
— Мы живем в эпоху совмещенных страстей. Школа, семья,
общественные поручения. Редакция, дом, искусство. Человек тро-
ит себя, четверит, семерит. А как же! Время! Темп! Надо делить-
ся на много частей, чтобы успеть во всем.
— Понемногу? — ехидно спрашиваю я.
— А что в этом плохого?
— Не мало ли — понемногу. Может, лучше много в одном?
— И что же увидишь, узнаешь, полюбишь? Единственное свое
дело? Не мало ли?
— Мало! — вздыхаю я и поднимаюсь.
— Так в чем же дело?
— Твои совмещенные страсти напоминают мне, прости, совме-
щенный санузел. А у меня наверху две девочки. Пора идти.
Виктор бросает свои доказательства, как слабосильное ору-
жие. Применяет другое, покрепче. Обнимает меня, и мы целуемся.
Голова кружится, спорить не хочется.
Но поцелуи кончаются, наступает трезвость. Мы расходимся, и,
глядя Виктору в спину, я вспоминаю слова Гоголя о вседневном
и обыкновенном положении.
27
Из суеверия, что ли, свои победы нормальный человек считает
делом если и не обычным, то естественным и склонен их пре-
уменьшать, а вот беды и несчастья — преувеличивать. Добивается
чего-то, стремится к цели, мечтает о ней, а добился, будто так
и надо и ничего чрезвычайного не произошло. Вот и у меня. Вы-
звал Аполлон Аполлинарьевич. Рот до ушей. В кабинете Никанор
Никанорович. Торжественный как тогда, при всех регалиях.
— Ну как? — спросила я его.
Он меня понял.
— Все в порядке. А у вас?
— Примерно раз в неделю. Что вы! Громадный прогресс! —
Мы говорим о Колином недостатке. Доброта, любовь, спокойст-
вие лечат его в доме Никанора Никаноровича, все идет хорошо.
— Какие-то у вас свои секреты,— смеется Аполлон Аполли-
нарьевич.— Чур, чур! Не вмешиваюсь! — обращается ко мне.— Так
каково ваше мнение?
Я не понимаю, о чем он, и Никанор Никанорович поясняет:
— Мы решили Колю усыновить, все документы подготовлены,
слово за вами.
За мной? Но позвольте!..
Я смотрю то на директора, то на Никанора Никаноровича и
глупо не могу взять в толк, чего от меня хотят? Мнение? О Коле?
Оно не имеет значения в данном случае. И мне нужно решать, как
170
я отношусь к отставному полковнику. Прекрасно, вот как. Дваж-
ды была у них дома. Строгая обстановка. Чудесные люди.
Боже, о чем я? Какой примитив лезет в голову!
Это же исполнение моей мечты! Да, Аполлоша говорил, шко-
лой жизнь не кончается. Напротив, лишь начинается. И суть на-
шей идеи в том, чтобы у ребят появились друзья, к которым мож-
но прийти после школы. Поговорить. Написать поздравительную
открытку к празднику. Посоветоваться в трудный час. К этому
мы пришли. Но мечтали-то о другом. Нас двоих, троих, пятерых
не хватит на двадцать душ. Надо быть предельно честным и трез-
вым—не хватит, не хватит, хоть тресни. Дефицит любви. Лю-
бовь— вот наш идеал. А если ребят полюбят другие взрослые,
мечта, можно считать, сбылась.
Думала ли я о родителях для наших ребят? Нет. Этот же са-
мый Никанор Никанорович первым произнес слово «усыновить».
Его повторяли другие. Из других выдерживают не все. Но Ника-
нор Никанорович военный. Он спасал детей на фронте. У него
есть свои резоны, милый, добрый, достойный человек.
— А как здоровье? — спросила я невпопад.
— Вопрос законный,— ответил Никанор Никанорович, усмех-
нувшись. И ответил: — Колю надеюсь дотянуть.
Аполлон Аполлинарьевич вытащил из кармана авторучку, за-
нес ее над листом бумаги.
— Надежда Победоносная! Ваш приговор!
— Спасибо!
— За что ж спасибо? — удивился Никанор Никанорович.—
Нам вот совет ваш требуется! Как скажете? Оставить его у вас?
Перевести в другую школу?
Я переглянулась с Аполлошей. Он потупил глаза. Я не раз
свою работу с врачебной сравнивала. Всегда жалко, но, исходя
именно из жалости, надо резать по живому.
У Коли будет отец, Никанор Никанорович, а от Аллы Ошеп-
ковой отказались, в гости даже не станут брать. Как это соеди-
нить? Да и надо ли? Уж лучше по живому, хоть и пришли ребята
из дошкольного детдома, вон с каких пор знают друг дружку!
— Перевести,— сказала я.
— Согласен,— подтвердил Аполлон Аполлинарьевич.
— Ия так думаю,— кивнул Никанор Никанорович.
Вот п исполнилось одно желание, а радости, странное дело,
нет. Напротив. Лишилась Коли, беднее стала.
Отправилась бодро по коридору, потом медленнее пошла, оста-
новилась у окна. Вспомнила, как Коля ревел от боли, а потом
уснул на моих коленях, как приехал врач, похожий на разбойни-
ка, как потом металась я по больничному коридору, проклиная
свою неопытность, недопустимую нерешительность — зубрила свой
первый урок, из элементарных.
Ко мне подошла Маша, чего-то спросила.
— Слышала? — сказала я и опять, дура, заплакала.
Она не раздумывая кинулась утешать:
171
— Умер кто? Дома чего? Успокойся. Ну что поделаешь?
— Не-ет! — протянула я, как обиженная девчонка.—- Колю-то!
Урванцева! Усыновили!
Маша всплеснула руками.
— Так чего ревешь? Это же хорошо!
— Хорошо-о! — обиженно, еще всхлипывая, промямлила я.
— Эхма-а! — обняла меня Маша.— Слезы твои значат, дорогая
Наденька, что незаметно для себя стала ты знаешь кем?
Маша заглядывала мне в глаза, смеялась, качала головой.
— Не знаешь? Учительницей! Эх, макова голова!
Мы судили, как быть. Устроить Коле проводы, например, тор-
жественный ужин с интернатовским пирогом — у Яковлевны это
отлично получается — или уж тихо, без всяких разговоров отпра-
вить его к Никанору Никаноровпчу, да и дело с концом?
Судили, рядили, и так плохо — каково другим, и этак нехоро-
шо— ушел и не проводили. Решили: как начали, пусть так и идет.
Только наши старания оказались пустыми. Когда Коля ухо-
дил, весь взрослый народ вывалил на крылечко. Я глянула назад,
на интернатские окна, и ахнула. Все мои ребята к окнам при-
липли. Носы сплющили о стекла. А Коля им рукой машет.
28
И снова беда нагрянула.
Может, я зря такими словами кидаюсь? Разве это беда? Но
бывает, бывает так, радость одного для другого бедой оборачива-
ется. В очередной понедельник с Севой Агаповым пришел Степан
Иванович, тот самый охотник, который ворону убил, и, потупясь,
сказал, что уезжает вместе с семьей за границу.
— Документы оформили давно, думали, уже не получится,—
объяснил он,— а тут срочная команда: в Москву и на самолет.
Унылый Сева стоял рядом — с красивой синтетической сумкой
в руке, из которой торчали яркие свертки, нарядные коробки, и
сумка оттягивала ему руку. У Степана Ивановича вид не веселее,
хотя эта новость существенна для него и, конечно, приятна. Он
переступал с ноги на ногу, поглядывал то на меня, то на Севу,
особенно часто на Севу, а тот отвернулся и не говорил ни слова.
— Севочка! — беспокойно сказал Степан Иванович.— Но мы
же не навсегда уезжаем, через три года вернемся! — И эта его
фраза прозвучала как продолжение уже чего-то сказанного. Сева
не шелохнулся.
— Мы письма тебе станем писать, очень часто! И ты нам пи-
ши!— воскликнул Степан Иванович.
Сева не реагировал. Его взгляд упирался в землю.
— Мы подарки тебе пришлем, хочешь сушеного крокодиль-
чика, их в Африке много!
Только при упоминании крокодильчика Сева обнаружил при-
знаки жизни — мельком, без интереса, взглянул на Степана Ива-
новича, снова потупился, а у меня сердце сжалось: такая в этом
взгляде почудилась выгоревшая пустота!
172
Тягостной была эта сцена! Я отправила Севу раздеваться, а
Степан Иванович не уходил еще долго, топтался, кряхтел, гово-
рил что-то не имеющее отношение к делу, потом тяжело вздохнул.
— Такие-то дела, Надежда Георгиевна, хоть отказывайся от
заграницы.
Он очень просил прийти с Севой на вокзал, проводить их, я
согласилась, хотя лучше бы, оказалось позже, оборвать все тут, в
школьном вестибюле.
Степан Иванович ушел, а я медленно двинулась по коридору.
Я останавливалась у каждого окна, смотрела па улицу и ниче-
гошеньки не видела. Отупевшая голова без конца проворачивала
одну и ту же идею: надо просить Аполлона Аполлинарьевнча со-
брать педсовет, надо просить, надо.
Настала пора пробовать урожаи. Он горький, очень горький,
но именно мой, и ничей больше, и педсовет нужен мне, чтобы во
всеуслышание заявить это. Я сильно напутала, теперь это ясно.
И я должна отделить Машу, Аполлона Аполлинарьевнча. По-
хвалить Елену Евгеньевну. Она была, несомненно, права, когда
говорила об осторожности. Вообще это глупо делить мир на белое
и черное. Можно запутаться.
Каким я «князя» Игоря считала? То-то и оно. И хулить его
тоже нельзя. Его намерения были благими. Но что вышло?
А Елена Евгеньевна? Как могла я ее считать черствой и не-
приятной? Опа просто реалистка, поступала естественнее, чем да-
же естественник Аполлоша, а если и не знала, то предчувствовала,
чем это кончится, голосовала против. И еще кто-то голосовал. До-
пустим, меньшинство, но и меньшинство что-то значит.
А я этого не заметила. Не придала значения.
Нет, просто не хотела видеть. Это мешало мне.
Мешало моей идее.
А теперь ошибочная идея мстит за себя.
На полтора дня отдать детей! Казалось, какое благо! На пол-
тора дня — это очень много. Там, за пределом моего взгляда, рож-
далась надежда. И рождалась любовь.
Вражда, ненависть — пустяки. Если бы появлялись они, мы бы,
пожалуй, справились с ними, хоть и непросто и нелегко.
Но справиться с любовью? Полюбить и расстаться? Тем, кто
всегда мечтал о доме!
Нет, это посерьезнее, чем просто возвращение, это утрата.
Они не все понимают, мои комарики, но все чувствуют. И следу-
ют своим чувствам.
И вообще! Что такое маленький человек? Малыш, кроха, ре-
бенок? Нет, человек. Маленький человек, даже искренней взрос-
лого чувствующий жизнь У него нет опыта. Верней, мало. Опыт
приходит постепенно. А в первом классе просто маловато его.
Из-за малого опыта небольшой человечек искренней. Он бросается
в ворота, не думая, что их могут закрыть. У него мало опыта, вот
и все, а во всем остальном он точно такой же, как и взрослые
люди.
173
Страдает точно так же. И любит с той же силой. Ненавидит.
Верит. Сражается.
Точно так же. А порой еще сильнее, ярче, горше!
Мир детства — это как бы заповедник, вот что. И мы его
охрана. Нет, мы не между детьми и взрослыми, напротив. Мы за
любовп и братство между взрослыми и детьми. Но за маленьких
мы должны отвечать. Перед ними же. И каждый наш шаг надо
строго выверить. Трудно, что и говорить, Аполлоша прав, педаго-
гика— наука неточная. Попробуй-ка все вымерить да взвесить.
Но надо, как ни трудно. Надо.
И одной любви здесь мало, верно сказала Елена Евгеньевна.
Доброта может и ранить.
Вот, получай!
Ты ранила добротой детей, которых жалела и которым хотела
добра...
Я снова заплакала, признавая вину. Придвинулась поближе к
окну, чтоб никто не заметил моих слез, уперлась лбом в стекло.
И тут увидела сбоку чье-то лицо. Елена Евгеньевна!
Она не старалась смутить меня, даже не смотрела в мою сто-
рону, ио я разглядела, что глаза ее блестят от слез.
— Наш сын,— проговорила она сдавленно,— наш сын сегодня
не ночевал дома!
— А у меня... у меня,— забормотала я, посмотрела на Елену
Евгеньевну и умолкла. Неожиданно, со странным хладнокровием я
вдруг отчетливо поняла, что все у меня еще только начинается и
предстоит мне еще много всякого: и то, что уже есть, и то, что
еще будет, когда моим будет не по семь, а по пятнадцать, и что
сдержанные слезы Елены Евгеньевны куда горше и тяжелее моих,
потому что это слезы не только учителя и не только матери, а учи-
теля и матери сразу...
Когда мы с Севой приехали на вокзал, поднялся ветер, нача-
лась пурга.
Было поздно, интернат давно погасил свет, а здесь бледные
неоновые лампы безразлично освещали серо-зеленые вагоны и жут-
коватые живые кольца, которыми завивался снег на асфальтовых
проталинах.
В вагонах светились разноцветные — от абажуров настольных
ламп—огни, там шла какая-то своя оживленная и теплая жизнь,
а на перроне было безлюдно, даже проводницы не высовывали
носа.
Ветер пробирал меня до озноба, и я прикрывала собой Севу,
положив руки ему на плечи.
Перед нами топтался Степан Иванович
Все уже сказано, семья Степана Ивановича — жена и сын —
беспокойно поглядывают на нас в вагонное окно, а вюроний охот-
ник никак не уходит, видно, решил постоять с нами до послед-
ней минутки.
Я топталась вместе с Севой — мы как бы слилишь в одно це-
лое,— похлопывала по плечам, пошатывала и покачивала, чтобы
174
он не замерз, и так вроде бы скрашивала молчаливые, тягучие
минуты.
Нет, не надо было приходить сюда, Степан Иванович зашел в
школу, и достаточно, но вот пообещала, и теперь мы стоим па
ветру; уже поздно, Севе пора спать, и неизвестно, тронется ли
когда-нибудь этот дурацкий поезд.
Ветер подвывает где-то под вагоном, по-хулигански присви-
стывает.
А все-таки так нельзя, думаю я. Степан Иванович вовсе не
виноват, что уезжает за границу в командировку, он немало сде-
дал хорошего, вон сходил с Севой на охоту, подарков много оста-
вил, и надо, чтобы уехал человек с хорошим настроением.
— Желаем вам, Степан Иванович, всего доброго,— бодренько
произношу я, едва шевеля губами от холода.— Вы нам сообщи-
те потом адрес, и мы с Севой станем писать, а с крокодильчиками
осторожнее, они кусаются. Да, Сева?
Все мои попытки расшевелить Севу напрасны. С тех пор как
Степан Иванович сообщил об отъезде, мальчик замкнулся, и
Нонна Самвеловна наметила в журнале против его фамилии мно-
жество красных точек, что означало непоставленные двойки.
Степан Иванович пожимает мне руку, целует еще раз Севу,
забирается на подножку. Уже оттуда кричит:
— Севочка! Мальчик! Ты перейдешь в четвертый класс, и мы
вернемся. Желаем тебе счастья! Будь послушным! Учись хорошо!
Поезд бесшумно трогается, нам бы надо пойти за вагоном, как
полагается, потом побежать, я легонько подталкиваю Севу, но
ощущаю сопротивление его спины. Мы остаемся на месте, я машу
рукой Степану Ивановичу, потом его жене и сыну, мелькнувшим в
окне. Мерно постукивая, поезд исчезает во тьме. Красный огонек
светится на последней площадке.
Словно точка, поставленная учительницей в тетрадке красными
чернилами.
Мы стоим в мертвенном свете неоновых огней, одни на всем
перроне, я хочу взять Севу за руку, чтобы идти, и вдруг слышу
сказанное громко, с отчаянием:
— А вам-то какое дело!
Какого цвета эта точка?
29
Оказалась тоже красной.
Сева устроил пожар. С участием Аллы Ощепковой. Вернее, по
ее предложению.
С того воскресенья, с того побега Аллочки из кино она как-то
притихла.
То огонь девка, веснушки так и сияют на носу, улыбка не схо-
дит, а тут стала вялой, медлительной, заторможенной. Я приста-
вала к ней, тормошила, отвлекала разными разговорами, но Ал-
лочка только кисло улыбалась. Я даже показала ее интсрнатско-
175
му врачу, но он успокоил меня, сказав, что здоровье девочки от-
личное.
Мне казалось, я не свожу с Аллы глаз, и Маша, ясное дело,
тоже. Так мы ничего и не смогли придумать, воспитатели назы-
вается, развели руками, решили — чему быть, тому не миновать...
Серьезно ли это?
Сейчас я думаю, серьезно. Реальная педагогика приемлет и
такие парадоксы, когда учитель действительно не должен или не
может ничего предпринимать. В таких случаях легко не бывает,
страши! ожидание, но надо подождать, чюбы парыв назрел.
А лопнет, и легче станет.
Конечно, ненаучно. Даже, может, антинаучно. Но — правда!..
Итак, нам казалось, мы не спускаем с Аллочки глаз, и, ве-
роятнее всего, именно наша избыточная ласка убедила ее в том,
что ее обманули и «князь» с «княгиней» никогда больше не при-
дут к ней.
Опа решила расправиться с прошлым.
Еще с вечера Алла приготовила свою мохнатую рыжую шап-
ку, шубу, платья и кофточки, подаренные ей Игорем Павловичем
и Агнессой Даниловной.
После уроков, перед самостоятельными занятиями, Сева раз-
ложил на бетонном полу мальчишечьего туалета кучу газет, под-
жег их и кинул в огонь Аллочкино имущество.
Действовал Сева как заправский поджигатель, открыв предва-
рительно все форточки в туалете и устроив таким образом сквоз-
няк. Синтетическая шуба горела, испуская ярко-желтый смрад-
ный и густой дым, он вырывался в форточки, пролезал в щели
под дверью, и скоро чуть не все здание окутал сизый, щиплющий
глаза туман.
Я была в библиотеке, когда услышала топот ног и Аллочкин
крик:
— Надеж-Вна! Севка задохнется!
Я выбежала в коридор. Алла неслась ко мне всклокоченная, с
круглыми — с блюдце — глазами. Она то смеялась, то плакала.
И эти ее переходы до смерти напугали меня. Значит, дело худо.
Возле туалета дым густел, в полумраке я заметила фигуры ди-
ректора и дворника дяди Вани.
— Где он? — крикнула я
— Неизвестно!--ответил директор. Его слова и бестолко-
вое объяснение Аллы я поняла по-своему. Сева Агапов там, в
дыму!
Не раздумывая, я открыла дверь и рванулась в туалет.
Это был не вполне разумный поступок, но думать было неког-
да. Сева оказался в дыму, а значит, уже потерял сознание. Я по-
пыталась окликнуть его, но издала только какой-то клокочущий
звук. Дым ворвался в легкие, и я зашлась отчаянным кашлем.
Чуточку вдохнув в себя воздуха, а вернее дыма, я побежала, ка-
саясь одной рукой стены. Время от времени я наклонялась, ощу-
пывая сразу и рукой и ногами пол —вдруг он упал и лежит?
17b
Наконец обнаружила что-то мягкое. Я схватила это что-то, на-
верное одежду, потянула на себя, кинулась к двери.
Задыхаясь, заходясь кашлем, я выскочила в коридор и взгля-
нула на свою ношу. Это были остатки шубы. Они испускали все
тот же зловонный дым, меня покачивало. Потом стало рвать.
Я стояла, отвернувшись в угол, и время от времени лихорадочно
оглядывалась. За спиной собиралась толпа. Слышались окрики
Аполлона Аполлинарьевнча, толпа бурлила, менялась, только Ал-
ла не исчезала.
— Где Сева? — крикнула я ей.
— Уже в моем кабинете! — ответил директор.
Как в кабинете? Значит, его не было там! А я... Возле меня
суетилась нянечка, дым рассеивался, я зашла умыться в туалет
для девочек.
Голова гудела, на лице полоска сажи.
Я подставилась холодной струйке, чувствуя, как ледяная вода
ломит виски.
Дверь за спиной хлопнула, послышались молчаливая возня
и удары. Кто-то хрипло крикнул:
— Надеж-Вна!
Я резко обернулась, еще ничего не понимая, и увидела дикое:
молча, злобно, неумело Сева Агапов колотит Аллочку Ощепкову,
и та сопротивляется точно кошка — так же молча, злобно и не-
умело.
Я подскочила к Севе, дернула его за руку.
— У-у, стер-рва! — яростно пробормотал он Алле.— Из-за те-
бя все!
Я чуточку встряхнула его за рукав, чтобы опомнился, пришел
в себя, и без всякого перехода, с той же яростью Сева вдруг
стукнул по моей руке свободным кулаком.
— Иди ты на...! — кричал он с каждым ударом.— Иди ты на...!
Иди на...!
А я, ошеломленная, приговаривала на его удары:
— Сева! Севочка! Сева!
Сильным, каким-то мужицким, драчливым движением он обру-
шился всем телом на мою руку и вырвался.
Дверь хлопнула, а я заплакала. От неожиданности, страха,
бессилия. Завыла в полный голос.
Что делать, я тогда часто плакала. Мне многое было внове,
а это — страшней всего—недетская детская брань, подобранная
где-нибудь у пивнушки.
Теперь-то, десять лет спустя — как непохоже на Дюма! — прой-
дя многое и хлебнув разного, отвыкнув от слез и привыкнув к
жесткости подлинной правды, я твердо знаю, что учитель должен
уметь погрузиться в человека, и не всегда—далеко не всегда! —
там, в глубине, найдет он благоухающие цветы, порой встретит
слякоть, грязь, даже болото, но не надо пугаться! Надо браться
за дело, закатав рукава, надо брать в руки мотыгу и, несмотря
на тягость и грязь, оскальзываясь, спотыкаясь, заходя в тупики
177
и снова возвращаясь, осушать болото, пока на его месте не за-
цветут сады —вот достойное занятие!
Нет стыдных положений, есть стыдное — или стыдливое — от-
ношение к делу, и я но раз ощущала особый прилив чистоты и
ясности, становясь — не отворачивайте нос от этого слова,'—да,
да, ассенизатором ломких душ, с упоением вышвыривая из самых
потайных закоулков дрянное, подлое, низменное, которого, кстати
сказать, не так уж и мало едва ли не в каждом человеке.
Шараханье, испуг, публичная паника не самый лучший выход
из положения для учителя, который услышал ругань или увидел
гадость. Давай-ка за дело, да лучше втихомолку, но по-настояще-
му, без обмана — самого себя и тех, кто тебя окружает,— без
липовых фраз, мнимых отчетов, суеты, восклицаний!
Честней и проще.
Ведь когда честней и проще, тогда и поражение простимее,
объяснимее ошибки, неудачи.
Самое тяжкое в учителе, самое неизлечимое — коли он трясется
за свой престиж, боится признать ошибку да еще в ошибке упря-
мится. Этот камень тяжек, немало колес побьется и покалечится
о его упрямые бока, немало спиц лопнет, и самый для учителя
тяжкий грех валить, пользуясь авторитетом профессии, с больной
головы на здоровую, да еще ежели голова эта малая, учениче-
ская...
Повторю снова, это — мое нынешнее, когда слезы мои пересох-
ли, но не оттого, что иссяк родник, а оттого, что стала сдержаннее,
а любовь моя разумней и сердце, выходит, опытней.
Тогда же Севин мат точно залпы расстрела.
Но я отревела свое, подсунула снова лицо под ледяную струй-
ку, приложила мокрый платок к Аллочкиным синякам, и вышти
мы с ней в коридор обруганные, а гордые, готовые отвечать перед
педсоветом — Алла за пожар, я за судьбу первого «Б».
30
Не тут-то было. Не до педсоветов. Сева пропал.
Когда исчезла Анечка Невзорова, у меня хоть была зацепка.
Забытая вначале по оплошности, но была. А Сева исчез в никуда.
Растворился в большом городе, как песчинка.
Милиция вовсю работала на нас. Аполлон Аполлинарьевич пе-
редал Севины приметы по телефону, а я отвезла его детдомов-
скую фотографию, которую должны были размножить и разо-
слать сначала по всей области, а если надо, по всей стране.
Я себе места не находила. Кляла на чем свет стоит. Подума-
ешь, институтка! Испугалась его ругани, небось вытаращила гла-
за. «Сева! Севочка! Сева!» Вот Сева и обезумел — рванул со
страху в безвестном направлении, ищи-свищи.
Причины и следствия у маленького Севы были на виду, это
уж потом стало трудно разбираться, а тогда — что следы по по-
роше маленького зайчишки видны птице, хоть и неопытной, но все
178
же большой. Ведь и задумываться не надо. Из-за меня это все!
Из-за меня Степан Иванович появился в его жизни, на охоту из-за
меня ходили и даже ту бедную ворону убили из-за меня. А потом
он уехал, этот Степан Иванович. И одежду из-за меня Алла сжи-
гать принялась...
Куда ни кинь, все я, неумеха! Ох, как правильно сказала Яков-
левна— им матери нужны рожалые да бывалые. А тут пигалица
с какими-то завиральными выдумками. Так казалось мне тогда.
Видно, что-то со мной случилось после Севиного ухода. Навер-
ное, вела себя странно. Или еще что. Но Маша, бедняга, не от-
ходила от меня в мои дежурства. Добряга Аполлоша охаживал
как мог. То к себе вызовет и о погоде битый час говорит, то сам
в группу прибежит, никак уйти не хочет. И Елена Евгеньевна, и
Нонна Самвеловна, и даже Яковлевна, моя антагонистка, и та на
ужине норовит чего-нибудь вкусненького подсунуть против вся-
ких правил.
А я все про вину думала.
Зайду к Аполлоше узнать в сто первый раз, нет ли известий
из милиции, и сразу про себя давай на весах взвешивать, чего
я больше принесла детям — радости, беды?
Радость, конечно, была, вон Коля Урванцев! Нашел Никано-
ра Никаноровича. Лепестинья моя бумаги подала Зину удочерить.
Сашу Суворова, Сашеньку, который назван в честь полководца,
усыновила хорошая детная семья.
Но радость разве надо считать? Она и есть радость. А вот бе-
ду, не захочешь, сосчитаешь. У меня-то ее полный короб. Пора и
разобраться, что к чему.
«Князь» Игорь и зеленоглазая «княгиня» повинились. Мало ли
какая жизнь. Обеспеченные, но не такие уж молодые. Захотели
Ал точку удочерить, порыв был, но оказалось, вдвоем спокойнее,
дело, как говорится, хозяйское, никто принуждать не вправе.
Но Аллочке-то? Не все равно? Конечно, в тысячу раз хуже,
если бы сгоряча удочерили, а потом ладу нет. Тут уж вообще тра-
гедией может обернуться! Но маленькому человеку все не объяс-
нишь. Потом поймет, сердце утешит, а теперь вражья сила, вот
кто для Аллы Ощепковой Игорь Павлович и Агнесса Даниловна.
Так н станет всю жизнь вспоминать двух больших сытых людей.
Прыгают по утрам в белых трусах и маечках, свою жизнь про-
длевают. Для самих же себя.
Не знаю, как Аллочку, меня этот образ преследует — двое кра-
сивых, благополучных люден — руки в стороны, ноги врозь, ать-
два! Бэкон-то мой прав! Я раньше только вторую половину фра-
зы слышала, а теперь поняла и первую: «Процветание раскрыва-
ет наши пороки». Вот он, оказывается, о чем.
Я, конечно, могла хулить Запорожцев сколько мне вздумает-
ся— толку-то? Они где-то там заряжаются физкультурой, берегут
большое здоровьишко, катаются в «Москвиче», а Алла здесь, со
мной, и чем там мостили дорогу в ад, мне все равно.
Меня моя дорога интересовать должна. Мои намерения.
179
Они, конечно, благие, сама знаю. Только вот благость их тя-
жела.
Анечка Невзорова, к примеру, своим неразумным умишком ее
отвергла, эту благость. Малышня, а выбор сделала очень даже
трезвый и взрослый. Мечты об исправившейся мамаше, конечно,
наивны, но лучше уж сердце свое между матерью и другой
женщиной, к которой привязаться нетрудно, не разрывать,
это так.
Анечке легче всех, она сама решила, потому и легче.
А вот Сева мой... И Степан Иванович ничем не виноват и
мальчишка. Может, не уехал бы его охотник, ничего с Севой и
не случилось. Конечно, ничего. А случилось потому, что уехал.
А в том, что уехал, никто не виноват.
И мне можно ручки умыть?
Эхма, благодетельница-воспитательница! Не вспоминай, не на-
до. Не трави душу ни себе, ни людям, не вали на них хотя бы
и частицу, а своей ноши.
Благими намерениями... За несостоявшиеся намерения других
людей единственная в ответе ты сама. Ведь ты их подтолкнула.
И нет никаких обстоятельств, смягчающих твою вину...
Лихорадка мгновенных сборов: позвонили из милиции, как
будто нашли удальца. Мы едем с Аполлошей в такси, и я испы-
тываю полную атрофию чувств. Даже это известие не радует ме-
ня. Половинные эмоции, я довольна, что обошлось, не больше.
Может, научилась тому, о чем говорила Елена Евгеньевна? Зато
директор ликует. Без конца тарахтит, просто никакой выдержки.
Хотя понять можно. Все-таки директор. В конечном счете он от-
вечает за все.
Мне становится совестно, на минуточку чувства возвращают-
ся в полном объеме. Ведь Аполлон Аполлинарьевич, поддержи-
вая мою идею, брал всю ответственность на себя. Такая простая
и доступная мысль посещает меня впервые, и мне совестно за соб-
ственный беспардонный индивидуализм.
Господи! Да ведь все, кто меня окружает, поддержали меня,
согласились со мной. Именно потому я не могу ни на кого сва-
ливать. Даже на тех, кто попробовал и не смог, Запорожцев
этих.
Наш выезд оказался пустым. Парень, которого задержали,
был старше на год и к тому же при нас стал сознаваться, кто он
и откуда.
Любопытно — отец и мать кандидаты наук, он—из института,
она — медик. Впрочем, какая чушь! У сердца нет ученых степе-
ней...
Кончался пятый день, как сбежал Сева. Мы вернулись в шко-
лу, и Аполлон Аполлинарьевич с женой поили меня чаем в дирек-
торском кабинете. Разговор не вязался главным образом из-за
меня. Я отвечала кратко, неохотно.
Елена Евгеньевна достала из сумки колбасу, свежий батон,
нарезала бутерброды. Теперь я понимаю — эти люди были куда
180
мужественней меня. Дома по-прежнему не ладилось, и хотя сын
ночевал, ключи к нему все еще не были найдены, а директор и
завуч старались развеселить воспитательницу, которая к тому же
сама кругом виновата.
Они напоили меня чаем, колбасу Елена Евгеньевна спрятала
между рам, остатки батона завернула в вощеную бумагу.
— Может, вам плохо спится, так придите сюда, попейте чаю,
чайник всегда тут.
Аполлон Аполлинарьевич молча катнул по столу ключ в мою
сторону, и я почему-то явственно вспомнила наши первые разго-
воры, тот педсовет, где он пересказал Лескова, генерал-майора,
не выходившего за стены кадетского корпуса, эконома Боброва,
который дарил молодым офицерам серебряные ложки.
Нет, определенно наш директор владел даром читать мысли.
— Неплохо бы нам,— задумчиво сказал он вдруг,—-погово-
рить на педсовете о Рылееве.
Он хитровато разглядывал меня. Опять старался повысить мой
тонус своими разговорами?
— Помните, кто первым высказал мысль: «Поэтом можешь
ты не быть, но гражданином быть обязан»?
— Некрасов,— слабо улыбнулась я.
— Некрасов перефразировал, развил. А первым сказал Ры-
леев: «Я не поэт, а гражданин!»
— Полно, Аполлон Аполлинарьевич,— сказала я,— вы не есте-
ственник, а словесник.
Он не ответил па это.
— И знаете, предпочел поэзии восстание и смерть.— Аполлоша
помолчал.— Жизни предпочел долг.
— Причем тут педсовет? — спросила Елена Евгеньевна.
— Жизни — долг,— удивился директор, что его не поняли.—
Разве это не наша тема? Учителей? Или мы, товарищ завуч, долж-
ны говорить лишь о планах, уроках, учениках?
— Собирайся домой, товарищ директор,— печально улыбну-
лась Елена Евгеньевна,— воспитывать собственного сына.
Они ушли, а я осталась в кабинете. Посидеть на мягком ста-
ром кресле, в которое проваливаешься просто по уши. Можно
положить голову на спинку, подумать про себя, про свой поезд,
про жизнь, пока малыши спят.
Жизни предпочел долг, сказал Аполлоша про Рылеева, Жиз-
ни— долг. Это Рылеев. Там требовался выбор. И он выбрал. А я?
Сейчас совсем все другое. Не требуется никакого выбора.
Никакого или — или.
И — и.
И жизнь и долг. Но какая жизнь, если такой тяжкий долг?
Я задремала, а проснулась, точно дернулась. Снова прикрыла
глаза. Осознанно открыла их.
Передо мной стоял Сева Агапов. В нашем интернатском се-
ром пальто, замызганном чем-то черным, похудевший, с воспален-
ными глазами.
181
Он смотрел на меня, медленно опускал глаза, потом быстро
вскидывал их, снова смотрел какое-то время и вновь медленно
опускал взгляд.
Я не кинулась ему навстречу, не стала раздевать, как делала
бы раньше, я не заплакала, как плакала прежде от подобных по-
трясений, а встала, приоткрыла окно, достала колбасу, порезала
ее, сделала бутерброды, налила остывающий чай, поставила пе-
ред директорским креслом, улыбнулась Севе:
— Ну! Мой руки)
Он снял пальто, шапку, сложил их на стол, вышел в коридор,
а я даже и не подумала, вернется ли он. Мысли такой не было.
Я смотрела на чашку, бутерброды с колбасой, на директор-
ское кресло, куда сейчас сядет Сева — и это будет довольно за-
бавно,— я смотрела перед собой на простые предметы, виденные
тысячу раз, и думала о Боброве и о фразе, сказанной Аполлошей
на первом педсовете. Он сказал тогда: «Видите, какие славные
учителя были до нас с вами!»
Хорошо сказал. Я еще аплодировала, экзальтированная ду-
рочка!
Я смотрела на чай для Севы, а думала про эконома Боброва,
старуху Мартынову, как она говорила про учителя — раство-
риться в них надо! — про Аполлошу с его женой и предками.
И про себя.
Может же человек подумать про себя?
Особенно если так: жить надо благими намерениями и делами.
31
Вот. собственно, и все. Верней, все о начале.
Меньше всего мне хочется выглядеть победительницей, хотя
Аполлоша нет-нет да и назовет меня так по старой памяти. Сева,
правда, больше не сбегал, видно, с первого класса понял, что у
школы надежная крыша. Сушеный крокодильчик приехал к нему
из Африки, и каждое воскресенье Сева гостит у Степана Ивано-
вича и его жены, которая теперь к мальчику очень привыкла.
Осенью, в сентябре, Сева ходит со Степаном Ивановичем па ути-
ную охоту, приносит в интернат селезней, и уже не Яковлевна, а
другая повариха, такая же добрая и участливая, готовит жаре-
ную дичь нашему «Б».
Первый класс мы закончили вот с каким результатом: Зину
Пермякову, Сашу Суворова, Колю Урванцева и еще троих детей
усыновили и удочерили хорошие люди. Шестеро — обстоятельства
сложились так — в гости ходить перестали. Десять же мальчи-
ков и девочек, как мы и предполагали, нашли хороших друзей.
Миша и Зоя Тузиковы, например, обожают Петровичей Повареш-
киных, дружат с их сыновьями и каждую субботу торопятся из
интерната.
Можно считать, благополучный исход. Счет шесть — шест-
надцать.
182
Но все дело в том, что педагогика не точная дисциплина.
Можно выиграть со счетом один — девятнадцать. И проиграть де-
вятнадцать— один. Единица перетянет девятнадцать, и сто, и ты-
сячу. Вот почему судьба шестерых, вернувшихся в интернат на-
всегда, мучила меня долгие-долгие годы.
Тогда в директорском кабинете, глядя на жующего голодного
Севу, я вновь дала себе слово не бросать моих малышей. Апол-
лоша произнес под Новый год тост за десятый «Б», и я покля-
лась быть учителем этого класса. Благие намерения предстояло
поддерживать благими делами. Я думаю, и дорога-то в ад вымо-
щена не намерениями, а намерениями неисполненными. Вот в чем
дело.
Да, у меня получилось так. Шестеро моих детей так или ина-
че, прикоснувшись к семейному очагу, лишились его тепла. Но к
этому огню они прикоснулись с моей помощью. И я не вправе бы-
ла покидать их, когда они снова остались одни. Иначе это стало
бы обыкновенным предательством. Я должна была пожертвовать
своим покоем, своими удобствами, всем, всем, всем своим, чтобы
исправить ошибку. Максимализм? Что ж, уверена — воспитать че-
ловека можно, только отдав ему часть себя. Ну а если речь о си-
роте?..
К тому же в шестерых — должна признать честно — вся эта
история оставила нелегкий след, и мне часто казалось, что со
временем боль не утихала, а получала новое выражение. Ничем
не объяснимым неповиновением, каскадом двоек, грубостью. Ког-
да проходили «Горе от ума» — к тому времени я преподавала
своим язык и литературу,— Алла Ощепкова, тогда уже совсем
красивая, рослая девушка, просто вцепилась в две грибоедовские
строчки и с полгода на любой вопрос, мгновенно окаменев, отве-
чала:
В мои лета не должно сметь
Свои суждения иметь.
Классе в восьмом Сева Агапов на моем уроке неожиданно
сказал:
— Я человек государственный!
Ребята прыснули.
— А что? Государственный, казенный, а значит, ничей. Госу-
дарство— это все и никто!
Повисла угрюмая тишина. Ребята тяжело смотрели на меня.
— А я?
— Вы—-другое дело!—помолчав, пробормотал Сева.
— Но я же часть государства, тебе не приходило это в го-
лову?
_— Так вы с нами по служебной необходимости? По долгу?
За зарплату?
— А на эти вопросы,— теперь пробормотала с трепетом я,—•
ты ответь сам.
Нет, нет, туда лучше не вдаваться, в другие классы и другие
183
эпохи. Каждая из них непростой узелок. И целых девять следую-
щих лет я пыталась выровнять нити, распутать узлы и связать
гладкую ребячью судьбу. Получилось ли, судить не мне. Пожа-
луй, кое-где есть неровности, но я старалась. Я делала что могла.
Спрашивается: к чему же этот рассказ? Объяснить, что быва-
ют несчастливые обстоятельства? Что избыток доброты вреден и
добро может ранить? Что сводить маленьких сирот с чужими
взрослыми, пытаясь отыскать теплоту, наивно?
И да и нет.
В конце концов, и неудачный опыт имеет свое значение: он
предупреждает других.
Но Аполлон Аполлинарьевич не зря говорил: педагогика не
точная дисциплина. И с точки зрения результативности счет шест-
надцать— шесть не так уж плох. Но я не про шестнадцать.
Я про шесть.
Я про шестерых малышей, которых ударили мои благие наме-
рения,
Вот к чему вся эта история, теперь уже давняя.
32
Ну а я?
Я переехала от Лепестиньи и Зины в другой закуток, а через
пять лет получила однокомнатную квартиру.
Зачем я уехала от Липы? Что-то мучило меня. Есть такое
выражение про женатого сына: «Отрезанный ломоть». Пожалуй,
и у меня было подобное чувство.
Я встречаюсь и с Зиней и с Лепестиньеп, получаю открытки
от Коли Урванцева и Никанора Никаноровича, Саши Суворова,
усыновленных и удочеренных моих детей, но признаюсь — навер-
ное, надо стыдиться? — их судьба не очень интересует меня. Они
живут другой жизнью, у них есть близкие, они отрезанные ломти,
а мой интерес стал ограниченно избирательным.
Меня интересуют только мои. Дети без родителей.
Умом я понимаю, что это, пожалуй, недостойно педагога. Но
ничего поделать не могу. С годами выработался вот такой не-
достаток— узкий, направленный, а значит, ограниченный ин-
терес.
С Виктором мы расстались. Он уехал в Москву тем же летом.
Звал меня с собой, хотел показать родителям. Я поехать не мог-
ла: отправлялась со всем классом на все лето в лагерь.
Перед отъездом Виктор снова говорил мне, что эпоха старых
дев в педагогике давно миновала и что глупо связывать себя ду-
рацкими клятвами.
— Что же!—воскликнул он.— Всю жизнь быть мужем-сиро-
той при живой жене? Питаться остатками любви, которую ты да-
ришь детям?
Мы опять целовались, я плакала, давая себе еще одну клятву
заняться собой — о боже! — после десятого.
Виктор прислал из Москвы три письма, я ответила нарочито
184
суховато; ждать девять лет в наше время? Смешно требовать та-
кого от молодого мужчины. Да еще москвича'
Имя Виктора я часто встречаю в одной центральной газете.
Почему-то он избрал коньком моральную тему. Впрочем, такие
темы всегда трогают сердце и пользуются успехом у читателей.
В моей семье без перемен. Ольга вышла за Эдика, как хотела
мама, и живет, по-моему, несчастливо.
С мамон мы как-то отдалились друг от друга. Она по-преж-
нему хочет моего возвращения, повторяя едва ли не в каждом
письме: «Если тебе не жалко меня, не губи собственную жизнь».
Я считаю маму неглупым человеком, с хорошим вкусом, и эти вы-
сказывания просто убивают меня.
33
Солнце плещется в соцветиях черемухи, слепит глаза розовой
пастелью ранней зари.
Вот миновала ночь. Последняя ночь клятвы. Вечером — тор-
жество, вручение аттестатов, танцы, и следующая моя ночь станет
ночью свободы.
Я буду думать, думать, думать, как жить дальше не учитель-
нице Надежде Победоносной, последнее, конечно, в кавычках, а
просто Надежде Георгиевне. Женщине тридцати двух лет не так
просто устроить свою жизнь'—тишина этой комнаты рухнет, по-
явится новый человек, еще неизвестно какой, станет курить, ходи1Ь
в подтяжках, говорить что-то свое, на чем-то настаивать.
Готова ли я к этому?
Готова, готова! В конце концов, я девять лет думала о том,
что рано или поздно непременно займусь личной жизнью, влюб-
люсь, выйду замуж, нарожаю детей.
Я бодро вскакиваю с постели, делаю зарядку, обтираюсь во-
дой, начинаю готовить кофе.
Какая благодать!
Окно распахнуто, черемуха заглядывает в комнату — опа рас-
цветает здесь, на севере, гораздо позже,— я пью душистый кофе,
вдыхаю смесь этих чудных запахов, жмурюсь солнцу, румянящему
цветы.
Раным-рано. На улице тишь, только шаркает метлой дворищ
День лишь занимается.
Я вскакиваю, едва не уронив чашечку.
Хор голосов — мальчишеских и девчачьих — скандирует где-тэ
рядом:
— Ма-ма На-дя!
Я бегом выскакиваю на балкон. Господи! Мои шестнадцать
стоят в белых платьицах и черных казенных костюмчиках, приго-
товленных школой по случаю выпуска, стоят под окном, у чере-
мухи, улыбаются, глядят в мою сторону и кричат:
— Ма-ма На-дя!
Девять лет вдруг куда-то исчезли, куда-то исчезли моя воля,
185
жестковатость, самую чуточку похожая на мамину, и здесь, на
балконе, оказалась начинающая воспитательница, плакавшая по
каждому поводу,— в глазах закипели слезы.
Толпа моих малышей — некоторые уже с усами — притихла.
Но на мгновение.
— Ма-ма На-дя! Ма-ма На-дя! — кричали они. и это такое
обыкновенное слово «мама» разрывало меня на части.
Я с трудом сдержалась.
— Почему вы такие нарядные?
— Мы гуляли всю ночь! — крикнула Анечка Невзорова.
Анечка! Невзорова! Стройная, на высоких каблучках, коротко
стриженная красавица. Чей-то мальчишечий пиджак на ее пле-
чах. Ах, Анечка!
— Но гулять полагается после вечера? — удивилась я.
— А мы и после вечера будем гулять всю ночь,— ответил Се-
ва. Он держит в руках огромный букет черемухи. Наломал где-то
усатпк-полосатик, широкоплечий и высочущий.
— Ну и как гулялось? — спросила я — Все в порядке?
Вот они, мои малыши, взглядывапся в каждого, не наглядись!
— Надеж-Вна! — крикнула Аллочка Ощепкова. Вот они когда
пригодились, ее веснушки. Милая, голубоглазая мордашка, в ко-
торую невозможно не влюбиться.
— Что, Аллочка? — улыбнулась я.
— Мы видели Аполлона Аполлинарьевнча вечером.
— Та-ак.
— Он сказал, нам снова дают первоклашек из детского дома.
Я отшатнулась. Будто ожог, давнее прозрение: школьная лест-
ница, мои малыши возле перил, горькие, непонимающие глаза
Я взяла себя в руки Ты-то при чем? Мало ли что? Кроме
тебя, есть люди, а ты займешься собой, встретишь хорошего че-
ловека, нарожаешь детей.
— Что с вами? — крикнула встревоженно Анечка.
— Ничего! — улыбнулась я.— Ровным счетом!
— Держите! — крикнул Сева. Он размахнулся и кинул снизу
букет черемухи.
Цветы ткнулись мне прямо в лицо, и я ощутила тонкий аромат.
Был июнь
Пора цветения.
Часть вторая
НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА
НЕЖЕЛАННЫЕ, ИЛИ МАТЬ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
Добро и зло для ребенка — это то, чем
была молния пли улыбка солнца для пер-
вобытного человека — таинственной ка-
рающей десницей или благословением.
Януш Корчах.
Подступаясь с бьющимся сердцем к тяжкой этой теме, я долго
и мучительно думал о том, какой выбрать к ней камертон, какую
интонацию из многих возможных — п даже нужных! — должно
признать единственно точной... Не знаю, достигнута ли искомая
цель, но вот к чему снова и снова возвращается моя тихая пе-
чаль, о чем спрашивает моя героиня и на что я не могу дать ей
ответа,— впрочем, она и не ждет от меня ничего; она спрашивает
себя, и я тоже себя спрашиваю, бесконечно возвращаясь к этой
простой мысли: отчего даже хорошие, достойные люди так не лю-
бят знать про чужую беду, так сторонятся ее, так не хотят ду-
мать о ее истоках?
А может, в этом — праведная закономерность, и нравственное
здоровье наделено рационатьным эгоизмом, по законам которого
надо держаться подальше от всяких бед, памятуя лишь о поло-
жительных началах стоть быстротекущей жизни?
Или есть суеверие, по которому надо сторониться больного я
неприятного?
Но почему же тогда она, моя героиня, ведет себя по-другому?
В силу должности своей, избранной профессии?
Нет.
Я все время задавался вопросами: у нее — что, душа шире?
Конечно, шире, чем у тех матерей, с какими ей дело иметь при-
ходится, но сравнение это не правомочно, души у этих женщин
с изъяном; если же вести отсчет от чувств естественных, то душа
у моей героини, как говорят врачи, в пределах нормы, если, ко-
нечно, можно так говорить о душе. Может, сил у нее больше? Да
нет. Мораль какая-то иная, другой, высшей чувствительности? Нет.
Мораль здравого смысла—это самое безошибочное, если говорить
о правилах поведения в необычных обстоятельствах, и свод вну-
тренних «истин моей героини выглядит именно так.
Видимо, она просто праведно живет, согласуй поступки с серд-
цем и здравым смыслом,—это ведь тоже много, когда речь идет
о мудром исполнении долга.
Нет, и это не то, хотя, согласен, немалое дело — жить и рабо-
тать в предложенных обстоятельствах именно так.
187
Есть в ее поступках нечто особенное, выделяющее, где сердце,
здравый смысл, высокая чувствительность души — лишь основа,
на которой строится все отношение к жизни.
Осознанность. Вот, пожалуй, это слово ближе всех остальных
приближается к правде.
Осознанность своего места, своей роли в ни на минуту не ути-
хающем спектакле болей и радостей.
Она не актриса в этом спектакле, а действующее лицо. И ре-
жиссер своих поступков—она сама.
* * *
Еще одна подробность — в преддверии рассказа.
Я шел в этот дом, и по дороге мне попадалось множество де-
тей. Боковым, неосознанным зрением я отметил этот факт, удив-
ляясь обилию ребят — и постарше, и совсем маленьких, и вовсе,
видно, грудных, в разноцветных колясках, везомых бабушками и
молодыми матерями, и ничего не привлекло меня в обычности этой
уличной идиллии, ничего, кроме множества.
Но множество — категория количественная и не всегда способ-
но вызвать самостоятельную мысль...
Когда я возвращался, детей на улицах стало гораздо меньше,
может, оттого, что вечерело,— но я жадно вглядывался в каждое
детское лицо—независимо от желания вглядывался с пристрасти-
ем и ревностью, и находил, да, находил такое простое подтвержде-
ние ее слов; «Ребенку нужно, чтобы руки матери пеленали, ла-
скали, одевали, кормили — только его одного».
Дети, идущие, едущие в колясках, казались безмятежными и
тем, выходило, были как бы на одно лицо.
Они были просто беспечальны.
Легко сказать: просто.
Беспечальность идет от естественности жизни, и она проста,
коли жизнь счастливо проста и счастливо обыкновенна.
Сделать беспечальной печальную жизнь — вот что непросто.
* 4: *
В сущности, внешне здесь нет ничего особенного, выделяюще-
го. Обыкновенный детсад.
И лишь для меня—необыкновенное стечение обстоятельств: в
этот сад, точнее — в сад, который был когда-то именно в этом
здании,— подумать только! — ходил я лет этак сорок с лишним
назад.
Сердце екнуло, но несильно, негромко — время сделало свое
дело. В памяти яркие, невьщветшие, но редкие лоскутки из самого
раннего детства.
Однажды на прогулке во дворе мы нашли мертвого воробья.
Кто-то из девчонок хлюпал носом, а мы, мальчишки, принялись
рыть под тополем могилу детсадовскими своими лопатками. Дело
шло туго, потому что схоронить воробья мы решили под старым
тополем, и у нас недоставало сил перерубать тополиные корни.
188
Наконец, яму отрыли, завернули птицу в клочок газеты, засы-
пали, поставив вместо памятника палку. Помню, в обед уже все
смеялись, даже девчонка, которая хлюпала носом, а мне было
обидно за воробья, что все так быстро его забыли.
Теперь, войдя во двор, я поискал глазами тополь и нашел его
Он совсем состарился, утратил размашистость ветвей, высох, как
высыхают к старости люди, но часть листвы еще молодо шеле-
стела.
А память вынула из запаса еще один яркий лоскуток.
Мама, ее розовое, с холода, лицо, резко-зеленая, с серыми об-
шлагами и воротом, кофгочка,— мама пришла за мной, я что-то
крепко заждался ее —и вот она протягивает мне маленькую ман-
даринку, завернутую в шуршащую, полупрозрачную бумажку с
картинкой. От мандаринки вкусно пахнет праздником, ожиданием
радости, и я прижимаюсь, обняв маму, втягиваю в себя аромат
мандаринки—как славно, что она не просто так, а в особой бу-
мажке— запах маминой нарядной кофточки, свежесть морозца,
захваченного с улицы, и мне так сказочно хорошо, хорошо...
А еще я помню вот это пространство между этажами, раньше
тут была раздевалка нашей группы, воспитательница наказала
меня несправедливо — за что, не помню, а вот несправедливость
осталась — и я сижу тут, на лавочке, слезы текут по щекам, и
мне до страсти хочется умереть — пусть порадуется, несправедли-
вая, моей несправедливой смерти.
И вот зал. Сохранилась фотография: я в военной форме, с
красной звездой на шлеме, за спиной винтовка, а сам я на игру-
шечном коне — и вид у меня решительный. Год был предвоенный,
а может, даже первый военный, его начало, до беды осталось
всего несколько месяцев, в саду какой-то утренник, я только что
декламировал стихи, где поминался враг, которого мы побьем, нар-
ком Ворошилов, винтовка, и вот я, вышедший прямо из стихо-
творения, сижу на коричневом коне, а на меня, я это помню точно,
с любовью взирает из-за спины фотографа дорогая бабушка
У фотографа большой аппарат с треногой, он обещает птичку, и
я напряженно гляжу в стеклянное окошко, откуда вылетит обе-
щанная птичка, а не тот воробей, которого мы схоронили под то-
полем...
Я иду по залу, который теперь кажется обыкновенной комна-
той, я поднимаюсь по ступенькам, которые были когда-то так вы-
соки, я прикасаюсь к низеньким, для детей, перилам, которые
прежде были в самую пору, я улыбаюсь, перебирая лоскутки не-
возвратимого детства, и странным, таким простым и таким неяс-
ным образом перехожу из своего детства в детство нынешнее, в
похожий, но другой дом.
Если бы не память, ничего особенного. Обыкновенный детсад.
Малыши просыпаются: кончился тихий час. Махонькие кроватки,
спросонья, огромные глаза, светлые, черные, серые головенки.
И громкий голос медсестры:
— А вот это у нас отказник! Мишенька, привет!
189
Мишенька беспечально улыбается.
— А вот этого нам подкинули! Сережа, к чаю — конфеты!
Сережа смотрит задумчиво, вполне осознанно, и никакие кон-
феты его не волнуют.
— А вот этот у нас дурачок! — восклицает сестра, и я гово-
рю ей:
— Тише, что вы!
— Ой,— машет она рукой.— Они ничего не понимают!
Я не согласен с ней, тороплюсь выйти из спальни. Мне нелов-
ко, что я участвую в таком разговоре. В ползунковой и в младшей
группе, думаю я, будет полегче, там можно говорить все, сосунки
и ползуны ничего не понимают действительно, а трехлетки — они
понимают, все понимают, если не умом, так душой, они ждут, не
сознавая этого, они чувствуют свою застылость и чувствуют, что
где-то живет их радость, их волшебное оживление: в один пре-
красный миг, как вот теперь, дверь распахнется, войдет незна-
комый дядя или еще лучше незнакомая, но такая родная, долго-
жданная тетя, и все на свете перевернется, потому что...
Мороз продирает по коже, когда спросонья, еще не выбрав-
шись как следует из дремы, чей-то тонкий голосок произносит
взахлеб:
— Папа!
И нестройный хор повторяет, глядя на меня с наивной, довер-
чивой открытостью:
— Папа! Папа! Папа!
— Нет, это не папа,— вносит ясность сестра и выпроважива-
ет меня из спальни.
Надежды напрасны — в малышовой группе легче не становится,
когда видишь сморщенные, стариковские лица и попки новорож-
денных, которых, обгоняя друг друга, прибирают сестра и нянеч-
ка, сбившиеся с ног.
Нянечка — совсем юная, сестра — постарше, видать опытная,
обходится с малышами споро, да только сколько же надо тер-
пенья и сил, чтобы вдвоем два десятка карапузов обиходить, уте-
шить, посадить в манеж... Из кроваток слышится рев и грай, в
манеже тише.
Лежат гулькают себе под нос, пускают слюнки, разглядывают
потолок полдюжины совсем новеньких людей. Еще не ведают
они ни о чем. Не ведают о себе, о судьбе своей.
А судьбы у них — у всех до единого, у целой сотни с лиш-
ком — уже драматические.
Потому что этот детсад вовсем не детсад, а Дом ребенка.
Детский сад — он лишь внешне. Внутри же...
А нутро этого дома печали — в маленьком железном сейфике.
* *
Иметь бы групповой портрет — но сделать его фотографу бу-
дет физически невозможно: рук не хватит, ни у фотографа, ни у
остальных,
190
Главврач, врачи, старшие медсестры, няиечки, педагог,— если
всех собрать вместе, да еще позвать иа помощь специалистов, ко-
торые ходят дважды в год на освидетельствование детей,— пси-
хиатра, отоларинголога, дерматолога, хирурга, невропатолога,—
если даже фотографа позвать, при условии, что тот заранее уста-
новит свой фотоаппарат,— и при этом старшие группы будут сто-
ять на своих ногах, все равно рук ие хватит, чтобы сняться всему
Дому ребенка, в полном составе. Если даже взрослым по два ре-
бенка взять. Рук тут не хватает в прямом, буквальном смысле
слова, и групповой портрет возможен лишь в уме.
А портрет в уме, это ведь ие собрание изображении,— собра-
ние судеб...
Приступать к нему без провожатого — дело немыслимое и
опасное. Так что я выбираю в поводыри — ее, мою героиню.
Почему именно ее, станет ясно несколько позже. Что касается
ее служебного положения, то дело это ей в самую пору. Она — пе-
дагог. А зовут ее...
Ее имя очень просто, обыкновенно, я же, по размышлении, на-
зову ее именем нереальным, чуточку шутливым и все же вполне
серьезным, с отчеством, произведенным от имени не мужского,
а женского, потому что добродетели, о которых идет речь, увы,
женского рода.
Итак, назовем ее Вера Надеждовиа. Фамилия образуется от
имени Любовь. Так что если вам необходима ее фамилия, возь-
мите это имя и образуйте фамилию, которая вам понравится
больше.
И все же — не о ней вначале.
О ее деле.
* * *
Железный маленький сейфик хранит самодельные папочки,
точнее—картонные кармашки, размером чуть побольше свиде-
тельства о рождении. На обороте этих свидетельств стоит мили-
цейский штамп о прописке владельца документа в Доме ребенка.
Штампик тиснут прямо на свидетельстве или на отдельной бумаж-
ке, приклеенной к нему.
Картонные кармашки тонки, а документы повторяемы: направ-
ление отдела здравоохранения, решения народных судов о ли-
шении матери родительских прав, акты медицинского освидетель-
ствования— каков малыш при поступлении в Дом ребенка. Есть
еще два рода документов, один — типовой, другой — произволь-
ный. Оба вызывают озноб.
Типовой называется договором, и хоть много видывал я дого-
воров, вызывающий столько чувств прочитал впервой, а потому
привожу его целиком:
191
ДОГОВОР
Настоящий договор заключен, с одной стороны,
гр---------------------------------
родж------место рождения
проживающей _______________________
С другой стороны, Дом ребенка горздравот-
дела
Настоящий договор заключили о ниже-
следующем:
Гр---------------------------------
передает своего ребенка на воспитание в Дом
ребенка__________________,_________
Перед Домом ребенка я ОБЯЗУЮСЬ:
1. По истечении срока договора взять обрат-
но своего ребенка для дальнейшего воспи-
тания.
2. Своевременно сообщать свое место нахож-
дения, если оно изменится.
3. Выполнять свои родительские обязанности,
регулярно навещать своего ребенка, оказы-
вать содействие Дому ребенка в воспита-
нии моего ребенка.
Если я нарушу это обязательство, то, в
соответствии со ст. 101 Кодекса о браке и
семье РСФСР, мой ребенок по решению ис-
полкома Советов народных депутатов может
быть передан на усыновление или удочерение
другим гражданам без моего согласия.
Настоящий договор составлен
«»198 г.
В двух экземплярах по одному для каждой
стороны.
Главный врач Дома ребенка
Сдавшая (ший) ребенка
192
Как видим, обязательств минимум. Жестче надо? Хотя бы взы-
скивать материальную помощь? Нет, государство этим миниму-
мом своим демонстрирует человеколюбие, понимание женщины,
матери-одиночки, которая попала в непредвиденную ситуацию, и
год-два-три даются ей в виде отсрочки выполнения материнских
обязанностей.
Вот студентка попала в тяжкое положение — семья далеко, ма-
лообеспеченная, стипешка скудная, учиться осталось два года, а
в общежитие ребенка не возьмешь и в ясли не устроишь.
Были, были случаи — бегали чуть не каждый день, плакали
над своим малышом, потом учение заканчивали и забирали ребят
с поклоном, с благодарностью, с вечной памятью про тяжкое и
все-таки благословенное начало, подмогу не очень радостного, но
нужного дома.
Выходит, договор этот, минимум обязательств нужен в таких
именно пределах — ведь рассчитан бланк на типовое благородство,
а не па массовую подлость.
* * *
Вот еще один бланк, более жесткий и по названию, и по сущест-
ву. Тут уже не «договор», но «акт», тут уже не договариваются,
а фиксируют, да п происхождения документ этот милицейского.
Итак, заголовок: «Акт о доставлении подкинутого ребенка».
Инспектор и двое понятых — имярек — составили акт о том, что в
поезде № 194, вагон № 3, в 18.15 московского времени обнару-
жен мальчик, приметы которого таковы: смуглый, нос курносый,
одет в ползунки махровые, капор белый в малиновый горошек,
чепчик розовый, одеяло в розовую клетку, розовые цветные пол-
зунки про запас.
Еще один документ, приложенный к акту. Ходатайство в гор-
загс. «Мы, нижеподписавшиеся — заведующий отделением город-
ской больницы такой-то, ординатор такой-то, хирург такой-то, про-
сим зарегистрировать мальчика семи месяцев, рождения 15 мая
1981 года, и присвоить ему фамилию, имя, отчество — Бурденко
Иван Иванович. В больницу поступил тогда-то с линейного отдела
милиции станции такой-то».
В выборе фамилии явно сказалось присутствие хирурга среди
вынужденных ходатаев, что ж, честь ему и хвала, что подкидыш
стал однофамильцем замечательного человека. Пусть хоть это бу-
дет пока что залогом его достойного будущего.
Знали бы, знали великие люди прошлого — давнего и близко-
го— мудрые ученые, талантливые писатели, героические полковод-
цы,— сколько безвестных, покинутых ребятишек получили их слав-
ные имена и сколь прекрасно святое желание опечаленных взрос-
лых, оказавшихся у истоков этих детских судеб, хотя бы именами
обеспечить невинной, да уже опаленной бедой ребятне прекрас-
ное, возвышенное родство.
Что в этом? Хрестоматийная ограниченность? Сентиментальная
экзальтация? Неумение придумать ничего лучшего?
193
Я думаю, желание внушить мудрость, талантливость, героизм
будущим людям, завтрашний день которых, по вере их нарекате-
лей, в собственных руках тех, кто только начинает быть.
Высокое имя к высокому и обязывает — почему бы и не согла-
ситься с этой благородной, доброжелательной версией?
* К *
И вот еще один документ в пример, уже без всякой формы,
писанный произвольно, как бог на душу положит, смысл только
один, одна коробящая суть.
«Я, Пошева Фаина Ивановна, 1956 года рождения, родившая
ребенка женского пола, весом 2450, двадцатого июня 1982 года,
отказываюсь от воспитания и любых прав на него. Я не замужем,
материальные условия плохие. Ребенок у меня третий, двое уже
сданы государству». И подпись. И дата: десять дней спустя после
рождения.
Я видел это создание, этот орущий кулек — еще не человек,
только лишь человеческий материал, оболочка, в которую надо
вдохнуть душу, а вначале вдохнуть здоровье, сохранить жизнь.
Он плачет, этот «ребенок женского пола»,— плачет не от беды,
от самого факта присутствия в жизни, и нет ему никакого дела
до того, что присутствие его это тут нежелательное для родившей
его женщины.
* * *
К чему я стремлюсь? Чего добиваюсь?
Я пишу для добрых люден. Для тех, кто печаль эту — не толь-
ко мою — поймет и разделит. И все же, все же, как писал Твар-
довский, отлично я понимаю, что прочтут написанное мною не одни
лишь добрые люди. Прочтут и злые. Прочтут и зададут этот ка-
верзный вопрос — для чего он пишет об этом? Чего добивается?
Может, стремится бросить тень на святое наше материнство?
Поставить под вопрос его чистоту и здоровье? Лишить уверен-
ности нас таким образом?
Отвечаю недоверчивым: успокойтесь!
Миллион благодарных слов сказано о материнстве, а все ведь
мало. Да разве в благодарении лишь одном дело?
Мать — наш самый близкий и самый родной человек до гробо-
вой доски — ее ли, нашей ли,— от нее мы получаем и самое жизнь,
и всё, что за этим следует,— силу, любовь, уверенность в себе.
Мать учит нас правилам людским, оживляет ум наш, вкладывает
в уста наши доброе слово, а память осеняет своими беспрекослов-
ными наставлениями о самом дорогом и человечном, что было до нас.
Из тысячи стихов, написанных о матери и материнстве, нет ни
одного, пожалуй, неискреннего, а мне вот все же очень нравятся
эти негромкие строки Твардовского:
Ты робко его приподымешь:
Живи, начинай, ворошись.
Ты дашь ему лучшее имя
На всю его долгую жизнь.
194
И, может быть, вот погоди-ка,
Услышишь когда-нибудь, мать.
Как с гордостью будет великой
То имя народ называть.
Но ты не взгрустнешь ли порою,
Увидев, что первенец твой
Любим не одною тобою
И нужен тебе не одной?
И жить ему где-то в столице,
Свой подвиг высокий творить.
Нет, будешь ты знать и гордиться
И будешь тогда говорить:
А я его, мальчика, мыла,
А я иной раз не спала,
А я его грудью кормила,
И я ему имя дала.
Перечитайте последнее четверостишие еще раз. У какой оже-
сточившейся души не вызовет оно теплой волны, подкатившей к
горлу? Высокие слова имеют шанс остаться холодными, простые
же, как эти, всегда теплы.
Поэт, как известно, и самое отвлеченное через себя пропуска-
ет, а тут —о матери. И не хочешь, а знаешь, веришь: слова эти
простые складывая, Твардовский свою мать видел.
Так что не злого человека хочу я видеть перед собой, а добро-
го, понимающего, принимающего чужую беду. Вот и вижу я гла-
за матери великого поэта, которая могла и должна была ска-
зать именно так, как записал ее сын, и к ней обращаясь, спра-
шиваю:
Как сердце материнское может ожесточиться до такой меры,
чтобы от ребенка своего отказаться?
Или вовсе не материнское оно, ведь бывает же, что женщина
и мать — понятия не совпадающие?
Эгоистка обыкновенная?
Ведь как бы ни трудно жилось, вот этой, например, Пошевой
Фаине Ивановне, 1956 года рождения,— а допустить это мож-
но,— не трудней же ей приходится, чем многим тысячам, живу-
щим от нее неподалеку и нелегко, а вот ведь не бросающим сво-
их детей?
А вдруг материнство, святая эта ипостась, тоже способно вы-
рождаться? Нет, не вообще, не везде и сразу, а в отдельных жен-
щинах, в отдельном роде, семействе?
Трудно вообразить себе обыкновенную женщину, которая бы
написала вот такую расписку и потом, всю жизнь свою оставшую-
ся, не каялась бы, не терзала себя. Значит, женщина эта — не
обыкновенная, выродок, чудовище, поганка без корней?
195
Отвечу на собственные вопросы.
Печальная эта истина, трудно с ней смириться, трудно при-
нять, но истина потому и зовется истиной, чго она правдива. Так
вот—существует печальная истина, по которой и святые начала
могут угасать, умирать, вырождаться.
Выяснить причины угасания, умирания и вырождения — дело
не очень приятное, но нужное, важное.
Видеть красивое — всегда приятно.
Видеть ничтожное — больно. Оно слепит, оно вызывает отвра-
щение. Любоваться ничтожным немыслимо, но препарировать его
необходимо, иначе оно будет процветать. Ничтожное подобно опу-
холи— выяснив причины ее возникновения, опухоль надо лечить,
а если нужно, оперировать.
Так и тут.
Горько говорить о материнстве ничтожном, несостоявшемся,
поруганном.
Но суждение о поруганном материнстве вовсе ие означает не-
уважения к материнству истинному, прекрасному, достойному.
Стоит ли говорить вообще на эту тяжкую тему? — могут спро-
сить меня. Ведь поруганное материнство составляет доли процен-
та и не способно составить серьезной проблемы.
Согласиться бы с радостью, да не выходит. Безответственное
рождение, безответственное материнство похоже на выстрел шрап-
нелью: оно поражает сразу многих.
Даже нерожденных.
* * *
Вера Надеждовна:
— Вот сколько думаю, сколько бьюсь, а никак попять не могу,
никак не найду ответа: жизнь наша все лучше и лучше становится,
спокойнее, материально, если только хочешь, конечно, стремишь-
ся, каждый может себя обеспечить, если же говорить о помо-
щи — обратись только, разве кто откажет, завод ли, колхоз, лю-
бое учреждение,— но вот никак не убывает, нет, никак меньше
их не становится, наших ребятишек, без вины виноватых.
* * *
Кто же они, виноватые? Какие они?
Она вспоминает свое начало, полтора десятка лет тому назад.
В моде тогда были плащи болонья, мало кто их имел, и вот при-
ходит из роддома вместе с ребенком такая эффектная мамочка —
в болонье, на иодных каблуках-шпильках, вся из себя элегант-
ная, приносит младенца, чтобы соблюсти последние формальности,
поставить подпись под отказом, сходить с патронажной сестрой
к нотариусу.
Пока дамочка ждала, женщины о своем говорили.
Вера Надеждовна сказала, между прочим, что вот, мол, они
с мужем получили двухкомнатную квартиру, одна дочка у них
есть, неплохо бы и о сыне подумать — так, обычный женский раз-
196
говор, не больше, не меньше,— но кто же квартире не радуется,
кто не связывает с ней своих намерений.
И вот та эффектная дамочка в модной болонье и на шпильках
вдруг гордо так говорит:
— А у меня трехкомнатная квартира!
Разговор как осекло, все замолчали, хотя на языке вопрос вер-
телся: «И что же единственного своего ребенка сдаешь?» Знали
уже по бумагам — ребенок единственный, первый.
Сходила дамочка к нотариусу, поставила точку в судьбе соб-
ственного ребенка, стала прощаться,— не с ним, а с сотрудница-
ми,— Вера Надеждовна ей и говорит:
— Покормите хоть последний раз грудью дитя-то собст-
венное!
Та не смутилась ни чуточки, воскликнула:
— Что вы! Я его и в роддоме-то не кормила.
Кивнула, прикрыла за собой дверь и навек исчезла.
Вариант первый: приехала, беременная, из Читы к сестре, по-
жила тут несколько месяцев, родила ребенка, отказалась от него,
махнула хвостом, заметая следы, и вернулась назад в свой город.
Вариант эгоистки, потерявшей совесть.
— Замела следы? — сомневаюсь я. Ребенка, это был мальчик,
усыновили добрые люди, а в таких случаях, по законодательству,
матери, если она даже очень захочет, о ребенке ничего не узнать.
При таком раскладе, выходит, скрыть материнство куда легче, чем
скрыть отцовство...
Впрочем, речь сейчас не об этом. Речь о природе — если это
природа!—такого материнства. Вопросы рождаются прямые, но
закономерные: материнство ли это вообще? Почему надо надеять-
ся лишь на суд совести в таких ситуациях? Отчего женщина, по-
добная моднице на шпильках, освобождена от всякой моральной
и материальной ответственности? Возможна ли вообще ответствен-
ность?
И еще: какова мораль этой женщины? До каких степеней изо-
лгалась она перед близкими — ведь есть же и близкие у нее?
Кто ее учителя? А мать, чему научила она? Или в личной судьбе
образовался излом такой драматической силы, что пришлось из-
бавиться от сына? Это, впрочем, звучит смешно, ибо с точки зре-
ния нормальной психологии изломом таким, вызывающим пони-
мание, может служить лишь собственная смерть или неизлечимая
болезнь при родственной пустоте вокруг.
Об этом речи, выходит, нет.
Речь идет о постыдстве, о казни материнства женщиной, спо-
собной рожать.
Л * *
Вариант первый предполагает человеческою подлость, в дан-
ном случае сугубо женскую подлость — и больше ничего.
Никаких оправданий нет и быть не может.
Налицо признаки благополучия—материального, имеется в
197
виду,— умысла, осквернения материнства, боязнь за собственную
судьбу, точнее — за собственную шкуру.
Подлее этого трудно придумать.
Вариант второй имеет, так сказать, привходящие обстоятель-
ства.
Нельзя сказать, чтобы обстоятельства эти вызывали сочувст-
вие, приязнь, скидку,— ни в коем случае. Современное законо-
дательство признает их отягчающими обстоятельствами, и это
вполне справедливо.
Однако они есть, и это очевидно.
Что за обстоятельства?
Беспутная, порой развратная жизнь и пьянство.
Сразу сделаю необходимую и важную, на мой взгляд, оговор-
ку. О пьянстве много говорят, много пишут. Ясное дело, прежде
всего беспокоят прогулы — как следствие пьянства, плохая, нека-
чественная работа, дисквалификация людей: что может доброго
сделать человек с трясущимися руками и мутным взглядом?
Пьяному, гласит народная мудрость, море по колено, ему все лег-
ко: от оскорбления, мордобоя до воровства, до домашнего терро-
ра, до нарушения самой святой истины.
И все же, как ни крути, все это первичные, лежащие на по-
верхности итоги пьянства. О следствиях — самых страшных, чело-
веческих следствиях тяжкого этого зла—говорим мы неохотно,
как правило, не углубляясь далее разрушенных семей.
А следствие его куда глубже! Уходит в пространство и время
злобная сила водки, необратимо ломая судьбы и жизнь.
Так вот, вариант второй — это мать, лишенная судом, а значит,
государством родительских прав, и в ста случаях из ста магь
эта — пьющая.
Та, первая, в модной когда-то болонье, растоптала материн-
ство умышленно; другая, расхристанная, неопрятная, с синяком
под глазом, с трясущимися руками, несвязной речью, тусклым,
не вполне осознанным взглядом, тоже растоптала материнство,
правда, вроде бы неумышленно: водка погубила.
Однако есть ли разница? В чем она? Ведь разницу нужно су-
дить по результату. А он одинаков.
А если говорить про результат отдаленный, то и в лучшем
случае — подчеркнем эти слова: в лучшем случае, они много зна-
чат — мука станет трехсторонней, мучиться будет не только пьян-
чужка-мать, не только несчастная родня и окружение, но и под-
росший ребенок,— мучиться сознанием неполноценности собствен-
ной матери, ее никчемной, исковерканной жизнью со всеми ее,
рикошетом попадающими, бедами. Повторим: в лучшем случае.
На этот лучший случай сильно надеется государство, сильно,
ничего не скажешь. Самый главный признак человечности, на мой
взгляд, признак истинного гуманизма состоит в том, чтобы чело-
веку, который споткнулся, дать шанс, дать попытку выпрямить-
ся, починить свою жизнь, исправить ее, улучшить.
В ситуации, когда речь идет о материнстве, есть что сравнить.
198
Родительских прав человека лишает суд по всем, понятно, пра-
вилам строгого правосудия: судья, народные заседатели, проку-
рор, адвокат, свидетели — уйма народу выясняют все подробно-
сти дела, чтобы вынести заключительный вердикт. И он, этот при-
говор, справедлив всесторонним, доскональным, привередливым,
если хотите, выяснением всех, самых мельчайших обстоятельств.
Словом, материнства лишает общество, и, пожалуй, лишь в кри-
чащих случаях, когда без этого обойтись невозможно.
При этом: возбуждает дело, как правило, общественность, ми-
лиция, школа — судьба ребенка у всех на виду и всех беспокоит.
При этом: стоит родителям, читай — матери, исправиться, бро-
сить пьянку, заняться воспитанием, хотя бы элементарным, при-
няться за работу, и наше общество дает ей шанс пересмотреть
дело, вернуть назад утраченные права.
При этом: даже лишенной родительских прав однажды, затем
эти права восстановившей и вновь потерявшей их женщине снова
дается этот спасительный для нее — как для человека и как для
матери — шанс: попробуй еще. И еще, и еще. Человеку верят до
последнего. Если хотите, до самого последнего.
При этом: закон щадит самое святое родительское право че-
ловека, совершившего даже высшее по тяжести деяние.
При этом: мать, лишенная родительских прав, не лишена
возможности видеть своих детей, говорить с ними. И хотя, по
правде сказать, далеко не всегда это общение приносит пользу
ребенку, в возможности видеть своих детей тоже много по-чело-
вечески понятного.
Это все — закон, гуманный закон, его самоответственность, его
человечность, его стремление дать человеку шанс.
И — при этом! — мать лишает сама себя всех своих прав и обя-
занностей— раз и навсегда лишает! — без всякого суда, без про-
курора, без свидетелей и заседателей, без общественности и адво-
ката, подписывая своей рукой заявление об отказе от ребенка.
Единственный, кто требуется, и то лишь для соблюдения про-
токола, утверждения факта,— нотариус.
Общество лишает материнства, давая бесконечное множество
шансов, мать вправе лишить себя всех своих прав — раз и на-
всегда— единственным своим решением: ф>акт в пользу доброты
общественного решения, против жестокости решения доброволь-
ного.
Но это лишь одна сторона дела.
* * *
Вера Надеждовна:
— Я всегда поражаюсь! Они не знают? Сейчас все всё знаюг!
Не могут совладать с собой? Трудно поверить. Эти женщины жа-
леют себя, вот что. Рожать хорошо, вот что они выучили, един-
ственное, что выучили. Получают декретный отпуск, попятное де-
ло, оплаченный. Возможность жить праздно, опять же пить. Зпа-
199
ют, что при родах организм обновляется, некоторые хорошо пере-
носят беременность. Словом, жалеют себя, не думая о ребенке —
о том, каким он будет.
* * *
Каким он будет — самое трагическое место в этой нелегкой
проблеме. Пьющая женщина, как правило, рожает ребенка ог
пьющего и пьяного отца. Сама, к тому же, во хмелю.
Кто рождается?
Олигофрены. Дети с врожденными умственными недостатками.
Дурачки.
Но даже если это обнесет, дай бог, что будет там, в будущем,
когда, отнятые государством у пьянствующих матерей, их дети
станут взрослыми? Что станет с их детьми? С детьми их детей?
Безответственность бывает разной. Есть безответственность,
наказуемая самыми строгими статьями закона,— безответствен-
ность, ведущая к преступлению, безответственность, за которую
лишают свободы.
Но нет безответственности страшнее, чем бездумность жен-
щины, называющей себя матерью в пьяном, угарном чаду и в
пьяном, угарном чаду избирающей это безмерно ответственное
назначение.
Она не прихоть свою исполняет, не желание, нет.
Она стреляет из бесчеловечного дальнобойного орудия — стре-
ляет в будущее и, кто знает, может, даже в вечность, чтобы и
по вечности этой бродили страшные, трясущие головой, с вылез-
шими, бессмысленными глазами, тупыми, тяжелыми подбородка-
ми и узкими лбами ее выродившиеся пра-пра-правнуки...
Залп этот долог, протяжен, веерообразен: вливаясь в другие,
не зараженные водкой, крови он коверкает судьбы ни в чем не
повинных, никакой беды не ждущих людей.
Это не слова, не лозунги, не способ устрашения слабонервных.
Десять — пятнадцать процентов детей из Дома ребенка, где
работает моя Вера Надеждовна, увозят потом в специальные дет-
ские дома для умственно отсталых.
А какие тяжелые остальные ребятишки!
Вера Надеждовна обучает медицинский персонал и нянечек,
как работать с малышней — как учить их гулить, ползать, лепе-
тать, дальше—ходить и говорить. Потом она проверяет состоя-
ние детей, уровень их, если хотите, подготовленности, уровень
развития. Хоть она и не врач, а лишь педагог—врачи констати-
руют это само собой, в особых, на каждого ребенка, делах,— ие
заметить отставание развития невозможно: в шесть месяцев дети
лежат пластом, хотя при нормальном развитии в семь-восемь
должны уже сидеть. В три года, к «окончанию-» Дома ребенка,
многие из них не способны даже произнести связное предло-
жение.
200
* * *
Вера Надеждовна:
— Обездоленность наших детей в том, что нет над ними ма-
теринских рук.
* * *
Нет и не может быть запретных тем, когда думаешь о счастье
ребенка, о счастье будущего человека, о его здоровье — физиче-
ском и духовном. И потому я вынужден сказать еще об одном,
чем сыт по горло любой Дом ребенка. Это — плоды неграмотно-
сти, непросвещенности.
Речь идет о нежелательной беременности, но тут — медицин-
ский, а потому неточный термин применительно к тому явлению,
чьи результаты хлебает Дом ребенка. Слово «нежелательная»
в медицинском термине имеет вполне точное наклонение: здоровье
женщины, ее организм не всегда готов исполнить материнские
обязанности, потому такой и термин. У нас же речь идет о неже-
ланной, точнее еще — нежелаемой беременности. Когда вмесио
того, чтобы обратиться к врачу, получить грамотный совет, а
затем принять решение, женщина, как правило молодая, слуша-
ет безграмотные советы подружек да старушек, глотает неведомые
таблетки, глушит ребенка в себе самой, да так — по неграмотно-
сти и глупости, взятым вместе,— и рожает его оглушенного, от-
равленного, искалеченного.
О самом печальном я умолчу, это в ведомстве не таких уж
частых, хотя и вовсе не редких медицинских учреждений, где
люди — врачи, медсестры, нянечки — жизни свои кладут во имя
травленых и калеченых детей. Разговор о тех, кого обносит самая
тяжелая участь — лишь «осколками» задевает.
Вот история лишь одного, по имени Рома, Роман, значит: под-
черкну— типичного из типичных.
Начало: родился недоношенным, двадцати семи недель вместо
сорока, вес всего 1700 граммов, длина — 38 сантиметров. Все эго
означало, что уход ему требуется особый, питание—специальное,
медицинские меры — экстраординарные. И первое, самое глаз-
ное—материнские молоко, материнская забота и ласка.
А он — с рождения на искусственном вскармливании. В Дом
ребенка поступил трех месяцев, по «договору».
Как же тяжек этот односторонний договор для тех, кто дол-
жен был заменить Роме мать, сколько же бескорыстия, самоотвер-
женности, желания помочь в этом листке бумаги, коли говорить
об обязательствах государства и все тех же женщин из Дома,
которые государство представляют собственными руками!..
Записи о Роме перед «выпуском».
Начал переворачиваться в восемь месяцев, голову держать —•
в девять, сидеть — в год, стоять возле барьера в год и три меся-
ца, ходить — в год и восемь месяцев, говорить первые легкие сло-
ва— в два года. И все это — результат материнского отсутствия,
той самой печально нежеланной беременности.
201
Раннее детство — залог развития, а отсюда залог бодрости или
вялости, радостного, осознанного—или тусклого, приходящего
как бы сквозь стену, миропонимания. Если быть строгим и пре-
дельно честным, там, в эти первые годы жизни, закладывается
итп полноценное или неполноценное, болезненное, а значит, ущерб-
нее развитие.
Вот конкретный вывод из трехлетнего Роминого жизнеописа-
ния: в результате нежелаемой беременности, маминых неуклю-
жих попыток избавиться от него и преждевременного рождения —
слабость, предрасположенность к простудам, целый реестр пере-
несенных к трем годам болезней: энцефалопатия смешанного гене-
за, синдром вялости, амфалит, двухсторонняя пневмония, железо-
дефицитная анемия, трахеобронхит и уж, конечно же, ОРЗ.
Не надо сильной медицинской образованности, чтобы попять,
сколько бед пришлось вынести малышу. Я видел его. Милая мор-
дашка, с чуть притупленной для подобного возраста живостью.
Врачи, сестры, нянечки подтянули его и, представьте, подготови-
ли, чтобы вернуть — согласно условиям договора — маме. Если
можно так назвать ее, конечно.
Мама за три года не нашла и часу, чтобы повидать сына.
К той поре, когда требовалось исполнить условия обязательств,
ее не оказалось дома: она уехала в отпуск.
Нежеланный так и остался нежеланным, несмотря на стара-
ния женских рук.
Л * *
Вера Надеждовна:
— Мы, конечно, знаем, что детям у нас хорошо — но лишь в
сравнении с жизнью семей, откуда они к нам попали. Знали бы
вы, как расцветают наши бутончики, когда их коснется настоя-
щее тепло...
* * *
Настоящее тепло.
Думая о нем, первая мысль, какая стучит в голову,— о не-
равновесии, о вечном неравновесии в этом странном мире.
Одной счастье дано в руки—она, слепая, счастье за беду
признает, понять, глупая, не может, что минутная душевная не-
уютность, которая ей досталась, минует, забудется, а вечное, не-
преходящее —- жизнь маленького существа, любовь, материнст-
во,— они навеки, навсегда; это и есть подлинная и великая цен-
ность.
Другой мудрость эта ясна, потому что выстрадана в долгих
муках и тщетном ожидании, а вот теплого дыхания под рукой,
милого, невнятного гульканья, ощущения тока живительного, ко-
торым можно означить посасывание мягкими и нежными губами
материнского молока,— не дано, что делать, бывает же так неми-
лосердна природа к иной женщине!
И вот есть очередь — в каждом, почитай, значительном го-
родке.
Очередь к весам этим, где любовь одних стремится уравно-
202
весить нелюбовь других, где необоримая жажда быть матерью
стремится утолить себя обесцененным, непознанным, отвергнутым
благом, где доброта людская выравнивает тяжесть неправедных
гирь несправедливости и отчуждения,— очередь к весам равнове-
сия между злом и сердечностью не угасает, не прерывается, не
тает.
И вот настает день, когда к малышу приходит женщина и
говорит, вся в слезах:
— Доченька, я за тобой пришла, собирайся скорей!
Немыслимое, совершенно непонятное дело, откуда малыши,
двух- и трехлетки, понимают и ждут этого! Ведь и женщины, и
мужчины, решившие усыновить или удочерить ребенка, говорят
эги слова без лишних свидетелей, в кабинете главврача, напри-
мер. и ребятишек стараются поскорей убрать с глаз остальной
ребятни, чтоб поспокойней, чтоб без слез,— а вот, поди ж ты,
неясными, невидимыми флюидами, что ли, какими, невидимыми
золотыми нитями — но вот передается, протягивается от тех, кто
ушел, к тем, кто остался, ощущение вечного ожидания, вечного
желания, бесконечной мечты: вот войдет в группу человек —.
мужчина, а лучше — женщина, и скажет:
— Где тут мой сынок?
— Заждалась, моя доченька!
Они глядят во все глаза на всякого входящего.
И каждому мужчине говорят, чуть обождав:
— Папа!
И каждую женщину зовут, вглядевшись:
— Мама!
* * *
Да, они расцветают, те, кого усыновили, удочерили.
Вера Надеждовна:
— За полгода происходят поразительные метаморфозы. От-
стававшие в развитии на год, полтора, догоняют своих сверст-
ников из обычных семей.
Но статистика этого, совершенно конкретного Дома ребенка,
фиксирует следующее: половина всех детей сдана сюда до трех
лет, но вот заберут к трем годам домой, выполнят условия до-
говора лишь единицы.
Еще нескольких малышей усыновят, удочерят — этим повезет
больше всего. Ведь они — долгожданные.
sfc *
Кто — усыновители? Какие они?
Люди не вполне юные — все больше к тридцати. Старше бы-
вают реже, и это понятно. К сорока, а то и к пятидесяти жизнь
людей окончательно установилась, ломать ее бывает сложней, да
это и рискованно—в пятьдесят становиться родителем малень-
кого ребенка — не у всякого хватит сил, а порой и жизни, чтобы
203
успеть поставить малыша на ноги, выпустить в мир, вырастить
до полной самостоятельности.
Так что сама жизнь — и я с ней вполне согласен — определила
оптимальный возраст родителей, решивших взять ребенка. Рань-
ше— нельзя, еще многое неясно, в том числе между самими су-
пругами, нет еще семейной стабильности, в том числе и матери-
альной, а к тридцати все прояснилось, и, если своих детей нег,
надо решаться: или сейчас, или никогда.
О, женщины, исполнившие чужой долг—да будут благосло-
венны ваши имена; женщины, не родившие, но воспитавшие,—
да славится ваш неэгоизм, ваша самоотверженность, готовность
одарить теплом и лаской дитя, созданное другою; да будет пол-
ной всегда великая чаша вашего материнства!
Легко ли, просто ли стать хорошей матерью не тобой рожден-
ного ребенка? Думаю, мужской этот вопрос, безответный. Чувство
материнства лишено практицизма пользы или непользы, расчета
простоты и сложности, как всякое, впрочем, высокое чувство.
Не «легко», не «просто» — слова эти не подходят в суждениях
на такую тему. Есть или нет — и все. Есть или нет это чувство,
которое начисто лишено всякой страховки, оглядки, расчета.
Коли женщина решила стать матерью, хоть и не своего ребен-
ка, материнский инстинкт в ней точно тот же, если бы она при-
няла решение этого ребенка родить сама. И уж коли решила,
то разве думает кто-то: трудно тебе или легко, просто или
сложно? Появилось дитя, и все этим сказано,— и радость, и при-
говор тут, в желании и решении, сразу заключены.
Уже я сказал: есть очередь в здравотделе. Характеристики,
справки о здоровье и жилплощади, разные остальные бумаги.
Но есть еще очередь сердца, неофициальная, и о ней надобно
написать прежде всего.
Толкуя с Верой Надеждовиой, передвигаясь из комнаты в ком-
нату, из группы в группу, видел я женщин — постарше и помоло-
же, и проводница моя, понизив голос, не раз и не два говорила
мне:
— И эта тоже. И эта...
Помоложе и постарше, хрупкие, худенькие и поплотнее, раз-
ноликие и, ясное дело, с характерами непохожими, все они тем
не менее чем-то походили друг на друга, что-то общее было в
выражении лиц, точнее — общее было, наверное, в состоянии ду-
ши, и уже состояние души отражалось лицом: ожидание, твер-
дость и благодарение, странно смешиваясь между собой, рождали
тихую, но какую-то глубокую улыбку.
Было бы высокопарностью и неправдой сравнивать эту улыб-
ку с выражением лица мадонны, хотя стереотип ассоциаций и под-
талкивал к такой параллели. Но — нет, здесь все выходило про-
ще и правдивее: принимая решение любви, о высоком не думают;
напротив, думают о практическом, о, если хотите, обыкновенном.
Но кто же эти женщины?
Бросив любимое дело, бросив все, кроме главной своей цели,
201
они идут сюда работать нянечками — их всегда, кстати, недо-
стает,— чтобы видеть детей, всех детей, чтобы присмотреться к
ним, выбрать единственного, а потом уйти с ним отсюда — на-
всегда.
Так уж выходит — и я полагаю, это справедливо — очередь
они как бы минуют.
Кстати, об этой очереди, ее характере. Дети ведь, ясное дело,
не предметы, тут не может быть такого положения, когда одного
ребенка предлагают нескольким: выбор здесь нравственный, ду-
шевный. Так что стихийный женский почин, по которому, все
бросив, идут они поработать в Дом ребенка на самую непритяза-
тельную, самую хлопотную и самую трудную службу, надо только
приветствовать и поддерживать. Все, что не слепо, все, что серьез-
но и обдуманно,— надо поддерживать в этом Доме, всему помо-
гать.
Женщина, решившая взять ребенка, тут как бы окупается с
головой в правду — трудную правду. Понимает, какие дети, узна-
ет — чьи. Укрепляется душой и сердцем в понимании, сколько
надо отдать своему будущему сыну, своей завтрашней дочке. Что
и говорить, есть возможность взвесить на весах собственной
совести силы свои, свои душевные возможности, свою реши-
мость.
Вера Надеждовна говорит, что не помнит случая, когда жен-
щина, решившая исполнить долг, отступала бы, ушла, передумав.
Много, много вчерашних малышей, теперь уже подросших, а то
и вовсе взрослых, самостоятельных, имеющих свои семьи, своих
детей, и знать не знают, что подняты они из покинутости, из забве-
ния, из предательства — сердцем и святой силой материнства не
рожавших их женщин.
На эту тему порой возникают суждения — разнообразные, про-
тиворечивые точки зрения, исповедующие — надо или не надо
знать повзрослевшему ребенку свою реальную, подлинную судьбу,
Я—за святое неведение, за возвышающую душу неправду,
хотя, что и говорить, в соседствующих, рядом лежащих историях
и иных возрастных — для детей — группах правда — единствен-
ное болеутоляющее лекарство. Что же касается детей, усынов-
ленных при собственноручном «отказничестве» их действительных
матерей, право нравственного и общественного вето здесь должно
действовать безотказно и всегда. Даже мать, вырастившая ребен-
ка, не может владеть правом нарушения молчания.
Может, следует брать документально такое обязательство?
Могут спросить, не надуманный ли это вопрос. Ведь здравый
смысл, разум и много иных добродетельных качеств не позволя-
ют матери идти против ребенка, да, в сущности, и против себя.
Но жизнь сложна. Сложнее иных наших, самых чистых наме-
рений.
Бывает, распадаются семьи, где есть усыновленный ребенок,
и отец мстит матери таким вот болезненным, тяжким способом.
Бывает, мать делится тайной с друзьями, а они предают. Да, соб-
205
ствеино, тайну эту трудно сохранить в наш век плотных челове-
ческих взаимосвязей.
Так что в случае, где родители стремятся к тайне усыновления,
надо бы создать законодательную основу для ее сохранения. По-
ловина ведь дела сделана — чей он на самом деле, ребенок не
знает. Хорошо бы сохранить и вторую половину тайны.
Конечно, усыновленный, удочеренный ребенок чаще всего, став
взрослым, и слышать не желает о реальной родительнице, даже
если и узнает свою тайну. Но жизнь действительно сложна, одно-
значный и желательный вариант не всегда единствен, а потому
додумать и дорешить эту проблему, по моему разумению, стои-
ло бы.
* * *
я говорю об этом так настойчиво потому, что, получив раз-
решение, зашел в один дом, точнее, комнату, чтобы утвердиться
в подлинном, бескорыстном чувстве.
Им было уже за тридцать, я знал это заранее, однако отдель-
ной квартиры они еще не имели, хотя очередь уже подходила,
и жили в пятнадцатиметровой комнате двухкомнатной квартиры,
с соседями.
Повод я избрал другой, представился агитатором, благо дело
было накануне местных выборов, точнее, переизбрания выбыв-
шего депутата, и я зашел в эту комнату под вечер, чтобы хоть
краем глаза, хоть ненадолго повидать добрых людей и попытать-
ся, если выйдет, определить меру их счастья.
Комната была чистой, ухоженной, хотя обставленной скромно,
даже чуть скромнее скромного по нынешним временам: двухспаль-
ная железная кровать с круглыми никелированными набалдашни-
ками, на ней гора расшитых подушек мал мала меньше, видать
следы бездетных лет, зато для ребенка кроватка деревянная, по
самому последнему образцу, рядом детский низенький столик с
игрушками и цветными книжками — все это не лежало в музей-
ном порядке, а было небрежно раскидано; ясно, что тут царст-
вовал маленький, впрочем, подросший уже — властитель дома.
Хозяин сидел в майке, чинил настольную лампу, увидев по-
стороннего, накинул рубашку, приветливо шагнул навстречу, под-
ставил стул. Хозяйка быстро навела порядок на детском столике,
подала мне повод заговорить о сыне.
— Озорует? — спросил я.
— Ой, что вы! — мягко, как-то сразу углубляясь в себя, в свои
мысли, заговорила она.— Он у нас не баловник,— и тут же сама
себе запротиворечила,— но какой же ребенок без баловства?
От этого только радость.
М\ж молчал, едва улыбаясь, поглядывал на жену, погляды-
вал на игрушки, на столик, на детскую деревянную кровать, по-
том пояснил, что скоро, вот, получат отдельную квартиру, ме-
бель обновят, возможность такая есть, просто ждут ордера.
— Л малышу,— спросил я,— обновили, ордера не дожидаясь.
— Ну, это попятно,— удивился муж, и снова блуждающая
206
улыбка появилась па его лице: жена протягивала мне стопку дет-
ских акварельных рисунков. Как всегда у всех детей, красное
солнце во всю страницу, зеленые солдаты на синей траве, грузо-
вик последней марки — КамАЗ с прицепом.
В тот миг послышался вой с лестничной площадки, торопли-
вый, не желающий ждать звонок, мать кинулась в прихожую, вта-
щила зареванного пацана. Вой переходил в звук сирены—про-
тяжный, не меняющий тона, на коленке горела ссадина, и жен-
щина гладила мальчишку, приговаривая:
— У серой вороны боли, у сороки-белобоки боли, у злой со-
баки боли, а у Васеньки — пройди!
Откуда-то из-под ее ладони сверкнул блестящий глаз, власти-
тель, видно, только заметил меня, вой сирены тотчас смолк, и не
то чтобы испуганный, скорее смущенный голосишко, хрипловатый
от воя, но совершенно не страдающий, неожиданно произнес:
— Ты чо, мам, я ведь не маленький!
Нет, что там толковать, велик Толстой: все счастливые семьи
похожи друг на друга.
И не нужна, вовсе не нужна этому счастью нечаянно выбол-
танная правда.
Да сохранится тайна нежности и любви...
* А
Опять и опять — помимо воли, помимо желания — мысль воз-
вращается на старый круг.
— Выходит, материнство,— спрашиваю я Веру Надеждовну,—
вовсе не обязательно связано с рождением собственного ребен-
ка? И мать — не та, что родила, а та, которая вырастила? Можно
быть матерью, не родив, но воспитав ребенка, и не стать матерью,
только лишь родив?
— Да,— отвечает она.— По нашему опыту — да. Материнст-
во,— помедлив, произносит она важную фразу,— состояние не род-
ственное, не физиологическое, а нравственное. Материнство, кро-
ме всего прочего, еще и состояние души.
A <
Как удивительна жизнь! Какие парадоксы подбрасывает она —
только поспевай думать.
Место нянечки в Доме ребенка оказывается плоскостью, где
уживаются свет и тень — враз, не исключая, не отталкивая друг
ДР) га.
Про свет — все ясно. Это женщины, ищущие материнства.
А тень?
Матери, лишенные материнства.
Что делать, бывает—и нередко — так поворачивает жизнь,
на такую колею, где однозначному суждению не место. И вот
Дом ребенка берет в нянечки настоящую мать, лишенную роди-
тельских прав. Почему? И правильно ли это?
207
Дом ребенка не педагогическое, а медицинское учреждение,
особых педагогических задач перед собой здесь не ставят, к то-
му же рассчитанных на беспутных матерей, но, как говорилось
уже, нянечек не хватает. И выходит, опять жизнь как бы сама,
стихийно правит событиями — порой неплохо, убедительно правит.
Суд лишил женщину родительских прав. Некоторых, даже
пьющих, это крепко прошибает: что и говорить, лекарство силь-
ное, урок поучительный. Погоревав, попив, порыдав, заправив-
шись, как правило, еще разок, для храбрости, иная мать спешит
навестить свое дитя, и не раз во дворе Дома разворачивались
сцены, где горестное крепко мешалось с недостойным.
Своя вина — позади, обочь, ее не видно, и вот стучит мать,
опозорившая сама себя, в запертую дверь: «Отдайте ребенка!
Покажите хотя бы, смилуйтесь».
По закону положено вызвать милицию, бывало, впрочем, и так.
Но бывало, события разворачивались по-иному, это уж зависит
от того, чего в женщине больше — материнства или пьянства.
После истерики, после скандала, бывало, приходили притих-
шие, покорные, пристыженные. Клянчили: возьмите хоть кем,
лишь бы при нем, при родименьком.
Пробовали, ставили условие: хоть раз выпьешь, ноги твоей
здесь не будет. Рисковали. И риск оправдывался.
Что значит — открыть дверь такой матери? Да прежде всего
это значит: она попадает в коллектив, в обстановку, в климат
соответствующий, а климат тут означает только одно: неугасаю-
щий огонь любви к чужому ребенку, который становится родным,
неутихающий — женский же — суд над матерями, которые суме-
ли, смогли или лишиться собственных детей, или бросить их.
Поговорят о том, о сем женщины — врачи, сестры, нянечки,—
помянут, может, вчерашнюю передачу по телевизору, новый
фильм, какая у кого обнова да семейные новости, а потом снова
на старый круг: все о ребятишках да о ребятишках, о здоровье
их, да кто заболел, а кого уже выходили, о совести людской и
об отсутствии ее.
Женская среда, если это нормальная среда, без конца жале-
ет ребенка, щадит его, обсуждает бессчетные варианты помощи,
и в среде благонравной этой жалости к ее, в числе остальных,
ребенку мать, лишенная своих прав, если даже и не до конца,
если даже и не глубоко, а все же устыдится жизни своей, ее обра-
за— всенепременно устыдится.
Другое дело, что результат стыда тоже бывает разный. Иная
вовсе больше не придет, и кто-то увидит ее на улице в непотреб-
ном, хуже прежнего, виде. Другая исчезнет на два дня, ухнег
в прежнюю муть, потом назад выскочит — явится побитая, при-
молкшая, и это вроде катарсиса, очищения — трет тряпкой полы,
работает, себя не щадя, наоборот, кажется, даже истязая.
Непросто перевоспитание самосознанием, нет у него четко озна-
ченных берегов, бывает и насмарку все идет, ну что поделаешь?
В конце концов конкретной педагогической цели — перевоспи-
208
тать взрослую — тут никто не преследует, скажем еще раз, но,
коли дают человеку шанс и он этот шанс примет, плохого тут
не отыщешь, а польза громадная.
Да, польза великая. Еще один несмышленыш получает воз-
можность вернуться к матери.
* *
И вот вам картинка — реальная, из жизни Дома.
Прибирают малышей две нянечки. Моют, к примеру, им ноги,
перед тем как спать уложить.
Все идет обычно, плещет вода в тазике, приговаривают женщи-
ны свои извечные, необязательные, тихие слова, приговаривают,
бормочут малыши в ответ, идет разговор — не разговор, а уте-
шение, и вдруг одна нянечка обхватит малышку, прижмет к себе,
а у самой — слезы из глаз.
Другая тихо, понимая, подойдет, ребенка отнимет, ножки до-
моет, оботрет, в постель отнесет, а потом первую обнимает — и
всплакнут обе.
Стоят вот так, обнявшись, плачут.
Первая — мать; малыш, над которым заплакала, ее собствен-
ный, ею рожденный, да не сохраненный: вышла из доверия у го-
сударства.
Вторая — нарочно сюда поступила, чтоб счастье свое найти.
Одна — чтоб найти, другая — чтоб вернуть.
Но не надо слишком обнадеживаться: такие картинки — ред-
кость.
Все меньше их, к общей нашей печали.
* >ь *
Все чаще — совсем другие.
Вера Надеждовна у себя сидела, какие-то документы готови-
ла, вдр^г женщина на пороге, не одна, с подружкой, видать, чтоб,
значит, за компанию, нахрапом, оно этак легче.
—• Как бы мне бумажку взять, что у меня сын дурачок?
На такое сразу не ответишь. Молчание.
— Вы кто?
Такая-то.
— Почему же он дурачок?
— А разве нет?
— Посмотрите.
Накинула на себя пальто, зима была, лежит морозец. Хит-
рость очевидна: за справкой явилась, чтоб не платить алименты.
Но по дороге спрашивает: какой он из себя, мой-то?
Веру Надеждовну малыш тот, Ванечка, любил, выделял и<
всех, бежал на голос, и она его лаской не обходила — поцелует,
погладит, протянет конфетку.
— Какой? — переспросила.— А вот такой. Кто первый ко мне
побежит, тот ваш сын.
209
Вышли на улицу, Вера Надеждовпа громко крикнула ма-
лышам:
— Здравствуйте, ребятки!
Сама думает: вдруг не побежит? Страшного — ничего, непри-
ятно перед этой мамашей.
Но малыш не подвел.
Первый серым шариком навстречу покатился — впереди всей
гурьбы.
Вера Надеждовна к нему бросилась, наклонилась, схватила в
охапку — слезы навернулись. Поглядела вверх, на мать, она же
тут, сбоку стоит — глаза холодные, как ледышки.
— Вот он, наш любимец,— говорит Вера Надеждовна.— Хо-
роший мальчик! Видите, какой!
А та отвечает, вернее — спрашивает:
— Значит, нельзя?
— Почему же? Можно. Напишите отказ, и никаких вам забот.
Позвали патронажную сестру, ушли к нотариусу, через час
возвращается одна патронажная, с порога говорит:
— Вот, несу Ванюшину судьбу.
Что же, пожалуй, это все.
Картина, написанная мною, без строгой рамы, кое-где непро-
писанность, лишь отдельные штрихи, а то и просто белые места.
Оно не закончено, мое полотно; именно к этому — признаюсь —
я стремился.
Все сказать невозможно и даже не должно. Нужно оставить
воздух, требуется недоговоренность, чтобы тот, кто читает, поду-х
мал сам, а лучше всего про себя, про свое отношение к тому, что
сказано здесь, а тот, кто знает эту печаль, добавил бы свои штри-
хи к этюду на трудную тему.
Про Дом, про его заботы нельзя говорить в завершенном ви-
де, драматизм несостоявшегося — по тем или иным причинам —
материнства есть категория, всегда, абсолютно по Толстому, но-
вая, порой неожиданная и уж непременно — неоконченная.
Оконченность, завершенность, итоговость немыслимы, пока фи-
зически живы все участники каждой драмы — ведь в их судьбах,
в жизни их потомков, даже отдаленных, внешне благополучных,
долго еще может таиться драматизм ошибок, совершенных пра-
родителями.
Всякий, кто против потаенных слез, разочарований, спрятан-
ных в тайный код генетики, обиды на судьбу, субстанцию некон-
кретную и, таким образом, безответственную,— всякий, кто про-
тив неблагополучия в благополучное время, кто против душевной
смуты в ясные дни, должен думать о беде, не стыдиться ее присут-
ствия и делать, непременно что-то делать, чтобы болезнь изле-
чить.
Делать — что я разумею под этим, таким понятным словом?
210
К судьбе, даже самой прямой и самой благополучной, прило-
жено множество рук и забот. Что же можно и нужно сделать,
коли судьба человека, начинающего жить, непроста, лишена само-
го главного — корневой системы, без чего и самое простое расте-
ние усохнет, погибнет?
• Нет, главный корень — при каждом, и опустить это значило бы
обузить проблему, сократить горизонт до размера дверного про-
ема; главный корень — это наша общая жизнь, народное неравно-
душие, социальная перспектива, открытые возможности. Но вот
ведь какая беда: душевные провалы, пропуски воспитания, про-
стая недобросовестность людей — близких и чужих,— которым
доверен воск неустоявшегося сознания, способны, увы, налепить
такого, что и самое главное, самое нашенское способно затмить.
Да что там спорить!
Не вслед за общественным, а рядом с ним ступает семейное,
родительское начало. Из родительских уст получает дитя самые
изначальные представления об общественном. Так что, если из
двух главных корней один, родительский, обрублен, ствол, жаж-
дущий живительных соков, половину их недобирает.
Что же делать? Сколько п каких рук должны спасать судьбу
с ополовиненными корнями?
Как и все в воспитании, нет на это одного, точного и единст-
венно прИ1одного ответа.
Взгляд мой — к Вере Надеждовне, не зря же я выбрал ей это
имя и это отчество.
Верить, надеяться и любить — не такое уж малое дело, но ес-
ли надежда, вера, любовь еще разумеют поступки, а не одни
лишь, хоть и благородные, чувства, мы на пути к истине и дейст-
венному добру.
* * *
Была весна, пожалуй, школьные каникулы, часа четыре дня,
еще светло, даже солнечно.
Погоду этой порой ломает — глядишь, небо голубого батиста,
мягкое, теплое, снег волглый, серый, ноздреватый, тяжелый ог
воды, нажми — истает ручьем и тут же, без перехода всякого,
задует вдруг ветер, застучит голыми ветвями по окну, заскоблит
так, что не по себе становится: взглядываешь на улицу с испу-
гом, мурашки ползут по плечам.
Так вот и тогда.
Вера Надеждовна за окно поглядывала вначале рад\ясь: сол-
нышко прогревало тишину, по двору бродил какой-то мальчишка,
лет пятнадцати, не из соседских, незнакомый и как-то странно
посматривал на здание, словно что-то или кого-то искал.
Она занималась своими делами — писала, говорила, звонила,—
снова поглядывала на улицу и опять видела парнишку — его то-
ненькое пальтецо, серую ушанку и растоптанные, какие-то казен-
ные, ботинки.
Может, он бы так и не решился войти в Дом, его подтолкнула
погода.
211
Стеганула снежная крупа, дунул ветер, лужи вмиг покрылись
льдом, солнце исчезло, а небо придавило землю мохнатыми, груз-
ными тучами.
Вера Надеждовна увидела, как мальчик на что-то решился,
двинулся к входной двери, и вышла в коридор, пошла ему на-
встречу.
— Здравствуйте.
Посинелые руки, побелевшие костяшки пальцев. Голос напря-
женный, чуточку испуганный, звенит.
— Здравствуй.
— А кто здесь живет?
Волнуется. Но даже не волнуясь, как правильно задать вопрос
об этом?
— Здесь кто-нибудь живет?.. Ну, какие-нибудь люди? Это
дом или учреждение? Может быть, нянечка? Или сторож?
— Учреждение.
— Ага...
Он топтался на месте, хотя получил ясный ответ, и Вера На-
деждовна потихоньку начала догадываться, в чем дело.
— Пройди, поговорим! — предложила она, не дожидаясь от-
вета, пошла к кабинету — за спиной глухо постукивали растоптан-
ные ботинки.
— Садись! — Он сел, на лице смущение и неловкость.— Так
что тебя интересует?
— Я видел свое свидетельство о рождении, там, на обложке,
стоит штамп о прописке. По этому адресу. Может, тут раньше
был жилой дом?
Нет, никогда тут не был жилой дом. Всегда только учрежде-
ние — Дом ребенка. Потихоньку, по шажочку, приближалась опа
к пареньку, видела, как все ниже и ниже опускает он голову.
Душа ее сжималась: что же за роль выбрала опа себе? Зачем?
Не легче ли солгать: да, здесь раньше, кажется, кто-то жил.
Или еще проще: здесь был жилой дом, его снесли, и вот... Но маль-
чик ищет родителей, и, раз он решил, эта страсть к истине силь-
нее человека, он придет снова, уже не к ней, не сейчас придет,
так спустя годы. Боль отложенная, припрятанная до поры—лег-
че ли она, кто это знает?
Потом, спустя время, возникнет правильное решение: во имя
спасительной неправды ни за что не ставить милицейский штамп
о прописке прямо на свидетельство о рождении. Штампик ставят
теперь на листок, приклеенный к свидетельству. Оно не паспорт,
в конце концов листок можно — и нужно — оторвать, охранив чи-
стотой первый в жизни человека официальный документ.
Но это — потом.
Тогда мальчик молчал, опустив голову.
Что должна была делать она?
Вмешаться в обстоятельства, включить себя, свои поступки
и свое отношение. Все вместе это называется человеческим уча-
стием.
212
* * *
Вера Надеждовна знала возможные пути малышни — они не
запутаны, не сложны. После Дома — другой дом, детский, до-
школьный, если здоровье и развитие в норме, он один и непода-
леку, потом детдом школьный, а после восьмилетки — впрочем,
после восьмилетки вот он, тут, на табурете, искать не надо: учит-
ся и живет в школе-интернате.
Выспросила про самое последнее и, значит, главное: зовут Ко-
лей, интернат там-то. По праздникам и выходным ребята раз-
бредаются кто куда — к бабушкам, к теткам, друзьям, в школе
их остается немного, и вот он добился разрешения поехать в го-
род, погулять, сходить в театр или киношку. А на душе было
это, она понимала его,— узнать про родных.
Расстались знакомыми, не более того, но что значит знаком-
ство с новым, взрослым, человеком для одинокого парнишки шест-
надцати с половиной лет?
Про возраст и про то, что учится он в девятом классе, она
узнала в первом разговоре, к которому про себя без конца воз-
вращалась. Через год мальчишке начинать собственную, без опы-
та, жизнь, а он вот растерянный, тихий, не вполне уверенный в
себе.
До сих пор жил, как жилось, не крепко, пожалуй, задумываясь
над возможным, а теперь наступает время выбора. Ищет род-
ных— что же это иное, если не интуитивный, неосознанный поиск
опоры и, выходит, выбора. Сам не понимает: ищет других, но по
правде-то ищет самого себя. Смысла собственного присутствия
на этой земле: чей я, для чего?
Нет, Вера Надеждовна понимала, что пока все эти мысли не
настигли Колю, если они и присутствуют в нем, то неосознанно,
недодуманы до предельной ясности, это придет с годами, а чтоб
пришло добрее, многозначнее—надо ему помогать.
— Приходи, обязательно приходи,— говорила на прощание, а
чтобы хоть как-то привязать, заставить прийти не по охоте, так
по обязанности, сунула книжку какую-то.— В воскресенье и при-
ходи!
* * *
Он пришел. Как будто умытый.
Когда радостей мало, самая негромкая звучит фанфарами,
искрится красками, обещает, манит. Знакомство со взрослой жен-
щиной, новое знакомство, было в радость.
Она уже знала, что делать. Привела домой. Усадила за стол:
семейный обед — муж, дочка, сама, четвертый — Коля.
Это уже серьезная привязка, если, конечно, все порядочно, по
высшему счету.
Что это значит?
А то, что человек в этом возрасте и этом состоянии предельно
обостренно чувствует всякую фальшь, и самый высший грех, кото-
рый возможен тут,— неискренность. Не умом, не слухом, душой
и сердцем слушает и слышит он всякое слово, интонацию, видит
213
выражение лица не только в определенных, законченных фор-
мах — улыбка, сердитость, сосредоточенность,— по и в едва уло-
вимых нюансах, которых обычный человек в обычных ситуациях
попросту не замечает.
Какие чувства труднее всего спрятать? Жалость?
Нет, для этого хватает житейского опыта. Сострадание, со-
чувствие — вот что спрятать труднее всего, и старание не всегда
помогает при этом. Может, из-за того, что сострадание и сочув-
ствие самые естественные из всех?
Говорили о жизни, говорили о книгах, говорили о фильмах
и так, о всяких пустяках, не избегали говорить и о Колиной ин-
тернатовской, а перед тем — детдомовской жизни: ровно, без уси-
ленного внимания и повышенного интереса.
Хочу заметить, между прочим, считая это важным обстоятель-
ством: Вера Надеждовна — женщина отнюдь не экзальтирован-
ная, ее эмоциональность не взрывчата, не спонтанна; чувства та-
ких людей живут долго, если не постоянно, и температура этих
чувств осмысленно высока. На таких женщин можно положить-
ся — ив работе, и во всем остальном.
Так вот, не было причитаний, жалости, аффектации.
Было сострадание, сочувствие — скрытое, а потому — дейст-
венное.
Все было подлинным, а значит — сильным.
Вера Надеждовна съездила в интернат, представилась, попро-
сила не беспокоиться за Колю, когда уезжает в город, и на вы-
ходные отпускать со спокойным сердцем: он у друзей.
Л ¥ *
Говорили они и про Дом, про малышей, которые прописаны
там, про их матерей.
Говорили, Коля спрашивал. Это не были расспросы с при-
страстием: многое хранила даже не память, нет,— ощущение.
Он как бы уточнял то, что берегло чувство.
Ощущение из главных: их было всегда много, он не помнил
одиночества — не понимал, что это значит — в буквальном смысле
слова. Еще помнились праздники — их ритмичное постоянство.
Надо было набраться терпения, и снова являлся Дед Мороз, с
мешком гостинцев — в серебряных, золотых обертках еще и кон-
феты, хотя даже сами бумажки были замечательной ценностью.
А если цодождать еще — за окном играла музыка: бухал барабан
и натужно раздувал щеки трубач, приходил Первомай с празд-
ничным обедом. А осенью, в слякоть, на улице развешивали фла-
ги— горел кумачом Октябрь.
Потом он помнил автобусы, нестрашные, но неотвратимые
переезды, после которых все начиналось по-новому, будто бы
совсем не продолжая старое: собирать начинали задолго, подго-
няли обувку, одежку, пальтишки, потом сажали в автобус и
куда-то везли. Это ощущение обозначено постепенностью: сначала
214
как-то смутно, потом яснее, наконец, автобус запомнился совсем
ясно, со всеми подробностями, главное среди которых — цвет.
Автобус был сине-зеленым.
Слушая Колю, повторяя затем, после отъезда, его слова, Вера
Надеждовна, как археолог, восстанавливала про себя пласты
Колиной жизни. Автобусы — это переезды: из Дома — в дошколь-
ный детдом, из дошкольного — в школьный, затем еще в один,
наконец — в интернат, мало чем отличимый от школьного дет-
дома. Девятым и десятым классом
Они сближались от встречи к встрече. Тяжести Вера Надеж-
довна не ощущала, но вот облегчение — почувствовала, поняла.
У Коли складывались свои отношения с мужем и с дочкой, в ко-
торых она могла уже и не участвовать. Он проводил у них вы-
ходные, встречи становились привычными.
Но однажды Коля все же спросил:
— Кто мои родители? Где?
Попросил:
— Помогите!
* * *
Надо ли?
Она сомневалась, мучила себя вопросами: что это даст? Не ста-
нет ли хуже Коле от этого знания? Ясное дело, жизнь его будет
сложнее, возникнут новые, самые трудные отношения, которых
ведь избегали многие годы взрослые, а потому — сознательные
люди.
Но Колина судьба, помимо воли, уже была для Веры Надеж-
довны чем-то гораздо большим, чем просто человеческая история.
Он стал как бы концентрированным выражением смысла ее ра-
боты. А значит, смысла жизни.
До сих пор она видела и знала лишь обездоленных малышей.
И вот, наконец, встретила малыша выросшего. Судьба покинутого
человека предстала перед ней пусть не в завершенном, так в раз-
вившемся виде. И ей самой хотелось узнать — не столько для
Коли, сколько для себя,— как выглядят, что думают, что говорят
и чувствуют родители, забывшие о собственном сыне. Как так
устроены они? И что за непоправимые беды толкают их на такие
беспощадные решения?
В архиве Дома обнаружила Колину папочку, ужаснулась —
не в первый, конечно, раз, но по-новому: перед глазами все Коля
стоял, каким вначале увидела, продрогший, в стоптанных ботин-
ках, с побелевшими костяшками сжатых кулаков, с напуганным,
ищущим взглядом. Еще бы! Он надеется, а его... Документ из род-
дома: мать — такая-то — родив ребенка, через несколько дней
ушла, оставив его. Указан ее адрес.
Вере Надеждовне повезло: это был заводской район, и люди,
жившие по тому адресу, откуда ушла в роддом молодая женщи-
на, меняя комнаты, улучшая свою жизнь, двигались по пятачку
заводских застроек. Так что, начав свой поиск, перебрав несколь-
ко домовых книг и добравшись до последней прописки, Вера На-
215
деждовна не сошла, как говорится, с места. Бегать не пришлось.
Но пошла вначале все же по старому адресу. И опять не ошиб-
лась. Женщины ведь народ памятливый и на соседей, на их жизнь.
Вспомнили старушки, сидевшие у крыльца: да, здесь жили та-
кие— мать, взрослый сын, и жила у них, помнится, молодайка,
вроде ждала ребенка. Потом исчезла. Но не жена, нет, тому
взрослому сыну — не жена.
Набирала телефон Колиного отца, бесконечно волнуясь. Но ха-
рактера хватало — голос спокойный, даже чуточку официальный.
— Валентин Григорьевич? Вам звонит такая-то. Прошу вас
о встрече.
— А что такое? Что вы хотите?
— Это не телефонный и очень личный разговор.
Хохоток по ту сторону провода: заинтриговало. Побеждает,
однако, другое, похоже — характер.
— Я уезжаю в командировку, мне некогда, если вам нужно,
позвоните через полмесяца.— А номер телефона все-таки записал.
Звонит через двадцать минут: не устоял перед женским при-
глашением, встречу назначили, смешно сказать, в пивбаре.
Первое впечатление оказалось самым точным. Внешне — им-
позантный, солидный, значительный и размерами, и какой-то,
как бы потаенной, скрытой значительностью.
Но это пока молчит. Стоит раскрыть рот, и человек уменьша-
ется до размеров лягушки: самоуверенный, самовлюбленный, наг-
ло-пустой, безмерный эгоист.
В пивбаре провел куда-то в подвал, где чмокают и пыхтят
насосы. Заметила: подмигнул женщинам в белых халатах—даже
встречу эту проводил напоказ, с каким-то глупым смыслом.
Сидеть было негде. Он оперся о бочки, самодовольно расплыл-
ся — вон сколько вариантов задала она Колиному отцу, только
соображай.
— Чем обязан?
— У вас есть сын?
Щеки съехали вниз, опали.
— А вы — кто?
Назвала должность, место работы. Про Колю пока ни слова.
Фанаберия снова взяла верх, да, это была обыкновенная фа-
наберия, а не душевная широта, не мужское мужество, как он
ни старался,— ведь за мужеством признания всегда должны сто-
ять поступки, а тут одна болтовня.
— Да, это я виноват, Валерия тут ни при чем! Это я ей ска-
зал: из роддома с ребенком не возвращайся.
Он петушился, распускал павлиний хвост:
— Вы Валерию не судите!
Она попробовала выяснить — не для него, для себя:
— И что же? Вы ни разу не захотели его увидеть? Ни разу
не вспомнили?
Но терра инкогнита, неизвестная территория, оказалась до
смешного известной и до крайности узкой:
216
— Какое ваше дело?
Вот и все. Мелодия для одного пальца. Бездушие предельного
эгоизма. Откровенность не мудрости, а бесстыдства и безнаказан-
ности.
Ей хотелось повернуться и уйти. Выдумать какую-нибудь от-
говорку, мол, встречалась по поручению органов опеки.
Но перед глазами стоял Коля — замерзший мальчишка в рас-
топтанных ботинках, его испуганные глаза. И сознание, что Коля
не успокоится. Понимание: ему надо пройти до конца свою до-
рогу, раз уже отправился по ней. Жизнь сама расставит ударе-
ния на важных словах и главных понятиях, безжалостно отбросив
ничтожное. Что же делать: поиск истины порой означает разоча-
рование.
— А теперь слушайте.
Пока она рассказывала о Коле — самое необходимое, без по-
дробностей,— лицо его отца не менялось. Похоже, он истратил
всю энергию своей воли на то, чтоб уследить за лицом.
Коля учился тогда в десятом, приближалось его семнадцати-
летие,— она сказала об этом, как бы к этому и сводя весь раз-
говор. Назвала день его рождения — отцу! Оставила телефон.
— Может быть, и следует вам встретиться,— сказала она, по-
ворачиваясь.
Лицо Колиного родителя больше не интересовало ее. Для себя
она прояснила все — и навсегда. Теперь оставался Коля, он сам.
Палкин — его фамилия — к Колиному семнадцатилетию объя-
вился, теперь сам попросил свидания, был краток, потому что
этот нынешний его поступок получался трусливо-стыдливым: отец
боялся встречи с сыном. Впрочем, какой отец, какой сын? Принес
двадцать рублей. И шоколадку. Сказал:
— Не решился купить подарок. Не знаю, что покупать.
Когда Вера Надеждовна передавала Коле деньги, ей больше
всего хотелось молчать. Но она сказала то, что должна была
сказать:
— Видишь, Коля, он все-таки хотел купить тебе подарок.
Палкин собирался с духом еще несколько месяцев. С духом?
Вера Надеждовна не надеется па это. Он просто откладывал
встречу, как всякий эгоист откладывает на потом дело, нужное
кому-то, а не лично ему.
Однажды позвонил:
— Коля у вас? Дайте ему трубку!
Она повернулась к пареньку. Ну вот! Настал твой час, Коля.
Ты сам к этому стремился.
Поднимается из-за стола медленно, скрипит стулом, едва не
опрокидывает его. Как тогда, в коридоре Дома, переступает не-
решительно, лицо побелело — совсем полотняное.
Хриплым голосом произносит в трубку:
— Слушаю.
Потом одни междометия:
— Да... Да... Нет...
217
Наконец, фраза:
— Хорошо. Только я с товарищем.
Он частенько приходил с товарищами — то с Сережкой, то
с Васей, то еще с кем-нибудь, в тот день был Василий, и они от-
правились вдвоем — хорошо, что вдвоем.
Коля как-то притих, спрятался в себя! Она его благословила:
— Ни пуха, ни пера.
Он улыбнулся все такой же нерешительной улыбкой.
Вечером Вася вернулся один, сказал, что Колю Палкин оста-
вил ночевать. Вера Надеждовна ни о чем не спрашивала: у Васи
расспрашивать неприлично, а Коля, если захочет, скажет сам.
Коля вернулся утром ранехонько, ничего особенного не сказал
и лишь в обед обратился к ней, по-детски наивно:
— Молено, я больше к Палкину не пойду?
* * *
Вот и все про отца. Весной, перед окончанием школы, из не-
бытия явилась мать. Постояли друг перед другом — говорить бы-
ло не о чем. Она сказала, что у нее есть другой ребенок, девочка,
она замужем, живет далеко, в каком-то городке на Урале.
Нет, она не плакала и ничего особенного не сказала на про-
щанье. Зачем приезжала? Вера Надеждовна думает, для собст-
венного облегчения. За семнадцать лет, возможно, она и думала
о сыне, а теперь вот убедилась, можно и ие думать: он совсем
взрослый, государство вырастило и выучило его, не пропадет.
Не пропадет, конечно.
После десятилетки он устроился работать в почтовый вагон.
Сутки в Москву, с ночевкой там, сутки — обратно. Потом два дня
выходных, но он не бездельничает, работает в эти дни там же,
на железнодорожном почтамте, грузит посылки. Не для того, что-
бы подработать, хотя ему и это очень важно, начинает ведь жизнь
с нуля, а для того, чтобы не бездельничать.
Первое время жил в общежитии. Интернат на прощание обес-
печил кое-какими вещами, так, сущие пустяки: две простыни,
одеяло, наволочка, кое-что из одежды. Ну вот, и в общежитии
пропала одна дареная простыня.
Коля переживал. Пришел вечером, охает:
— Надо же, а? У нас в интернате и то никогда ничего не теря-
лось! Это надо же!
Вера Надеждовна улыбалась, глядя на него, действительно,
надо же,— какой, в сущности, ребенок. И ни дня не жил в семье,
в собственном, родном доме.
Сказала ему:
— Знаешь что, Коля, собирай-ка свои вещички и перебирайся
к нам.
— Зачем?—удивился он.
— Жить.
Коля прописан теперь у нее. Живет дома. Из дома идет на ра-
боту, домой с работы возвращается.
213
Что же — как мечталось когда-то — в двухкомнатной кварти-
ре теперь появился сын? Сразу — взрослый?
Нет, этих мыслей нет ни у нее, ни у ее мужа, ни у Коли. Они
живут как близкие и даже родные люди, но говорить об этом
не приходит в голову, ведь не говорят же, в самом-то деле, о та-
ком по-настоящему родные и близкие. Это подразумевается.
Без Коли было бы пусто. Он член семьи.
* *
Вот так — очень просто и очень обыденно, без экзальтации, без
высоких слов, Коля нашел свою родную семью.
И если уж употреблять слово «делать», искать доброту не бла-
годушно-словесную, а действенную, то вся его история от нуля до
двадцати — теперь ему стукнуло двадцать — и есть противостоя-
ние одиночеству и родительскому бесстыдству действенной доб-
роты мудро поступающего человека.
Одно лишь уточнение: поступки Веры Надеждовны вытекают
из ее знания, и еще прежде — из ее осознания положения вещей.
Из того обстоятельства, что она не просто отбывает службу —
пусть и в сложном, а все-таки детском учреждении,— а детям слу-
жит душой, сердцем, думает, страдает, и, переплавляя все это в
себе,— поступает в соответствии с мерой справедливости, понятой
и прочувствованной глубоко, человечно.
* * *
Как она относится к Коле?
Из всех определений мне хочется выбрать именно это: умно.
Умно относится. Видит его целиком, а видеть целиком,—для
этого мало одной любви. Нужен ум. Нужен педагогический та-
лант.
Главная Колина проблема — невысокий порог требовательно-
сти: к себе, к другим, к жизненной задаче и перспективе. Доволь-
ствоваться малым — вроде не такая уж плохая установка, осо-
бенно в сравнении с «вещизмом» и рвачеством, которого хватает.
Но Колин минимализм граничит с аскетизмом, с «нестремлением»
к норме.
Скажем, при разговоре о будущем он совершенно бескорыстно
относится к собственной пользе, которая при углублении может,
правда, выливаться в понятие выгоды. Но о пользе человеку ду-
мать не возбраняется, не надо ударяться в ханжество. Особенно
Коле, человеку без близких, без поддержки. Все его — при нем.
Вера Надеждовна советует ему подумать о работе, где он по-
лучил бы потом комнату, а если женится, квартиру. Разве это
рвачество?
Но Колю это не волнует. Зачем? Он спрашивает вполне искрен-
не. «Ну, женюсь, так будем жить в общежитии, разве мало семей
живет в общежитиях, в одной комнате, разделенной занавесоч-
кой?» Это абсолютно искренне.
219
Еще одна забота —неумело обращается с деньгами. Тоже
результат детдомовского воспитания: как бы ни был хорош дет-
ский дом, интернат, а там же этих забот нет, не существует прак-
тики. Подрабатывал Коля в каникулы, так заработанная десят-
ка — вся его, трать куда хочешь и сразу — жизнь твоя от этого
не зависит, ни голодным не останешься, ни голышом: все главные
расходы — на государстве.
И вот эта инерция осталась. Не умеет деньгами распоряжаться,
не умеет «растягивать» их — от получки до получки. Может истра-
тить все, не думая ни о чем, а это ведь плохо для самостоятель-
ной, для взрослой жизни.
Неряшлив. Не понимает, к примеру, решительно, как это каж-
дый день мыть ноги и надевать свежие носки. Тоже нет привычки,
нет традиции.
Вера Надеждовна про то, какие у Коли есть заботы, мне рас-
сказывала не в первую, а в последнюю очередь, щадя, конечно,
паренька, выпячивала его достоинства — они главное, хотя забо-
тят, ясное дело, не плюсы, а минусы. Надо минусы переделать
на плюсы—шабота чисто материнская,— но Вере Надеждовне,
влияя на Колю, приходится сейчас не воспитывать, а уже пере-
воспитывать. Это — раз. А еще в Колиных недостатках она видит
проблемы подготовки к самостоятельной жизни — не только под-
готовки Коли, а, пожалуй, всех «государственных детей». Это
волнует, не может не волновать, это беспокоит, с этим что-то надо
делать.
Казалось, уж что-что, а инфантильность не болезнь детдо-
мовских ребят. Ан, нет, она поражена: Коля мечтал — уже после
десятилетки — стать киномехаником. Причина? Не улыбайтесь,
вполне серьезно: можно все фильмы бесплатно смотреть.
— Коля! Ну сколько фильмов в месяц ты способен увидеть?
Двадцать? Прикинь, посчитай, это же не больше десяти рублей.
Разве ты их не заработаешь при любой другой специальности?
Задумался. К сожалению, на эту тему — задумался впервой.
Опять пробел интернатовский: некому, видать, было всерьез по-
говорить с Колей.
Но много хорошего—по большому человеческому счету.
Не жадный, точнее — добрый.
Друга Ваську взяли в армию, он посылает ему бандерольку.
С чем бы вы думали? С семечками! Васька там, в армии, по се-
мечкам соскучился, написал в письме, конечно, написал между
прочим, а Коля тут же откликается: идет на рынок, упаковывает
бандерольку, торопится на почту.
Так получилось, что второй его дружок, Сережка, попал на
строительство, живет в общежитии, и, как бывает это порой, ни-
кому нет до него дела в этом стройуправлении. Вера Надеждовна
вмешивалась, ходила в общежитие, разговаривала с воспитателем:
обратите внимание, помогите, ведь это же легче легкого, местком
может выделить деньги—декабрь, а парень в резиновых сапогах.
Воспитатель общежития ничего не сделала, уехала куда-то, и
220
вот Вера Надеждовна видит, как Колька приводит Сережку, до-
стает из сумки ботинки — купил в комиссионке за десятку, отдает
ему свою рубашку, свой свитер.
Сережка не ершится, улыбается, но надевает обновки, впро-
чем, без особых восторгов. И отсутствие лишних слов так берет
за душу: они ведь оба детдомовские и понимание товарищества
у них такое.
У Веры Надеждовны не наворачиваются слезы, нет, она сдер-
жанный и сильный человек. Лишь потом, спустя полчаса, неиз-
вестно по какой такой причине, вырвется вздох облегчения.
Задумается — почему, и поймет, неожиданно для себя, что в
эту минуту размышляла о Коле.
* * *
Бывает, для того, чтобы попять человека до донышка, тре-
буется еще что-то. Давно знаком, много говорил, а малости этой,
как соли в супе, все недостает. И у тебя ощущение какой-то зыб-
кости, неуверенности.
Знать — знаешь, но вот чтоб до конца, до дна — за это не по-
ручиться.
Вера Надеждовна сама подарила мне эту малость.
Почти полтора десятка лет она в Доме, п вот однажды пома-
нили ее пряником: работать в межшкольном учебно-производст-
венном комбинате, где кроме прочих самых разных специалистов
готовят и воспитателей детских домов. А что — опыт большой,
образование — подходящее. Она пошла.
И тут же поняла, пряник-то и мятный, и мягкий, времени пол-
но, дело со взрослыми имеешь, которые к учебе тянутся,— а все ж
пресно стало, пусто, неинтересно.
Тут она и добавила эту малость.
— Что же это я, думаю, наделала,— сказала Вера Надеждов-
на.—Я же из детства ушла!
В этих словах ее не было никакой литературности. Под дет-
ством она разумеет детские учреждения, работу в них, работу
с малышами и для них.
,— Нет, сказала я себе! Не уйду я нз детства!
И вернулась.
* * *
Она вернулась в детство — в том-то и дело, что не в свое дет-
ство, а в детство, которому она очень нужна.
Своими мыслями, каждодневным заботничеством о маленьких,
брошенных детях.
Брошенных?
Только не ею.
Сердцем своим, руками, делом — на тех самых великих весах
справедливости — выправляет она нарушенное равновесие. Дей-
ствует именем государства: верит, надеется, любит.
Нет, не зря добродетели эти — женского, материнского рода.
221
КУКУШОНОК
ДВА ПИСЬМА НА ТРУДНУЮ ТЕМУ
1
Писать Вам очень трудно. Написать же необходимо, потому
что мне не с кем обсудить сложные проблемы ребенка, брошенно-
го своими родителями, и найти выход из почти безвыходного по-
ложения. И все-таки, сколько бы я ни писала писем и деловых,
и официальных, и дружеских, таких вот не писала никогда. По-
этому ни одно из них не вызывало такую уйму сомнений и страха,
сколько это письмо. Как-то Вы его воспримете? Не читайте толь-
ко его, прошу Вас, по диагонали.
Пишу это письмо давно, рву его в клочья, отчаиваюсь и снова
пишу длинно, нудно, неубедительно.
Поймете ли Вы хоть что-нибудь в этих сплошь противоречивых
силуэтных штрихах? Создастся ли в моем неумелом изображении
образ — настоящий, живой, образ страдающего, неприкаянного,
всеми изгоняемого (куда?)—да вот в том-то и дело, что в ни-
куда— человечка. Маленького, несчастного, но с головой, душой,
вредностью и сердцем.
Думаю, что может ведь еще и так случиться, что письмо это не
дойдет до Вас. Из самых лучших побуждений им займутся некие
Окаменелости, бесценные в соблюдении жизненного порядка и
устойчивого равновесия, чуждые, естественно, всякого там сопере-
живания, но зато вполне деловитые. Они быстро и четко распоря-
дятся, и судьба горемычного письма будет определена как надо.
Но если все эти неприятности повременят и беды этой не слу-
чится, то уж тогда, наверно, от неурядиц всей земли Вы примете
озябшего делегата?
Недавно Вы написали большую статью в публицистическом
разделе журнала, и я прочла ее. И еще несколько раз перечи-
тала. В статье Вы написали о детях, брошенных родителями.
О безнравственности и безнаказанности этих родителей.
Будет ли когда-либо написано Вами об этих детях, но приня-
тых в другую семью, и об усыновивших их родителях? Родителях
второго порядка. Пока, наверно, нет, не напишете. Эти сомнения
и вызвали необходимость обратиться к Вам. А живется и этим де-
тям и этим родителям очень трудно. Много вопросов, которые
кажутся неразрешимыми.
Как нам в жизни быть? Как нам эту жизнь прожить? Как ре-
шить вопрос своего обоюдного перевоспитания, преодолевая такие
222
не поддающиеся преграды. Да и не о нас, не о родителях,
речь идет. Мы перестроились, дети нас перевоспитали. А сами де-
ти? Вот где бы отменить, уничтожить эту мстительную, злую
колдунью Генетику, оставляющую следы там, где не надо. Не лю-
бят эти дети своих вторых родителей, как бы эти родители ни
старались, как бы ни скрывали свою чужеродность. Детям этим
нужны первые, которых они никогда не видели, но всегда неосо-
знанно искали, пусть плохие, но родные, желанные.
Потому-то и неспокойны они, непослушны, упрямы, даже же-
стоки сверх меры, а винить их в этом невозможно. Не их это вина.
И чем дальше, тем меньше связующих звеньев, тем дальше ухо-
дят они от дома, его интересов, его забот. И тем глуше их серд-
це. Виною всему этому беспощадная Генетика. И в школе они то-
же как-то не у места — из-за своего своенравия, упорства, не лю-
бимы учителями. За эту антипатию дети платят взаимностью, а в
«награду» их гонят. Сначала на последнюю парту, затем из шко-
лы. Беспощадно, бесчеловечно, но «обоснованно». Какое же непо-
правимое зло (скорее всего неосознанное) совершают некоторые
современные учителя.
Сейчас все мобилизовано на педагогическую реформу, ио в ней,
мие кажется, снова все внимание нацелено на обычных, здоровых
детей с нормальной наследственностью. Конечно, это прекрасная
школа. Школа будущего и, наверное, далекого будущего. Да и
откуда так вдруг возьмутся для новой школы образованные, мно-
госторонние, с широким кругозором настоящие учителя со знани-
ем педагогики (в смысле умения учить разных детей) и, главное,
психологии ребенка, в том числе сложного, трудного ученика, где
искать этих справедливых, увлеченных и ответственных за дело
рук и ума своего, добрых, жалостливых и терпеливых педагогов,
воспитанников и последователей Ульяновых, Макаренко, Сухом-
линских, Ушинских.
Для этого, наверно, и в пединститутах и университете тоже на-
до изменить программы и выпускать высокообразованных и высо-
коквалифицированных учителей. А наша теперешняя школа не
всегда умная, не всегда умелая и не всегда душевная.
Я написала эти горькие слова не в диком озлоблении, не в со-
стоянии аффекта. Нет, со всем этим я живу постоянно, вижу и
оцениваю обстановку очень трезво и здраво. Такова наша конк-
ретная, увы, не всегда вдохновляющая школьная действитель-
ность. Только не пугайтесь, пожалуйста, этих ухающих слов. Я не
буду ими пользоваться. Слава богу, в русском языке есть и дру-
гие. Выслушайте только меня и рассудите.
Более десяти лет тому назад моя дочь почти случайно зашла
в местный Дом ребенка. И вот что там случилось.
Оиа увидела одинокого малыша, отставшего от своей группы,
которая только что прошагала в спальню,— очень бледненького,
нездорового и в то же время весьма независимого. Он стоял, при-
слонившись к стене, п очень внимательно разглядывал ее. Она
подошла к нему, взяла иа руки и отнесла к месту назначения.
223
На другой день, когда она вновь вошла во двор Дома ребенка,
то первый, кого она увидела, был ее вчерашний знакомый маль-
чик, который бежал по двору ей навстречу со всех ног, споты-
кался и падал в неуклюжей своей, казенной одежде и истошным
голосом кричал: «Мама... мама...» Она побежала ему навстречу,
подхватила, прижала к себе все в пыли и царапинах худенькое
тельце и больше не рассталась с ним.
Изменив его имя и фамилию, она усыновила мальчика. Ее соб-
ственная семья распалась, она только что рассталась с мужем,
детей у них не было, выходить еще раз замуж она считала невоз-
можным, и поэтому отнеслась к этой встрече как к чуду, подарен-
ному судьбой.
Андрею не было и двух лет, когда он пришел к нам. Оба его
родителя — потомственные алкоголики, лишенные родительских
прав, но ни мало о том не тоскующие. За целый год, что был
Андрей в Доме ребенка, они не выбрали дня, чтобы навестить его.
Словом, настоящие родители Андрея или не обнаружили потери,
или оставались безразличными к судьбе ребенка.
Андрей был болен весь целиком и всеми болезнями сразу.
Попав в Дом ребенка, он почти год отлеживался в больнице, но
чем дальше, тем хуже ему делалось. Он страдал от хронических
вариантов бронхита, дизентерии, пневмонии, диатеза, гайморита,
воспаленных гландов. Но самым страшным был врожденный по-
рок сердца во всех его безжалостных проявлениях. Ножки и руч-
ки у него были как у Буратино — худенькие и прямые.
Он был так необычен и вместе с тем так мил, хотя и очень
некрасив. Совсем лысый, худой, бледный, с красненьким пугов-
кой-носиком и очень скупой, учтивой улыбкой. Ничему не обучен-
ный, ничего не умеющий. Но все равно очень обаятельный.
Наверно, никто на свете не смог бы пройти мимо этого ребен-
ка, оставаясь безразличным (кроме, разумеется, его родителей).
В Доме ребенка всеми силами старались вылечить, приголубить
его, да запущен он был в своем отчем доме так, что ничего не
получалось.
Не получалось долго и у нас. Мы были неразумными, опроки-
нули на него много лишней суеты, забот, ласки, чем надоели и
опротивели ему безмерно и, видимо, надолго.
Он ответил нам протестом—круглосуточным ревом, упрям-
ством, непослушанием. Все новшества принимал в штыки. Был
нервным, неуправляемым и таким остался навсегда.
Долго не мог привыкнуть к новой обстановке, незнакомым лю-
дям, иным правилам и порядкам, к необычности окружающего
его мира — третьего по счету, это в его-то неполные три годика.
Больницы сменялись у него незнакомым домом и опять боль-
ницами, а сколько врачей, медсестер, уколов, капельниц, компрес-
сов, втираний ..
Постепенно обстановка и отношения нормализовались, но по-
рядок, покой, умиротворенность навсегда ушли из нашего дома,
из нашей маленькой, но очень дружной семьи. Теперь наш дом
224
и его обитателей беспрерывно сотрясали местные катаклизмы, и
каждый из них казался концом жизни. Что делалось с Андре-
ем— страшно вспомнить. Скандалил, дрался, плакал.
Но и это страшное время несколько смягчилось. Появились но-
вые беды, и старые видоизменились. Мы привыкли друг к другу.
Перевоспитывались — обоюдно. Для нас это было трудновато, а
для Андрея во сто крат тяжелее. Старались быть самокритичными,
устранить раздражители, сдерживаться. Увы, не всегда это уда-
валось, не всегда мы были на высоте. И раздражались, и серди-
лись, и даже «обижались» Господи, какими были мы первобыт-
ными (это так Андрей назвал персонажей «Сотворения мира» Эф-
феля). Как не подготовлены мы были к воспитанию такого не-
обычного ребенка, к такому буйству. Но понемногу, очень медлен-
но и незаметно для постороннего глаза, менялись мы, изменился
чуточку Андрей. От него отступали немощи, излечивались болез-
ни. Появилась бешеная энергия, непоседливость, стремление к
играм, к детям, к развлечениям.
Сделана самая последняя и самая серьезная операция на
сердце. В школе ему дали академический отпуск, и он остался
на второй год в четвертом классе. После операции три недели ле-
жал в реанимации, весь в проводах, подключенных к различным
аппаратам. Ему восстанавливали дыхание, давление, сердечный
ритм—словом, жизнь. После реанимации еще два месяца в палате.
Теперь Андрей физически здоров, конечно, насколько это воз-
можно с его неуемной натурой. И в дождь, и в снег, и в солнечный
зной он неизменно на улице, в реке, в снегу или в луже.
Он стал высокий, статный, с темными волосами, с ясными, как
хрусталь, глазами. Смешлив, весел, до отказа заряжен неулови-
мым обаянием (увы, пока улавливаемым только нами), изобрета-
телен, особенно на довольно сложные игры, умело собирает раз-
нообразные сооружения из своих многочисленных конструкторов.
Самозабвенно (килограммы пластилина) лепит все виды орудий
и войск.
Бесчисленные и непобедимые русские армии всех времен и
служб в соответствующих амунициях, точно скопированные из
детской энциклопедии. Руки у него умные. Ум живой и воспри-
имчивый, может много сделать в доме: починить,— впрочем, сло-
мать тоже,— наладить, «удачно» приколотить и привинтить, хоро-
шо и интересно пересказать прочитанное, услышанное и увиденное,
и потому очень интересен в ребячьих компаниях и приятный спут-
ник в поездках, которые они совершают с мамой великое мно-
жество. Объехали полстраны.
Но Андрей хорош только тогда, когда захочется ему самому.
Слов «нужно», «необходимо» он не признает. В обиходе только
слова: «Хочу», «Потому что так хочу!» И постоянное, неизбывное
стремление к тому, что нравится, к тому, что хочется, и никак к
тому, что надо, но не нравится. В этом вся наша беда. Все наше
горе. Увлечения сменяются увлечениями Им подчиняется его во-
ля, вся его деятельность — за счет учения, развития, нужных и по-
225
лезных занятий. Но и увлечения мгновении Ничего постоянного,
кроме злого упрямства.
С годами теряется интерес к чтению, театру, путешествиям, му-
зыке. Из-за нерадения к учебе интеллект его, который в детстве
опережал сверстников, теперь явно отстает. Правда, и в детстве
большая часть его интеллекта «уходила в звуки». Он очень удачно
подражал пению птиц, полету пули, шуму мотора, военным и дру-
гим ритмам. Удачно пародировал. В детстве был сердечнее, доб-
рее, общительней. С годами теряются и эти качества. Все больше
проявляется пренебрежения к близким, равнодушия к нашим бе-
дам, неприятностям, ужасающее хамство, ничем не вызванное,
спровоцированное самим собой.
Вся его неуемная энергия, сила характера, предприимчивость,
«железная» воля, несокрушимое упрямство направлено на единую
цель — на осуществление своих желаний и увлечений. Увы, боль-
шая часть их прискорбна.
Беззаветно любит улицу. Из-за этой неразделенной любви все
остальное на втором и последующих местах. Не любопытен к за-
нятиям, которые дает школа. Не хочет учиться. В крайнем случае,
согласен ходить в школу, не согласен с заданиями на дом, потому
что они отвлекают его от улицы, от игр, от ничегонеделания.
Не о таких ли детях писал Сухомлинский, отмечая с сожа-
лением, что многие из них остаются неучами?
О своей антипатии к учению он говорит открыто, не таясь, не
маскируясь.
В школе ведет себя неровно. Часто просто плохо, особенно ког-
да против чего-либо протестует. Против изгнания его на послед-
нюю парту, против почти (даже без почти) исключения из учеб-
ного процесса (не спрашивают, не поручают, не вовлекают, изо-
лируют). Тогда дневник его пылает от красных чернил классной
руководительницы: «Безобразничал на уроке, шалил на переме-
не, толкнул девочку. Будет вызван на педсовет. Срочно прийти в
школу». Угрозы, замечания, порицания и самое страшное — педа-
гогический бойкот.
Он остро ощущает себя никому не нужным. Эффектно торчат
колы, «как одинокие трубы на сгоревшем подворье» (классная —
филолог). И тут же робко, убого, редко, незаметно четверки и
уж как событие — пять. Учит он скорбно мало: бегло математику,
лучше географию, кое-как историю, очень плохо русский, немец-
кий, биологию, приемлет полностью труд, рисование, пение, и, как
он ожидает, будет когда-то потом нравиться физика, химия, зоо-
логия.
Сесть ему за домашние уроки всегда очень трудно. Потому
что скучно. Иногда открыто идет на скандал, это случается, когда
поздно приходит с улицы — сначала усталый, голодный, потом
сонный, взъерошенный. Тогда остервенело бросает себя и сумку с
учебниками на стол, потом что-нибудь роняется, что-то хлопает,
где-то шлепает, и наступает такая зловещая тишина, что, верно,
слышен скрип и стон всех нервных систем обитателей дома.
226
Обе враждующие стороны — я и Андрей — замирают, выжида-
ют, ждут. А «история идет напрямик, и полон событиями каждый
миг». Начинает Андрей: «Что, не хочешь мне помочь? Ну-у, ко-
нечно. Я плохой, я опоздал! — и с издевкой: — Тебе, конечно, спать
пора!» Значит, настроен враждебно.
Нужна, ох как нужна, выдержка и стопроцентная доброжела-
тельность. Но он провоцирует скандал, накручивая себя, а заодно
и меня. А взрываюсь я быстро. И хуже этого уже ничего не мо-
жет быть. Андрей наглеет и откровенно требует: «Дай списать.
Не-ет? Смотри, пожалеешь потом!» Предлагаю помощь, помощь
не принимается, требуется готовое. Ничего не остается, как за-
молчать, окаменеть, ни на что не реагировать. Снова тишина.
И еще через час, исчерпав программу, Андрей капитулирует. Он
начинает продвигаться ко мне в комнату. Застенчиво втискивается
в узкую дверную щель, предварительно постучавшись и исполнив
весь известный ему несложный ритуал вежливости, с виноватой
улыбкой и ясными глазами (и такой хороший, и такой настоящий
ребенок, совершенно непохожий на только что скандалившего
неприятного подростка).
— Ты не можешь мне помочь? Я примеры все решил правиль-
но, а задача не получается.
Голос комариный. Весь — внимание. Весь — любезность. Как
можно ему отказать? (Это, конечно, один из вариантов, а сколько
их бывает!)
Я сдаюсь, хвалю его за правильные рассуждения, нахожу
ошибку (надо, чтобы сам, но времени уже двенадцатый час, все
школьное воинство спит). Он признательно утихает, быстро доде-
лывает в черновике («утром перепишу»), я ставлю ему пятерку
за мысли, и он, счастливый, вприпрыжку, безмерно довольный со-
бой, отпустив сам себе все грехи, бухается в постель и, кажется,
«врезается» в сон еще на лету. Лицо безмятежное, избавившееся
от всех невзгод. Лицо отличника учебы.
Назавтра колы за классную работу по русскому, да еще не вы-
учил стихотворение, по остальным предметам не прочитал ни од-
ной строчки. Эти неприятности возвращают его к суровой дейст-
вительности. Несколько дней старается, потом все сначала, и ни-
что не помогает. Обещает, очень искренне верит в эти свои обе-
щания. И опять не получается Улица вновь увлекает его, и он не
в силах сопротивляться ее соблазнам. И нет в нем никакого им-
мунитета от этой погибели.
Вот и получается — выходили мы его в смысле физическом,
вылечили, вырастили, а вот отвернуть от жизненной скверны, на-
учить отличать хорошее от плохого, возможное от невозможного,
сделать из него хорошего человека не сумели, не смогли. И нет
нам за это благодати, нет счастья, нет уверенности в его будущем.
Каким оно окажется?
Все наши друзья и недруги обвиняют нас в том, что мы не
лупили Андрея ремнем и от этой вот безнаказанности он и стал
таким. А мы знаем очень твердо, что бить его нельзя и потому,
227
что его битье оскорбляет, озлобляет и вызывает несгибаемое
упрямство, и потому, что мы не имеем права этого делать.
Андрей ведь и сам старается быть человеком, да очень многое
зависит не от него. Характер его так сложен, исковеркан, непо-
датлив, что ему порой не по силам справиться с ним. Отношения
с ребятами тоже сложные, он ищет их общества, дорожит ими,
но часто и ссорится, вредничает, а потом страдает. Помирив-
шись, страшно радуется, но затем снова все сначала. Дети не
злопамятны. Они прощают ему его неровности, охотно мирятся.
Андрей часто несправедлив, необоснованно зол, тогда слетает
с него все обаяние, он становится груб, нахален, из него так и ле-
зет хамство, даже драка. Логика его в это время такая ужасная.
Философия необъяснимая. Он очень эмоциональный мальчик. Бур-
но переносит и радость и печаль. Эмоции его порой настолько не-
ожиданные и непредугадываемые, что предварить их, предвосхи-
тить, ослабить, остановить нет сил.
Бывает, что удается изменить его настроение — уговорить, по-
мочь успокоиться, пересмотреть свои позиции, отказаться от сво-
его намерения. Связано это всегда с большой выдержкой, спокой-
ствием. Но, увы, не всегда умеем мы властвовать собой и иногда
поддаемся раздражению и сочиняем такой безобразный скандал,
о котором потом стыдно вспоминать.
В эти горькие минуты никому не хочется жить на земле. На-
верно, даже и Андрею.
С детства его исследовали психоневрологи. И поскольку они ни-
чего не могли сказать п ничем помочь, пришлось нам обратиться
к главному психоневрологу города. Он положил его в стационар
на обследование и диагноз.
Смотрели его, слушали и установили, что психического забо-
левания нет, а есть затянувшийся инфантилизм и в силу патоло-
гических отклонений задатки психопатического характера. И за-
ключение, неоднократно слышанное: «Это сейчас, к сожалению,
нередкое явление, не он один. Как правило, из-за родителей алко-
голиков. Бороться с этим злом некому, так как это не болезнь,
а свойство характера, требующее только некоторых коррекций в
педагогике и воспитании. В соответствующих условиях (?) он мо-
жет еще стать удовлетворительным человеком, в иных — социаль-
но неблагополучным гражданином».
Вот как лихо и безысходно закручено. Самое печальное в этом
профессиональном заключении — будущее социальное неблагопо-
лучие.
Как же спасти его от этого зла? Трудом. Учением. Личным
примером. Суровостью. Строгостью. Наказанием. Добротой. Вни-
манием. Пониманием. Внимательностью. Всем вместе!
А ребенок бедствует, ребенок мечется. Он не знает, почему он
груб, неуживчив, неуправляем. На все вопросы — почему? — он
страдальчески морщит лоб и отвечает: «Не знаю. Понимаю, что
говорю плохое, а не могу остановиться. Лучше бы мне умереть».
Ребенку в двенадцать лет, в общем жизнерадостному, здоровому,
228
любимому, вдруг могут прийти в голову мысли о смерти как из-
бавлении от несправедливости.
И все в нем не так, как у других. Из тех, других его сверст-
ников уже формируются личности, а Андрей продолжает оставать-
ся ребенком, капризным, эгоистичным, требующим от жизни бес-
конечных благ. Вот отказали ему в покупке снегоката (35 руб.), и
он его угнал — не сам, но с помощью другого мальчика. Теперь на
учете в детской комнате опорного пункта. К этой беде отнесся
серьезно (насколько может). Старается не бегать поздно. Каж-
дую среду с дневником ходит на проверку. Ио все равно срывает-
ся и нарушает дисциплину. А в опорном пункте снова женщины,
славные, добрые, знающие свое дело, но как было бы лучше, если
бы это были мужчины.
Куда же они подевались? Мужчины-наставники, мужчины-пе-
дагоги!
Весной Андрей перестал ходить в школу. Целыми днями его
не было ни дома, ни рядом с домом. На все просьбы, вопросы
грубил, не отвечал. И вот тогда его положили на обследова-
ние в стационар. Но вынуждены были взять его очень быстро
обратно.
Нет, не думайте, что он плохо вел себя. Был примерным. Ни
одного замечания. А условия в стационаре сногсшибательны. Ни
нормальные, ни ненормальные дети там не в состоянии находиться.
Насколько уж Андрей неразборчив в своих «знакомцах», но
и он запросил коридор вместо палаты. Мы ходили к нему по два
раза в день, уводили гулять в любую погоду. Но потом он вы-
нужден был возвращаться и «обогащаться». Сколько же ме-
сяцев ушло на то, чтобы хоть что-нибудь забыть от этого «все-
обуча».
Читала я, что в клинике доктора Амосова в Киеве есть много
медицинских находок для больных детей, среди них и ЭВМ, ра-
ботающая по специальной программе, которая дает полную ин-
формацию о психике ребенка, его патологии, способностях, на-
клонностях и возможностях. Вот доктор в согласии с компьюте-
ром и дает родителям совет, что всеми силами глушить, что с
такой же силой развивать и как и где. Попасть к доктору Амосо-
ву мы не смогли. Пытались. Поэтому теперь пытаемся суметь
сделать все сами. Но, увы, во многом мы еще совершенно бес-
сильны.
Вот если бы я стала директором (была такая рубрика в «Ли-
тературной газете»), разве так стала бы я растить, учить и лечить
этих детей, кроме всего прочего, требующих особого внимания, осо-
бых условий!
Я построила бы им во всех городах страны совсем особые
школы. В этих школах дети учились бы согласно своим склонно-
стям и своим призваниям. У всех они есть в избытке, а особенно
у трудных подростков. Это разносторонний и очень интересный на-
род, с которым настоящий учитель может многого достичь.
В их распоряжение были бы отданы классы, мастерские, лабо-
раторип, студии, манежи, фермы, заповедники, сады, огороды,
учебные хозяйства, кузницы, даже полигоны и многое другое, что
открыло бы им вес многообразие жизни, всю соблазнительность
знания и умения, где бы они учились, трудились, экспериментиро-
вали, открывали, исследовали, взращивали, вскармливали, приру-
чали и совершенствовались в любых предметах, отраслях, делах,
профессиях, избранных ими самими. Там бы царила строгость и
справедливость, раскованность, доброта и скромность. Классы с
небольшой численностью, так, чтобы каждый ученик мог участ-
вовать во всех учебных процессах и не был бы ни за что забро-
шен один на последнюю парту и исключен из повседневной школь-
ной жизни, отщепенец, игнорируемый неумным педагогом и заяр-
лыченный им навечно.
В эги школы и учителя принимались бы только по конкурсу.
И вознаграждение их труда проходило бы по особому «Поло-
жению».
Внимательное и щедрое обучение дало бы прекрасные резуль-
таты Разве не под силу это могущественной стране, как наша,
разрешившей и не такие сложные задачи.
Уверена, не слабые духом, распущенные до абсурда, ни во что
не верящие дети должны заступать на смену, а только здоровые,
верные, надежные. Не одно поколение выросло таким, что ж те-
перь-то заброшено такое количество неблагополучных детей? По-
чему?
И еще ненадолго вернусь к Андрею.
Сейчас он немного, но читает, в промежутки между улицей,
школой и всем прочим. Сначала мы боялись, что он никогда не
будет любить книги. Много ему читали, он охотно слушал, но сам
ленился, предпочитая игры. Испытали самый верный способ, и он
помог. Бросали на самом интересном. В игры всегда включали
героев прочитанных книг. Понемногу стал читать сам. Да случи-
лось еще ему надолго лечь в клинику. Там нескончаемые часы
послеоперационной неподвижности скрашивало чтение. Сначала
книги о животных. Позже к ним присоединились: Пришвин,
«Юный натуралист», да Б. Полевой, А. Толстой (пока только «Ги-
перболоид инженера Гарина»), весь Гайдар, не весь Жюль Верн,
все пять книг Волкова, очень мало Ф. Купера, журналы «Техника
молодежи», «Пионер», «Костер» да сказки всех времен и народов,
для всех возрастов, включая и дошкольные.
А сколько за эти же годы прочитали его сверстники! Неизме-
римо больше. Несравненно серьезней. А сколько из них учат язы-
ки, музыку. Андрей ничего этого учить не хочет.
В школе учителя относятся к нему по-разному. И хорошо, и
средне, и безразлично, н с явной антипатией. Особенно, к сожале-
нию, классная руководительница. Ее самая заветная мечта—от-
везти Андрея самой и оставить навсегда в колонии жесточайшего
режима или на совершенно необитаемые острова, где нет даже
робинзонов. По тому жизненному правилу, что антипатия всегда
взаимна, Андрей отвечает классной лютой неприязнью.
230
Чтобы привести замысел в исполнение, классная руководитель-
ница, не считаясь с затратами времени и сил, составляет на Анд-
рея досье. С этой целью она посещает многочисленные инстанции
и пишет страшные характеристики. Если бы с таким упорством
и такой завидной целенаправленностью она помогала Андрею пре-
возмочь его беду, какое благословенное дело она бы сделала.
Нет, ей нужна для него спецшкола. И установив невозможность
«пока еще» этой кары, она пришла в неистовство. А когда узна-
ла, что Андрей получил путевку в детский санаторий для обсле-
дования послеоперационного состояния, написала по своей ини-
циативе— мы не просили об этой любезности — характеристику.
Вот некоторые выдержки из нее:
«Учится слабо, без желания. Не готовит пересказ прочитан-
ного. В тетрадях пишет неграмотно, хотя писать может лучше.
На уроках пассивен, невнимателен, рисует или безобразничает,
мешая классу. Много пропускает занятий, невоспитан, называет
товарищей по прозвищам. Груб с девочками. Может сделать па-
кость тем, с кем дружит. Ничем не интересуется. Ни в одном
кружке не работает. В свободное время бродяжничает (?)».
В этой характеристике есть и правда. Андрей действительно
плохо вел себя на ее уроках. Но уж очень она безнадежна, эта
бумага! Нужна ли такая характеристика в лечебный санаторий?
Мы очень боялись, что вдруг и в медицине окажутся у классной
единомышленники и Андрея не примут в санаторий. Но врачи там
оказались очень сердечными и оставили его. В благодарность, ви-
димо, Андрей учился в санатории значительно лучше, чем в шко-
ле, и привез хорошие отметки. И этому благоприятствовало до-
брожелательное отношение учителей к Андрею. Он сидел на вто-
рой парте, вместе с другим учеником (а не на последней парте и
один), его спрашивали на уроках, ему давали поручения, он вы-
полнял их. Учиться было не скучно. И главное, он чувствовал се-
бя равноправным. Как все.
Вот и думается — с кем так рьяно воюет классная руководи-
тельница? С кем сражается? И почему не за него? Почему про-
тив? Ну возможно ли таким путем завоевать у ребенка призна-
тельность? И неужели невдомек ей, как обездолен этот человек,
почему он так упрям и неподатлив? Что может она внушить Анд-
рею, кроме яростного протеста и нежелания идти на ее уроки?
Характеристика Андрея, выданная классной руководительни-
цей, и написанное мною тут — очень противоречивы. Мы ведь обе
не можем добиться успеха. Я все-таки, видимо, пристрастна и
несправедлива к ней. Мне только видится в ней бесчеловечность,
которую я не могу постичь (как некую улитку бесконечность).
Жаль Андрея, ему еще встречаться и встречаться с недоброжела-
телями разного обличья...
Летом мы поедем с Андреем на свою дачу и будем наслаж-
даться ее незамысловатостью и гулять по ее «пейзажам». Андрей
вскачь, я, разумеется, нет. Есть у нас такая маленькая лесная хат-
ка. Такое чепуховое, ненаглядное чудо. Там речка, лес, холмы и
231
равнины. Множество воздуха и света, аромата цветов, трав, де-
ревьев и всеобщая благодать, какой не сыщешь во всем мире и
других местах. Лето — самое счастливое время года и в Андре-
евой жизни.
Отсутствие ненавистных режимов, полезных нотаций, нескон-
чаемых назиданий делают его бесконечно счастливым, поклади-
стым и даже частично послушным.
И хотя он все еще упрям, но степень упрямства резко снижена.
В нем ясно прорисовывается та симпатичная личность, которая
могла бы быть, но не ста та.
А сотворившие это зло его родители живы, здоровы и неиз-
менно во хмелю. Как теперь выяснилось, у его отца и матери мно-
го сестер, братьев, бабушек и дедушек, люден состоятельных, обе-
спеченных квартирами и средствами, но не желающих обременять
себя заботами об этом ребенке. Да и Андрею не дай бог когда-
либо встретиться с кем-нибудь из них. Погибнет он тогда.
А сейчас?
А сейчас над ним и над нами нависла совершенно реальная
угроза — несовместимости нашей общей жизни. Он хочет жить по
своим законам. И вот можно умереть около него, но сдвинуть его
со своего бессмысленного упрямства невозможно.
«Нет, не хочу. Нет, нс пойду. Нет, не буду делать. И ты меня
не заставишь».
И это во всем — и в малом, и в большом. Мы так устали от
этого, что передать Вам обычными словами состояние нашей не-
состоятельности просто невозможно.
Скажите, почему пьющим женщинам разрешают рожать де-
тей? Какой сонм людей они делают несчастными!
Андрею нужен крутой характер, строгий контроль, незыблемый
режим. Где эти условия он может получить? Частных пансионов
j нас нет. Нахимовское и Суворовское училища не возьмут его.
Детский дом его погубит. В нашем городе, и особенно в нашем
большом доме, многие знают, что Андрей — приемный сын. Если
узнает он — будет беда. Переехать в другой город тоже невоз-
можно. Слишком сложно устроено наше бытие.
Вот брата его родного и единственного мы разыскали и очень
пожалели, что сделали это поздно. Коля — отличный парень. Ему
сейчас двадцать три года. Детство его до девяти лет в семье алко-
голиков, а потом в детском доме было безрадостным. И все-таки
он выкарабкался. Был в армии. Вернулся, женился. Родился сын
Сережа. Это первый его семейный дом, он очень дорожит им, лю-
бит его. Он очень загружен. Учится в десятом классе. Сдает экза-
мены по специальности (он был шофер III класса). Много рабо-
тает. Воспитывает сына.
Встречается Коля с Андреем очень редко. Они еще и живут
далеко. На самой дальней окраине города. Адрес от Андрея скры-
ваем, так как там же проживает родная тетка, сестра отца Андрея
и Коли — личность весьма отрицательная. И все это для Андрея
новая травма. Любит он Колю, его дом, наверно, больше жизни.
232
Может быть с Колей неограниченное количество времени, прилип-
нув к его боку, составив неразделимую семейную скульптуру, не
разбиваемую, не расклеиваемую. Будучи крайне непоседливым и
нетерпеливым, с маленьким Сережей может возиться часами, за-
быв об играх, друзьях и улице.
Каждая встреча для Андрея — счастье.
А нас он не любит. Он — как кукушонок, подброшенный «за-
ботливой» мамашей в чужое гнездо. Ему все там не нравится, и
он стремится как можно скорее избавиться от навязанной ком-
пании и повыкидывать своих безобразных собратьев по гнезду.
Впрочем, жить с нами он согласен, поскольку обеспечивается уют,
забота и безрежимность.
Что же дальше делать? Так, как было, уже оставлять нельзя.
Помогите нам. Рассудите.
Вот он закончил учебный год. Перешел в следующий класс.
Рады мы очень. И он тоже. Уж очень тяжело дается нам учение.
Я училась вместе с ним, ну конечно, дома, по его учебникам, что-
бы не было у него возможности что-либо не понять, не суметь
и не сделать, по этой причине, домашнего задания.
Поверьте, не так уж легко древним старухам проходить нау-
ки— даже такие несложные, как у него.
Вечером дочь моя принесла великолепные махровые гвоздики,
подарки. Мы вместе с ним готовили «улучшенный» ужин. И не бы-
ло лучше ребенка на всем свете. А еще через десять минут после
ее прихода он собрался идти гулять. Было десять часов. Надви-
галась ночь, и рушилась надежда на уютный семейный ужин.
Я не пустила его гулять. И что тут было, что тут было... Он ревел
и вопил, как будто какой-то недосвергнутый инфант лишился пре-
стола. Его вопли, наверно, слушали, увы, уже не изумленные жи-
тели большого дома и голуби на крыше.
«Не надо мне ничего, пусть все провалятся! Я хочу гулять,
и я все равно пойду, вот ты не пустила, а я пойду!»
В мой адрес летели такие ругательства, до которых трудно
додуматься. «Старая дура» было самым демократичным из них.
Потом он успокоился, даже извинился. Но сегодня утром нс
пошел в школу на трудовые занятия, грубил, дерзил. Потом, не
позавтракав, сел на велосипед и уехал в неизвестном для нас
направлении. И вот кончается день, его нет. И приходила не-
знакомая бабушка очень хорошего внука, которого обидел Анд-
рей. И она жаловалась. И мы извинялись. И знали — это месть
за отказ в исполнении его желания. Отказ не переносится, не
воспринимается. Непривычка к отказу толкает его на зверство.
Он ненавидит меня сейчас с необычайной силой. И так же будет
«любить», если я разрешу ему все подряд. Резонно ли это? Да, в
наших условиях резонно!
Ну вот и все, что я хотела Вам рассказать. И спасибо Вам,
что выслушали меня. Ведь всем известно, что слушать труднее,
чем говорить. Спасибо Вам, что не караете меня сами и не пода-
ли на меня на суд (пока не подали) за кражу Вашего времени,
233
за нарушение Ваших границ, за несанкционированное вторжение
в Ваши земли. За непомерно длинное и заунывное письмо.
Вы думаете, что жутче его нет ничего на свете? А вместе с
тем одна из корреспонденток доктора В. Л. Леви написала ему
письмо на пятистах страницах, а так как, пока она писала, кое-что
изменилось в ее жизни, она заверила доктора, что вышлет до-
полнение.
Я не пошлю Вам постскриптум, но буду неустанно ждать от-
вета.
Нина Степановна Семенова
2
Нина Степановна,
письмо Ваше легло на сердце мое тяжелым камнем. Вы как буд-
то нарочно взялись показать мне, да и всем, кто работает в ли-
тературе, насколько нелегка ответственность за слово сказанное:
не только похвалы, не только брань,— это-то самое простое,— а
возврат тебе твоих же вопросов, точно бумеранг, совершив круг,
идет на тебя, и все дело теперь в этом, как ты себя поведешь —
отскочишь, испугавшись, или поймаешь его, не побоишься боли
в руке и сердце, возьмешь на себя обязательства, которые вроде
не полагается брать, нет, во всяком случае, такого правила —
советовать, вмешиваться в реалии чужой — и далекой — жизни.
Но Вы не думаете о правилах, когда болит Ваша душа, Вы
не думаете о том, что я, к примеру, вовсе не педагог, не пси-
хиатр, не руководитель народного образования, что у меня и прав-
то таких нету,— прочитав больное письмо, взяться за разбор дру-
гой жизни — других жизней! — за дело не литературное и, таким
образом, освобожденное от конкретных имен и адресов, хотя и
бесконечно важное для меня, а совершенно реальное, во плоти
радостен и слез.
Сказав так о литературе, я вовсе не хочу задеть дело, которо-
му отдаю жизнь, умело или неумело, а просто хочу объяснить,
что у литературы все-таки свои правила, среди них — логика ха-
рактеров и поступков. В жизни же логика поступков часто бывает
совершенно нелогичной. Постижение нелогичности жизни — тоже
цель литературы, но — скажем так — в жизни реальной группы
людей может быть больше спонтанности, непоследовательности,
неожиданной противоречивости.
Ваше письмо продиктовано неясностью Вашей домашней ситуа-
ции, нелогичной раздергапностью вопросов, неуправляемостью по-
ступков Андрея, которые привели семью, по Вашему разумению,
на край грядущей катастрофы,— и вот я должен ответить Вам,
сказать свое слово — но как? Почему? Наконец, зачем?
А если мое мнение окажется потом ошибочным и я собью
Вас с толку? Ведь я не специалист. Правда, специалистов по
таким ситуациям, по-моему, нет, практическая психология пока не
располагает консультативными пунктами, как юриспруденция.
И все-таки где мера моей ответственности за ответное письмо
234
Вам? Где право, хотя обязанность очевидна — я понимаю, ее воз-
лагают на меня мои собственные книги.
Так что прошу Вас, по крайней мере, понять меня, понять тя-
жесть, которая лежит на моем сердце. Нет, не с легкой душой при-
нимаюсь я за этот ответ, и, если ошибусь, если собьюсь с тона,
не обессудьте, потому как письмо свое в ответ на Вашу выстра-
данную исповедь прошу рассматривать не более чем одну из сто-
рон во взаимном с Вами диалоге, обсуждение проблемы, конечно
же, выходящей за пределы одной семьи, как рядовое слово во вза-
имном советовании, поиск истины, который, как всякий поиск, не
может быть абсолютно безошибочным и до конца очевидным.
О чем — вначале?
О самом деликатном, самом тонком, хотя впрямую об этом в
Вашем письме не говорится. И все же этот вопрос слышится, не
может не звучать, потому что он главным был и для меня в моей
собственной повести «Благие намерения».
Вопрос этот вот какой: обязан ли человек исправлять чужие
ошибки? Ценой своей жизни, благополучия, счастья, свободы ла-
тать чьи-то дыры, заманивать чей-то грех, выкорчевывать чьи-то
недобрые корни? Да еще в такой деликатной материи, как жизнь
человека, его душа, его генетика, по Вашему выражению.
Далеко ходить не надо, вот Андрей, дитя алкоголиков, вот Вы
и Ваша благородная дочь — а ее благородство, убежден, тоже на-
следственно, оно от Вас Ваша дочь берет Андрея, хотя могла бы
и не брать, страдает, наверное,— как же не страдать,— душа ее
изранена, как и Ваша, Вы маетесь и потеряли надежды, это всег-
да приводит к мысли: зря все это, генетику не починишь, это от
природы, выше нас. Верно, Вы не ставите впрямую этот вопрос,
по не единожды, точно заклинание, повторенное слово «генетика»
вполне определенно задает нам вопросы: зачем это сделано, сей-
час было бы проще.
Верно, было бы проще, Нина Степановна, и Вам и Вашей до-
чери. Вы бы не страдали теперь, Вашу маленькую, но дружную —
из двух интеллигентных женщин — семейку не сотрясали бы сле-
зы, страдание, бессилие и ужасающая мысль об обреченности, о
бессмысленности любой борьбы за Вашего — с Вашим — Андрея.
А теперь пойдем от противного. Гляньте на Андрея другим
взглядом — что было, если бы он не существовал рядом? Если
бы Ваша жизнь протекала благополучно-одиноко? Если бы он не
ворвался в Вашу судьбу? Как бы шли Ваши дни в таком вари-
анте?
Еще один мысленный поворот. Вновь гляньте на Андрея и пред-
ставьте себе, что Ваша дочь, увидев малыша в Доме ребенка,
сдержала свой порыв, и названный Ваш внук — вот он, перед Ва-
ми, подросший, с ясным лицом,— сидел бы теперь, скажем, на сво-
ей койке в школьном детском доме, благополучно не узнавший ни
Вашей дочери, ни Вас, не испытавший ни любви, ни тепла Ваше-
го дома?
Наконец, Ваша дочь—подумаем о ней. Ведь Вы сами ее вос-
235
питали такой: увидела исцарапанное, брошенное дитя, увидела,
как потянулось к ней сердце Буратино,— я знаю этот порыв, он
бронебоен, как еще назовешь порыв человечка, не знавшего рук
матери, не знающего, в силу неразумного своего возраста, что
есть такое существо, обязанное быть рядом, мать, но бегущего к
каждой женщине, подарившей ему улыбку, бегущего бесконечно,
бессмертно, всегда, с одним вековечным криком: «Мама!»
Я отклонюсь, простите, Нина Степановна. С давних теперь уже
пор, лет десять, не менее, бывая в поездках, я непременно ста-
раюсь зайти в интернат, детский дом, дом ребенка. Знаете, мо-
жет то, что скажу я, и грех, но это помогает мне жить Обычно
такой словесной формулировкой поясняют подтверждение какой-
то важной для человека истины, открытия, может быть, призна-
ния. Говоря так про детей, которых взяло под свое крыло госу-
дарство, я подразумеваю совсем другое. Я думаю о том, что обя-
зан писать, говорить и бороться ради этих детей. Что жизнь вся-
кого, кто хоть раз увидел эти глаза, не должна проходить бес-
цельно. Что даже малое благо во имя этих ребят оправдывает
человеческое существование. И что ворота этих домов должны
быть широко распахнуты человеческой чести, доброте и справед-
ливости. И что если хоть одной душе помогут мои книги быть
щедрее к чужому ребенку, жизнь прожита не напрасно, нет. <...;>
Вернемся, впрочем, к Вашей дочери. Остро испытывая на себе
тяготение детской обездоленности, как бы чувствовала она себя
потом, позже, возьми себя в руки и обойди того Буратино с пря-
мыми ручками и ножками и некрасивым красным носом? Какими
бы словами кляла свою черствость? Какими тайными мыслями
страдала? А вдруг — бывает ведь всяко — за тем жестким шагом
последовал бы другой, еще жестче — применительно к жизни, к
друзьям, к Вам? Как знать, Нина Степановна, какими колосьями
пророс бы в Вашей дочери тот черный злак, поступок не совер-
шенный— лишь возможный? Она уже тогда была взрослым,
страдавшим человеком, но кто может нам гарантировать, в ка-
кие годы зло прорастает множественностью поступков, рождаю-
щих новый характер, а в какие оно уже безопасно!
Итак, Ваш невысказанный вопрос. Обязан ли кто-то исправ-
лять чужие ошибки, взваливать на себя тяжкий кресг? Нет ли во
всяком добром порыве заведомого разочарования? Не слишком
ли велик риск в таком сложном деле, как усыновление, да еще
при известном наследственном осложнении?
На это можно ответить лишь согласием. Верно, никто не обя-
зан исправлять чужие ошибки, да еще жертвуя собой. Да, слиш-
ком велик риск обжечься. Можно расплачиваться целую жизнь
за минутную доброту.
Но давайте согласимся — ведь все наше существование идет
в трех измерениях: по норме, по общепринятым правилам, кото-
рые означают обыкновенную жизнь без взлетов и падений, ниже
нормы и выше ее.
Есть благополучие, рассекающее многие годы ровной прямой,
236
и это ровное существование способно привести к успехам, при-
знанию, моральному и материальному благополучию. Однако эта
печальная равномерность не возносит личность в выси духовности.
Неординарная жизнь состоит из поступков возвышенных, а не
обычных. Бывает так, что человек успевает совершить ряд воз-
вышенных поступков, между ними возвращаясь к норме повсе-
дневности. И хотя возвышенное занимает лишь дни среди дол-
гой жизни, судьба человека — даже им самим — оценивается имен-
но этими возвышенными днями
Суметь подняться над нормой дано, мне кажется, не всякому,
и это возвышение сулит не одни лишь радости, но и горькие печа-
ли. Однако всякий помнит и знает час своего возвышения.
Для Вашей дочери, как, впрочем, для Вас,— это день откры-
того сердца. Открытого Андрею.
Благословен будет этот час.
Есть такая поговорка: ни одно доброе дело не остается безна-
казанным. Не хочется верить в ее обязательность, но часто, увы,
слишком часто жизнь подтверждает горькую истину. Бывает, доб-
рый поступок тяготит. Но давайте все же лучше помнить о том,
что дает нам этот поступок.
Разве так мало?
Он делает нас людьми. Укрепляет в человеческом нашем на-
чале.
Это тоже зерна Самоуважения. Самоценности. Уверенности в
победе добра над злом. Мысли о том, что наши усилия не про-
падут даром, нет, что рано или поздно они проклюнутся острыми
стебельками совести в тех, кто был рядом с нами, в тех, кто при-
коснулся к доброте, в тех, кому поступок наш обращен был. Это
только кажется, что доброе дело наказуемо. Рано или поздно
о нем должны вспомнить без зависти, с уважением и чистотой.
Не сделать — проще, чем сделать. Не совершить добра — про-
ще. чем совершить. В этом мы с Вами, Нина Степановна, убеж-
даемся слишком часто.
И потом, давайте подумаем вот о чем. Наше государство не
всевластно. Да. оно берет брошенных — или отнятых — детей под
свое крыло. Не афишируя своих действий, нс вознося их, хотя и не
скрывая, страна наша поит и кормит, одевает и учит тех, кому
выпало с детства не самое легкое испытание — потери или отлу-
чения родителей. Гуманное Отечество наше, не любуясь собствен-
ной добротой, тихо и твердо делает свое дело. Но какие же мы
патриоты, какие граждане, коли будем лишь наблюдать гума-
низм этот? Разве добродетельность государства должна оставать-
ся делом, неразделяемым гражданами его? Разве одно лишь со-
чувственное свидетельствование есть норма взаимоотношений с со-
циальной системой, нами же созданной?
Согласен, тут много от теории. Но расклад этот, на мой взгляд,
стал таким умозрительным только по одной нелепой причине:
слишком долгие годы мы молчали о том, что делает государство
для этих детей. Слишком опасливо стыдились мы признаться, что
237
ребят в домах ребенка, интернатах, детдомах не становится мень-
ше. Слишком долго, наконец, мы полагали, что государство упра-
вится с тяжкими заботами одно, прибегая лишь к небольшой груп-
пе шефствующих энтузиастов.
Увы! Государство способно создать условия жизни, а вот к люб-
ви надобно бы воззвать народной.
Как?
И словом, и делом.
Ваша дочь предложила дело — свою любовь.
Низкий ей за это поклон.
Теперь я хочу обратить Вас к Вашему собственному письму.
Вы явно писали его взахлеб, и это помогает мне, кажется, лучше
понять Вас.
Кроме отчаяния, в Вашем письме много такого, что теперь на-
зывается модным словом «ретро»: в нем много хорошей памяти.
Ну, например, Вы с дочерью спасаете Андрея физически. Мно-
гое опущено Вами, но можно по-человечески реставрировать то
Ваше время и страдания, какие обрушились на Вас и Вашу дочь.
Усыновить мальчика, чтобы тут же прийти к решению — опери-
ровать его сердце.
Циник заметит: это нетрудно, ведь не свой. Да, циник силен,
он крепчает, мне кажется, год от году в нашей жизни, в том по-
винен темп — скорей, скорей, в этом повинна отчужденность —
каждый в своей квартире, точно в крепости, в этом повинен инди-
видуализм— хоть и ясны нравственные ценности, по которым все
у нас общее и человек человеку брат, а антипримеров все же бо-
лее чем достаточно.
Нет, не соглашусь с циником: и своего, и нерожденного тобой
ребенка класть под нож хирурга, да еще такого, немыслимое, тя-
гостное дело!
Пытаясь представить эти муки, я вижу и здесь Вашу дочь
Дом ребенка, а значит, государство, доверил ей Андрея, однажды
приняв ответственное решение, и теперь этот малыш оказался в
полной ее родительской власти. Случись худшее, никто бы не
осмелился укорить, спросить, призвать к ответу. Но ведь именно
потому, конечно же, страдала она непомерно от тяжести выбора.
Именно потому сам факт подобной решимости я рассматриваю
как поступок высокой, именно материнской ответственности. Вы-
бор был суров, и она сделала его.
Больной ребенок! Об этом нечасто и не много говорится, на-
верное, потому, что тема эта, безудержно печальная, рвет на ча-
сти не только материнское, не только отцовское, но всякое не очер-
ствевшее сердце.
Мне доводилось быть в специальных детских интернатах Мин-
здрава, в детских учреждениях, подведомственных Л1инистерству
социального обеспечения, где живут дети—полные инвалиды.
И на мою семью обрушилось это тяжкое несчастье — на моего
238
маленького племянника, шустрого непоседу, свалилась такая бе-
да, что вечно, видно, нам придется платить неизвестно кому не-
мыслимо тяжкую дань. Представьте: в один прекрасный день
он вдруг упал, парализованный, врачи ничего не могли понять,
посылали специальный самолет с профессором из Москвы, потом
привезли мальчика в столичную больницу, недели две в реани-
мации, на грани жизни и смерти, и после паралич, утраченная спо-
собность передвигаться и говорить при вполне ясном сознании.
И все отчего? От обыкновенной простуды.
И вот — санаторий под Калугой, специально для таких детей.
Полный санаторий, куда стоит длинная очередь.
Да, мы мало говорим об этом, но сколько живет детей, чья ра-
дость обезображена материнским грехом, родовыми травмами, на-
следственностью или просто ранней, совсем нежданной бедой.
А мир этих детей реален, значит, имеет право на внимание и за-
боту, и не только медицинского свойства, но и свойства педаго-
гического.
Как, например, какими словами объяснить подрастающему и
все понимающему ребенку, что судьба предначертала ему именно
такое существование, до самой смерти, однако падать духом нель-
зя, ь жизни есть много способов сознательной, полезной борьбы?
И на вопрос, как найти собственное счастье, придется нам отве-
тить таким людям, когда они войдут в пору зрелости. Но как?
Какими словами?
Они, ясное дело, находятся, эти слова. Только, увы,их не педа-
гогика находит, а любящая и страдающая родительская душа.
Педагогика пока что не нашла подступов к драматическим ситуа-
циям обреченного на муки детства. Но это — другой разговор.
Сложный, деликатный и необходимый. Больных детей немало, и
случай с Андреем, хочу Вас заверить, не самый еще тяжелый.
Я сознаю, что выражаюсь неточно. Какое дело, в конце концов,
до того, что кто-то и где-то страдает еще сильней. По-настоящему
дорого то, что близко, за что страдаешь сам. Я не посягаю па то,
чтобы умалить Ваши тревоги, нет. Я просто хочу заметить, что у
Вас было самое дорогое — надежда. Надежда на выздоровление.
А у многих ее нет.
Ясное дело, операция на сердце — это не месяцы, а годы, ког-
да организм привыкает к новой жизни, в которой очень медленно,
постепенно все «нельзя» превращаются в «можно». Ребенок это
не сознает. Он торопится. И материнский — не глаз, сердце! — дол-
жно быть рядом каждый час и каждую минуту.
Мне кажется, Ваша дочь и Вы в те времена соединили вместе
свои возможности — духовные и физические. Как я понимаю, дочь
работает, и поэтому Ваше участие в судьбе Андрея почти равно
участию Вашей дочери. Простите меня за это «почти», Вы лучше
меня сознаете разницу между вами; не мне проводить эту черту.
Беда миновала, время стерло остроту жалости, и вот однаж-
ды Вы приходите к мысли, что физическое спасение ребенка это
еще не все. Что, избавленная от болячек, натура Андрея растет
239
не в ту сторону, и это развитие — со знаком минус — становится
просто неуправляемым. Вам кажется странным, что избавленный
от нездоровья и получивший все материальные блага жизни, не
говоря уже о любви и заботе, мальчик ведет себя дико, как буд-
то ему все еще чего-то мало.
Вы в отчаянии.
Дело доходит до психоневрологического обследования! И тут
Вам приходит на ум ужасное, разом все объясняющее слово —
кукушонок. Что бы ни делала, как бы ни старалась синица, под-
кинутое ей яйцо скрывало кукушонка, а он — чужой, неблагодар-
ный, наглый не по каким-то там непонятным причинам, а просто
по природе вещей, вот и все.
Постойте, Нина Степановна!
Не торопитесь с логической простотой! Как часто она бывает
обманчивой, такая ясность, похожая, простите, на приговор. Как
часто решенное, при выяснении неизвестных подробностей, требует
поправок, обратного хода, да вот ведь, оказывается — поздно и
ничего не воротишь обратно.
В Вашем письме есть такая, кажется, удовлетворяющая Вас
картинка: «Он не знает, почему он груб, неуживчив, неуправляем.
На все вопросы — почему? — он страдальчески морщит лоб и от-
вечает: «Не знаю. Понимаю, что говорю плохое и не могу остано-
виться. Лучше бы мне умереть». Ребенку в двенадцать лет, в об-
щем жизнерадостному, здоровому, любимому, вдруг могут прийти
в голову мысли о смерти, как избавлении от несправедливости».
Эта последняя Ваша фраза носит констатирующий характер.
Вы как бы вынужденно соглашаетесь с такой возможностью — не
смерти, но мысли о ней.
Знаете, а мне тут видится совсем другое. Меньше всего мне
хотелось бы задевать Ваши чувства к Андрею, но уж не обессудь-
те... Так вот, мне кажется, что сказал такие слова вовсе не свое-
нравный кукушонок, не чужая кровь, с которой Вы не в силах
сладить, а ребенок обыкновенный, вполне открытый, но толь-
ко доведенный взрослыми до таких слов. Собственно говоря,
я не сужу Вас за вопрос—почему ты такой? Но лишь при од-
ном условии: если он риторический, если он задан в отчаянии.
Но ежели он задан с расчетом на серьезный ответ, да еще и от-
вет этот рассмотрен как серьезный аргумент в доказательство
его «генетической» неисправимости,— тут уж позвольте воспро-
тивиться.
Вообще, зачем этот вопрос? Что он даст? Что может сказать
о себе двенадцатилетний ребенок, если речь идет о его неуравно-
вешенности, о спонтанности поведения, вообще, о, так сказать,
ошибках?
Да ничего.
Ему, конечно, уже двенадцать, ио ведь и всего двенадцать
Старыми мерками — всего-навсего полнокровное детство, нынче
же — начало тернистого пути по имени отрочество. Всякий его
проходит. И почти всякий не может понять, что с ним, если вдруг,
240
ни с того, ни с сего, он выкидывает гадостный поступок, исполь-
зует заемное словцо и, как назло, попадается.
Давайте вспомним, Нина Степановна, серединную часть три-
логии Льва Николаевича Толстого, самую автобиографическую
вещь из всей его прозы, давайте обратим внимание на две вехи,
означающие одна — его расставание с детством, другая — нача-
ло юности. Обе эти вешки отмеряют часть жизни, называемой от-
рочеством.
Сам факт присутствия таких вех мне кажется особенно важ-
ным. Потому что он типичен и повторяем для всех, для каждого.
Обязательно, каким-то потрясшим, перевернувшим событием на-
чинается отрочество. И заканчивается. Для любящего воспитателя
важно не пропустить это событие. Важно понять, что после этого
маленький человек переменился: он другой, хотя ничем не отли-
чим от вчерашнего, он иной, и все в нем теперь иное — будь вни-
мателен, деликатен, постарайся соблюсти честь и достоинство то-
го, кто рядом с тобой, может быть, из всех ценностей жизни они
стали — совсем неожиданно — в первый ряд.
Итак, герои «Отрочества» вступил в эту пору со смертью мате-
ри: потрясшее, вполне определенное событие, которое как бы ото-
рвало его от детства. То, что вчера, в детстве, было интересно,
ударившись о беду, утратило свою ценность.
Вторая веха была не событие, а прозрение. Герой, как мы по-
мним, подружился с Дмитрием, молодым человеком немного стар-
ше Николая; они много говорили; Николай приходит к мысли о
жизни, наполненной нравственным усовершенствованием, но это
еще ие все. Вот как написал Толстой:
«Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали
с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам
с собой шепотом иногда называл его, еще нравились только моему
уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой
свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я
испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тот-
час же, и в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни,
с твердым намерением никогда уже не изменять им.
И с этого времени я считаю начало юности».
Заметим для себя: испуг этот за напрасно потраченное время,
решение делом изменить окружающую действительность на осно-
ве нравственного усовершенствования, в общем-то, оказалось де-
лом жизни Льва Николаевича, которому ои не изменил до конца.
Отрочество завершилось этим решением — решением на все даль-
нейшие годы. Не правда ли, насколько все всерьез!
Но что между этими вехами?
Неуверенность, растерянность перед новой, без матери,
жизнью. Гадкие поступки, от которых становится стыдно тотчас
же, и вот ведь чго любопытно — гадливость привлекательна, она
интригует, хотя и стыдно. Философствование, пустое причем. За-
висть к старшему брату, его взрослости. Обостренная ревность
к девочкам, даже в игре находит он измену. Ненависть. Как
211
сказано об этом, посмотрите: «Да, это было настоящее чув«
сгво ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в
романах и в которую я не верю, ненависти, которая будто нахо-
дит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, кото-
рая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслу-
живающему, однако, ваше уважение, делает для вас противным
его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его
движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает
вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за
малейшими его поступками».
Вы меня, конечно, извините за длинное цитатствование, но я
делаю это умышленно, чтобы и самому еще раз услышать, каки-
ми словами великий человек означает психическое состояние
своего героя — отрока прошлого века.
Вот-вот, скажете Вы.
Не торопитесь, я имею это в виду с самого начала. Время, ко-
нечно, нынче другое, что там спорить. Но ведь и повода к спору
нет. Время другое, это правда, а развитие человека вековечно и
одинаково. Отрочество было прежде, есть оно и теперь. Время
сложнее? В чем-то. Но ведь и проще, тоже по-своему.
Смутная пора, когда поступки обгоняют их осмысление, когда
умом человек старается быть взрослее, поступая вполне по-детски,
когда смешное страшит, а страшное смешит, эпоха, когда от-
крытия тайные привлекают куда больше официальных школьных
премудростей, эпоха, когда растущие люди образуют первые в
жизни компании, стараясь привнести в них правила взрослого об-
щежития, вывернутые на детский лад, серьезность к мелкому, ма-
лозначительному и несерьезное отношение к важному, отрицание
взрослого слова при неумении создать собственное правило, буря
в тишине, слезы без причин, дух противоречия и жажда, огромная
жажда нежности — вот что такое отрочество, ступенька между
детством и юностью, краткий миг, способный возвысить, но и по-
калечить, время заморозков в отношениях с самыми близкими
людьми. Лев Николаевич написал об этом так:
«Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей
жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко,
редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты ис-
тинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего на-
чало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пусты-
ню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова
истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом оза-
рило конец этого возраста и положило начало новой, исполнен-
ной прелести и поэзии, поре юности».
Осознание прожитого в начале жизни приходит потом, во
взрослости; оно должно повлечь понимание, а потом поиск ре-
альных путей навстречу растущему человеку, и это не что иное,
как воспитание. Воспитание же должно не забывать образцы осо-
знания и понимания, рассыпанные в прошлом. Вот почему я убеж-
ден, что и Толстой, и Руссо, и Монтень — как бы ни возносились
242
высоко эти моибланы человеческой мысли над понурой головой
Вашего Андрея,— могут и должны помочь нам попять нынешних
разгильдяев, непослушников и бедокуров.
Всенепременно.
Так вот, возвращаясь к Андрею, я глубоко убежден, что не
вопрос — почему ты такой уродился? — надо бы задавать ему,
а вопрос самому себе: из чего складывается его поведение, ког-
да, на каких поворотах он срывается, на какие замечания взрос-
лых реагирует негативно,— и уж исходя нз этого, прежде всего
помочь ему обходить критические ситуации.
Сам по себе вопрос—почему он такой, почему так поступа-
ет— не безобиден. Повторенный часто, а того хуже, повторяе-
мый изо дня в день, он способен выработать чувство собственной
неполноценности, внушить мысль о невозможности исправления.
Эта тема, простите меня великодушно, слышится мне и в Вашем
письме, Нина Степановна. Вроде бы ведь Вы и ответы все знаете,
пишете, отвечая, как спасти его от этого зла: «Трудом. Учением.
Личным примером. Суровостью. Строгостью. Наказанием. Добро-
той. Пониманием. Внимательностью. Всем вместе!» И тут же од-
ним махом пера отвергаете все это: «И все в нем не так, как
у других».
Да и врачей я Ваших что-то не пойму. Если Вы верно передае-
те их слова, Андрею вменяют не психическое заболевание, а «за-
тянувшийся инфантилизм и задатки психопатического характера».
Помилуйте, какой же затянувшийся инфантилизм у двенадца-
тилетнего отрока? Не то что затянувшимся, но даже инфантилиз-
мом это не назовешь, ибо инфантилизм — это уже качество, при-
чем качество повзрослевшего человека. Андрей же — ребенок. Про-
сто ребенок. Цепь его непослушаний — не что иное, как вполне
своевременные признаки отрочества, вот и все. «Задатки психо-
патического характера» — расплывчатые объяснения любого сры-
ваЛНс зря врачи Вам сказали, что это теперь повсеместное явле-
ние. Боюсь, что только во времена Толстого такое не было повсе-
местным явлением, да и то по причине домашнего воспитания в
дворянской среде. Ситуации народной среды тогда, ясное дело, не
контролировались. Про нынешнее же городское детство можно
сказать, что оно не может ие быть нервным — из-за психических
перегрузок, из-за информационного переизбытка, из-за неправиль-
ного питания и неопытности домашних воспитателей — родителей,
бабушек, теток, которые, увы, голосом и окриком действуют ча-
ще, нежели терпением и вразумительностью.
Между прочим, хочу вернуться к одной существенной детали:
Андрей говорит о смерти, и это, естественно, беспокоит Вас. Отро-
честву присущи перепады в настроении. Можно сказать, это одна
из самых видимых примет возраста. Возбужденность — потом спад.
Череда бурных поступков, потом такая же череда раскаяний, а в
минуты углублений, грусти даже мысль о смерти, как итог раз-
мышлений про бесцельность собственного существования.
К этому не надо относиться легкомысленно, нельзя вышучи-
243
вать и это движение души. Взрослый человек, желающий добра
ребенку, интуитивно старается перевести его внутренний взгляд
на что-то другое, отыскивая оптимистические ноты. Можно взять
книгу с полки и прочес!ь заветные строки. Но если мысль эта
неотвязна, можно завязать честный и искренний разговор о смыс-
ле жизни и конечности бытия, если хотите, по-настоящему круп-
ный и взрослый разговор. «Повышение уровня» разговора под-
росткам не вредит, напротив, как раз это-то повышение, эта
серьезность возвышают их в собственных глазах, награждают их
ощущением доверия и, бесспорно, оказывают благое воспитываю-
щее влияние.
Если же без конца мытарить ребенка его собственными про-
счетами, бесконечными разбирательствами, риторическими—и
«воспитательными» — вопросами: «Ну почему' ты такой? Почему
ты это сделал? Почему? Почему? Почему?» — кроме ощущения
безысходности, как в воспитаннике, так и в воспитателе, это не
рождает ровным счетом ничего.
В Вашем письме, дорогая Нина Степановна, Андрей все вре-
мя выглядит этаким объективным носителем чужой вины. Даже
если он и виноват, по Вашим оценкам, так это все равно не его,
а чужая, «генетическая» вина. Он упрям — врожденно, несчаст-
лив — наследственно, непослушен — по крови. Вы и он — будто
два лагеря по разным сторонам баррикады.
Ой ли, Нина Степановна?
Вот Вы — осмысленно, конечно,— попробовали вызвать в нем
добрые человеческие свойства? Например, сострадания. Ну не к
Вам, так к Вашей дочери, она же ему мать, терпит небось его не-
престанные выходки, мучается, плачет? Или к тому, кого он на-
прасно обидел? Попытались пробудить жалость — к животному,
к птенцу?
По Вашему письму, Вы — все для него, но ничего — он для
Вас. Ну хотя бы самую малую малость? Обязанности по дому
у него есть? За хлебом, там, сбегать, за молоком, да так, чтобы
видел: его помощь радует, она нужна.
Вы пишете о его угасающем интеллекте—позвольте, не рано
ли? К тому же интеллект надо развивать, как и все остальное в
человеке. Есть ли у Вас семейные разговоры об искусстве, рас-
суждения вслух, есть ли вообще семейная, для троих, жизнь? Хо-
рошее настроение в доме рождается из желания быть вместе, и
это желание можно и нужно воспитывать. Простите, у самых де-
бильных детей оно есть, так что же мешает Вам?
Откровенно говоря, думаю, что ничего не мешает и жизнь эта
у Вас есть, пример тому — усилия Вашей дочери, их поездки вдво-
ем с сыном. Только почему — вдвоем? Втроем — нельзя? Было бы
ближе, крепче.
Словом, уважаемая Нина Степановна, чем глубже вникаю я в
Ваше письмо, icm больше убеждаюсь: напрасны Ваши опасения,
по крайней мере, большинство. Мальчик у Вас растет не то, что-
бы обычный, но нормальный. Вы и Ваша дочь прошли половину
244
пути, пусть не все толком, но все же спасли мальчика, одарили
его семьей, это так немало! Одарите же пониманием — и оно у Вас
есть! — одарите полным пониманием и постарайтесь не разрушать
построенное Вами же.
Ваши «генетические» ссылки не что иное, как признак соб-
ственной усталости. Да, это можно понять. У Вас самой дочь бы-
ла маленькой и, вероятно, свои трудности, но другого, не похоже-
го на нынешнее, качества. Да и возраст теперь иной, все верно,
все справедливо. Это библейская истина — благими намерениями
вымощена дорога в ад. Но человек потому и человек, что он спо-
собен превратить благие намерения в добрые поступки, а главное,
способен довести их до конца. Вот и к этому я Вас призываю.
Не ищите аргументов отступничеству. Даже генетических. Крест
нужно нести до конца.
А главное, Нина Степановна, заключается в том, что Андрей-
то — хороший парень. Вообще, Ваше письмо можно переписать.
Сделать это сможете, конечно, только Вы. Знаете, как? Те же
самые примеры, лишь выводами сделать аргументы. Сейчас у Вас
примерно так: в нем есть кое-что хорошее, но он плох, потому
что... А Вы попробуйте написать так: он плох, потому что, но все-
таки в нем есть вот такое-то достоинство. И письмо Ваше превра-
тится из письма отчаяния в письмо надежды. Я почти уверен,
что именно такова объективная ситуация в Вашем доме. У Анд-
рея достаточно серьезных положительных задатков при обычной
конфликтности отрочества.
Вы пишете, что Андрей очень эмоционален — и скандалы, и
радости у него как бы одного корня. Мне кажется, его чувстви-
тельность надо использовать для воспитания добродетельных эмо-
ций. Внушить радость за доставленное другим добро, радость от-
того, что не обидел слабого. Вы пишете, что иногда удается пере-
менить его настроение, только требуется много выдержки и спо-
койствия. Ну вот это и есть главное средство — спокойствие и вы-
держка. Может, соединить это с пробуждением в Андрее добрых
чувств? Такое пробуждение непременно следует замечать, под-
держивать, говорить о нем, пытаясь показать мальчику, что путь
этот облегчает его жизнь—и впредь облегчит.
Несколько энергичных страниц занимает в Вашем письме шко-
ла, классная руководительница Андрея. Если все это так, Вам
надо решительно спасать мальчика от чудовищной классной
дамы.
Представьте себя на его месте: дом, улица и школа, три глав-
ные сферы обитания, как бы объединились, чтобы испытать паца-
на. Он мечется в степах своего треугольника, пытается проло-
мить эти стены. Но все они, каждая, конечно, по-своему, навали-
ваются на него. Эти стены — живые для Андрея. Они состоят из
его соприкосновений с одноклассниками, с взрослыми дома и в
школе, со сверстниками и соседями во дворе и на улице. И вез-
де— неудачи, невезения. Всюду не получается у него. По соб-
ственной, случайной или чужой вине. Тут не то, что ребенок, взрос-
245
лый, воспитанный во всех отношениях, начнет сходить с рельсов.
Я не раз писал и говорил, что считаю делом постыдным педа-
гогическую корпоративную солидарность. Человек, просто принад-
лежащий к благородному учительскому сословию, еще не имеет
никаких льгот на предубежденно возвышенное к себе отношение.
Вызывает уважение учитель не по образованию или диплому, а
по качеству его отношения к ученикам, это для меня, как для
всякого человека и родителя,— главное. Если учитель небрежен к
детям, если они для него всего-навсего человеческий пластилин,
который он мнет и ломает, как только ему заблагорассудится,
если он подавляет ребят знаниями и взрослостью своего автори-
тета, если он не стремится разглядеть в каждом ученике задатки
личности, если он сделал нормой своей практики жалобы на детей
их родителям или директору школы,— он просто дурной человек,
а дурной человек не должен быть учителем.
В Ваших вопросах содержатся ответы: с кем так рьяно воюет
классная руководительница? С кем сражается? И почему не за
него? Почему против?
Классную не перевоспитаешь, а она может искалечить Андрея.
Вам нужен не такой «союзник», как она. Андрею нужен учитель,
который пробудит в нем добрые начала, укрепит и разовьет их.
Это вовсе не означает, что тот, другой, учитель должен без конца
потакать Андрею, нет. Он должен внушать мальчишке, что он во-
все не плох, что он обычен, но с этой обычностью надо кончать,
потому что в нем немало серьезных задатков. Вот он подражает
птицам, умеет это делать, прекрасно, пусть совершенствуется, и
пусть однажды учитель даст ему задание: показать на уроке, как
поет одна птица, другая, третья. Пусть похвалит. При всех. А по-
том, один на один, доверительно скажет: «Знаешь, а это все-таки
не дело жизни. Давай поищем вместе, что тебе интересно. Напри-
мер, у тебя хорошие руки...»
И легкость в учении, простите, не от генетики, а от учителя
тоже. Колами и двойками, упрямством неумного взрослого, ко-
торый стоит у доски, можно замучить кого хочешь. Может, и в
Вашей истории конфликтность Андрея обеспечивает его школьная
наставница? Тут уж Вам самим надо разобраться до конца, разо-
бравшись, откровенно обсудить ситуацию с директором, раз, как
Вы пишете, он умный и все понимающий человек. И принимать
решения. Только не обманывайтесь надеждой на разговор дирек-
тора с классной. Взрослые, привыкшие управлять детьми, делят-
ся на две части — на тех, кто видит в маленьких людей, и на тех,
кто видит в них реализованное чувство своей ответственности.
Я это не о директоре, конечно же.
Каков реальный выход, спросите Вы? Может быть, другой, па-
раллельный класс в той же школе, но с иным учителем, у которого
другая мера душевности, другое понимание своего предназначения.
Или другая школа — только надо узнать, каков учитель там. Во-
обще-то этот, конкретный совет больше всего щекотлив. Ведь по
нему выходит, что Вы к Андрею должны учителя подобрать, а не
246
наоборот. Вот уж возмущения-то на мою голову — и учительского,
и родительского! Но что значат эти возмущения в сравнении с
реальной судьбой реального ребенка, что значат взрослые пред-
рассудки, пустая молва в сравнении с неуверенностью мальчишки,
с его незнанием, как жить, с его страданиями, пусть неопределен-
ными, неясными ему самому, зато вполне очевидными нам, взрос-
лым, с его будущим, с его судьбой? Пустой звук! И Вам надо
найти выход.
И наконец, еще одно, может, последнее соображение. Мне по-
казалось, что в воспитании Андрея дома много, простите, женско-
го— в критическом значении этого слова. Много неуравновешен-
ности. Перебранок там, где требуется молчание — оно тоже воспи-
тывает. Наконец, много чисто женского паникерства в тех ситуа-
циях, когда следует сохранять благоразумие и выдержку.
Женское, мне кажется, проявляется еще в раже, в рьяности,
с какой выражается последовательная любовь. Любовь интелли-
гентных женщин может тоже оказаться делом мучительным — для
обеих сторон — или, по крайней мере, измучивающим ребенка.
Вот Вы пишете, что Андрея с детства исследовали психоневро-
логи. А нужно было? Ведь, как известно, врачи этой специально-
сти редко вмешиваются в жизнь по своей инициативе, значит, Вы
сами водили Андрея к ним. Смысл? Могу предположить, что на-
следственность Андрея беспокоила Вас с раннего его детства.
Глубоко уважая науку, и медицину в частности, все-таки хочу за-
метить, что домашняя терапия любви и терпения не менее вра-
чующа для маленького человека, чем прогнозы и транквилизато-
ры. Не замучивайте себя и мальчика этими обследованиями — ведь
Вы и сами признаете, какой мукой был детский стационар в боль-
нице такого профиля.
Любовь бывает естественная и неестественная. Боюсь, что суе-
той, которой Вы сопровождаете рост Андрея, бесконечной конф-
ликтностью, обследованиями, горькими Вашими думами о безыс-
ходности, обреченности его воспитания независимо, даже незаме-
чаемо Вами, диктуется неестественность любви к Андрею. Потому
Вы и прибегаете, в отчаянии, к жестокому объяснению — куку-
шонок.
А может, надо попроще, Нина Степановна? Отодрать ремнем —
нет, к этому я не призываю, как некоторые Ваши знакомые, до-
статочно представить вас, двух интеллигентных женщин: ведь
подняв руку на Андрея, потом Вы ответите слезами, раскаянием и
массой ненужных, опять же искусственных ласк в виде конфет,
подарков и всевозможных поблажек... И все же наказание долж-
но присутствовать в доме. Только ни за что нельзя наказывать
трудом, работой по дому —это, по моему разумению, одно из са-
мых развращенных и подлых наказаний — оно заботу о доме пре-
вращает в рабство.
Как любить естественней — этому никто не научит. Тут должна
подсказать врожденная, тонкость, природная чуткость. Не спеши-
те, «не гоните динамо», как говорят подростки, будьте терпеливы,
247
не ужасайтесь, не впадайте в шок или в истерику от очередных
происшествий Андрея, подчеркивайте его достоинства, соблюдай-
те этическую дистанцию между собой, пожилой женщиной, и им,
мальчиком, будущим мужчиной. Надо пробуждать в нем угрызе-
ния совести, только никакого пробуждения не наступит от Ваших
нотаций, от Ваших проработок — совесть должна пробудиться от
какого-то удара озарения, и тогда человек изменится внутренне.
Это самое главное.
Есть одно обстоятельство в Вашем письме, которое меня не на
шутку тревожит.
Все Ваши беды и бедки одолимы, исправимы, если их не запу-
стить. Но один факт может реально сломить Андрея, и бойтесь
его пуще всего остального.
Дело в том, Нина Степановна, что я сторонник полной и без-
условной тайны усыновления. Ребенок должен знать лишь одно:
Ваша дочь — его мать, и это последняя истина.
Вы же пишете, что многие в Вашем доме знают, что Андрей
приемный сын, что где то неподалеку живут его пьянствующие
родители и что Вы, наконец, познакомили его с родным братом.
Зачем?
Как узнали соседи — разве нельзя было придумать соответ-
ствующую версию? Какая нужда знакомить его с братом; Анд-
рей— что, знает о кровном родстве с Колей? И если да, зачем,
во имя чего это сделано?
Жизнь сложна, дорогая Нина Степановна, ие будем идеали-
стами, но реальное воспитание Андрея может сделать его челове-
ком мягким, неустойчивым, без внутреннего стержня — хотя соз-
дать такой стержень главная цель Ваша, мне кажется — и вот,
вступивши во взрослую жизнь, неустойчивый человек однажды
потрясен открытием «правды», по которой Ваша дочь ему не мац,
а мать живет неподалеку, пусть пьяница, пусть не вспомнила ни
разу,— греховность привлекательна, она вызывает жалость. И вот,
сотрясенный этим откровением, неустойчивый, несильный внутрен-
не человек ломается. Для него это становится главным, а все Ва-
ше— Ваша любовь, жалость, Ваше старание дать ему ласку и
комфорт оборачивается стертым, ничего не стоящим грошом, ко-
торый подали ему не пз чувства, не из человечности, а из мило-
стыни.
Вот чего надо бояться, почтенная Нина Степановна! И не по-
тому, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, а пото-
му, что такова нелогичная логика жизни, несправедливая прав-
да, жестокая истина, которая приносит разочарование, разлом.
Вы пишете, он любит Колю больше жизни, но почему? Навер-
ное, жалеет его, видит в нем друга? Оттого, что узнал? Зря.
Зря Вы открыли ему эту правду. Есть правда, способная воз-
высить, необходимая, чтобы очиститься. И та же самая правда
способна сломать. Тут все зависит от корня, ог стержня, как при-
нято говорить.
Человек сильный, узнав правду в свое время, сам пережив
248
испытания, узнавший, что такое лишения, сделает только одно:
преклонит колени перед Вашей дочерью и Вами. Но в свое вре-
мя и будучи сильным.
А ведь надо еще воспитать его таким. Не для себя, не для удо-
влетворения собственного тщеславия, а для него — единственно
для него.
Вам предстоит немало тяжкого, Нина Степановна, особенно
же—Вашей дочери. За двенадцатью годами последуют пятна-
дцать, шестнадцать — повзрослевшее, но все еще отрочество, такая
неразумная, такая путаная пора. А потом семнадцать, девятна-
дцать, двадцать лет — где, может быть, Вы обнаружите тот са-
мый затянувшийся инфантилизм, детскость при пробивающим я
усах и хриплом басе.
Много впереди искусов у Андрея, а у вас двоих немало мук,
неприятностей, переживаний. Но, милые вы мои, разве мало ра-
достей? И потом, покажите мне человека, чье дитя не вызывало бы
слез и страданий? Если и есть такие, я не верю в плодоносность
их детей. Кем они вырастут? Сухарями, не знающими шуток?
Печально унылыми исполнителями? Терпеть не могу отличников,
ни разу не получивших двойки. Они, мне представляется, скучны
и пресны.
А еще Вы пишете про идеальное.
Про идеальные школы, где служили бы особо талантливые учи-
теля, способные вылечить больных детей, где были бы студии и
мастерские, полигоны и фермы, где царили бы исследование и
эксперимент, строгость и справедливость, доброта и скромность.
Что ж, Нина Степановна, я тоже мечтаю о таких школах.
Кое-где, надо сказать, они уже есть, появляются. И я согласен
с Вами, что нашей стране под силу решить эту задачу, как согла-
сен и с тем, что «не слабые духом, распущенные до абсурда, ни во
что не верящие дети должны заступать на смену, а только здоро-
вые, верные, надежные».
С одним не могу согласиться — что такие школы и решат про-
блему трудных, брошенных, больных детей.
Нет!
Никакой интернат, даже если там на трех учеников будет при-
ходиться учитель, не заменит человечеству магь и отца, бабушку
и дедушку, братьев и сестер. Нравственность передается не сред-
ствами науки, но средствами сердца, а его, единственное, родное,
родительское сердце, не в силах заменить ни эксперимент, ни
справедливое ребячье товарищество, ни все иное — пусть гуман-
ное, доброе, человечное, а все же не родное.
Родней крепок человек. Близкими. Или ставшими родными.
С близкими все одолеть можно, если, конечно, существует стрем-
ление и действенное воспитание.
Школы будущего нам помогут, спору нет. А школа материнской
любви помогает уже теперь, как помогала многие века назад.
Как помогла она, скажем, лично Вам и лично мне.
249
Последнее, что я должен сделать, Нина Степановна,— уте-
шить, успокоить Вас.
Ваша дочь и Вы вознесли себя очень высоко своим поступком.
Вы живете выше нормы, потому что одарили любовью и заботой
брошенного человека. Не надо тешиться без конца этой мыслью,
но отбрасывать ее в сторону тоже негоже. Возвращаясь к ней, Вы
должны укрепляться в своих силах и в том, что как бы плохо
пи было, а дело сделано и польза есть.
А плохое пройдет. Отболеет плохим, как корью, Ваш Андрей.
Станет взрослым, благодарным Вам естественно за Вашу естест-
венную любовь.
Да, наследственность существует, но пока в Андрее нет ника-
ких примет злонамеренных ее проявлений. Пока обычный, возбу-
димый ребенок, неуравновегдеиный, плохо управляемый, но ведь
не конченый!
Конченых детей не бывает. Есть конченые, нетерпеливые взрос-
лые.
Терпение. Вот то слово, ключ к истине.
Да здравствует терпение — родительское и учительское! Да бу-
дет терпелив взрослый, уд.аряясь о нетерпение ребенка. Пусть
благодаря терпению он будет хотя бы чуточку выше своего вос-
питанника, потому что только с высоты можно разглядеть его
близкое и дальнее, ошибки и радости, муки и преодоления.
Да, надо быть чуточку выше и чуточку мудрее, ведь мы, взрос-
лые, оказавшись одного рост-a с ребенком и снизив себя до одного
уровня с ним, воспитание превращаем в борьбу, только не равных,
все равно же взрослый — это взрослый. Такая борьба не ведет
к победе. К подавлению, к Ответной ненависти, к страху, что сно-
ва станут песочить, жучить,, воспитывать, но не к радости осво-
бождения, самостоятельности, постижения и движения вперед.
Чуточку выше означает не что иное, как чуточку дальше.
Дальше видно. Дальше слышно. Больше понятно.
Вот и все, Нина Степановна.
Генетическую предопределенность, даже если она и есть, мо-
жет одолеть только терпенше, продиктованное любовью.
Желаю Вам сил, терпенщя и настоящей любви к Андрею. Ве-
рю, что доброе дело, на которое решилась Ваша дочь и Вы тоже,
возблаюдарится достойно.
ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
Сочувствие. Соучастие. Сопереживание. Сострадание.
Знаю, что многим не нравятся эти понятия: попугивают при-
надлежностью к ветхозаветным далям, к библейским истинам.
Что касается слов, согласен: тут можно спорить. Но вот со смыс-
лом— не поспешаем ли, отрицая суть этих слов? Ведь за ними —
изначальные нравственные устои, нормы поведения, обязатель-
ные для каждого — независимо от образования, образа жизни,
воспитания.
И должны же быть — должны! — в фундаменте, в основании
каждого из нас естественные и незыблемые истины, выпадение ко-
торых — или хотя бы лишь одной — все равно как отсутствие
целого звена в позвоночнике, в становом хребте человеческой
души.
Однако же вот какая странность давно уже замечена мною —
да разве одним мною? Чем благополучнее жизнь человека, семьи
пли некоего сообщества — группы семей, а там, глядишь, ка-
кой-нибудь лаборатории, института, целого селения, где окромя
крепких зарплат еще приличествующие премии или помимо мощ-
ного, высокоурожайного огорода, взвивающего под облака воз-
можности потребительских амбиций, еще присутствует законная
материальная обеспеченность,— словом, чем сытнее, чем слаще
жизнь, тем неохотнее желают люди знать о бедах, существующих
неподалеку, тем неохотнее открывают они глаза при виде их, тем
радостнее затыкают уши, слыша предложение — соучаствовать.
Сытость склонна к душевной близорукости и нравственной глу-
хоте; она сама выбирает эти изъяны, словно зонтом прикрывается
ими от напастей, свято веруя, что этаким манером спасется са-
ма: какое дело ей до других, скорей бы самой достичь желанного
идеала.
Но каков идеал сытости? Сверхсытость? Обжорство? Десять
пар импортных сапог? Пять дубленок? Три дачи?
В том то и дело, что даже по природе своей сытость—конеч-
на и у нее есть предел: достиг человек всех вещных благ — а что
дальше? И вот он озирается окрест: богатый, но недовольный, по-
тому что пустой. И потому что забыл однажды простую, отвергну-
тую когда-то истину, показавшуюся ветхозаветной в час само-
ублажения. А истина эта такая: лишь отдавая, становишься бога-
251
че. И вовсе не об имуществе здесь речь. Нет, не об идеале скром-
ной бедности говорю я,
А только о том, что уродлива душа, выбившая позвонки в сво-
ем становом хребте.
Душа эта — ниже ростом.
Уточню, чтоб быть правильно понятым: я не против сытости,
особливо в нашем исстрадавшемся на войнах народе. Я против
людской слепоты и глухоты, которую, увы, рождает сытость. Я за
высокое незабывание беды, которая живет неподалеку.
За сочувствие и сострадание, особенно ежели речь — о ма-
лых сих.
* я*
Но к чему эта преамбула?
А к тому, что Политбюро нашей партии рассмотрело и приня-
ло Постановление Центрального Комитета и Совета Министров
страны, посвященное детям-сиротам и детям, «оставшимся без
попечения родителей»— вот такая, не очень удобная и гладкая
словесная формула вступила в нашу жизнь и присутствует в пей,
сея много горечи и печали.
Документ этот рождает в душе моей ликование — своими,
скажу так, человечными достоинствами—добросердечием, роди-
тельской внимательностью к мельчайшим подробностям воспи-
тания и быта в доме ребенка, в детском доме, в интернате для
сирот и детей «оставшихся», заботливостью о судьбе каждого, кто
там растет, и о том, как именно растет, педагогической озабо-
ченностью тем, как сложится взрослая судьба человека, в детстве,
увы, обделенного отцовской и материнской лаской, такая озабо-
ченность, чтобы «оставшийся»— не остался...
Да простится мне это нестрогое сравнение, но никак не вы-
ходит из головы мысль о том, что ребятишки эти — а их не одна
сотня тысяч! — в тяжкие их дни обрели свое место под крылом
могучей и доброй птицы, под крылом Отечества нашего и его
негромкоголосой доброты.
Да и то! Ведь по жизни мы знаем: чем глубже чувствует че-
ловек, тем реже клянется он в любви и верности, однако же
истинно подлинным чувством осветляет жизнь тех, кого любит,
кому служит, кого лелеет. Нет, не остается голодным, сирым, ни-
кому не нужным у нас ребенок, опаленный бедой, есть ему куда
отступить, коли невмоготу, под теплую сень государственной
длани.
Выспренне звучит? Ничуть!
Государство — это мы. Не всуе и мудро сказанная однажды
истина эта особенно ясна, будучи приложена к бытовым посте-
пенностям детских судеб; ведь на пороге дома ребенка, детского
дома их встретят живые ладони живой и конкретной тети Паши
пли тети Глаши, которая и приголубит, и всплакнет, и вынет из
глубины сердца своего ласковые, давно не слышанные, материн-
ские слова, и умоет, и переоденет, и накормит с ложечки, если
252
мал и немощен, а ведь, если вдуматься-то, руки ее — это и есть
руки Отечества, руки государства.
Именем страны уполномоченные добрые тетеньки разных имен
и отчеств в разнообразных весях н городах обихаживают тех, ко-
му нужней всего не новая одежка — хотя и она, ох, как нуж-
на! — не кусок булки, но тепло ее ладони — всего-то! — тепло
сердца.
За многие годы ходьбы по печальным этим домам немало воз-
никло у меня добрых и откровенных знакомств, так вот минув-
шим летом я зашел навестить Галину Ивановну Костину, педа-
гога дома ребенка в родном моем городе Кирове, и, как обычно,
двинулись мы в обход групп и комнат, и всякий раз, открывая
дверь, обрывалось, сбивалось с хода мое сердце, потому как
малышня, быстро оглядев незнакомого человека, помолчав мгно-
венье, точно набрав воздуху в свои птичьи грудки или же осмыс-
лив что-то неведомое, что-то свое, то громко, то тихо, то хрипло,
то звонко, но непременно вразнобой кричала, низвергая ниц
взрослую душу: «Папа!»
Нет, их не учат этому, напротив, отучивают всякими бесхит-
ростными способами, и ни пап, ни мам, считай, что ни разу не
видели в своей начальной жизни эти детишки, попавшие сюда в
большинстве прямо из роддома, и не учат, нет, не учат в доме ре-
бенка словам этим — первым словам всемирного детства,— а вот,
надо же, знают они их откуда-то, знают и кричат: «Мама!»— при
виде всякой незнакомой женщины и кричат: «Папа!»—при виде
всякого неизвестного мужчины.
Знобящее таинство этого первородного знания, этой неутоли-
мой необходимости близкого человека, этой нужнейшей потреб-
ности звучит наивным детским воплем — знайте это, взрослые
люди, благополучные и не очень, легко ранимые и спокойные.
Знайте, честные люди, что в тот самый день, когда вас обдало
огнем взрослой обиды, когда вам бесприютно в собственном доме,
когда жизнь, кажется, теряет смысл, что вот сейчас, в этот самый
миг,— дети, много детей, разумных и совсем еще бестолковышей,
жаждут самого малого и сим утешиться счастливы: доброй взрос-
лой ладони. Матери и отца! И как же мелки, как ничтожны на-
ши невзгоды перед лицом этой неизбывной детской жажды!
Но вот с Галиной Ивановной мы входим в среднюю группу,
и по манежу, пристанывая и повизгивая, к ней торопится па ко-
ленках маленькое существо с соплей под носом и с лицом, полным
блаженства. «Ну иди, хорошая»,— берет она на руки девочку и
просто гладит ее, и просто вытирает нос, и просто прижимает к
себе поближе, и просто целует в щеку. Детское лицо — бесцен-
зурно, ведь еще пока нет никаких тормозов, чтобы, не дай бог,
что-то не выплеснулось на физиономию. И столько ликования,
неги, беспредельного блаженства на этой мордахе, что я, греш-
ным делом, подумал: вот стерильная чистота чувств, высшая исти-
на, подлинная правда.
Девочка, конечно, заплакала, когда ее ссадили назад, в манеж,
253
а Галина Ивановна сказала мне, нахмурившись: «Восьмой ребе-
нок одной матери! И все попали к нам!»
* * *
Каждая — до единой! — детская судьба, причалившая к при-
стани государственного материнства и отдаленная от материн-
ства естественного, помечена драмой, а то и трагедией — неваж-
но, осознаны они детским сознанием или пока еще нет.
Детский дом вообще зеркало народных бедствий. Именами
Ленина, Дзержинского, Крупской, Макаренко освящено спасение
детства на изломе двух социальных эпох. Частное благотвори-
тельство, жалостную подмогу из милости, приюты — вот ведь
словечко! — сменила государственная защита — материальная и
духовная. Потом страшная война, и опять детские дома — сотни
тысяч сирот, глянувших смерти в глаза. Детство — составная
часть такого понятия, как народ, и, как часть народа, детство
делило со взрослыми тяготы невообразимых испытаний. И детский
дом с достоинством помнит горькие, но гордые свои дни.
На грани пятидесятых считалось, что детские дома скоро ис-
чезнут вовсе. Вырастут самые малые сироты войны, а если и бу-
дут одинокие дети, они рассеются в интернатах: строительство их,
поспешно спорое, считалось едва ли не главным ключом ко всем
проблемам воспитания — как же торопливы, безоглядны, наивны
бываем мы порой! Однако же детские дома, а с ними вместе дома
ребенка не растворились в интернатах, пет. Напротив того, с ю-
дами к ним прибавились интернаты для сирот и детей, «остав-
шихся», где детский дом соединялся со школой.
Ну а дети? Откуда берутся они сейчас?
* * *
Трудный, больной вопрос.
Я не зря сказал о военном сиротстве: это было горькое, но
гордое время. Увы, нам нечем гордиться сейчас. И тут самое вре-
мя обернуться к слову «оставшихся»— интернаты для сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Как остаются без по-
печения матери и отца?
Ну, сначала о сиротах. Аварии, катастрофы, землетрясения,
ясное дело, неизбежны даже в самое мирное время, но, скажем
откровенно, детей, оказавшихся сиротами в результате таких
бед,— считанные доли процента. Горько говорить об этом, но без
попечения родителей дети остаются по вине — пли беде — самих
родителей.
Ах, если бы знали, замыслившие запустить свою руку по ло-
коть в казну — во имя своего блага, во имя детей, клянутся они,—
какой бедой карают не только себя, по и тех, благом которых
прикрывали бесчестие? А знать, предвидеть — так нетрудно! Вооб-
ще, когда читаешь личные дела детдомовцев, не покидает отцу-
254
щепие: как же бездумен, как безогляден и как виноват мир взрос-
лой родни этих ребят! Как безжалостен! И как наказуем! Нака-
зание законом — это только полдела. У детского суда своя прав-
да, и диву даешься его порой не детской высоте и праведное,и
непрощающих истин.
Вот одна история, впрочем, часто встречаемая — мне, по край-
ней мере, в удивлявшем множестве, поначалу похожая на анек-
дот: приходит муж с работы, а его жена с любовником — но по-
том страшная в жестокости расплата — муж хватает ружье со
стены и убивает жену. Сюжет, пошлейший даже для газетного
«Происшествия», обретает новые расценки при выяснении одного
обстоятельства: и жена и муж согрешили на глазах у детей. Де-
вочке— шесть лет. Мальчику — два года.
Малыш мало что помнит, и судит одна лишь девочка: в день
освобождения отца, в день, когда раскаявшийся и отбывший на-
казание мужчина приходит в детдом, чтобы и далее искупить ви-
ну свою, девочка и ее брат, воспитанный ею в непрощении, с от-
цом уйти отказываются.
Прощение и непрощение, цена жизни и цена греха — сколь же
нецетские вопросы, которые решают дети, «оставшиеся» или остав-
ленные. И как отличимы они этой своей трагической сутью от
всех других детей!
Так вот — оставленные, входящие в понятие оставшиеся.
Первая среди высших нравственных истин людской порядочно-
сти— благодарность материнству. Сколько песен сложено в честь
матери, сколько стихов, какие заросли цветов скошены и возло-
жены на материнские могилы! Да что там! Материнская неж-
ность—исток подвига, вдохновения, самой жизни человеческой,
а потому говорить о материнстве попранном, о материнстве рас-
терзанном, о лжематеринстве—нелегкая, тяжелая нужда. А дело
в том, что все чаще и чаще молодые женщины — обратим особое
внимание именно на это обстоятельство — отказываются от своих
детей прямо в роддоме. Говоря же определеннее, большинство ма-
лышей, которые растут в домах ребенка, именно такие, нежелан-
ные дети.
Что это за явление? Как его понять?
Ясное дело: почти за каждым отказом ог новорожденного —
драма, неудавшаяся, расстроенная любовь, обман мужчины, раз-
рыв. Но с мужчины, с отца, как известно, закон ответственности
не снимает — он должен и может помочь в воспитании как мини-
мум материально. Мне не хочется вдаваться в отношения мужчи-
ны и женщины, это совсем другая, вековечная, «бальзаковская»
проблема, но, как мы знаем, от любви очень часто рождаются
дети. Что делать! Горечь непроста, но простима, потому что обо-
рачивается утехой — надеждой и опорой матери. Такова клас-
сика.
Однако современная статистика домов ребенка утверждает,
в сущности, что оказаться матерью-одиночкой — но матерью! —
куда позорнее, чем вовсе отказаться от материнства. Ни в паспор-
255
те, ни на лбу родившей, но бросившей ребенка на руки государ-
ству, не ставится жирный штамп позора.
Вроде бы тихо, вроде бы незаметно глазу, не вооруженному зна-
нием, кукхшечья стая прибавляется числом крыл, мелькающих не
в свете прожекторов, мнения молвы, а в сумерках, когда деяние
хоть и не преступно — согласно закону,— но противоестественно
самов сущности материнства.
Трудно жить. Нет квартиры. Проклинает родня за то, что по-
несла от неверного. Обстоятельства всякий раз существуют, но вот
быть выше обстоятельств юные матери не желают. Не хотят рас-
оаться с мнимой свободой, с надеждой на счастливое замужество,
в котором ее ребенок станет тяжелой гирей.
У каждой людской кукушки — свое перо, есть и такие, что от-
крыто, хоть и не без хмеля в глазах, толкуют, как полезно жен-
щине рожать — кровь обновляет, да и государство, мол, не про-
тив— обеспечивает декретный отпуск и все причитающиеся льготы;
увы, видал я и таких в немалом отнюдь числе: по восемь детей,
это от них.
Оценивая похожее в литературном наследии классиков, мы
лихо расправляемся с ситуацией: социальные мотивы. Но в наше-
то время, в наших общественных обстоятельствах — социален ли
отказ от материнства? Да трижды — нет. Едва не у каждой мо-
лодайки, дарящей сына или дочку прямо в роддоме, есть обиль-
ная родня, работа с веером сердобольных общественных органи-
заций, которые и тут помогут, и там подсобят, а государство дает
пособие — пусть невеликое, но прежде и того не было, бесплат-
ные лекарства, бесплатные ясли, детсад, да мало ли какую и где
еще помощь найдет мать, коли она ей потребуется,— и обяза-
тельную, скажем так,— формальную, юридически учрежденную, и
людскую, сердечную.
Что же тогда в причине?
Эгоизм, распущенность, трусость, рвачество — хоть и ничтож-
ное, такой безжалостной, дикой ценой — наконец, опустошенность,
духовный цинизм, нежелание пожертвовать собственным покоем,
благополучием, но не нужда, не последняя крайность, не голод-
ная жизнь.
Во сколько же крат государство гуманнее матери, отказываю-
щейся от новорожденного,— ведь оно берет ребенка без всяких
условий, неся всю полноту ответственности за его воспитание и
образование. По закону 1943 года любая мать-одиночка может
отдать своего ребенка в детский дом, не лишаясь при этом ма-
теринских прав,— что может быть порядочнее? Принятое в годы
войны, это правило означало собой не что иное, как помощь ма-
тери в трудных обстоятельствах той поры. Повторю — оно дейст-
вует п теперь как палочка-выручалочка в крайней безысходно-
сти, так, может, следует переждать тяжелые обстоятельства, дом
ребенка-то, а, значит, государство, согласно взять ребенка на
время и «отказнице» подробно объясняют, мол, погоди, не торо-
пись, можно пожалеть, пойми вначале, что решаешь судьбу кро-
256
винушки своей. Но — напрасно. Жестокосердые лжематери неумо-
лимы, точно не соглашаются сделать немыслимое одолжение.
Я далек от мысли мазать одной краской всех таких матерей.
Конечно, они думают о своих брошенных детях — иное вне чело-
веческой натуры. Жалеют. Плачут. Некоторые — очень немно-
гие— ищут их по детским домам, спохватываются. Годам, правда,
к тридцати, так и не устроив своих судеб. Но что толку от этих
грошовых печалей? Подумали бы лучше, что станет с их детьми,
как они живут, о чем мечтают, чему бывают рады, как их взрос-
лая жизнь получится,— подумали бы о том.
Что ни говори, а это великое омовение души — мысль о детях,
вина перед теми, кто брошен матерью; и многих людей ведет эта
вина — директоров детских этих отрад, воспитательниц, нянечек,
сторожих, конюхов, ведь и конюх, и сторожиха — это воспитатели,
названые матери и отцы, бабушки и дедушки, ребят, обойденных
теплом родительства и родни. Но все-таки отчего же виной этой
не омывают свои нечистые души рожалые молодухи — рожалые,
да бездетные? Отчего же так заросли ржой да диким мхом их
сердца? Ведь люди же они, не звери, хотя и зверь дикий, лесной
готов свой материнский инстинкт, данный всего лишь природой,
не воспитанием, исполнить до конца, погибнуть от пули браконье-
ра, а дитя спасти, потому как по первородному закону мать всег-
да хранит дитя.
Я помянул тут слово «воспитание» и устрашился. А ведь и
правда, всякое воспитание есть. Кроме школьного, институтского,
народного, есть еще лжевоспитание шепотком, страсти во шкурное
благополучие, разговоры о сокровенном, где, к печали нашей, лю-
бую черту преступить негрешно. Как же высоко нравственен Ме-
фистофель, обменявший Фаусту душу на бессмертие, если можно
поменять человечью жизнь на копеечное благополучие.
* * *
Если к печалям этим добавить еще одно, конечно же, крайнее,
детей, рожденных женщинами, которым бы вовсе не надо было
рожать, но они рожают, вопреки советам психиатров и генетиков,
если, говоря короче, представить себе в полном объеме и много-
образии—педагогическом, медицинском, просто человеческом—
разноголовый и многонациональный в полном смысле этого сло-
ва детский интернат круглогодичной работы, мы выйдем волей-
неволей к важным этическим вопросам деликатнейшего свойства.
Среди них первейший: право — или ответственность на или за
рождение дитяти. Ведь речь-то — ни мало, ни много — о будущей
судьбе, о завтрашнем человеке, и если о праве на рождение ре-
бенка говорить нельзя—право есть у всех, и это не всегда благо
для ребенка!—то уж об ответственности — как же молчать
о ней?
Ребенка можно родить. Но — для чего? Только для счастья,
для радости—ответ один! Родигь на беду — какая бессмыслица!
257
Какая жестокость! Чья? Конечно, матери, ведь можно и не родить,
и в этом уже давно пет греха. Но если дитя рождено, разве
ответственность должна отступить? Да она только вступает в свои
права.
Спору нет, дать или не дать жизнь человеческому существу —
этический вопрос личности, но нести ответственность за рожден-
ного, за его судьбу — не слишком ли поспешно государство рука-
ми дома ребенка разделяет эту ответственность? Ведь мать может
дать такую расписку: вручаю, дескать, мое чадо, без имени, от-
чества и фамилии, обещаю впредь никого своим беспокойством не
волновать. И с мамы такой — как с ...курицы вода. Ни она претен-
зий, ни — ей. Не слишком ли уж легко? Даже легче, чем отцу-
s.ш.ментщику. О ней просто не вспоминают...
Вторая этическая проблема, и она относится к судьбе ребен-
ка,— вопрос тайны усыновления, удочерения.
По закону мать, бросившая ребенка, прав на него не имеет.
Но во-первых, это только по закону, а доступ к тайне усыновле-
ния имеют не только вполне ответственные директора домов ре-
бенка, детских домов, интернатов, но и менее ответственные нянеч-
ки, воспитатели и люди, окружающие детей, а во-вторых, тайной
ребенка в полной мере владеют те взрослые, что усыновили его.
Увы, увы, и тут бывает по-всякому. Есть возвраты. Есть разводы.
И во всех вариантах — благих и тяжких — есть мальчик или де-
вочка, которые постепенно становятся юношей или девушкой, а
потом мужчиной и женщиной. Правда — великая вещь, но вот слу-
чай, где, может быть, гуманней окажется «нас возвышающий
обман».
Всего лишь две этические задачи. Я не знаю ответов на лих.
Точнее — мои ответы слишком субъективны, чтобы быть всеобъем-
лющими. Решить их может только общество — во всеоружии пра-
вовых, медицинских, педагогических сил.
* * Я:
Да, у всякого из этих детишек — своя изломанная судьба, и
сколько же требуется от взрослого, выбравшего местом работы
детдом, самоотверженности, сердечного ума, такта, своего, едино-
личного опыта, чтобы восстановить разруху в душе ожесточенно-
го ребенка и на месте головешек построить новое, пусть и хруп-
кое, здание надежды и веры! Многотрудная сложность детского
дома и решительное отличие его от всех остальных педагогических
систем в том, что он не просто воспитывает, а уже перевоспитыва-
ет, и не одного из десяти, а всех поголовно, причем житейский
опыт здешней малышни такой горечи и боли, какой другому взрос-
лому за всю жизнь не испытать. Выходит, попранное родителями
надобно возместить детскому дому, а легко ли и возможно ли
компенсировать служебными обязанностями воспитателя то, что
не сделано сердцем родителей. К тому же, пока на три десятка
учеников (группы теперь будут меньше)—два воспитателя, ра-
258
ботающих посменно, и им должно сделать то, что не захотели два
родителя (пусть хотя бы и одна мать) одному своему чаду. Речь
пока о чисто арифметическом соотношении сил и любви при иде-
альном — не служебном, но сердечном — отношении к детям, ко-
торое, конечно же, не всегда и не всюду.
Сегодня взрослое население детского дома довольно явствен-
но поляризуется на ветеранов, на тех, кто еще, может, в войну
делил с ребятами их беду, на педагогов в высшем предназначении
своем, которые и днюют и ночуют в казенных стенах, сами стены
делая домашними, человечными, и на школьный отсев — бывает
он и среди взрослых, на тех, кто в школе не удержался и вот
явился, куда полегче,— в детский дом.
Взрослый, по штату, человек в детском доме —это не просто
воспитатель. Предназначенность и реальная его роль куда как вы-
ше! Он — носитель истины, доброты, справедливости; он, скром-
ной жизнью своей, отвергатель людской злобности, утешитель, ле-
карь духовный, исповедник, душа которого и днем, и ночью, и
при всяких его обидах открыта горячему откровению ребенка,
потому как у него, откровения, нет и быть не может строго вы-
веренного часа. Да и ночью льются слезы и слышатся жаркие
слова признания в стоящем детдоме, и не окрик, не понукание
слышатся взамен, а ответные признания, потому как, лишь от-
крываясь друг другу, взрослые и дети идут навстречу.
Однако же — двадца1ь и одна, даже чисто арифметическое
соотношение детских и взрослых душ, не слишком ли нереально?
Поровну всем отдать себя, где-то на задворках сознания имея
еще собственную семью,— мыслимо ли, честно — как на высшем
суде — разделиться на двадцать равных, непременно равных ча-
стей— ведь повышенное внимание к одному приводит к ревности,
слезам, отчуждению другого, когда даже доброе слово, сказан-
ное одному, требует быть повторенным другим, и по голове погла-
дить надо всех, без обид.
Мыслимо ли? Мыслимо. Обязательно с точки зрения, скажу
помягче, обычного, не повышенно душевного исполнения обя-
занностей. Но даже и очень душевного воспитателя надо понять.
Прийти ему на помощь. Выработать приемы и способы — ему в
подмогу.
Конечно, прежде всего тут надо бы помочь науке. Специаль-
ная педагогика, некие психологические, методологические приемы.
Кстати, педагогическая наука далековата от новых проблем вос-
питания в детском доме, от реальных сложностей нынешних детей
и уж совершенно не вхожа она в дом ребенка — экое чистоплюй-
ство. Или незнание? Неумение?
Впрочем, одной наукой делу не поможешь, тут требуется еще
что-то, и это что-то, по моему разумению, открытость детского
дома, хотя и не распахнутость.
Года два-три том)' назад «Комсомольская правда» поведала
удивительную и грустную историю, как в детдом приехали студен-
ты с кукольным театром, а директриса их не впустила. Молодые
259
доброхоты аж ночевали на улице, чтобы хоть утром добиться сво-
его,— и напрасно. Кому и какой дурной меры урок преподнесла
директриса? А всем — и доброжелателям, и детям, которым ука-
зали на их место — ни мало, ни много — в обществе, дескать, вы
не доброй воли принадлежность, а воли начальственной, регла-
ментированной, когда надо, вам покажут кукольный театр или
кино, а когда не надо...
Зыбкая эта граница между «когда можно» и «когда нельзя»
не должна зависеть от одной личности — доброй или злой, от во-
ли единственной директрисы. Новый документ партии и правитель-
ства как бы верховно открывает двери детских домов для доброй
воли общества. Добрая воля человеческой участливости, означен-
ная понятием «шефство», отныне обретает самые широкие гра-
ницы. За счет средств на социальное развитие предприятиям раз-
решается даже строить новые детдома — по самым гуманным,
педагогическим и человеческим параметрам, предполагающим ни-
чем не уязвленное, и трудовое, и духовное, и художественное, раз-
витие человека в трудных личных обстоятельствах. Как известно,
средства на социальное развитие — это деньги, которые завод тра-
тит на улучшение условий жизни своих работников, на жилье,
детские сады, Дворцы культуры. Таким образом, даже матери-
ально детские дома становятся своими для завода, не говоря уж
о моральной стороне дела.
Вообще-то мне кажется не очень подходящим слово «шеф-
ство», когда речь идет о детском доме. Тут было бы лучше упо-
требить и слово, и понятие — «дружба». Не обязаловка во имя
мероприятия, а постоянно действующие человеческие отношения,
в которые прежде всего надо окунать человеческий молодняк —
молодых рабочих, инженеров, врачей, спортсменов. Ибо самое
беспросветное, самое ничтожное, коли явятся однажды «шефы»
с игрушками да подарками, а потом исчезнут на год, а через год
возникнут, будто джинн из бутылки, уже другие. Нет, не подарков,
не минутных ласк и разовых улыбок ждут от мира «оставшиеся»,
а долговременного человеческого взаимопроникновения, искренне-
го интереса, турпоходов, путешествий, разговоров — вот это дель-
ная помощь воспитателю, практическое облегчение его горькой
ноши.
И еще бесконечно важным мне представляется групповой ха-
рактер этих отношений, этой дружбы. Когда имеешь дело с та-
кими детьми, первое, что следует окорачивать в себе взрослому
человеку со стороны, так это собственную добродетельность, пото-
му как не чем иным, как благими намерениями, вымощена до-
рога в ад.
Недавно «Комсомолка» затеяла на своих страницах перегово-
ры читателей, как бы, мол, брать ребят из детского дома в
семью — на выходные. Хочу заметить, что это тот именно случай,
когда необходимо требуется «проверить алгеброй гармонию». По-
рыв— благое дело, но только не тут. Ребенок, вошедший в теп-
лый, но чужой дом, испытывает лишь одно желание: остаться
2Ь0
в нем. Или зависть (почему у меня его нет?) — и не отыщется
судья, способный на приговор этому выстраданному чувству с
особыми душевными причинами. А самое больное, если, пригла-
сив разок-другой к себе в тепло, далее взрослый благодетель охо-
лонится, передумает, исчерпает свою доброту,— сколько тоски, пе-
реплавленной в злость и непредсказуемые взрывы, породит он,
какой откат в перевоспитании ребенка, какой новый толчок от-
чуждения от берега правды, к которому усердно и терпеливо пра-
вили воспитатели!
Детский дом наших дней как огня страшится не зла, не про-
должения подлости, в которую окунались дети, а именно этих бла-
гих, но неисполненных намерений, минутного благородства, недол-
гих чувствований, доставляющих некое сладострастное самоудо-
вольствие быть хорошим в собственных глазах благодаря пода-
ренной— за червонец — матрешке. Более всего опасны ему доб-
ренькие благодетели, прежде всего себя утешающие, и дети в та-
ком утешении лишь средство.
Так что уж пусть лучше коллективные отношения — да это па-
радокс: ведь, чем шире, тем ровнее, зато и безболезненнее, а зна-
чит, человечнее. Ясное дело, глупо возражать, если взрослый, креп-
кий душой и желанием, вступает с ребенком в отношения, гаран-
тирующие их полноту и завершенность. Но гарантировать — очень
сложно, потому во благо детей добрее будет приостановить не-
глубокое, но взрывное в проявлении чувство, памятуя о чрезвы-
чайном: о мере расплаты.
* * *
Вообще, деликатность, сознание, что имеешь отношение с по-
вышенной степенью чувствительности, что неправильно истолко-
ванное слово, неисполненное обещание и даже намек на него рав-
ны неверному поступку, одним словом, обдуманная осторожность,
сопряженная в то же время с истовой верностью этим ребятам,
самоотверженность взрослого сердца, даже самосожжение зре-
лых душ, самое наимаксималистское тут не только приемлемы,
но необходимы, как единственный залог удачи. Дети, собранные
под крышу детдома, так отличимы от их обычных сверстников,
так ранимы и так чувствительны к любой ноте фальши, что бунт
их душ неотвратим, как стихия.
Вы помните, как истошны, как безнадежны крики малышей из
дома ребенка, зовущих отца и мать? А теперь представьте, что
тем же часом в интернате для «оставшихся» в истерику, в слезы,
в долго не преходящее смятение срывается подросток, когда не-
опытный воспитатель напоминает ему про мать, про отца,-живых,
живых, но предавших во имя собственных мнимых утех. От страж-
дущего вопля до слез ненависти — вот в какую рамку обрамле-
но детство, живущее, по сути, в одних стенах. От любви до непро-
щения и от этого непрощения — до жажды, чтоб хоть какой-ни-
будь человек погладил по голове —всего-то!— погладил...
251
ф •?- 'I'
Документ ЦК и Совмина, мне кажется, похож па ключ к проб-
лемам дома ребенка, детского дома, интерната для сирот и детей
«оставшихся», на ключ, который в конечном счете вручается об-
ществу, а значит, и старому, мудрому, и молодому, душевному
человеку, и заводу с его мощными материальными возможностя-
ми, и, скажем, бригаде, если это настоящее людское сообщество,
а не формальная группировка, бригада, студенческому курсу,
особливо ежели он из педагогического института, училища, всяко-
му человеческому единению — с его неограниченными душевными
возможностями. Все дело в том, чтобы ключ этот принять, суметь
им воспользоваться, а эго не такое простое, не такое обычное
дело.
Вот бойцы студотряда «Гренада» из Псковского пединститута
заработали летом четыре тысячи и, хотя, понятное дело, деньжата
для студентов дело вовсе не лишнее, купили они для детдома в
поселке Родовое Палкинского района мебель да игрушки. Таких
отрядов — их называют отрядами безвозмездного труда-—уже сот-
ни в студенческом трудовом движении, которое порой дает сбои,
и студенты потихоньку становятся рвачами. Вот ЦК комсомола
целую смену в «Артеке» и «Орленке» дарует ребятне из детских до-
мов, и выясняется, что для них это не просто незабываемое удо-
вольствие и ликование, а могучая, уже чисто педагогическая встря-
ска: оказывается, даже одну смену побывав в таком лагере, ма-
ленький человек способен переосозиать себя, сместить в себе нрав-
ственные акценты, проще говоря, стряхнуть с себя многое из не-
легкой своей судьбины, идти по жизни новой тропой... Любопыт-
ная деталь: комсомол подарил гостям «Артека» и «Орленка»... часы,
и вот этот подарок оказался очень нужным, потому как одно из
неумений этих ребят—неумение распоряжаться временем и день-
гами. Литература — тоже не в стороне; к примеру, писатели и
издательство «Детская литература» выпускают уже третий сбор-
ник под названием «Подарок» — раз в месяц, когда в детдомах
отмечается коллективный день рождения, именинникам дарится
этот томик, весь тираж которого закупает ЦК комсомола. Если
понять как следует, что у ребятни ведь этой никакого своего
имущества нет, все, до пуговицы, казенное, то книжка в качестве
первой личной собственности — это осмысленное и мудрое дело.
И коли пять, семь хороших книг, своеобразное собрание сочи-
нений. куда входят сказки, классика, современная проза, возьмет
с собой, за порог детдома, его выпускник — немалое это благо и
неплохое вовсе напутствие.
По сути своей, общество вновь оборачивает свое лицо к «остав-
шимся» детям. Это честно и справедливо. Народ наш слишком
испытан невзгодами военных лихолетий, чтобы сейчас, в годы на-
растающего благополучия, исполнять чуждую нам страусиную
роль и прятать голову в песок при виде беды. «Я чужую беду ру-
ками разведу», есть такая поговорка, но нет, не развести руками
беду, о которой речь здесь. И она не только средств требует —
2G2
средства, и огромные, даст государство. Единственное, чего оно не
может дать, так это теплых человеческих рук, кровного родства.
Потому-то, одолевая печаль «оставшихся», первое усилие наро-
да, к самому себе обращенное, кстати сказать, надобно бы на-
править так и таким образом, чтобы меньше было сирот при жи-
вых-то родителях, чтобы не так просто расставались матери мо-
лодые со своими детьми, чтобы меньше было детей, «оставших-
ся» наедине с собой да детским домом.
Помогая Отечеству, страдая за детей и сострадая им, ударим
же в колокол собственной совести: где мой сын, где моя дочь и
кто же я на этом свете!
ТРУДНАЯ ПЕЧАЛЬ
Главное свойство почты, вызванной публикацией «Дети без
родителей»,— неравнодушие, даже страстность. Благодарю за это
читателей совершенно особо, потому что вижу в этой страстности,
в этом неравнодушии великую надежду. Забота государства о
детях, живущих в детских домах, школах-интернатах для сирот
п детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка,—
бесценное благо, однако на что же ему опереться, этому благу,
если истончает, станет слабой и малой надежда, если равнодушие
и бессовестность одолеют нас и станут если не правилом, не нор-
мой, то делом обыкновенным и неудивляющим,— а речь-то идет
ведь о детях, об их судьбах, об отречении их — вдумаемся вновь
в этот чудовищный смысл — от семьи!
Таким образом, в читательском неравнодушии—а это нерав-
нодушие народа! — я вижу обнадеживающее и человечнейшее
сопротивление явлению, когда дети при живых родителях и в
силу родительской безответственности остаются одинокими.
Одинокий ребенок! Можно ли привыкнуть к этому понятию,
смириться с ним? Есть одинокие женщины, матери-одиночки —
горькие несправедливости житейских бурь. Но — одинокий ребе-
нок!— вслушайтесь, как укоризненно звучит это, как безнадежно,
как больно бьет по всем по нам, взрослым, какой стыд вызывает!
Не слишком ли, скажут мне, особенно те, кто привык к стро-
гим дозировкам сладкого и горького: а детские дома, а дирек-
тора и воспитатели, а суммы и средства. Я сам стоял и стою за
всяческое упрочение этих славных домов, за их материальное про-
цветание, за улыбку и светлый спартанский дух воспитания, ко-
торый должен царствовать там, и все же выход из детского бед-
ствия лежит не через двери детского дома, а через взрослое,
родительское сердце. Нужны ли нам детские дома? Очень! Се-
годня речь об их приумножении, и значительном. И все же луч-
шим свидетельством народного здоровья, признаком чистого духа
нации было бы исчезновение этих домов, конечное исчезновение —
в идеале или резкое сокращение — как приближение к идеалу.
Естественно, когда ребенок живет с родителями или хотя бы
с матерью Неестественно, когда оп растет хотя и в добротном,
и в ласковом, и в теплом, но все же не родительском доме. Тако-
ва первоистина, и к ней мы должны стремиться — не только го-
сударство, с помощью решений и мер, но и народ, всякий, кто
вступает в ответственное родительское состояние. Некоторые
читатели статьи «Дети без родителей» укоряют меня за слишком
уж сильную мою надежду на совесть, как категорию, способную
264
образумить родителей или только одних родительниц, сдающих
детей в дома реб<енка. Но я па совесть все же полагаюсь, под-
разумевая под этим не только волю одного человека, но и обще-
ственное мнение, в котором он обретается. Совесть, по моему
разумению, многосложная категория. Не стыдно сдать ребенка
лишь тогда, когда окружающая общественная среда к стыду
этому не взывает.. И речь при этом не только в укоризне, не
только в общественном осуждении, а в таком воспитании, в та-
ком образовании души и сердца, которые бы не позволили даже
родиться мысли о добровольном отречении от собственного
дитяти.
И это — не общее место, не пропись, а духовный этический
фон, на котором и с помощью которого и происходят — пли не
происходят — предательства собственных детей.
Читатели — да и жизнь — перечисляют многовариантность
тайного греха. Чтобы родить и избавиться от новорожденного,
уезжают в другие города, временно меняют работу, потом воз-
вращаются — с «чистой» совестью и ясными глазами в круг
прежних друзей, родни, сотоварищей по работе. Бывает, что не
очень-то и таятся, потому как часть общества, окружающая та-
кую роженицу, из) чувства стыдливой деликатности, что ли, даже
спросить стесняет'ся — да где же твое дитя? И с радостью верит
в любую неубедительную ложь. Что это за новый вид слабости?
Что за готовность к всепрощению? Чем вызван столь занижен-
ный критерий совмести?
Бесстыдство рождается и вольготно чувствует себя лишь в об-
стоятельствах общественного равнодушия — такова правда и
главная, пожалуй,, причина чрезмерных материнских предательств.
Но что говорят — они? Слышен ли их голос в читательской
почте? Скажу прямо, не очень-то. Причина? Да простое нежела-
ние привлекать к себе внимание. Но одна в кустах все же не
усидела, взорвалась.
«Государство,— вещает некая Галина С.,— должно быть бла-
годарно таким женщинам за то, что они вообще рожают. Госу-
дарству нужны ]рабочпе руки, ему на пользу эти брошенные
дети, вот пусть о них и заботится. И не осуждать надо таких
женщин, а поощрять их, потому что, если бы они не рожали, что
бы стало делать государство. Оно в них заинтересовано».
И еще, в подмогу себе, рассуждения о том, что теперь-де
время новой моргали, и проповедовать старые моральные нормы
может только тотг, кто в современной жизни ничегошеньки не
понимает. Наше время, мол, это время раскрепощения женщины,
в том числе и or инстинкта материнства.
Оспаривать человеческую ничтожность — пустая затея. Скажу
лишь только, что» я за трижды отсталую мораль, по которой
мать —это мать, отец — это отец, а отказнпчество от новорож-
денного — крайняя степень падения. И еще скажу, что государ-
ству нашему нужны не рабо’чие руки, а граждане и созидатели,
способные продолтжить свой род и сильные своими ближайшими
265
предками. И еще хочу заметить: как бы ни выгораживала куку-
шечье племя эта самая Галина С., а счастье не построишь па
несчастье другого, да еще и слабого, и малого, и сирого. Нет,
отольются кукушке ее подлости — ие скоро, так потом, не в мо-
лодости, так спустя годы. Не верю я в безнаказанность преда-
тельства'. Не должно этого быть!
Врач из Ташкента А. А. Мухаррамова написала мне, что ра-
ботает невропатологом детской больницы, при которой есть род-
дом. «Мне показывают, — пишет она, — отказных новорожденных
детей для определения состояния здоровья со стороны нервной
системы. Это заключение требуется главным образом тем, кто
хо ;ет усыновить этих детей. Женщины, которые бросают детей
(почти все!), молодые, здоровые, холеные, обеспеченные. Оставив
своих новорожденных, они уходят из больницы так, как будто
не произвели человека, а (простим врачу это натуралистическое
выражение! — А. Л.) избавились от длительного запора. Я не ви-
дела ни одной, которая ушла бы со слезой. Несколько примеров
психологии этих женщин,—-продолжает читательница: — Одна
бросила ребенка, потому что молода, хочет учиться, выйти за-
муж («нечаянный» ребенок!—А. Л.), другая бросила потому, что
этого захотел «муж» (ясно, почему это слово в кавычках — А, Л.),
третьи (муж и жена) бросили потому, что у них уже есть сын
и дочь, а этот ребенок — внеплановый и т. д. и т. п. Одна с пер-
вого дня не хотела посмотреть на своего ребенка, и, когда при-
носили младенца кормить, она закрывала лицо одеялом, а потом
сбежала из больницы раньше срока... Когда я смотрю на этих
детей, — пишет в конце письма А. Мухаррамова, — мне кажется,
что я в чем-то виновата перед ними, и мысленно прошу их про-
стить меня».
Хорошо бы эти слова почувствовали все мы! Ощищение вины
за чужой грех — возвышающее нас чувство совестливости, и, ес-
ли им будет пронизано все, без исключения, общество, мы — ра-
но или поздно — избавимся от этой трудной печали — сирот при
живых родителях.
И здесь в пору поразмыслить над большой группой писем,
авторы которых, словно сговорившись, призывают правоохрани-
тельные органы рассмотреть и реализовать две позиции:
1. Матерям, добровольно сдающим детей в дом ребенка или
детский дом, ставить штамп в паспорт: «Ребенок сдан туда-то,
тогда-то».
2. Взыскивать с таких женщин алименты на содержание ре-
бенка до совершеннолетия.
Есть еще и другие суждения, например, В. М. Семенов из
Москвы считает, что отказ от ребенка подпадает под статью 127
УК РСФСР, где сказано: «...Заведомое оставление без помощи
лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству...
в случаях, если виновный имел возможность .„и был обязан
иметь о нем заботу... наказывается лишением свободы на срок
266
до двух лет или исправительными работами па тот же срок».
Он же, не без резона, замечает, что сейчас «стакан вина нака-
зывается, а брошенный ребенок — нет».
Суждений, примеров и аргументов в письмах на мою статью —
огромное множество, я же взял на себя полномочие вывести об-
щий знаменатель — и только. Почему — и только?
Потому что, видимо, у меня, как у автора статьи «Дети без
родителей», есть одна важная обязанность перед читателями:
вынести их обобщенное мнение на рассмотрение наших право-
охранительных органов и от лица читателей просить эти органы
рассмотреть главные и конкретные предложения, заметив при
этом, что если мы сегодня откровенно говорим о забытости этой
проблемы в течение многих лет, то не относится ли эта заби-
тость и к законодательству? Иными словами, не пора ли усовер-
шенствовать законы и энергичнее применять их, коли речь идет
о таком краеугольном в социальном смысле понятии, как защи-
та детства, защита интересов детей, оставленных родителями без
собственного их «попечения».
Мнения читателей бывают, понятно, разными, противоречивы-
ми, бывают и такими, что прислушиваться к ним не стоит, но
в данном случае речь идет даже, как мне кажется, не о мнении,
а о воле читателей, об их требовании — настолько единодушно
читательское большинство. Так что, еще раз повторяю, этой
статьей, прибавлением к основной, я вношу их два главных пред-
ложения на рассмотрение наших государственных юридических
служб. Воля читателей может быть — а порой и должна — выше
собственных суждений. Хочу, однако, все же добавить свое, вов-
се не корректируя этим строгость, даже жесткость читательских
требований.
Первое сомнение родилось в моем общении со знаменитым
детским хирургом, членом-корреспондентом АМН СССР С. Я. До-
лецким. Однажды мне довелось вести в Центральном Доме ли-
тераторов встречу с ним, и даже я, как будто много знавший
о детских печалях, ахнул. Сама профессия требует от Долецкого
жестких оценок и научных — а не воздыхательных или возму-
щенных— выводов. Так вот, он, убежденный и повидавший виды
защитник детства, констатирующий и исследующий причины
взрослой жестокости, изо всех сил ратует за всяческое разъясне-
ние рожающим женщинам, что они могут отказаться от ребенка,
могут передать его в дом ребенка.
Моя душа, как души многих обыкновенных людей, противи-
лась каждому слову С. Я- Долецкого, но возражать ему было
нечем — такими он оперировал фактами из жизни Москвы. Увы,
увы, нежелающие детей способны часто гораздо на худшее, чем
их «дарение» государству, и вот тут, как бы это ни было при-
скорбно, как бы ни было горько всем нам, вынуждены мы по-
думать прежде о жизнях новорожденных. Так что штамп в пас-
порте— давайте, как говорится, на берегу, еще до решения юри-
дических инстанций подумаем об этом! — может повысить нико-
267
му не нужную преступность отчаявшихся женщин, коим ребе-
нок — обуза и тягость.
Но что же — так и оставить сам факт родительского отказни-
чества тихим, неизвестным, не играющим вовсе уж никакой роли
в судьбах людских? Да это же явное попустительство — именно
таким словом называют многие и многие читатели безнаказан-
ность подобного обстоятельства. Смириться со сложившимся по-
ложением вещей было бы несправедливым по отношению к без-
нравственной основе самого деяния. Однако все же понятие
«безнаказанность» — тоже из читательских писем — я бы пред-
ложил заменить более мягким термином — «констатация», «при-
знание факта, общественное и юридическое».
Ребенка, как известно, регистрирует загс. Событие столь ра-
достное, что кое-где созданы, тоже под эгидой загса — Дворцы,
Дома новорожденных. В Ленинграде новорожденному даже ме-
даль памятная, говорят, вручается. И никто у нас в стране не
считает неестественным появление в паспорте штампа о том, что
у тебя есть ребенок. Единственные, у кого такого штампа нет,—
родители-отказники. Ведь они не регистрируют в загсе своего
ребенка. Это делает Дом ребенка. Вот мне кажется, где сокрыт
люфт для человеческой безответственности и отказничества.
Стоит ли ставить штамп в паспорт «отказницы», что ребенок
сдан, как можно поставить обычный штамп, что ребенок есть и
он рожден именно тобой. Но для этого надо изменить принцип
работы загса. Учитывая сложившееся положение, надо просто
вменить загсу приход в роддома, где появилась отказница. И не
по ее желанию, а по вызову персонала роддома. И в паспорте,
таким образом, появляется отметка о новорожденном.
Дальше — твоя воля. Можешь отказаться от сына или дочки.
Но пусть не останется тайной, покрытой мраком, сам факт дето-
рождения.
Однако закончим эту малоприятную процедурную тему.
Речь-то в статье шла и о многом другом.
Среди этого многого — иные (а их немало) причины появле-
ния ребят в детдомах, интернатах, домах ребенка. Среди этих
причин не на последнем месте — изоляция родителей от общества
за всевозможные преступления. В читательской почте, особенно
той ее части, которую написали «действующие лица» — подрос-
шие дети, «прозревшие» родители, воспитатели детдомов, их ди-
ректора, а также усыновители, немало горестных слов сказано
о пьянстве, ломающем не только здоровье «питоков», но и саму
природу их ни в чем не повинных детей, зачатых в пьяном уга-
ре, а потом брошенным в щедрые объятия государства. Трагиче-
ские эти исповеди — тяжкие гири на весах праведного противо-
алкогольного решения, обнаженные горькой своей правдой аргу-
менты в пользу благой жестокости во имя детей — к людям, их
народившим.
Нет, пет, не просто и не легко искоренить порок, и трижды
труднее выкорчевать порок укоренившийся. Но делать это надо,
268
хоть и больно будет, и придут, увы, придут еще не раз к нам
факты, хлещущие страданием. Общественный порыв, который
вызвала моя статья, радует. Потому что только всем миром мо-
жем мы освободить детство от кукушечьего поведения взрослых.
К этому — к народной заботе о мире беспричинно осиротевшего
детства — призывает документ ЦК и Совмина. Открытость проб-
лемы, а не припудривание ее рождает добрые токи человеческой
щедрости, и всякий факт этой теплоты греет сердце.
Вот бойцы студотряда «Гренада» из Псковского пединсти-
тута заработали летом четыре тысячи, и, хотя, понятное дело,
деньжата для студентов дело вовсе не лишнее, купили они для
детдома в поселке Родовое Палкинского района мебель да иг-
рушки. Таких отрядов — их называют отрядами безвозмездного
труда — уже сотни в студенческом трудовом движении. Вот ЦК
комсомола целые смены в «Артеке» и «Орленке» дарует ребятне
из детских домов, и выясняется, что для них это не просто неза-
бываемое удовольствие и ликование, а могучая, уже чисто педа-
гогическая встряска: оказывается, даже одну смену побывав
в таком лагере, маленький человек способен переосознать себя,
сместить в себе нравственные акценты, проще говоря, стряхнуть
с себя многое из нелегкой своей судьбины, идти по жизни новой
тропой... Любопытная деталь: комсомол подарил гостям «Арте-
ка» и «Орленка»... часы, и вот этот подарок оказался очень нуж-
ным, потому как одно из неумений этих ребят — неумение рас-
поряжаться временем и деньгами. Литература тоже не в стороне,
к примеру, московские писатели и издательство «Детская лите-
ратура» выпустили уже четвертый сборник под названием «По-
дарок»—раз в месяц, когда в детдомах отмечается коллектив-
ный день рождения, именинникам дарится этот томик, весь ти-
раж которого закупает ЦК комсомола. Если понять как следует,
что у ребятни ведь этой никакого своего имущества нет, все, до
пуговицы, казенное, то книжка в качестве первой личной соб-
ственности— это осмысленное и мудрое дело. И коли пять, семь
хороших книг, своеобразное собрание сочинений, куда входят
сказки, классика, современная проза, возьмет с собой, за порог
детдома, его выпускник — немалое это благо и неплохое вовсе
напутствие.
Стандартное, набившее оскомину слово «шефство» крупных
предприятий над детдомами обретает кое-где новый смысл, отмы-
вается сутью дел от формального налета, обретает черты друж-
бы и человечности. Первый «десант» выпускников пединститутов
послали в детские дома ЦК ВЛКСМ и «Комсомольская правда»,
Мпнлегпром берется сшить новые комплекты одежды, которые
предложил журнал «Смена», сделав социальный заказ .талант-
ливому модельеру В. Зайцеву. Наконец, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР главный врач московского дома ребенка
№ 12 Марина Гургеновна Контарева и директор новочеркасского
детдома № 2 Валент ина ’ Константиновна Куприянова удостоены
Золотых Звезд героев — впервые Звездами увенчан труд рыцарей
269
этих трудных домов, — а большая группа, среди которых замеча-
тетьные воспитатели, выдающиеся нянечки, получила ордена и
медали!
Хочется воскликнуть1 дело стронулось. Но я — реалист, к это-
му приучило общение с ребятами в детских домах. Нет, нс просто
повернуть вспять мораль, вернуть ее к первородно чистой ответ-
ственности за рождение и воспитание. Много нам сил и немало
лет потребуется! Но прежде сил и раньше средств требуется нам
совесть—я все же стою на своем.
Какая? Да всякая. И вот такая например, какой щедра ока-
залась читательница Л. Н. А. из Краснодарского края. В письме
своем, бесхитростном, невыспреннем, скромно рассказывает она,
как с мужем взяли малыша в доме ребенка. «Был он маленький,
болезненный, в десять месяцев ему можно дать не больше пяти.
Мы решили взять его, хотя врачи не советовали. Но мы все же
решили взять именно этого слабенького мальчика. Привезли ма-
лыша домой, мои родные были в ужасе, но мы с мужем не пада-
ли духом, стали вместе за ним ухаживать, и через два месяца его
нельзя было узнать. Сколько у нас было радости, когда он пер-
вый раз сказал «папа» и «мама»! Много было бессонных ночей,
учился он слабо — и опять мы переживали. Мы сразу поняли, что
это переживание есть счастье. Когда сыну было 9 лет, мы взяли
девочку прямо из роддома, и сейчас у нас двое детей. Теперь на-
шему сыну 18 лет, а дочери 9. Сына весной будем провожать в
армию. Мы часто с мужем говорим: «Что бы мы делали, если бы
у нас не было наших детей? Как бы мы жили?»
Не скрою, в письме этом я искал слов о «кукушках»—как,
интересно, эта женщина скажет о них? И вот что она написала:
«У меня нет прощенья тем женщинам, которые бросают своих
детей. Я бы их беспощадно судила. Нет им никакого оправданья,
ведь теперь все есть, только работай и воспитывай. Какие сердца
у этих кукушек?»
Привередливый читатель спросит меня: что же — одни будут
рожать, а другие усыновлять? Это и есть равновесие? Еще в
статье «Дети без родителей» я сказал, что и чужую беду руками
не разведешь — не только свою. Детство не должно быть обре-
ченным на безродительство. Это не данность, а противоестествен-
ное, противоприродное положение. От слов общество переходит к
делу — это фон, воздух наших дней. Но дело вершит не кто-то,
а все мы. II если дрогнет ваше сердце при мысли о покинутых де-
тях, первое, что надобно сотворить, так не дать себе совершить
подлость. А второе — укрепиться в сознании соучастия и двинуть-
ся к детскому дому, к интернату, к дому ребенка, чтобы поступ-
ком, словом, чувством скрасить жизнь тех, кто там живет и кто
не завтра, а сегодня, всегда, был и есть нашим общим Ребенком.
Надо одно лишь запомнить тут: это не минутная забава, не
самоублажение. Честь, совесть и постоянство — вот что требуется
более всего, чтобы одолеть нам сообща трудную печаль.
Идемте!
270
СОДЕРЖАНИЕ
От автора........................................3
Часть первая. Наш общий ребенок . ........ 5
Последние холода. Повесть.....................—
Благие намерения. Повесть....................77
Часть в-торая. Наша общая забота...............187
Нежеланные, или Мать чужих детей..............—
Кукушонок. Дв.а письма па трудную тему......222
Дети без родителей..........................231
Трудная печаль ............................ 264
Альберт Анатольевич Лиханов
ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
Зав редакцией Н П Сечыкин
Редактор И А Агапьева
Художественный редактор Е Л Ссорина
Технический редактор Г В Субочева
Корректор 1/ Ю Сергеева
ИБ К» 10978
Сдано в набор 20 08 86 Подписано к печати 02 02 87 Фор
мат 60 90*/1б Бум книжно ж>рн Гарнит Литерат Печать
высокая Уст печ л 17,0+0 25 форз Усл кр отт 17 5
изд л 19 68+0,45 форз Тираж 100000 экз Заказ№1544
Цена 1 руб.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просве
щение» Государственного комитета РСФСР по делам изда
тетьств потиграфии и книжной торговли 129846 Москва,
3 и проезд Марьиной рощи 41
Областная ордена «Знак Почета» типография им Смирнова
Смоленского обтуправления издатетьств полиграфии и книж
ной торговли 214000, i Смоленск проспект им Ю Гага-
рина, 2
О, женщины, исполнившие чужой долг,— да будут бла-
гословенны ваши имена; женщины, не родившие, но вос-
питавшие,— да славится ваш неэгоизм, ваша самоотвер-
женность, готовность одарить теплом и лаской дитя, соз-
данное другою; да будет полной всегда великая чаша
вашего материнства!
Помогая Отечеству, страдая за детей и сострадая им,
у, арим же в колокол собственной совести: где мой сын,
ь." моя дочь и кто же я на этом свете!