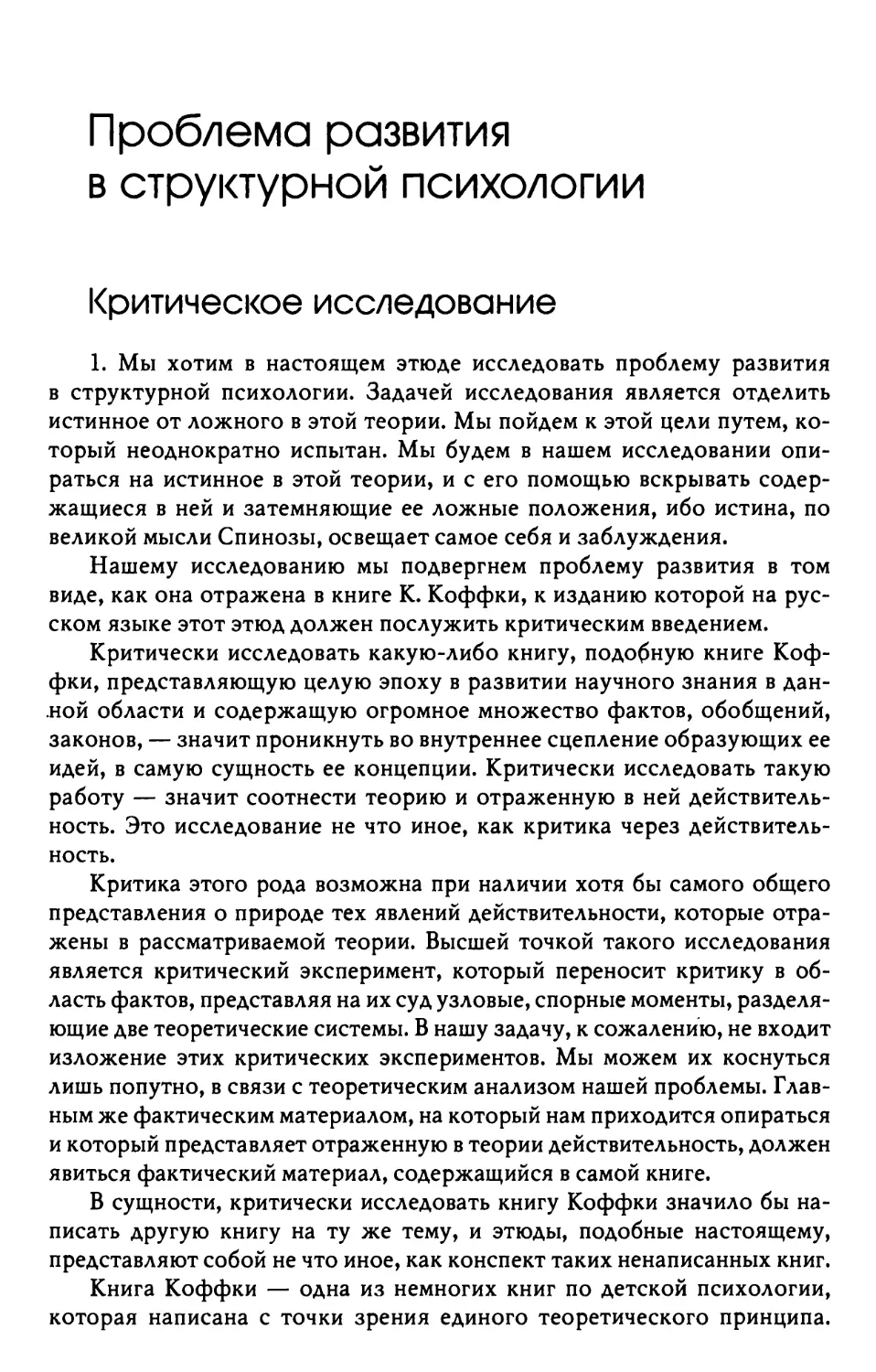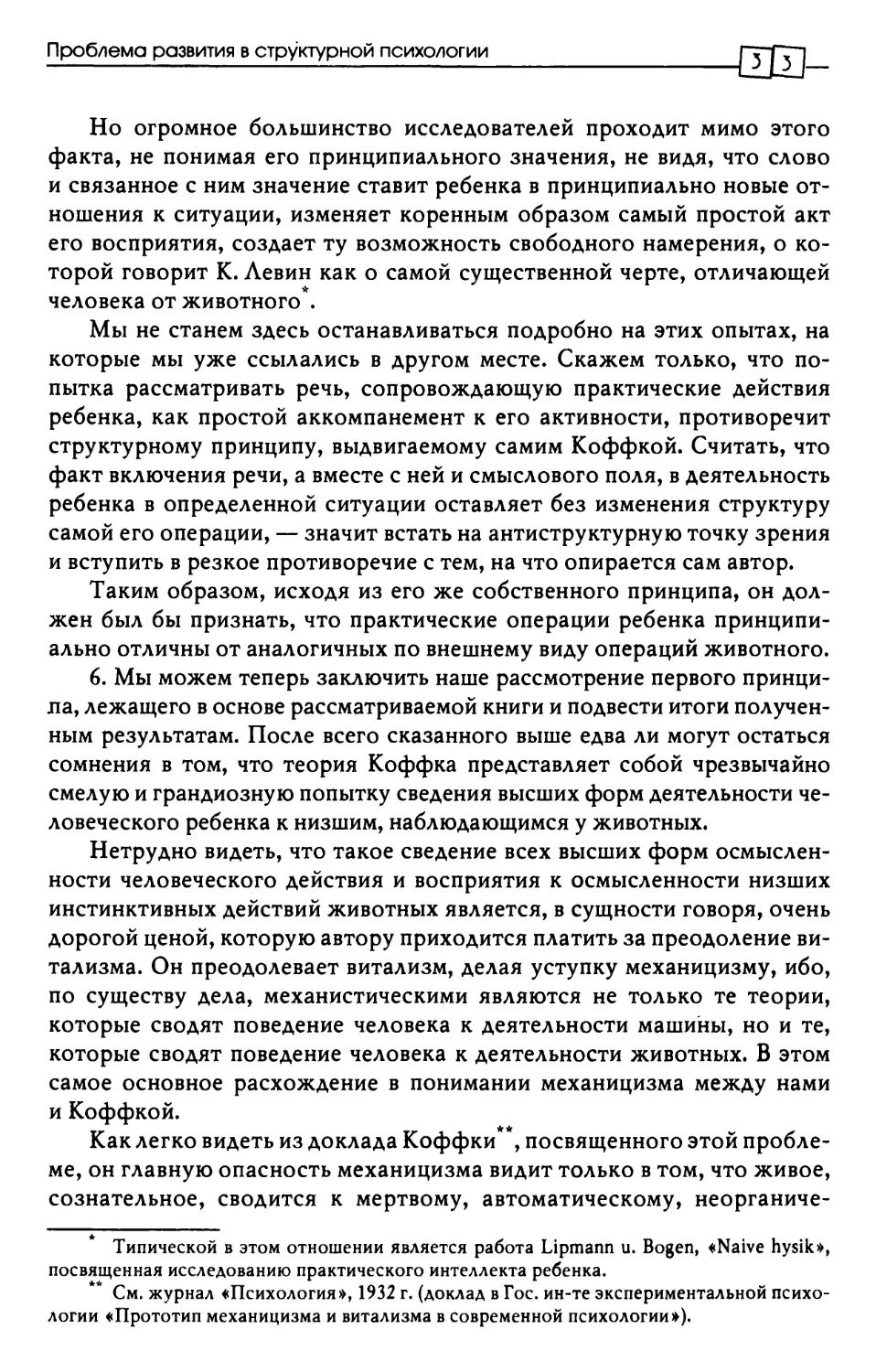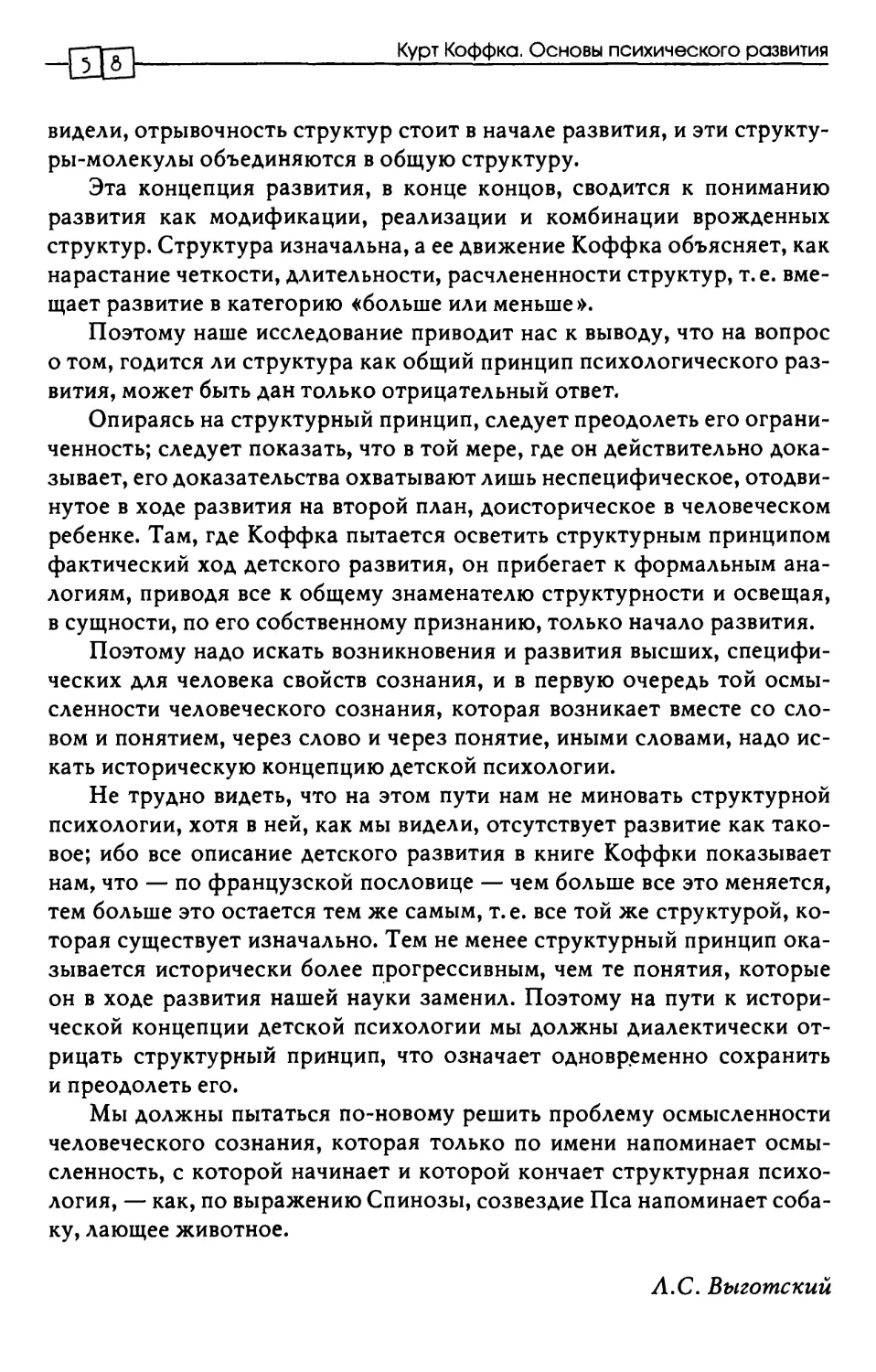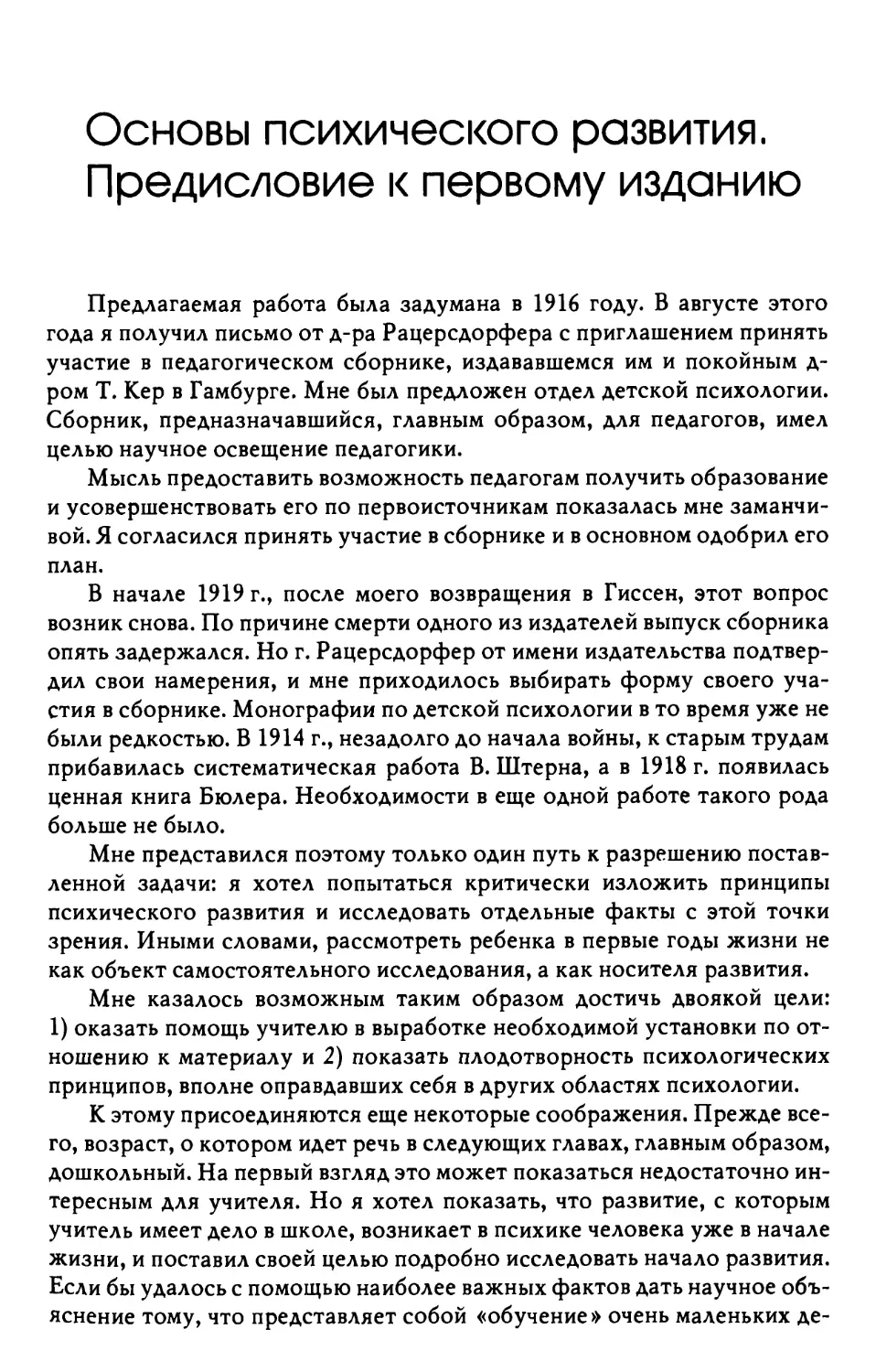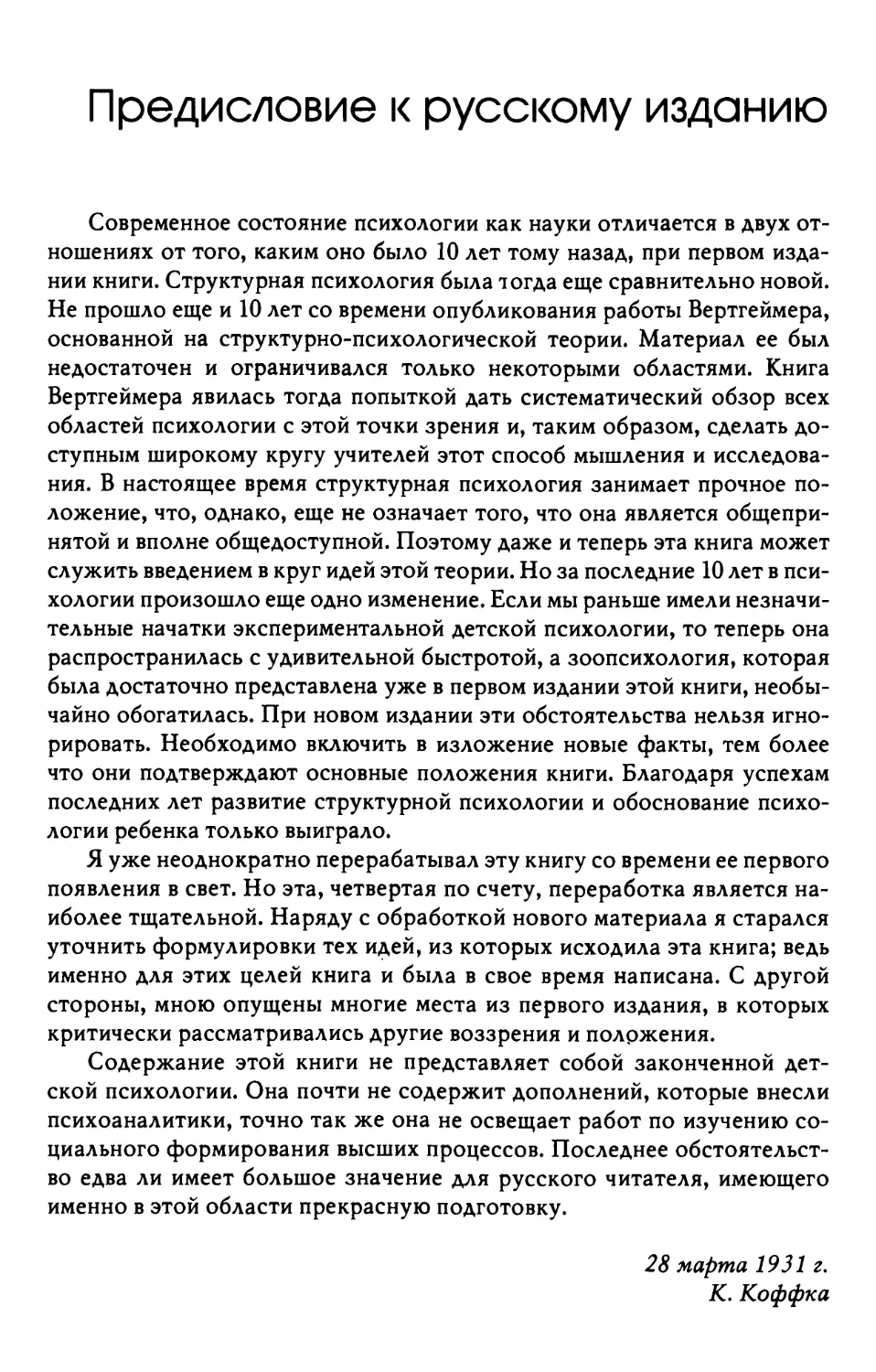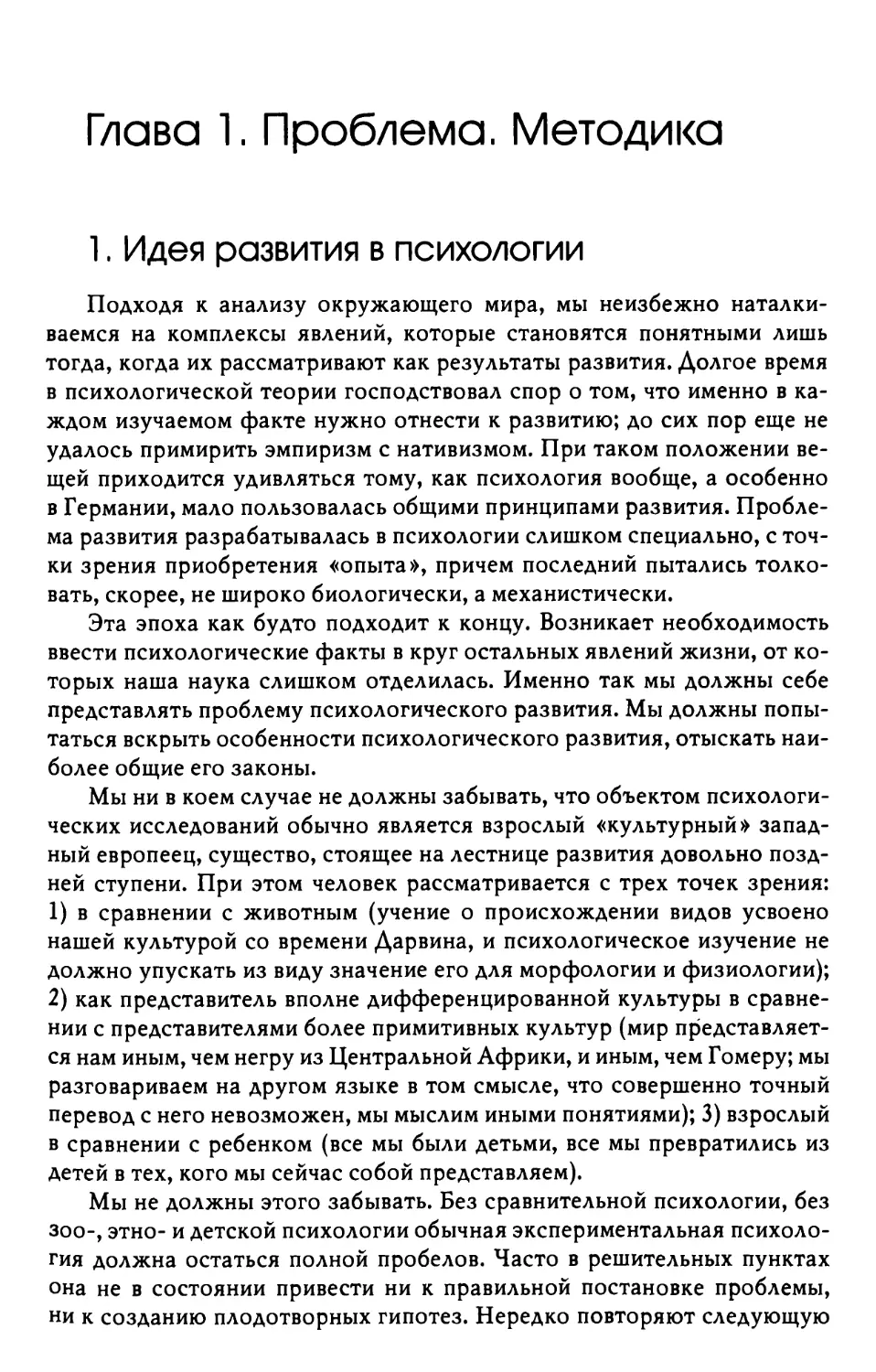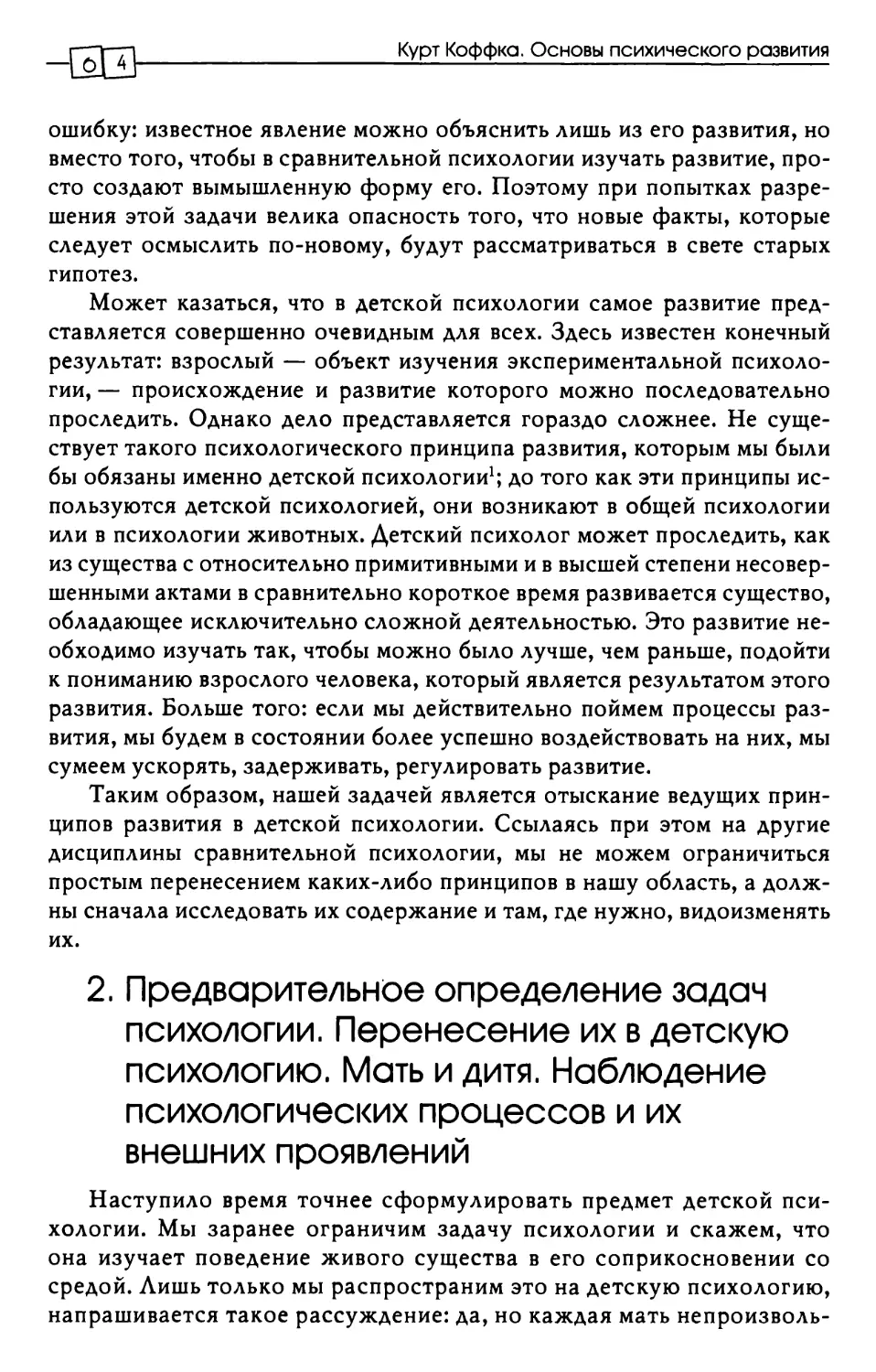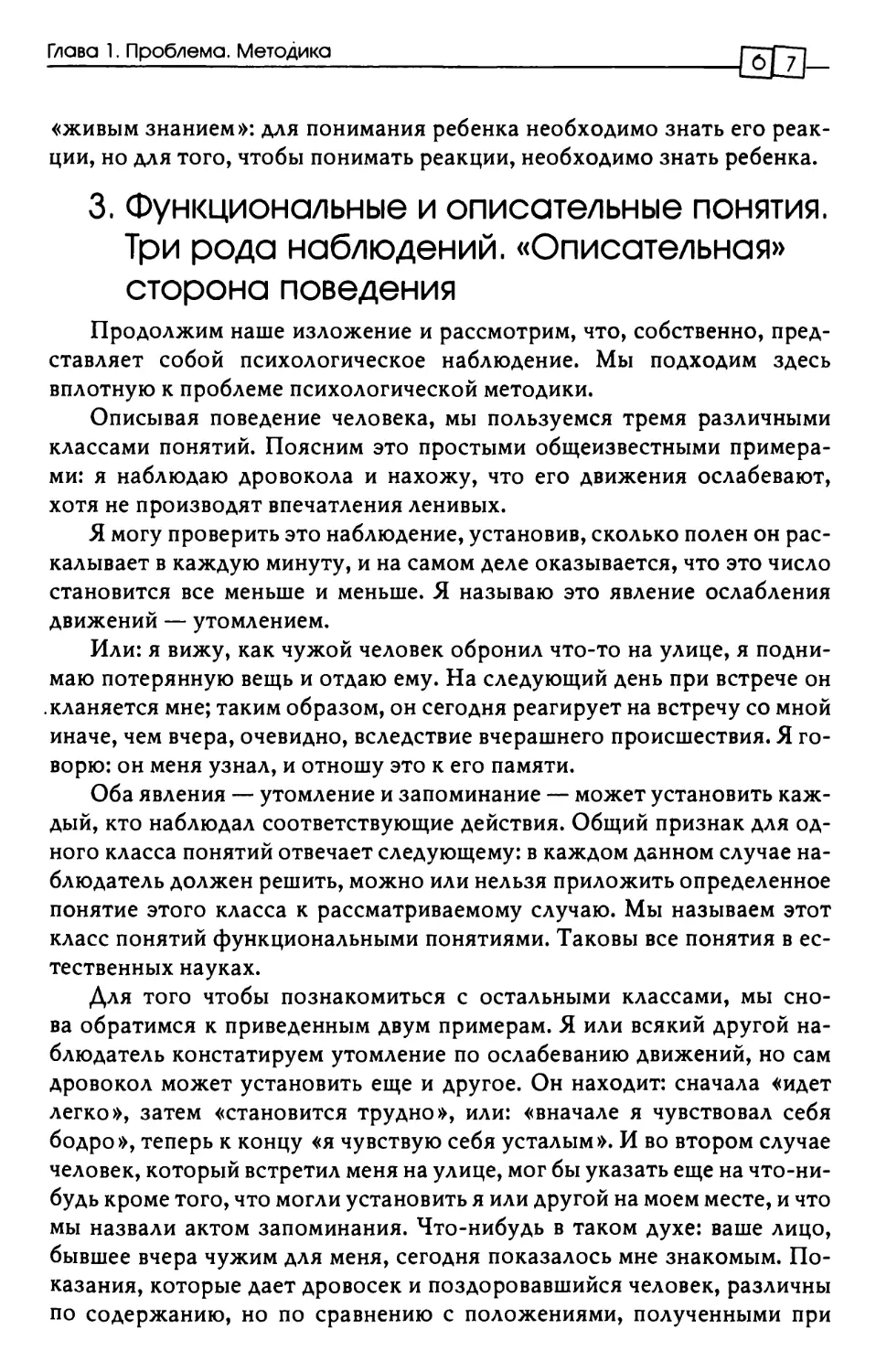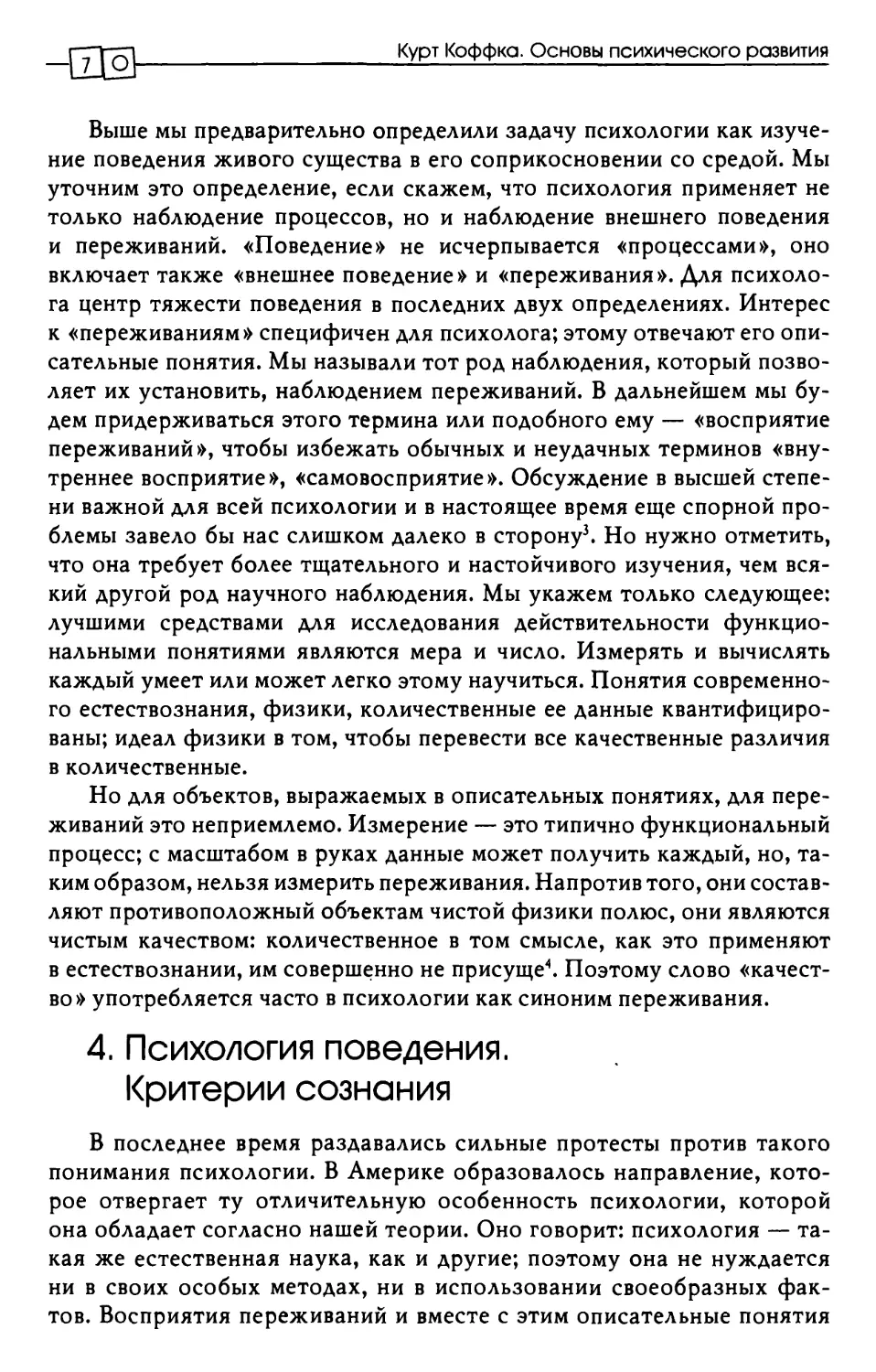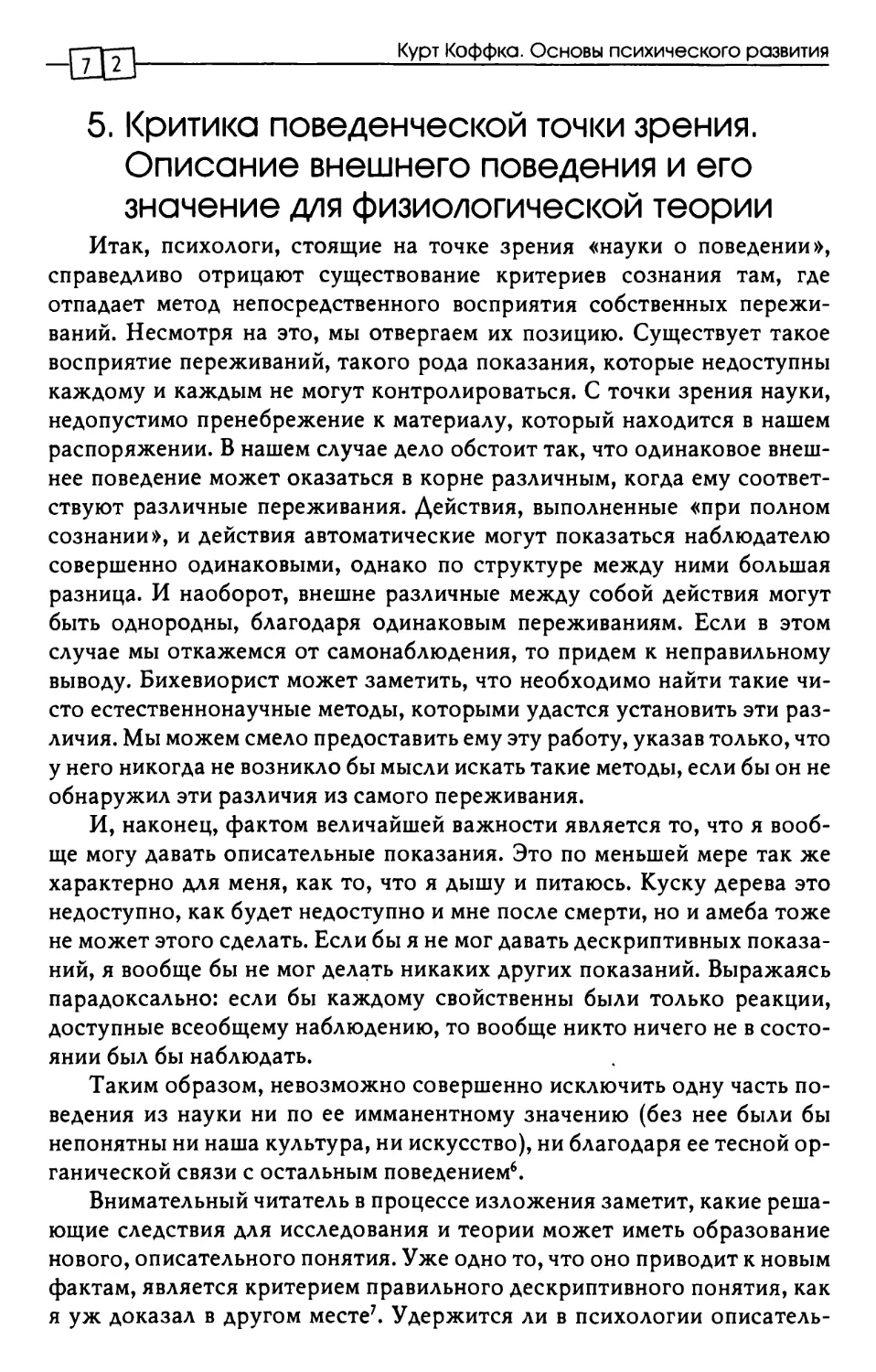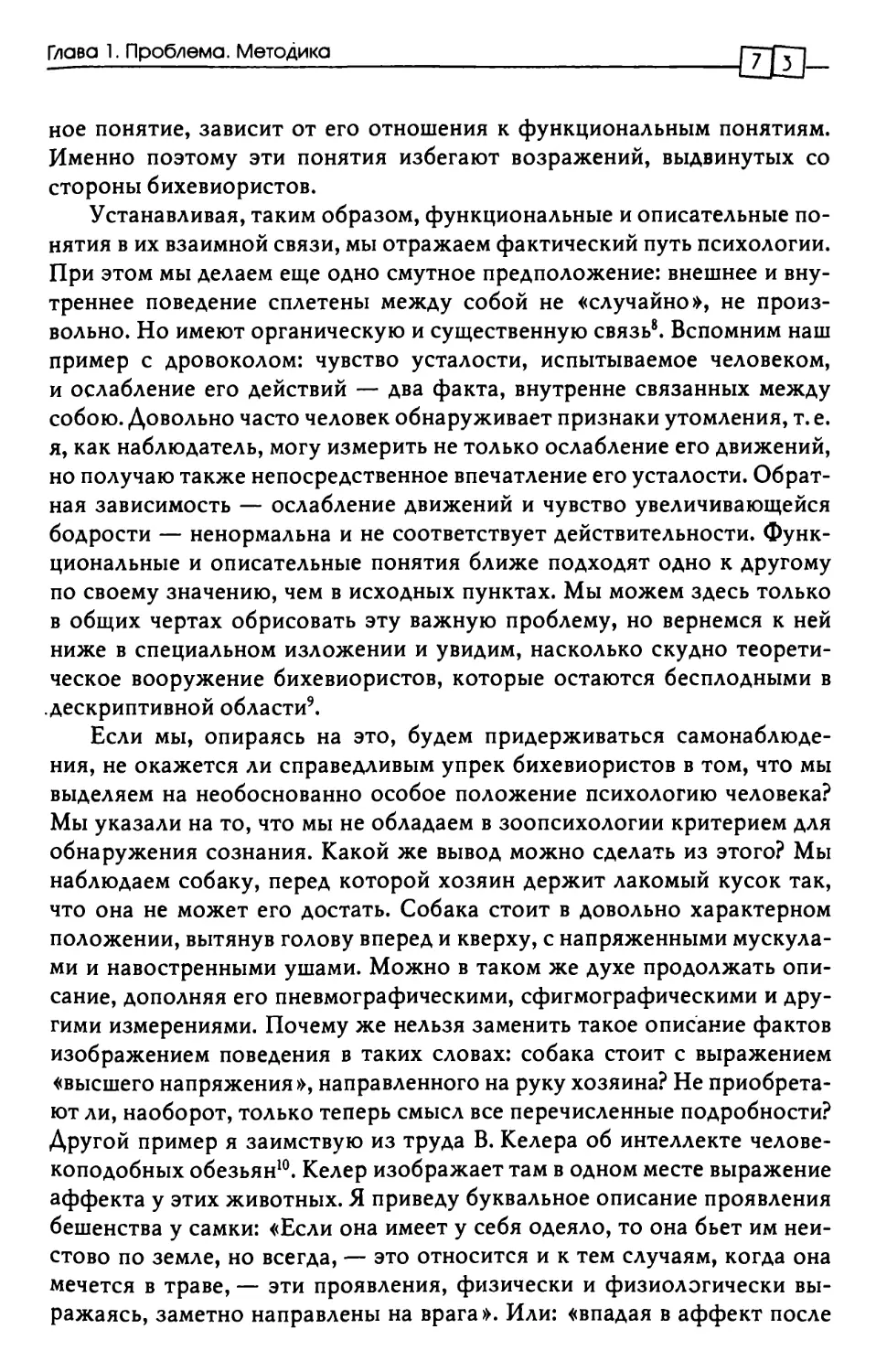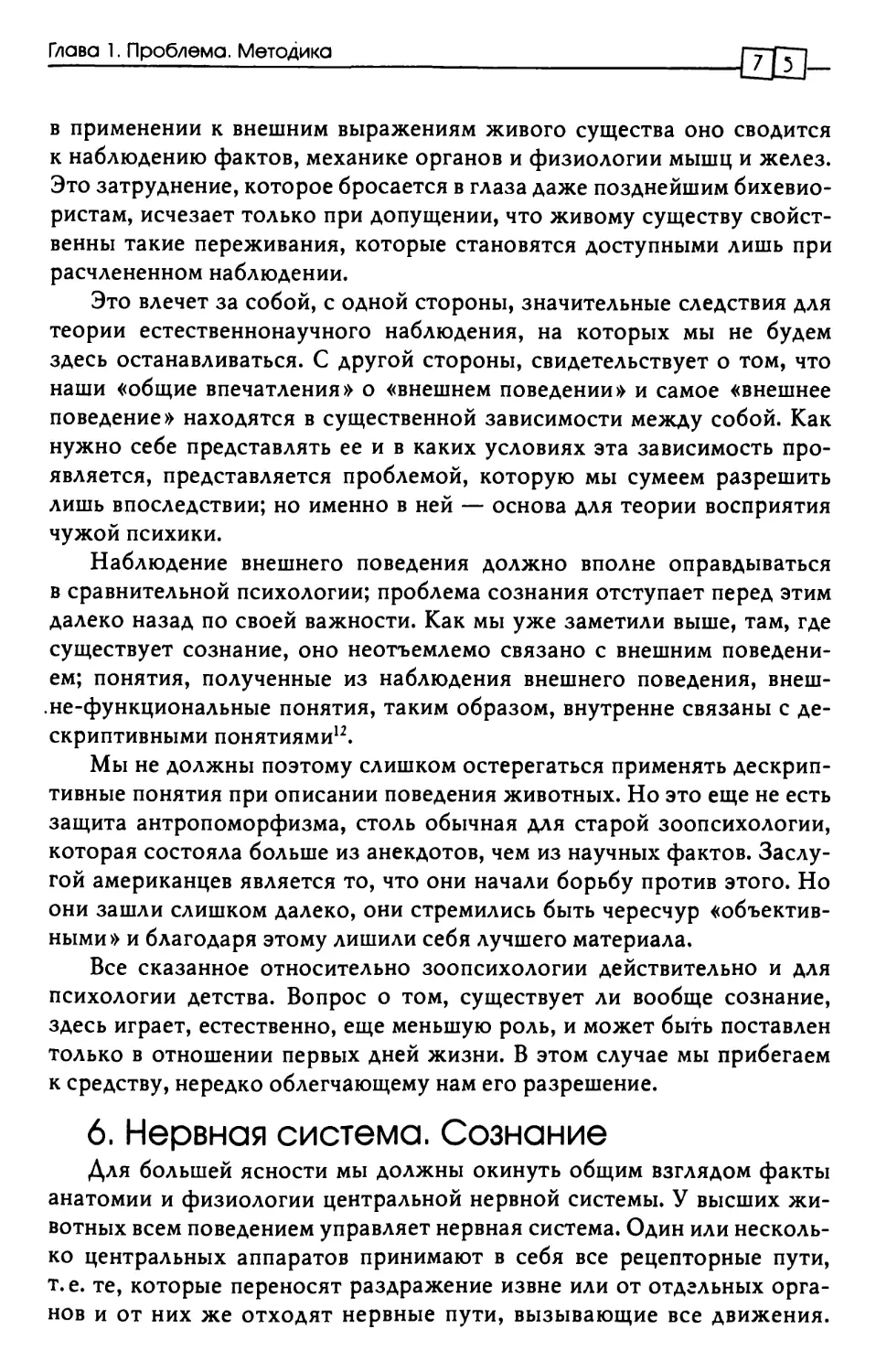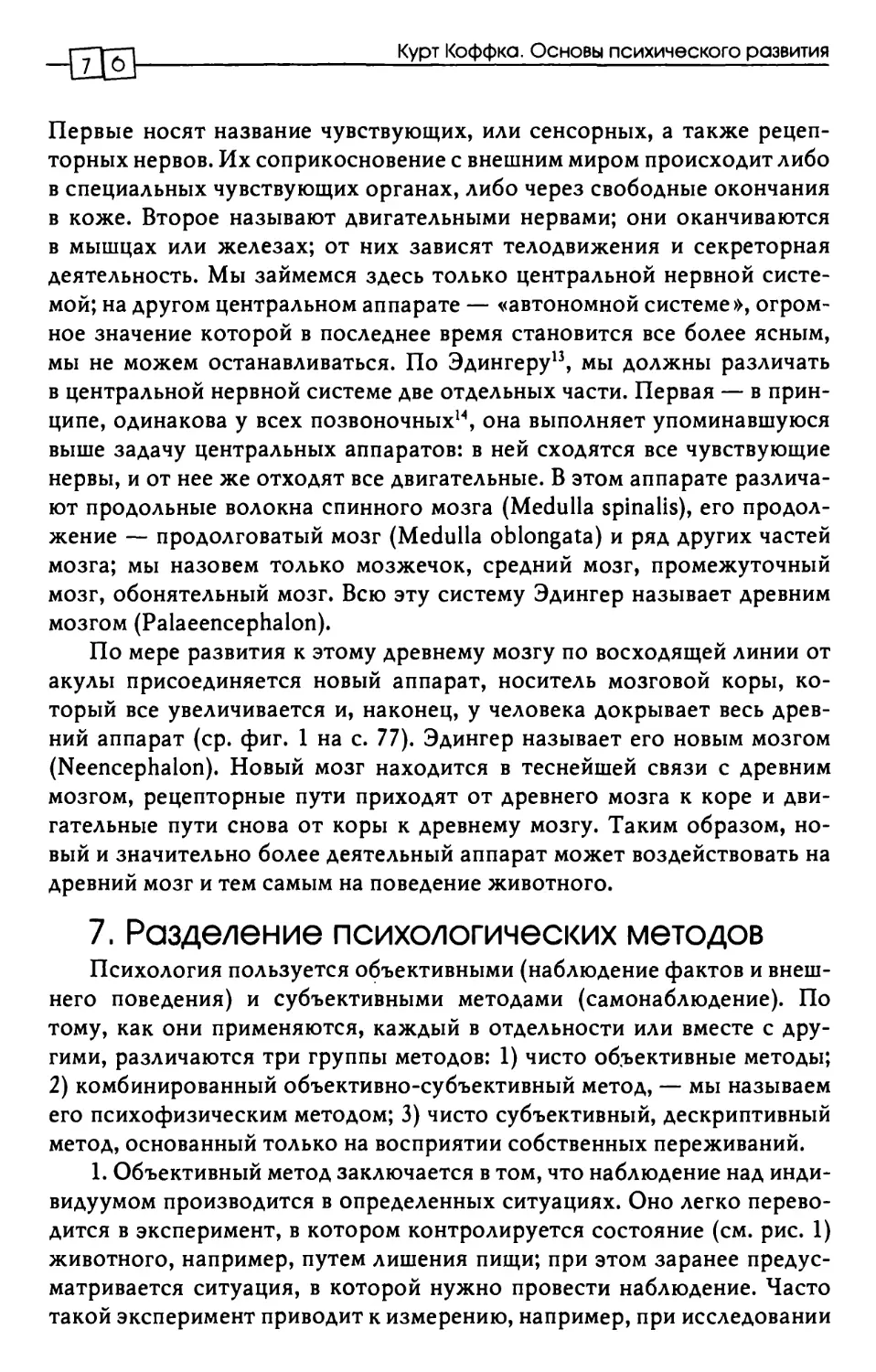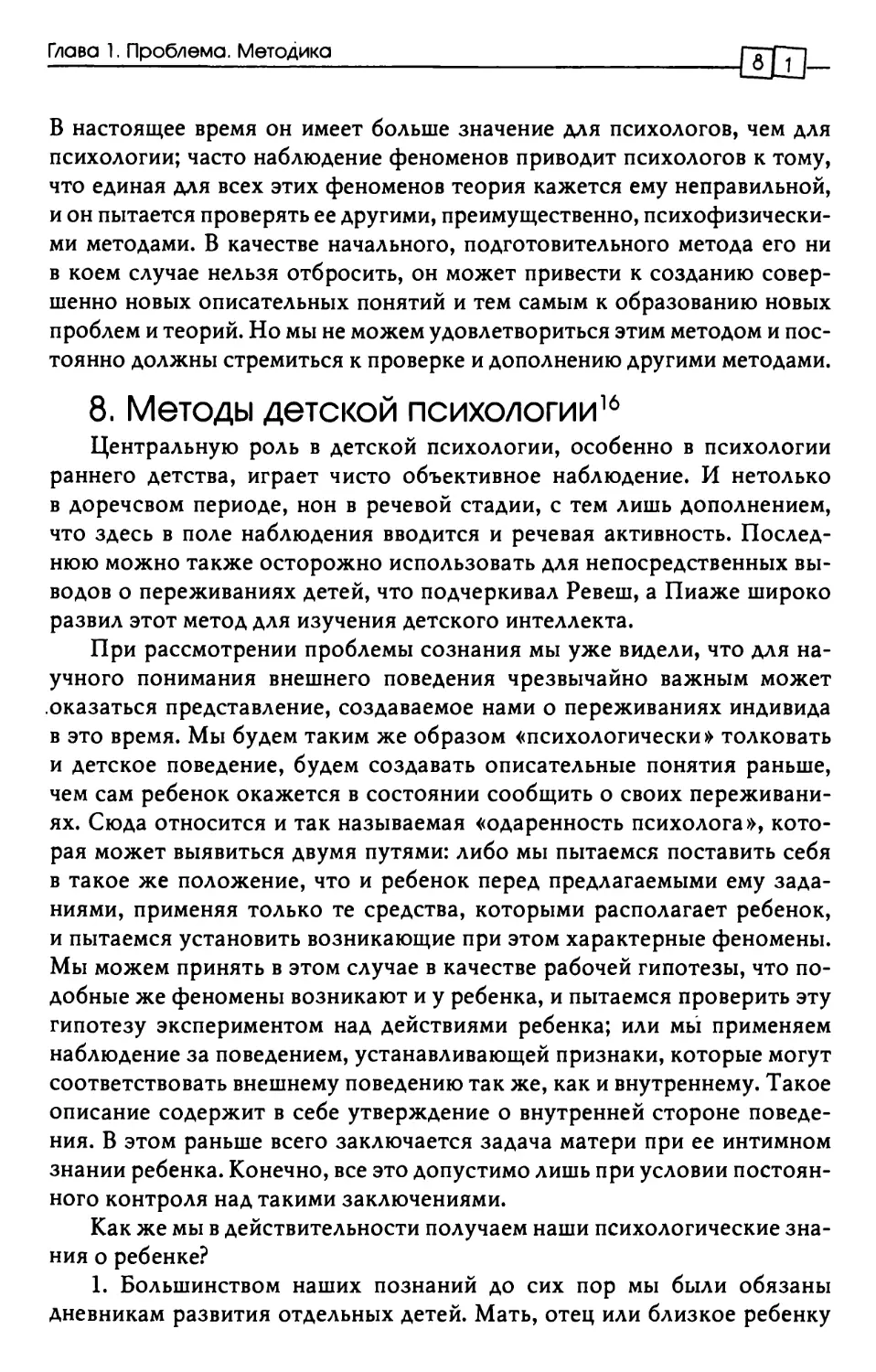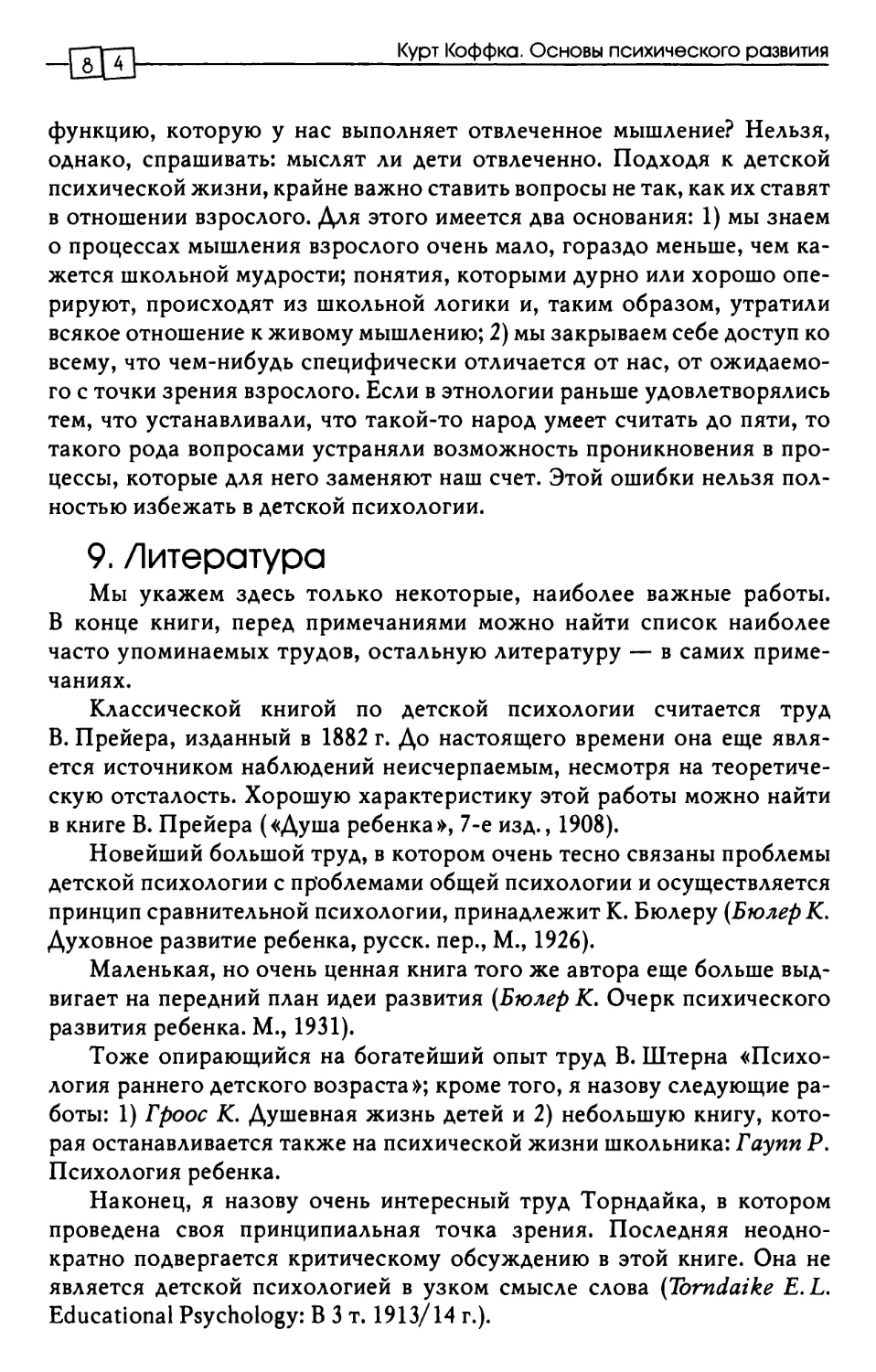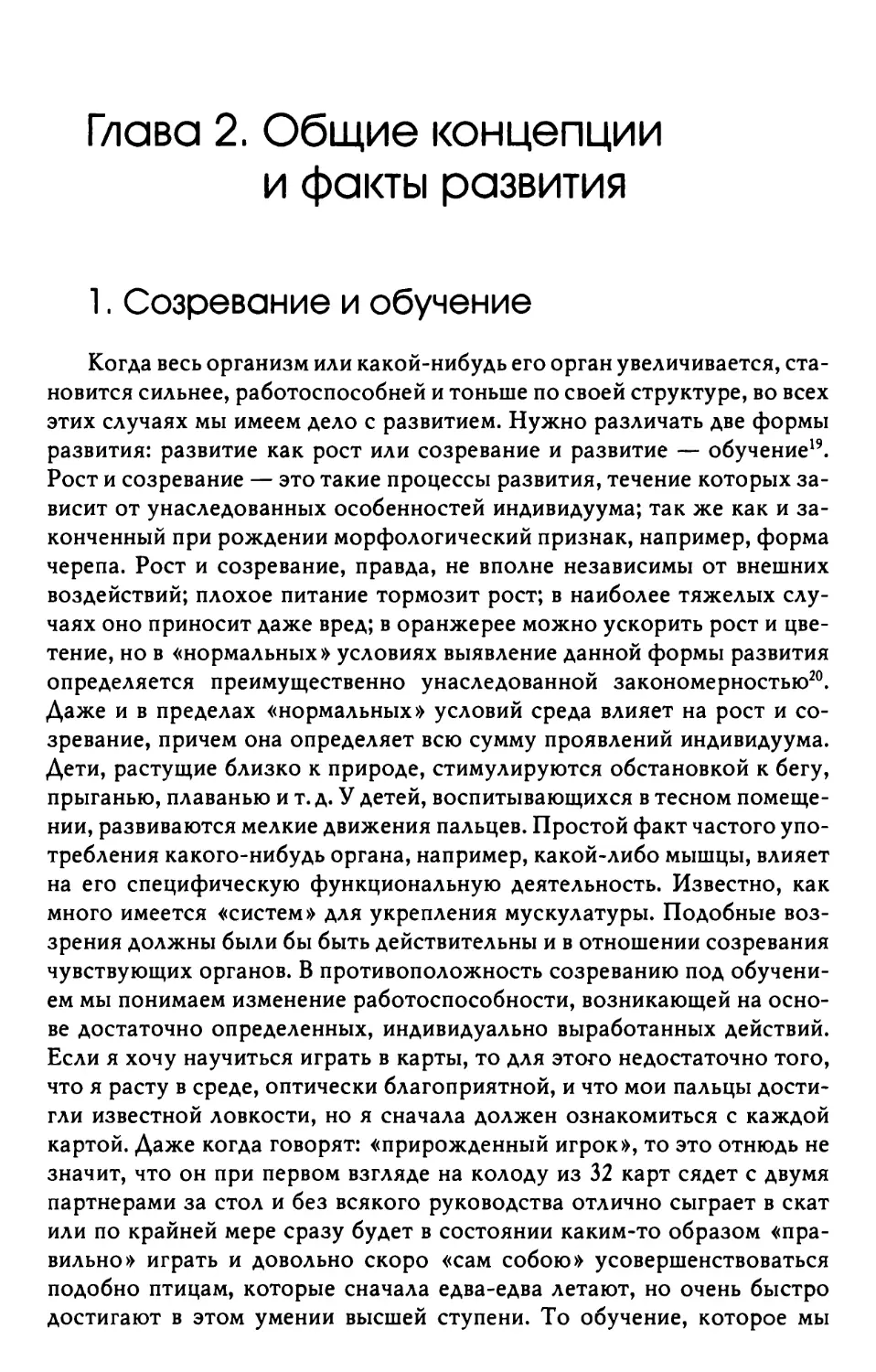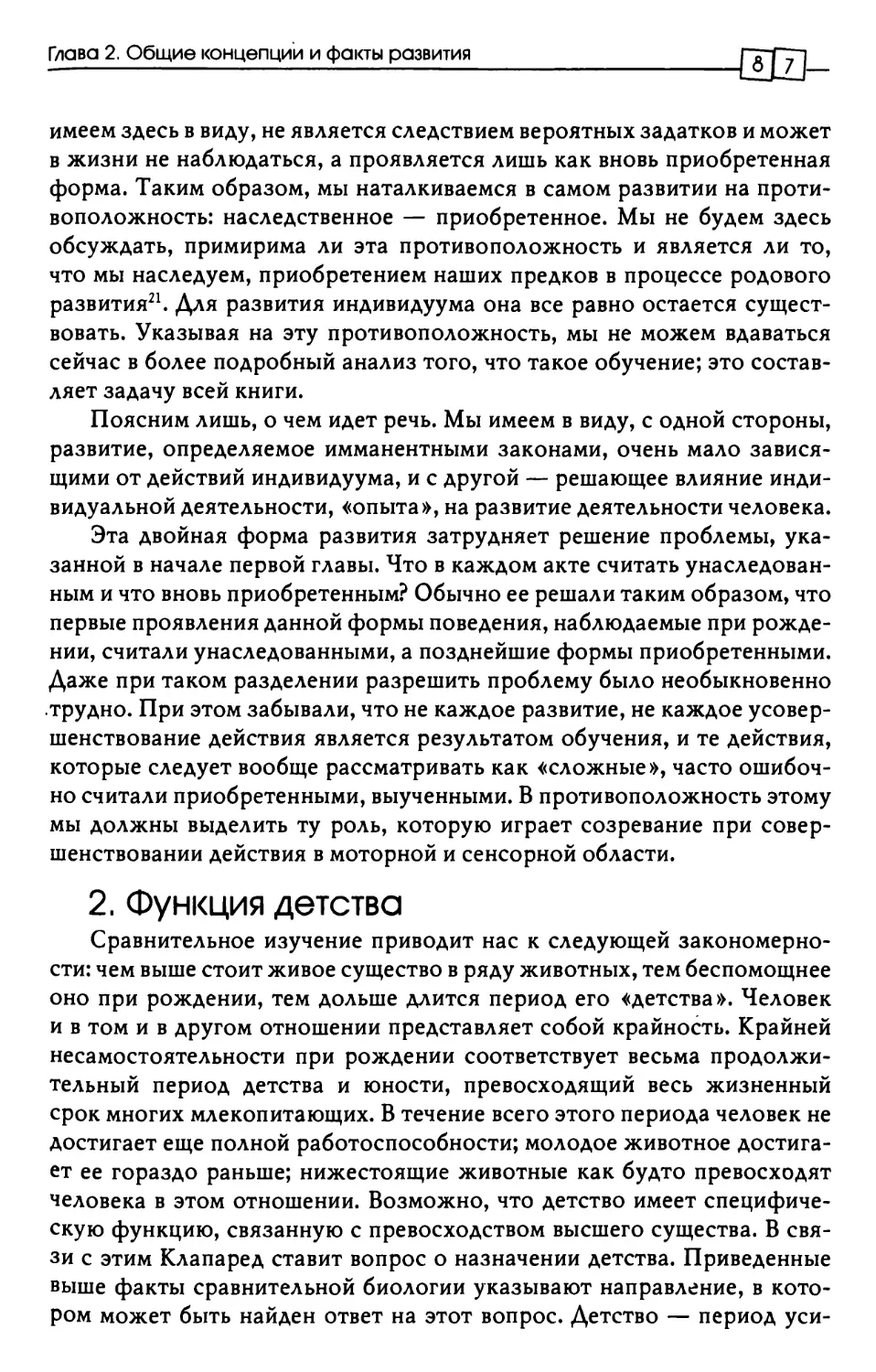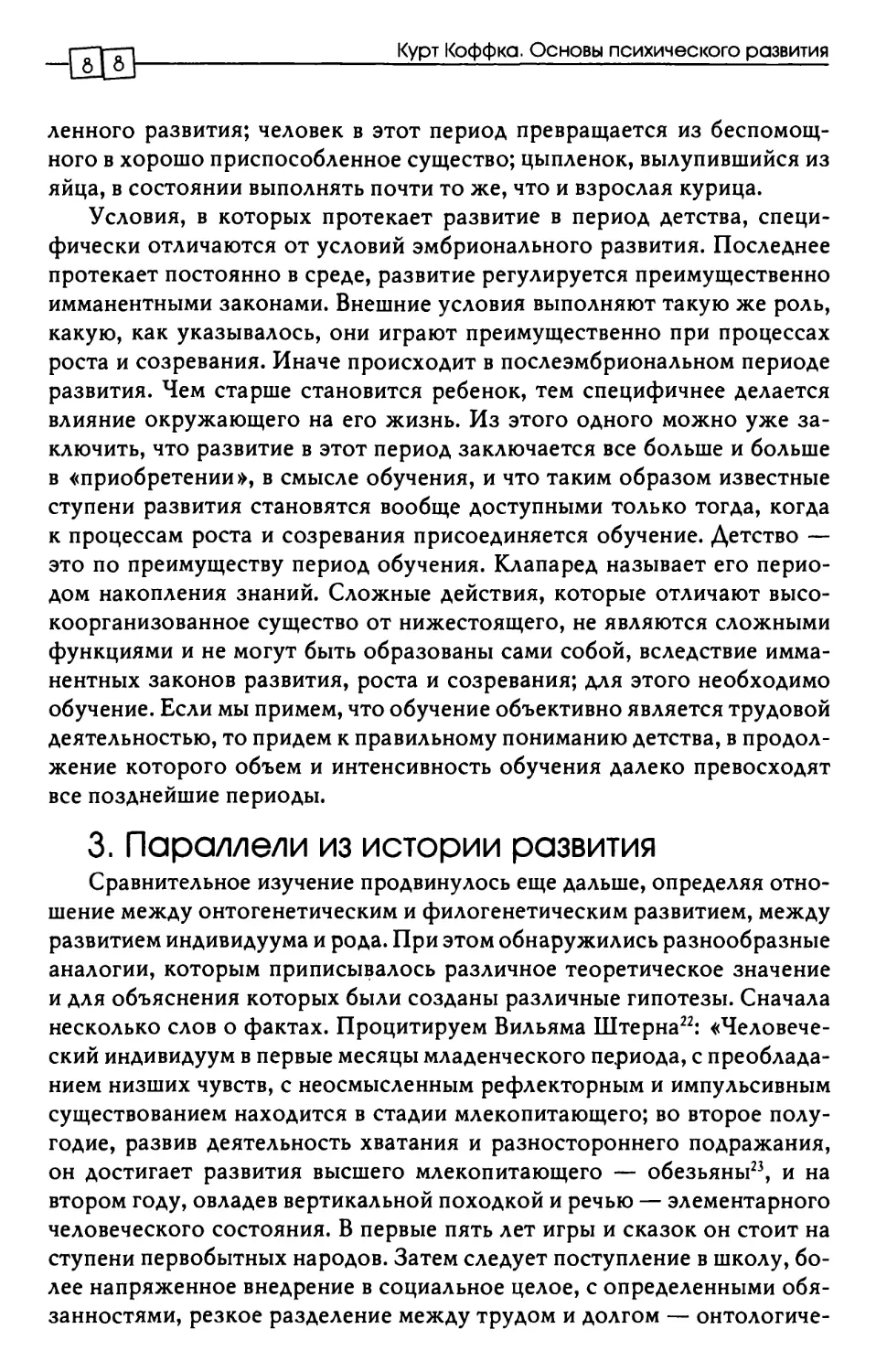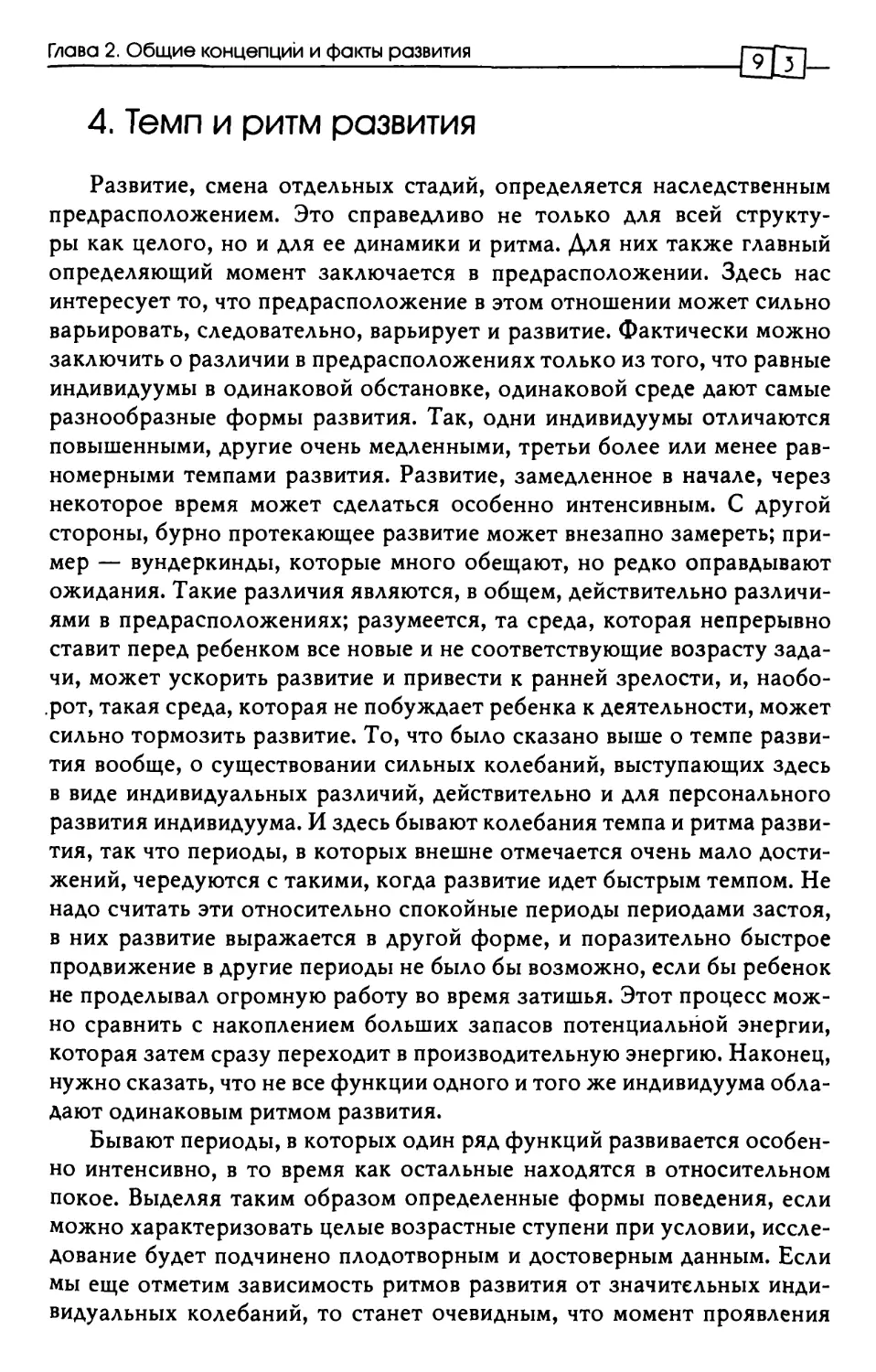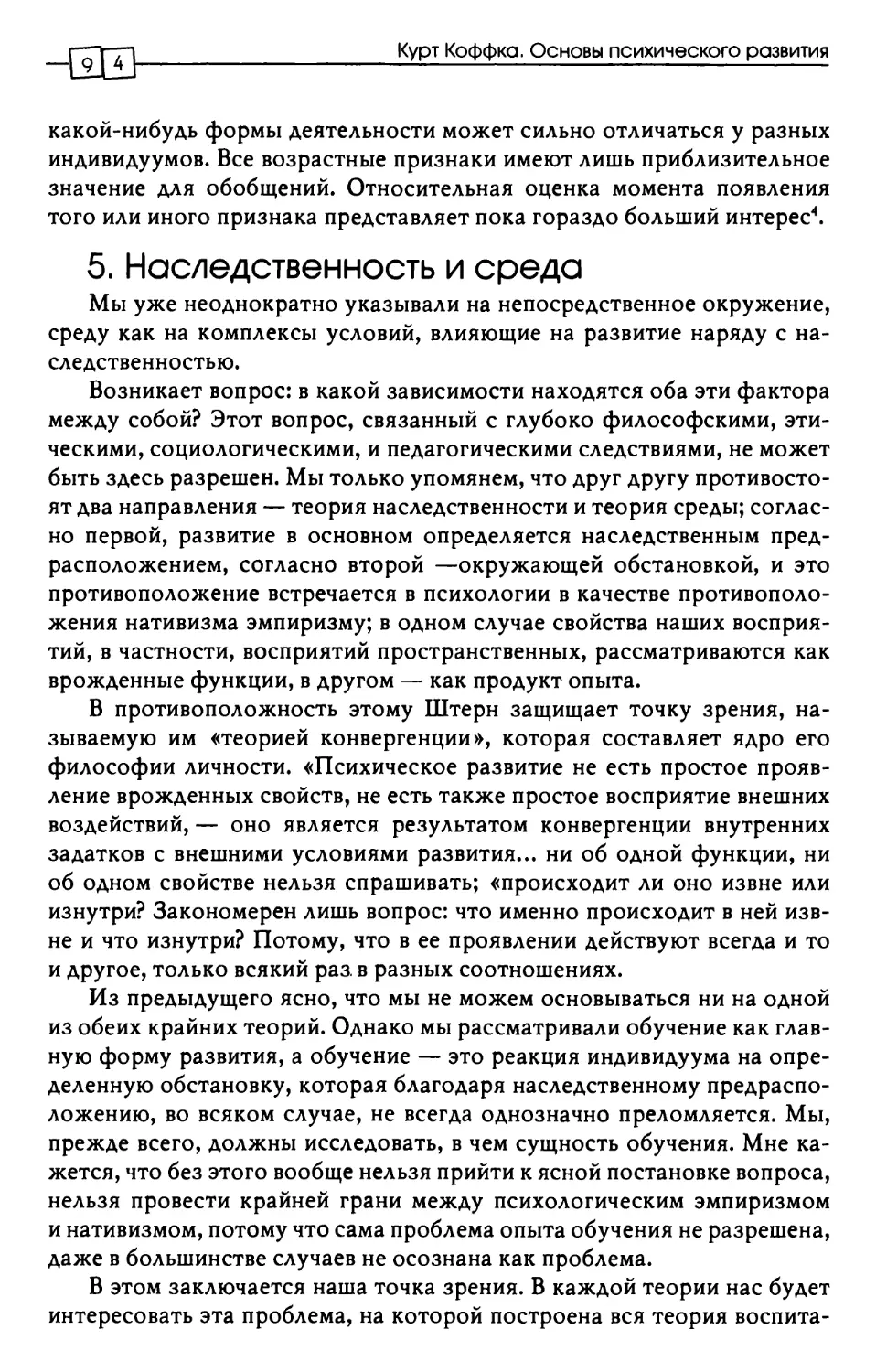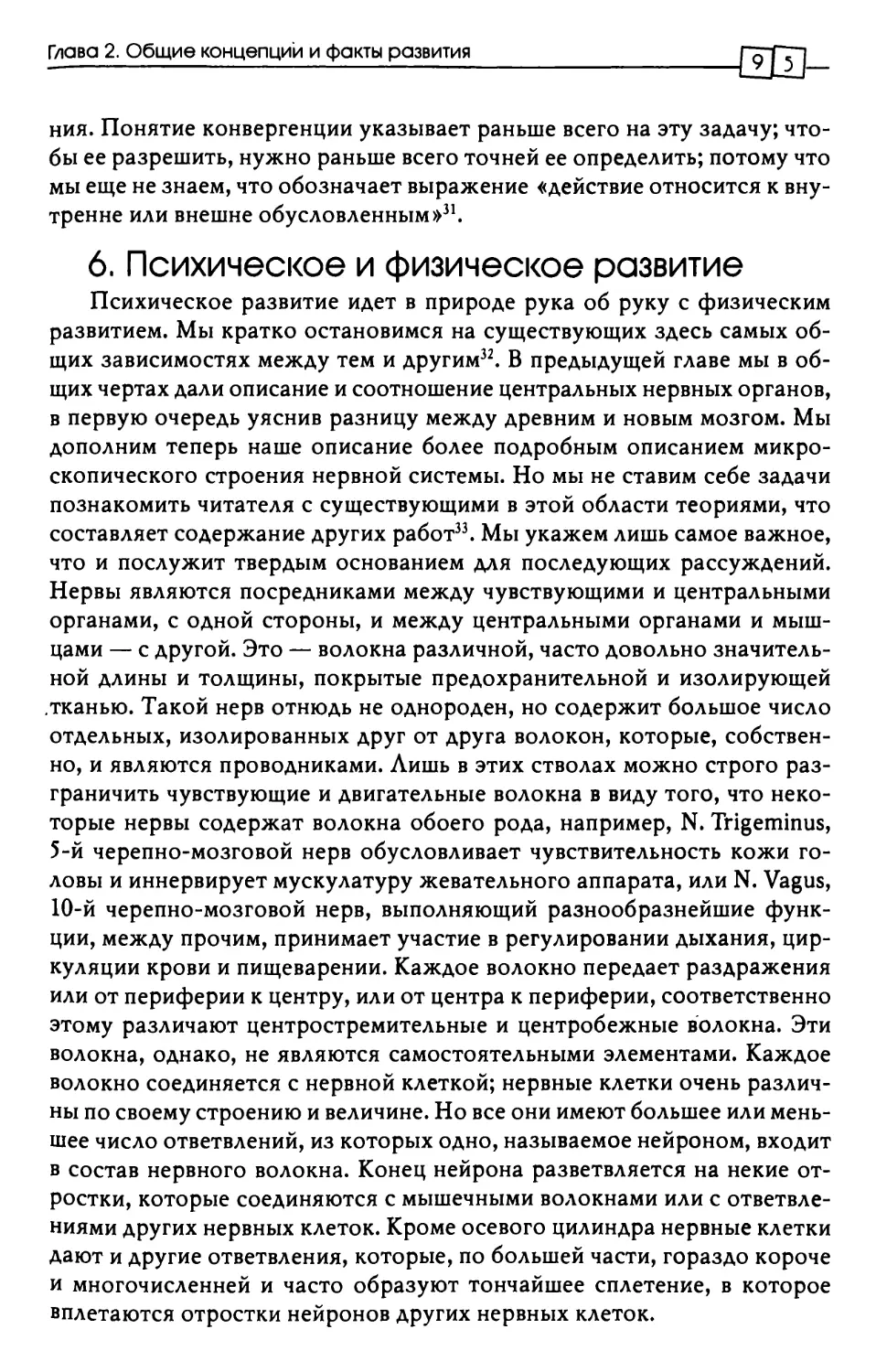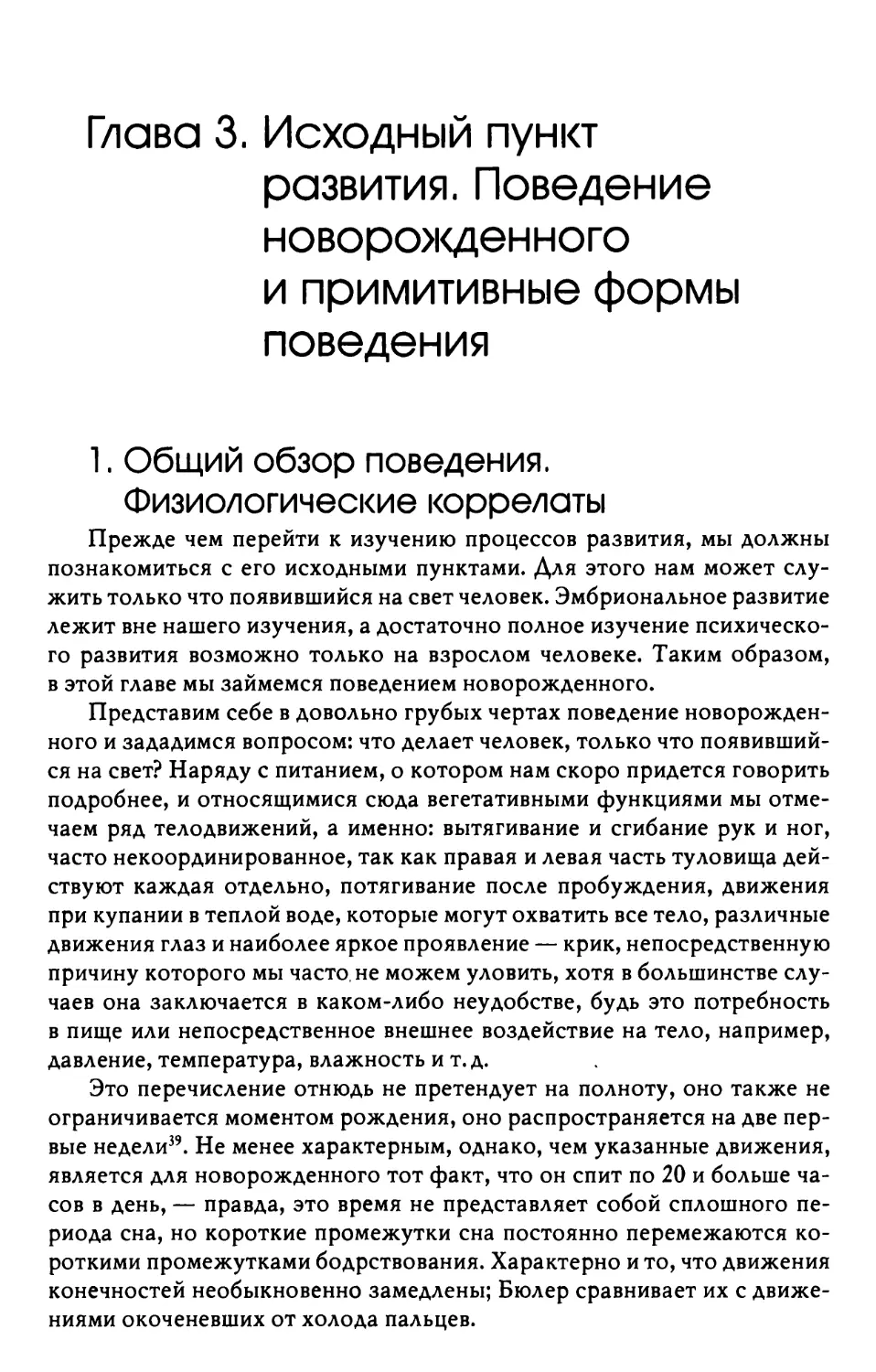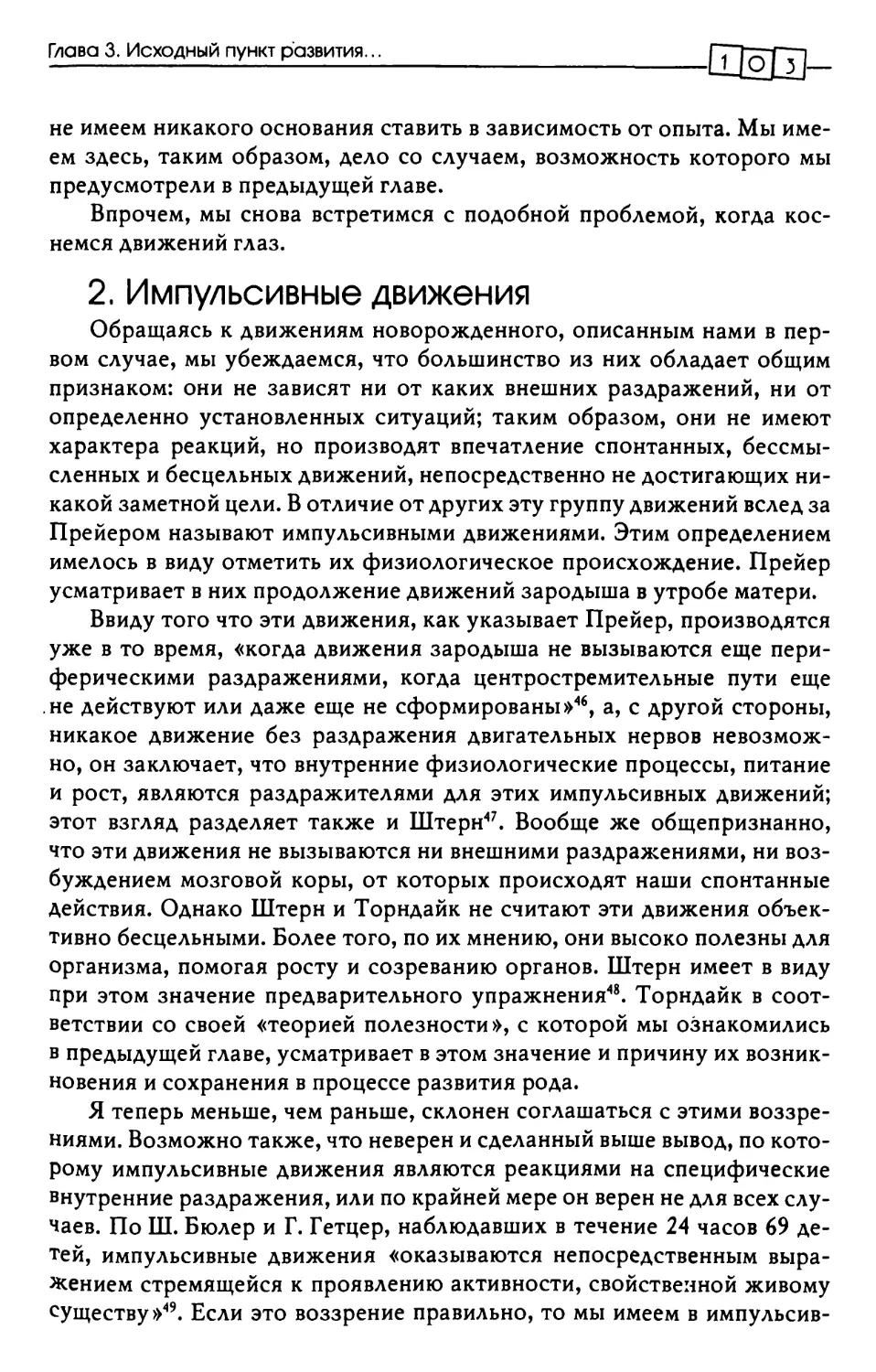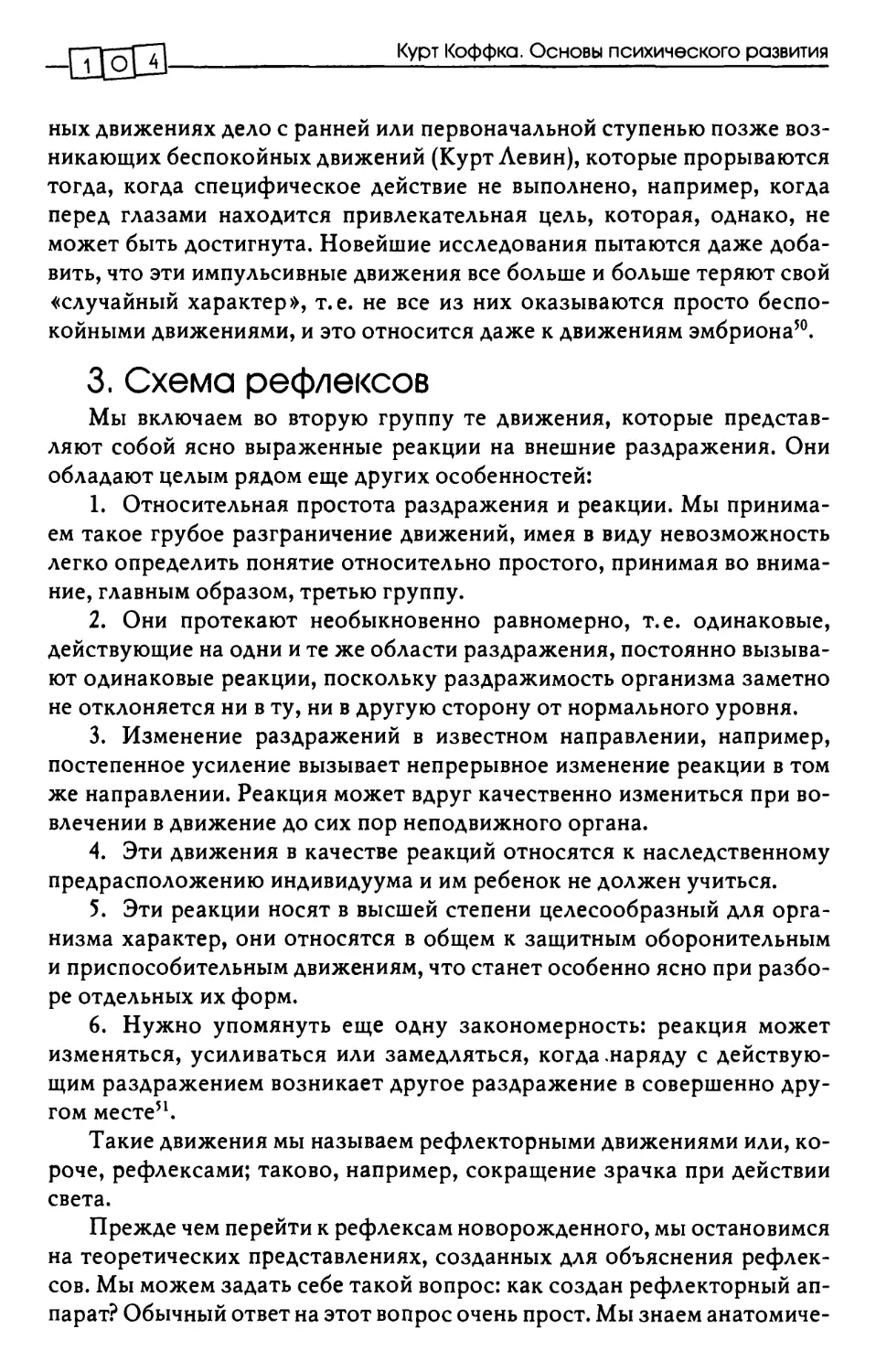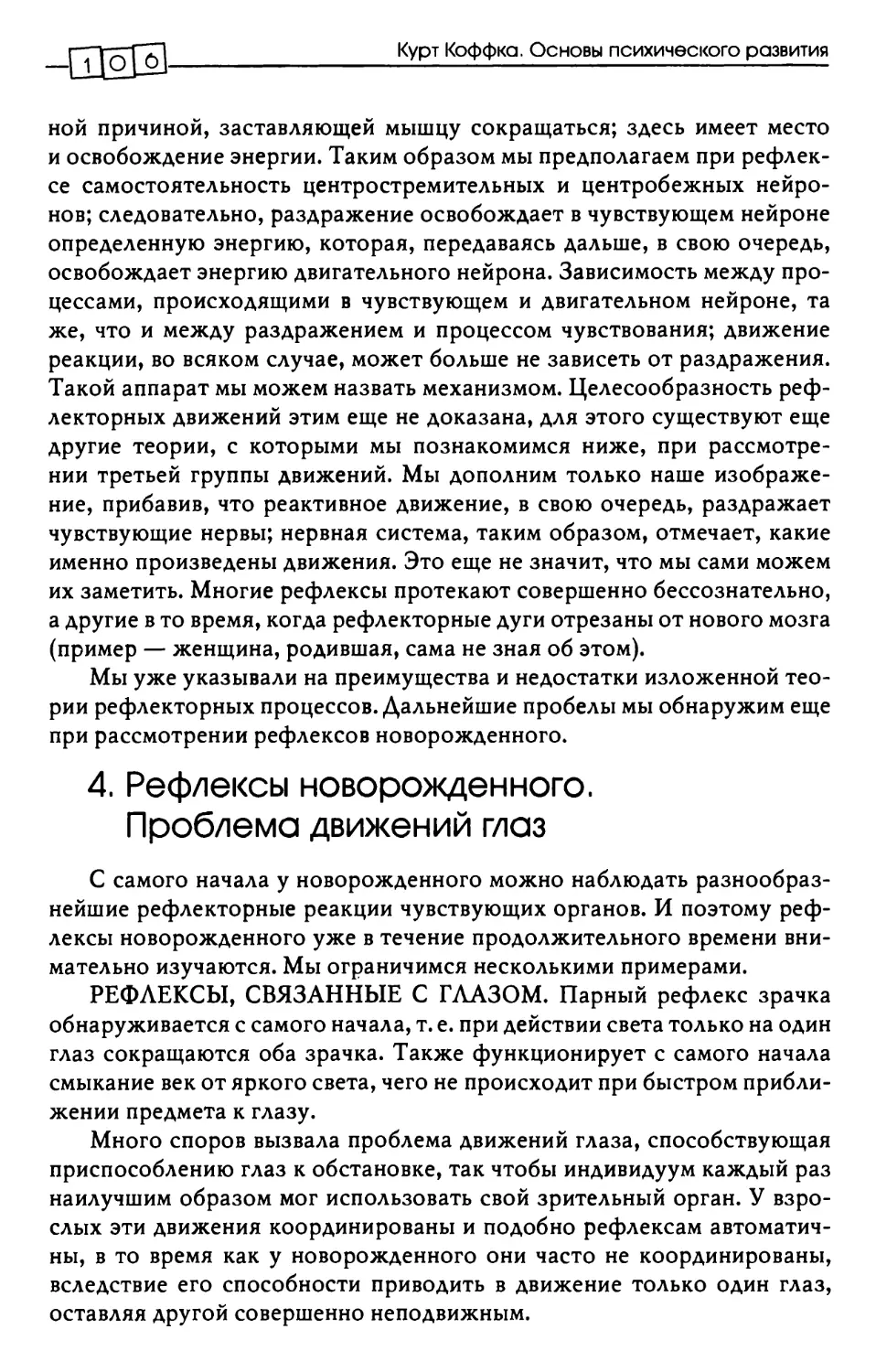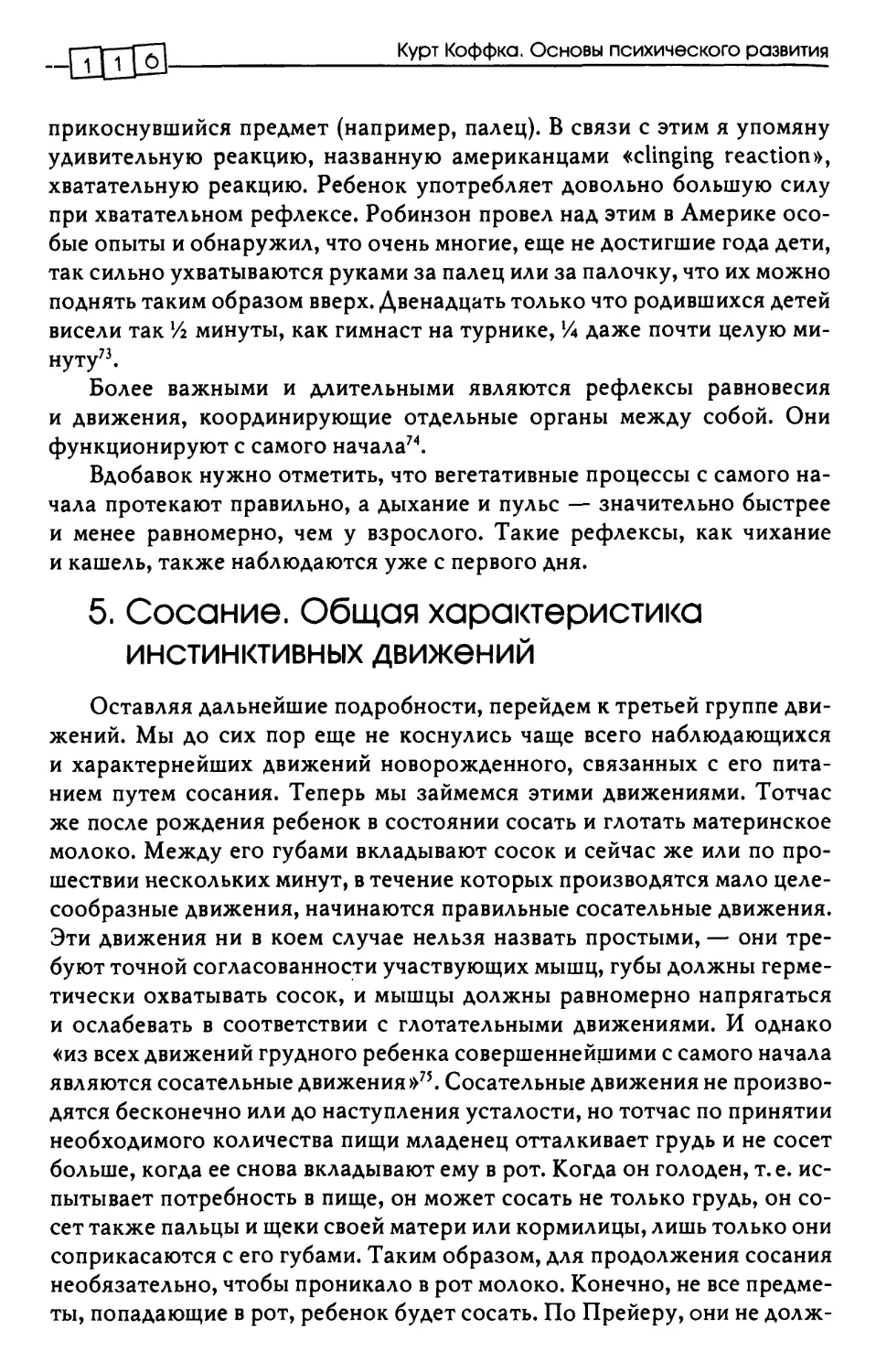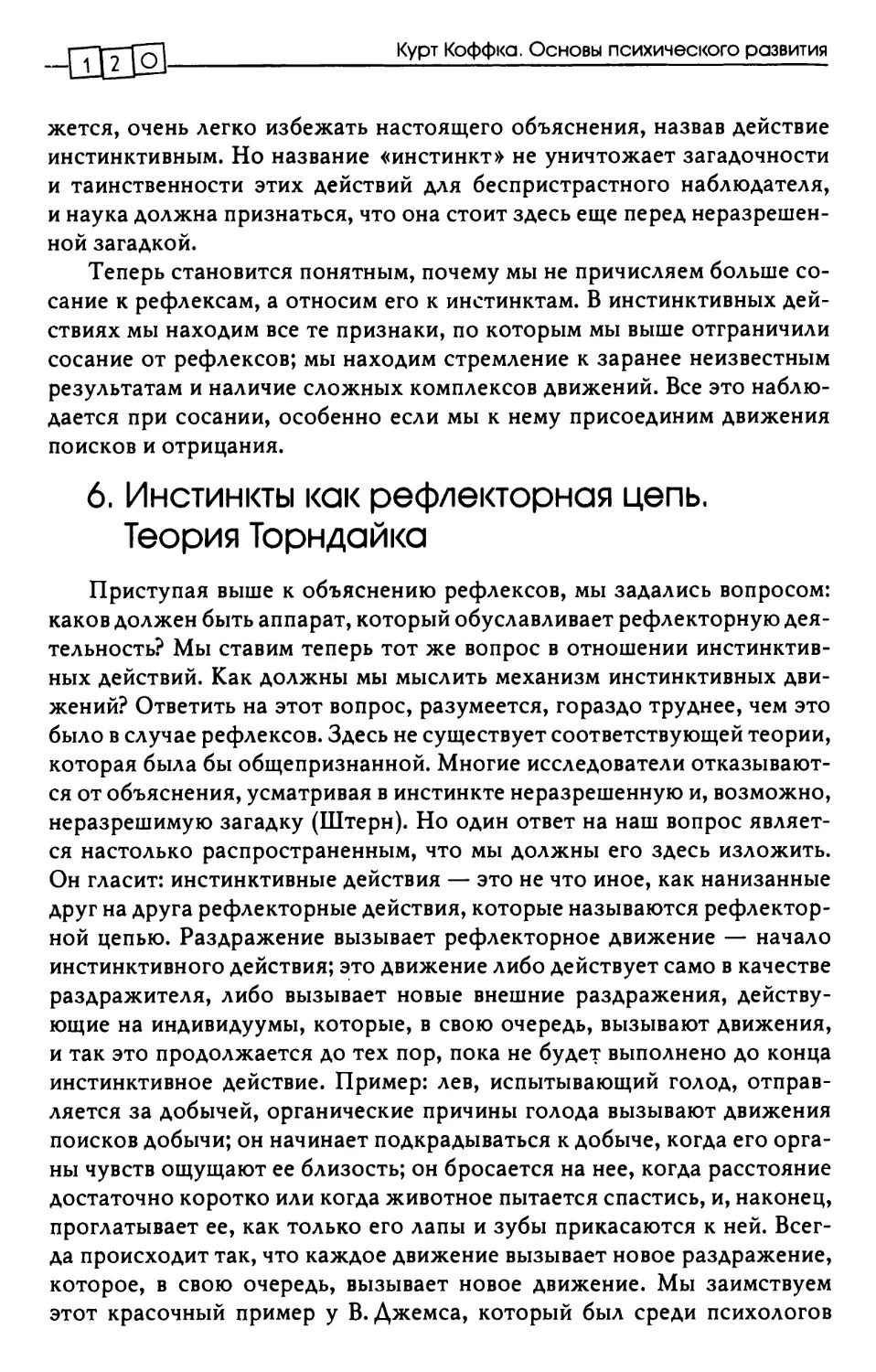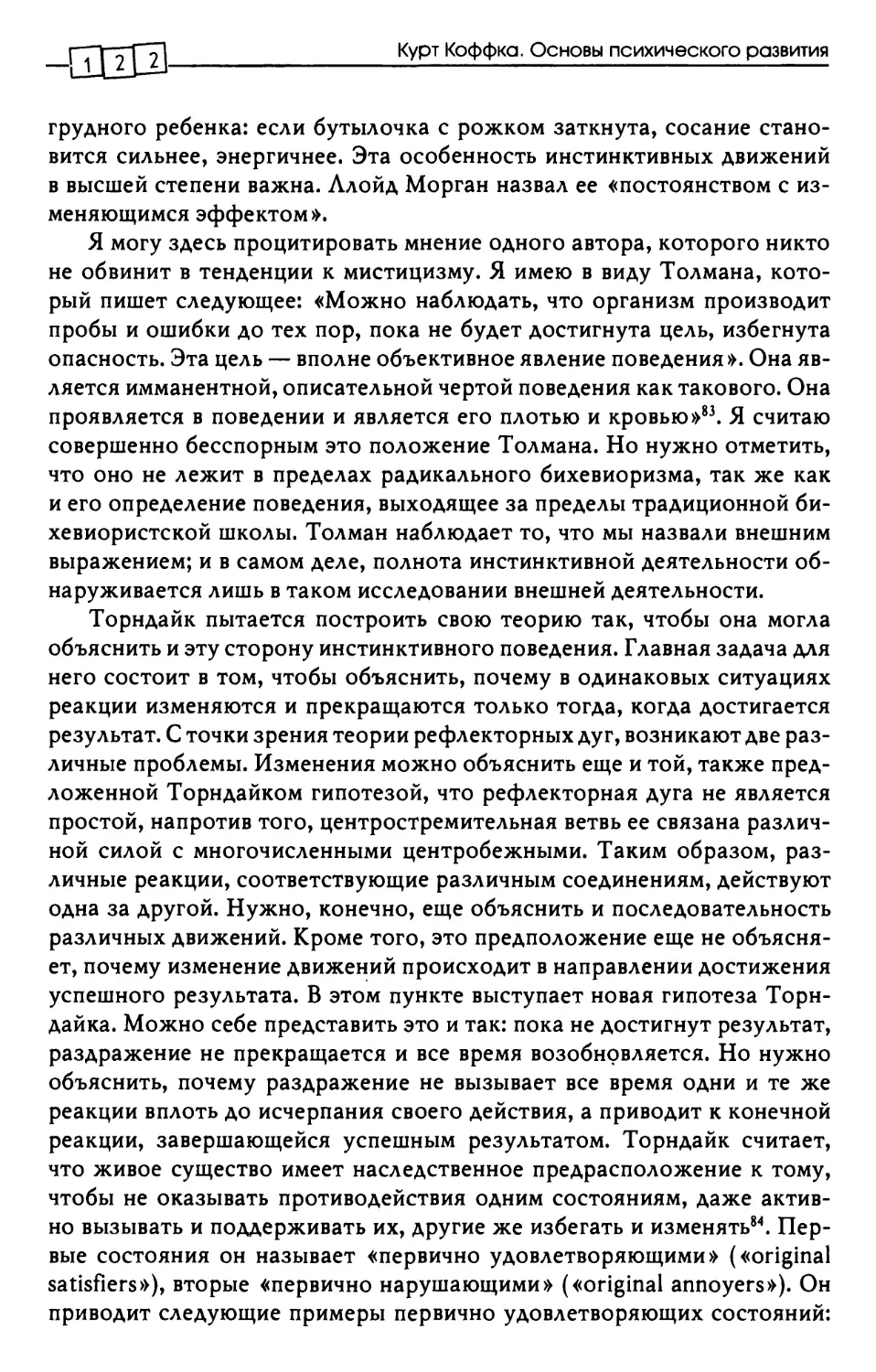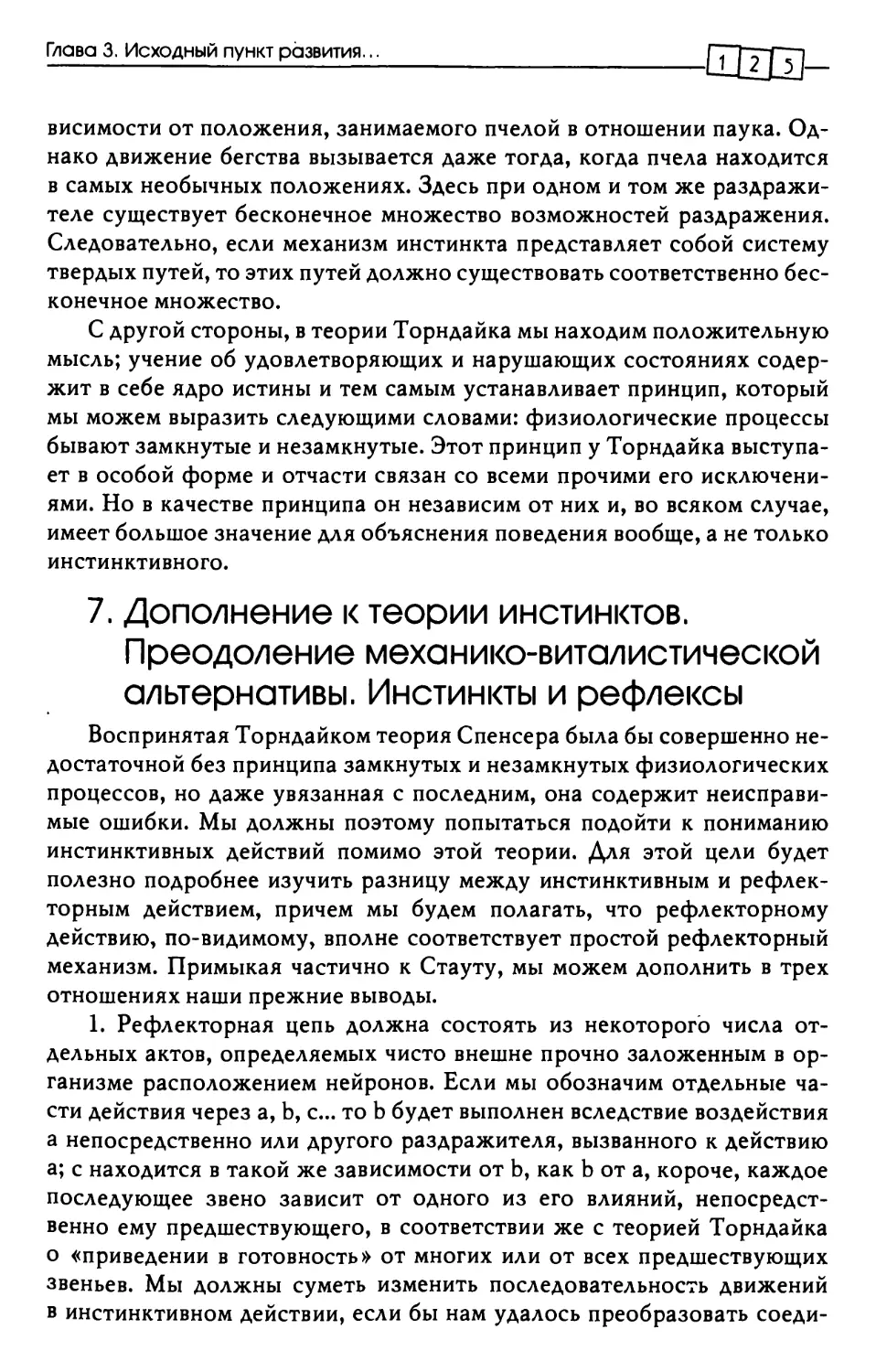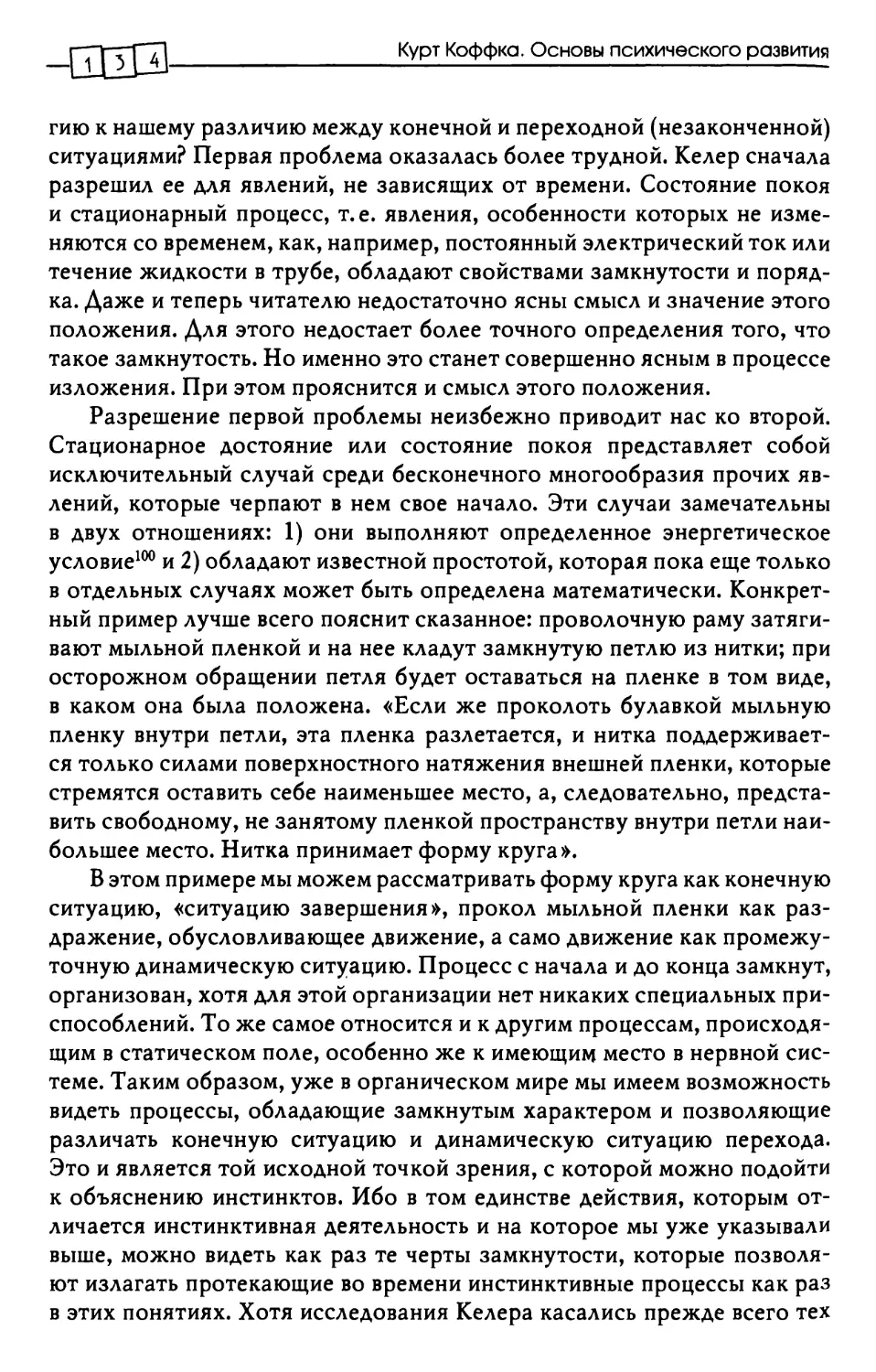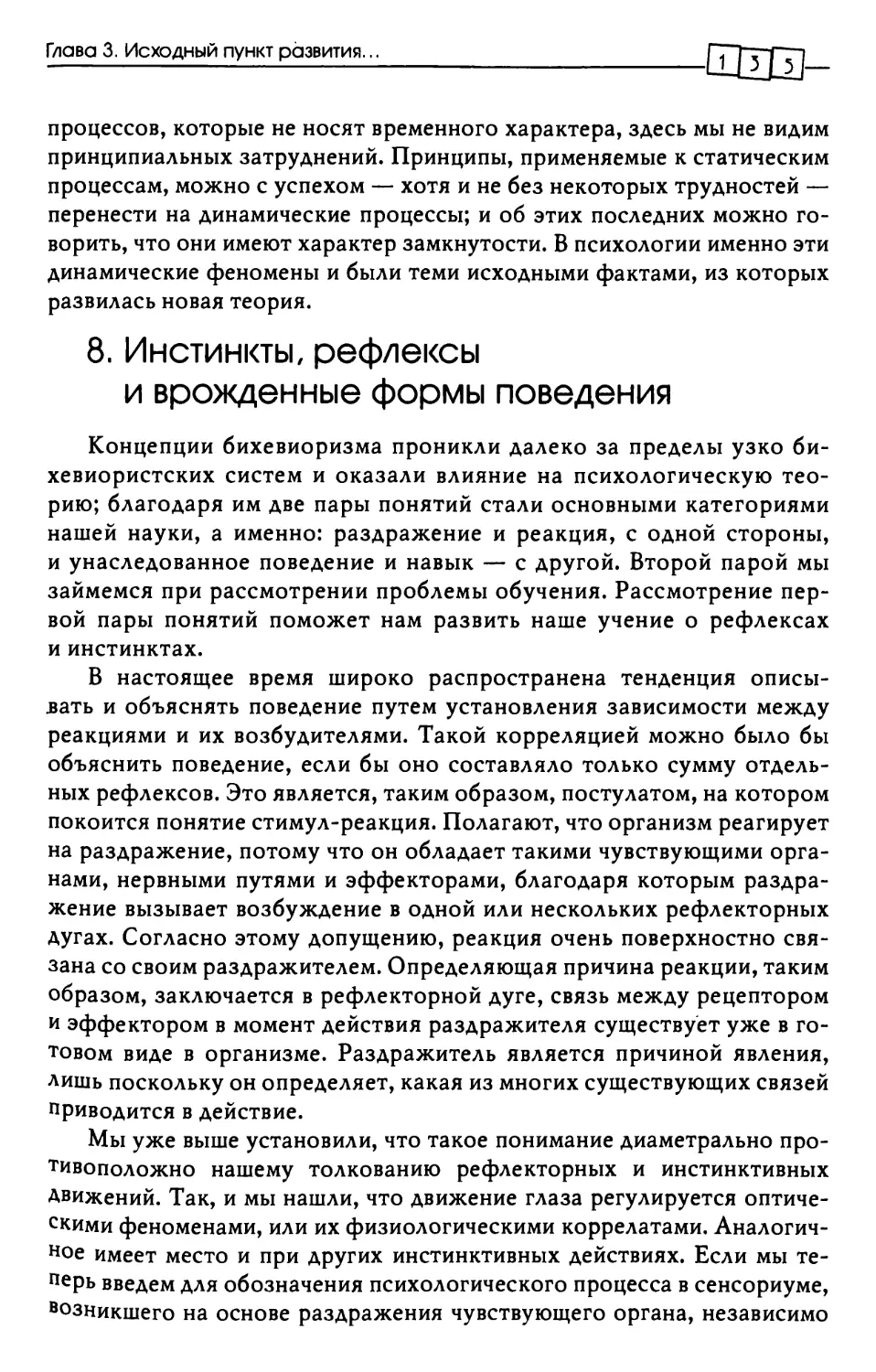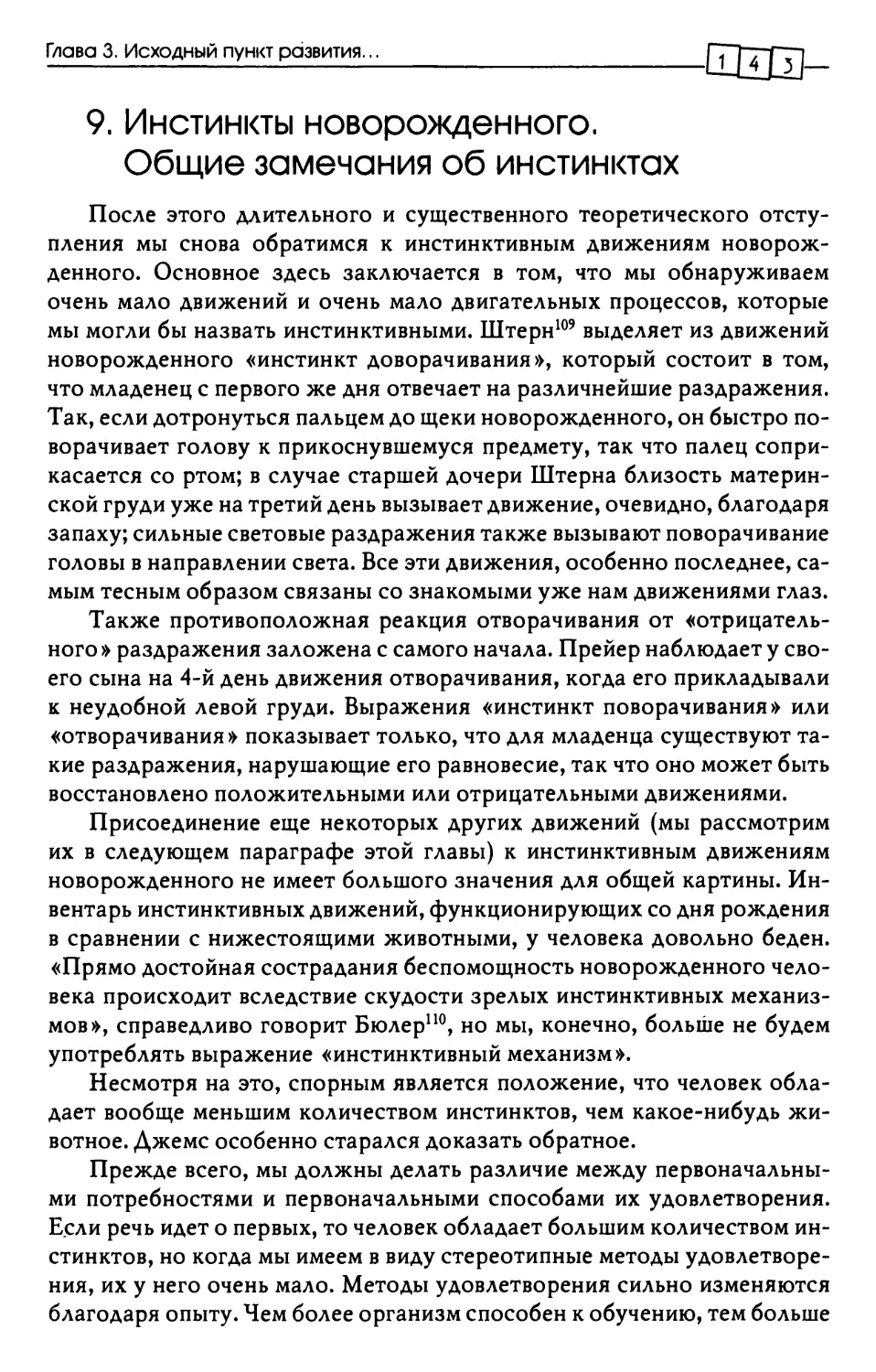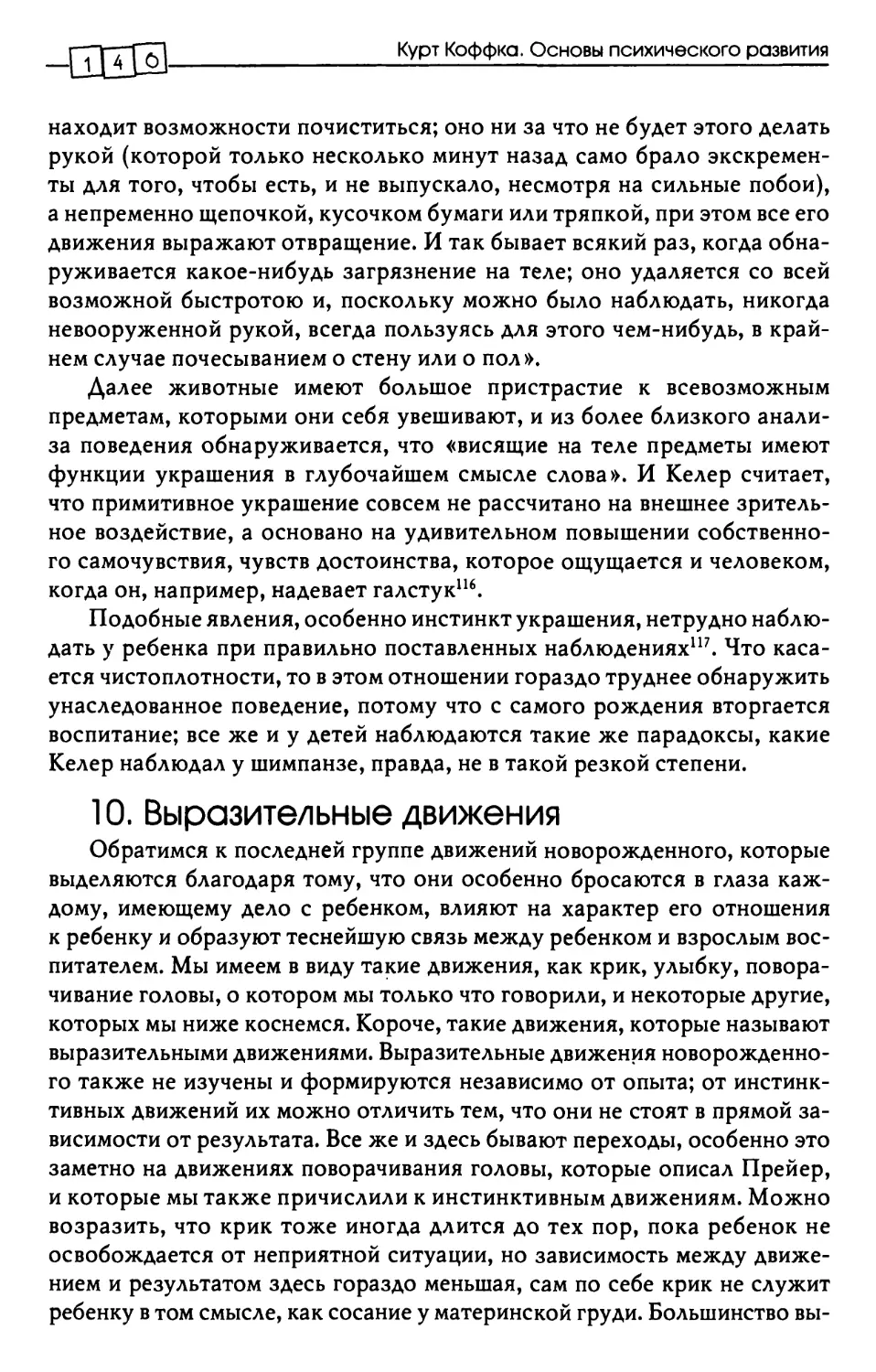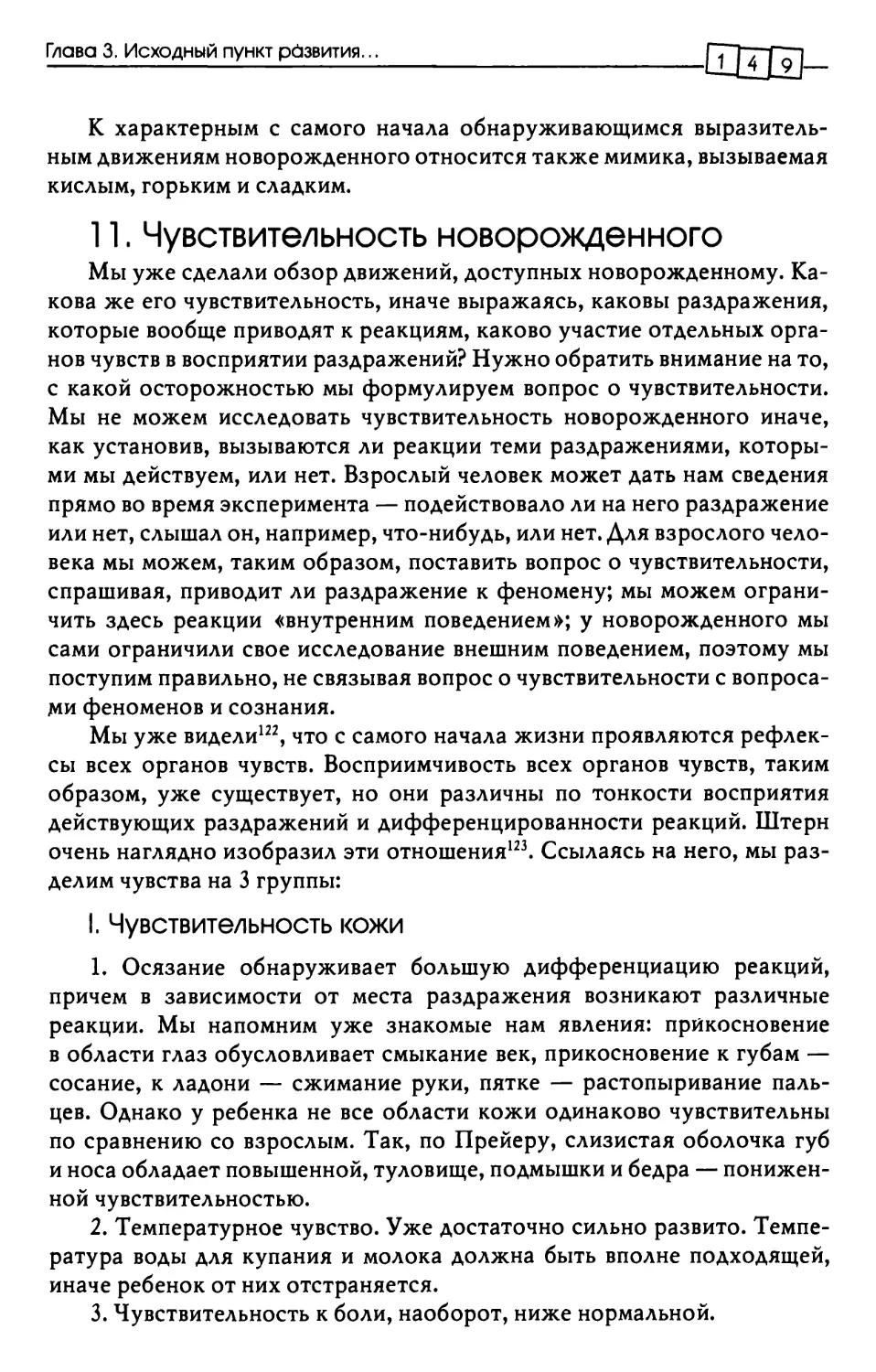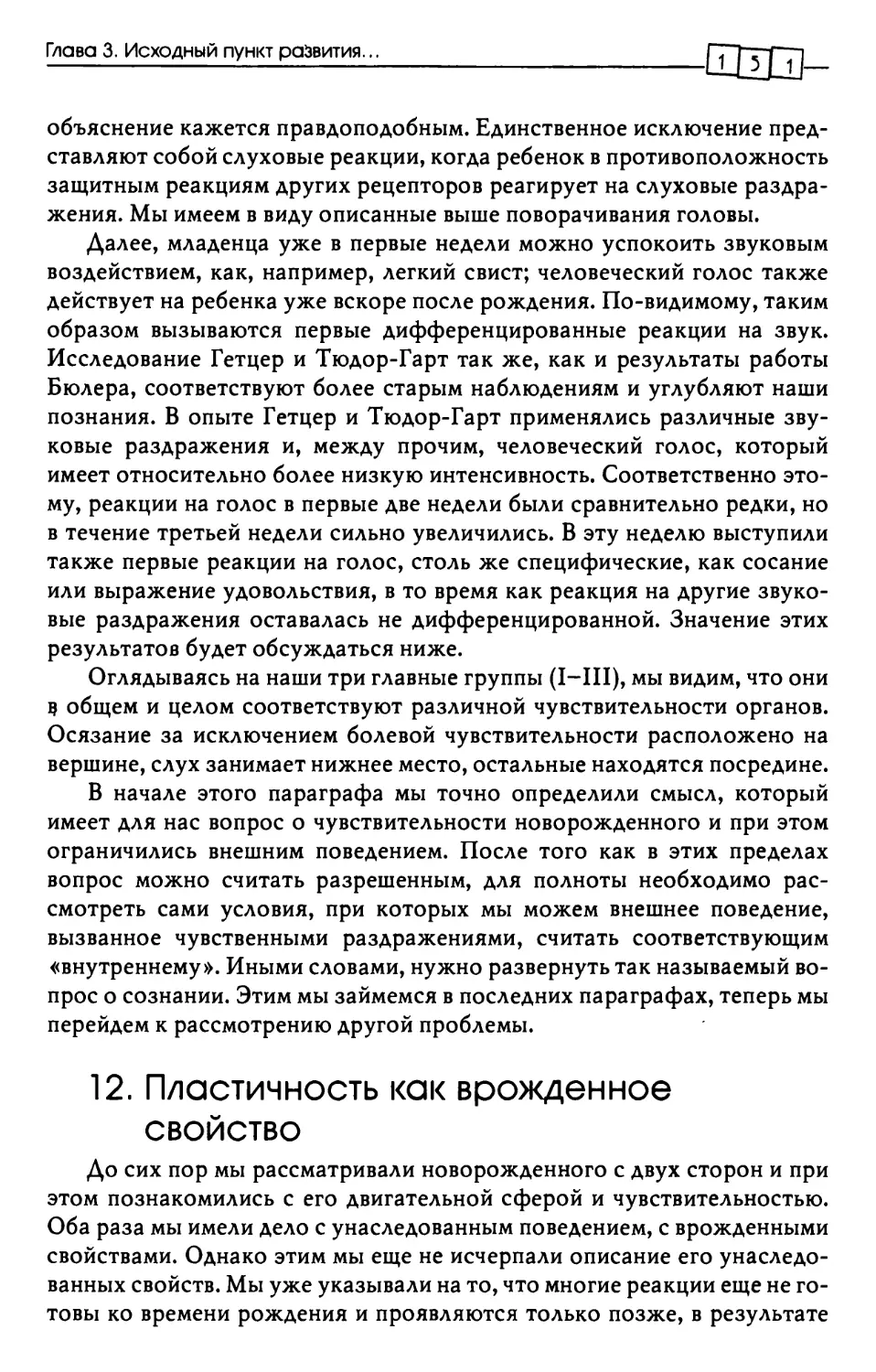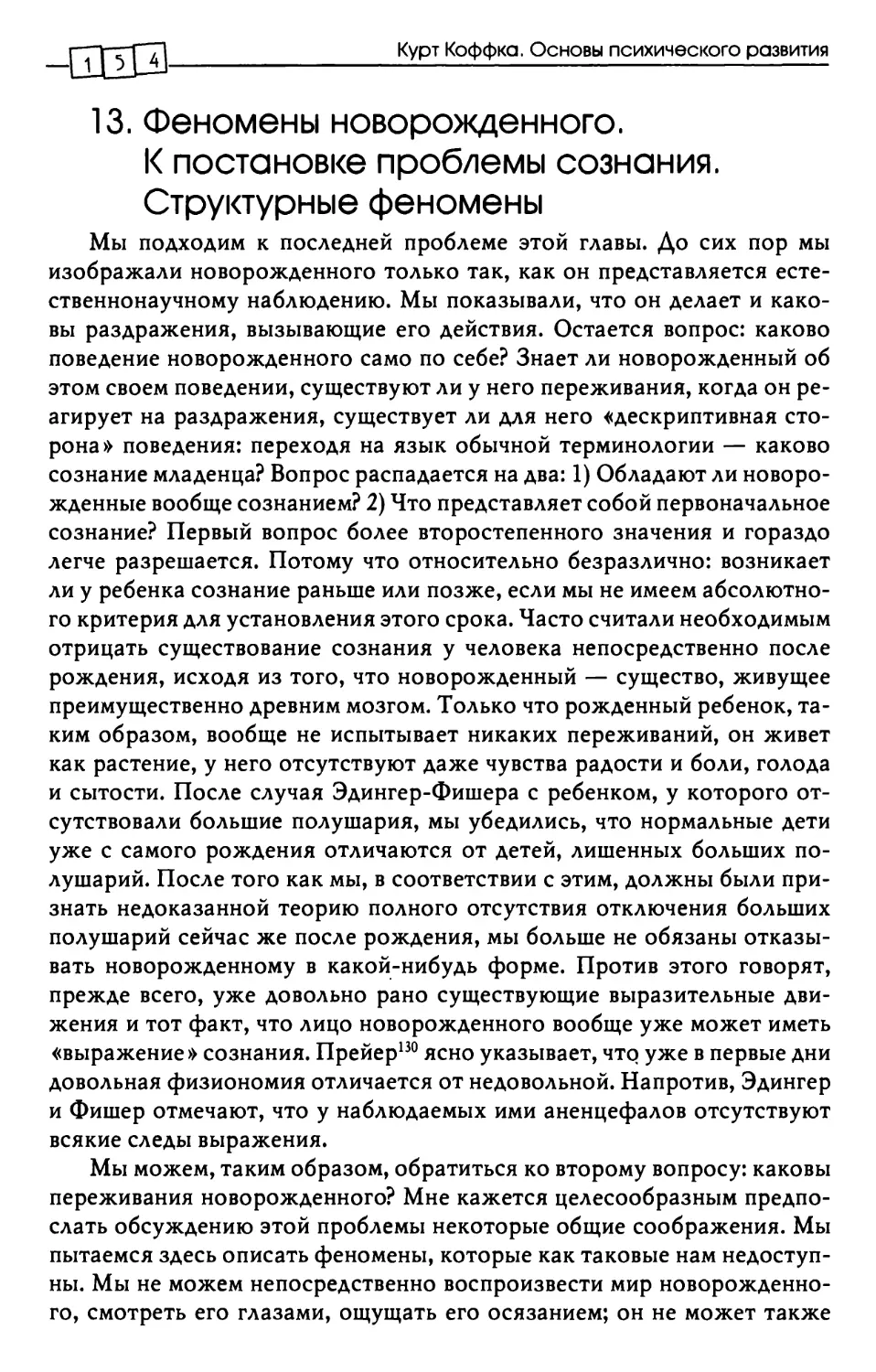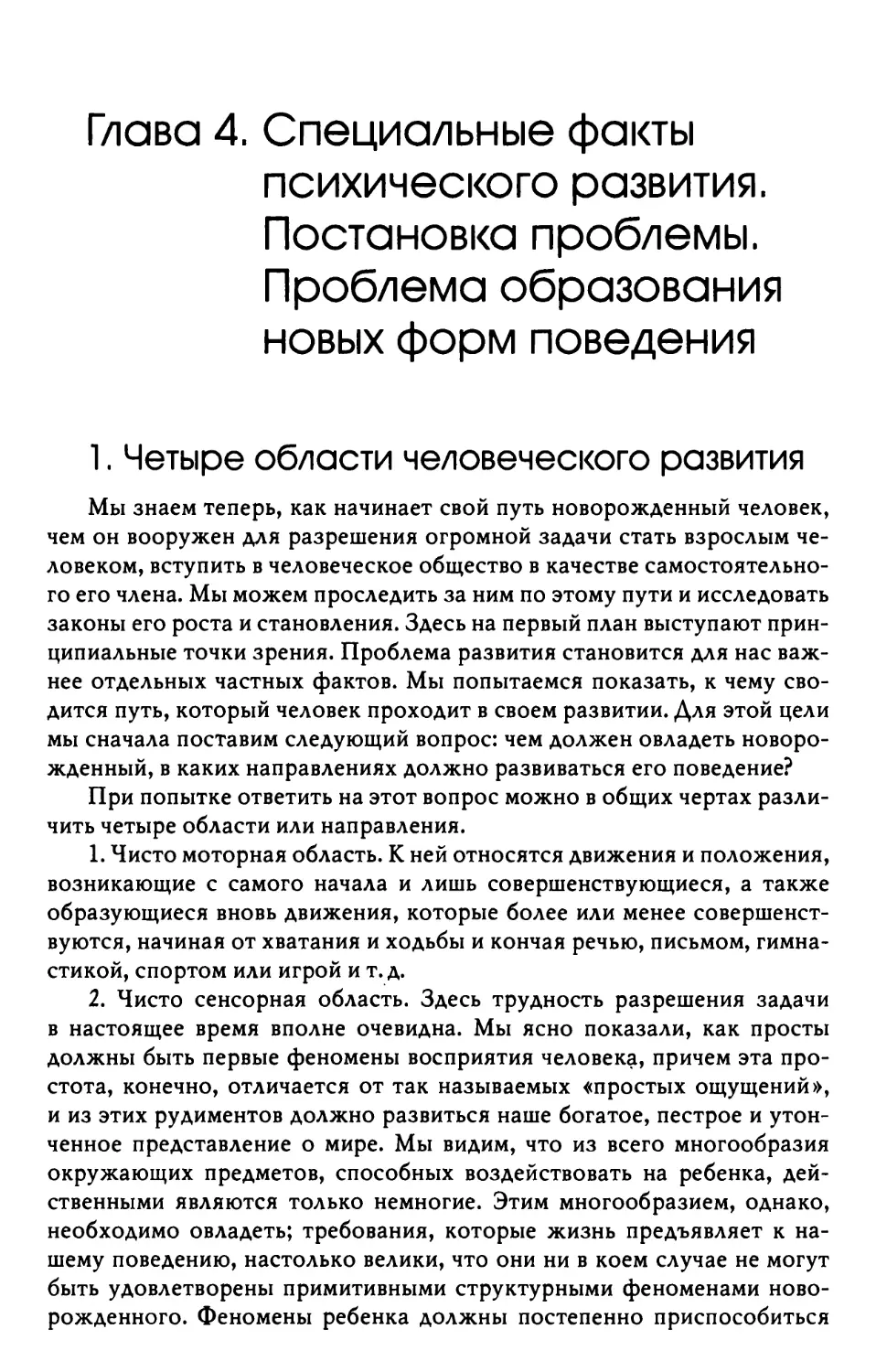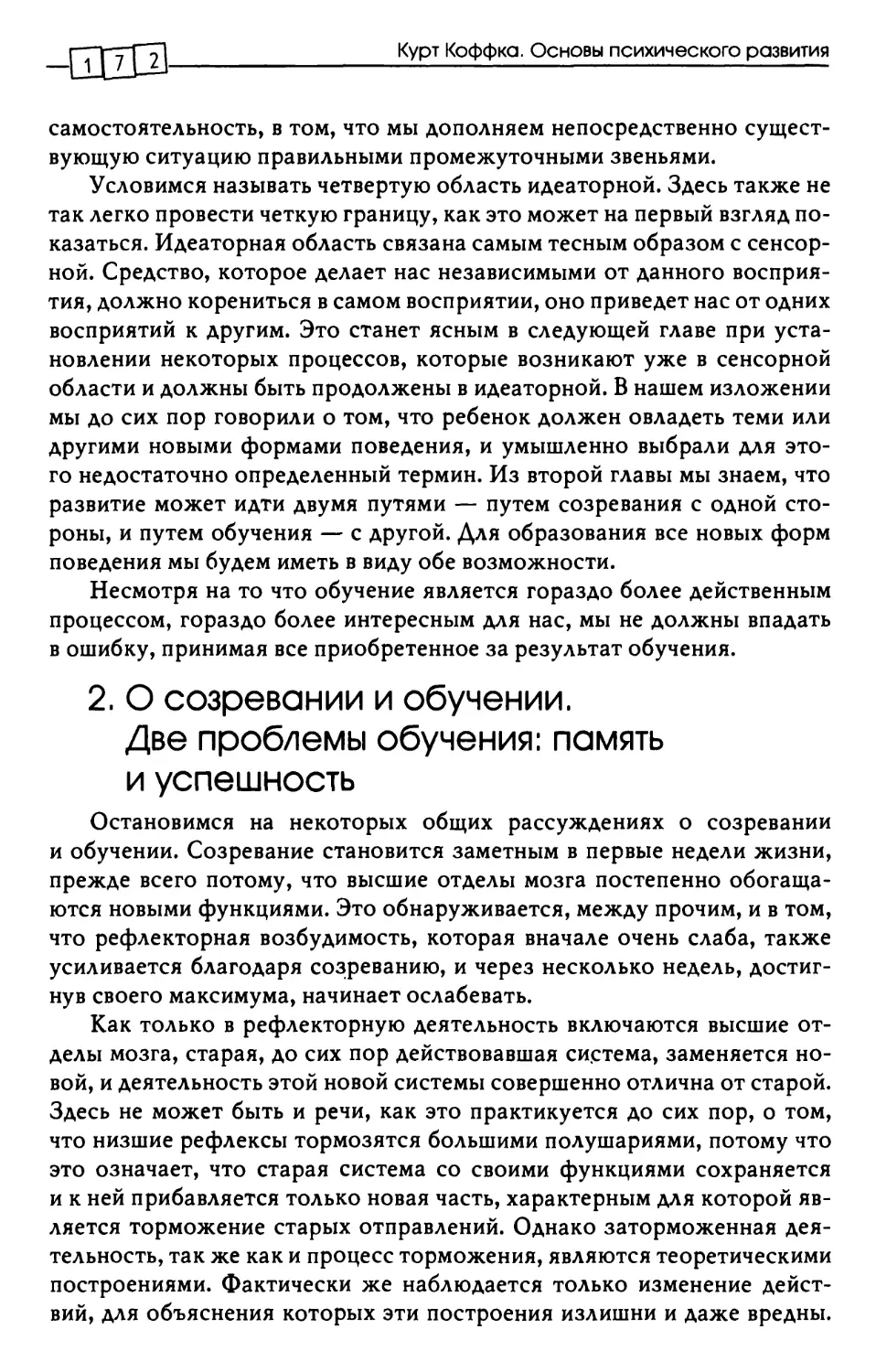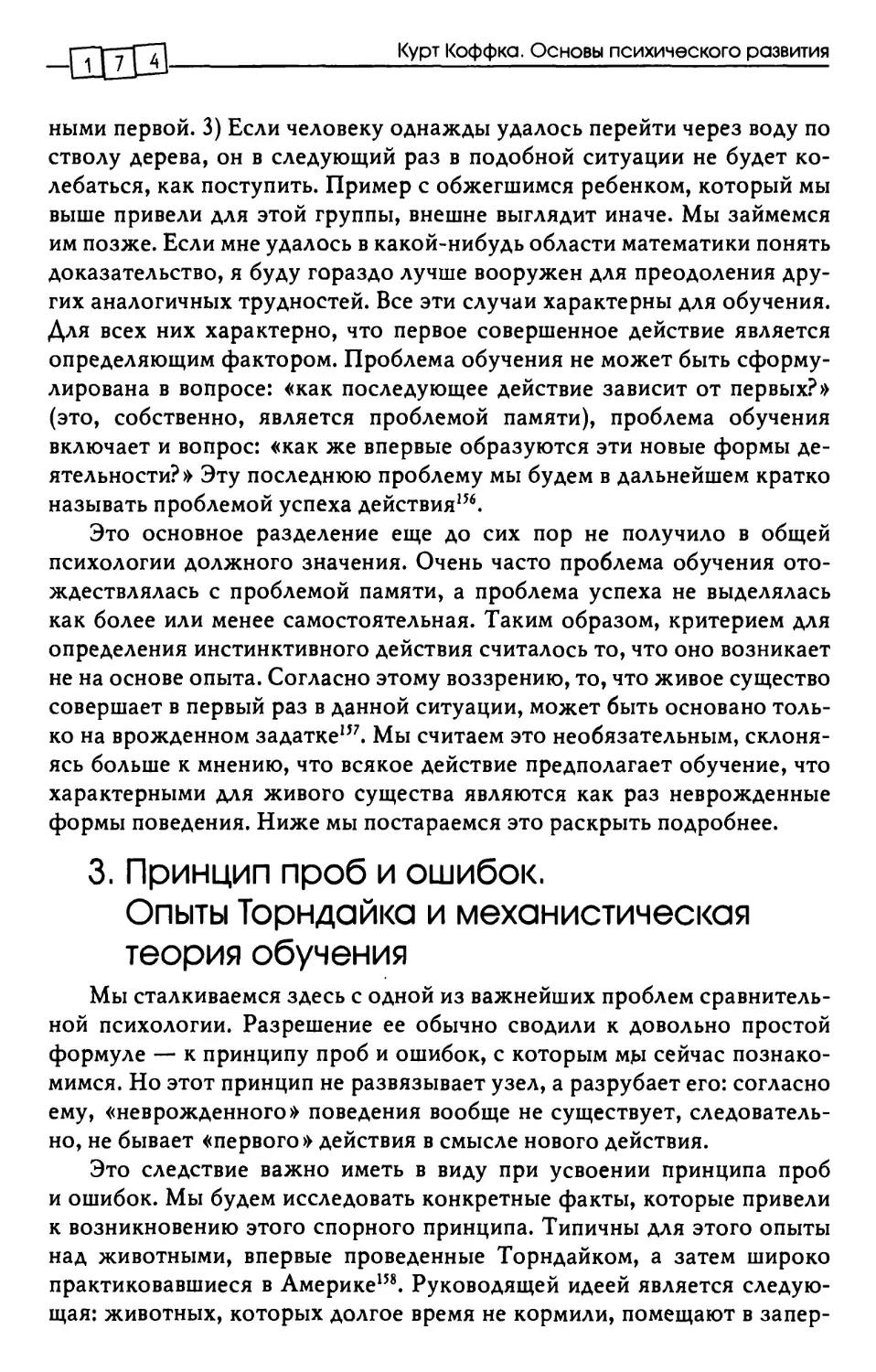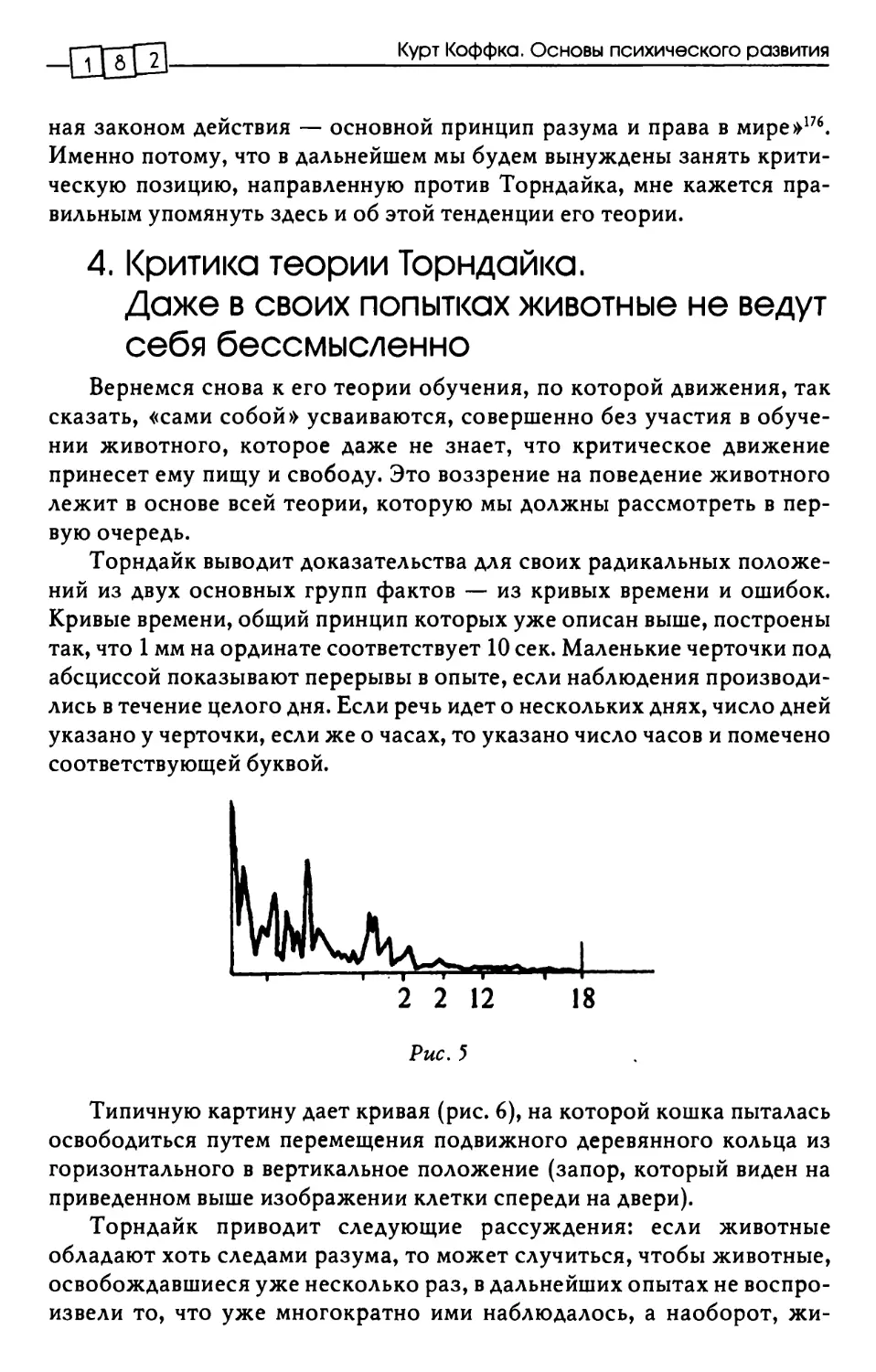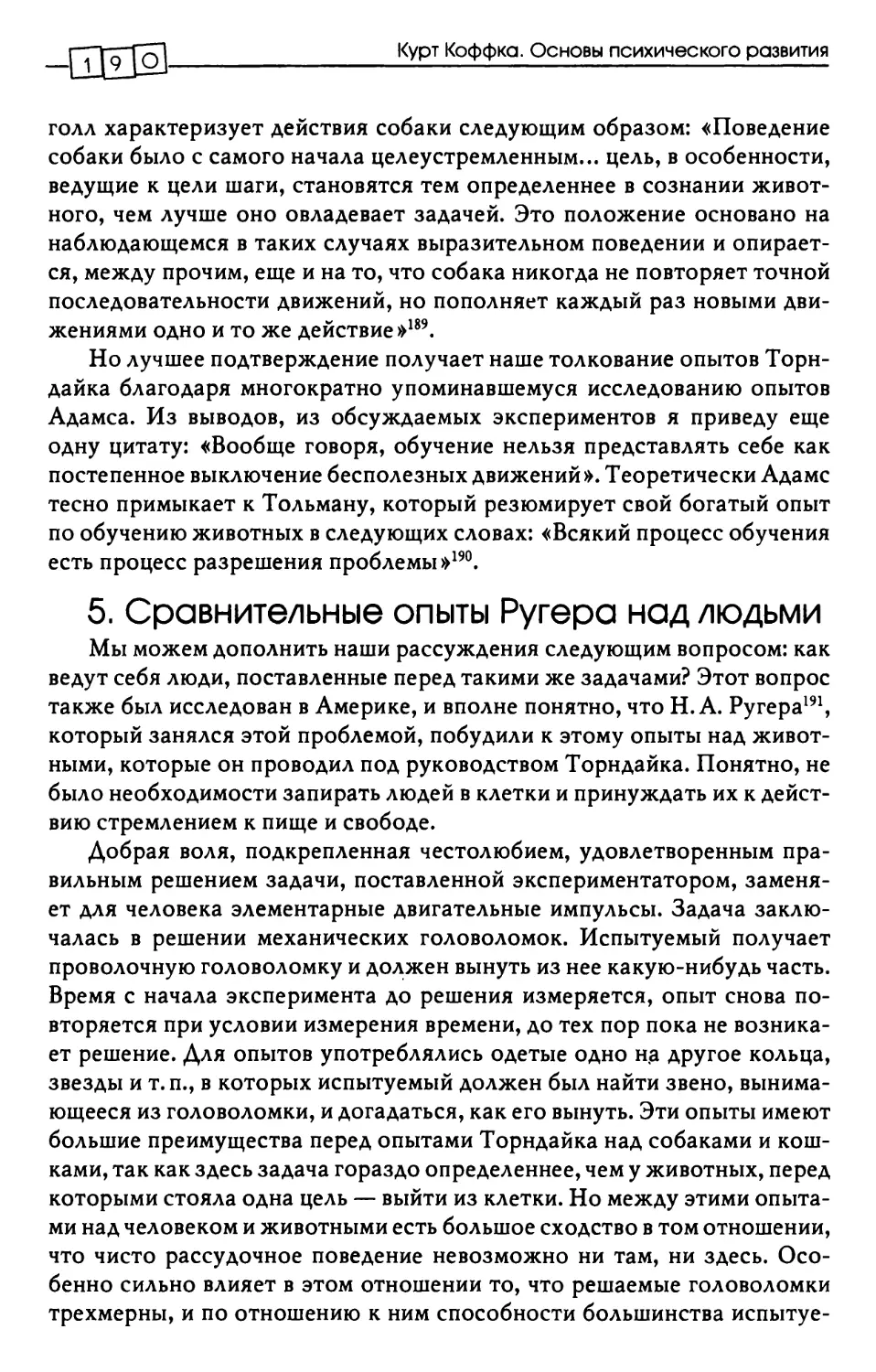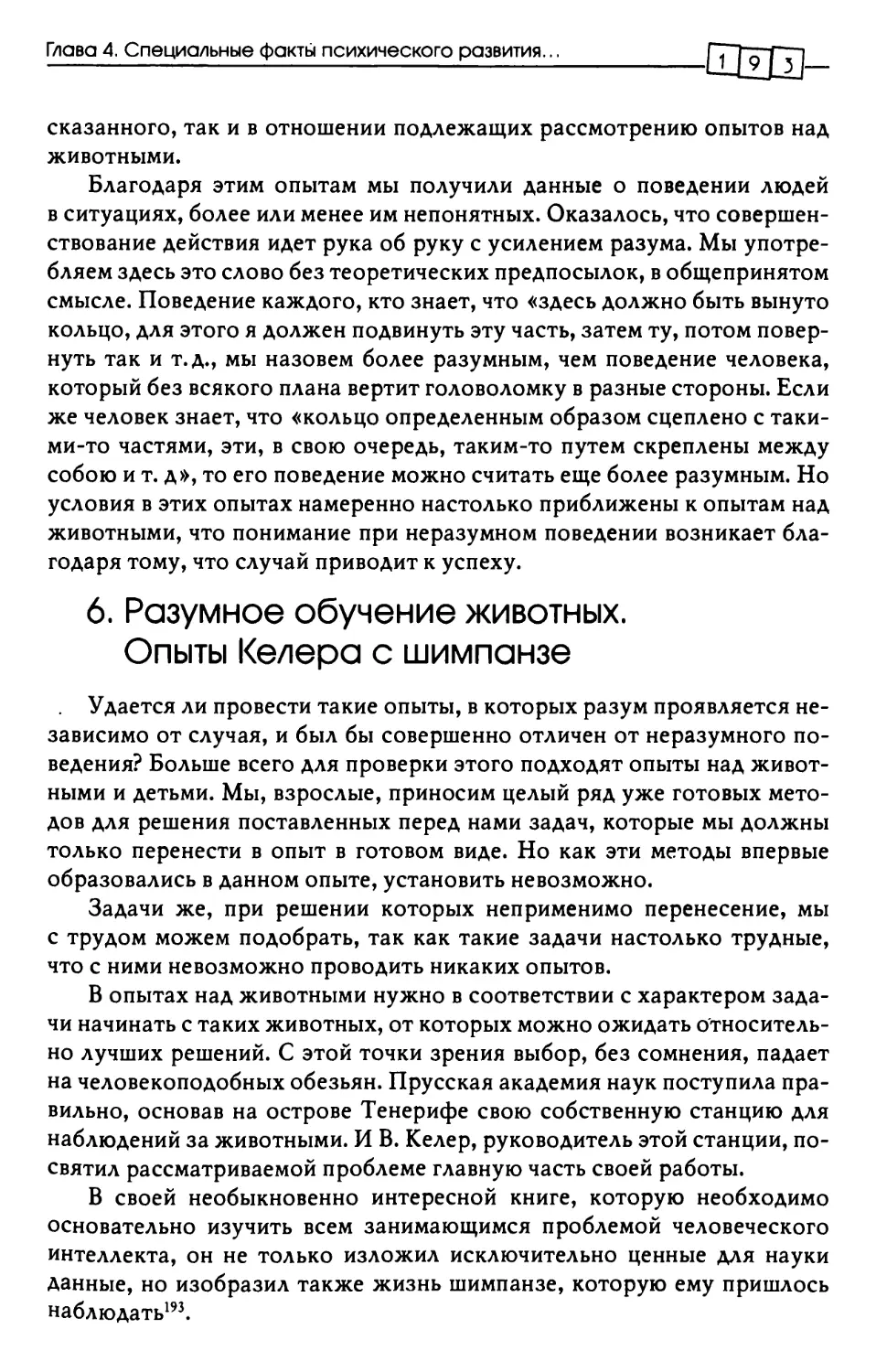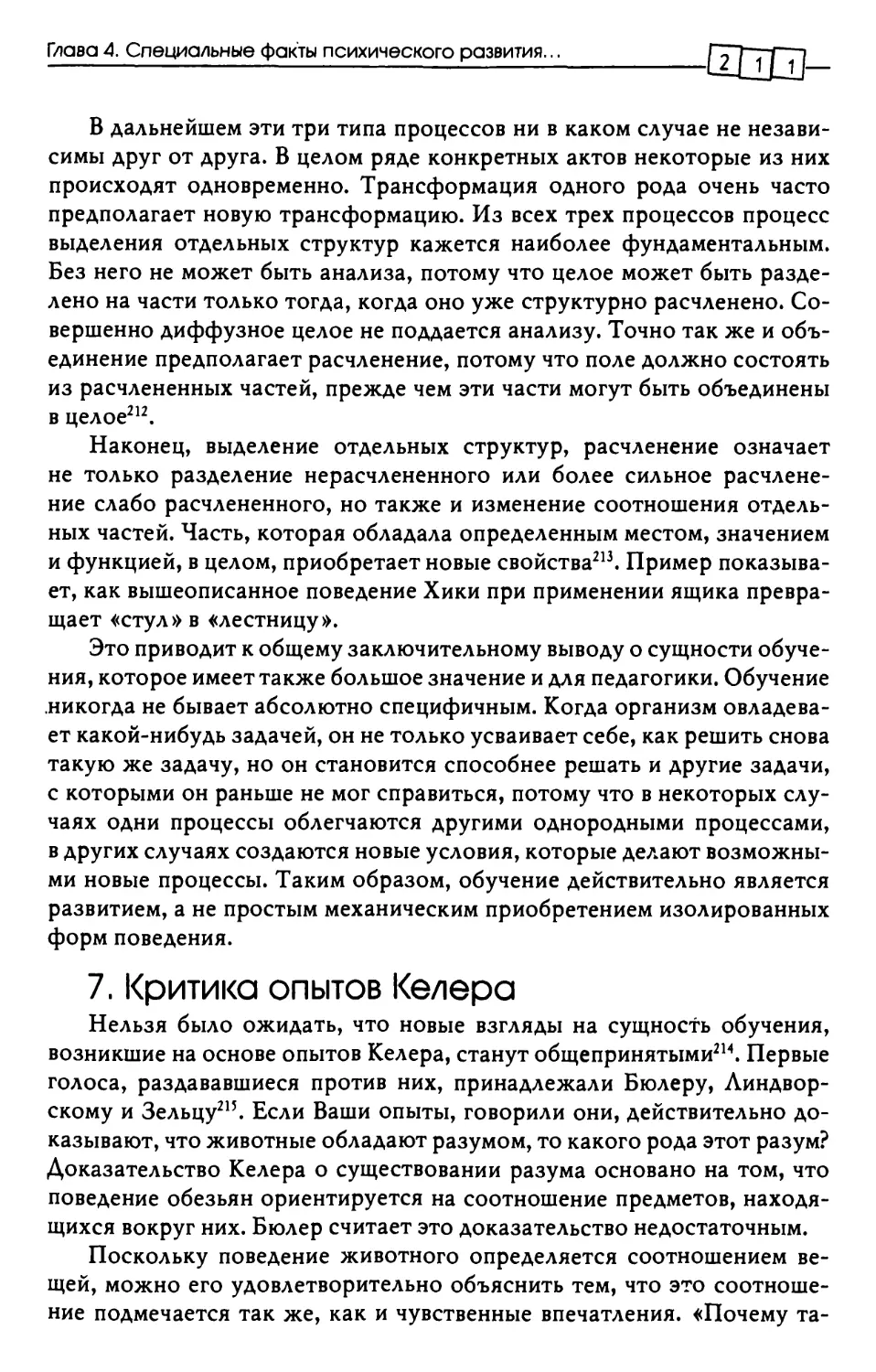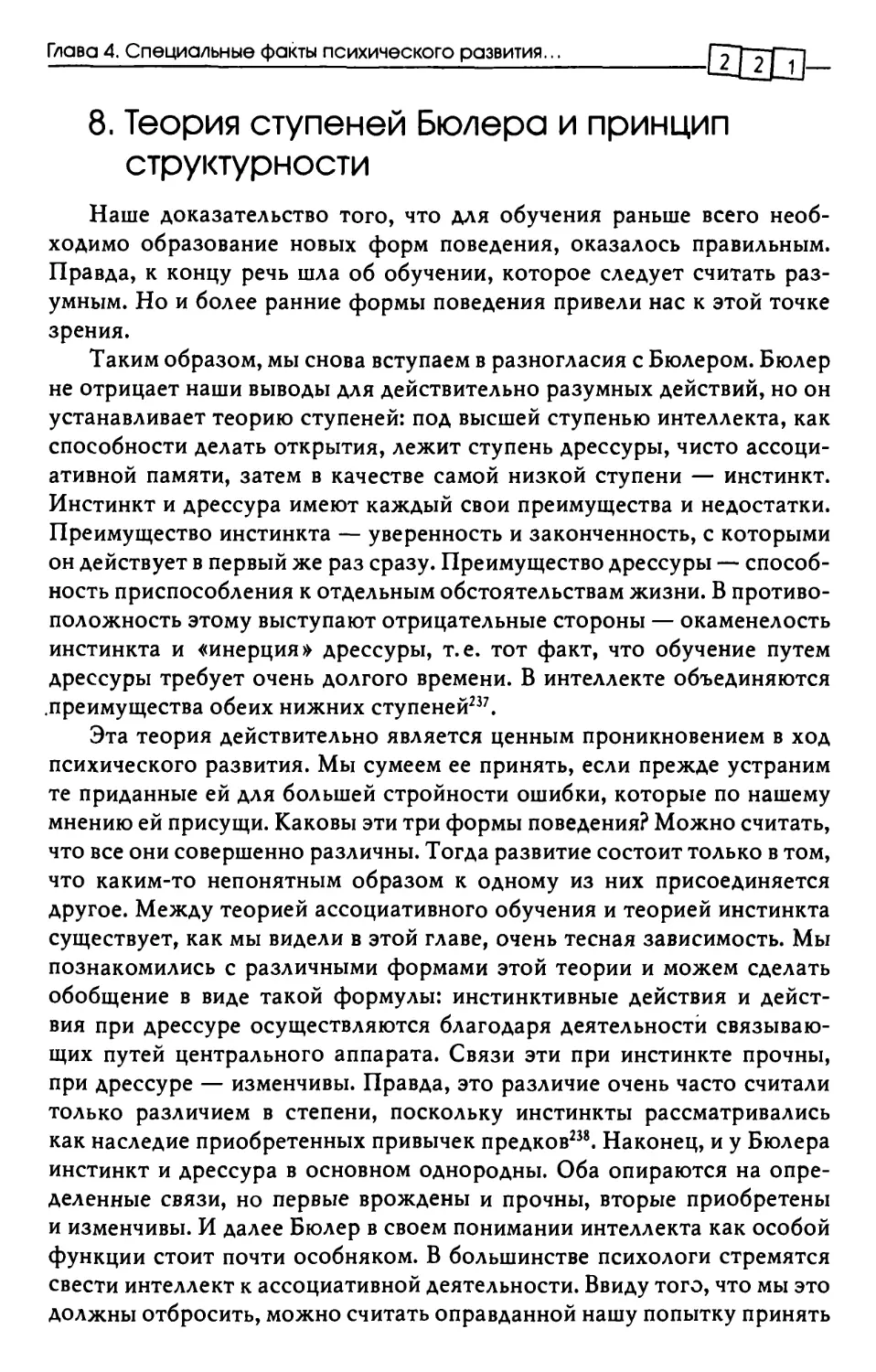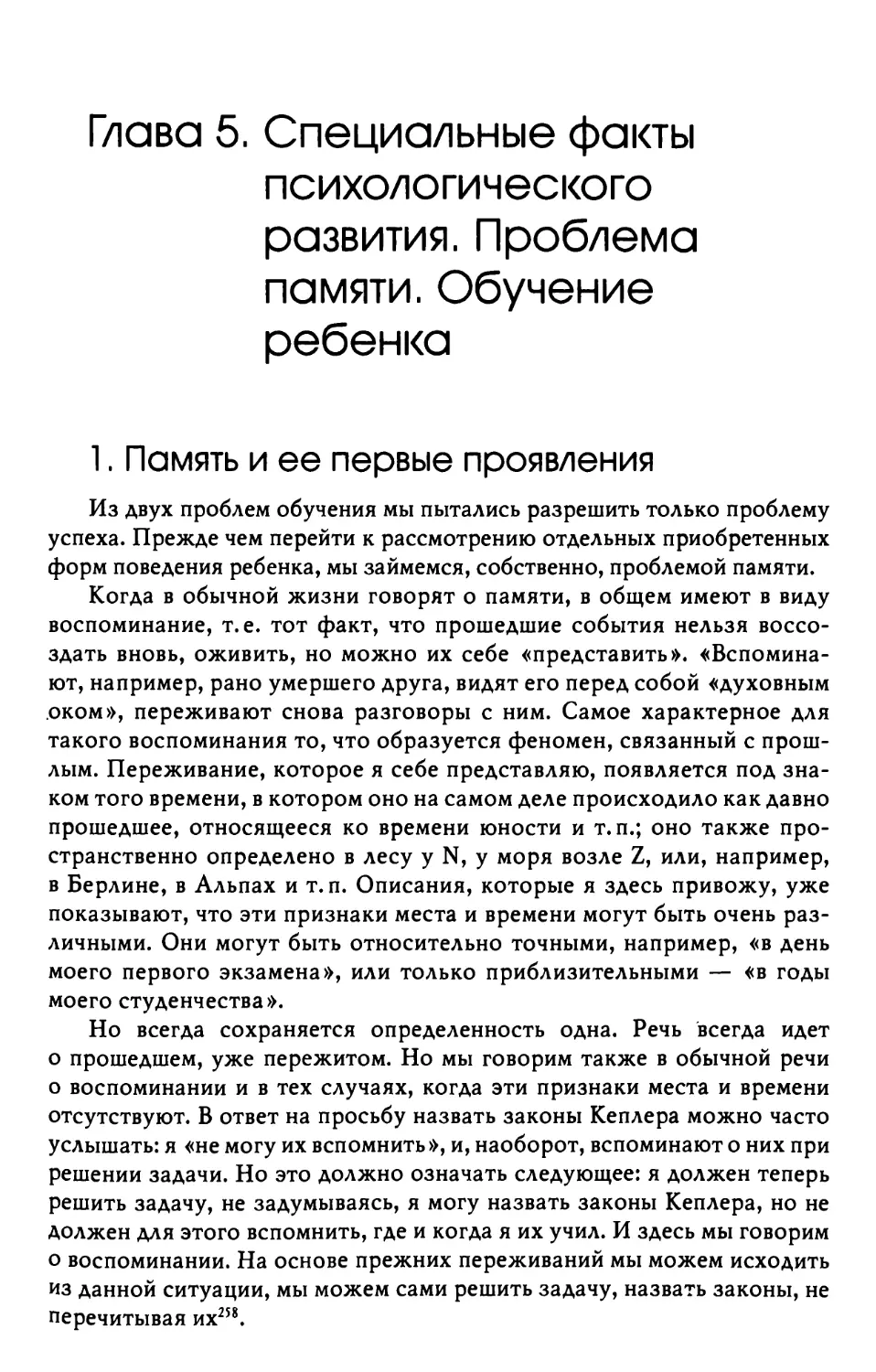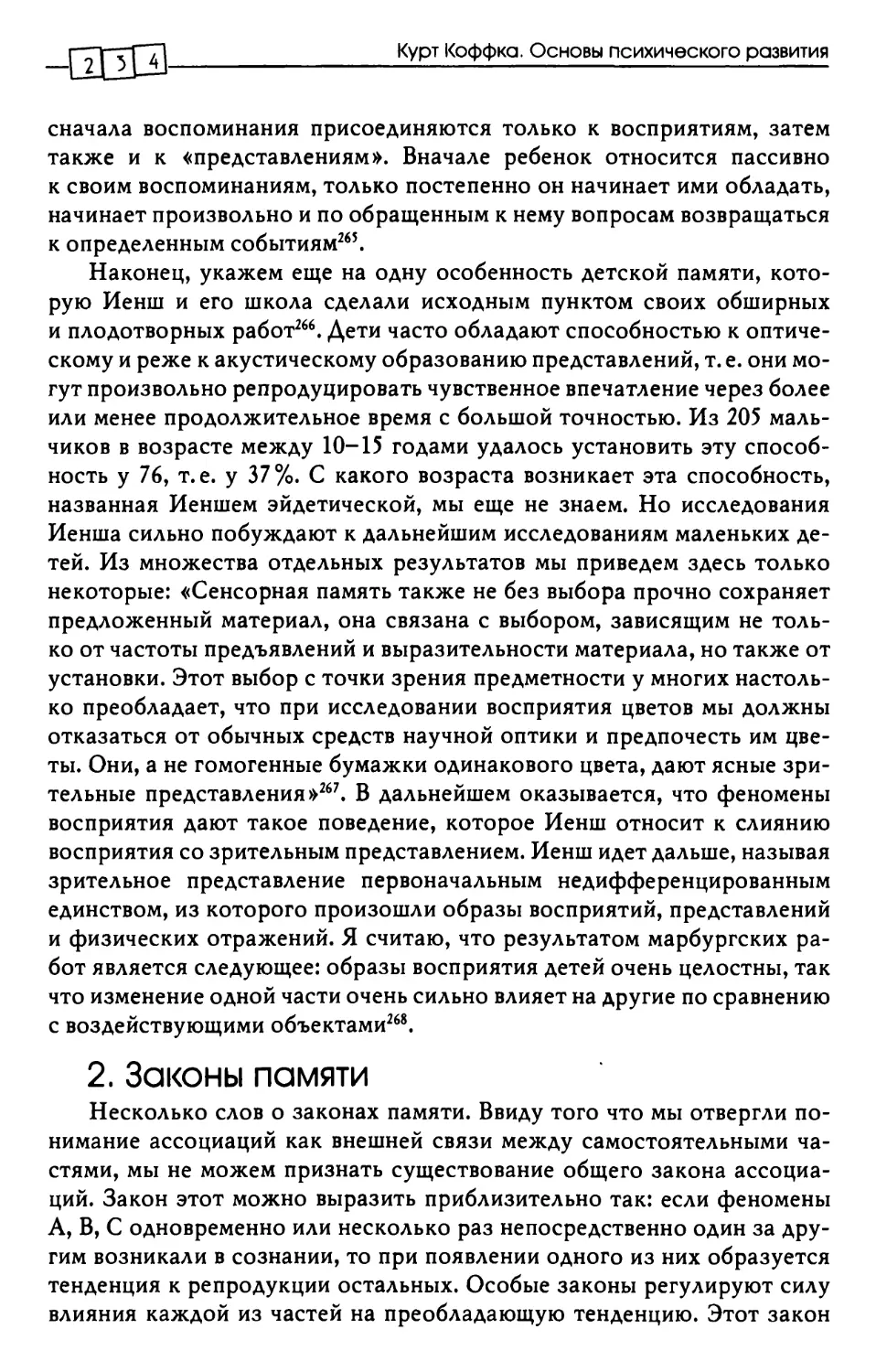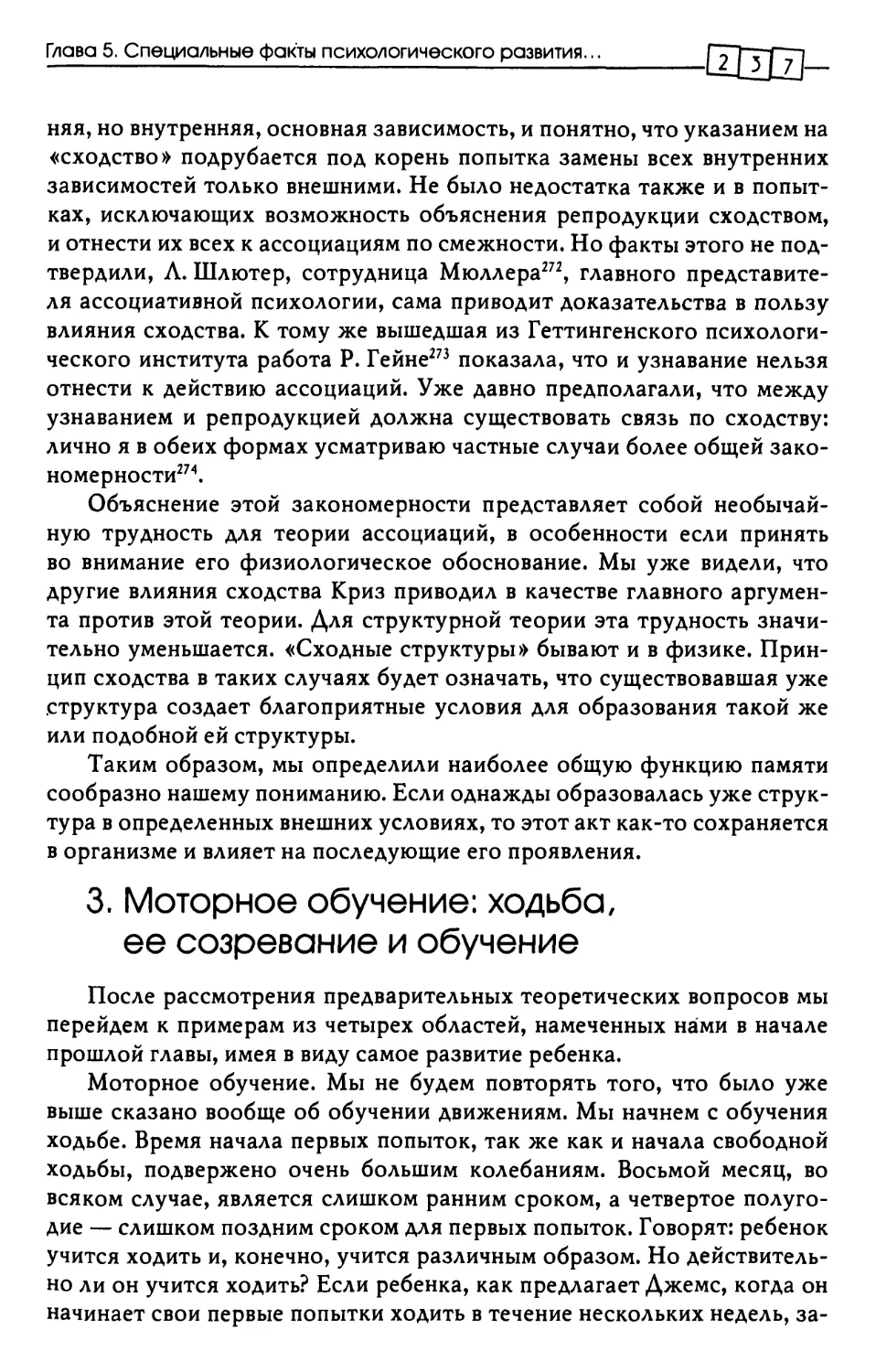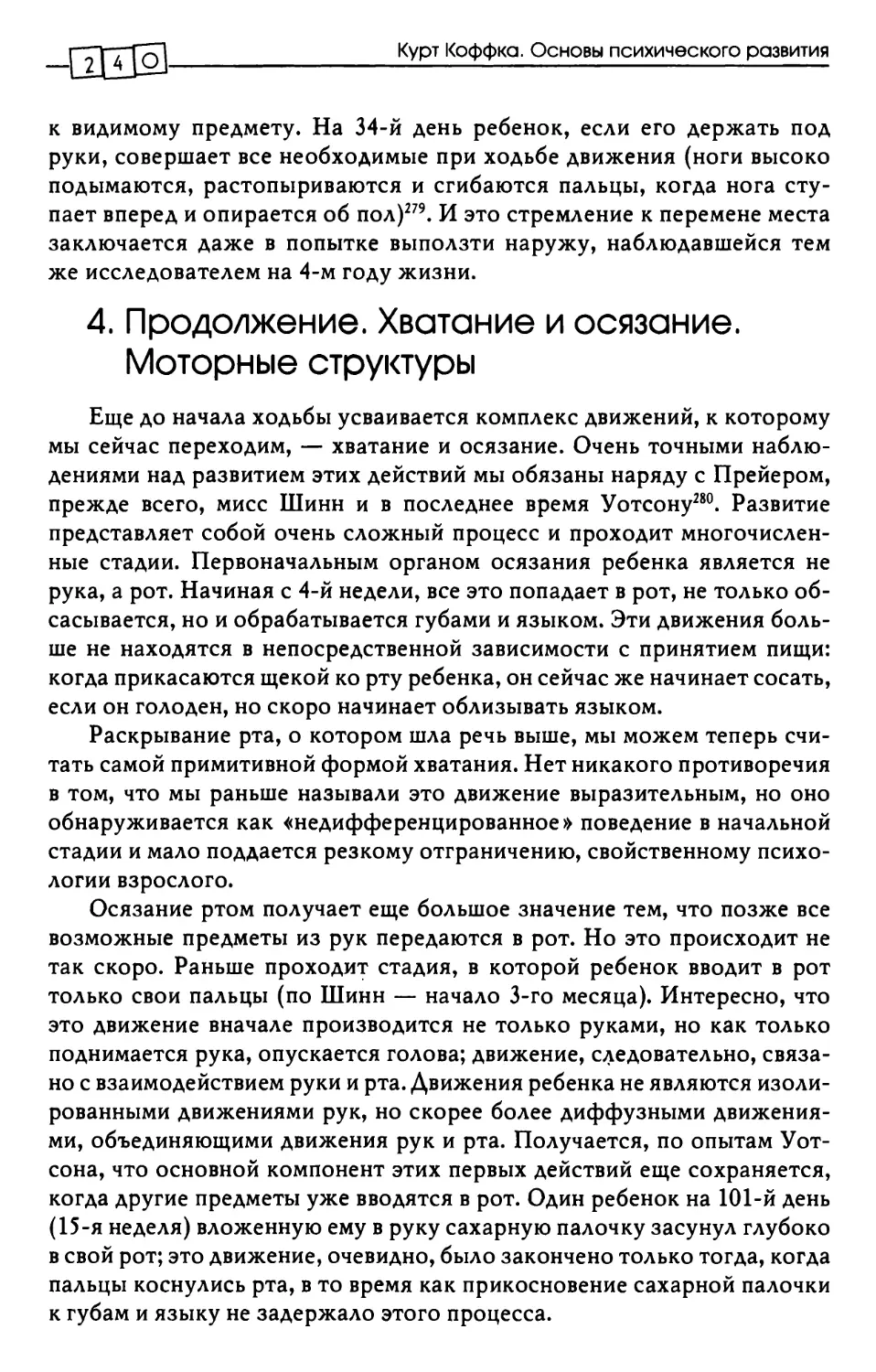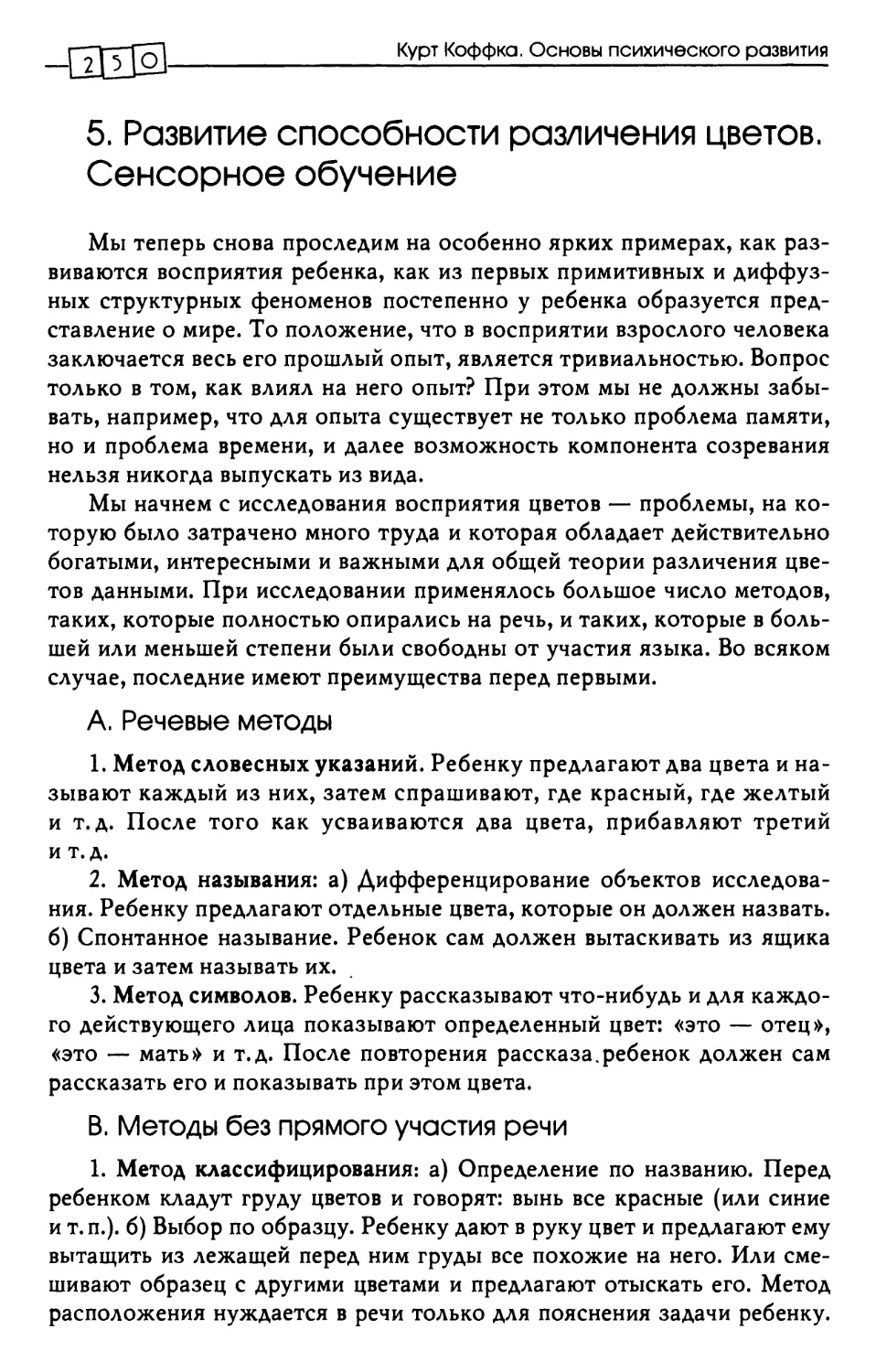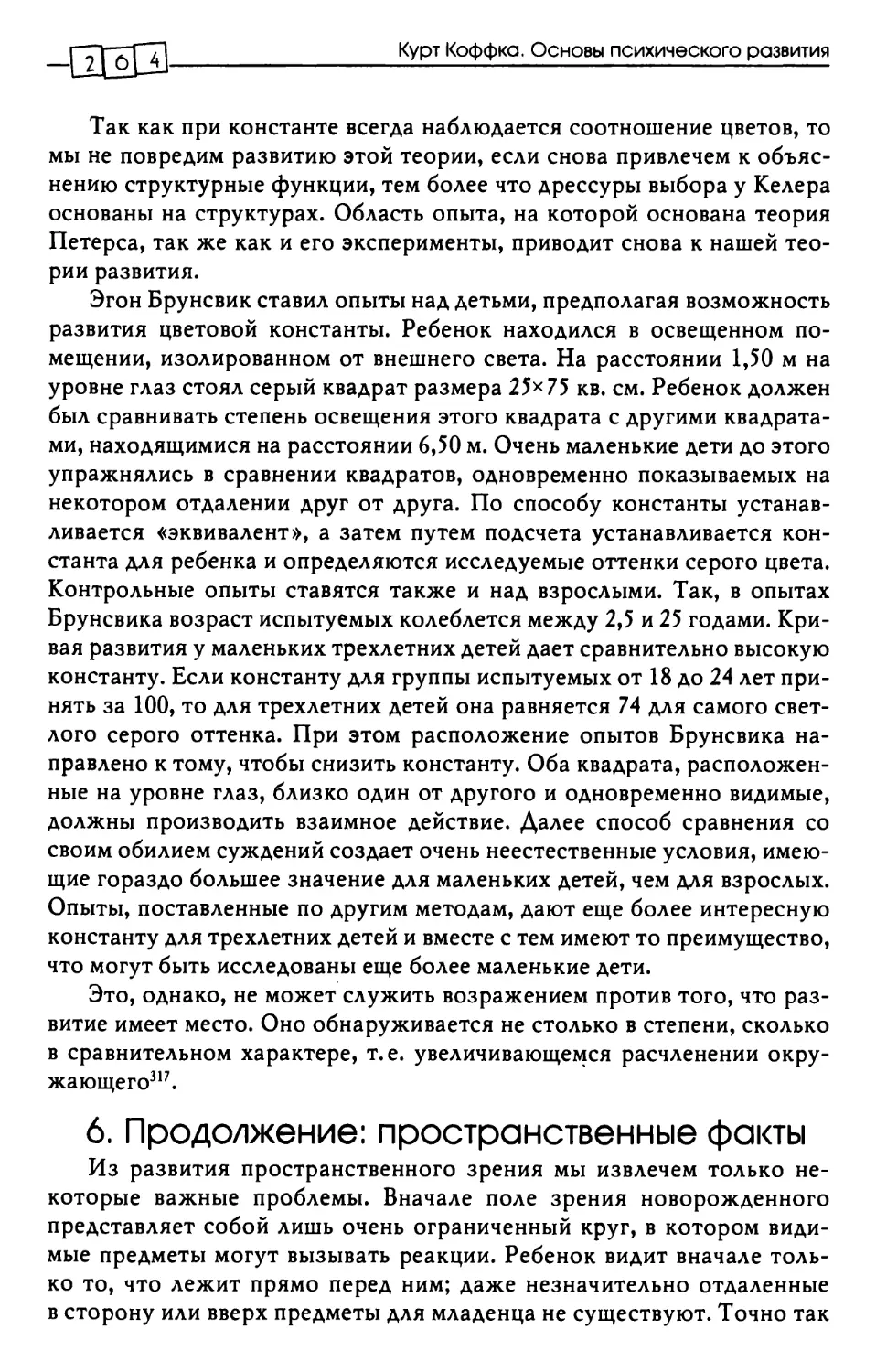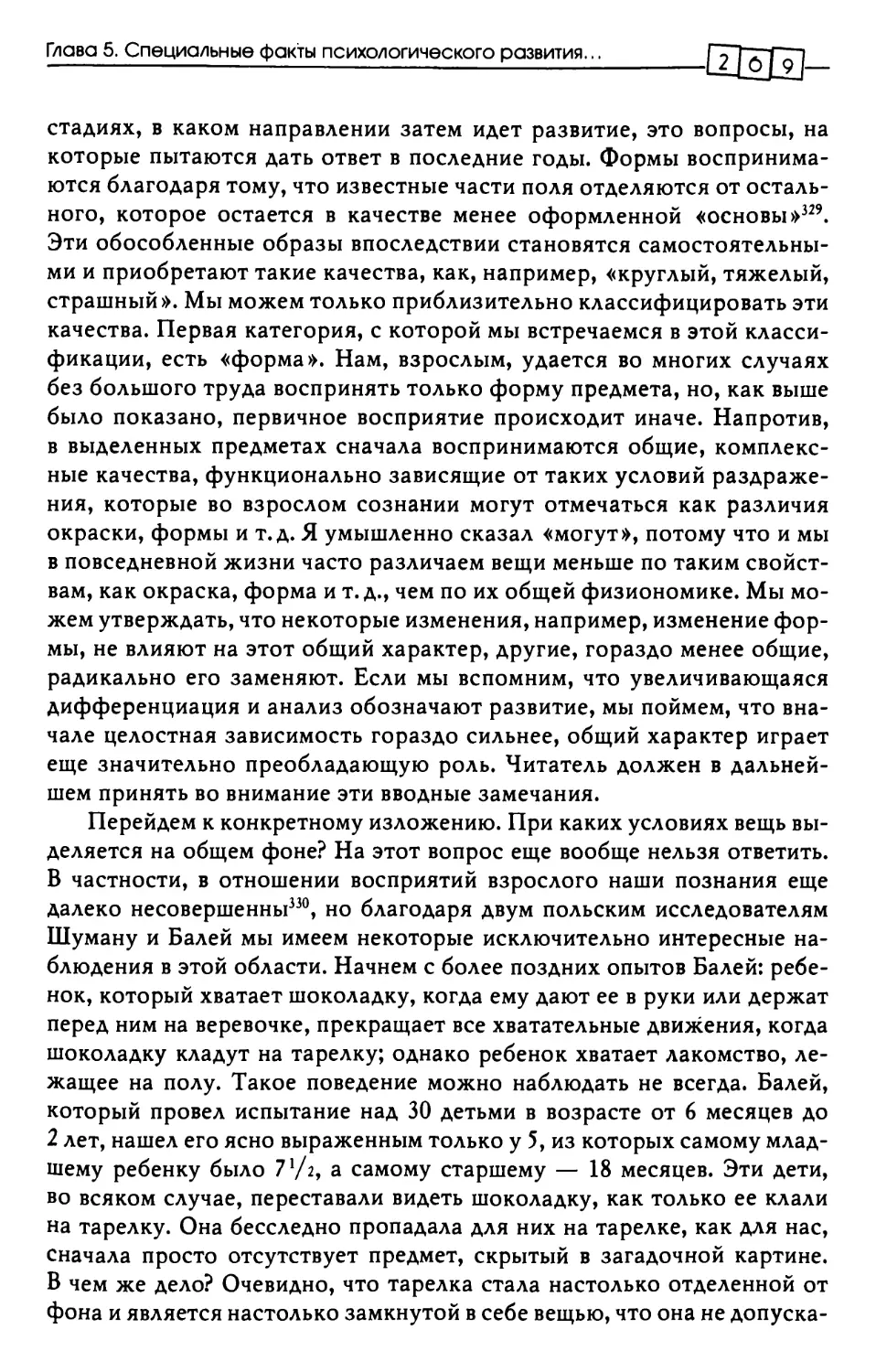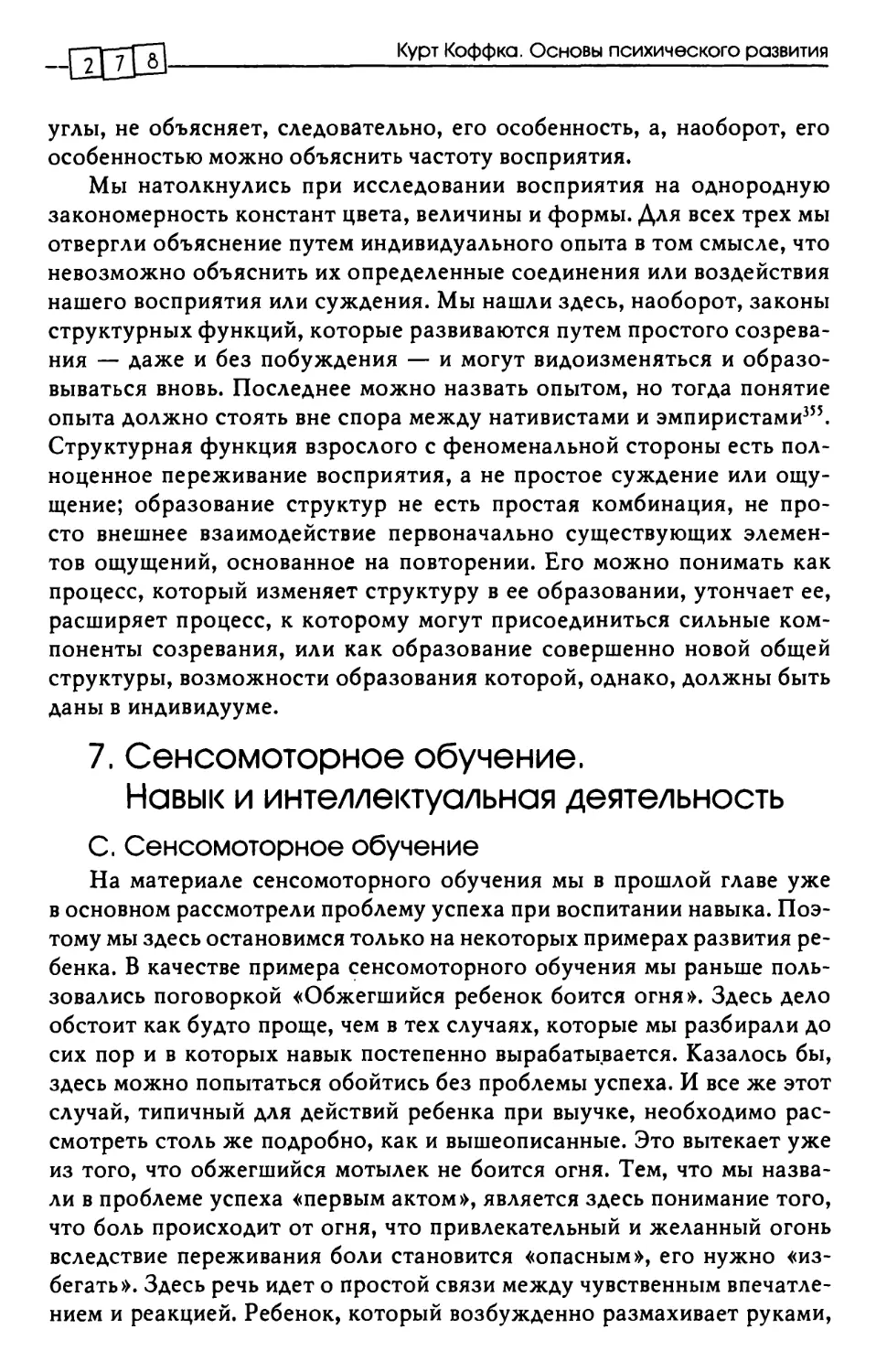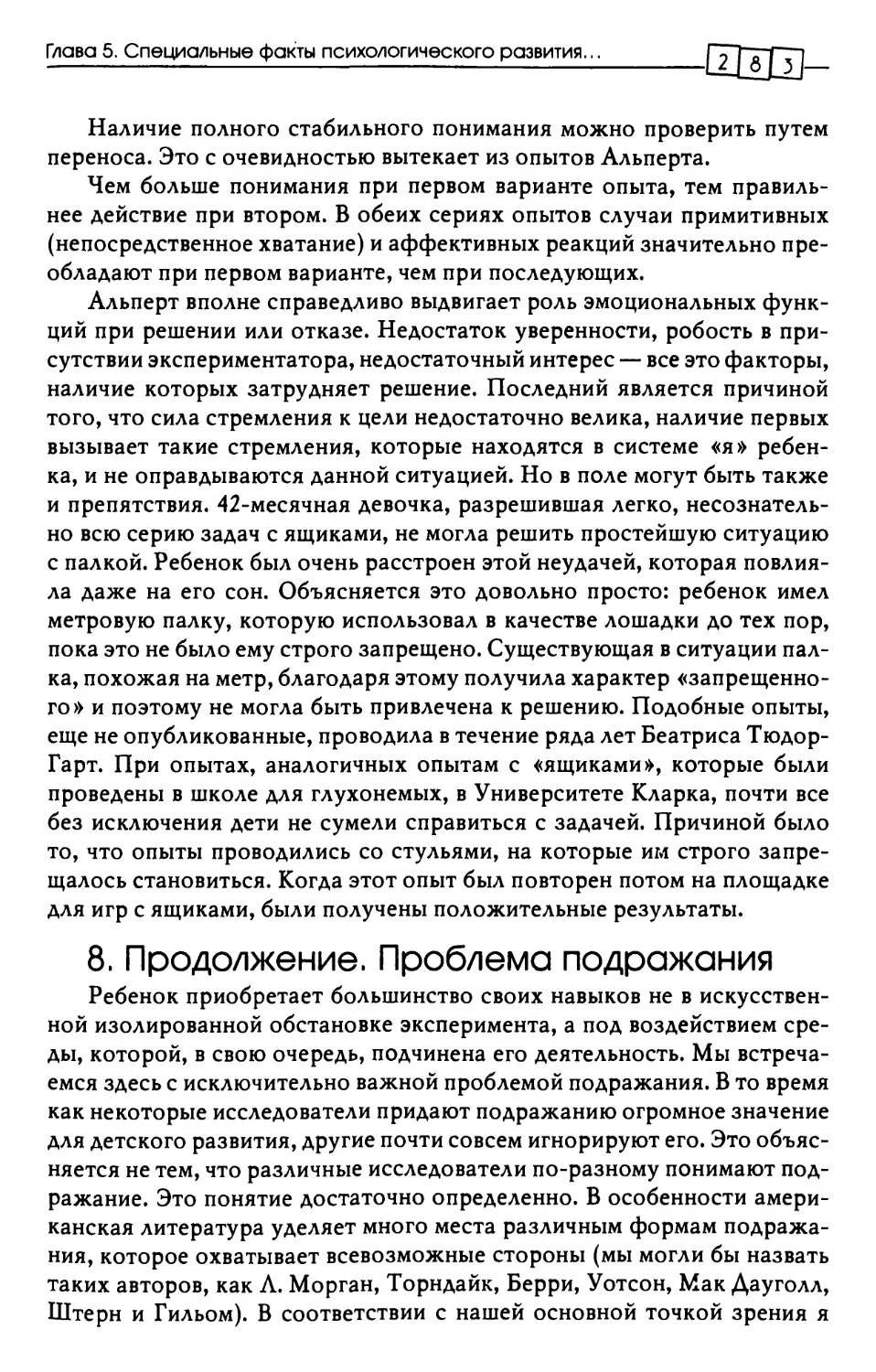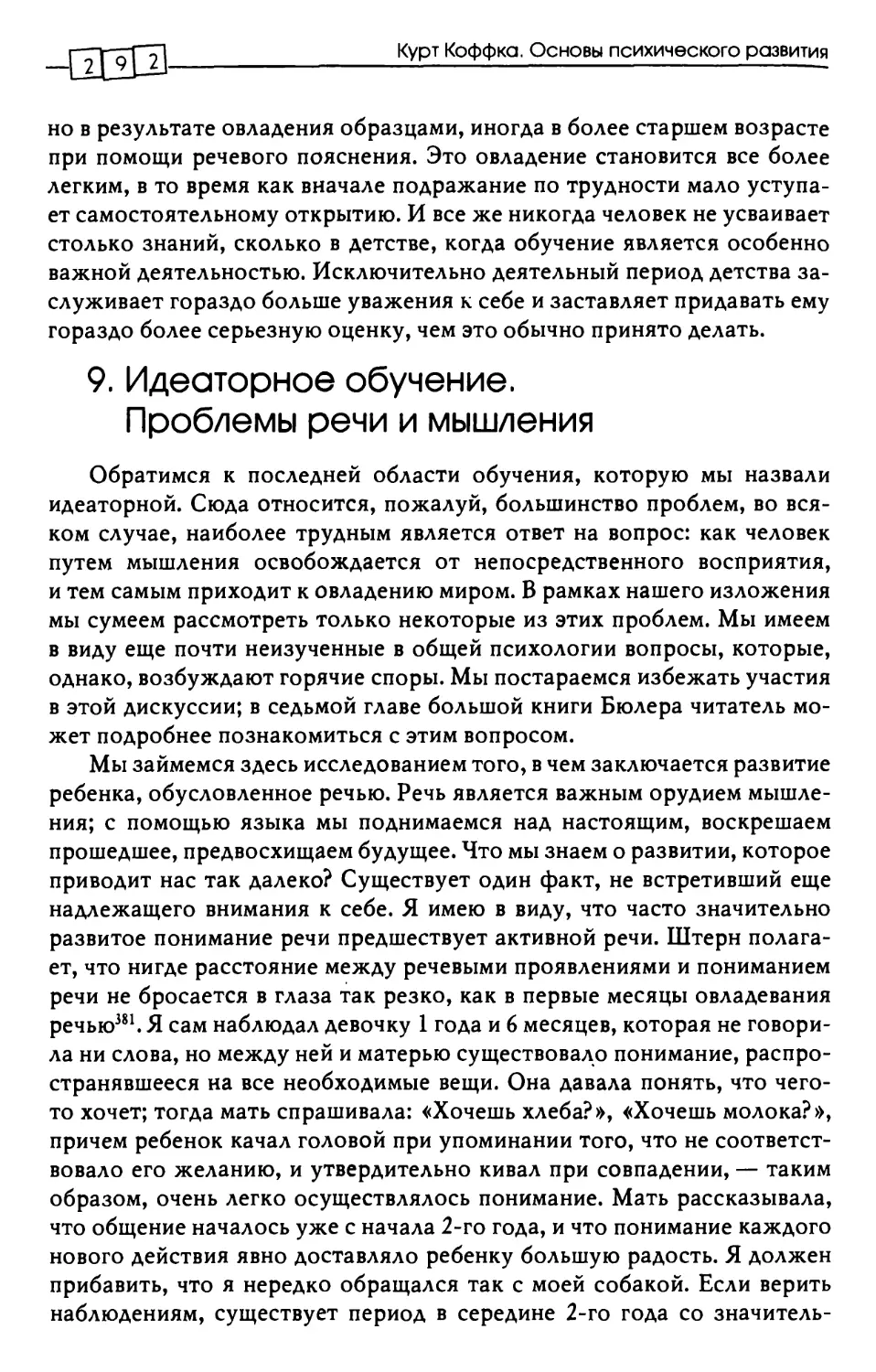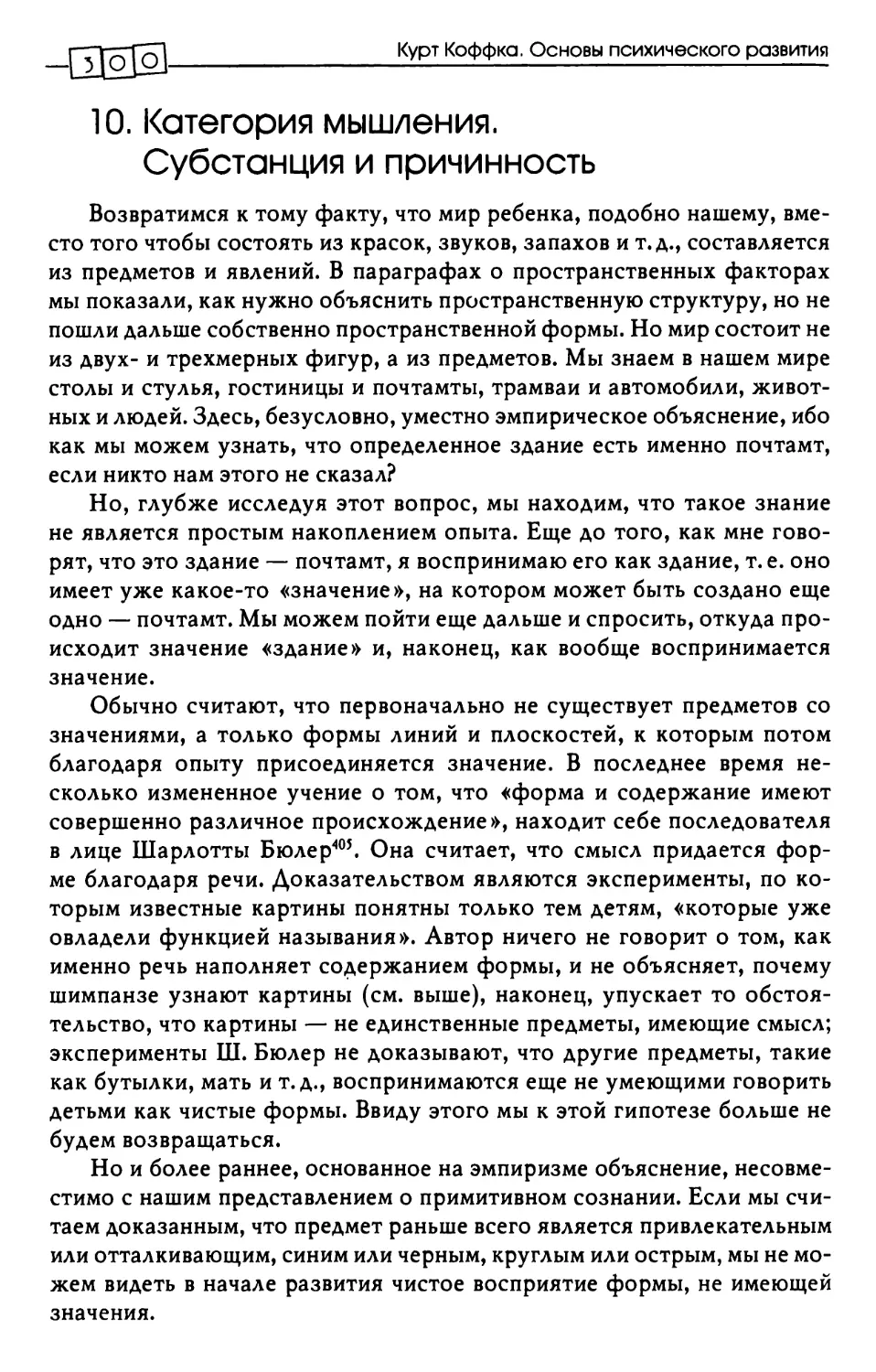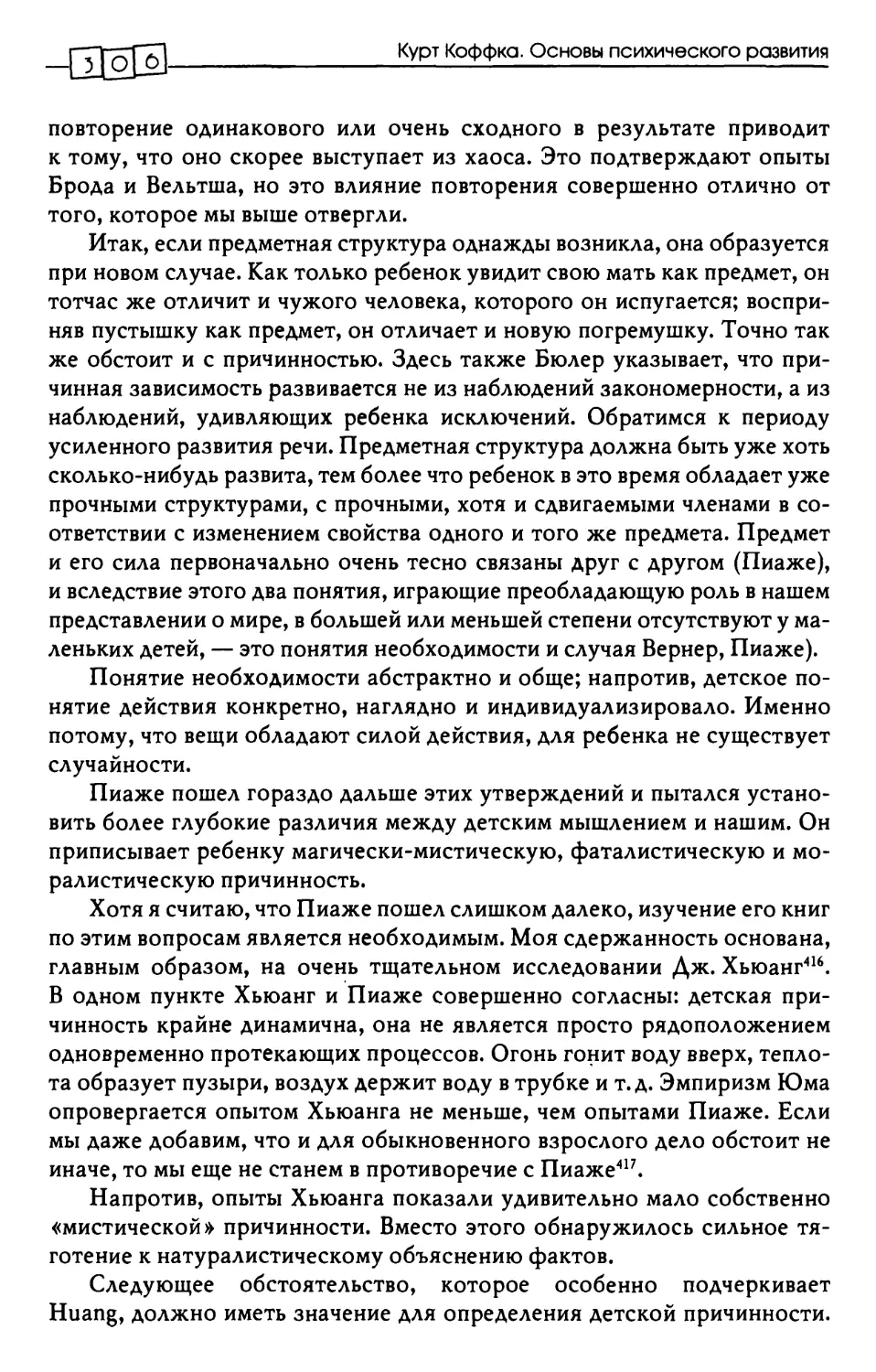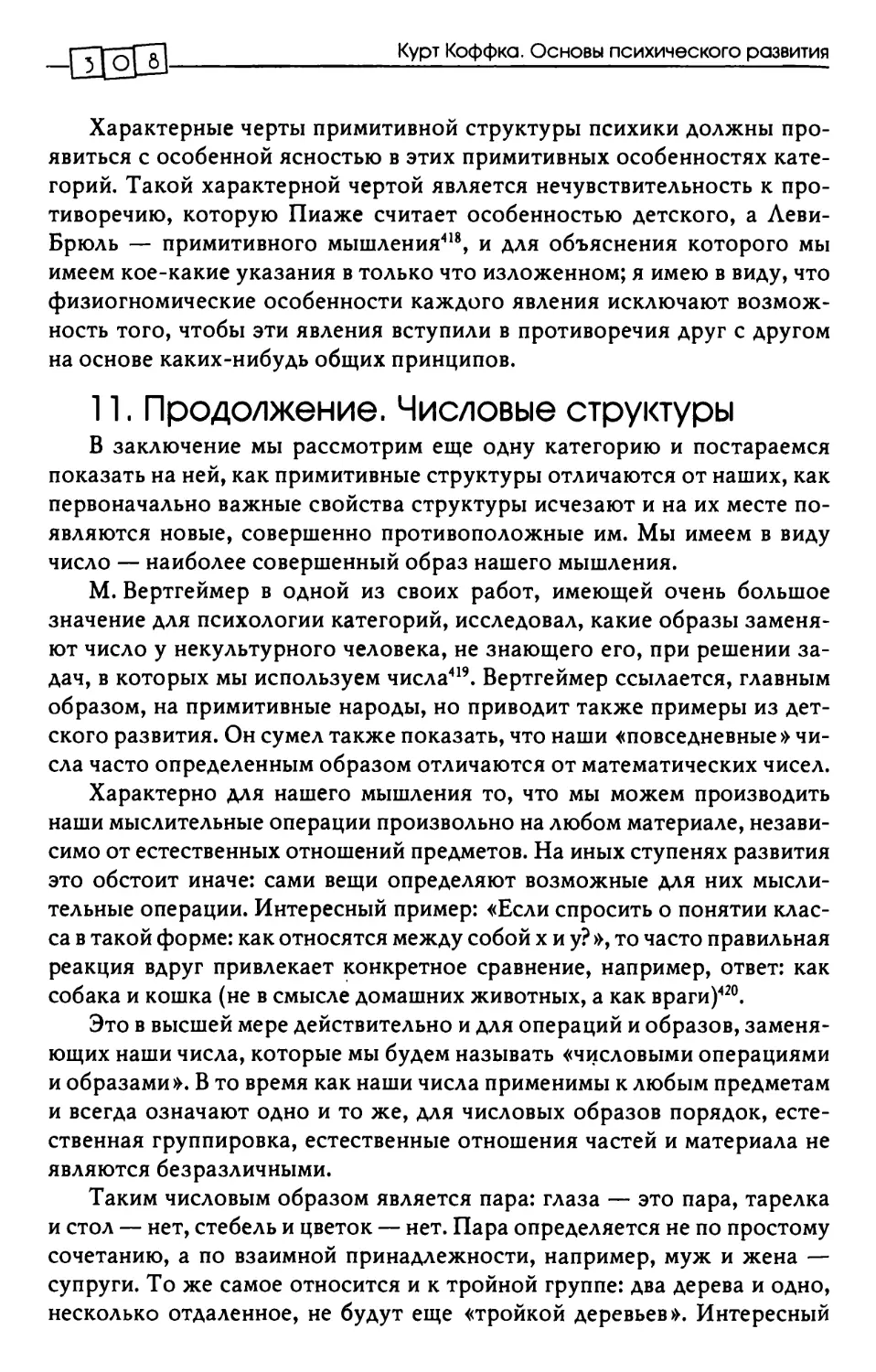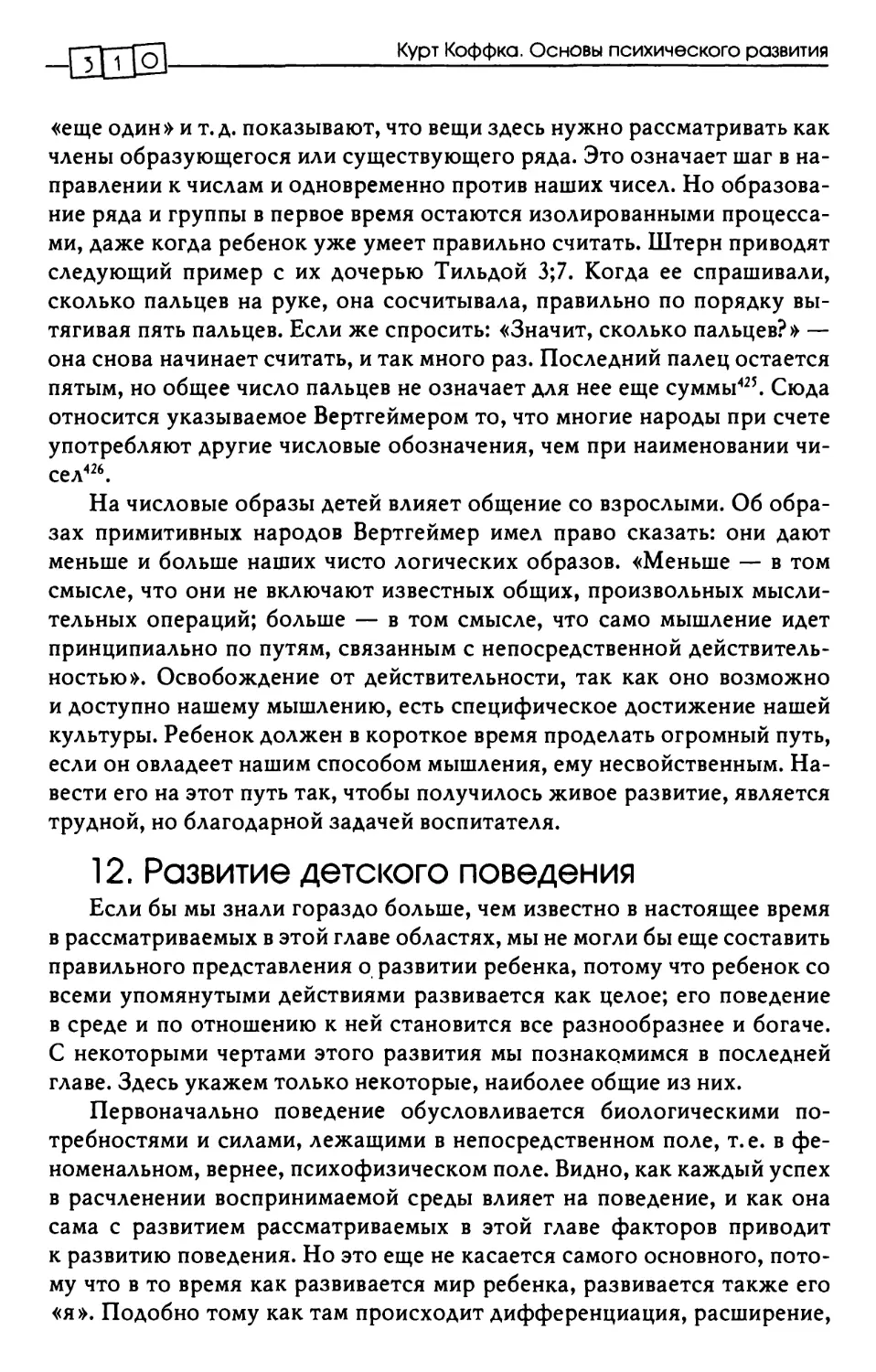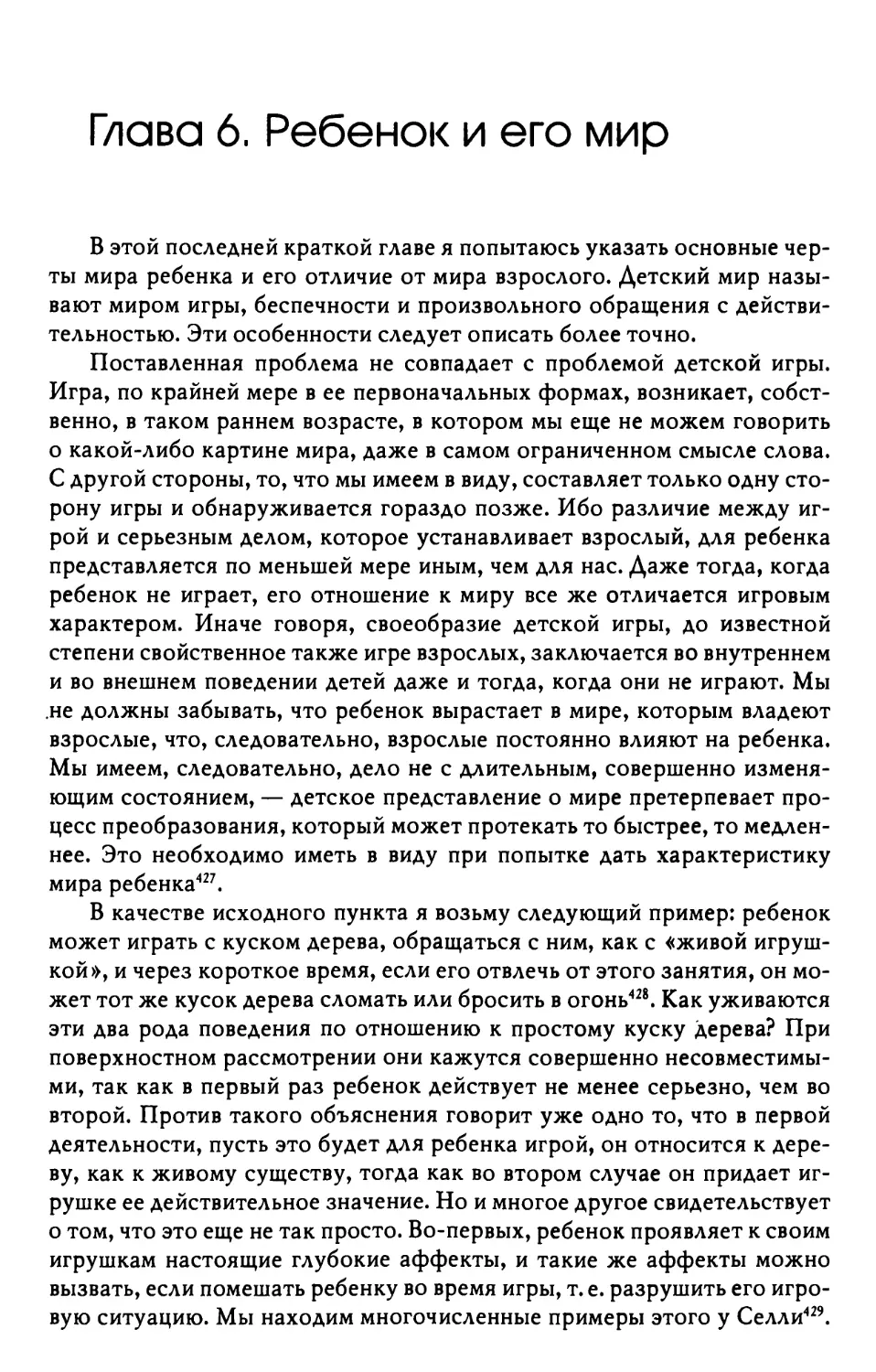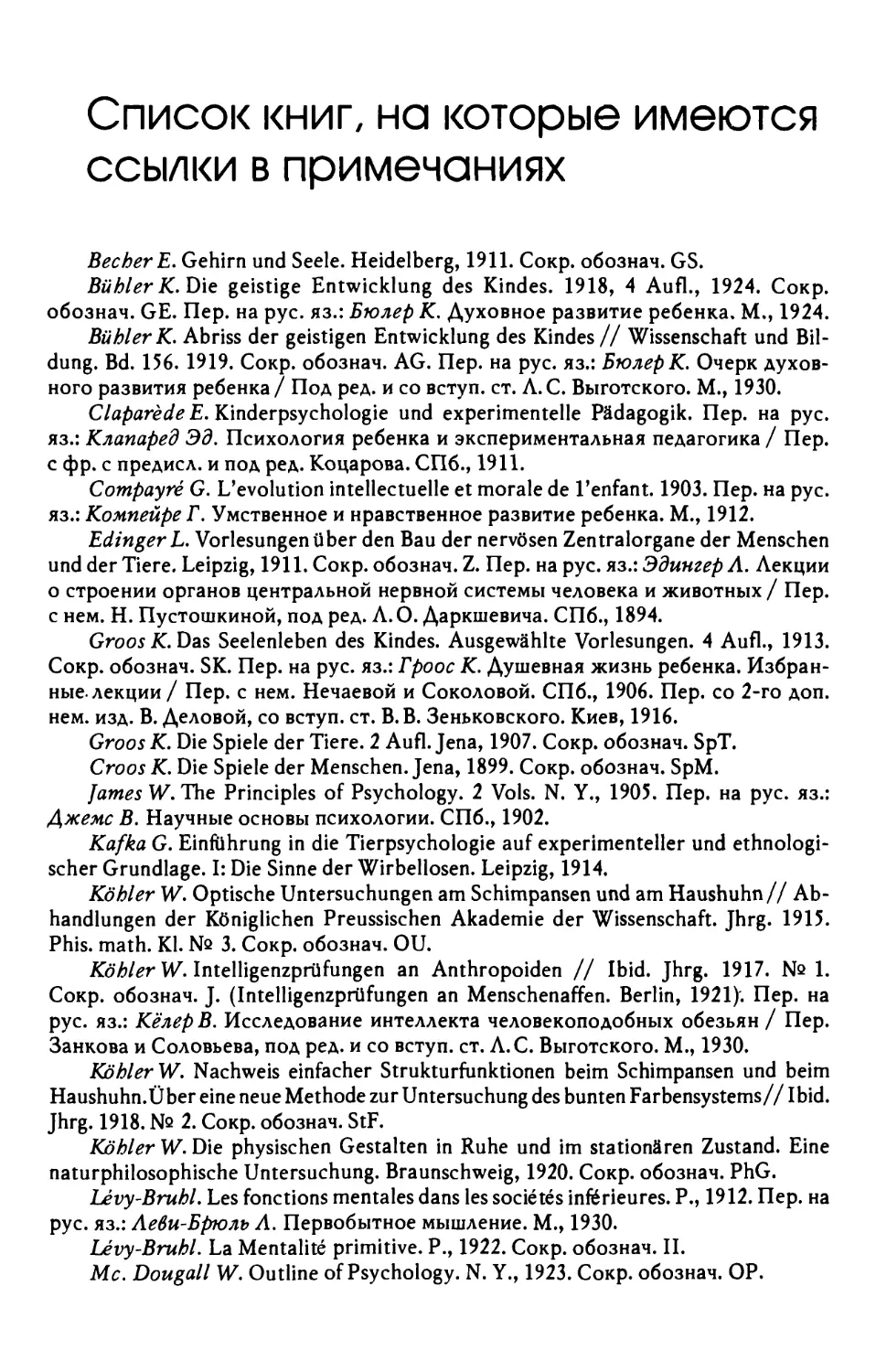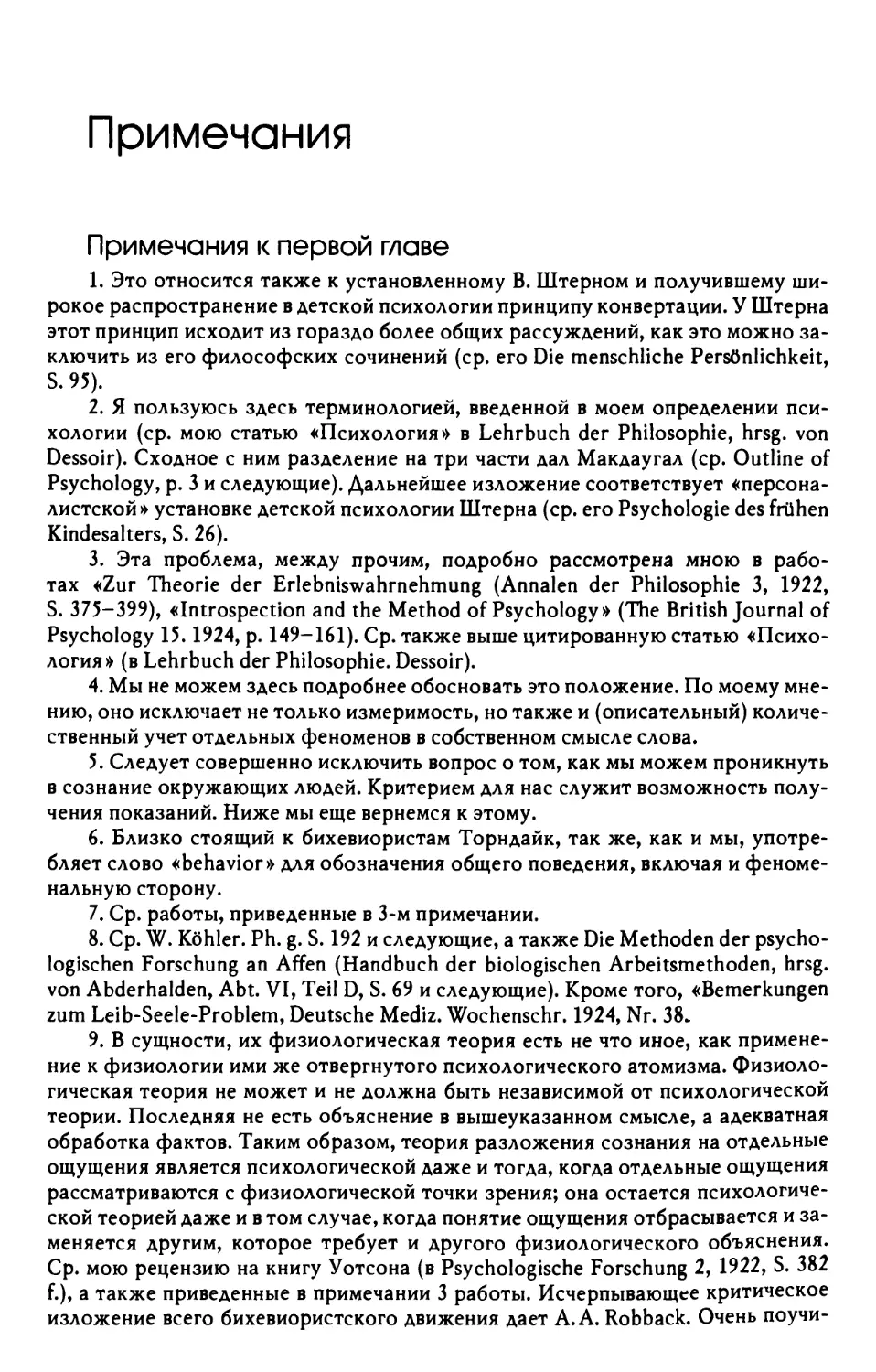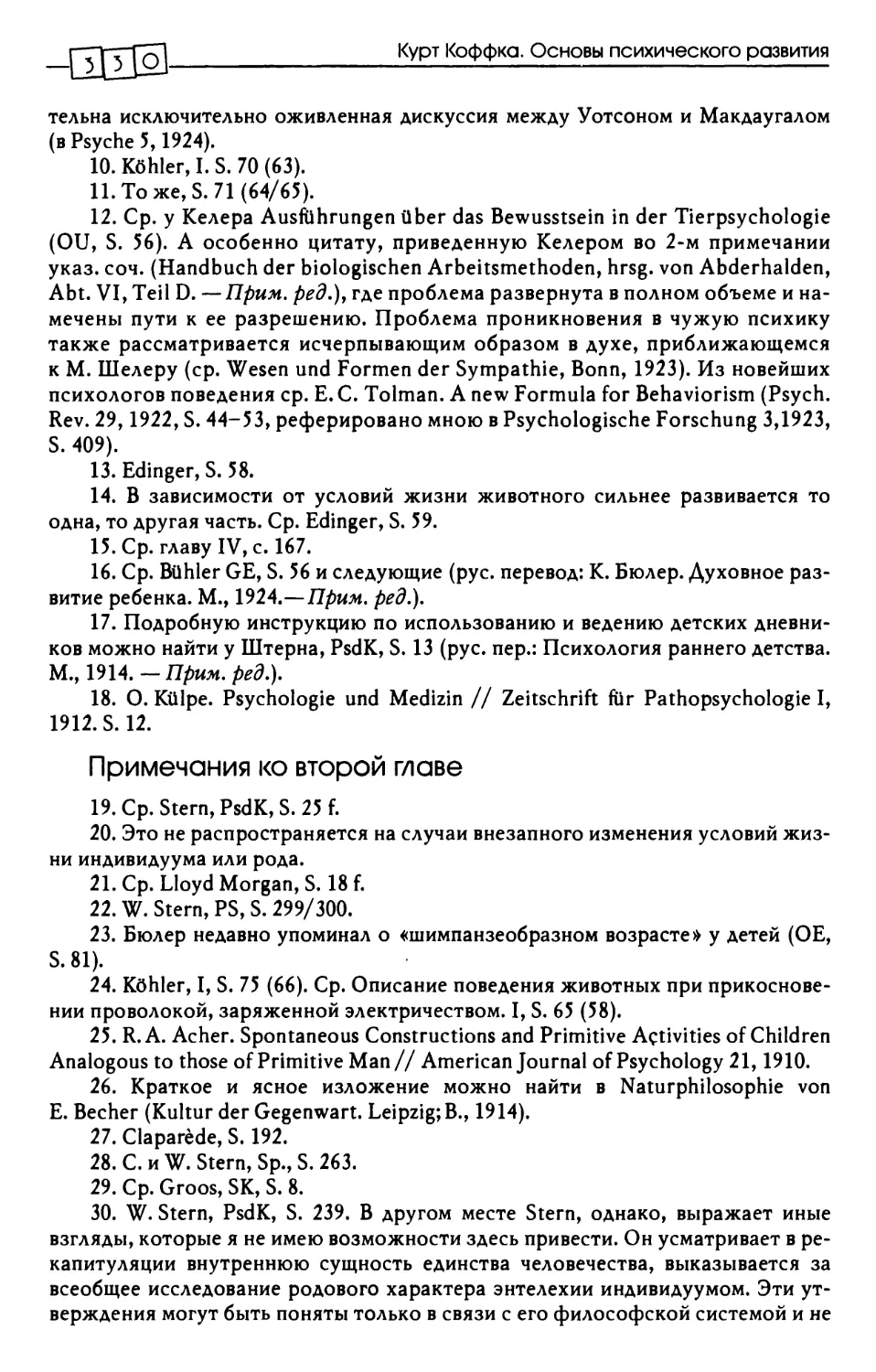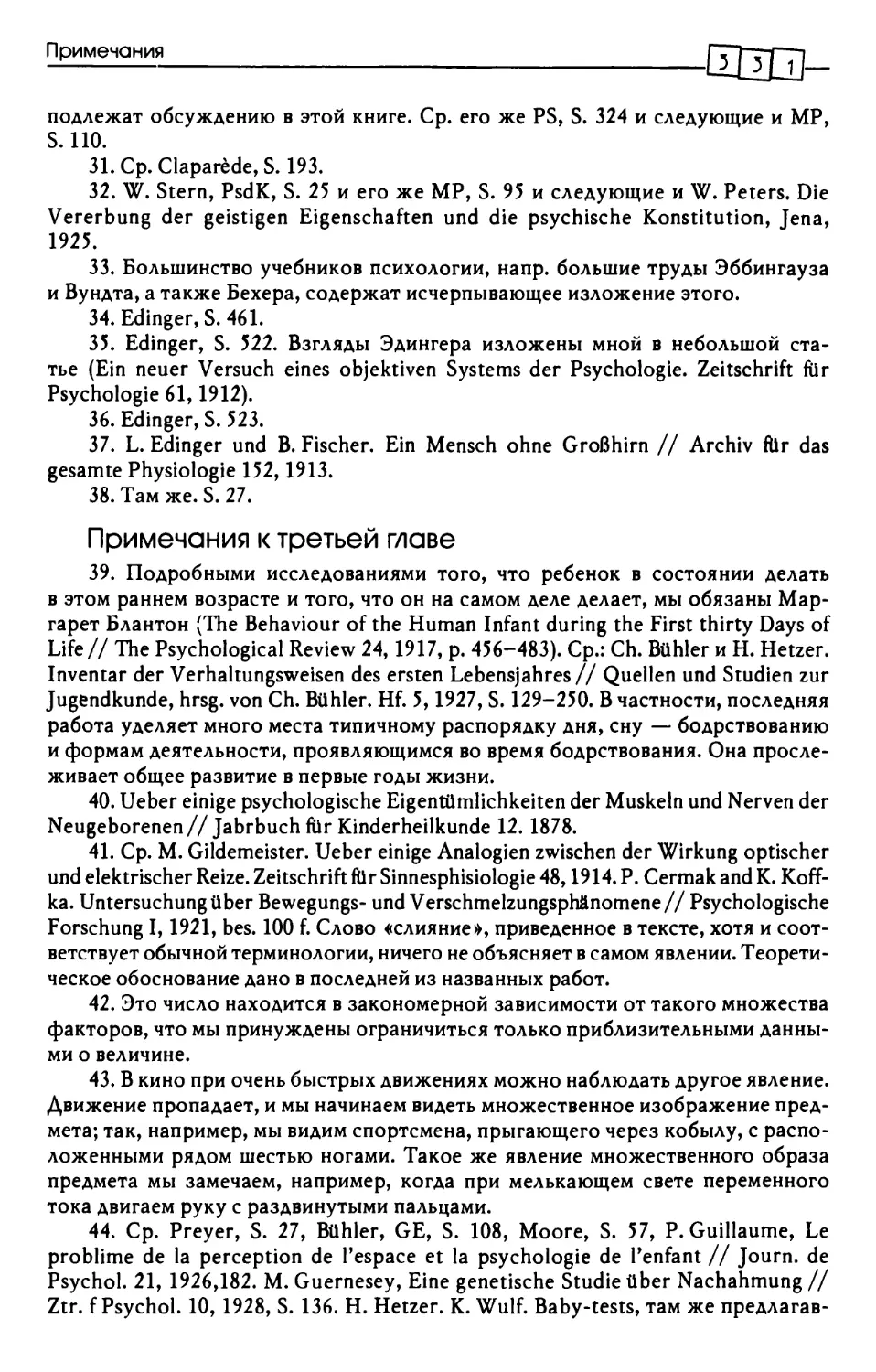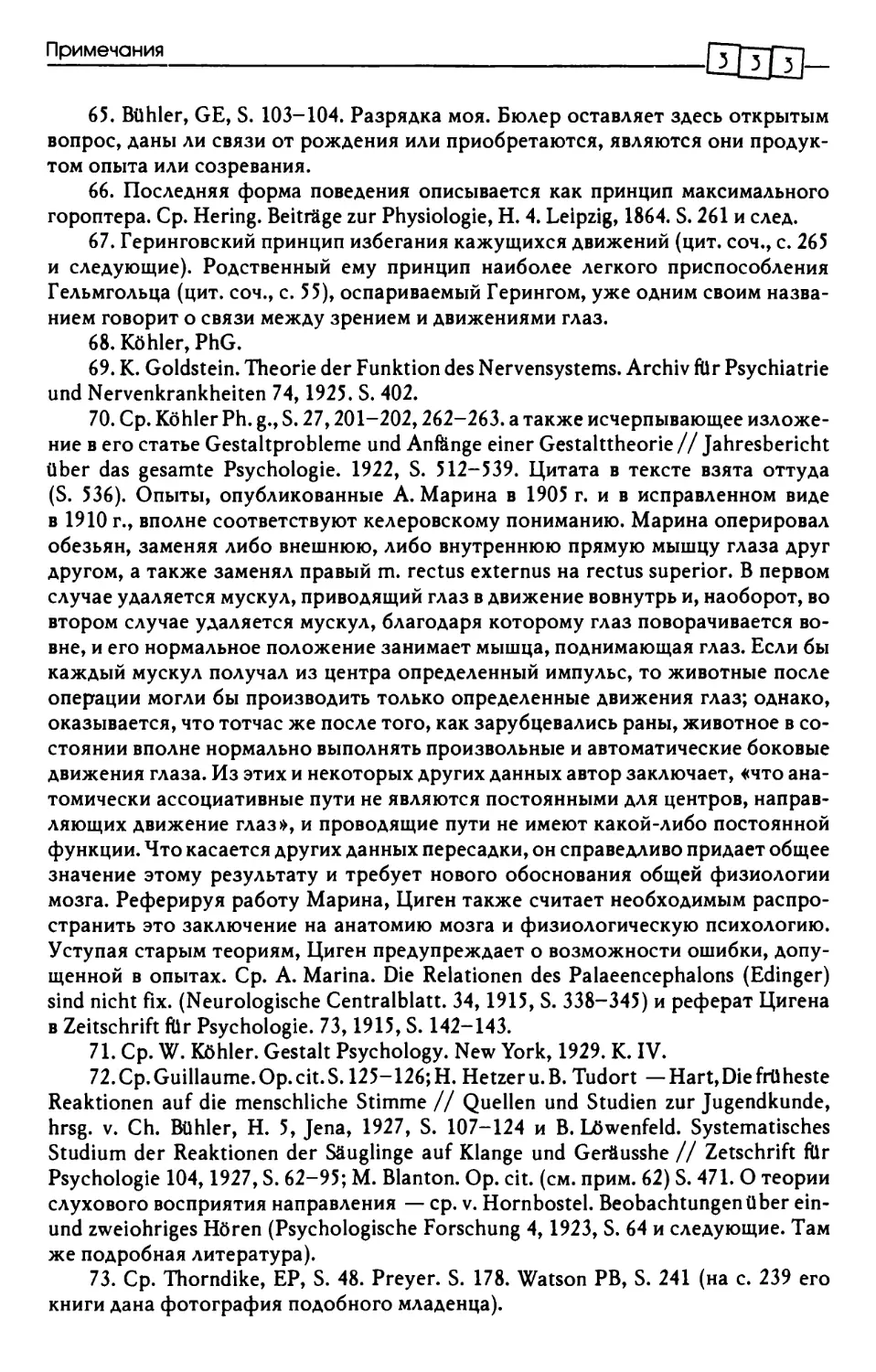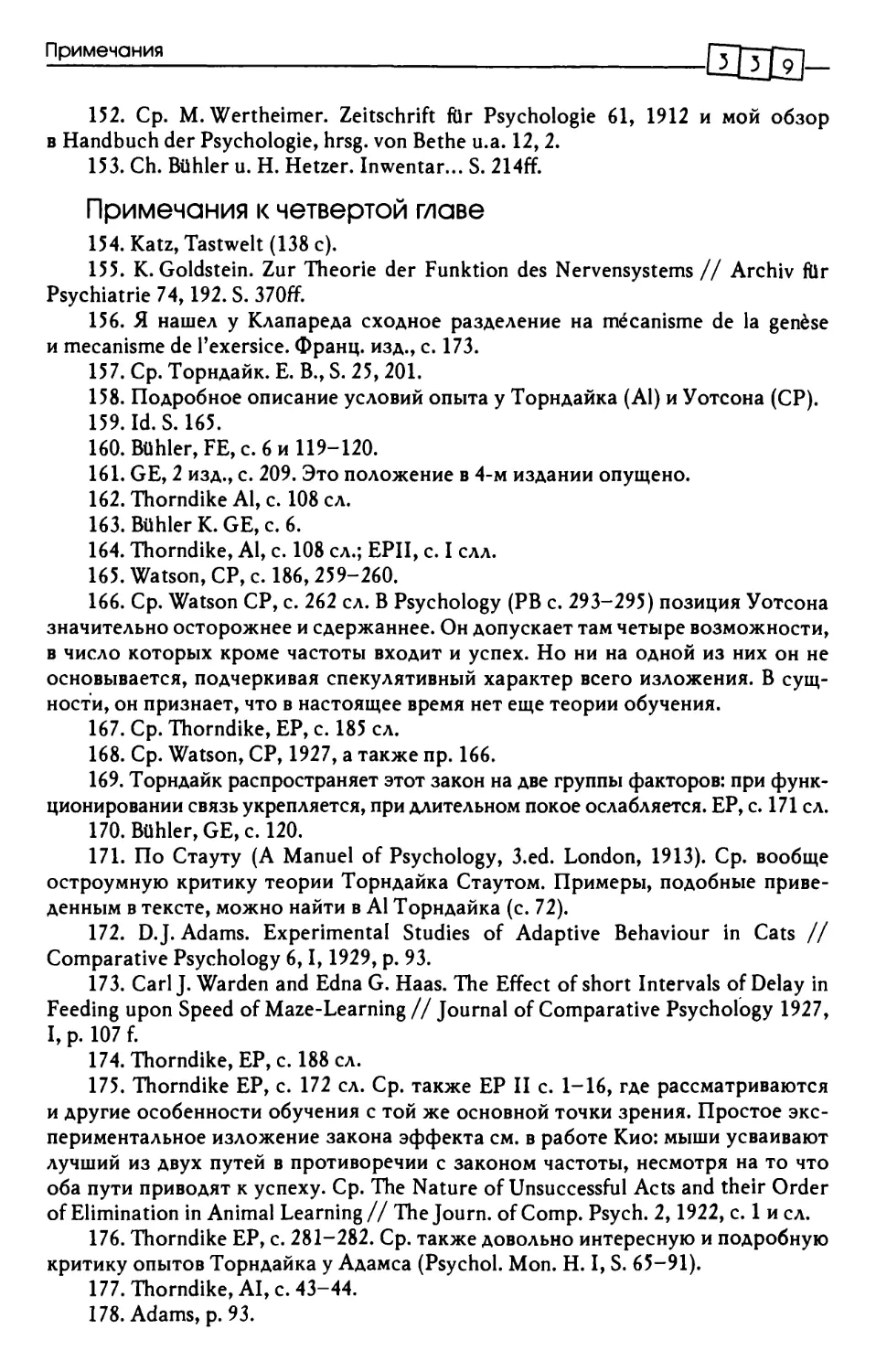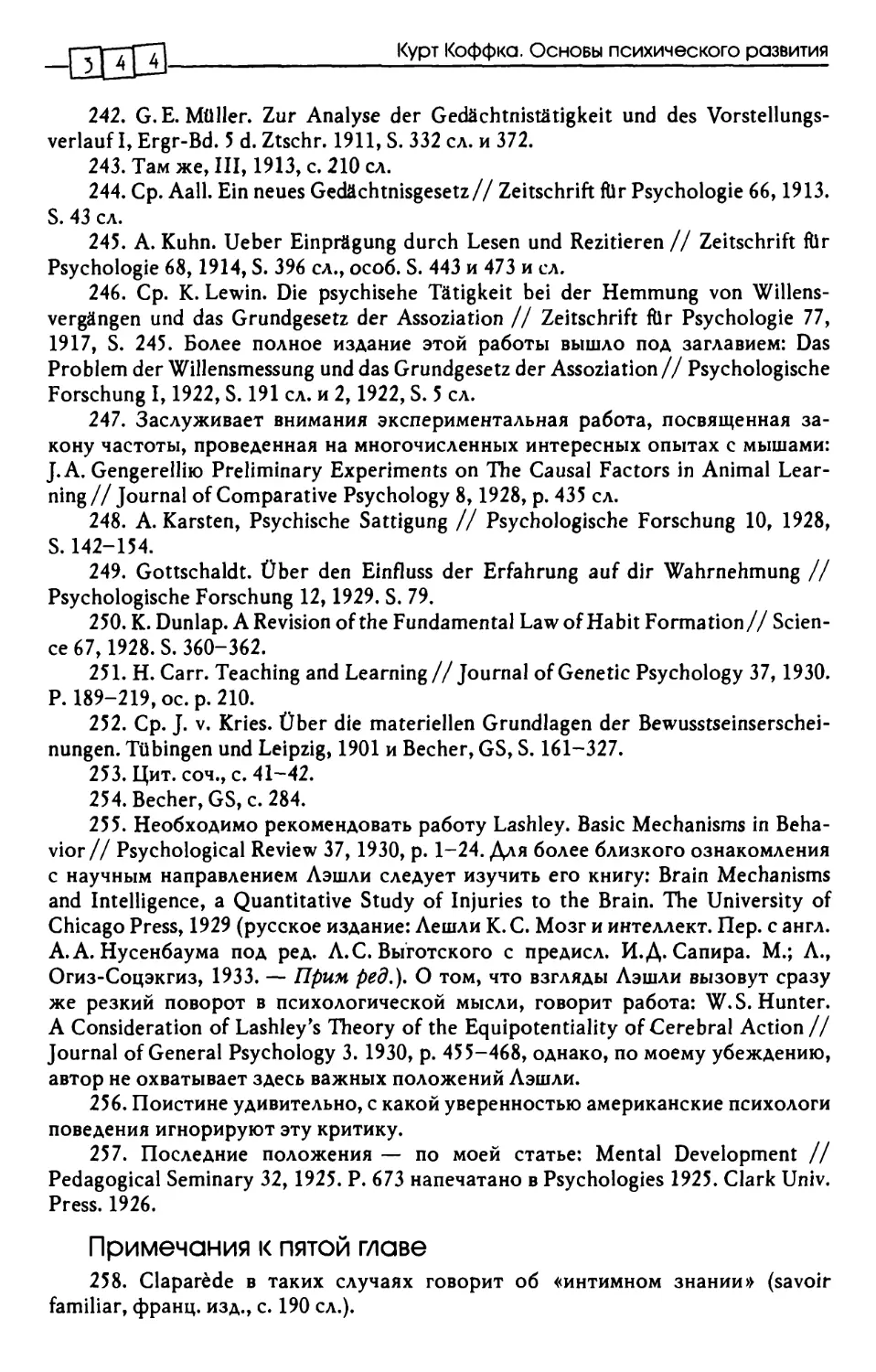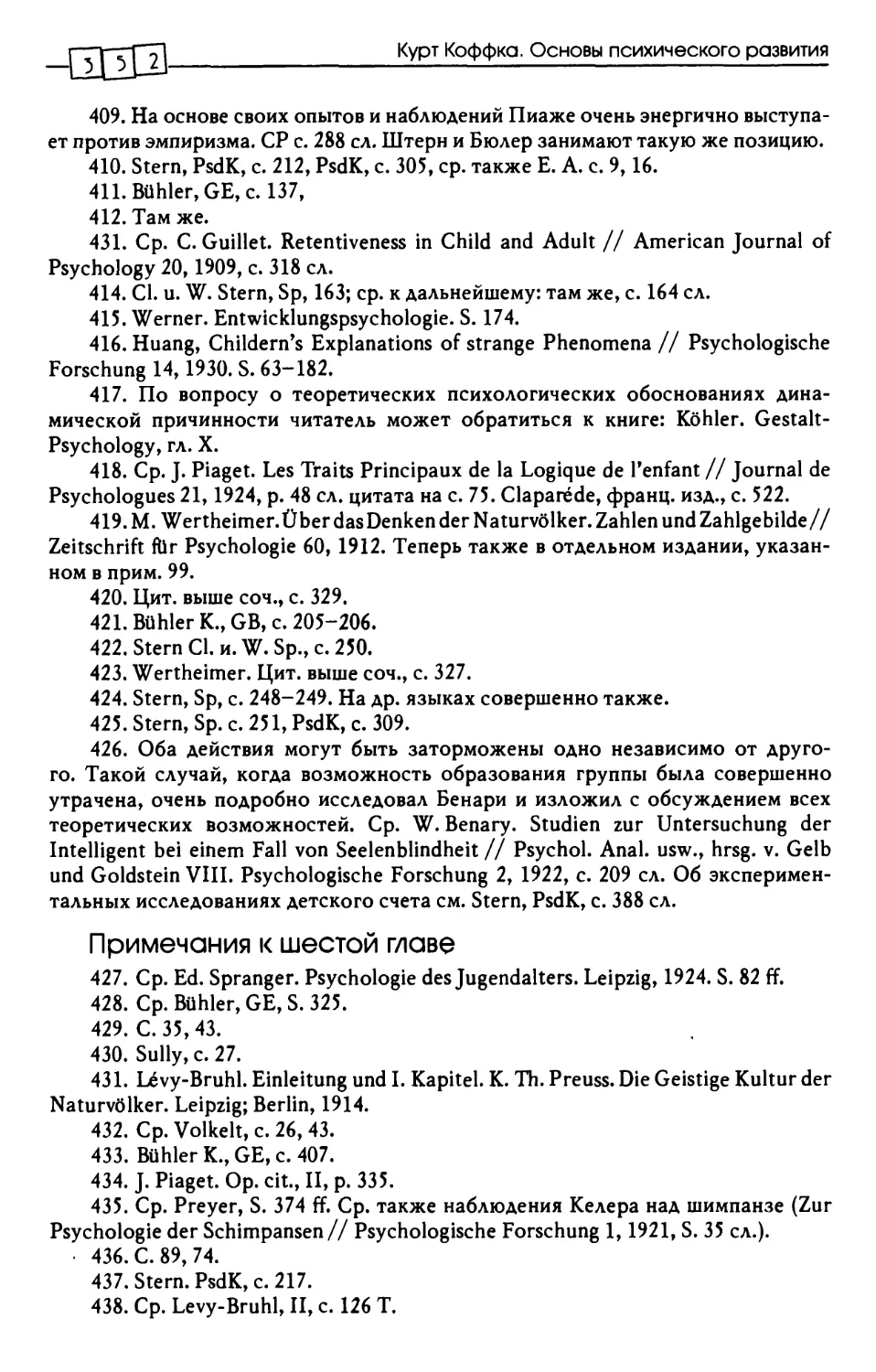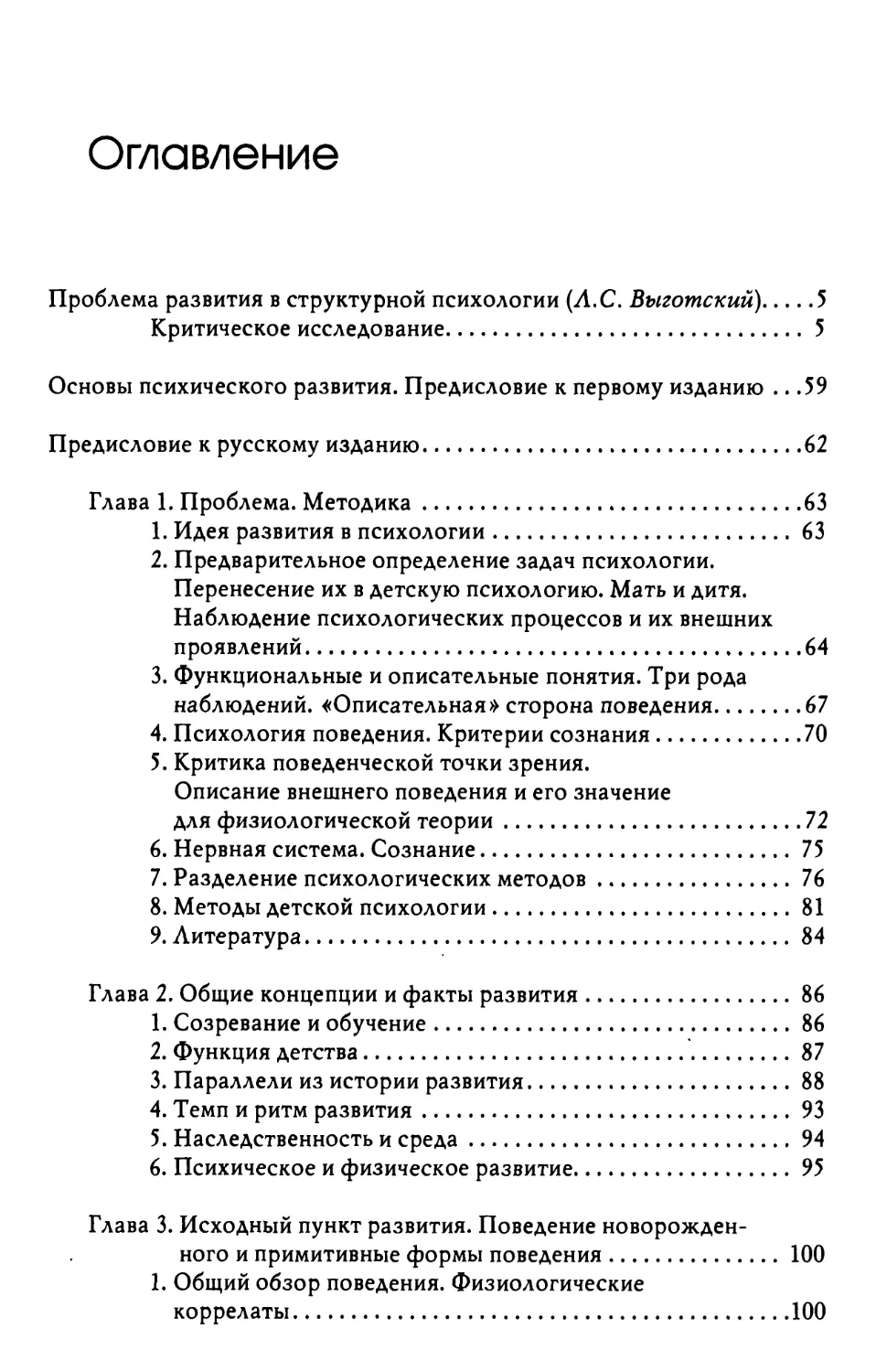Текст
Сосуществование феноменов, в котором каждое.
«звено несет в себе другое», в котором каждое звено
обладает своим своеобразием только в связи и через
другое, мы будем отныне называть структурой.
Курт Коффка
Основы
психического
развития
«Академический проект»
Москва, 2017
Коффка К.
Основы психического развития / Пер. с нем. Р. Левина. — М.:
Академический проект, 2017. — 356 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2095-5
Курт Коффка (1886-1941) — известный немецко-американский психолог.
Наряду с Максом Вертгеймером и Вольфгангом Келером считается одним из
основателей гештальтпсихологии. Занимался практическими аспектами
использования принципов гештальтпсихологии в области восприятия, обучения,
развития психики, социальных взаимоотношений. Мышление рассматривал как
преобразование структуры наглядной ситуации. В работе «Основы психического
развития» (1921) Коффка применил методы гештальтпсихологии для
исследования психического развития ребенка. В основу данной книги положено первое
издание труда на русском языке, увидевшее свет в 1934 году, со вступительной
статьей Л.С. Выготского, помогающей читателю войти в круг основных проблем
гештальттеории и понять ее место среди развивавшихся в то время направлений
психологии.
Книга рекомендуется психологам, философам, а также всем
интересующимся проблемами познания окружающего мира и детской психологией.
© Составление, оригинал-макет, оформление.
ISBN 978-5-8291-2095-5 «Академический проект», 2017
Проблема развития
в структурной психологии
Критическое исследование
1. Мы хотим в настоящем этюде исследовать проблему развития
в структурной психологии. Задачей исследования является отделить
истинное от ложного в этой теории. Мы пойдем к этой цели путем,
который неоднократно испытан. Мы будем в нашем исследовании
опираться на истинное в этой теории, и с его помощью вскрывать
содержащиеся в ней и затемняющие ее ложные положения, ибо истина, по
великой мысли Спинозы, освещает самое себя и заблуждения.
Нашему исследованию мы подвергнем проблему развития в том
виде, как она отражена в книге К. Коффки, к изданию которой на
русском языке этот этюд должен послужить критическим введением.
Критически исследовать какую-либо книгу, подобную книге
Коффки, представляющую целую эпоху в развитии научного знания в
данной области и содержащую огромное множество фактов, обобщений,
законов, — значит проникнуть во внутреннее сцепление образующих ее
идей, в самую сущность ее концепции. Критически исследовать такую
работу — значит соотнести теорию и отраженную в ней
действительность. Это исследование не что иное, как критика через
действительность.
Критика этого рода возможна при наличии хотя бы самого общего
представления о природе тех явлений действительности, которые
отражены в рассматриваемой теории. Высшей точкой такого исследования
является критический эксперимент, который переносит критику в
область фактов, представляя на их суд узловые, спорные моменты,
разделяющие две теоретические системы. В нашу задачу, к сожалению, не входит
изложение этих критических экспериментов. Мы можем их коснуться
лишь попутно, в связи с теоретическим анализом нашей проблемы.
Главным же фактическим материалом, на который нам приходится опираться
и который представляет отраженную в теории действительность, должен
явиться фактический материал, содержащийся в самой книге.
В сущности, критически исследовать книгу Коффки значило бы
написать другую книгу на ту же тему, и этюды, подобные настоящему,
представляют собой не что иное, как конспект таких ненаписанных книг.
Книга Коффки — одна из немногих книг по детской психологии,
которая написана с точки зрения единого теоретического принципа.
В основу ее положен принцип структуры или образа (Gestalt), который
первоначально сложился в общей психологии. Данная книга —
попытка рассмотреть все основные факты общей психологии с точки зрения
этого принципа.
Основной теоретической задачей книги является идейная борьба
с двумя основными тупиками научной мысли, в которых заканчивают
развитие многие современные научные теории. «Несомненно,—
говорит Коффка,— что при альтернативе механистического или
психовиталистического объяснения мы оказываемся между Сциллой
витализма, который заставляет нас отказаться от наших научных принципов,
и Харибдой механицизма с его безжизненностью». Преодоление
механицизма и витализма и представляет основную задачу, под знаком
которой сложилась и развивалась, но с которой не справилась вся
структурная психология вообще и данная книга в частности.
В этом смысле книга представляет собой высшую точку
европейской психологии, отталкиваясь от которой (что означает «опираясь на
нее и отрицая ее одновременно») мы можем нащупать отправные точки
для развития нашей концепции детской психологии. Наше критическое
исследование поэтому должно пойти в основном тем же путем, каким
шел и автор настоящей книги. Нашей задачей является проверка того,
насколько новый объяснительный принцип, который Коффка вводит
в детскую психологию, позволяет действительно преодолеть
механистическую и виталистическую теорию развития в психологии ребенка.
Мы не пойдем, разумеется, в рассмотрении этой книги глава за главой,
но выделим два основных принципа, которые и подвергнем
критическому исследованию. Сам Коффка говорит о задачах своей работы, что ему
представлялся только один путь к их разрешению. Он хотел попытаться
критически изложить принципы психического развития и исследовать
отдельные факты с этой точки зрения. В сущности, мы должны сделать
то же самое. Мы должны рассмотреть общие принципы, лежащие в
основе этой работы, с точки зрения их соответствия тем фактам, к
объяснению которых они приложены.
Два основных принципа, которые должны составить ближайший
предмет нашего рассмотрения, это принцип структуры и принцип
развития. Мы рассмотрим эти понятия в трех основных аспектах. Прежде
всего, мы обратимся к анализу понятия структуры, то есть основного
понятия всей этой книги, на почве родных для него фактов, т. е. с точки
зрения соответствия принципа тому фактическому материалу, на
котором он впервые был сформулирован и доказан. Затем мы рассмотрим
приложение этого принципа к фактам из области детской психологии
с точки зрения соответствия его этим последним. Осветив, таким
образом, этот принцип — с точки зрения его отношения к действительно-
сти — с двух сторон, мы соберем необходимое для того, чтобы
критически взвесить теорию психического развития ребенка в целом, как она
развита из этого объяснительного принципа.
2. Итак, мы начнем с рассмотрения основного принципа
структурной психологии в свете родных для него фактов. Сам Коффка говорит,
что детская психология не создала своего собственного
объяснительного принципа и вынуждена использовать аналогичные принципы,
которые возникли в общей и сравнительной психологии. «Не существует
такого психологического принципа развития,— говорит он,— которым
мы были бы обязаны именно детской психологии. До того как эти
принципы используются детской психологией, они возникают в общей
психологии или в психологии животных».
Это и заставляет нас, следуя автору, начать с рассмотрения
психологического принципа, который имел более широкое и более общее
значение, нежели сфера детской психологии. Основой всей работы Коф-
фки и является не что иное, как приложение этого общего принципа,
сложившегося в общей и сравнительной психологии, к фактам
психологического развития ребенка.
Поэтому, если мы хотим, как уже сказано, рсновным приемом
нашего критического исследования сделать сопоставление Фактов
.и принципов, рассматривая факты в свете принципов и проверяя
принципы фактами, мы должны начать с тех фактов, в сфере которых
первоначально и создавалась данная теория. Здесь мы надеемся вскрыть
внутреннее сопротивление фактов всеобщим принципам,
предложенным для их объяснения, сопротивление, скрытое и подавленное
стройным и последовательным проведением определенной системы.
В самом общем смысле поэтому критическое исследование
какой-либо теории означает почти всегда известного рода борьбу различных
принципиальных взглядов.
В этом смысле настоящая книга облегчает задачи критического
исследования тем, что она сама, в отличие от многих систематических
изложений детской психологии, кладет в основу своего построения
теоретическое исследование. «Признаком научного,— говорит
Коффка,— является не простое сообщение знаний. Оно должно показать
непосредственную зависимость этих знаний от науки, должно показать
ее динамику, исследование в действии. Таким образом, должны быть
освещены также и принципы, оказывающиеся, в конце концов, ложными
и неплодотворными. Читателю должно быть ясно, почему эти принципы
оказываются несостоятельными, в чем их слабое место и в каком
направлении нужно изменить объяснение. Благодаря неоднократному
обсуждению различных мнений читатель сумеет объяснить себе процесс
роста психологии как науки. Всякая наука вырастает в живой борьбе
за свои основные положения, и эта книга имеет целью присоединиться
к этой борьбе».
Читатель действительно легко сумеет убедиться, прочитав
книгу, что вся она пронизана борьбой против противостоящих ей теорий,
и, следовательно, приложение критической точки зрения к ее
восприятию и усвоению не только не противоречит характеру этой книги, но
прямо отвечает ее внутренней природе. Однако борьба теорий только
тогда оказывается плодотворной в какой-либо конкретной научной
области, когда эта борьба ведется, опираясь на силу фактов. Мы и
попытаемся в нашем исследовании опираться, прежде всего, на силу фактов,
которыми оперирует сам автор настоящей книги.
Мы исходим при этом из положения, что распутать теоретический
вопрос о возможности приложения структурного принципа к
построению детской психологии означает вместе с тем распутать один из самых
сложных и центральных узлов всей современной теоретической
психологии и одновременно сохранить во всей силе все то истинное и
плодотворное, что заключается в этом принципе.
Смысл этого основного принципа может быть понят лучше всего,
если принять во внимание историю его возникновения. Принцип
структурности первоначально возник как реакция против атомистических
и механистических тенденций, господствующих в старой психологии.
Согласно этим представлениям, психологические процессы
рассматривались как совокупность объединенных ассоциативной связью
отдельных и независимых друг от друга элементов психической жизни.
Главной трудностью, на которую наталкивались подобного рода теории,
была возможность адекватного объяснения того, как благодаря
случайному ассоциативному сцеплению разнородных независимых элементов
могут возникнуть в психической жизни столь характерные для нашего
сознания осмысленные целостные переживания, разумные и
целенаправленные процессы поведения.
Новая теория начала с того, как замечает один из ее критиков, что
превратила, по слову Гете, проблему в постулат. Она сделала своим
основным допущением мысль о том, что психические процессы
изначально представляют собой замкнутые, организованные целостные
образования, имеющие внутренний смысл и определяющие
положение и удельный вес входящих в их состав частей. Такие целостные
процессы и получили в новой психологии название структур или образов
(Gestalten), которые противопоставлялись с самого начала случайному
конгломерату суммативно объединенных психических атомов.
Мы не станем останавливаться на развитии понятия о структуре
в общей психологии. Нас занимает сейчас преломление этого принципа
с точки зрения проблемы развития. Первоначально этот принцип был
применен к проблеме развития, как уже сказано, не в сфере детской
психологии, но в сфере психологии животных.
Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, когда ставим перед
собой проблему развития, это вопрос об образовании новых форм
поведения. Мы думаем, что Коффка с полным основанием выдвигает эту
проблему в центр, так как развитие действительно означает в первую
очередь возникновение нового. В зависимости от того, как каждая
теория отвечает на этот вопрос о возникновении новых форм, он решает
с той или иной точки зрения и самую проблему развития.
С этим вопросом об образовании новых форм поведения мы
сталкиваемся впервые в связи с теорией обучения животных. Здесь в
наиболее простом и примитивном виде мы встречаемся с фактом появления
новых форм в процессе индивидуальной жизни животного. Здесь
появление этих форм протекает все время в наиболее доступном для
эксперимента виде. И поэтому издавна принципиальные вопросы, связанные
с этой проблемой, решались в теории обучения животных.
Но здесь, в связи с применением основного психологического
исследовательского принципа, этот вопрос для структурной психологии
ставится иначе, чем он ставился обычно. Обычно проблема обучения
ставилась с точки зрения чистого и последовательного эмпиризма как
.проблема выучки, тренировки и запоминания, короче — как проблема
памяти. Новое в этой постановке вопроса, которую мы находим у Коф-
фки, заключается в том, что он сдвигает в самой проблеме обучения
центр тяжести. Он переносит центр тяжести всей проблемы с памяти на
проблему появления так называемых первых новых действий.
Он говорит: «Проблема обучения не может быть формулирована
в вопросе как последующее действие зависит от первых. Это,
собственно, является проблемой памяти. Проблема обучения включает в себя,
прежде всего, вопрос: как же образуются эти первые новые формы
деятельности». Таким образом, вопрос о происхождении первых
новых действий, независимо от вопроса об их запоминании, закреплении
и воспроизведении, ставится в само начало этого исследования.
Рассматривая этот вопрос, Коффка развивает собственную
теорию, противопоставляя ее двум другим, с которыми мы сталкиваемся
при обсуждении этого вопроса в психологии: во-первых, теории проб
и ошибок, которая нашла свое высшее выражение в работах Торндайка,
а во-вторых, теории трех степеней, развитой Карлом Бюлером. В
борьбе против этих обеих теорий Коффка опирается главным образом на
фактический материал, добытый в процессе зоопсихологического
эксперимента над человекоподобными обезьянами В. Келером. Он, однако,
привлекает и другой материал, в частности, подвергает критическому
исследованию фактический материал самого Торндайка.
Правильное понимание проблемы развития в структурной
психологии невозможно без выяснения всей идейной ситуации, в которой она
только и приобретает свой полный смысл. Поэтому мы и обратимся
к короткому изложению тех двух теорий, из противопоставления
которым исходит новая психология.
Согласно теории проб и ошибок, всякое новое действие возникает
по принципу случайных действий, из которых отбирается известная
комбинация движений, соответствующая успешному разрешению
задачи, которая потом и закрепляется. «Но этот принцип,— говорит
Коффка, — не развязывает узел, а разрубает его. Согласно ему,
неврожденного поведения вообще не существует. Следовательно, не бывает
первого действия в смысле нового действия». И в самом деле: с точки зрения
этой теории существуют только врожденные формы деятельности,
новые же, возникающие в индивидуальном развитии действия
представляют собой не что иное, как случайно возникающие комбинации этих
врожденных реакций, отбирающихся по принципу проб и ошибок.
Коффка шаг за шагом подвергает исследованию конкретные факты,
которые привели к возникновению этого спорного принципа, и
приходит к совершенно убедительному выводу о несостоятельности теории
проб и ошибок. Он доказывает, что в опытах самого Торндайка
животное не только переживает определенную общую ситуацию, но
благодаря обучению образуется в самом начале расчленение в этой ситуации.
В ней возникает центральный пункт, по отношению к которому
остальные элементы ситуации приобретают подчиненное значение.
Вся ситуация не представляется животному совершенно слепо
и бессмысленно. «Ситуация в основном, — говорит Коффка, —
означает собой для животного следующее: положение, из которого я
должен проникнуть наружу к лежащей там пище. Животное как-то
связывает свои действия с находящейся снаружи пищей. Таким образом,
теория совершенно бессмысленного обучения является
несостоятельной».
Если внимательно рассмотреть, как это делает Коффка, шаг за
шагом ход всего эксперимента, который излагает Торндайк, нельзя не
согласиться с ним, что в процессе деятельности (освобождения из клетки)
отдельные элементы ситуации приобретают для животного
определенное значение, и что вместе с этим мы получаем в нашем анализе нечто
новое. Вообще говоря, обучение в опытах Торндайка приводит к
сенсорной области, как говорит Коффка, к новообразованиям. Животное
решает известные задачи и, следовательно, его деятельность не
является цепью случайных проб и ошибок.
Коффка ссылается на опыты Адамса, который приходит к выводу,
что обучение нельзя представлять как постепенное выключение беспо-
лезных движений. Он ссылается и на Толмена, который резюмирует
свой богатый опыт по изучению животных в следующих словах:
«Всякий процесс обучения есть процесс разрешения проблемы».
Таким образом, Коффка приходит к выводу, что и в опытах Торн-
дайка факты находятся в резком несоответствии с теоретическим
объяснением, которое привлекается для их истолкования. Факты говорят
о том, что животные ведут себя осмысленно, решая определенную
задачу, расчленяя воспринимаемую ситуацию, связывая свои движения
с целью, находящейся за пределами клетки. Теория объясняет их
действия как совокупность бессмысленных и слепых реакций, которые чисто
механически, благодаря внешнему успеху или неуспеху, закрепляются
или отбрасываются и, таким образом, приводят к возникновению чисто
суммативной комбинации ряда реакций, не только не связанных
внутренне между собой, но и не имеющих ничего общего с ситуацией, в
которой они возникли.
Насколько высоко Коффка ценил действия животных в опытах
Торндайка, можно узнать из того факта, который, как мы увидим ниже,
имеет принципиальное значение для всей его теории и который
состоит в том, что Коффка склонен рассматривать опыты Торндайка в свете
сравнительных опытов Руджера над людьми.
Руджер также ставил человека в ситуации, непонятные для него.
Результаты его исследования, как их излагает Коффка, сводятся к
установлению одного общего положения. Опыт, посредством которого
люди приходят к решению, в этих случаях очень часто похож на
поведение животных в опытах Торндайка. Таким образом, Коффка
выдвигает в качестве первого аргумента против этой теории проб и ошибок
ее несоответствие тем фактам, на основе которых она первоначально
возникла.
Но главным аргументом против этой теории являются для Коффки
знаменитые исследования В. Келера над человекообразными
обезьянами, который, как известно, установил с несомненностью наличие
осмысленных интеллектуальных действий в форме употребления орудий для
добывания цели или обходных движений, направленных к цели, у
человекоподобных обезьян. Мы не станем излагать эти прекрасно
описанные в книге Коффки опыты. Скажем только, что они являются для
Коффки центральным и основным аргументом в пользу отклонения теории
проб и ошибок.
Мы можем сформулировать новый принцип в положении, «что
животные по-настоящему решают новые задачи, перед которыми они
поставлены. Мы усматриваем сущность этого решения не в том, что
движения, из которых каждое само по себе доступно, вступают в новую
комбинацию, но в новом структурировании всего поля». Сущность это-
го последнего принципа сводится к тому, что, согласно опытам В. Келе-
ра, у животных возникает замкнутое, целенаправленное действие в
соответствии со структурой воспринимаемого поля.
Такое действие является диаметрально противоположным той
случайной комбинации реакций, которая возникает из слепых проб и
ошибок. Коффка приходит, таким образом, к совершенно иному взгляду на
обучение, нежели тот, который вытекает из теории Торндайка.
«Обучение, — говорит он, — никогда не бывает абсолютно специфичным.
Когда организм овладевает какой-нибудь задачей, он не только усваивает,
как решить снова такую же задачу, но становится способнее решать
и другие задачи, с которыми он раньше не мог справиться, потому что
в некоторых случаях новые процессы облегчаются другими
однородными процессами; в других случаях создаются новые условия, которые
делают возможными новые процессы» .
Таким образом, обучение действительно является развитием, а не
простым механическим приобретением изолированных форм
поведения. Только та теория кажется автору состоятельной, которая сумеет
объяснить, почему из бесчисленного количества отношений, которые
содержатся в ситуации, замечаются важнейшие, которые и определяют
поведение. «Мы говорим: по отношению к цели возникает осмысленная
структура поля. Решение и есть не что иное, как ее образование. Для нас
эта проблема не возникает, потому что другие отношения не создают
осмысленной структуры. Если исключить смысл и считать случайность
слепым воздействием механизма ассоциаций, то нужно объяснить,
почему осмысленные отношения замечаются, а бессмысленные нет».
Коффка приходит, таким образом, к выводу, что сущность
возникновения первых действий заключается в образовании новых структур.
Замечательным для всего его построения является тот факт, что этот
принцип структурности он прилагает не только к интеллектуальным
действиям человекоподобных обезьян, но и к действиям низших
животных в опытах Торндайка. Следовательно, в структурах Коффка видит
некоторый первичный, изначальный и, в сущности, примитивный
принцип организации поведения. Было бы ошибкой думать., что этот принцип
присущ только высшим или интеллектуальным формам деятельности.
Он присутствует и в самых элементарных и ранних формах развития.
«Эти рассуждения, — говорит автор, — утвердили нас в нашем пони-
В сущности, Коффка всецело остается на теоретических позициях Торндайка,
пытаясь вслед за ним теорию развития ребенка построить на данных и законах обучения
животных. Внутри этих позиций он пытается — вполне успешно изменить представление
о природе этих законов. Но методологический путь от зоопсихологии к психологии
ребенка остается и его путем. Он не задается даже вопросом, в какой мере вообще
возможно применять слово «обучение» к животным и к ребенку, сохраняя единство его значения.
мании примитивной природы структурных функций. Если
структурные функции действительно так примитивны, то они должны сказаться
и в примитивном поведении, которое мы называем инстинктивным».
Мы видим, как опровержение теории проб и ошибок приводит Коффку
к выводу, что структурный принцип в одинаковой мере приложим как
к высшим интеллектуальным действиям человекообразных обезьян, так
и к дрессировке низших млекопитающих в опытах Торндайка и,
наконец, к инстинктивным реакциям пауков и пчел.
Таким образом, в структурном принципе Коффка находит общее
положение, которое позволяет ему охватить с единой точки зрения как
самые примитивные (инстинктивные), так и новые, возникающие в
процессе дрессировки и интеллектуальной деятельности реакции
животного. Как мы видим, основой этого принципа является все то же
противопоставление осмысленного, замкнутого, целеустремленного процесса
случайной комбинации отдельных элементов-реакций. Но все значение
этого принципа станет нам ясным только тогда, когда мы сумеем
выяснить его расхождение с другой теорией, имеющей противоположный
характер. Это теория трех ступеней, согласно которой развитие
поведения проходит три основных этапа.
«За высшей степенью интеллекта, — излагает Коффка эту тео-
.рию, — как способностью делать открытия, следует ступень дрессуры,
чистой ассоциативной памяти, затем в качестве самой низкой
ступени — инстинкт. Инстинкт и дрессура имеют каждая свои
преимущества и недостатки. Преимущества инстинкта — уверенность и
законченность, с которым он действует в первый же раз, сразу. Преимущество
дрессуры — способность приспособления к отдельным
обстоятельствам жизни. В противоположность этому выступают отрицательные
стороны: окаменелость инстинктам инерция дрессуры, т.е. тот факт, что
обучение путем дрессуры требует очень долгого времени. В интеллекте
объединяются преимущества обеих низших ступеней».
Если теория Торндайка была направлена на доказательство
бессмысленности и случайности в возникновении новых действий у животных, то
теория Бюлера ставит слишком большие требования интеллектуальной
деятельности, слишком отрывает ее от низших ступеней и приписывает
только ей осмысленный и структурно-замкнутый характер. Бюлер исходит из
того положения, что разум предполагает суждение, которое
сопровождается переживанием уверенности, отсутствующим у шимпанзе.
Таким образом, если теория проб и ошибок пытается объяснить
возникновение новых действий у животных с точки зрения
механистического принципа случайного объединения элементарных разнородных
реакций, то теория трех ступеней пытается рассматривать развитие как
ряд внутренне не связанных друг с другом ступеней, которые не могут
быть охвачены единым принципом. «Каковы эти три формы
поведения? — спрашивает Коффка. Можно считать, что все они совершенно
различны. Тогда развитие состоит только в том, что каким-то
непонятным образом к одной из них присоединяется другая».
Критика Коффки направлена в этой теории, во-первых, против
утверждения Бюлера, что разум непременно предполагает суждение.
«Если даже такое ограничение действий соответствует тому, что носит
у взрослого человека название разумного, присутствие этого признака
в простейших формах разумного поведения, — говорит он, — не
является обязательным».
Во-вторых, Коффка пытается стереть резкие границы между
различными ступенями в развитии деятельности животных. Инстинкт для
него незаметно переходит в дрессуру. Между теорией ассоциативного
обучения и теорией инстинкта существует очень тесная зависимость.
Также пытается он стереть резкие границы, как это мы видели выше,
между дрессурой и интеллектом.
Он делает попытку принять не три совершенно гетерогенные
формы, а найти между ними известную зависимость. «Внимательный
читатель, — говорит он, — заметит, что для нас главную роль играет
определенный принцип, который в одинаковой мере относится к объяснению
инстинкта, дрессуры и интеллекта, т.е. принцип структурности. Мы
пытаемся самое явление, его внутреннюю замкнутость и
направленность применить в качестве главного принципа всякого объяснения.
Принцип структурности наиболее ясно выражен при интеллектуальной
деятельности. Мы пользуемся для объяснения низших форм,
следовательно, принципом, способным объяснить высшие формы поведения,
тогда как до сих пор, наоборот, принцип, которым считали возможным
объяснить примитивное поведение, переносили на высшие ступени.
Интеллект, дрессура и инстинкт, по нашему мнению, основаны на
различно образованных, различно обусловленных и различно протекающих
структурных функциях, но не различных аппаратах, которые в случае
надобности включаются, как полагает Бюлер».
Мы приходим, таким образом, к чрезвычайно важному выводу,
состоящему в том, что принцип структурности оказывается одинаково при-
ложимым ко всему многообразию психологических явлений в животном
мире, начиная с самых низших и кончая самыми высшими. В известном
смысле Коффка проделывает путь, обратный тому, который был
проложен предшествующими исследователями. Если Торндайк пытался
объяснить разумные по внешнему виду формы деятельности животного путем
сведения их к низшим, врожденным реакциям, то Коффка пытается идти
обратным путем — сверху вниз, прилагая найденный в
интеллектуальных действиях высших животных принцип структурности к объяснению
внешне бессмысленных действий животных при дрессуре и даже к их
инстинктам. Получается обобщение огромного размаха, грандиозное по
объему, охватывающее все формы психической деятельности — от самых
низших до самых высших. Это обобщение не ограничивается, однако,
только областью обучения. Оно переносится и на физиологические
явления, лежащие в основе всех видов психической деятельности. Коффка
ссылается на гипотезу Вертгеймера о структурности физиологических
явлений и на работы Лешли, который выдвинул динамическую теорию
физиологических процессов, которые выступают также в форме
организованных структурных явлений.
В этой попытке перенести принцип структурности и на
физиологические процессы, лежащие в основе психической деятельности,
Коффка видит средство спасения от психовитализма. Он пытается искать
в физиологических структурах нервной системы объяснения
психологическим структурам.
Опираясь на это, он говорит, что инстинкт, дрессура и
интеллект не суть три совершенно различных принципа, но во всех них мы
находим один и тот же принцип, различно выраженный. Благодаря
этому переход от одной ступени к другой становится текучим и
неопределенным, и оказывается невозможным установить, где
начинается интеллектуальное поведение в абсолютном смысле этого слова.
«Мы не можем сказать, — говорит он, — что интеллект начинается
там, где кончается инстинкт, потому что преувеличение
окаменелости инстинктивных действий было бы односторонним». Он говорит
далее, что наши интеллектуальные критерии можно было бы
применить к инстинктивному поведению даже у насекомых точно так же,
как и к человеческому.
Для завершения этой точки зрения надо сказать, что принцип
структурности переносится в новой психологии не только на
физиологические явления, лежащие в основе психической деятельности,
но и на все биологические процессы и явления в целом, и еще
дальше — на физические структуры. Коффка ссылается на известное
теоретическое исследование В. Келера, который поставил себе задачей
показать, что и в мире физических явлений мы имеем дело с
такими физическими системами, которые имеют все отличные признаки
структуры и представляют собой замкнутые целостные процессы,
в которых каждая отдельная часть определяется тем целым, к
которому она принадлежит.
Нам остается для того, чтобы закончить изложение этой теории
Коффки, привести собственные соображения относительно того места,
которое занимает эта теория по отношению к двум другим, которым
она противопоставляется.
«Если мы, — говорит Коффка, — сравним механистическую
теорию психического развития с трехступенной теорией Бюлера, мы
можем одну из них назвать унитарной, а вторую плюралистической. Как
же назвать нашу теорию? Она плюралистична потому, что
признает неограниченное число существенных структур и множество форм
структурного изменения. Но она не плюралистична в том смысле, что
она считает ограниченным числом постоянных способностей, как
рефлексы и инстинкты, способность дрессуры и интеллекта. Она унитарна
не в том смысле, что она относит всякий процесс к механизму нервных
соединений или ассоциаций, но тем, что ищет окончательного развития
в наиболее общих структурных законах».
Мы можем сейчас перейти к критическому рассмотрению только
что изложенной теории. Заметим с самого начала, что критика ее уже,
в сущности, содержится в готовом виде в фактах и обобщениях,
сообщаемых самим Коффкой. С них мы и начнем.
3. Центральным вопросом всего нашего критического
исследования этой проблемы должен быть вопрос относительно принципиальной
оценки и выяснения истинного смысла, истинной психологической
природы тех фактов, на которые опирается данная теория.
Нам думается, что эти факты всецело подтверждают чисто негативную
сторону теории Коффки. Они с полной убедительностью разбивают
механическую теорию проб и ошибок и полувиталистическую теорию трех
ступеней. Они действительно вскрывают несостоятельность как той, так
и другой. Но вместе с тем, при внимательном изучении их, при
сопоставлении их с более широким кругом явлений, в свете которых они приобретают
свое истинное значение, становится ясным, что в основе их объяснения,
приводимого автором, содержится, наряду с истинным, и ложное ядро.
В сущности, внутренним стержнем всего построения Коффки,
которое мы рассматриваем выше, является основной вывод, к которому
приходит В. Келер в результате своих исследований. Этот вывод В. Ке-
лер формулирует в виде общего положения, гласящего: «Мы находим
у шимпанзе разумное поведение того же самого рода, что и у человека.
Разумные действия шимпанзе не всегда имеют внешнее сходство с
действиями человека, но самый тип разумного поведения может быть у них
установлен с достоверностью при соответственно выбранных для
исследования условиях.
Антропоид выделяется из всего прочего животного царства и
приближается к человеку не только благодаря своим морфологическим
и физиологическим, в узком смысле этого слова, чертам, но он
обнаруживает также ту форму поведения, которая является специфически
человеческой. Мы знаем его соседей, стоящих ниже на эволюционной
лестнице, до сих пор очень мало, и то немногое, что нам известно, и дан-
ные этой книги не исключают возможности, что в области нашего
исследования антропоид также по разуму стоит ближе к человеку, чем ко
многим низшим видам обезьян».
С этим положением стоит и падает вся теория Коффки.
Поэтому первый вопрос, на который мы должны ответить, есть
вопрос о том, насколько принципиально состоятельным оказалось это
положение в свете дальнейших исследований, проделанных после В. Келе-
ра, насколько (в принципиальном смысле этого слова) человекоподобно
поведение обезьяны, насколько по разуму шимпанзе стоит ближе к
человеку, чем к низшим видам обезьян.
Из этого положения, как уже сказано, исходит во всем своем
построении Коффка. Как мы увидим дальше, тот принцип, который был найден
в этих исследованиях и который нашел свое наиболее отчетливое
выражение в интеллектуальных действиях шимпанзе, Коффка пытается
распространить, с одной стороны, вниз, объясняя дрессуру и инстинкт животных,
с другой стороны, вверх, объясняя все психологическое развитие ребенка.
Закономерно ли такое распространение этого принципа? Это зависит
исключительно от того, насколько те факты, на которых этот принцип был
добыт, по своей психологической природе приближаются и являются
родственными тем фактам, на которые его пытаются распространить.
Можно было бы сказать, что в современной психологии на наших
глазах возникает новая эпоха, которая почти еще не осознана
виднейшими представителями психологии и которая могла бы быть
обозначена как эпоха «после Келера». Она стоит в таком же отношении к
работам Келера, в каком его исследования стоят к работам Торндайка, т.е.
она является диалектическим отрицанием келеровской теории,
сохраняя его положения «в снятом виде».
Эта эпоха возникает у нас на глазах из двух исторических
тенденций, которые непосредственно вышли из работ Келера и, в частности,
в зародыше были намечены им самим. Однако для него они не меняли
существа дела и являлись, скорее, побочными и второстепенными
моментами, чем центральным ядром всей проблемы. Для него обе
тенденции, о которых мы скажем ниже, не могли поколебать основного
тезиса, согласно которому интеллект шимпанзе по типу и роду идентичен
человеческому и обнаруживает действия, специфические для человека.
Первая из этих тенденций заключается в попытке распространить
позитивные результаты работ Келера вниз. Вторая пытается
распространить их вверх.
Тезис В. Келера, что животные действуют, вопреки предположению
Торндайка, не механично, не слепо, но осмысленно, структурно,
человекоподобно, ставил себе прямую задачу несколько заполнить бездну,
вырытую Торндайком между человеком и животным.
Распространение этого тезиса совершалось в основном двумя
путями. С одной стороны, исследователи стали опускать келеровские
положения книзу, распространяя их на низших животных и находя у них,
в принципе, то же самое структурное осмысленное действие. Ряд
подобных работ показал, что критерий, который выдвинул В. Келер для
интеллектуальных действий и который он нашел в наиболее чистом виде
в интеллектуальных действиях обезьян, в сущности, не является
специфическим для интеллекта.
Как мы уже говорили, Коффка считает возможным применить этот
же критерий к инстинктивным действиям, полагая, что инстинкт,
дрессура и интеллект не суть три совершенно различных принципа, но во
всех них мы находим один и тот же принцип, различно выраженный.
Это и является, в сущности, убийственным для найденного Келером
принципа. «Возникновение решения как целого, в соответствии со
структурой поля, — говорит В. Келер, — можно принять за критерий
разума». Применяя этот критерий к дрессуре, как это сделал Коффка,
к инстинктивным действиям животных, как это сделали и другие
исследователи, последователи Келера оказали ему дурную услугу.
Продолжая с внешнего вида прямое развитие его идей, они
показали, что инстинктивные и выученные действия животных подчиняются
тому же самому критерию, что и интеллектуальные действия.
Следовательно, сам по себе выбранный критерий неспецифичен для интеллекта.
Все поведение животных оказалось одинаково осмысленным и
структурным. В крайних своих точках это движение привело к
восстановлению учения о мыслящих животных, к попытке доказать, что собаке
присуща способность усвоения человеческой речи.
Таким образом, беспредельно распространяясь вниз, эта идея
всеобщей осмысленности и структурности действий животных привела
к тому, что эти признаки перестали хотя бы сколько-нибудь отчетливо
выделять разумное поведение.как таковое. Все кошки оказались
серыми в сумерках этой всеобщей структурности: инстинктивные действия
пчелы в такой же мере, как и интеллектуальные действия шимпанзе.
Затем и за другим оказался один и тот же универсальный принцип, только
различно выраженный. Справедливо отметив связь между тремя
этапами развития психики, эта теория оказалась бессильной раскрыть
различия между ними. Нетрудно видеть, что в своем крайнем выражении эта
тенденция привела как раз к тому, чего пытался избежать Коффка, —
именно, к скрытому психовитализму, поскольку она возвратила нас
к учению о мыслящих и понимающих животных.
Вторая тенденция осуществлялась другими путями, которыми шли
другие исследователи, все более очеловечивая высших животных, все
поднимая обезьяну до человека, как это сделал, например, Иеркс, ко-
торый рассуждал приблизительно следующим образом: раз обезьяне
доступно употребление орудий, почему должна оказаться неудачной
попытка привить ей человеческую речь?
Таким образом, тезис В. Келера о человекоподобности действий
шимпанзе в дальнейшем развитии этой идеи породил тенденцию, с
одной стороны, доказать человекоподобность и самых примитивных
инстинктивных действий животных, подчиняющихся тому же принципу,
что и интеллект, а с другой стороны, тенденцию окончательно стереть
границы, отделяющие высших антропоидов от человека.
Смысл этих тенденций, которые непосредственно выросли из работ
В. Келера, заключается в том, чтобы довести до конца, до
логического предела основной принцип В. Келера об осмысленности и
структурности поведения животных. Этот принцип стал прослеживаться до
мелочей, до деталей, изгоняя все бессмысленное и слепое из области
зоопсихологии и раскрывая ситуационно-структурную осмысленность
каждого акта поведения.
Результатом обеих тенденций, которые, как это важно заметить,
с самого начала пытались только защитить, укрепить и углубить идею
В. Келера и нисколько не подозревали о том, что они приводят к
противоположному результату, явилось на самом деле, как уже сказано,
.отрицание породившего их учения, развитие которого, продолжаясь,
казалось бы, прямым логическим путем, привело к историческому
зигзагу, аналогичному тем зигзагам, которые мы наблюдали при переходе
от антропоморфистов к Торндайку и от Торндайка к Келеру.
Замечательный факт состоит в том, что дальнейшее
последовательно проведенное изучение найденного Келером реального явления
представило его во всей полноте и показало, что за видимым
сходством операций обезьяны с человеческим употреблением орудий стоит их
принципиальное различие, и что интеллект обезьяны, внешне сходный
с соответствующими действиями человека, именно по типу и роду не
идентичен человеческому.
Основную аргументацию в пользу этого тезиса, сам не
подозревая этого, приводит Коффка, хотя, как уже сказано, именно на этом
положении он строит всю свою теорию. Но, как легко доказать, ход
его рассуждений подрубает тот сук, на котором держится все его
построение.
Самое главное в его аргументации, гвоздь всего вопроса, основной
вывод цепи его рассуждений состоит в том, что и инстинктивное
действие оказывается целесообразным, осмысленным и замкнутым в своей
структуре, и, следовательно, критерий интеллекта, выдвинутый В.
Келером, оказывается вполне подходящим и к инстинктивным действиям.
Возникновение решения задачи как целого, в соответствии со структу-
рой поля, оказывается критерием, который не столько соответствует
специфически человеческому разумному действию, сколько самому
примитивному, инстинктивному действию животного.
Критерий интеллекта, выдвинутый В. Келером, оказывается, таким
образом, явно ошибочным. Структурное действие не есть еще тем
самым интеллектуальное. Оно может быть инстинктивным, как доказал
Коффка. Следовательно, этот признак не годится для выяснения
отличий интеллекта как такового. Этот критерий вполне подходит к любому
инстинктивному действию, например, к постройке ласточкой гнезда.
Здесь тоже, как правильно показывает Коффка, решение
инстинктивной задачи возникает как целое, в соответствии со структурой поля.
Если это так, то, следовательно, возникает предположение, что
и действия человекоподобных обезьян в опытах В. Келера, вообще
говоря, не поднимаются над уровнем инстинктивных действий и являются
по своей психологической природе гораздо более близкими к
инстинктивным действиям животных, чем к разумным действиям человека, хотя,
повторяем, с виду они чрезвычайно напоминают употребление орудий
в собственном смысле этого слова.
Сам Коффка в другой работе ставит перед собой этот вопрос и в
соглашении со всем тем, что изложено и в настоящей книге, решает его
совершенно в том же духе, как и мы, т.е. против основного вывода В.
Келера. Он не подозревает, однако, что вместе с тем он подрывает корни
собственной теории. Анализируя интеллектуальные действия
шимпанзе, он спрашивает: как обстоит дело с возникновением этих
интеллектуальных действий.
В келеровских опытах дело постоянно обстояло так, что перед
животным находился плод в недоступном месте, и животное стремилось
к овладению этим плодом, или, в наших терминах, шимпанзе находится
здесь, видимый плод там, т.е. возникает ситуация с нарушенным
равновесием, неустойчивая система, которая побуждает животное
восстановить ее равновесие. Но то обстоятельство, что плод побуждает
животное к действию, само по себе еще не есть ни в какой мере
интеллектуальное действие.
Мы выше видели, что это является признаком инстинкта, что он
создает для организма комплексы определенных условий, которые
нарушают его равновесие. Возникновение этих действий мы, следовательно,
должны обозначить как инстинктивное. Если бы плод был достижим по
прямому пути, то и весь процесс, который последовал бы вслед за этим,
мы должны были бы назвать инстинктивным. Следовательно, различие
между инстинктивным и интеллектуальным действиями заключается
не обязательно в возникновении действия, в нарушении равновесия, но
в том способе, с помощью которого равновесие восстанавливается.
Это приводит нас к другому полюсу, который обычно
противопоставляют инстинктивному действию, — к волевому действию. Является
ли каждое не инстинктивное (и квазиинстинктивное, автоматическое)
действие волевым действием? Имеет ли смысл действия шимпанзе
называть волевыми действиями? Я выдвигаю этот вопрос, прежде всего,
для того, чтобы показать, насколько надо быть осторожным при
употреблении обычных слов в приложении к психологической теории.
Чего хочет животное? Конечно, достать плод, но это желание
возникает не на основе волевого решения, но на инстинктивной основе.
К палке, оно, конечно, не стремится. Это было бы интеллектуалистиче-
ским толкованием, если бы мы сказали, что животное хочет раздобыть
палку как средство, в то время как к плоду оно стремится как к цели;
но просто палка приводит к удовлетворению его желания, потому что,
прежде чем оно сообразило, как использовать палку, оно вовсе и не
может стремиться к палке. Таким образом, существуют действия, которые
не являются ни инстинктивными, ни волевыми, но типическими
интеллектуальными действиями».
4. В сущности, того, что Коффка говорит в этих строках,
совершенно достаточно для того, чтобы видеть ту огромную принципиальную
пропасть, которая отделяет чисто инстинктивные действия обезьяны
.от интеллектуального и волевого процесса употребления орудий. Как
мы видели выше, Коффка пытается одним принципом охватить
инстинктивные и интеллектуальные процессы. Благодаря этому
стирается принципиальная разница между одними и другими. Инстинктивное
действие шимпанзе, как показывает сам Коффка, по внешности
чрезвычайно похоже на употребление орудий, но на самом деле не
имеющее с ним ничего общего, выдается за разумное поведение того же типа
и рода,что и человеческое.
Никто лучше самого В. Келера не выразил это различие между
деятельностью животного и человека. В одной из своих более поздних
работ он останавливается на вопросе: почему с этим употреблением
орудий не связываются у обезьяны даже самые малейшие начатки
культуры. Ответ на этот вопрос он видит отчасти в том обстоятельстве, что
«самый примитивный человек приготовляет палку для копанья даже
тогда, когда он не собирается копать немедленно, даже когда для него
отсутствуют сколько-нибудь ощутимым образом объективные условия
для использования орудий». Это обстоятельство, по мнению В. Келера,
стоит в несомненной связи с началом культуры.
Очевидно, сам по себе структурный принцип оказывается
недостаточным, если мы хотим к нему, как к общему знаменателю, свести эти
настолько принципиально различные между собой процессы,
насколько только могут быть различны психологические процессы животных
и человека. Эта независимость действия самого примитивного
человека при употреблении орудий от наличия инстинктивного побуждения
к действию и его независимость от актуально действующей оптической
ситуации является чертой, диаметрально противоположной самым
существенным признакам операций шимпанзе.
Для человека орудие остается орудием независимо от того,
находится ли оно сейчас в ситуации, требующей его использования, или нет.
Для животного предмет теряет свое функциональное значение вне
ситуации. Палка, которая не находится в одном зрительном поле с
целью, перестает животным восприниматься как орудие. Ящик (как на
этом останавливается подробно сам Коффка), на котором сидит другая
обезьяна, перестает служить орудием для доставания цели и начинает
восприниматься животным в новой ситуации как ящик для лежания.
Таким образом, орудие для животного не выделяется из наглядной
ситуации. Оно составляет не самостоятельную часть более общей
структуры и изменяет свое значение в зависимости от того, в какую ситуацию
оно входит. Благодаря этому, вещи, имеющие внешнее зрительное
сходство с палкой, как, например, соломинка, легко могут служить для
обезьяны иллюзорным орудием. Достаточно напомнить все эти факты, так
подробно анализируемые Коффкой в настоящей книге, для того, чтобы
видеть, насколько полярно противоположны инстинктивные действия
обезьяны и самое наипримитивнейшее употребление орудий человеком.
В общем, все последующие исследования настолько расширили
значение тех моментов, которые В. Келер сам выдвигает как
ограничительные в смысле идентичности поведения шимпанзе и человека, что они
изменили и смысл его основного утверждения. Уже В. Келер отмечает,
что у обезьян нет понимания механических сцеплений; что они не
могут в ситуации определять свое поведение ничем иным, кроме видимого
поля; что только мыслимое, только представляемое не может служить
определяющим моментом для их действий; что у них нет жизни даже
в самом ближайшем будущем.
Дальнейшие исследования показали, что мы имеем здесь дело не
с различиями в степени, но с такими принципиальными и коренными
признаками, которые превращают количественное различие, на
которое указывал В. Келер, в принципиальное качественное отличие
природы одного процесса от другого. Сравнительные исследования
инстинктивных операций шимпанзе с более простыми процессами у низших
животных, порожденные тенденцией распространить келеровский
принцип вниз, привели к установлению наличия этого принципа в
нижестоящих действиях и тем самым подорвали веру в то, что сам Коффка
показал, что этот принцип приложим уже к поведению животных при
дрессировке в опытах Торндайка.
Как мы видели выше, главнейшие аргументы против теории трех
ступеней, которая резко разрывает инстинкт и интеллект, Коффка
видит в том, что структурный принцип в одинаковой степени приложим
к инстинктивным и интеллектуальным действиям. Это приводит
автора к отказу от четкого выделения, от принципиального разграничения
интеллектуальных структур от инстинктивных. Келеровский принцип
растворяется, таким образом, в структурных действиях вообще.
Это слияние инстинктивных и интеллектуальных реакций под
общей крышей структурного принципа находит свое отчетливое
выражение в приведенных выше словах Коффки, в которых он недвусмысленно
устанавливает, что действия шимпанзе никак не могут быть отнесены
к типу волевых действий, и что по характеру своего возникновения они
нисколько не поднимаются над действиями инстинктивными.
Принципиальное отношение действующего животного к ситуации оказывается
тем же самым, какое мы наблюдаем и у ласточки при постройке гнезда.
Орудие же требует принципиально иного отношения к ситуации.
Как мы видели из приведенного выше примера В. Келера, оно
требует отношения к будущей ситуации, т.е. от актуально
воспринимаемой структуры оно требует обобщения. Таким орудием является только
то, что приложено к ряду оптически несходных ситуаций. Оно требует,
.наконец, от человека подчинения своих операций заранее намеченному
плану.
В нашу задачу не входит сколько-нибудь подробный обзор
психологии употребления орудий. Однако и приведенного выше достаточно для
того, чтобы видеть, насколько психологическая структура этой
операции в корне и по самой своей природе отлична от операции шимпанзе.
Как уже указано выше, другая тенденция — поднять обезьяну до
человека привела также к негативным результатам, так как в ряде
экспериментов было показано, что наличия человекоподобного разума
у шимпанзе оказывается совершенно недостаточно для того, чтобы
привить этим животным человекоподобную речь, но и вообще вызвать
у них сколько-нибудь человекоподобную деятельность.
Таким образом, и в своих положительных и в своих отрицательных
результатах эта тенденция привела к диалектическому отрицанию
положения В. Келера об идентичности интеллекта обезьян и человека.
Тенденция, состоящая в том, чтобы довести келеровский принцип
до логического предела, выявила, что принимаемое ранее этим
исследователем за силу интеллекта обезьяны, т.е. его полная структурная
осмысленность, наличие ситуационного смысла в операциях, оказалось
ее слабостью. Животные, по выражению В. Келера, употребленному им
в другой работе, оказываются рабами своего зрительного поля.
Свободное же намерение является совершенно необходимым элементом под-
линного употребления орудий и отличает человека от животного, по
правильному замечанию К. Левина, больше, чем интеллект.
«Как это я наблюдал много раз, — говорит В. Келер, — среди моих
обезьян, животные также оказались неспособными изменить данную
сенсорную организацию волевым усилием. Они являются в гораздо
большей степени, чем человек, рабами своего сенсорного поля».
Действительно, все поведение обезьян, как оно представлено в книге Коффки,
показывает, что животные в своих действиях оказываются в рабской
зависимости от структуры зрительного поля. У них возникают только
такие намерения, на которые их толкают те или иные структурные
моменты самой ситуации.
Как говорит К. Левин, «сам по себе замечателен тот факт, что
человек обладает совершенно необыкновенной свободой создавать
намерения в отношении любых и даже бессмысленных действий. Эта свобода
характера для культурного человека. Она наличествует у детей
примитивов в значительно меньшей степени и отличает человека,
по-видимому, от наиболее близко стоящих к нему животных в гораздо большей
степени, чем его более высокий интеллект».
В сущности, легко заметить, что все названные авторы, говоря о том,
что животные являются рабами зрительного поля — Коффка, указывая
на не волевую, а инстинктивную природу операций шимпанзе; Левин,
выделяя свободу намерения как наиболее разительную черту отличия
между человеком и животным, — все имеют в виду один и тот же факт,
хорошо замечаемый этими авторами, но недостаточно оцениваемый
ими с принципиальной стороны, так как он не приводит их, казалось
бы, к очевидному заключению о невозможности при таком
принципиальном отличии операций единого принципа.
Более поздние исследования, например, Меерсона и Гийома,
показали, что, если можно говорить о человекоподобности операций
шимпанзе, то только по отношению к человеку с больным мозгом,
страдающему афазией, т.е. утратившему речь и все связанные с ней
специфические особенности человеческого интеллекта. Характеризуя поведение
этих больных, Гельб обращает внимание на то, что они вместе с речью
очень часто утрачивают специфическое для человека свободное
отношение к ситуации, возможность образования свободного намерения
и оказываются такими же рабами своего сенсорного поля, каким
оказываются в исследованиях В. Келера шимпанзе.
Только человек, по прекрасному выражению Гельба, может сделать
нечто бессмысленное, т.е. нечто, не вытекающее непосредственно из
воспринимаемой ситуации и являющееся бессмысленным с точки
зрения данной актуальной ситуации, как, например, приготовление палки
для копания, когда отсутствуют объективные условия для использова-
ния орудия и субъективные условия в виде голода. Но исследования
показали обратное в отношении животных: шимпанзе не выделяет орудия
из всей данной ситуации в целом; орудие лишено для него всякой
преданности, и, следовательно, осмысленность поведения шимпанзе
ничего общего, кроме самого слова, не имеет с осмысленностью поведения
самого наипримитивнейшего человека при действительности
употребления орудий.
Только это делает для нас понятным тот замечательный факт, на
который обращает внимание и сам В. Келер, а именно то, что
человекоподобный интеллект, сделавшийся достоянием шимпанзе, ничего не
изменил в системе сознания обезьяны и явился, говоря языком
зоопсихологии, продуктом эволюции по чистой, но не смешанной линии .
Это значит, что он является несомненным новообразованием, но
не перестроившим всей системы сознания и отношения к
действительности, свойственных животному, иначе говоря, что в опытах В. Келера
перед нами — интеллектуальные операции в системе инстинктивного
сознания.
В качестве самого главного основного вывода, который является
гвоздем всего вопроса, мы могли бы отметить, что в своих самых
существенных чертах интеллектуальная операция шимпанзе, которую
.Коффка выделяет в качестве фактического фундамента для
обоснования своего единственного принципа объяснения всей детской
психологии, оказывается принципиально ничем не отличающейся от любой
инстинктивной реакции, если оставаться всецело в пределах
структурного принципа как такового, не вводя дополнительных критериев,
позволяющих различать высшее и низшее. В этом смысле мы можем
обратить против структуралистов их же собственное оружие.
Опираясь на выдвинутый ими принцип зависимости части целого, мы могли
бы сказать, что природа интеллекта, который принадлежит к другой
структуре сознания, не может быть принципиально иной, чем природа
интеллекта, встречающегося в совершенно новом целом, каким
является сознание человека.
Такая попытка изолированного сближения одной узкой области
деятельности вне зависимости от целого, в сущности, стоит в
принципиальном противоречии с тем структурным принципом, на который
опирается сам Коффка. В самом деле, ведь инстинктивное действие
оказывается целесообразным и структурно-осмысленным в своей ситуации,
но оказывается бессмысленным за ее пределами. Обезьяна, — и это
надо считать вполне доказанным, — действует разумно тоже
исключительно в пределах поля и его структуры. Вне его она действует слепо.
См.: Вагнер В.А. Возникновение психических способностей. 1928. Вып. VII.
Таким образом, фактическое обоснование структурного принципа
лежит всецело в царстве инстинкта.
Недаром Коффка с полным основанием выдвигает это в качестве
основного аргумента против теории трех ступеней Бюлера. Было бы,
однако, неправильным думать, что, возражая против этого принципа,
мы возвращаемся к теории трех ступеней Бюлера. Коффка совершенно
прав, когда показывает, что это учение является продуктом глубокого
заблуждения. В сущности, все три ступени даны внутри одной — внутри
инстинкта. Ведь условный рефлекс, являющийся типичным
представителем второй ступени по Бюлеру, это тот же инстинкт, но
индивидуализированный, приспособленный к специальным условиям. Самый
характер деятельности остается при этом настолько инстинктивно
обусловленным, как и при безусловном рефлексе. То же самое, как мы видели,
всецело относится и к поведению обезьяны, которое представляет, как
и условный рефлекс, нечто новое в смысле структуры исполнительного
механизма и условий своего проявления, но лежит еще всецело в
плоскости инстинктивного сознания.
Самая попытка Бюлера охватить теорией трех ступеней все
развитие животных и человека является в такой же мере неубедительной, как
и попытка структуралистов стереть принципиальную грань между
инстинктом и интеллектом .
Мы видим, таким образом, что высший продукт животного развития
т. е. интеллект шимпанзе, не идентичен по роду и по типу человеческому
интеллекту. Это немаловажный вывод. Одного его достаточно для того,
чтобы заставить нас в корне пересмотреть правомерность применения
структурного принципа у Коффки к объяснению психологического
развития ребенка. Если высший продукт животного развития
человекоподобен, то следует заключить, что и развитие, которое привело к его
возникновению, принципиально иное, чем то, которое лежит в основе
совершенствования человеческого интеллекта.
Одного этого достаточно для того, чтобы признать, что вся
натуралистическая психология, в том числе и структурная, рассматривающая
человеческое сознание как продукт только природы, а не истории, тем
самым, что она пытается охватить одним понятием структуры всю
психологию животных и человека, окажется всегда несостоятельной перед
лицом фактов. Она будет по необходимости метафизична, а не диалек-
Теории Коффки и Бюлера, в сущности, не столь противоположны, как это
изображает автор. Они представляют, скорее, два варианта единой схемы, пытающейся
охватить все психологическое развитие животных и человека единым принципом. В этом
отношении позиции авторов совпадают. Мы уже указывали, что это же объединяет теорию
Коффки с теорией Торндайка. Основная идея натуралистической психологии остается
незыблемой.
тична. Как известно, работа В. Келера полемически направлена против
господствовавших до него механических воззрений Торндайка. В этой
части его работа сохраняет свое полное принципиальное значение. Он
доказал, что шимпанзе не автоматы, что они действуют осмысленно,
что разумные операции у животных возникают неслучайно, не путем
проб и ошибок, не как механический конгломерат отдельных элементов.
Это — прочное и незыблемое завоевание теоретической психологии, от
которого нельзя отказаться при решении любой проблемы развития.
Поэтому, если рассмотреть его положения с этой стороны, снизу,
по сравнению со слепыми и бессмысленными действиями животных
они сохраняют свою полную силу. Но если посмотреть на них с другой
стороны, — сверху, если сравнить их с действительным
употреблением орудий у человека, если поставить перед собой вопрос: являются ли
шимпанзе по интеллекту ближе стоящим к человеку или к низшим
обезьянам, — придется дать на этот вопрос ответ, прямо
противоположный тому, который мы находим у В. Келера.
Отличие между действиями обезьяны в опытах В. Келера и
поведением животных в опытах Торндайка, т.е. отличия между осмысленными
и слепыми действиями животных, окажутся принципиально менее
важными, чем отличия операций шимпанзе от действительного
употребления орудий. Операции шимпанзе более принципиально отличны от
употребления орудия у человека в подлинном смысле, чем от
инстинктивной и условно-рефлекторной деятельности животных. Поэтому-то
Коффка прав, когда, в отличие от теории животных трех ступеней,
указывает на внутреннее родство, проникающее все эти три ступени
животной психики.
Интеллект шимпанзе, таким образом, представляется нам, скорее,
высшим продуктом поведения в животном царстве, чем самым низшим
в царстве человеческого мышления. Это, скорее, последнее и
завершительное звено животной эволюции, чем самое смутное начало истории
человеческого сознания.
Как уже сказано, у человека при ряде заболеваний коры головного
мозга, особенно его специфически человеческих областей, мы
наблюдаем поведение, до некоторой степени сходное с поведением обезьяны.
Мы готовы настаивать на том, что только здесь законны и
допустимы параллели между поведением шимпанзе и человека, только здесь
(и только в смысле отдельных черт) мы находим действительную, а не
мнимую аналогию, действительную идентичность двух
интеллектуальных процессов.
Когда мы узнаем о подобном больном, что он способен налить себе
воду из графина в стакан, если он хочет пить, но в другой ситуации не
способен проделать ту же самую операцию произвольно, — мы узнаем,
в сущности, поведение, действительно аналогичное тому, с каким мы
встречаемся у обезьян, когда она переставляет ящик, на котором лежит
другое животное, узнавать ту же самую вещь, то же самое орудие,
которое в другой ситуации она использует таким, с внешней стороны,
человекоподобным образом.
Мы думаем, как уже сказано, что операции с шимпанзе с так
называемым употреблением орудий стоят в гораздо более близком
соседстве и внутреннем родстве с постройкой гнезда ласточкой, чем с самым
примитивным употреблением орудий у человека.
Мы потому так подробно останавливаемся на критике основного
принципа Коффки, что только критика фундаментального принципа,
лежащего в основе всего его построения, может быть фундаментальной
критикой всей его теории детской психологии.
5. Мы затронули на этих страницах самые важные, самые
существенные грани, за которыми начинаются специфические человеческие
проблемы психологии и психологического развития ребенка, — то, что
отличает человека от животного в целом, во всем строении его сознания
и отношения к действительности, а не в смысле сходства той или иной
частичной функции.
Таким образом, мы выяснили основной тезис нашего критического
исследования. Главный порок всей работы Коффки заключается в том,
что он пытается свести основные явления психологического развития
ребенка к тому принципу, который является доминирующим в
психологии животных. Он пытается выстроить в один ряд психологическое
развитие животного и развитие ребенка. Он хочет охватить одним
принципом животное и человека.
Естественно, что он наталкивается при этом на жесткое
сопротивление фактов. Мы рассмотрим только два основных примера, в
которых ярко выражено это сопротивление фактов попытке подвести их под
одну крышу с рядом фактов, добытых в экспериментальном
исследовании животных.
Начнем с практического интеллекта. Замечательным, с нашей точки
зрения, является то обстоятельство, что найденные Келером у
животных интеллектуальные операции, как показывает исследование, сами по
себе неспособны к развитию. Келер, как говорит сам Коффка,
оценивает очень низко предел возможности развития здесь.
В другом месте Коффка говорит еще более отчетливо, сравнивая
поведение детей и животных в операциях, требующих практического
интеллекта. Он останавливается на данных Альперта, которые показали,
что у детей в первые годы жизни эти способности быстро развиваются,
в то время как обезьяны, несмотря на частые упражнения, почти не
прогрессируют в этом направлении.
Аналогичные положения мы встречаем и при рассмотрении
проблемы подражания. Снова Коффка исходит из аналогии между
подражанием у животных и подражанием ребенка. То и другое подчиняется
структурным законам. Различие между низшими и высшими формами
подражания он считает несущественным и говорит, что проблема
подражания превратилась для него в «общую структурную проблему,
подобную проблеме: как из структуры восприятия возникает структура
движения».
Однако при рассмотрении роли подражания в развитии мы опять
сталкиваемся с тем же отличием, о котором говорили выше. Келер пишет:
«К сожалению, даже у шимпанзе подражание наблюдается очень
редко и всегда только тогда, когда данная ситуация, так же как и решение,
находится почти в тех же границах, как и при совершении спонтанных
действий». Таким образом, животное, даже самое разумное,
оказывается способным подражать только тому, что более или менее близко стоит
к его собственным возможностям. В отличие от этого, для ребенка
подражание в основном является путем для приобретения таких деятельно-
стей, которые выходят совершенно за пределы его собственных
возможностей, является средством для приобретения таких функций, как речь
и все высшие психологические функции. В этом смысле, говорит Коффка,
лодражание является мощным фактором развития.
Если даже ограничиться двумя примерами, на которых мы
остановились до сих пор, можно отчетливо сформулировать основной вопрос,
на который мы тщетно будем искать ответ в работе Коффки. Если верно,
что практический интеллект ребенка и его подражание, в принципе,
могут быть поняты из ссылки на те же самые законы, которые
обусловливают деятельность этих двух функций у шимпанзе, то чем объяснить тот
факт, что обе эти функции играют в развитии ребенка принципиально
иную роль, чем в поведении обезьяны. Именно с точки зрения развития,
разница оказывается более существенной, чем сходство.
Следовательно, структурный принцип оказывается в наших глазах недостаточным
для того, чтобы объяснить то, что является центральным ядром всей
проблемы, именно — развитие.
Мы не станем останавливаться на дальнейших примерах, богато
рассыпанных по страницам этой книги и говорящих о том, что в общих
формулах нами уже выражено выше. Читатель найдет легко немало
мест в этой книге, которые покажут ему гораздо ярче, чем это можно
сделать в беглом предисловии, насколько неразрывно связаны действия
шимпанзе с инстинктивной мотивацией и аффектом, насколько они
неотделимы от непосредственного действия, насколько в самом
восприятии животные лишены предметного отношения к орудию и
оказываются в рабской зависимости от видимой ситуации.
В свете того, что сказано выше, читатель не сумеет без удивления
следить за основной лейтлинией Коффки, который все время
очерчивает контуры одной идеи — идеи одинаковости, принципиальной
идентичности поведения животного и человека. Достаточно будет
посмотреть на черты, характеризующие связанность операций шимпанзе
наглядной ситуацией, для того чтобы найти еще множество
фактических доказательств в пользу нашей мысли о неправомерности
распространения структурного принципа в качестве основного на всю область
психологического развития ребенка.
Нам остается еще для окончательного выражения нашей мысли
сформулировать последнее. Как мы указывали выше, пафосом всей
структурной психологии является идея осмысленности
психологических процессов, которой противопоставляется механическая, слепая
бессмысленность, приписывавшаяся им в более старых теориях. Но
после сказанного выше едва ли могут остаться какие-либо сомнения в том,
что эту осмысленность новая психология рассматривает как
принципиально тождественную у животных и у человека. Все то, о чем мы
говорили раньше, заставляет нас признать в этом коренной порок
структурного принципа.
Нам остается еще показать, что осмысленность, о которой говорит
Коффка по поводу действий животных, и осмысленность, о которой
идет речь в психологическом развитии ребенка, хотя и являются —
та и другая — структурными феноменами, но представляют собой по
своей психологической природе две различных категории
осмысленности.
Никто не станет спорить против основной идеи, заключающейся
в том, что исследование психологического развития должно раскрыть
возникновение осмысленного отношения к действительности,
осмысленного переживания, но гвоздь вопроса заключается в том, что
одинаковая или различная осмысленность присуща сознанию животного
и человека.
Коффка говорит, что существенным признаком тех операций, в
которых он видит фактическое обоснование структурного принципа,
является возникновение осмысленного восприятия ситуаций. Он говорит,
что «действие носит разумный характер, если значение ситуации
воспринято сознательно. Точно так же и перенесение, т.е. успешное
применение усвоенного в известных условиях способа в новых измененных
условиях есть всегда осмысленное перенесение, предполагающее
понимание. Однажды усвоенное значение распространяется на все другие
предметы, которые имеют общие свойства с данным. Таким образом, —
говорит он, — перенесение есть осмысленное применение структурного
принципа».
Эта идея осмысленности настолько доминирует во всех описаниях
и анализах Коффки, что с несомненностью выдвигается на первое место
во всем его построении. Однако самая осмысленность ситуации, с
которой мы встречаемся в поведении животного и в поведении ребенка,
в обоих случаях принципиально разная.
Мы позволим себе проиллюстрировать это только на одном
примере. Коффка приводит опыты с неудачными решениями у детей. Эти
опыты могут служить примером, имеющим более общее значение, чем то,
которое приписывает ему автор. Так, в одном из опытов ребенок
оказывается несостоятельным перед задачей, требующей применения
палки. Объясняется это просто. Ребенок имел палку, которую использовал
в качестве лошадки до тех пор, пока это не было ему строго запрещено.
Существующая в ситуации палка, похожая на ту, которой ребенок
прежде играл, благодаря этому получила характер запрещенного и потому
не могла быть привлечена к решению.
Аналогичное явление наблюдала Тюдор Гарт при опытах с
ящиками, стоявшими в комнате перед рядом стульев.
Почти все дети без исключения не сумели справиться с задачей.
Причиной было то, что им строго запрещалось становиться на стулья.
Когда этот опыт с ящиками был повторен потом на площадке для игр,
.были получены положительные результаты.
Этот пример отчетливо показывает то, что мы имеем в виду.
Очевидно, палка, которая приобрела значение запрещенного, или действие —
становиться на стул, — которое также осязалось под запретом самым
существенным образом, отличаются от ящика, в котором шимпанзе не
узнает более подставки для доставания плода из-за того, что на нем
лежит другое животное. Очевидно, вещи в этих опытах с детьми
приобрели значение, выходящее за пределы оптического поля.
Трудность использовать стул в качестве подставки или палку в
качестве орудия заключается не в том, что ребенок потерял в ситуации
восприятие этих вещей с точки зрения их пригодности для достижения
цели. Причина оказывается в том, что вещи для ребенка приобрели
действительно некоторое значение, именно, значение стула или палки,
которыми ребенок не должен играть, иначе говоря, в решение задачи для
ребенка вплетаются социальные правила.
Думается, что в этих примерах мы сталкиваемся с моментом,
который является отнюдь не исключением из общего правила для поведения
ребенка в аналогичной ситуации.
В наших опытах мы неоднократно сталкивались с таким
положением вещей, когда ребенок, приступая к решению задачи, удивительным
образом не использует явно находящихся в поле его зрения вещей, как
бы молча допуская, что он должен действовать в ситуации по извест-
ному правилу. Только разрешение использовать палку или стул
приводит к тому, что ребенок моментально решает задачу. Эти опыты
показывают, в какой мере для ребенка видимая ситуация является частью
более сложного смыслового, если можно так выразиться, поля, внутри
которого вещи только и могут вступать в определенные отношения друг
к другу.
В этих случаях мы видим разительные примеры того, что отчетливо
сказывается и во всех остальных опытах с ребенком, главнейший
результат которых заключается в том, что в решении задачи у ребенка на
первый план выступают законы смыслового поля, т.е. то, каким
образом ребенок осмысливает ситуацию и свое к ней отношение. (Мы имеем
в виду, в сущности, вопрос, поставленный Келером относительно того,
в какой мере шимпанзе может определяться в своем отношении к
ситуации и в своем поведении неналичными и ненаглядными элементами,
«только мыслимым», только представлениями, т.е. всем тем, чему
принадлежит наибольшее значение в человеческом мышлении.
Это мы и называем условно смысловым полем по аналогии с
оптическим полем В. Келера.)
Здесь имеет место то, что составит предмет нашего рассмотрения
в одной из следующих глав, — именно, проблема речи и мышления.
К этому вопросу, как говорит Коффка, относится, пожалуй,
большинство проблем, потому что наиболее трудным является ответить на
вопрос, как «человек путем мышления освобождается от
непосредственного восприятия и тем самым приходит к овладению миром». Вот
это освобождение путем мышления от непосредственного
восприятия — на основе практики — и является самым важным результатом,
к которому приводит нас изучение опытов с ребенком. В этом процессе,
как показали наши опыты, существенную роль играет слово, о котором
сам Коффка говорит, что в известный период детского развития
слово перестает быть связанным с желанием и аффектом и образует связь
с вещами.
Как показывают опыты, слово освобождает ребенка от той рабской
зависимости, которую наблюдал Келер у своих животных. Оно
освобождает действия ребенка. Оно же, наполняя смыслом и обобщая
видимые элементы ситуации, приводит к возникновению предметности
орудия, которое остается самим собой, независимо от того, в какую
структуру этот предмет входит.
Тот факт, что ребенок во время решения задачи обыкновенно
разговаривает сам с собой, не является новым. Его наблюдали многие
исследователи и до нас. Нет почти ни одного из опубликованных до сих пор
протоколов аналогичных последований, в которых не подтверждался
бы этот факт.
Но огромное большинство исследователей проходит мимо этого
факта, не понимая его принципиального значения, не видя, что слово
и связанное с ним значение ставит ребенка в принципиально новые
отношения к ситуации, изменяет коренным образом самый простой акт
его восприятия, создает ту возможность свободного намерения, о
которой говорит К. Левин как о самой существенной черте, отличающей
человека от животного .
Мы не станем здесь останавливаться подробно на этих опытах, на
которые мы уже ссылались в другом месте. Скажем только, что
попытка рассматривать речь, сопровождающую практические действия
ребенка, как простой аккомпанемент к его активности, противоречит
структурному принципу, выдвигаемому самим Коффкой. Считать, что
факт включения речи, а вместе с ней и смыслового поля, в деятельность
ребенка в определенной ситуации оставляет без изменения структуру
самой его операции, — значит встать на антиструктурную точку зрения
и вступить в резкое противоречие с тем, на что опирается сам автор.
Таким образом, исходя из его же собственного принципа, он
должен был бы признать, что практические операции ребенка
принципиально отличны от аналогичных по внешнему виду операций животного.
6. Мы можем теперь заключить наше рассмотрение первого принци-
ла, лежащего в основе рассматриваемой книги и подвести итоги
полученным результатам. После всего сказанного выше едва ли могут остаться
сомнения в том, что теория Коффка представляет собой чрезвычайно
смелую и грандиозную попытку сведения высших форм деятельности
человеческого ребенка к низшим, наблюдающимся у животных.
Нетрудно видеть, что такое сведение всех высших форм
осмысленности человеческого действия и восприятия к осмысленности низших
инстинктивных действий животных является, в сущности говоря, очень
дорогой ценой, которую автору приходится платить за преодоление
витализма. Он преодолевает витализм, делая уступку механицизму, ибо,
по существу дела, механистическими являются не только те теории,
которые сводят поведение человека к деятельности машины, но и те,
которые сводят поведение человека к деятельности животных. В этом
самое основное расхождение в понимании механицизма между нами
и Коффкой.
Как легко видеть из доклада Коффки , посвященного этой
проблеме, он главную опасность механицизма видит только в том, что живое,
сознательное, сводится к мертвому, автоматическому, неорганиче-
Типической в этом отношении является работа Lipmann u. Bogen, «Naive hysik»,
посвященная исследованию практического интеллекта ребенка.
См. журнал «Психология», 1932 г. (доклад в Гос. ин-те экспериментальной
психологии «Прототип механицизма и витализма в современной психологии»).
скому. Он понимает механицизм в буквальном смысле этого слова как
сведение к механизму. Поэтому он думает, что если только мертвую
природу понимать не с точки зрения принципа механизма, но с точки
зрения физических систем, как это делает Келер в своих
исследованиях, т.е. если допустить в самой неорганической природе наличие
структурно-целостных процессов, определяющих роль и значение
своих составных частей, то такое сведение станет принципиально
возможным.
Но такое преодоление витализма, которое пытается свести
поведение человека к закономерностям, наблюдающимся в поведении
животных, означает на самом деле остановку на полпути. Это, конечно,
стоит выше попытки Торндайка истолковать деятельность, связанную
с высшими процессами чисто автоматически, но это все же
представляет собой чистый механицизм в собственном смысле слова.
Если, таким образом, попытка охватить единым структурным
принципом поведение животных и человека приводит Коффка к
преодолению витализма ценой уступок механицизму и заставляет его
остановиться на полпути, то она же приводит и к обратному результату,
именно, к преодолению механицизма путем уступок витализму, т.е. снова
заставляет его остановиться на полпути между механицизмом и
витализмом. Эта позиция — на полпути между двумя тупиками современной
научной мысли — является самой характерной для современной
структурной психологии и для книги Коффки в частности.
Твердо укрепившись в этой промежуточной позиции, эти психологи
видят себя одинаково удаленными как от механицизма, так и от
витализма. На самом деле они движутся всецело по тому же самому пути,
который определяется этими двумя точками, и неосознанно
включают в свои построения нечто от этих крайних полюсов, от которых они
пытаются оттолкнуться. На самом деле попытка Коффка приложить
структурный принцип с его идеей осмысленности к инстинктивной
деятельности неизбежно приводит к тому, что инстинкты интеллек-
туализируются, т.е. самое важное, с его точки зрения, возникает не
в развитии, а дано с самого начала. Структура оказывается
изначальным феноменом, который стоит в начале всего развития. Далее все идет
путем логического вывода, путем дальнейшего размножения структур.
Недаром в своем анализе инстинктов Коффка оставляет в стороне
другую проблему — всю неразумность, всю слепоту, всю неосмысленность
инстинкта. И допуская осмысленность как изначальный феномен,
существующий до самого процесса развития, он тем самым чрезвычайно
облегчает себе задачу, труднейшую из всех, перед которой когда-либо
стояли психологи-исследователи, т.е. задачу объяснить
происхождение и возникновение осмысленности.
В самом деле, если все осмысленно, то так же точно теряется грань
между осмысленным и бессмысленным, как если все бессмысленно. Все
сводится, как и у Торндайка, к одной категории — более или менее.
Детское развитие и развитие животного не расчленено. По выражению
самого Коффки, то и другое, т.е. центральную проблему сравнительной
психологии и центральную проблему детской психологии он пытается
слить воедино.
Он говорит, что «для того, чтобы дать широкое обоснование
предлагаемому им объяснению психологического развития ребенка,
необходимо включить в изложение и другие области сравнительной
психологии. Обе цели тесно связаны между собой. Я пытался слить их
воедино, создать однородный «гештальт», а не отрывочное изложение
всех параллельных проблем». Но в этом и заключается ахиллесова пята
всей этой работы. Попытка слить воедино развитие ребенка и развитие
животного, создать единую, нерасчлененную структуру, в которую то
и другое входит несамостоятельными частями, означает создать самый
(говоря словами самого Коффки) примитивный «гештальт», который,
как он прекрасно показал в рассматриваемой книге, свойственен
ранним, первоначальным ступеням развития научного познания.
То, что Коффка говорит, характеризуя первые структуры
младенческого сознания, может всецело относиться с теоретической стороны
и к его собственной единой структуре животного и детского развития.
Он говорит: «Мы подчеркиваем, что дело идет об очень простых
ситуациях, и структуры, которые мы воспринимаем первыми, также наиболее
просто сконструированы. Некоторое качество на однообразном фоне».
Буквально теми же словами можно было бы выразить кратко и наше
впечатление от структуры, которая представлена в теории Коффки:
некоторое качество на однородном фоне. Это качество — структурность,
осмысленность, которые еще не дифференцированы, еще не расчленены.
Таким образом, перед нами — последовательная натуралистическая
теория психологического развития ребенка, сознательно сливающая
животное и человеческое, игнорирующая историческую природу
развития человеческого сознания, в которой специфически человеческие
проблемы выступают только в качестве фактического материала, а не
в принципиальной основе самой теории. Неудивительно, что эти
специфически человеческие проблемы психологического развития ребенка
там, где они говорят языком фактов, оказывают жестокое
сопротивление натуралистической попытке истолкования и пытаются разорвать
оболочку этого единого, нерасчлененного «гештальта».
Поэтому, когда Коффка вспоминает замечательное выражение Ке-
лера, гласящее, что само по себе разумное поведение и
интеллектуальные способности сопротивляются интеллектуалистическим объяснени-
ям, что интеллектуализм нигде не оказывается так мало состоятельным,
как в области проблем интеллекта, — он, в сущности, приводит
аргумент против самого себя, ибо именно он пытается интеллектуалисти-
чески, т.е. исходя из природы интеллектуальной операции шимпанзе,
объяснить основной принцип развития. Но что же другое означает
интеллектуализм, как не попытку понять развитие как аналог
интеллектуальной операции?
Правда, Коффка пытается лишить это утверждение его жала тем,
что он, как мы видели, растворяет интеллектуальные процессы в
инстинктивной деятельности. Но тем самым он достигает еще худшего
результата, т.е. фактически объясняет с этой же точки зрения и самые
примитивные формы поведения.
В целом теория Коффки нарушает им же самим выбранный за
основу решающий принцип. Как известно, этот принцип заключается в
признании примата целого над частями. Если быть верным этому принципу,
следует признать, что раз вся структура, вся система сознания человека
другая, чем структура сознания животного, то отождествление одного
какого-либо частичного элемента одной и другой структуры
(интеллектуальной операции) становится невозможным, ибо смысл этого
элемента становится ясен только в свете того целого, в состав которого он
входит.
Так, самый принцип структурности указывает основную ошибку
всего теоретического построения Коффки. Истина его теории освещает
его заблуждения.
Вывод, к которому мы приходим на основании предшествующего
рассмотрения теории Коффки, неожиданно приводит нас к
парадоксальным результатам. Мы помним, что сам Коффка характеризовал
путь своего исследования как путь сверху вниз, отличный от обычного
пути снизу вверх.
Сущность его Коффка видит в том, что в то время как обычно
принципы, найденные в низших формах деятельности, прилагались к
объяснению высших, он пытается принципы, найденные в высших формах
деятельности, применить для объяснения низших. Но все-таки и путь
Коффки оказывается путем снизу вверх.
Принципом, найденным в поведении животных, он пытается снизу
осветить психологическое развитие ребенка.
Положение Коффки с применением структурного принципа к
объяснению всего богатого содержания детской психологии очень
напоминает аналогичную ситуацию, которую остроумно описал Джемс, когда
впервые пришел к формулировке своего знаменитого принципа об
органической природе эмоций. Принцип показался ему настолько важным,
настолько разрешающим все проблемы таким ключом, подходящим ко
всем замкам, что он отодвинул для него на второй план фактический
анализ тех явлений, для объяснения которых этот принцип был создан.
Джемс говорит о своем принципе: «Если у нас уже есть гусыня,
несущая золотые яйца, то описывать в отдельности каждое снесенное
яйцо — дело второстепенной важности». Его принцип представлялся
в его собственных глазах как такая гусыня, несущая золотые яйца.
Неудивительно поэтому, что анализ отдельных эмоций отступил для него
на второй план. Между тем именно строй фактов, через которые
впоследствии была проведена его теория, показал всю ошибочность его
первоначальных предположений.
В известном смысле это может быть применено и к структурному
принципу. На него смотрят так же, как на гусыню, несущую золотые
яйца, в силу чего описание и анализ каждого отдельного яйца
рассматриваются как дело второстепенное. Неудивительно, что объяснение
самых разнообразных фактов детской психологии при этом
оказывается удивительно похожим одно на другое, как два яйца, снесенные одной
гусыней.
Коффка устанавливает, что уже исходный пункт детского
психологического развития оказывается структурным. Уже младенец имеет
налицо осмысленные восприятия. Мир в том виде, в каком он
представляется самому маленькому ребенку, уже в какой-то мере гештальтирован.
Таким образом, структурность оказывается лежащей в самом начале
детского развития.
Естественно, возникает вопрос: чем же позднее структурирование
мира отличается от раннего? Фактическое описание этих более
сложных структур, возникающих в процессе развития ребенка, мы находим
в развернутом виде в настоящей книге. Но мы не находим в ней при всем
желании ответа на вопрос: в чем принципиальное, а не фактическое
только отличие структур, возникающих в процессе развития ребенка,
от тех, которые даны с самого начала.
Напротив, создается впечатление, что такого принципиального
отличия для автора не существует, что различие только фактическое.
Гусыня, несущая с самого начала золотые яйца, оказывается на всем
протяжении детского развития неизменной. В этом центр всего спора. Если
встать на эту точку зрения, необходимо согласиться с тем, что в
процессе детского развития не возникает ничего принципиально нового,
ничего такого, что не заключалось бы уже в психологии шимпанзе или
в сознании младенца.
Между тем то сопротивление фактов, о котором мы говорим все
время, становится особенно ощутимым тогда, когда мы из области
фактов зоопсихологии переходим в область фактического содержания
детской психологии.
Мы хотим в настоящей главе подвергнуть критическому
исследованию структурный принцип с точки зрения его соответствия фактам
детской психологии, и установить, что в приложении этого принципа
основано на простой аналогии и что является доказанным, а главное —
какова объяснительная ценность этих аналогий и этих доказательств.
Та проблема, которую Коффка называет «ребенок и его мир», и
составляет основную тему настоящей главы. Проблемы идеаторного
обучения, мышления и речи, игры должны сейчас стать предметом нашего
рассмотрения.
Мы начнем с частного момента, который, однако, в наших глазах
имеет общее значение и поэтому может служить интродукцией ко всему
последующему анализу. К тому же он непосредственно связывает нас
с тем, чем мы закончили предыдущую главу. Обсуждая проблему
развития детской памяти, Коффка, между прочим, говорит: «В начале
ребенок относится пассивно к своим воспоминаниям, только постепенно он
начинает ими овладевать, начинает произвольно возвращаться к
определенным событиям». В другом месте, говоря об отношении структуры
и интеллекта, он замечает, что образование все более
усовершенствованных и объемлющих структур и есть функция интеллекта.
«Структуры возникают, следовательно, не там, где возникают
разумные структуры, их местонахождение в основном в других центрах».
В этих двух примерах заключены проблемы величайшей
теоретической важности. Мы имеем в виду, утверждая это, что самым
существенным для истории развития детской памяти является, именно,
переход от пассивных воспоминаний к произвольному обращению с ними
и произвольному их вызыванию. Очевидно, не частный, не случайный,
не побочный момент определяет этот переход, а все специфически
человеческое в развитии памяти ребенка сосредоточено, как в
фокусе, в проблеме этого перехода от пассивной к активной памяти, ибо
этот переход означает изменение самого принципа организации этой
функции, этой деятельности, связанной с воспроизведением
прошлого в сознании.
Спрашивается, в какой мере структурный принцип всеобщей
осмысленности оказывается достаточным и пригодным для того, чтобы
объяснить это возникновение произвольности в психической жизни ребенка.
Точно так же, когда мы узнаем, что структуры возникают не там,
где возникают разумные структуры, перед нами, естественно, встает
вопрос: что же отличает эти разумные структуры от неразумных? Мы
спрашиваем: неужели возникновение разумных структур не приносит
с собой ничего принципиально нового по сравнению с
возникновением и усовершенствованием структур неразумных? Или, иными
словами, мы спрашиваем о том, насколько состоятельным и пригодным ока-
зывается принцип структурности для объяснения не только проблемы
произвольности, но и проблемы разумности в психической жизни
ребенка*.
Что мы имеем здесь дело не со случайными примерами, а с чем-то
принципиально важным, можно видеть по той, выбранной наудачу,
третьей иллюстрации, которая показывает, что к какому бы разделу
психологического развития ребенка мы ни обратились, мы везде и всюду
столкнемся с теми же вопросами. Коффка обсуждает развитие понятия
числа у ребенка. «Мы имеем в виду, — говорит он, — что число —
наиболее совершенный образец нашего мышления». Казалось бы, здесь,
в анализе этого наиболее совершенного образца нашего мышления,
в центр внимания исследователя должны бы встать те специфические
черты, которые отличают мышление как таковое. «Характерно, —
говорит Коффка, — для нашего мышления то, что мы можем производить
наши мыслительные операции произвольно на любом материале,
независимо от естественных отношений предметов. На других ступенях
развития это обстоит иначе: сами вещи определяют возможные для них
мыслительные процессы». И далее вся глава посвящена этим «другим
ступеням развития».
Таким образом, и эта глава оказывается посвященной не тому, что
делает число самым совершенным образцом нашего мышления, а тому,
что представляет то же самое число с негативной стороны на ранних
ступенях развития с точки зрения отсутствия в нем существеннейших
черт человеческого мышления.
8. На трех приведенных выше примерах мы можем, очевидно,
показать одну общую черту, которая является доминирующей во всей
интересующей нас проблеме. Структурный принцип оказывается
состоятельным везде, где он встречается с необходимостью объяснить
начальные, исходные моменты развития. Он показывает, чем было число
до того, как оно стало совершенным образцом мышления. Но как оно
из этой примитивной структуры превратилось в абстрактное понятие,
служащее прототипом всех отвлеченных понятий, — это структурный
принцип оставляет вне поля своего объяснения. Здесь принципиальное
объяснение уступает место фактическому описанию известной
последовательности, констатированию фактов.
Так же точно структурный принцип превосходно объясняет истоки
развития памяти. Но как эти примитивные структуры памяти переходят
в активное обращение с воспоминаниями, — этого структурный прин-
В сущности, речь идет о всей проблеме высших психологических функций в
структурной психологии; произвольность и разумность являются только отдельными чертами,
характеризующими эти высшие формы психологической деятельности.
цип не объясняет, ограничиваясь снова простым констатированием
смены пассивного и активного запоминания.
То же самое имеет место и в отношении неразумных и разумных
структур. Превращение одних в другие остается неразрешимой
загадкой с точки зрения этого принципа.
Благодаря этому создается совершенно своеобразное отношение
между объяснительным принципом и фактическим материалом, к
которому он прилагается. Это освещение снизу вверх приводит автора
неизбежно к тому, что ранние, начальные доисторические стадии детского
развития освещаются адекватно и убедительно. Самый же ход
развития, т.е. процесс отрицания этих начальных стадий и превращения их
в стадии развитого мышления, остается необъясненным.
Это неслучайно. Все эти факты, вместе взятые, упираются в одну
точку, без выяснения которой мы не могли бы с пользой для дела
двигаться дальше. Эта точка лежит в области проблемы значения.
Как мы видели, структурная психология начинает свой
исторический путь с проблемы осмысленности. Но за этой проблемой она видит
только примитивную, изначальную осмысленность, равно присущую
инстинктивным и интеллектуальным, низшим и высшим, животным
и человеческим, историческим и доисторическим формам
психологической жизни. С помощью принципа, найденного в полуинстинктивном
поведении обезьяны, объясняются процессы развития речи и мышления
у ребенка.
Касаясь вопроса о возникновении речи, Коффка воспроизводит
известное положение Штерна о том, что в начале развития разумной речи
стоит величайшее открытие, которое делает ребенок и которое состоит
в том, что всякая вещь имеет свое имя. Он принимает аналогию Бюлера
между этим «величайшим открытием в жизни ребенка» и
употреблением орудия у обезьяны. Он говорит вслед за Бюлером, что слово так же
входит в структуру вещи, как палка для шимпанзе входит в ситуацию
добывания плода.
Точно так же Коффка объясняет и первое обобщение ребенка,
которое выражается в том, что раз усвоенное слово ребенок применяет
все к новым и новым предметам. «Как нужно понимать эти
перенесения, — спрашивает он, — Бюлер вполне справедливо сравнивает
перенесения, наблюдающиеся в период называния с перенесением у
шимпанзе, когда, например, шимпанзе употребляет поля шляпы в качестве
палки. Этим определяется направление, в котором надо искать
объяснения вопроса».
Если бы эта аналогия между усвоением речи и употреблением палки
обезьяной была закономерна, ничего нельзя было бы возразить против
всего дальнейшего построения Коффки. Однако при ближайшем рас-
смотрении она оказывается в корне ложной, а вместе с ней
оказываются представленными в ложном свете и все связанные с ней проблемы.
Ложность этой аналогии заключается в том, что здесь игнорируется
в слове самое существенное — психологический признак,
определяющий его психологическую природу. Игнорируется то, без чего слово
перестает быть словом, именно, значение слова.
Правда, Коффка, прилагая структурный принцип к объяснению
возникновения речи в детском возрасте, указывает на осмысленный
характер этих первых речевых операций у ребенка. Но он ставит знак
равенства между значением, которое приобретает палка в наглядной
ситуации обезьяны, и значением слова. Это и представляется нам
принципиально незакономерным.
Ведь значению слова мы обязаны тем, что с его помощью становится
впервые возможно отвлеченное мышление в понятиях. Становится
возможной та специфически человеческая деятельность, которая
невозможна у обезьяны, и сущность которой заключается в том, что человек
начинает определяться в своем поведении не наглядно
воспринимаемым, не структурой зрительного поля, а только мыслями.
Здесь Коффка проглядывает тот диалектический скачок, который
совершает развитие при переходе от ощущения к мышлению.
Недаром вся проблема мышления оказывается наиболее неразработанной
в структурной психологии и построенной почти везде на формальной
аналогии со зрительными структурами. Нельзя не согласиться с
мнением, которое особенно энергично защищает в последнее время Брун-
свиг и которое заключается в том, что наиболее трудные проблемы для
структурной психологии — это именно проблемы значения. Эта
психология растворяет проблему специфического значения слова в общей
проблеме неспецифической осмысленности всего поведения. Поэтому
фактически столь отчетливо выступающая разница между связанным
поведением обезьяны и свободным поведением мыслящего человека
остается без принципиального учета.
Повторяем еще раз, что вся парадоксальность положения
заключается в том, что Коффка не проходит мимо фактов, он видит все
многообразие явлений, не укладывающихся в рамки структурного
объяснения, но он везде склонен не придавать принципиального значения этому
фактическому положению вещей, а благодаря этому факты сами собой
выпадают из принципиального объяснения, и анализ развития сводится
к простому фактическому описанию положения вещей.
Опыты Мишота показали, что само по себе структурное восприятие
оказывается более бедным по сравнению с осмысленным восприятием
какого-либо наглядного целого. Опыты Зандера показали, как,
постепенно нарастая, части какого-либо оптического образа, вдруг достигая
минимального смыслового уровня, начинают восприниматься как части
целого, имеющего определенное значение. Опыты Шарлотты Бюлер
показали, что структура и смысл в восприятии ребенка возникают из двух
совершенно различных корней.
Правда, Коффка считает эти опыты недостаточно убедительными.
Однако факты заключаются в том, что, как говорит Ш. Бюлер, все дети
без исключения, которые оказались способными к пониманию
смысловой стороны рисунка, были детьми, которые уже овладели в речи ее
номинативной функцией, и что только один ребенок из всех, имевший
уже понимание речи, еще не узнавал рисунка. Отсюда следует, говорит
автор, что смысл и структура развиваются из двух совершенно
различных корней. Недавние опыты Гецери Вигемайера показали также, что
только когда ребенок овладел сигнификативной функцией речи, у него
возникает смысловое восприятие рисунка.
Нельзя не согласиться с Брунсвигом, что значения могут в высокой
степени определять структурные процессы и настолько тесно
сплетаться с ними, что превращаются, наконец, в органические части единого
осмысленного восприятия. «Здесь, — говорит он с полным
основанием, — объяснительная возможность структурной теории, по-видимому,
находит свою предельную границу».
Замечательно, что и сам Келер в одной из своих недавних работ так
же строго различает цель и значение. Последнее он рассматривает как
возникающее эмпирическим путем и оставляет пока открытым вопрос:
имеют ли место в этом процессе возникновения значений
функциональные принципы структурной теории и каким образом они здесь
действуют. Эта наиболее осторожная постановка вопроса оставляет, в
сущности, нерешенным основной вопрос об истории развития понятий,
отвлеченного мышления, абстракции, т.е. процессов, стоящих в центре всего
психологического развития ребенка. Но вместе с тем такая постановка
вопроса представляется нам более осторожной, чем простая игра
аналогиями, которая в процессах отвлеченного мышления не видит ничего
принципиально иного, кроме тех же самых структур, с которыми мы
знакомы из области наглядного мышления. При этом последнем
решении вопроса остается совершенно неудовлетворительно объясненным
то положение, что принципиально одинаковые структурные процессы
у обезьяны и человека приводят на деле к принципиально различным
формам отношения к действительности, на которые указывает сам
Келер и которые настолько немаловажны, что с ними непосредственно
связывается самая возможность культурного, т.е. специфически
человеческого развития психики.
Остановимся еще кратко на проблеме значения, поскольку она
представляет собой ключ ко всем дальнейшим вопросам.
Как мы уже видели, Коффка растворяет проблему значения в
общей структурности и осмысленности всякого психического процесса.
Фактически оно представляет собой особый элемент структуры;
принципиально же оно не может быть выделено из общей массы структурно
оформленных процессов.
С этой проблемой непосредственно сталкивается Келер в своей
последней систематической работе. Он исходит из правильного
положения, что в непосредственном опыте мы всегда имеем дело с
осмысленным восприятием. Как он правильно говорит, если мы утверждаем, что
мы видим перед собой книгу, можно возразить, что никто не может
видеть книгу, и поэтому он предлагает строго различать ощущение и
восприятие. «Мы не можем видеть книгу, поскольку это слово включает
знание об известном классе предметов, к которому принадлежит
данный». Задачу психологов Келер видит в том, чтобы отделить эти
значения от видимого материала как такового.
«Говоря в общей форме, сенсорные процессы как таковые, вообще
не могут нам представить никаких предметов. Объекты не могут
возникать прежде, нежели сенсорный опыт непосредственно сольется вместе
со значениями».
Нам думается, что во всей разработке этой проблемы — разработке,
идущей по идеалистической линии, — Келер, безусловно, прав только
в одном, — и это должно быть отмечено с самого начала. Он прав в том,
что возражает против теории, пытающейся представить значение как
нечто первичное по отношению к сенсорной организации
воспринимаемых структур. С полной убедительностью он доказывает, что значения
не являются таким первичным моментом, что они возникают в процессе
индивидуального развития значительно позже, что структурное
восприятие является первичным, независимым и более примитивным, чем
значение, образованием. В этом Келер, безусловно, прав.
Однако не трудно показать, в чем заключаются его самые
существенные ошибки. «Если бы мы даже не имели значений
воспринимаемых предметов, — говорит он, — они все же продолжали бы нами
восприниматься как известны организованные и изолированные
единства. Когда я вижу зеленый предмет, я могу непосредственно назвать
его цвет. После я могу узнать, что этот цвет употребляется в качестве
железнодорожного сигнала и символа надежды. Но я не думаю, что
зеленый цвет как таковой мог быть объяснен этими его значениями.
Он существует первоначально независимо и приобретает лишь
впоследствии определенные вторичные свойства, которые
присоединяются к нему. Все организованные сенсорные единства существуют
первично по отношению к значениям. Именно эту концепцию защищает
структурная психология».
Но стоит вспомнить только опыты самого Келера, приводимые
Коффка, с дрессировкой животных на восприятие оттенков серого
цвета, для того чтобы увидеть, что восприятие как таковое не является,
конечно, абсолютно независимым от значения. По-видимому, только
с возникновением значения ребенок начинает воспринимать
абсолютное качество цвета, независимо от того, какой цвет лежит рядом с ним.
Таким образом, то слияние значений с сенсорными структурами, о
котором говорит Келер, не может не изменить и самую сенсорную
организацию воспринимаемых предметов.
Келер говорит: «Для меня очевидно, что мое знание о практическом
обращении с вещами не определяет их существования как
изолированных целых». Но стоит только вспомнить его собственные опыты с
обезьяной, которая перестает узнавать ящик в другой ситуации, чтобы
видеть, что такое изолированное существование вещей является
невозможным вне определенного предметного значения этих вещей. Именно
благодаря возникновению смысловой структуры возникнет то
предметное, которое самым существенным образом отличает отношение к
действительности животного и человека.
Становясь на эту точку зрения, Келер сам вынужден вступить в
резкое противоречие со структурным принципом, когда он указывает на
то, что изолированное существование сенсорных структур независимо
от значения. «Как в физике, — говорит он, — молекула может быть
выделена как функциональное единство, так определенные целые
являются динамически изолированным и в сенсорном поле».
Как известно, структурная психология начала с того, что пыталась
разбить атомистическую теорию в психологии. Очевидно, она это
сделала только для того, чтобы поставить на место атома молекулу, ибо,
если встать на точку зрения Келера, необходимо допустить, что
воспринимаемая действительность состоит из ряда отдельных изолированных
молекул, которые не зависят от их смыслового значения.
В другом месте Келер прямо говорит, что «если формы существуют
изначально, они уже легко могут приобрести значение. Целое со
всеми его формальными свойствами дано наперед, и тогда значение как бы
входит в него». Ничего нового, следовательно, в значении нет. Оно не
приносит с собой ничего такого, что не содержалось бы уже в
изначально данной форме. Неудивительно после этого, что Келер рассматривает
происхождение значений в основном как процесс репродукции, т.е. как
процесс ассоциативный по существу.
Замечательным является тот факт, что структурная психология
начала с критики опытов с бессмысленными слогами, а пришла к теории
бессмысленного восприятия. Начала с борьбы против ассоционизма,
а кончает триумфом этого принципа, так как с помощью принципа ас-
социации пытается объяснить все специфически человеческое в
психической жизни. Ведь Келер сам признает, что именно наличие значений
отличает восприятие человека от восприятия животного. Если же оно
обязано своим происхождением ассоциативным процессам,
следовательно, эти процессы лежат в основе всех специфически человеческих
форм деятельности. Значение просто припоминается,
репродуцируется, ассоциативно воспроизводится.
Здесь Келер сам изменяет структурному принципу и целиком
возвращается к той теории значений, против которой он боролся вначале.
«Так, — говорит Келер, — обстоит дело, если рассматривать вопрос
в принципе. Но в реальности наши восприятия и значения оказываются
неразделимо слитыми». Таким образом, принцип и реальность
расходятся. Структурная психология приобретает аналитически
абстрактный характер, далеко уводящий нас от непосредственного, живого,
наивного и осмысленного переживания, с которым мы фактически
сталкиваемся в непосредственном опыте.
Между тем сам Келер знает, что от такого слияния со
значением у нормального взрослого человека не может быть свободно ничто.
Он знает и то, ЧТО содержится верного в идеалистической формуле
Криса — ярко идеалистической формуле, — которая гласит, что
значения превращают ощущения в вещи, что, следовательно,
возникновение предметного сознания непосредственно связано со значениями. Он
знает и то, что значение, поскольку оно связано с наглядной ситуацией,
кажется локализованным в зрительном поле. И вместе с тем он
становится на ту же самую позицию, что и Коффка, т.е., доказывая
первичность, изначальность и примитивность структуры по сравнению со
значениями, тем самым полагает, что утверждает ее главенство, ее
доминирующее значение над ним.
Между тем дело обстоит как раз обратным образом. Именно
потому, что структура является чем-то примитивным и изначальным, она не
может явиться определяющим моментом для объяснения
специфически человеческих форм деятельности. Когда Келер говорит, что любое
зрительное восприятие организуется в определенную структуру, он
совершенно прав. В качестве примера он приводит структуры созвездий.
Но этот пример, по всей вероятности, говорит против него. Кассиопея,
конечно, может служить примером такой структуры. Однако небо для
астронома, который соединяет непосредственно воспринимаемое со
значениями, и небо для человека, не знающего астрономии, конечно,
представляется структурами совершенно различного порядка.
Поскольку мы затронули здесь вопрос центрального значения, мы
не можем не высказать общего взгляда на историю развития детского
восприятия для того, чтобы противопоставить его точке зрения Коф-
фки. Нам думается, что этот взгляд может быть лучше всего выражен
с помощью простого сравнения.
Сравним, как воспринимают шахматную доску с расставленными
на ней фигурами разные люди: человек, не умеющий играть в шахматы,
человек, только что начинающий играть, средний и выдающийся
шахматист. Можно с уверенностью сказать, что все эти четыре человека видят
шахматную доску совершенно по-разному. Не умеющий играть в
шахматы будет воспринимать структуру фигур с точки зрения их внешних
признаков. Значение фигур, их взаимное расположение и отношение
друг к другу совершенно выпадают из поля его зрения. Та же самая
доска предстанет в совершенно другой структуре человеку, который знает
значение фигур и их ходы. Для него одни части доски станут фоном,
другие выделятся в качестве фигуры. Еще по-иному будет видеть
средний, и снова по-иному — выдающийся шахматист.
Нечто в этом роде происходит и в процессе развития восприятий
ребенка. Значение приводит к возникновению осмысленной картины
мира. И так точно, как один из шахматистов, исследованных Бине,
сообщил ему, что он воспринимает ладью как прямую силу, а слона — как
косую силу, и ребенок начинает воспринимать вещи не иначе как в их
осмысленности, внося элементы мышления в свои непосредственные
восприятия.
Если сравнить с этим то, что мы читаем в книге Коффки
относительно восприятий, нельзя не видеть, с какой силой Коффка пытается
защитить противоположный, чисто натуралистический взгляд на
историю развития детского восприятия. В зависимости от этого вся
история развития восприятия выстраивается для него в один стройный ряд,
который начинается восприятием цветов и заканчивается категориями,
в которых мы воспринимаем и осмысливаем действительность.
Мы рассмотрим только эти две крайние точки для того, чтобы
составить себе понятие о том пути, которым идет здесь Коффка, и о том,
почему этот путь является неправильным.
Коффка возражает против опытов Петерса относительно
определяющей роли, которую играет возникновение понятия цвета в
структуре восприятия цветов. Он, однако, должен в своем последнем издании
вернуться к этому вопросу и пересмотреть его. Петере на основе своих
экспериментов ставит вопрос, несомненно, правильно. Он показывает,
что развитие восприятий цветов у старших детей не является просто
эволюцией врожденных чувственных функций или их
морфологического субстрата. «Они основаны на образующихся в чувственной сфере так
называемых высших интеллектуальных процессах восприятия,
репродукции, мышления. Восприятие определяется только лишь чувственным
ощущением. Знание названия цвета может оказаться сильнее сенсор-
ных компонентов. Одинаковые названия заставляет ребенка относить
цвета к одинаковой категории».
Коффка, как уже сказано, первоначально резко возражал против
этой теории вербально-перцепторного развития цветового восприятия.
Он говорит: «Петере действительно показал влияние на восприятия
и сравнения цветов со стороны названий, но мы должны под
восприятием и сравнением понимать не те или иные процессы высшего порядка,
которые присоединяются к низшим неизменяющимся чувственным
процессам, а структурные процессы, которые определяют сами качество
своих членов и ощущений.
Но после появления работы Гельба и Гольдштейна об амнезии на
названия цветов, я считаю приведенную здесь интерпретацию опытов
Петерса недостаточной. По Гельбу и Гольдштейну, речь специфически
влияет на восприятие, которое они называют категориальным
поведением. В категориальном поведении, например, какой-либо цвет,
освобождаясь из наглядно данного соединения, воспринимается только как
представитель определенной цветовой категории, например, как
представитель красного, желтого, синего и т.д. Здесь речь идет не о простом
соединении цвета и названия».
Коффка только в отдельных местах своей книги — как в только что
приведенном — делает уступку, признавая специфическое влияние речи
на восприятие. На самом деле он везде остается на почве
бесструктурности, когда допускает, что речь возникает как особый тип структуры
наряду с другими структурами, ничего не изменяя в процессах самого
восприятия. Так, он склонен — вслед за Бюлером — принять, что
структурное постоянство восприятия образует параллель к нашим
понятиям. Следовательно, он становится на ту точку зрения, что предметное
постоянство, которого, как мы видели, нет у животных, и постоянство
восприятия формы, которым обладают животные, с принципиальной
точки зрения могут быть уравнены.
Обсуждая категории, возникающие в восприятии и мышлении
(предметность, качество, действие), Коффка приходит к выводу, что и они
возникают как простые структуры, в принципе, ничем не отличающиеся
от примитивных структур. Однако наши опыты показали, что эти
стадии восприятия рисунка для ребенка существенно меняются в
зависимости от того, передает ли он содержание рисунка с помощью речи или
драматически раскрывает то, что изображено на картинке. В то время
как в первом случае он обнаруживает явные симптомы стадии
предметности, т. е. перечисляет отдельные нарисованные на картинке предметы,
во втором случае он передает содержание в целом, т. е. раскрывает то
событие, которое на картине изображено. Кажется, что в этом нельзя
не видеть прямого доказательства специфического влияния речи на вое-
приятие, которое, по-видимому, находит свое отражение и в истории
детского рисунка, на которую ссылается сам Коффка.
В самом деле, если Ш. Бюлер показала, что ребенок воспринимает
структуру и осмысленный рисунок по-разному, то Фолькельту удалось
показать, что ребенок сам рисует бессмысленную форму
принципиально иначе, чем осмысленный предмет. Осмысленный предмет ребенок
рисует схематически, переводя слова в рисунок. Между изображаемой
вещью и самим изображением вдвигается слово с определенным
значением предмета. При передаче непосредственно ощупываемой или
воспринимаемой бессмысленной формы — ребенок идет совершенно
другим путем, передавая непосредственное ощущение этой формы.
Все это, вместе взятое, думается, не является случайным. Оно
показывает, говоря словами Гельба, что в то время, как для животного
существует только окружение (Umwelt), для человека возникает
представление о мире (Welt). История возникновения этого представления
о мире имеет своим началом человеческую практику и возникающие
в ней значения и понятия, свободные от непосредственного восприятия
предмета.
Поэтому правильное решение проблемы значения имеет
определяющую роль и для всего последующего. Как показывает вся
современная зоопсихология, для животного действительно не существует мира.
«Раздражения окружающей среды образуют пробную стену,
отделяющую животное от мира, и замыкают его как бы в каменные стены
собственного дома, скрывающие от него весь остальной, чуждый для него
мир». Принципиально иное имеем мы в отношении ребенка.
Уже самое первое название, как правило, говорит Коффка,
является для ребенка свойством называемой вещи. Но возникновение этого
нового свойства вещи едва ли может оставить без изменения и самую
структуру вещи, как она существовала до возникновения этого
нового свойства. Самое первое название уже включает в себя совершенно
новый процесс, именно — процесс обобщения, а, как известно, в самом
простом обобщении содержится зигзагообразный процесс
абстракции, отлета от действительности, «кусочек фантазии» (Левин). Джемс
справедливо говорит, что одним из психологических отличий
животного от человека является отсутствие воображения. «Они навек
порабощены рутиной, — говорит Джемс о животных, — мышлением, почти не
возвышающимся над конкретными фактами. Если бы самое
прозаическое человеческое существо могло переселиться в душу собаки, то оно
пришло бы в ужас от царящего там полного отсутствия воображения.
Мысль стала бы вызывать в его уме не сходные, а смежные с нею
побочные мысли. Закат солнца напоминал бы ему не о смерти героев, а о том,
что пора ужинать. Вот почему человек есть единственное, способное
к метафизическим умозрениям животное. Для того чтобы удивляться,
почему Вселенная такова, как она есть, нужно иметь понятие о том, что
она могла бы быть иной, чем она есть. Животное, для которого
немыслимо свести действительное к возможному, отвлекши в воображении
от действительного факта его обычные реальные следствия, никогда не
может образовать в своем уме это понятие. Оно принимает мир просто
за нечто данное и никогда не относится к нему с удивлением».
Тот мысленный эксперимент, который предлагает проделать Джемс,
переселившись в душу собаки, в сущности, теоретически проделывает
Коффка, применяя ко всему развитию ребенка принцип, найденный им
в поведении обезьяны. Неудивительно поэтому, что самая сущность
идеаторного обучения, которое «покоится на освобождении нас из
непосредственной власти действительности и дает в наши руки власть над
этой действительность», противоречит основному принципу Коффки.
9. Преодоление односторонности структурной точки зрения в
данном случае означает не возвращение назад к бесструктурному,
атомистическому, хаотическому сцеплению отдельных элементов.
Структурный принцип остается как великое, незыблемое завоевание
теоретической мысли, и критикуя его приложение к объяснению детского
развития, мы не хотим сказать, что верен противоположный принцип,
из отрицания которого исходит Коффка. Нам нужно вернуться не
назад — к доструктурному, а пойти вперед от структурного принципа,
опираясь на него.
Структурный принцип оказывается не то чтобы неправильным
в приложении к фактам детского развития, но недостаточным,
условным, ограниченным, ибо он раскрывает в детском развитии только то,
что не является специфическим для человека, что является общим для
человека и животного. А поэтому основная методологическая ошибка
в применении этого принципа к детской психологии заключается не
в его неверности, а в том, что он слишком универсален, а поэтому
недостаточен для того, чтобы вскрыть отличительные и специфические
особенности человеческого развития как такового.
Как мы неоднократно старались показать, везде, где автор
оказывается несостоятельным, он вступает в противоречие с последовательным
проведением собственного же принципа. Самая сущность структурного
принципа заставляет нас предполагать, что возникающие в процессе
развития ребенка новые структуры не оказываются плавающими поверху, не
сливающимися и изолированными по отношению к примитивным,
изначальным, существующим до начала развития образованиям.
Существеннейшее расхождение, которое намечается в применении
этого принципа, сводится лишь к тому, чтобы искать новый принцип не
вне структурности, а внутри самой структурности, ибо если восприятие
курицы и действия математика, представляющие совершенный образец
человеческого мышления, одинаково структурны, то очевидно, что
самый принцип, который не позволяет выделить различие, оказывается
недостаточно расчлененным, недостаточно динамическим для того,
чтобы выявить то новое, что возникает в ходе и в процессе самого
развития.
Структурный принцип, как мы уже говорили, сохраняется в снятом
виде и на всем протяжении детского развития. Задача нашего
критического исследования заключается не в том, чтобы отвергнуть этот
принцип или заменить его противоположным, но в том, чтобы отвергнуть
его универсальное и нерасчлененное приложение. Он именно потому
неспецифичен и антиисторичен, что приложим в одинаковой мере к
инстинкту и к математическому мышлению. Надо искать то, ЧТО
поднимает психологическое развитие ребенка над структурным принципом.
Надо идти к психологии высших, специфических для человека
исторических основ психологического развития.
В этом деле снова истина структурного принципа должна помочь
нам в преодолении его заблуждений.
10. Нам остается сейчас только несколько обобщить и собрать
воедино замечания, которые были сделаны раньше — рассмотреть общие
определения проблемы развития, с которыми мы встречаемся у Коф-
фки. Как уже видно из сказанного, главнейший методологический
недостаток в решении этой проблемы заключается в том, что на основной
вопрос, с которого мы начали наше критическое рассмотрение,
структурный принцип Коффки дает неудовлетворительный ответ.
Мы вспоминаем, что он начал с вопроса: как возможны
новообразования в ходе психологического развития. Это, действительно, пробный
камень для всякой теории, пытающейся объяснить развитие. И самым
существенным результатом нашего исследования является положение,
что именно новообразования оказываются невозможными с той точки
зрения, которую применяет Коффка. Мы старались показать — и
сейчас нет надобности повторять это снова в сколько-нибудь
распространенной форме, — что применение структурного принципа означает
приведение детской и животной психологии к одному знаменателю,
стирание границ между историческим и биологическим, следовательно,
по существу, означает отказ от признания новообразований.
Если структура дана изначально в сознании младенца, если все
возникающее в дальнейшем ходе развития оказывается не чем иным, как
только новыми фактическими вариациями на изначально структурную
тему, то это и означает, что в ходе развития не возникает ничего
принципиально нового, что с самого начала данный принцип путем простого
размножения порождает из себя различные с фактической стороны,
но принципиально тождественные по своей психологической природе
структуры.
Как же ставит Коффка вопрос о развитии?
Как легко увидит читатель, Коффка различает две основных формы
развития. Он расчленяет этот процесс, различая развитие как
созревание и развитие как обучение. Правда, он неоднократно
останавливается на взаимном влиянии и взаимной зависимости, которая существует
между этими двумя слагаемыми. Однако везде эта взаимная
зависимость созревания и обучения выступает у Коффки в плане
фактического констатирования положения вещей, но нигде мы не находим
принципиального решения вопроса о том, как в ходе развития ребенка должны
мы понимать обе эти стороны единого процесса развития.
По существу, единый процесс развития при этом раскалывается на
два процесса, и с принципиальной стороны мы встречаемся у Коффки
с дуалистическим подходом к детскому развитию. В этом взаимном
влиянии созревания и обучения ничто не оказывается доминирующим
и главенствующим, ведущим и определяющим. Оба процесса участвуют
на равных началах, на равных правах в истории возникновения детского
сознания. Правда, и здесь с фактической стороны Коффка отмечает
неоднократно, что большее значение принадлежит всегда образованиям,
возникающим из обучения. Но снова это фактическое положение вещей
не превращается в принципиальное освещение фактов.
Что сам по себе принцип созревания является основой
натуралистической теории детского развития, — это едва ли требует особых
доказательств. Поэтому рассмотрим вторую сторону дела, проблему
обучения. Замечательным является тот факт, что, посвящая свою книгу
учителям, Коффка вместе с тем рассматривает обучение только в ранних
стадиях детского развития, т.е. в тех формах, в каких оно встречается
до школы. Он неоднократно говорит о том, что в чистом виде
значение развития мы сумеем определить тогда, когда возьмем его в
наиболее примитивных проявлениях. Но эта попытка объяснить высшее из
примитивного и означает тот путь снизу вверх, о котором мы говорили
выше как об одном из центральных недостатков всей теории Коффки.
«В нашей книге, — говорит Коффка, — речь идет, главным образом,
о детях дошкольного возраста. На первый взгляд это может показаться
недостаточно интересным для учителя, но я хотел показать, что
проблема развития, с которой учитель имеет дело в школе, возникает в психике
человека уже в начале жизни, и я поставил своей целью подробно
исследовать начало развития. Если бы удалось с помощью наиболее важных
фактов дать научное объяснение тому, что представляет собой
обучение очень маленьких детей, учитель мог бы применить его к пониманию
и организации учебного процесса. Но определение сущности обучения
во многих отношениях облегчается, если обратиться к
примитивнейшим формам и исследовать первоначальные формы обучения».
Тот факт, что Коффка ставит своей задачей исследовать начало
развития в его самых примитивных формах, не является случайностью.
Мы видели, что по самой методологической природе его
объяснительного принципа только начало развития, только исходные его моменты
могут быть адекватно представлены в свете его основной идеи.
Недаром поэтому структурная психология до сих пор не разработала (и едва
ли сможет разработать, не изменив кардинально своей основной
установки) теории мышления. Не случайно и то, что лучшей главой во всей
работе Коффки оказывается глава о сознании младенца. Только здесь
структурный принцип одерживает свои высшие победы, здесь он
торжествует свои высшие теоретические триумфы.
Мы очень далеки от мысли отрицать значение начальных стадий
развития. Мы склонны, напротив, видеть первостепенное значение
работы Коффки в том, что он стирает резкую грань между обучением
школьным и обучением, которое имеет место в дошкольном возрасте.
Мы не можем далее не видеть, что само учение Коффки относительно
связи обучения с развитием ставит по-новому — революционно —
самое учение о развитии.
В самом деле, мы говорили прежде о борьбе идей структурной
психологии с идеями Торндайка в области животной психологии. Для
правильного понимания значения работы Коффки и ее недостатков
необходимо перенести эту борьбу в плоскость педагогической психологии,
чтобы увидеть все то новое, что структурная психология с собой
принесла.
Как известно, Торндайк, логически развивая те самые идеи, которые
лежат в основе его зоологических экспериментов, пришел к совершенно
определенной теории обучения, которую книга Коффки ниспровергает
со всей решительностью, тем самым освобождая нас из-под власти
ложных и предвзятых идей. Вопрос, который является здесь решающим, это
старый вопрос о формальной дисциплине. «Вопрос о том, насколько
частичные реакции, ежедневно производимые ученицами, развивают их
умственные способности в целом, — говорит Торндайк, — есть вопрос
об общем воспитательном значении предметов преподавания или,
короче говоря, вопрос о формальной дисциплине. Насколько, например,
спрашивает Торндайк, привычка к точному счету может повлиять на
аккуратное ведение счетов, на взвешивание и отмеривание, на уменье
рассказывать анекдоты, на суждения о характере друзей? Насколько
может привычка осмысленно доказывать геометрическую теорему
вместо того, чтобы решить ее догадкой или заучить наизусть, повлиять на
уменье логически и сознательно относиться к политической аргумен-
тации или разобраться в выборе религиозного исповедания или же на
правильное разрешение вопроса, нужно ли жениться или нет».
Уже в анекдотической форме такой постановки вопроса
выражается со всей ясностью отрицательное решение проблемы, которую дает
Торндайк. В то время как «обычный ответ заключается в признании
того, что частичное приобретение каждой специальной формы
развития непосредственно и равномерно совершенствует общее уменье»,
Торндайк дает ответ прямо противоположный. Он указывает на то,
«что умственные способности развиваются лишь в меру того, в меру
чего они подвергаются специальному обучению на определенном
материале». Ссылаясь на ряд экспериментов, произведенных над самыми
элементарными и примитивными функциями, Торндайк показывает,
что специализация способностей еще более велика, чем то кажется при
поверхностном наблюдении. Он полагает, что специальное обучение
имеет специфическое действие и может оказывать влияние на общее
развитие лишь постольку, поскольку в процесс обучения включаются
тождественные элементы, тождественный материал, тождественный
характер самой операции.
Он однако отказывается верить в то, что предметы обучения сами по
себе «каким-то таинственным образом развивают сознание в его целом.
Каждая отдельная работа, — говорит он, — вносит свою кроху в общий
запас. Ум и характер укрепляются не путем какой-нибудь легкой,
тонкой метаморфозы, но путем выработки известных частных идей и
действий под влиянием закона привычки. Нет иного средства научиться
самообладанию, как владеть собой сегодня, завтра и все дни в каждом
незначительном конфликте. Никто не становится правдивым иначе, как
говоря правду, и добросовестным иначе, как выполняя всякое принятое
на себя обязательство. Ценность дисциплинированного ума и воли —
это непрестанная бдительность к образованию привычки.
Привычка управляет нами. Развивать сознание — значит развивать
множество частичных, независимых друг от друга способностей,
образовывать множество частичных привычек, ибо деятельность каждой
способности зависит от того материала, с которым эта способность
оперирует. Усовершенствование одной функции сознания или одной
стороны его деятельности может повлиять на развитие другой, только
поскольку существуют элементы, общие той и другой функции или
деятельности».
От этой механистической точки зрения на процессы обучения
освобождает нас теория Коффки. Он показывает, что обучение
никогда не является специфическим, что образование структуры в одной
какой-нибудь области неизбежно приводит к облегчению развития
структурных функций и в других областях. Однако Коффка сохраня-
ет всецело положение Торндайка, согласно которому обучение и есть
развитие. Вся разница заключается только в том, что Торндайк сводит
обучение к образованию привычки, Коффка к образованию структуры.
Но мысль о том, что процессы обучения вообще стоят в ином и гораздо
более сложном отношении к процессам развития, что развитие имеет
внутренний характер, что это есть единый процесс, в котором
влияния созревания и обучения сливаются воедино, что этот процесс имеет
внутренние законы самодвижения, — эта мысль остается одинаково
далекой от обеих теорий.
Неудивительно поэтому, что Коффка обходит в обучении все те
вопросы, которые связаны с возникновением
специфически-человеческих свойств сознания. «Освобождение от действительности, —
говорит он, — так, как оно возможно и доступно нашему мышлению, есть
специфическое достижение нашей культуры». Однако весь
структурный принцип направлен на то, чтобы показать не этот путь к
освобождению от непосредственного восприятия действительности, а тот,
который показывает зависимость каждого нашего шага от наглядных
структур, в которых воспринимается действительность.
11. Есть две проблемы, которые могут служить пробным камнем для
правильной оценки положений Коффки. Первая — это проблема игры,
и вторая, связанная с ней, — проблема особого мира, в котором живет
ребенок.
Игра потому является пробным камнем для структурной теории,
что для игры как раз и характерно начало идеаторного поведения.
Игровая деятельность ребенка протекает вне реального восприятия
в мнимой ситуации. В этом смысле Коффка совершенно прав, когда он
требует пересмотра теории Грооса относительно значения игры и
указывает на то, что игры в собственном смысле слова нет ни у животного,
ни у ребенка раннего возраста. Здесь психологическое чутье помогает
ему правильно видеть факты и истинные границы между ними. Но снова
отрицание теории Грооса происходит у Коффки не по принципиальным
соображениям. Он отвергает эту теорию не за ее натуралистический
характер, а пытается заменить ее другой, столь же натуралистической
теорией.
Неудивительно поэтому, что Коффка приходит в конце концов
к странным и неожиданным выводам, стоящим, казалось бы, в
противоречии с его собственными исходными позициями. Он сам с полной
справедливостью отвергает мнение Пиаже относительно мистического
характера детских объяснений и указывает на тенденцию ребенка к
натуралистическому объяснению, стоящему в непосредственной связи
с реализмом ребенка. Он правильно показывает далее, что детский
эгоцентризм носит функциональный, а не феноменальный характер.
Но вместе с тем он — в резком противоречии с этим
—устанавливает, что положение Леви-Брюля о мистическом характере примитивного
восприятия может быть отнесено и к восприятиям ребенка. Он склонен
утверждать, что и религиозные переживания оказываются внутренне
близкими структуре детского мира.
«Существует одна область, — говорит он, — которую дети
перенимают от взрослых и которая внутренне близка детскому миру; я имею
в виду религию».
Как известно, основная мысль Коффки заключается в том, что для
ребенка существует два мира — мир взрослых и собственный мир
ребенка. То, что ребенок заимствует из мира взрослых, должно
находиться во внутреннем родстве с его собственным миром. Религия и
связанные с ней переживания и оказываются таким элементом мира взрослых,
который ребенок принимает в свой внутренний мир.
Эту же теорию Коффка пытается применить к детской игре,
объясняя обращение ребенка с игрушкой. Тот факт, что ребенок может
играть с куском дерева, обращаясь с ним как с живым предметом, и через
некоторое время, если его отвлечь от этого занятия, может тот же
кусок дерева сломать или бросить в огонь, объясняется тем, что этот
кусок дерева входит в две различные структуры. Во внутреннем мире
ребенка этот кусок дерева оказывается одушевленным предметом, в мире
взрослых это — просто кусок дерева. Два разных способа обращения
с одним и тем же предметом возникают из того, что он входит в две
различные структуры.
Трудно представить себе большее насилие над фактами, чем
подобного рода теория детской игры. Ведь самым существом детской игры
является создание мнимой ситуации, т. е. известного смыслового поля,
которое видоизменяет все поведение ребенка, заставляя его определяться
в своих действиях и поступках только мнимой, только мыслимой, но не
видимой ситуацией. Что касается содержания этих мнимых ситуаций,
то они всегда указывают на то, что они возникают из мира взрослых.
Мы уже однажды имели случай подробно останавливаться на этой
теории двух миров — детского мира и мира взрослых — и возникающей
отсюда теории двух душ, сосуществующих одновременно в сознании
ребенка. Мы сейчас укажем только на то, что означает эта теория для
общей концепции развития, излагаемой Коффкой.
Нам думается, что благодаря такой концепции самое развитие
ребенка представляется у Коффки как механическое вытеснение миром
взрослых детского мира. Такое понимание с неизбежностью приводит
к выводу, что ребенок врастает в мир взрослых, будучи враждебен ему,
что ребенок формируется сам в своем мире, что структуры из мира
взрослых просто вытесняют детские структуры и становятся на их ме-
сто. Развитие превращается в процесс вытеснения и замены, который
нам так хорошо известен из теории Пиаже.
12. В зависимости от этого весь характер детского развития
приобретает чрезвычайно странные черты, на которых мы должны
остановиться в заключение.
Первоначально для ребенка существуют структуры очень
ограниченного размера. «Я думаю, — говорит Коффка, — что мы лучше всего
психологически поймем игру, если будем рассматривать действия
ребенка с точки зрения величины структуры явлений, в которые они
входят для ребенка. Тогда обнаруживается начальный период, когда
ребенок вообще не может создавать больших временных структур, которые
бы превосходили непосредственно выполняемые действия.
Здесь, следовательно, все одиночные комплексы действий
независимы один от другого, равноправны и равноценны. Но постепенно
ребенок начинает создавать и временные структуры, и теперь
характерно, что различные временные структуры остаются рядом, не оказывая
особого влияния друг на друга. Эта относительная независимость
различных структур между собой распространяется не только на эти две
большие группы детского мира и мира взрослых, но она действительна
и для отдельных зависимостей внутри каждого из них».
Достаточно привести это описание для того, чтобы увидеть, какой
степени бесструктурно представляет Коффка процесс детского
развития. Вначале имеют место отдельные молекулы-структуры,
независимые друг от друга, существующие рядом друг с другом. Развитие
заключается в том, что изменяются размеры или величина этих структур.
Таким образом, снова в начале развития стоит хаос неупорядоченных
молекул, из которых потом путем объединения возникает целостное
отношение к действительности.
Удивительная вещь. Мы выше видели, как Келер, разбив атомизм
наголову, утвердил на месте атома независимую и изолированную
молекулу. То же самое видим мы сейчас. Отрывочность первоначальных
структур и нарастание величины этих структур, — вот два
определяющих момента, которые рисуют процесс развития ребенка в
представлении Коффка. Но этим только сказано, что на место отдельных
элементарных действий, с которыми имел дело Торндайк, ставятся более
сложные комплексы переживаний или структуры, т.е. изменяется
единица, она укрупняется, на место атома ставится молекула, но ход
развития остается тем же.
Снова мы видим, как Коффка вступает в противоречие со
структурным принципом, изменяет ему, и как, в сущности, бесструктурно
выглядят процессы развития в его изображении. Это верно, это доказано
непреложно: все возникает и растет из структуры, но как растет? Оказы-
вается, путем увеличения размеров этих структур и путем преодоления
отрывочности, существующей с самого начала. Начальный пункт
развития, как уже сказано, оказывается высшим триумфом структурной
психологии. Начало развития доминирует над всем дальнейшим путем.
Высшие формы развития остаются закрытой книгой для этой
психологии.
Поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, с которым мы
столкнемся сейчас, в заключение нашего исследования, как с основным
его результатом.
Мы видели, что преодоление механицизма достигается у Коффки
путем введения интеллектуалистического принципа. Коффка
преодолевает механицизм уступками витализму, признавая, что структура
изначальна, а витализм уступками механицизму, ибо механицизм, как мы
видели, означает не только сведение человека к машине, но и человека
к животному. Именем Вельзевула он изгоняет дьявола, а именем
дьявола — Вельзевула.
Развитие выступает в его исследовании не как самодвижение, а как
смена и вытеснение. Развитие выступает не как единый процесс, а как
двойственный процесс, складывающийся из созревания и обучения.
Самое обучение, ведущее к развитию, объясняется чисто интеллектуали-
стически.
Если для эмпиристов обучение означало запоминание и
образование привычки, то для Коффки, как он это не устает повторять, обучение
означает решение проблемы, интеллектуальное действие.
Интеллектуальное действие шимпанзе для него — ключ ко всему обучению и
развитию у человеческого ребенка. Развитие представляется как решение
ряда задач, как ряд мыслительных операций, т.е. перед нами чистый
интеллектуализм, который Коффка пытался деинтеллектуализировать
тем, что тот же принцип он находит и в доинтеллектуальных,
примитивных, инстинктивных реакциях.
Но если распутать, как мы пытались это сделать выше, этот
скрытый интеллектуализм, который приводит к тому, что светом интеллекта
освещается инстинкт, а ключом инстинкта открывается интеллект, то
едва ли могут остаться сомнения в том, что перед нами одновременно
и психовиталистическое и механистическое построение.
Коффка, зная, как мы уже сказали выше, несостоятельность той
и другой теории, занимает среднюю точку на полпути между ними,
думая, что он спасается от обеих. Но, как мы видели, разорванность
структур, в конце концов, противоречит заключительному аккорду
всей его книги, который гласит, что «сущность психологического
развития представляется нам в этой книге не как объединение отдельных
элементов, а как образование и усовершенствование структур». Как мы
видели, отрывочность структур стоит в начале развития, и эти
структуры-молекулы объединяются в общую структуру.
Эта концепция развития, в конце концов, сводится к пониманию
развития как модификации, реализации и комбинации врожденных
структур. Структура изначальна, а ее движение Коффка объясняет, как
нарастание четкости, длительности, расчлененности структур, т.е.
вмещает развитие в категорию «больше или меньше».
Поэтому наше исследование приводит нас к выводу, что на вопрос
о том, годится ли структура как общий принцип психологического
развития, может быть дан только отрицательный ответ.
Опираясь на структурный принцип, следует преодолеть его
ограниченность; следует показать, что в той мере, где он действительно
доказывает, его доказательства охватывают лишь неспецифическое,
отодвинутое в ходе развития на второй план, доисторическое в человеческом
ребенке. Там, где Коффка пытается осветить структурным принципом
фактический ход детского развития, он прибегает к формальным
аналогиям, приводя все к общему знаменателю структурности и освещая,
в сущности, по его собственному признанию, только начало развития.
Поэтому надо искать возникновения и развития высших,
специфических для человека свойств сознания, и в первую очередь той
осмысленности человеческого сознания, которая возникает вместе со
словом и понятием, через слово и через понятие, иными словами, надо
искать историческую концепцию детской психологии.
Не трудно видеть, что на этом пути нам не миновать структурной
психологии, хотя в ней, как мы видели, отсутствует развитие как
таковое; ибо все описание детского развития в книге Коффки показывает
нам, что — по французской пословице — чем больше все это меняется,
тем больше это остается тем же самым, т.е. все той же структурой,
которая существует изначально. Тем не менее структурный принцип
оказывается исторически более прогрессивным, чем те понятия, которые
он в ходе развития нашей науки заменил. Поэтому на пути к
исторической концепции детской психологии мы должны диалектически
отрицать структурный принцип, что означает одновременно сохранить
и преодолеть его.
Мы должны пытаться по-новому решить проблему осмысленности
человеческого сознания, которая только по имени напоминает
осмысленность, с которой начинает и которой кончает структурная
психология, — как, по выражению Спинозы, созвездие Пса напоминает
собаку, лающее животное.
Л.С. Выготский
Основы психического развития.
Предисловие к первому изданию
Предлагаемая работа была задумана в 1916 году. В августе этого
года я получил письмо от д-ра Рацерсдорфера с приглашением принять
участие в педагогическом сборнике, издававшемся им и покойным д-
ром Т. Кер в Гамбурге. Мне был предложен отдел детской психологии.
Сборник, предназначавшийся, главным образом, для педагогов, имел
целью научное освещение педагогики.
Мысль предоставить возможность педагогам получить образование
и усовершенствовать его по первоисточникам показалась мне
заманчивой. Я согласился принять участие в сборнике и в основном одобрил его
план.
В начале 1919 г., после моего возвращения в Гиссен, этот вопрос
возник снова. По причине смерти одного из издателей выпуск сборника
опять задержался. Но г. Рацерсдорфер от имени издательства
подтвердил свои намерения, и мне приходилось выбирать форму своего
участия в сборнике. Монографии по детской психологии в то время уже не
были редкостью. В 1914 г., незадолго до начала войны, к старым трудам
прибавилась систематическая работа В. Штерна, а в 1918 г. появилась
ценная книга Бюлера. Необходимости в еще одной работе такого рода
больше не было.
Мне представился поэтому только один путь к разрешению
поставленной задачи: я хотел попытаться критически изложить принципы
психического развития и исследовать отдельные факты с этой точки
зрения. Иными словами, рассмотреть ребенка в первые годы жизни не
как объект самостоятельного исследования, а как носителя развития.
Мне казалось возможным таким образом достичь двоякой цели:
1) оказать помощь учителю в выработке необходимой установки по
отношению к материалу и 2) показать плодотворность психологических
принципов, вполне оправдавших себя в других областях психологии.
К этому присоединяются еще некоторые соображения. Прежде
всего, возраст, о котором идет речь в следующих главах, главным образом,
дошкольный. На первый взгляд это может показаться недостаточно
интересным для учителя. Но я хотел показать, что развитие, с которым
учитель имеет дело в школе, возникает в психике человека уже в начале
жизни, и поставил своей целью подробно исследовать начало развития.
Если бы удалось с помощью наиболее важных фактов дать научное
объяснение тому, что представляет собой «обучение» очень маленьких де-
тей, учитель мог бы применить его к пониманию и организации
учебного процесса. Но определение сущности обучения во многих отношениях
облегчается, если обратиться к примитивнейшим формам, исследовать
первоначальные формы обучения.
С другой стороны, я руководствовался следующими
соображениями: в течение продолжительного времени в Германии почти не
проявлялся интерес к психологии развития. Только недавно в этом
направлении наступил перелом. Но в Америке вопросы развития уже
сравнительно давно занимают исследователей-психологов. Полученные до
сих пор в этой области данные оказывается невозможным просто
изложить в этой книге, потому что различные исследователи исходили из
различных предпосылок и применяли различные принципы при
объяснении этих данных. Оказывается необходимым остановиться на самых
принципах, на фактическом обосновании их и дать оценку выводов. Эта
задача приводит к необходимости выйти широко за пределы простого
изложения фактов из детской психологии. Для того чтобы дать
широкое обоснование предлагаемому здесь объяснению, необходимо
включить в изложение и другие области сравнительной психологии.
Обе цели тесно связаны между собой. Я пытался слить их воедино,
создать однородную структуру, а не «отрывочное» изложение всех
параллельных проблем. Таким образом, я одновременно рассчитываю на
учителей и психологов. Некоторые элементарные рассуждения могут
показаться специалистам чересчур распространенными, учителя же
найдут некоторые отделы книги недостаточно доступными. Первый
недостаток читатель может легко устранить, пропустив соответствующие
страницы. Но это отнюдь не рекомендуется во втором случае и
противоречило бы назначению этой книги.
Признаком научного изложения является не простое сообщение
знаний; оно должно показать непосредственную зависимость этих
знаний от науки, должно показать ее динамику, исследование в действии.
Таким образом, должны быть освещены также и принципы,
оказывающиеся, в конце концов, ложными и неплодотворными. Читателю должно
стать ясно, почему эти принципы оказываются несостоятельными, в чем
их слабое место и в каком направлении нужно улучшить объяснение.
Мы совершенно отказались в этой работе от полемики ради полемики.
Благодаря неоднократному обсуждению различных мнений, читатель
сумеет уяснить себе процесс роста психологии как науки. Всякая
наука вырастает в живой борьбе за свои основные положения, и эта книга
имеет целью присоединиться к этой борьбе.
Я еще раз подчеркиваю, что читатель не найдет здесь готовых
сведений, которые я пытаюсь ввести в процесс изложения современного
состояния психологии. Я достаточно изучил интересы учителей для
того, чтобы быть уверенным в том, что они разделяют мою точку зрения
и соответствующим образом ее оценят, несмотря на то что им придется
преодолеть некоторые трудности при усвоении материала книги.
Я воспользовался только некоторыми сокращениями: Исп» —
испытуемые, Эксп. — экспериментатор, обозначение возрастов,
предложенное еще в 1907 г. супругами Штерн и ставшее за это время
общепринятым. Я пишу 2; 10 там, где нужно сказать «в возрасте 2 лет 10 месяцев»
и т.д.
Выражаю благодарность своей жене за участие в обработке
корректуры, в которую она внесла много ценных исправлений.
Гиссен. Июль 1921 г.
К. Коффка
Предисловие к русскому изданию
Современное состояние психологии как науки отличается в двух
отношениях от того, каким оно было 10 лет тому назад, при первом
издании книги. Структурная психология была тогда еще сравнительно новой.
Не прошло еще и 10 лет со времени опубликования работы Вертгеймера,
основанной на структурно-психологической теории. Материал ее был
недостаточен и ограничивался только некоторыми областями. Книга
Вертгеймера явилась тогда попыткой дать систематический обзор всех
областей психологии с этой точки зрения и, таким образом, сделать
доступным широкому кругу учителей этот способ мышления и
исследования. В настоящее время структурная психология занимает прочное
положение, что, однако, еще не означает того, что она является
общепринятой и вполне общедоступной. Поэтому даже и теперь эта книга может
служить введением в круг идей этой теории. Но за последние 10 лет в
психологии произошло еще одно изменение. Если мы раньше имели
незначительные начатки экспериментальной детской психологии, то теперь она
распространилась с удивительной быстротой, а зоопсихология, которая
была достаточно представлена уже в первом издании этой книги,
необычайно обогатилась. При новом издании эти обстоятельства нельзя
игнорировать. Необходимо включить в изложение новые факты, тем более
что они подтверждают основные положения книги. Благодаря успехам
последних лет развитие структурной психологии и обоснование
психологии ребенка только выиграло.
Я уже неоднократно перерабатывал эту книгу со времени ее первого
появления в свет. Но эта, четвертая по счету, переработка является
наиболее тщательной. Наряду с обработкой нового материала я старался
уточнить формулировки тех идей, из которых исходила эта книга; ведь
именно для этих целей книга и была в свое время написана. С другой
стороны, мною опущены многие места из первого издания, в которых
критически рассматривались другие воззрения и положения.
Содержание этой книги не представляет собой законченной
детской психологии. Она почти не содержит дополнений, которые внесли
психоаналитики, точно так же она не освещает работ по изучению
социального формирования высших процессов. Последнее
обстоятельство едва ли имеет большое значение для русского читателя, имеющего
именно в этой области прекрасную подготовку.
28 марта 1931 г.
К. Коффка
Глава 1. Проблема. Методика
1. Идея развития в психологии
Подходя к анализу окружающего мира, мы неизбежно
наталкиваемся на комплексы явлений, которые становятся понятными лишь
тогда, когда их рассматривают как результаты развития. Долгое время
в психологической теории господствовал спор о том, что именно в
каждом изучаемом факте нужно отнести к развитию; до сих пор еще не
удалось примирить эмпиризм с нативизмом. При таком положении
вещей приходится удивляться тому, как психология вообще, а особенно
в Германии, мало пользовалась общими принципами развития.
Проблема развития разрабатывалась в психологии слишком специально, с
точки зрения приобретения «опыта», причем последний пытались
толковать, скорее, не широко биологически, а механистически.
Эта эпоха как будто подходит к концу. Возникает необходимость
ввести психологические факты в круг остальных явлений жизни, от
которых наша наука слишком отделилась. Именно так мы должны себе
представлять проблему психологического развития. Мы должны
попытаться вскрыть особенности психологического развития, отыскать
наиболее общие его законы.
Мы ни в коем случае не должны забывать, что объектом
психологических исследований обычно является взрослый «культурный»
западный европеец, существо, стоящее на лестнице развития довольно
поздней ступени. При этом человек рассматривается с трех точек зрения:
1) в сравнении с животным (учение о происхождении видов усвоено
нашей культурой со времени Дарвина, и психологическое изучение не
должно упускать из виду значение его для морфологии и физиологии);
2) как представитель вполне дифференцированной культуры в
сравнении с представителями более примитивных культур (мир
представляется нам иным, чем негру из Центральной Африки, и иным, чем Гомеру; мы
разговариваем на другом языке в том смысле, что совершенно точный
перевод с него невозможен, мы мыслим иными понятиями); 3) взрослый
в сравнении с ребенком (все мы были детьми, все мы превратились из
детей в тех, кого мы сейчас собой представляем).
Мы не должны этого забывать. Без сравнительной психологии, без
зоо-, этно- и детской психологии обычная экспериментальная
психология должна остаться полной пробелов. Часто в решительных пунктах
она не в состоянии привести ни к правильной постановке проблемы,
ни к созданию плодотворных гипотез. Нередко повторяют следующую
ошибку: известное явление можно объяснить лишь из его развития, но
вместо того, чтобы в сравнительной психологии изучать развитие,
просто создают вымышленную форму его. Поэтому при попытках
разрешения этой задачи велика опасность того, что новые факты, которые
следует осмыслить по-новому, будут рассматриваться в свете старых
гипотез.
Может казаться, что в детской психологии самое развитие
представляется совершенно очевидным для всех. Здесь известен конечный
результат: взрослый — объект изучения экспериментальной
психологии, — происхождение и развитие которого можно последовательно
проследить. Однако дело представляется гораздо сложнее. Не
существует такого психологического принципа развития, которым мы были
бы обязаны именно детской психологии1; до того как эти принципы
используются детской психологией, они возникают в общей психологии
или в психологии животных. Детский психолог может проследить, как
из существа с относительно примитивными и в высшей степени
несовершенными актами в сравнительно короткое время развивается существо,
обладающее исключительно сложной деятельностью. Это развитие
необходимо изучать так, чтобы можно было лучше, чем раньше, подойти
к пониманию взрослого человека, который является результатом этого
развития. Больше того: если мы действительно поймем процессы
развития, мы будем в состоянии более успешно воздействовать на них, мы
сумеем ускорять, задерживать, регулировать развитие.
Таким образом, нашей задачей является отыскание ведущих
принципов развития в детской психологии. Ссылаясь при этом на другие
дисциплины сравнительной психологии, мы не можем ограничиться
простым перенесением каких-либо принципов в нашу область, а
должны сначала исследовать их содержание и там, где нужно, видоизменять
их.
2. Предварительное определение задач
психологии. Перенесение их в детскую
психологию. Мать и дитя. Наблюдение
психологических процессов и их
внешних проявлений
Наступило время точнее сформулировать предмет детской
психологии. Мы заранее ограничим задачу психологии и скажем, что
она изучает поведение живого существа в его соприкосновении со
средой. Лишь только мы распространим это на детскую психологию,
напрашивается такое рассуждение: да, но каждая мать непроизволь-
но делает это, и никто так хорошо не знает ребенка, не понимает его
реакций и импульсов так безошибочно, как мать, находящаяся с ним
в особом контакте. И далее: к чему, следовательно, нужна еще
детская психология, если каждая мать знает своего ребенка лучше, чем
самый тонкий психолог. Не будем оспаривать этого положения. Но
мы определили психологию как научный способ познания,
обладающий собственным методом, который приводит изученный
материал в формулированные в понятиях положения. Психология плодит
психологические понятия, она стремится сделать вывод не о данном
младенце х или у, но о том, что присуще всему младенческому
возрасту. Мать знает: мой ребенок теперь в таком-то настроении, он
сейчас желает того-то, этим звуком он выражает то-то и т.д., но это
свое знание она не может систематизировать в научных положениях.
Обыкновенно ей для этого недостает, во-первых, знакомства с
научными понятиями и, во-вторых, как мы сейчас увидим, для
накопления познаний в детской психологии, имеющих научную ценность,
необходимо другое отношение к ребенку, чем то, в котором
естественно находится его мать. Мать должна сразу превратиться в
«наблюдателя», она должна прервать интимное общение, в котором она
находится со своим ребенком. Свое непосредственное понимание,
лусть неосновательное, содержащее в себе особую уверенность,
она должна разрушить критическим анализом фактов; она должна
научиться отделять свое «толкование» от действительного
положения вещей, должна по крайней мере на время научных наблюдений
порвать между собой и тем, что от нее неотделимо. Такое поведение
настолько неестественно для матери, что оно вообще покажется ей
неосуществимым по отношению к своему ребенку. Она будет легко
предубеждена против детской психологии вообще из опасения, что
такого рода наблюдения и исследования принесут вред ее ребенку,
подобно тому как некоторые художники отвергают теорию
искусства. А мать имеет право следить за тем, чтобы наука не причинила
вреда ее ребенку. Этим она охраняет не только ребенка, но и науку.
Исследование, проведенное так, что оно может повредить
психическому развитию ребенка, почти без исключений является ложным
путем психологического познания. Коль скоро мать в этом
отношении удастся успокоить, многие ее опасения отпадут, и не одну мать
можно будет привлечь к научным наблюдениям, когда она поймет,
что от детской психологии можно ожидать даже помощи для ее
ребенка. Мать близко знает своего ребенка, однако, по большей части,
это знание на данный момент. Если психология вооружит ее
определенными точками зрения, которые сделают ясными основными черты
развития, она лучше сумеет следить за своим ребенком.
И если мать в мире с детской психологией, то она может оказать
науке неоценимые услуги. Выше мы указали на преимущества подхода
ученого по сравнению с подходом матери; теперь мы должны указать
его недостатки. Ученый обладает готовыми понятиями и будет
пытаться объяснять «факты» при помощи этих понятий; таким образом, он
будет подходить предвзято, будет глядеть сквозь определенные очки
и, как знать, будут эти очки пояснять или искажать картину? Возьмем
конкретный пример: если психолог интересуется генетическим
подходом к ребенку, это может увлечь его настолько, что он будет каждое
проявление ребенка рассматривать с точки зрения взрослого, как
первую ступень, как шаг к известной цели, как несовершенство. При этом
истинное своеобразие детского проявления утратится, останется
незамеченным.
Здесь-то и может и должна помочь мать. Она знает своего
ребенка из непосредственного личного переживания; она знает и любит его
таким, каков он сейчас, и не смотрит на младенца как на не выросшего
еще студента. Все ступени его жизни для нее одинаково ценны и важны,
каждую из них она стремится понять в одинаковой мере. Если бы это
ее непосредственное знание она сумела сделать доступным для других,
она оказала бы исследованию неоценимую услугу, обогатив его ценным
материалом, который иным путем не может быть собран. Разумеется,
это задача трудная. Для этого нужно быть хорошим «психологом» в
общежитейском смысле слова, в том же смысле, в каком и поэт является
хорошим психологом. Тогда она научит специалистов-психологов
наивному наблюдению. Потому что ни в чем психология не испытывает
такой необходимости, как в наивном наблюдении, проведенном лицами,
владеющими интимным знанием материала своих наблюдений и
способных критически обработать этот материал.
Наивная и критическая установка постоянно требуют и дополняют
одна другую. Понимание проявлений ребенка при его соприкосновении
со средой требует много кропотливого специального изучения,
много научной критики, которую мы можем назвать «внешней», которую
мы назовем «наблюдением процесса»2. В значительной части речь идет
о том, чтобы установить отдельные движения, производимые
младенцем. Но деятельность ребенка нельзя разложить на сумму отдельных
движений; все чаще приходится применять для более точного описания
понятия «деятельность», «поведение», но нельзя забывать, что каждое
проявление является проявлением индивидуума, т.е. оно зависит от
свойств всего индивидуума, и его нельзя полностью понять, не зная
индивидуума как целое.
Здесь мы должны ввести еще одно понятие: мы будем говорить
о «наблюдении внешнего поведения». Оно существенно облегчается
«живым знанием»: для понимания ребенка необходимо знать его
реакции, но для того, чтобы понимать реакции, необходимо знать ребенка.
3. Функциональные и описательные понятия.
Три рода наблюдений. «Описательная»
сторона поведения
Продолжим наше изложение и рассмотрим, что, собственно,
представляет собой психологическое наблюдение. Мы подходим здесь
вплотную к проблеме психологической методики.
Описывая поведение человека, мы пользуемся тремя различными
классами понятий. Поясним это простыми общеизвестными
примерами: я наблюдаю дровокола и нахожу, что его движения ослабевают,
хотя не производят впечатления ленивых.
Я могу проверить это наблюдение, установив, сколько полен он
раскалывает в каждую минуту, и на самом деле оказывается, что это число
становится все меньше и меньше. Я называю это явление ослабления
движений — утомлением.
Или: я вижу, как чужой человек обронил что-то на улице, я
поднимаю потерянную вещь и отдаю ему. На следующий день при встрече он
.кланяется мне; таким образом, он сегодня реагирует на встречу со мной
иначе, чем вчера, очевидно, вследствие вчерашнего происшествия. Я
говорю: он меня узнал, и отношу это к его памяти.
Оба явления — утомление и запоминание — может установить
каждый, кто наблюдал соответствующие действия. Общий признак для
одного класса понятий отвечает следующему: в каждом данном случае
наблюдатель должен решить, можно или нельзя приложить определенное
понятие этого класса к рассматриваемому случаю. Мы называем этот
класс понятий функциональными понятиями. Таковы все понятия в
естественных науках.
Для того чтобы познакомиться с остальными классами, мы
снова обратимся к приведенным двум примерам. Я или всякий другой
наблюдатель констатируем утомление по ослабеванию движений, но сам
дровокол может установить еще и другое. Он находит: сначала «идет
легко», затем «становится трудно», или: «вначале я чувствовал себя
бодро», теперь к концу «я чувствую себя усталым». И во втором случае
человек, который встретил меня на улице, мог бы указать еще на
что-нибудь кроме того, что могли установить я или другой на моем месте, и что
мы назвали актом запоминания. Что-нибудь в таком духе: ваше лицо,
бывшее вчера чужим для меня, сегодня показалось мне знакомым.
Показания, которые дает дровосек и поздоровавшийся человек, различны
по содержанию, но по сравнению с положениями, полученными при
помощи функциональных понятий, между ними есть общее: показания
дровосека может дать только дровосек; показания здоровающегося —
сам поздоровавшийся; никто, кроме дровокола, не может сказать легка
или трудна ему, дровоколу, работа: никто не может установить,
знакомо ли мое лицо (или кого-нибудь другого), кроме поздоровавшегося.
То, что может устанавливать каждый, мы называем
действительными, вернее, реальными вещами или явлениями; утомление дровокола,
приветствие вчера еще чуждого человека — это реальные факты. Мы
должны ввести термин, обозначающий то, что может быть
констатировано не всеми вообще, а только каждым человеком в отдельности. Мы
называем их переживаниями или феноменами.
Чтобы избегнуть недоразумений, укажем, что мы, конечно, не
придерживаемся взгляда, считающего наши переживания простыми
иллюзиями, менее значительными, чем «реальные» явления. Напротив, мы
считаем переживания в такой же мере действительными, как и те
явления, которые мы называем реальными; оба рода процессов происходят
в той же единой всеобъемлющей действительности. Для того чтобы
выделить реальные явления, мы пользовались функциональными
понятиями; понятия, применяемые для установления переживаний, мы будем
называть описательными (дескриптивными) понятиями. В наших
примерах такими дескриптивными понятиями являются: «чувствовать себя
бодрым», «чувствовать себя усталым», «казаться чужим», «казаться
знакомым». Вместо этого мы можем сказать: переживание бодрости,
усталости, знакомства, чуждости или, вводя общеупотребительное
слово: впечатление знакомости (и т. д.).
Мы еще немного задержимся на этом пункте, особенно важном для
понимания предмета психологии. Сказанное многим покажется само
собой разумеющимся. «Ну да, — скажут они, — никто, конечно, не
может влезть в чужую шкуру, и моя зубная боль не может перейти к тому,
кому я ее от всей души желаю». Но, с другой стороны, могут сказать
и так: «Нам приписывают неестественные вещи: если кто-то со мной
здоровается, значит, он меня знает, я кажусь ему знакомым, но это я
могу установить и без пояснений поздоровавшегося. И разве в
обычной жизни я не обхожусь без такого объективного объяснения фактов?
Если кто-нибудь смеется — значит он доволен; когда плачет — печален,
я это знаю без всяких расспросов другого и без его пояснения».
Обе стороны на первый взгляд как будто правы, однако обе они
содержат в себе серьезные противоречия и нуждаются в дальнейшем
обсуждении.
Верно, конечно, то, что мы ведем себя в повседневной жизни так,
как будто умеем определять переживания другого. Но мы не должны
забывать, что нередко при этом впадаем в ошибку или в умышленное
заблуждение. Кто-нибудь может плакать и вызвать в нас сострадание,
предварительно понюхавши солидную порцию лука для этой цели. Мы
можем с уверенностью установить только то, что кто-нибудь плачет, но
не то, что он при этом чувствует. Но ведь наше повседневное поведение
небессмысленно. Наоборот, быть хорошим психологом в популярном
смысле слова значит обладать высоко ценимым качеством. Ведь
существует еще один ряд реальных явлений, наблюдаемых, главным образом,
на живых существах, которые мы обозначили как наблюдение
внешнего поведения и которые также приводят к функциональным понятиям.
Но эти понятия определенным образом отличаются от рассмотренных
выше и по своему характеру помогут преодолеть трудность,
занимающую нас в данный момент. Обсуждая один из наших примеров, мы
говорили о «приветствии». Приветствие в этом случае и принадлежит
к внешне-функциональным, как мы будем называть этот третий класс,
понятий. И мы видим, что такие понятия вводят глубже, в сущность
наблюдаемого процесса, чем простые функциональные понятия;
последние содержат в себе меньше уверенности и должны контролироваться
другими формами наблюдения. Ниже мы подробнее остановимся на
этом. Итак, мы снова возвращаемся к нашим примерам: человек,
поздоровавшийся со мной сегодня на улице, меня, несомненно, «узнал»,
.если под «узнаванием» понимать функциональное понятие,
обозначение акта его памяти. Тот факт, что он со мной «поздоровался», не
может быть выведен из простого наблюдения явлений, потому что оно
показывает нам только внешние телодвижения и тому подобные
факты. То же, что я «показался» ему знакомым, я не могу установить,
точно так же, как не могу это заключить с абсолютной уверенностью из
факта приветствия. Не исключена вероятность того, что поглощенный
размышлениями или разговором, он поклонился мне «автоматически».
Было ли это так или не так, об этом может свидетельствовать только он
сам. Именно это происходит в первом примере: исследование фактов
утомления привело нас к тому, что «действительное» утомление и
чувство (переживание) утомленности не должны обязательно идти
параллельно, однако наблюдения внешнего поведения могут соответствовать
установленным явлениям. Наблюдаемые внешние проявления могут
даже полностью совпадать, в то время как во внутренних переживаниях
не окажется соответствия. Тем не менее автоматический поклон
человека, который при встрече с вами, не сознавая этого, снял шляпу, все же
является приветствием.
Таким образом, для различения двух этих классов функциональных
и описательных понятий мы берем критерием характер их применения.
В одном случае каждый, в другом всегда только один может решить,
правильно или неправильно они применены в данном случае.
Выше мы предварительно определили задачу психологии как
изучение поведения живого существа в его соприкосновении со средой. Мы
уточним это определение, если скажем, что психология применяет не
только наблюдение процессов, но и наблюдение внешнего поведения
и переживаний. «Поведение» не исчерпывается «процессами», оно
включает также «внешнее поведение» и «переживания». Для
психолога центр тяжести поведения в последних двух определениях. Интерес
к «переживаниям» специфичен для психолога; этому отвечают его
описательные понятия. Мы называли тот род наблюдения, который
позволяет их установить, наблюдением переживаний. В дальнейшем мы
будем придерживаться этого термина или подобного ему — «восприятие
переживаний», чтобы избежать обычных и неудачных терминов
«внутреннее восприятие», «самовосприятие». Обсуждение в высшей
степени важной для всей психологии и в настоящее время еще спорной
проблемы завело бы нас слишком далеко в сторону3. Но нужно отметить,
что она требует более тщательного и настойчивого изучения, чем
всякий другой род научного наблюдения. Мы укажем только следующее:
лучшими средствами для исследования действительности
функциональными понятиями являются мера и число. Измерять и вычислять
каждый умеет или может легко этому научиться. Понятия
современного естествознания, физики, количественные ее данные квантифициро-
ваны; идеал физики в том, чтобы перевести все качественные различия
в количественные.
Но для объектов, выражаемых в описательных понятиях, для
переживаний это неприемлемо. Измерение — это типично функциональный
процесс; с масштабом в руках данные может получить каждый, но,
таким образом, нельзя измерить переживания. Напротив того, они
составляют противоположный объектам чистой физики полюс, они являются
чистым качеством: количественное в том смысле, как это применяют
в естествознании, им совершенно не присуще4. Поэтому слово
«качество» употребляется часто в психологии как синоним переживания.
4. Психология поведения.
Критерии сознания
В последнее время раздавались сильные протесты против такого
понимания психологии. В Америке образовалось направление,
которое отвергает ту отличительную особенность психологии, которой
она обладает согласно нашей теории. Оно говорит: психология —
такая же естественная наука, как и другие; поэтому она не нуждается
ни в своих особых методах, ни в использовании своеобразных
фактов. Восприятия переживаний и вместе с этим описательные понятия
упраздняются так же, как и «антропоморфное» наблюдение внешнего
поведения; остается только доступное всеобщему контролю
наблюдение фактов. «Поведение», следовательно, это только то, что
каждый на индивидууме может объективно наблюдать и устанавливать.
Только об этом, только об объективно обнаруживающихся реакциях
индивидуума нужно заботиться; восприятие его переживаний меня не
касается; я не могу их контролировать. К этому присоединяются еще
следующие соображения. Рассуждая биологически, мы не можем
отделить человека от всего остального мира животных, — и такое
отделение является с этой позиции обычной ошибкой психологии, которая
занимается взрослым человеком, ставя его в особое положение
(человек является единственно возможным и важным объектом
психологического исследования). В зоопсихологии, ео ipso, нужно отказаться
от описательных понятий, потому что здесь отсутствует последний
критерий правильности их применения; животные не могут дать нам
никаких показаний. Так же обстоит и с психологией раннего детства.
Здесь нам приходится ограничиваться тем, что мы устанавливаем, как
ведет себя живое существо в определенных условиях, в определенных
ситуациях. Все остальное — это ненаучные фантазии, которые нельзя
контролировать. Так как нельзя ставить общую психологию в особое
.положение, мы не можем ограничиться подобными утверждениями
и должны перевести данные психологии на новый язык. Место
показаний о переживаниях должны занять показания о поведении в
известных ситуациях, так как и поведение и ситуации можно определить
методом естественных наук. Представители этого направления
называют себя «бихевиористами» , вместо психологии они говорят наука
об «animal behavior», о поведении животных. Ввиду того, что мы
переходим к рассмотрению сравнительной психологии, мы должны
отмежеваться от этого направления.
В одном важном пункте «психологи поведения», безусловно,
правы. Как скоро мы оставляем обычную психологию человека, отпадает
метод восприятия переживаний и вместе с ним, с нашей точки зрения,
всякий критерий наличия переживаний и применение описательных
понятий. Мать может безошибочно устанавливать, что ее смеющийся
ребенок испытывает приятные ощущения, она в состоянии увидеть на его
лице излучающуюся радость; для науки, которая ищет простых фактов,
эти определения не могут быть проверены, поскольку они
распространяются на переживания ребенка. Теперь мы это можем формулировать
таким образом: вне обычной психологии с ее методом самонаблюдения
нет критерия для существования сознания5.
Behavior — поведение; бихевиоризм — наука о поведения.
5. Критика поведенческой точки зрения.
Описание внешнего поведения и его
значение для физиологической теории
Итак, психологи, стоящие на точке зрения «науки о поведении»,
справедливо отрицают существование критериев сознания там, где
отпадает метод непосредственного восприятия собственных
переживаний. Несмотря на это, мы отвергаем их позицию. Существует такое
восприятие переживаний, такого рода показания, которые недоступны
каждому и каждым не могут контролироваться. С точки зрения науки,
недопустимо пренебрежение к материалу, который находится в нашем
распоряжении. В нашем случае дело обстоит так, что одинаковое
внешнее поведение может оказаться в корне различным, когда ему
соответствуют различные переживания. Действия, выполненные «при полном
сознании», и действия автоматические могут показаться наблюдателю
совершенно одинаковыми, однако по структуре между ними большая
разница. И наоборот, внешне различные между собой действия могут
быть однородны, благодаря одинаковым переживаниям. Если в этом
случае мы откажемся от самонаблюдения, то придем к неправильному
выводу. Бихевиорист может заметить, что необходимо найти такие
чисто естественнонаучные методы, которыми удастся установить эти
различия. Мы можем смело предоставить ему эту работу, указав только, что
у него никогда не возникло бы мысли искать такие методы, если бы он не
обнаружил эти различия из самого переживания.
И, наконец, фактом величайшей важности является то, что я
вообще могу давать описательные показания. Это по меньшей мере так же
характерно для меня, как то, что я дышу и питаюсь. Куску дерева это
недоступно, как будет недоступно и мне после смерти, но и амеба тоже
не может этого сделать. Если бы я не мог давать дескриптивных
показаний, я вообще бы не мог делать никаких других показаний. Выражаясь
парадоксально: если бы каждому свойственны были только реакции,
доступные всеобщему наблюдению, то вообще никто ничего не в
состоянии был бы наблюдать.
Таким образом, невозможно совершенно исключить одну часть
поведения из науки ни по ее имманентному значению (без нее были бы
непонятны ни наша культура, ни искусство), ни благодаря ее тесной
органической связи с остальным поведением6.
Внимательный читатель в процессе изложения заметит, какие
решающие следствия для исследования и теории может иметь образование
нового, описательного понятия. Уже одно то, что оно приводит к новым
фактам, является критерием правильного дескриптивного понятия, как
я уж доказал в другом месте7. Удержится ли в психологии описатель-
ное понятие, зависит от его отношения к функциональным понятиям.
Именно поэтому эти понятия избегают возражений, выдвинутых со
стороны бихевиористов.
Устанавливая, таким образом, функциональные и описательные
понятия в их взаимной связи, мы отражаем фактический путь психологии.
При этом мы делаем еще одно смутное предположение: внешнее и
внутреннее поведение сплетены между собой не «случайно», не
произвольно. Но имеют органическую и существенную связь8. Вспомним наш
пример с дровоколом: чувство усталости, испытываемое человеком,
и ослабление его действий — два факта, внутренне связанных между
собою. Довольно часто человек обнаруживает признаки утомления, т. е.
я, как наблюдатель, могу измерить не только ослабление его движений,
но получаю также непосредственное впечатление его усталости.
Обратная зависимость — ослабление движений и чувство увеличивающейся
бодрости — ненормальна и не соответствует действительности.
Функциональные и описательные понятия ближе подходят одно к другому
по своему значению, чем в исходных пунктах. Мы можем здесь только
в общих чертах обрисовать эту важную проблему, но вернемся к ней
ниже в специальном изложении и увидим, насколько скудно
теоретическое вооружение бихевиористов, которые остаются бесплодными в
.дескриптивной области9.
Если мы, опираясь на это, будем придерживаться
самонаблюдения, не окажется ли справедливым упрек бихевиористов в том, что мы
выделяем на необоснованно особое положение психологию человека?
Мы указали на то, что мы не обладаем в зоопсихологии критерием для
обнаружения сознания. Какой же вывод можно сделать из этого? Мы
наблюдаем собаку, перед которой хозяин держит лакомый кусок так,
что она не может его достать. Собака стоит в довольно характерном
положении, вытянув голову вперед и кверху, с напряженными
мускулами и навостренными ушами. Можно в таком же духе продолжать
описание, дополняя его пневмографическими, сфигмографическими и
другими измерениями. Почему же нельзя заменить такое описание фактов
изображением поведения в таких словах: собака стоит с выражением
«высшего напряжения», направленного на руку хозяина? Не
приобретают ли, наоборот, только теперь смысл все перечисленные подробности?
Другой пример я заимствую из труда В. Келера об интеллекте
человекоподобных обезьян10. Келер изображает там в одном месте выражение
аффекта у этих животных. Я приведу буквальное описание проявления
бешенства у самки: «Если она имеет у себя одеяло, то она бьет им
неистово по земле, но всегда, — это относится и к тем случаям, когда она
мечется в траве, — эти проявления, физически и физиологически
выражаясь, заметно направлены на врага». Или: «впадая в аффект после
безуспешных попыток найти решение, животное должно что-нибудь да
сделать в направлении, в котором находится объект его устремлений»11.
Такое же поведение характерно и для маленьких детей, что также
удалось наблюдать Келеру.
Эти наблюдения свидетельствуют не только о том, что животное
кидает предметы во врага, но о том, что животное устремлено на него
и выражение — «направленность» — относится не только к действиям,
но и к самому животному. Я уверен, что не будучи предубежденным,
никто не усомнится не только в допустимости такого рода описаний,
но и в желательности и даже необходимости их для понимания
животного. Мы можем теперь возразить на аргумент бихевиориста:
наблюдая припадок гнева у негра в Центральной Африке, язык которого нам
непонятен, должны ли мы также описывать его «внешнее поведение»,
перечисляя при этом отдельные подробности, и не проще ли сказать,
что его гнев направлен на какой-либо предмет или на определенную
личность? И если такая формулировка допустима здесь, если
действительно нужно сказать, что за внешним выражением скрыто
определенное сознание, то остается в силе положение, что человек не занимает
особого положения в психологии, и мы можем такими же путями
описывать и поведение, непосредственно сходное с человеческим.
Изучение внешних проявлений является связью между
психологией человека и животного. О том, что такое воззрение распространено
в широких кругах, свидетельствует цитата из Э.Л. Тольмана, который
сам причисляет себя к бихевиористам: «Крыса, выбирающаяся из
лабиринта; хищное животное, подстерегающее свою жертву; ребенок,
прячущийся от чужого; женщина, стирающая белье или болтающая с
приятельницей по телефону; школьник, выполняющий задачу; психолог,
произносящий ряд бессмысленных слогов; я и мой друг, с которым мы
обмениваемся мыслями и впечатлениями — все это различные
примеры поведения. Нужно заметить, что при этом перечислении я ни разу
не указал, и должен признаться, что в большинстве случаев я никак не
мог бы назвать, какие мышцы, железы, сенсорные или моторные нервы
функционировали в этих примерах поведения. Потому что мои
примеры обладают другого рода своеобразием, достаточным для их
идентификации. И в качестве бихевиориста я интересуюсь именно этими
особенностями».
Описывая, таким образом, внешнее поведение, мы сохраняем за
собой право давать показания об объективных фактах; мы считаем, что
поведение живого существа (внешнее и внутреннее) может быть
действительно выражено в таких описаниях, без опасения наделить
психологическими свойствами то, что можно изобразить иначе. Обычно под
естественнонаучным понимают строго аналитическое наблюдение. Но
в применении к внешним выражениям живого существа оно сводится
к наблюдению фактов, механике органов и физиологии мышц и желез.
Это затруднение, которое бросается в глаза даже позднейшим бихевио-
ристам, исчезает только при допущении, что живому существу
свойственны такие переживания, которые становятся доступными лишь при
расчлененном наблюдении.
Это влечет за собой, с одной стороны, значительные следствия для
теории естественнонаучного наблюдения, на которых мы не будем
здесь останавливаться. С другой стороны, свидетельствует о том, что
наши «общие впечатления» о «внешнем поведении» и самое «внешнее
поведение» находятся в существенной зависимости между собой. Как
нужно себе представлять ее и в каких условиях эта зависимость
проявляется, представляется проблемой, которую мы сумеем разрешить
лишь впоследствии; но именно в ней — основа для теории восприятия
чужой психики.
Наблюдение внешнего поведения должно вполне оправдываться
в сравнительной психологии; проблема сознания отступает перед этим
далеко назад по своей важности. Как мы уже заметили выше, там, где
существует сознание, оно неотъемлемо связано с внешним
поведением; понятия, полученные из наблюдения внешнего поведения, внеш-
.не-функциональные понятия, таким образом, внутренне связаны с
дескриптивными понятиями12.
Мы не должны поэтому слишком остерегаться применять
дескриптивные понятия при описании поведения животных. Но это еще не есть
защита антропоморфизма, столь обычная для старой зоопсихологии,
которая состояла больше из анекдотов, чем из научных фактов.
Заслугой американцев является то, что они начали борьбу против этого. Но
они зашли слишком далеко, они стремились быть чересчур
«объективными» и благодаря этому лишили себя лучшего материала.
Все сказанное относительно зоопсихологии действительно и для
психологии детства. Вопрос о том, существует ли вообще сознание,
здесь играет, естественно, еще меньшую роль, и может быть поставлен
только в отношении первых дней жизни. В этом случае мы прибегаем
к средству, нередко облегчающему нам его разрешение.
6. Нервная система. Сознание
Для большей ясности мы должны окинуть общим взглядом факты
анатомии и физиологии центральной нервной системы. У высших
животных всем поведением управляет нервная система. Один или
несколько центральных аппаратов принимают в себя все рецепторные пути,
т.е. те, которые переносят раздражение извне или от отдельных
органов и от них же отходят нервные пути, вызывающие все движения.
Первые носят название чувствующих, или сенсорных, а также рецеп-
торных нервов. Их соприкосновение с внешним миром происходит либо
в специальных чувствующих органах, либо через свободные окончания
в коже. Второе называют двигательными нервами; они оканчиваются
в мышцах или железах; от них зависят телодвижения и секреторная
деятельность. Мы займемся здесь только центральной нервной
системой; на другом центральном аппарате — «автономной системе»,
огромное значение которой в последнее время становится все более ясным,
мы не можем останавливаться. По Эдингеру13, мы должны различать
в центральной нервной системе две отдельных части. Первая — в
принципе, одинакова у всех позвоночных14, она выполняет упоминавшуюся
выше задачу центральных аппаратов: в ней сходятся все чувствующие
нервы, и от нее же отходят все двигательные. В этом аппарате
различают продольные волокна спинного мозга (Medulla spinalis), его
продолжение — продолговатый мозг (Medulla oblongata) и ряд других частей
мозга; мы назовем только мозжечок, средний мозг, промежуточный
мозг, обонятельный мозг. Всю эту систему Эдингер называет древним
мозгом (Palaeencephalon).
По мере развития к этому древнему мозгу по восходящей линии от
акулы присоединяется новый аппарат, носитель мозговой коры,
который все увеличивается и, наконец, у человека докрывает весь
древний аппарат (ср. фиг. 1 на с. 77). Эдингер называет его новым мозгом
(Neencephalon). Новый мозг находится в теснейшей связи с древним
мозгом, рецепторные пути приходят от древнего мозга к коре и
двигательные пути снова от коры к древнему мозгу. Таким образом,
новый и значительно более деятельный аппарат может воздействовать на
древний мозг и тем самым на поведение животного.
7. Разделение психологических методов
Психология пользуется объективными (наблюдение фактов и
внешнего поведения) и субъективными методами (самонаблюдение). По
тому, как они применяются, каждый в отдельности или вместе с
другими, различаются три группы методов: 1) чисто объективные методы;
2) комбинированный объективно-субъективный метод, — мы называем
его психофизическим методом; 3) чисто субъективный, дескриптивный
метод, основанный только на восприятии собственных переживаний.
1. Объективный метод заключается в том, что наблюдение над
индивидуумом производится в определенных ситуациях. Оно легко
переводится в эксперимент, в котором контролируется состояние (см. рис. 1)
животного, например, путем лишения пищи; при этом заранее
предусматривается ситуация, в которой нужно провести наблюдение. Часто
такой эксперимент приводит к измерению, например, при исследовании
Человек (Homo)
Кролик (Lepus]
Ящерица (Varanus)
Акула (Scimaera)
Рис. 1
утомления, где можно количественно определить уменьшение
производимой работы в единицу времени. Или же измеряют время, которое
требуется животному для выполнения задания. Бюлер предложил для та-
ких экспериментов целесообразное название: «Leistungsex-periment».
Благодаря преобладанию в нем измерения, этот метод опирается,
главным образом, на регистрацию фактов; как важно, однако, наблюдение
внешнего поведения именно в этих Leistung-sexperiment показали
изложенные в 5-м параграфе опыты Келера с человекоподобными
обезьянами.
2. Психофизический метод отличается от первого только тем, что
включает в изучение и «дескриптивную» сторону поведения,
используя не только впечатления наблюдателя, но и самого наблюдаемого. Он
также часто принимает форму эксперимента. Наблюдатель создает
ситуацию, по возможности измеримую, затем изучает поведение,
планомерно изменяет ситуацию и исследует изменения в поведении, причем
теперь он включает в поведение не только внешне наблюдаемое
действие, но и сообщаемые испытуемым переживания. Этот метод
применяется с самыми различными целями; в отдельных случаях может
преобладать то дескриптивная, то функциональная точка зрения. Приведем
примеры того и другого.
а) Эксперимент с преобладающей дескриптивной стороной:
исследования акустических восприятий. Я хочу знать, какие возникнут у
индивидуума слуховые переживания в то время, как я произвожу
разнообразнейшие звуки. В качестве экспериментатора я варьирую здесь
исключительно эти звуки. Варьируемый экспериментатором в отношении
испытуемого элемент ситуации называют в этих случаях раздражением.
Экспериментатор, таким образом, систематически варьирует
раздражение, он направляет его так, чтобы воздействовать на испытуемого
простыми звуковыми волнами различной частоты и силы колебания;
он заменяет простые волны интерферирующими, короче, он вводит все
вариации, которые нужны для разрешения поставленной им проблемы
(уже здесь можно отметить, что в психологических опытах применение
метода без руководящей дескриптивной точки зрения почти никогда
не бывает плодотворным); испытуемый должен описать переживания,
которые он испытывает при различных раздражителях; при этом он
производит определенное действие, например, он должен определить:
одинаковы или различны два тона, в каком отношении и в каком
направлении они отличаются и т.п. В этом заключается действительное
проявление, т.е. согласно нашему изложению, нечто, устанавливаемое
естественнонаучным образом. И в этом смысле для установления
такого рода акта мы не нуждаемся в показаниях испытуемого. Мы могли
бы заменить их другими реакциями, как принуждены были поступить
в опытах над животными. Мы можем попытаться так выдрессировать
нашего испытуемого, чтобы он выполнял известное действие, когда
один из двух тонов звучит сильнее другого. Если это удастся, мы можем
с уверенностью заключить, что различная интенсивность звуков
служила основой этой дрессировки, что разница в частоте колебаний была
ощутительна для испытуемого, это мы могли установить гораздо проще
и быстрее, опросив испытуемого, были ли эти два звука одинаковы или
нет.
И на самом деле мы можем заменить показание, поскольку мы
оцениваем его как действие; показание есть удобная и сокращенная форма
действия. Но этим еще не сказано, что показание испытуемого вообще
излишне для экспериментальной психологии, как утверждают бихе-
виористы, к которым нам приходится возвращаться еще раз. Наш
последний пример ясно показывает, что дело обстоит не так. Опыт с
дрессировкой, который мы ввели в качестве «замены показания», удается
только тогда, когда животные в состоянии по-разному реагировать
на две звуковые волны различной частоты колебаний. Такой
результат, насколько нам известно, психологически недостижим. Я
произвожу опыт над испытуемыми А и Б; им предлагались тона — от 800 до
600 колебаний. У обоих дрессировка удается. Затем я опрашиваю и
А, и Б. А говорит; оба предложенных тона образуют малую терцию,
я реагировал на более высокую. Б выразится иначе, он вообще может
не понимать, что означает выражение «малая терция», «один тон выше
.другого», он скажет: я слышал один темнее, а другой светлее и
заметил, что должен был реагировать на более светлый тон. В нашем опыте
дрессировка в обоих случаях привела к успеху, внешнее конечное
поведение обоих испытуемых оказалось одинаковым, но показания они
давали различные. Если бы оказалось верным понимание их как
действия, то результаты дрессировки тоже должны были бы быть
различными. Таким образом, благодаря опытам с дрессурой можно установить,
что испытуемый А гораздо более податлив к звуковой дрессировке, чем
испытуемый Б, но без предварительного описания невозможно
установить, отчего это зависит и в чем, собственно, заключается различие.
Наоборот, при дескриптивном преодолении этого факта в нашем случае,
феноменально отличном от келеровских опытов со звучащим телом,
можно представить себе такие Leistungsexperimente, которые
указывают целесообразность описательных данных. Этот пример показывает
далее, что, во-первых, восприятие собственных переживаний не так уже
просто, и, во-вторых, что переход от правильного восприятия
переживаний к образованию описательных (дескриптивных) понятий может
оказаться действительно продуктивным. Впервые это показал Келер; до
него нередко в психологической акустике изучали качество звука без
соответствующих описательных понятий. Недостаточность
описательных понятий должна будет рано или поздно стать препятствием для
исследования; однако от того, что описательные понятия будут совер-
шенно исключены из исследования, не последует, как это полагают би-
хевиорист, большого продвижения вперед; последнее будет обеспечено
непрерывным улучшением описательных понятий. Кабинет психолога
не должен быть далек от жизни, он должен быть непрерывно связан
с практическим исследованием. Обе части, а это является типичным для
наших психофизических методов, должны внутренне проникать друг в
друга. Если удается образование нового плодотворного описательного
понятия, оно сейчас же обнаруживается в том, что разнообразие
отношений между раздражителем и поведением (внешним и описательным)
становится нагляднее, понятнее — само отношение является
естественнонаучным фактом, который не может быть доступен неискушенному
испытуемому. Испытуемый сообщает только о том или ином
переживании. Экспериментатор включает показания в протокол и оценивает их
уже как действия, зависимость которых от раздражения понятна
только ему самому, а не испытуемому. При этом экспериментатор
принципиально может направить свое внимание в любую сторону, каждый
может анализировать запротоколированные данные, выводя из них свои
закономерности. Испытуемые лишены этого свободного выбора, и мы
не должны смешивать между собой испытуемых А и Б в нашем
примере. Но этот результат не может быть достигнут без применения
описательных понятий; при известных обстоятельствах образование нового
описательного понятия может оказаться главным достижением
психофизического исследования.
б) Эксперимент с преобладанием функциональной части:
исследование памяти. Обычные методы исследования памяти
заключаются в том, что какой-нибудь материал, состоящий преимущественно из
ряда бессмысленных слогов, более или менее прочно запечатлевается
испытуемым и затем после некоторого промежутка времени
различными методам исследуется, что сохранилось испытуемым, как быстро он
может это воспроизвести, какие ошибки он при этом совершает и т.п.
Так обстоит дело с простыми действиями. Наши эксперименты над
памятью, однако, не простые наблюдения действий, мы даем испытуемому
высказаться о своих переживаниях при запоминании, при
воспроизведении, стараемся записать их, указать степень достоверности
воспроизведенного и т.д. Только обработка этих показаний дает возможность
полного понимания явления, которое здесь выделяется еще больше, чем
в приведенном выше (ср. п. «а»), принцип же остается прежним.
Огромное значение «обработки» материала15 для запоминания едва ли
возможно установить иначе, чем с помощью описательных данных, и в то
же время именно это можно положить в основу учения о памяти.
3. Чисто психологический метод отвергает всякое
естественнонаучное наблюдение, он ограничивается чистым восприятием переживаний.
В настоящее время он имеет больше значение для психологов, чем для
психологии; часто наблюдение феноменов приводит психологов к тому,
что единая для всех этих феноменов теория кажется ему неправильной,
и он пытается проверять ее другими, преимущественно,
психофизическими методами. В качестве начального, подготовительного метода его ни
в коем случае нельзя отбросить, он может привести к созданию
совершенно новых описательных понятий и тем самым к образованию новых
проблем и теорий. Но мы не можем удовлетвориться этим методом и
постоянно должны стремиться к проверке и дополнению другими методами.
8. Методы детской психологии16
Центральную роль в детской психологии, особенно в психологии
раннего детства, играет чисто объективное наблюдение. И нетолько
в доречсвом периоде, нон в речевой стадии, с тем лишь дополнением,
что здесь в поле наблюдения вводится и речевая активность.
Последнюю можно также осторожно использовать для непосредственных
выводов о переживаниях детей, что подчеркивал Ревеш, а Пиаже широко
развил этот метод для изучения детского интеллекта.
При рассмотрении проблемы сознания мы уже видели, что для
научного понимания внешнего поведения чрезвычайно важным может
.оказаться представление, создаваемое нами о переживаниях индивида
в это время. Мы будем таким же образом «психологически» толковать
и детское поведение, будем создавать описательные понятия раньше,
чем сам ребенок окажется в состоянии сообщить о своих
переживаниях. Сюда относится и так называемая «одаренность психолога»,
которая может выявиться двумя путями: либо мы пытаемся поставить себя
в такое же положение, что и ребенок перед предлагаемыми ему
заданиями, применяя только те средства, которыми располагает ребенок,
и пытаемся установить возникающие при этом характерные феномены.
Мы можем принять в этом случае в качестве рабочей гипотезы, что
подобные же феномены возникают и у ребенка, и пытаемся проверить эту
гипотезу экспериментом над действиями ребенка; или мы применяем
наблюдение за поведением, устанавливающей признаки, которые могут
соответствовать внешнему поведению так же, как и внутреннему. Такое
описание содержит в себе утверждение о внутренней стороне
поведения. В этом раньше всего заключается задача матери при ее интимном
знании ребенка. Конечно, все это допустимо лишь при условии
постоянного контроля над такими заключениями.
Как же мы в действительности получаем наши психологические
знания о ребенке?
1. Большинством наших познаний до сих пор мы были обязаны
дневникам развития отдельных детей. Мать, отец или близкое ребенку
лицо наблюдает с первого дня все, что делает ребенок, все, что с ним
происходит. Естественное развитие воспроизводится, таким образом,
с возможной полнотой. Но что должна означать такая полнота? Всего
в строгом смысле записать невозможно, запись необходимо
производить выборочно. Наблюдатель должен обладать определенными
точками зрения, опираться на определенные факты, и даже тогда может
случиться, что он запишет совершенно незначительное, упустит важное17.
Дневники, таким образом, не будут независимы от личности автора, от
вопросов, его занимающих, наконец, от уровня достижений детской
психологии. Всегда может случиться, что на вопросы, возникающие
при изучении детского развития, в существующих дневниках не
найдется никаких данных. Однако возникновение таких вопросов может
привести к тому, что в позднейшем дневнике найдется материал для их
разрешения. Я хочу этим сказать, что даже простое собирание фактов
не является механическим, рецептивным делом. И именно поэтому
необходима величайшая осторожность, строжайшая самокритика.
Хороший дневник должен содержать действительно наблюдавшийся
фактический материал и никаких толкований. Но и это нелегко осуществить,
потому что в изложении мы применяем понятия, которыми часто
определяется содержание. Такими понятиями, например, являются «среда»
и «реакция». Если понимать под «средой» не физическое окружение
ребенка, но то, что существует для него биологически (а иногда то, что
существует для него феноменально), тогда среда обнаруживается лишь
в реакции, да и то в том случае, если она направлена вовне. Излишняя
же осторожность может превратить наблюдение поведения в простую
регистрацию внешних процессов.
И отдельные записи особенно замечательных фактов могут быть
ценными для исследования. Записи таких наблюдений должны быть
поэтому очень точными и содержать в себе описание общего статуса
ребенка и ближайших условий.
Эксперимент, этот важнейший метод исследования в нормальной
психологии, лишь в последние годы завоевал себе надлежащее место
и в детской психологии. Толчок к этому был дан бихевиоризмом,
основатель которого Уотсон впервые проводил систематические опыты над
довольно большими группами грудных и маленьких детей, и опытами
над шимпанзе Келера, который сам производил некоторые из своих
пробных опытов — над детьми различного возраста. С тех пор эта
область психологии с быстротой ветра распространилась по всему миру.
Не только в Америке, Германии, Вене, Женеве, в России (мы называем
только главные центры), но и в других местах основаны
самостоятельные институты экспериментального исследования и систематического
наблюдения детского поведения. Сделалось ясным, что главным уело-
вием для таких экспериментов является приспособление условий опыта
к уровню испытуемого: ребенка нельзя помещать в неестественную
ситуацию: условия эксперимента должны учитывать его здоровье и
развитие. Эксперимент выдвигается проблемой. Хороший эксперимент
в общем вытекает из правильно поставленной задачи, целью которой
является выбор между различными теоретическими решениями. В
качестве примера хорошего эксперимента в этом смысле я назову венские
работы (школы К. и Ш. Бюлер), несмотря на то, что я часто не
соглашаюсь с теоретической установкой венских исследователей. Этим опытам
я бы мог противопоставить другие, для которых больше подходит
название теста, чем название эксперимента, цель которых часто сводится
не к теоретическому пониманию, а установлению простой хронологии
в развитии ребенка. Для диагностических целей такая работа может
быть ценной, даже необходимой; для понимания развития значение ее
мне представляется второстепенным.
В заключение мы приведем опыт Бинэ. Бинэ считает, что детские
эксперименты можно заменить экспериментами над взрослыми
слабоумными, которые в качестве «стереотипных детей» могут
соответствовать измеряемой возрастной ступени и именно благодаря своей
стереотипности особенно хорошо подходят для эксперимента. Однако «нель-
.зя имбецилов считать детьми определенного возраста точно так же, как
нельзя считать остановившимися в росте детьми — карликов»18. Этот
метод оказывается совершенно непригодным для исследования
духовного развития ребенка.
Другое дело, когда для известных целей привлекают в исследование
отсталых детей. У них при известных обстоятельствах может процесс
выступить яснее, чем у нормальных детей; те же процессы у них
протекают труднее, дольше остаются неустойчивыми, не так быстро
автоматизируются и благодаря этому их легче исследовать, чем здоровых.
Такого рода опыт, проведенный Петерсом, привел к хорошим
результатам.
Для обработки данных наблюдения и эксперимента трудно
установить общие правила. Клапаред выдвигает значение двух вопросов:
Какова степень развития данной формы? Например, просто ли
болтает ребенок или понимает при этом значение своих слов. Иначе говоря:
наблюдают известное поведение с целью узнать, что оно означает
собой как определенное проявление. Это приводит к другому, тоже очень
спорному, почти всегда неправильно поставленному вопросу: является
ли данная форма поведения унаследованной или приобретенной,
вернее, что в ней унаследовано и что приобретено?
Какова в данный момент функция известного проявления?
Например, какие процессы заменяют у ребенка определенного возраста ту
функцию, которую у нас выполняет отвлеченное мышление? Нельзя,
однако, спрашивать: мыслят ли дети отвлеченно. Подходя к детской
психической жизни, крайне важно ставить вопросы не так, как их ставят
в отношении взрослого. Для этого имеется два основания: 1) мы знаем
о процессах мышления взрослого очень мало, гораздо меньше, чем
кажется школьной мудрости; понятия, которыми дурно или хорошо
оперируют, происходят из школьной логики и, таким образом, утратили
всякое отношение к живому мышлению; 2) мы закрываем себе доступ ко
всему, что чем-нибудь специфически отличается от нас, от
ожидаемого с точки зрения взрослого. Если в этнологии раньше удовлетворялись
тем, что устанавливали, что такой-то народ умеет считать до пяти, то
такого рода вопросами устраняли возможность проникновения в
процессы, которые для него заменяют наш счет. Этой ошибки нельзя
полностью избежать в детской психологии.
9. Литература
Мы укажем здесь только некоторые, наиболее важные работы.
В конце книги, перед примечаниями можно найти список наиболее
часто упоминаемых трудов, остальную литературу — в самих
примечаниях.
Классической книгой по детской психологии считается труд
В. Прейера, изданный в 1882 г. До настоящего времени она еще
является источником наблюдений неисчерпаемым, несмотря на
теоретическую отсталость. Хорошую характеристику этой работы можно найти
в книге В. Прейера («Душа ребенка», 7-е изд., 1908).
Новейший большой труд, в котором очень тесно связаны проблемы
детской психологии с проблемами общей психологии и осуществляется
принцип сравнительной психологии, принадлежит К. Бюлеру (БюлерК.
Духовное развитие ребенка, русск. пер., М., 1926).
Маленькая, но очень ценная книга того же автора еще больше
выдвигает на передний план идеи развития (Бюлер К. Очерк психического
развития ребенка. М., 1931).
Тоже опирающийся на богатейший опыт труд В. Штерна
«Психология раннего детского возраста»; кроме того, я назову следующие
работы: 1) Гроос К. Душевная жизнь детей и 2) небольшую книгу,
которая останавливается также на психической жизни школьника: Гаупп Р.
Психология ребенка.
Наконец, я назову очень интересный труд Торндайка, в котором
проведена своя принципиальная точка зрения. Последняя
неоднократно подвергается критическому обсуждению в этой книге. Она не
является детской психологией в узком смысле слова (Torndaike E.L.
Educational Psychology: В 3 т. 1913/14 г.).
Некоторые монографии о развитии отдельных детей указаны
перед примечаниями. Здесь нужно упомянуть еще две работы по
специальным областям В. и К. Штерн, в которых они исходят из наблюдений
над своими детьми, дают общий обзор состояния этой области
науки: Cl. и W.Stern, 1)«Kindersprache», 1907 (изд.2, 1929); 2)«Erinnerung,
Aussage und Luge in der erster Kindheit», 1929 (есть русский перевод:
«Воспоминание, показание и ложь в раннем детстве»).
Глава 2. Общие концепции
и факты развития
1. Созревание и обучение
Когда весь организм или какой-нибудь его орган увеличивается,
становится сильнее, работоспособней и тоньше по своей структуре, во всех
этих случаях мы имеем дело с развитием. Нужно различать две формы
развития: развитие как рост или созревание и развитие — обучение19.
Рост и созревание — это такие процессы развития, течение которых
зависит от унаследованных особенностей индивидуума; так же как и
законченный при рождении морфологический признак, например, форма
черепа. Рост и созревание, правда, не вполне независимы от внешних
воздействий; плохое питание тормозит рост; в наиболее тяжелых
случаях оно приносит даже вред; в оранжерее можно ускорить рост и
цветение, но в «нормальных» условиях выявление данной формы развития
определяется преимущественно унаследованной закономерностью20.
Даже и в пределах «нормальных» условий среда влияет на рост и
созревание, причем она определяет всю сумму проявлений индивидуума.
Дети, растущие близко к природе, стимулируются обстановкой к бегу,
прыганью, плаванью и т.д. У детей, воспитывающихся в тесном
помещении, развиваются мелкие движения пальцев. Простой факт частого
употребления какого-нибудь органа, например, какой-либо мышцы, влияет
на его специфическую функциональную деятельность. Известно, как
много имеется «систем» для укрепления мускулатуры. Подобные
воззрения должны были бы быть действительны и в отношении созревания
чувствующих органов. В противоположность созреванию под
обучением мы понимаем изменение работоспособности, возникающей на
основе достаточно определенных, индивидуально выработанных действий.
Если я хочу научиться играть в карты, то для этого недостаточно того,
что я расту в среде, оптически благоприятной, и что мои пальцы
достигли известной ловкости, но я сначала должен ознакомиться с каждой
картой. Даже когда говорят: «прирожденный игрок», то это отнюдь не
значит, что он при первом взгляде на колоду из 32 карт сядет с двумя
партнерами за стол и без всякого руководства отлично сыграет в скат
или по крайней мере сразу будет в состоянии каким-то образом
«правильно» играть и довольно скоро «сам собою» усовершенствоваться
подобно птицам, которые сначала едва-едва летают, но очень быстро
достигают в этом умении высшей ступени. То обучение, которое мы
имеем здесь в виду, не является следствием вероятных задатков и может
в жизни не наблюдаться, а проявляется лишь как вновь приобретенная
форма. Таким образом, мы наталкиваемся в самом развитии на
противоположность: наследственное — приобретенное. Мы не будем здесь
обсуждать, примирима ли эта противоположность и является ли то,
что мы наследуем, приобретением наших предков в процессе родового
развития21. Для развития индивидуума она все равно остается
существовать. Указывая на эту противоположность, мы не можем вдаваться
сейчас в более подробный анализ того, что такое обучение; это
составляет задачу всей книги.
Поясним лишь, о чем идет речь. Мы имеем в виду, с одной стороны,
развитие, определяемое имманентными законами, очень мало
зависящими от действий индивидуума, и с другой — решающее влияние
индивидуальной деятельности, «опыта», на развитие деятельности человека.
Эта двойная форма развития затрудняет решение проблемы,
указанной в начале первой главы. Что в каждом акте считать
унаследованным и что вновь приобретенным? Обычно ее решали таким образом, что
первые проявления данной формы поведения, наблюдаемые при
рождении, считали унаследованными, а позднейшие формы приобретенными.
Даже при таком разделении разрешить проблему было необыкновенно
трудно. При этом забывали, что не каждое развитие, не каждое
усовершенствование действия является результатом обучения, и те действия,
которые следует вообще рассматривать как «сложные», часто
ошибочно считали приобретенными, выученными. В противоположность этому
мы должны выделить ту роль, которую играет созревание при
совершенствовании действия в моторной и сенсорной области.
2. Функция детства
Сравнительное изучение приводит нас к следующей
закономерности: чем выше стоит живое существо в ряду животных, тем беспомощнее
оно при рождении, тем дольше длится период его «детства». Человек
и в том и в другом отношении представляет собой крайность. Крайней
несамостоятельности при рождении соответствует весьма
продолжительный период детства и юности, превосходящий весь жизненный
срок многих млекопитающих. В течение всего этого периода человек не
достигает еще полной работоспособности; молодое животное
достигает ее гораздо раньше; нижестоящие животные как будто превосходят
человека в этом отношении. Возможно, что детство имеет
специфическую функцию, связанную с превосходством высшего существа. В
связи с этим Клапаред ставит вопрос о назначении детства. Приведенные
выше факты сравнительной биологии указывают направление, в
котором может быть найден ответ на этот вопрос. Детство — период уси-
ленного развития; человек в этот период превращается из
беспомощного в хорошо приспособленное существо; цыпленок, вылупившийся из
яйца, в состоянии выполнять почти то же, что и взрослая курица.
Условия, в которых протекает развитие в период детства,
специфически отличаются от условий эмбрионального развития. Последнее
протекает постоянно в среде, развитие регулируется преимущественно
имманентными законами. Внешние условия выполняют такую же роль,
какую, как указывалось, они играют преимущественно при процессах
роста и созревания. Иначе происходит в послеэмбриональном периоде
развития. Чем старше становится ребенок, тем специфичнее делается
влияние окружающего на его жизнь. Из этого одного можно уже
заключить, что развитие в этот период заключается все больше и больше
в «приобретении», в смысле обучения, и что таким образом известные
ступени развития становятся вообще доступными только тогда, когда
к процессам роста и созревания присоединяется обучение. Детство —
это по преимуществу период обучения. Клапаред называет его
периодом накопления знаний. Сложные действия, которые отличают
высокоорганизованное существо от нижестоящего, не являются сложными
функциями и не могут быть образованы сами собой, вследствие
имманентных законов развития, роста и созревания; для этого необходимо
обучение. Если мы примем, что обучение объективно является трудовой
деятельностью, то придем к правильному пониманию детства, в
продолжение которого объем и интенсивность обучения далеко превосходят
все позднейшие периоды.
3. Параллели из истории развития
Сравнительное изучение продвинулось еще дальше, определяя
отношение между онтогенетическим и филогенетическим развитием, между
развитием индивидуума и рода. При этом обнаружились разнообразные
аналогии, которым приписывалось различное теоретическое значение
и для объяснения которых были созданы различные гипотезы. Сначала
несколько слов о фактах. Процитируем Вильяма Штерна22:
«Человеческий индивидуум в первые месяцы младенческого периода, с
преобладанием низших чувств, с неосмысленным рефлекторным и импульсивным
существованием находится в стадии млекопитающего; во второе
полугодие, развив деятельность хватания и разностороннего подражания,
он достигает развития высшего млекопитающего — обезьяны23, и на
втором году, овладев вертикальной походкой и речью — элементарного
человеческого состояния. В первые пять лет игры и сказок он стоит на
ступени первобытных народов. Затем следует поступление в школу,
более напряженное внедрение в социальное целое, с определенными
обязанностями, резкое разделение между трудом и долгом — онтологиче-
екая параллель вступления человека в культуру с ее государственными
и экономическими организациями. В первые школьные годы простое
содержание античного и ветхозаветного мира наиболее адекватно
детскому духу, средние годы носят черты фанатизма христианской
культуры, и только в периоде зрелости достигается духовная
дифференциация, соответствующая состоянию культуры нового времени.
Достаточно часто пубертатный возраст называли возрастом просвещения».
Я привел эту длинную цитату не потому, что считаю все приведенные
здесь аналогии верными, но для того, чтобы показать, к чему приводит
такого рода изучение. Мы сравниваем эпохи детства со ступенями
развития животных, низшие — высшие млекопитающие — с эпохами
развития человечества (стадия первобытной культуры, античный период,
христианство, современность).
Стенли Холл, указавший эти аналогии с человеческими возрастами
и посвятивший обработке их много времени и труда, идет еще дальше;
он даже находит такие черты у ребенка, которые напоминают
рыбообразных предков человека; таковы движения подпрыгивания у грудных
младенцев и восторг маленьких детей при виде воды.
Нужно подчеркнуть, что в этих аналогиях усматриваются
действительные, объективно обоснованные зависимости, а не просто сходства,
.аналогии, которые до сих пор употреблялись для объяснения
развития. Этими теориями мы не будем пользоваться. Предварительно
нужно отметить, что такие аналогии без сомнения существуют в типичных
формах детского поведения. Например, игра довольно ясно выражена
у млекопитающих; в развитии ребенка есть стадии — по исследованиям
Келера — типичные и для шимпанзе, когда ребенку впервые становятся
доступными интеллектуальные акты. Категориальное восприятие мира
у ребенка может в некоторых отношениях быть похожим на восприятие
первобытных народов. Но аналогии не ограничиваются детским
возрастом. Так, многое в нашем собственном поведении выглядит страшно
похожим на поведение шимпанзе, когда отпадают преграды, созданные
воспитанием, обычаем и внешними ограничениями. Я ссылаюсь здесь на
описанное Келером стремление к украшениям24. Спрашивается только:
что можно заключить из этих аналогий? Прежде всего, конечно,
необходимо строго критически проверить материал. В области аналогии
научная строгость может быть легко вытеснена фантастическим
увлечением. При желании найти аналогии нетрудно, но основная задача,
впрочем, едва ли разрешимая в нашей области, заключается в том, чтобы
из избытка материала извлечь только объективно правильные аналогии.
Мы различаем три теории для вышеизложенного.
1. Теория повторения. Развитие индивидуума есть сокращенное,
более или менее измененное повторение развития его рода. Каждый инди-
видуум проходит в своем развитии все стадии, которые должен пройти
в своем развитии его род. Это — имманентный закон развития,
основанный на наследственном предрасположении. Здесь сразу вспоминается
«биогенетический закон» Геккеля, который в отношении
морфологического эмбрионального развития гласит: «онтогенез есть сокращенное
повторение биогенеза». Последователи излагаемой теории также
отмечают ее связь с этим законом.
Изменение, обнаруживаемое онтогенезом в сравнении с
биогенезом, объясняют различием условий, в которых находятся оба рода
развития. Каждое развитие зависит от имманентных законов и от
внешних факторов; если они очень различны, то это должно обнаружиться
и в различии развития. Эта теория имеет много последователей;
особенно много труда посвятили Стэнли Холл и его школа, для того, чтобы
сделать эту теорию убедительной. Их метод в основном состоит в том,
что они анализируют наиболее общие виды поведения и выделяют в них
те элементы, которые нельзя объяснить как результаты обучения и
индивидуально приобретенные свойства и которые в довольно сходной
форме выступают на прежних ступенях развития.
Стэнли Холл исследует таким образом страх. Так, например, он
находит довольно необъяснимый факт, известный под именем pavor
nocturnus, факт, когда дети пробуждаются часто ночью от сна в
страхе, даже в ужасе, и после долго еще не могут уснуть. Он объясняет это
атавизмом: ребенок попадает в давно прошедшую эпоху, когда человек
один спал в лесу, подвергаясь всяким опасностям, и внезапно
пробуждается. Особенно важный ряд фактов для этой проблемы содержат
детские игры. В них мы воспроизводим жизнь наших предков.
Ученик С. Холла путем опроса собрал большой материал о детских играх
разного рода — об играх в индейцев и в разбойников, а также о
конструктивных и строительных играх, об играх с копанием, украшением,
татуировкой и подпиливанием ногтей. Он находит в своем материале
полное подтверждение теории, потому что влиянием среды нельзя
объяснить детали этих игр25.
2. Теория полезности. Развитие индивидуума нельзя рассматривать
как повторение родового развития. Правильнее считать, что
существуют особые причины, определяющие то и другое. Всякое развитие
подчиняется двум принципам: принципу случайного изменения и отбора
целесообразного. Согласно этим принципам, возникающие в родовом
развитии свойства либо сохраняются, либо снова утрачиваются, и если
у какого-нибудь рода они сохраняются, то момент проявления этих
свойств в онтогенезе определяется снова обоими принципами,
изменения и отбора, но не законом повторения. Так, сосание выступает в
онтогенезе довольно рано, а в филогенезе очень поздно. Наоборот, половой
инстинкт — рано в родовом развитии и поздно в развитии
индивидуума. Эта теория, очень энергично защищаемая Торндайком, базируется
на общей теорий развития, называемой дарвинистской, хотя Дарвин,
так же как его первые последователи, не придерживался называемой
его именем гипотезы26. «Неодарвинизм» применяет только эти два
вышеупомянутые принципа — изменчивости и отбора. Изучая некоторое
число индивидов одного рода, мы не находим двух совершенно
одинаковых экземпляров. Отдельные члены рода в различных отношениях
сильно отличаются друг от друга. Родовое сходство, таким образом,
есть типовое соответствие при существовании крайних пределов
изменчивости. Предполагаемые пределы вариации способствуют тому, что
одни члены в определенных условиях среды лучше вооружены, чем
другие. В процессе развития более приспособленные к постоянной среде
чаще остаются победителями в борьбе за существование, они передают
это свое свойство потомкам, вто время какдругие постепенно
вымирают; те же принципы, изменчивость и отбор, будут действительны для
потомков, так что род должен будет все лучше приспособляться к среде
и все более совершенствоваться.
3. Теория соответствия. Онтогенез и филогенез — процессы,
родственные между собой. И в том, и в другом мы имеем дело с развитием
организмов; само собой разумеется, что должны существовать наиболее
общие свойства развития, которые играют решающую роль и в онто-,
и в филогенезе; «природа, — говоря словами Клапареда27, — применяет
однородные средства для развития индивидуума и рода». В таком
случае можно ожидать, что все начальные ступени развития действительно
сходны в каком-нибудь направлении так же, как ступени примитивного,
более позднего и высшего развития.
Особенности этих трех теорий можно свести к следующему:
согласно первой теории, наследственные задатки, определяющие развитие
индивидуума, содержат в себе все наследуемые родовые признаки,
которые проявляются в такой же последовательности, в какой они
образовались в ряду предков. В индивидууме, таким образом, заложены все
когда-либо существовавшие способы реагирования на среду;
хронологическая последовательность реализации этих различных
возможностей, главным образом, определяется первоначальным порядком их
образования. По второй теории, сохранившиеся в результате отбора
полезные для рода свойства проявляются в последовательности,
биологически одинаково целесообразной для индивидуума и рода;
индивидуум владеет, таким образом, только возможностью выбирать из всех
однажды существовавших способ реагирования, а хронологический
порядок зависит только от целесообразности. По третьей теории,
индивидуум последовательно проходит все стадии, начиная с наиболее
примитивных, и на каждой из них проявляет соответствующие ей
формы реакций; таким образом, как в фило-, так и в онтогенезе бывают
примитивные, более развитые и высокоразвитые формы реакций, сохраняя
один и тот же тип.
Определяя свою позицию, мы, во всяком случае, должны
подчеркнуть, что третья теория гораздо осторожней обеих других, она не
ограничивается рамками данной гипотезы, а, исходя из фактического
материала, оставляет свободным путь к созданию новых гипотез. Это
особенно ценно, потому что теории развития вообще и теории
наследственности в частности в настоящее время особенно противоречивы
и неудовлетворительны. Третья теория освобождает нас от решения
в пользу какой-нибудь теории, которое, впрочем, должно возникнуть
само собой, поддерживая в то же время интерес к предмету, который
должен быть объяснен. Да, когда мы получим, исходя из этой теории,
конкретные результаты исследования, они сумеют служить для
создания новых гипотез. Там, где идет речь о конкретном исследовании,
например, о языке, такую же позицию занимает и В. Штерн, когда говорит
о «генетических параллелях»28.
Первая теория и ее ответвления, которые уже известны читателю
из нашего изложения, сильно оспариваются»29 и особенно энергично,
как уже упоминалось, в большом труде Торндайка; автор
справедливо указывает на неудовлетворительный и противоречивый характер
применяемых доказательств. В своем опорном пункте — в игре — они
также опровергаются Штерном, который считает, что «психическое
развитие — протекает ли оно в одном ребенке или в человечестве —
подчиняется известным законам наследственности, по которым
примитивные и грубые формы жизни предшествуют сложным
дифференцированным»30.
Но это же есть не что иное, как третья теория.
Вторая теория недостаточно обоснованно присоединяется к
специальным гипотезам, в частности, к неодарвинизму.
Итак, оставляя 1-ю и 2-ю теории в стороне, мы должны требовать,
по возможности, больше фактов, подтверждающих 3-ю теорию.
Таким образом можно всегда попытаться данные одной области
исследования развития подкреплять, контролировать и дополнять данными
другой ветви, например, детскую психологию этнопсихологией и т.д.,
как это было сделано Вернером в его ценной книге «Психология
развития» («Einführung in die Entwicklungspsychologie»), но нельзя допускать
догматического представления о сходстве и зависимости между ними.
При наличии достаточного материала можно будет подойти к проблеме
этой зависимости, которая бесспорно существует и значение которой
ни в какой степени не умаляется нашей позицией.
4. Темп и ритм развития
Развитие, смена отдельных стадий, определяется наследственным
предрасположением. Это справедливо не только для всей
структуры как целого, но и для ее динамики и ритма. Для них также главный
определяющий момент заключается в предрасположении. Здесь нас
интересует то, что предрасположение в этом отношении может сильно
варьировать, следовательно, варьирует и развитие. Фактически можно
заключить о различии в предрасположениях только из того, что равные
индивидуумы в одинаковой обстановке, одинаковой среде дают самые
разнообразные формы развития. Так, одни индивидуумы отличаются
повышенными, другие очень медленными, третьи более или менее
равномерными темпами развития. Развитие, замедленное в начале, через
некоторое время может сделаться особенно интенсивным. С другой
стороны, бурно протекающее развитие может внезапно замереть;
пример — вундеркинды, которые много обещают, но редко оправдывают
ожидания. Такие различия являются, в общем, действительно
различиями в предрасположениях; разумеется, та среда, которая непрерывно
ставит перед ребенком все новые и не соответствующие возрасту
задачи, может ускорить развитие и привести к ранней зрелости, и, наобо-
.рот, такая среда, которая не побуждает ребенка к деятельности, может
сильно тормозить развитие. То, что было сказано выше о темпе
развития вообще, о существовании сильных колебаний, выступающих здесь
в виде индивидуальных различий, действительно и для персонального
развития индивидуума. И здесь бывают колебания темпа и ритма
развития, так что периоды, в которых внешне отмечается очень мало
достижений, чередуются с такими, когда развитие идет быстрым темпом. Не
надо считать эти относительно спокойные периоды периодами застоя,
в них развитие выражается в другой форме, и поразительно быстрое
продвижение в другие периоды не было бы возможно, если бы ребенок
не проделывал огромную работу во время затишья. Этот процесс
можно сравнить с накоплением больших запасов потенциальной энергии,
которая затем сразу переходит в производительную энергию. Наконец,
нужно сказать, что не все функции одного и того же индивидуума
обладают одинаковым ритмом развития.
Бывают периоды, в которых один ряд функций развивается
особенно интенсивно, в то время как остальные находятся в относительном
покое. Выделяя таким образом определенные формы поведения, если
можно характеризовать целые возрастные ступени при условии,
исследование будет подчинено плодотворным и достоверным данным. Если
мы еще отметим зависимость ритмов развития от значительных
индивидуальных колебаний, то станет очевидным, что момент проявления
какой-нибудь формы деятельности может сильно отличаться у разных
индивидуумов. Все возрастные признаки имеют лишь приблизительное
значение для обобщений. Относительная оценка момента появления
того или иного признака представляет пока гораздо больший интерес4.
5. Наследственность и среда
Мы уже неоднократно указывали на непосредственное окружение,
среду как на комплексы условий, влияющие на развитие наряду с
наследственностью.
Возникает вопрос: в какой зависимости находятся оба эти фактора
между собой? Этот вопрос, связанный с глубоко философскими,
этическими, социологическими, и педагогическими следствиями, не может
быть здесь разрешен. Мы только упомянем, что друг другу
противостоят два направления — теория наследственности и теория среды;
согласно первой, развитие в основном определяется наследственным
предрасположением, согласно второй —окружающей обстановкой, и это
противоположение встречается в психологии в качестве
противоположения нативизма эмпиризму; в одном случае свойства наших
восприятий, в частности, восприятий пространственных, рассматриваются как
врожденные функции, в другом — как продукт опыта.
В противоположность этому Штерн защищает точку зрения,
называемую им «теорией конвергенции», которая составляет ядро его
философии личности. «Психическое развитие не есть простое
проявление врожденных свойств, не есть также простое восприятие внешних
воздействий, — оно является результатом конвергенции внутренних
задатков с внешними условиями развития... ни об одной функции, ни
об одном свойстве нельзя спрашивать; «происходит ли оно извне или
изнутри? Закономерен лишь вопрос: что именно происходит в ней
извне и что изнутри? Потому, что в ее проявлении действуют всегда и то
и другое, только всякий раз. в разных соотношениях.
Из предыдущего ясно, что мы не можем основываться ни на одной
из обеих крайних теорий. Однако мы рассматривали обучение как
главную форму развития, а обучение — это реакция индивидуума на
определенную обстановку, которая благодаря наследственному
предрасположению, во всяком случае, не всегда однозначно преломляется. Мы,
прежде всего, должны исследовать, в чем сущность обучения. Мне
кажется, что без этого вообще нельзя прийти к ясной постановке вопроса,
нельзя провести крайней грани между психологическим эмпиризмом
и нативизмом, потому что сама проблема опыта обучения не разрешена,
даже в большинстве случаев не осознана как проблема.
В этом заключается наша точка зрения. В каждой теории нас будет
интересовать эта проблема, на которой построена вся теория воспита-
ния. Понятие конвергенции указывает раньше всего на эту задачу;
чтобы ее разрешить, нужно раньше всего точней ее определить; потому что
мы еще не знаем, что обозначает выражение «действие относится к
внутренне или внешне обусловленным»31.
6. Психическое и физическое развитие
Психическое развитие идет в природе рука об руку с физическим
развитием. Мы кратко остановимся на существующих здесь самых
общих зависимостях между тем и другим32. В предыдущей главе мы в
общих чертах дали описание и соотношение центральных нервных органов,
в первую очередь уяснив разницу между древним и новым мозгом. Мы
дополним теперь наше описание более подробным описанием
микроскопического строения нервной системы. Но мы не ставим себе задачи
познакомить читателя с существующими в этой области теориями, что
составляет содержание других работ33. Мы укажем лишь самое важное,
что и послужит твердым основанием для последующих рассуждений.
Нервы являются посредниками между чувствующими и центральными
органами, с одной стороны, и между центральными органами и
мышцами — с другой. Это — волокна различной, часто довольно
значительной длины и толщины, покрытые предохранительной и изолирующей
.тканью. Такой нерв отнюдь не однороден, но содержит большое число
отдельных, изолированных друг от друга волокон, которые,
собственно, и являются проводниками. Лишь в этих стволах можно строго
разграничить чувствующие и двигательные волокна в виду того, что
некоторые нервы содержат волокна обоего рода, например, N. Trigeminus,
5-й черепно-мозговой нерв обусловливает чувствительность кожи
головы и иннервирует мускулатуру жевательного аппарата, или N. Vagus,
10-й черепно-мозговой нерв, выполняющий разнообразнейшие
функции, между прочим, принимает участие в регулировании дыхания,
циркуляции крови и пищеварении. Каждое волокно передает раздражения
или от периферии к центру, или от центра к периферии, соответственно
этому различают центростремительные и центробежные волокна. Эти
волокна, однако, не являются самостоятельными элементами. Каждое
волокно соединяется с нервной клеткой; нервные клетки очень
различны по своему строению и величине. Но все они имеют большее или
меньшее число ответвлений, из которых одно, называемое нейроном, входит
в состав нервного волокна. Конец нейрона разветвляется на некие
отростки, которые соединяются с мышечными волокнами или с
ответвлениями других нервных клеток. Кроме осевого цилиндра нервные клетки
дают и другие ответвления, которые, по большей части, гораздо короче
и многочисленней и часто образуют тончайшее сплетение, в которое
вплетаются отростки нейронов других нервных клеток.
Можно предполагать, что нервные клетки со своими
отростками во многих отношениях составляют однородное целое, которое по
Waldeyer'y называется невроном. Таким образом, можно считать всю
нервную систему состоящей из бесчисленного множества связанных
между собой невронов. Осуществляется ли связь между двумя неврона-
ми через соприкосновение при сплетении волокон или благодаря
обнаруживаемым в микроструктуре волокон фибриллам, которые образуют
прочную связь между невронами, — это является вопросом, который
долгое время подробно обсуждался и до сих пор еще не получил
разрешения. Однако самый неврон можно вполне считать единством,
независимо от разрешения данного вопроса.
До сих пор мы различали центробежные и центростремительные
волокна, теперь мы рассмотрим еще третий род волокон, соединяющих
отдельные части мозга между собою. «Последние, fîbrae propriea,
особенно многочисленны в коре взрослого мозга, они разветвляются
между близлежащими и отдаленными извилинами, связывают между собой
отдельные участки»34.
Оба полушария также связаны между собой несколькими стволами
таких волокон, называемых коммиссуриальными, из которых
центральное и самое большое — мозолистое тело — бросается сразу в глаза при
каждом медианном разрезе мозга.
Обратимся теперь к нашей теме — о связи между физическим и
духовным развитием — и рассмотрим ее с филогенетической точки зрения.
«Всякий, кто знаком со строением мозга животных, знает, что
возникновение новых способностей связано всегда либо с возникновением
новых областей мозга, либо с умножением уже существующих связей»;
так формулирует Эдингер35 результат своих многолетних изысканий,
ставший для него принципом исследования. Он стремился на ряде
позвоночных животных, у которых, как мы выше видели, древний мозг
постепенно приближается к новому мозгу, определить функцию
нового органа, в то время как он, увеличиваясь, параллельно изменяет и
характер поведения. По мнению Эдингера, действия животного выглядят
все более и более «разумными». И параллельно этим изменениям в
характере действий Эдингер наблюдает возрастающие морфологические
изменения в мозгу, постоянное разрастание областей, расположенных
между и впереди чувствующих центров, и усиление мощности
регулирующего их аппарата интеркортикальных путей. Те из полей, которые
расположены в лобной части мозга, вполне доступны исследованию
и отражаются на том, что поступками и восприятиями животного
начинает руководить интеллект»36. Человек особенно отличается величиной
своих лобных долей. Недоразвитости лобных долей всегда сопутствует
идиотизм.
Плодотворность эвристического принципа, открытого и с успехом
примененного Эдингером, все равно не подлежит сомнению и в том
случае, если мы в ходе изложения придем к иному заключению о сущности
актов, особенно интеллектуальных, а тем самым о функциях мозговых
участков.
Одновременно с увеличением нового мозга и связанных с ним форм
поведения в ряду позвоночных животных сокращается
самостоятельная деятельность древнего мозга. Чем выше стоит животное в этом
ряду, тем меньше оно может обойтись без нового мозга. У животных
вырезали большие полушария и наблюдали за их поведением. В
литературе известен целый ряд таких случаев уродства у человека, при
которых он почти не в состоянии прожить и нескольких дней.
Известен всего один случай, когда ребенок, совершенно
лишенный больших полушарий, прожил 33/4 года. Он описан Л. Эдингером
и Б. Фишером37. В своем заключении авторы сравнивают поведение
этого ребенка с поведением собаки, оперированной Ротманом,
которая также прожила без больших полушарий больше трех лет. «Собака
вскоре снова научилась бегать, даже перелезать через изгородь,
ребенок же лежал с постоянно напряженными членами и почти
неподвижно 33/4 года, не сделав ни одной попытки подняться. Он никогда
.не производил хватательных движений, не умея даже держать
предметы руками. Только на лице замечалось известное движение: оно
иногда болезненно искривлялось, губы и язык приходили в движение при
сосании и при принятии пищи из ложечки. Собака, которую вначале
кормили так же, как и ребенка, позднее дошла до того, что достаточно
было поднести миску к ее рту, как она съедала все дочиста. У
ребенка не наблюдалось и следа того ненормального беспокойства —
«исчезновение всяких преград», которое владело животным и заставляло
его непрерывно кружиться; отмечен был только постоянный крик со
второго года, ребенок только тогда успокаивался, когда ему сжимали
голову.
Моче- и калоотделение происходило у собаки нормально; ребенок
же не менял при этом своего положения, он никак не реагировал, когда
становился мокрым. Сон и бодрствование у собаки чередовались;
ребенок почти всегда спал. Собака не утрачивала вкуса и обоняния, но
переставала слышать и видеть. Также происходило и у ребенка, зрительные
рефлексы действовали у него так же, как у животного: глаз судорожно
закрывался от света. Невозможно было обнаружить никаких
психических реакций, которые позволили бы войти с ребенком в общение или
чему-нибудь его научить. У собаки это последнее до известного предела
удавалось. Она была подвержена настроениям, припадкам бешенства,
тихого успокоения»38.
Мы еще вернемся в следующей главе к ребенку, лишенному
больших полушарий; приведенная цитата ясно показывает, насколько
работоспособней одни и те же древние части мозга собаки, чем у человека,
и насколько больше человек зависит от своего нового мозга, чем
собака. Если мы вспомним, как необычайно снижается жизнедеятельность
такой собаки, значительно уступая рыбе, обходящейся только древним
мозгом, мы найдем полное подтверждение нашего первоначального
положения. Вспомним изложенный во 2-й главе факт, что человек
появляется на свет беспомощней, чем все животные, и имеет самое
продолжительное детство. Между этим и вышеустановленным фактом должна
существовать какая-то зависимость.
Это приводит нас к онтогенетической точке зрения. При рождении
уже закончена макроскопическая, но не микроскопическая структура
человеческого мозга. Большинство волокон к моменту рождения еще не
дифференцированы и потому еще не способны функционировать.
Граммы
1300
1000
700
300
годы
Z
[ I
I
M
I
I
I—
2-я треть роста
1-я треть роста
I I .1 I I Д »
10
20
Рис. 2. Из книги Бюлера «Духовное развитие ребенка»
Процесс созревания волокон длится в течение первых месяцев
жизни. Сперва миелинизируются волокна, идущие вниз от коры, которые
ведают произвольными движениями членов, затем уж и связывающие
отдельные области коры между собою. Новый мозг новорожденного,
таким образом, еще незакончен, и на основе вышесказанного мы можем
связать этот факт с беспомощностью человека при рождении. Человек
больше всякого другого животного зависит от функции нового мозга.
Между тем человеческий мозг при рождении уже относительно очень
велик и тяжел. Вес мозга составляет уже свыше 300 г, приблизительно
четвертую часть веса мозга взрослого, а в отношении ко всему весу тела
гораздо тяжелей, чем у взрослого, как показывают следующие цифры:
Новорожденный 1/от 6 до 8 = вес мозга/общий вес = 1/ от 30 до 35
взрослого.
Вес мозга увеличивается сначала очень быстро, через девять
месяцев он уже удваивается, через три года утраивается, скорость роста все
уменьшается, и полный вес достигается только в середине третьего
десятка жизни. Развитие поведения идет параллельно с увеличением веса.
Вес является грубым мерилом развития, его быстрое увеличение
связано, главным образом, с совершенствованием движений; но и другие
функции проделывают вначале очень быстрое развитие.
При изучении мозжечка, ведающего равновесием тела,
вырисовывается интересная параллель в развитии органа и его действия. Уже тот
факт, что не все части мозга развиваются в одинаковом ритме, но
разные части в разные периоды растут особенно быстро, говорит за вы-
.ставленное нами выше положение о психическом развитии. Так,
мозжечок растет в первые пять месяцев очень медленно, потом вдруг быстрее,
быстрее всего во второй половине первого и в первой половине
второго года жизни, и к концу четвертого года уже почти закончен. Время,
к которому относится самый большой прирост — конец первого года —
является периодом, когда ребенок овладевает сидением и ходьбой, т.е.
действиями, требующими энергичного регулирования равновесия.
Глава 3. Исходный пункт
развития. Поведение
новорожденного
и примитивные формы
поведения
1. Общий обзор поведения.
Физиологические коррелаты
Прежде чем перейти к изучению процессов развития, мы должны
познакомиться с его исходными пунктами. Для этого нам может
служить только что появившийся на свет человек. Эмбриональное развитие
лежит вне нашего изучения, а достаточно полное изучение
психического развития возможно только на взрослом человеке. Таким образом,
в этой главе мы займемся поведением новорожденного.
Представим себе в довольно грубых чертах поведение
новорожденного и зададимся вопросом: что делает человек, только что
появившийся на свет? Наряду с питанием, о котором нам скоро придется говорить
подробнее, и относящимися сюда вегетативными функциями мы
отмечаем ряд телодвижений, а именно: вытягивание и сгибание рук и ног,
часто некоординированное, так как правая и левая часть туловища
действуют каждая отдельно, потягивание после пробуждения, движения
при купании в теплой воде, которые могут охватить все тело, различные
движения глаз и наиболее яркое проявление — крик, непосредственную
причину которого мы часто, не можем уловить, хотя в большинстве
случаев она заключается в каком-либо неудобстве, будь это потребность
в пище или непосредственное внешнее воздействие на тело, например,
давление, температура, влажность и т. д.
Это перечисление отнюдь не претендует на полноту, оно также не
ограничивается моментом рождения, оно распространяется на две
первые недели39. Не менее характерным, однако, чем указанные движения,
является для новорожденного тот факт, что он спит по 20 и больше
часов в день, — правда, это время не представляет собой сплошного
периода сна, но короткие промежутки сна постоянно перемежаются
короткими промежутками бодрствования. Характерно и то, что движения
конечностей необыкновенно замедлены; Бюлер сравнивает их с
движениями окоченевших от холода пальцев.
Обе последние особенности поведения новорожденного проливают
свет на некоторые физиологические процессы. Зольтманн40 в
многочисленных опытах искусственно (электрическим током) раздражал
мышцы и двигательные нервы новорожденных и взрослых млекопитающих
(собак, кроликов) и открыл достаточно характерные различия между
реакциями молодых и взрослых животных. У новорожденных,
во-первых, раздражимость гораздо меньшая, нужны гораздо более сильные
токи, особенно для того, чтобы вызвать мускульные реакции;
во-вторых, самая форма сокращения мышц иная: малоподвижные, они
медленно поднимаются и опускаются; в-третьих, очень велика утомляемость;
и, в-четвертых, легче можно привести мышцы к длительному
сокращению (тетанус). При последовательном раздражении мышцы сильными
токами небольшим промежуткам между раздражениями соответствуют
сокращения. Учащая раздражения, можно привести, наконец, к тому,
что сокращения мышцы перестают следовать за раздражениями; мышца
остается долгое время неподвижной — в состоянии тетануса. У
новорожденного этот предел достигается уже после 16-18 раздражений, в то
время как для взрослого животного нужно 70-80 в секунду.
Эти результаты мы можем, несомненно, применить к человеку.
Тогда нам становится понятным медленность движений во втором,
большая потребность во сне — в третьем и способность так легко снова
засыпать — в первом случае. Но этому препятствует, между прочим, тот
факт, что длительные раздражения действуют на наши чувствующие
органы, причем это препятствие сильно ослабевает, когда
чувствительность понижается. Также и в отношении четвертого случая
оказывается возможным провести аналогию с поведением новорожденного,
правда, не в моторной, а в сенсорной области. Можно и при
периодическом раздражении чувствующих органов наблюдать такую же
закономерность, как при периодическом раздражении мускулов. Возьмем
наиболее удобный и хорошо исследованный пример — световую
чувствительность. Если через известные промежутки, отделенные
полной темнотой, посылать свет в глаз посредством вращения
наполовину белого, наполовину черного круглого стекла (цветной кружок), то
при медленном вращении мы увидим смену света и темноты. При более
быстром вращении выступает новый феномен: стекло начинает рябить.
Еще более быстрое вращение приводит и здесь к пределу, за которым
черно-белое стекло кажется окрашенным в спокойный серый цвет.
Появление такого однородного впечатления называется
смешением; смешение цветов таким образом соответствует тетанусу.
Соответствие этих двух эффектов идет, однако, еще дальше — вплоть до мелочей.
Одни и те же законы определяют наступление предела41. Таким
образом, можно предположить, что критическая частота смешения, т. е. наи-
меньшая частота, при которой оно наступает, достигаемая у взрослого,
по большей части, приблизительно при 50 оборотах в секунду42, должна
быть у новорожденного гораздо ниже. Конечно, проверить это очень
трудно, во всяком случае, мы еще до этого не дошли. Однако
исследования, проведенные мной совместно с Р. Чермакм установили тесную
зависимость между феноменами смешения и зрительным восприятием
движений. Я укажу здесь только на то, что при слишком быстром
движении утрачивается его феноменальный характер. Мы можем вместо
движущийся светящейся точки видеть неподвижную полосу света.
Этими явлениями управляют те же законы, что и при смешении цветов43.
Итак, мы можем, наконец, исходя из четвертого положения Зольтман-
на, вывести, что граница, за которой исчезает феноменальное различие
движения, достигается для новорожденных легче, т. е. при более низкой
скорости, чем для взрослых. Это следствие полностью применимо к
известным явлениям. Существуют расхождения по поводу признаков, по
которым можно определить, когда ребенок впервые начинает следить
взглядом за движущимся предметом, но все авторы сходятся в одном
пункте: будучи вообще в состоянии выполнять этот акт, ребенок может
осуществить его только в том случае, когда движение предмета
происходит медленно44. До сих пор эти явления ставились в зависимость
преимущественно или исключительно от развития двигательной части этого
акта; правильное движение глаза, следящего за движущимся
предметом, объясняли постоянным раздражением разных точек сетчатой
оболочки, т.е. механизмом связи между чувствующим и двигательным
процессом; однако необходимо привлечь к объяснению и самый деятельный
акт, тем более что мы изучаем «связь», устанавливающую достаточно
тесную зависимость между чувствующим и двигательным частями
оптического аппарата. Таким образом, можно считать, что новорожденные
действительно меньше взрослого способны наблюдать движение и что
это находится в зависимости от быстрого наступления мышечного
тетануса. Это обстоятельство я использую для того, чтобы подчеркнуть
следующее: считая правильным наше предположение о недостаточной
способности следить за движениями у новорожденного, мы тем самым
имеем дело с действием, совершенствующимся в течение
индивидуальной жизни. Можно ли из этого заключить, что в основе этого изменения
лежит опыт? Никоим образом, даже приняв во внимание другое наше
предположение, относящее эти факты к мышечным и нерво-физиоло-
гическим явлением45. Дело в том, что причиной постепенного
возрастания предела, за которым наступает тетанус, от 15 до 80 периодов в
секунду, очевидно, является не опыт, а изменение органов, которое мы
в предыдущей главе называли созреванием. Тот же процесс созревания
является там причиной развития двигательных восприятий, которые мы
не имеем никакого основания ставить в зависимость от опыта. Мы
имеем здесь, таким образом, дело со случаем, возможность которого мы
предусмотрели в предыдущей главе.
Впрочем, мы снова встретимся с подобной проблемой, когда
коснемся движений глаз.
2. Импульсивные движения
Обращаясь к движениям новорожденного, описанным нами в
первом случае, мы убеждаемся, что большинство из них обладает общим
признаком: они не зависят ни от каких внешних раздражений, ни от
определенно установленных ситуаций; таким образом, они не имеют
характера реакций, но производят впечатление спонтанных,
бессмысленных и бесцельных движений, непосредственно не достигающих
никакой заметной цели. В отличие от других эту группу движений вслед за
Прейером называют импульсивными движениями. Этим определением
имелось в виду отметить их физиологическое происхождение. Прейер
усматривает в них продолжение движений зародыша в утробе матери.
Ввиду того что эти движения, как указывает Прейер, производятся
уже в то время, «когда движения зародыша не вызываются еще
периферическими раздражениями, когда центростремительные пути еще
не действуют или даже еще не сформированы»46, а, с другой стороны,
никакое движение без раздражения двигательных нервов
невозможно, он заключает, что внутренние физиологические процессы, питание
и рост, являются раздражителями для этих импульсивных движений;
этот взгляд разделяет также и Штерн47. Вообще же общепризнанно,
что эти движения не вызываются ни внешними раздражениями, ни
возбуждением мозговой коры, от которых происходят наши спонтанные
действия. Однако Штерн и Торндайк не считают эти движения
объективно бесцельными. Более того, по их мнению, они высоко полезны для
организма, помогая росту и созреванию органов. Штерн имеет в виду
при этом значение предварительного упражнения48. Торндайк в
соответствии со своей «теорией полезности», с которой мы ознакомились
в предыдущей главе, усматривает в этом значение и причину их
возникновения и сохранения в процессе развития рода.
Я теперь меньше, чем раньше, склонен соглашаться с этими
воззрениями. Возможно также, что неверен и сделанный выше вывод, по
которому импульсивные движения являются реакциями на специфические
внутренние раздражения, или по крайней мере он верен не для всех
случаев. По Ш. Бюлер и Г. Гетцер, наблюдавших в течение 24 часов 69
детей, импульсивные движения «оказываются непосредственным
выражением стремящейся к проявлению активности, свойственной живому
существу»49. Если это воззрение правильно, то мы имеем в импульсив-
ных движениях дело с ранней или первоначальной ступенью позже
возникающих беспокойных движений (Курт Левин), которые прорываются
тогда, когда специфическое действие не выполнено, например, когда
перед глазами находится привлекательная цель, которая, однако, не
может быть достигнута. Новейшие исследования пытаются даже
добавить, что эти импульсивные движения все больше и больше теряют свой
«случайный характер», т.е. не все из них оказываются просто
беспокойными движениями, и это относится даже к движениям эмбриона50.
3. Схема рефлексов
Мы включаем во вторую группу те движения, которые
представляют собой ясно выраженные реакции на внешние раздражения. Они
обладают целым рядом еще других особенностей:
1. Относительная простота раздражения и реакции. Мы
принимаем такое грубое разграничение движений, имея в виду невозможность
легко определить понятие относительно простого, принимая во
внимание, главным образом, третью группу.
2. Они протекают необыкновенно равномерно, т.е. одинаковые,
действующие на одни и те же области раздражения, постоянно
вызывают одинаковые реакции, поскольку раздражимость организма заметно
не отклоняется ни в ту, ни в другую сторону от нормального уровня.
3. Изменение раздражений в известном направлении, например,
постепенное усиление вызывает непрерывное изменение реакции в том
же направлении. Реакция может вдруг качественно измениться при
вовлечении в движение до сих пор неподвижного органа.
4. Эти движения в качестве реакций относятся к наследственному
предрасположению индивидуума и им ребенок не должен учиться.
5. Эти реакции носят в высшей степени целесообразный для
организма характер, они относятся в общем к защитным оборонительным
и приспособительным движениям, что станет особенно ясно при
разборе отдельных их форм.
6. Нужно упомянуть еще одну закономерность: реакция может
изменяться, усиливаться или замедляться, когда .наряду с
действующим раздражением возникает другое раздражение в совершенно
другом месте51.
Такие движения мы называем рефлекторными движениями или,
короче, рефлексами; таково, например, сокращение зрачка при действии
света.
Прежде чем перейти к рефлексам новорожденного, мы остановимся
на теоретических представлениях, созданных для объяснения
рефлексов. Мы можем задать себе такой вопрос: как создан рефлекторный
аппарат? Обычный ответ на этот вопрос очень прост. Мы знаем анатомиче-
ски и физиологически два рода нервов — чувствующие и двигательные;
мы знаем дальше, что концы чувствующих нейронов непосредственно
или посредством промежуточного соединения с другими соединяются
с концами двигательных нейронов; мы знаем наконец, что повреждение
такого более или менее сложного комплекса нейронов, участвующих
в каком-нибудь движении, нарушает в каком-нибудь пункте
самодвижение. В этой функции обнаруживается также двойственность
восприятия и ответа; рефлекс, таким образом, осуществляется благодаря
более или менее сложной цепи нейронов, которая в отдельных случаях
может состоять только из двух нейронов — чувствующего и
двигательного. Такой аппарат и называется рефлекторной дугой. Не нужно
забывать, что рефлекторная дуга связана со всеми другими областями
нервной системы и не является чем-то изолированным. Это следует уже из
отмеченных выше явлений усиления и замедления реакций, а также и из
того, что многие реакции мы можем произвольно регулировать,
например, мы можем сдерживать чихание более или менее длительное время.
До сих пор теория рефлексов и определяла сложившееся
представление о рефлекторном аппарате, не вдаваясь в детали его образования.
Рефлекторную дугу считают составленной из центростремительной
и центробежной ветви, рассматривая каждую из них как
самостоятельную часть, и соответственно с этим, оценивая связь, существующую
между обеими частями, как нечто характерное для структуры аппарата.
Рефлекторный аппарат, следовательно, отличается прочными
унаследованными связями между рецепторными (воспринимающими) и эф-
фекторными (действующими) путями.
Такая схема значительно приближается к первоначальным
воззрениям. Эти части действительно можно отличать анатомически и по
такому принципу построить механическую модель рефлекса.
Механическая модель в большой мере соответствует нашему представлению
и вполне может быть использована для ее уяснения.
Однако мы должны еще подробней изучить функциональную
сторону модели. Что происходит в рефлекторной дуге, когда совершается
рефлекс? Ясно, что не может быть и речи о простой передаче энергии,
полученной от внешнего раздражения. Такое предположение
невозможно ни для какого рода нервной деятельности. Слишком независима для
этого интенсивность реакции от энергии раздражения. Можно только
допустить, что раздражение освобождает скрытую в нервных клетках
энергию. При этом сила раздражения в значительной мере
определяет количество и качество освобождаемой энергии, если она
заключена в нервных клетках52. Но этого нельзя сказать ни о чувствующих, ни
о двигательных нервах. Когда я непосредственно электричеством
раздражаю двигательный нерв, электрический ток не является единствен-
ной причиной, заставляющей мышцу сокращаться; здесь имеет место
и освобождение энергии. Таким образом мы предполагаем при
рефлексе самостоятельность центростремительных и центробежных
нейронов; следовательно, раздражение освобождает в чувствующем нейроне
определенную энергию, которая, передаваясь дальше, в свою очередь,
освобождает энергию двигательного нейрона. Зависимость между
процессами, происходящими в чувствующем и двигательном нейроне, та
же, что и между раздражением и процессом чувствования; движение
реакции, во всяком случае, может больше не зависеть от раздражения.
Такой аппарат мы можем назвать механизмом. Целесообразность
рефлекторных движений этим еще не доказана, для этого существуют еще
другие теории, с которыми мы познакомимся ниже, при
рассмотрении третьей группы движений. Мы дополним только наше
изображение, прибавив, что реактивное движение, в свою очередь, раздражает
чувствующие нервы; нервная система, таким образом, отмечает, какие
именно произведены движения. Это еще не значит, что мы сами можем
их заметить. Многие рефлексы протекают совершенно бессознательно,
а другие в то время, когда рефлекторные дуги отрезаны от нового мозга
(пример — женщина, родившая, сама не зная об этом).
Мы уже указывали на преимущества и недостатки изложенной
теории рефлекторных процессов. Дальнейшие пробелы мы обнаружим еще
при рассмотрении рефлексов новорожденного.
4. Рефлексы новорожденного.
Проблема движений глаз
С самого начала у новорожденного можно наблюдать
разнообразнейшие рефлекторные реакции чувствующих органов. И поэтому
рефлексы новорожденного уже в течение продолжительного времени
внимательно изучаются. Мы ограничимся несколькими примерами.
РЕФЛЕКСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГЛАЗОМ. Парный рефлекс зрачка
обнаруживается с самого начала, т. е. при действии света только на один
глаз сокращаются оба зрачка. Также функционирует с самого начала
смыкание век от яркого света, чего не происходит при быстром
приближении предмета к глазу.
Много споров вызвала проблема движений глаза, способствующая
приспособлению глаз к обстановке, так чтобы индивидуум каждый раз
наилучшим образом мог использовать свой зрительный орган. У
взрослых эти движения координированы и подобно рефлексам
автоматичны, в то время как у новорожденного они часто не координированы,
вследствие его способности приводить в движение только один глаз,
оставляя другой совершенно неподвижным.
Здесь следует различать две отдельные проблемы: установку глаза
на определенный предмет — фиксацию, с одной стороны, и совместную
деятельность обоих глаз — координацию, — с другой. При фиксации
глаз вращается до тех пор, пока предмет не изобразится в точке самого
отчетливого видения (Fovea centralis), расположенного в центре
сетчатой оболочки, причем линза достигает такой кривизны, что на сетчатке
появляется четкое изображение предмета (аккомодация). Координация
заключается в том, что аккомодация и фиксация для обоих глаз
одинакова (эта последняя называется конвергенцией)53.
Можно ли считать такие движения глаз рефлекторными?
Рассмотрим сначала координацию. Существуют две диаметрально
противоположные теории.
Согласно Герингу, «координация движений обоих глаз зависит от
врожденной организации, но не от упражнения. Оба глаза ведут себя
так, что каждый выступает как простой орган в отношении к
приспособительным зрительным движениям54; глаз не является самостоятельным
в своих движениях, но обоими глазами управляет один общий импульс.
Гельмгольц, наоборот, утверждает, что «несмотря на то что при
нормальном зрении кажется неизбежной общая регуляция обоих глаз,
оказывается, что закономерность этих движений основывается на
.упражнении55.
Мы встречаемся здесь с двумя противоположными направлениями
мысли, господствующими во всей психологии восприятия
пространства. Первое направление объясняет все важнейшие акты, в данном
случае движения глаз, определенными наследственными
предрасположениями; индивидуальная жизнь, упражнение, опыт совершенствуют, но
не образуют новых способностей. По второму нужно считать самые
важные действия результатом длительного упражнения. Первое
направление называется нативизмом, второе — эмпиризмом.
Рассмотрим в основных чертах те из аргументов, приводимых
обеими сторонами, которые связаны с нашей основной темой —
психологией новорожденного. Главный довод Гельмгольца основывается,
конечно, на том, что координацию обоих глаз можно довести до известного
предела. Но то, что может изменяться в результате упражнений, может
быть приобретено также путем упражнения. Этот аргумент мало
показателен, потому что нельзя считать врожденную координацию
непреодолимой силой. Можно привести в доказательство, что врожденные
свойства модифицируются благодаря упражнениям; Геринг, например,
указывает, что четвероногое можно приучить к несвойственной ему
походке.
Эмпирист может сослаться на некоординированное^ движений
глаз у новорожденного, но этому можно противопоставить наблюда-
ющуюся уже с первых дней координацию движений глаза, у многих же
детей нельзя обнаружить некоординированности56. Ведь нельзя
предположить, что оба глаза независимо друг от друга одинаково
реагируют на световые раздражения.
Этот факт тем убедительнее для нативизма, что часто наблюдается
одновременное движение парных членов у новорожденного и что такое
движение, если оно вообще координировано, всегда происходит
симметрично, т.е. обоюдно, но не односторонне57. Например, руки движутся
или друг к другу, или в разные стороны, но никогда одновременно
вправо или влево. Геринг указывает на то, что обе руки стремятся быстро
двигаться одновременно и в одном направлении, туда и обратно, но не
друг к другу; такое движение даже для взрослого почти невозможно58.
Проделав такой опыт, читатель удивится его трудности. Глаза же,
напротив, с величайшей легкостью уже у новорожденного движутся в
одном направлении, при каждом изменении взгляда справа налево и
наоборот. Поэтому нельзя считать координацию следствием одного только
упражнения, она имеет свои корни в наследственном
предрасположении. К этому нужно добавить, что некоординированные движения глаз
происходят преимущественно в таких ситуациях, в которых выступает
особенно много импульсивных движений, например, при купании в
теплой воде и у старших детей во сне. Опыт показывает, что при прямом
раздражении четверохолмия, ядра древнего мозга у животных всегда
вызываются только координированные движения глаз.
Приведенные в конце факты показывают, что координированные
движения глаз имеют место тогда, когда они вызываются центральным
органом, и что атипичные, некоординированные движения происходят
по совершенно другим причинам, ничего общего не имеющим со
зрением59. Это приводит нас к тому, что уже было сказано об импульсивных
движениях. Таким образом, мы и причислим к ним
некоординированные движения глаз.
Этим самым уже определяется невыдержанность крайнего
эмпиризма, и необходимым для примирения всех исследователей является
признание значения наследственного предрасположения для
координации; можно лишь спорить о том, как велико это значение и что
зависит от упражнения и опыта, вопрос, на который пока еще, по-видимому,
нельзя дать ответа60.
Перейдем к проблеме фиксации. Последние исследования
показали, что и здесь дело обстоит так же. Хотя глаза младенца в нормальных
условиях довольно продолжительное время блуждают бесцельно, но
при благоприятных условиях уже в первые дни обнаруживаются
фиксирующие движения. Это основано на опытах Уотсона61, проведенных
над 20 новорожденными. Младенец, лежа на спине с неподвижной го-
ловой, во многих случаях смотрит на светящуюся точку, являющуюся
единственным видимым предметом в темной комнате, если только она
отдалена от средней линии не больше как на 20 градусов. Даже и для
взрослого изолированная светящаяся точка в темноте составляет
благоприятные условия для фиксации. Как однажды установил Р. Экснер,
так можно как угодно долго, не уставая, фиксировать глаза, в то время
как при нормальных условиях длительная фиксация становится
трудной, мучительной и, наконец, невозможной.
В нормальных условиях взгляд ребенка раньше всего привлекают
движущиеся предметы. Штерн62 и Гильом63 свидетельствуют, что их ребенок
на пятый день уверенно следил взглядом за передвигаемым близко от его
головы предметом, за карманными часами, вернее, за пальцем отца.
Другое наблюдение, относящееся к такому же раннему возрасту,
показывает, что бесцельно блуждающий взгляд задерживается на
светящихся предметах, т.е. ребенок фиксирует его на предметах. Это
настолько сильно занимает ребенка, что заставляет его перестать кричать.
Наступает ли в нормальных условиях такая пассивная фиксация
(пассивная, потому что возникает вследствие прекращения движения)
раньше, чем активная, трудно с уверенностью установить по исследованиям
Штерна и Гильома.
Мы не можем также пользоваться здесь соображениями Шинн.
К сожалению, с уверенностью сказать, является ли предмет,
движущийся в поле зрения, более сильным раздражителем, чем периферически
экспонированный, нельзя даже тогда, когда такие общие соображения,
как сравнительно рано установленные случаи Штерна и Гильома,
делают это очевидным. Во всяком случае, я не могу согласиться с Бюлером64
в том, что оба случая обусловливаются одним и тем же. В первом
случае раздражением является неподвижный, расположенный в стороне
предмет, во втором случае он подвижен и расположен в центре. Таким
образом, условия, вызывающие движение, в обоих случаях различны.
Итак, активная фиксация возможна с самого начала, причем она еще
достаточно несовершенна; движения глаза часто минуют цель или же не
достигают ее. Развитие зависит от условий, в которых возникает
фиксация.
Эти факты исключают чистый эмпиризм. Только в отношении
совершенствования еще возможны разногласия. Для эмпиризма
рассмотренное развитие является обучением, для нативизма — созреванием.
В настоящее время исследование склоняется к такому же
разрешению, как и в соответствующей проблеме координации. Оставляя
действительными оба фактора, обычно не разграничивают их взаимного
участия. Можно ли считать движения при фиксации врожденными
рефлексами? Мы имеем перед собой следующее: в ответ на какое-ни-
будь раздражение, находящееся в поле зрения, глаз поворачивается
так, что раздражитель перемещается в центр нового поля зрения;
иначе говоря, световая точка, отображенная где-нибудь на периферии
сетчатой оболочки, порождает такое движение, благодаря которому
светящаяся точка отражается на центральной ямке. «При подробном
рассмотрении в этих процессах обнаруживается довольно сложная
и тонко дифференцированная система связей, а именно, связей
между световыми впечатлениями в отдельных областях сетчатой
оболочки со специальными двигательными импульсами глаз. Строго говоря,
из каждой точки сетчатки должно возникнуть движение, в котором
таким образом каждое чувствующее волокно зрительного нерва
связано с центральным соединением двигательных нервов, приводящих
в движение мышцы глаз»65. Это вполне соответствует вышесказанному
о рефлекторном аппарате, но в действительности дело обстоит гораздо
сложнее, что и следует из дальнейшего изложения. Предположим, что
взгляд ребенка сперва направлен прямо к точке А, а справа в той же
плоскости появляется светящаяся точка В, тогда глаза поворачиваются
так, что эта точка отображается на центральной ямке. Теперь
появляется новый световой раздражитель Bj вертикально над этим, тогда
глаза побуждаются к фиксации вверх. Теперь опять представим себе глаза
направленными на точку А и вертикально под ней светящуюся точку Aj,
которая отображается в том же месте сетчатки, где и точка Bv когда
взгляд был направлен на В. Происходит новое движение глаз вверх для
фиксации на Aj, но, несмотря на то, что в этом случае Aj раздражает
то же место сетчатой оболочки, как и в первом случае, движения вверх
(В-В^ точки Вр эти оба движения совершенно различны: оба эти
движения А-А1 и B-Bj требуют различной иннервации глазных мышц.
Полученные нами для данного частного случая выводы можно выразить таким
образом: иннервация глазных мышц при движениях фиксации зависит
кроме обусловливающего движения расположения на сетчатке еще и от
непосредственного положения глаза. Из этого следует, что каждое
чувствующее волокно имеет столько соединений с двигательными нервами,
сколько существует возможных положений глаза, т.е. необыкновенное
разнообразие, и положение глаза является каждый раз определяющим
для данного соединения. Биолог, желающий объяснить
филогенетическое развитие такой удивительно сложной и в то же время простой
по функционированию структурой органа, ставит себя перед
неразрешимой задачей, если не привлекает в качестве принципа в своем
объяснении самую функцию. По этой теории получается: движения A-Aj
и B-Bj на нашем примере различны, оптические центростремительные
импульсы, обусловливающие их, проходят через разные соединения,
но оба раза движение ведет к одинаковой цели: расположенная выше
первоначальной, точка становится, благодаря этому движению, точкой
фиксации. Не существует внутренней зависимости между одинаковым
результатом и различными средствами, которыми он достигается. К
такому же выводу мы пришли при изучении рефлекса; реакция хотя и
связана с раздражением, но двигательный и чувствующий процессы вполне
гетерогенны.
Возникает вопрос, в какой степени правдоподобна такая система
соединений, вопрос, особенно напрашивающийся при попытке чисто
эмпирического объяснения фиксирующих движений, потому что мы
увидим, что, по господствующим воззрениям, обучение означает не что
иное, как установление новых связей. Расхождение между нативизмом
и эмпиризмом заключается, таким образом, не в роли, приписываемой
определенной системе соединений в движениях глаз, а лишь в ее
происхождении. Эмпиризм открыто признает трудность, заключающуюся
в том, что такая сложная система организована как раз для того,
чтобы выполнять определенные акты. Для освещения положения вещей
еще и с другой стороны мы укажем на то, что каждый зрительный нерв
содержит 1000000 волокон, в то время как каждая сторона спинного
мозга только 634000 волокон и что три пары нервов, 3,4 и 6, — черепно-
мозговые нервы — регулируют разнообразнейшие комбинации глазных
движений.
Но ввиду того, что и опыт исключается из объяснения, как мы
видели, фиксация уже возможна с самого начала и само «эмпирическое»
понятие опыта, как мы увидим, несостоятельно — разрешение остается
вне противоположности нативизм-эмпиризм. В этом пункте
расходятся между собой новейшая и старая психология.
Обратимся еще раз к старой теории движений глаза. В согласии
с ней оптический сенсориум и моториум (я предполагаю эти
выражения понятными) составляют два самостоятельные аппарата, только
связанные между собой в различных комбинациях. Сенсорные и моторные
явления в оптической области имеют столько же общего, сколько, по
господствующему мнению, и в остальных рефлексах. С другой стороны,
движения глаз кажутся в высокой мере приспособленными к свойствам
оптических феноменов.
Рефлексы фиксации, о которых шла речь, служат только примером
этого. Иначе говоря, движения глаз зависят от контуров видимых
предметов; аккомодация обусловливает отчетливое изображение контуров,
фиксируемых на сетчатке; они регулируются так, что за исключением
незначительных отклонений при любом положении возможно большее
число внешних точек изображается в одинаковых пунктах сетчатой
оболочки обоих глаз66, и независимо от положения глаз проходящая
через точку фиксации горизонтальная прямая линия всегда изобража-
ется на соответствующих линиях сетчатки67. Короче говоря, принципы,
по которым регулируются движения наших глаз, заключается в том, что
наши зрительные восприятия наиболее ясно воспроизводят
окружающее пространство. «Прекрасную гармонию» сенсорных и моторных
функций обоих глаз надлежащим образом уже отметил Геринг.
Но до тех пор, пока зависимость между всеми функциями
рассматривается как простое соединение самостоятельных элементов, нельзя
было вывести из этой теории соответствующие следствия. Возможно
ли здесь какая-нибудь другая функциональная зависимость? В своем
основном труде В. Келер68 указывает другую возможность,
соответствующую образу мышления, представленному в психологии М. Вер-
тгеймером. Сущность его будет выяснена в следующих главах, здесь
мы ограничимся новым объяснением движений глаз. Мы отказываемся
от предположения, что зависимость между сенсорными и моторными
функциями зрения является только системой соединений отдельных
элементов. Тогда отпадают все вытекающие из этого предположения
следствия, приведенные выше чувствующие процессы перестают
представляться простым включением двигательных без какой-либо
внутренней, объективной связи между ними. Вместо этого можно выставить
гипотезу, по которой специфическая форма видимого сама
регулирует движения глаз. Следовательно, оптический сенсориум и моториум
рассматриваются не как два самостоятельных аппарата, но как
образующие единый орган для выполнения однородных действий —
физическую систему, отдельные части которой могут действовать друг на
друга: то, что происходит в одной части органа, независимо и не остается
без влияния на то, что происходит в другой. Что означает собою в
психологии это воззрение, постепенно станет ясным в процессе
изложения. Здесь она обращает нам возможность нового объяснения
движений глаз. Наш зрительный аппарат, чувствующий плюс двигательный,
является, следовательно, саморегулирующимся органом; при действии
на двигательную часть изменяются условия явления, происходящего
в чувствующей. Для иллюстрации я приведу опыт Уотсона с
фиксацией. Движение, которым ребенок направляет свои глаза к единственно
видимой светящейся точке, обуславливается процессами,
происходящими в оптическом сенсориуме; но оно же является причиной сдвигов
изображения светящейся точки на сетчатой оболочке и, следовательно,
изменения процесса в сенсориуме.
Так как Fovea centralis, место сетчатки, на котором изображается
фиксируемая точка, функционально выделяется и становится
«центром» и наиболее «деятельной» областью, то в нашем случае лучшее
равновесие в сенсориуме наступает, когда единственное действующее
извне световое раздражение направлено именно на нее.
В менее простых случаях труднее представить себе суть дела, не
всегда должно наступить изменение в смысле наибольшего
уравнивания и упрощения, и как раз принцип наибольшего гороптера находится
в полном соответствии с требованием.
Против данного объяснения нельзя возразить тем, что мы, взрослые,
ни в какой мере не испытываем необходимости смотреть на светящуюся
точку в темноте, но в таких условиях, как упомянутые нами выше, мы
также легко можем достигнуть длительной фиксации. У взрослого и
ребенка старшего возраста в регулировании движения участвуют в
большинстве случаев гораздо более мощные силы. Но в случаях, когда силы
редуцируют или совершенно исключаются, особенно убедительно, еще
в большей степени, чем у нормального младенца, обнаруживается
регулирующая сила оптического поля. Гольдштейн69 описывает одного
ребенка, который вследствие гидроцефалии имел анатомически сильно
увеличенный неразделенный желудочек и у которого большие
полушария мозга, так же как соединения между отдельными нижележащими
частями и большими полушариями были, бессомненно, недостаточны,
и у которого легко можно было вызывать движения глаз и головы
соответствующими оптическими и акустическими раздражениями, хотя
никогда не создавалось уверенности в том, «что ребенок видит что-нибудь
.сознательно»70. При освещении электрическим фонариком его глаз они
устанавливаются на этот источник света, и путем передвижения фонаря
можно заставить ребенка следить глазами в различнейших
направлениях. Это следование носит выраженный пассивный, принужденный
характер. Так же ведет себя ребенок при шумовом действии.
Мы только наметим здесь этот вопрос и в последующем изложении
попытаемся на него ответить.
Одно ясно: вопрос о том, оправдывается ли теории эмпиризма или
нативизма при объяснении — движений глаз, являются ли эти движения
следствием врожденных законов или приобретаются в индивидуальном
опыте, содержит теперь совершенно другой смысл. Если оптические
феномены, вернее, их физиологические корреляты, благодаря своему
специфическому свойству, регулируют движения, то в своем развитии
они также зависят от последних71. Развитие способности фиксации,
о которой мы говорили выше, следовательно, взаимно обусловливается
развитием зрительных органов. Здесь снова эмпиризм и нативизм
выступают враждебно друг против друга, но к разрешению спора мы
сможем прийти позже, при обсуждении проблемы обучения.
Остановимся еще раз на моменте, в котором особенно четко
выделяется различие между нашим способом изучения и способом бихе-
виористов. Два понятия — раздражение и реакция играют во многих
областях современной психологии доминирующую роль. Предыдущее
изложение показало, что эти два понятия в сущности не адекватны
действительности. Реакция, в соответствии с этим, не вызывает благодаря
внешнему раздражению действия врожденных механизмов, но
вытекает из формы самих сенсорных процессов. Этот сенсорный процесс
и является реакцией на обширное разнообразие раздражений
(вернее, на их топографию), и проблема отношений между тем и другим
есть на самом деле правильно поставленная и важная проблема
отношения раздражения к реакции. Но обычно при применении этой
формулы не думают о том, что за ней скрыто. Как мало научной ценности
в этой чисто внешней формуле, может пояснить одна аналогия. Я могу
описать какой-нибудь физический процесс по образцу этой формулы,
например, действие насоса. Раздражением здесь будет качание ручки
насоса. Реакция — вытекание воды на трубки. Но кто может считать,
что принцип насоса уже описан, если говорят, что это есть предмет,
который на качание одной своей части (раздражение) отвечает
вытеканием воды как реакцией? Такое описание не только несовершенно,
но попросту негодно. Качание ручки насоса важно только потому, что
обусловливает разрежение воздуха в системе насоса, и всякая другая
манипуляция, ведущая к этому результату, должна привести к такой же
реакции — вытеканию воды. Такое изменение давления соответствует
в нашем сравнении тому, что мы в случае реагирующего организма
называли сенсорным процессом. В других сравнениях это может быть не
изменение давления, но соответственно другие процессы в самой
системе. И мы должны понять эти процессы, если хотим объяснить
реакции. Терминология «раздражение-реакция» является, однако, лучшим
средством для того, чтобы просто просмотреть эту проблему. В § 9 мы
вернемся к ее более подробному обсуждению.
Возвращаясь к перечислению рефлексов новорожденного, мы
приведем еще несколько примеров.
РЕФЛЕКСЫ НА СЛУХОВЫЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ. Сначала
специфические реакции на слуховые впечатления отсутствуют. Но через три
или четыре месяца, по Гильому (и в соответствии с вышеприведенным
положением Гольдштейна), вырабатывается реакция,
предрасположение к которой имеется уже в первые дни, имеющая большое сходство
с оптической фиксацией: ребенок поворачивает голову по направлению
к звуку. Это происходило с сыном Прейера на 16-й неделе «с точностью
рефлекторного движения». По наблюдениям мисс Шинн
поворачивание влево-вправо происходит гораздо быстрее и точнее, чем вверх-вниз,
последнее еще очень затруднено даже в конце 2-го года.
Экспериментальные исследования этой реакции с тех пор были
проведены Гетцер и Тюдор-Гарт, с одной стороны, и Левенфельдом —
с другой. Оба исследования устанавливают поворачивание головы в на-
правлении звука на первом месяце, первое из них даже уже в первые
три дня.
Мы знаем, что локализация звука в пространстве обусловлена той
последовательностью, в которой звуковые волны достигают обоих
ушей. Из раздражителей, расположенных справа, звуки скорее
достигнут правого уха, из расположенных слева — левого; только тогда,
когда источник звука помещен впереди (или позади) субъекта, оба уха
возбуждаются одновременно. Каждое движение головы таким образом
создаст разницу во времени, в которое звук достигает ушей и этим
изменяет процессы в поле восприятия; при повороте головы в
направлении звука эта разница становится равной нулю. Благодаря этому звук
нам кажется возникающим «в центре»; с одной стороны и с другой
стороны — объясняются раздражения, дошедшие до слуховых нервов.
Таким образом, так же как и при движениях глаз, сама система изменяет
условия в направлении их максимального упрощения.
Преимущества этой гипотезы очевидны, если сравнить ее с
обычной гипотезой рефлекторной дуги. Как же мы должны рассматривать
врожденные нервные связи? Наше объяснение подтверждается не
только преимуществом горизонтальной локализации перед вертикальной,
но также многократно отмеченным мисс Шинн наблюдением: первые
.движения головы к звуковому источнику вызываются длительными
звуками и игрой на рояле на 5-й день, в то время как такая же реакция на
короткий звук — чихание — наступает только на 92-й день.
Систематические опыты Левенфельда подтверждают эти наблюдения.
Мисс Шинн, по большей части, оценивает иначе, чем Прейер, не
только движения головы, но и движение взгляда. Левенфельд
установил, что поворачивание головы имеет место раньше, чем движения глаз.
Для установления связи между теми и другими, мне кажется,
необходимы дальнейшие наблюдения72.
а) Целый ряд рефлексов на раздражения, идущие с кожи, может
быть описан в младенческом возрасте. Типичным рефлексом
новорожденного является сосание. Сюда относится и рефлекс Бабинского,
который через несколько недель вытесняется другим рефлексом и у
взрослого не наблюдается. Прикосновение к пятке новорожденного
вызывает вытягивание пальцев ноги (по направлению вверх), тогда как позднее
то же раздражение ведет к сгибанию пальцев (подошвенный рефлекс).
Рефлекс Бабинского является защитным рефлексом; другой сильно
выраженный защитный рефлекс вызывается у новорожденного
прикосновением к ресницам, в результате которого смыкаются веки.
В направлении положительного приспособления действует
рефлекс, существующий также у новорожденных, лишенных больших
полушарий. Если дотронуться до ладони ребенка, то она охватывает
прикоснувшийся предмет (например, палец). В связи с этим я упомяну
удивительную реакцию, названную американцами «clinging reaction»,
хватательную реакцию. Ребенок употребляет довольно большую силу
при хватательном рефлексе. Робинзон провел над этим в Америке
особые опыты и обнаружил, что очень многие, еще не достигшие года дети,
так сильно ухватываются руками за палец или за палочку, что их можно
поднять таким образом вверх. Двенадцать только что родившихся детей
висели так Vi минуты, как гимнаст на турнике, 1А даже почти целую
минуту73.
Более важными и длительными являются рефлексы равновесия
и движения, координирующие отдельные органы между собой. Они
функционируют с самого начала74.
Вдобавок нужно отметить, что вегетативные процессы с самого
начала протекают правильно, а дыхание и пульс — значительно быстрее
и менее равномерно, чем у взрослого. Такие рефлексы, как чихание
и кашель, также наблюдаются уже с первого дня.
5. Сосание. Общая характеристика
инстинктивных движений
Оставляя дальнейшие подробности, перейдем к третьей группе
движений. Мы до сих пор еще не коснулись чаще всего наблюдающихся
и характернейших движений новорожденного, связанных с его
питанием путем сосания. Теперь мы займемся этими движениями. Тотчас
же после рождения ребенок в состоянии сосать и глотать материнское
молоко. Между его губами вкладывают сосок и сейчас же или по
прошествии нескольких минут, в течение которых производятся мало
целесообразные движения, начинаются правильные сосательные движения.
Эти движения ни в коем случае нельзя назвать простыми, — они
требуют точной согласованности участвующих мышц, губы должны
герметически охватывать сосок, и мышцы должны равномерно напрягаться
и ослабевать в соответствии с глотательными движениями. И однако
«из всех движений грудного ребенка совершеннейшими с самого начала
являются сосательные движения»75. Сосательные движения не
производятся бесконечно или до наступления усталости, но тотчас по принятии
необходимого количества пищи младенец отталкивает грудь и не сосет
больше, когда ее снова вкладывают ему в рот. Когда он голоден, т. е.
испытывает потребность в пище, он может сосать не только грудь, он
сосет также пальцы и щеки своей матери или кормилицы, лишь только они
соприкасаются с его губами. Таким образом, для продолжения сосания
необязательно, чтобы проникало в рот молоко. Конечно, не все
предметы, попадающие в рот, ребенок будет сосать. По Прейеру, они не долж-
ны быть ни слишком велики или малы, ни слишком грубые, горячие или
холодные, кислые или соленые. Точно так же имеет значение
правильный состав всасываемого молока, иначе сосание прерывается. Прейер
сообщает, что его ребенок на 4-й день отказался от смешанного с
водой коровьего молока, которое он без колебаний принимал на 2-й день,
и только тогда принял, когда к нему прибавили небольшое количество
тростникового сахара. Так ведут себя при сосании также и дети,
лишенные больших полушарий, в том числе описанный Эдингером и Фишером
ребенок, который «сейчас же взял грудь и вначале сосал правильно».
Разница между нормальными детьми и идиотами, к которым относятся,
конечно, и лишенные больших полушарий, заключается, по-видимому,
только в том, что у нормальных сосание совершенствуется и через две
недели достигает механической регулярности (Прейер), в то время как
по наблюдениям Соллье, у врожденных идиотов нельзя обнаружить
никаких улучшений в выполнении этого акта. По свидетельству
исследователя, создается впечатление, что каждый раз они приступают к нему
как бы впервые76. По наблюденям Блэктона, при ненормальном питании
у грудных детей глотание происходит не вполне правильно77.
Описанный Эдингером и Фишером ребенок, лишенный больших полушарий,
вообще прекратил на 6-й неделе сосать грудь, и его должны были кор-
.мить с ложечки. При этом наблюдательная мать заметила на четвертом
месяце слабые сосательные движения, и ребенок стал сосать из соски,
но только в том случае, когда в бутылочке было молоко.
Остается невыясненным, «ищет» ли новорожденный грудь уже
сначала, во всяком случае, он еще не может сам найти сосок, но это удается
ему через некоторое время, вероятно, благодаря обонянию. Последнее,
однако, еще не установлено даже у слепорожденных собак. Имеют
значение при этом также и движения губ.
При первом взгляде сосание кажется рефлекторным движением.
Оно возникает, по крайней мере вначале, как реакция на раздражение,
протекает очень равномерно, унаследованно и по содержанию в
высшей степени целесообразно. Но при более тщательном изучении
обнаруживаются некоторые значительные отличия: во-первых, сосательные
движения, как мы уже видели выше, довольно сложны. Но одного этого
неопределенного утверждения еще, конечно, недостаточно. Во-вторых,
зависимость от раздражения здесь во многих отношениях иная, чем при
рефлексах.
а) Движение зависит от раздражения в том смысле, что оно к нему
приспособляется, приспособляется не так, что результат реакции
является объективно целесообразным, как при сокращении зрачка (от
действия сильного света он сокращается сильнее, чем от дейстзия слабого),
но так, что движения непосредственно регулируются формой раздра-
жителей; положение губ должно быть различно при сосании груди,
резиновой соски, пальца взрослого или своего собственного.
в) Незначительные изменения в комплексе раздражения могут
привести к противоположным реакциям (сосание или выталкивание груди);
эти изменения, однако, имеют большое биологическое значение и
определяются соответствующим составом молока.
с) Действия раздражителя, не говоря уж об утомлении, еще
недостаточно для наступления реакции. Для этого необходимо особое
общее состояние организма, потребность в питании. Мы знаем, что сытый
младенец не только прекращает сосание, но даже отталкивает грудь.
Эти характерные особенности едва ли были бы достаточны для
выделения группы движений, отличной от рефлексов, если бы в поведении
животных не существовали движения, не сходные с рефлексами,
возникающие, однако, не в результате опыта или рассуждения. Мы имеем
в виду инстинктивные движения, к которым относят сосание.
Мы считаем уместным привести примеры некоторых типичных
инстинктивных действий животных78. Цыпленок, только что
вылупившийся из яйца, уже умеет клевать и клюет вполне уверенно подходящие для
этого предметы. Он не нуждается в примере со стороны других цыплят
или курицы. Цыплята, выведенные в инкубаторах, ведут себя так же, как
обыкновенные. При этом цыпленок клюет без выбора и с удивительной
уверенностью только такие предметы, величина которых не
превышает известных размеров (зерна, гусеницы и т.п.) и которые находятся
на доступном расстоянии. В короткое время это достаточно сложное
движение совершенствуется окончательно; вначале же цыпленок
иногда клюет мимо, не дальше, чем на волосок. При этом клевание требует
исключительно точной координации оптических раздражений группы
крупной мускулатуры.
Другой пример. Птицы, выращенные в искусственном гнезде без
матери, начинают строить гнезда, когда приближается время
высиживания яиц. При этом они употребляют всякий пригодный материал, даже
искусственные предметы, например, вату, шерстяные нитки и т.д.
Сооруженное гнездо имеет, однако, форму, типичную для данной породы птиц;
ласточка вьет не такое гнездо, как дрозд, но такое же, как и ласточки,
выросшие на свободе, не видя никогда такого гнезда и не имея возможности
подражать другим ласточкам. Сложность этого акта не нуждается в
доказательстве. Что такие гнезда могут быть настоящими
произведениями искусства, показывает пример камышовки, которая вьет свое гнездо
в тростнике и должна его сделать настолько глубоким, чтобы из него не
выпали яйца, когда тростник пригибается ветром к воде.
Третий и последний пример. Белка была вынута из гнезда (высоко
на дереве) немедленно после рождения и искусственно выращена. Она
питалась молоком и бисквитами. Однажды ей дали орех, первый,
который она видела в жизни. Она внимательно осмотрела его и грызла до
тех пор, пока не освободила ядро, которое и съела. Больше того, когда
затем ее перенесли в комнату и предоставили самой себе, можно было
наблюдать следующее. Если там было больше орехов, чем животное
могло съесть, оно часто схватывало один орех, «зарывало» его.
Животное внимательно оглядывалось во все стороны, затем направлялось
к какому-нибудь защищенному месту, за ножку дивана, к отверстию
резной ножки письменного стола, вкладывала туда орех и производила
все движения, необходимые для зарывания, а также и движения,
необходимые для того, чтобы притоптать зарытый предмет; затем животное
возвращалось к обычному времяпровождению, не заботясь о том, что
орех остался совершенно неприкрытым. Нужно заметить, что живущие
на свободе белки действительно закапывают таким образом орехи на
2-3 см под землей и находят их потом по запаху. Однако животное,
о котором шла речь, никогда еще в своей жизни не было на свободе79.
В этих примерах мы узнаем типичное для таких действий: живое
существо без всякого предварительного опыта может производить в
высшей степени целесообразные для его существования действия, которые
в большинстве случаев чрезвычайно сложны и не находятся в простой
.зависимости от раздражения. Как показывают опыты, в искусственных
условиях (мы имеем в виду наш последний пример) результат остается
совершенно неизвестным животному. Однако в благоприятных
условиях наблюдается стремление к определенному результату, и действия
прекращаются лишь тогда, когда он достигнут. Курица перестает
клевать, когда она сыта; белка перестает копать, когда орех зарыт. Наш
пример может служить также и доказательством обратного. Например,
белка производит целый ряд раз навсегда установленных движений, не
заботясь о результате, и прекращает их, когда они выполнены. Было
бы недопустимым обобщать случаи поведения в неестественной среде
со случаями естественного поведения. В комнате нельзя зарыть орех,
успешный результат невозможен; на свободе же одни и те же движения,
конечно, не всегда могут привести к успеху. Напротив, от состава почвы
зависит, как белка будет копать; более твердую почву нужно
раскапывать иначе, чем рыхлую, сухую не так, как влажную, и т.д.
Наконец, в рассматриваемых действиях речь идет не о простых
Движениях, а о сложных комплексах движений. Как много требуется
разнообразных движений для того, чтобы свить гнездо; эти движения
приспособлены к среде в том смысле, который мы имели в виду при
рассмотрении сосания. Такие действия, наиболее совершенное
выражение которых мы находим у насекомых, называются инстинктивными
действиями. Но одно название еще не может служить объяснением. Ка-
жется, очень легко избежать настоящего объяснения, назвав действие
инстинктивным. Но название «инстинкт» не уничтожает загадочности
и таинственности этих действий для беспристрастного наблюдателя,
и наука должна признаться, что она стоит здесь еще перед
неразрешенной загадкой.
Теперь становится понятным, почему мы не причисляем больше
сосание к рефлексам, а относим его к инстинктам. В инстинктивных
действиях мы находим все те признаки, по которым мы выше отграничили
сосание от рефлексов; мы находим стремление к заранее неизвестным
результатам и наличие сложных комплексов движений. Все это
наблюдается при сосании, особенно если мы к нему присоединим движения
поисков и отрицания.
6. Инстинкты как рефлекторная цепь.
Теория Торндайка
Приступая выше к объяснению рефлексов, мы задались вопросом:
каков должен быть аппарат, который обуславливает рефлекторную
деятельность? Мы ставим теперь тот же вопрос в отношении
инстинктивных действий. Как должны мы мыслить механизм инстинктивных
движений? Ответить на этот вопрос, разумеется, гораздо труднее, чем это
было в случае рефлексов. Здесь не существует соответствующей теории,
которая была бы общепризнанной. Многие исследователи
отказываются от объяснения, усматривая в инстинкте неразрешенную и, возможно,
неразрешимую загадку (Штерн). Но один ответ на наш вопрос
является настолько распространенным, что мы должны его здесь изложить.
Он гласит: инстинктивные действия — это не что иное, как нанизанные
друг на друга рефлекторные действия, которые называются
рефлекторной цепью. Раздражение вызывает рефлекторное движение — начало
инстинктивного действия; это движение либо действует само в качестве
раздражителя, либо вызывает новые внешние раздражения,
действующие на индивидуумы, которые, в свою очередь, вызывают движения,
и так это продолжается до тех пор, пока не будет выполнено до конца
инстинктивное действие. Пример: лев, испытывающий голод,
отправляется за добычей, органические причины голода вызывают движения
поисков добычи; он начинает подкрадываться к добыче, когда его
органы чувств ощущают ее близость; он бросается на нее, когда расстояние
достаточно коротко или когда животное пытается спастись, и, наконец,
проглатывает ее, как только его лапы и зубы прикасаются к ней.
Всегда происходит так, что каждое движение вызывает новое раздражение,
которое, в свою очередь, вызывает новое движение. Мы заимствуем
этот красочный пример у В.Джемса, который был среди психологов
главным сторонником этого взгляда80. Творец этой теории — Герберт
Спенсер. В сравнительной психологии она представлена известным уже
нам направлением «психологов поведения». «Инстинкт — это серия
связанных между собой рефлексов», — читаем мы в изложении
сравнительной психологии Уотсона81.
Особенно последовательно защищается эта точка зрения Торн-
дайком, который применяет ее непосредственно к психологии
человеческого развития. Поэтому при ее рассмотрении мы будем ссылаться
на этого исследователя. Всякое поведение, учит Торндайк, а также
и школа бихевиористов, есть реакция на ситуацию. К поведению, таким
образом, всегда относятся три компонента: ситуация, т.е. естественные
процессы вне, а также и внутри организма, действующие на
индивидуум; реакция, т.е. процессы в индивидууме, которые являются
следствием этого воздействия, и соединение, которое делает возможным связь
между ситуацией и реакцией. Но это не что иное, как схема рефлекса
с необыкновенно расширенной сферой применения,
распространяющаяся, например, также и на интеллектуальную деятельность82. Мы еще
займемся этим ниже, теперь же рассмотрим унаследованное поведение;
оно отличается тем, что связь между ситуацией и реакцией заложена
в определенном расположении и соединении нейронов. Очевидно, что
.по этому воззрению невозможны какие-либо другие формы
унаследованного поведения, кроме рефлексов. С этой точки зрения по меньшей
мере неправильно обозначать инстинкты по их результатам; вместо
этого их нужно отличать по раздражениям, их вызывающим; также
неправильно приписывать животному инстинкт самосохранения, как
кислороду — инстинкт окисления.
Механизм инстинкта представляет собой, таким образом, систему
рефлекторных дуг, но это еще не объясняет теснейшей зависимости
между инстинктивными действиями и их результатом. Именно в этом
мы усмотрели один из главных признаков, отличающих их от
рефлекторных движений. Мы прибавим еще несколько слов к выше
сказанному: при сравнении различных ситуаций, вызывающих одинаковое
инстинктивное действие, мы замечаем следующее: изменения в
поведении, соответствующие различию ситуаций, замечательны тем, что они
сообразно с измененными условиями приводят к одинаковому
результату. Для того чтобы притащить большой и тяжелый кусок
строительного материала к гнезду, нужны движения иные, чем для маленького
легкого кусочка. Такое изменение в поведении может наступать очень
легко и сразу, но бывает и так, что сначала производится
первоначальное движение, и если оно не приводит к результату в новой ситуации,
оно изменяется, и так до тех пор, пока не достигается результат, если
это вообще оказывается в пределах возможности. Пример из поведения
грудного ребенка: если бутылочка с рожком заткнута, сосание
становится сильнее, энергичнее. Эта особенность инстинктивных движений
в высшей степени важна. Ллойд Морган назвал ее «постоянством с
изменяющимся эффектом».
Я могу здесь процитировать мнение одного автора, которого никто
не обвинит в тенденции к мистицизму. Я имею в виду Толмана,
который пишет следующее: «Можно наблюдать, что организм производит
пробы и ошибки до тех пор, пока не будет достигнута цель, избегнута
опасность. Эта цель — вполне объективное явление поведения». Она
является имманентной, описательной чертой поведения как такового. Она
проявляется в поведении и является его плотью и кровью»83. Я считаю
совершенно бесспорным это положение Толмана. Но нужно отметить,
что оно не лежит в пределах радикального бихевиоризма, так же как
и его определение поведения, выходящее за пределы традиционной
бихевиористской школы. Толман наблюдает то, что мы назвали внешним
выражением; и в самом деле, полнота инстинктивной деятельности
обнаруживается лишь в таком исследовании внешней деятельности.
Торндайк пытается построить свою теорию так, чтобы она могла
объяснить и эту сторону инстинктивного поведения. Главная задача для
него состоит в том, чтобы объяснить, почему в одинаковых ситуациях
реакции изменяются и прекращаются только тогда, когда достигается
результат. С точки зрения теории рефлекторных дуг, возникают две
различные проблемы. Изменения можно объяснить еще и той, также
предложенной Торндайком гипотезой, что рефлекторная дуга не является
простой, напротив того, центростремительная ветвь ее связана
различной силой с многочисленными центробежными. Таким образом,
различные реакции, соответствующие различным соединениям, действуют
одна за другой. Нужно, конечно, еще объяснить и последовательность
различных движений. Кроме того, это предположение еще не
объясняет, почему изменение движений происходит в направлении достижения
успешного результата. В этом пункте выступает новая гипотеза Торн-
дайка. Можно себе представить это и так: пока не достигнут результат,
раздражение не прекращается и все время возобновляется. Но нужно
объяснить, почему раздражение не вызывает все время одни и те же
реакции вплоть до исчерпания своего действия, а приводит к конечной
реакции, завершающейся успешным результатом. Торндайк считает,
что живое существо имеет наследственное предрасположение к тому,
чтобы не оказывать противодействия одним состояниям, даже
активно вызывать и поддерживать их, другие же избегать и изменять84.
Первые состояния он называет «первично удовлетворяющими» («original
satisfiers»), вторые «первично нарушающими» («original annoyers»). Он
приводит следующие примеры первично удовлетворяющих состояний:
«лучше быть с другими людьми, чем одному», «отдохнуть, когда
устаешь», «двигаться, когда чувствуешь себя бодрым»; в качестве примеров
нарушающих: «горькие предметы во рту», «задержку движений каким-
нибудь препятствием», «быть презираемым другими людьми».
Собрание примеров, каким бы совершенным оно ни было,
помогает нашему пониманию меньше, чем закон, из которого эти примеры
вытекают. Такой закон предлагает Торндайк. Врожденный комплекс
движений приводится в действие; если он завершается успешным
результатом, то действия, составляющие этот процесс, можно назвать
удовлетворяющими, а также ситуации, к которым оно приводит; если
же действия не приводят к успешному результату, то они являются
«нарушающими». Тут мы снова подходим к проблеме объяснения успеха.
Торндайк идет дальше, определяя понятие успешного результата. Для
этого нужно обратиться к нейронам. Ситуация может вызвать
процессы движений, которые определяются полностью наследственным
предрасположением. Возбуждение определенных нервных путей не только
вызывает движения в них, но также приводит в готовность и другие
пути, так что они легко вступают в действие в нужный момент. Здесь
мы должны еще дополнить приведенный выше пример Джемса со львом.
Когда лев, почуявший жертву, побуждается к тому, чтобы
подкрасться к ней, соединения нейронов, которым впоследствии предстоит
регулировать прыжок на добычу, приводятся в готовность, точно так же
и система, от которой зависят дальнейшие движения растерзания и
пожирания, к началу охоты уже отклоняются от состояния покоя. При
успешной деятельности система нейронов, приведенная в готовность,
действительно функционирует, в случае неудачи эти нейроны остаются
бездеятельными. Итак, можно заключить, что функционирование
приведенных в готовность нейронов (вернее, систем нейронов) является
удовлетворяющим, состояние бездеятельности — нарушающим. В
противоположность «приведению в готовность» один из путей может не
присоединиться к системе, находясь в состоянии рефракции. Даже если
этот путь будет вовлечен в движение, оно будет препятствующим.
Торндайк ставит себе задачу вывести из этих законов все
удовлетворяющие и нарушающие состояния. Следуя за ним по этому пути,
усеянному гипотезами, мы перейдем к рассмотрению проблемы инстинктов,
к объяснению «постоянства с переменным напряжением». Здесь нам на
помощь приходит вышеупомянутый принцип: ситуация может вызвать
не только одну, но целый ряд различных реакций. Если первой
реакцией не достигается успешный результат, она становится
«препятствием»; этим неуспехом и остатком первоначальной ситуации вызывается
какая-нибудь другая из возможных реакций до тех пор, пока, наконец,
достигается удовлетворение, если только животное, утомившись, не
прекращает опыта раньше. Теперь можно применить этот принцип для
объяснения, потому что нарушающие состояния представляют собой
почву для изменения реакций, удовлетворяющие для прекращения их.
К этой попытке разрешения проблемы инстинктов мы имеем два
замечания. Отрицательное — результат наступает, но после того как
долгое время производились безуспешные движения, вызываемые
каждый раз другими состояниями и соединениями нейронов, пока, наконец,
наступил успешный результат; замена одного движения другим, таким
образом, не зависит от цели, а от заложенных в организме соединений
нейронов. Так объясняет это теория механистическая в
вышеозначенном смысле. Сразу встает вопрос: как из безуспешного движения
возникает другое? Ответ в духе Торндайка гласит: происходящее из этого
действия своеобразное препятствие, в связи с остатком прежней
ситуации, представляет собой определенную ситуацию, связанную с
реакциями и их вызывающую. Здесь мы наталкиваемся на трудность, подобную
той, которая возникла при рассмотрении движений глаз. Не является
ли число соединений бесконечным? Рассмотрим изображаемое самим
Торндайком поведение голодного котенка, запертого в узкую клетку
и замечающего снаружи пищу и никогда еще не бывшего в такой
ситуации: «Он пытается пролезть через какое-нибудь отверстие; ударяет
лапами по стержням и проволоке и кусает их; просовывает свои лапы
через каждое отверстие и ударяет ими по всему, что удается ему достать;
продолжает свои попытки при попадании на что-нибудь неукрепленное
или подвижное; бьет также и по предметам, находящимся в клетке. Все
действия кажутся направленными не столько на доставание
находящейся снаружи пищи, сколько просто к инстинктивному освобождению из
заключения. Он действует с необычайной энергией. В течение 8-10
минут без перерыва он бьет лапами, кусает прутья и пытается пролезть
между ними»85.
Такое поведение исключает возможность вопроса: какие именно
общие условия — ситуация — состояние нейронов — являются
раздражением, вызывающим этот унаследованный процесс движений?
Здесь уместно привести соображение Дриша и.Бехера86. Ситуация,
возбуждающая инстинкт, по большей части бывает построена так, что
непосредственно действующие элементы могут быть различными и в то
же время действуют одинаково. Следующий пример уяснит сказанное:
известной породе пауков свойственен инстинкт бегства от пчел; при
виде пчелы они сразу убегают. Дааль показал, что раздражителем,
вызывающим эти движения паука, является не окраска, запах или величина
насекомых. Пчела существует сама по себе, а не как раздражитель,
например, зрительный; она выглядит иначе спереди, сзади и сбоку, сверху
и снизу; совершенно различные элементы раздражения действуют в за-
висимости от положения, занимаемого пчелой в отношении паука.
Однако движение бегства вызывается даже тогда, когда пчела находится
в самых необычных положениях. Здесь при одном и том же
раздражителе существует бесконечное множество возможностей раздражения.
Следовательно, если механизм инстинкта представляет собой систему
твердых путей, то этих путей должно существовать соответственно
бесконечное множество.
С другой стороны, в теории Торндайка мы находим положительную
мысль; учение об удовлетворяющих и нарушающих состояниях
содержит в себе ядро истины и тем самым устанавливает принцип, который
мы можем выразить следующими словами: физиологические процессы
бывают замкнутые и незамкнутые. Этот принцип у Торндайка
выступает в особой форме и отчасти связан со всеми прочими его
исключениями. Но в качестве принципа он независим от них и, во всяком случае,
имеет большое значение для объяснения поведения вообще, а не только
инстинктивного.
7. Дополнение к теории инстинктов.
Преодоление механико-виталистической
альтернативы. Инстинкты и рефлексы
Воспринятая Торндайком теория Спенсера была бы совершенно
недостаточной без принципа замкнутых и незамкнутых физиологических
процессов, но даже увязанная с последним, она содержит
неисправимые ошибки. Мы должны поэтому попытаться подойти к пониманию
инстинктивных действий помимо этой теории. Для этой цели будет
полезно подробнее изучить разницу между инстинктивным и
рефлекторным действием, причем мы будем полагать, что рефлекторному
действию, по-видимому, вполне соответствует простой рефлекторный
механизм. Примыкая частично к Стауту, мы можем дополнить в трех
отношениях наши прежние выводы.
1. Рефлекторная цепь должна состоять из некоторого числа
отдельных актов, определяемых чисто внешне прочно заложенным в
организме расположением нейронов. Если мы обозначим отдельные
части действия через а, Ь, с... то b будет выполнен вследствие воздействия
а непосредственно или другого раздражителя, вызванного к действию
а; с находится в такой же зависимости от Ь, как b от а, короче, каждое
последующее звено зависит от одного из его влияний,
непосредственно ему предшествующего, в соответствии же с теорией Торндайка
о «приведении в готовность» от многих или от всех предшествующих
звеньев. Мы должны суметь изменить последовательность движений
в инстинктивном действии, если бы нам удалось преобразовать соеди-
нения нейронов, ее обусловливающих. Другими словами, мы должны
достигнуть простым переключением нервных путей того, чтобы клюющая
курица вместо того, чтобы сперва вытянуть вперед шею и голову, затем
открыть клюв и схватить зерно, наконец, проглотить его, начала этот ряд,
например, с глотания. Если мы вспомним описанные в 76-м примечании
опыт Марина, в котором такие «изменения путей» действительно
производились, мы не будем больше сомневаться в результатах нашего
воображаемого опыта. Даже если бы нам удалось переключить пути,
изменение порядка движений остается невозможным. Даже при наблюдении
типичных инстинктивных действий в естественной жизни животного не
создается впечатление простой суммы звеньев, не имеющих между собой
ничьего общего; такое инстинктивное действие, напротив, обнаруживает
однородный процесс, постоянную последовательность движений. Оно
не представляет собой множества отдельных движений, а единое в
самом себе расчлененное целостное поведение, от своеобразия которого
зависит начало также, как и конец. Возникновение каждого звена этого
действия определяется не только его положением в отношении
предыдущего, но и ко всем прочим звеньям, главным образом, к последнему,
которое завершает успех. Инстинктивное действие, в отличие от ряда звуков,
извлекаемых шалящим ребенком путем случайных, последовательных
ударов по клавишам, производит впечатление мелодии87. Мы можем
выразить это еще и так: при инстинкте реакция соответствует
раздражению, причем раздражение не только обусловливает реакцию, но и ее
результат. Мы уже выше указывали, что ситуация определяет направление
инстинктивного действия, причем препятствия, мешающие нормальному
течению, устраняются. Сохраняется постоянство при изменяющемся
напряжении и разнообразие действий, направленных к достижению
одной и той же цели. При сооружении гнезда никогда нельзя сказать,
какое движение птица произведет в данный момент, однако вполне можно
определить, какое задание она выполняет.
Я подчеркиваю, что все это является еще отдельными
соображениями, не систематизированными в теорию, рискующими при этом
получить упрек в несоответствии с действительностью. В этом описании
бросается в глаза то, что оно относится не только к инстинктивным
действиям, но еще в большой степени к актам, которые мы называем
интеллектуальными. С таким описанием нам еще предстоит не раз
встретиться. Это соответствие между инстинктивными и интеллектуальными
действиями не дает оснований, подобно Стауту, утверждать наличие
разумного сознания в инстинктивной деятельности. Но в равной мере
нельзя оставить это сходство без внимания.
2. В то время как рефлексы являются типичными для «пассивного»
поведения и зависят от действия раздражителей, инстинктивные дейст-
вия исключительно активны, раздражители здесь могут отыскиваться.
Птица ищет материал для гнезда, хищный зверь подстерегает свою
добычу. Другими словами, внешние раздражения не являются
достаточной причиной для таких действий, вернее, в свете наших прежних
выводов в § 4 для соответствующих им форм сенсорных процессов. Силы,
которые необходимы для каждого движения, находятся, следовательно,
в нашем случае совсем не в сенсориуме, а происходят из других
источников организма. Мы встречаемся здесь с потребностями организма
как с причиной его действий. Когда эти потребности удовлетворятся,
действие заканчивается88.
3. Инстинктивное действие находится в еще более специфической
зависимости от органов чувств89. С одной стороны, характерным для
инстинктивного акта является тот факт, что отдельные раздражители
обусловливают у одного рода животных энергичнейшую
инстинктивную деятельностью, у других проходят совершенно без действия90.
С другой стороны — ситуация, поскольку о ней можно заключить по
движению воспринимающих органов (иначе говоря, по структуре
процессов восприятия, отражающихся на деятельности воспринимающих
органов) — оказывается решающей и для организации и самого
действия; успех и неуспех различаются действующим аппаратом, и,
таким образом, — единая цель осуществляется благодаря варьированию
действий. В соответствии с этим инстинктивные действия имеют
гораздо больше сходства с волевыми актами, чем с чистыми рефлексами, во
всяком случае, им так же, как и волевым актам, присуще устремление
вперед.
Можно возразить, что такая направленность вперед
возможна только тогда, когда животному известна цель деятельности; эта
устремленность, столь понятная нам в волевом акте, остается
непонятной в инстинкте, потому что животное направляет свои действия, не
имея возможности знать о результате. Как же может быть, гласит
возражение, чтобы я стремился к цели, мне совершенно неизвестной? На
это возражение Стаут правильно отвечает: можно вполне стремиться
вперед, не зная цели, к которой предстоит прийти. Можно находиться
в ожидании неизвестного. При этом существующая ситуация не
возникает именно в данный момент, она не является стабильным состоянием,
а непрерывно изменяется. Такое положение читателю легко себе
представить. С первого же акта драмы можно почувствовать, что должно
что-то произойти страшное; все, что происходит, является
подготовкой или задержкой этого страшного, и все же еще нельзя сказать, что
собой представляет это, висящее в воздухе, страшное91. Более простой
пример: мелодия, до сих пор незнакомая, которую мы слышим в первый
раз, перед самым концом внезапно обрывается; остается вполне ясное
впечатление, что она должна еще продолжиться. Еще более простой
пример: выстукивают следующие такты
Последний удар феноменально не есть «последний», не конец,
выстукивание должно продолжаться. В последнем случае ожидание
вполне обусловлено, но и в предыдущем, если оно и не вполне определенно,
то и не вполне неопределенно. В первом примере неопределенность еще
большая, но не абсолютная. Определенность ожидания заключается не
только в том, что существует именно такая ситуация, которая должна
измениться и в этой ситуации опять-таки должны измениться
известные части, но в самом направлении изменения, даже если на него
указывают ничтожные признаки.
Важно то, что в наших примерах протекает целый ряд процессов,
которые не есть простая внешняя последовательность, а являются
внутренне единым происшествием, заключающим в себе закон своего
развития. Мне кажется возможным, в этом я, конечно, иду далее Стаута,
перенести это и на инстинктивные действия. По мере приближения
животного к результату направление изменений становится все
определеннее. Процесс мелодии совершенно отличен от простой
последовательности. Каждое движение требует для своего возникновения сил,
силы же являются векторами, т.е. они кроме величины имеют еще и
направление. В вышеописанных случаях эти силы происходят из
феноменального поля (сенсорных процессов), конечно, не непосредственно из
раздражений. Начало мелодии ведет вперед в направлении
продолжения к своему концу. При инстинктивной деятельности мы должны были,
как уже указано, искать эти силы в органических потребностях. Так как
мы и здесь должны предположить существование силы, определяющей
эту деятельность, ясно, что инстинктивные действия также должны
быть направлены с самого начала. Так, например, голод есть фактор,
направляющий даже тогда, когда что-то, чего оно желает, есть пища.
Каким диффузным бы ни было чувство голода, оно обусловливает
активность, которая вполне определенно направлена на пищу.
Потребность в пище соответствует стремлению, напряжению, и вытекающая
отсюда деятельность должна идти в направлении раздражения этого
напряжения.
Еще одно слово о «внутреннем поведении» живого существа в
процессе инстинктивного действия. Рассмотрим инстинктивное поведение
человека. Человек вдруг слышит крик, полный страдания. Он сразу
устремляется в направлении крика и после того, как он найдет
кричавшее существо, попытается ему помочь. Но что он будет «переживать»
уже в первый момент, когда услышит крик? Несомненно, сострадание,
соединенное со страхом, причем человек, у которого пересиливает
страх, вместо того, чтобы направиться к месту крика, может
обратиться в бегство.
Стало быть, внутреннее поведение аффективно; феномены, прежде
всего проявляющиеся при том инстинктивном действии, — аффекты —
в обычном смысле слова. Но больше того, эти аффекты во внутреннем
поведении вполне соответствуют инстинктивному действию во внешнем
поведении, т. е. именно так, как это вообще должно иметь место
согласно высказанному выше взгляду. Это воззрение на соотношение
между инстинктом и аффектом развивает Мак Дауголл: «Инстинктивная
деятельность естественным образом сопровождается более или менее
сильным возбуждением; это переживание, сопровождающее каждое
инстинктивное действие, специфично для данного инстинкта. Когда мы
убегаем, мы испытываем страх, когда ударяем — гнев, когда плюемся —
отвращение». Ллойд Морган в недавно опубликованной статье поихо-
дит в общем к таким же выводам92.
Я думаю, что мы можем сделать еще один шаг
вперед и тем самым избежать некоторых
возражений против теории Мак Дауголла. Мы усмотрели
.конечную причину инстинктивной деятельности
в известных потребностях организма. В течение
более или менее длительных периодов эти
потребности могут проявляться или оставаться латентными, не оказывая
влияния на поведение или сознание. Латентные потребности могут, однако,
быть активизированы соответствующим раздражителем или
процессами в феноменальном мире, как показал наш пример с криком о помощи.
Первое, что происходит в этом случае с услышавшим крик, — это
осознание этой возникшей в нем потребности; то, что мы называем
сочувствием или ужасом, суть формы, под которыми осознаются потребности.
Вообще говоря, аффекты могут не только сопровождать действия, они
могут предшествовать действию как прямое выражение потребностей,
ставших активными. Другие силы могут направить организм так, чтобы
он действовал в направлении удовлетворения этих потребностей и все
же будет сильно чувствоваться аффект этой потребности. С другой
стороны, такие аффекты потребностей часто исчезают в процессе
действия и тем самым ослабляется напряжение потребности. Конечно,
бывает также, что при внезапных импульсивных действиях аффект только
возникает, когда действие уже почти достигло своего благополучного
конца. Это означает, что здесь еще предстоят новые напряжения. Но
теория аффекта не является нашей непосредственной темой. Поэтому
ограничимся следующим: из сказанного до сих пор не нужно заключать,
что мгновенный аффект всегда свидетельствует о наиболее действенной
потребности. Психоаналитики уже давно утверждают и К. Левин93
снова отмечает, что сознание может отразить поверхностную потребность
или квазипотребность в качестве намерения или решения, в то время как
общее направление целостного поведения определяется гораздо более
мощными, но отсутствующими в сознании силами.
Против нашего примера могут привести следующее возражение:
реакции на крик совсем не инстинктивные, а приобретенные; они
возникают исключительно в индивидуальном опыте. Но это возражение
проходит мимо очень существенной особенности. Инстинктивные
действия можно определять благодаря обусловливающим их силам. Тогда
инстинктивными мы должны называть такие действия, которые
происходят из первоначальных, а не приобретенных потребностей.
Инстинктивная деятельность, как она обычно понимается и как мы уточнили
в вышеприведенных примерах, обладает еще одним бросающимся в
глаза свойством: выполнение действия также оказывается обусловленным
природой действующего организма, не только потребность, но и путь,
которым она удовлетворяется, кажется приобретенным. Это второе
свойство, которое не всегда может быть вполне отличным от первого,
кажется важным должным образом для механистических теорий
инстинкта, как наша теория рефлекторной цепи. Мы еще вернемся позже
к этому пункту. В данный момент мы с помощью нашего различия
отразим возражение, что поведение в нашем примере не инстинктивно. Не
забывая, что мы еще знаем, что такое обучение, мы охотно прибавим,
что отдельные действия, которые мы производим, когда спешим к
кому-нибудь на помощь или когда убегаем от какой-нибудь страшной
для нас ситуации, более или менее приобретены. Несмотря на это, мы
можем еще утверждать, что эти действия инстинктивны, потому что
происходят из первоначальных потребностей. Однако и это
утверждение не останется неуязвимым. Ведь стремится же Уотсон94 упразднить
совершенно из науки понятие инстинкта как бессмысленное; это
радикальное разрешение проблемы нашло в Америке много
последователей. Для Уотсона существуют только врожденное и полученное путем
навыка поведение и ничего больше, т.е. обусловленные раздражением
реакции на врожденной или приобретенной почве, без каких бы то ни
было ссылок на те динамические факторы, которые мы называли
потребностями и считали силами, обусловливающими явления. Уотсон
пытается доказать свою тезу, показывая, что реакции, которые
первоначально возникают благодаря вполне определенным раздражениям,
в более поздней стадии развития вызываются также и многими другими
раздражениями. Но это доказательство предполагает в основном
именно то, что отношение стимул-реакция типично для всякого поведения.
Точно так же a priori, возможно, и гораздо больше соответствует опыту
второе допущение, что в процессе развития большинство констелляций
раздражения приводит к все более организованным сенсорным
процессам, что все большее число таких организованных процессов
вступают в зависимость от потребностей или даже могут заново создавать
эти потребности. Если исходить из оценки этой двойственной природы
инстинкта, его определяющих мотивов и исполнительного аппарата, то
обнаружится, что противоположность врожденных и приобретенных
элементов по меньшей мере для первой части незначительна. Несмотря
на это, я могу себе представить основания, которые привели Уотсона
к его крайним утверждениям. Что мы имеем в виду, называя
сочувствие первоначальной потребностью? Такой же вопрос ставит Уотсон
в отношении потребностей, которые фигурируют в традиционных
таблицах инстинктов. Что такое, например, инстинкт борьбы? Должно ли
это означать, что индивидуум совершенно независимо от среды должен
бороться? Я не знаю, представляет ли это себе так кто-нибудь. Если
Уотсон в таком смысле отвергает инстинкт борьбы, мы должны к нему
полностью присоединиться. Но точно так же кажется нам
несостоятельным его воззрение, по которому инстинкт борьбы является
«условной» реакцией гнева на определенное раздражение. Напротив того,
.наше понятие потребности должно быть более распространенным.
Когда мы выше говорили об органических потребностях, то читатель,
наверно, раньше всех подумал о голоде и половом инстинкте. Никто не
будет спорить, что эти потребности являются мощными источниками
необозримо широкого поля наших действий. Характерно, что их
периодическое возникновение у индивидуума более или менее независимо
от окружающего. Но бесчисленное множество импульсов,
определяющих наши действия, не являются собственно врожденными нашего «я».
Иначе выражаясь, они в другом смысле порождены «я», именно в том
смысле, в котором «я» противопоставляется «ты». В феноменальном
мире для каждого из нас существует своеобразная и особенно важная
область, именно та самая, которую мы называем «я».
Рассматривая феноменальное поле не как статическую сумму
мертвых данных, но как динамическое целое, мы вынуждены исследовать
взаимодействие этой динамики между «я» и прочими частями поля95.
Если и «ты» относится к полю, тогда задача заключается в том,
чтобы описать динамику «я» и «ты» — проблема социальной психологии.
Такие исследования должны послужить ключом к нашему «инстинкту
борьбы», нашему состраданию, ужасу и т.д. Потребность бороться
есть одна форма, которая может предполагать динамику «я» и «ты»;
сострадание — другая форма; ревность, которой Уотсон96 посвящает
пространные рассуждения, — третья. Когда этот автор отмечает, что
ситуация, вызывающая реакцию ревности, является всегда социальной,
то это на первый взгляд звучит почти согласно с вышесказанным. Но
сходство это только кажущееся, под понятием «ситуации»
подразумевается только «раздражение», и все остальное опять-таки построено на
противоречии врожденных и приобретенных процессов. Но мы видим
теперь, что это различие, противопоставленное потребностям, не
является существенным. Поскольку человек никогда не был в такой
ситуации, динамика которой делает его борцом, постольку он ни в каком
смысле не обладает «инстинктом борьбы». Как только наступает такая
ситуация, он получает его благодаря этой ситуации. Так как к этому
пункту мы еще вернемся в другом месте, мы можем здесь ограничиться
сказанным.
Возвратимся к нашей основной мысли. Итак, не отправляясь от
физиологического исследования, мы пришли в изучении инстинктивных
процессов к тому выводу о различении законченных и незаконченных
ситуаций, к которому пришел и Торндайк.
Выражение «действие не привело к успеху» означает теперь для нас,
что новая ситуация «является для животного еще только переходной
ситуацией, «животное достигло своей цели» означает, что оно достигло
законченной ситуации.
Так феноменальная ситуация животного расширяется, расчленяясь
на более или менее определенные части в зависимости от деятельности
животного. Функциональная ценность каждой части феноменального
поля, будь это «исходный пункт» или «промежуточная ситуация», как
средство к достижению цели, или же препятствие, или, наконец, сама
цель, изменяется деятельностью животного. Объективно одна и та же
вещь может служить началом и концом; феноменально она, конечно, не
будет одной и той же. Так, например, высокая, крутая гора выглядит
иначе для простого наблюдателя, чем для человека, взбирающегося на гору97.
Но и независимо от деятельности организма, его феноменальное
поле обладает динамическим характером. Так, дифференцированность
этого поля может быть «хорошей» или «плохой», части могут быть
«полными» и «неполными». Все распределение энергии в поле может
быть «открытым» или «замкнутым». Приведем еще пример. Следующая
фигура представляет собой «незамкнутый треугольник». Хотя мы
квалифицируем его как незамкнутый треугольник, он не имеет трех углов.
Эта фигура может служить иллюстрацией к нашей терминологии как
пример незамкнутой ситуации, причем в данном случае направление,
в котором находится завершение, дано с относительно большой
определенностью.
Мы полагаем, что наши феномены связаны с нашим поведением
так же, как и все остальное поведение связано с определенными про-
цессами в центральной нервной системе. Принимая во внимание именно
инстинктивные акты, мы должны заключить, что свойство внутренней
замкнутости, как мы предварительно кратко обозначили упомянутую
особенность феноменов, присуща не только им, но и всему поведению
в целом, включая и внешнее поведение. Инстинктивные действия,
следовательно, являются внешним поведением, аналогичным таким
феноменам, как ритм, мелодия, фигура.
Возникает вопрос: как представить себе механизм таких функций?
Современным психологам становится с каждым днем яснее, что здесь
не может быть и речи о схеме связанных между собой нейронов. Наши
возражения против такого объяснения инстинктивных действий
встречают здесь соответствующую поддержку. Мы близки к тому, чтобы
совершенно отвергнуть механизм этих функций и принять, что
жизненные процессы вообще не сводятся в полной мере к закономерности,
регулирующей неорганические явления природы. В них обнаруживается
действие специфических «жизненных сил», которые по своей сущности
относятся к психическим силам.
Эти воззрения носят название витализма, а поскольку они
идентифицируют жизненные силы с психическими — психовитализма. Келер98
справедливо заявляет: «Если спросить, какие жизненные явления
виталисты считают решающими для этого воззрения, то обнаружится, что
многие из них имеют в виду, главным образом, «замкнутость»
организма и соответствующие регуляции его поведения».
Несомненно, что при альтернативе — механическое или
психовиталистическое объяснение — мы оказываемся между Сциллой
витализма, которая заставляет нас отказаться от наших научных
принципов, и Харибдой механистического мировоззрения с его
безжизненностью. Вертгеймер ясно показал, что этой альтернативы не существует,
и высказал мысль, что это противоречие снято уже самой структурой
процессов в центральном нервном аппарате". Если нервные процессы
вообще соответствуют таким феноменам, как ритм, мелодия, фигура,
а на то, что нервные процессы как-то участвуют в этих феноменах,
указывают нам патологические случаи, в которых повреждение частей
мозга препятствует возникновению таких феноменов или даже
делает их совершенно невозможными, то они должны обладать главными
свойствами этих феноменов. Келер показал, что и неорганическому
процессу в общем присущи свойства, ставшие очевидными в
упомянутых феноменах.
Здесь также я должен ограничиться немногими указаниями. Перед
нами две отдельные проблемы: 1) существует ли в неорганических
явлениях замкнутость и порядок и 2) если да, то обнаруживается ли этот
порядок также в форме, которую мы можем использовать как анало-
гию к нашему различию между конечной и переходной (незаконченной)
ситуациями? Первая проблема оказалась более трудной. Келер сначала
разрешил ее для явлений, не зависящих от времени. Состояние покоя
и стационарный процесс, т.е. явления, особенности которых не
изменяются со временем, как, например, постоянный электрический ток или
течение жидкости в трубе, обладают свойствами замкнутости и
порядка. Даже и теперь читателю недостаточно ясны смысл и значение этого
положения. Для этого недостает более точного определения того, что
такое замкнутость. Но именно это станет совершенно ясным в процессе
изложения. При этом прояснится и смысл этого положения.
Разрешение первой проблемы неизбежно приводит нас ко второй.
Стационарное достояние или состояние покоя представляет собой
исключительный случай среди бесконечного многообразия прочих
явлений, которые черпают в нем свое начало. Эти случаи замечательны
в двух отношениях: 1) они выполняют определенное энергетическое
условие100 и 2) обладают известной простотой, которая пока еще только
в отдельных случаях может быть определена математически.
Конкретный пример лучше всего пояснит сказанное: проволочную раму
затягивают мыльной пленкой и на нее кладут замкнутую петлю из нитки; при
осторожном обращении петля будет оставаться на пленке в том виде,
в каком она была положена. «Если же проколоть булавкой мыльную
пленку внутри петли, эта пленка разлетается, и нитка
поддерживается только силами поверхностного натяжения внешней пленки, которые
стремятся оставить себе наименьшее место, а, следовательно,
представить свободному, не занятому пленкой пространству внутри петли
наибольшее место. Нитка принимает форму круга».
В этом примере мы можем рассматривать форму круга как конечную
ситуацию, «ситуацию завершения», прокол мыльной пленки как
раздражение, обусловливающее движение, а само движение как
промежуточную динамическую ситуацию. Процесс с начала и до конца замкнут,
организован, хотя для этой организации нет никаких специальных
приспособлений. То же самое относится и к другим процессам,
происходящим в статическом поле, особенно же к имеющим место в нервной
системе. Таким образом, уже в органическом мире мы имеем возможность
видеть процессы, обладающие замкнутым характером и позволяющие
различать конечную ситуацию и динамическую ситуацию перехода.
Это и является той исходной точкой зрения, с которой можно подойти
к объяснению инстинктов. Ибо в том единстве действия, которым
отличается инстинктивная деятельность и на которое мы уже указывали
выше, можно видеть как раз те черты замкнутости, которые
позволяют излагать протекающие во времени инстинктивные процессы как раз
в этих понятиях. Хотя исследования Келера касались прежде всего тех
процессов, которые не носят временного характера, здесь мы не видим
принципиальных затруднений. Принципы, применяемые к статическим
процессам, можно с успехом — хотя и не без некоторых трудностей —
перенести на динамические процессы; и об этих последних можно
говорить, что они имеют характер замкнутости. В психологии именно эти
динамические феномены и были теми исходными фактами, из которых
развилась новая теория.
8. Инстинкты, рефлексы
и врожденные формы поведения
Концепции бихевиоризма проникли далеко за пределы узко
бихевиористских систем и оказали влияние на психологическую
теорию; благодаря им две пары понятий стали основными категориями
нашей науки, а именно: раздражение и реакция, с одной стороны,
и унаследованное поведение и навык — с другой. Второй парой мы
займемся при рассмотрении проблемы обучения. Рассмотрение
первой пары понятий поможет нам развить наше учение о рефлексах
и инстинктах.
В настоящее время широко распространена тенденция
описывать и объяснять поведение путем установления зависимости между
реакциями и их возбудителями. Такой корреляцией можно было бы
объяснить поведение, если бы оно составляло только сумму
отдельных рефлексов. Это является, таким образом, постулатом, на котором
покоится понятие стимул-реакция. Полагают, что организм реагирует
на раздражение, потому что он обладает такими чувствующими
органами, нервными путями и эффекторами, благодаря которым
раздражение вызывает возбуждение в одной или нескольких рефлекторных
дугах. Согласно этому допущению, реакция очень поверхностно
связана со своим раздражителем. Определяющая причина реакции, таким
образом, заключается в рефлекторной дуге, связь между рецептором
и эффектором в момент действия раздражителя существует уже в
готовом виде в организме. Раздражитель является причиной явления,
лишь поскольку он определяет, какая из многих существующих связей
приводится в действие.
Мы уже выше установили, что такое понимание диаметрально
противоположно нашему толкованию рефлекторных и инстинктивных
Движений. Так, и мы нашли, что движение глаза регулируется
оптическими феноменами, или их физиологическими коррелатами.
Аналогичное имеет место и при других инстинктивных действиях. Если мы
теперь введем для обозначения психологического процесса в сенсориуме,
возникшего на основе раздражения чувствующего органа, независимо
от того, сопровождается ли процесс сознанием или нет, выражение
«рецепторный процесс», то мы можем дать следующее общее
описание поведения: «Наши прямые реакции на раздражения являются ре-
цепторными процессами, которые во многих случаях сопровождаются
какими-нибудь переживаниями. Эта непосредственная реакция, таким
образом, есть только начало полной реакции. Действие есть
естественное продолжение процесса восприятия; оно определяется только им,
а не установленными путями»101.
Келер выразил это в краткой формуле: «не стимул-реакция, но
констелляция стимулов — организация — реакция на результат
организации»102.
Когда действие находится в сфере восприятия, мы можем также
сказать, что организм реагирует на предметы и явления, которые
составляют свое феноменальное отражение в определенной
констелляции раздражителей. Я реагирую, например, на красивое лицо, а не на
лучи света, которые отбрасывает это лицо как физическое тело в мой
глаз.
С этой точки зрения поведение становится понятным в совершенно
другом свете, чем с традиционно-механистической точки зрения.
Когда мы говорим о стимуле-реакции, нет никакого смысла спрашивать,
почему раздражение вызывает определенную реакцию. Мы должны
удовлетворяться фактами. Объяснение путем связи между нейронами
в лучшем случае является только новым непонятным фактом.
В противоположность этому предлагаемое нами объяснение
выводит реакцию еще на ступени рефлекторных движений из фактических
свойств феноменального поля, из рецепторного процесса.
Правильность этого принципа объяснения доказана на различных примерах,
особенно на движениях глаз. Еще один пример покажет, как можно
с этой точки зрения рассматривать развитие рефлекторных движений.
Мы видели выше, что рефлекс смыкания век при быстром приближении
предмета к глазу отсутствует в первые дни жизни. До сих пор это
объясняли тем, что необходимые соединительные пути еще не налажены ко
времени рождения, и в соответствии с этим появление этого рефлекса
относили к моменту созревания этих путей. У нас напрашивается
другое объяснение. Быстро передвигаемый предмет вначале не влияет на
специфический процесс в чувствующем аппарате [мы видели, что
быстрые движения в первое время, очевидно, оптически не
воспринимаются], и вместе с тем и на соответствующую защитную реакцию. В этом
примере развитие рефлекса имеет место в рецепторном процессе или,
вернее, в нервном субстрате, в котором этот процесс протекает.
Не превратили ли мы рефлекторные и инстинктивные действия в
интеллектуальные акты тем, что, делая их более понятными, мы вывели их
из основных свойств феноменального или рецепторного поля? Я отвечу
на это следующее: в известном смысле — да, но я не вижу в этом
аргумента против нашей теории. В сущности, «первоначальные» действия
в поведении кажутся гораздо более интеллектуальными, чем
рефлекторные механизмы, которыми многие психологи заменяют такое
первичное поведение для того, чтобы его объяснить.
Реакция, особенности и направление которой находятся в
зависимости от простых внешних связей, конечно, менее интеллектуальна, чем
та, которая следует из спонтанного распределения сил поля. Как бы ни
был одарен изобретатель счетной машины, сама машина менее
интеллектуальна, чем так называемая система рефлексов, контролирующая
движения глаз. Система рефлексов будет функционировать сообразно
с силами поля, даже когда условия, ограничивающие свободу системы,
изменятся103.
Система в том смысле интеллектуальна, в каком счетная машина
таковой не является, стоит только спутать связи в такой машине, и сумма
будет неправильной. Хотя я, нисколько не колеблясь, приписываю
интеллектуальность (в указанном смысле) рефлексам, обычное различие
между инстинктивной и интеллектуальной деятельностью сохраняет
свое значение. Соотношение между инстинктом и интеллектом будет
обсуждаться ниже, но уже теперь мы можем к этому подготовиться.
До сих пор мы не принимали во внимание постоянство,
характерное для инстинктивных действий, «консерватизм», с которым, главным
образом, связано возникновение гипотезы рефлекторной цепи. Это
свойство, преувеличенное, неправильно понятое и адекватно
обозначенное словом «консерватизм», характеризует, однако, очень
определенное свойство инстинкта. Мы различали уже две стороны
инстинктивных действий, а именно, первоначальную потребность действовать
и унаследованную форму действия, которая удовлетворяет
потребность. Консерватизм инстинкта распространяется на выполнение
действия, определяемого специфической организацией соответствующего
рода животных. Описанное выше поведение белки не соответствовало
ее искусственной среде — комнате, в которой ей был предложен орех,
но оно протекало по тому же пути, как и в естественной обстановке
леса. Поэтому нам кажется поведение белки глупым. Другой пример
мы заимствуем у Фолькельта104. Паук, который набрасывается на муху,
попавшую в паутину, для того чтобы убить ее, закрепляет убитую муху
в паутину и возвращается к себе обратно, если там осталась нетронутая
жертва. Но он перетаскивает закрепленную в паутине муху в том
случае, если первая жертва уже высосана. Тот же паук вовсе не реагирует
или проявляет защитную реакцию — обращается в бегство, если в его
жилище положат живую муху.
можем также только дать указание, наметить направление, в котором
мы, по-видимому, можем найти объяснение. Мы знаем в нашем
поведении кроме обычных рефлексов еще другого рода поведение, в большой
мере обладающее свойствами рефлексов: это так называемые
автоматические действия, привычные движения, которые называют также
приобретенными рефлексами. Эти действия, однако, были первоначально
другими, произвольными действиями, которые только путем частого
повторения автоматизировались и приобрели свой квазирефлекторный
характер. Подобным образом мы можем представить себе отношение
между собственно рефлексами и инстинктивными действиями.
Подобно тому, как так называемые приобретенные рефлексы образовались из
произвольных действий, можно считать простые рефлексы
окаменелыми инстинктами.
Замечательно, что Э. Вехер, который отвергает механистическое
объяснение инстинктов и одновременно предлагает взамен
психовиталистическую теорию, так же как и мы устанавливает связь с
рефлексами, причем он пытается применить для объяснения рефлексов принцип,
применяемый им для объяснения инстинктов106.
Если, говоря конкретнее, наша концепция исходит из того
положения, что и нормальная функция может вызвать достаточно устоявшиеся
формы поведения, которые отличаются тем, что оказываются
связанными с постоянными аппаратами и поэтому теряют в свободе своей
деятельности, с другой стороны, образуясь, лишь улучшают деятельность
нормальной функции, определяя ее большую четкость и быстроту.
С этой точки зрения можно говорить о «квазимеханическом» их
характере. Так как, однако, этот процесс вполне аналогичен тому, который
мы наблюдали, когда изучали движение глаз — функция оставляла там
следы, которые снова влияли на функцию, то и этот процесс развития
мы можем объяснить из аналогичных закономерностей.
Это объяснение опрокидывает обычное воззрение, по которому
инстинкты выводятся из рефлексов, и одновременно показывает, как
рефлексы могут превратиться в стереотипы. Ибо функция создает
структуру, результат, к которому приводят все предыдущие инстанции107.
Мы можем теперь ответить на вопрос, поставленный выше.
Объяснение, данное нами для движений глаз, в принципе распространяется на
все рефлексы. Строго говоря, рефлекс — это не первоначальная форма
поведения, но он развился из гораздо менее связанной формы.
Но мы можем различать рефлексы и инстинкты еще и с другой
точки зрения, если мы примем во внимание их возникновение и
осуществление. Когда мы исследуем силы, вызывающие эти действия, мы
должны, как уже указывалось, обратиться к потребностям организма.
Феноменальное, т.е. рецепторное, поле имеет очень большое значение для
выполнения действия, само не содержит силы, обусловливающие
действия животных. Иначе обстоит с рефлексами; здесь нет
необходимости в потребности, сами силы поля являются причинами действий. Так,
изменение равновесия в зрительном поле принуждает глаза младенца
фиксироваться на светящейся точке в темноте, отсутствие равновесия
в слуховом поле — повернуть голову к звуковой волне. В отношении
сил, обусловливающих действия, мы находим, таким образом, разницу
между рефлекторными и инстинктивными действиями.
Теперь мы можем поставить последний вопрос: в каком смысле
рефлекторные и инстинктивные действия можно считать
унаследованными? Мы не можем больше ссылаться на определенные приспособления
нервной системы, соответствующие определенным реакциям,
потому что одна и та же реакция может получиться в измененной нервной
структуре, и одинаковая структура может вызвать различные реакции.
Этим уже устанавливается, что реакции ни в каком смысле не могут
быть врожденными. Врожденными реакции могли быть только в том
случае, если для каждой реакции была бы в нервной системе заложена
определенная структура, которая имела бы своей функцией эту и
только эту одну реакцию. Мы не хотим сказать, что всякая реакция
приобретена, но лишь то, что вся категория «унаследовано-приобретено»,
не исчерпывает всех явлений.
Для того чтобы сделать понятным это положение, звучащее
парадоксально, я хочу рассмотреть изложенную теорию еще с одной, новой
точки зрения. Каждый процесс определяется действующими в тот момент
силами и относительно постоянными условиями системы. В
нерассмотренном случае это развитие рефлекса смыкания век. По нашей теории,
этот рефлекс не наблюдается вначале, потому что быстрое передвижение
раздражающего предмета в этом периоде не вызывает
соответственного движения в процессе оптического восприятия. Система еще не может
реагировать на такие быстрые изменения. Только когда система
изменяется благодаря созреванию, такое же воздействие раздражителя может
вызвать необходимый для смыкания век рецепторный процесс. Итак,
процессы предполагают известное состояние системы, в которой они
протекают. Если нет этого состояния или оно еще не достигнуто, процесс
не может осуществиться, даже когда нужные для него силы действуют на
чувственную периферию. В этом смысле, конечно, не важно, будет ли
изменение системы достигнуто созреванием или обучением. Но независимо
от того, способна ли система со дня рождения к выполнению
известного процесса или она достигла этой способности, благодаря созреванию
или обучению, ясно, что сам процесс является единовременным и что
нет никакого смысла называть его унаследованным или приобретенным.
Можно предположить еще следующее: поскольку процесс опирается на
врожденное состояние системы, можно его называть унаследованным
точно так же, как условия системы, вырабатывающиеся путем
индивидуального развития, — приобретенными. Но и этого нельзя допустить,
как я уже доказал в другом месте. Аналогия из физики немного уяснит
наш ход мыслей. Сила тока проводника пропорциональна
электродвижущей силе на его концах и его электропроводности. Любая
комбинация этих двух величин соответствует определенной силе тока. Но все же
бессмысленно спрашивать, какая часть этой силы тока приходится на
долю электродвижущей силы и какая на долю электропроводности?
Такой вопрос имеет смысл только тогда, когда отношение между процессом
и его условиями, вообще между функцией и ее переменными таково, что
весь процесс, функция, может быть разложена на частичные процессы,
частичные функции, из которых каждая зависит только от одной
переменной. Когда сосуд наполняется водой из трех не соединенных между
собой отверстий, можно, конечно, спросить, сколько воды из всего
количества каждое из них пропустило в резервуар. Многие исследователи,
пытающиеся найти в нашем поведении унаследованные и
приобретенные составные части, мне кажется, сами не сознавая этого, сравнивают
организм с резервуаром воды, а не с электрическим током. Потому что,
будь он тем, а не другим, ставящийся обычно вопрос не имел бы никакого
смысла. Но именно так происходит, и современные неврологи, я
назову только К. Гольдфтейна, придают большее значение этому факту. Но
тогда вопрос, унаследовано или приобретено действие, не имеет смысла
в отдельных процессах, он остается только для структур, в которых
процессы протекают, и вместе с тем, как я еще кратко упомяну, так же и для
общих свойств таких процессов: стабильность — лабильность, энергия —
вялость и т.д.
Резюмируем. На основе своей психофизической структуры
индивидуум обладает известными свойствами. Эти свойства вместе с
физической и социальной ситуацией образуют условия для его поведения.
Когда индивидуум производит определенную реакцию а, она не зависит от
определенного механизма А, потому что та же самая структура, которая
полностью или частично содержит реакцию а, в группеусловий может
содержать и другие реакции108. Таким образом, мы наследуем не резервуар
отдельных реакций, но систему «внутренних» условий, которые
совместно с внешними условиями определяют наше поведение. Специфически
наследуемыми являются наиболее общие свойства системы. Они
обнаруживаются в вышеупомянутых общих характеристиках нашего доведения
как известные потребности или напряжение, идущее в определенном
направлении. Эти напряжения приводят к реакциям, которые по крайней
мере варьируют с внешними условиями, но в постоянном направлении
разряжения напряженности, от которой зависит их возникновение.
9. Инстинкты новорожденного.
Общие замечания об инстинктах
После этого длительного и существенного теоретического
отступления мы снова обратимся к инстинктивным движениям
новорожденного. Основное здесь заключается в том, что мы обнаруживаем
очень мало движений и очень мало двигательных процессов, которые
мы могли бы назвать инстинктивными. Штерн109 выделяет из движений
новорожденного «инстинкт доворачивания», который состоит в том,
что младенец с первого же дня отвечает на различнейшие раздражения.
Так, если дотронуться пальцем до щеки новорожденного, он быстро
поворачивает голову к прикоснувшемуся предмету, так что палец
соприкасается со ртом; в случае старшей дочери Штерна близость
материнской груди уже на третий день вызывает движение, очевидно, благодаря
запаху; сильные световые раздражения также вызывают поворачивание
головы в направлении света. Все эти движения, особенно последнее,
самым тесным образом связаны со знакомыми уже нам движениями глаз.
Также противоположная реакция отворачивания от
«отрицательного» раздражения заложена с самого начала. Прейер наблюдает у
своего сына на 4-й день движения отворачивания, когда его прикладывали
к неудобной левой груди. Выражения «инстинкт поворачивания» или
«отворачивания» показывает только, что для младенца существуют
такие раздражения, нарушающие его равновесие, так что оно может быть
восстановлено положительными или отрицательными движениями.
Присоединение еще некоторых других движений (мы рассмотрим
их в следующем параграфе этой главы) к инстинктивным движениям
новорожденного не имеет большого значения для общей картины.
Инвентарь инстинктивных движений, функционирующих со дня рождения
в сравнении с нижестоящими животными, у человека довольно беден.
«Прямо достойная сострадания беспомощность новорожденного
человека происходит вследствие скудости зрелых инстинктивных
механизмов», справедливо говорит Бюлер110, но мы, конечно, больше не будем
употреблять выражение «инстинктивный механизм».
Несмотря на это, спорным является положение, что человек
обладает вообще меньшим количеством инстинктов, чем какое-нибудь
животное. Джемс особенно старался доказать обратное.
Прежде всего, мы должны делать различие между
первоначальными потребностями и первоначальными способами их удовлетворения.
Если речь идет о первых, то человек обладает большим количеством
инстинктов, но когда мы имеем в виду стереотипные методы
удовлетворения, их у него очень мало. Методы удовлетворения сильно изменяются
благодаря опыту. Чем более организм способен к обучению, тем больше
будет у него возможностей удовлетворить свои потребности. Так как
человек способнее других существ к обучению, его методы
удовлетворения потребностей гораздо разнообразнее, чем у другого животного.
Поэтому у человека можно будет обнаружить очень мало инстинктов,
если иметь в виду только характер поведения. С другой стороны,
первоначальные потребности также сильно воздействуют на поведение
человека, как и на поведение какого-нибудь животного.
Приведем два примера для иллюстрации поведения при
удовлетворении потребностей.
Цыплята, только что вылупившиеся из яйца, как мы видели, клюют
все предметы определенного размера, находящиеся возле них. Но если
бросить им определенного рода гусениц, которые по виду отличаются
перемежающимися черными и желтыми кольцами, они также клюют, но
выбрасывают невредимыми, причем цыплята после этого прочищают клюв,
что является признаком отвращения. Если повторить этот опыт через
некоторый промежуток времени, например, через день, то у большинства
животных клевательное движение тормозится111. Ллойд Морган
объясняет это изменение инстинкта наличием опыта и по большей части
единичного и чрезвычайно пластичного; по его наблюдениям, птицы должны
сначала научиться не клевать свои собственные свежие экскременты.
Мы выберем еще один пример из более высокоорганизованных
животных. Известно, что у примитивных животных наблюдаются раз
установленные формы поведения, называемые тропизмами, и которые
можно определить как положительное или отрицательное поведение
в отношении известных раздражений, т. е. одни раздражения вызывают
положительные реакции, другие избегаются. Тараканы обладают только
отрицательными фото-тропизмами, т.е. они избегают света, собираются
в темных сторонах своего местонахождения. Был проделан эксперимент,
при котором действовали электрическим током на собравшихся в
темноте насекомых; в результате насекомые с тех пор оставались в светлой
части занимаемого ими пространства. Этим не отвергается тропизм как
таковой. Точно так же цыплята не утрачивают своего инстинкта
клевания благодаря отрицательному опыту с гусеницами, Если переместить
тараканов в другое помещение, они снова переходят в темную часть112.
Тропизмы, таким образом, подвергаются модификации у еще
нижестоящих животных; так же и рефлексы, проблема инстинкта и опыта,
которой Ллойд Морган посвятил целую книгу, чрезвычайно богата
отдельными вопросами, которых мы здесь не можем касаться. Читатель может
найти кроме этой книги значительный материал также у Торндайка, Мак
Дауголла и Джемса. Живость изложения заставляет рекомендовать эти
главы у Джемса, несмотря на разницу между его принципиальной
установкой и нашими выводами. Остановимся еще на одной особенности, ко-
торую подчеркивает Джемс, на так называемой текучести, непостоянстве
(transitoriness) инстинкта. По меньшей мере многие инстинкты имеют
ограниченное существование. Они наблюдаются в определенное время и
затем исчезают, причем это возникновение и исчезновение нужно считать
не внезапным, а постепенным. Если этим задаткам инстинктов в свое
время не удается функционировать и проявиться в поведении индивидуума,
по выражению исследователя, и привычка не создается, то они исчезают
и больше не проявляются. Джемс вывел этот закон из общих наблюдений,
с тех пор это сделалось доступным эксперименту. Иеркс и Блюмфильд
наблюдали реакции котят, которых кормили молоком (кипяченым),
мясом и рыбой, в отношении мышей. При этом оказалось, что в течение
второго месяца все восемь животных двух различных пометов, одни раньше,
а другие позже, развили поведение, какое обнаруживается у взрослых
кошек, не имея перед собой соответствующего примера. Авторы
заключают, что инстинкт умерщвления мышей обычно проявляется в конце
второго месяца, в отдельных случаях на целый месяц раньше. Это
исследование особенно интересно тем, что в той же лаборатории на несколько
лет раньше было проведено Берри другое исследование поведения кошек,
которое, между прочим, ставило и эту проблему. На основе своих опытов
Берри пришел к заключению, что котята инстинктивно устремляются за
.убегающим предметом, но должны умерщвлять мышь, не обладая таким
инстинктом от природы. Противоречие разъясняется, если принять во
внимание, что подопытные животные Берри были уже 5-месячные, когда
впервые столкнулись с мышами. Очевидно, инстинктивные способности,
которые должны уже обнаружиться на втором месяце, исчезли —
интересный пример текучести инстинктов113. Такие же точно наблюдения над
человеком еще не проводились и вряд ли возможны вследствие гораздо
большей сложности его поведения. По мнению Мак Доуголла, который
пытался ограничить значение закона непостоянства отдельными
частными случаями, непостоянство не является характерным для человеческих
инстинктов. Он ссылается на последние данные, полученные в
психологии, которая считает патологические симптомы следствием тщетно
подавляемых или искаженных инстинктов114.
В заключение мы остановимся на некоторых инстинктах, которые
проявляются на ранней ступени развития и в инстинктивном характере
которых не может быть сомнения, после того как Келер обнаружил их также
и у шимпанзе. Я имею в виду инстинкты чистоплотности и украшения.
Раньше всего я приведу интересную цитату из Келера115: «До сих
пор мне встретился только один представитель этого рода, который не
был в неволе копрофагом. И однако, если кто-нибудь из них наступит
на экскременты, он уже не может правильно ступать ногой н также,
как человек в подобных случаях, животное ковыляет оттуда, пока не
находит возможности почиститься; оно ни за что не будет этого делать
рукой (которой только несколько минут назад само брало
экскременты для того, чтобы есть, и не выпускало, несмотря на сильные побои),
а непременно щепочкой, кусочком бумаги или тряпкой, при этом все его
движения выражают отвращение. И так бывает всякий раз, когда
обнаруживается какое-нибудь загрязнение на теле; оно удаляется со всей
возможной быстротою и, поскольку можно было наблюдать, никогда
невооруженной рукой, всегда пользуясь для этого чем-нибудь, в
крайнем случае почесыванием о стену или о пол».
Далее животные имеют большое пристрастие к всевозможным
предметам, которыми они себя увешивают, и из более близкого
анализа поведения обнаруживается, что «висящие на теле предметы имеют
функции украшения в глубочайшем смысле слова». И Келер считает,
что примитивное украшение совсем не рассчитано на внешнее
зрительное воздействие, а основано на удивительном повышении
собственного самочувствия, чувств достоинства, которое ощущается и человеком,
когда он, например, надевает галстук116.
Подобные явления, особенно инстинкт украшения, нетрудно
наблюдать у ребенка при правильно поставленных наблюдениях117. Что
касается чистоплотности, то в этом отношении гораздо труднее обнаружить
унаследованное поведение, потому что с самого рождения вторгается
воспитание; все же и у детей наблюдаются такие же парадоксы, какие
Келер наблюдал у шимпанзе, правда, не в такой резкой степени.
10. Выразительные движения
Обратимся к последней группе движений новорожденного, которые
выделяются благодаря тому, что они особенно бросаются в глаза
каждому, имеющему дело с ребенком, влияют на характер его отношения
к ребенку и образуют теснейшую связь между ребенком и взрослым
воспитателем. Мы имеем в виду такие движения, как крик, улыбку,
поворачивание головы, о котором мы только что говорили, и некоторые другие,
которых мы ниже коснемся. Короче, такие движения, которые называют
выразительными движениями. Выразительные движения
новорожденного также не изучены и формируются независимо от опыта; от
инстинктивных движений их можно отличить тем, что они не стоят в прямой
зависимости от результата. Все же и здесь бывают переходы, особенно это
заметно на движениях поворачивания головы, которые описал Прейер,
и которые мы также причислили к инстинктивным движениям. Можно
возразить, что крик тоже иногда длится до тех пор, пока ребенок не
освобождается от неприятной ситуации, но зависимость между
движением и результатом здесь гораздо меньшая, сам по себе крик не служит
ребенку в том смысле, как сосание у материнской груди. Большинство вы-
разительных движений взрослого, наконец, кажутся нам бесцельными.
Но они, конечно, играют большую роль, определяя в большей мере
поведение индивидуумов между собою. Так, Ордаль наблюдал, что когда
птицы кормят своих птенцов, то те из них, которые кричат больше и громче
других, получают также и больше пищи118.
Эта «социальная» функция является важнейшей стороной
выразительных движений. Келер описывает, как шимпанзе «почти всегда и
моментально» взаимно понимают свои разнообразные выразительные
движения, которые при повышенном раздражении охватывают все тело119.
Называя эти движения выразительными, мы должны предупредить
некоторые недоразумения. Движения, о которых мы говорим, что-то
выражают, мы узнаем по ним, удовлетворен или недоволен человек. Но
человек обычно не производит свои выразительные движения для того,
чтобы что-нибудь выразить. Против такого понимания очень энергично
выступает Торндайк. «Иногда, — говорит он, — выразительные
движения аффектов биологически гораздо важнее и первичнее, чем сами
аффекты; в других случаях они изменяют ситуацию, в которой
производятся движениями, не служат средством общения». На самом деле
и социальное действие выразительных движений в большинстве
случаев наступает сразу же, непосредственно. Еще прежде чем соображают,
что ребенок печален, его уже начинают утешать. Точно так же и куры
дают больше пищи тем цыплятам, которые лучше умеют кричать.
Вопрос только в том, как понимать это воздействие, с одной
стороны, и зависимость между аффектом и выразительным движением, —
с другой. Так же как и инстинктивные движения, мы не можем отнести
их ни к чисто внешним врожденным соединениям, как это делает
Торндайк, ни к биологически полезным процессам. Если где-либо внешнее
и внутреннее поведение соприкасается, то это должно иметь место
именно в этом случае. Мы не можем считать, что аффекты
соответствуют своим выразительным движениям или выразительные движения —
своим аффектам, благодаря отбору наиболее приспособленных. Выше
мы рассмотрели в общих чертах соотношение сенсорных и моторных
процессов. Одни оказались естественным продолжением других. Если
мы немного углубим понятие сенсорных процессов, мы сумеем его
прямо перенести на выразительные движения.
Вернемся к выше цитированному из Торндайка описанию поведения
запертой кошки. Многие из приведенных там движений можно просто
считать выражением возбуждения. Торндайк объясняет их, исходя из
своего принципа, сложной цепной реакцией. Ситуация, в которой
находится животное, связана нервными путями с многочисленными
движениями, — по меньшей мере со всеми наблюдаемыми — и с течением времени
последовательно начинают функционировать разнообразнейшие пути.
Вместо этого мы скажем: из диффузного, очень динамического процесса
«возбуждения», который является непосредственной реакцией
животного на ситуацию заключения, возникают диффузные, очень динамичные
движения, которые в отдельности определяются остальными данными
феноменальной, но не объективной ситуации, т.е. опять-таки процессами,
протекающими в сенсорном поле. Точно так же как из чувства
удовлетворенности возникает улыбка, из отрицания — отворачивание и т.д.
Отмечается, что сущность выразительных движений, собственно,
очень проста. Для того чтобы сделать это более ясным, я коротко
набросаю соображения, которые, между прочим, развивает Келер120.
«Поведение при испуге можно графически изобразить в виде «резкого
подъема» и «медленного угасания»; совершенно такая же кривая
передает динамику протекания соответствующего феноменального процесса во
внезапно освещенном фотоэлектрическом элементе. Если смысл
выражений «внезапный подъем» и «медленное угасание» во всех трех случаях не
только аналогичен, а действительно остается тем же самым, «то
принципиально возможно существенное родство между психическими процессами
животного и очевидными общими впечатлениями, которое вызывает его
движущееся тело в нашем восприятии». Так открывается возможность
объяснить зависимость между аффектом и выразительными движениями
(следовательно, вышеупомянутую зависимость между аффектами и
выразительными движениями), а также понимание чужих выразительных
движений, их социальное действие. Мы уже в первой главе высказали мнение,
что известные общие впечатления, которые мы получаем от внешнего
поведения, могут соответствовать реальному поведению.
Во всяком поведении наблюдается расчленение, фразировка. Это
расчленение возникает благодаря соответствующим процессам,
происходящим в центральной нервной системе действующего субъекта. Эти
процессы, в свою очередь, соответствуют его феноменам и в
восприятии наблюдателя целостное поведение будет состоять снова из
фразированного внешнего поведения. Келер иллюстрирует эту мысль очень
наглядным примером: пианист выражает свое настроение «в
импровизации». Здесь фразировка движений его пальцев соответствует ритму
его переживаний и вызывает звуковые впечатления, которые содержат
то же расчленение. Последние действуют в качестве раздражения на
музыкального слушателя и вызывают в его сенсориуме процессы,
фразировка которых похожа на ритм переживания пианиста.
Описание многочисленных выразительных движений, наблюдаемых
на первом году жизни, дают Ш. Бюлер и Г. Гетцер в своем «инвентаре
форм поведения в раннем детстве»121. Они отмечают, что
положительных движений гораздо меньше и наступают они позднее, чем
отрицательные.
К характерным с самого начала обнаруживающимся
выразительным движениям новорожденного относится также мимика, вызываемая
кислым, горьким и сладким.
11. Чувствительность новорожденного
Мы уже сделали обзор движений, доступных новорожденному.
Какова же его чувствительность, иначе выражаясь, каковы раздражения,
которые вообще приводят к реакциям, каково участие отдельных
органов чувств в восприятии раздражений? Нужно обратить внимание на то,
с какой осторожностью мы формулируем вопрос о чувствительности.
Мы не можем исследовать чувствительность новорожденного иначе,
как установив, вызываются ли реакции теми раздражениями,
которыми мы действуем, или нет. Взрослый человек может дать нам сведения
прямо во время эксперимента — подействовало ли на него раздражение
или нет, слышал он, например, что-нибудь, или нет. Для взрослого
человека мы можем, таким образом, поставить вопрос о чувствительности,
спрашивая, приводит ли раздражение к феномену; мы можем
ограничить здесь реакции «внутренним поведением»; у новорожденного мы
сами ограничили свое исследование внешним поведением, поэтому мы
поступим правильно, не связывая вопрос о чувствительности с
вопросами феноменов и сознания.
Мы уже видели122, что с самого начала жизни проявляются
рефлексы всех органов чувств. Восприимчивость всех органов чувств, таким
образом, уже существует, но они различны по тонкости восприятия
действующих раздражений и дифференцированности реакций. Штерн
очень наглядно изобразил эти отношения123. Ссылаясь на него, мы
разделим чувства на 3 группы:
I. Чувствительность кожи
1. Осязание обнаруживает большую дифференциацию реакций,
причем в зависимости от места раздражения возникают различные
реакции. Мы напомним уже знакомые нам явления: прикосновение
в области глаз обусловливает смыкание век, прикосновение к губам —
сосание, к ладони — сжимание руки, пятке — растопыривание
пальцев. Однако у ребенка не все области кожи одинаково чувствительны
по сравнению со взрослым. Так, по Прейеру, слизистая оболочка губ
и носа обладает повышенной, туловище, подмышки и бедра —
пониженной чувствительностью.
2. Температурное чувство. Уже достаточно сильно развито.
Температура воды для купания и молока должна быть вполне подходящей,
иначе ребенок от них отстраняется.
3. Чувствительность к боли, наоборот, ниже нормальной.
Я считаю наши познания в этой части области еще очень
поверхностными. По исследованиям Хеда124 и его сотрудников, особенно
в области осязания, можно различать две формы реакций, одни тонко
дифференцированные, локализованные и постепенные, другие грубые,
диффузные и всегда стремительные или совершенно непредвиденные
(эпикритические — протопатические). Эта точка зрения в применении
к чувствительности новорожденного, вероятно, обнаружит ряд новых
фактов. Я считаю особенно необходимым проверить наши сведения
о болевой чувствительности, отправляясь от эпикритических, а не от
протопатических.
II. Химическая чувствительность и зрение
1. Вкус. И здесь мы имеем ясную дифференциацию: сладкие
вещества проглатываются, очень кислые, горькие или соленые выбрасываются.
Мы видим на примере сына Прейера, который на четвертый день
отказался от разбавленного коровьего молока, что существуют более
тонкие различия. Предпочтение к сладкому становится все сильнее; может
дойти до того, что младенец отталкивает грудь, если в бутылке более
сладкое молоко.
2. В обонянии также можно вызвать положительные и
отрицательные реакции. На поворачивание к материнской груди мы уже
указывали, но можно вызвать и отворачивание от груди, если смазать ее дурно
пахнущим веществом.
3. Мы также упоминали уже важнейшие реакции, вызываемые
в ГЛАЗУ: зрачковый рефлекс, смыкание век при попадании сильного
света и устремление глаз на светлые предметы. Со стороны глаз
можно легко представить себе огромную разницу между новорожденным
и взрослым. Особое своеобразие зрительной чувствительности
новорожденного будет рассматриваться, когда мы коснемся развития
восприятия. Особый интерес представляет собой ограничение поля зрения
шириной, высотой и глубиной.
III. Слух
Новейшие экспериментаторы и старые наблюдатели согласны в том,
что за некоторым исключением первые реакции младенца на звук очень
диффузны125. Практически в них принимает участие все тело, и
распространение реакций зависит от силы раздражения. Общим признаком
этих ранних реакций является мышечная контрактация, сжимание век,
наморщивание лба, оттягивание углов рта и т.д. Левенфельд считает эти
«массовые реакции» защитными движениями, подобно смыканию век
при попадании сильного света, только специфичными, потому что ухо
не может таким же образом защититься от звука, как глаз от света. Это
объяснение кажется правдоподобным. Единственное исключение
представляют собой слуховые реакции, когда ребенок в противоположность
защитным реакциям других рецепторов реагирует на слуховые
раздражения. Мы имеем в виду описанные выше поворачивания головы.
Далее, младенца уже в первые недели можно успокоить звуковым
воздействием, как, например, легкий свист; человеческий голос также
действует на ребенка уже вскоре после рождения. По-видимому, таким
образом вызываются первые дифференцированные реакции на звук.
Исследование Гетцер и Тюдор-Гарт так же, как и результаты работы
Бюлера, соответствуют более старым наблюдениям и углубляют наши
познания. В опыте Гетцер и Тюдор-Гарт применялись различные
звуковые раздражения и, между прочим, человеческий голос, который
имеет относительно более низкую интенсивность. Соответственно
этому, реакции на голос в первые две недели были сравнительно редки, но
в течение третьей недели сильно увеличились. В эту неделю выступили
также первые реакции на голос, столь же специфические, как сосание
или выражение удовольствия, в то время как реакция на другие
звуковые раздражения оставалась не дифференцированной. Значение этих
результатов будет обсуждаться ниже.
Оглядываясь на наши три главные группы (I—III), мы видим, что они
ц общем и целом соответствуют различной чувствительности органов.
Осязание за исключением болевой чувствительности расположено на
вершине, слух занимает нижнее место, остальные находятся посредине.
В начале этого параграфа мы точно определили смысл, который
имеет для нас вопрос о чувствительности новорожденного и при этом
ограничились внешним поведением. После того как в этих пределах
вопрос можно считать разрешенным, для полноты необходимо
рассмотреть сами условия, при которых мы можем внешнее поведение,
вызванное чувственными раздражениями, считать соответствующим
«внутреннему». Иными словами, нужно развернуть так называемый
вопрос о сознании. Этим мы займемся в последних параграфах, теперь мы
перейдем к рассмотрению другой проблемы.
12. Пластичность как врожденное
свойство
До сих пор мы рассматривали новорожденного с двух сторон и при
этом познакомились с его двигательной сферой и чувствительностью.
Оба раза мы имели дело с унаследованным поведением, с врожденными
свойствами. Однако этим мы еще не исчерпали описание его
унаследованных свойств. Мы уже указывали на то, что многие реакции еще не
готовы ко времени рождения и проявляются только позже, в результате
созревания. Даже если мы и примем это во внимание, все равно остается
незаполненным большой пробел. Развитие заключается не только в
созревании, но также и в обучении.
Различие между формами поведения взрослого человека и
новорожденного, в отличие от разницы в поведении курицы и цыпленка, в
самой малой степени зависит от простого созревания первичного фонда
реакций. Оно является результатом личного опыта отдельного
индивидуума.
Курица и человек, таким образом, в своих задатках отличаются не
только установившимися рядовыми реакциями, но, прежде всего, тем,
что человек в несравненно большей степени способен к приобретению
индивидуальных реакций.
Способность к выучке относится тоже к врожденным
особенностям. Этим так называемым пластичным задаткам обычно
противопоставляли консервативные, мало лабильные свойства и одним из
признаков, типичных для человека, считали именно большую пластичность
(ср. выше, гл. 2). Врожденные пластичные задатки «не определяют
полностью того, что именно должно возникнуть, но они сами изменяются
в процессе действия», — так характеризует их Бюлер126.
Понятие пластичности как врожденной способности заключает
в себе большие трудности, если под врожденными способностями
понимать постоянные соединения систем нейронов. В этом случае
пластичность удобно воспринимать как отсутствие таких прочных
соединений. Чем меньше прочных соединений заложено в живом существе,
тем меньше данных на постоянные реакции, тем больше способность
к обучению.
Против такого понимания выступает Торндайк столь же
последовательно, как и энергично127. Тот факт, что между ситуацией и
неопределенной реакцией Rj нет никакой твердой зависимости, ничего не может
прибавить к тому, что животное отвечает на стимул S другими реакциями
R2, R3, которые столь же мало связаны с S. Простой факт чихательного
рефлекса сам по себе не обусловливает для меня пользование носовым
платком или обращение к врачу с тем, чтобы он удалил инородное тело.
Эти реакции требуют положительных оснований, по Торндайку, прочных
связей. Отсутствие связей не может, следовательно, служить основанием
для пластичности. Пластичность означает для Торндайка возможность
различных реакций на одинаковую ситуацию (multiple responseto a single
situation) и опирается на богатство неизученных связей, так что реакция,
которая не приводит к успеху, может быть заменена снова и снова до тех
пор, пока, наконец, не будет достигнут результат.
Тем самым отпадает разделение на стойкие и пластичные
задатки. Это направление должно быть заменено однородно или много-
образно связанными системами. Это только следствие точки зрения
Торндайка, который считает все задатки связями. Вопрос о
пластичности формулируется им не иначе, как следующим образом: «Какие
унаследованные зависимости, отсутствующие у животных, имеет
человек?»128.
Для нас, отвергших основное положение Торндайка, эта проблема
представляется совершенно иной. Мы не имеем оснований считать
систему прочных связей аппаратом врожденных функций, мы не
обязаны также усматривать в нем аппарат функций, приобретенных в
процессе обучения. Эта проблема будет предметом нашего обсуждения
в следующей главе. Но мы можем уже сказать: если мы
отказываемся от воззрения, согласно которому всякое обучение является новой
комбинацией уже существующих связей, то мы должны указать на
пластичность, которая, в строгом смысле слова, еще более резко
выражена, чем это указано в определении Бюлера. Мы впервые здесь
наталкиваемся на вопрос: может ли возникнуть нечто новое в поведении
индивидуума, что является не простой комбинацией элементов? Если
на этот вопрос ответить положительно, то выступает явное
противоречие между существами, для которых такие новообразования
возможны, и теми, для которых это недоступно, т.е. между более или
менее способными к этому129. В тех случаях выступает та пластичность,
которая в большей степени является памятью, закреплением новых
комбинаций старых реактивных путей, уже однажды приводивших
к успеху. И тогда будет верным то, что человек отличается, благодаря
своей пластичности, от остальных животных. Но это открывает нам
перспективы на течение дальнейшего исследования:
распространенное разделение всего поведения на инстинктивные и привычные
действия независимо от рефлексов окажется несовершенным. Мы найдем
действия, не ставшие еще привычными, но возникшие не на основе
наследственности и вместе с тем не происходящие от какого-нибудь
инстинкта. Такое впервые проявившееся действие будет новой,
необычайно существенной формой поведения.
Еще одно замечание к сказанному. Если мы сравним, подобно
Торндайку, которого мы считаем особенно последовательным
представителем этого довольно распространенного направления, этот ход
поведения с рассматриваемым выше, то обнаружится принципиальное
различие в методах: Торндайк постоянно спрашивает, где происходит
явление? Само явление всегда остается безразличным, оно зависит от
связи между отдельными нейронами. Мы, наоборот, приходим к
вопросу: что происходит? Не путь, по которому распространяется всегда
однородное возбуждение, но специфическая форма этого
возбуждения, по нашему мнению, сама должна привести к объяснению.
13. Феномены новорожденного.
К постановке проблемы сознания.
Структурные феномены
Мы подходим к последней проблеме этой главы. До сих пор мы
изображали новорожденного только так, как он представляется
естественнонаучному наблюдению. Мы показывали, что он делает и
каковы раздражения, вызывающие его действия. Остается вопрос: каково
поведение новорожденного само по себе? Знает ли новорожденный об
этом своем поведении, существуют ли у него переживания, когда он
реагирует на раздражения, существует ли для него «дескриптивная
сторона» поведения: переходя на язык обычной терминологии — каково
сознание младенца? Вопрос распадается на два: 1) Обладают ли
новорожденные вообще сознанием? 2) Что представляет собой первоначальное
сознание? Первый вопрос более второстепенного значения и гораздо
легче разрешается. Потому что относительно безразлично: возникает
ли у ребенка сознание раньше или позже, если мы не имеем
абсолютного критерия для установления этого срока. Часто считали необходимым
отрицать существование сознания у человека непосредственно после
рождения, исходя из того, что новорожденный — существо, живущее
преимущественно древним мозгом. Только что рожденный ребенок,
таким образом, вообще не испытывает никаких переживаний, он живет
как растение, у него отсутствуют даже чувства радости и боли, голода
и сытости. После случая Эдингер-Фишера с ребенком, у которого
отсутствовали большие полушария, мы убедились, что нормальные дети
уже с самого рождения отличаются от детей, лишенных больших
полушарий. После того как мы, в соответствии с этим, должны были
признать недоказанной теорию полного отсутствия отключения больших
полушарий сейчас же после рождения, мы больше не обязаны
отказывать новорожденному в какой-нибудь форме. Против этого говорят,
прежде всего, уже довольно рано существующие выразительные
движения и тот факт, что лицо новорожденного вообще уже может иметь
«выражение» сознания. Прейер130 ясно указывает, что уже в первые дни
довольная физиономия отличается от недовольной. Напротив, Эдингер
и Фишер отмечают, что у наблюдаемых ими аненцефалов отсутствуют
всякие следы выражения.
Мы можем, таким образом, обратиться ко второму вопросу: каковы
переживания новорожденного? Мне кажется целесообразным
предпослать обсуждению этой проблемы некоторые общие соображения. Мы
пытаемся здесь описать феномены, которые как таковые нам
недоступны. Мы не можем непосредственно воспроизвести мир
новорожденного, смотреть его глазами, ощущать его осязанием; он не может также
ничего сообщить о себе. Мы вынуждены, таким образом, только
конструировать сознание младенца. Почему мы не должны от этого
отказываться, мы уже изложили выше. Но как к этому подойти? В первую
очередь необходимо предостеречь от ошибки. Человек, незнакомый
с психологией, принимает как нечто само собой разумеющееся, что мир
для всех представляется одинаковым, для новорожденного только
менее полным, менее ясным, менее знакомым, чем для взрослого. Когда
он приписывает ребенку духовные акты, идентичные своему
собственному мышлению, например, говорит, что ребенок думает, то он
считает, что это мышление. Человек психологически более образованный,
который даже подсмеивается над этой наивной точкой зрения, однако,
почти никогда не стоит выше ее. Он склоняется к тому, чтобы
перенести на ребенка психологическую теорию, с которой он познакомился
из обычной психологии, и более точно определить это
«несовершенство» вроде того, что младенец еще мало ощущает, у него недостает многи
ассоциаций и т.д. На основании вышеизложенного нет необходимости
отмечать, что не это является путем, действительно ведущим к детской
психологии. Мы ранее указывали на то, что в развитии бывает
«специфическая начальная стадия», она должна быть понята во всем своем
своеобразии. Те, которым недостаточно близок психологический образ
мышления, должны себе уяснить следующее: два человека,
находящиеся в одном и том же реальном мире, не могут, однако, обладать
одинаковыми феноменами. Часто говорят: «о вкусах не спорят», и именно
потому, что в одинаковой ситуации один может быть в высшей степени
недовольным, другой — удовлетворенным. Задачей психологов в таких
случаях является установить основы различия в этом поведении. Очень
часто удается установить, что независимо от субъективности в оценках
оба спорящих обладают совершенно различными феноменами.
Например, один ничего не видит в чернильной кляксе, другой различает в ней
интересную, выразительную картину, или один слышит хаос звуков,
другой — богатую музыкальную тематику.
Я выбираю, по возможности, более резкие примеры для того,
чтобы читателю стало ясно, как при одинаковой внешней ситуации
феноменальное содержание может быть совершенно различным. В обоих
случаях можно сказать, что феномены первого менее совершенны, чем
у второго, но нельзя сказать, что они состоят из меньшего числа
ощущений или из меньшего числа ассоциированных представлений. Мы можем
теперь применить наши примеры. Спрашивая, как отражается мир в
феноменах новорожденного, мы уже будем знать, что в феноменах
различных взрослых мир может выражаться самым различным образом,
и мы можем использовать различия, обнаруженные на наших примерах,
для того чтобы правильно описать «несовершенство» новорожденного.
Наш аргумент, имевший отрицательную тенденцию, в результате
принял положительное направление. Мы хотели уяснить, что
реальный мир недостаточен для того, чтобы определять феноменальный мир
индивидуума, что это зависит также и от свойств самого индивидуума.
Подобно тому как немузыкальный человек действительно иначе
слушает симфонию, чем музыкальный, новорожденный переживает мир
иначе, чем взрослый. Определение направления этого «иначе» должно
быть признано проблемой, и мы можем уже почерпнуть в наших
примерах некоторые указания.
Так, мы снова приходим к вопросу: как мы должны поступить при
конструировании феноменального мира новорожденного? Первый
ответ на этот вопрос должен быть созвучен с вышесказанным: наши
построения должны «соответствовать» наблюдаемому «внешнему»
поведению, подобно тому, как наш феноменальный мир соответствует
нашему внешнему поведению. Потому что, как мы уже многократно
отмечали, всякое внешнее воспринимаемое поведение, каждое
движение, каждое действие есть более поздняя фаза единого общего
процесса, начальная фаза которого происходит в сенсорном поле131 (в самом
глубоком смысле этого слова). Этим мы получаем возможность
применить данные экспериментальной психологии к нашему вопросу,
избежав вышеупомянутой ошибки. Если мы найдем поведение
новорожденного в сравнении с нашим собственным мало дифференцированным,
мы попытаемся найти также и в нашем собственном поведении такие
действия, которые в сравнении с остальными действиями менее
дифференцированы. Мы сравним затем феномены, которые связываются у нас
с более или менее дифференцированными действиями, и найдя здесь
характерное различие, попытаемся перенести его на феномены
новорожденного. В конкретном случае мы, стало быть, испытаем каждую
форму поведения на себе и выработаем типичные различия в сравнении
со взрослыми, прежде чем будем конструировать феноменальный мир.
«Внешнее» и «внутреннее» поведение связано между собой не внешним
образом без внутренней зависимости, как, например, лицевая и
обратная стороны монеты, чеканка которых может быть разной — тогда мы
могли бы смело отказаться от построения феноменов. Поведение
только тогда будет полностью описано, когда нам известны обе его стороны;
только такое описание позволит нам перейти к объяснению. Сказанное
действительно не только для новорожденного, но и для всей детской
психологии, поскольку она занимается феноменами. Даже более
старший ребенок не есть «маленький взрослый», точно так же, как его
поведение отлично от поведения взрослого, будут отличны и его феномены.
Как можно конструировать феномены человека в первые дни его
жизни? Что является самым важным для его поведения? Совершенно
очевидно, что резкие органические состояния; голод, сытость,
усталость, бодрость, — все это пока еще в чисто объективном понимании.
Вспомним про себя: когда мы «чувствуем себя бодрыми», с этим не
связаны никакие дифференцированные реакции (как, например, в тех
случаях, когда мы вбиваем в стену гвоздь). Мы производим движения,
выражающие эту бодрость, только для того, чтобы вообще
двигаться. Так же обстоит, когда мы чувствуем усталость и когда мы
голодны; связанная с этими феноменами реакция будет выражаться в том,
что мы предпринимаем что-нибудь для того, чтобы достать пищу. То,
как мы поступаем, отрезаем ли кусок хлеба или идем в ресторан, или
делаем что-нибудь третье, это зависит от тысячи причин. Эта диффе-
ренцированность, однако, больше не связана с чувством голода. У
младенца внешнее поведение выглядит в таких случаях, в сущности, очень
сходным. Когда он бодр, он движется, когда он устал, он становится
спокойным, когда он нуждается в пище, он кричит, пока ему не дают
грудь, и когда он насытится, он перестает сосать. Его поведение мало-
дифференцированно, так же как и наше. Описанные действия, однако,
имеют большое биологическое значение, и мы должны прийти к такому
заключению: состояния, которые мы называем голодом и т.д.,
относятся к первичным феноменам, которыми обладает младенец, и в форме,
совершенно сходной с нашими.
Как же возникают переживания, которые ставят нас в известные
взаимоотношения с реальным миром, как образуется восприятие
младенца? Мы видели, что новорожденный может быть вынужден к
движению, когда внешние раздражения касаются его органов чувств, т.е.
когда нарушается его равновесие. Когда в поле зрения появляется светлый
предмет, то переводятся глаза; что-нибудь касается руки — сжимаются
пальцы и т.д. Новый фактор, вступающий в существующий мир, в
котором ребенок пребывает в равновесии, всегда нарушает состояние покоя.
Построить феноменальное отражение этого внешнего поведения —
значит принять во внимание эти обстоятельства как нечто целое. Мы не
скажем: ребенок видит светящееся пятно, но должны сказать: ребенок
на относительно безразличном фоне видит светящееся пятно, ощущает
на своей руке до тех пор незамечаемое прикосновение. Короче говоря,
на основе диффузного, не имеющего четких границ и мало
определенного выделяется ограниченный и более определенный феномен.
Существовала ли уже основа в качестве феномена до того, как возникло это
новое образование, будет установлено нами ниже. Здесь мы должны
указать только на то, что нужно мыслить эту «безразличную» основу
также более или менее «однообразной» до того, как появляется
данное качество. Мы предполагаем, что до наступления раздражения
ребенок находился в покое, не двигался. Если мы определяем феномен
Наш аргумент, имевший отрицательную тенденцию, в результате
принял положительное направление. Мы хотели уяснить, что
реальный мир недостаточен для того, чтобы определять феноменальный мир
индивидуума, что это зависит также и от свойств самого индивидуума.
Подобно тому как немузыкальный человек действительно иначе
слушает симфонию, чем музыкальный, новорожденный переживает мир
иначе, чем взрослый. Определение направления этого «иначе» должно
быть признано проблемой, и мы можем уже почерпнуть в наших
примерах некоторые указания.
Так, мы снова приходим к вопросу: как мы должны поступить при
конструировании феноменального мира новорожденного? Первый
ответ на этот вопрос должен быть созвучен с вышесказанным: наши
построения должны «соответствовать» наблюдаемому «внешнему»
поведению, подобно тому, как наш феноменальный мир соответствует
нашему внешнему поведению. Потому что, как мы уже многократно
отмечали, всякое внешнее воспринимаемое поведение, каждое
движение, каждое действие есть более поздняя фаза единого общего
процесса, начальная фаза которого происходит в сенсорном поле131 (в самом
глубоком смысле этого слова). Этим мы получаем возможность
применить данные экспериментальной психологии к нашему вопросу,
избежав вышеупомянутой ошибки. Если мы найдем поведение
новорожденного в сравнении с нашим собственным мало дифференцированным,
мы попытаемся найти также и в нашем собственном поведении такие
действия, которые в сравнении с остальными действиями менее
дифференцированы. Мы сравним затем феномены, которые связываются у нас
с более или менее дифференцированными действиями, и найдя здесь
характерное различие, попытаемся перенести его на феномены
новорожденного. В конкретном случае мы, стало быть, испытаем каждую
форму поведения на себе и выработаем типичные различия в сравнении
со взрослыми, прежде чем будем конструировать феноменальный мир.
«Внешнее» и «внутреннее» поведение связано между собой не внешним
образом без внутренней зависимости, как, например, лицевая и
обратная стороны монеты, чеканка которых может быть разной — тогда мы
могли бы смело отказаться от построения феноменов. Поведение
только тогда будет полностью описано, когда нам известны обе его стороны;
только такое описание позволит нам перейти к объяснению. Сказанное
действительно не только для новорожденного, но и для всей детской
психологии, поскольку она занимается феноменами. Даже более
старший ребенок не есть «маленький взрослый», точно так же, как его
поведение отлично от поведения взрослого, будут отличны и его феномены.
Как можно конструировать феномены человека в первые дни его
жизни? Что является самым важным для его поведения? Совершенно
очевидно, что резкие органические состояния; голод, сытость,
усталость, бодрость, — все это пока еще в чисто объективном понимании.
Вспомним про себя: когда мы «чувствуем себя бодрыми», с этим не
связаны никакие дифференцированные реакции (как, например, в тех
случаях, когда мы вбиваем в стену гвоздь). Мы производим движения,
выражающие эту бодрость, только для того, чтобы вообще
двигаться. Так же обстоит, когда мы чувствуем усталость и когда мы
голодны; связанная с этими феноменами реакция будет выражаться в том,
что мы предпринимаем что-нибудь для того, чтобы достать пищу. То,
как мы поступаем, отрезаем ли кусок хлеба или идем в ресторан, или
делаем что-нибудь третье, это зависит от тысячи причин. Эта диффе-
ренцированность, однако, больше не связана с чувством голода. У
младенца внешнее поведение выглядит в таких случаях, в сущности, очень
сходным. Когда он бодр, он движется, когда он устал, он становится
спокойным, когда он нуждается в пище, он кричит, пока ему не дают
грудь, и когда он насытится, он перестает сосать. Его поведение мало-
дифференцированно, так же как и наше. Описанные действия, однако,
имеют большое биологическое значение, и мы должны прийти к такому
заключению: состояния, которые мы называем голодом и т.д.,
относятся к первичным феноменам, которыми обладает младенец, и в форме,
совершенно сходной с нашими.
Как же возникают переживания, которые ставят нас в известные
взаимоотношения с реальным миром, как образуется восприятие
младенца? Мы видели, что новорожденный может быть вынужден к
движению, когда внешние раздражения касаются его органов чувств, т.е.
когда нарушается его равновесие. Когда в поле зрения появляется светлый
предмет, то переводятся глаза; что-нибудь касается руки — сжимаются
пальцы и т.д. Новый фактор, вступающий в существующий мир, в
котором ребенок пребывает в равновесии, всегда нарушает состояние покоя.
Построить феноменальное отражение этого внешнего поведения —
значит принять во внимание эти обстоятельства как нечто целое. Мы не
скажем: ребенок видит светящееся пятно, но должны сказать: ребенок
на относительно безразличном фоне видит светящееся пятно, ощущает
на своей руке до тех пор незамечаемое прикосновение. Короче говоря,
на основе диффузного, не имеющего четких границ и мало
определенного выделяется ограниченный и более определенный феномен.
Существовала ли уже основа в качестве феномена до того, как возникло это
новое образование, будет установлено нами ниже. Здесь мы должны
указать только на то, что нужно мыслить эту «безразличную» основу
также более или менее «однообразной» до того, как появляется
данное качество. Мы предполагаем, что до наступления раздражения
ребенок находился в покое, не двигался. Если мы определяем феномен
из поведения, то абсолютно недифференцированному поведению,
покою должен также соответствовать недифференцированный феномен.
Читатель не должен забывать, что речь идет о самом первоначальном
состоянии сознания, что мы пытаемся здесь охарактеризовать
первоначальные феномены. Вследствие этого наша характеристика гласит:
первые феномены суть качества, фигуры на некоторой основе; мы
вводим здесь новое понятие, простейшие структуры. Феноменальные
данные отличаются от определяющего их качества и основы, на которой
оно возникает, от уровня, от которого оно отделяется. Но к сущности
качества относится то, что оно лежит в данной основе, то, что оно
поднимается над всем уровнем. Такое сосуществование феноменов, в
котором каждое «звено несет в себе другое»132, в котором каждое звено
обладает своим своеобразием только в связи и через другое, мы будем
отныне называть структурой. Согласно этому, следовательно, все
самые примитивные феномены будут структурными феноменами:
подобно тому, как светящееся пятно выделяется на однотонном основании,
выделяется ощущение холода на коже в сравнении с остальной
«равномерной температурой», ощущение слишком холодного или слишком
теплого молока в отношении температурного уровня рта.
Следовательно, и такие реакции, как отказ от данного в неправильное время
молока, относим мы как к феномену, отражающему известную структуру:
молоко может образовать «адекватную» или «неадекватную»
структуру с воспринимающим аппаратом.
Такое воззрение на строение примитивнейших феноменов
покажется многим очень странным тем, что оно заранее приписывает
существование известного порядка в переживаниях, в то время как обычному
современному мышлению гораздо больше соответствует мнение, что
всякий порядок устанавливается в результате опыта. Сюда относится
мнении о том, что сознание новорожденного является не чем иным,
как упорядоченным конгломератом отдельных ощущений, из которых
многие в соответствии с созреванием центров обнаруживаются раньше
других. Эта точка зрения награждает ребенка хаосом световых и
красочных впечатлений подобно палитре художника, из которых только
благодаря опыту образуется мир восприятий. Это учение опирается на
одно из основных положений, которым долгое время оперировала
психология; существуют простейшие психологические образы-ощущения,
которые просто вызываются раздражениями, и из этих простейших
элементов путем соединений образуется все остальное133. Но
поведение ребенка совершенно не допускает такого взгляда на его феномены.
Мы приведем некоторые аргументы, направленные прямо против такой
концепции, и тем самым подкрепим нашу гипотезу о структурности
первых чувственных феноменов.
1. Наш принцип конструировать феномены так, чтобы они
соответствовали поведению, безусловно, не приводит к предположению, что
новорожденный обладает избытком феноменов. Его поведение,
напротив того, выглядит так, как будто существует мало стимулов для
приведения их в движение134.
2. Если бы теория первоначального хаоса была верна, нужно было
бы ожидать, что сперва «простые» раздражения возбуждали действия
и интересы ребенка, потому что простое должно раньше выделяться
из хаоса, должно раньше войти в соединение с другим. Это
противоречит всякому опыту. Поведение ребенка обусловливается не теми
раздражениями, которые кажутся психологу особенно простыми, потому
что они соответствуют простым ощущениям. Первыми
дифференцированными слуховыми реакциями являются реакции на человеческий
голос, следовательно, на очень сложное раздражение (и
соответственно — «восприятие»). Как экспериментально показал Уотсон,
новорожденный не будет плакать оттого, что он слышит плач другого ребенка.
Это возможно только с ребенком к концу первого месяца, как
установила Ш. Бюлер. Из этого, конечно, не следует, что в это время
младенец успел приобрести «условный рефлекс», но что крик вначале еще не
имел «выразительного характера», который он получил только позже
для месячного ребенка и взрослого.
Между первым и вторым месяцем младенец реагирует на
человеческий голос улыбкой, независимо от того, разговаривают ли с ним
ласково, безразлично или гневно. Эта дифференциация совершается на
четвертом или пятом месяце, когда улыбка становится реакцией только на
ласковый голос, в то время как брань вызывает плач и общие симптомы
неудовольствия. Маленький ребенок испытывает интерес не к простым
краскам, но к человеческим лицам, как исчерпывающе показала мисс
Шинн на своей племяннице. Что на тринадцатый день многие дети
улыбаются, если их рассмешить, установила М. Ковер-Джонс
(заимствовано у Уотсона) на большом детском материале. Эта реакция настолько
специфична, что в течение первого полугодия ребенок улыбается
только людям, а не игрушкам, несмотря на то, что последние также уже
привлекают его внимание (Ш. Бюлер)135.
Здесь опять-таки не может быть речи об «условной реакции».
Нужно понять, какой необходим опыт для того, чтобы суметь выделить из
бесчисленного множества различных хаотических образов, потому что
ощущения непрерывно меняются — лица отца и матери, и больше того,
их ласковое и неласковое выражение. Для теории хаоса феномен,
соответствующий человеческому лицу, есть не что иное, как смешение
различнейших ощущений света, тьмы и красок, к тому же непрерывно
меняющихся, при каждом движении данного человека и самого ребенка,
точно так же, как при каждом изменении освещения. И, однако, лицо
матери знакомо ребенку уже на втором месяце жизни; он в середине
первого года уже различно реагирует на ласковое и «гневное» лицо
и настолько различно, что мы должны сказать, что феноменальным
является именно ласковое или злое лицо, а не какое-нибудь распределение
света и тени. Объяснить это опытом, считать, что такие феномены
образуются путем соединения простых оптических ощущений, возникших
вследствие приятных или неприятных последствий, из первоначального
хаоса ощущений оказывается невозможным. Это заключение
усиливается следующим наблюдением Келера136. «Нетрудно собрать почти всех
шимпанзе станции сразу в одно место, вдруг изобразив сильнейший
испуг, и как бы окаменев, смотря на желаемое место. Сейчас же
собирается, как бы пораженное молнией, все черное общество и смотрит на то
же самое место, даже когда там ничего нет». Обычно принято считать
по аналогии с собственным сознанием, что животное непосредственно
понимает «действие испуга». Если придерживаться этого мнения, такие
феномены, как «ласковость» и «неласковость» окажутся более
примитивными, чем, скажем, феномены синего цвета. Такой взгляд
покажется абсурдным для психологического мышления, которое
стремится сконструировать сознание из «простых» элементов. Совсем иначе,
если постоянно иметь в виду тесную зависимость между феноменами
и внешним раздражением. Ласковость и неласковость могут определять
поведение, но невозможно понять, как поведение такого примитивного
существа, как новорожденный, может быть обусловлено синим пятном.
Когда мы конструируем феномен из внешнего поведения, не должны
ли мы раньше везде приписать им свойства, побуждающие
индивидуум к действию? Тот факт, что он действует, является основанием для
моего заключения о его феноменах. Но это значит, что мы вынуждены
считать такие качества, как «грозный» или «привлекательный», более
примитивным и элементарным содержанием мира восприятий, чем те,
которые мы называем «элементарными» в учебниках психологии.
Говоря о структуре фигуры и фона, мы называли основу
относительно «безразличной»; мы должны теперь дополнить, назвав фигуру
положительным или отрицательным «интересом». На основе подобных
рассуждений М. Шелер приходит к следующему положению:
«Выражение является даже самым первоначальным из того, что человек
воспринимает из внешнего мира»137. К тому же выводу приходит Вернер,
говоря о физиологическом характере первичного восприятия мира138.
Приведем еще одно замечание: если мы считаем такие феномены,
как ласковость и неласковость, примитивными, мы этим утверждаем,
что примитивные феномены не разделяются на воспринимаемые
(перцептивные) и чувствуемые (аффективные) элементы, что наряду с субъ-
ективным ощущением не возникает «объективное» восприятие, но
примитивный мир несет в себе аффективные черты, которые мы здесь
можем рассматривать как «объективные». Мы уже выше, при первом
столкновении с аффектами, указали на зависимость между
аффективными и познавательными процессами. В согласии с авторитетными
авторами139 и данными этнопсихологии мы полагаем: для людей
примитивных культур мир полон свойств, которые мы называем и считаем
чисто субъективными, имеющими связь с личностью140. Но мы, конечно,
могли бы считать, что первые феномены восприятия содержат в себе
характер «объективности», который отсутствует у ранее
перечисленных феноменов, как бодрость, голод и т.д. Ясно, что под «объективным
характером» не нужно понимать то, что под этим понимает
философски образованный взрослый человек. Мы считаем лишь, что феномены
восприятия представляют собой нечто отличное от общих ощущений,
что противоположность субъект-объект не должна еще только
образоваться, но она уже существует, хотя бы и в примитивной форме, в
первоначальных феноменах новорожденного.
Таким образом, наше воззрение резко противоречит эмпиризму,
по которому все эти эмоциональные или динамические свойства
приобретены или «условны». Но точно также неправильно называть их
априорными, как это делают Пиаже и Риньяно. Пиаже следующим
образом определяет психологический априоризм: организм
ассимилирует впечатления среды в соответствии со своей собственной
структурой, которая независима от этих впечатлений, даже сопротивляется
какому-либо давлению извне141. Наше воззрение несовместимо с
таким априоризмом, который так же мало соответствует фактам, как
и обычному эмпиризму. Наше объяснение понимания выразительных
движений (см. параграф 2 этой главы) должно это уяснить. Вместо
допущения априорного «инстинктивного» знания чего-то
противостоящего «я» (Дриш)142 мы показали, что понимание является результатом
воздействия специфических сил на организм, собственная
специфичность которого, конечно, не должна быть выпущена из виду. Поэтому
организмы понимают многое без предварительного опыта. Это
включает в себя и возможность адекватной реакции на разнообразное
поведение других организмов. И это было бы ему недоступно, если бы его
действия состояли в том, чтобы «ассимилировать воздействие среды
в соответствии со своей собственной структурой». Потому что такое
допущение не объяснило бы соответствия приспособленности в
поведении. Естественно, организм также должен выполнять определенные
условия. Существуют хорошие и плохие знатоки людей.
Пресмыкающемуся непонятны все роды человеческого поведения. Но и самый
великий скрипач не может извлечь такого же звучания из дешевого
инструмента, как из «Страдивариуса» или «Амати». И, однако,
никто не различит степень участия скрипача и скрипки в самом
исполнении. Вспомним сходный аргумент в 9-м параграфе этой главы. По
нашему мнению, каждая реакция возникает из нового распределения
сил в организме. Это распределение сил, как и всякое физическое их
распределение, определяется структурой системы и распределением
сил, участвующих в процессе, скопляющихся на его поверхности. При
этом не нужно забывать о силах, могущих находиться в самой системе.
Таким образом, уничтожается дилемма эмпиризма и нативизма, иначе
устраняется и возможность априоризма.
3. Брод и Вельтш143 приводят следующий аргумент против
воззрения, по которому первоначальное восприятие есть мозаика
многочисленных ощущений. Бывает так, что наши развитые феномены
изменяются, сдвигаясь в направлении неразвитого первичного состояния, будь
то преднамеренное изменение или спонтанно возникшее, благодаря
сильной рассеянности или усталости. Всякий знает такие состояния
неподвижности. При этом совокупность феноменов претерпевает
«преобразование в единство, в нерасчлененность». Мир при этом становится
не пестрым, а однотонным. И с этой стороны допущение
первоначальной множественности является необоснованным. Мы наталкиваемся
здесь на нерасчлененный, однообразный феномен, которому мы выше
противопоставили возникшее из него качество. Должны ли мы
мысленно продолжить до возможных границ, что изменение, которое, между
прочим, может испытывать наш мир представлений для того, чтобы
достичь первых и примитивнейших феноменов? Вопрос только в том, где
мы можем установить эти границы? Не ведет ли переход границы в
результате к нулю, не превращается ли абсолютная однотонность,
наконец, в ничто? Мы выше оставили открытым вопрос о том, существовал
ли раньше нерасчлененный фон, на котором образуется качество, или
возникает этот фон только вместе с этим качеством. Положительный
ответ на поставленный выше вопрос совпадает с последней
альтернативой. И это значит, что нерасчлененный фон является примитивнейшим
феноменом, а структура — качеством, выделяющимся из этого
однообразного фона. Это мнение кажется мне более правдоподобным;
однообразный фон в качестве феномена опять-таки не имеет значения для
поведения, не обусловливает нарушения равновесия. С другой стороны,
существуют тяжелые нарушения восприятия на основе органических
изменений в мозгу, которые прямо подтверждают наше понимание.
Бывает, что больные вообще не обнаруживают сложных фигур, которые
они не могут образно воспринять144.
В соответствии с этим Ш. Бюлер и Г. Гетцер считают, что без
сильного раздражения младенец находится в сумеречном состоянии145.
Фон и качество, которые содержат друг друга в феномене,
следовательно, возникают также вместе. Одна часть мира выделяется, она
является в виде формы, остальное, которое в действительности может быть
очень разнообразным, возникает одновременно в виде однообразной
основы. Я подчеркиваю это еще раз для того, чтобы сказать следующее.
Мы не должны конструировать соответствующий раздражению
феномен так, как будто каждому раздражению соответствует феномен,
который в данных условиях может быть только единственным для
раздражения в данном психологическом эксперименте. Мы должны с самого
начала отказаться от допущения, что ощущение, вызываемое данным
раздражением, установлено раз навсегда.
Рис. 3. Из книги Келера «Структурные функции»
А. Мы имеем, наконец, прямое указание на то, что простые
структуры должны быть очень примитивными феноменами. В
зоопсихологии очень часто производятся опыты такого рода, называемые
дрессурой выбора: животному предлагают два раздражения, например,
светло-серую и темно-серую бумагу, и дрессируют его, чтобы оно при
одном искало пищу, при другом нет. Этим опытом думают установить:
1) обладает ли животное двумя различными феноменами
соответственно различным раздражениям, ощущениям, и 2) каково состояние
его памяти во время и после дрессировки. Оставим вторую проблему
и займемся первой. Дрессировку объясняли следующим образом:
животное научилось искать одного ощущения и избегать другого: каждое
ощущение, следовательно, связано с определенного рода поведением.
Мы называем ощущение, к которому стремится животное,
положительным, другое — отрицательным и переносим это обозначение
также и на соответствующие раздражения. Келер ставил опыты
следующего рода. Он дрессировал животное на выбор более светлого из двух
серых оттенков. Если дрессировка удается, животному предлагаются
«критические опыты» — снова две серые бумажки, но подобранные
так, что светлая остается положительной, а темная и отрицательная
заменяется другой бумагой, более светлой, чем положительная. Для
этой бумажки не предстоит дрессировки, она не положительна и не
отрицательна; на рис. 3, из которой виден весь план опыта, она
обозначена (серая О). Как поступит теперь животное: вновь положенная
серая бумажка не положительна и не отрицательна, она нейтральна;
рядом находится серая бумажка, ставшая, благодаря многим пробным
опытам, сильно положительной. Если теория, из которой мы
исходим, верна, мы должны ожидать, что последняя во много раз чаще
будет выбрана, чем первая; ведь нейтральная не может быть выбираема
чаще, чем положительная. Опыт может быть варьирован так, что
более темный серый цвет делают положительным и в критических
опытах кладут рядом еще более темный, вместо светлого. Наконец, можно
убирать в критических опытах не положительную, а отрицательную,
и заменять ее серой, еще дальше отстоящей от положительной, но
отдаленную в том же направлении, как и от отрицательной. Ради
краткости мы ограничимся первым случаем.
Келер ставит тщательные и разнообразные опыты с курами,
шимпанзе и 3-летним ребенком. Чтобы дать понятие читателю о том, как
проводятся такие опыты, я коротко опишу опыты с курами. Курицу
сажают в клетку, стенка которой состоит из решетки, сквозь которую
курица легко может просунуть голову и шею, и ставят перед этой стенкой
горизонтальную доску для пищи. На эту доску помещают рядом две
бумажки, предназначенные для дрессировки, и на каждую из них кладут
одинаковое число зерен. Когда курица клюет зерна с положительной
бумажки, ей дают возможность доклевать все находящиеся на
бумажке зерна. Если же она клюет с отрицательной, то ей мешают есть,
попросту отгоняя от пищи146. Это повторяется много раз до тех пор, пока
курица сама больше не клюет с отрицательной бумажки.
Положительную бумажку нужно, конечно, непрерывно менять местами с
отрицательной, чтобы курица не привыкла всегда клевать только справа (или
слева). Для полной дрессуры необходимы от 400 до 600 опытов. Когда
дрессура достигнута, переходят к критическим опытам, при которых
животное свободно может клевать зерна с той бумажки, которую оно
выбирает. Только тогда можно считать опыт законченным и повторять
снова.
Данные опытов с курами прямо противоречат нашим ожиданиям,
выведенным из теории ощущений. Из четырех кур, из которых две
дрессировались на светлую, а две — на темную, в 85 критических
опытах 59 раз выбиралась новая и только 26 раз старая, положительная
бумажка. По теории ощущений, должно было получиться обратное,
во всяком случае, можно было ожидать, что положительный выбор
будет не реже, чем нейтральный. Стало быть, это предположение
неправильно.
Как можно объяснить результат опытов? Чем отличается
ситуация критического опыта от ситуации обучения, кроме
положительной серой бумажки? «При специальном расположении, при котором
оба различных цвета друг другу противоположны по симметричному
образу и строгой простой форме, самонаблюдение устанавливает, что
характерным в первую очередь являются не цвета сами по себе, но
отношения между цветами»147. Это отношение между светлым и темным,
эта структура цвета сохраняется при переходе от опытов дрессуры
к критическим. Оно, а не абсолютное (положительное) качество
определяет в большинстве случаев выбор. Тем, что поведение животных,
как оказалось, зависит преимущественно от структурных
особенностей, а не от абсолютных свойств цветов, подтверждается следующее
заключение: феноменальное в этих опытах также сводится к
структурным данным. Факт, что такие опыты возможны с курами, показывает,
что такие структуры свойственны не только развитому интеллекту, но
являются очень примитивными актами.
Несколько слов об опытах с ребенком. Перед ребенком ставят два
ящика, один с темной, другой со светлой крышкой и говорят: «возьми
.один». После ряда проб ребенок без дальнейшей помощи научается,
только благодаря связанному с этим успеху, выбирать светлый ящик
с привлекательным содержимым, если другой ящик пуст. После того,
как ребенок после двух дней опытов почти безошибочно выбирает,
ставятся критические опыты. Результаты такие же как с курами, но
более четкие. Без всяких колебаний он выбирает всегда в
соответствии с структурой и в противоположность абсолютному цвету, новый
еще более светлый ящик. Добавим к этому: у кур, как мы видели,
также происходит «абсолютный выбор», и Келер в особых опытах
установил условия, благоприятные для действия абсолютного и
структурного фактора. При этом оказалось, что абсолютный фактор со
временем очень быстро теряет свое действие, очень скоро
забывается: «собственно существенный, длительный и прочный продукт
обучения зависит от структурной функции»148. Будучи действительным
в некоторой мере для примитивнейших жизненных форм, он больше
но встречается у нас, взрослых. Мы не выберем, как упомянутый
ребенок, без колебания в соответствии со структурой, у нас возникает
разлад в стремлении направить свое поведение, согласно структуре
или по ясно узнанному абсолютному серому оттенку. Только
перейдя к качественно близким цветам, т.е. достаточно сократив интервал,
в котором находятся отрицательный, положительный и
нейтральный цвет, мы также будем подчиняться структуре. На своих лекциях
я часто проводил с успехом этот опыт. Различие между взрослыми
и ребенком показывает, во всяком случае, что абсолютный фактор не
примитивен, а предполагает более высокое развитие. Отсюда
абсолютный фактор ни в каком случае не может быть идентичен «простым
ощущениям», которые по старым воззрениям лежат в основе всякой
дрессуры. Подобными опытами над детьми Рикель установил, что
число случаев выбора абсолютного цвета увеличивается с возрастом
детей149.
В результате этого последнего рассуждения мы устанавливаем:
простые структурные процессы являются поведением совершенно
примитивного типа, которое не предполагает существования
абсолютных «ощущений». Наше предположение о том, что
первоначальные феномены новорожденных являются структурными феноменами,
следовательно, с этой стороны подтверждается150.
5. Мы основываем на исследованиях осязания Каца наш последний
аргумент, подтверждающий наше понимание структурного характера
примитивных феноменов151. На богатом фактическом материале Кац
приходит к заключению, что движущиеся формы воспринимаются
раньше, чем неподвижные. «Так, внимание маленького ребенка, —
замечает он, — между прочим, привлекается легче сравнительно быстро
движущимися предметами, чем неподвижными». Восприятие
движения, однако, как показывают многочисленные современные
экспериментальные работы152, является структурным процессом.
Мы подчеркиваем, что дело идет об очень простых структурах,
и структуры, которые мы воспринимаем первыми, также оказываются
наиболее простыми — некоторое качество на однообразной основе.
Мы не должны представлять себе, следовательно, структуры
младенца такими длительными, как мы, взрослые, их переживаем. Точно так
же мы меньше всего должны ожидать вначале сложности и четкости
структуры. В дальнейшем мы познакомимся с более высокими
структурами, на которых сумеем изучить развитие.
В заключение мы приведем исчерпывающе рассмотренные выше
выразительные движения в связи с примитивной организацией
отношения фигуры и фона. Громкий плач, который сильно варьирует по
выразительности, зависит как от феноменов фона, так и от структуры.
От первого в состоянии усталости, голода и покоя, от второго — при
«отталкивающих» предметах или локализированной боли. Выражение
удовольствия — реакция, непосредственно связанная с общим
состоянием; только позже появляющаяся улыбка вызывается выделяющейся
отсюда структурой. Поворачивание головы и движения рта, в конце
концов, так же как и движения фиксации, должны быть реакциями на
определенные структурные процессы.
В качестве добавления к этой главе я упомяну, что Ш. Бюлер
и Г. Гетцер занимались этим интереснейшим вопросом, выясняя, в
какой деятельности проводит свой день новорожденный и как
развиваются эти дневные занятия в течение первого года жизни. Они
разделяют деятельность следующим образом: сон, питание, спокойное
бодрствование, отрицательные реакции, бесцельные движения,
целенаправленные движения и экспериментирование153.
Глава 4. Специальные факты
психического развития.
Постановка проблемы.
Проблема образования
новых форм поведения
1. Четыре области человеческого развития
Мы знаем теперь, как начинает свой путь новорожденный человек,
чем он вооружен для разрешения огромной задачи стать взрослым
человеком, вступить в человеческое общество в качестве
самостоятельного его члена. Мы можем проследить за ним по этому пути и исследовать
законы его роста и становления. Здесь на первый план выступают
принципиальные точки зрения. Проблема развития становится для нас
важнее отдельных частных фактов. Мы попытаемся показать, к чему
сводится путь, который человек проходит в своем развитии. Для этой цели
мы сначала поставим следующий вопрос: чем должен овладеть
новорожденный, в каких направлениях должно развиваться его поведение?
При попытке ответить на этот вопрос можно в общих чертах
различить четыре области или направления.
1. Чисто моторная область. К ней относятся движения и положения,
возникающие с самого начала и лишь совершенствующиеся, а также
образующиеся вновь движения, которые более или менее
совершенствуются, начиная от хватания и ходьбы и кончая речью, письмом,
гимнастикой, спортом или игрой и т.д.
2. Чисто сенсорная область. Здесь трудность разрешения задачи
в настоящее время вполне очевидна. Мы ясно показали, как просты
должны быть первые феномены восприятия человека, причем эта
простота, конечно, отличается от так называемых «простых ощущений»,
и из этих рудиментов должно развиться наше богатое, пестрое и
утонченное представление о мире. Мы видим, что из всего многообразия
окружающих предметов, способных воздействовать на ребенка,
действенными являются только немногие. Этим многообразием, однако,
необходимо овладеть; требования, которые жизнь предъявляет к
нашему поведению, настолько велики, что они ни в коем случае не могут
быть удовлетворены примитивными структурными феноменами
новорожденного. Феномены ребенка должны постепенно приспособиться
к множеству раздражений. Эту задачу можно пояснить сравнением.
Вспомним, что происходит при разгадывании загадочной картинки,
в которой из путаницы совершенно не связанных между собой линий
внезапно возникает «кошка». Кажется, что в загадочной картинке
нельзя увидеть других изображений кроме «кошки», но, однако, в хаосе
линий и пятен внезапно удается различить одну вслед за другой
картину пейзажа или группы людей. Этот пример иллюстрирует то, что мы
обсуждали в конце предыдущей главы (см. выше); он показал нам
различие феноменального мира отдельных людей по отношению к одной
и той же действительности; теперь он может служить для разъяснения
тех задач, которые предстоит человеку разрешить на протяжении его
развития в сенсорной деятельности.
Итак, вместо примитивных, разобщенных структурных феноменов
должна образоваться связная и в то же время расчлененная,
структурированная картина мира.
3. Внешнее и внутреннее поведение не является изолированными
системами. В действительности поведение зависит от ситуации,
организующей через сенсорный аппарат выполнение правильных действий
индивидуума. Наряду с чисто моторными и чисто сенсорными навыками мы
различаем и сенсомоторные, имея в виду ту зависимость между
внешним и внутренним поведением, то соответствие движений с
феноменами, без которых индивидуум никогда не сумеет вести самостоятельное
существование. В качестве элементарного примера можно вспомнить
случай, когда обжегшийся ребенок боится огня. Здесь зависимость
защитной реакции от феномена огня привела первоначальную реакцию
хватания к болевому переживанию ожога. Далее, сюда относится то,
что было сказано нами о модификации инстинктов. Вспомним сына
Прейера, который предпочел сладкую бутылочку груди. Мы только что
снова подчеркнули тесную зависимость между сенсорным и моторным
полем. Ссылаясь на это, мы указываем, что в действительности всякий
«чисто моторный навык», который мы отнесли к группе 1-й, содержит
сенсорный компонент. В таких актах, как речь, письмо, это вполне
очевидно. Глухие в лучшем случае могут овладеть только очень
несовершенной речью. Это действительно также для такого образа поведения,
как ясно выраженное моторное упражнение, например, игра в теннис.
Здесь смысл не в том, чтобы каждый раз производить одинаковый удар,
но чтобы давать правильные удары по мячу в зависимости от места его
нахождения.
Уже в очень ранние действия включается сенсорный компонент.
Мы попытаемся показать, как это происходит при ходьбе. Ходьба,
движение, протекающее не всегда в одинаковой мере стереотипно.
Варьируется не только темп в зависимости от причин, побуждающих
к ходьбе, движения при ходьбе определяются телосложением,
приспособляются к местности, причем сам человек во время ходьбы очень
мало это сознает. Процесс более или менее автоматичен, т.е. центры,
регулирующие движения при ходьбе, должны получать сведения с
периферии о том, какова местность, и регулироваться на основе этих
сенсорных импульсов, не требующих создания феноменов. Вспомним
поразительный пример того, как изменяется походка, когда на ноге
имеется рана, когда, несмотря на самое сильное напряжение воли,
невозможно при таких условиях ставить ногу в нормальное положение.
Зависимость, которая здесь господствует, станет еще яснее, когда мы
вспомним другое, исчерпывающим образом исследованное в
предыдущей главе, движение. Когда мы смотрим вдаль и внезапно вблизи
появляется бросающийся в глаза предмет, он фиксируется, и глаза будут
соответственно аккомодироваться. И здесь движение, в данном
случае аккомодация, независимо от воли, а вызывающий его сенсорный
импульс приводит к осознанию его только тогда, когда движение уже
выполнено, когда глаза устремились на новый предмет. Мы тогда же
указывали, что зависимость между сенсорным и моторным действием
мы понимаем как цельный процесс, в котором моторные и сенсорные
компоненты не являются независимыми один от другого. Такого
понимания мы придерживаемся и теперь. Навык в «чисто моторной»
области предусматривает собственно сенсомоторное действие, каждое
движение обусловливает тот факт, что новые сенсорные импульсы
достигают центра и принимают участие в определении дальнейшего
протекания моторных процессов. В доказательство довольно
значительного участия сенсорных актов в моторных процессах можно указать
нарушения при ходьбе, являющиеся следствием поражения спинного
мозга при спинной сухоте. При этой болезни затронуты не моторные,
а только сенсорные центры, однако она ведет к полному параличу.
Больной может поэтому снова научиться ходить, если ему удается
вместо выпавших тактильных сенсорных импульсов выработать
другие. В первую очередь имеют значение оптические импульсы; больной,
следовательно, должен научиться регулировать глазами свою
походку, при ходьбе он должен постоянно смотреть на свои ноги. То, что
таким образом вообще возможно довольно значительное улучшение
его действий, указывает, во-первых, на то, что моторные центры не
нарушены и, во-вторых, на необходимость сенсорных импульсов для
движений. К такому же заключению привели опыты физиологов над
животными, у которых разрушали определенные сенсорные центры.
Правильно и обратное. «Чисто сенсорное» овладение миром,
которое мы отнесли ко второй группе, происходит также при участии
движений. Мы имеем в виду хватание и осязание, движения глаз и головы
при ориентировке в пространстве. При исследовании осязательных
восприятий Кац пришел к заключению, что на примитивной ступени
развития движение является необходимым условием восприятия и что наше
осязание стоит еще довольно близко к этому к примитивному
состоянию154.
Последние выводы показывают только, что в строгом смысле слова
не существует чисто моторных и чисто сенсорных навыков. Несмотря
на это, мы имеем право отличать сенсомоторную группу от двух других.
Целью последних являются навыки внешнего (моторного) или
внутреннего (сенсорного) поведения, непосредственной задачей первых, а не
путем к ее разрешению, является организация зависимости между
этими обеими сторонами. Дело в том, что сознаваемые феномены и
движения не могут существовать отдельно и соединяются в общую видимую
систему поведения. Курица может бегать и видеть полосатых черно-
желтых гусениц. Но приобретенной реакцией является то, что, увидев
этих гусениц, она убегает.
4. Отсюда мы переходим к последней группе. Когда мы оказываемся
внезапно поставленными перед необходимостью разобраться в
незнакомой ситуации, то в большинстве случаев мы не в состоянии тотчас же
ответить на нее правильными действиями, вернее, мы подавляем непо-
. средственное действие и сначала обдумываем положение. Таким
образом, между действующей на нас ситуацией раздражения и ответной
реакцией на нее возникают промежуточные, феноменальные звенья,
которым вовсе не должны соответствовать реальные вещи, действующие
в данный момент на человека.
Опять грубый пример. Ребенок, находящийся один, видит блюдо
с лакомствами, он хочет к нему подойти, но тут вспоминает, что ему
запрещено самому брать сладости, он начинает колебаться, как поступить.
Если он оставит блюдо нетронутым, значит, его поведение в отношении
ситуации раздражения определилось возникшими переживаниями.
Такие промежуточные звенья играют все большую и большую роль
в процессе развития; в то время как первоначально реакция следует
тотчас же за раздражением, промежуточные звенья становятся с течением
времени все многочисленнее и важнее. Самые сложные наши
проявления основаны на их использовании. Овладение ими является,
следовательно, конечной задачей развития.
Благодаря этим промежуточным членам мы все больше и больше
освобождаемся от непосредственно действующей среды, благодаря им мы
достигли современной степени власти над природой. Воспитание также
включает в число своих главных задач развитие: самое важное из того,
чему мы учимся в школе, заключается отнюдь не в сумме позитивных
знаний, а в том, что мы учимся думать, что мы туда приходим получить
самостоятельность, в том, что мы дополняем непосредственно
существующую ситуацию правильными промежуточными звеньями.
Условимся называть четвертую область идеаторной. Здесь также не
так легко провести четкую границу, как это может на первый взгляд
показаться. Идеаторная область связана самым тесным образом с
сенсорной. Средство, которое делает нас независимыми от данного
восприятия, должно корениться в самом восприятии, оно приведет нас от одних
восприятий к другим. Это станет ясным в следующей главе при
установлении некоторых процессов, которые возникают уже в сенсорной
области и должны быть продолжены в идеаторной. В нашем изложении
мы до сих пор говорили о том, что ребенок должен овладеть теми или
другими новыми формами поведения, и умышленно выбрали для
этого недостаточно определенный термин. Из второй главы мы знаем, что
развитие может идти двумя путями — путем созревания с одной
стороны, и путем обучения — с другой. Для образования все новых форм
поведения мы будем иметь в виду обе возможности.
Несмотря на то что обучение является гораздо более действенным
процессом, гораздо более интересным для нас, мы не должны впадать
в ошибку, принимая все приобретенное за результат обучения.
2. О созревании и обучении.
Две проблемы обучения: память
и успешность
Остановимся на некоторых общих рассуждениях о созревании
и обучении. Созревание становится заметным в первые недели жизни,
прежде всего потому, что высшие отделы мозга постепенно
обогащаются новыми функциями. Это обнаруживается, между прочим, и в том,
что рефлекторная возбудимость, которая вначале очень слаба, также
усиливается благодаря созреванию, и через несколько недель,
достигнув своего максимума, начинает ослабевать.
Как только в рефлекторную деятельность включаются высшие
отделы мозга, старая, до сих пор действовавшая система, заменяется
новой, и деятельность этой новой системы совершенно отлична от старой.
Здесь не может быть и речи, как это практикуется до сих пор, о том,
что низшие рефлексы тормозятся большими полушариями, потому что
это означает, что старая система со своими функциями сохраняется
и к ней прибавляется только новая часть, характерным для которой
является торможение старых отправлений. Однако заторможенная
деятельность, так же как и процесс торможения, являются теоретическими
построениями. Фактически же наблюдается только изменение
действий, для объяснения которых эти построения излишни и даже вредны.
Все это достаточно убедительно показал К. Гольдштейн155.
Превращение рефлекса Бабинского в подошвенный рефлекс, о котором шла речь
в предыдущей главе, зависит от созревания этих частей. Если вследствие
болезни происходит крушение нервной связи между головным и
спинным мозгом (пирамидные пути), вместо подошвенного рефлекса снова
появляется рефлекс Бабинского.
Рефлексы дефекации также могут быть заторможены только тогда,
когда головной мозг достигает известной зрелости. У ребенка, у
которого большие полушария отсутствуют, никогда поэтому не достигается
это торможение. Эти действия сами по себе нельзя рассматривать
только как чистый результат созревания, тут уже требуется обучение.
Обучение, к которому мы теперь переходим, ставит нас перед
совершенно новой проблемой. Всякое обучение предполагает наличие
памяти; мы основываемся на том факте, что прошлое для всего
нашего организма не умирает, но сохраняется в нас в какой-то форме более
или менее полно. Если мы однажды разобрались в новой ситуации, если
мы однажды уже решили новую задачу, то наше поведение в такой же
или подобной ситуации будет значительно проще, будет легче решение
такой же или подобной задачи в следующий раз. Эта сторона
проблемы обучения преимущественно и занимала исследователей; в
многочисленных изысканиях различными методами стремились установить
законы памяти. Но необходимо остерегаться ошибки видеть в проблеме
обучения только проблему памяти. Дальнейшее рассуждение выдвигает
другую задачу не меньшей важности. Мы выше отметили, что память
проявляется в том, что раз совершенное действие для организма не
пропадает. Если такое действие относится к «врожденным», т.е. является
инстинктивным движением, то не всегда бывает так, что во второй раз
оно совершается легче и лучше, чем в первый. Инстинктивные же
действия с самого начала достаточно совершенны. И если, однако, удается
констатировать известное совершенствование таких действий, то мы не
имеем никакого основания говорить о памяти, — здесь может иметь
место процесс созревания. На протяжении этой главы мы еще увидим, что
на самом деле созревание деятельности вызывается его
функционированием.
Превосходство повторного действия над первоначальным
становится ясным только тогда, когда оно связано с большими или меньшими
трудностями. Приведем примеры из упомянутых выше четырех
областей: 1) мы с трудом можем обучиться плавать, но лишь только мы этому
научились, мы никогда не будем беспомощно тонуть в воде. 2) Если мы
однажды разгадали загадочную картинку, в следующий раз мы
справимся с задачей гораздо легче. Облегчается разгадка и в том случае,
когда приходится иметь дело с совершенно новыми картинками, подоб-
ными первой. 3) Если человеку однажды удалось перейти через воду по
стволу дерева, он в следующий раз в подобной ситуации не будет
колебаться, как поступить. Пример с обжегшимся ребенком, который мы
выше привели для этой группы, внешне выглядит иначе. Мы займемся
им позже. Если мне удалось в какой-нибудь области математики понять
доказательство, я буду гораздо лучше вооружен для преодоления
других аналогичных трудностей. Все эти случаи характерны для обучения.
Для всех них характерно, что первое совершенное действие является
определяющим фактором. Проблема обучения не может быть
сформулирована в вопросе: «как последующее действие зависит от первых?»
(это, собственно, является проблемой памяти), проблема обучения
включает и вопрос: «как же впервые образуются эти новые формы
деятельности?» Эту последнюю проблему мы будем в дальнейшем кратко
называть проблемой успеха действия156.
Это основное разделение еще до сих пор не получило в общей
психологии должного значения. Очень часто проблема обучения
отождествлялась с проблемой памяти, а проблема успеха не выделялась
как более или менее самостоятельная. Таким образом, критерием для
определения инстинктивного действия считалось то, что оно возникает
не на основе опыта. Согласно этому воззрению, то, что живое существо
совершает в первый раз в данной ситуации, может быть основано
только на врожденном задатке157. Мы считаем это необязательным,
склоняясь больше к мнению, что всякое действие предполагает обучение, что
характерными для живого существа являются как раз неврожденные
формы поведения. Ниже мы постараемся это раскрыть подробнее.
3. Принцип проб и ошибок.
Опыты Торндайка и механистическая
теория обучения
Мы сталкиваемся здесь с одной из важнейших проблем
сравнительной психологии. Разрешение ее обычно сводили к довольно простой
формуле — к принципу проб и ошибок, с которым мы сейчас
познакомимся. Но этот принцип не развязывает узел, а разрубает его: согласно
ему, «неврожденного» поведения вообще не существует,
следовательно, не бывает «первого» действия в смысле нового действия.
Это следствие важно иметь в виду при усвоении принципа проб
и ошибок. Мы будем исследовать конкретные факты, которые привели
к возникновению этого спорного принципа. Типичны для этого опыты
над животными, впервые проведенные Торндайком, а затем широко
практиковавшиеся в Америке158. Руководящей идеей является
следующая: животных, которых долгое время не кормили, помещают в запер-
тую клетку, перед которой находится пища, которую животное видит
(или наличие которой воспринимает иным путем). При этом наблюдают
поведение животного в такой ситуации, особенно то, как ему удается,
наконец, выбраться из клетки и достать пищу.
Рис.4
Клетка имеет дверь или соответствующее приспособление, которое
открывается, если животное выполнит определенное действие. Для
этого нужно потянуть книзу петлю или отодвинуть засов, или же
животное должно придавить какую-нибудь доску. Короче, животное должно
в результате своих движений овладеть механическим приспособлением,
которое поднимает затвор, так что каждое действие животного ведет
к тому, что дверь приоткрывается и выход из клетки становится
непосредственно доступным.
В каждом опыте может быть использован только один запор или
комбинация из нескольких. В последнем случае последовательность
действий, ведущих к открыванию двери, устанавливается таким
образом, что запор с не открывается без устранения запора Ь; последний же
зависит от запора а.
Торндайк, опыты которого мы проследим более тщательно,
прослеживал поведение кошек и собак, запертых в клетку, причем в клетке
было всегда только одно животное. Он наблюдал действия животного
и измерял время от начала опыта до момента, когда животное
освобождалось из клетки. После того как животное насыщалось, его опять
возвращали в клетку, и опыт начинался снова. Повторения производят
довольно продолжительное время, часто в течение нескольких дней,
до тех пор, пока животное не начинает тотчас же выходить из клетки.
Вследствие того, что при каждом отдельном опыте измеряется время,
которое животное находится в клетке, оказалось возможно построить
кривые, причем на абсциссе наносятся отдельные повторения опыта,
а на ординате время, соответствующее данному повторению. Бывает,
конечно, и так, что животному вообще никогда не удается выйти из
клетки.
Животное, попадая в клетку, проявляет, по Торндайку, признаки
неудовольствия и стремление освободиться. Выше мы уже приводили
относящуюся сюда выдержку из Торндайка. Происходит так, что
животное в своем неудержимом стремлении выбраться иногда случайно
производит движение, освобождающее ему выход. Животное, которое
ударяет вокруг себя лапой, тоже раньше или позже попадет в петлю или
на засов, которые заслоняют перед ним выход. В первый раз животное
освобождается благодаря движению, которое ни в коем случае не ново
и относится к его врожденным реакциям.
Если повторять все чаще и чаще этот опыт, то поведение животного
изменится; мало-помалу количество движений, не приводящих к
успеху, уменьшается, и, наконец, они совершенно исчезают, в то время как
«успешные» движения становятся все более совершенными и точными.
Оба обстоятельства влияют на кривую времени в одном направлении;
чем дальше, тем скорее животное выбирается из клетки. Таковы
фактические данные.
Как мы должны их толковать? Американская зоопсихология
гордится тем, что она выработала простую теорию. Эта теория прошла
различные стадии, некоторые из которых мы здесь приведем, сущность же
остается одинаковой с самого начала. Она заключается в следующем:
движение, благодаря которому животное в первый раз освободилось
из клетки, столь же мало явилось следствием определенного
сознательного намерения, как и в том случае, когда оно вполне овладело
механизмом. Изменение поведения, устранение нецелесообразных и
усовершенствование правильных движений происходит само собой без
какого-либо участия животного, которое не имеет ни малейшего
понятия о том, почему его поведение изменяется. Все происходит вследствие
механической необходимости, по которой успешные движения
сохраняются, а бесполезные постепенно исчезают.
Таков принцип проб и ошибок, или успеха и неудачи. Возникает
вопрос: каким образом удачные движения сохраняются в
противоположность неудачным. Первый ответ гласит: между ситуацией и удачными
движениями постепенно образуется прочная связь, ассоциация,
вследствие которой восприятие ситуации ведет к целесообразному действию.
Эта ассоциация образуется только между ситуацией и представлением
целесообразных, а не нецелесообразных движений, потому что первые
вызывают удовольствие, а вторые — неудовольствие. Такой вид
имела эта теория первоначально у Ллойд Моргана. На вопрос: как влияют
удовольствие и неудовольствие на образование или торможение
ассоциаций, который ставит себе Морган, он может ответить только следу-
ющими словами: «Я думаю, что на этот вопрос существует только один
честный ответ: мы не знаем этого»159.
В такой форме теория существовала долгое время. Бюлер применил
ее к объяснению дрессуры, о которой будет идти речь ниже. По его
мнению, вследствие удовольствия от успеха и неудовольствия от неудачи
образуется «точная, ясная и достаточно прочная ассоциация между
известными чувственными впечатлениями и комплексом движений,
ведущих к успешному поведению»160. Связь эта чисто ассоциативная, т.е.
чувственное впечатление вызывает движение, не возбуждая у
животного сознания «я должен» или «я хочу»161. По видоизмененной теории
Моргана, следовательно, ассоциация образуется непосредственно
между восприятием и движением без сознаваемых промежуточных членов.
Так понимал это Торндайк и пытался доказать это специальными
опытами. По первой его гипотезе у исследованных им животных
ассоциация заключается только в связывании чувственных впечатлений с
двигательными импульсами162. Рассмотрим значение слова «ассоциация».
Под ассоциацией понимают связь между процессами и притом связь не
врожденную, а приобретенную в течение жизни. Такое значение имеет
это слово у Моргана, точно так же, как и у Бюлера, когда он пишет:
«Легко понять, что дрессура... связана с «перепроизводством
движений», «бесцельными пробами», откуда возникает простор для
возникновения случая, ведущего к успеху, и что впоследствии этот простор
опять ограничивается и, наконец, совершенно уничтожается,
заменяясь определенной ассоциацией»163. Если понимать «перепроизводство»
так, что при этом возникают движения, не связанные унаследованными
путями с непосредственно данной ситуацией, то можно считать, что мы
имеем здесь действительно образование новых связей.
Однако Торндайк понимает это иначе. «Перепроизводство»,
согласно его пониманию, это только последовательное включение в
действие унаследованных путей. Животное, как мы уже видели, не делает
для своего освобождения ничего, что не относится к его инстинктам,
опирающимся, следовательно, на прочные унаследованные соединения
импульсов. Стало быть, по сути, не образуется никаких подлинно новых
связей. Весь эффект состоит в том, что из бесчисленного множества
существующих прочных связей между ситуацией и реакциями некоторые
сохраняются и укрепляются, другие исчезают. Несмотря на это,
Торндайк говорил еще тогда об ассоциации, что физиологически она не
может обозначать образование новой связи, а только проторение
определенного уже до этого существовавшего пути164.
Самое крайнее выражение этого мнения мы находим у Уотсона.
Этот автор убедительнейшим образом заявляет: не существует
образования новых путей; говорить об ассоциациях излишне. Задача совсем
не в том, чтобы устанавливать новые связи, а в том, чтобы сделать
выбор из существующих, уже потому, что бесцельные движения исчезают,
а успешные выступают в правильной последовательности165.
Уотсон самым неудовлетворительным образом объясняет причину,
обусловливающую выбор из существующих путей, фактор, влияющий
на постепенное исчезновение бесполезных движений простым и в то
же время грубым и наименее соответствующим естественным
представлениям способом166. Сохраняются те движения, которые производятся
наиболее часто при пробах; это те успешные движения, к которым
должен прийти каждый опыт, не кончающийся неудачей. Это происходит
оттого, что опыт кончается, как только выполнено правильное
движение. Если считать, что вначале вероятны все возможные движения в
любой последовательности, то правильное движение вдвое более
вероятно, чем каждое из остальных. Простой пример пояснит содержание
сказанного. Вообще возможны только два движения — А и В, которые
одинаково вероятны. В приводит к успеху, А — нет. Тогда ряд попыток
будет выглядеть так:
Там, где происходит А, должно происходить и В. Там, где имеет
место В в качестве первого члена, другое движение не последует, так как
В заканчивает попытки. Таким образом, В происходит в восьми
попытках не восемь раз, а только четыре раза, причем в качестве первых
членов; оба производятся с одинаковой частотой.
Этот закон частоты явился для Уотсона и других американских
авторов167 основным законом. Уотсон дополнил его малозначащим
законом новизны, по которому раз произведенное движение имеет
известное преимущество. Этим увеличивается вероятность возникновения
успешного действия, так как оно всегда завершает попытку и
предшествует началу следующей. Но первоначальный принцип объяснения
влияния удовольствия и неудовольствия на удачу и неудачу в дальнейшем
отпал. Оказалось, что удовольствие и неудовольствие не имеют ничего
общего с обучением, с образованием навыка168.
Вышеизложенная крайняя точка зрения большинством
исследователей не разделялась. Правда, всеми признается закон частоты или, как
Торндайк его называет, закон упражнения169. Но он не признается ими
достаточным для объяснения фактов. Отвергнутое Уотсоном
объяснение одним успехом поддерживается другими исследователями. Так, по
Бюлеру, факторами, влияющими на отбор движений у маленького
ребенка и животного, являются удовольствие и неудовольствие. «Успех
приносит удовольствие, которое обусловливает частое повторение
удачного движения, а благодаря частому его повторению, оно прочно
и длительно запечатлевается. Неудача, напротив, влечет за собой
неудовольствие и не приводит к повторению, так что нецелесообразные
движения не запечатлеваются и поэтому исчезают»170. Запечатлевание
и здесь объясняется частотой, которая, в свою очередь, вызывается
удовольствием. Это кажется, на первый взгляд, слишком
элементарным, однако трудности обнаруживаются при рассмотрении
конкретного случая, например, в упомянутом опыте над животными. Зависимость
между движением и удовольствием не так велика, как это может
показаться, исходя из этого воззрения. Например, кошка освобождается из
клетки благодаря тому, что кусая прутья решетки, она делает головой
такое движение, которое случайно приводит в движение механизм,
освобождающий ее из клетки. Следующее за этим удовольствие,
вызываемое освобождением, должно привести к повторению такого же
движения, но оно должно быть произведено точно в таком же положении и на
том же самом месте. В противном случае движущаяся голова совсем не
коснется рычага, который открывает путь к свободе, или повернет его
не в том направлении. Как же удается животному принять точно
такое же положение? И дальше: наблюдение показывает, и это особенно
подчеркивает Гобгауз, что животное далеко не всегда повторяет то же
самое движение, но часто только то же самое действие. Так, кошка,
однажды освободившаяся благодаря тому, что она оттянула лапой петлю,
в другой раз уже оттягивает ее зубами171.
В новых и очень тщательных опытах Адамса, которые являются
повторением опытов Торндайка, это изменение формы выполнения
является правилом. «Вариации сохранились и после того, как время
исполнения достигло низкого и относительно постоянного уровня»172. Мы
можем продолжить эту аргументацию дальше: если мы
последовательно будем развивать точку зрения Бюлера, то, строго говоря, движение
должно быть повторено точно так же, как при первом успехе. То
обстоятельство, что такое точное, я сказал бы, фотографическое повторение
движения имеет место только в одном-единственном случае,
конечно, не служит доказательством, и попытка обосновать это положение
должна потерпеть неудачу. В очень возбужденном поведении животно-
го существует так много элементов движений, что одна и та же
последовательность движений для образования привычки никогда не может
быть установлена прежде, чем животное овладеет своей задачей. Когда,
в нашем примере, животное производит решающее движение головой
во второй раз, оно находится уже в несколько отличном положении
и поэтому должно совершить другое движение для достижения успеха.
С простым повторением движения, которое приводит к удовольствию,
оно, следовательно, не имеет ничего общего.
Эта теория наталкивается еще на одну трудность, на которую,
прежде всего, и указали ее противники. Удовольствие, которое
сопровождает правильное движение, должно иметь силу обратного
действия, и абсолютно невозможно предвидеть, в каких пределах оно
может действовать в обратном направлении. В промежутке между
правильным критическим движением и удовольствием заключаются
и другие движения, по крайней мере частые действия, ведущие к цели.
Почему именно одно критическое движение закрепляется из этой
гипотезы —- не ясно. Из такого хода мысли вытекает, что удовольствие
является не в результате всего произведенного движения, а в
результате завладения и съедания пищи? Так как удовольствие может
возникнуть гораздо позже движения, между ними могут быть
произведены многочисленные неправильные движения; в том случае, например,
когда запор клетки, из которой животное хочет освободиться,
состоит из нескольких частей, преодоление первого запора в данном случае
ни к чему не приводит, повлечет за собой удовольствия. До тех пор,
пока не устранены остальные препятствия, животное совершает
много неправильных движений, и все же первое движение оно научается
проделать правильно. Если удовольствие от пищи является причиной
того, что движения, которые усваивает животное, закрепляются,
нужно думать, что это влияние тем сильнее, чем скорее следует за
движением удовольствие173.
До сих пор мы еще не подвергали критике закона частоты. Не
трудно доказать, что указание на очевидность, с которым мы выше
познакомились, само по себе недостаточно. Простое опровержение этого
дает Торндайк174. Вся дедукция предполагает, что животное
производит каждое движение только один раз, а затем переходит к новому. Но
это ни в какой мере не соответствует фактам. Животные очень часто
повторяют безуспешные движения много раз, прежде чем изменить их.
В таком случае из простой частоты вытекает прямо противоположное.
Рассмотрим снова только две возможные реакции: А —
безрезультатную и В — успешную. В не может быть повторено, так как первое В
ведет к успешному решению задачи; очевидно, что А будет происходить
гораздо чаще. Обратимся снова к приведенной выше схеме; предполо-
жим, что только А будет повторяться три раза. Тогда мы получим
следующую картину.
А происходит 12, В только 8 раз и притом, согласно теории, уже в
течение последнего ряда А предпочитается В. Отношение сдвигается еще
больше в пользу А. Этот аргумент достаточен для доказательства, что
закон частоты, во всяком случае, не может объяснить самого обучения.
Этот закон мы рассмотрим ниже. Покажем, однако, как Торндайк
заполняет этот пробел. Он заменяет закон упражнения законом действия175.
• Если реакция приводит к успеху, к «состоянию удовлетворения», то
связь, в результате которой возникла эта реакция, укрепляется; если она
приводит к неудовлетворению — связь ослабевает. Это есть не что иное,
как старый принцип влияния удовольствия и неудовольствия, который
Торндайк теперь сводит к первичной, врожденной тенденции, не
подкрепив, однако, этим основное положение этого принципа. Почему этот
принцип действует, известно теперь так же мало, как и раньше. При этой
теории вопрос, однако, отпадает, так как он относится к врожденным
задаткам индивидуума.
Ясно, что те же возражения, которые мы выше приводили против
формулировки Бюлера, могут быть направлены также против принципа
Торндайка, если понимать его буквально, со всеми вытекающими
следствиями, которые автор вводит для объяснения обучения у своих
животных. Мы продолжим эту критику, предварительно отметив следующее:
мне кажется, что сам Торндайк не довольствуется больше
механистической тенденцией, определяющей его теорию, и пытается преодолеть ее
именно своим законом действия. Потому что Торндайк рассматривает
развитие как этический факт, и эту возможность этического прогресса
он относит к закону действия. Человек изменяется, потому что он
недоволен собою. В нем безграничная энергия — стремление к
совершенствованию. «Эта энергия — стремление к совершенствованию,
стремление измениться в смысле самоудовлетворения, способность, выражен-
ная законом действия — основной принцип разума и права в мире»176.
Именно потому, что в дальнейшем мы будем вынуждены занять
критическую позицию, направленную против Торндайка, мне кажется
правильным упомянуть здесь и об этой тенденции его теории.
4. Критика теории Торндайка.
Лаже в своих попытках животные не ведут
себя бессмысленно
Вернемся снова к его теории обучения, по которой движения, так
сказать, «сами собой» усваиваются, совершенно без участия в
обучении животного, которое даже не знает, что критическое движение
принесет ему пищу и свободу. Это воззрение на поведение животного
лежит в основе всей теории, которую мы должны рассмотреть в
первую очередь.
Торндайк выводит доказательства для своих радикальных
положений из двух основных групп фактов — из кривых времени и ошибок.
Кривые времени, общий принцип которых уже описан выше, построены
так, что 1 мм на ординате соответствует 10 сек. Маленькие черточки под
абсциссой показывают перерывы в опыте, если наблюдения
производились в течение целого дня. Если речь идет о нескольких днях, число дней
указано у черточки, если же о часах, то указано число часов и помечено
соответствующей буквой.
i" " I
18
Типичную картину дает кривая (рис. 6), на которой кошка пыталась
освободиться путем перемещения подвижного деревянного кольца из
горизонтального в вертикальное положение (запор, который виден на
приведенном выше изображении клетки спереди на двери).
Торндайк приводит следующие рассуждения: если животные
обладают хоть следами разума, то может случиться, чтобы животные,
освобождавшиеся уже несколько раз, в дальнейших опытах не
воспроизвели то, что уже многократно ими наблюдалось, а наоборот, жи-
вотное, которое действительно однажды овладело ситуацией,
должно вследствие этого и впредь без замедления прийти к правильному
и четкому решению.
Это должно обнаружиться в резком падении кривой времени, и это
падение должно быть длительным. Однако кривые времени выглядят
совершенно иначе. В действительности имеет место постепенное
снижение с многочисленными обратными подъемами. Поскольку этот
аргумент направлен против попытки объяснения действий животного
с помощью кабинетной психологии, он правилен. В этих опытах
животные не обнаружили «дискурсивного мышления». Но следует ли из
отклонения такого антропоморфического образа мышления признание
того, что осмысленность действий здесь полностью отсутствует?
Вначале многие кривые дали ожидаемое Торндайком резкое падение. Мы
приведем еще две кривые, которые относятся к той же проблеме, что
и первые (рис. 6).
Здесь мы имеем резкое падение и, более того, после длительных
перерывов кривая больше не поднимается, что также противоречит закону
упражнения, так как длительный интервал должен ослабить связь.
Нужно ли исходить из таких случаев и основываться на внезапном эффекте
обучения? Сам Торндайк считает такие внезапные успехи характерными
для обучения обезьян. Но постепенное спадание кривой обучения,
которое встречается в первых опытах, кажется ему настолько показательным,
что он определяет внезапное обучение кошек следующими словами: «там,
где действие очень просто, вполне возможно н образование ассоциации
после единственного опыта; тогда мы имеем внезапное падение кривой
времени, не наблюдая каких-либо умозаключений у животного»177. Это
положение, однако, не безупречно. Простое, очевидное и ясно
определенное решение — такое описание пригодно для экспериментатора, но
не для самого животного, которое, по предположению автора, остается
совершенно безучастно, оно не понимает решения, даже когда
овладевает им; поэтому не имеет никакого смысла говорить, что «решение
очевидно для животного». Кривые времени, которые мы получили, доказывают,
что различные животные ведут себя различным образом в одинаковой
ситуации. Но Торндайк не может ссылаться на индивидуальные
различия, так как индивидуум из его теории исключен. Легко, очевидно,
должно означать для Торндайка только: «объективно» легко и т.д., но «не
легко для данного животного». К тому же, — и это особенно подчеркивает
Адаме, — кривые времени не представляют собой однозначного
воспроизведения процесса обучения. Потому что ни в коем случае невозможно,
чтобы кошка с момента, в который она посажена в клетку, до момента
своего освобождения производила только такие движения, которые в
результате привели бы к успеху178. Упускается из виду тот факт, что в этих
опытах вообще возникают внезапные падения кривой времени, так как
нередко достаточно только одного единственного опыта для того, чтобы
животное овладело поставленной задачей. Этот факт не соответствует
закону частоты, который требует даже при самых объективно легких
задачах длительного и постепенного процесса. Из большого числа вначале
одинаково возможных движений всегда должно быть выбрано
единственное. Вместо того, чтобы служить объяснением, закон действия, как
мы уже видели, сам нуждается в объяснении. Ничего исключительного
нет в том, что животное усваивает действие после того, как оно
производит его только один раз. Еще Ллойд Морган встречался с такими
случаями в своих наблюдениях над птицами. Он сообщает о таком случае:
он держал цыпленка в своем кабинете, но посадил его в загон из газеты.
Цыпленок проклевал уголок газеты так, что смог проникнуть в
комнату. Будучи пойман и водворен на место, он снова проклевал угол газеты
и вышел во второй раз. Тогда его посадили в противоположный угол
загона, но он очень скоро перешел к прежнему углу и выбежал таким же
образом в третий раз179.
В этом случае особенно чувствуется противоречие в теории
Торндайка. Человеку приходит в голову бессмыслица, что одергивание
газеты не должно быть у животного связано с освобождением, и тот факт,
что цыпленок в третий раз прибежал в данный угол, с точки зрения этой
теории истолковывался только как случайное вследствие того, что
слепо, чисто механически изучается отдельно движение сдергивания, но не
учитывается приближение к определенному углу.
Сделаем выводы. Положение, что животные при обучении
совершенно слепы, недостаточно подтверждается кривыми времени. До-
вод, касающийся ошибок, мы уже рассмотрели. Животные, которые
один или несколько раз выполнили какое-нибудь действие, ошибаются
и в следующий раз, чего не могло бы быть, если бы они
действительно поняли действие. «Бессмысленные ошибки», употребляя выражение
Келера, наблюдаются и тогда. Кошки ударяли по петле или рычагу
после того, как дверь была уже открыта, или когда на том месте, куда они
ударяли раньше, было приспособление, назначенное для удара, которое
потом было удалено180. Вытекает ли из этого бессмысленного действия
чисто механистическая теория? Этот вопрос ставится здесь с тем
большей остротой, что к нему присоединяется еще и другой: организовал
ли экспериментатор условия опыта так, чтобы животное вообще могло
действовать осмысленно?181 Если мы рассмотрим изображение клетки,
то должны будем ответить отрицательно на этот вопрос. Даже
человек, не знакомый с техникой в настоящем смысле, не может овладеть
механизмами внутренней части клетки. Часто существенные части
механизма расположены вдоль клетки извне, невидимы для животного,
и в большинстве случаев зависимость между движением и эффектом по
необходимости остается для животного чисто внешней. Но и там, где
это не так, например, при простом запоре, вращающимся кольцом,
который дает такие хорошие кривые времени, ставил ли себе
экспериментатор вопрос о том, понятен ли животному этот запор? Прежде чем это
будет известно, нельзя различить, где в поведении животного имеются
действительные затруднения и где действия, направленные на решения.
В связи с этим нужно отметить, что бессмысленные ошибки не
возникают тогда, когда условия опыта не способствуют им. В остроумно
построенном опыте Хиггинсон тренировал мышей в лабиринте с
тупиками путем 100-кратного повторения. Так как мышам в среднем
достаточно было 25 повторений для изучения лабиринта, этот навык должен
был благодаря повышенной дрессуре быть особенно сильным. После
такой дрессуры была открыта в лабиринте дверь, позволявшая мышам
достигнуть ящика с пищей кратчайшим путем. Из девяти участвовавших
в опыте животных пять выбрали сразу этот укороченный путь,
остальные сделали то же самое через короткое время182.
Опыты Торндайка над обезьянами в основном привели его к тем же
выводам, что и опыты над собаками и кошками. Но материал для
доказательств здесь другой, так как кривые времени у обезьян показывают
спадание, соответствующее внезапному, резкому обучению, и
бессмысленные ошибки не наблюдаются. Главные доводы Торндайка за
положение, что обучение обезьян также слепо, основываются на
безрезультатности помощи и отсутствии подражания. Вернемся теперь к более
простым опытам, так как это мы будем обсуждать в следующей главе.
Прежде чем продолжать нашу критику, мы включим еще несколько
фактов, обнаруженных в опытах Торндайка, подтвержденных другими
исследователями. Установлено, что животные, которые однажды вели
себя с успехом, в сходных опытах с отдельными измененными
условиями лучше выполняют опыт, чем животные, подвергшиеся опыту
впервые.
Это отчасти происходит потому, что новая ситуация — оказаться
запертым в клетке, постепенно перестает вызывать страх, животное
становится менее возбужденным и поэтому совершает меньше
бесцельных движений. Разница между первой из приведенных кривых времени
и двумя другими, относящимися к той же задаче, может быть
обусловлена этим влиянием. Первая кривая изображает опыт с деревянным
повертывающимся кольцом, произведенный над животным, впервые
подвергшимся эксперименту. Оба других животных уже подвергались
эксперименту в другой клетке, причем одно из них должно было
привести в движение находящуюся почти в 15 см над землей проволочную
петлю путем ударов, кусания или трения183.
Наряду с таким общим воздействием обнаруживаются еще и другие,
более специфические. Приемы, не приводящие к успеху, такие как
кусание прутьев решетки, стремление пролезть через маленькие отверстия,
становятся все реже, что также вполне понятно по теории Торндайка.
Благодаря этому, конечно, кривая обучения должна сократиться.
Иначе обстоит с изменением, о котором сообщает Торндайк:
«Стремление животного направить свое внимание на то, что оно делает,
усиливается, и это, собственно говоря, можно назвать изменением степени
участия интеллекта»184. Как это совместить с утверждением, что
животные не имеют ни малейшего представления о том, что их движения имеют
отношение к успеху? Почему же они направляют свое внимание на это?
И главное, почему Торндайк употребляет здесь слово интеллект?
Факты ведут нас еще дальше. Кошки и собаки, научившиеся в
первой клетке освобождаться путем ударов по висящей на передней стенке
петле, требуют гораздо меньше времени в другой клетке с петлей на
задней стенке. Собака была посажена после этого, с промежутком времени
в один день, в такую же клетку, в которой петля находилась
значительно выше. Решение последовало тотчас же (первые три опыта
продолжались 20, 10, 10 сек.). Спустя девять дней был поставлен новый опыт;
вместо петли теперь висела маленькая квадратная дощечка, не имевшая
никакого сходства с петлей; три первых опыта длились 10, 7 и 5 сек.
Мы наблюдаем, таким образом, настоящие «перенесения», — опыт,
приведший его к успеху в определенных условиях, применяется
животным в измененных условиях с соответствующим приспособлением
к ним. Это является трудностью для грубо механистической теории.
Торндайк надеется, между тем, преодолеть и ее, не отступая ни на йоту
от своей теории. Он справедливо выступает против устаревшей теперь
психологии, которая из таких наблюдений пыталась заключить, что
животное владеет общими понятиями и должно, следовательно,
понимать, что удар по петле, например, приводит к успеху; этот предмет есть
петля (внешняя форма петли во многих опытах изменялась, не влияя на
эффект упражнения), поэтому следует одинаково ударять по ней, все
равно, висит ли она спереди или сзади, высоко или низко. Против этой
ложной теории, как я уже сказал, выступил Торндайк. Но при этом он
сам не заметил, что означают на самом деле эти перенесения. Он
изображает поведение животного следующим образом: животное не
различает отдельных предметов нашего мира, а имеет неопределенное общее
впечатление от ситуации. Птица, погружающаяся в желтую воду ручья,
в реку или открытое море не видит, подобно нам, разницы между
этими тремя случаями, для нее существует только общая ситуация «вода».
В применении к этим опытам: «петля для кошки то же, что для человека
море, если бросить его туда в полусонном состоянии»185. Для
человека, поставленного перед задачей, общая ситуация разлагается сразу на
элементы, наиболее важные из которых выступают на передний план.
У животного отсутствует это разложение, вся ситуация, включающая
и недоступные части, связывается с импульсом, и эта связь не зависит
от прибавления или удаления элементов ситуации, при условии, если
остается что-нибудь, вызывающее импульс, Факт перенесения, таким
образом, свидетельствует не о развитом интеллекте, но, в
противоположность ему, об очень примитивной и мало дифференцированной
ступени в развитии психики.
Эта аргументация, по-видимому, содержит в себе противоречия.
Во-первых, общая ситуация со всеми своими элементами должна быть
связана с импульсом; во-вторых, можно, по желанию, усложнять
и упрощать ситуацию; в-третьих, согласно выше приведенному
положению, какой-нибудь элемент должен остаться неизмененным для
того, чтобы сохранилась связь. Мы не склонны возвращаться к этой
теории, против которой выступил Торндайк. Мы также не думаем, что
отдельные, четко разграниченные друг от друга феномены
составляют начальную ступень феноменального мира. Но нет необходимости
присоединяться ни к старой теории, ни к теории Торндайка.
Неопределенная общая ситуация не есть структура, даже самая примитивная.
Наши примитивнейшие структуры являются «качеством на
однородном фоне », а не только диффузным качеством целостности. И эта
диффузная целостность является также непригодной для объяснения
правильных перенесений. Это предположение было бы гораздо
правильнее, если бы мы имели только бессмысленные ошибки. Если в клетке,
в которой петля раньше висела спереди, а теперь висит сзади, живот-
ное будет руководствоваться неопределенной ситуацией, оно должно
сначала ударять по тому месту, где раньше висела петля, тем более что
натуральному поведению свойственно прямо направляться к цели и от
нее не уклоняться186. Но животное не следует естественной тенденции
направить свое внимание на переднюю стенку клетки, а изменяет свое
поведение в соответствии с изменением главных элементов ситуации.
Не напрашивается ли такое заключение: научившись освобождаться
из первой клетки, животное тем самым научилось в большей или
меньшей мере структурно воспринимать ситуацию; сходная структура
становится снова действенной, когда в другой клетке петля помещается
на новом месте. В этом существенное отличие бессмысленных ошибок,
действий, выполняемых независимо от данной структуры — когда
животное ударяет по тому месту, где уже больше не висит петля, от
настоящих перенесений. Как те, так и другие ни в малейшей степени
не являются полезными действиями. Во всяком случае, недостаточно
определять положительность эффекта через указание на отсутствие
какого-нибудь отрицательного действия. Методически необходимо,
чтобы сам опыт ясно показал, является ли действие животного
активным продвижением вперед или свидетельствует о чисто
отрицательном характере актов. Уже опыты Торндайка показывают, что
животное не только переживает определенную диффузную ситуацию, но
благодаря обучению, образуется начало расчленения в самой
ситуации. Петля выделяется; она, конечно, не представляется такой, как
мы ее видим — круглой или эллиптической, определенной величины
и окраски, но она есть «вещь для ударов» или «вещь для движений»
и является центральным пунктом всей ситуации. Ситуация в основном
означает собой для животного следующее: «положение, из которого я
должен проникнуть наружу к лежащей там пище». Если петля в такой
ситуации занимает центральный пункт, то сама петля и направленные
на нее движения не являются бессмысленными. Животное как-то
связывает это действие с находящейся снаружи пищей. Теория
совершенно бессмысленного обучения оказывается несостоятельней.
Мы сказали: петля становится «вещью для движения». Мы
имеем здесь феноменальное описание, напоминающее о сказанном выше.
В предыдущей главе мы обсуждали различие между «преходящей»
и «конечной ситуацией». Начиная обладать этим качеством, для
которого К. Левин употребляет выражение «побуждающий характер вещи»,
петля получает вспомогательное значение в ситуации, в которой
находится животное. Она приобретает это новое значение; стимул, раньше
возбуждавший одно состояние, возбуждает теперь, в результате
обучения, совершенно новую систему переживаний — сама петля
мало-помалу перестает быть центром ситуации.
Мы не будем здесь останавливаться на опытах, из которых ясно, что
ни простая ситуация, ни простое проторение установленной связи не
может служить достаточным основанием для объяснения.
Мы будем ниже принципиально возражать против гипотезы
ассоциаций, так что здесь можно вполне отказаться от этого обсуждения.
Но мы все же достигли важного результата: тем, что петля приобретает
определенное значение, мы получили нечто совершенное новое.
Вообще: обучение в опытах Торндайка приводит в сенсорной области к
новообразованиям10).
В доказательство того, что мы не навязываем фактам чуждое им
толкование, мы укажем в опытах Торндайка еще на один существенный
момент. Кроме описанных, были произведены другие, существенно от
них отличающиеся опыты над семью кошками. В этих опытах животное
было не в состоянии самостоятельно освободиться, и экспериментатор
сам должен отворить клетку, как только кошки начинают облизываться
(четыре животных) или царапаться (три животных). Этот опыт удавался.
«Любопытно узнать, ведут ли себя животные в этом случае как-нибудь
иначе, чем в только что описанных, так как это является решающим
экспериментом»187. Так это было на самом деле. Во всех таких случаях
наблюдается явная тенденция, причины которой я не знаю, редуцировать
действие, пока оно не становится простым следом облизывания или
царапанья. Далее, если кошку не выпускать после такой слабой реакции,
она не повторяет это движение тотчас же, как это происходит, когда
она, например, безуспешно ударяет по ручке. Причина этого различия
мне также неизвестна»188.
Келер справедливо указывает на то, что это одно из самых
интересных данных Торндайка. Мы можем это формулировать так. Поведение
животного, когда движение, которым оно хочет достигнуть свободы,
объективно совершенно бессмысленно, не имеет никакой внутренней
связи с освобождением, характерно отличается от того, когда движение
прямо приводит к успеху, даже тогда, когда оно недостаточно четко.
И различие в поведении соответствует различию условий. Это различие
становится понятным, если предположить, что критическое движение
в обоих случаях по-разному связано с ситуацией. Таким образом, для
достижения успеха движение для животного должно быть вообще
связано с ситуацией; утверждение, что животное обучается совершенно
неосмысленно, должно быть отвергнуто.
Это положение подтверждается также новыми опытами В. Мак Да-
уголла. Этот исследователь ставил перед собакой в клетку пищу и
запирал крышку, которая открывалась сравнительно легко, нажатием на
ручку. В дальнейшем были введены новые усложнения, которые все же
были гораздо проще приспособлений в клетках Торндайка. Мак Дау-
голл характеризует действия собаки следующим образом: «Поведение
собаки было с самого начала целеустремленным... цель, в особенности,
ведущие к цели шаги, становятся тем определеннее в сознании
животного, чем лучше оно овладевает задачей. Это положение основано на
наблюдающемся в таких случаях выразительном поведении и
опирается, между прочим, еще и на то, что собака никогда не повторяет точной
последовательности движений, но пополняет каждый раз новыми
движениями одно и то же действие»189.
Но лучшее подтверждение получает наше толкование опытов Торн-
дайка благодаря многократно упоминавшемуся исследованию опытов
Адамса. Из выводов, из обсуждаемых экспериментов я приведу еще
одну цитату: «Вообще говоря, обучение нельзя представлять себе как
постепенное выключение бесполезных движений ». Теоретически Адаме
тесно примыкает к Тольману, который резюмирует свой богатый опыт
по обучению животных в следующих словах: «Всякий процесс обучения
есть процесс разрешения проблемы»190.
5. Сравнительные опыты Ругера над людьми
Мы можем дополнить наши рассуждения следующим вопросом: как
ведут себя люди, поставленные перед такими же задачами? Этот вопрос
также был исследован в Америке, и вполне понятно, что H.A. Ругера191,
который занялся этой проблемой, побудили к этому опыты над
животными, которые он проводил под руководством Торндайка. Понятно, не
было необходимости запирать людей в клетки и принуждать их к
действию стремлением к пище и свободе.
Добрая воля, подкрепленная честолюбием, удовлетворенным
правильным решением задачи, поставленной экспериментатором,
заменяет для человека элементарные двигательные импульсы. Задача
заключалась в решении механических головоломок. Испытуемый получает
проволочную головоломку и должен вынуть из нее какую-нибудь часть.
Время с начала эксперимента до решения измеряется, опыт снова
повторяется при условии измерения времени, до тех пор пока не
возникает решение. Для опытов употреблялись одетые одно на другое кольца,
звезды и т.п., в которых испытуемый должен был найти звено,
вынимающееся из головоломки, и догадаться, как его вынуть. Эти опыты имеют
большие преимущества перед опытами Торндайка над собаками и
кошками, так как здесь задача гораздо определеннее, чем у животных, перед
которыми стояла одна цель — выйти из клетки. Но между этими
опытами над человеком и животными есть большое сходство в том отношении,
что чисто рассудочное поведение невозможно ни там, ни здесь.
Особенно сильно влияет в этом отношении то, что решаемые головоломки
трехмерны, и по отношению к ним способности большинства испытуе-
мых оказываются недостаточными. Все же мы знаем, что человек хочет
понять, что понимание является такой же целью, как и самое решение,
в то время как животное стремится только выйти из клетки. И однако
опыт, посредством которого люди приходят к решению, в этих случаях
очень часто похож на поведение животного в опытах Торндайка.
«Время, потребное для несколько раз повторяющихся решений, остается
часто продолжительным и колеблется; время позднейших опытов данного
ряда часто бывает более продолжительным, чем при первом успешном
решении... Во всех случаях фактически имели значение случайные
движения, во многих случаях они играли даже очень значительную роль
на пути к успеху»192. Наблюдаются, конечно, и правильные
интеллектуальные попытки и связанные с ними резкие и стойкие падения кривой
времени, но они не являются правилом, так что поведение может быть
настолько «бессмысленным», что действия, которые вообще не
приводят к изменению ситуации, повторяются случайно, без конца и без
изменений. Уже из этого можно видеть, как поспешны заключения
Торндайка. Главными его доводами являются кривые времени и
бессмысленные ошибки; его заключения должны, следовательно, распространяться
также и на людей; возможно, что кто-нибудь будет настолько бездарен
для таких задач, что его движения ничего общего не имеют с
решением — это он знает. Если человек в данных опытах во многих отношениях
подобен животным, то нельзя даже для животных выводить такое
крайнее заключение.
Опыты над людьми имеют большое преимущество перед опытами
над животными тем, что объекты исследования могут сами сообщать
нам, как им представляется процесс, короче, тем, что мы можем
получить более или менее полные сведения о внутреннем поведении, а не
основываться только на истолковании фактов. В частности, мы
спрашиваем: в чем заключается обучение в этих опытах? И заранее
отвечаем: обучение в этих опытах наряду с простой выработкой обычной
ловкости есть, в сущности, организация всего поведения. Мы исключаем
здесь некоторые случаи, в которых с самого начала решение
достигается благодаря чисто мыслительной деятельности, и проследим
несколько подробнее этот процесс организации. Успешное движение, даже
случайно совершенное, имеет своим первым следствием то, что
направление, в котором производится действие, или особый характер
движения, выделяется и становится центром опыта. В очень многих случаях
это сводится к простому «анализу места», т. е. испытуемому становится
теперь известно, в каком направлении действовать. В результате —
резкое падение кривой времени или длительности. При этом имеет место не
постепенное отбрасывание нецелесообразных движений, а сразу же
отпадают многочисленные движения, совершаемые при неудачном опыте.
Ругер справедливо указывает на то, что многие резкие колебания
кривой времени у животных могут быть вызваны этим фактором. То, что
действительно для этого простейшего случая, применимо также и к
более сложным. Новые вариации успешных движений происходят
гораздо чаще неожиданно, случайно, нежели намеренно. Но влияние этих
вариаций на кривую времени зависит непосредственно от
сознательного их применения. Индивидуум только тогда действительно овладевает
движением, приводящим к успеху, только в том случае он применяет его
в следующий раз, если значение его воспринято сознательно. Чем выше
понимание, тем значительнее его влияние. Даже те процессы, которые
не связаны с моторикой, важны для определения действий животного.
Это понимание будет описано подробнее. Оно ни в коем случае не
является процессом, ограничивающимся представлениями человека;
оно может целиком отражаться и на самом феномене восприятия.
Материал восприятия претерпевает молниеносное и исключительно
энергичное превращение, которое состоит не в том, что к нему
присоединяются представления. Это, конечно, влияет на моторную область,
действие соответствует вновь образовавшемуся полю восприятия и имеет
место организация перцептивной и моторной сторон поведения. Оно
может обладать различной степенью совершенства: на нижней ступени
весь процесс остается рядом произвольно следующих один за другим
шагов; единство гораздо больше, когда эти шаги следуют в некотором
ритме друг за другом. Высшей ступенью является действие, от начала до
конца пронизанное единым смыслом.
Мы заключаем из этого, что и в опытах над животными существует
в какой-то мере некоторая организация, а не просто внешняя
последовательность.
Перенесение, т.е. успешное применение усвоенного в известных
условиях способа в измененных условиях, есть всегда осмысленное
перенесение, предполагающее понимание. Интересный опыт подтверждает
это положение с отрицательной стороны. Одна испытуемая подверглась
опыту с головоломкой; затем все отдельные действия, необходимые для
решения загадки, были ей полностью сообщены в соответствующей
последовательности, и затем головоломка была снова предложена в той же
форме, как и в первый раз. Испытуемая не узнала, что производившиеся
ею движения имели какое-нибудь отношение к головоломке, и не
применила их для решения. Это тоже служит доказательством того, что
организация охватывает моторную и перцептивную области.
Напротив, чаще можно наблюдать, что определенные навыки
легко продолжают действовать и тогда, когда испытуемая понимает, что
данное действие бесполезно для решения новой задачи. Эта
«тенденция к персеверации» заслуживает полного внимания как в отношении
сказанного, так и в отношении подлежащих рассмотрению опытов над
животными.
Благодаря этим опытам мы получили данные о поведении людей
в ситуациях, более или менее им непонятных. Оказалось, что
совершенствование действия идет рука об руку с усилением разума. Мы
употребляем здесь это слово без теоретических предпосылок, в общепринятом
смысле. Поведение каждого, кто знает, что «здесь должно быть вынуто
кольцо, для этого я должен подвинуть эту часть, затем ту, потом
повернуть так и т.д., мы назовем более разумным, чем поведение человека,
который без всякого плана вертит головоломку в разные стороны. Если
же человек знает, что «кольцо определенным образом сцеплено с
такими-то частями, эти, в свою очередь, таким-то путем скреплены между
собою и т. д», то его поведение можно считать еще более разумным. Но
условия в этих опытах намеренно настолько приближены к опытам над
животными, что понимание при неразумном поведении возникает
благодаря тому, что случай приводит к успеху.
6. Разумное обучение животных.
Опыты Келера с шимпанзе
Удается ли провести такие опыты, в которых разум проявляется
независимо от случая, и был бы совершенно отличен от неразумного
поведения? Больше всего для проверки этого подходят опыты над
животными и детьми. Мы, взрослые, приносим целый ряд уже готовых
методов для решения поставленных перед нами задач, которые мы должны
только перенести в опыт в готовом виде. Но как эти методы впервые
образовались в данном опыте, установить невозможно.
Задачи же, при решении которых неприменимо перенесение, мы
с трудом можем подобрать, так как такие задачи настолько трудные,
что с ними невозможно проводить никаких опытов.
В опытах над животными нужно в соответствии с характером
задачи начинать с таких животных, от которых можно ожидать
относительно лучших решений. С этой точки зрения выбор, без сомнения, падает
на человекоподобных обезьян. Прусская академия наук поступила
правильно, основав на острове Тенерифе свою собственную станцию для
наблюдений за животными. И В. Келер, руководитель этой станции,
посвятил рассматриваемой проблеме главную часть своей работы.
В своей необыкновенно интересной книге, которую необходимо
основательно изучить всем занимающимся проблемой человеческого
интеллекта, он не только изложил исключительно ценные для науки
данные, но изобразил также жизнь шимпанзе, которую ему пришлось
наблюдать193.
Если у шимпанзе удается установить «действительно» разумное, не
случайное решение новых задач, то такое поведение шимпанзе должно
бросить новый свет на сущность самой проблемы разумного поведения.
То, что у нас стало привычным, пластично выступает там с особой
рельефностью; наиболее простые интеллектуальные акты становятся
доступными научному наблюдению и эксперименту.
Мы подробно займемся опытами Келера, т. к. они особенно важны
для понимания и решения нашей основной проблемы, проблемы
обучения вообще и вопроса происхождения первого успешного решения
задачи и, в частности, нашей «проблемы успеха» (ср. выше).
Мы ставим, следовательно, вместе с Келером, такой вопрос:
действуют ли шимпанзе разумно? Принцип исследования Келера был
следующий: «экспериментатор создает ситуацию, в которой прямой путь
к цели негоден, но которая оставляет свободным обходный» путь.
Животное помещается в эту ситуацию (по возможности), вполне
доступную наблюдению, и можно обнаружить, до каких границ
сложности может быть адекватен его тип поведения и особенно:
оказывается ли оно в состоянии решать задачу, используя непрямые, обходные
пути»193а. Критерием разумности здесь служит способность
животного самостоятельно выбирать обходный путь... Опыты построены так,
что в противоположность опытам Торндайка с клетками животному
не требуется человеческих знаний для того, чтобы пробраться по
обходному пути.
Не может ли выбор обходного пути быть случайным? И не
уничтожается ли благодаря этому критерий Келера? На этот вопрос ясно
отвечает простейшее наблюдение реального поведения. Подлинные и
случайные решения по внешнему своему виду настолько различны между
собой, что оценка производится без всякого колебания. При случайном
решении животное перебегает то туда, то сюда, движения его не
связаны между собой и только в целом, геометрически сложном, они дают
кривую пути, идущую от начального пункта и кончающуюся у цели.
Совершенно иначе выглядит подлинное решение: животное движется
по одной единственной замкнутой кривой от своего местонахождения
к цели. Часто после беспомощных попыток следует настоящее решение.
Тогда различие особенно очевидно. Животное внезапно как-то
отталкивается, останавливается и затем устремляется в совершенно новом
направлении, осуществляя решение. То, что действительно для
животных, относится также и к детям, над которыми Келеруже проводил
несколько параллельных опытов, которые продолжил Бюлер194. Момент,
в который ребенок находит правильное решение, очень часто заметен
в выражении его лица, его лицо форменным образом проясняется. И у
шимпанзе Келер наблюдал такие изменения в выражении.
Следующий принцип Келера (рис. 7) состоял в том, чтобы начинать
с простейших задач и планомерно переходить к более трудным. Только
благодаря этому можно в отдельном случае с уверенностью установить,
в какой части задачи животное затрудняется, почему оно совершает ту
или иную ошибку.
Вначале в качестве первой попытки
Келер провел следующий опыт (рис 7).
Открытая корзина с фруктами с
помощью шнура, протянутого через кольцо
решетчатой крыши площадки для игр,
подвешивается на высоте около 2 м над
землей. Свободный конец шнура с
петлей одевается на сучок дерева на
расстоянии 3 м от корзины на одинаковой
высоте. Как только петля снимается
с сучка, корзина должна упасть. Эта
задача нелегкая, но по своей наглядности Рис. 7
далеко превосходит опыты с клетками. И, однако, оказывается, что она
для начала совершенно непригодна, благодаря своей сложности. Султан,
самое умное животное станции, решает ее следующим образом: «Через
некоторое время (в течение которого животное, не привыкшее к таким
ситуациям, особенно к одиночеству, вело себя очень беспокойно) Султан
вдруг подходит к дереву, быстро взбирается до петли, остается на момент
спокойным, затем, глядя на корзину, тянет шнур до тех пор, пока
корзина — не ударяется о кольцо наверху, снова отпускает, тянет во второй
раз сильнее, так что корзина качается и из нее выпадает банан. Он
спускается вниз, берет плод, снова поднимается наверх и тянет так сильно,
что шнур обрывается и вся корзина падает. Тогда он слезает вниз, берет
корзину с фруктами и отходит с ней, чтобы их съесть»195. Когда этот опыт
был повторен три дня спустя в несколько измененных условиях,
последовало точно такое же решение.
Непонятно, почему животное, хотя и использовало связь
шнур-корзина, ни разу не дало правильного решения. Потому ли, что сцепление
шнур-сук оставалось незамеченным, или потому, что оно непонятно
животному? Может быть, трудность заключается в том, что при
правильном решении цель падает на землю, а не попадает в руки
животного, вследствие чего животное должно действовать «обходным путем»,
вначале отдаляющим от него цель? Прежде чем мы не сможем с
уверенностью ответить на этот и другие специальные вопросы, такого рода
опыт не будет иметь большой ценности. Но на нем ясно
обнаруживается важность вышеупомянутого принципа постепенного перехода от
простого к более сложному.
Мы проследим в общих чертах путь исследования и остановимся
на наиболее ярких примерах того, что животные в состоянии
выполнить и к чему они оказываются неспособными.
Келер начинает с опыта с обходным путем в буквальном смысле
слова. Легкие обходные пути, обход препятствий вводятся в течение
длительного времени в повседневную жизнь животных. Для опытов
выбираются немного более сложные формы обходных путей.
Например, опыт № 1. Корзина с фруктами висит у потолка так, что снопу
ее нельзя достать. Экспериментатор раскачивает ее так, что в крайнем
своем положении она приближается настолько близко к помосту,
доступному животному, что, находясь на этом помосте, животное может
ее схватить.
Обычный обходный путь исключается, связь между животным
и целью может быть установлена только через промежуточное звено.
Наиболее простой случай: связь уже установлена, может ли животное
ее использовать? Опыт № 2. Плод лежит перед клеткой за пределами
досягаемого, к нему привязана нить, которая доступна животному.
Следующая форма: связь между животным и целью еще не
осуществлена, ситуация содержит в качестве единственного
вспомогательного орудия палку, с помощью которой цель может быть
придвинута (опыт № 3).
Или опыт № 4. Цель прикреплена к крышке, в помещении
находится ящик, который может быть использован для достижения цели.
Третий вариант (опыт № 5) состоит в том, что цель может быть
достигнута животным путем подъема по гимнастическому канату,
находящемуся на расстоянии 2 м. Эти опыты, предполагающие включение
промежуточного звена, можно назвать опытами с использованием
орудий; обратной их формой являются опыты с устранением
препятствий.
Опыт № 6. Перед решеткой лежит плод, который легко достать
палкой. В клетке прямо перед целью стоит довольно тяжелый ящик,
который препятствует животному успешно использовать палку.
Новое усложнение: цель может быть достигнута применением орудия, но
готового орудия нет, другие вещи должны быть превращены в
подходящее орудие. Это «предварительное ознакомление с вещью», которое
приводит к необходимому расчленению ситуации, есть новое
промежуточное действие в поведении, которое ведет животное от исходного
положения к цели. Его можно назвать изготовлением орудий.
Опыт № 7. Перед клеткой недосягаемо для невооруженной руки
лежит плод. В помещении нет палки или чего-либо заменяющего ее.
На заднем плане стоит спиленное дерево, ветки которого довольно
легко отламываются и могут быть использованы в качестве палок.
Рис.8
Опыт № 8. Уже использованный гимнастический канат сплетается
у потолка, к которому он привешен в три петли, совершенно
очевидных для человека. Для того чтобы его можно было использовать при
достижении цели, его нужно размотать так, чтобы он свободно свисал.
Еще более трудный опыт № 9. Канат кладется на землю под сильно
загнутым крючком и может быть использован, только когда будет висеть.
Опыт № 10. Ящик, который нужно дотащить до цели, наполняют
для большего веса камнями так, что его нельзя сдвинуть. Камни должны
быть выброшены.
Опыт № 11. Две тростниковые палки лежат наготове, но каждая
из них слишком коротка. Они могут быть скреплены вместе и служить
нужным орудием.
Опыт № 12. Постройки. Цель слишком высока для того, чтобы ее
можно было достать, использовав один ящик; два или три ящика,
поставленные друг на друга, составляют подходящую платформу.
Обходный путь увеличивается еще больше. Для того чтобы
достигнуть первой цели, вводится другая цель, которую уже также нельзя
достигнуть прямым путем.
Опыт № 13. Животное сидит у решетки напротив лежащей снаружи
цели и имеет слишком короткую палку в руке. Перед решеткой на
расстоянии около 2 м от цели, но ближе к решетке лежит длинная палка,
которую можно достать не рукой, а короткой палкой.
Опыт № 14. Палка, которой нужно достать цель, висит у потолка
и может быть снята при помощи ящика, подставленного к нужному
месту. Это может быть усложнено еще тем, что ящик делают тяжелым,
наполнив его камнями.
Принцип обходного пути изменяется еще в двух направлениях.
Сперва обходный путь с орудием. Может ли животное, выполняющее
действие с помощью орудия, осуществить также обходный путь?
Опыт № 15. Животное сидит у решетки, перед ним на расстоянии
45 см стоит открытый сверху квадратный выдвижной ящик, у
которого отсутствует боковая стенка со стороны, отдаленной от животного.
Плод помещается на доску у стенки, ближе к животному. Обезьяна
получает длинную палку. Для решения оно должно сначала
отталкивать от себя плод в противоположность прежнему употреблению палки
при доставании цели до тех пор, пока он не выйдет из ящика, затем оно
должно его передвигать боком и, только когда он будет вне ящика,
втащить к себе — обходный путь в настоящем смысле слова (ср. рис. 9).
Опыт № 16. Палка, необходимая для того, чтобы достать плод,
находится в помещении, но она не свободна, а прикреплена железным
кольцом диаметром 6 см над вертикальным железным стержнем около
35 см длины, выступающим из ящика. Для того чтобы воспользоваться
орудием, животное должно проделать некоторое действие, снять его со
стержня, который отклонен: на 90° в противоположном от цели
направлении.
Другой вариант: «Путем применения орудия цель приводится в
такое положение, при котором она может быть достигнута благодаря
движению собственного тела».
Опыт № 17 (рис. 10). Плод находится в большой клетке вблизи
стены А, которая заколочена горизонтальными досками. Верхняя из них
отстает, так что животное хотя и может проникнуть, но не может
достать пола и лежащей там цели. Стена В состоит из решетки, сквозь
которую животное может доставать цель, но лежащую у стены А цель оно
достать не может. Имеется в распоряжении палка, которую можно
использовать только у стены А, так как она прикреплена к стоящему там
столбу. Для того чтобы достать плод, животное должно сначала
придвинуть его палкой к стене В, затем подбежать туда и взять.
Организация опытов понятна: позднейшие предполагают то, что
достигнуто уже в первых, планомерно вводятся новые факторы,
усложняющие решение так, что легко обнаружить, почему возможно ошибочное
действие, в чем выявляется новая трудность.
Читатель может спросить: действительно ли животные решили все
эти задачи? Мы ниже ответим на этот вопрос, но прежде постараемся
показать, почему не следует задавать такие вопросы. Нельзя говорить
о животных вообще. Животные индивидуально очень различны, они
обнаруживают различные способности, то, что умеет выполнять одно из
них, умеют не все, и именно эта разница в способностях проявляется
ясно и измеримо в опытах. Исходя из этого, ответ гласит: только один
из приведенных здесь опытов не могло выполнить ни одно животное
(№ 9 — закрепление каната к кольцу на крыше); все остальные были
решены.
Наряду с конкретными опытами, наиболее важные из которых мы
рассмотрели, познакомимся с основными результатами некоторых из
них. Мы начнем с опытов с применением орудий. Уже опыт № 2
заслуживает исчерпывающего описания. Притягивание плода на веревке,
даже когда она очень длинна (были испытаны веревки до 3 м длины),
было выполнено без колебаний всеми животными. Не то что животные
играли или бесцельно тянули веревку и, так сказать, случайно
овладевали плодом, — животное тянет веревку всегда «не упуская из виду цели»,
в буквальном смысле при взгляде на цель животное начинает тянуть
веревку, всегда направляя свой взгляд на цель, а не на веревку. Это
может для нас казаться само собой понятным, но собака (подвергавшаяся
опыту Келером), которая хорошо справлялась с опытами с обходными
путями, этой манипуляции выполнить не в состоянии. Она проявляет
живейший интерес к цели, но не замечает шнура, который почти
касается ее головы196.
Этот опыт о шимпанзе варьировался так, что кроме настоящей
веревки к цели есть еще и другие, с целью не связанные. При этом
оказалось: во всех случаях, когда нить вела к плоду, даже если она не была
прикреплена к нему, была попытка потянуть ее и из нескольких нитей
сначала выбиралась не правильная, а самая короткая. Существуют,
следовательно, оптические факторы, которые уже в таких простых
опытах определяют поведение шимпанзе. Оптические связи занимают
место действительных, оптически выделяющееся свойство — наименьшая
длина — является решающим в выборе нити.
Из опытов с употреблением палки (№ 3) мы выберем следующие
частности. С этой задачей также справились все животные. Некоторые
животные знали ее уже тогда, когда Келер начал свои опыты; у
животных, которых опыт впервые побудил к применению палки, можно было
наблюдать, как в первый же раз она правильно использовалась, т.е.
животное помещало ее позади цели. Можно усложнять и применение палки
очень простым изменением условий опыта. Чем дольше палка
находится от критического моста, тем труднее ею пользоваться. Бывает, что те
самые палки, которыми животное уже много раз пользовалось, теряют
свою ценность, если они значительно удалены. Если поместить палку так,
что она при взгляде на цель и вокруг нее не попадает в поле зрения, то
возможность применения ее исключается. Если животное видит палку,
но в это время не видит цели, оно ее не употребляет. Поэтому
«превращение палки в орудие» в известном смысле есть функция геометрической
констелляции»197, но только вначале. Животные, часто находившиеся
в таких ситуациях, преодолевают и эту трудность. Для них возможность
решения не исключается оптическим разделением цели и палки.
Мы встречаемся здесь снова с силой оптических факторов и мы
видим, что именно использование палки является подлинным механизмом
действия животного: предмет, палку, нужно не только увидеть или
заметить, но она должна перестать быть для животного изолированной,
безразличной вещью. Она должна стать частью ситуации, должна
превратиться в «орудие». Необходимым условием для правильного
поведения здесь является изменение предмета восприятия. То, что вначале
было «безразличным» или предназначалось «для кусания» и т.п.,
приобретает характер «предмета, который служит для получения плода».
Легко понять, почему пространственное отдаление затрудняет этот
процесс. Нам непосредственно понятно, что изолированная вещь
включается в комплекс, с которым она одновременно обозревается легче,
чем в комплекс, пространственно отдаленный и отделенный от нее.
Различие в поведении собаки и шимпанзе в опыте № 2 сводится
к следующему: для последнего канат включается в общий комплекс, для
первой он представляется изолированным предметом, который вообще
не может быть включенным в целевой комплекс.
Акт использования палки является для нас результатом
включения ранее безразличной вещи в ситуацию. При этом животное усвоило
именно это, а не внешнюю связь между определенной палкой и
определенным полем восприятия, с одной стороны, и последовательностью
движений — с другой. Так, если в ситуации, требующей палку, она
отсутствует, совершенно другие вещи используются в качестве палки.
Кусок проволоки, поля старой соломенной шляпы, соломинка, короче,
«все, что может быть передвинуто и сколько-нибудь продолговато,
становится в ситуации «палкой» в чисто функциональном значении
«орудия для хватания»198. Однажды животное притащило даже свое одеяло
из спальни, сунуло его через решетку и придвинуло им плод.
Мы находим здесь, таким образом, действия, которые мы выше
назвали перенесениями, и можем с уверенностью сказать, что в
приведенных случаях эти перенесения нужно объяснить не так, как это пытался
сделать Торндайк в своих экспериментах. Восприятие ситуации для
шимпанзе не настолько неясное, чтобы горсть соломинок или собственное
одеяло, — которое, между прочим, было принесено из другого
помещения и, следовательно, первоначально даже не принадлежало ситуации, —
казалось идентичным с ранее употреблявшейся палкой или неразличимо
похожим на нее. Здесь возможно еще только одно понимание: животное
овладело способностью включать вещи в ситуации в качестве «орудий
для хватания», и эта способность не ограничивается тем предметом, на
котором она приобретена, но представляет собой приобретение гораздо
более общего характера. Или, как выражается Келер, палка в поле
зрения приобретает определенное функциональное значение, и в известных
ситуациях оно само по себе распространяется на все другие предметы,
которые имеют известные общие свойства, хотя они могут выглядеть как
угодно. Благодаря своим наблюдениям Келер делает вполне очевидным
то, что происходит в феноменальном мире шимпанзе. Наблюдатель
видит, как животное напряженно пытается достать плод еще до того, как
оно догадывается применить палку или заменяющий ее предмет: «В
результате напряжения происходит изменение в поле зрения,
продолговатые и подвижные предметы не представляются больше
индифферентными и неподвижными на своих местах, но как бы обладающими
«вектором» в направлении критического места».
Таким образом, перенесение есть осмысленное применение
структурного принципа. Палки, а также другие предметы получают место
в ситуации, входят в качестве членов в структуру. Объяснение, которое
в противовес Торндайку мы выше давали примитивным перенесениям,
становится очевидным, благодаря последним соображениям. Но это не
следует смешивать с простым вниманием, при помощи которого Бюлер
пытается объяснить перенесения у келеровских животных. «Когда мы
ищем предмет, — говорит он, — в нас образуется диспозиция
наблюдения. Когда обезьяна сидит «у решетки, перед которой находится
лакомый кусок, то... у нее возникнет представление, которое может быть
еще очень неясным, об известном ей способе — достать веткой... Если,
охваченная моторным беспокойством при виде цели, она будет
передвигаться по помещению, то заметит палки, посредством которых можно
придвинуть плод»199. То, что он называет перенесением
функционального значения, не противоречит мнению Келера, но мне кажется, что
объяснение Бюлера упускает самое существенное в теории Келера.
Бросаются в глаза не «предметы, посредством которых можно достать
плод», если смысл выражения, поставленного в кавычки, предполагает
наблюдение предметов животным, а предметы, хотя объективно и
обладающие данным свойством, но для животного остававшиеся всегда до
сих пор только соломинками, одеялами и т. п. Такие предметы только
на этот раз и впервые приобретают для животного данное качество как
нечто новое. «Искание» является, конечно, условием этого момента;
ситуация не решена и заставляет искать решение, но основное
заключается именно в том, что свойство «орудия для хватания» приобретают те
предметы, которые раньше им не обладали.
Значение акта использования палки видно при сравнении шимпанзе
с низшими обезьянами.
Бойтендайк, так же как Нельман и Тренделенбург, установили, что
последние не пользуются палкой или граблями для того, чтобы достать
плод, если орудие заранее не расположено подходящим образом;
например, поперечная часть грабель находится позади плода, а ручку
можно достать руками. Ни одна обезьяна в этих случаях не притянула
правильно грабли»200.
Опыт № 4. Употребление ящика для доставания слишком высоко
висящей цели. Рассмотрим неправильно произведенное действие. Речь
идет о самой молодой обезьяне станции, Коко. Сначала он прыгает
и ударяет по цели, затем отходит от стены, на которой она висит, но
постоянно снова возвращается обратно. «Через некоторое время,
когда животное отдалилось от стены, оно становится на ящик, смотрит на
цель и слегка толкает ящик, не сдвигая его с места. Движения
становятся гораздо медленнее, чем прежде. Оно оставляет ящик и отходит
на несколько шагов вперед, но тотчас же возвращается и, взглянувши
на цель, снова толкает его, но тоже достаточно легко, не так, как если
бы оно действительно хотело передвинуть ящик». Это повторяется,
и ящик сдвинут не больше чем на 10 см по направлению к цели. Тогда
к ней прибавляют ломтик апельсина. Действие цели «усиливается, и
через несколько мгновений Кока снова стоит у ящика и вдруг
схватывает его, сдвигает одним движением... почти под самую цель... тотчас же
взбирается на него и срывает цель со стены». Большая
привлекательность цели усилила импульс животного и повлияла на осуществление
решения. Животное не сумело применить решение, которое оно уже
знало. Через несколько минут опыт был повторен с некоторыми
изменениями так, что цель висела в другом месте на расстоянии около трех
метров от старого, и животное оказалось не в состоянии достать цель.
Первые слабые толчки, которые давал Кока ящику, являются,
следовательно, предварительными стадиями самого решения. Ящик
вовлекается в ситуацию, но еще не видно, как он в нее войдет.
Решение, которое животное осуществляет, тотчас снова
пропадает. С ним экспериментируют в тот же день и на другой день, затем еще
в четыре разных дня с более продолжительными промежутками
между ними, но безуспешно. Однажды ящик стоял уже настолько близко
к стене и цели, что находящееся на нем животное почти могло достать
ее. Животное сейчас же взобралось на ящик и вытянулось на нем
насколько было возможно, но не подвинуло его даже на такое маленькое
расстояние. Отсюда видно: ящик недостаточно вовлечен в ситуацию.
Безрезультатные опыты оканчиваются тем, что Коко жесточайшим
образом обрушивался на ящик, опыты были прерваны и через
промежутки в девять и 19 дней после первого опыта снова поставлены. Теперь
решение достигается довольно быстро и уже не пропадает. За время,
протекшее с первого решения, в последующих опытах не наблюдалось
никаких последствий, «кроме того, что можно выразить в словах»: «с
ящиком что-то происходит»201. Мы уделили столько внимания этому
опыту, потому что имеем здесь возможность заглянуть в
промежуточную стадию между беспомощностью и полным решением, в то, как
подготовляется направление решения перед первым успехом, как после
этого остается нечто, что напоминает «анализ места» в опытах Ругера.
Из другого наблюдения над использованием ящика, которое
происходит в белее позднем и более сложном опыте, мы рассмотрим
структуру этого действия подробнее. Лучше всего это обнаруживается в тех
случаях, когда животное не может применить уже доступное ему
решение. Обстоятельства, затрудняющие решение в данном случае,
указывают на то, что характерно для него. Хина, другое животное, всеми
силами стремится к помещенной на потолке цели, не применяя в
качестве средства находящегося в помещении ящика, хотя вполне владеет
применением ящика. Последний не остается незамеченным; животное
беспрестанно прыгает вверх и вниз, пока у него захватывает дыхание, но
оно не производит ни одного движения для того, чтобы придвинуть его
к цели. В течение всего времени на ящике лежит другое животное, Тер-
цера, и как только оно случайно спрыгнуло, Хика сейчас же принялась
за ящик, дотащила его до цели и сорвала плод202. Отсюда можно
заключить, что ящик, на котором лежит Терцера, не есть «предмет для доста-
вания цели», а лишь «предмет для лежания». При таких условиях ящик
вообще не связывается с целью. Он прочно включен в одну структуру
(лежания на нем) и поэтому не может служить орудием в другой.
Высвобождение предмета из данной структуры и включение его в другую,
вновь образуемую, является поэтому особенно сложным актом.
Заключающаяся в нем трудность существует не только для шимпанзе. И для
нашего мышления эта трудность играет значительную роль: если нам
требуется плоское блюдце, нам не всегда придет в голову использовать
крышку от горшка, потому что в этот момент она выполняет функцию
крышки. Но если она лежит просто на столе, ее возьмут без колебания.
Устранение препятствий служит доказательством того, что с
точки зрения взрослого человека нельзя судить о том, трудна или легка
задача для животного. Для нас простой опыт с устранением
препятствий (№ 6) представляется более легким, чем применение палки или
ящика в качестве орудия, но для шимпанзе решение последней задачи
гораздо труднее. Не все животные решали ее самостоятельно. И почти
всегда шимпанзе, скорее, вводит в ситуацию даже наиболее отдаленно
находящееся орудие, чем удаляет довольно легко устранимое простое
препятствие. Мы снова наталкиваемся на трудность разрешения
существующей структуры. Создание орудий может дать и примеры, в
которых удается «переструктурирование». Опыт № 7 состоит в том,
чтобы «увидеть отдельно» ветку от дерева, и таким образом в предмете,
являющемся веткой, увидеть палку, условие, составляющее большие
трудности для менее способных животных. При этом оказывается, что
животные, прежде чем отломать сухие ветки, трудятся над прочными
железными прутьями именно потому, что железный прут является
оптически самостоятельным предметом, а ветка нет.
Опыт № 8 знакомит нас с новой трудностью и вместе с тем новым
явлением. Опыт № 5 выполняется с успехом. Опыт повторяется в
условиях № 8 и оказывается: ясно видно, что каждое животное хочет
привести веревку в нормальное положение, в котором она может быть
использована как канат для раскачивания, но ни одно животное не решает
эту задачу правильно путем разматывания веревки; обычно они
схватывают ее в каком-нибудь месте и стягивают вниз, что удается только
в редких случаях и при особой ловкости. Характер поведения в
отношении веревки наводит на мысль, что животные видят иначе, чем мы,
ординарные простые петли, не так, как мы воспринимаем запутанную нить,
которую мы часто схватываем в каком-нибудь месте и тянем без
всякого плана. Эта объективно простая структура, таким образом, является
для шимпанзе не ясным, доступным оптическим образом, но в большей
или меньшей степени хаотическим. Мы приходим здесь к предельным
возможностям шимпанзе. Однако нужно заметить, что эти границы не
неподвижны. Двое из этих животных были еще раз, спустя два года,
поставлены перед теми же задачами. Одно из них, Хика, решило ее
совершенно правильно, размотав веревку точно так же, как это сделал бы
человек. Другое животное, Рана, держало себя тоже гораздо увереннее,
чем прежде. Таким образом, здесь можно отметить развитие
способности к образованию оптических структур. Однако, Келер оценивает
очень низко предел возможностей такого развития. Исключительно
интересен опыт № 11 со вставной палкой. Испытуемым было взято самое
умное животное, Султан, но и ему при решении помог случай. Больше
часа Султан бился напрасно и вел себя при этом следующим образом:
одна палка была продвинута насколько возможно, затем
подталкивалась другой палкой до соприкосновения с целью. Султан получил таким
образом мост к цели, но не мог его использовать. Это явная попытка
решения, создавшая единую оптическую структуру, ведущую от
животного к плоду. Опыт был прерван, Келер удалился. У Султана остаются обе
палочки, служитель остался наблюдать за ним. Султан сначала уселся
на ящике, стоящем у решетки, затем встал, схватил палочки и, снова
усевшись на ящике, стал небрежно играть с ними. «При этом случайно
вышло так, что он держал перед собой по одной палочке в каждой руке
и именно так, что они составляли одну линию; он воткнул более тонкую
в отверстие более толстой, подпрыгнул к решетке, к которой он до сих
пор сидел в полуоборот, и начал придвигать банан двойной палкой. Я
позвал хозяина. Между тем у животного выпала одна палочка из
другой, потому что она была плохо вставлена, он тотчас же соединил их
снова». Так гласит отчет сторожа, и сам Келер мог наблюдать
последнюю часть опыта после того, как одна палочка выпала203. Султан много
раз повторил этот опыт. Он достал, таким образом, все плоды в клетку,
не съедая их, а потом сделал то же и с другими довольно безразличными
вещами. Это дело как будто понравилось ему. Решение было получено,
в следующие дни он уже составил одну длинную палку из трех палочек.
Можно считать это решение возникшим благодаря случайности, но как
различно влияет случай здесь и в опытах Торндайка. Случай не ведет
его к цели, не дает ему также готового орудия, но приводит к такой
ситуации, при которой легко может возникнуть правильное решение —
обе палочки соединены в одно целое. Здесь мы имеем подлинное
решение, как показали последующие опыты, — в тот момент, когда он сумел
увидеть вместо двух палочек одну, он увидел недостающее орудие. Слу-
чайность помогла, но самое решение не стало от этого случайным. Для
того чтобы правильно оценить эту помощь, мы должны обратиться к
самим себе: конечно, гораздо труднее решить проблему только мысленно,
но часто бывает достаточно трудно перейти от неразумного поведения
к разумному, когда случай даст интеллекту такую возможность, как
в опыте с Султаном. Случай и разумное поведение не всегда
противоположны; разум может проявиться в умении использовать случай.
Опыт № 12 (постройка) освещает вопрос с новой стороны: из
поведения животного со всей ясностью следует, что здесь имеются две
разных задачи. Первая: поставить один ящик на другой не представляет
большой трудности для животных, которым уже известно применение
ящика; другая: «поставить один ящик на другой так, чтобы они
составили прочное возвышение», — исключительно трудна. Эта задача
предполагает соединение тела определенной формы с другим таким же так,
чтобы получился требуемый результат. Обезьяна решает ее не
интеллектуально, а всегда путем проб. Она создает такие сооружения,
которые кажутся нам настолько неустойчивыми, что их можно разрушить
одним пальцем. При своей огромной подвижности ей удается довольно
часто достигнуть цели, прежде чем строение разрушится. Здесь мы
снова наталкиваемся на границы оптического понимания интеллекта204.
Эти опыты важны еще и с другой точки зрения. Составление
ящиков никогда не осуществляется интеллектуальным путем, но остается
сплошь и рядом результатом проб-ошибок. Поэтому оно должно
обнаружить черты, характерные для обучения, простым повторением.
Сооружения из ящиков было любимым занятием келеровских обезьян; они
занимались очень терпеливо этой игрой в течение двух лет, и все же их
постройки в течение всего времени не обнаружили никаких
достижений, — они остались к концу точно такими же шаткими, как и вначале.
Многие психологи считают, что всякая способность, которая не
относится к врожденным задаткам, есть результат обучения путем проб
и ошибок. Возможно, что они окажутся осторожнее в применении
своего универсального принципа обучения к этим отрицательным данным
поведения проб и ошибок у шимпанзе.
Опыт № 13 решался разумно более способными животными. От
чего это зависит, опять-таки показывает поведение менее одаренных
животных. Короткая палка не может быть выведена из структуры
решетка-цель; таким образом, сплошная структура: короткая палка-
длинная палка-конечная цель — не может быть установлена.
Если такие задачи, которые требуют обходного пути через
промежуточные самостоятельные цели, решаются правильно, то различное
значение главной и второстепенной цели для животного связано с
восприятием структуры. Это опять-таки обнаруживается на типичных
ошибках. Коко (в опыте № 14) близок к тому, чтобы придвинуть ящик
к стене, на которой висит палка, с помощью которой можно достать
плод. На этом пути он должен пройти мимо плода, и когда он
приближается к нему, «он внезапно отклоняется от своего прямого и
осмысленного пути к цели и использует ящик в качестве палки». Коко
подвергается, таким образом, слишком большому воздействию близости
конечной цели, и существующая уже правильная структура решения
снова разрушается.
«Обходная доска» (№ 15), по которой обходный путь должен быть
проделан с орудием, во многих отношениях особенно поучительна. Во-
первых, потому что эта задача настолько сложна, что даже Султан не мог
удовлетворительно решить ее; только одно животное, Нуэва, внезапно
дало правильное решение после того, как оно много раз безуспешно
притягивало плод. Оно отодвинуло плод на открытый край, т.е. под углом
в 180° от себя. Но и с ней произошло следующее: когда цель была уже
почти на открытом крае, внезапно наступило изменение. Цель снова была
отодвинута в неправильном направлении приблизительно на 5 см, и
только потом решение было доведено до конца. Такие изменения
постоянно происходили и при последующих опытах — доказательство того, как
трудна задача, как сильна обратная тенденция. И все же можно считать,
.что для животного, которое так легко, естественно, проделывает
обходный путь, должно быть пустяком проделать обходный путь с орудием. Но
«даже разумное поведение, интеллектуальные способности
сопротивляются «интеллекту алистическим объяснениям»205.
Из других обезьян обходный путь, повернутый в направлении от
животного на 180 градусов, удался только Султану и то только благодаря
случаю такого же характера, как вышеописанный206. Для всех остальных
животных этот опыт пришлось упростить. Доску просто повертывают
на определенный угол, затем «угол обходного пути» уменьшается и
доходит до того, что животные, которые при большем угле были не в
состоянии решить задачу, при меньшем угле решали ее. Таким образом,
угол, при котором впервые достигалось решение, можно рассматривать
непосредственно как мерило способности и развития животного. Когда
доска лежала параллельно решетке и угол обходного пути равнялся 90°,
все животные решали задачу. Порядок, в котором животные
располагались в этом опыте, точно соответствовал тому, который еще раньше
установил Келер. Обходная доска оказалась, таким образом, отличным
тестом на интеллект.
Опыт № 16 приводит нас снова к границам, к которым мы уже часто
подходили. Снятие кольца с гвоздя являлось действием, которое
выполняли самые умные животные в лучшие свои моменты, но не случайно,
а осмысленно. «Кольцо на гвозде... представляется шимпанзе оптиче-
ским комплексом, которым можно в совершенстве овладеть», в случае
если условия внимания этому благоприятствуют в данный момент, но
который имеет сильную тенденцию представляться их глазу менее
ясным образом, особенно при недостаточном напряжении внимания
животного207.
Итак, мы нашли, что животные по-настоящему решают новые
задачи, перед которыми они поставлены, и мы усматриваем сущность этих
решений не в том, что движения, из которых каждое — само по себе
доступно животному, вступают в живые комбинации, но в новом,
«структурировании» всего поля. Первое положение оправдывается только
в том случае, если считать случай творцом этих новых связей. Но для
тех, кто правильно понимает эти опыты, представляется невозможной
такая роль случая в опытах Келера. Это станет особенно ясным после
дополнительного краткого рассмотрения обоих центральных доводов
Торндайка в пользу теории случайности. Первый, — характер кривой
времени, — совершенно отпадает. Измерения времени в действиях
шимпанзе неприменимы к решению проблемы случайного и разумного
поведения, потому что значительное время, которое проходит в
некоторых опытах до того, как животное находит решение, всегда
заполнено деятельностью, не имеющей ничего общего с решением; или бывают
перерывы для отдыха, и именно такие перерывы, в которые Султан,
например, «медленно почесывал свою голову, в то время как он со всех
сторон подробно изучал ситуацию»208, с большой ясностью показывают
наблюдателю, какого характера поведение здесь может быть принято
во внимание. Само решение происходит буквально «одним
движением». В следующем опыте в большинстве случаев правильное действие
производится тотчас же без колебания. Если угодно пользоваться
кривыми времени, они достаточно красноречиво свидетельствуют против
случайности.
Торндайк сам подвергает критике неопределенность кривых
времени в его экспериментах над обезьянами. Несмотря на это, он считает,
что время, требуемое в общем и целом для выполнения действия,
является довольно хорошим мерилом затраченного на это труда.
Как указывалось, эти кривые времени гораздо больше
свидетельствуют своим внезапным падением о внезапном наступлении решения,
чем о длительном процессе обучения.
Другим доводом являются «бессмысленные ошибки». Этот
аргумент является точно таким же несостоятельным, как и первый. Келер
наблюдал вообще всего восемь случаев действительно бессмысленных
ошибок, и они всегда являются «следствием прежних правильных
решений, которые часто повторялись и в силу этого приобрели
тенденцию в последующих опытах выступать вторично вне зависимости от
специальной ситуации. Предпосылками для таких ошибок являются
такие состояния, как сонливость, усталость, насморк, а также
возбуждение»209.
Наряду с бессмысленными наблюдаются и другие ошибки, которые
имеют особое значение для понимания животного. Они возникают там,
где одна часть принципа решения понята правильно, но при этом
существует незамеченная животным трудность. Удлинение палки в
большой степени осуществлялось благодаря тому, что животное держало
в руках две палки, сложенные вместе; таким образом, получалась
более длинная палка, но все же не достигалась необходимая длина. Сюда
относится начало опыта Султана с двойной палкой (см. выше), и в
другом примере следующее поведение при постройках: Хика замечает, что
с помощью ящика она ничего не может предпринять даже тогда, когда
она прыгает очень высоко. Вдруг она схватывает ящик обеими руками,
с большим напряжением поднимает его до уровня своей головы и
держит его у стены, у которой висит цель. Если бы ящик мог сам «остаться »
у этой стены, задача была бы решена; потому что Хика могла бы легко
на него взобраться и, стоя на нем, достать цель210.
Такие «хорошие» ошибки нельзя вообще объяснить теорией
случайности, потому что движения, которые мы назвали хорошими
ошибками, происходят отнюдь не в любой ситуации, а только тогда, когда
они именно «хорошие» ошибки, т.е. когда они каким-либо образом
приближают животное к цели.
В отношении проблемы успеха, исследование которой явилось как
бы путеводной звездой для выводов этой главы, опыты Келера
доказывают следующее: шимпанзе осваиваются в новых ситуациях, решают
новые проблемы благодаря тому, что они создают действительно новые
формы поведения: по выражению Келера211, направления, кривые и т.д.
этих решений могут непосредственно, автохтонно вытекать из данной
ситуации (не обязательно «из опыта»). Этим наша теория американских
опытов над животными подтверждается лучшим образом. Мы видим
в действиях шимпанзе такие новообразования, как бы чистую культуру
их, к тому же в опытах Келера эти новообразования являются
независимыми от случайности. Решение не возникает только благодаря
случаю, а затем в большей или меньшей степени «осмысливается», но такое
«понимание, правильное преобразование поля, предшествует внешнему
решению. Мы назовем такие решения случайными действиями первой
степени. Если решение достигнуто, ситуация настолько изменилась для
животного, что оно «может заключить» о том, каким образом могут
быть устранены препятствия для достижения «недоступного» плода.
В «разрешенной» ситуации каждая вещь, каждое движение имеет свое
обусловленное общей структурой место; структура стала однородной,
определенной и полной. В качестве динамической во времени
протекающей структуры мы понимаем здесь под ней не только поле восприятия,
но весь процесс решения до самого момента достижения цели — она
имеет начало и конец.
Мы попытаемся несколько подробнее описать творческий
процесс при обучении. Что происходит в феноменальном и
соответствующем ему психофизическом поле, когда задача решена и цель
достигнута?
В общих чертах можно различить три основных процесса
трансформации: объединение, анализ и вычленение структур. Объединение,
например, имеет место в 11-м опыте, где две короткие палки
превращаются в одну длинную. Феноменальное поле сначала содержит две палки,
одну + одну, в конце одну палку, составленную из двух частей.
Подобное описание применимо к опытам 6-му и 7-му, в которых имеет место
простое использование палки и ящика. В этих случаях палка и ящик,
первоначально стоявшие вне главной структуры поля (животное —
недостижимый плод), становятся частями этой структуры,
Характерен анализ опытов 6-го и 7-го с устранением препятствий
и применением ветки в качестве палки. Ящик, стоящий перед решеткой
клетки, составляет одно целое с клеткой: еще более естественной
частью дерева является ветка. В обоих случаях решение требует
превращения одного целого в два изолированных. Анализ играет также роль
в 13-м опыте, где слишком короткая палка в руке настолько связана
с целью, что требуется особая сила для освобождения от этой
зависимости и применения короткой палки так, как это требуется в данном
случае.
Опыт 8-й, в котором веревка должна быть распутана, есть
эксперимент на вычленение структур, так же как и модификации в опыте 2-м,
когда в поле существует больше одной нити. Отсутствие достаточной
способности вычленить структуры обнаруживается в том, что обезьяны
не могут усовершенствовать свои постройки. Кольцо на гвозде в № 16,
обходная доска в № 15 служат примерами расчленения. Другие
формы вычленения являются необходимыми, когда обходный путь
содержит основные и второстепенные цели, как в опыте 14-м. Ошибка Коко
в этом опыте (см. выше) основана на том, что он неправильно расчленил
ту часть проблемы, которую решал.
Наша классификация, конечно, не является исчерпывающим
описанием реальных процессов, но она помогает нам понять, что происходит
в процессе творческого обучения. Все три класса содержат отдельные
подразделения и должны быть самостоятельно изучены. Все примеры,
приведенные здесь для каждого класса, существенно отличаются один
от другого.
В дальнейшем эти три типа процессов ни в каком случае не
независимы друг от друга. В целом ряде конкретных актов некоторые из них
происходят одновременно. Трансформация одного рода очень часто
предполагает новую трансформацию. Из всех трех процессов процесс
выделения отдельных структур кажется наиболее фундаментальным.
Без него не может быть анализа, потому что целое может быть
разделено на части только тогда, когда оно уже структурно расчленено.
Совершенно диффузное целое не поддается анализу. Точно так же и
объединение предполагает расчленение, потому что поле должно состоять
из расчлененных частей, прежде чем эти части могут быть объединены
в целое212.
Наконец, выделение отдельных структур, расчленение означает
не только разделение нерасчлененного или более сильное
расчленение слабо расчлененного, но также и изменение соотношения
отдельных частей. Часть, которая обладала определенным местом, значением
и функцией, в целом, приобретает новые свойства213. Пример
показывает, как вышеописанное поведение Хики при применении ящика
превращает «стул» в «лестницу».
Это приводит к общему заключительному выводу о сущности
обучения, которое имеет также большое значение и для педагогики. Обучение
.никогда не бывает абсолютно специфичным. Когда организм
овладевает какой-нибудь задачей, он не только усваивает себе, как решить снова
такую же задачу, но он становится способнее решать и другие задачи,
с которыми он раньше не мог справиться, потому что в некоторых
случаях одни процессы облегчаются другими однородными процессами,
в других случаях создаются новые условия, которые делают
возможными новые процессы. Таким образом, обучение действительно является
развитием, а не простым механическим приобретением изолированных
форм поведения.
7. Критика опытов Келера
Нельзя было ожидать, что новые взгляды на сущность обучения,
возникшие на основе опытов Келера, станут общепринятыми214. Первые
голоса, раздававшиеся против них, принадлежали Бюлеру, Линдвор-
скому и Зельцу215. Если Ваши опыты, говорили они, действительно
доказывают, что животные обладают разумом, то какого рода этот разум?
Доказательство Келера о существовании разума основано на том, что
поведение обезьян ориентируется на соотношение предметов,
находящихся вокруг них. Бюлер считает это доказательство недостаточным.
Поскольку поведение животного определяется соотношением
вещей, можно его удовлетворительно объяснить тем, что это
соотношение подмечается так же, как и чувственные впечатления. «Почему та-
кое подмечание не может служить достаточным объяснением действий
шимпанзе? Это уже довольно много, но все же это еще не есть разум.
Мне кажется, что это различие, во всяком случае, не лишено значения»,
сказано во втором издании книги Бюлера216. Теперь это объяснение
исчезло. Мы читаем: «Предположим, что шимпанзе доступны
«переживания перехода» и что они их подмечают; почему же допущение такого
умения подмечать не может служить для объяснения их действий. Это
уже довольно много»217.
Я оставляю свои старые доводы. С одной стороны, «в настоящее
время в широких кругах принято, что отношения, так же как и чувственные
состояния, могут наблюдаться, «подмечаться» без настоящего
разумного переживания умозаключения (Штумпф, Зельц и др.)», — говорит
Бюлер во 2-м издании своей книги; с другой стороны, он и теперь ставит
ударение именно на «подмечании», и дальнейшие выводы направлены
вообще против применения этого понятия. Я не могу понять, какие
«переживания перехода» имеет в виду Бюлер. Каким образом, например,
при замене палки адекватным орудием животные сообразуются с
соотношением вещей? К «переживаниям перехода» я еще вернусь.
Что означают слова: подмечаются соотношения вещей? Это,
во-первых, относится только к внешнему поведению животного: объективно
существующая и вполне понятная для наблюдающего человека зависимость
(например, между палкой плодом) используется также и животным.
Некоторые исследователи, в том числе и Бюлер, пытались применить
термин «подмечание» для описания внутреннего поведения. Это означает
только, что к феномену, который для животного представляет собою эта
возможная зависимость, прибавляется подмечание. Оно, со своей
стороны, может быть феноменально представлено. Благодаря этому ранее
незамечаемое становится осознанным явлением, причем в нем ничто не
изменяется. Внезапно замеченный мною синий цвет, находящийся в поле
зрения, не изменяет своей окраски оттого, что он был замечен,
аргументирует эта теория. Именно так должно обстоять дело с соотношением
вещей и вообще с восприятием отношений218.
Против этой теории можно привести два возражения. Во-первых219,
психологическое описание должно ограничиться показаниями о том,
что происходит с феноменами. Но подобные описания стираются
благодаря таким понятиям, как «подмечание». Когда я говорю: я не
подметил разницы между двумя цветами, то это для психолога недостаточно.
Он не будет знать, что было «подмечено» в самом деле, какой
положительный феномен имел здесь место. В нашем случае должен быть дан
приблизительно такой ответ: существуют два одинаковых цвета. Тогда
это психологическое описание с ссылкой на «подмечивание» будет
противоречиво, потому что качество феномена, будь это чувственное со-
стояние или отношение, не может быть изменена оттого, что оно будет
подмечено. Отношение равенства превращается здесь, вследствие под-
мечания, в неравенство. Так можно выразиться по крайней мере с точки
зрения теории узнавания. Если ответ в данном случае гласит иначе,
например, «я не знаю», то мы имеем дело со случаем, для которого
создана гипотеза подмечания. Но имеем ли мы право гипостазировать
появившийся внезапно феномен «подмечания», отделяя его от
«незамеченного»? Напротив, не должны ли мы спросить, на чем основан этот ответ
«я не знаю», каково положительное феноменальное качество
неопределенного образа, вызвавшее этот отрицательный ответ? Задавая этот
вопрос, мы имеем в виду следующий ответ: феномены, которые теперь
обнаруживаются в качестве двух цветов, раньше вообще не существовали,
несмотря на то, что действовали соответствующие им раздражения. Но
последним соответствовали только феномены «фона», с которыми мы
уже знакомы. И то, что называлось подмечанием, в этом случае
определяется так: влияние «фона» превращается во влияние формы.
В применении к опытам над обезьянами это будет обозначать:
обезьяна замечает соотношение вещей; она превращает поле, в котором до
сих пор отсутствовали соотношения вещей, в такое, где они образуют
центр, она изменяет таким образом поле, дает ему новую и адекватную
.проблеме структуру. Но это то же самое, что мы до сих пор называли
успешным решением животного.
Во-вторых, теорию подмечания можно проверить постановкой
следующего вопроса: что даст она для объяснения конкретного случая?
Животные должны подмечать соотношения вещей. Соотношений
вещей, в которых части ситуации находятся в зависимости между собою
и с остальными частями ситуации, бесчисленное множество. Палка
находится справа от животного и слева от столба, ближе к последнему,
чем к решетке, длиннее, чем лежащий поблизости кусок проволоки и т. д.
Теория должна объяснить, почему из этого бесчисленного количества
отношений отмечаются важнейшие, которые определяют поведение.
Мы говорили: по отношению к цели возникает осмысленная
структура поля, решение же есть не что иное, как ее образование. Для нас эта
проблема не возникает, потому что другие отношения не создают
осмысленной структуры. Если исключить смысл и считать случайность
слепым воздействием механизма ассоциаций, то нужно объяснить, почему
осмысленные отношения замечаются, а бессмысленные нет. Мне
кажется, что Бюлер затруднил себе понимание тем, то он подошел к фактам
с твердой дефиницией «разума». Для него разум предполагает
суждение, которое сопровождается220 переживаниями уверенности,
отсутствующими, однако, у шимпанзе. Если даже такое ограничение действий
соответствует тому, что носит у взрослого человека название разум-
ного, присутствие этого признака в простейших формах разумного
поведения не является обязательным. Линдворский, который в критике
Келера идет гораздо дальше Бюлера, также отмечает, что восприятие
отношений не требует вначале никакой уверенности221. «Смысл»
заключается в самой структуре — «в подмеченном отношении вещей»;
наоборот, Бюлер очевидно считает, что должно прибавиться нечто новое для
того, чтобы эта осмысленность стала разумной.
Мне кажется, что положение Бюлера, последовательно
продуманное до конца, приводит снова к нашей теории.
Мы могли бы ограничиться этим, если бы критики Келера не
указывали еще на одно обстоятельство. Вспомним опыты с дрессурой
выбора, которые обнаружили примитивную природу структурных
функций. В этих опытах исследовали: обусловлена ли дрессура как
ассоциация движений абсолютным характером ощущений или же
поведение животного определяется их взаимоотношением, т.е. самой
структурой. Притом зависимость между действием и структурой была
достаточно произвольна, бессмысленна. При обучении пища может
находиться в светлом или в темном ящике, если по условиям
критических опытов пища должна находиться в обоих ящиках. Абсолютный
и структурный выбор были бы здесь объективно равноправны, оба
привели бы к полному успеху. Предположим, что в опытах по
исследованию интеллекта речь идет все же о структурных функциях. Для
животного существует возможность альтернативы «абсолютного» или
структурного поведения, причем структурное поведение
осмысленно, а абсолютное лишено смысла. В качестве примера Келер приводит
опыт с двойной палкой222. Для понимания его необходимо
предположить следующее: палка составляется так, что тонкая палочка
вставляется в более толстую, причем последнюю нужно крепко держать в
левой руке, а тонкая приводится в движение более развитой правой
рукой. Келер использовал только четыре палки различного поперечника,
так что 1-я была приспособлена ко 2-й, 2-я к 3-й и 3-я к 4-й. Две
следующие были расположены параллельно перед животным так, чтобы
ближе к нему лежали то тонкая, то толстая. № 2 оказалась напротив
№ 1, более толстой, напротив № 3 — тонкая, соответствующая № 4.
Сообразно с этим Султан вел себя так: восемь раз из 12 опытов он брал
одновременно толстую левой рукой, а тонкую — правой. В остальных
четырех случаях, в которых он брал палки иначе, он менял руки всегда
без предварительных проб, перекладывал палки из одной руки в
другую, перед тем как приступить непосредственно к действию. «Таким
образом, он брал палку № 2 то в левую, то в правую руку в
зависимости от того, комбинировал ли он ее с № 1 или с № 3, т.е. он
действовал структурно, в соответствии с действительным соотношением этих
палок. Чика, которая усвоила опыт с двойной палкой раньше Султана,
вела себя именно так. Только один раз из 12 опытов было движение
вставления палки левой рукой, но и в этом случае оно было правильно.
Келер справедливо усматривает в таком поведении доказательство
разумности решения: схваченные в направлении друг к другу палки
разной толщины вполне определяют функцию каждой. Критерием
разумного поведения может служить обращение с вещами соответственно их
основным объективным отношениям.
Против этого выступил Линдворский223, который пытался доказать,
что такие действия можно объяснить, не приписывая животному
разума. Я опускаю другие доводы Линдворского и ограничусь вопросом:
является ли узнавание различия поперечника палки признаком разума. Это
было бы так даже по Линдворскому, если бы оказалось, что подмечание
основано на действительном восприятии отношений. Но Линдворский
отрицает за шимпанзе способность воспринимать отношения. Здесь
мы встречаемся с критикой, направленной против келеровской теории
структурных функций, авторами которой являются Линдворский и Бю-
лер. Наконец, Иенш224 два года спустя после опубликования опытов Ке-
лера сделал сообщение о поставленных им опытах с курами,
основанных на таком же принципе. Иенш дает им теоретическое толкование,
.совпадающее с мнением Линдворского и Бюлера и тем самым
принципиально отличающееся от теории Келера. Основываясь на сделанных
нами в конце предыдущей главы выводах из теории Келера, мы
вынуждены отказаться от этого другого объяснения.
Мы видели, что животное при дрессуре на различение двух вещей
А и В по какому-нибудь определенному признаку, скажем, по
интенсивности окраски, постоянно выбирает В, а если предложит ему в
контрольном опыте два предмета В и С так, чтобы С отличалось от В в том
же направлении, что и В от А, то в преобладающем большинстве случаев
выбирается не В, как в опыте с дрессурой, а совершенно новая С. Мы
с Келером объяснили результат этого опыта тем, что животное
дрессировалось не на «абсолютное» предъявленное В, но на определенного
рода отношение, на структуру, в которой зависимость между С и В
равна зависимости между В и А, т. е. два цвета рядом не создают
независимые друг от друга образы, они образуют внутреннюю связь, которая
является определяющим фактором для индивидуальных качеств А и
В. Этому соответствует описание неопределенных феноменов. В
данных условиях самонаблюдение в первую очередь устанавливает
характерность соотношений обоих цветов225.
Отрицательную часть положения — исключение «абсолютной»
дрессуры признают все исследователи. Положительную же часть —
отнесение к структурным функциям, которые вместе с тем оказываются
весьма элементарными процессами, они отрицают и ищут объяснения
в другом.
При исследовании процесса сравнения Шуман первый наблюдал
некоторые побочные явления, определяющие результат сравнения. При
последовательном сравнении двух кругов или линий различной
величины можно видеть в поле зрения расширение или сужение, смотря по
тому, будут ли переходить от меньшего к большему предмету или от
большего к меньшему. Если взять вместо различия в величине различие
в степени окраски, эти побочные эффекты, вернее, «переживания
перехода» будут состоять в просветлении и затемнении. Рассматриваемая
теория, исходя из результатов опыта, считает, что животных можно
дрессировать в эти переживания перехода. «Путем дрессуры:
"темно-серое запрещено, средней насыщенности серое позволено" курица
действительно усвоила, что позволенное связано с наличием
переживания перехода к просветлению»226. Этим объясняется, почему
животное в контрольных опытах выбирает сообразно структуре, а не в
зависимости от абсолютной окраски, потому что переходное переживание
между В и С такое же, как и между А и В. Главное различие между этим
объяснением и объяснением Келера заключается в следующем: это
объяснение опирается полностью на старое понятие ощущения и для
согласования с данными учения о сравнении вводит новое понятие
«переживаний перехода». С этим мы уже встречались довольно часто. Новые
факты выявили недостаточность существовавшего до сих пор
объяснения. Но оно так прочно укоренилось, что никто в его правильности не
сомневается и только лишь подкрепляют его новыми доводами.
Рассмотрим это немного ближе. «Переживания перехода»
присоединяются к «ощущениям» и оставляют их совершенно
неизмененными; их зависимость, следовательно, только внешняя даже и тогда, что
особенно подчеркивают Иенш и Бюлер, когда из них можно заключить
об абсолютных отношениях. Иенш идет еще дальше, говоря, что
переживания перехода «одновременно царят и властвуют над обоими
предметами, потому что не существует качества, присущего одному из двух
предметов» (выражение Брунсвига)227.
Что конкретно означает собой эта фраза, какие должны быть
выведены из нее следствия, мы к сожалению не знаем. И, однако, это
решающий пункт. Потому что учение о переживаниях перехода, поскольку
это действительно отличается от структурной теории, должно означать
только то, что к абсолютным переживаниям А и В присоединяется
переживание перехода как третья часть к двум другим частям, и таким же
путем, как каждое из переживаний А и В, и это переживание перехода
может вызвать определенные ассоциации. Такое выражение эта теория
имеет у Линдворского. Но «эти переживания царят между двумя пред-
метами» есть новое утверждение, ведь тогда А и В становятся
однородным целыми, должна быть объяснена природа этого целого. Не
приходим ли мы таким образом к «взаимоотношению», из которого исходил
Келер? Но наблюдаются же, — могут возразить, — сами по себе
ощущения перехода? Что из этого следует? По моему мнению, не что иное, как
то, что это отношение — шаг одного из членов пары к другому, что этот
шаг был замечен и дал законное основание для образования
соответствующего понятия лишь там, где оно появлялось иначе чем в обычных
условиях, — там, где оно появлялось, следовательно, в неестественных
условиях лабораторного эксперимента. Там, где оно возникает,
естественно, его нельзя «видеть», потому что можно описать только
ощущение А и ощущение В — третьего ощущения не существует; несмотря
на все попытки, не удается, конечно, найти это ощущения перехода за
исключением отдельных случаев. Вопрос оказался неудачным, потому
что описание с самого начала было психологически неверно. Дело
обстоит не так, что пара цветов состоит из двух отдельных цветов —
точно так же, как неправильно было описать эту фигуру как вертикальную
и горизонтальную линию. Подобно тому как мы видим здесь угол, мы
видим в паре красок соотношение, структуру, для этого нам не нужно
переживаний перехода, тем более что оно предполагает существование
.структуры228.
Перед учением о переживаниях перехода стоит, очевидно,
следующая трудность: эти переживания большинству людей неизвестны, они
нуждаются в «тщательном психологическом анализе» и всестороннем
освещении. Спрашивается: какое мы имеем право принимать эти
переживания перехода как необходимые составные части нашего процесса
сравнения и приписывать их даже курам?
Последователи данной теории отвечают на это следующим
образом: наше суждение может определяться чувственными
впечатлениями, которые слишком слабы для того, чтобы их можно было заметить.
В качестве иллюстрации к этому положению Иенш приводит известный
опыт из учения о восприятии глубины. Если смотреть одним глазом
через трубку на нитку, можно ясно различить удаление и приближение
последней. Изображение нити на сетчатке изменяет ее толщину при
движении. Нить кажется толще при приближении и тоньше, когда ее
отдаляют. Если заменить нитку каким-нибудь предметом, как это
проделал Гильбранд, движение которого не влечет за собой такого
изменения изображения на сетчатке, например, при движении острого края,
видного сбоку экрана, довольно значительные движения остаются
совершенно незамеченными. Из этого Иенш заключает: «в случае с нитью
суждение, следовательно, может опираться только на изменение
величины поперечника, которое следует за изменением расстояния. Слиш-
ком незначительное для того, чтобы быть замеченным как изменение
поперечника, оно может все же обусловить суждение о расстоянии. То
же происходит с переживаниями перехода, которые..., несмотря на то,
что они малозаметны, могут служить основанием для суждения»229. Мы
встречаем здесь снова понятие «подмечания» в объяснении, на
несостоятельность которого мы только что указывали. Если исключить это
понятие, то положение вещей можно изобразить так: изменение величины
изображения на сетчатке необязательно должно соответствовать
изменению величины воспринимаемого феномена, в определенных условиях
оно может выражаться в воспринимаемом различии расстояния.
Посредничество феноменально-незаметного изменения ширины является
только гипотезой, к тому же принципиально не имеющей достаточных
доказательств»230. Я хочу привести здесь аналогичный случай, в
котором даже Иенш вынужден будет признать наше объяснение. Увеличение
изображения на сетчатке может вообще влиять так, что данный предмет
будет казаться больше; однако, правилом является, что феноменальное
увеличение не пропорционально действительному, но отстает от него.
Вместо этого феномен обычно придвигается все ближе и ближе,
становится все отчетливее. Ясным примером этого является разглядывание
сквозь стекла бинокля, при этом кажущиеся величины видимого и
кажущиеся расстояния очень мало изменяются, но довольно
значительно усиливается четкость. Здесь разложение феноменов на незаметные
составные части и обусловленное ими суждение невозможно. Именно
Иенш с большим успехом исследовал подобные явления, исключив эту
гипотезу. Но тогда не остается ни малейшей возможности применить
эту гипотезу в первом случае, и тем самым отпадает довод в пользу
необходимости существования переживаний перехода.
К такому же результату приводит пересмотр аргумента Бюлера.
«При переживаниях перехода» так же, как при различении
обертонов звука, требуется известное упражнение, нужно найти эти обычно
опускаемые моменты переживаний»231. Так называемый анализ звуков,
различение составных тонов звука был, пожалуй, самым серьезным
доводом в пользу учения о незаметных ощущениях до тех пор, пока Ке-
лер не показал, что факты, если их беспристрастно и достаточно точно
оценивать, доказывают иное, — положение, которое М. Эбергардт
полностью подтвердил и углубил количественным исследованием232. Келер
объясняет «различение» тонов тем, что особым состоянием внимания
искусственно воспитываются специфические феномены тонов, которые
в нормальных условиях не существуют — можно это частыми
упражнениями развить и слышать обертоны чаще, чем раньше. Неудивительно
также и нисколько не говорит в пользу гипотезы Бюлера и то, что
психологи, которые в своих редких экспериментах на сравнение расстоя-
ний приобретали навык наблюдать переживания перехода, находят их
и в обычной жизни. Еще Гельмгольц опроверг это в попытках создать
полифоническую музыку на сильных обертонах.
Итак, эта теория не преодолела стоящей перед ней трудности. Она
терпит крах, как только мы вспомним полученные нами выше выводы
о том, что переживания перехода возникают благодаря существующим
структурным феноменам при особых условиях. Мы имеем в данном
случае действительно самую близкую аналогию е различением обертонов,
но эта аналогия говорит не против, а за нас. Другими словами, мы не
имеем никакого основания принимать переживания перехода там, где
они не наблюдаются, но даже и там, где мы их допускаем. Первичное
явление — структурный феномен не исчезает, точно так же как окраска
звука звукового феномена остается неизмененной, когда мы различаем
обертон.
Наше изложение должно убедить читателя в том, что нельзя
пользоваться «переживаниями перехода», во всяком случае, там, где они
не наблюдаются, тем более что объяснение структурными функциями
проще и очевиднее. Больше того, фактическое положение вещей
говорит в пользу структурной теории. С развитием психологического
исследования все чаще описываются случаи, в которых действие структур
.можно доказать, не прибегая к переживаниям перехода. Я приведу
пример, имеющий большое сходство с нашим случаем пары серых цветов
различной насыщенности. Я могу спросить, какое количество красок
нужно прибавить к определенному серому цвету для того, чтобы они
оказались одинаковыми. Это минимальное количество краски
называют цветовым порогом. При этом обнаруживается довольно сильное
влияние цветовой структуры. Цветовой порог зависит не только от
интенсивности серого цвета, к которому прибавляется краска, но и от
интенсивности равномерно серого фона, на который накладывается
смешанный с краской серый цвет. Хотя порог имеет свой минимум,
достаточно незначительного прибавления краски, если изучаемый серый цвет
и фон одинаковой интенсивности. Если я прибавлю к среднему серому
цвету на соответствующем фоне столько краски, чтобы он стал казаться
окрашенным, он теряет свою окраску, если я заменю фон более светлым
или более темным. В форме закона структуры можно выразить так: чем
сильнее структура различия между интенсивностью окраски
испытуемого поля и фона, тем выше лежит цветовой порог, тем труднее
образуется смешанная цветовая структура233. Цветовая структура даже при
отсутствии всех переживаний перехода производит вполне реальные
воздействия. После общего обсуждения проблемы переживаний
перехода (ввиду огромной важности этого вопроса для обоснования всей
психологической теории читатель простит нам столь подробное изло-
жение) мы еще рассмотрим применение этой гипотезы к опытам над
животными. Перед животным находятся два серых цвета А и В. Когда
оно переводит взгляд с А на В, оно испытывает переживание
потемнения, когда смотрит после В на А — переживание просветления. Пусть
для В дрессура состоит в том, что движение связывается с
переживанием потемнения. Но так как оба рода переживаний перехода зависят от
направления переведения взгляда, можно задать вопрос, почему одно
из них преобладает над другим. Ответ на этот вопрос кажется авторам
настолько само собой разумеющимся, что они совсем не касаются этого
пункта. Теория дрессуры может дать только один ответ: если
животное испытывает переживание просветления, значит, оно перевело глаза
и голову с А на В, голова направлена в сторону А. При клевании оно
будет попадать в В, но безрезультатно; обратное получается при
переживании потемнения: здесь оно перешло с А на В и, следовательно,
будет клевать успешно; т.е. благодаря одному только внешнему
обстоятельству, что голова при «правильном» переживании перехода больше
приближается к правильному серому, а не к неправильному, животное
может быть дрессировано на данное переживание. Это опять-таки
достаточно механистическое понимание всего процесса, относительно
которого я уже в опытах над курами сомневался в действительном его
соответствии с фактами234. Животное должно было бы действовать как
автомат. Вспомним Султана с двойной палкой. Как бы здесь
осуществилась дрессура? Уже в первом опыте без пробы Султан берет толстую
палку в правую, а тонкую в левую руку235. Когда Линдворский пишет:
«Первое действие (умение различить более толстую и более тонкую
палку) ввиду намеченной нами возможности объяснения путем
ощущений перехода не может считаться вполне разумным»236, то нам ясно,
что эта возможность не только сама по себе должна быть полностью
отвергнута, но также и в данном случае оказывается несостоятельной.
Эти рассуждения утвердили нас в нашем понимании примитивной
природы структурных функций вопреки сделанным возражениям.
Основываясь на том, что мы теперь знаем, мы можем коснуться проблемы,
о которой мы уже встречались в предыдущей главе. Если структурные
функции действительно так примитивны, то они должны оказаться
наличными и в примитивном поведении, которое мы называем
инстинктивным. Это и на самом деле так. Мы видели выше, что раздражения, которые
вызывают инстинктивные действия, не должны обязательно
«соответствовать ощущениям». Когда паук становится невидимым для пчелы
независимо от того, в каком положении видит пчелу глаз паука, объяснение
нужно, очевидно, искать в том, что очень простые структурные функции
обнаруживаются в каждом случае. Проблема заключается,
следовательно, в том, чтобы выделить наиболее характерное для этих структур.
8. Теория ступеней Бюлера и принцип
структурности
Наше доказательство того, что для обучения раньше всего
необходимо образование новых форм поведения, оказалось правильным.
Правда, к концу речь шла об обучении, которое следует считать
разумным. Но и более ранние формы поведения привели нас к этой точке
зрения.
Таким образом, мы снова вступаем в разногласия с Бюлером. Бюлер
не отрицает наши выводы для действительно разумных действий, но он
устанавливает теорию ступеней: под высшей ступенью интеллекта, как
способности делать открытия, лежит ступень дрессуры, чисто
ассоциативной памяти, затем в качестве самой низкой ступени — инстинкт.
Инстинкт и дрессура имеют каждый свои преимущества и недостатки.
Преимущество инстинкта — уверенность и законченность, с которыми
он действует в первый же раз сразу. Преимущество дрессуры —
способность приспособления к отдельным обстоятельствам жизни. В
противоположность этому выступают отрицательные стороны — окаменелость
инстинкта и «инерция» дрессуры, т.е. тот факт, что обучение путем
дрессуры требует очень долгого времени. В интеллекте объединяются
.преимущества обеих нижних ступеней237.
Эта теория действительно является ценным проникновением в ход
психического развития. Мы сумеем ее принять, если прежде устраним
те приданные ей для большей стройности ошибки, которые по нашему
мнению ей присущи. Каковы эти три формы поведения? Можно считать,
что все они совершенно различны. Тогда развитие состоит только в том,
что каким-то непонятным образом к одному из них присоединяется
другое. Между теорией ассоциативного обучения и теорией инстинкта
существует, как мы видели в этой главе, очень тесная зависимость. Мы
познакомились с различными формами этой теории и можем сделать
обобщение в виде такой формулы: инстинктивные действия и
действия при дрессуре осуществляются благодаря деятельности
связывающих путей центрального аппарата. Связи эти при инстинкте прочны,
при дрессуре — изменчивы. Правда, это различие очень часто считали
только различием в степени, поскольку инстинкты рассматривались
как наследие приобретенных привычек предков238. Наконец, и у Бюлера
инстинкт и дрессура в основном однородны. Оба опираются на
определенные связи, но первые врождены и прочны, вторые приобретены
и изменчивы. И далее Бюлер в своем понимании интеллекта как особой
функции стоит почти особняком. В большинстве психологи стремятся
свести интеллект к ассоциативной деятельности. Ввиду того, что мы это
должны отбросить, можно считать оправданной нашу попытку принять
не три совершенно гетерогенные формы, a найти между ними
известную зависимость. Такова наша точка зрения. Внимательный читатель
заметит, что и для нас главную роль играет определенный принцип,
который в одинаковой мере относится к объяснению инстинкта,
дрессуры или интеллекта, т.е. принцип структурности. 2) Мы пытаемся
самое явление, его внутреннюю замкнутость и направленность применить
в качестве главного принципа всякого объяснения. Методически это то
же самое, что мы уже раз проделали при рассмотрении отношения
инстинкта к рефлексу. Принцип структурности наиболее ясно выражен
при интеллектуальной деятельности. Мы применяем, следовательно,
для объяснения низших форм принцип, которым мы пользовались для
объяснения высших форм поведения, тогда как до сих пор, наоборот,
принцип, объяснявший примитивное поведение, переносили на высшие
ступени. Но наши попытки не имеют ничего общего с
антропоморфизмом. Едва ли нужно упоминать о том, что мы далеки от того, чтобы
видеть в собаке только существо значительно глупее человека. Это было
так же бессмысленно, как противоположное утверждение, а именно что
человек есть не что иное, как то же животное, но гораздо более умное.
Именно потому, что мы установили общее, мы можем лучше подметить
и различия, и способ наиболее точного их определения.
Интеллект, дрессура и инстинкт, по нашему мнению, основаны на
различно образованных, различно обусловленных и различно
протекающих структурных функциях, но не на различных аппаратах, которые
«в случаях надобности включаются», как полагает Бюлер239. К тому, как
надо понимать эти различия, мы сейчас перейдем.
Мы начнем с «инерции» дрессуры. Как можно объяснить, что так
называемое механическое обучение требует гораздо большой затраты
времени, чем интеллектуальное? Уже в опытах Ругера, очень похожих
на опыты дрессуры, оказалось, что спадание кривой наступает только
тогда, когда случайно произведенное действие делается «понятным».
К этому относится, по-видимому, замечание Келера о дрессуре
выбора его животных. «Если мы ограничимся тем, что подсчитаем время или
число опытов, короче, «работу», затрачиваемую для того, чтобы обучить
шимпанзе (или кур) решать такого рода задачи, в большинстве случаев,
по установлению «ассоциативной связи» (между воспринятой
структурой и реакцией), мы бы как раз недостаточно оценили самую
существенную способность животного. Основной задачей шимпанзе в так
называемых дрессурах выбора является отыскание существенного для
дрессуры материала»240.
Прежде чем устанавливаются связи между определенными
раздражителями и определенными реакциями, эти раздражители должны
отразиться и выделиться в феноменальном мире животного. Физическое
окружение ребенка содержит кроме критического раздражителя еще
и много других. В совокупности эти раздражители не вызывают
адекватной феноменальной организации, когда воспринимающий организм
еще не усвоил сущности дела. Животное может не иметь никакого
представления о том, какие предметы главные и какие — второстепенные,
и вообще, его феноменальная организация может глубоко отличаться
от нашей. Таким образом, условия раздражения сами по себе
совершенно недостаточны для объяснения поведения животного.
Выводы Келера находят свое обоснование в кривых обучения, т.е.
в распределении неправильных и правильных реакций. В то время как
в начале неправильный и правильный выбор следуют один за другим
чисто случайно, вдруг наступает скачок, после которого больше почти не
бывает ошибок. В опыте над Хикой, например, из 50 раз перед таким
скачком было 25 случаев неправильного выбора, после него — только 4.
Такое поведение, как в проведенных над шимпанзе опытах и какое
описывает также Иенш (у низших обезьян — Торндайк и у детей — Елена
Франк), вполне соответствует характерному включению
интеллектуального решения, так что заключение Келера оказывается
справедливым. К этому присоединяется и дальнейшее наблюдение Келера: «Чем
большее количество раз Султан произведет выбор из расположенных
перед ним пар, тем скорее он «ориентируется» в новом, не особенно
сложном материале. То же самое должно произойти и с другими
животными.
Дрессура требует такого долгого времени, потому что условия —
внешние условия среды или условия внутренней организации
животного — исключают мгновенное восприятие структуры. С одной
стороны, для своего осуществления структура требует повторения, которое
благодаря случайным успехам упрощает сами по себе недоступные
условия. С другой стороны, многие из требуемых при дрессуре структур
настолько бессмысленны для животного, или даже (ср. бессмысленные
слоги) имеют настолько слабую внутреннюю связь, что она может быть
укреплена только повторением. Если определенная структура однажды
образована, она становится более прочной и легче восстанавливается
благодаря повторениям. Повторение, следовательно, способствует не
укреплению каких-либо связей, тем более что выражение само имеет
еще двоякое значение; до образования структуры повторение
означает только повторение внешних условий, после — также возобновление
только что приобретенной структуры.
Мне кажется, что и это положение больше соответствует всем уже
известным фактам. Мы знаем, что даже при чисто механическом
заучивании ряда бессмысленных слогов, т.е. при чистой дрессуре,
безусловно, необходимо какое-то «коллективное восприятие»242, т.е. несколько
членов должны соединиться в однородное целое, которое тем более
бессмысленно, что ни один бессмысленный слог не «предполагает»
следующего за ним. Чаще всего такое однородное образование выливается
в форме ритмических групп, т.е. в том, что изучаемый материал
сначала структурируется. Таким структурированием начинается процесс
обучения243, и каждое упрощение этой структуры означает облегчение
обучения. Даже «моменты схватывания», которые Ааль нашел
существенными для памяти, легко объединяются удачными структурными
принципами, которые обучающийся вносит в материал244. Позже
проведенное Кюпом в Берлинском психологическом институте исследование
дало следующие очень интересные результаты. При заучивании рядов,
предъявленных зрительно, обучаемый никогда не ограничивается
простым чтением, но непроизвольно сразу начинает повторять, то и дело
возвращаясь к предыдущим слогам. Если запретить испытуемому это
повторение, он оказывается не в состоянии заучить ряд только путем
часто повторяемого простого чтения, больше того, слишком частое
чтение является даже вредным для запоминания: чем чаще материал
«только прочитывается», тем большее число повторений требуется
впоследствии. Значение повторения состоит в том, что «оно приводит к более
основательной, разносторонней проработке материала»245. И, наконец,
К. Левин на основе опытов с умственно одаренными, проведенных в том
же институте, пришел к заключению, что «процесс обучения нельзя
рассматривать как связь между отдельными образами. Заучивают не
"слоги", а учатся отвечать определенными реакциями на данное
раздражение. Усваивается путь, по которому впоследствии произойдет
репродукция»246.
«Проработка», «путь» — это все эквиваленты того, что мы
назвали структурой. Мы приходим, таким образом, на основе фактов,
полученных при механическом обучении, к такому заключению: всякое
обучение предполагает образование структур. Тем самым мы устраним
«принцип частоты»247, основную предпосылку принципа проб-ошибок.
Повторения, не сопровождаемые структурными образованиями,
остаются безрезультатными, если не бывают вредными. Упражнение есть
образование структуры в полном смысле слова, а не закрепление связи.
Само это положение нуждается в некотором ограничении. При
известных условиях повторение, вместо того чтобы укрепить структуру,
может привести к ее разрушению. Это имеет место в тех случаях, когда
деятельность становится насыщенной или пресыщенной повторениями.
Тогда возникает сильное сопротивление, и качество выполняемого
действия значительно ухудшается. Этот процесс был тщательно
исследован Карстен248; Готтшальд также указывает249, что он имеет свое
отражение в восприятии.
Мы должны, следовательно, поставить вопрос о том, когда, при
каких условиях повторение приводит к усилению деятельности?
Ответ в общем гласит следующее: значение повторения зависит от того,
в какой зависимости находится данная деятельность с более общим
целым. Таким образом, удалось избежать ошибки, как показал Дэнлоп250,
возникающей при длительных повторениях. Оказалось возможным
достигнуть того, что в сложной деятельности, как, например, в опытах
Торндайка с ящиками или в экспериментах с лабиринтом,
неправильные действия не только не увеличились при повторении, но
тормозились и даже окончательно вытеснялась. К такому же заключению пришел
Kapp на основе опубликованных опытов251. Путем простого
повторения, без учета ближайших условий намека оказывается невозможным
дать какое-либо объяснение.
Наше понимание теории ступеней, наконец, лучше всего обосновать
физиологически. В этой главе мы уже много раз ссылались на
трудности, с которыми сталкивается физиологическая теория ассоциаций. Мы
видим, что американская психология поведения, для того чтобы
преодолеть эти трудности, отбросила понятие ассоциации в смысле связи,
устанавливаемой в индивидуальном опыте. Что на основе известного
уже положения о том, что процессы возбуждения протекают по
установленным путям, нельзя объяснить возникновение ассоциаций, — это
уже двадцать лет тому назад показал Криз. Мы оставляем в стороне
нерешенным вопрос о том, преодолевает ли этот принцип «врожденных
разнообразных связей» те трудности, для которых возникают при
попытке объяснить самое замыкание ассоциаций, но и в этом случае
остаются в силе остальные доводы, которые Криз привел против гипотезы
проторения, дополненные Э. Бехером252. По Кризу, эта гипотеза
оказывается несостоятельной не только при решении проблемы образования
ассоциаций, но и проблемы «ассоциативного влияния» и
«генерализации». Под первым Криз понимает раньше всего проблему
пространственных и временных структур. Две пересекающиеся под углом линии
будут называться «углом», каждая линия сама по себе только линией,
что опять-таки не может объяснить гипотеза проторения. Под
генерализацией Криз понимает факт, благоприятный для обучения, с которым
мы уже познакомились при изучении инстинкта, а именно
психологическое сходство в действии физикально различных процессов. Если мы
раз уже видели какую-то фигуру, мы узнаем ее при сильном изменении
ее положения, величины, краски, хотя при этом все же возбуждаются
Другие пути. В действительности одна и та же вещь никогда не
покажется такой же самой; вышеупомянутый случай есть, таким образом, общее
правило, которое распространяется на всякое обучение. Криз
приходит, наконец, к заключению, сходному с нашими воззрениями о том,
«что и во многих случаях дело может не касаться развития проводящих
путей и соединения отдаленных частей, но в первую очередь относится
только к своеобразному формированию отдельных областей, благодаря
которым облегчается сосуществование различных состояний»253. Путем
гипотетического построения этого принципа он хочет свести
рассматриваемые выше явления к внутриклеточным процессам. В понимании
успешного действия Криз очень близко подходит к нашим
построениям; главное отличие состоит в том, что он приписывает это успешное
действие отдельной клетке, и в том, что процессы в различных клетках
воспринимаются только как сосуществующие, хотя и
приспособленные друг к другу, в то время как мы усматриваем основное в характере
протекания возбуждения и целой области. Бехер показал, что гипотеза
ограничения отдельными клетками является несостоятельной254 и
приводит к отрицанию всякой физиологической теории памяти. Гипотеза
Вертгеймера о структурном характере физиологических процессов
является выходом из создавшейся трудности, и Келер в своей книге о
физических структурах показал плодотворность этой гипотезы на основе
наших физических познаний.
В ректорской работе В. Криз оказался не в состоянии удержать
психологическое мышление от заблуждения механической гипотезы
проторения. Большего успеха, пожалуй, заслуживает доклад К. Лешли,
с которым он выступил в качестве президента Американской
психологической ассоциации перед участниками IX Интернационального
конгресса психологов. С такой же ясностью, как и В. Криз, опираясь на
богатый и новый материал, к которому его собственные исследования
дали решающие добавления, осветил гипотезу рефлексов и нашел ее
вредной для развития психологии. Вместо этой анатомо-механической
теории должна быть выдвинута динамическая теория. Действия
основаны на особенностях организованного процесса, но не на цепи
отдельных рефлексов. Нарушения задевают организацию в тех случаях, когда
организация нуждается в усилении энергии для своего образования,
как в случае церебральных нарушений, когда в моменты сильных
аффектов снова становятся возможными правильные произвольные
движения, или тогда, когда тонкость организации, расчленение структуры
снижены.
Из опытов Лешли следует, наконец, что качество организации
гораздо меньше зависит оттого, какая часть мозга повреждена, чем от
всей общей массы пораженного мозга. Лешли теоретически считает,
что нужно исследовать не специальные функции отдельных клеток или
рефлекторных дуг, а законы действенных зависимостей в центральном
нервном органе и в его динамических формах организации, мы бы
сказали, его структурные законы255.
Критика физиологической теории ассоциации уже не приводит нас,
следовательно, к психовитализму256. Мы будем искать в физических
структурах нервной системы также и объяснения самых ассоциаций.
Они служили нам уже для объяснения инстинктивных действий и
особенно оправдают себя при объяснении интеллектуальной деятельности.
После всего этого мы должны сказать: инстинкт, дрессура и интеллект
не суть три совершено различных принципа, но во всех них мы находим
один и тот же принцип, различно выраженный.
Мы бы могли на основании этого объяснить отмеченное Бюлером
различие между интеллектом и дрессурой, а также инертность
дрессуры, благодаря которой она также отличается и от инстинкта. Мы
должны будем гораздо детальнее описать это различие в следующей главе.
Другой признак, которым обладают и интеллект и дрессура в
противоположность инстинкту, — способность приспособления к внешним
условиям — легко согласовать с нашим пониманием.
Нервная система животных как первичное условие их поведения
обнаруживает необычайное разнообразие. В результате получается
огромное многообразие типов поведения. Вспомним «рецепторные процессы»,
которые, согласно нашим прежним выводам, играют такую важную роль
в управлении поведением. Эти процессы по своему характеру и степени
.расчленения и дифференцированности сильно отличаются между собой.
В соответствии с этим система, обладающая слабой способностью
расчленения и дифференцированности, будет обладать также низкой
степенью разнообразия в своем поведении, потому что в таких условиях
рецепторные процессы подвержены только небольшим изменениям,
возникающим в физической среде. Таким образом, интеллект животного зависит
от структурности его рецепторных процессов. Для того чтобы животное
могло интеллектуально удовлетворить потребности момента, его
феноменальное поле должно изменяться в соответствии с его потребностями,
точно так же как и с физической средой. Потому как не целесообразно
установление критериев для интеллекта, часто все же оказывается
невозможным установить, где начинается интеллектуальное поведение в
абсолютном смысле слова. Мы не можем сказать, что интеллект начинается
там, где кончается инстинкт, потому что преувеличение окаменелости
инстинктивных действий было бы односторонним.
Мы знаем, что новейшие исследования инстинктивного поведения
даже у насекомых — инстинктных животных par excellence — почти не
обнаружили ничего общего с однообразной точностью часового
механизма. Наши критерии интеллектуального поведения можно применить
к такого рода поведению точно так же, как и к человеческому.
Если мы, заканчивая эти параграфы, сравним механистическую
теорию психического развития с теорией трех ступеней Келера, мы можем
первую из них назвать унитарной, вторую — плюралистической. Как
же назвать нашу теорию? Она плюралистична в том, что признает
неограниченное число существующих структур и множество форм
структурного изменения. Но она не плюралистична, и вовсе не в смысле
признания ограниченного числа постоянных способностей, как рефлексы
и инстинкты, способность дрессуры и интеллект. Она унитарна не в том
смысле, что она относит всякий процесс к механизму нервных
соединений или ассоциаций, но тем, что ищет окончательное объяснение
развития в наиболее общих структурных законах257.
Глава 5. Специальные факты
психологического
развития. Проблема
памяти. Обучение
ребенка
1. Память и ее первые проявления
Из двух проблем обучения мы пытались разрешить только проблему
успеха. Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных приобретенных
форм поведения ребенка, мы займемся, собственно, проблемой памяти.
Когда в обычной жизни говорят о памяти, в общем имеют в виду
воспоминание, т.е. тот факт, что прошедшие события нельзя
воссоздать вновь, оживить, но можно их себе «представить».
«Вспоминают, например, рано умершего друга, видят его перед собой «духовным
оком», переживают снова разговоры с ним. Самое характерное для
такого воспоминания то, что образуется феномен, связанный с
прошлым. Переживание, которое я себе представляю, появляется под
знаком того времени, в котором оно на самом деле происходило как давно
прошедшее, относящееся ко времени юности и т.п.; оно также
пространственно определено в лесу у N, у моря возле Z, или, например,
в Берлине, в Альпах и т.п. Описания, которые я здесь привожу, уже
показывают, что эти признаки места и времени могут быть очень
различными. Они могут быть относительно точными, например, «в день
моего первого экзамена», или только приблизительными — «в годы
моего студенчества».
Но всегда сохраняется определенность одна. Речь всегда идет
о прошедшем, уже пережитом. Но мы говорим также в обычной речи
о воспоминании и в тех случаях, когда эти признаки места и времени
отсутствуют. В ответ на просьбу назвать законы Кеплера можно часто
услышать: я «не могу их вспомнить», и, наоборот, вспоминают о них при
решении задачи. Но это должно означать следующее: я должен теперь
решить задачу, не задумываясь, я могу назвать законы Кеплера, но не
должен для этого вспомнить, где и когда я их учил. И здесь мы говорим
о воспоминании. На основе прежних переживаний мы можем исходить
из данной ситуации, мы можем сами решить задачу, назвать законы, не
перечитывая их258.
Но воспоминание это — не единственный путь, которым память
может увести нас из настоящего. Не только прошедшее, но и будущее
может быть представлено: я вижу молнию, затем я ожидаю гром, слышу
звонок в театре и ожидаю поднятия занавеса. В ожидании, в
устремлении в будущее мы также должны видеть проявление памяти. О том, что
не всякое ожидание оснащено на памяти, мы уже указывали в третьей
главе при анализе инстинктивных действий, это остается
справедливым, конечно, и для интеллектуальных действий. Благодаря
структурированию, к которому мы их сводим, образуются ясно выраженные во
времени структуры; когда животное подтаскивает ящик под палку, уже
предполагается употребление палки для доставания соблазнительной
цели, причем для этого нет надобности в опыте. Уже в первом решении
каждое из частных действий, входящих в него, производится в
зависимости от общего решения. В области восприятия также имеется
достаточно примеров этого. Когда мы слышим совершенно новую мелодию,
мы ожидаем, как она будет звучать дальше.
Возвратимся к памяти. Воспоминание и ожидание в той форме,
в какой они до сих пор были изображены, не являются еще
единственными ее проявлениями. До сих пор мы рассматривали функцию памяти
в известной мере независимо от восприятия: к миру восприятий в
качестве составных частей присоединяются «представления», иначе
говоря, феномены памяти. Другое, не менее важное проявление памяти
обнаруживается в самом восприятии. Я иду по улице, встречаю чужих
людей, но чья-то физиономия кажется мне знакомой; там я вижу моего
друга X, здесь — даму, рядом с которой я вчера ехал в трамвае. Память
в таких случаях влияет на то, что предметы приобретают характер зна-
комости, которая опять-таки может быть различной степени, начиная
от знакомости такого качества, как в первом случае, и кончая полной
уверенностью во втором, или знакомостью, носящей характер
воспоминаний и ожидания. Но это проявление не ограничивается
индивидуальным узнаванием, которое называют также воспроизведением. Даже
тогда, когда я узнаю в розе — розу и в куске мела — мел, мне даны такие
феномены восприятия, которые обязаны памяти доброй частью
своего своеобразия. Для того чтобы это понять, нужно только наблюдать,
как предмет, который мы видим в первый раз, например, новый
аппарат сменяет свой облик или физиономию при ежедневном
употреблении. Память проникает во всякое наше восприятие — это неоспоримый
факт. Вопросы возникают только при попытке точнее определить это
влияние. Во всяком случае, оно здесь гораздо сложнее, чем в
упомянутых выше случаях.
Проявления памяти все же этим еще не исчерпываются. Мы
ограничивались до сих пор только внутренней стороной нашего поведения —
феноменами, но иначе внешнее поведение связано с памятью. Я
ограничусь только уже приведенным в прошлой главе примером: я сегодня не
утонул в глубокой воде благодаря тому, что я в юности научился
плавать. Здесь моя память работает без переживаний; раньше, чем я успею
подумать, мои руки и ноги производят уже правильные движения.
После того, как мне удалось подняться снова на поверхность и вдохнуть
воздух, мне может прийти в голову мысль, что то или другое движение
было особенно целесообразным или ловким, и благодаря им я могу
регулировать свои плавательные движения. Таким образом и в моторных
действиях феноменальные влияния памяти могут играть роль. Итак,
при изучении проявлений памяти выдвигаются три точки зрения.
A. Участие сознания, более или менее сильное.
B. Отношение к восприятию, свободное или связанное.
C. Характер и степень определенности места и времени.
С помощью трех этих точек зрения мы можем определить
развитие функций памяти в индивидуальной жизни. Вначале стоят
проявления, в которых сознание принимает незначительное участие и которые
связаны с восприятием и не имеют определенности места и времени.
Наименьшая степень необходимости участия сознания возникает при
усовершенствовании внешних действий. С феноменальной стороны
проявление памяти обнаруживается в знакомости, пожалуй, еще раньше
в переживании чуждости: если внести младенца, которому еще не
исполнилось полгода, в незнакомую комнату, его поведение меняется, он
смотрит «удивленно», широко открытыми глазами вокруг себя, и это
удивление исчезает, как только он возвращается в привычное
помещение. Проявления памяти в обычной обстановке выражаются здесь
в впечатлении чуждости, но оно должно существовать уже и раньше.
Если бы ребенка не вносили в незнакомую комнату, его память осталась
бы такой же. Когда мы спрашиваем себя, как нужно представлять себе
это проявление памяти, то лучшим способом является описание его
следующим образом: мы выше нашли уже в примитивных феноменах
разницу между фоном и формой. Отражение привычной комнаты в памяти
будет состоять тогда в том, что оно приобретет в качестве «фона»
особый характер, относительно постоянный уровень, на котором появятся
отдельные феномены. Удивление в этом случае основано на изменении
уровня. Понятие уровня, по моему мнению, должно иметь большое
значение для психологии; никогда небезразлично, происходит ли
изменение уровня или образующихся на нем качеств.
Почти в то же время можно наблюдать, что у младенца при взгляде
на мать или другое знакомое лицо появляется довольная улыбка, и,
наоборот, он выражает сопротивление и недовольство при приближении
чужих. Здесь участие сознания, очевидно, сильнее, дело заключается
уже не в фоне. Кроме отрицательной реакции в отношении чужого,
образуется положительная по отношению к знакомому.
Следующим этапом, по моему мнению, будет то, что характер зна-
комости, который сначала не обладал никакой определенностью во
времени, приобретает ее в форме ожидания, в направлении будущего,
вернее, ожидания, направленного вперед. Нужно, как это подчеркнул Ке-
лер259, различать между будущим, которое находится вне постоянного,
характеризующегося определенными связями «настоящего», и таким,
которое является только продолжением и концом его. Келер
употребляет слово «будущее» только в первом смысле, в то время как первые
проявления, о которых мы говорили, подпадают под второе
определение. Уже Штерн отмечает со всей уверенностью260, что отношение к
будущему возникает раньше, чем к прошедшему, он слишком легко
заключает об освобождении памяти от восприятия, когда говорит о первых
ожиданиях представлений. Возьмем какой-нибудь пример: уже на
пятом месяце дочь Штерна — Гильда — открывает рот при приближении
ложки с супом после того, как вначале стоило немалого труда приучить
ее к этому новому способу питания. Я думаю, что вместо того, чтобы
говорить о представлениях ожидания, нужно лучше описать это
состояние так: ребенок воспринял процесс питания как структуру; в этой
структуре ложка занимает определенное место, она является в ней
некоторым динамическим феноменом, как мы уже много раз описывали,
т.е. ложка в качестве феномена заключает в себе переход к другим,
связанным с ней состояниям, подобно тому как облако кажется нам не
только черным, но и угрожающими, причем мы не должны обязательно
представлять себе наступающую грозу.
Подобно тому как знакомости соответствует чуждость, так и
ожиданию соответствует забвение, и мы имеем столь же мало оснований
ссылаться здесь на свободные представления, как и в последнем
примере. Мисс Шин сообщает о своей племяннице в возрасте: одетая
в светлое дама играла с ребенком и затем вдруг скрылась из поля
зрения ребенка, ребенок несколько минут искал внезапно исчезнувшее
зрительное впечатление, «которое, судя по этому, — поясняет Штерн
цитату, — должно было сохранить представление в несколько
потускневшей форме». Я позволю себе усомниться в правильности
объяснения Штерна. Именно в очень раннем возрасте, к которому относится
это наблюдение, мне кажется очень неправдоподобным
существование представлений, т.е. освобожденных от восприятия феноменов.
Гораздо более адекватно следующее описание: очень яркая ситуация
внезапно исчезает, на ее место выступает другая, основным
феноменальным признаком которой является то, что она «нуждается в
завершении».
Это объяснение кажется мне правильным еще и потому, что
соответствует наблюдениям над шимпанзе. «Искание чего-то на самом деле
не существующего — довольно обычное занятие для шимпанзе». То же
самое я могу сказать о моей собачке, которая то и дело прерывает свою
игру с человеком для того, чтобы разыскивать свою игрушку (мяч,
камень, кость и т.д.) и принести ее. Во всех этих случаях смысл
заключается исключительно в продолжении «настоящего»261.
До сих пор не установлен возраст, в котором мы начинаем
суверенностью воспринимать свободные представления. В начале второго года
жизни, во всяком случае, возникают воспоминания, т.е. первые
отношения к прошлому. В том, в какой мере то, что представляется
правдоподобным действительно сначала было связано с восприятием, нельзя
заключить из находящегося передо мной материала262, точно так же
нельзя заключить о том, являются ли первые свободные представления
«представлениями будущего». Во всяком случае, первые отношения
к прошедшему в высшей степени не определены, и это изменяется очень
медленно. Даже 4-летнему ребенку очень трудно установить
воспоминание о вчерашнем дне и невозможно о позавчерашнем. В этом возрасте
существует неопределенное впечатление длительности и грубое
различение между тем, что было раньше и что позже и иногда даже между
сегодня и не сегодня. В запоминаниях такого ребенка определения по
признаку места развиты лучше, чем определения по времени — «это
было в Берлине», «это на даче» и т.д. Воспоминания — только члены
больших комплексов и сохраняют частичный характер.
Представления без временных и пространственных отношений в
таком виде, в каком мы применяем их для подкрепления нашего
мышления, должны появиться очень поздно. Я не включаю сюда так
называемые фантастические представления, когда ребенок понимает сказку
и передает ее, а самый «возраст сказок» начинается на четвертом году
жизни263; возникающие при этом представления едва ли можно считать
не связанными совершенно со временем. Они немногим отличаются от
тех, которые относятся к далекому прошлому ребенка. Эти
фантастические представления являются шагом вперед в том смысле, что они не
относятся к индивидуальным переживаниям — несмотря на то что по
своему существу должны быть очень сходны с ними — но вызываются
только рассказами. Функции памяти у ребенка развиваются также в
направлении охвата памятью все более длительных промежутков времени.
Эту проблему раньше других основательно исследовали К. и В. Штерн.
Развитие обнаруживается при узнавании, как и при воспоминании.
Первое имеет преимущества, но и тут оказывается, что узнавание есть
более примитивное проявление, чем воспоминание264. И, наконец, было
установлено также, что воспоминания возникают следующим образом:
сначала воспоминания присоединяются только к восприятиям, затем
также и к «представлениям». Вначале ребенок относится пассивно
к своим воспоминаниям, только постепенно он начинает ими обладать,
начинает произвольно и по обращенным к нему вопросам возвращаться
к определенным событиям265.
Наконец, укажем еще на одну особенность детской памяти,
которую Иенш и его школа сделали исходным пунктом своих обширных
и плодотворных работ266. Дети часто обладают способностью к
оптическому и реже к акустическому образованию представлений, т. е. они
могут произвольно репродуцировать чувственное впечатление через более
или менее продолжительное время с большой точностью. Из 205
мальчиков в возрасте между 10-15 годами удалось установить эту
способность у 76, т.е. у 37%. С какого возраста возникает эта способность,
названная Иеншем эйдетической, мы еще не знаем. Но исследования
Иенша сильно побуждают к дальнейшим исследованиям маленьких
детей. Из множества отдельных результатов мы приведем здесь только
некоторые: «Сенсорная память также не без выбора прочно сохраняет
предложенный материал, она связана с выбором, зависящим не
только от частоты предъявлений и выразительности материала, но также от
установки. Этот выбор с точки зрения предметности у многих
настолько преобладает, что при исследовании восприятия цветов мы должны
отказаться от обычных средств научной оптики и предпочесть им
цветы. Они, а не гомогенные бумажки одинакового цвета, дают ясные
зрительные представления»267. В дальнейшем оказывается, что феномены
восприятия дают такое поведение, которое Иенш относит к слиянию
восприятия со зрительным представлением. Иенш идет дальше, называя
зрительное представление первоначальным недифференцированным
единством, из которого произошли образы восприятий, представлений
и физических отражений. Я считаю, что результатом марбургских
работ является следующее: образы восприятия детей очень целостны, так
что изменение одной части очень сильно влияет на другие по сравнению
с воздействующими объектами268.
2. Законы памяти
Несколько слов о законах памяти. Ввиду того что мы отвергли
понимание ассоциаций как внешней связи между самостоятельными
частями, мы не можем признать существование общего закона
ассоциаций. Закон этот можно выразить приблизительно так: если феномены
А, В, С одновременно или несколько раз непосредственно один за
другим возникали в сознании, то при появлении одного из них образуется
тенденция к репродукции остальных. Особые законы регулируют силу
влияния каждой из частей на преобладающую тенденцию. Этот закон
должен быть заменен другим: если феномены А, В, С однажды или
несколько раз существовали в качестве членов структуры, то при
появлении одного из них при условии сохранения им этого характера «части
целого» образуется тенденция к более или менее полному и четкому
восстановлению всей структуры. Что означает собой «включение»,
относящееся к возникновениям одного из членов, можно пояснить
следующим примером: если спросить, как называется птица, название
которой начинается слогом «вор», то очень часто получается ответ
«ворона». В других условиях оказывается довольно сложным переход от
слова «вор» к «ворона». В первом случае слог «вор» носит характер
начального слога, во втором, напротив, оно является самостоятельным
односложным словом.
Репродукция может происходить и другим путем: в нашем примере
«ворона» может прийти на ум не только потому, что «вор» переходит
«само собой из начального слога в законченное слово». Это может
произойти благодаря попытке образовать из слога «вор»
самостоятельное слово по свойственной языку форме. Здесь репродукция состоит
в том, что целостная структура образуется из ее начального члена и для
этого больше не требуется предшествующего переживания новой,
репродуцированной формы. Таким образом, происходят
многочисленные «ложные», т.е. лишние в языке образования, когда ребенок только
начинает говорить, которые он не мог слышать и которые он свободно
образует по привычным принципам структурирования. Мы приведем
только несколько примеров из собранных в большом числе супругами
Штерн: Г. Шт. 3 года 8 месяцев: «припоясан» (ver-gurtelt) = связан с
помощью пояса; она же 3 года 9 месяцев: «метрить» (metera) = измерять
сантиметром; Т. Ш. 3 года 10 месяцев: «машинщик» (maschiner) =
машинист; он же: «жулить» (dieben) = воровать; С. С. 2 года 6 месяцев:
«колоколит» (esglockt) = колокола звонят269. Такого рода репродукция,
имеющая еще меньше общего со старым принципом, чем первая, имеет
очень большое значение для развития мышления вообще.
Благодаря новейшим исследованиям, поставленным, в частности,
К. Левиным и его учениками, возник вопрос: не всякая ли репродукция
происходит по этому второму способу. Иначе говоря, вопрос о том,
возможна ли вообще автоматическая репродукция, который не возбуждал
раньше сомнений, превратился в острую проблему. Возникает ли
тенденция к завершению из самого переживания части, или же движущие
силы происходят совсем не из самого данного процесса, но возникают
в «я», которое напрягается в определенном направлении в тот момент,
когда до него доходит содержание. К. Левин выразил это следующим
образом: ассоциация не есть двигатель психических явлений, но просто
условие их возникновения. И он доказал это положение на многих слу-
чаях. Но это доказательство еще не всегда применимо, прежде всего,
неприменимо к такому содержанию части, при котором часть сильнее
осмысленного целого. Я склонен поэтому признать реальность первой
формы нашего закона памяти.
Более детальное обоснование моих взглядов привело бы к сложным
построениям, касающимся основных вопросов психологии мышления
и воли, которые здесь неуместны. Нужно только коротко остановиться
на другой стороне вопроса. Казалось бы, что то, что справедливо для
репродукции, можно распространить также и на узнавание вообще, на
влияние прежнего опыта на восприятие. Готтшальдт поставил
соответствующие исследования, которые в согласии с данными Левина не могли
установить автоматического опыта. Совсем другие факторы оказались
в этих опытах настолько сильнее, что автоматическое влияние опыта не
могло проявиться. Несмотря на это, было бы ошибочно на основе этих
опытов просто отрицать автоматические последствия и утверждать, что
они вообще не имеют никакого влияния на восприятие, что совершенно
безразлично, имеют ли место сходные, подобные восприятия или нет.
Во всяком случае, интересно наблюдать, как изменилась сама
психологическая проблема. То, что прежде принималось как нечто само собой
разумеющееся, теперь превратилось в проблему.
В обоих случаях репродукции и восприятия не вполне совпадают.
Доказательство существования автоматического влияния опыта в
одном случае еще не служит доказательством для другого. И все же, мне
кажется, вполне допустима и для памяти возможность автоматического
действия в указанном выше смысле270.
Заслуга формулирования закона репродукции в близком
изложенному виде принадлежит О. Зельцу. Он показал на собственных опытах
и общеизвестных фактах, что объяснение взаимодействия
многочисленных, независимых друг от друга ассоциаций путем «констелляций»
несостоятельно: его законы, разумеется, имеют больше формальное
сходство с вышеизложенным, чем сходны с ним по существу. В
основном теория Зельца, как отмечает Бенари, является механистической271.
Традиционное учение наряду с рассмотренном уже законом
ассоциаций имеет еще один закон — репродукцию по сходству.
Ассоциациям по сходству противопоставляют ассоциации по смежности, причем
ассоциацией называется здесь не только связь между
представлениями, но также и процесс воспроизведения этих связей. При
употреблении слова «репродукция» нельзя больше иметь в виду ассоциации по
сходству, потому что этот принцип означает: представление А может
вызвать другое представление AI, не будучи связанной с ним
ассоциацией, если А в достаточной мере сходно с AI. Этот принцип в основном
не соответствует теории ассоциаций, потому что сходство не есть внеш-
няя, но внутренняя, основная зависимость, и понятно, что указанием на
«сходство» подрубается под корень попытка замены всех внутренних
зависимостей только внешними. Не было недостатка также и в
попытках, исключающих возможность объяснения репродукции сходством,
и отнести их всех к ассоциациям по смежности. Но факты этого не
подтвердили, Л. Шлютер, сотрудница Мюллера272, главного
представителя ассоциативной психологии, сама приводит доказательства в пользу
влияния сходства. К тому же вышедшая из Геттингенского
психологического института работа Р. Гейне273 показала, что и узнавание нельзя
отнести к действию ассоциаций. Уже давно предполагали, что между
узнаванием и репродукцией должна существовать связь по сходству:
лично я в обеих формах усматриваю частные случаи более общей
закономерности274.
Объяснение этой закономерности представляет собой
необычайную трудность для теории ассоциаций, в особенности если принять
во внимание его физиологическое обоснование. Мы уже видели, что
другие влияния сходства Криз приводил в качестве главного
аргумента против этой теории. Для структурной теории эта трудность
значительно уменьшается. «Сходные структуры» бывают и в физике.
Принцип сходства в таких случаях будет означать, что существовавшая уже
структура создает благоприятные условия для образования такой же
или подобной ей структуры.
Таким образом, мы определили наиболее общую функцию памяти
сообразно нашему пониманию. Если однажды образовалась уже
структура в определенных внешних условиях, то этот акт как-то сохраняется
в организме и влияет на последующие его проявления.
3. Моторное обучение: ходьба,
ее созревание и обучение
После рассмотрения предварительных теоретических вопросов мы
перейдем к примерам из четырех областей, намеченных нами в начале
прошлой главы, имея в виду самое развитие ребенка.
Моторное обучение. Мы не будем повторять того, что было уже
выше сказано вообще об обучении движениям. Мы начнем с обучения
ходьбе. Время начала первых попыток, так же как и начала свободной
ходьбы, подвержено очень большим колебаниям. Восьмой месяц, во
всяком случае, является слишком ранним сроком, а четвертое
полугодие — слишком поздним сроком для первых попыток. Говорят: ребенок
учится ходить и, конечно, учится различным образом. Но
действительно ли он учится ходить? Если ребенка, как предлагает Джемс, когда он
начинает свои первые попытки ходить в течение нескольких недель, за-
держивают мелкие ушибы, останется ли он к концу этого времени при
своих первых попытках таким же неловким, как вначале? Это в высшей
степени неправдоподобно. Изменение может быть основано здесь
только на созревании, и неловкость движений при первых опытах
объясняется тем, что центры, которые регулируют движения при ходьбе, еще не
вполне созрели, разумеется, и потому, что детские кости и мышцы
недостаточно развиты. Ходьба является для нас таким же неизученным
проявлением такого же рода, как первый полет птицы, которая уже умеет
достаточно хорошо и уверенно летать. Конечно, и здесь имеет место
усовершенствование, и мы не должны думать, что человек, которому не
давали ходить до шестилетнего возраста, сохраняя неповрежденными
участвующие при этом мускулы, при первой же попытке сумеет бегать
так же, как и его ровесники. Но, исходя из этого, мы не должны
ограничиваться только одними компонентами обучения. Само созревание
также нуждается в побуждении путем деятельности.
Это показывает исследование Брида (Breed) о развитии клевания
у кур. Если понимать под клеванием весь процесс принятия пищи —
раздробление, схватывание и проглатывание пищи, то в первые же дни
наблюдается сильное развитие этой сложной деятельности. Цыпленку
со второго дня подсыпали зерна и ежедневно наблюдали, сколько было
успешных попыток клевания. Из 50 попыток одной группы в среднем
было успешных в 1-й день — 10,3, во 2-й — 28,3, в 3-й — 30, в 6-й — 38,3
и в 15-й — 43,2. Для сравнения брались и другие цыплята, которых
несколько дней кормили искусственно и только затем вводили в ситуацию
клевания. Результаты первых дней были не лучше, чем у первого
цыпленка, но улучшение действий происходило гораздо быстрее. Один
цыпленок, начавший на четыре дня позже, чем нормальная группа, уже на
следующий день превзошел ее. Я думаю, что из этого следует, что
созревание без побуждения не достигает высокого развития, однако большая
часть усовершенствования падает на созревание. Так, после шести дней
клевания все цыплята клюют почти одинаково, хотя они упражнялись
различное время. Созревание, для того чтобы быть действенным,
требует побуждения самой функцией275.
Новейшие опыты немного усложнили вопрос. Дороти Мозли276
повторила опыты Брида и получила при этом результаты, по ее мнению,
противоположные тому, что получил ее предшественник. На самом деле
цыплята, задерживавшиеся в своем развитии, не превосходят никогда
нормально развивающихся; с другой стороны, по крайней мере
некоторые частичные действия настолько быстро усваиваются ими, что
приведенная здесь точка зрения кажется правильной даже и в том случае,
когда для окончательного выяснения еще требуются специальные
опыты. В действительности она подтвердилась остроумным опытом Гезелла
на паре близнецов. Оба близнеца обнаружили удивительное сходство
не только по внешности, но и в поведении. К концу первого года
жизни был поставлен следующий опыт: один из близнецов Т. в
продолжение шести недель ежедневно 20 минут обучался всходить на лестницу,
состоявшую из пяти ступенек. После двух недель он в первый раз мог
с очень маленькой помощью правильно подняться на лестницу, к концу
периода обучения он стал довольно хорошо взбираться. Другой
близнец С, который за все это время ни разу не подводился к лестнице, не
мог даже с помощью подняться на лестницу. «Но когда близнец
(девочка) достиг 53-недельного возраста (то есть только через неделю) и
снова был приведен к лестнице, он без всякой помощи и предварительной
дрессуры взобрался на лестницу. В этом смысле лазание было почти
исключительно функцией созревания соответствующих нервных центров.
После этого С. приучали в течение двух недель к лестнице (так же как
ее сестру семью неделями раньше). К концу этого времени она почти
догнала свою сестру. Но если сравнить при помощи киносъемок действия
55-недельной С. после двух недель упражнения с 52-недельной Т. после
шести недель упражнения, то можно видеть, что С, будучи старше, уже
после упражнений, производившихся в течение трети времени, лучше
действует, чем Т. Еще один ясный признак того, какую роль играет
созревание при усовершенствовании действий277.
Что при обучении ходьбе действительно что-то приобретается,
показывает наблюдение Бинэ над двумя сестрами, из которых
старшая и более слабая — первый ребенок — раньше научилась свободно
ходить, чем младшая. Старшая относилась к делу со всей
внимательностью, она выбирала себе объекты направления и шагала с
величайшей серьезностью от одного к другому. Младшая была очень живая
и двигалась достаточно свободно без специальной концентрации
внимания278. Это наблюдение над влиянием внимательности на обучении
ходьбе говорит за то, что кое-какие моменты здесь действительно
являются результатом. Мы должны будем принять, что при этом
меньшую роль играют самые движения при ходьбе, чем направление,
приспособление к цели и т.п.
Обучение ходьбе постольку является сенсорно-моторной
деятельностью, поскольку она представляет собой движение, направленное
либо от непривлекательного предмета, либо к чему-либо
привлекательному. Из вышеизложенных соображений о силах, лежащих в
основе нашей деятельности, само собой разумеется, что и эта форма
ходьбы не является результатом навыка. В этом смысле движение
к цели есть одна из первых реакций даже и тогда, когда она еще не
осуществляется на деле. Это показано подробными наблюдениями
Гильома. Уже на 11-й день ноги участвуют в стремлении тела вперед
к видимому предмету. На 34-й день ребенок, если его держать под
руки, совершает все необходимые при ходьбе движения (ноги высоко
подымаются, растопыриваются и сгибаются пальцы, когда нога
ступает вперед и опирается об пол)279. И это стремление к перемене места
заключается даже в попытке выползти наружу, наблюдавшейся тем
же исследователем на 4-м году жизни.
4. Продолжение. Хватание и осязание.
Моторные структуры
Еще до начала ходьбы усваивается комплекс движений, к которому
мы сейчас переходим, — хватание и осязание. Очень точными
наблюдениями над развитием этих действий мы обязаны наряду с Прейером,
прежде всего, мисс Шинн и в последнее время Уотсону280. Развитие
представляет собой очень сложный процесс и проходит
многочисленные стадии. Первоначальным органом осязания ребенка является не
рука, а рот. Начиная с 4-й недели, все это попадает в рот, не только
обсасывается, но и обрабатывается губами и языком. Эти движения
больше не находятся в непосредственной зависимости с принятием пищи:
когда прикасаются щекой ко рту ребенка, он сейчас же начинает сосать,
если он голоден, но скоро начинает облизывать языком.
Раскрывание рта, о котором шла речь выше, мы можем теперь
считать самой примитивной формой хватания. Нет никакого противоречия
в том, что мы раньше называли это движение выразительным, но оно
обнаруживается как «недифференцированное» поведение в начальной
стадии и мало поддается резкому отграничению, свойственному
психологии взрослого.
Осязание ртом получает еще большое значение тем, что позже все
возможные предметы из рук передаются в рот. Но это происходит не
так скоро. Раньше проходит стадия, в которой ребенок вводит в рот
только свои пальцы (по Шинн — начало 3-го месяца). Интересно, что
это движение вначале производится не только руками, но как только
поднимается рука, опускается голова; движение, следовательно,
связано с взаимодействием руки и рта. Движения ребенка не являются
изолированными движениями рук, но скорее более диффузными
движениями, объединяющими движения рук и рта. Получается, по опытам Уот-
сона, что основной компонент этих первых действий еще сохраняется,
когда другие предметы уже вводятся в рот. Один ребенок на 101-й день
(15-я неделя) вложенную ему в руку сахарную палочку засунул глубоко
в свой рот; это движение, очевидно, было закончено только тогда, когда
пальцы коснулись рта, в то время как прикосновение сахарной палочки
к губам и языку не задержало этого процесса.
На 12-й неделе мисс Шинн наблюдала начало хватательных
движений рукой. Вещи, которые как-нибудь случайно приходят в
соприкосновение с рукой, схватываются и высоко поднимаются и через
некоторое время отпускаются При этом характер хватания зависит от того
места руки, к которому прикасается вещь. Глаз при этом еще не играет
никакой роли, ребенок не видит ни прикасающейся вещи, ни своей
собственной руки. Развитие вначале происходит, главным образом, в
тактильной сфере. При этих движениях довольно часто случайные
предметы, находящиеся в руке, приближаются ко рту. Наблюдавшаяся мисс
Шинн племянница на 86-й день действительно пыталась засунуть в рот
погремушку. На следующий день эти попытки продолжались и именно
так, что погремушка поднималась к лицу и потом направлялась ко рту,
и когда это удавалось, ребенок начинал ее сосать. Но удивительно было,
насколько к этому времени она хуже умела засовывать в рот
погремушку, чем свои собственные пальцы. Однако еще за три недели раньше —
в возрасте 48 дней, она уже однажды вводила в рот шесть раз
вложенный ей в руку карандаш и сильно обрабатывала его губами и языком, но
с тех пор до 86-го дня никогда не делала ни малейшей попытки такого
рода. Такая апреципация действий, становящихся доступными только
значительно позже, вообще характерна для развития маленького
ребенка. Теоретически она также представляет собой большой интерес.
Эта способность медленно совершенствуется, при этом в движении
вначале еще принимает участие голова. Когда погремушку подносят
к носу, рука не опускается, а голова поднимается. Раздражителем здесь
по-прежнему остается случайное прикосновение к руке. Если
одновременно дотронуться до обеих рук, то обе руки устремляются к вещи, но
это еще не означает настоящего сотрудничества обеих рук, так как при
случайном их столкновении одна рука схватывает другую и тянет в рот.
Начиная с 99-го дня наблюдается участие зрения при хватании,
племянница Шинн смотрит на предмет во время хватания. Гильом
наблюдал ребенка приблизительно такого же возраста, который смотрел на
свою руку в то время, когда она направлялась ко рту281. Направление
взгляда в сторону звука имело место уже значительно раньше. Мисс
Шинн указывает очень ранний возраст — 45 и 57 дней, когда ребенок
смотрит на прикосновения к роялю, на котором играют. На 87-й день
она впервые смотрела на колотушку, которую держала в руке без того,
чтобы можно было с уверенностью считать прикосновение причиной
направления взгляда. Взгляд, следовательно, направляется звуком
гораздо раньше, чем рукой, что частично можно объяснить изложенным
выше. Лишь позже глаз начинает направлять хватание; проходит еще
долгое время, когда глаз служит только для рассматривания вещи,
находящейся в руке. Только тогда очень медленно начинает развиваться
хватание воспринимаемого. На 113-й день ребенок видит протянутую
к нему руку матери и, направив на нее свой взгляд, делает неудачные
движения своей собственной рукой до тех пор, пока не прикоснется
к руке матери, схватывает ее и тащит в рот. Как сильно еще участвует
рот во всем акте, показывают относящиеся к этой стадии опыты Прейе-
ра, которые подтверждаются затем опытами Уотсона. Перед
схватыванием или непосредственно после него рот остается открытым, хватание
видимых предметов остается еще долгое время как первая часть более
полного действия: видимая вещь отправляется в рот. И эта первая часть
действия еще долгое время отличается от второй своей неуверенностью
и неточностью: пальцы растопыриваются, но еще не в положении
хватания, которое принимается рукой только после прикосновения к
предмету. Взгляд во время движения руки направлен прямо на предмет. В
известной мере здесь повторяется для этой части акта то, что
наблюдалось раньше в более простом действии «введения вещи в рот». Теперь
этот акт определяется взаимодействием предмета и руки.
Когда это действие уже усвоено, остается еще одна последняя
задача: замена осязания ртом осязанием руками. В возрасте семи месяцев
племянница Шинн в первый раз играла с предметом, не засовывая его
в рот, но это оставалось редким явлением до конца 8-го месяца, и вплоть
до 2-го года подходящие предметы тянулись в рот; многих детей только
на третьем году приходится отучать от этого искусственно. Движения
руки при осязании усовершенствуются очень медленно — гораздо
медленнее, чем хватание.
Рассмотрим теперь все это развитие в целом. Относительно
сложное действие создается из гораздо более простых. Мы приближаемся
здесь к тому, чтобы вместе с Прейером считать, что обучение состоит
не в чем ином, как в частичной изоляции и новых комбинациях уже
существующих движений. Речь идет о дрессуре в обычном понимании,
и в этом смысле и Бюлер причисляет совершенно отчетливо обучение
хватанию к дрессуре. Мы видим теперь, почему важно такое
подробное теоретическое рассмотрение сущности этой формы обучения: «По
этому принципу происходит приобретение всех бесчисленных
манипуляций и действий, которыми человек в раннем детстве учится овладеть,
начиная с элементарных движений ползания и ходьбы и хватательных
движений... и кончая техническими и художественными «навыками»
в узком смысле слова»282. Но, с другой стороны, уже Бюлер указывает
на сходство самого хватания со взглядом. «Как движения глаз, которые
приводят изображение на самое отчетливое место зрения,
вызываются рефлекторными и периферическими световыми впечатлениями, так
действует движение руки, несущей предмет в рот как к месту лучшего
осязания»283, — говорит он в отношении стадии, в которой зрение еще
не участвует при хватании. Он объясняет это как образование связи
между ощущениями давления и сгибательными движениями руки. При
изучении движений фиксации мы отклонили эту теорию и заменили ее
другой. Можем ли мы и здесь сделать то же самое? Та же проблема
возвращается, когда взгляд начинает руководить хватанием. И мы опять не
соглашаемся подобно Штерну284 с «эмпиристским» объяснением, но
будем считать, что эта стадия развития сделала возможными прямые
зависимости между оптическими впечатлениями, движениями руки и
тактильными ощущениями, что мы взгляд на предмет приводим к тому, что
ребенок хватает его и тянет в рот. Гильом также считает необходимым
отвергнуть эмпиристское объяснение этого действия, во-первых, из-за
слишком быстрого обучения и еще потому, что ребенок в своих первых
попытках видит всегда только предмет, а не хватающую руку285.
Действительно, независимо от общих выводов прошлой главы
существует ряд фактов, говорящих против приложенной сюда теории
ассоциативных связей. Раньше всего могут быть приведены те же доводы,
которые мы приводили против такой же теории в объяснении фиксации
глаза. Число соединений должно быть неимоверно велико. Теория
соединений исходит из факта, что индивидуум научился достигать
определенного успеха своими движениями, она объясняет это соединениями,
не имея возможности доказать, что все соединения, необходимые для
объяснения, в действительности существуют. С этого пункта подходит
к рассмотрению этой теории также и Криз286. Он показывает на
примере письма, как иннервации мускулов, которые требуют для письма
только букв, подвержены очень большим колебаниям, смотря по тому,
будем ли писать крупнее или мельче, быстрее или медленней, жирнее
или слабее, держа руку так или иначе, направо или налево, на верхней
или нижней части страницы. Криз также видит в этом решительное
возражение против гипотезы «ассоциативных соединений». Как объяснит
эта теория то предвосхищение движений, на которое мы выше
указывали? Ребенок шесть раз правильно засовывал в рот карандаш. Это можно
было бы объяснить путем двигательных ассоциаций, если бы движение
каждый раз начиналось с одинакового положения руки. Тогда можно
было бы сказать, что это соединение однажды случайно образовалось
и сохранилось в короткое время, в течение которого были произведены
как раз эти действия. Но это противоречит сообщению мисс Шинн287.
Опыт начался с того, что мисс Шинн вложила карандаш в руку ребенка,
находящегося в покое; когда ребенок затем подносил его ко рту, она
отводила от лица руку ребенка, чтобы он не нанес себе повреждения.
«К моему удивлению, ребенок понес карандаш непосредственно, после
того как я его оттолкнула снова, обратно, и так 6 раз», — описывает
наблюдательница этот случай. Совершенно ясно, что не одно и то же дви-
жение каждый раз повторялось ребенком, т.е. функционировало одно
и то же соединение, но так, что всегда достигался одинаковый
результат. Напротив того, этот случай очень близко подходит к
инстинктивному поведению, так как ребенок протягивал губы и язык, сопровождая
это сосательными движениями, навстречу карандашу, как если бы это
была грудь. Мы еще вернемся позже к этому последнему наблюдению:
обратимся теперь к другому возражению против теории соединения.
Эта теория утверждает, что движение, первоначально произведенное
инстинктивно или как-нибудь иначе, остается таким же в
образованном в результате навыка действии. Как движение оно остается в обоих
случаях одинаковым. Это предполагает, что процесс движения
состоит из отдельных, изолированных частей. Такое предположение имеет
свой аналог в сенсорной области: восприятие состоит из известного
числа изолированных ощущений. Это воззрение мы уже опровергли
нашей структурной теорией, в этой главе мы приведем еще дальнейшие
доводы против нее. Таким образом, в применении к моторной области
мы с самого начала относимся скептически к этому воззрению. Оно не
соответствует также целому ряду фактов. Когда маленький ребенок
будет производить какое-нибудь движение, которое он спонтанно или
инстинктивно выполняет вполне точно, подражая движению взрослого,
то подражательное движение будет отличаться от такого же
спонтанного своей заметной неловкостью. На это указывал еще Компейрэ288.
Штерн также сообщает о своей дочери: «Если ребенку говорят в случае
удачи: "так, так", то он реагирует на это часто тем, что воспроизводит
только что непроизвольные, без труда произнесенные слоги с
очевидным, часто длящимся секунды, напряжением»289. Изолированно этого
нельзя понять, если считать определенное движение независимым от
происхождения и связи с ситуацией.
Наконец, то же непосредственно наблюдал Левин на ребенке в
возрасте двух с половиной лет. Не останавливаясь на подробностях, я
укажу только общий принцип. В одном случае ребенок мог в правильной
последовательности производить все отдельные части действия А, В, С,
D, например, правильно произносил несколько слогов довольно
длинного слова. Но если вместо последовательности ABCD предлагалась
другая — АВСЕ в слове, употребляемом самим ребенком, то часть С
выполнялась неправильно. И наоборот, если некоторое сложное действие
состоит из частей ABC, долгое время ребенок напрасно пытается
выполнить действие AB. Левин правильно заключает, что каждый раз мы
имеем качественно различные действия, а не простое количественное
различие, полученное путем сложения или вычитания290.
В Америке исследовали путем многочисленных экспериментов
обучение новым движениям; используя при этом такие действия, как,
например, кидание мяча в цель, основные приемы боксеров, письмо на
машинке или очень упрощенное поведение, содержащее эти действия,
наконец, письмо в затрудненных условиях, например, левой рукой или
так, что собственный почерк был виден только в зеркале и т.п. Все эти
исследования показали, как мы уже указывали в предыдущей главе, что
усвоение этих движений не есть чисто моторное обучение: абсолютно
необходимы сенсорные составные части. Дальнейшим результатом,
достаточно общепризнанным, является следующее: чем более задача
обучения связана с элементарной моторикой, тем меньшее участие
принимает в ней сознание, и тем больше необходимо ориентироваться на
цель, а не на деятельность. Если бросать мяч в цель и следить за
бросанием, а не за целью, можно быть уверенным в том, что действие будет
неудачно291.
Обучение сложным движениям, например, на машинке письму из
10 слов, которые должны быть написаны в одной и той же
последовательности, происходит так, что вначале нужно отыскать каждую букву,
а затем уже писать, причем искание, процесс внешнего восприятия,
стояло в центре. Этот процесс изменяется, лишние движения отпадают, из
всей массы несвязанных подробностей становится комплексное
единство292. Образуется «мелодия движений», оптическое отыскивание
отдельных букв исчезает, внимание обращено только на процесс как таковой.
Больше того, каждое отвлечение внимания подробностями приносит
затруднение. Насколько глубоко возможно исчезновение оптического,
показывает значительный опыт Бетца293. Бетц обладает большим опытом
письма на пишущей машинке и постоянно пользуется ею. Однажды он
попробовал проверить, сумеет ли он по памяти нанести таблицу букв
своей машинки. Попытка была неудачной, оказалось очень трудным не
только вообще припоминать, но он сделал много достаточно грубых ошибок,
хотя обычно при письме на машинке он никогда не смотрел на буквы.
Ошибка сознается только тогда, когда она уже сделана;
неправильное движение тотчас же выделяется как «не относящееся к мелодии».
Если мы зададим себе вопрос: как образуется из суммы отдельных
движений мелодия движений, то ответ будет гласить: это происходит само
собой, но при правильно направленном на внешнюю цель внимании
движения изменяются и приобретают все более совершенные формы. Это
очень сходно с рассмотренными в прошлой главе опытами Ругера. В то
время как там «улучшение» при обучении наступает только тогда, когда
оно становится осмысленным, здесь это происходит иначе, по крайней
мере в отношении более тонких приспособлений. Они могут, конечно,
иногда отражаться в сознании, но это не влияет на результат обучения.
Как мы видели, направленность внимания на эти процессы только
препятствует выполнению действия.
Но что внимание само по себе влияет на обучение очень простым
мелодиям движений, это было достаточно убедительно доказано Ордалем294.
Мюллер и Шуман еще в 1889 г. нашли, что мы помимо нашей воли
и сознания можем образовать мелодию движений, которую они
называют «моторной установкой». Если много раз подряд ритмически
поднимать легкую и тяжелую гири, то образуется постепенно
моторная установка. Подымание пары гирь станет процессом, в котором за
легким подыманием следует тяжелое, более напряженное поднимание
пары, приобретает ритмический характер ямба. Существование
моторной установки доказывается тем, что после опытов упражнения
ставятся контрольные опыты, в которых пара гирь на легкой и
соответствующей ей тяжелой гири из раза в раз приобретает другой вес. Тогда
испытуемый с моторной установкой из пары совершенно одинаковых
гирь находит одну слишком легкой; и только тогда, когда вторая гиря
окажется значительно тяжелее первой, обе покажутся ему
одинаковыми. Это объясняется тем, что старый импульс при поднятии путем
установки становится гораздо сильнее, чем первый, благодаря чему
значительный вес кажется более легким.
Испытуемый, конечно, ничего не знает о своей установке. Ордаль
изучал два различных способа вызывать моторную установку. В одном
случае он сильно отвлекал испытуемую от упражнений в поднимании
двух гирь, одна из которых вдвое тяжелее другой, тем, что читал ей
интересные рассказы, содержание которых испытуемая должна была
затем точно воспроизвести. В противоположном опыте он обращал
внимание испытуемой на гири, причем в упражнениях не только
применялись гири вдвое тяжелее второго члена пары, но две несколько более
тяжелые и две более легкие. Испытуемый должен был определить при
каждом поднятии, является ли вторая гиря вдвое тяжелее первой, или
ее вес отклоняется в ту или другую сторону. При таких условиях
установка оказывалась действительно заметно сильнее, чем при условиях
отвлечения. Вспомним наблюдение Бинэ, устанавливающее, что
внимание способствует ходу обучения.
Интересные наблюдения Кро показывают, как в очень раннем
возрасте моторные навыки оставляют уже значительные следы в памяти,
т.е. полностью сохраняются в организме. Ребенка 14 дней, до тех пор
питавшегося только грудью, в силу внешних обстоятельств пришлось
попеременно кормить грудью и из бутылочки. Для этого употребляли
две бутылочки, отличавшиеся между собой тем, что отверстие в одном
рожке было меньше, чем в другом. При этом обнаружилось следующее.
Ребенок отстранялся не только от бутылки с узким рожком, но и от
груди, если предшествовавшее питание он принимал из бутылочки с более
широким отверстием. Если же, наоборот, питание грудью следовало по-
еле бутылочки с узким горлом, ребенок пил легче и быстрее обычного.
Кро справедливо заключает из этого, «что после каждого приема пищи
остается предрасположение, которое определяет характер сосания при
последующих приемах пищи»295. Вполне очевидно, что здесь в полном
соответствии с вышеизложенным речь идет о действии, выполняемом
при сильно напряженном внимании.
Выводом из всего изложенного является следующее: при обучении
более или менее сложным движениям должна образоваться мелодия
движений, т.е. образ такого же рода, как и наши структуры. Мелодия
движений состоит не из отдельных частей, но образует расчлененное
целое. Сама моторная установка, которую ее защитники объясняли
совершенно иначе посредством ассоциаций, является сильным
доказательством правильности нашего утверждения. Моторная установка,
созданная строго ритмичными движениями, регулируемым метрономом,
предполагает, следовательно, необходимость определенной структуры,
точно так же как обучение бессмысленным слогам невозможно без
образования комплекса. Это сходство с сенсорным обучением
обнаруживается также и в том, что многие его законы действительны также и для
моторной установки, как показала Л. Стефенс, ученица Мюллера. В
основе моторного и сенсорного обучения поэтому не могут лежать
различные процессы. Улучшение действия, следовательно, должно состоять
в образовании все более усовершенствованных и объемлющих
структур. Конечно, это образование и есть функция интеллекта. Структуры
возникают, следовательно, не там, где возникают «разумные»
структуры, они должны быть связаны с другими системами. И все же
существует зависимость между этими областями и теми, в которых происходят
процессы, сопровождающиеся высокими ступенями сознания. В начале
обучения должны стоять феномены восприятия, и обучающийся
должен иметь твердое намерение. Эти компоненты будут затем влиять на
образование структуры. К ней относится упражнение, непрерывное
повторение. Повторение играет существенную роль для закрепления
действия (достаточно вспомнить, сколько должен ежедневно
упражняться виртуоз, «чтобы не отвыкли пальцы»), но повторение имеет также
и другое назначение. Оно должно создать условия, благоприятные для
образования новой структуры. Я думаю, что для этой функции
повторения понятие случайности недостаточно исчерпывающее в том смысле,
в каком оно применяется теорией проб и ошибок. Случай может
помочь, но представляется неправдоподобным, чтобы каждый новый шаг
вперед являлся случайным, если вспомнить, как «разумны» даже те из
наших центров, которые ничего общего не имеют с сознанием, как
быстро и точно они функционируют при внезапно возникающих опасных
случаях. Дальнейшее обоснование этого мнения завело бы нас слишком
далеко. Достаточно того, что и в этих центрах существуют новые
структуры. За это говорит также и то, что кривые упражнения поднимаются
скачкообразно и что эти скачки происходят при обучении новым
движениям точно так же, как и в опытах Ругера, преимущественно тогда,
когда испытуемый физически чувствует себя вполне хорошо. И здесь
мы имеем аналогию в интеллектуальной области, наиболее сложные
интеллектуальные задачи решаются только в особенно хорошие дни.
И, наконец, по наблюдениям Келера, можно считать, что «между
интеллектом и двигательной ловкостью шимпанзе имеется
корреляция»296, что опять-таки вряд ли могло быть, если бы между обеими
формами деятельности не было связи. Интеллект и ловкость подвержены
оба большим индивидуальным колебаниям.
«Образование моторных структур», употребим это выражение,
отличается от интеллектуальной деятельности, прежде всего, тем, что
существование новой структуры перед совершением действия здесь
невозможно. В этом оно сходно с образованием структуры при так
называемой дрессуре, которую оно, конечно, далеко превосходит по остроте
и точности. Мы видели также, что оно обычно понимается как действие,
полученное благодаря дрессуре. Против такого понимания нельзя
ничего возразить, если понимать дрессуру так, как мы это делаем. В таком
случае остается сказать лишь, что это выражение с его
механистическим оттенком недостаточно точно.
В заключение я должен отметить, что мы, в сущности, очень мало
знаем о процессе моторного обучения. Мы можем дать только самый общий
ответ на вопрос, почему совершенствуются моторные структуры.
Вернемся теперь к обучению ребенка хватанию и осязанию. И здесь
мы должны понять эту деятельность как приобретение новых структур,
к этому толкает нас изучение всего поведения, взаимодействия
сенсорных и моторных компонентов. Раннюю антиципацию движений мы
понимаем как существование особенно благоприятных для
возникновения структуры внешних условий, которые больше не возвращаются,
так что структура может снова образоваться только в результате
изменения внутренних условий, даже при менее благоприятных внешних
условиях. Такие «антиципации» соответствуют описанному нами выше
при рассмотрении опытов Келера интеллекту.
Наблюдения Левина (заснятые в его детском фильме)
свидетельствуют о том, что первый успех, сама «антиципация движений может
изменить в неблагоприятном направлении и самые эти условия, благодаря
чему сложные действия могут снова не удаваться долгое время. Здесь,
благодаря успеху, сдвигаются условия напряжения между ребенком
и полем. Ребенок пришел к успеху только потому, что он просто
следовал направлению сил поля. Как только он хочет сам выполнить дейст-
вие, он отталкивается именно этими силами. Аналогом могут служить
лунатик, который выполняет во сне такие действия, которые он никоим
образом не может повторить наяву.
История развития осязания и хватания показывает нам
попеременное влияние созревания и выучки; с одной стороны, для образования
новых навыков необходимы новые ситуации, причем ситуацию нужно
понимать психологически, включая сюда и направленности,
напряжение и интересы самого ребенка; с другой стороны, нервная система
ребенка должна достигнуть известной зрелости, прежде чем ребенок
сумеет адекватно реагировать в новой ситуации и тем самым сделать
эту ситуацию действенной. Хорошими примерами этого и является
«антиципация движений». В этой связи необходимо указать еще на два
обстоятельства: 1) Как уже указывал Штерн, обучение хватанию в
значительной степени отличается от обучения письму. Это означает, что
когда организм при спонтанном развитии очутится в известный момент
в специфической ситуации, он уже будет обладать примитивными
формами хватания. С другой стороны, очень незначительный процент детей,
предоставленных самим себе и удаленных от социальной среды, может
самостоятельно овладеть письмом. И такое обучение письму будет
существенно отличаться от того процесса, который мы обычно
называем обучением, т.е. обучение письму в нашем понимании предполагает
специфическую ситуацию, для осуществления которой необходим уже
некоторый опыт. Ребенок должен многому уже научиться, его система
должна сильно измениться в сравнении с тем состоянием, которое
является результатом простого созревания. К этому нужно добавить, что
специфические двигательные структуры должны быть самостоятельно
усвоены, т.е. нужно в действительности образовать новые мелодии
движений. Мы не должны считать, что созревание и выучка протекают
независимо друг от друга. Мы уже указывали, что все выученные формы
поведения предполагают определенное состояние зрелости системы.
Но и само созревание зависит от выучки, потому что оно прекращается,
как только появляются выученные формы поведения. Но тогда
изменяется организм, и созревание происходит в этом измененном организме
и идет по другому пути.
Мы до сих пор уделяли слишком мало внимания одной стороне
развития деятельности ребенка: мы имеем в виду направленность самого
ребенка. Однако еще Штерн особенно подчеркивал именно эту сторону
поведения ребенка, указывая, что ребенок сознательно участвует в этой
деятельности и что успех в большой мере зависит от напряжения его
воли. «Из двух детей, одинаково здоровых и сильных, с одинаково
развитыми инстинктивными задатками, тот разовьет раньше эти задатки,
который обладает более сильной волевой организацией».
5. Развитие способности различения цветов.
Сенсорное обучение
Мы теперь снова проследим на особенно ярких примерах, как
развиваются восприятия ребенка, как из первых примитивных и
диффузных структурных феноменов постепенно у ребенка образуется
представление о мире. То положение, что в восприятии взрослого человека
заключается весь его прошлый опыт, является тривиальностью. Вопрос
только в том, как влиял на него опыт? При этом мы не должны
забывать, например, что для опыта существует не только проблема памяти,
но и проблема времени, и далее возможность компонента созревания
нельзя никогда выпускать из вида.
Мы начнем с исследования восприятия цветов — проблемы, на
которую было затрачено много труда и которая обладает действительно
богатыми, интересными и важными для общей теории различения
цветов данными. При исследовании применялось большое число методов,
таких, которые полностью опирались на речь, и таких, которые в
большей или меньшей степени были свободны от участия языка. Во всяком
случае, последние имеют преимущества перед первыми.
A. Речевые методы
1. Метод словесных указаний. Ребенку предлагают два цвета и
называют каждый из них, затем спрашивают, где красный, где желтый
и т.д. После того как усваиваются два цвета, прибавляют третий
и т. д.
2. Метод называния: а) Дифференцирование объектов
исследования. Ребенку предлагают отдельные цвета, которые он должен назвать,
б) Спонтанное называние. Ребенок сам должен вытаскивать из ящика
цвета и затем называть их.
3. Метод символов. Ребенку рассказывают что-нибудь и для
каждого действующего лица показывают определенный цвет: «это — отец»,
«это — мать» и т.д. После повторения рассказа.ребенок должен сам
рассказать его и показывать при этом цвета.
B. Методы без прямого участия речи
1. Метод классифицирования: а) Определение по названию. Перед
ребенком кладут груду цветов и говорят: вынь все красные (или синие
и т.п.). б) Выбор по образцу. Ребенку дают в руку цвет и предлагают ему
вытащить из лежащей перед ним груды все похожие на него. Или
смешивают образец с другими цветами и предлагают отыскать его. Метод
расположения нуждается в речи только для пояснения задачи ребенку.
Совершенно без слов обходятся только при двух последних
экспериментах, построенных по принципу опытов с животными.
2. Метод предпочтения. Перед ребенком кладут несколько цветов
и наблюдают на большом числе случаев, какие он берет или на какие
смотрит.
3. Метод дрессуры. Пытаются путем подкрепления наградой
привести ребенка к тому, чтобы он все время выбирал один и тот же цвет.
Если дрессура удается, то тем самым доказано существование
сенсорного эффекта.
4. Рефлекторный метод. При этом используется описанный Пейпе-
ром рефлекс, который состоит в том, что грудные дети, больше того,
недоношенные дети, откидывают голову назад, если внезапно пустить
свет в глаза. Окрашивая свет в различные цвета, можно с помощью
этого рефлекса исследовать действие различных цветов.
В начале жизни цветовые впечатления играют довольно
незначительную роль — цвет вещи еще безразличен для ее распознавания, даже
если он и вызывает иногда сильное чувство удовольствия297.
Племянница Шинн в семь месяцев еще совершенно не реагировала, когда вместо
привычного черного объекта ей дали белый. Несмотря на это, цветами
можно вызывать реакции.
Я вкратце приведу опыт над недоношенным ребенком по
упомянутому только что способу Пейпера. Указанное рефлекторное движение
зависит от яркости источника света и действует тогда, когда последний
достигает известного предела. Этот предел можно установить для белого
и синего света и отсюда сравнить с действием света различных цветов на
нормального взрослого человека при адаптации к светлой и темной
окраске. Пейпер получил весьма положительные результаты. При адаптации
как к светлому, так и к темному, тщательно регулируемые пороги света
соответствовали нормальному распределению яркости у взрослых.
Палочковый, так же, как и колбочковый аппарат, нормально
функционирует уже у недоношенных детей с весом от двух килограмм и менее298.
Очень рано ребенок начинает тянуться к светлым предметам,
иначе реагирует на светлые и темные предметы. При этом нужно заметить,
что светлое и темное не является, собственно, обозначениями цветов
как черное и белое, а только как бы различением «уровня». Мы сами
можем сказать, что светлое очень рано начинает легко выделяться из
общего «фона». Очень рано обнаруживается уже, что насыщенные
яркие краски предпочитаются перед однотонными (черный, серый,
белый). Шинн говорит о наличии этого у ребенка уже с конца третьего
месяца, Валентин подтвердил это в опытах по методу предпочтения,
по которому исследовали направление взгляда ребенка с 4-го месяца.
Опыты Валентин показывают, что не все цвета равноценны, они содер-
жат следующий ряд по предпочтению: желтый-белый-розовый-крас-
ный-коричневый-черный-синий-зеленый-фиолетовый299. В этом ряде
можно различить два момента: 1) светлые цвета стоят перед темными,
белый перед черным, розовый перед красным и 2) что «теплым» цветам,
имеющим длинную волну, оказывается значительное предпочтение
перед коротковолновыми «холодными» цветами. Можно считать твердо
установленным, что в ряде яркости красок на последнем месте стоит не
черный, а темно-серый цвет, что черный цвет обладает известной
положительной притягивающей силой. Не вполне еще понятно, почему
синий, зеленый и фиолетовый цвета стоят после черного.
Наконец, интересно применили метод предпочтения Гольден300 и
Боссе. Они клали цветные квадраты на серый фон такой же яркости и
наблюдали, будет ли замечен цветной квадрат. В результате оказалось, что
квадраты от красного до желтого цвета тотчас же воспринимались
детьми в возрасте от 7 до 8 месяцев, от зеленого до фиолетового в возрасте от
10 до 12 месяцев. Что мы можем из этого заключить? Совершенно ясно,
что, когда ребенок берет цветной квадрат, он должен видеть на сером
фоне что-то отличающееся от фона и вызывающее стремление к нему,
хотя это различие заключалось бы не в яркости. Но мы не должны еще
заключить, что ребенок видит именно красное или желтое, потому что
мы еще не знаем, видит ли он в случае с красным квадратом что-нибудь
иное, чем в случае с желтым. Что можно вывести из отрицательного
исключения холодных цветов в 8 месяцев? Во всяком случае, ребенок не
увидел ничего отличающегося от фона и привлекательного.
Несколькими месяцами позже воспринимаются и эти цвета, и поэтому довольно
неправдоподобным кажется, что отрицательный эффект сводился к тому,
что ребенок видел нечто отличное от фона, но не вызывающее импульса.
Непонятно, почему отношение к цветам должно так быстро меняться.
Наиболее правдоподобным остается предположение, что вначале только
теплые цвета отличаются от однотонных и дают с ними цветовую
структуру, а холодные цвета присоединяются только потом.
Какими же цветовыми феноменами обладает ребенок на этой
ступени?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, описанные выше опыты Пей-
пера не дают никакого материала. Эти опыты свидетельствуют только
о том, что, поскольку это зависит от чувствующих органов, грудной
ребенок может видеть все цвета. Но для того чтобы на самом деле различать
цвета, необходимо гораздо больше. Восприятие света, даже
окрашенного, нужно отличать от восприятия окрашенных предметов. Когда мы
входим в помещение, ровно освещенное цветным светом, то для нас общий
вид помещения меняется гораздо больше, чем характер окраски
отдельных предметов. Вспомним, каким холодным кажется пейзаж, рассматри-
ваемый сквозь синее стекло, и каким он кажется веселым и теплым сквозь
красное стекло. Вполне возможно, что различного рода свет оказывает
подобное аффективно-экспрессивное воздействие уже на грудного
младенца. Из опытов Пейпера это следует так же мало, как и то, что они
воспринимаются как окрашенные. Гораздо правдоподобнее то, что мы
уже говорили выше о первых феноменах грудного ребенка, а именно, что
различно окрашенный свет, если и не различается младенцем по своей
интенсивности еще до специфического аффекта, имеет специфический
цветовой характер в узком смысле слова. Вспомним остальные данные,
полученные на цветных предметах. Тогда мы снова должны будем
представить себе это как можно примитивнее.
Ребенок переживает структурные отношения между серым и не
серым, это не серое менее определенно, чем какой-нибудь из цветов,
которые мы знаем и называем, но по сравнению с серым оно имеет одно
различие, которое существует и для нас при сравнении пестрых красок
с однотонными. Обыкновенно дети понимают под окраской то, что мы
обозначили яркими цветами, не причисляя к ним совершенно белый,
серый и черный цвета. В первые 3-4 года дети способны образовывать
лишь такие примитивные структуры, как структуры окрашенного-нео-
крашенного, и лишь в тех случаях, когда объективно теплые цвета
находятся на бесцветном фоне или на таком же светлом «холодном» фоне.
Если даже допустить возможность образования цветовой
структуры из коротковолновых лучей, должен возникнуть вопрос: одинаков
ли такой структурный феномен с тем, который получается при лучах
с длинными волнами, или же эта цветовая структура, в отличие от
первой, содержит также феноменальное свойство «холодных» цветов в
отличие от «теплых». Этот вопрос еще нельзя разрешить с полной
уверенностью. Усвоение названий цветов дается с очень большим трудом
и достигается в общем очень поздно, если не развивать ребенка в этом
направлении специальными приемами: названия цветов, если иногда
и применяются, то не по принадлежности, а как попало, причем
немного более бесцветное вообще никогда не получает названия. Штерн
сообщает о своей дочери следующее: «У Гильды после 3 лет и 2 месяцев
было отмечено правильное называние светлого и темного (белым и
черным), а также красного. Но правильность слова «красный», очевидно,
была случайна, потому что все ярко окрашенные получают название
красного»301. Винш также отмечает, что все яркие цвета в отличие от
бесцветных довольно часто называются одним общим словом. Но все
это свидетельствует исключительно о том, что яркие цвета в
отношении «неярких» обладают одним общим качеством и что эта общность
должна быть гораздо более действенной, чем различия между яркими
цветами302.
Кстати, могу поделиться еще следующим наблюдением. Я слабо
разбираюсь в цветах303, различаю красный и зеленый цвета только в
благоприятных условиях. Существуют цвета, которые я узнаю, но которые
мне с самого начала в высшей степени неприятны, потому что я просто
не могу их расклассифицировать. Наконец, я называю их коричневыми,
они могут легко перейти в красный или даже в зеленый цвета, но имеют,
как уже было сказано, то свойство, что не подходят как следует ни к
одному из них. И все же это, несомненно, яркий цвет304.
Обратимся к исследованиям речевыми методами. Многочисленные
данные Прейера, Бино, Шинн, Винш305 и др. на первый взгляд кажутся
довольно противоречивыми. Нельзя также с полнотой дать объяснение,
охватывающее все наблюдения, потому что для этого слишком мало
известны условия каждого опыта и раньше всего неизвестен точный
состав цветов, с которыми работали отдельные исследователи. Будущие
исследователи должны обратить на этот пункт особое внимание и при
исследовании различения цветов позаботиться о том, чтобы кроме
светлоты и насыщенности не примешивались и другие различия.
Одна из существенных причин столь частого несоответствия между
получаемыми данными следующая: результат опыта в большой степени
независим от метода, с которым работают; методы словесного
указания, названия и классифицирования дают самые различные результаты,
как уже показали Бинэ и Шинн; при каждом методе для результатов
опыта имеет решающее значение и число и выбор комбинируемых во
время опыта цветов.
В качестве примера я хочу привести опыт Бинэ. Он начал свои
опыты на девочке в возрасте 2; 8, работал с цветными мотками шерсти
(хольмгреновский тест) и сначала предлагал ребенку только красный
и зеленый. Исследование двумя первыми словесными методами дало
ровно 100% правильных ответов. Тогда была присоединена еще желтая
шерсть, которую все время чередовали с зеленой. Как только убирали
желтую, все шло хорошо, стоило ее присоединить опять, как снова
начинались ошибки. Без зеленого цвета метод словесного указания дает
ноль ошибок, метод называния 100 % ошибок, причем желтое
постоянно называлось зеленым. Метод классифицирования (В,1), в котором
заранее показанный моток должен был быть выделен из трех — красного,
желтого и зеленого, снова дает ноль ошибок; в этот же день метод
называния дал полное смешение желтого и зеленого.
Это обстоятельство до сих пор объясняли тем, что ошибки зависят
исключительно от правильного связывания названия с цветом. Это
объяснение, однако, оказывается недостаточным; возникает вопрос:
почему именно это связывание дается с таким трудом. Здесь, очевидно,
возникают трудности, которых не бывает при усвоении других слов. Мы
уже видели, что для ярких цветов, если они достаточно насыщены,
никогда не применяются названия черный-серый-белый306.
Еще некоторые результаты. — Чаще смешиваются синий-зеленый,
зеленый-белый, желтый-белый, фиолетовый-синий цвета, по Шинн
красный-синий, все светлые цвета с серым или белым, все темные
с черным. Наконец, Винш провел большое число опытов по методу
называния, который до сих пор давал неблагоприятные результаты.
Он пытался исправить это тем, что брал детей, которые только
познакомились с цветами в детских садах, где все цвета фигурировали
равномерно. Различие в последовательности правильного использования
слова, по его мнению, должно быть основано на различии в самих
цветовых феноменах; следует также принять во внимание различные
фонетические трудности в отдельных названиях цветов. Индивидуальные
колебания при этом очень велики, но в среднем вырисовывается такая
последовательность: красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый,
оранжевый. Точно такую же последовательность дает Мейман, в то
время как Гарбини нашел другую последовательность называния, так
же как и различения: красный, зеленый, желтый, оранжевый, синий,
фиолетовый.
В отношении таких результатов можно считать, как это делает
.большинство исследователей, «что речь может идти об образовании
известных функций восприятия, но не о развитии способности
ощущения или, говоря на физиологическом языке, деятельности зрительной
субстанции в понимании Геринга»307. Большие отклонения в данных
различных исследователей, большие индивидуальные различия
племянница Шинн могла уже к концу 73-й недели называть красные, желтые
и синие предметы, на 79-й неделе над ней начали производить опыты
с этими цветами, давшие сразу положительные результаты; для сына
Прейера обучение двум цветам на 87-й неделе было еще невозможно,
опыты с ним стали успешными только на 108-й неделе — 41 зависимость
проявлений от характера испытаний — вот основные причины, которые
привели исследователей к такому взгляду. Бюлер особенно утвердился
в этой точке зрения благодаря наблюдавшейся мисс Були антиципации.
Наблюдаемый ею ребенок в своих хватательных попытках на 6-м месяце
обнаружил предпочтение цветов (теплый также предпочитался
холодному, но темный — светлому), которое потом исчезло настолько, что
в течение многих месяцев никоим образом нельзя было добиться
различения цветов. Бюлер считает, что «было бы совершенно нелепо
полагать, будто бы способность ощущения исчезла опять».
Это совершенно правильно, если поставить ударение на слове
«способность». Мы установили это уже выше при рассмотрении опытов
Пейпера. При рассмотрении развития функции восприятия часто гро-
зит опасность подменить наличие ощущений указанием на способность
к ощущениям, что влечет за собой вывод, который мы уже
неоднократно отвергали. Раздражение определяет ощущение, если только
достигнута способность неопределенных ощущений. Тогда можно было бы
сказать: в случае Були условия вполне соответствовали образованию
цветовых феноменов как раз на 6-м месяце, и Бюлер также отмечает
это вместе с мисс Були. Когда в расцвете хватания ребенку
предъявляли несколько цветных листков, то до того, как схватить, он смотрел на
какой-нибудь один листок дольше, чем на другие. Развитие шло дальше,
ребенок не ограничивался больше хватанием, но начал производить
новые манипуляции с предметами, при этом окраска их была совершенно
недостаточной для возникновения цветовых феноменов, или, вернее,
цветовых структур, не было больше благоприятных условий, вследствие
чего эти феномены больше не образовывались.
Все, что можно было возразить против антиципации, полностью
можно направить против всего этого рассуждения. Мы не можем
больше удовлетворяться описаниями, говоря, что ребенок может
испытывать правильные цветовые ощущения, но не может их воспринимать или
различать. Больше того, точно так же как тогда, когда мы выступали
против теории «незамеченных отношений», здесь следует спросить,
каковы в действительности феномены ребенка. С нашей точки зрения,
цветовое различие воспринимается не иначе, как следующим образом:
два цвета образуют определенную структуру, или, другими словами,
создается образ, состоящий из двух цветов, и при этом эти цвета именно
таковы, как они расположены в данном образе.
Развитие восприятия цветов заключается, следовательно, в том, что
постепенно образуются все новые цветовые структуры, и условия для
образования таких структур могут быть все менее благоприятны. И
тогда антиципации — особенно так, как их ярко изобразила Були и как они
вообще наблюдаются, — являются доказательством в пользу нашего
понимания. Мы только что излагали, как нужно понимать антиципации
в качестве структурных образований при исключительно
благоприятных внешних условиях.
С нашей точки зрения, совершенно понятна зависимость
результатов от метода. Мы поясним это на вышеприведенных примерах Бинэ.
Когда структура красный-зеленый уже усвоена и добавочно
присоединяется желтый цвет, то смешение цветов служит признаком того, что
продолжает существовать основная структура: красный-некрасный.
Этому соответствует то, что метод словесных указаний для красного-
желтого дает 0% ошибок, напротив, при методе называния получается
100% ошибок. Если же применяется метод классифицирования,
структура «красного» больше не образуется в том случае, если ребенок полу-
чает для проверки желтый или зеленый образцы. При этом, так сказать,
меняется «система отношений», и все переходит на структуру желтый-
желтый, зеленый-зеленый или же желтый-нежелтый,
зеленый-незеленый. О том, что такие отношения на самом деле существуют, видно из
наблюдений, подтверждающих предшествующие.
Из этого следует, что в будущем в таких исследованиях придется
обратить гораздо больше внимания на структурную точку зрения, чем
это делалось до сих пор. Цвета и фон, на котором они расположены,
следует планомерно варьировать.
Еще один факт, полученный Келером, говорит в пользу нашего
понимания. Он ставил опыты с дрессурой выбора шимпанзе так, что цвета
А, В, С были взяты не из черно-белого ряда, но выбирались цвета,
лежащие межу красным и синим или красным и желтым. Результаты
полностью соответствуют вышеизложенному. Но при этом особого интереса
заслуживает еще одно наблюдение: брались ABCDE — пять различных
оттенков, расположенных между красным и синим цветами,
совершенно отчетливых для людей. Е был самым красным из них. Нужно было
научиться узнавать ярко-красный цвет С в паре с ВС. Это не удается.
Расстояние увеличивается, проводятся опыты на паре BD, и здесь очень
быстро достигается успех. Когда пара ВС снова предлагается, С без
.исключения выбирается правильно, а затем через некоторое время в
интервале CD опять без исключения выбирается D308. Это, казалось нам,
важно со следующей точки зрения. Отчетливую структуру ВС нельзя
было вначале образовать, даже если бы она при случае и действовала:
структура BD образуется сразу, и уже после этого легко образуется
и ВС, и CD. Мы имеем здесь, следовательно, случай, который точно
соответствует формулированному нами выше закону памяти: структура,
образовавшаяся при благоприятных внешних условиях, затем
образуется и при менее благоприятных условиях.
Приведенные до сих пор данные, по моему мнению, предполагают
следующие гипотезы о развитии различения цветов. Мы уже видели,
что сначала вступает в структуру цветное в отличие от неокрашенного,
и что это происходит раньше с длинноволновыми, чем с
коротковолновыми цветами. Рассмотрим ряды развития Винша и Меймана с одной
стороны, и Гарбини — с другой. Если мы будем исходить из
положения оранжевого цвета у Гарбини, то разница окажется гораздо
меньшей, чем кажется на первый взгляд. За красным следует холодный цвет,
затем только следующий теплый цвет, разумеется, в обратной
последовательности, на конце будет «промежуточный цвет» — фиолетовый,
у Винша и Меймана еще и второй оранжевый, который у Гарбини
стоит раньше. Так как методы испытания и обучения во всех трех случаях
были различны, большого совпадения в результатах нельзя было и ожи-
дать; наоборот, можно предположить следующее: за изображенными
до сих пор стадиями наступает период, когда образуются структуры
теплый-холодный (предположительно также теплый-неокрашенный,
холодный-неокрашенный). Этому соответствует смешение синего и
зеленого — именно тех структур, которые мы можем воспринимать
средней зоной сетчатой оболочки, и которые соответствуют восприятию
красный-зеленый.
Следующей является дифференциация внутри теплых и холодных
цветов, так что теперь появляются четыре главные цвета — красный,
желтый, зеленый и синий, вернее, в сравнении с неокрашенными могут
образоваться цветовые структуры в четырех направлениях. И здесь я
нашел в одном случае аналогии с неумением различать цвета.
Последней будет дифференциация промежуточных цветов. Здесь в основном
речь идет о процессе созревания, который, однако, сильно зависит от
упражнения. Так, большое различие между племянницей Шинн и
детьми Штерна в большой мере можно объяснить средой; последние росли
в каменном Бреславле, первые — в деревенском доме среди богатых
ландшафтов Калифорнии.
По нашей теории, усвоение названий цветов зависит от
возможности образования правильных цветовых структур. Зависимость между
структурой и названием, пожалуй, нигде так ярко не выражена, как
в наблюдениях Штумпфа над его детьми. Ребенок, как мы увидим в
конце главы, до четвертого года жизни разговаривал на своем
собственном языке, на котором существовали только два названия цветов «а»
и «мягкий». «Каждый цвет в сравнении с белым назывался «а», в
сравнении с черным — «мягкий», и еще более общее: более темный из двух
цветов назывался «а», более светлый — «мягкий»309.
Первоначальным для нас является структура, вторичным —
название. Это воззрение Петере развил в своей работе, выразительно
написанной и четко построенной на экспериментальных данных. Смешения,
которые допускают дети не только при назывании, но и при
расположении цветов, объясняются «восприятием и сравнением цветов через
посредство называния»310. Петере ограничивается присоединением
к основным цветам промежуточных: к синему — фиолетового, к
красному — пурпурного и т.д. Из его положения вытекает пять
экспериментально доказанных следствий:
1. Дети, которые, главным образом, еще не твердо знают названия
цветов, не делают ошибок при классифицировании их.
2. Точно так же бывает, когда они усваивают правильные названия.
3. Напротив того, дети, которым умышленно были сообщены
одинаковые названия для основных и промежуточных цветов, должны
неправильно располагать цвета.
4. Дети, которые самостоятельно правильно называют
промежуточные цвета, не должны давать ошибок.
5. Дети, которые первоначально делали ошибки в названиях и
расположении, должны прекратить их, когда научатся правильно называть
цвета.
Петере считает все пять следствий доказанными. Он заключает из
этого, что развитие восприятия цветов у старших детей не является
результатом врожденных чувственных функций или же деятельности их
морфологического субстрата. Оно основано на влиянии на
чувственную сферу так называемых высших интеллектуальных процессов:
восприятия, репродукции и мышления. Восприятие определяется не только
лишь чувственным ощущением; знание названия цвета может оказаться
сильнее сенсорных компонентов. Без названий цветов вообще не было
бы никаких ошибок. «Ребенок называет синий и фиолетовый цвета
одинаково «синим», он воспринимает фиолетовое не только как такой-то
по внешности предмет, но одновременно как предмет, называемый
синим. Название цвета, влияющее на восприятие, — здесь может идти речь
о влиянии вербальной перцепции — действительно в равной степени для
обоих цветов, и знание, что они одинаково называются, явно влияет на
то, что различие во внешности, если оно не слишком велико, совершенно
не намечается»311.
Мы уже столько раз возражали против понятия «схватывания»
и т. п., что читатель сам уже может формулировать наши доводы против
этой специальной теории.
Посмотрим, как будут выглядеть экспериментальные данные Пе-
терса, если мы откажемся от разделения сенсорных и высших
интеллектуальных функций, протекающих вместе; в частности, что останется
от его теории влияния названия.
Разберем для этого опыты. Испытуемыми были отсталые дети,
которые представляют собой очень хороший материал для разрешения
поставленных вопросов, так как между ними легко найти всевозможные
ступени овладения цветами. По возрасту испытуемые распределялись
от 6,10 до 12 лет, интеллектуальный возраст колебался между 5 и 9:4
годами. Путем определения интеллектуального возраста по шкале Бинэ-
Симона ребенок сравнивается с нормальным ребенком. Здесь не место
оценивать этот способ, нужно только остерегаться в этих показателях
видеть что-нибудь большее, чем приблизительную характеристику. То,
что отсталый ребенок определенного интеллектуального возраста не
эквивалентен по своим способностям нормальному ребенку такого же
реального возраста, показывает уже то очень важное для дальнейших
В подлиннике «Auffassen», т. е. восприятие, обусловленное прежним опытом. —
Прим. ред.
опытов замечание Петерса, что упражнение, приводящее к
моментальному успеху (например, при назывании цветов), у отсталых требует
исключительно малой длительности.
Опыты Петерса сводились к классификациям с пробами. Ребенку
предлагали цветной моток шерсти с задачей «вынуть все похожее на
эту шерсть из груды, в которой основательно были перемешаны по три
мотка 17 различных оттенков. Если при этом назывались определенные
цвета, то отдельные цвета в меняющейся последовательности клали
перед ребенком, указывая пальцем соответствующим образом.
Петере нашел таким образом обоснование для своих пяти
вышеприведенных следствий. К сожалению, он прав только в одном случае,
когда ребенок еще не способен к прочному восприятию цвета и,
соответственно, следствию 1 не допускал ошибок в их расположении.
И такой ребенок приложил к синему образцу моток более светлого
и менее насыщенного синего цвета.
Один мальчик, который проявил почти безупречное знание
названий цветов — он называл даже фиолетовые всегда «лиловыми» —
называл пурпурный цвет «красным». В опыте с классифицированием он
ведет себя различно, в зависимости от того, дан ли красный образец или
пурпурный. В первом случае он располагал правильно, во втором он,
кроме пурпурных, выбирал также и все красные оттенки. Это
удивительное поведение Петере не принимает во внимание. Он заключает из
этого опыта, в котором до того было сделано правильное расположение
по отношению к синему цвету, следующее: там, где известны названия
промежуточных цветов, не бывает ошибок. Там же, где известны только
названия основных цветов, наблюдается неправильное расположение.
Вторая часть заключения идет дальше экспериментальных данных,
неправильные расположения бывают тогда, когда образцом служит
промежуточный цвет, а не основной»312. Такое поведение снова встречается
в другом опыте. Мальчику, который не знал названий цветов и не делал
никаких смешений, сообщили название «красный» для всех красных
и пурпурных оттенков, а для синих и фиолетовых оттенков —
название «синий». К синему образцу он приложил синие и фиолетовые цвета,
а к красному только красные и ни одного пурпурного. К сожалению,
опыт с пурпурным образцом не был проведен.
Очень удачными оказались опыты над девочкой, которая из всех
цветов называла правильно только красный и синий. К красному
образцу она прикладывала красный, пурпурный и лиловый, к синему — синий,
фиолетовый и лиловый цвета. Затем ей сообщили название
«фиолетовый». Она больше не делала ошибок ни с синим, ни с фиолетовым
образцами, но она продолжала неправильно вынимать из пачки (фиолетовые
и синие) мотки, сравнивала их с образцом и снова клала обратно, что,
по Петерсу, объясняется привычкой, называть фиолетовый цвет также
синим. То же самое проделывал мальчик, который, хотя и называл
правильно только основные цвета, но не делал ошибок в расположении.
Я сопоставил те экспериментальные данные, которые показывают
по меньшей мере несовершенство теории Петерса. Те же самые данные
представляют собою опорные пункты того направления, в котором мы
должны искать объяснение. Начнем с последнего пункта. Даже когда
нет ошибок в расположении, часто неправильно подобранный моток
отбрасывается только после сравнения с образцом. Здесь два
интересных момента: 1) почему вообще был выбран неправильный цвет? 2) в чем
смысл производимого ребенком наглядного сравнения? Второй пункт
разрешается для нас очень просто: два рядом стоящих цвета,
неправильно выбранный моток и образец, вступают в структуру, и тогда
сравнение приводит к отбрасыванию, т.е. к структуре различия. Что касается
первого момента, Петере создал гипотезу, которая, как мы уже видели,
применима только в отдельных случаях, независимо от того, что она
связана с правильностью всей его теории. Если бы мы захотели
обойтись без нее, то должны были бы сказать: причина, вследствие которой
воспринимается неправильный цвет, содержится в нем самом; он
сравнивается с образцом, потому что эта допущенная причина заключает
в себе некий индекс неуверенности. Результатом обучения названиям
было бы то, что цвета приобретали бы указанный индекс. И это
приводит к главной проблеме: что происходит при обучении? По Петерсу,
здесь речь идет только о связи между словом и ощущением. Но мы
часто видим, что при всякой дрессуре такая связь отнюдь не играет
главной роли. Индивидуум должен сначала знать, от чего ока зависит. Если
ребенку часто называть синие мотки синими, фиолетовые —
фиолетовыми, то он, для того чтобы это усвоить, должен в первый раз
удивиться, почему те цвета, которые до сих пор имели одно название, должны
называться различно. Но это значит не что иное, как то, что ребенок
должен при обучении овладеть новыми цветовыми структурами. Он
должен научиться видеть синий цвет иначе, чем фиолетовый. Для меня,
слабо различающего цвета, это почти вполне естественное состояние.
Когда я был ребенком, я никогда не понимал, почему взрослые иногда
называли «синие» предметы «лиловыми». Я выучился этому, правда,
очень несовершенно благодаря тому, что знаю, что синий цвет может
быть красноватым, и пытаюсь структурировать, сопоставляя
предлагаемый цвет «красным». Часто это бывает трудно, если не невозможно.
Но если я имею возможность сравнить сомнительный цвет, например,
фиолетовый, с синим, тогда всякое сомнение исчезает — в паре цветов
все еще синий, в высшей степени «сомнительный» цвет становится
достаточно красноватым, даже совершенно пурпурным. Если, наоборот,
ребенка обучать называть основные и промежуточные цвета
одинаково, когда он до сих пор вообще еще не употреблял названий цветов, то
ребенок опять-таки должен разобраться в том, когда нужно сказать
«синий», когда «красный». Здесь, следовательно, речь идет об
отношении синего цвета к некоторому фону или фиолетового к некоторому
фону, то есть об одинаковой структуре отношения (аналогия красный
и пурпурный). Основные и промежуточные тона только потом будут
названы различно; это является для нас признаком того, что
одинаковое образование структур вполне возможно. Мы действительно имели
бы тогда «вербально-перцептивное» влияние, но мы понимаем его
иначе, чем Петере.
Таким образом, нам становятся понятными не только пять
основных следствий, полученных Петерсом, но также и необъясненные им
факты. Я не могу останавливаться на каждом в отдельности, но укажу
еще на следующее. При обучении возникают структурные
переживания: цвет — фон, при выборе эта структура усложняется грудой цветов,
в которой перемешаны мотки. Это главная причина того, что часто
«неправильные» цвета вынимаются для сравнения с пробой; и, наконец, мы
имеем сравнительную структуру: промежуточные цвета в отношении
к основным цветам. О различии между основными и
промежуточными цветами в отношении неправильного расположения нужно сказать
следующее: психологически совершенно родным является сравнение
цветов с красной или с пурпурной пробой, даже когда обе называются
одинаково. Пурпурный цвет на одном фоне дает такую же структуру,
как и красный на другом фоне; если пурпурный цвет является пробным
в «системе отношений», то и к нему будут присоединены красные
цвета. О структуре «пурпурного» в отношении красного цвета здесь нет
и речи, потому что образец как структура в отношении фона обладает
характером красного. Если, наоборот, проба красная, то может
образоваться структура пурпурного цвета в отношении структуры красного,
которая может существовать «в памяти» и тогда пурпурный цвет будет
отброшен. Это опять говорит об особом положении, которое занимают
основные цвета.
Петере действительно показал влияние восприятия и сравнения
цветов посредством названий, но мы должны под восприятием и
сравнением понимать не процессы «высшего» порядка, которые
присоединяются к низшим, неизменяющимся чувственным процессам, а структурные
процессы, которые определяют самое качество своих членов —
«ощущений». В этом смысле опыты Петерса представляют собой ценное
подтверждение и углубление развиваемой нами теории.
После появления работы Гельба и Гольдштейна об амнезии
цветовых названий313 я считаю приведенную здесь интерпретацию опытов Пе-
терса недостаточной. По Гельбу и Гольдштейну, речь обусловливает то
специфическое влияние на восприятие, которое они называют
«категориальным поведением». В категориальном поведении, например, какой-
нибудь цвет освобождается из наглядно данного соединения,
воспринимается только как представитель определенной цветовой категории,
например, представитель красного, желтого, синего и т.д. Здесь речь
идет о простом соединении цвета и названия. В опытах Петерса это
оказывало влияние, но нельзя установить, в какой форме и в какой
степени. Ссылка на это, однако, не противоречит нашим выводам, вернее,
последние будут иметь значение для установления различных
«категорий». Что теория, развиваемая Петерсом, является несостоятельной,
показывает аргумент, приведенный самим Петерсом для ее
подкрепления. Влияние знания на восприятие происходит часто и у нас, взрослых,
и как раз в области цветов: находящееся в тени белое не похоже на
черное, при полном освещении серое не похоже на белое, до тех пор, пока
можно одновременно видеть окружающее. Геринг впервые указал на
эти явления, которые он назвал окраской по памяти (gedächtniss-farben);
однако теория Геринга отличается от теории Петерса. Мы обязаны
Кацу314 очень тщательными и плодотворными исследованиями в этой
области, которые показали следующее: обнаруживаемая здесь
относительная независимость кажущейся белизны однотонного цвета от всего
света, попадающего с ее поверхности в глаз, имеет место также и там,
где знание о «настоящем» цвете совершенно отсутствует. Кац находит,
что это «значение освещения», эта относительная цветовая константа
связана с тем, что цвет является не цветом, который взят сам по себе,
а цветом определенного предмета. Это соображение было
подтверждено и уточнено Гельбом315 на патологических случаях. Но и Кац
пытается свести цветовую константу к влиянию памяти, рассматривает ее как
продукт опыта. Келер316 опытами выбора, с характером которых мы уже
знакомы, показал, что для шимпанзе, точно так же как и для кур, эти
цветовые константы существуют. Он работал над курами в возрасте от
7 месяцев до 1,25 года, одну половину дрессировали на то, чтобы они
ели с белого листа, другую — с черного, в то время как оба листа лежали
рядом при одинаковом освещении. Дрессура сохранилась и тогда, когда
белый лист был настолько сильно затемнен, что он отражал часто
значительно меньше света, чем черный (во многих случаях черный
объектив был в 12,4 раза светлее белого). Этим вообще исключается не только
всякое вербальноперцептивное влияние, всякое знание, но и всякое
действие опыта. Если слово «опыт» вообще имеет какой-нибудь смысл для
объяснения человеческого восприятия, оно не может означать
семимесячный (и эти опыты можно повторить над более молодыми животными
любого возраста) опыт домашней курицы.
Так как при константе всегда наблюдается соотношение цветов, то
мы не повредим развитию этой теории, если снова привлечем к
объяснению структурные функции, тем более что дрессуры выбора у Келера
основаны на структурах. Область опыта, на которой основана теория
Петерса, так же как и его эксперименты, приводит снова к нашей
теории развития.
Эгон Брунсвик ставил опыты над детьми, предполагая возможность
развития цветовой константы. Ребенок находился в освещенном
помещении, изолированном от внешнего света. На расстоянии 1,50 м на
уровне глаз стоял серый квадрат размера 25x75 кв. см. Ребенок должен
был сравнивать степень освещения этого квадрата с другими
квадратами, находящимися на расстоянии 6,50 м. Очень маленькие дети до этого
упражнялись в сравнении квадратов, одновременно показываемых на
некотором отдалении друг от друга. По способу константы
устанавливается «эквивалент», а затем путем подсчета устанавливается
константа для ребенка и определяются исследуемые оттенки серого цвета.
Контрольные опыты ставятся также и над взрослыми. Так, в опытах
Брунсвика возраст испытуемых колеблется между 2,5 и 25 годами.
Кривая развития у маленьких трехлетних детей дает сравнительно высокую
константу. Если константу для группы испытуемых от 18 до 24 лет
принять за 100, то для трехлетних детей она равняется 74 для самого
светлого серого оттенка. При этом расположение опытов Брунсвика
направлено к тому, чтобы снизить константу. Оба квадрата,
расположенные на уровне глаз, близко один от другого и одновременно видимые,
должны производить взаимное действие. Далее способ сравнения со
своим обилием суждений создает очень неестественные условия,
имеющие гораздо большее значение для маленьких детей, чем для взрослых.
Опыты, поставленные по другим методам, дают еще более интересную
константу для трехлетних детей и вместе с тем имеют то преимущество,
что могут быть исследованы еще более маленькие дети.
Это, однако, не может служить возражением против того, что
развитие имеет место. Оно обнаруживается не столько в степени, сколько
в сравнительном характере, т.е. увеличивающемся расчленении
окружающего317.
6. Продолжение: пространственные факты
Из развития пространственного зрения мы извлечем только
некоторые важные проблемы. Вначале поле зрения новорожденного
представляет собой лишь очень ограниченный круг, в котором
видимые предметы могут вызывать реакции. Ребенок видит вначале
только то, что лежит прямо перед ним; даже незначительно отдаленные
в сторону или вверх предметы для младенца не существуют. Точно так
же и глубина зрения очень незначительна. Штерн считает таковым
расстояние, простирающееся приблизительно на Уэ м в радиусе вокруг
головы. То, что удалено больше, не имеет самостоятельного значения,
даже если его можно отнести к фону. Эта граница в '/э м не является
неизменной, но зависит от характера видимых предметов; это относится
также и к полю зрения: светящиеся предметы могут быть восприняты
и на большем расстоянии от середины в вышину, ширину или глубину.
Компейрэ сообщает следующее: «Если поставить горящую свечу на
расстоянии от 2 до 3 м перед ребенком в возрасте от 15 до 20 дней, он
будет на нее упорно смотреть; если отдалить ее на 3, 4, 5 мм, становится
ясно, что ребенок потерял свечу из вида, по пустоте его взгляда можно
заметить, что он ничего не воспринимает». В отношении абсолютной
величины расстояния данные разных исследователей отличаются
незначительно318.
Эти факты пытались объяснить тем, что ограниченность поля
зрения относили к более позднему овладению функциями боковой
области сетчатки в отношении ее центра; незначительную глубину зрения
объясняли несовершенством первоначальных движений глаза, в
частности, аккомодации и конвергенции. Но это еще не совсем так. В
известной мере примитивные особенности объема зрения в раннем дет-
.стве обнаруживаются и у взрослого; боковые и отдаленные участки
поля зрения находятся в менее благоприятных условиях, чем более
близкие области, и это действительно для восприятия цветов точно так
же, как и для восприятия форм и величины. Аналогично этому степень
благоприятности расположения зрительных объектов у детей зависит
от особенностей этих объектов319. Именно это последнее
обстоятельство свидетельствует против слишком примитивного первого
объяснения. Развитие мы должны представлять себе как процесс созревания,
вследствие которого области приобретают способность к
образованию новых прочных структур, как процесс созревания, который
зависит от использования функции. Мы знаем из многочисленных
патологических случаев, что и взрослые могут развивать у себя эту
способность, когда условия вынуждают их на это. Биологически важным
является раньше всего уметь видеть лишь непосредственно близкое;
видение на большом расстоянии для большинства животных вообще
не имеет никакого значения. То, что курица может видеть горы,
окружающие долину, согласно моим личным наблюдениям, оказывается
весьма маловероятным. С расширением объема зрения связана, как я
уже предполагал, и другая закономерность. У нас, взрослых,
существует относительная независимость «кажущейся величины» предметов,
независимость того, как «выглядит» предмет от величины его
изображения на сетчатке. Человек, который от расстояния в 1 м отдалился от
нас на расстояние 4 м, не становится для нас в 4 раза меньше, несмотря
на то, что его изображение в глазу уменьшится в 4 раза. Мы вообще
при этом не замечаем никакого изменения величины. Мы никогда не
смешиваем в известных пределах близко стоящий маленький предмет
с отдаленным большим. Но эта независимость от величины
изображения на клетчатке не абсолютна. Если я удалюсь от человека на очень
большое расстояние, он внезапно начинает казаться очень маленьким;
с горы деревня кажется игрушечной; очень высокая гора с другой
вершины, находящейся на большом расстоянии, может показаться только
холмом. Наоборот, существует адекватное расстояние, зона, в
пределах которой мы можем лучше всего воспринять «собственную
величину» предмета, причем для наперстка она будет иной, чем для человека,
и для последнего опять-таки иной, чем для горы320.
До сих пор это, по примеру Гельмгольца, объясняли посредством
опыта. Штерн не говорит уже больше о запутанности ассоциаций,
впечатлениях отдаленности и величины, но защищает эмпиристскую
теорию, основанную на взаимодействии оптических и тактильных
впечатлений. Даже Бюлер отмечает, что относительная независимость
кажущихся величин от изображений на сетчатой оболочке
«приобретена ребенком и должна развиваться»321.
До последнего времени мы знали о существовании константы
величины только по воспоминаниям взрослых. Гельмгольц
рассказывает, что в детстве люди на потсдамской колокольне казались ему
куколками. Я хорошо помню подобное переживание в своей жизни. На
триумфальной арке в Берлине находятся одинаковые пушечные жерла
на различной высоте. Я не мог поверить в этом отцу, с которым я
часто проезжал мимо арки, потому что нижние мне казались всегда
короткими орудийными, а верхние — маленькими пистолетными дулами.
Теперь это изменилось, но все же и теперь верхние кажутся меньше
нижних, и никакое знание не может изменить этих чувственных
впечатлений. Это одно уже свидетельствует против объяснения
Гельмгольца путем опыта, т.е. соединением ощущений с представлениями
и суждениями.
Первые эксперименты в области сравнительной психологии были
опять-таки поставлены не над детьми, а над шимпанзе. Келер
дрессировал животных на выбор между двумя ящиками различной величины,
стоявшими на одинаковом расстоянии от животных. Затем большой
ящик отдаляют на такое расстояние, что его изображение на сетчатой
оболочке становится меньше, чем изображение маленького ящика,
с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, и
дрессура сохраняется. Таким образом, уже 4-летний шимпанзе в известных
пределах обладает этой константой кажущейся величины, и это дела-
ет обычные гипотезы эмпиристов если не невозможными, то по
меньшей мере маловероятными.
Они исключаются благодаря опытам Гетца, который показал, что
3-месячная курица, соответствующим образом дрессируемая, из двух
зерен выбирает большее даже тогда, когда расстояние между
животными и зернами было так рассчитано, что большее зерно находится
под гораздо меньшим углом зрения (плоскость изображения на
сетчатке большего равна только У30 плоскости меньшего)322.
Почти одновременно Элей Франк применила методы Келера на
детях различного возраста (11-7), результаты оказались также
положительными. Одиннадцатимесячный ребенок при дрессуре упорно
выбирал больший из двух стоящих рядом ящиков, причем больший ящик
находился настолько дальше меньшего, что плоскости обоих
изображений на сетчатке относились одна к другой как 6,2:100. Этот результат
также несовместим с эмпирическим объяснением кажущихся величин.
Следующий шаг был сделан Бейрлем, который пытался
установить константу у детей различных возрастов. Он установил, какой
величины должен быть предмет на различных расстояниях, для того
чтобы дети считали его равным предмету, отстоящему на 1 м. Возраст
исследованных им детей колебался между 2 и 10 годами, и он
обнаружил медленное развитие, протекающее в этот период времени. Но его
метод, как заметила фрау Франк в опубликованных ею впоследствии
опытах, был направлен к тому, чтобы снизить константу у маленьких
детей (до 4 лет). (Сравните это с критикой опытов Брунсвика с
цветовой константой.) Благодаря тому, что для маленьких групп константа
ниже, чем при обычных условиях, развитие выражено гораздо слабее,
чем думает Бейрль. Кроме того, константа, установленная даже его
опытами, необычайно велика. На абсциссе нанесены расстояния, на
которых находятся сравниваемые предметы, на ординате — их длина.
В случае, когда находящийся на расстоянии 1 м главный раздражитель
кажется двухлетнему ребенку одинаковым с ящиком кубической
формы длиной в 7 см (сплошная линия), тогда они дают такое же
изображение на сетчатке, как и главный раздражитель (пунктирная линия).
Пунктирная линия показывает, какой ящик должен выбрать ребенок,
если он не обладает константой величины, а выбирает по ретиналь-
ной величине. Абсцисса, наоборот, показывает случай абсолютной
константы величины. Мы видим, таким образом, насколько в
исследованной Бейрлем зоне действительное поведение приближается к
абсолютной константе.
Другой результат, полученный Бейрлем, сводится к тому, что
константа зависит от особенностей предметов, употребляемых при
исследовании. Константа для трехмерных предметов (ящики) оказалась
больше, чем для двухмерных (диски)323. Здесь снова эмпиристские
объяснения оказываются несостоятельными. Вместо этого все
приведенные опыты над животными и детьми, так же как и многие другие
известные явления кажущейся величины, свидетельствуют о том, что
наряду с ясностью, отчетливостью и целостностью видимого кажущаяся
величина при прочих равных условиях зависит от изображения на
сетчатке. Чем меньше кажущаяся величина, соответствующая
определенному изображению на сетчатке, тем оно будет отчетливее (различные
кажущиеся величины луны на горизонте и в зените)324.
Все это говорит за то, что кажущаяся величина является
непосредственным результатом спонтанной организации центрального
нервного аппарата.
И при таком развитии, а его, как отмечает Келер, можно
исследовать уже у очень маленьких детей с помощью дрессуры выбора, нужно
иметь в виду созревание, а не обучение, но опять-таки как процесс, не
независимый от функционирования органа325. Этим объясняется
высказанное мною выше предположение о зависимости между
развитием константы величины и расширением поля зрения. Что это развитие
не исключено и для сравнительно более позднего возраста,
доказывает уже вышеприведенное наблюдение Гельмгольца и мое собственное.
Оно может продолжаться даже до шести- и семилетнего возраста. Но
эти наблюдения ничего не говорят о том, существует ли эта константа
величины в небольшом поле зрения.
Напротив того, следующее наблюдение Штерна ничем не может
помочь в разрешении нашей проблемы. Однажды, когда его
восьмимесячный сын ожидал своего рожка, ему в шутку показали в 15 раз
меньшую игрушечную бутылочку. «Он потянулся к бутылочке в
большом возбуждении, как если бы она была настоящая». Это показывает
только, какую малую роль играет величина предмета для узнавания
в этом возрасте, на что правильно указывает и Штерн. Но отсюда не
следует, как он полагает, отсутствие константы величины в выше
установленном смысле326.
Я не могу здесь останавливаться на опытах, объясняющих
константу величины «эйдетическим» предрасположением. Эта теория
развивается Иеншем и его школой327. Брунсвик у маленьких и Уокер
(Walter)328 у старших детей устанавливают такую зависимость, при
которой эйдетически предрасположенные дети во многих случаях, но не
всегда, обладают поражающей цветовой константой. Эта зависимость
объясняется тем, что у эйдетиков функциональная связь между
отдельными частями поля восприятия еще сильнее, чем у не эйдетиков.
Исследование восприятия формы подтвердит плодотворность
нашего принципа объяснения. Какие формы различаются на ранних
стадиях, в каком направлении затем идет развитие, это вопросы, на
которые пытаются дать ответ в последние годы. Формы
воспринимаются благодаря тому, что известные части поля отделяются от
остального, которое остается в качестве менее оформленной «основы»329.
Эти обособленные образы впоследствии становятся
самостоятельными и приобретают такие качества, как, например, «круглый, тяжелый,
страшный». Мы можем только приблизительно классифицировать эти
качества. Первая категория, с которой мы встречаемся в этой
классификации, есть «форма». Нам, взрослым, удается во многих случаях
без большого труда воспринять только форму предмета, но, как выше
было показано, первичное восприятие происходит иначе. Напротив,
в выделенных предметах сначала воспринимаются общие,
комплексные качества, функционально зависящие от таких условий
раздражения, которые во взрослом сознании могут отмечаться как различия
окраски, формы и т. д. Я умышленно сказал «могут», потому что и мы
в повседневной жизни часто различаем вещи меньше по таким
свойствам, как окраска, форма и т.д., чем по их общей физиономике. Мы
можем утверждать, что некоторые изменения, например, изменение
формы, не влияют на этот общий характер, другие, гораздо менее общие,
радикально его заменяют. Если мы вспомним, что увеличивающаяся
дифференциация и анализ обозначают развитие, мы поймем, что
вначале целостная зависимость гораздо сильнее, общий характер играет
еще значительно преобладающую роль. Читатель должен в
дальнейшем принять во внимание эти вводные замечания.
Перейдем к конкретному изложению. При каких условиях вещь
выделяется на общем фоне? На этот вопрос еще вообще нельзя ответить.
В частности, в отношении восприятий взрослого наши познания еще
далеко несовершенны330, но благодаря двум польским исследователям
Шуману и Балей мы имеем некоторые исключительно интересные
наблюдения в этой области. Начнем с более поздних опытов Балей:
ребенок, который хватает шоколадку, когда ему дают ее в руки или держат
перед ним на веревочке, прекращает все хватательные движения, когда
шоколадку кладут на тарелку; однако ребенок хватает лакомство,
лежащее на полу. Такое поведение можно наблюдать не всегда. Балей,
который провел испытание над 30 детьми в возрасте от 6 месяцев до
2 лет, нашел его ясно выраженным только у 5, из которых самому
младшему ребенку было 71/'2, a самому старшему — 18 месяцев. Эти дети,
во всяком случае, переставали видеть шоколадку, как только ее клали
на тарелку. Она бесследно пропадала для них на тарелке, как для нас,
сначала просто отсутствует предмет, скрытый в загадочной картине.
В чем же дело? Очевидно, что тарелка стала настолько отделенной от
фона и является настолько замкнутой в себе вещью, что она не допуска-
ет никакого дальнейшего расчленения, вернее, оказывает ему сильное
сопротивление. Но и здесь можно добиться расчленения. Балей достиг
этого следующими опытами: рядом со ставшей невидимой шоколадкой
он кладет на тарелку значительно больший резиновый мяч, который
при движении тарелки перекатывается. Этим достигается, что мяч как
будто отделяется от тарелки331. 18-месячный ребенок хватает мяч. Этим
преодолевается недоступность тарелки и в отношении гораздо менее
подвижной шоколадки; в следующем опыте ребенок схватывает ее. Этот
случай иллюстрирует развитие расчленения.
Реже встречается у Балей случай, который наблюдал также и
Шуман. Опыт такой же: шоколадка кладется на тарелку. Но на этот раз
она не исчезает, но отношения к ней как бы распространяются по
всей тарелке: ребенок схватывает тарелку и старается всю ее засунуть
в рот. Изменение поведения в случае Балей происходит без
вмешательства наблюдателя. В одном отношении такое поведение одинаково
с первым случаем: вместо дифференцированного предмета мы имеем
нерасчлененный. Но в одном случае вещь определяется извне, а в
другом изнутри332.
В связи с этим я должен упомянуть, что существование этого
фактора структурного расчленения на гораздо более низких ступенях
филогенетической лестницы может быть доказано и количественно
исследовано, как это имело место в особенно интересных опытах
Матильды Герц над пчелами333.
Сильная зависимость восприятия от целого сохраняется еще даже
тогда, когда становится возможным восприятие сравнительно сильно
расчлененных форм. Она выражается, между прочим, в том, что части
таких форм, даже когда они являются «хорошими» частями,
определяются целым гораздо сильнее, чем у взрослых. По примеру Ф. Занде-
ра, Г. Гейс (H. Heis) провел следующие опыты над детьми и над
взрослыми в возрасте от 3 до 19 лет: «В фигуре, составленной из различных
по форме одноцветных строительных дощечек, не хватает одной,
форма которой определяется. Эта недостающая дощечка отыскивается
в порядке игры, но по возможности быстрее, либо в преднамеренном
аморфном расположении дощечек, либо в другом очертании
замкнутой фигуры, состоящей из тех же самых дощечек. Испытуемый должен
выбрать нужную дощечку и заполнить ею пробел в заданной фигуре,
согласно условию. Время между началом игры и выбором нужной
дощечки измеряется»334. Всем испытуемым требовалось больше времени,
если недостающая дощечка находилась во второй фигуре, чем тогда,
когда она лежала в аморфной груде; но разница в сроках постепенно
уменьшается. У 3-4-летних они относятся как 2:1 (120 сек.: 60 сек.).
На самой высшей возрастной ступени они относятся только как 5:4
(30 сек.: 24 сек.) Затруднение, которое заключается в изучении второй
фигуры для узнавания формы, следовательно, у маленьких детей
гораздо больше, чем у взрослых.
Относительная определенность и расчлененность фигуры не
является преимуществом геометрических простейших фигур, особенно
в начале развития. Сошлемся опять-таки на эксперимент. Мы знаем
из исследований Лонерта и Ленка, что у взрослых усиливается
чувствительность к различению величин вместе со способностью
расчленения сравниваемых предметов. Мы знаем далее из наблюдений Штерна
над двумя маленькими девочками (1:9 и 3:6), что дети в таком раннем
возрасте, несмотря на свою индифферентность к абсолютным
величинам, очень чувствительны к различию в величине осмысленных
предметов. Под руководством Фолькельта Дора Музельт (Muselt)
исследовала: распространяются ли на детей полученные Лонертом и Ленком
результаты335. Она исследовала глазомер у трех групп испытуемых.
Первая группа состояла из детей в возрасте от 3 до 6 лет, вторая —
из детей школьного возраста и третья — из взрослых. Исследование
глазомера было проведено на четырех разных объектах: 1) шар, 2)
плоский круг, 3) окружность, 4) прямая линия. Во всех трех группах
лучший глазомер оказался по отношению к шару, худший — в отношении
прямой линии. Наименьшая разница в глазомере на шар и на прямую
линию оказалась у школьников и почти такая же у взрослых в
противоположность совершенно иному распределению величин у
маленьких детей. Несмотря на то что при сравнении прямых и кривых линий
последние остаются далеко позади взрослых, при сравнении шаров
они почти выравниваются. Если бы прямая линия была генетически
простейшей формой, результат должен был быть, конечно, обратный.
Более ранние исследования подтверждают, что генетический
приоритет и геометрическая простота друг с другом отнюдь не совпадают.
С 25-го дня племянница Шинн выражала интерес только к
человеческим лицам; уже во второй четверти года она различала свои и
чужие лица. «Простые » образы ребенок стал воспринимать Только
гораздо позже. Мисс Шинн, которой мы и в этой области обязаны ценными
опытами, принесла своей племяннице печатную букву О в начале 12-го
месяца. Начиная с 243-го дня ребенок всегда показывал ее правильно,
а с середины 13-го месяца почти совершенно независимо от
абсолютной величины этой буквы. На 382-й день она находила о уже среди
петита, иногда только случайно смешивала ее с буквой с. Это тоже очень
поучительно. Чисто «зрительно» с отличается от о, с точки зрения
структуры ее можно считать «незаконченным», «неполным» о. В
конце 21-го месяца впервые были применены к окружающим предметам
названия форм, с которыми ребенок познакомился в своих игрушках
(маленькие дощечки различной формы). Так, например, загнувшийся
угол мужского воротника был назван треугольником. По нашему
мнению, это нужно понимать не так, что угол воротника благодаря
своему сходству с треугольной дощечкой просто вызвал воспроизведение
названия «треугольник», но что при виде человека в таком воротнике
возникла образовавшаяся в процессе игры структура треугольника.
Согласно нашему пониманию, развитие наблюдается не только в
назывании, но, главным образом, в самом восприятии.
К концу 22-го месяца были поставлены опыты с простыми
стереометрическими телами, к этому сроку ребенок уже вполне подготовлен
к обращению с такими фигурами и их узнаванию. Тела эти представили
для него значительные трудности, в особенности он не хотел усвоить
слово «куб» и постоянно говорил «квадрат», в то время как легко
выучил слово «мяч» для шара. Это поведение «памяти» указывает на
своеобразие восприятия; образ куба с самого начала слит с образом квадрата.
Если мы вспомним сказанное выше, мы увидим, что такое
поведение наблюдается значительно позднее. К этому нужно прибавить,
что дети уже очень рано различают картинки с лицами и первое время
принимают их даже за настоящие, которых действительно
пугаются (племянница Шинн на 293-й день испугалась картинки с кошкой)
и с которыми обращаются соответствующим образом. Они
воспринимают портрет точно так же, как и настоящего живого человека.
Вполне аналогичное поведение наблюдал Келер у одного из своих
шимпанзе. Все шимпанзе понимали фотографии шимпанзе (формат
8 х 10 Уг см), на которых были изображены животные величиной от
4 до 8 см. «Когда я пришел к Султану и показал ему его собственный
портрет, то он некоторое время внимательно смотрел на него, поднял
сразу свою руку и медленно протянул ее к портрету в знак
приветствия...» «Кроме того, Келер показал на специальных опытах выбора,
что животные вполне отличают фотографии от других предметов336.
Уже на 10-м месяце племянница Шинн принимала большие портреты
за людей. Индивидуальное узнавание, такое как «отец», «мать» и т.д.,
начинается с начала второго года, причем она уже понимает маленькие
фотографии, а отца узнала даже из целой группы. Ребенок в Ул года
также радуется своей книге с картинками, которые он действительно
знает. По Штерну, для узнавания играет главную роль общий контур,
и в соответствии с этим для понимания картин имеет значение общее
исполнение рисунка, в то время как более точное исполнение
становится понятным только очень медленно. Он испытывает значение
контура интересным методом, который он называет методом появления
(Entstehungsmethode) и который состоит в том, что на глазах у ребенка
рисуют что-нибудь и прекращают рисование в тот момент, когда ребе-
нок говорит его название»337. Приведенные здесь образцы
показывают, какие общие формы распознает ребенок в возрасте 1;10.
Эти опыты показывают, что в раннем восприятии очень легко могут
возникать формы, но они еще очень общие и обладают недостаточной
внутренней структурой. По мере развития структура становится все
отчетливей и может случиться, что фигуры, которые ребенок понимал
Э более раннем возрасте, становятся ему потом непонятными. Гильда
Штерн не узнавала через 21/2 года изображенную здесь бутылку,
которую она называла в возрасте 1;10. Бинэ также ставил опыты с простыми
силуэтами над девочкой 1;9, из которых можно привести следующее:
ребенок различал смеющиеся и плачущие лица и направление взгляда,
большое достижение с точки зрения геометрии рисования, в которой
отчетливые различия в выражении определяются очень тонким
изменением внутренней структуры338. В противоречие с наблюдениями Штерна
эти факты вполне соответствуют раннему узнаванию фотографий. Сам
Штерн отмечает это противоречие. Но опыты Бинэ прямо противоречат
самому по себе неправдоподобному объяснению Штерна.
Представления по памяти, которые ребенок имеет о своих родителях, должны быть
гораздо детализированнее, чем о других предметах, так как даже на
незнакомых лицах ребенок улавливает тонкие нюансы выражения. Это
можно объяснить только тем, что, как мы выше отмечали, выражение
как таковое относится к очень ранним феноменам и что это выражение,
а не структурные отношения плоскостей, ребенок узнает в картине. То,
что ребенок узнает в изображении отца, есть не краска, не величина, не
расстояние между глаз, не форма носа, рта, подбородка, волос и т.д.,
но то своеобразие, которое отличает для нас хорошую фотографию от
плохой — хотя и столь же похожей, т.е. геометрически столь же
адекватной, к сожалению, это трудно выразить словами.
Но именно это плохо передано на тех картинах, которые предлагают
часто детям во время опытов. Наоборот, экспрессионистские картины
содержат преимущественно этот элемент и более или менее свободны от
реалистической передачи и художественной условности. Ничего
удивительного поэтому нет в том, что Бася Шерешевская, исследовавшая
детское понимание картин, нашла, что единственную экспрессионистскую
картину в ее богатом собрании маленькие дети понимали лучше, чем
взрослые339. Правда, самые маленькие из детей, исследованных Шерешев-
ской, были не моложе 4-5 лет, т.е. значительно старше детей, о которых
шла речь до сих пор. Но вполне возможно использовать такие картины
при исследовании более маленьких детей, тем более что Фолькельт
указывает, что характер детских рисунков очень сходен с экспрессионизмом
в стремлении передать целостность изображаемого340.
Не менее интересен и другой результат, полученный Бинэ: ребенок
не узнавал отдельные части предмета, если они были нарисованы
самостоятельно, в то время как он без труда узнавал их в естественном
соединении. Так, например, ухо, рот, рука не были узнаны даже тогда,
когда опыт был повторен спустя почти 3 года (в 4;4). Это ясно
показывает, что объективно существующему предмету (например, рисунку уха)
могут соответствовать совершенно различные феномены. Такой
предмет может хорошо восприниматься как часть целого («Ganzteil»),
оставаясь совершенно непонятным как изолированная часть («Teilgan zes»),
пользуясь выражениями Вертгеймера. Поэтому следующий успешно
проведенный опыт Гильома над своим ребенком 1;10 не противоречит
данным Бинэ. Он рисовал грубый силуэт человеческого лица и давал
ребенку находить недостающую определенную часть, например, глаз, ухо
и т.д.341
В общих чертах сущность вопроса, как она представляется по
нашим опытам, можно выразить так: феноменально даже и для ребенка
человек является не собранием отдельных частей, а чем-то целым, в
котором различаются отдельные члены. Существуют интересные
этнологические параллели. На многих языках нельзя сказать просто рука,
она обязательно должна принадлежать кому-нибудь. Если, например,
индеец найдет ампутированную руку, он не может сказать: «я нашел
руку», но должен сказать: «я нашел чью-то руку»342.
С другой стороны, эти факты дополняются наблюдениями ван Ген-
непа над своей 5-летней дочерью. Ребенок срисовывал с довольно
сложных образцов прописи, которые были ему гораздо понятнее, чем
технически и геометрически более простые, но бессмысленные для ребенка
печатные буквы343.
Штерн указал еще на одно своеобразие детского восприятия: у
ребенка форма гораздо меньше зависит от абсолютного расположения
в пространстве, чем у нас. Дети часто рассматривают свои книжки
с картинками, держа их кверху ногами, что им нисколько не мешает,
и, как показали опыты, узнают картины, повернутые под углом от 90° до
180° от своего нормального положения так же легко, как и нормально
расположенные. Это своеобразие продолжается очень долго. К началу
школьного возраста его можно узнать в том, что многие дети
нарисованные для них буквы копируют не только в нормальном положении,
но и в самых различных других, например, в обратном направлении или
вверх ногами. Мне рассказывали преподаватели, что такие дети могут
вначале читать написанное наоборот так же легко, как и написанное
обычным образом. На этом примере видна разница в сравнении со
взрослыми, для которых чтение написанного наоборот является нелегкой
задачей. Восприятие формы, следовательно, первоначально почти не
зависит от положения, в то время как в наших восприятиях абсолютная
ориентация является определяющим фактором; правое и левое, верх
и низ становятся характерными признаками различных членов
структуры и, таким образом, являются свойствами общей структуры. Более
подробное исследование развития фактора расположения у ребенка
является, во всяком случае, заманчивой и благодарной задачей. Надо
полагать, что для ребенка, восприятие формы которого еще не зависит
от расположения в пространстве, еще не существует разницы между
квадратом, поставленным на угол, в сравнении с квадратом,
построенным на стороне.
Опыты, которые в настоящее время проводит д-р Гендман, дают
основание ожидать нового подтверждения этого.
В этом отношении интересны данные, полученные Этьеном (Oetjen).
Он нашел, что материал для чтения, повернутый под углом в 90°, для
детей от 9-13 Уг лет представляет меньше затруднений, чем для взрослых345.
Особенно интересна следующая этнологическая параллель,
которой мы обязаны Pechuel Loeshe. В его исследованиях уроженцев Лоанго
(негры Банту) он устанавливает, что «туземцы одинаково хорошо
рассматривали и понимали картины со знакомым содержанием независимо
от того, держали ли они их правильно или вверх ногами. Точно так же
те немногие, которые умели читать, читали по-печатному одинаково,
держа правильно или наоборот»346.
В качестве последней проблемы восприятия формы укажем на
следующее. Мы видим окружающие нас предметы с самых различных
точек зрения, в различных «положениях». Один и тот же предмет
изображается в высшей степени разнообразно на нашей сетчатке. Но точно
так же, как при цвете и величине, настоящие феномены при наивном
восприятии не претерпевают этих видоизменений. Один и тот же
предмет обладает всегда одинаковыми общими признаками, характерны-
ми для него. Если я, например, вижу стул так, что с сиденья виден был
только угол, и этот угол в правильном перспективном изображении не
прямоуголен, то мой феномен восприятия ни в коем случае не будет
соответствовать феномену косоугольного треугольника, но я
воспринимаю угол как часть прямоугольного сидения. Это действительно и для
опытов с какими-нибудь фигурами, незнакомыми испытуемому.
Феномен восприятия и тогда не соответствует видимому «положению», но
имеет сильную тенденцию оказаться таким, как это есть на самом деле.
Действующая здесь закономерность, точно так же как и константы
цвета и величины, необычайно важна для построения нашего
представления о мире, мы назовем ее константностью формы. Бюлер, по-моему,
правильно усматривает в этой соответствующей восприятию константе
структуры аналогию нашим понятиям347.
Брунсвик опубликовал сообщение о сравнительных опытах,
доставленных Глимфингером над взрослыми и детьми. Испытуемые в возрасте
от 3 лет должны были сравнить в отношении формы ряд фронтально
расположенных эллипсов с другим рядом, у которого малая ось была
расположена под определенным углом. Так же как и при константах
цвета и величины, оказалось, что кривая развития в константном
восприятии достигает своего высшего пункта в возрасте 10-14 лет и затем
для образованных взрослых снова падает. Из приведенной Брунсвиком
кривой видно, что константа величины трехлетних детей составляет
почти 50% константы образованных взрослых. Краткое сообщение Брун-
свика не допускает дальнейших выводов, необходимо принять во
внимание степень зависимости константы от формы эллипсов; в частности,
это относится к кругу как наиболее законченной форме348. Во всяком
случае, эти опыты показывают, что уже у трехлетних детей константа
формы даже при особенно неблагоприятных условиях опыта
наблюдается в довольно значительной степени.
То же показывают и детские рисунки. Когда ребенок должен
нарисовать куб по памяти, по модели или по перспективному образцу (Кац),
то, как правило, он рисует несколько соединенных квадратов.
Опыты Фолькельта, которых мы коснемся в последней главе,
показывают, что это нельзя объяснить отсутствием технических навыков
рисования. Что при рисовании предметов, изображение которых
затруднительно (например, стула), процесс протекает так же и у взрослых,
можно видеть из книги Виттманна349. Спинку и сидение всегда рисуют
прямоугольными, и так как при этом не получается правильный стул, то
уже рассудочно применяют различные ухищрения. Видеть правильно
таким людям удается с большим напряжением, путем упражнения. Для
тех, кто хоть немного способен к рисованию, это, конечно, происходит
иначе. Они усваивают это сравнительно легко, а многие даже без внеш-
него влияния. Но мы не можем считать это естественным и
врожденным свойством. Сначала каждая вещь имеет действительно только один
феноменальный «образ» (иногда их может быть несколько, которые
сохраняются несмотря на все изменения перспективного образа). Этот
образ обычно бывает наиболее «простой» и легко обозримый350. Вопрос
только в том, как объяснить, что эта простая форма сохраняется даже
тогда, когда ее образование не обусловливается самим предметом. И в
этом случае обращаются к памяти. Бюлер говорит о том, что ребенок не
в состоянии освободить свое настоящее впечатление фигуры от влияния
предыдущего опыта, т. е. ребенок не может без предыдущего опыта351
видеть непосредственно данный образ, а не образ ортоскопический. Уит-
ман также считает, что именно так мы сначала воспринимаем реальные
предметы352. Я, однако, напомню, что объяснение заключается опять не
в фактах памяти или не преимущественно в них, а в законах
образования структур. Существуют такие предпочтительные формы, которые
в то же время просты геометрически и физически выделяются353. Только
так можно действительно объяснить ортоскопические формы, потому
что случаи, когда перспективное восприятие точно соответствует
только одной плоскости тела и в то же время совпадает с ортоскопическим
восприятием, является чрезвычайно редким, так что, строго говоря, его
вероятность равна нулю в противоположность бесконечному числу
неблагоприятных случаев. Надо полагать, что предмет вначале
воспринимается, приобретает феноменально определенную структуру и тем
самым образуя ортоскопический образ, который деформируется от
особо благоприятного положения фигуры, например, если куб повернуть
фронтальной плоскостью, а не как-нибудь углом. Если такая структура
однажды образовалась, она сопротивляется новым положениям, при
которых образование структур затруднено. Но и это не является
только результатом влияния памяти. Объективный образ, особенно тогда,
когда он сильно отличается от ортоскопического, сильно влияет на
феноменальную структуру: тогда либо ортоскопическая форма
становится видна в кривой плоскости, либо возникает фигура, находящаяся
между ортоскопическим образом и перспективным. В этом случае
константа, так же как и для величин, не абсолютна. Так как во многих
случаях константа формы выступает в форме удержания прямого угла, то
все закономерности легче всего, как это сделал Вертгеймер354,
представить именно на этом случае. Прямой угол — весьма четкая форма. Если,
однако, свести это к опыту, т. е. к частоте случаев, когда мы
воспринимаем действительно прямые углы, то мы неизбежно придем к подмене
действительного предмета оптическим отражением, изображением его
на сетчатой оболочке. По законам перспективы прямые углы
изображаются на сетчатке довольно редко. Тот факт, что мы часто видим прямые
углы, не объясняет, следовательно, его особенность, а, наоборот, его
особенностью можно объяснить частоту восприятия.
Мы натолкнулись при исследовании восприятия на однородную
закономерность констант цвета, величины и формы. Для всех трех мы
отвергли объяснение путем индивидуального опыта в том смысле, что
невозможно объяснить их определенные соединения или воздействия
нашего восприятия или суждения. Мы нашли здесь, наоборот, законы
структурных функций, которые развиваются путем простого
созревания — даже и без побуждения — и могут видоизменяться и
образовываться вновь. Последнее можно назвать опытом, но тогда понятие
опыта должно стоять вне спора между нативистами и эмпиристами355.
Структурная функция взрослого с феноменальной стороны есть
полноценное переживание восприятия, а не простое суждение или
ощущение; образование структур не есть простая комбинация, не
просто внешнее взаимодействие первоначально существующих
элементов ощущений, основанное на повторении. Его можно понимать как
процесс, который изменяет структуру в ее образовании, утончает ее,
расширяет процесс, к которому могут присоединиться сильные
компоненты созревания, или как образование совершенно новой общей
структуры, возможности образования которой, однако, должны быть
даны в индивидууме.
7. Сенсомоторное обучение.
Навык и интеллектуальная деятельность
С. Сенсомоторное обучение
На материале сенсомоторного обучения мы в прошлой главе уже
в основном рассмотрели проблему успеха при воспитании навыка.
Поэтому мы здесь остановимся только на некоторых примерах развития
ребенка. В качестве примера сенсомоторного обучения мы раньше
пользовались поговоркой «Обжегшийся ребенок боится огня». Здесь дело
обстоит как будто проще, чем в тех случаях, которые мы разбирали до
сих пор и в которых навык постепенно вырабатывается. Казалось бы,
здесь можно попытаться обойтись без проблемы успеха. И все же этот
случай, типичный для действий ребенка при выучке, необходимо
рассмотреть столь же подробно, как и вышеописанные. Это вытекает уже
из того, что обжегшийся мотылек не боится огня. Тем, что мы
назвали в проблеме успеха «первым актом», является здесь понимание того,
что боль происходит от огня, что привлекательный и желанный огонь
вследствие переживания боли становится «опасным», его нужно
«избегать». Здесь речь идет о простой связи между чувственным
впечатлением и реакцией. Ребенок, который возбужденно размахивает руками,
переводит глаза и при этом обжигается, еще ничему не научится от
болевого ощущения. Без участия сознания это невозможно.
Одной из главных функций боли является пробуждение внимания
и, таким образом, создание благоприятных условий для образования
новой структуры. Отдергивание обожженной руки, конечно,
происходит рефлекторно, в вышеупомянутом смысле, и в результате ребенок
узнает, что в будущем нужно избегать огня. Иначе говоря, огонь,
казавшийся привлекательным, превращается в «злого врага».
Такое пониманием лучше всего подтверждается опытом,
поставленным Уотсоном, исследовавшим этот процесс на маленьких детях.
В темном помещении перед ребенком держали свечу и наблюдали за
тем, чтобы ребенок на самом деле не обжегся. Долгое время в возрасте
от 150 до 164 дней прикосновение к пламени, несмотря на то что оно
приводило к сгибанию пальцев и отдергиванию руки, не давало
никакого результата. На 178-й день реакция впервые изменилась. Она была
явно заторможенной. Только на 220-й день (в течение этого времени
не было никаких изменений) наступило полное изменение реакций.
Вместо того чтобы хватать свечу, ребенок ударял по ней, и после этой
реакции только один-единственный раз схватил пламя356. Стенли Холл
описывает сходный опыт, проведенный с 16-месячной девочкой. В этом
случае превращение очень скоро произошло само собой. Когда ребенку
впервые показали пламя, он затушил его рукой. Когда свечу снова
зажгли, ребенок отстранился от нее с характерной мимикой и жестами.
Это новое отношение ограничилось свечей. На следующий день ребенок
отстранялся от слабой (в 8 свечей) электрической лампочки, с которой
он до сих пор охотно играл, и проявил такое же поведение, как и в
отношении предложенной ему свечи.
Но как только свет был выключен, ребенок сейчас же схватил ее,
несмотря на то что лампочка была еще теплая357.
Точно так мы должны понимать и простейшее образование навыков
у животных. Это можно видеть на вышеприведенных примерах с
курами, которые научились не клевать горьких на вкус гусениц. Как
происходят совершенно аналогичные изменения у взрослых, описал К. Левин
в своих впечатлениях о войне358. Превращение «гомогенного»
ландшафта с приближением фронтовой полосы в «ограниченный» и имеющий
определенное значение, затем новое превращение, когда местность
остается позади, внезапное образование «пашни» там, где только что
было просто «место», — это все аналогии данного процесса,
представляющегося нам здесь в самой примитивной форме.
Ребенок усваивает уже с самого начала необычайно много, и
большая часть этих познаний приходится на возраст, который Бюлер359
называет ступенью дрессуры. Последняя, по нашему мнению, пред-
полагает уже известную степень понимания. Это действительно и для
деятельности, для которой, пожалуй, целесообразней будет сохранить
название дрессуры и которая, собственно, бессмысленна для ребенка
и сообщается ему взрослыми, главным образом, для своего
удовольствия. Ребенку что-нибудь говорят и делают при этом определенное
движение. Обычными формами обращения являются: «А ну-ка,
попроси...», «покажи, какой ты? » и т. д. Эти структуры достаточно подвижны.
Маленький ребенок (0;6-0;8) на вопрос: «где окно?» поворачивал
голову, делал такие же ищущие движения, когда его таким же тоном
спрашивали. Не весь комплекс в полном своем расчленении входит в общую
структуру, а только его основной акцент или самая общая форма.
Но в обычной жизни перед ребенком скоро возникают задачи,
сходные с теми, которые приходилось решать келеровским шимпанзе.
Можно спросить, когда и как обнаруживаются первые действительно
интеллектуальные действия? Еще Франкен360 проверил на двух детях 2;5
и 3;1 лет проведенный им раньше на собаке метод. Келер также
сообщил о некоторых наблюдениях и опытах с маленькими детьми,
построенных по принципу опытов с обезьянами, в чем ему последовал и Бюлер.
Он начал экспериментировать, когда ребенку было 3А года, причем он
удачно использовал для достижения цели хватание361. Ребенок сидит
прямо в своей кровати, схватывает все, что находится поблизости, и
тащит в рот. Это хватание постепенно затрудняется. Сухарик кладется
недалеко за пределами досягания, но к нему прикреплен шнурок, который
находится в этих пределах; или же костяное кольцо, с которым ребенок
играл, надевается на прямой стержень с палец величиной, и ребенок
должен его снять. Принцип обоих опытов нам хорошо знаком по Келе-
ру. В начале 9-го месяца ребенок еще не мог воспользоваться
привязанным шнуром, он протягивал руку прямо к сухарику, не замечая шнура;
если он случайно попадал в руку, он снова опускался или заметно
отстранялся в сторону. Только в двух сеансах показалось, что связь
воспринята, потому что вдруг одно за другим последовали несколько более
ясных решений. Я сомневаюсь теперь в том, что это было так на самом
деле. Но при следующих повторениях все это .было забыто. Только
в конце 10-го месяца ребенок «понял», в чем дело, теперь можно было
переводить шнур куда угодно, ребенок сейчас же схватывал его и
подтягивал с его помощью сухарик. Все, что Бюлер относит к случайным
решениям, можно здесь исключить. Тогда эти данные, подтвержденные
также Пейером и Фолькельтом, во многих отношениях представляют
большой интерес. Мы отметим раньше всего ту антиципацию, пример
которой мы имеем и в опытах с обезьянами. Она одинаково часто
наблюдается в области моторного и сенсорного развития, на ее
теоретическое значение мы уже выше указывали. Гораздо сложнее, в полном
соответствии с данными Келера, проходили опыты со сниманием
кольца со стержня. Это удавалось только в середине второго года жизни, но
было настолько ясно сразу понято, что правильно были сняты также
ключ с гвоздя и шляпа с вешалки.
Келер провел над девочкой 1;3 года, только за несколько недель
начавшей самостоятельно ходить, опыт с обходным путем. Ребенка
поставили на конце тупика длиной 2 м и шириной 1 х/2 м. На той стороне
заграждения прямо перед ее глазами находилась недостижимая
привлекательная цель. «Она подходит сначала прямо к цели, то есть к
заграждению, медленно оглядывается, обводит глазами тупик, вдруг
принимает довольный вид, смеется и идет уже по кривой линии к цели»362.
Так же как и шимпанзе, ребенку очень трудно осуществить
обходный путь с применениями орудия. Келер провел опыт с обходной
доской (в нормальном положении, открытая стена ящика максимально
отдалена от ребенка) на мальчике возрастом 2; 1 лет, который в другом
опыте без труда справлялся с обходными путями. Мальчик, которого
можно считать среднеодаренным, не мог осуществить этого действия
точно так же, как и шимпанзе в подобном случае, он должен был что-
нибудь предпринять в «направлении своего устремления» и стал
бросать в цель363 палку и пояс.
При постройках Келер нашел соответствие в поведении маленьких
детей и шимпанзе, точно так же как и в обращении со скрученной
веревкой, — опыт, описание которого мы дали выше. При постройках дети,
так же как и шимпанзе, затруднялись при соединении одного предмета
с другим и испытывали при этом самые удивительные способы, но,
конечно, скоро они усвоили простейшие из этих действий. По Альперту,
для детей от 2;8 лет постройка не представляет уже никаких
затруднений, в то время как обезьяны, несмотря на частые упражнения, почти не
прогрессируют в этом направлении. Правильное обращение с веревкой
мы отнесли в основном к оптическому развитию. Неудачи, наблюдаемые
у детей до четырех лет и позже, по крайней мере частично основаны на
том, что со сплетенной веревкой не может быть образована оптическая
структура.
Наконец, приведем интересное случайное наблюдение Прейера,
которое является аналогией «применению ящика». На 17-м месяце ребенок не
мог достать в шкафу слишком высоко находящуюся игрушку, «он бегал
вокруг, притащил чемодан, стал на него и достал то, что ему хотелось»364.
Августа Альперт поставила более обширное и детальное
исследование на детях в возрасте между 19 и 49 месяцами365. Она исследовала
сначала простейшее применение палки и ящика, вводя затем те
усложнения, к которым относятся также модификации Келера при применении
палки, описанные в § 6 предыдущей главы под № 13 (доставание длин-
ной палки короткой) и № 11 (двойная палка) и при применении ящиков
(келеровская модификация № 12). Применение палки было проведено
в четырех вариантах, из которых 13 и 11 были самыми трудными;
применение ящика — в пяти вариантах. При этом опыты заканчивались
постройками. Ни одному ребенку, не смевшему решить более легкую
задачу, не была предложена более трудная. Картина, которую дали дети,
близко подходит к тому, что получил Келер у шимпанзе. Мы уже
упоминали о том, что для детей в возрасте от 2;8 лет при решении второй
задачи на стройку — поставить правильно один ящик на другой — не
возникает никакой трудности. На самом же деле в большой таблице
Альперта находятся только два ребенка в этом возрасте, решивших эту
задачу. Но мы не находим указаний, возникла ли у них эта трудность.
Особенный интерес представляют здесь случаи, в которых участие
разума оказалось недостаточно выявленным. Один из них относится
к мальчику 27 месяцев при первом простейшем опыте с палкой. Целью
служила положенная перед клеткой утка. После напрасных стараний
прямо схватить игрушку мальчик заметил палку, взял ее и стал с ней
играть. Не прерывая игры, он начал ударять палкой по утке и придвигать
ее, и, наконец, достал рукой. «Когда ребенок увидел утку, лежащую
у решетки, в выражении его лица было столько же удивления, сколько
понимания».
Участие разума может быть настолько лабильным, что оно
совершенно исчезает, если действие не приводит к успеху. Постройки
прекращаются, несмотря на то, что первый принцип — помещение одного
ящика на другой — отчетливо воспринят, потому что при составлении
была допущена ошибка, сделавшая невозможным успех. Или же
короткая палка, которая уже применялась для того, чтобы достать длинную
(40-месячный мальчик), совершенно забывается, задача остается
нерешенной, потому что испытуемый слишком рано взял в руку короткую
палку. Создается впечатление, что правильное понимание возникает
в момент воздействия сил поля, но сейчас же исчезает снова, как только
эти силы изменяются. А неуспех означает сильное изменение сил поля.
Таким образом, выдвигается интереснейшая проблема: какие
необходимы условия для того, чтобы возникшее понимание стало стабильным?
Можно привести интересный пример, как силы поля оказались
исключительно мощными и действовали еще и тогда, когда экспериментатор
уже прервал опыт. Когда вышеописанный опыт с палкой был прерван
без результата и ребенок очутился возле клетки, он схватил длинную
палку и положил ее на решетку. Полное понимание может
предшествовать действию, поможет развернуться только в процессе его
осуществления; типичное поведение такого рода описывалось в опытах Торн-
дайка с клетками.
Наличие полного стабильного понимания можно проверить путем
переноса. Это с очевидностью вытекает из опытов Альперта.
Чем больше понимания при первом варианте опыта, тем
правильнее действие при втором. В обеих сериях опытов случаи примитивных
(непосредственное хватание) и аффективных реакций значительно
преобладают при первом варианте, чем при последующих.
Альперт вполне справедливо выдвигает роль эмоциональных
функций при решении или отказе. Недостаток уверенности, робость в
присутствии экспериментатора, недостаточный интерес — все это факторы,
наличие которых затрудняет решение. Последний является причиной
того, что сила стремления к цели недостаточно велика, наличие первых
вызывает такие стремления, которые находятся в системе «я»
ребенка, и не оправдываются данной ситуацией. Но в поле могут быть также
и препятствия. 42-месячная девочка, разрешившая легко,
несознательно всю серию задач с ящиками, не могла решить простейшую ситуацию
с палкой. Ребенок был очень расстроен этой неудачей, которая
повлияла даже на его сон. Объясняется это довольно просто: ребенок имел
метровую палку, которую использовал в качестве лошадки до тех пор,
пока это не было ему строго запрещено. Существующая в ситуации
палка, похожая на метр, благодаря этому получила характер
«запрещенного» и поэтому не могла быть привлечена к решению. Подобные опыты,
еще не опубликованные, проводила в течение ряда лет Беатриса Тюдор-
Гарт. При опытах, аналогичных опытам с «ящиками», которые были
проведены в школе для глухонемых, в Университете Кларка, почти все
без исключения дети не сумели справиться с задачей. Причиной было
то, что опыты проводились со стульями, на которые им строго
запрещалось становиться. Когда этот опыт был повторен потом на площадке
для игр с ящиками, были получены положительные результаты.
8. Продолжение. Проблема подражания
Ребенок приобретает большинство своих навыков не в
искусственной изолированной обстановке эксперимента, а под воздействием
среды, которой, в свою очередь, подчинена его деятельность. Мы
встречаемся здесь с исключительно важной проблемой подражания. В то время
как некоторые исследователи придают подражанию огромное значение
для детского развития, другие почти совсем игнорируют его. Это
объясняется не тем, что различные исследователи по-разному понимают
подражание. Это понятие достаточно определенно. В особенности
американская литература уделяет много места различным формам
подражания, которое охватывает всевозможные стороны (мы могли бы назвать
таких авторов, как Л. Морган, Торндайк, Берри, Уотсон, Мак Дауголл,
Штерн и Гильом). В соответствии с нашей основной точкой зрения я
попытаюсь следующим образом разграничить это понятие.
Подражание может состоять в том, 1) что структурные функции, которыми
индивидуум уже обладает, актуализируются, претворяются в действие,
вследствие того что другой индивидуум производит действие таким
же образом, и 2) что у индивидуума образуется новая структура, если
в его восприятие входит сходное действие другого индивидуума. Обе
формы можно еще подразделить следующим образом: в первой форме
можно различать а) инстинктивную и б) приобретенную структурную
функцию, вызванную подражанием; во второй — сложность действия,
требуемого для образования структуры. Поясним это на примерах:
1а) Птица при виде опасности испускает предостерегающий крик, этот
крик повторяется другими птицами, которым неизвестна его
первоначальная причина, lb) Слыша знакомую мелодию, мы часто повторяем ее
непроизвольно громко или тихо. Примерами менее сложным действий
для второй формы служат повторения незнакомого слова,
преимущественно моторная деятельность. Примером более сложным является
заимствование способа решения задачи, самостоятельное решение
которой невозможно и которая напоминает, например, опыты Келера. Здесь
возможно различное качество действий еще и потому, что
образующиеся при подражании новые структуры сильно могут отставать от
образца, начиная с недостаточно точного воспроизведения и кончая полным
несоответствием в основных моментах.
Это разделение, по моему мнению, существенно отличается от
формы подражания, на которую раньше других указал Л. Морган. Ее
можно, пожалуй, охарактеризовать так: подражание движению или целой
последовательности движений и, наоборот, подражание отдельным
действиям приводит к одинаковому результату. Зоопсихологи долгое
время исследовали только отсутствие первого элемента и по нему
заключали вообще об отсутствии подражания. Торндайк привел в
качестве аргумента против подражания у кошки то, что она прорвала
петлю лапой, в то время как кошка, служившая ей «образцом», прогрызла
ее зубами. Еще Берри отметил неправильность этого довода, который
действителен только для элементарного подражательного повторения
движений366.
Классификация, о которой идет речь, ведет к следующим
закономерностям: чем выше структура, образующаяся при подражании, тем
скорее можно его характеризовать как подражание сложному
действию, чем поверхностней эта структура, тем больше подражания будет
относиться к конкретному движению. Мы отметили соответствующие
различия структур в последней части предыдущей главы. Точно так же
как «дрессура» отличается от интеллектуальной деятельности,
подражание высшего порядка отличается от более поверхностного подража-
ния. Чем ярче выражен моторный характер действия, чем больше оно
основано на врожденных инстинктивных структурах, тем больше оно
будет походить на простую имитацию движения. Но если сравнить
воспроизведенное и подражательное действие, обнаружится нечто общее,
целостная мелодия движений, а не фотографическая репродукция
отдельных движений. Когда птица, спасаясь, улетает, потому что видит
других летающих птиц, то она подражает спасательной реакции, а не
летательным движениям. И когда я, например, совершенно против воли
зеваю при виде другого зевающего — случай наиболее примитивного
подражания, — то я открываю свой рот так, как мне свойственно, а не
так, как это сделал другой, т.е. я подражаю зеванию, но не движениям
челюсти.
Чем бессмысленнее действие, тем труднее воспроизвести его, даже
если оно моторно очень простое. Гильом рассказывает о своем ребенке,
что в возрасте 9 месяцев он подражал тому, как причесывают его
волосы и волосы его родителей, но даже спустя 20 дней он не мог
подражательно воспроизвести такое движение, как положить руку на голову.
Указанное Л. Морганом различие, таким образом, является
различием не по существу, а по степени, так как не существует чистого
подражания «движению».
До сих пор под инстинктивным подражанием понималось нечто
иное, а именно — связь между стимулирующим восприятием и
вызванным им движением. Как происходит у птиц повторение
предостерегающего крика? Это также было причислено к инстинктивным действиям
(Л. Морган и Штерн), в то время как многие отклоняли это объяснение,
не заменяя его лучшим (Гроос, Торндайк)367. Для Торндайка проблема
подражания, конечно, заведомо неразрешима ввиду того, что все его
объяснение основано на теории соединения нейронов. Простое
подражательное действие в этом случае может означать только
необыкновенно сложное сплетение соединений нейронов, которое Торндайк
отвергает. На том же основании и Гроос отказывается от признания
инстинкта подражания. Целому ряду отдельных действий, которые
целиком подпадают под группу 1а, Торндайк приписывает инстинктивное
происхождение.
Так как мы отвергли теорию соединений нейронов вообще, и в
частности для инстинкта, то предположение существования инстинкта
подражания, инстинктивного характера движения, возникающего в
результате восприятия такого же движения, является не чем иным, как
замаскированным отказом от всякого объяснения. Я не думаю, что мы
должны распространять этот скепсис так далеко. В начале этой главы
мы познакомились с сущностью закона репродукции, который
заключается в том, что возникшая структура вызывает благоприятные условия
для образования такой же или сходной структуры. Поведение
маленького ребенка вполне соответствует этому положению. В начале всякого
подражания Штерн, по примеру Болдуин, ставит самоподражание —
ребенок бесконечно монотонно повторяет одну и ту же реакцию,
безразлично, касается ли дело новой манипуляции или звуковых
проявлений. После этого начального периода, основанного на чисто моторном
автоматизме, по мнению Штерна, постепенно образуется связь между
движением и восприятием, которая, со своей стороны, снова вызывает
движение, и происходит «круговая деятельность» в смысле Болдуина:
Р-В-Р-В, где Р — движение реакции, Л — восприятие этого движения
или его результат. Самоподражание по этой гипотезе, следовательно,
сводится к ассоциативной связи. Но возможно воспроизведение звуков
при отсутствии слуха, о чем свидетельствует факт, что глухие дети
также лепечут.
Даже у нормальных детей первый лепет вызывается не слухом —
факт, который Гильом приводит как возражение против обычного
объяснения речи. О том, что ухо при этом играет значительную роль,
следует из того, что лепет у глухих модулирует гораздо меньше, чем
у нормальных368. Вопрос только в том, является ли зависимость между
слухом и звуком действительно только внешней, приобретенной путем
ассоциаций. Но это в высшей степени неправдоподобно. Зависимость
нашего звукового аппарата от слуха, конечно, гораздо
непосредственней; Келер уже несколько лет тому назад доказал удивительную
способность повторения тона у взрослых, которая у детей наблюдается
в очень раннем возрасте, даже в первые годы жизни, и наметил даже
гипотезу в отношении механизма этого проявления. Из ранних
проявлений у детей приведем только несколько примеров: Прейер сообщает
о 9-месячной девочке, которая умела правильно повторять звуки,
производимые на рояле; две ее сестры научились петь раньше, чем говорить.
Штумпф рассказывает, что маленькая дочка известного композитора
Дворжака в возрасте 1 У 2 лет правильно пела довольно трудные
песенки под аккомпанемент рояля и уже в годовалом возрасте повторяла за
нянькой такты марша369.
Слух и звуковые проявления не могут быть связаны одними
ассоциациями. Об этом свидетельствуют также и другие
звукоподражания. Задолго до того, как дети начинают понимать речь, они более или
менее отчетливо повторяют некоторые слова, которые они сами еще
не произносили. Мы уже упоминали о том, что уже очень рано
ребенок подражает звукам, которые он сам спонтанно еще не произносит.
Дочь Штерна в возрасте 0;9 произнесла в первый раз и повторила слово
«папа», которое до того никогда не входило в ее детский лепет.
Вообще же, в возрасте 3-4 лет дети подражают больше нечленораздельным
шумам, пощелкиванию, писку и интонации голоса. К этому
относится очень раннее наблюдение Гемфри, на которое ссылается Прейер;
«в возрасте около 4 месяцев девочка начала забавно подражать
разговору, причем обычные ударения настолько точно были имитированы,
что в соседней комнате можно было принять его за настоящий
разговор». Артикуляция, звукообразование и т.д. были, конечно, в высшей
степени несовершенны370. Это подражание интонациям мелодии речи,
которую наблюдал также Штерн371 у своей дочери Евы на 13-м месяце,
особенно интересно. Оно аналогично (но не больше) повторению
правильных музыкальных мелодий и, во всяком случае, не может быть
объяснено одними приобретенными ассоциациями. Ко времени обучения
речи начинается период «эхолалии», «в которой ребенок произносит
всевозможные услышанные им слова или их окончания с неутомимым
терпением»372. Это терпение и его направленнось также характерны.
Ребенок старается сделать свои подражания все больше похожими на
образец, по возможности усовершенствовать их. Для того чтобы
объяснить это представляющееся ему особенно важным обстоятельство,
Клапаред вынужден постулировать инстинкт стремления к
соответствию373. То же самое мы находим и у птиц: попугаи иногда произносят
целые фразы с типичным для них произношением. У них также можно
наблюдать упражнения до тех пор, пока подражание не приобретает
все большее сходство с образцом.
Если бы мы могли установить прямую зависимость между
восприятием и движением, то все факты стали бы понятны. Структура
восприятия продуцировала бы структуру движения «по сходству», движение
могло бы происходить как копия восприятия, потому что зависимость
между обеими отдельными структурами (восприятие и движение), одну
из которых мы считаем продуктом другой, должна оказаться опять-таки
структурной зависимостью, причем возможна различная устойчивость.
Это следует уже из того, что, как мы видели выше, движение, которое
ребенок может совершить спонтанно, утомительней и несовершенней, чем
если оно производится при подражании. И когда структура достигает
известной степени устойчивости, это становится заметным и в отдельных
членах: ребенок слышит произнесенный звук как объект подражания,
повторяет его «для подражания» и слышит свой собственный звук «как
более или менее правильную копию произнесенного звука». Если копия
«недостаточно хороша», она тем самым приобретает характер
несовершенства и, как мы уже видели, обнаруживает сама собой
незаконченность проявления; на этом организм не может остановиться, завершение
достигается только тогда, когда произнесенный звук является
правильной копией своего образца. Тогда структура отношения
образец-подражание находится в состоянии равновесия, и мы не нуждаемся ни в каких
инстинктах для объяснения; тогда мы можем ссылаться не только на
общие законы психологии, но также и физики»374.
Мы устанавливаем, следовательно, зависимость, подобную тому,
что мы наметили для объяснения понимания чужой психики.
Ход нашего мышления предполагает существование структурной
зависимости между восприятием и движением. Эта зависимость до сих
пор рассматривалась как родство или сходство. Но она может быть
совершенно другого характера. Я могу подражать решению задачи,
если я ее понимаю в самый момент осуществления решения, т.е. если
структура восприятия образовалась правильно, как если безразличная
вещь стала центром общей структуры, то тем самым уже достигнуто
решение. Несомненно, что структура восприятия заключает в себе
правильное завершающее движение, — здесь мы не видим никакой другой
проблемы, кроме общей. Проблемы образования волевого действия мы
здесь не касаемся. Я приведу пример: излюбленная детская игра в
фанты состоит в том, что ребенок получает от своего соседа ложку и
передает ее дальше другому соседу со словами: «лирум-ларум ложка,
изловчись немножко». Нужно принимать правильно ложку, т.е. так, как
это проделано тем, кто передает, — например, ложку берут левой рукой
и передают дальше правой. Тот, кто ошибается, должен дать фант.
Интересно наблюдать, как выучиваются этой игре дети, которые ее еще не
знают. Ребенок пытается узнать, как это делается, и в чем заключается
трудность, но стоит только раз уловить смысл — и задача решена.
Зависимость между структурой и движением при этом, во всяком случае,
не является специальной проблемой подражания, в основном
подражание уже было осуществлено, когда образовалась структура восприятия
образца. Занимающая нас проблема, вследствие этого, собственно, не
относится ко второй форме подражания, к этой высшей ступени,
потому что само движение стимулируется раньше, чем был замечен образец.
Шимпанзе, который путем подражания добирается до своего плода,
хочет овладеть им раньше, чем это сделает другое животное; ребенок при
игре в фанты с самого начала хочет играть правильно. Но бывают и
такие случаи, — когда одно лишь восприятие вызывает стремление
произвести действие как случай, когда ребенок 0; 11 подражает стиранию
пыли со стула. Такое подражание типа «серьезной игры» наблюдается
также и у шимпанзе375. Но и это вполне понятно. Полное восприятие
образца здесь состоит именно в том, что улавливается зависимость
между эффектом и движением, и эта структура сама затем приводит снова
к движению. Это можно объяснить с различных точек зрения. В одном
случае процесс имеет известное сходство с упомянутым в начале этой
главы завершением структуры, движение относится к структуре и
производится соответствующим образом. Этот структурный закон есть не
что иное, как действительное содержание того выдвигаемого Джемсом,
Вундтом и другими правила, которое фигурирует как главный принцип
подражания у Гросса, против которого выступил Торндайк и которое
заключается в том, что каждое представление о движении имеет в себе
тенденцию произвести самодвижение.
Можно также считать, что импульс к копированию действия
связан с другой структурной закономерностью, с тенденцией к точности
и устойчивости. Таким образом, эта группа находится посредине между
двумя рассмотренными раньше.
При «интеллектуальном» подражании образец служит только для
того, чтобы сделать возможным образование правильной структуры,
претворение в действие не нуждается в объяснении, существует
независимо от образца. В подражании первого рода, например, в подражании
звукам образец должен вызвать не только структуру восприятия, но
и структуру действия; оставалось изучить только переход от первого ко
второму. В последнем рассмотренном нами случае подражания
стирания пыли со стула образец должен вызвать структуру восприятия и
импульс, но переход от структуры восприятия к движению столь же мало
нуждается в объяснении, как и в первом случае. Он относится к
«пониманию» произведенного действия, не являясь проблемой, подражание
движению происходит под действием структуры, а не образца, и
перестает быть проблемой.
Когда ребенок 0;5 (на 38-й неделе) ударяет двумя ложками одной
другую после того, как мать показывает ему это376, мы должны считать,
что он в достаточной мере понимает действия матери для того, чтобы
воспроизвести правильные движения.
В случаях примитивного подражания мы должны представлять
себе, следовательно, совершенно иную внутреннюю зависимость
между структурой восприятия и структурой движения. Мы уже показали
необходимость этого для подражаний звукам и тонам377. Первое
подражание относится к выразительным движениям. Уже в середине первого
года жизни можно заставить ребенка улыбаться, если его рассмешить,
и плакать, если представляться плачущим; в большинстве
«выразительных движений» такого рода Торндайк признает существование
прямого подражания. К ним относится также раскрывание рта, которому сын
Прейера подражал к концу 15-й недели. Мы видели уже в одной из
предыдущих глав, что аффекты и выразительные движения должны
находиться в какой-то тесной внутренней зависимости (см. выше), что здесь
должна существовать внутренняя структурная связь, на которой
основан переход от восприятия к движению. Мы, конечно, еще не
разрешили этим проблемы, но мы считаем очевидным направление, в котором
нужно искать ее разрешения так же, как и существование зависимости
между его низшими и высшими формами. Проблема подражания
превратилась для нас в общую проблему структуры: как из структуры
восприятия возникает структура движения. Возможно, что закон
завершения структуры влияет на закон повторения структуры, но не исключено
существование и других законов или выражений того же самого закона.
Интенция к подражанию может иметь различные причины. Нужно
различать две стороны проблемы: необходимость подражания и
способность к подражанию. Часто всю проблему подражания
односторонне рассматривают с точки зрения необходимости подражания.
Потенция к подражанию, связанная с действием, которое служит образцом
подражания, еще не является признаком подражания. Когда ребенок,
учащийся разговаривать, подражает каждому услышанному слову, это
еще не «принудительное» подражание, ребенок испытывает желание
говорить и повторять разговор. От образца зависит только то, что он
говорит. Нельзя отрицать того, что образец побуждает к подражанию.
Но его нужно рассматривать с точки зрения возможностей
подражания. Способность к подражанию означает возможность определенного
влияния структуры восприятия на структуру действия. Импульс к
действию может происходить и из других источников. Ясно, что чем
примитивнее существо, тем меньшим числом факторов определяются его
действия, тем больше участие структуры образца. Если рассматривать
подражание как структурную закономерность, то переход от
возможного подражания к необходимому должен происходить постепенно.
Образец в лучшем случае может быть только самым сильным
фактором, определяющим двигательный импульс378. Даже в случаях самого
примитивного влияния это не может быть иначе. Когда я чувствую себя
бодрым, я могу спокойно смотреть на зевающего, не испытывая
необходимости зевнуть самому; когда я устал, — мне достаточно увидеть
зевающего, чтобы начать зевать; когда я очень зол или печален, меня не
так скоро заразит смех окружающих. Исходя из этого, проблема
возможного подражания мне представляется значительно более важной,
чем проблема необходимого подражания.
От обсуждения общей проблемы подражания перейдем к проблеме
обучения путем подражания. Существуют две возможности: либо
индивидуум обучается благодаря тому, что он усваивает применение в новой
ситуации действий, уже известных ему в результате подражания, —
подражание происходит тогда в форме 1а и в, сперва без понимания,
и осмысливается только после выполнения движения. Или же
подражание совершается по 2-й форме. Понимание образца предшествует
подражательному действию. Исходя из имеющегося фактического
материала, можно заключить, что обучение путем подражания
осуществляется, главным образом, по второй форме. Низшие ступени — бес-
смысленные повторения и повторение слов — становятся понятными
сами собой. Мы снова можем сослаться на Гильома379, который считает,
что всякий успех в звуковом подражании основан на первоначальном
расчленении акустического восприятия, т.е. на возникновении новой
звуковой структуры. Но и тогда это является правилом. Результаты
опытов над животными согласуются между собой. Но вполне уверенно
можно сказать, что подражание, во-первых, явление редкое, а
во-вторых, оказывается проявлением высшего порядка. Многие
отрицательные результаты опытов объясняются тем, что исследователи имели
в виду низшие формы деятельности. Берри и полагает, что его кошки
подражают только тогда, когда им становится понятно подражаемое
действие. Келер пишет: «Если действительно случается, что животное,
которому показано решение, может сразу само его выполнить несмотря
на то, что раньше это ему не удавалось, то это, безусловно, объясняется
большой концентрацией внимания животного в тот момент. К
сожалению, даже у шимпанзе это наблюдалось очень редко и всегда только
тогда, когда данная ситуация так же, как и решение, находились почти
* "ЧИП
в тех же границах, как и при совершении спонтанных действии"".
Некоторые из случаев подражания у шимпанзе, о которых
сообщает Келер, представляют особый интерес тем, что животное, самый глу-
.пый шимпанзе, подражая действиям других животных, но не понимая
их, делает забавные ошибки. Такое поведение можно сравнить с
поведением рассказчика анекдота, который не понимает его смысла,
вследствие чего анекдот теряет свою соль.
То же самое показывают и наблюдения над детьми. Мур отмечает,
что наблюдаемый им мальчик только тогда подражал, когда начинал
понимать действия других, и то же самое подтверждают наблюдения
Штерна, что устойчивое повторение слов начинается только тогда,
когда возникает интерес к пониманию речи. Несмотря на это, обучения
путем подражания в сравнении со спонтанным обучением оказывается
более легким, не говоря уже о том, что такие навыки, как речь и письмо,
могут быть вообще усвоены только с помощью подражания. Ситуация
«улучшается» при существовании образца уже тем, что отмечается
отправной пункт решения, и тем, что индивидуум обращает свое внимание
на такие вещи, которые до тех пор еще не были включены в ситуацию.
Подражание значительно облегчается еще и тем, что действие можно
совершать с помощью речи так, что самое существенное в нем
становится ясным. Подражание доступным или понятным движениям перестает
быть искусством. В условиях, указанных Келером, даже шимпанзе
легко могут подражать.
В этом смысле подражание является мощным фактором развития.
Большинство из того, чему мы научаемся, мы усваиваем не путем опыта,
но в результате овладения образцами, иногда в более старшем возрасте
при помощи речевого пояснения. Это овладение становится все более
легким, в то время как вначале подражание по трудности мало
уступает самостоятельному открытию. И все же никогда человек не усваивает
столько знаний, сколько в детстве, когда обучение является особенно
важной деятельностью. Исключительно деятельный период детства
заслуживает гораздо больше уважения к себе и заставляет придавать ему
гораздо более серьезную оценку, чем это обычно принято делать.
9. Идеаторное обучение.
Проблемы речи и мышления
Обратимся к последней области обучения, которую мы назвали
идеаторной. Сюда относится, пожалуй, большинство проблем, во
всяком случае, наиболее трудным является ответ на вопрос: как человек
путем мышления освобождается от непосредственного восприятия,
и тем самым приходит к овладению миром. В рамках нашего изложения
мы сумеем рассмотреть только некоторые из этих проблем. Мы имеем
в виду еще почти неизученные в общей психологии вопросы, которые,
однако, возбуждают горячие споры. Мы постараемся избежать участия
в этой дискуссии; в седьмой главе большой книги Бюлера читатель
может подробнее познакомиться с этим вопросом.
Мы займемся здесь исследованием того, в чем заключается развитие
ребенка, обусловленное речью. Речь является важным орудием
мышления; с помощью языка мы поднимаемся над настоящим, воскрешаем
прошедшее, предвосхищаем будущее. Что мы знаем о развитии, которое
приводит нас так далеко? Существует один факт, не встретивший еще
надлежащего внимания к себе. Я имею в виду, что часто значительно
развитое понимание речи предшествует активной речи. Штерн
полагает, что нигде расстояние между речевыми проявлениями и пониманием
речи не бросается в глаза так резко, как в первые месяцы овладевания
речью381. Я сам наблюдал девочку 1 года и 6 месяцев, которая не
говорила ни слова, но между ней и матерью существовало понимание,
распространявшееся на все необходимые вещи. Она давала понять, что чего-
то хочет; тогда мать спрашивала: «Хочешь хлеба?», «Хочешь молока?»,
причем ребенок качал головой при упоминании того, что не
соответствовало его желанию, и утвердительно кивал при совпадении, — таким
образом, очень легко осуществлялось понимание. Мать рассказывала,
что общение началось уже с начала 2-го года, и что понимание каждого
нового действия явно доставляло ребенку большую радость. Я должен
прибавить, что я нередко обращался так с моей собакой. Если верить
наблюдениям, существует период в середине 2-го года со значитель-
ными индивидуальными колебаниями, в который речевые проявления
ребенка проделывают скачкообразное развитие. Вначале
произносятся отдельные слова в качестве самостоятельных фраз, выражающие
желание или аффект, но увеличение примитивных однословных фраз
часто не наблюдается в течение месяцев382. Внезапно число
употребляемых ребенком слов сильно увеличивается, и вместе с этим начинается
период «вопросов о названиях»; ребенок указывает на всевозможные
предметы, спрашивает «что это?» и радуется, когда ему говорят
название. Это второе своеобразие нужно считать первоначальным, в нем
состоит главное развитие; так, например, у сына Штерна промежуточный
переход между наступлением этого периода изучения названий и
самостоятельным употреблением услышанных названий длился несколько
месяцев.
К. и В. Штерн характеризуют наблюдающееся здесь развитие таким
образом: ребенок сделал одно из важнейших открытий в своей жизни —
каждая вещь имеет свое имя. К этому заключению присоединился также
Бюлер, с полной справедливостью выделяя элементы «открытия» в этой
деятельности и подробно анализируя, в чем именно они состоят383.
Мы упомянем еще третью особенность, которая отличает этот
период детской речи от предшествующего периода. Изменяется обычное
содержание фразы, состоящей сначала из одного, а затем из нескольких
слов, первоначально выражавшее желание или аффект. Наряду с этими
выражениями теперь наблюдаются определения «по смыслу»: ребенок
в большинстве случаев говорит так, как будто он называет вещи. Во-
первых, это обнаруживается в том, что в это время слабо
развиваются междометия, в то время как существительные, употребляемые при
этом «объективном» назывании, значительно преобладают. Во-вторых,
об этом превращении свидетельствует следующий сдвиг: в то время, как
прежде существительное употреблялось как выражение воли, теперь,
наоборот, междометия и восклицания становятся обозначением
существительного. Слово «пожалуйста» становится у Гильды постепенно
обозначением булки даже и тогда, когда она ее не просит,
восклицание «видишь», которое часто связывается с жестом протянутого
указательного пальца, начинает в конце концов служить названием руки
в подобном же положении («Вон сколько "видишь"»,— сказала наша
дочь, увидев на афише много таких рук)384.
В этом периоде детского развития слово перестает быть связанным
с желанием и аффектом и вступает в новую связь с вещами. Вещи
существовали до сих пор как постоянные и прочные структуры, которые не
воспринимались до тех пор, пока структура вещей с появлением
названия не стала развиваться. Это совсем не соответствует поведению
ребенка в доречевом периоде. Говорят, что название является открытием,
изобретением ребенка. Бюлер особенно подчеркивает, что здесь полная
аналогия с изобретениями шимпанзе385. Слово включается в структуру
вещи так же, как палка в ситуацию «стремления получить плод».
Соответственно этому можно считать, что слово становится таким же
членом структуры вещи, как и ее остальные члены, т. е. что слово в качестве
названия становится свойством вещи). Такую возможность признает
и Бюлер. Название может быть устойчивым свойством вещи, потому
что вещь можно видеть, не называя ее и не слыша ее названия. И для нас
это происходит так же: синее платье остается синим даже тогда, когда
в темноте нельзя различить цвета. Название же — такое свойство,
которое могут иметь все вещи; ребенок может по этому принципу дополнить
все структуры вещей, и название станет особенно важным свойством
предмета, подготовляющим дальнейшее расчленение вещи по качеству.
То, что название оказывается свойством вещи, не так уж чуждо
нашему представлению, как это может показаться на первый взгляд. Вещь
и название не всегда для нас связаны только внешне, как в тех случаях,
когда мы обозначаем массу буквой «м», скорость — буквой «v» и т.д.
Следующий анекдот лучше всего пояснит мою мысль. При
обсуждении преимущества различных языков некто сказал: «Р[Ы]усский
язык — самый лучший, и я вам это докажу. Возьмите нож: француз
называет его "couteau", англичанин — "knife", датчанин — "kniv", a
русский говорит "нож", и это на самом деле и есть нож386».
Для подтверждения гипотезы о том, что название вначале
является свойством вещи, можно привести много фактов из этнопсихологии.
В примитивном обществе родителями, которые дают ребенку имя,
руководит не вкус и не произвол, имя вообще не дается, а открывается.
Рождающийся на свет ребенок имеет уже имя, так как он представляет
умершего предка. Но к этому имени в течение жизни человека
прибавляются еще и другие, более важные имена. При каждом важном
событии, при церемониях совершеннолетия, женитьбе, убийстве первого
врага, вступлении в общину он получает новое имя, которое является
мистическим носителем новых «качеств», новых «партиципаций». То,
что действительно для собственного имени, относится также и ко всем
словам, тем более что в таком обществе собственные и нарицательные
имена вообще не так сильно различаются, как у нас. Слова имеют
мистическое действие; слова в структуре мира таких народов занимают
такое же место, как и остальные предметы или признаки387.
Такое воздействие слова дольше всего сохранилось в сказках. Лео
Фробениус очень хорошо изображает это в своей книге «Pandeuma»,
München, 1921. Туземцы очень резко различают Tuschimuni и Mukanda,
т.е. свои собственные сказки, в которых участвующие животные
живут, разговаривают и действуют, и сказки европейцев, в которых лишь
рассказывается о том, что однажды произошло. В полном соответствии
с этим Селли писал: «Это глубокое и длительное действие слова нигде
не наблюдается с такой ясностью, как в очаровании сказок. Мы,
взрослые, привыкли усмехаться при чтении сказок: если бы ребенок мог
знать, что мы называем чтением, он бы над этим смеялся». Он полагает,
что «название вещи является в известном смысле ее вызыванием»388.
Слова имеют для детей и примитивных народов совсем иное
значение, чем для нас. Они являются для них «простыми обозначениями».
Они имеют прочные корни в мире и сами воздействуют на мир
(заклинание словами). Не так уж удивительно поэтому, что младшая дочь
моего друга и коллеги Огдена в возрасте 4 лет спросила: «Почему нельзя
видеть то, что я только что говорила?» (личное сообщение).
Высказанное выше мнение о том, что для детей названия обладают
полной реальностью, лучше всего подтверждается интересными
опытами Пиаже. Несмотря на то что возраст детей, исследованных его
сотрудниками в разных странах (Швеции, Франции, Испании), гораздо
старше рассматриваемых нами случаев, у них проявляются те же
реалистические черты (до конца 7-го года). «Когда ребенок усваивает
название какой-нибудь вещи, он думает, что узнает гораздо больше, что
он познает ее». Первоначально названия действительно заключаются
в самих вещах. Вещи сами говорят нам о том, как они называются; мы
должны только посмотреть на них, чтобы узнать их название. Ребенок
41/2 лет на вопрос, откуда мы знаем, что солнце называется солнцем,
ответил следующее: «Я не знаю; просто потому, что мы его видим».
«Собственно, не следует говорить, что желтый диск с различными
присущими ему свойствами называется солнцем, а желтый диск, который
представляет собой солнце, наряду с остальными качествами, носит также
и название солнца», — пишут ниже. Иначе говоря, название ни в каком
случае не является произвольным. Я приведу еще несколько
примеров из Пиаже. На вопрос: «Можно ли гору Юру называть "Салевом",
а Салев "Юрой"? » — семилетний ребенок отвечает: «Нет». — «Почему
нет?» — «Потому что это не одно и то же». На другой вопрос: «Можно ли
солнцу дать другое название?» — 9-летний ребенок отвечает: «Нет». —
«Почему нет? » — «Потому, что солнце есть солнце, и его нельзя называть
иначе». Другой ребенок 6 лет 6 месяцев прибавил, что Бог может
переменить название солнца и луны, но потом на вопрос, будет ли это правильно
или нет, ответил, что будет неправильно, потому что луна должна быть
луной, а солнце — солнцем. Пиаже, который проследил развитие этого
реализма названий, находит стадию, когда название уже больше не
сливается полностью с вещью, но только соответствует ей389. Отправляясь от
совершенно другого исходного пункта и опираясь на другого рода
материал — звучание различных языков, Горнбостель пришел почти к такому
же заключению. По его мнению, смысл произносимого обусловливает
звук и является как бы звучащим смыслом. Первоначально смысл
совершенно адекватен звуку, потому для того чтобы понять услышанное, не
нужно никакого опыта, никакого обучения390.
Период называния ставит перед нами еще и другие вопросы. Если
каждое слово имеет название, какими путями ребенок приходит к
овладению огромным количеством слов? Это представляет собой для
ребенка серьезную проблему, которую Штерн391 назвал речевой
потребностью. Эту потребность ребенок удовлетворяет не только путем
вопросов, он имеет еще и другие способы называния вещей.
1. Названия возникают как самостоятельные открытия, о
происхождении которых, во всяком случае, ничего неизвестно. Мур наблюдал
большое число таких названий. Большое значение для их объяснения
имеет наблюдение, о котором сообщает Штумпф. Его сын называл
строительную дощечку особой формы «шага». Об этом он вспоминал еще
в 17 лет и объяснил причину следующим образом: «дощечка выглядела
так же, как звучало слово, и это сохранилось до сих пор». Здесь речь
идет, следовательно, об особого рода внутренней зависимости между
вещью и ее названием, на которую указали Пиаже и Горнбостель392.
2. Слова, первоначально употребляемые для названия
определенной вещи, постепенно получают более широкое значение. Предмет,
названия которого ребенок еще не знает, обозначается так же, как
и предмет с уже известным названием. Такое перенесение
представляет большой теоретический интерес. Приведем пример. Одно из первых
слов Гильды Штерн в конце 1-го года было «Puppe». В первый раз оно
применялось действительно к кукле, но очень скоро стало
употребляться и для некоторых других игрушек, например, для собаки и кролика из
материи, но не для другой любимой игрушки этого периода —
серебряного колокольчика. Она же называла носки ботинок своих родителей
«нос». «Она любила в это время хватать наши носы и открыла такую
же возможность и относительно носков ботинок. У одного мальчика
2 лет и 3 месяцев слово «ляля» обозначало сначала пение, музыку;
после того как он услышал военную музыку, это слово обозначало
также и солдат, и, наконец, всякий шум, даже такой немузыкальный, как
стук или ругательство»393. Такие перенесения описаны многими
исследователями. Они происходят уже задолго до периода называния, как
в первом из приведенных нами примеров или в наблюдении Прейера над
своим сыном, который в конце 11-го месяца, когда что-нибудь исчезало,
все равно, уходил ли кто-нибудь из комнаты, или гасили свечу,
произносил слово «атта». Как показывают наши последние примеры, такие
перенесения имеют место и в период называния, и это бросает свет на
сущность самого называния. Можно считать необязательным, чтобы
каждая вещь имела отдельное название, так как иначе не могли бы
происходить такие перенесения; очевидно, достаточно того, чтобы каждая
вещь имела подходящее название. Мур сообщает, что с развитием
называния сокращается число и объем перенесений. Мне кажется, что новые
наблюдения могли бы установить влияние тенденции к называнию на
число и форму перенесений.
Как нужно понимать эти перенесения? Бюлер вполне справедливо
сравнивает перенесения, наблюдающиеся в период называния, с
перенесениями у шимпанзе, когда, например, шимпанзе употребляет поля
шляпы в качестве палки394. Этим определяется направление, в котором нужно
искать объяснение вопроса. Ни в коем случае нельзя считать, что ребенок
смешивает вещи, называемые им одинаково. Это достаточно ясно
показала Мур, указав на то, что отношение к одинаково называемым вещам
может быть весьма различным, например, ее ребенок называл всех
маленьких девочек Дороти, но выражал радость только тогда, когда приходила
маленькая Дороти, с которой он дружил и имя которой он запомнил395.
Когда К. и В. Штерн пишут: «Восприятие впечатлений у
ребенка должно быть еще настолько скудным и хаотическим», что «вполне
отчетливые для взрослых различия могут ускользнуть»396, то этого по
меньшей мере недостаточно. Когда новая вещь получает старое
название, это, по нашей теории, означает, что она входит в структуру,
приобретенную в связи с другой вещью. Она не должна быть для этого
идентичной этой другой вещи, но должна лишь обладать качествами,
подходящими к этой структуре. Что мы должны знать лучше всего, так
это структуры, в которых вещь и название связаны между собой397.
Высказанное выше предположение, что название становится «свойством»
вещи, может служить только общими рамками, которые должны быть
заполнены более подробными исследованиями. Как отметил Вертгей-
мер, соотношение структура-свойство-вещь может быть различным.
Например, «красное» будет занимать равное место во фразах «стена
красная» и «кровь красная»398. Для этого необходимы дальнейшие
исследования детской речи и мышления, на которые я хочу лишь указать.
3. Наконец, ребенок создает новые названия путем комбинации из
ему уже известных. Бюлер отметил это и потребовал систематического
исследования. Интересные примеры дает сын Штумпфа, до 4-го месяца
4-го года жизни разговаривавший только на своем языке399, например:
hoto —лошадь; рарп — есть; hoto-papn — тележка, которая привозит
молоко; ion — бегать; hoto-ion — почтовая карета; ei — яйцо; hopa — брать,
поднимать: ei-hopa — ложка для яиц; wausch-hopa — вилка; wausch-
hap — ножик.
Мы, взрослые, называем «описаниями» то, к чему мы прибегаем,
когда не знаем названия, но на ранних стадиях такие слова выполня-
ют функцию названия. Но они не являются «только» названиями.
Постепенно это изменяется. Время, когда ребенок описывает бабочку как
«летающие анютины глазки»400, относится уже к значительно более
поздней стадии развития, в которой описание и название уже больше
не одно и то же, как вначале. Установленные нами соотношения очень
поучительны и для структуры вещь-название. Во-первых, они
указывают на то, что название находится не только в чисто внешней связи
с предметом, как полагала старая теория ассоциаций, потому что тогда
можно было бы узнать название только посредством вопросов, но
каждая вещь сама указывает, как ее называть — это можно видеть по ней.
Во-вторых, функция предмета имеет большое значение при
образовании структуры. Вещь, следовательно, вполне сохраняет свое влияние,
больше того, ее влияние относится к самой ее сущности. Вилка — это
не предмет с четырьмя зубцами, но «поднималка для мяса». Это
подтверждает исследование детских определений. Особенно ценны в этой
области наблюдения Бинэ над двумя его дочерьми в течение
продолжительного времени (21/2~31А г. и 41/2—5 лет)401. Старший и младший
ребенок отвечали на вопрос «что это?» (например, ножик, хлеб, змея и т.д.),
всегда упоминая назначение, функцию предмета, и это продолжалось
до тех пор, когда дети поступили в школу. Вещь, безусловно, не
является для ребенка изолированным предметом, но ей присущи некоторая
функция, назначение. Мы до сих пор рассматривали речь в периоде
усиленного развития называния. Но мы должны сказать, что этот период
нельзя понимать слишком схематично. Название играет большую роль,
но наряду с этим речь имеет еще и другое назначение. Сохраняется не
только эмоциональный и волевой характер, но прибавляются также
констатации, выходящие далеко за пределы простого называния вещей
и показывающие, что речь уже в этом раннем периоде может вступать
в соотношения с другими структурами. Я приведу пример, который
наблюдал Тэнио и о котором сообщил Компэйре402: 18-месячная девочка
забавлялась «игрой в прятки», когда ее мать или воспитательница
прятались за дверью и произносили «ку-ку». Тому же ребенку говорили
«обожжешься» в тех случаях, когда суп был слишком горяч, когда он
подходил близко к огню или когда ему одевали в саду шляпу для
предохранения от солнца. Однажды вечером, когда солнце садилось за холм,
ребенок, стоявший на террасе, сказал: «обожжешься-куку». Здесь два
структурных процесса соединились в одну структуру. Осуществился
переход от фразы, состоящей из одного слова, к многословной фразе,
который происходит не так, как наблюдал Маджор в своих опытах, —
путем повторения ребенком двух связанных между собою слов, но
означает собой серьезное новообразование. Мы сейчас еще не в
состоянии точно определить психологическое значение этой деятельности;
как говорит Бюлер403, это тоже благодарная, хотя и сложная проблема.
В результате Бюлер404 указывает на следующую особенность раннего
речевого периода. Очень скоро в детской речи появляются такие слова,
как «это» и «вот» (в смысле «что-то») . Бюлер наблюдал это у своего
ребенка в возрасте 1 года 7 месяцев. Эти слова употребляются
правильно, т.е. не только для неопределенных предметов. Он сообщает об этом
следующее: «У нас постоянно создавалось впечатление, что либо
ребенок не вовремя схватывает правильное название, либо (по
неизвестным причинам) ему недоступно более определенное название».
Объяснение, которое дает Бюлер, мне кажется вполне подходящим, правда,
с поправкой на его априористически-рационалистическую тенденцию
и дуализм психического содержания и функций.
В нашей терминологии я мог бы это выразить так: вещь для ребенка
есть нечто, имеющее название, которое по своему характеру
относится к ее сущности. Кукле не только принадлежит название «кукла», или
матери — название «мама», но сама структура действует еще до того,
как существует название. Она стремится к завершению, и эта
тенденция не нуждается в определенном названии для своего удовлетворения.
Общее слово, например, «eins», оказывается вполне достаточным при
условии, если это слово является признаком образования общей
структуры вещь-название. Когда ребенок спрашивает: «Что это?» (см. выше),
то слово «это» не обладает еще такой функцией, оно показывает только
несовершенство структуры, «это» в вопросе должно быть еще заменено
названием. Тогда вступают обозначения «eins», «dies», появляющиеся
вместо названия «eins» — это вещь, уже имеющая свое название.
Благодаря названию предметная категория сама стала более ясной и живой.
Вполне аналогично обстоит дело со словом «делать» (machen),
которое Бюлер довольно часто наблюдал в различных комбинациях: schnell
machen, Kaput machen, lala machen... (петь) или вообще «so machen» («так
делать»). Это выражение комбинированной структуры действия, так же
как «eins», служит выражением единой структуры вещи с ее названием.
Конечно, и здесь необходимы дальнейшие наблюдения. Но они
будут не напрасны, если бросят свет на образование важнейших наших
категорий.
Эта точка зрения, как мы уже сказали в начале обсуждения, является
не единственной попыткой определения сущности речи. Речь состоит не
только из названий и слов. В действительности уже очень рано в самом
назывании обнаруживается специфическое влияние языка. Гиллет
показал, что двухлетний ребенок гораздо труднее усваивает иностранные
названия (например, животных), чем названия на своем родном языке.
В подлиннике «dies» und «eins» в смысле «etwas». — Прим. ред.
10. Категория мышления.
Субстанция и причинность
Возвратимся к тому факту, что мир ребенка, подобно нашему,
вместо того чтобы состоять из красок, звуков, запахов и т.д., составляется
из предметов и явлений. В параграфах о пространственных факторах
мы показали, как нужно объяснить пространственную структуру, но не
пошли дальше собственно пространственной формы. Но мир состоит не
из двух- и трехмерных фигур, а из предметов. Мы знаем в нашем мире
столы и стулья, гостиницы и почтамты, трамваи и автомобили,
животных и людей. Здесь, безусловно, уместно эмпирическое объяснение, ибо
как мы можем узнать, что определенное здание есть именно почтамт,
если никто нам этого не сказал?
Но, глубже исследуя этот вопрос, мы находим, что такое знание
не является простым накоплением опыта. Еще до того, как мне
говорят, что это здание — почтамт, я воспринимаю его как здание, т. е. оно
имеет уже какое-то «значение», на котором может быть создано еще
одно — почтамт. Мы можем пойти еще дальше и спросить, откуда
происходит значение «здание» и, наконец, как вообще воспринимается
значение.
Обычно считают, что первоначально не существует предметов со
значениями, а только формы линий и плоскостей, к которым потом
благодаря опыту присоединяется значение. В последнее время
несколько измененное учение о том, что «форма и содержание имеют
совершенно различное происхождение», находит себе последователя
в лице Шарлотты Бюлер405. Она считает, что смысл придается
форме благодаря речи. Доказательством являются эксперименты, по
которым известные картины понятны только тем детям, «которые уже
овладели функцией называния». Автор ничего не говорит о том, как
именно речь наполняет содержанием формы, и не объясняет, почему
шимпанзе узнают картины (см. выше), наконец, упускает то
обстоятельство, что картины — не единственные предметы, имеющие смысл;
эксперименты Ш. Бюлер не доказывают, что другие предметы, такие
как бутылки, мать и т.д., воспринимаются еще не умеющими говорить
детьми как чистые формы. Ввиду этого мы к этой гипотезе больше не
будем возвращаться.
Но и более раннее, основанное на эмпиризме объяснение,
несовместимо с нашим представлением о примитивном сознании. Если мы
считаем доказанным, что предмет раньше всего является привлекательным
или отталкивающим, синим или черным, круглым или острым, мы не
можем видеть в начале развития чистое восприятие формы, не имеющей
значения.
Первый объект восприятия приобретает свое значение уже
благодаря его отношению к поведению воспринимающего. Предмет и «я» не
только сосуществуют, но они динамически связаны между собой, и те
силы, которыми предмет действует на «я», обусловливают его
«значение»406. Конечно, большинство значений совсем не так просты, как те,
о которых мы говорили, но когда мы в соответствии с этим станем
различать первоначальные и приобретенные значения, то тот же принцип,
который объясняет первичные значения, делает по меньшей мере
принципиально понятными и приобретенные значения. Если мы
обратимся снова к искусственно введенному разделению между восприятием
и действием, мы увидим, что действия так же зависят от восприятий,
как и восприятия от действий, с которыми они связаны, но вне действия,
следовательно, придадут предмету восприятия новые качества, новое
значение. При обсуждении опытов Келера мы указали, что ящики могут
служить для обезьян в одном случае «скамейкой», в другом
«сиденьем», в третьем препятствием. Таким образом, восприятия в
значительной мере преобразуются действием — процесс, в который легко могут
быть втянуты и моменты, связанные с восприятием формы. Эту
зависимость между восприятием и действием особенно подчеркнул P.M.
Огден, который включил ее даже в определение восприятия407.
Предметы, следовательно, приобретают свое значение благодаря
тому, что они становятся частями поля восприятия в момент действия.
Части поля могут выделиться из основы и образовать особые формы,
или же существующие формы могут быть в значительной мере
видоизменены. В обоих случаях, вследствие зависимости от
происходящего действия, они приобретают новые аспекты. Ввиду того что каждый
аспект со своей стороны содержит возможность нового действия,
процесс приобретения новых значений бесконечен. Этот процесс
называется опытом с точки зрения обычной теории эмпиризма.
Подробности этого процесса нам очень мало известны, и опыты над
детьми должны привести к интересным данным408.
Мы должны теперь вернуться немного назад и поставить вопрос
предметности самого феноменального поля. Что означает тот факт, что
мы окружены «вещами»? Этот вопрос неотделим от проблемы
причинности. Что значит выражение: «одно явление является причиной
другого? » Мы ставим этот вопрос здесь, конечно, с точки зрения генетической
психологии, а не теории познания. Все же развитие в психологическом
анализе не оставит без внимания и положение дел в теории познания.
Предпошлем отрицательное положение. Первое восприятие
предмета происходит у ребенка не так, что в результате частого повторения
различные оптические, акустические и тактильные свойства
связываются друг с другом. Таким образом, «вещь»-«мать», конечно, не есть со-
единение различных зрительных ощущений, которые ребенок получает
от матери с ощущениями прикосновений, происходящих от нее, и
звуковых впечатлений, которые вызывает у ребенка ее голос.
Наследие философии Юма — эмпиризм — является
несостоятельным при сопоставлении с фактами. Мозаика первичных
сосуществующих ощущений исключается из нашей теории409.
Тем, что мы отвергаем эмпиризм, мы еще не становимся
приверженцами априоризма. Когда мы выше (глава 3) выступали против
априоризма, мы должны были объяснить, почему дети правильно понимают
известные явления, как, например, человеческие выразительные
движения. Теперь, при исследовании основных категорий, мы встречаемся
с тем фактом, что первоначальные категории во многих отношениях
являются неадекватными.
Мы приведем только два общих довода. Первый уже очень устарел:
если организм сам определяет существование известного числа таких
прочных структур, как субстанция, причинность, число и т.д., с
помощью которых он овладевает опытом, как он может правильно
применять специфические для него формы? Откуда он знает, когда применять
категории субстанции, когда числа и т.д.?
Наше второе доказательство заимствовано у Пиаже. В течение
человеческой истории категории проделывают известное развитие точно так
же, как и в течение каждой индивидуальной жизни, особенно в детстве.
Коли бы они были первоначальными формами духа, как бы они могли
изменяться? Этот аргумент является хорошим исходным пунктом для
лучшего понимания категориальных процессов. Что означает развитие
категорий? Вспомним обсуждение процесса обучения в последней
главе. Мы видели там, что обучение есть преобразование существующих до
того структур, которое происходит под давлением внутренних и внешних
условий. Насколько удается проследить, мы никогда не имеем
«материала». Применительно к категориям это означает: мир в том виде, в каком
он является самому маленькому ребенку, уже в какой-то мере оформлен,
и не так, что формы, происходящие от духа ребенка, присоединяются
к неоформленным ощущениям, но эти формы навязаны ребенку
соответствующими реальными условиями. Раздражение органов чувств имеет
своим результатом не неоформленный чувственный материал, который
оформляется только задним числом, но распределение раздражения
в зависимости от состояния организма составляет комплекс условий, от
которого непосредственно возникает оформленное восприятие.
Форма и внутреннее содержание этой структуры восприятия
подвергается длительным изменениям, т.е. развитию, причем структурные
процессы зависят также от организма, который, в свою очередь,
изменяется благодаря этим структурным процессам.
Что касается направления этого изменения, мы можем на основе
того, что уже знаем, сказать, что для примитивного поведения
характерна очень высокая степень связанности воспринимаемых объектов
вместе с низкой степенью их расчленения, и что развитие расчленения
здесь, как и во многих других случаях, нарушает первоначальное
единство. Обратимся теперь к наиболее важным фактам, установленным
в детской психологии.
Штерн считает возможным развитие, которое протекает в трех
стадиях: «Различные способы овладения миром усваиваются ребенком
неодновременно. Они выступают последовательно, наслаиваясь таким
образом, что старые сохраняются и пополняются новый». «Мышление
вначале стоит на «стадии субстанции»: из хаоса нерасчлененных
переживаний выделяются отдельные люди и предметы, которые и являются
изолированными содержаниями мышления. Затем следует «стадия
действий»: в мышлении выделяются действия, происходящие с предметами
и людьми, которые и привлекают к себе особый интерес. Только в
третью очередь у ребенка развивается способность отделять от предметов
присущие им свойства и изменение соотношений между ними, т.е.
«стадия отношений и признаков»410. Эти стадии повторяются при каждой
новой интеллектуальной деятельности так, что ребенок может
оказаться при предшествующем акте на более высокой стадии, чем на более
позднем. Тремя такими последовательными деятельностями, которые
проделывают одинаковое развитие, являются: усвоение речи, описания
картин и воспоминание о картинах».
Мы сначала укажем на неясность того, что в приведенных цитатах
Штерн называет хаосом нерасчлененных переживаний. Если он имеет
в виду хаос несвязанных ощущений, то это оказывается воззрением,
которое мы выше достаточно обоснованно опровергли. Затем нужно
отметить, что эти категории относятся не только к «мышлению», но
в первую очередь к восприятию. Мы не сомневаемся в том, что и Штерн
разделяет это воззрение, однако считаем необходимым исключить для
читателя возможное недоразумение.
Но и независимо от этого можно возражать против положений
Штерна, которые, несомненно, основаны на большом фактическом
материале. Бюлер указывает, что мы должны понимать
последовательность категорий при последующей деятельности так же, как и при
первоначальной411.
Нужно помнить, что понятия «признак» и «отношение» относятся
к различным структурам. Признак относится к структуре вещи;
отделенная от фона форма приобретает свою дифференцированную
структуру, не лишаясь, однако, целостного характера. Отношение, напротив,
относится в общем к нескольким сравнительно изолированным целым,
часто к нескольким предметам. Здесь также образуется целое,
охватывающее отдельные предметы, и в известном смысле отношение можно
считать внутренним расчленением этого расширенного целого.
Возникает вопрос, в какой мере эти оба структурных принципа — признак
и отношение, связаны между собою.
Наконец, возникает сомнение, как уже отметил Бюлер, в том,
действительно ли стадия субстанции предшествует всем остальным. «Мы
знаем, что сначала именно движение и изменение захватывает
внимание ребенка... Действительно ли восприятие деятельности отстает при
развитии», — пишет Бюлер412. Гиллет установил, что двухлетний
мальчик при рассматривании картинок с животными обнаружил
наибольший интерес к деятельности животных, затем к форме и меньше
всего к окраске413. Я должен прибавить к этому еще следующий аргумент.
Хотя первые речевые попытки ребенка всегда содержат кроме
междометий и существительные»414, однако сами К. и В.Штерн особенно
подчеркивают, что «элементы речи ребенка вообще не подходят ни под
какую категорию слов, потому что они являются фразами, а не
отдельными словами». Штерн называет поэтому первую ступень речи ребенка
периодом «однословного предложения». Детское «мама» нельзя
перевести на обычный язык как слово, обозначающее «мать». Оно
имеет значение предложений: «мама, поди сюда», «мама, дай мне», «мама,
посади меня на стул», «мама, помоги мне» и т.д. Изменение наступает,
опять-таки по наблюдениям Штерна, тогда, когда ребенок начинает
понимать, что каждая вещь имеет свое название. Тогда, собственно,
начинается стадия субстанции, очевидно, как результат функции называния;
до этого дело обстоит иначе. Существуют целые комплексы активности
предметов и людей без четкого структурного разделения предметности
и деятельности. Первая классификационная структура должна быть
предметной, и, таким образом, штерновские три ступени получают свое
оправдание. Но они исходят не из «нерасчлененного хаоса», а из
некоторой реальной формы, хотя и примитивной, но уже достаточно
структурированной и включающей в себя предметы и действия.
Но не нужно думать, что предметы для ребенка являются тем же,
чем и для нас. Предмет представляет собой определенного рода
структуру, характерную для мира; структуру, в которой зависимость гораздо
прочнее, своеобразнее и более внутренняя, чем простая внешняя связь.
Свойством предмета обусловливается также и то, что структура имеет
ядро, центр, от которого известным образом зависят члены структуры,
представляющие собой для нас его качества. Доказано, что от
предмета ничего не остается после того, как от него отнимают его
свойства. Однако заключение, что весь он является не чем иным, как суммой
своих качеств, оказывается ложным так же, как утверждение, что лес
есть только сумма составляющих его деревьев. Так же как в последнем
случае, главным является известное растительное сообщество, в нашей
категории предметности сущность заключается в характере внутренней
зависимости, и это психологически нельзя описать иначе, чем связь
изменяющихся свойств с прочным ядром. Мы должны будем также
принять, что предмет не образуется в процессе развития из заранее
существующих свойств, но существование предметной структуры означает,
что в мире возникают именно такие «связанные в центре образования».
Этот центр, конечно, предшествует сумме свойств, вещь расчленяется
постепенно, только медленно выступают ее отдельные свойства. Вещь,
следовательно, не возникает из неоформленного, а, во всяком случае,
становится на его место.
Для ребенка все свойства заключаются настолько прочно в
предмете, что они еще в большей степени определяются предметом, чем в более
поздние стадии развития. Разложить окрашенные бумажки к
соответствующим образом окрашенным цветкам является для нас легкой
задачей. Но она оказалась неосуществимой для ребенка в возрасте 2; 11, в то
время как этот ребенок без труда мог присоединять маленькие цветные
бумажки к соответствующим большим (Крамоссель, цитировано по
Вернеру)415.
Далее предметная структура первоначально очень динамична. В то
время как мы резко ограничиваем силу от субстанции, для ребенка
предмет и его воздействие еще тесно связаны между собой.
Так, мать для ребенка не является «предметом, который так
выглядит», но, прежде всего, который «делает», «помогает», «наказывает»,
таким образом, даже в «предметной стадии» этот действенный
характер вещи не исчезает. За это говорит и то, что причинные связи,
которые кажутся нам столь трудными, на самом деле узнаются уже
довольно рано, хотя, конечно, причинность представляется ребенку иначе,
чем нам. Примерами этого могут быть такие случаи: девочка 1:9 ругает
ветер за то, что он спутал ее волосы и вымочил руки (Селли); мальчик
2:7, подержавший руки на солнце, говорит, что солнце «раскровянило
пальчики» (Скупин). Точно так же, как, рассматривая структуру вещи,
мы не оставляли области восприятий, мы не оставляем ее и сейчас. Мне
кажется неправильным говорить, что здесь воспринимается, с одной
стороны, ветер, а с другой, мокрота, или в другом примере отдельно
покрасневшие пальцы и солнце; неверно, что соотношения между ними
лишь привносятся. Нет, если мы опишем дело так, как это воспринимает
ребенок, мы имеем здесь в такой же мере факт восприятия, как и акт
действия вещей и их свойств.
В вопросе о том, что именно воспринимается раньше как отдельный
предмет, мы должны будем приписать большую роль частоте. Часовое
повторение одинакового или очень сходного в результате приводит
к тому, что оно скорее выступает из хаоса. Это подтверждают опыты
Брода и Вельтша, но это влияние повторения совершенно отлично от
того, которое мы выше отвергли.
Итак, если предметная структура однажды возникла, она образуется
при новом случае. Как только ребенок увидит свою мать как предмет, он
тотчас же отличит и чужого человека, которого он испугается;
восприняв пустышку как предмет, он отличает и новую погремушку. Точно так
же обстоит и с причинностью. Здесь также Бюлер указывает, что
причинная зависимость развивается не из наблюдений закономерности, а из
наблюдений, удивляющих ребенка исключений. Обратимся к периоду
усиленного развития речи. Предметная структура должна быть уже хоть
сколько-нибудь развита, тем более что ребенок в это время обладает уже
прочными структурами, с прочными, хотя и сдвигаемыми членами в
соответствии с изменением свойства одного и того же предмета. Предмет
и его сила первоначально очень тесно связаны друг с другом (Пиаже),
и вследствие этого два понятия, играющие преобладающую роль в нашем
представлении о мире, в большей или меньшей степени отсутствуют у
маленьких детей, — это понятия необходимости и случая Вернер, Пиаже).
Понятие необходимости абстрактно и обще; напротив, детское
понятие действия конкретно, наглядно и индивидуализировало. Именно
потому, что вещи обладают силой действия, для ребенка не существует
случайности.
Пиаже пошел гораздо дальше этих утверждений и пытался
установить более глубокие различия между детским мышлением и нашим. Он
приписывает ребенку магически-мистическую, фаталистическую и
моралистическую причинность.
Хотя я считаю, что Пиаже пошел слишком далеко, изучение его книг
по этим вопросам является необходимым. Моя сдержанность основана,
главным образом, на очень тщательном исследовании Дж. Хьюанг416.
В одном пункте Хьюанг и Пиаже совершенно согласны: детская
причинность крайне динамична, она не является просто рядоположением
одновременно протекающих процессов. Огонь гонит воду вверх,
теплота образует пузыри, воздух держит воду в трубке и т.д. Эмпиризм Юма
опровергается опытом Хьюанга не меньше, чем опытами Пиаже. Если
мы даже добавим, что и для обыкновенного взрослого дело обстоит не
иначе, то мы еще не станем в противоречие с Пиаже417.
Напротив, опыты Хьюанга показали удивительно мало собственно
«мистической» причинности. Вместо этого обнаружилось сильное
тяготение к натуралистическому объяснению фактов.
Следующее обстоятельство, которое особенно подчеркивает
Huang, должно иметь значение для определения детской причинности.
Когда ребенок дает объяснение тому или иному явлению, мы видим,
какие взаимоотношения в данный момент реализуются в качестве
решения поставленной задачи, и тем самым узнаем кое-что о границах этих
взаимоотношений. Но мы не должны из таких отдельных объяснений
конструировать систему, характеризующую мировосприятие
ребенка. Наиболее характерным для ребенка является, пожалуй, отсутствие
картины мира в нашем смысле слова, существующего за пределами его
мышления (или желаний). Насколько единичная последовательность
оказывается объединяющей и для ребенка (Вернер), настолько другие
процессы остаются качественно разнородными или, употребляя
выражение Вернера, «физиономически» различными. Детское мышление
неспособно к отысканию общих, всегда одинаково действующих
принципов. Хьюанг заключает это, между прочим, из того, как дети
используют свой запас знаний в данный момент. «Убеждения, знания,
понятия — это функциональные понятия, которые охватывают психическую
организацию, являющуюся условиями, определяющими активность
процессов; но это — не описательные понятия, относящиеся к
переживаниям или реакциям поведения или к фактам, накопленным и
сохранившимся в памяти». Наиболее плодотворными, по моему мнению,
являются те данные Хьюанга, которые освещают вопрос о том, почему
.в отдельном случае выбирается именно это, а не какое-нибудь другое
объяснение. Хьюанг показывает, в частности, что причинная трактовка
двух вещей или явлений, совпадающих пространственно или по
времени (феноменалистическая причинность по Пиаже), ни в каком случае
не произвольна, но зависит от особенностей задачи и основных свойств
вещи. Я хочу напомнить, что фактор сходства, являющийся одним из
основных факторов организации поля восприятия (Вертгеймер), играет
и здесь важную роль, и что неизвестное легко приобретает причинную
функцию именно потому, что оно, как незнакомое, очень динамично
наделено «силой действия» и не имеет еще своего места в некотором
большем сочетании и в данной «открытой» ситуации может быть
относительно легко принято за заключительный член.
В этом направлении исследование должно продолжаться. Какими
динамическими свойствами обладает данная ситуация и как
соответственно с этим организуются части этой ситуации? Какое решение
возможно и по каким законам осуществляется решение?
Я уверен, что при этом будет получен материал, подтверждающий
мнение Пиаже больше, чем опыты Хьюанга. Материал, освещающий
динамику процессов, выступает в нашем мышлении и деятельности
в качестве субстанции и причинности. В них так же, как и в остальной
деятельности, выражается сущность детской, можно сказать, более
общепримитивной интеллектуальной деятельности.
Характерные черты примитивной структуры психики должны
проявиться с особенной ясностью в этих примитивных особенностях
категорий. Такой характерной чертой является нечувствительность к
противоречию, которую Пиаже считает особенностью детского, а Леви-
Брюль — примитивного мышления418, и для объяснения которого мы
имеем кое-какие указания в только что изложенном; я имею в виду, что
физиогномические особенности каждого явления исключают
возможность того, чтобы эти явления вступили в противоречия друг с другом
на основе каких-нибудь общих принципов.
11. Продолжение. Числовые структуры
В заключение мы рассмотрим еще одну категорию и постараемся
показать на ней, как примитивные структуры отличаются от наших, как
первоначально важные свойства структуры исчезают и на их месте
появляются новые, совершенно противоположные им. Мы имеем в виду
число — наиболее совершенный образ нашего мышления.
М. Вертгеймер в одной из своих работ, имеющей очень большое
значение для психологии категорий, исследовал, какие образы
заменяют число у некультурного человека, не знающего его, при решении
задач, в которых мы используем числа419. Вертгеймер ссылается, главным
образом, на примитивные народы, но приводит также примеры из
детского развития. Он сумел также показать, что наши «повседневные»
числа часто определенным образом отличаются от математических чисел.
Характерно для нашего мышления то, что мы можем производить
наши мыслительные операции произвольно на любом материале,
независимо от естественных отношений предметов. На иных ступенях развития
это обстоит иначе: сами вещи определяют возможные для них
мыслительные операции. Интересный пример: «Если спросить о понятии
класса в такой форме: как относятся между собой х и у? », то часто правильная
реакция вдруг привлекает конкретное сравнение, например, ответ: как
собака и кошка (не в смысле домашних животных, а как враги)420.
Это в высшей мере действительно и для операций и образов,
заменяющих наши числа, которые мы будем называть «числовыми операциями
и образами». В то время как наши числа применимы к любым предметам
и всегда означают одно и то же, для числовых образов порядок,
естественная группировка, естественные отношения частей и материала не
являются безразличными.
Таким числовым образом является пара: глаза — это пара, тарелка
и стол — нет, стебель и цветок — нет. Пара определяется не по простому
сочетанию, а по взаимной принадлежности, например, муж и жена —
супруги. То же самое относится и к тройной группе: два дерева и одно,
несколько отдаленное, не будут еще «тройкой деревьев». Интересный
пример из опытов Декроли и Дегана сообщает Бюлер421. Ребенок 4;9 лет
так уловил сущность группы из четырех: ему на каждое ухо повесили по
паре вишен и спросили, сколько будет всего. Ответ был такой: здесь пара
и там еще одна пара. Штерн422 также сообщает (по Маджору и Линдне-
ру) о двух детях 2;7 и 2; 10, которые правильно понимали и применяли
«два яблока», но не два раза, уха и т.д. Наши парные члены образуют
особую естественную группу. Декроли и Деган также установили у
своего ребенка в возрасте 2;2 понимание парности глаз, ног, чулок, перчаток.
Это можно объяснить, если вспомнить, что числовые образы не
обладают свойствами наших чисел. В числах 2 остается постоянно одним и тем
же, но в числовых образах два глаза, два бревна, два борца, всегда
оказываются различными образами423. Когда ребенок узнает свойство двух
на яблоках, он не может изменить совершенно эту структуру и сразу
перенести ее на парные органы. Сюда относится и сообщение Вертгей-
мера, что у детей, например, могут быть обозначения один, два, три для
трех орехов, тогда как для трех предметов, определенным образом
расположенных, имеется другое обозначение, включающее и форму. Дети,
например, часто удивляются, что пять в домино соответствует обычной
5, не говоря уже о счете перьев дюжинами и гроссами и т. п.
Как мало переносимы числовые образы в первое время, показывает
.следующее наблюдение Фридриха, которое приводит Штерн. Дедушка
спросил своего внучка 4;ЗУ2: «Сколько у меня пальцев?» Мальчик
ответил: «Я не знаю, я могу сосчитать только свои пальцы». Это не просто
неспособность к мышлению, но основано в большой мере на силе
естественных факторов, противоречащих произвольности выводов. Если я
разобью горшок пополам, то неестественно будет сказать, что я сделал
из одного предмета два, гораздо правильнее: я сделал из горшка черепки.
Числовые образы играют роль еще задолго до правильного
употребления чисел. Уже в первые месяцы второго года можно провести
следующий опыт. Ребенок играет с двумя или тремя одинаковыми вещами,
которые он индивидуально не различает. Если убрать одну из них в то
время, как ребенок отвернется, он тотчас же заметит, если даже
изменить расположение остальных. При больших количествах изъятие
одного не замечается. Из этих наблюдений следует, что генетически
предшествует не счет, а образование естественных групп и образов
множества, как полагает и Вертгеймер.
Счет появляется сначала как порядковый приблизительно в начале
2-го года жизни. Яблоки, строительные дощечки, пальцы, но
обязательно одинаковые предметы, располагаются в ряд и при этом
произносится: один, еще один, еще один и т.д., или пуговица, еще пуговица, еще
пуговица и т.д., но никогда, например, просто яблоко424. Если вспомнить
наше предположение о первом применении слова, порядковые слова
«еще один» и т.д. показывают, что вещи здесь нужно рассматривать как
члены образующегося или существующего ряда. Это означает шаг в
направлении к числам и одновременно против наших чисел. Но
образование ряда и группы в первое время остаются изолированными
процессами, даже когда ребенок уже умеет правильно считать. Штерн приводят
следующий пример с их дочерью Тильдой 3;7. Когда ее спрашивали,
сколько пальцев на руке, она сосчитывала, правильно по порядку
вытягивая пять пальцев. Если же спросить: «Значит, сколько пальцев?» —
она снова начинает считать, и так много раз. Последний палец остается
пятым, но общее число пальцев не означает для нее еще суммы425. Сюда
относится указываемое Вертгеймером то, что многие народы при счете
употребляют другие числовые обозначения, чем при наименовании
чисел426.
На числовые образы детей влияет общение со взрослыми. Об
образах примитивных народов Вертгеймер имел право сказать: они дают
меньше и больше наших чисто логических образов. «Меньше — в том
смысле, что они не включают известных общих, произвольных
мыслительных операций; больше — в том смысле, что само мышление идет
принципиально по путям, связанным с непосредственной
действительностью». Освобождение от действительности, так как оно возможно
и доступно нашему мышлению, есть специфическое достижение нашей
культуры. Ребенок должен в короткое время проделать огромный путь,
если он овладеет нашим способом мышления, ему несвойственным.
Навести его на этот путь так, чтобы получилось живое развитие, является
трудной, но благодарной задачей воспитателя.
12. Развитие детского поведения
Если бы мы знали гораздо больше, чем известно в настоящее время
в рассматриваемых в этой главе областях, мы не могли бы еще составить
правильного представления о развитии ребенка, потому что ребенок со
всеми упомянутыми действиями развивается как целое; его поведение
в среде и по отношению к ней становится все разнообразнее и богаче.
С некоторыми чертами этого развития мы познакомимся в последней
главе. Здесь укажем только некоторые, наиболее общие из них.
Первоначально поведение обусловливается биологическими
потребностями и силами, лежащими в непосредственном поле, т.е. в
феноменальном, вернее, психофизическом поле. Видно, как каждый успех
в расчленении воспринимаемой среды влияет на поведение, и как она
сама с развитием рассматриваемых в этой главе факторов приводит
к развитию поведения. Но это еще не касается самого основного,
потому что в то время как развивается мир ребенка, развивается также его
«я». Подобно тому как там происходит дифференциация, расширение,
обогащение, точно так же и здесь в качестве центра развивается сама
личность в самых разнообразных направлениях. Оба процесса
теснейшим образом связаны между собой и взаимовлияют друг на друга.
Вырисовывается новый тип деятельности: ребенок в качестве «я» как
личность обладает своим собственным направлением и подчинен не только
силам поля. Все больше и больше поле определяется «я» и больше
поведение регулируется этим центром. Тем самым становятся возможными
более богатые и стойкие аффекты, которые, в свою очередь, влияют на
структуру «я » и благодаря этому могут на долгое время сохранить свое
значение для развития.
Чем слабее развито «я» как таковое, тем меньше в нем возможность
конфликтов. Сильные аффекты возможны вследствие того, что сильные
потребности остаются неудовлетворенными; но столкновение между
различными силами внутри «я» и вне его может возникнуть, прежде чем
«я» не достигнет определенной ступени развития. Конфликт является
психологически и педагогически в высшей степени интересной
проблемой. Как возникают первые конфликты, как они разрешаются или
устраняются ребенком, какие влекут за собой последствия для его
личности — это вопросы, разрешение которых откроет нам доступ к
важнейшим проблемам детского развития. Современное воспитание с его
здоровой реакцией против традиции имеет тенденцию по возможности
отделить взрослого от ситуации детских конфликтов, т.е. предоставить
ребенка своей воле путем обучения на опыте. Но я не знаю, было ли
достаточно известно представителям этих воззрений, что такое
предоставление свободы является таким же «положительным» влиянием на
развитие детской личности, как и вмешательство путем запрета. Если
здесь существует опасность того, что ребенок будет стеснен
предписаниями и тем самым будет заторможен в своем развитии, то там
заключается не менее серьезная опасность того, что ребенок, вследствие
недостатка препятствий, слишком сильно разовьет свое «я», что, конечно,
повлечет за собой конфликт, который должен будет оказаться вдвойне
болезненным.
Другая сторона подобных тенденций состоит в следующем.
Вследствие того что слишком серьезно контролируется каждое действие
ребенка, все более и более увеличивается его самосознание, и его
поведение слишком быстро интеллектуализируется. Детское поведение
наивно, т.е. оно представляет собой непосредственное осуществление
цели в поле. Тем, что известные стороны ситуации делаются более
осознанными, поле, в границах которого ребенок движется легко и
беспрепятственно, разрывается на части, и разрушается наивность, которая
пленяет нас в ребенке и в животном. Тем самым мы не только отнимаем
у взрослого радость детства, которая становится достаточно безраз-
личной, но форсируем развитие самой детской личности, в которой
нарушается гармония частей.
Ребенок формируется сам и в своем мире. Это ставит нас перед
проблемой огромной важности — проблемой индивидуальных различий,
которая не может быть разрешена никакими исследованиями норм.
Индивидуальность есть нечто самодовлеющее, а не только нечто
проявляющееся в отношении к норме, к среднему.
Каждое «я» отлично от другого в его отношении к миру, в
напряженности, способах разряжения и в бесчисленном числе других
особенностей. Здесь приходится находить общие понятия вместо сумм
отдельных черт и изучать развитие детского поведения во взаимоотношении
с этими общими понятиями.
Глава 6. Ребенок и его мир
В этой последней краткой главе я попытаюсь указать основные
черты мира ребенка и его отличие от мира взрослого. Детский мир
называют миром игры, беспечности и произвольного обращения с
действительностью. Эти особенности следует описать более точно.
Поставленная проблема не совпадает с проблемой детской игры.
Игра, по крайней мере в ее первоначальных формах, возникает,
собственно, в таком раннем возрасте, в котором мы еще не можем говорить
о какой-либо картине мира, даже в самом ограниченном смысле слова.
С другой стороны, то, что мы имеем в виду, составляет только одну
сторону игры и обнаруживается гораздо позже. Ибо различие между
игрой и серьезным делом, которое устанавливает взрослый, для ребенка
представляется по меньшей мере иным, чем для нас. Даже тогда, когда
ребенок не играет, его отношение к миру все же отличается игровым
характером. Иначе говоря, своеобразие детской игры, до известной
степени свойственное также игре взрослых, заключается во внутреннем
и во внешнем поведении детей даже и тогда, когда они не играют. Мы
.не должны забывать, что ребенок вырастает в мире, которым владеют
взрослые, что, следовательно, взрослые постоянно влияют на ребенка.
Мы имеем, следовательно, дело не с длительным, совершенно
изменяющим состоянием, — детское представление о мире претерпевает
процесс преобразования, который может протекать то быстрее, то
медленнее. Это необходимо иметь в виду при попытке дать характеристику
мира ребенка427.
В качестве исходного пункта я возьму следующий пример: ребенок
может играть с куском дерева, обращаться с ним, как с «живой
игрушкой», и через короткое время, если его отвлечь от этого занятия, он
может тот же кусок дерева сломать или бросить в огонь428. Как уживаются
эти два рода поведения по отношению к простому куску дерева? При
поверхностном рассмотрении они кажутся совершенно
несовместимыми, так как в первый раз ребенок действует не менее серьезно, чем во
второй. Против такого объяснения говорит уже одно то, что в первой
деятельности, пусть это будет для ребенка игрой, он относится к
дереву, как к живому существу, тогда как во втором случае он придает
игрушке ее действительное значение. Но и многое другое свидетельствует
о том, что это еще не так просто. Во-первых, ребенок проявляет к своим
игрушкам настоящие глубокие аффекты, и такие же аффекты можно
вызвать, если помешать ребенку во время игры, т.е. разрушить его
игровую ситуацию. Мы находим многочисленные примеры этого у Селли429.
«Маленький мальчик трех с половиной лет любил заниматься
переноской угля, служившей для него игрой. Эта выдумка — переноска угля —
могла занимать его в течение целого дня, причем он требовал, чтобы его
в день, посвященный этому занятию, не называли другим, менее
достойным именем, чем угольщик, и даже в молитве просил сделать его
хорошим угольщиком (вместо обычного "хорошим мальчиком"). Этот же
ребенок в другие дни становился малиновкой, солдатом и т.д. и очень
сердился, когда мать случайно путала его превращения».
Ребенок относится к своей игре, следовательно, очень
серьезно: насколько серьезно — это показывает наблюдение Фробениуса
в «Paideuma» (цит. соч. с. 59), которое я не могу цитировать по памяти.
Но, ограничиваясь обычным определением игры,
противопоставляющим ее труду и серьезному поведению, мы пытаемся продвинуться
вперед.
Характерным для многих детских игр, особенно для одной из
наиболее типичных — игры в куклы — является то, что неодушевленные
предметы принимаются за живые. Этот общепризнанный факт выходит
далеко за пределы содержания игры в узком смысле слова. «Ребенок
считает живым и одушевленным» то, что для нас является
безжизненным и неодушевленным430. Селли приводит следующие интересные
примеры: «Маленький Боб (1;8), которому особенно нравилась буква W,
постоянно называл ее мое любимое, старое w», 4-летний ребенок при
изображении буквы F написал рядом с ней ее зеркальное изображение
и воскликнул: «Они беседуют друг с другом».
Детское воспоминание мисс Ингелоу, — о том, что она на третьем
и четвертом году поднимала с земли камень и бросала его во время
прогулки в отдаленное место, чтобы пригрозить якобы находящимся в
конце пустынной улицы нищим, — таким образом, приобретает несколько
иной характер. Мне кажется, что здесь было бы неправильно говорить
о склонности одушевлять предметы, понимая под этим, что дети
сначала получают представления так же, как и мы, а затем уже одушевляют
их по аналогии со своим собственным опытом. Такая точка зрения
долго преобладала в этнопсихологии. Теория анимизма, выработанная
английскими исследователями, опирается на огромный материал такого
рода. Всеобщая одушевленность, которой примитивный человек
наделяет природу, казалась ей объяснением фактов, исходящей из
логических заключений, из характерного для этих людей отношения к вещам.
В настоящее время эта теория оспаривается с разных сторон;
в дальнейшем я укажу некоторые основные доводы Леви-Брюля в его
превосходном труде и отсылаю читателя к маленькой доступной и
ценной книжечке К. Прейса431. Одушевление нельзя рассматривать как
«объяснение» мира, потому что, во-первых, жизнь примитивного чело-
века исключает для него всякий интерес к теоретическим построениям
и, во-вторых, он не испытывает потребности в каком бы то ни было
объяснении, так как вещи сами по себе, вне их естественной зависимости,
так тщательно проанализированные нашей новой философией, для него
вовсе не существуют. Пытаясь дать правдоподобное объяснение данным
этнопсихологии, теоретик анимизма ставит себя на место
примитивного человека и представляет себе, как бы он сам дошел до этой цели. Его
ошибка заключается в том, что он, в сущности, идентифицирует себя
с примитивным человеком и принципиально ничем не отличается от
следующего заблуждения известного биолога: когда ему удалось увидеть
в микроскоп на сетчатке глаза насекомого изображение, он полагал, что
видит то же, что видело насекомое. Для психологов эта ошибка в
настоящее время вполне очевидна. То, что можно увидеть в микроскоп,
является для насекомого только внешне действующими факторами, но что
именно насекомое видело в действительности, конечно, нельзя
определить из данного изображения на сетчатке432. Точно так же обстоит дело
с теорией анимизма. Среда примитивного человека приблизительно
известна, известен его периферический чувствующий аппарат, но из этого
можно заключить столь же мало, сколько и в случае с насекомым. Выше
мы видели, что восприятие есть продукт развития, маленький ребенок
.воспринимает иначе, чем мы, а развитие зависит от всего окружения,
от сред, и, прежде всего, от социальных условий. Леви-Брюль особенно
подчеркивает этот последний момент. Именно потому, что
примитивный человек вырастает как член общества — а в примитивном обществе
взаимоотношения гораздо более тесные, чем у нас — все его развитие,
включая и развитие восприятия, зависит от этого общества. Для
отдаленного сравнения мы напомним о важной роли коллективного
фактора для первоначального развития представления и речи.
Но попытки такого объяснения оказываются безрезультатными.
«Примитивные люди не воспринимают ничего так, как мы», в их
восприятии нет наших «естественных вещей» и все предметы обладают для
них другими, важными «мистическими» свойствами, благодаря
которым они связаны между собой в восприятии. Та связь, следовательно,
не является проблемой, — она дана. Вопрос только в том, как протекало
развитие, в результате которого эти прочные связи были нарушены.
Ввиду того что для человека на этой ступени развития все
существующее обладает мистическими свойствами, гораздо более
важными для него, чем «естественные» свойства, наше разделение на живое
и мертвое, одушевленное и неодушевленное, может не играть никакой
роли. Реки, облака, ветры, так же как и основные измерения
пространства, обладают мистическими силами. Различие между одушевленным
и неодушевленным есть только продукт развития, вначале оно совсем
отсутствует, так как действенные силы являются имманентными
свойствами всех вещей, не только предметов в нашем понимании, но и
измерений, а также имен и слов.
Возвращаясь теперь к изучению ребенка, мы должны будем
перенести и на него этот взгляд. И в отношении ребенка мы не должны считать,
что он сначала видит «естественные» неодушевленные предметы, а
затем уже наделяет их жизнью, но нужно полагать, что первоначальное
состояние — это такое, при котором всем вещам придается характер
действенности. К этому выводу мы пришли еще в прошлой главе при
рассмотрении предметных категорий. К такому же выводу приходит
и Бюлер: «Ребенок ничего не знает о жизни и душе, он вообще ничего не
знает, кроме осмысленных процессов. Поэтому он не может, подобно
поэту, вдохнуть жизнь в неодушевленные предметы433. Он должен
постепенно научиться нашим подразделениям, и это является
приобретением им категориальных структур».
Если мы хотим знать, каковы критерии для определения, присуща
ли данному предмету жизнь, мы должны исследовать его поведение.
Это зависит оттого, какое место занимает предмет в более общем
процессе явлений, в более широкой динамической структуре. Образование
более отчетливых структур у ребенка связано с усвоением различий
между одушевленным и неодушевленным.
Ребенок может при этом делать только медленные успехи, так,
естественно-причинная и волевая мотивировка первоначально почти
не различаются между собой (Пиаже)434. Согласно вышеприведенному
исследованию Хьюанга, мы, конечно, не можем, как это делает
Пиаже, сказать, что это различие отсутствует еще даже у детей в возрасте
7-8 лет. Но нужно считать правильным, что переживание, когда «одна
вещь действует на другую», немногим отличается в случаях, если
действующее является той или иной личностью или же предметом. Эта
общность между воздействием и зависимостью сильно затрудняет ясное
различение одушевленного и неодушевленного в процессе развития.
Подобный процесс протекает при развитии таких категорий, как
«кажущееся», в некоторых случаях его можно проследить уже на
ребенке. После того как ребенок, согласно вышесказанному, научился
хватать то, что он видит, вещи становятся свойственными иметь
оптические и тактильные вещества. Ребенок постоянно пытается схватить
световые пятна, тень и т. п. еще до того, когда он постепенно усвоит, что
существует нечто видимое, которое, однако, нельзя схватить и которое
не обладает свойствами вещей. Особенно интересно в этих случаях
поведение детей в отношении изображений в зеркале. Прейер очень
подробно описывает поведение своего сына. Вначале изображение остается
незамеченным, затем ребенок ему улыбается, затем пытается схватить
и, наконец, пробует поймать его за зеркалом. После этого наступает
отрицательная реакция: ребенок отворачивается, когда ему показывают
зеркало. На этой стадии изображение в зеркале есть нечто недоступное
для ребенка, нечто не вмещающееся ни в одну из его структур.
Собаки обыкновенно не идут дальше этой стадии. По собственным
наблюдениям над своей собакой, я могу подтвердить полное сходство
ее поведения с наблюдениями Прейера. Когда она впервые очутилась
перед большим зеркалом, стоящим на полу, она бросилась с громким
лаем на свое изображение, обнаруживая сильное возбуждение,
наконец, отбежала в сторону от зеркала и просунула голову между
зеркалом и стеной. С тех пор она не желает больше иметь дела с
изображениями в зеркале; так же, как и сын Прейера, она отворачивает голову,
когда я держу ее перед зеркалом. Но у ребенка развитие быстро
продвигается вперед. Уже через две недели, на 60-й неделе жизни, страх
перед зеркалом преодолевается, возникает понимание, хотя попытки
схватить изображение или ударить по нему все еще продолжаются. Но
и это скоро прекращается, ребенок начинает пользоваться зеркалом
так же, как и мы435. Можно наблюдать и обратное — желание ребенка
видеть невидимое, но ощущаемое, как это было с не достигшей еще двух
лет девочкой, наблюдаемой Селли, которая пожелала видеть ветер.
Первоначальная структура вещи, в которой видимое и осязаемое
тесно переплетены, должна в известных случаях разрушаться, причем
новые структуры образуются только из видимого или только из
осязаемого. То же должно происходить и с различением живого и
неживого, но с той разницей, что этот процесс гораздо сложнее ввиду того,
что здесь участвуют гораздо более четкие структуры. Ничего нет
удивительного в том, что этот процесс протекает очень долго, до полного
своего завершения и расчленения. Даже когда в общем уже намечено
направление этого расчленения, этим еще не исключено постоянное
проникновение старых недифференцированных структур. Я могу
утверждать, что следы этого занимают еще большее место в нашей
повседневной жизни и не только в форме суеверий.
На вопрос о том, какого рода должны быть структуры, благодаря
которым постепенно начинает отличаться мертвое от живого, можно
ответить следующим образом. Мы выше отметили, что феномены
восприятия ребенка обладают различной степенью «выразительности».
Это является не для всех одинаковым, и в этом заключен повод к
различению мертвого и живого. Соломинка, карандаш обладают
меньшей «выразительностью», чем змея, даже искусственная. Чем больше
дифференцируются восприятия, тем больше будут отличаться между
собой вещи с большей и меньшей выразительностью, и это
разделение должно привести к различию между живым и мертвым. Оно затем
должно следовать уже из развития отдельных восприятий. Как мне
кажется, оно постепенно начинает зависеть от реального столкновения
ребенка с вещами. Мало-помалу ребенок заметит, конечно, что
предметы отвечают на его действия различно. С одной стороны, ребенок
встретит противодействие со стороны предметов, которые относятся
к живым, он должен будет сообразоваться с ними, его действия
будут зависеть от них совершенно иначе, чем от другого вида предметов.
С другой стороны, и «живые» вещи будут вести себя совершенно иначе
по отношению к желаниям ребенка, т.е. будут проявлять в известном
смысле противодействие ему. Два примера из Селли: пятилетняя
девочка задержала на ходу свой обруч и воскликнула: «Мама, я думаю,
что этот обруч живой; он такой понятливый, он катится туда, куда мне
хочется». В другом примере эта сложная структура применялась
«неправильно», как говорится, были перепутаны причина и следствие. Не
достигшая еще двух лет девочка сказала своей матери во время дождя:
«Мама, вытри у Ваввы (куклы) ручки, тогда не будет больше дождя»436.
В некоторых случаях присоединяются аффекты, живому можно
причинить боль, неживому — нельзя. Ребенок замечает, что на обиду
сестренка реагирует иначе, чем его кукла. Точно так же мне кажется
правдоподобной гипотеза, что это зависит также и от последствий,
что, следовательно, ребенок должен научиться следить за своим
поведением по последствиям, рассматривать свое поведение, как начало
целого ряда связанных между собой событий.
Здесь мы видим, почему развитие должно протекать так медленно.
Связь настоящего с прошедшим совершенно отсутствует у ребенка, как
отмечает и Штерн437. И хотя начало сделано, еще не сразу
охватываются зависимости в окружающем мире и жизни, но образуются только
маленькие, ограниченные связи, которые, как мы сейчас увидим, могут
существовать сравнительно независимо друг от друга. И здесь детский
интеллект обнаруживает примитивные черты (на диффузность
восприятия времени в примитивном сознании указывает и Леви-Брюль)438.
Возвратимся снова к проблеме, с которой мы начали, — к
сущности детской игры. Я думаю, что мы лучше всего психологически поймем
игру, если будем рассматривать действия ребенка с точки зрения
протяженности тех структур поведения, в которые они входят для ребенка.
Тогда обнаруживается, что в начальный период ребенок вообще еще не
может создавать долго длящихся структур поведения, которые
выходили бы далеко за пределы непосредственного выполнения действия.
Здесь, следовательно, все одиночные комплексы действий независимы
один от другого, равны и равноценны. С точки зрения ребенка, в этой
стадии вообще не существует еще игры, как и чего-нибудь другого, ее
заменяющего. Несмотря на это, с точки зрения взрослого, можно дет-
ские действия уже характеризовать как игру, если вместе с Гроссом
считать игру чисто произвольной деятельностью.
Но постепенно ребенок начинает создавать и долго длящиеся
структуры поведения, и теперь характерно, что различные структуры
поведения остаются рядом, не оказывая особого влияния друг на
друга. В качестве таких двух систем структур, образующихся впервые, я
полагаю возможным указать на те действия, процессы, вещи, которые
как-нибудь связаны со взрослыми и наряду с этим независимы от
взрослых. Вначале ребенок медленно и смутно, неясно начинает отличать
мир взрослого от своего. «Ничто не показывает, что ребенок считает
настоящими одни и те же предметы когда он один и когда находится
в общении со взрослыми», — говорит Пиаже439.
Различие между этими «двумя мирами» обнаруживается даже
в детской речи. Как показал М.Е. Смит, фразы у ребенка в общем
длиннее, когда он разговаривает со взрослыми440.
Однако мир взрослого становится ощутимым для ребенка
благодаря тому, что его поступки наталкиваются на неприятные для ребенка
отношения, в этом мире ребенок несвободен, он наталкивается на
принуждение, на противодействие, которые отсутствуют в его собственном
мире. В мире взрослого находятся еще более сильные причины для
образования новых разделений, разделений на одушевленные и
неодушевленные предметы. В детском мире для этого меньше поводов до тех пор,
пока зависимость между обоими мирами еще неустойчива. Если
ребенок находится в своем мире, то такое категориальное подразделение
будет совершенно отсутствовать в его внешнем и внутреннем
поведении. Ребенок будет обращаться с неодушевленными предметами так же,
как и с одушевленными.
Но мы должны пойти еще дальше. Относительная независимость
различных структур между собой распространяется не только на эти
две большие группы, детский мир и мир взрослого, но она
действительна и для отдельных зависимостей внутри каждой из них. В то время как
мир взрослого по тому же принципу, по которому он отличается от
детского мира, стремится к тому, чтобы охватить целое, так что
зависимость отдельных действий друг от друга все больше и больше исчезает,
в мире ребенка это обстоит иначе. Ребенок может быть сегодня
угольщиком, завтра солдатом, он может носиться с куском дерева и тотчас
после этого бросить его в огонь; различные действия не сталкиваются
между собой, потому что между ними нет никакой зависимости, так же
как и наши игры не связаны между собой. При игре в скат является
необычайно важной, «старшей» картой валет бубен, который становится
обыкновенной картой при игре в шестьдесят шесть. Правда, у нас это
направляется по твердым правилам, установленным для каждой игры,
в то время как ребенок не связан в своих играх такими навязанными
извне правилами, но отсутствие зависимости остается таким же. У нас
образуется прочная зависимость только вследствие того, что жизнь вне
игры доминирует, у ребенка это преобладание должно еще постепенно
выработаться, первоначально оно не существует.
И, наконец, иллюзию, которая заключается в том, что ребенок
вообще играет с простым куском дерева как с куклой, можно объяснить
по нашему принципу. Ни в коем случае нельзя считать, что чем
правдоподобнее игрушка, тем сильнее «иллюзия». Любимыми куклами,
в большинстве случаев, являются не дорогие произведения
игрушечной промышленности, но простые, грубые, часто более или менее
поврежденные экземпляры. Это может показаться удивительным только
в том случае, если идентифицировать мир ребенка с миром взрослого,
если каждую вещь видеть на том месте, которое она занимает в общем,
всеобъемлющем единстве жизни. Тогда можно сделать следующий
вывод: кукла настолько отличается от живого ребенка, что необходимо
придать ей, по возможности, больше сходства для того, чтобы можно
было считать ее живой. Куклам приделывают механизм, благодаря
которому они закрывают глаза, другим — механизм для издавания звуков,
делают их внешне красивыми, приделывают к ним настоящие или очень
похожие на настоящие волосы, одевают на них настоящие платья и т.д.
Но для ребенка кукла совсем не есть часть мира взрослых, разве только
в тех случаях, когда в наказание у ребенка отнимают куклу и запирают
в шкаф. Достаточно того, что какая-то вещь реализует существующее
в данный момент желание, и эта вещь обладает уже всеми качествами,
которые нужны для того, чтобы можно было выполнить желание.
Кусок дерева можно ласкать, следовательно, в этот момент он является
любимым и балованным ребенком, и то, что у него отсутствуют
другие свойства балованных детей, не имеет значения, потому что полное
сходство с имеющимся в его опыте совсем не обязательно. Для ребенка
еще не существует единый мир.
В этой области можно указать этнологические аналогии.
Примитивные народы также не знают единой связующей зависимости в мире.
То, что правильно для белого человека, может быть для них
неправильным. Когда белый человек убивает неуязвимую священную птицу,
то это не значит, что птица не неуязвима, но что для белого человека
существует другое колдовство. И это мировоззрение не только не
поддается нашим критериям, по которым реальными являются только те
предметы, которые могут быть восприняты всеми, но, напротив того,
вещи, доступные только избранным, знахарям, имеют исключительно
высокую и важную реальность. И наконец (мы уже на это указывали
и поясним это теперь на примерах), свойства, имеющие для них большое
значение, совсем иные, чем те, которые важны для нас. Это
показывают сходные, по крайней мере по внешности, с указанными
особенностями детства их рисунки и их отношение к действительности. Спенсер
и Гиллен сделали в Центральной Австралии следующее наблюдение:
о некоторых рисунках туземцы утверждают, что они абсолютно
ничего не означают, сделаны только для игры, но точно такие же рисунки
имеют вполне определенное значение, если они находятся на предмете
или на земле. Объяснение этого явления и всего чудесного,
непонятного, что с ним связано, заключается в том, что определяющим для нас
отношением между изображением и действительностью является
сходство, для примитивного же человека, наоборот, сходство заключается
в общем участии мистических сил: «Поэтому рисунок на священном
предмете означает больше, чем изображение; на него переносится
святость и сила предмета. Тот же самый рисунок на предмете не священном
меньше своего изображения.
К подобному взгляду пришел Фолькельт путем экспериментов над
детьми. Он давал детям срисовывать простые фигуры и выпуклые
предметы, а также строить простые фигуры из различного материала —
палочек, кружков, колец... Второй метод имеет преимущества в том, что
он исключает всякую техническую неподготовленность, правда,
ограничивая свободу ребенка. Но так как в результате применения обоих
способов получаются одинаковые данные, они лучшим образом
дополняют один другого. Кроме этого, Фолькельт давал сравнивать ребенку
с натурой рисунки одного и того же предмета, ему доступного. Для
парного сравнения были предложены разнообразнейшие рисунки, начиная
от примитивнейших детских рисунков и кончая безукоризненными
с точки зрения перспективы изображениями. В результате оказалось,
что то, что делает рисунок сходным с натурой, для ребенка и для
взрослого существенно отличается.
Первые из упомянутых опытов дали возможность судить о природе
этого различия. То, что передает ребенок, не является тем, что
представляет собой вещь сама по себе, но вещью в ее отношении к «я».
Ребенок «в своем изображении входит в общение с вещью», характерные
свойства преобладают и становятся главными в изображении. Поэтому
детские рисунки свидетельствуют, главным образом, об их
способности к рисованию или о степени развития у них «восприятия формы».
Они показывают нам отношение ребенка к его миру и свидетельствуют
о том, что для ребенка еще не существует отдельной вещи,
существующей просто в представлении, наблюдаемом беспристрастно.
Таким образом, опыты Фолькельта способсвуют пониманию
примитивных рисунков, значение которых нам часто так же недоступно, как
и значение детских рисунков.
Паркинсон рассказывает о том, что у дикарей Южного
Архипелага фигуры, которые принимаются за змей, изображают свинью, другая,
которую можно принять за лицо, — на самом деле изображает дубинку.
При этом туземцы сильно удивляются, когда у них спрашивают о
значении рисунка. Они не могут себе даже представить, что не всякому
понятен такой орнамент441.
Поэтому ничего удивительного нет в том, что вещь приобретает
смысл в значении только в связи с другими. Кусок дерева, поэтому,
однажды служит безразличным предметом, а в другой раз — любимой
куклой до тех пор, пока все не будет охвачено одной общей зависимостью.
Когда говорят, что у ребенка нет настоящей иллюзии в игре, то это,
по-нашему, значит: иллюзия присуща ребенку при обращении с этой
вещью только до тех пор, пока она не находится в его детском мире,
но она может быть перенесена также и в другой мир — мир взрослого,
и в нем он будет с ней обращаться иначе. Но нельзя говорить, что
ребенок, поглощенный своей игрой, должен иметь в это время что-нибудь
от той, другой структуры. Гроос также отмечает, что «не может быть
и речи о том, чтобы при полном поглощении иллюзией было налицо
сознательное наблюдение над явлениями»442. В этом же смысле
высказывается и Пиаже. Игра и действительность не являются для ребенка
противоположностями. «Игра — это действительность, в которую верит
только ребенок, точно так же, как действительность есть игра, в
которую ребенок охотно играет со взрослыми». Игра ребенка,
следовательно, представляет собой особую реальность, причем нужно помнить, что
«настоящая» действительность, противоположностью которой она
является, для ребенка гораздо менее «настоящая», чем для нас443.
Все сказанное нами до сих пор о сущности детского мира
подтверждается и значительно расширяется трудами Пиаже. Он находит, что
потребность верификации возникает благодаря общению, т.е.
является социально обусловленным явлением. При этом в мире взрослого оно
проявляется гораздо раньше, чем в детском мире. Пиаже различает
четыре стадии развития сознания реальности у детей: 1) реально то, что
соответствует желанию (до 2-3 лет); 2) существует два* различных, но
одинаково реальных мира (до 7 или 8 лет); 3) начало иерархического
соотнесения этих миров (до 11 или 12 лет); 4) завершение этой иерархии
логическим мышлением444.
Характерно для ребенка то, что его детский мир важнее и дороже
ему, чем другой.
Мир ребенка в высокой мере эгоцентричен. Пиаже, который
наблюдал эту особенность в различнейших областях детского поведения,
считает ее чуть ли не наиболее важным признаком, отличающим интеллект
ребенка от интеллекта взрослого.
Этот эгоцентризм нужно правильно понимать. Он в первую очередь
функционален, а не описателен. Это означает, что действие ребенка
полностью определяется центром поля, совпадающим с «я». Но этот
центр — «я» — в смысле переживания не так четко отличается от «не
я», как у взрослых. Поэтому эгоцентризм ребенка существенно иной,
чем эгоцентризм истериков, даже и в том случае, когда они, в
результате неправильного воспитания, о котором мы упомянули в конце
предыдущей главы, легко переходят в формы, сходные с истерическими445.
В течение долгого времени ребенок почти не движется вперед,
поглощенный своим детским миром, даже будучи под влиянием
взрослых446. Даже когда ребенку уже доступно понимание разницы между
обоими мирами, когда он сам уже говорит об этом в игре, все же этот
мир игры для него гораздо более живой. Селли приводит характерный
анекдот: «Однажды две сестры сговаривались: «Будем играть в
сестры»447. Структура «сестры» происходит из мира взрослых, или по
меньшей мере принадлежит ему на этой ступени развития. Ее перевели
в детский мир для того, чтобы оно получило полную жизненность.
Тот факт, что и те действия, которые связывают ребенка со
взрослыми и становятся особенно важными для построения его мира, сами
целиком переносятся в детский мир, этот факт подтверждается
примером сына Штумпфа. В течение нескольких лет он разговаривал на своем
собственном языке, и никакими уговорами его не удавалось отучить.
Когда мы говорили ему: «это же — снег», «это — молоко», то он
отвечал: ich kjob, ich prullich (его собственные выражения).
Мы уже упоминали о внезапном переходе к правильной речи.
Штумпф объясняет его следующим образом: «Психологический мотив
этого перехода прост: ему надоела эта игра. Возможно также, что
отклонение его языка от обычного и его несовершенство показалось ему,
в конце концов, мешающим и стыдным». Это совершенно правильно.
Мир взрослого стал настолько силен, что ребенок начинает
гордиться вступлением в него, и для него уже становится невозможным
оставаться больше в своем собственном мире. Наоборот, ребенок начинает
презирать этот детский мир, он стыдится своего языка.
Предвестника этого превращения я нахожу в другом изменении его речи. Долгое
время ребенок называл своего брата Руди «Olol» и самого себя «Job».
Но наступило время, когда он в остальном разговаривал еще на своем
языке, когда он отказался от этого имени и хотел слышать и
произносить только имя, употребляемое взрослыми. «Job — weg, Liki da» (Лики,
имя, которым его называли взрослые, уменьшительное от Felix); Olol,
Job — а — Rudi, Liki haja, т.е. Olol и Job плохие (имена), Руди и Лики —
хорошие448. Здесь уже, следовательно, обнаруживается проникновение
другого мира в его собственный. Штумпф изображает его опять очень
удачно: старое имя Job показалось ему уже недостойным. Детский мир
долго еще остается отделенным от другого и случай Штумпфа
иллюстрирует этот процесс.
Скажем еще несколько слов о развитии «детского мира». Оно
происходит так, что структура мира взрослых все больше расширяется,
и полная независимость разных миров становится уже невозможной.
В этом отношении существенную роль играет школа. В школе
приходится работать и играть. То, что было раньше равноправным миром,
постепенно становится только игрой. Уже и раньше действительный мир
иногда врывался в мир ребенка, даже во время игры то и дело ребенок
сознавал, что наряду с этим миром игры существует еще и другой мир,
в котором все это не имеет серьезного значения. В этом периоде интерес
к игре даже усиливается, так как она снимает ответственность;
«вспомним, например, смех борющихся мальчиков, который часто можно
считать прямым выражением того, что, несмотря на пыл борьбы, она все же
остается игрой». Так описывает Гроос такое поведение449.
Но игра всегда остается относительно замкнутой сферой, далекой
от остального мира, и еще долго иллюзия сохраняет свою власть в
указанном выше смысле. И то, что ребенок в высшей степени неохотно
будет выполнять как обязанность, он с большей охотой будет делать во
время игры.
Но может случиться и обратное: игра может само собой привести
к связи с остальной жизнью. И тогда характер игры большей частью
утрачивается.
Так, участвуя, шутки ради, в азартной игре, можно незаметно для
себя увлечься ходом игры настолько, что проигрыш становится
действительно неприятным. Тогда утрачивается шутливое отношение, успех
игры становится как бы решением судьбы.
Этот пример взят уже не из жизни ребенка, а из жизни взрослого.
И я думаю, что она принадлежит «побочному миру», что мы выходим
во время игры из обычных зависимостей (профессиональный игрок уже
не играет).
Намеченное нами развитие характерно для наших детей. Но
существуют игры и на других ступенях культуры, а также игры животных.
Нашу теорию нельзя прямо переносить на них, так как различие двух
миров, являющееся для нас центральным пунктом, почти неприменимо
в этих случаях. В нашу задачу не входит психологическая оценка этих
игр. В заключение мы можем только сказать несколько слов о
биологическом значении игры и увязать это с вышеизложенным. Мы установим,
что в своем детском мире ребенок приобретает многочисленные и
немаловажные формы поведения. Живя в этом мире, он превращает свою
деятельность в то, что выше, вполне объективно, называли игрой. Гроос
особенно настаивал на огромном биологическом значении игры для
ребенка вследствие того, что он подготовляет его к серьезному делу. «Это
значение я усматриваю в косвенной ценности, которую нужно
приписать ей не только благодаря физическим, но и психическим
предварительным упражнениям»450.
Во второй главе мы видели, что детство является периодом
обучения, что чем продолжительнее детство, тем больше обучается животное.
Этому вполне соответствует теория Грооса. И если игра действительно
служит для обучения, то нельзя говорить, что животные играют,
потому что они молоды и веселы, но то должно означать, что у животных
есть детство — время, когда они могут играть (Гроос). Гроос
сопровождает эту теорию большим материалом в своих ценных книгах об игре,
и основная мысль этой теории также заслуживает большого внимания.
Однако я рискнул бы пересмотреть эту теорию. Нужно
остерегаться не только неправильного педагогического использования ее,
искусственно навязав игре ребенка чуждые ему образовательные цели (на это
указал и Бюлер в заключении к своей большой книге), но нужно также
обеспечить полную беспристрастность в оценке игры детей и
животных рассматривать эти интенсивные проявления жизни как таковые.
Игра является одной из форм поведения. Между разными формами
поведения, конечно, существует связь, но это было бы односторонним
и ошибочным — рассматривать все факты с точки зрения практической
ценности их. Крайним проявлением этого воззрения является утили-
тарно-интеллектуалистическая установка последних пятидесяти лет.
Очень многое из того, что называют «биологическим объяснением»,
в наше время уже больше так не называют. Так как биологическое
развитие не определяется случаем или выбором в зависимости от пользы,
то все положения, оперирующие этими понятиями, не могут служить
объяснениями, тем более биологическими.
Становился даже вопрос о том, какие причины в отдельных
случаях побуждают животное к игре: всякое объяснение с точки зрения
результата игры нельзя считать удовлетворительным, оно лишь Намечает
направление, в котором можно искать объяснение. Ребенок ничего не
знает о цели, потому что он полон игрой. Существуют также теории
о побудителях игры, наиболее известная из которых — теория
«избытка энергии» Шиллера-Спенсера. Наряду с ней была распространена
теория «отдыха». По названию этих теорий легко понять их основное
содержание. Исчерпывающее обсуждение их можно найти у Грооса451.
Новую точку зрения предлагает Бюлер. Он утверждает, что всякая
деятельность сама по себе, независимо от своего результата, приносит
удовольствие. Я должен добавить — успешная деятельность, то есть
такая деятельность, которая протекает правильно, согласно моему жела-
нию, приносит удовольствие вполне независимо от того, радостна или
нет достигнутая цель. С такими примерами мы уже встречались: я
напомню Султана в опыте с двойной палкой и его радость при первых
осмысленных действиях. Эту «радость» от функции Бюлер рассматривает
как стимул к полной отдаче себя игровой деятельности452. Я усматриваю
в этом важный сдвиг, который нужно оформить, конечно, в теорию,
потому что переход от удовольствия к деятельности отнюдь не легко
поддается пониманию. Но совершенно ясно, что удовольствие от
собственного действия служит побуждением к новым действиям.
Подразделение детских игр не входит в мои задачи. Его можно
найти у Грооса, Бюлера и Штерна.
Показывая, по каким принципам строится поведение и развитие
ребенка, я пытался ввести в изучение детской психологии. Но читатель
не должен заключить из этой книги, что загадки уже разрешены и на
все вопросы отвечено. Правильным было бы, скорее, как раз обратное.
Однако эта книга стремится указать путь, по которому можно прийти
к разрешению проблемы.
Сущность психологического развития представляется нам в этой
книге не как соединение отдельных элементов, но как образование
и усовершенствование структур.
Список книг, на которые имеются
ссылки в примечаниях
Becher Е. Gehirn und Seele. Heidelberg, 1911. Сокр. обознач. GS.
Bühler К. Die geistige Entwicklung des Kindes. 1918, 4 Aufl., 1924. Сокр.
обознач. GE. Пер. на рус. яз.: Бюлер К. Духовное развитие ребенка. М., 1924.
Bühler К. Abriss der geistigen Entwicklung des Kindes// Wissenschaft und
Bildung. Bd. 156. 1919. Сокр. обознач. AG. Пер. на рус. яз.: Бюлер К. Очерк
духовного развития ребенка/ Под ред. и со вступ. ст. A.C. Выготского. М., 1930.
Claparède E. Kinderpsychologie und experimentelle Pädagogik. Пер. на рус.
яз.: Клапаред Эд. Психология ребенка и экспериментальная педагогика / Пер.
с фр. с предисл. и под ред. Коцарова. СПб., 1911.
Compayré G. L'évolution intellectuelle et morale de l'enfant. 1903. Пер. на рус.
яз.: Компейре Г. Умственное и нравственное развитие ребенка. М., 1912.
EdingerL. Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentralorgane der Menschen
und der Tiere. Leipzig, 1911. Сокр. обознач. Z. Пер. на рус. яз.: ЭдингерЛ. Лекции
о строении органов центральной нервной системы человека и животных/ Пер.
с нем. Н. Пустошкиной, под ред. Л. О. Даркшевича. СПб., 1894.
Groos К. Das Seelenleben des Kindes. Ausgewählte Vorlesungen. 4 Aufl., 1913.
Сокр. обознач. SK. Пер. на рус. яз.: Гроос К. Душевная жизнь ребенка.
Избранные, лекции / Пер. с нем. Нечаевой и Соколовой. СПб., 1906. Пер. со 2-го доп.
нем. изд. В. Деловой, со вступ. ст. В. В. Зеньковского. Киев, 1916.
Groos К. Die Spiele der Tiere. 2 Aufl. Jena, 1907. Сокр. обознач. SpT.
Croos K. Die Spiele der Menschen. Jena, 1899. Сокр. обознач. SpM.
James W. The Principles of Psychology. 2 Vols. N. Y., 1905. Пер. на рус. яз.:
Джемс В. Научные основы психологии. СПб., 1902.
Kafka G. Einführung in die Tierpsychologie auf experimenteller und
ethnologischer Grundlage. I: Die Sinne der Wirbellosen. Leipzig, 1914.
Köhler W. Optische Untersuchungen am Schimpansen und am Haushuhn//
Abhandlungen der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaft. Jhrg. 1915.
Phis. math. Kl. № 3. Сокр. обознач. OU.
Köhler W. Intelligenzprüfungen an Anthropoiden // Ibid. Jhrg. 1917. № 1.
Сокр. обознач. J. (Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. Berlin, 1921). Пер. на
рус. яз.: КёлерВ. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян / Пер.
Занкова и Соловьева, под ред. и со вступ. ст. A.C. Выготского. М., 1930.
Köhler W. Nachweis einfacher Strukturfunktionen beim Schimpansen und beim
Haushuhn.Über eine neue Methode zur Untersuchung des bunten Farbensystems// Ibid.
Jhrg. 1918. № 2. Сокр. обознач. StF.
Köhler W. Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand. Eine
naturphilosophische Untersuchung. Braunschweig, 1920. Сокр. обознач. PhG.
Lévy-Bruhl. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. P., 1912. Пер. на
рус. яз.: Аеви-Брюль А. Первобытное мышление. М., 1930.
Lévy-Bruhl. La Mentalité primitive. P., 1922. Сокр. обознач. II.
Me. Dougall W. Outline of Psychology. N. Y., 1923. Сокр. обознач. OP.
Moore К. С. The Mental Development of a Child// Psychological Review
Monograph Supplement. 1896. № 3.
Morgan C. Lloyd. Instinkt und Gewohnheit. Übersetzt von M. Semon. Leipzig;
В., 1909. Пер. на рус. яз.: Морган Л. Привычные инстинкты. СПб., 1899. С. 14.
Preyer W. Die Seele des Kindes. 7 Aufl. 1908. Пер. на рус. яз.: Прейер В. Душа
ребенка. СПб., 1891 (2-е рус. изд.: СПб., 1912).
ShinnM.W. Notes on the Development of a Child // University of California
Studies 1893-1899. Vol. 1,1-4.
Stern W. Psychologie der frühen Kindheit bis zum 6. Lebensjahre. Leipzig, 1914
(erw. Aufl. 1923). Сокр. обознач. PsdK. Пер. на рус. яз.: Штерн В. Психология
раннего детства до 6-летнего возраста. Пг., 1922.
Stern W. Person und Sache. System der philosophischen Weltanschauung. I.
Abteilung und Grundlehre. Leipzig, 1918. Сокр. обознач. MP.
Stern Cl. и. W. Die Kindersprache. Leipzig, 1907. Сокр. обознач. Sp.
Stern Cl. u. W. Erinnerung, Aussage und Luge in der ersten Kindheit. Leipzig,
1909. Сокр. обознач. ЕА.
Stumpf C. Eigenartige sprachliche Entwicklung eines Kindes // Zeitschrift für
pädagogische Psychologie und Pathologie 3. Heft 6. Сокр. обознач. SpE.
Sully J. Untersuchungen über die Kindheit. Psychologische Abhandlungen für
Lehrer und gebildete Eltern. Übersetzt von J. Stimpfl (1897). 2 Aufl. Leipzig, 1909.
Tborndike E.L. Animal Intelligence. Experimental Studies. N. Y., 1911.
Первоначально как диссертация (N. Y., 1898). Сокр. обознач. AL.
Tborndike E.L. Educational Psychology. X. The Original Nature of Man. II. The
Psychology of Learning. III. Mental Work and Fatigue and Individual Differences and
their Causes. N. Y., 1913-1914. Сокр. обознач. ЕР и ЕР II.
Volkelt H. Über die Vorstellungen der Tiere. Bin Beitrag zur
Entwicklungspsychologie// Arbeiten zum Entwicklungspsychologie hrsg. v. F. Krueger. 1, 2. Leipzig;
В., 1914.
Watson J.В. Behavior, an Introduction to Comparative Psychology. N. Y., 1914.
Сокр. обознач. СР.
Watson J.В. Psychology from the Standpoint of a Behaviorist. Philadelphia und
London, 1919. Сокр. обознач. PB. Пер. на рус. яз.: УотсонД. Психология как
наука о поведении / Пер. с англ. Боровского. М.; Л., 1926 (пер. со 2-го англ. изд.
Мурановской и Лопухина. Одесса, 1926).
Примечания
Примечания к первой главе
1. Это относится также к установленному В. Штерном и получившему
широкое распространение в детской психологии принципу конвертации. У Штерна
этот принцип исходит из гораздо более общих рассуждений, как это можно
заключить из его философских сочинений (ср. его Die menschliche Persönlichkeit,
S. 95).
2. Я пользуюсь здесь терминологией, введенной в моем определении
психологии (ср. мою статью «Психология» в Lehrbuch der Philosophie, hrsg. von
Dessoir). Сходное с ним разделение на три части дал Макдаугал (ср. Outline of
Psychology, p. 3 и следующие). Дальнейшее изложение соответствует «персона-
листской» установке детской психологии Штерна (ср. его Psychologie des frühen
Kindesalters, S. 26).
3. Эта проблема, между прочим, подробно рассмотрена мною в
работах «Zur Theorie der Erlebniswahrnehmung (Annalen der Philosophie 3, 1922,
S. 375-399), «Introspection and the Method of Psychology» (The British Journal of
Psychology 15.1924, p. 149-161). Ср. также выше цитированную статью
«Психология» (в Lehrbuch der Philosophie. Dessoir).
4. Мы не можем здесь подробнее обосновать это положение. По моему
мнению, оно исключает не только измеримость, но также и (описательный)
количественный учет отдельных феноменов в собственном смысле слова.
5. Следует совершенно исключить вопрос о том, как мы можем проникнуть
в сознание окружающих людей. Критерием для нас служит возможность
получения показаний. Ниже мы еще вернемся к этому.
6. Близко стоящий к бихевиористам Торндайк, так же, как и мы,
употребляет слово «behavior» для обозначения общего поведения, включая и
феноменальную сторону.
7. Ср. работы, приведенные в 3-м примечании.
8. Ср. W. Köhler. Ph. g. S. 192 и следующие, а также Die Methoden der
psychologischen Forschung an Affen (Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, hrsg.
von Abderhalden, Abt. VI, Teil D, S. 69 и следующие). Кроме того, «Bemerkungen
zum Leib-Seele-Problem, Deutsche Mediz. Wochenschr. 1924, Nr. 38.
9. В сущности, их физиологическая теория есть не что иное, как
применение к физиологии ими же отвергнутого психологического атомизма.
Физиологическая теория не может и не должна быть независимой от психологической
теории. Последняя не есть объяснение в вышеуказанном смысле, а адекватная
обработка фактов. Таким образом, теория разложения сознания на отдельные
ощущения является психологической даже и тогда, когда отдельные ощущения
рассматриваются с физиологической точки зрения; она остается
психологической теорией даже и в том случае, когда понятие ощущения отбрасывается и
заменяется другим, которое требует и другого физиологического объяснения.
Ср. мою рецензию на книгу Уотсона (в Psychologische Forschung 2, 1922, S. 382
f.), а также приведенные в примечании 3 работы. Исчерпывающее критическое
изложение всего бихевиористского движения дает A.A. Robback. Очень поучи-
тельна исключительно оживленная дискуссия между Уотсоном и Макдаугалом
(в Psyche 5,1924).
10. Köhler, I. S. 70 (63).
11. То же, S. 71 (64/65).
12. Ср. у Келера Ausführungen über das Bewusstsein in der Tierpsychologie
(OU, S. 56). А особенно цитату, приведенную Келером во 2-м примечании
указ. соч. (Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, hrsg. von Abderhalden,
Abt. VI, Teil D. —Прим. ред.), где проблема развернута в полном объеме и
намечены пути к ее разрешению. Проблема проникновения в чужую психику
также рассматривается исчерпывающим образом в духе, приближающемся
к М. Шелеру (ср. Wesen und Formen der Sympathie, Bonn, 1923). Из новейших
психологов поведения ср. Е.С. Tolman. A new Formula for Behaviorism (Psych.
Rev. 29,1922, S. 44-53, реферировано мною в Psychologische Forschung 3,1923,
S. 409).
13. Edinger, S. 58.
14. В зависимости от условий жизни животного сильнее развивается то
одна, то другая часть. Ср. Edinger, S. 59.
15. Ср. главу IV, с. 167.
16. Ср. Bühler GE, S. 56 и следующие (рус. перевод: К. Бюлер. Духовное
развитие ребенка. М., 1924.—Прим. ред.).
17. Подробную инструкцию по использованию и ведению детских
дневников можно найти у Штерна, PsdK, S. 13 (рус. пер.: Психология раннего детства.
М., 1914. — Прим. ред.).
18. О. Külpe. Psychologie und Medizin // Zeitschrift für Pathopsychologie I,
1912. S. 12.
Примечания ко второй главе
19. Ср. Stern, PsdK, S. 25 f.
20. Это не распространяется на случаи внезапного изменения условий
жизни индивидуума или рода.
21. Ср. Lloyd Morgan, S. 18 f.
22. W.Stern, PS, S. 299/300.
23. Бюлер недавно упоминал о «шимпанзеобразном возрасте» у детей (ОЕ,
S.81).
24. Köhler, I, S. 75 (66). Ср. Описание поведения животных при
прикосновении проволокой, заряженной электричеством. I, S. 65 (58).
25. R. A. Acher. Spontaneous Constructions and Primitive Activities of Children
Analogous to those of Primitive Man// American Journal of Psychology 21,1910.
26. Краткое и ясное изложение можно найти в Naturphilosophie von
Е. Becher (Kultur der Gegenwart. Leipzig; В., 1914).
27. Claparède, S. 192.
28. С. и W. Stern, Sp., S. 263.
29. Ср. Groos, SK, S. 8.
30. W. Stern, PsdK, S. 239. В другом месте Stern, однако, выражает иные
взгляды, которые я не имею возможности здесь привести. Он усматривает в
рекапитуляции внутреннюю сущность единства человечества, выказывается за
всеобщее исследование родового характера энтелехии индивидуумом. Эти
утверждения могут быть поняты только в связи с его философской системой и не
подлежат обсуждению в этой книге. Ср. его же PS, S. 324 и следующие и MP,
S. ПО.
31.Cp.Claparède,S. 193.
32. W. Stern, PsdK, S. 25 и его же MP, S. 95 и следующие и W. Peters. Die
Vererbung der geistigen Eigenschaften und die psychische Konstitution, Jena,
1925.
33. Большинство учебников психологии, напр. большие труды Эббингауза
и Вундта, а также Бехера, содержат исчерпывающее изложение этого.
34. Edinger, S. 461.
35. Edinger, S. 522. Взгляды Эдингера изложены мной в небольшой
статье (Ein neuer Versuch eines objektiven Systems der Psychologie. Zeitschrift für
Psychologie 61,1912).
36. Edinger, S. 523.
37. L. Edinger und B. Fischer. Ein Mensch ohne Großhirn // Archiv für das
gesamte Physiologie 152,1913.
38. Там же. S. 27.
Примечания к третьей главе
39. Подробными исследованиями того, что ребенок в состоянии делать
в этом раннем возрасте и того, что он на самом деле делает, мы обязаны
Маргарет Блантон (The Behaviour of the Human Infant during the First thirty Days of
Life// The Psychological Review 24,1917, p. 456-483). Ср.: Ch. Bühler и Н. Hetzer.
Inventar der Verhaltungsweisen des ersten Lebensjahres // Quellen und Studien zur
Jugendkunde, hrsg. von Ch. Bühler. Hf. 5,1927, S. 129-250. В частности, последняя
работа уделяет много места типичному распорядку дня, сну — бодрствованию
и формам деятельности, проявляющимся во время бодрствования. Она
прослеживает общее развитие в первые годы жизни.
40. Ueber einige psychologische Eigentümlichkeiten der Muskeln und Nerven der
Neugeborenen// Jabrbuch für Kinderheilkunde 12. 1878.
41. Ср. М. Gildemeister. Ueber einige Analogien zwischen der Wirkung optischer
und elektrischer Reize. Zeitschrift für Sinnesphisiologie 48,1914. P. Cermak and K. Koff-
ka. Untersuchung über Bewegungs- und Verschmelzungsphänomene// Psychologische
Forschung 1,1921, bes. 100 f. Слово «слияние», приведенное в тексте, хотя и
соответствует обычной терминологии, ничего не объясняет в самом явлении.
Теоретическое обоснование дано в последней из названных работ.
42. Это число находится в закономерной зависимости от такого множества
факторов, что мы принуждены ограничиться только приблизительными
данными о величине.
43. В кино при очень быстрых движениях можно наблюдать другое явление.
Движение пропадает, и мы начинаем видеть множественное изображение
предмета; так, например, мы видим спортсмена, прыгающего через кобылу, с
расположенными рядом шестью ногами. Такое же явление множественного образа
предмета мы замечаем, например, когда при мелькающем свете переменного
тока двигаем руку с раздвинутыми пальцами.
44. Ср. Preyer, S. 27, Bühler, GE, S. 108, Moore, S. 57, P.Guillaume, Le
problime de la perception de l'espace et la psychologie de l'enfant // Journ. de
Psychol. 21, 1926,182. M. Guernesey, Eine genetische Studie über Nachahmung //
Ztr. f Psychol. 10, 1928, S. 136. H. Hetzer. К. Wulf. Baby-tests, там же предлагав-
шиеся в качестве теста для трехлетнего ребенка медленные движения
предмета, наблюдаемого им.
45. Не подлежит сомнению, что опыт влияет на развитие восприятия
движений. Спрашивается только, каким образом. Ср. мою статью Über den Einfluss
der Erfahrung auf die Wahrnehmung// Die Naturwissenschaft. 7,1919. S. 597 и след.
и мое же небольшое сообщение в Psychol. Forsch. 2,1922. S. 148 и след.
46. Preyer, S. 128.
47. Stern, Psd. К, S. 39.
48. Движения, о которых говорит Прейер, могут иметь иногда
непосредственно вредные последствия. Так, ребенок движением руки открывает глаз во
сне и продолжает спать с открытым глазом.
49. Ch. Bühler и H. Hetzer. Inventar der Verhaltungsweisen des ersten
Lebensjahres// Quellen und Studien zur Jugendkunde, hrsg. von Ch. Bühler. Hf. 5,
1927, S. 170.
50. A. Gesell. Maturation and Infant Behavior Pattern. Psychological Review 36,
1929. S. 307 f.
51. Читатель, желающий познакомиться с исключительно интересными
данными физиологии рефлекторных процессов, слишком упрощенными здесь,
должен обратиться к книге: Ch. Sherrington. The Integrative Action of the Nervous
System. N. Y., 1906.
52. To же самое, известное под названием «Закона специфической анергии
ощущений» (И. Мюллер), мы имеем в сенсорной области. Точно так же
процессы, происходящие в чувствующих центрах нашего мозга, являются коррелятами
феноменов чувственного восприятия и в отдельных областях имеют вполне
специфический характер. Читатель может найти краткое изложение этих явлений
в статье: W. Nagel. Die Lehre von den spezifischen Sinnesenergien // Handbuch, der
Psychologie. III, 1905, S. I и следующие.
53. Для ознакомления со сложной областью движений глаза, которой мы
здесь только слегка касаемся, а также с общими данными восприятия
пространства, можно рекомендовать труд: St. Witasek, Psychologie der Raumwahrnehmung
des Auges. Heidelberg, 1910. Другие оригинальные сочинения можно найти в
следующих примечаниях.
54. Ewald Hering. Die Lehre vom binokularen Sehen (erste Lieferung). Leipzig,
1868. S. 22, S. 3.
55. H. v. Hejmholtz. Handbuch der physiologischen Optik. 3 Aufl., bearb. v.
Gullstrand, v. Kries und Nagel. Leipzig, 1910. S. 48.
56. Cp. Stern, PsdK, S. 40 и 48, а также Guillaume, цит. соч., S. 122; Blanton
в Psychological Review. 24,1917, S. 46.1.
57. Ср. Hering, цит. соч., S. 18 и следующие.
58. Цит. соч. 22/23. То же самое соотношение при координации Келер
наблюдал у шимпанзе (1, с. 189).
59. Ср. v. Kries в вышеуказанной работе Helmholtz, S. 514. А.
60. То же, с. 511 и следующие.
61. Watson PB, S. 243-245.
62. Stern, PsdK, S. 49. To же самое наблюдается почти регулярно уже на 4-й
день. У сына Скапена также эта реакция наблюдалась на 4-й день.
63. Guillaume, цит. соч., с. 122.
64. Bühler, GE, S. 103.
65. Bühler, GE, S. 103-104. Разрядка моя. Бюлер оставляет здесь открытым
вопрос, даны ли связи от рождения или приобретаются, являются они
продуктом опыта или созревания.
66. Последняя форма поведения описывается как принцип максимального
гороптера. Ср. Hering. Beiträge zur Physiologie, H. 4. Leipzig, 1864. S. 261 и след.
67. Геринговский принцип избегания кажущихся движений (цит. соч., с. 265
и следующие). Родственный ему принцип наиболее легкого приспособления
Гельмгольца (цит. соч., с. 55), оспариваемый Герингом, уже одним своим
названием говорит о связи между зрением и движениями глаз.
68. Köhler, PhG.
69. К. Goldstein. Theorie der Funktion des Nervensystems. Archiv für Psychiatrie
und Nervenkrankheiten 74,1925. S. 402.
70. Cp. Köhler Ph. g., S. 27,201-202,262-263. а также исчерпывающее
изложение в его статье Gestaltprobleme und Anfänge einer Gestalttheorie // Jahresbericht
über das gesamte Psychologie. 1922, S. 512-539. Цитата в тексте взята оттуда
(S. 536). Опыты, опубликованные А.Марина в 1905г. и в исправленном виде
в 1910 г., вполне соответствуют келеровскому пониманию. Марина оперировал
обезьян, заменяя либо внешнюю, либо внутреннюю прямую мышцу глаза друг
другом, а также заменял правый m. rectus externus на rectus superior. В первом
случае удаляется мускул, приводящий глаз в движение вовнутрь и, наоборот, во
втором случае удаляется мускул, благодаря которому глаз поворачивается
вовне, и его нормальное положение занимает мышца, поднимающая глаз. Если бы
каждый мускул получал из центра определенный импульс, то животные после
операции могли бы производить только определенные движения глаз; однако,
оказывается, что тотчас же после того, как зарубцевались раны, животное в
состоянии вполне нормально выполнять произвольные и автоматические боковые
движения глаза. Из этих и некоторых других данных автор заключает, «что
анатомически ассоциативные пути не являются постоянными для центров,
направляющих движение глаз», и проводящие пути не имеют какой-либо постоянной
функции. Что касается других данных пересадки, он справедливо придает общее
значение этому результату и требует нового обоснования общей физиологии
мозга. Реферируя работу Марина, Циген также считает необходимым
распространить это заключение на анатомию мозга и физиологическую психологию.
Уступая старым теориям, Циген предупреждает о возможности ошибки,
допущенной в опытах. Ср. A. Marina. Die Relationen des Palaeencephalons (Edinger)
sind nicht fix. (Neurologische Centralblatt. 34,1915, S. 338-345) и реферат Цигена
в Zeitschrift für Psychologie. 73,1915, S. 142-143.
71. Ср. W. Köhler. Gestalt Psychology. New York, 1929. K. IV.
72.Cp.Guillaume.Op.cit.S. 125-126; H. Hetzeru.В. Tudort — Hart,Diefrüheste
Reaktionen auf die menschliche Stimme // Quellen und Studien zur Jugendkunde,
hrsg. v. Ch. Bühler, H. 5, Jena, 1927, S. 107-124 и В. Löwenfeld. Systematisches
Studium der Reaktionen der Säuglinge auf Klange und Geräusshe // Zetschrift für
Psychologie 104,1927, S. 62-95; M. Blanton. Op. cit. (см. прим. 62) S. 471. О теории
слухового восприятия направления — ср. v. Hornbostel. Beobachtungen über ein-
und zweiohriges Hören (Psychologische Forschung 4, 1923, S. 64 и следующие. Там
же подробная литература).
73. Ср. Thorndike, EP, S. 48. Preyer. S. 178. Watson PB, S. 241 (на с. 239 его
книги дана фотография подобного младенца).
74. Ср. А. Peiper. Sinnesreaktionen der Neugeborenen. Zeitschrift für
Psychologie 114.1930, S. 367.
75. Preyer. S. 164; Watson PB, S. 238-239. Bühler — Hetzer, Op. cit. (см. пр. 56),
S. 198 и следующие.
76. По Compayré, S. 36-37.
77. Blanton. Op. cit. S. 478 и следующие.
78. Ср. прежде всего Морган (S. 136-138). Сходное наблюдение ср.: James,
2, S. 400.
79. Lloyd Morgan, Preyer, S. 151 и следующие и James, Е., S. 383.
80. James, 2, S. 385. Глава об инстинкте написана со всей силой красочного
изложения Джеймса. Несмотря на то что я ни в коем случае не могу согласиться
с его теоретическими выводами, я очень рекомендую его лекции. Краткое
изложение истории понятия инстинкта можно найти у Гроса (SpT, S. 24 и следующие).
81. Watson, СР, S. 106. В PB он считает это определение только схематичным.
82. Thorndike, EP, S. I.
83.Tolman.Op. cit. р. 355.
84. Thorndike, EP, S. 123.
85. Там же, S. 134, воспроизводится по AI. S. 35.
86. Ср. Hans Driesch. Philosophie des Organischen, 2 Aufl. Leipzig, 1921. S. 321
GS. 397 и следующие. Дриш считает, что существование «специфического
индивидуализированного раздражителя инстинктов» еще не доказано.
87. К. Бюлер также пользуется аналогией с мелодией для того, чтобы
отличить инстинкты от рефлексов (ср. Die Instinkte des Menschen // Berichte des 9.
Kongress für experimentelle Psychologie. Jena, 1926. S. 13 и следующие). В
противоположность этому Ш. Бюлер выставляет следующее положение: с чисто
причинной точки зрения не существует единства действий, но только ряд реакций.
Только при рассмотрении с точки зрения успеха можно увидеть единство
действий (ср. Das Problem des Instinkts// Zeitschrift für Psychologie 103,1927, S. 55).
Мелодия, импровизируемая на рояле, с точки зрения причинности не
представляет собой единства действия, оно обнаруживается, только если отправляться
от успеха. Я иначе понял выводы К. Бюлера и во всяком случае не могу
согласиться с таким дуалистическим объяснением, которое ставит в зависимость от
характера рассмотрения две такие противоположности.
88. Г. Линк указывает в своей статье на эту зависимость. Его выводы во
многих отношениях сходны с воззрениями, изложенными в этой книге. Ср.: Link H.
Instinkt and Value// American Journal of Psychology 33,1922, S. 1-18.
89. Cp. L. L. Thurstone. The Nature of Intelligence. London, 1924. Особенно:
К. Lewin. Vorsatz, Wille und Bedürfnis// Psychologische Forschung 1,1926.
90. Cp. McDougall, OP, S. 99,106,110 и наше прим. 88.
91. Ср. Groos, SpM, S. 183.
92. Ср. McDougall. Use and Abuse of Instinct in Social Psychology // Journal
of Abnormal and Social Psychology 16,1921/22, p. 825, 330, 293; он же OP, p. 110,
128, 314; Lloyd Morgan. Instinctive Behaviour and Enjoyment// British Journal of
Psychology 12,1921, S. 1-30.
93. Cp. Lewin. Op. cit.
94. Напр., Watson «What the Nursery has to say about Instincts» (Psychologies
of 1925, Worcester, p. I и следующие. Рус. перев.: Уотсон Дж. Психологический
уход за ребенком. М., 1930).
95. Ср. W. Köhler. Gestaltpsychology, Гл. IX, X. Без знакомства с этими
главами читателю будет трудно усвоить изложение в тексте. Я принужден здесь
ограничиться только самым существенным.
96. Ср. Watson. Recent Experiments on how lose and change our Emotional
Equipment// Psychologies of 1925, p. 75 и следующие.
97. Аналогичное описание военного ландшафта можно найти в
цитированной выше и частично приведенной в тексте работы К. Левина.
98. Köhler, PhG, S. XIII. В соответствии с нашими понятиями конечной и
преходящей ситуации, виталисты давали ряд такого же рода определений виталисты
давали ряд такого же рода определений морфолого-физиологической области.
Так, Дрищ различает «законченное» от «незаконченного» и определяет первое
как «не допускающее дальнейшего течения процессов, происходящих по
внутренним причинам без внешнего воздействия». Ср.: Н.Driesch. Die organischen
Regulations. Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens. Leipzig, 1901. S. 84.
99. M. Wertheimer. Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegungen //
Zeitschrift für Psychologie 61, 1912, S. 251. Его же. Drei Abhandlungen zur
Gestalttheorie. Erlangen, 1925.
100. Это условие, которое я в тексте опускал, не желая сбивать читателя,
недостаточно подготовленного в естественных науках, Келер (PhG, S. 250)
формулирует следующим образом: «Во всех явлениях, конец которых не зависит от
фактора времени, распространение процесса идет в том направлении, которое
обусловливает минимальную затрату структурной энергии». Дальнейшее
изложение в тексте соответствует книге Келера. Приводимая в тексте цитата взята
оттуда же (С. 257).
101. К. Koffka. Mental Development // Psychologies of 1925, p. 136.
102. W. Köhler. Gestalt-Psychology. S. 179-180. Весь 4-й параграф этой книги
(с. 103-147) представляет интерес для желающих ближе познакомиться с этим
вопросом.
103. Вспомним упомянутые выше опыты Марина.
104. См.: Volkelt, S. 15 ел. Более поздние наблюдения Рабо над пауками,
несмотря на большой интерес, не могут быть приведены здесь. Во многих
отношениях они соответствуют нашему пониманию инстинктивного поведения
и с ясностью указывают на его границы. Ср. Recherches expérimentales sur le
comportement des diverses araignées// Année Psychologique 1922, 22, p. 25 ff.
105. Die Organisation des optischen Feldes bei der Biene // Zeitschrift für
vergleichenden Physiologie 1.1928 u. II. 1929, а также Das optische Gestalt-Problem
und der Tierversucuch.1929, S. 23-49.
106. E. Becher, GS, S. 401. Этому соответствует открытие C.J. Herrick
и G.E. Coghill на Amphibium Amblystoma. Функционально и морфологически
более общие и диффузные рефлексы предшествуют более тонким и
дифференцированным. Короткий «двухнейронный рефлекс», во всяком случае, не
является началом и в лучшем случае завершением развития. Ср. The Development of
Reflex-Mechanisms in Amblystoma // The Journal of Comparative Neurology 25,
1915, p. 65-85. Ср. общее изложение тех же авторов в Anatomy and the Problem
of Behaviour. Cambridge, 1929.
107. Ср. приведенную в прим. 76 статью Келера, в которой этот предмет
излагается с большой ясностью и остротой трактовки. Соотношения
между функцией и структурой, по моему мнению, вполне соответствуют новей-
шим данным и заключениям биологов. Ф. В. Гэмбл в своем докладе, опираясь
на работы Чайлда, развивает эти мысли очень ясно и конкретно. Он говорит
об известном динамическом изменении структуры, имеющем место в
процессе органической жизни, которое усиливается с интенсивностью этой жизни,
и полагает, что стабильность структуры идет за счет уменьшения
динамической активности (Construction and Control in Animal Life // Rep. of the 92 d.
Meeting of the Brit. Ass. f. the Adv. of Science, Toronto, 1924, S. 199 и ел., ср.
также: Ch. M. Child. Physiological Foundation of Behavior. New York, 1924). Наконец,
когда Куо — ярко выраженный бихевиорист — пытается совершенно изгнать
из психологии врожденные действия, то и это возражение, собственно,
является возражением против врожденных склонностей к специальным действиям.
Ср. его A Psychology without Heredity// Psychological Review. 31,1924, S. 427 ел.
Когда Дж.Р. Кантор полагает, что точно так же мускулы и железы начинают
функционировать вследствие того, что они возбуждаются нервными
импульсами, можно сказать, что нервы возбуждаются потому, что мышцы и железы
начинают функционировать. Эту точку зрения мы склонны считать родственной
нашей (Amer. Journ. of Psychol. 33,1922, p. 19-42).
108. Ср. мой реферат книги F. С. Bartlett. Psychology and primitive Culture
в Psychologische Forschung 7,1926, S. 285-286.
109. W. Stern, Psdk, S. 43-44. Штерн справедливо указывает на то, что
действия, которые он называет «Hinwendungsinstinkt» (инстинкт действия в
направлении цели) наблюдаются в реакциях у шимпанзе, наблюдаемых Келером.
Животные, независимо от практического результата, должны предпринять что-нибудь
в направлении желаемого объекта (ср. Köhler, I, S. 71 (65) и нашу цитату выше).
110. Bühler К. AG, S. 46.
111. Ср., напр., с. 45.
112.KafKa,S.466.
113. ср. Watson, p. 125 ел.
114.McDougall,OP,S.IIlG*.
115. Köhler, I, S. 64 (58).
116. Там же, S. 75 (68).
117. Торндайк считает само собой очевидным, что всякое украшение,
татуировка и т.д. являются результатом успешно усвоенных форм поведения. Ср.
его EP, S. 140.
118. Цитировано по Торндайку (EP, S. 159 А). Сюда относятся такие
«предостерегающие крики», которые могут обусловить бегство целой стаи
животных. Я приведу только особенно интересное наблюдение Моргана:
находящиеся еще в яйце утята начинают процарапывать отверстие в более широком конце
яйца, сопровождая это писком. Но как только раздается предостерегающий
крик утки, они останавливаются. Многие выразительные движения человека
в сравнении с характерными движениями животных кажутся
«несовершенными». Это приводит нас к мысли, что движения в ряде случаев были сначала
значительно более объемлющими, давая не меньший эффект и приводя к
изменению окружающей среды, т.е. к «внешнему успеху». В известной мере знание
«предков» облегчает понимание выразительных движений человека. Но эта
зависимость еще не является объяснением. Во-первых, старые движения еще сами
нуждаются в объяснении, а во-вторых, нужно показать значение превращения
тех движений в наши. В обоих случаях я не могу еще в достаточной мере отка-
заться от излюбленного в течение продолжительного времени
«дарвинистского» способа объяснения. Движения не могут возникать случайно и сохраняться
вследствие их полезности. Описание церемоний ухаживания у цапли, сделанное
Джулианом Хаксли (Essays of a Biologist, London, 1923, S. 105 ff), делает
очевидной абсурдность такой гипотезы. Столь же мало можно объяснить полезностью
превращение этих выразительных движений в их «несовершенные формы». Чем
дальше мы спускаемся в глубь генетической лестницы и как только мы
перестаем видеть во взрослом, образованном, западном европейце единственный
объект наших наблюдений — отношение между ситуацией и организмом начинает
казаться проще и непосредственней (ср. выше).
119. Zur Psychologie des Schimpansen // Psychologische Forschung I, 1922,
S. 27, 28, 31, 33.
120. Ср. ук. в примеч. II первую работу Келера (S. 75 ел., в особенности 79
и 100 ел.).
121. Ch. Buhler и Hetzer, цит. место (S. 56а), S. 154 ел. 171 ел.
122. Ухо занимает особое место благодаря тому, что при рождении среднее
ухо вместо воздуха наполнено жидкостью. Таким образом звуковые
раздражения не могут проникнуть в чувствующий орган, расположенный во внутреннем
ухе. Поэтому все новорожденные глухи, но начинают реагировать на звуки как
только жидкость исчезает из среднего уха. Блантон сообщает об одном
необычном случае, когда новорожденный тотчас же реагировал на громкий стук
весьма энергично, описанным выше образом (цит. место, см. прим. 56). Пейпер
считает (цит. в прим. 74), что даже еще не родившийся ребенок чувствителен
к звукам. Левенфельд приводит исчерпывающий указатель литературы по
вопросу чувствительности к звукам.
123. Stern, PsdK, S. 44-45.
124. Head H. Studies in Neurology. 2 Vols. London.
125. Еще не установлено, функционирует ли уже защитный рефлекс
m. tensor tympani, напрягающий барабанную перепонку, и это вообще трудно
установить. Но здравый смысл говорит о его существовании. Ср. указ. в прим.
72 работу Кетцера и Тюдор-Харт, а также Левенфельда; Ch. Bühler. Die ersten
sozialen Verhaltungsweisen des Kindes// Quellen u. Studien, H. 5. S. 1 ел.
126. К. Bühler, GE, 1 Aufl. (1918), S. 355.
127. Thorndike, EP, S. 301 ел.
128.Торндайк, разумеется, также сталкивается с трудностями. Он
причисляет к унаследованным задаткам также и такие, благодаря которым
становятся возможными изменяемость и обучение и в то же время понимает все
врожденные задатки как соединения нейронов. Признавая пластичность, он тем
самым отдаляется от своего определения врожденных задатков. Ср. ЕР II, S.I.
129. Ср. соображения Фолькельта о «способности» и «неспособности»
к обучению (с. 120 и ел.).
130. См. S. 187.
131. Ср. выводы Штерна о примитивном единстве сенсомоториума — PsdK,
S. 35.
132. Ср. Köhler, PhG, S. 57 слл., 192, 207. О феноменальном и
функциональном различии между фигурой и фоном можно найти исчерпывающие
соображения в монографии Е. Рубина (Synsoplevede Figurer, Kobenhavn og Kristiania,
1915. Немецкое издание: Visuell wahrgenommene Figuren, ebda, 1921).
133. Эта точка зрения отвергается также и Штерном (PsdK, S. 70-71). Но
между его и нашими воззрениями существуют значительные расхождения. Мы
не можем принять понятие чувствительности Штерна: обоснование этого здесь
дать не имеем возможности (ср. рассуждения об анализе звуков выше и мою
статью «Психология», указ. в прим. 2). Укажем только, что простая диффуз-
ность — это только общее описание. Ср. посвященную этому
принципиальную небольшую статью Вертгеймера «Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt.
Prinzipielle Bemerkungen» (Psychologische Forschung 1,1921).
134. Это особенно подчеркивает Moore, S. 50.
135. Stern, PsdK, S. 76; Guillaume, L'imitation, цит. место прим. 77, с. 144,
а также Werner, Unterrechtungs — Psychologie; Watson, Psychologies of 1925,
p. 18 u. 20; Ch. Bühler. Die ersten sozialen Verhaltungsweisen des Kindes, S. 17,19,21;
Hetzer und Tudor-Hart, Die frühsten Reaktionen auf die menschliche Stimme, S. 123.
Ср. также Stern, PsdK, S. 76 u. Guillaume, L'imitation, цит. соч., S. 144.
136. Kohler, StF, S. 49A.
137. H. Scheler, Wesen der Sympathie (см. прим. 12), S. 275. Ср. также выводы Ке-
лера, основанные на наблюдении и опытах над шимпанзе (Psychol. Forsch. I, S. 37ff.).
138.Werner, Entwicklungspsychologie, S. 46.
139. Cp. Stern, PsdK, S. 46.
140. Cp. Lévy-Bruhl, S. 27ff a. Th. W. Danzel, Prinzipien und Methoden der
Entwicklungspsychologie // Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Lieferung
46, Abt. VI, c, Berlin u. Wien 1921, а также мою критику этой работы в Psychologische
Forschung 3,1923, S. 189 ff.
141.Watson, CP 271, 291.
142. H. Driesch. Grundprobleme der Psychologie. Leipzig, 1926. S. 90.
143. M. Brodu. F. Weltsch. Anschauung und Begriff. Leipzig, 1913. S. 6.
144. Доклад Вертгеймера на V Конгрессе экспериментальной психологии
в Берлине в 1912 г.
145. Автор в полемике со мной пытается приписать мне мнение,
противоположное высказанному мною: «Она (структурная гипотеза Коффки) утверждает,
напр., что всякое световое впечатление должно возникнуть на оптической основе,
до тех пор индифферентной». Это говорит о том, что они не читали 104-й
страницы моей книги. Цит. место, S. 16If. (цитата на с. 162).
146. Опыты Катца и Ревеца с «запрещенными» зернами, прикрепленными
к полу, однако, не удается проводить с большими сильными животными, так как
они отрывают также и прикрепленные зерна. Ср. Köhler, OU, S. 58.
147. Köhler, StF, S. 12-13.
148. Там же, StF, S. 24.
149. Ср. A. Riekel. Psychologische Untersuchungen an Hühnern// Zeitschrift für
Psychologie 89,1922.
150. Результаты, полученные Келером, с тех пор подтвердились на других
животных. Замечательный список литературы можно найти в статье: Е.С. Tolman.
Habit Formation and Higher Mental Processes In Animals // Psychological Bulletin
24, 1927, p. 14ff. Особенно интересны эксперименты ученика Тулмена: А. Н.
Gayton. The Discrimination of Relative and Absolute Stimuli by Albmo Kats // Journal of
Comparative Psychology 7,1927, p. 93ff.
151. D. Katz. Der Aufbau der Tastwelt. Zeitschrift for Psychologie. Bd. II, 1925,
p. I ff.
152. Ср. М. Wertheimer. Zeitschrift für Psychologie 61, 1912 и мой обзор
в Handbuch der Psychologie, hrsg. von Bethe u.a. 12, 2.
153. Ch. Bühler u. H. Hetzer. Inwentar... S. 214ff.
Примечания к четвертой главе
154. Katz, Tastwelt (138 с).
155. K.Goldstein. Zur Theorie der Funktion des Nervensystems // Archiv für
Psychiatrie 74,192. S. 370ff.
156. Я нашел у Клапареда сходное разделение на mécanisme de la genèse
и mécanisme de l'exersice. Франц. изд., с. 173.
157. Ср. Торндайк. Е. В., S. 25, 201.
158. Подробное описание условий опыта у Торндайка (AI) и Уотсона (СР).
159. Id. S. 165.
160. Bühler, FE, с. 6 и 119-120.
161. GE, 2 изд., с. 209. Это положение в 4-м издании опущено.
162. Thorndike Al, с. 108 ел.
163. Bühler К. GE, с. 6.
164. Thorndike, Al, с. 108 ел.; EPH, с. I слл.
165. Watson, CP, с. 186, 259-260.
166. Ср. Watson CP, с. 262 ел. В Psychology (PB с. 293-295) позиция Уотсона
значительно осторожнее и сдержаннее. Он допускает там четыре возможности,
в число которых кроме частоты входит и успех. Но ни на одной из них он не
основывается, подчеркивая спекулятивный характер всего изложения. В
сущности, он признает, что в настоящее время нет еще теории обучения.
167. Ср. Thorndike, ЕР, с. 185 ел.
168. Ср. Watson, CP, 1927, а также пр. 166.
169. Торндайк распространяет этот закон на две группы факторов: при
функционировании связь укрепляется, при длительном покое ослабляется. ЕР, с. 171 ел.
170. Bühler, GE, с. 120.
171. По Стауту (А Manuel of Psychology, 3.ed. London, 1913). Ср. вообще
остроумную критику теории Торндайка Стаутом. Примеры, подобные
приведенным в тексте, можно найти в AI Торндайка (с. 72).
172. D.J. Adams. Experimental Studies of Adaptive Behaviour in Cats //
Comparative Psychology 6,1,1929, p. 93.
173. Carl J. Warden and Edna G. Haas. The Effect of short Intervals of Delay in
Feeding upon Speed of Maze-Learning//Journal of Comparative Psychology 1927,
I, p. 107 f.
174. Thorndike, ЕР, с 188 ел.
175. Thorndike ЕР, с. 172 ел. Ср. также ЕР II с. 1-16, где рассматриваются
и другие особенности обучения с той же основной точки зрения. Простое
экспериментальное изложение закона эффекта см. в работе Кио: мыши усваивают
лучший из двух путей в противоречии с законом частоты, несмотря на то что
оба пути приводят к успеху. Ср. The Nature of Unsuccessful Acts and their Order
of Elimination in Animal Learning// The Journ. of Comp. Psych. 2,1922, с 1 и ел.
176. Thorndike ЕР, с. 281-282. Ср. также довольно интересную и подробную
критику опытов Торндайка у Адамса (Psychol. Mon. H. I, S. 65-91).
177. Thorndike, AI, с. 43-44.
178. Adams, p. 93.
179. Lloyd Morgan, с. 169-170.
180. Thorndike AI, с. 119.
181. Ср. Köhler, I, S. 19f (16 ел.).
182. G.D. Higginson. Visual Perception in the white Rat//Journal of
Experimental Psychology 9.1929, p. 337. Довод, который Дэйшел приводит против этих
опытов, мне кажется неосновательным (см.: Direction Orientation in Maze Running by
the white Kat// Comparative Psychological 1,2,1930).
183. Приведены не все кривые. Кривая поведения животного,
исследованного в клетке с деревянным засовом, сходна с изображенной нами второй кривой.
184. Thorndike AI, с. 48.
185. Thorndike AI, с. 119.
186. Ср. Thorndike AI, с. 117 ел. и Köhler S. 10,142.
187. Köhler, I, с. 17-20.
188. Thorndike Aj, с. 48.
189. McDougall, OP, с 196 ел.
190. Psychol. Bull.. 24,1927, p. 25.
191. H.A. Ruger. The Psychology of Efficiency // Archive of Psychology. № 15.
1910.
192. Цит. место, с. 9.
193. Köhler, I.
193a. Там же, с. 3-5.
194. В последнее время также J. Peiser. Prüfungen höherer Gehirnfunktionen
bei Kleinkindern//Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung 91,1920,
S. 182-200.
195. Köhler I,c. 9 (6-7).
196. Kohler I, с 25 (919). То же самое получилось в результате опытов В. Т. Ше-
ферда. Собаки и кошки не сумели пользоваться нитью (а также более простыми
соединителями), но Масаса Rhesus, не принадлежащие к антропоидам,
усвоили это без труда. Ср. Tests on Adaptive Intelligence in Dogs and Cats, as Compared
with Adaptive Intelligence in Rhesus Monkeys// American Journal of Psychology 26.
1915. Еще в 1911 г. A. Franken (Instinkt und Intelligenz eines Hundes// Zeitschrift für
angewandte Psychologie 4) сообщил о проведенных им разнообразных опытах
такого рода над собакой. Я обратил внимание на эту работу только благодаря книге
Липмана и Богена. Собака до известной степени научилась пользоваться
шнуром — соединением, но все же неясно, как нужно понимать этот процесс
обучения. Ср. Lipmann — Bogen, S. 13,15. С тех пор многими исследователями получены
сходные результаты, отрицательные для собак и положительные для обезьян. Ср.
Toiman, Psychol. Bull. 24, а также H. Nellmann и W. Trendelenburg. Ein Betrag zur
Intelligenzprüfung niederer Affen // Zeitschrift für vergleichende Psychologie 41926,
26, с 170 ел. В противоположность этому некоторые из исследованных Адамсом
кошек очень быстро усвоили, как пользоваться шнуром, благодаря тому что они
заметили во время игры со шнуром движение пищи, привязанной к нему. Одна из
этих кошек втянула даже свою пищу на шнуре перпендикулярно свисавшей с
потолка клетки, и неоднократно казалось, что случай имел здесь решающее
значение при решении. Но одного этого случая еще недостаточно для окончательного
заключения. Adams, 8. ПО ел.
197. Köhler, I, с. 31.
198. Там же, с. 28.
199. Bühler, GE, с. 22-23. Интересно сравнить рассуждения Бюлера в тексте
и в его новом предисловии (особ. ст. X), в котором он оспаривает мою
интерпретацию.
200. Ср. Tolman, цит. соч. и Neilmann и Trendelenburg цит. соч., с. 155 ел.
201. Köhler. I. S. 33 слл. (30): H. С. Bingham опубликовал новые
исчерпывающие опыты — употребление ящиков у шимпанзе (Selective Transportation by
Chimpanzees// Comp. Psychol. Mon. 5, 4,1929). Оказывается, что те же действия
способны осуществлять н наши домашние животные в соответствующих
условиях. По крайней мере об этом говорят опыты Адамса над кошками, в которых
ясно обнаруживаются вышеупомянутые промежуточные фазы. Ср. Adams, цит.
соч., с. 138-154.
202. Не нужно это понимать так, что ящик раньше был слишком тяжел для
животного, так как в одном из прежних опытов оно легко отодвинуло ящик,
на котором лежала одна из обезьян, но тогда речь шла о простом устранении
препятствий. Ср. Köhler, I. S. 141 (128) ел.
203. Köhler, I, с. 100 ел. (91).
204. Там же, с. 105 ел. (96 ел.).
205. Там же, с. 181(166).
206. Ср. там же, с. 192(175).
207. Там же, с. 197 (180).
208. Там же, с. 151(138).
209. Там же, с. 153-154. (140 ел.). Ср. также вышеизложенные данные Ругера.
210. Там же, с. 123(112).
211. Там же. В соответствии с общим планом всей работы, Келер оставляет
открытым вопрос о выборе между принятой в тексте и другой возможностью.
По опубликованным впоследствии его работам (StF и PhD) не остается
сомнений в том, какую возможность он в действительности предпочитает.
212. Ср. выводы Вернера в Entwicklungspsychologie (S. 40 и ел.).
213. R. M. Ogden дает новое толкование обучению в своей книге «Psychology
and Education» (London and New York, 1926, p. 244 и ел.). Основное различие
заключается в терминологии. Он называет объединение в одно целое
«ассимиляцией», анализ — «дифференцированием», расчленение — «градацией» и
изменение структур — «редефиницией».
214. Когда я в первом издании этой книги наложил мою точку зрения на
обучение, опыты Келера, которым она во многом обязана, были еще недавно
опубликованы и не так распространены, как в настоящее время. Психологи
встретили очень сдержанно книгу Келера. Все признавали остроумность его
экспериментов, но только очень немногие разделяли его воззрения. Вместо
этого многие психологи пытались согласовать его опыты с господствующими
взглядами на обучение. Поэтому я счел правильным всесторонне рассмотреть
эти критические опыты. Таким образом в обоих первых изданиях этой книги
два больших параграфа посвящены рассмотрению различных доводов,
направленных против Келера. С тех пор положение значительно изменилось. Опыты
Келера были повторены различными исследователями и дали те же результаты.
Его Методы оправдались также и на животных, стоящих значительно ниже. За
это время был исследован также и другой материал, подтверждающий это
направление, и в специальных журналах появилось много теоретических статей
(ср. прежде всего статью В. Келера «Zur Theorie des Sukzessivvergleichs und der
Zeitfehler, где указана большая литература). По всем этим причинам я выпустил
большую часть моих доводов, ныне устаревших, и оставил только то, что имеет
отношение к общим принципам.
215. Bühler, GE, S. 10 f. AG, S. 16 f.
216. S. 20 (2-е изд.).
217. S. 21 (4-е изд.) Я так подробно остановился на этом тексте потому, что
Келер встретил здесь для себя затруднение. Если читатель интересуется, он
может сравнить раздраженные упреки Бюлера с моим текстом, и нужно иметь
в виду сказанное мной в примечании (№ 166 прошлого издания): «Я не верю,
что Бюлер со всей строгостью разделяет это учение в настоящее время». Там же
я указал те места, из которых он выводит другую, достаточно противоречивую
теорию. Я не имел больших оснований останавливаться на этом подробнее, так
как уже тогда она мне казалась ошибочной, а я стремился избежать не
относящейся прямо к делу полемики. В остальном эта теория опровергнута Келером
(Zur Theorie des Sukzessivvergleichs und der Zeitfehler // Psych. Forsch. 4, 1927,
с 115 ел., ср. особ. с. 125 и ел.). Конечно, я указал также, не цитируя, еще одно
место, которое гласит: «В любом случае всякий должен согласиться с тем, что
мы можем воспринимать, наблюдать без полного переживания
умозаключений» (2-е изд., с. 358). Это место сохранилось и в 4-м издании, но мы не
только не можем теперь «согласиться» с этим положением, но должны его «как-то
объяснить» (4-е изд., с. 374).
218. Ср. Bühler. Die Gestaltwahrnehmungen, I, Stuttgart, 1913, S. 16 и ел.
219. Против учения о незаметных ощущениях, нашедшего свое
классическое выражение в первом томе Tonpsychologie Штумпфа (1883), выступил еще
Корнелиус в своей «Psychologie als Erfahrungswissenschart» (1897). В последнее
время Келер посвятил статью этому вопросу: Über unbemerkte Empfindungen
und Urteilstauschungen (Zeitschrift für Psychologie 66,1913). Ср. также мою статью
Problems der experimentellen Psychologie (Die Naturwissenschaft 5,1917, Heft 1,2).
220. Bühler, GE, с 21, 372 ел.
221. Stimmen der Zeit 95,1918, с 391.
222. Ср. Köhler, StF, с 56 ел.
223. Stimmen der Zeit 97,1919, с 66.
224. Некоторые общие вопросы психологии и биологии мышления
рассматриваются на материале учения о сравнении Arbeiten zur Psychologie und
Philosophie, hrsg.v. E.R. Jaensch. Leipzig, 1920. Очевидно, работа Келера ему
неизвестна, о ней не упоминается. Ср. также вдохновленную Янчем работу: A. Riekel.
Psychologische Untersuchungen an Hühnern // Zeitschrift ftlr Psychologie. 89, 1922,
с 81 ел. Литература по этому вопросу значительно обогатилась благодаря
теоретическому труду Линдворского, в котором он с редкой последовательностью
показал, как следует распознавать физиологические структурные функции
и определять их участие при дрессуре выбора. Он, разумеется, полностью
отрицает, что в этом дано также сознательное восприятие отношений, т. е. разум. Ср.
Umrisskizze zu einer theoretischen Psychologie// Zeitschrift für Psychologie 89,1922,
S. 313 ел., ос. прим. 343 (в отд. изд. Leipzig, J. A., Barth). Между тем и Келер
присоединился к позиции Янча, Рикеля, Бюлера и Линдворского (в указанной в прим. 144
работе в Psychologische Forschung 4). Там можно найти ясно очерченную теорию
восприятия отношений. Мы не можем здесь останавливаться на основных поло-
жениях Аиндворского. Я подробно рассмотрел их в моей статье в Handbuch der
Philosophie и изложил там же, почему я считаю их несостоятельными.
225. Köhler, StF, с. 13. Подробную цитату мы привели выше.
226. Jaensch. Цит. соч. Ср. Bühler, GE, с. 183. Сходные рассуждения
Аиндворского. Stimmen 97, с. 64 ел.
227. Там же. С. 21.
228. По Янчу (с. 20), переживания, переходы такого же рода, как описанные
Линке, Вертгеймером и Коффкой явления восприятия движений. Эти
переживания движений являются типичными структурными феноменами в нашем
значении. Ср. указ. в прим. 99 работу Вертгеймера.
229. Цит. соч., с. 28.
230. Ср. выводы Келера в работе, указанной в прим. 219.
231. Bühler, GE,S. 187.
232. Ср. акустические исследования Келера, а именно III и IV
сообщение в Zeitschrift fur Psychologie 64, 1913, с. 99 ел. и III, там же, 1915, 72, 121 ел.
и М. Ebenhardt.Über die phänomenale Höhe und Stärke von Teiltönen (Psychologische
Forschung 2,1922, с 346 ел.).
233. С этой закономерностью скрещивается другая: при прочих равных
условиях цветовой порог для темного поля ниже, чем для светлого. Впервые
на это обстоятельство, упомянутое в тексте, указал Штумпф (Die Attribute der
Gesichtsempfindungen // Abhandlungen der Königlichen Preussischen Akademie der
Wissenschaft. Jhrg. 1917. Phil. Hist. Kl. № 8, S. 84 ел., там же указатель литературы по
более ранним исследованиям). Я сам имел возможность доложить на Наугеймской
конференции естествоиспытателей (1920) об опытах, которые подтверждают и
дополняют открытие Штумпфа, воспользовавшись при этом точкой зрения
структурной психологии. Эти исследования продолжались и были подробно
опубликованы. Ср. А. Ackerman. Farbschwelle und Feldstruktur и M. Eberhardt. Untersuchungen
über Forbschwellen und Farbenkontrast, оба в Psychologische Forschung 5,1924, с 24
ел. Самый порог различения оттенков зависит от того, каков оттенок
окружающего поля, и достигает минимума, когда фон и испытуемое (бесцветное) поле
одинакового тона. Это показал Ф.Диттмерс в Гёттингенском институте (Über
die Abhängigkeit der Unterscheidsschwelle für Helligkeiten von der antagonistischen
Induktion// Zeitschrift für Sinnesphysiologie 51,1920). Общий обзор по всей области
дает М. Эбергардт также в Psychologische Forschung, № 5. Распространение
структурной закономерности на эти факты еще не означает отказа от
физико-химического объяснения и от преимуществ люллеровской теории цветов. Структурная
закономерность является в то же время физико-химической закономерностью, о чем
едва ли нужно говорить читателю, знакомому с книгой Келера.
234. Оно совершенно не соответствует келеровскому описанию обучения
у кур (OU, с. 59-60).
235. Köhler, I,S. 101.
236. Stimmen, 97, S. 66.
237. Bühler, GE, S. 50.
238. Ср. там же.
239. Там же, с. 432, 447-448.
240. Köhler, StF, с. 51. Ср. также его обсуждение этих вопросов в Psychologies
of 1925, Worcester, 1926.
241. Köhler, StF, S. 85-86.
242. G.E.Müller. Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit und des
Vorstellungsverlauf I, Ergr-Bd. 5 d. Ztschr. 1911, S. 332 ел. и 372.
243. Там же, HI, 1913, с. 210 ел.
244. Ср. Aall. Ein neues Gedächtnisgesetz// Zeitschrift ftir Psychologie 66,1913.
S. 43 ел.
245. A. Kuhn. Ueber Einprägung durch Lesen und Rezitieren // Zeitschrift ftir
Psychologie 6S, 1914, S. 396 ел., особ. S. 443 и 473 и ел.
246. Ср. К. Lewin. Die psychisehe Tätigkeit bei der Hemmung von
Willensvergängen und das Grundgesetz der Assoziation // Zeitschrift ftlr Psychologie 77',
1917, S. 245. Более полное издание этой работы вышло под заглавием: Das
Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation// Psychologische
Forschung 1,1922, S. 191 ел. и 2,1922, S. 5 ел.
247. Заслуживает внимания экспериментальная работа, посвященная
закону частоты, проведенная на многочисленных интересных опытах с мышами:
J.A. Gengerelliio Preliminary Experiments on The Causal Factors in Animal
Learning//Journal of Comparative Psychology 8,1928, p. 435 ел.
248. A. Karsten, Psychische Sättigung // Psychologische Forschung 10, 1928,
S. 142-154.
249. Gottschaldt. Über den Einfluss der Erfahrung auf dir Wahrnehmung //
Psychologische Forschung 12,1929. S. 79.
250. K. Dunlap. A Revision of the Fundamental Law of Habit Formation//
Science 67,1928. S. 360-362.
251. H. Carr. Teaching and Learning//Journal of Genetic Psychology 37, 1930.
P. 189-219, ос. р. 210.
252. Ср. J. v. Kries. Über die materiellen Grundlagen der Bewusstseinserschei-
nungen. Tübingen und Leipzig, 1901 и Becher, GS, S. 161-327.
253. Цит. соч., с. 41-42.
254. Becher, GS, с. 284.
255. Необходимо рекомендовать работу Lashley. Basic Mechanisms in
Behavior// Psychological Review 37,1930, p. 1-24. Для более близкого ознакомления
с научным направлением Лэшли следует изучить его книгу: Brain Mechanisms
and Intelligence, a Quantitative Study of Injuries to the Brain. The University of
Chicago Press, 1929 (русское издание: Лешли К. С. Мозг и интеллект. Пер. с англ.
A.A. Нусенбаума под ред. Л.С.Выготского с предисл. И. Д. Сапира. М.; Л.,
Огиз-Соцэкгиз, 1933. — Прим ред.). О том, что взгляды Лэшли вызовут сразу
же резкий поворот в психологической мысли, говорит работа: W.S. Hunter.
A Consideration of Lashley's Theory of the Equipotentiality of Cerebral Action//
Journal of General Psychology 3. 1930, p. 455-468, однако, по моему убеждению,
автор не охватывает здесь важных положений Лэшли.
256. Поистине удивительно, с какой уверенностью американские психологи
поведения игнорируют эту критику.
257. Последние положения — по моей статье: Mental Development //
Pedagogical Seminary 32, 1925. P. 673 напечатано в Psychologies 1925. Clark Univ.
Press. 1926.
Примечания к пятой главе
258. Claparède в таких случаях говорит об «интимном знании» (savoir
familiar, франц. изд., с. 190 ел.).
259. См. указанную в прим. 113 работу, с. 6.
260. Stern, PsdK, S. 78 ел. Ср. Groos, SK, с. 34.
261. Ср. для предыдущего абзаца Stern PsdK, с. 78.
262. Ср. Bühler, GE, S. 318.
263. Там же, с. 335.
264. Stern, ЕА, с. 3 ел.; PsdK, с. 187 ел. Bühler, GE, с. 311 ел.
265. Ср. Stern, PsdK, С. 86 ел.; далее Köhler, I, с. 56-57 и его работа, цит.
в прим. 119.
266. Ср. JaenschE.R. Die experimentelle Analyse der Anschauungsbilder als
Hilfsmittel zur Untersuchung der Wahrnehmungs- und Denkvorgänge // Sitzung —
Berichte des Gesellschaft zum Beförderung der gesamte Naturwissenschaften zu
Marburg 1917, № 5 и его же Zur Methodik experimenteller Untersuchungen an
optischen Anschauungsbildern// Zeitschrift für Psychologie 85,1920. P. Busse. Über
die Gedächtnisstufen und ihre Beziehung zum Aufbau der Wahrnehmungswelt. Там
же, 84, 1920. Литература вопроса за это время значительно выросла. Сводку
см. E.R. Jaensch. Über die subjektiven Anschauungsbilder// Berichte über der VII.
Kongress für experimentellen Psychologie in Marburg. Jena, 1922. S. 3-42; O. Kroh.
Subjektive Anschuungsbilder bei Jugendlichen. Göttingen, 1922. См. также мой
критический обзор в Psychologische Forschung 3,1923. S. 124-167. Некоторые
работы, рассеянные по журналам, появились и отдельной книгой.
267. Jaensch. Sitz. Ber. S. 64, 65.
268. Busse цит. соч., с. 43 ел. К теории ср. наряду с моей работой,
указанной в прим. 270, см. также G.W. Allport. Eidetic imagery // British Journal of
Psychology 15,1924, p. 99 ел. особ. р. 114 ел. и р. 120.
269. Stern, Sp, с 862 ел.
270. Gottschaldt. Über den Einfluss der Erfahrung auf der Wahrnehmung von
Figuren// Psychologische Forschung 8,1926 и 2,1929.
271. О. Selz. Über die Gesetze des geordneten Denkverlaufs. I. Stuttgart, 1913. II.
Stuttgart 1923. См. реферат: Bonary В. в Psychologische Forschung 3,1923. S. 417 ел.
272. L.Schlüter, Experimentelle Beiträge zur Prüfung der Anschauungs- und
Übersetzungsmethode bei der Einführung in einen fremdsprachlichen Wortschatz //
Zeitschrift für Psychologie 68,1914, S. 103 ел. Ср. также раздел об ассоциации
сходства в моей книге об анализе представлений и их законов (Leipzig, 1912. S. 343-360).
273. R. Heine.Über Wiedererkennen und rückwirkende Hemmung// Zeitschrift
for Psychologie 68,1914.
274. В указанной выше книге с. 344 ел. Там же см. литературу. Ср. также:
Wertheimer, op.cit., S. 252 А. Во втором томе своей книги (см. прим. 253) Зельц
выступает против прямого репродукционного влияния сходства.
275. Ср. Watson, СР, р. 138 ел.
276. Dorothy Moseley. The Accuracu of the Pecking Response in Chicks //
Journal of Comparative Psychology 5,1925, p. 75 и ел.
277. A. Gesell. Naturation and Infant Behavior Pattern// Psychological Review
36, 1929, p. 313 ел.
278. Compayré, p. 169.
279. P. Guillaume. L'Imitation chez l'enfant. Paris, 1925. P. 76 ел.
280. Preyer. p. 154 ел., Shinn, p. 300 ел., Watson, PB, p. 275 ел. и G.C.Myers.
Grasping, Reaching and Handling// American Journal of Psychology 26,1915, p. 525 ел.
281. В указанной в прим. 50 работе, с. 121.
282. Bühler, G.E., с. 120, с. 8.
283. Там же, с. 109
284.Stern.PsdK,c.85.
285. Цит. соч., с. 123-124.
286. Цит. соч. (см. прим. 257), с. 21 и 32 ел.
287. Shinn, с. 306-307.
288. Compayré, с. 182-183. Ср. Ргеуег, с. 180.
289. Stern. Ср. с. 15. PsdK, с. 60-61. Ср. Bühler G. E., с. 216.
290. Ср. К. Lewin. Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der
Assoziation// Psychologische Forschung 2,1922, S. 120-122.
291. L.E. Ordahl. Consciousness in Relation to Learning// American Journal of
Psychology 22,1911, p. 189.
292. E.C. Rowe. Voluntary movement // American Journal of Psychology 21,
1910, p. 331.
293. W. Betz. Psychologie des Denkens. Leipzig, 1918. S. 48.
294. Цит. соч., с. 181 слл.
295. Ср. О. Kroh. Die Anfänge der psychischen Entwicklung des Kindes in
allgemein psychologischer Beleuchtung// Zeitschrift für Psychologie 100,1926. S. 38-39.
296. Köhler, J. с 139 (126) А.
297. Stern, Psdk с. 145.
298. A. Peiper. Über die Helligkeits- und Farbenempfindungen der
Frühgeburten// Archiv Kinderheilkunde, 80,1926.
299. Cp. Bühler, G. E., с 195-196.
300. W. A. Holden и К. К. Bosse. The Order of Development of Colour Perception
and Colour Preference in the Child. Archive of Ophthalmology 28,1900, p. 261 ел.
301. Stern. Cp. S. 229.
302. Штерн считает (ср. с. 229), что «для ребенка различие между пестротой
и непестротой гораздо удивительнее и важнее, чем различие отдельных цветов
между собой». Объяснение этого путем недостатка внимания и интереса, а не
сенсорными факторами, мы опровергаем в тексте.
303. Из типа протономальных (невосприимчивые к красному цвету).
304. Сходные феномены возникают на фоне порога нормальных
наблюдателей. Ср. указ. в прим. 244 работу Аккермана (с. 51-54).
305. Ср. A. Binet. Percpections d'Enfants // Revue Philosophique 30, 1890
und W.H. Winch, Color-Names of English School Childern // American Journal of
Psychology 21,1910.
306. Прейер (S. 13) также считает, что не все сводится к называнию.
307. Ср. Bühler, GE, с. 194.
308. Köhler, StF, S. 67-72. В паре AB 19 раз из 20 выбирается В, в паре ДЕ
в 21-м опыте выбирается В.
309. Stumpf, SpE, S. 20.
310. W. Peters, Zur Entwicklung der Farbenwahrnehmung nach Versuchen an
abnormen Kindern// Fortschritte der Psychologie 3,1915. S. 152.
311. Цит. соч., с 161-162.
312. Первая часть заключения также не вполне доказана, так как никакие
опыты с фиолетовым цветом не производились. Неправильный выбор
пурпурового имеет место только для пурпурового, а не для красного цвета. A priori
можно допустить аналогичное поведений в отношении фиолетового цвета.
313. A.Gelb. K.Goldstein. Über Farbennamenamnesie // Psychologische
Forschung 6,1925, S. 127 ff.
314. D. Katz. Die Erscheinungsweisen der Farben und ihre Beeinflussung durch
die individuelle Erfahrung // Zeitschrift für Psychologie. Erg. Bd. 7,1911.
315. A.Gelb. Über den Wegfall der Wahrnehmung von «Oberfläschenfarben».
См. цит. в прим. 274 сборник (также в Zeitschrift für Psychologie 84,1920. S. 247).
316. Köhler, OU, S. 39 ff. Die Farben der Sehdinge beim Schimpansen und beim
Haushuhn// Zeitschrift für Psychologie 77, 1917.
317. Brunswik E. Zur Entwicklung der Albedo-Wahrnehmung // Zeitschrift für
Psychologie 109, 1929. S. 40-115. Über Farben-Crössen-Gestalt-Konstanz in der
Jugend // Berichte über der XI Kongress für experimentelle Psychologie in Wien.
Jena 1930. S. 52-55.
В своей большой работе сам Брунсвик указывает на то, что приведенная им
константа величины для детей младшего возраста имеет только минимальное
значение. В противоположность этому он отмечает, «что мы наталкиваемся на
стабильность константы именно в малоблагоприятных условиях, которые по
меньшей мере обусловливают зрение детей в повседневной жизни» (с. 92). Это
положение мне не вполне понятно. Здесь не место подробно останавливаться на
работе Брунсвика.
Когда Г. Вернер в своей «Entwicklungspsychologie» (с. 142-143) пишет: «Мел
сохраняет свою основную окраску, несмотря на различное изменение
освещения, несмотря на то что объективно она сильно изменяется. Это зависит от
психической тенденции к изменению, от стремления видеть одинаковой основную
окраску, несмотря на изменяющееся освещение, я не могу считать это
удовлетворительным». Откуда мы знаем, что в действительности что-то изменяется?
И каким образом психика обусловливает восприятие основной окраски,
проникающей в глаз, благодаря световым лучам? Мне кажется, что такие
формулировки заслоняют сущность проблемы, т.е. того, почему мы видим вещи так, как
мы видим, т.е. с относительной константой.
Лучше всего ориентирует во всей проблеме цветовой константы
работа: А. Gelb. Die Farbenkonstanz der Sehdinge // Handbuch der normalen und
pathologischen Physiologie 12,1,1929. S. 594-677.
318. Ср.: Compayré, с. 50 ел.; Stern, PsdK, с. 83 слл.
319. Более подробно об этом в книгах Янча (ук. соч.: Erg. — Bde. 4 u. 6 der
Zeitschrift für Psychologie 1909 u. 1914) и М.Якобсона (Über die Erkennbarkeit
optischer Figuren bei gleichem Netzhautbildung und verschiedener scheinbarer
Grösse// Zeitschrift für Psychologie 77,1917). К этому присоединяются еще и очень
интересные опыты, о которых Гельб сообщил в своем докладе на VII конгрессе
по экспериментальной психологии в Марбурге. Ср.: Kongressbericht. Jena, 1922.
320. Katz. Цит. соч. С. 97.
321. Ср.: Stern, PsdK, с. 83 ел. Bühler, GE, с. 353. В другом месте (с. 154) Бюлер
высказывается гораздо осторожнее.
322. Ср.: W. Götz. Experimentelle Untersuchungen zum Problem der
Sehgrössenkonstanz beim Haushuhn// Zeitschrift für Psychologie 99,1926. S. 247 ff.
323. Ср.: Frank H. Untersuchungen über Sehgrössenkonstanz bei Kindern //
Psychologische Forschung 7, 1926. S. 137 ел. F. Beyrl. Über die Grössenaufassung
bei Kindern // Zeitschrift für Psychologie 100,1926. S. 344 ел. Н. Frank. Die
Sehgrössenkonstanz bei Kindern// Psychologische Forschung 10,1927. S. 102 ел.
324. Ср. прим. 319. Bucher u. Jaensch. Mondtäuschung und Sehgrössenkonstanz//
Psychologische Forschung 1926. S. 44 ff.
325. О необходимости раздражения глаз для развития зрительных центров
свидетельствует приведенный Клапаредом (с. 129) факт, что зрительные центры
у кошек, у которых при рождении сшивают веки, отстают в своем развитии. Ср.
также: Becher, GS, S. 177 ел.
326. Stern, PsDK, S. 89.
327. См. цит. работу П. Буссе (с. 59) и там же реферат; ср.: A. Noll. Versuche
über Nachbilder// Psychologische Forschung 8,1926. S. 3 ff.
328. W. Walker. Über die Adaptationsvorgänge der Jugendlichen und ihre
Beziehung zu der Transformationserscheinungen // Zeitschrift für Psychologie 103, 1927.
S. 370 ff.
329. Подробное изложение этого факта см. у Келера (Gestalt-Psychology,
Кар. V и VI).
330. Ср. мою статью о психологии оптических восприятий в Handbuch der
normalen und pathologischen Phisiologie 12,1931. S. 1238 ел.
331. О законе выделения в самостоятельные структуры см.: M. Wertheimer.
Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II // Psychologische Forschung 4,1923.
332. S. Baley. Mitteilung zum Problem der Gestaltauffassung bei Kindern //
Zeitschrift for Psychologie 109,1929. S. 221-228.
333. Cp. M. Hertz. Die Organisation des optischen Feldes bei der Biene //
Zeitschrift for vergleichende Psychologie 2,1929. S. 107-145, особ. S. 132.
334. Цит. по: Н. Volkelt. Fortschritte der experimentellen Kinderpsychologie.
Доклад на IX конгрессе по экспериментальной психологии в Мюнхене. (Jena
1926, S. 129 ff).
335. Ср. К. Lohnert. Untersuchungen über die Auffassung von Rechtecken //
Psychologische Studien 9, 1913. E. Lenk. Über die optische Auffassung geometrisch-
regelmässiger Gestalten // Neue Psychologische Studien I, 1926. H. Volkelt.
Kongressbericht. S. 93 ff.
336. Psychologische Forschung I, S. 41 ff. На основе приведенных в тексте
фактов я не в состоянии понять следующей фразы Ш. Бюлер: «Благодаря
эксперименту, следовательно, можно считать доказанным, что сознательные
моменты в оформленном существуют только тогда, когда сознательные
отношения восприняты в речи таким образом, что они только через речь переносятся
на оформленное» (Berichte über der XI. Kongress for experimentelle Psychologie
in Wien. Jena, 1930. S. 59). Опыты, на которых основаны эти выводы, к
обсуждению которых мы еще вернемся, в изложении оказываются совершенно
недоказательными.
337. При исследовании восприятия простых геометрических фигур метод
Шинн можно было бы заменить систематическими опытами с помощью
чертежей. По некоторым указаниям Прейера, таким образом получаются
несколько иные и более благоприятные результаты. Так, двухлетний ребенок
называет круг «тарелкой», четырехугольник — «окном», треугольник — «крышей»
и т.д. Здесь нужно еще упомянуть о том, что в опыте Гроса 5-летняя девочка
явно предпочитала правильные фигуры неправильным. Это открытие
заслуживает дальнейшей разработки. Ср.: Groos, Sp. M., с. 75. Наконец, я укажу еще на
одно, неоднократно напоминаемое мною пристрастие очень маленьких детей
(2 лет) к простым расположениям элементов.
338. К этому можно добавить следующее наблюдение Шелдерупа-Эббе:
«Даже для зоркого человеческого глаза дикари одного и того же племени
кажутся сильно похожими друг на друга; что касается животных, то их, наверное,
невозможно различить по индивидуальности. В противоположность этому утки
узнают друг друга очень легко и никогда не ошибаются ». Конечно, мы не можем
это объяснить «тонкостью их зрительного восприятия формы».
339. В. Schereschewsky. Versuche über die Entwicklung des Bilderverständnisses
beim Kind// Zeitschrift für Kinderforschung 35,1929. S. 477.
340. H. Volkelt, Neue Untersuchungen über die kindliche Auffassung und
Wiedergabe von Formen // Sondere Abteilung aus Berichte über der IV Kongress für
Heilpädagogik in Leipzig. Berlin, 1929. S. 44.
341. Guillaume, цит. соч., с. 132.
342. Ср. Levy-Bruhl, с. 188-189.
343. По Stern, PsdK, с. 294.
344. Stern, PsdK, с. 146 ел. Ср. также W. Stern,Über verlagert Raumformen//
Zeitschrift für angewandte Psychologie 2,1909. Bühler, GE, S. 156.
345. Cp. F. Oetjen. Die Bedeutung m. der Orientierung des Lesestoffs für das Lesen
und der Orientierung von m. sinnlosen Formen für das Wiedererkennen derselben//
Zeitschrift für Psychologie 71,1915. S. 321 ff.
346. K.E. Pechuël-Loesche. Volkskunde von Loango. Stuttgart, 1907. S. 76-77.
347. Cp. Bühlcr, GE, S. 386-387 (прим. 293, с. 50 ел).
348. E. Brunswick. Über Farben-, Grössen- und Gestalt-Konstanz in der Jugend//
Berichte über der XI. Kongress experimentelle Psychologie in Wien. Jena, 1930.
S. 52 ff.
349. Wittmann.Über das Sehen von Scheinbewegung und Scheinkörpern. Leipzig,
1921. Tafeln 5 und 6.
350. Cp. Wittmann. Op. cit. S. 17 ff.
351. Bühler, GE, S. 267.
352. Цит. соч., с. 162-171.
353. Ср. Köhler, PhG, S. 253.
354. Ср. Wertheimer M. Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt //
Psychologische Forschung 4,1923. S. 333.
355. Cp. Stern, PsdK, S. 81-82. Наша точка зрения, разумеется, значительно
отличается от защищаемой там.
356. Watson, PB, с. 278 ел.
357. C.L.Hull. Quantitative Aspects of the Evolution of Concepts //
Psychologische Monatsschrift 18,1920. S. 4.
358. К. Lewin. Kriegslandschaft// Zeitschrift für Psychologie 12,1917.
359. Cp. Bühler, GE, S. 219-220. Stern, Sp, S. 155,269.
360. Franken, op. cit., S. 63. Речь идет об отдельном опыте со шнуром, при
котором цель была подвешена высоко над ступенькой лестницы. Маленький
ребенок сначала отказался, но осуществил решение после того, как более старший
ребенок проделал это перед ним.
361. Bühler К., GE, S. 82 ff, AG, S. 50 ff.
362.1, с. 13 (10)
363.1, с. 193 (176). Ср. также выше гл. I.
364. Preyer, S. 231. Beobachtungen über primitivste Intelligenzleistungen aus
dem ersten Lebensjahr bei Stern, PsdK, с 55 ел.
365. AlpertA. The Solving of Problem-Situations by Preschool Childern //
Teachers College. Columbia University Contributions to Education, № 323.
366. Cp. Thorndike, AI, p. 58 и S. Berry. An Experimental Study of Imitation in
Cats//Journal of Comparative Neurology and Psychology 18,1908.
367. Cp. Morgan, с 187; Stern, PsdK, с 62; Groos, SK, с 52; Thorndike, EP,
с 108 ел. В последнее время Кро снова упоминает об «инстинктивно
обоснованной тенденции к подражанию». Ср. О. Kroh. Die Anfänge der psychischen
Entwicklung des Kindes in allgemein psychologischer Beleuchtung // Zeitschrift
for Psychologie 100,1926. S. 333. Марта Гернсей, которая страдает отсутствием
понимания принципов гештальт-теории, пишет следующее: «Коффка
объясняет их (ранние подражательные реакции) с помощью понятий
гештальт-теории и должен поэтому считать установленным существование органической
способности подражания». При этом она приходит к следующему
заключению: «Подражание нельзя рассматривать как специальный инстинкт.
Несмотря на это, его можно причислить к врожденным задаткам, как явление,
сопровождающее напряжение внимания, эмоции и социальные инстинкты».
Мне непонятно, каким образом врожденный задаток может проявиться как
явление, сопровождающее напряжение внимания. Дальнейшие комментарии
к этой цитате я считаю излишними. Ср.: М. Guernsey. Eine genetische Studie
über Nachahmung // Zeitschrift for Psychologie 107, 1928. S. 105 ff. Цитата по
с. 135 и 178.
368. Ср. Stern, PsdK, с. 60, Sp, с. 148 ел.; J. Mark Baldwin. Die Entwicklung des
Geistes beim Kinde und bei der Rasse. По 3-му англ. изд. в нем. пер. Berlin, 1898,
с. 124 ел.
369. Ср. Ргеуег, с. 56; Stumpf, Tonpsychologie 11883, с. 263 ел. II (1890) с. 553 ел.
370. Ср. Ргеуег, с. 58.
371. Stern, PsdK, с. 107.
372. Stern, Sp., с. 153.
373. Claparéde, с. 144-145.
374. В соответствии со смыслом книги Келера PhG.
375. Ср. Köhler, PhG.
376. Ср. Moore, с. 18.
377. Интересное подтверждение этого положения мы находим в поведении
сына Штумпфа, который после нескольких лет употребления своего
собственного языка, причем он не говорил ни одного слова из обычной речи, вдруг
«вполне безупречно» повторил четыре коротких молитвы. Штумпфа это
явление поразило; «Замечательно то, что он произносил эти слова почти
безошибочно, после того как до этого времени он, можно сказать, разговаривал на
иностранном языке». Ср. Sp, S. 22.
378. Ср. выводы Гроса, Sp.M, S. 367 ff.
379. L'Imitation, I, С, p. 48.
380.1, p. 176 und Ped. Sem. 321925, p. 686 ff (Psychologies of 1925, p. 158).
381. PsdK, S. 108.
382. Ср. сопоставление у Штерна (SP, S. 158 ff, S. 175 ff).
383. Stern, GE, S. 392 ff. и, как мне кажется, проще и яснее в AG, S. 58 ff.
384. Stern, PsdK, 304. Sp, S. 178.
385. Bühler K., AG, S. 59.
386. Cp. Sully, p. 71.
387. Ср. Lévy-Bruhl, с. 407 ел. и 198 ел. и сходное наблюдение над детьми
у Sully, p. 70-71.
388. Sully, p. 46.
389. Ср. R.M. р. 38 ff., 61 ff., 64.
390. Е.М. v. Hornbostel. Laut und Sinn. Hamburg, 1927. S. 1927.
391. Stern, PsbK, с 121.
392. Moore, с 125; Stumpf, SpE, с 25. Ср. выводы Селли об окрашенном
слухе у детей (с. 30 ел.). Кроме того, Т. Фишер экспериментально исследовал
образование названий (Ueber das Entstehen und Verstehen von Namen// Archiv für
der gesamte Psychologie 42 und 43, 1921-1922) и Д. Узнадзе (Ein experimenteller
Beitrag zum Problem der psychologischen Grundlagen der Namengebung //
Psychologische Forschung 5,1924). Фишер давал выучивать слова и названия для
тайного языка, а также для портретов. Узнадзе давал выбирать наиболее
подходящее название из заранее приготовленного списка бессмысленных слов для
шести бессмысленных рисунков. Оба автора получили результаты, весьма
показательные для затронутой здесь проблемы. Узнадзе, в особенности, показал,
что в общем слово не случайно присоединилось к предмету и становилось его
названием, но вследствие того, что данное соединение зависело от нескольких
факторов, из которых решающее значение имели объективные условия, а
именно: а) структурное сродство — переживание соответствия между воспринятой
индивидуальной структурой звукового комплекса и предмета; б)
эмоциональный момент — эмоциональное соответствие; в) степень глубины, основанная на
общем, трудно выразимом впечатлении (с. 38 ел. Ср. также Fischer, ibid, Bd. 43,
S. 34 и выводы Штерна (PsdK, S. HI)).
393. Stern, Sp, с 172 ел. Ср. Ргеуег, с. 201 ел.; Moor, с. 140,141 и др.
394. Bühler К., GE, с. 393, AG, 359.
395. Moor, с. 123.
396. Stem CL. и W., Sp. с. 172.
397. Ср. прим. 360, в особенности показанные Узнадзе факторы.
398. Ср. G. V. Wartensleben. Die christliche Persönlichkeit im Idealbild. Kempten
u. München, 1914. S. 2-3.
399. Stumpf, SpE, c. 6 ел.
400. Sully, с. 27.
401. Цит. выше (см. прим. 305), с. 600 ел.; Ср. Bühler, с. 425 ел.
402. С. 204.
403. Bühler К. GE, с. 234.
404. Bühler К. GE, с. 415-416, AG, с. 143 ел.
405. Ch. Bühler. Sinn und Gestalt. Ergebnisse eines Kinderpsychologischen
Experiments // Berichte über der XI Kongress für experimentelle Psychologie in
Wien. Jena, 1930. S. 56-60.
406. См. W. Köhler. Gestalt-Psychology, Kap. VII.
407. R.M. Ogden. Psychology and Education. N. Y., 1926. P. 124-127.
408. Мишот посвятил этой проблеме несколько интересных тахистоско-
пических опытов. Он различает «интуитивную организацию» и «сигнифи-
кацию» и устанавливает, что приобретение значения нельзя рассматривать
как простое прибавление к внешней форме. Ср. A. Michotte. Report sur la
Perception des Formes// VIII International Congress of Psychology. Groningen,
1927. P. 266 ff.
409. На основе своих опытов и наблюдений Пиаже очень энергично
выступает против эмпиризма. СР с. 288 ел. Штерн и Бюлер занимают такую же позицию.
410. Stern, PsdK, с. 212, PsdK, с. 305, ср. также Е. А. с. 9,16.
411. Bühler, GE, с. 137,
412. Там же.
431. Ср. С. Guillet. Retentiveness in Child and Adult // American Journal of
Psychology 20,1909, с 318 ел.
414. Cl. u. W. Stern, Sp, 163; ср. к дальнейшему: там же, с. 164 ел.
415. Werner. Entwicklungspsychologie. S. 174.
416. Huang, Childern's Explanations of strange Phenomena // Psychologische
Forschung 14,1930. S. 63-182.
417. По вопросу о теоретических психологических обоснованиях
динамической причинности читатель может обратиться к книге: Köhler. Gestalt-
Psychology, гл. X.
418. Ср. J. Piaget. Les Traits Principaux de la Logique de l'enfant // Journal de
Psychologues 21,1924, p. 48 ел. цитата на с. 75. Claparéde, франц. изд., с. 522.
419. М. Wertheimer.Über das Denken der Naturvölker. Zahlen und Zahlgebilde//
Zeitschrift für Psychologie 60, 1912. Теперь также в отдельном издании,
указанном в прим. 99.
420. Цит. выше соч., с. 329.
421. Bühler К., GB, с. 205-206.
422. Stern Cl. и. W.Sp., с. 250.
423. Wertheimer. Цит. выше соч., с. 327.
424. Stern, Sp, с. 248-249. На др. языках совершенно также.
425. Stern, Sp. с. 251, PsdK, с. 309.
426. Оба действия могут быть заторможены одно независимо от
другого. Такой случай, когда возможность образования группы была совершенно
утрачена, очень подробно исследовал Бенари и изложил с обсуждением всех
теоретических возможностей. Ср. W. Benary. Studien zur Untersuchung der
Intelligent bei einem Fall von Seelenblindheit // Psychol. Anal, usw., hrsg. v. Gelb
und Goldstein VIII. Psychologische Forschung 2, 1922, с 209 ел. Об
экспериментальных исследованиях детского счета см. Stern, PsdK, с. 388 ел.
Примечания к шестой главе
427. Ср. Ed. Spranger. Psychologie des Jugendalters. Leipzig, 1924. S. 82 ff.
428. Cp. Bühler, GE, S. 325.
429. С 35, 43.
430. Sully, с. 27.
431. Lévy-Bruhl. Einleitung und I. Kapitel. К. Th. Preuss. Die Geistige Kultur der
Naturvölker. Leipzig; Berlin, 1914.
432. Cp. Volkelt, с 26, 43.
433. Bühler К., GE, с. 407.
434. J. Piaget. Op. cit., Il, p. 335.
435. Ср. Preyer, S. 374 ff. Ср. также наблюдения Келера над шимпанзе (Zur
Psychologie der Schimpansen// Psychologische Forschung 1,1921, S. 35 ел.).
436. С. 89, 74.
437. Stern. PsdK, с. 217.
438. Ср. Levy-Bruhl, II, с. 126 T.
439. Выше цит. соч., с. 53.
440. А. М.Е. Smith. An Investigation of the Development of the Sentence and the
Extent of the Vocabulary in Young Childern// University of Iowa Studies: Studies in
Child. Welfare, 1926.
441. По Lévy-Bruhl, с. 62, 59,124 ел. Цит. на с. 127. Н. Volkelt. Fortschritte der
experimentelleKinder-Psychologie//BerichteüberderIX Kongressftlrexperimentellen
Psychologie in München. Jena, 1926. S. 109 ff. Idem. Neue Untersuchungen über die
kindliche Auffassung und Wiederaufgabe von Formen// Berichte über der 4. Kongress
für Heilspädagogik in Leipzig. Berlin, 1929. S. 43 ff., 58 ff.
442. Groos K. SpM, С 501. Ср. Всю работу с этим вопросом с. 492 ел., 498 ел.,
также SpT, с. 317, SK, с. 205; Bühler, GE, с. 326; Stern, PsdK, с. 217 ел.
443. Выше цит. соч., с. 93.
444. Выше цит. соч., с. 51 ел., 91 ел.
445. Ср. Piaget, СР, р. 142 ff., 274 ff., RM, p. 112 ff.
446. Claparède неустанно подчеркивает это, делает педагогические
выводы, защищая их от установившихся предрассудков (ср., напр., франц. изд.,
с. 492 ел.).
447. С. 44.
448. Stumpfe, SpE, с. 18,22,16.
449. Groos К., SpM, с. 500-501.
450. Groos К., SpT, с. 310. Ту же мысль Гроса уже ранее высказывал
Спенсер. Однако Грос пришел к своей теории независимо от Спенсера. Ср. SpT, с. 69,
SpM, с. 484 ел.
" 451. Groos К., SpT, с. 1 ел., SpM, с. 467 ел., SK, с. 64 ел.
452. Bühler К., GE, с. 454-455.
Оглавление
Проблема развития в структурной психологии (Л.С. Выготский) 5
Критическое исследование 5
Основы психического развития. Предисловие к первому изданию .. .59
Предисловие к русскому изданию 62
Глава 1. Проблема. Методика 63
1. Идея развития в психологии 63
2. Предварительное определение задач психологии.
Перенесение их в детскую психологию. Мать и дитя.
Наблюдение психологических процессов и их внешних
проявлений 64
3. Функциональные и описательные понятия. Три рода
наблюдений. «Описательная» сторона поведения 67
4. Психология поведения. Критерии сознания 70
5. Критика поведенческой точки зрения.
Описание внешнего поведения и его значение
для физиологической теории 72
6. Нервная система. Сознание 75
7. Разделение психологических методов 76
8. Методы детской психологии 81
9. Литература 84
Глава 2. Общие концепции и факты развития 86
1. Созревание и обучение 86
2. Функция детства S7
3. Параллели из истории развития 88
4. Темп и ритм развития 93
5. Наследственность и среда 94
6. Психическое и физическое развитие 95
Глава 3. Исходный пункт развития. Поведение
новорожденного и примитивные формы поведения 100
1. Общий обзор поведения. Физиологические
коррелаты 100
2. Импульсивные движения 103
3. Схема рефлексов 104
4. Рефлексы новорожденного. Проблема движений глаз .. .106
5. Сосание. Общая характеристика инстинктивных
движений 116
6. Инстинкты как рефлекторная цепь. Теория
Торндайка 120
7. Дополнение к теории инстинктов.
Преодоление механико-виталистической альтернативы.
Инстинкты и рефлексы 125
8. Инстинкты, рефлексы и врожденные формы
поведения 135
9. Инстинкты новорожденного. Общие замечания
об инстинктах 143
10. Выразительные движения 146
11. Чувствительность новорожденного 149
12. Пластичность как врожденное свойство 151
13. Феномены новорожденного. К постановке проблемы
сознания. Структурные феномены 154
Глава 4. Специальные факты психического развития.
Постановка проблемы. Проблема образования новых
форм поведения 168
1. Четыре области человеческого развития 168
2. О созревании и обучении. Две проблемы обучения:
память и успешность 172
3. Принцип проб и ошибок. Опыты Торндайка
и механистическая теория обучения 174
4. Критика теории Торндайка. Даже в своих попытках
животные не ведут себя бессмысленно 182
5. Сравнительные опыты Ругера над людьми 190
6. Разумное обучение животных. Опыты Келера
с шимпанзе 193
7. Критика опытов Келера 211
8. Теория ступеней Бюлера и принцип структурности 221
Глава 5. Специальные факты психологического развития.
Проблема памяти. Обучение ребенка 229
1. Память и ее первые проявления 229
2. Законы памяти 234
3. Моторное обучение: ходьба, ее созревание
и обучение 237
4. Продолжение. Хватание и осязание. Моторные
структуры 240
5. Развитие способности различения цветов. Сенсорное
обучение 250
A. Речевые методы 250
B. Методы без прямого участия речи 250
6. Продолжение: пространственные факты 264
7. Сенсомоторное обучение. Навык и интеллектуальная
деятельность 278
C. Сенсомоторное обучение 278
8. Продолжение. Проблема подражания 283
9. Идеаторное обучение. Проблемы речи и мышления 292
10. Категория мышления. Субстанция и причинность 300
11. Продолжение. Числовые структуры 308
12. Развитие детского поведения 310
Глава 6. Ребенок и его мир 313
Список книг, на которые имеются ссылки в примечаниях 327
Примечания 329
Примечания к первой главе 329
Примечания ко второй главе 330
Примечания к третьей главе 331
Примечания к четвертой главе 339
Примечания к пятой главе 344
Примечания к шестой главе 352
Научное издание
Коффка Курт
Основы психического развития
Курт Коффка ( 1886-1941 ) — известный немецко-
. американский психолог. Наряду с Максом
Вертгеймером и Вольфгангом Келером считается
одним из основателей гештальтпсихологии.
Занимался практическими аспектами
использования принципов гештальтпсихологии
в области восприятия, обучения, развития
психики, социальных взаимоотношений.
Мышление рассматривал как преобразование
структуры наглядной ситуации. В работе «Основы
психического развития» (1921) Коффка применил
методы гештальтпсихологии для исследования
психического развития ребенка. В основу данной
книги положено первое издание труда на русском
языке, увидевшее свет в 1934 году, со вступительной
статьей /1.С. Выготского, помогающей читателю
войти в круг основных проблем гештальттеории
и понять ее место среди развивавшихся в то время
направлений психологии.