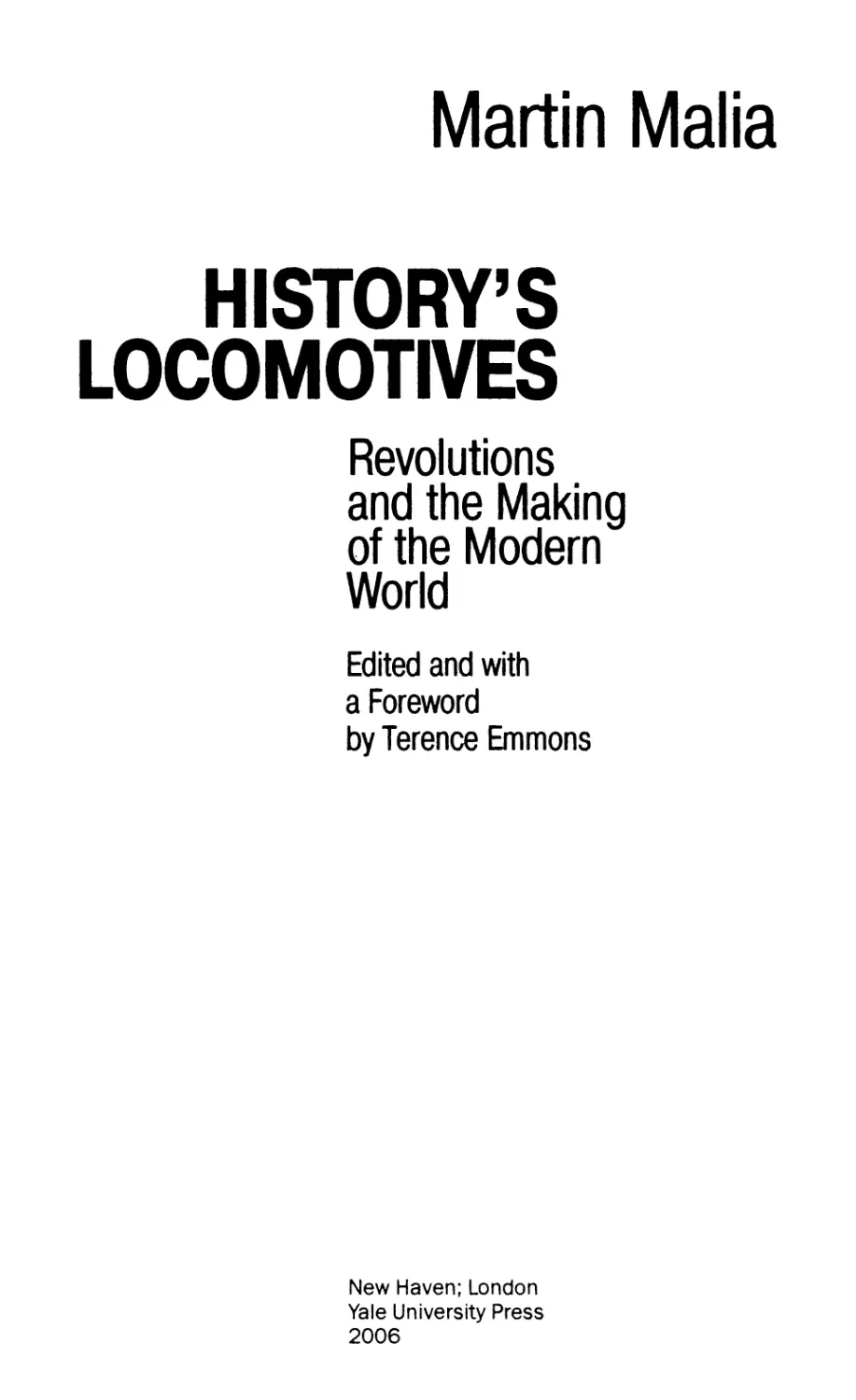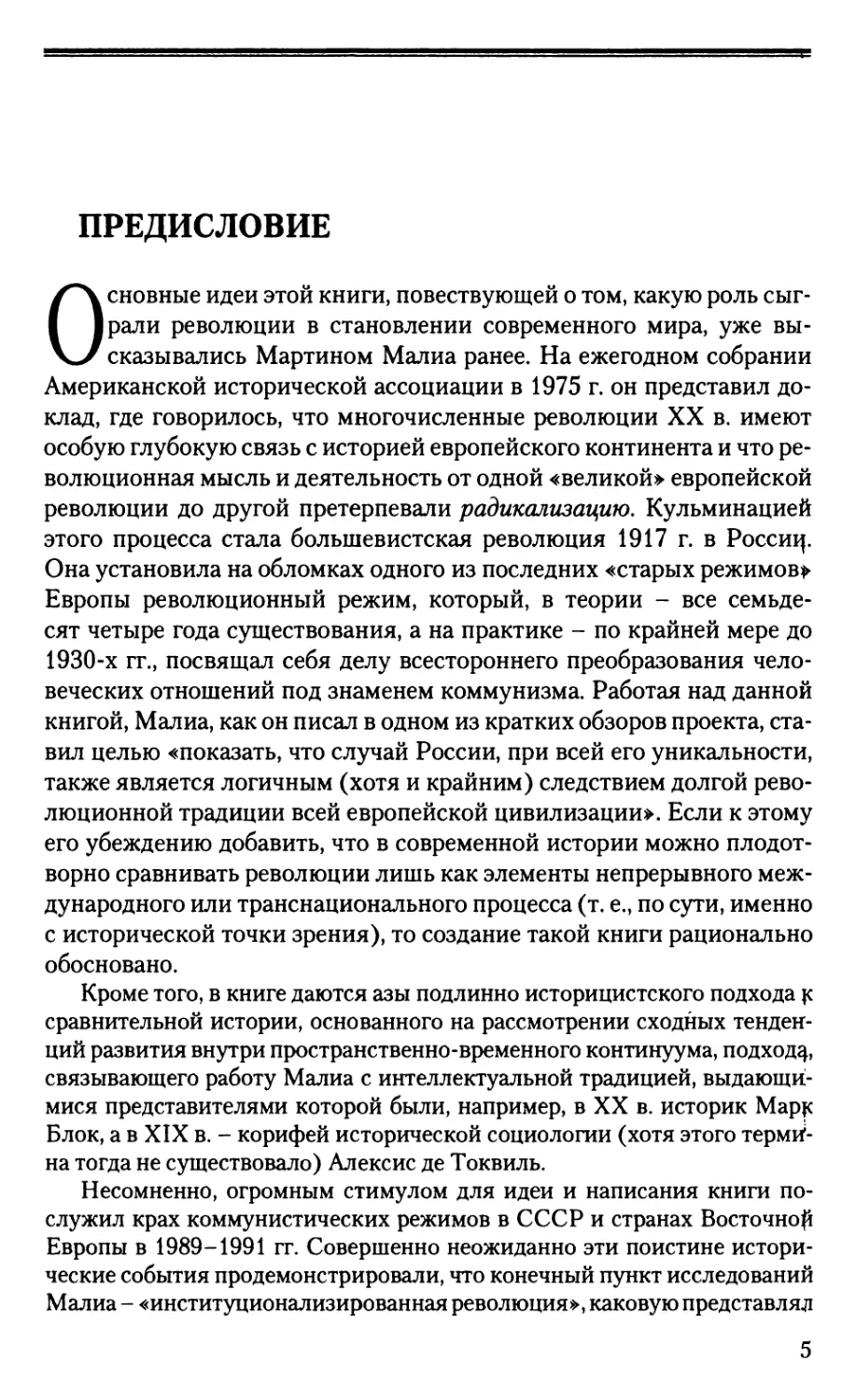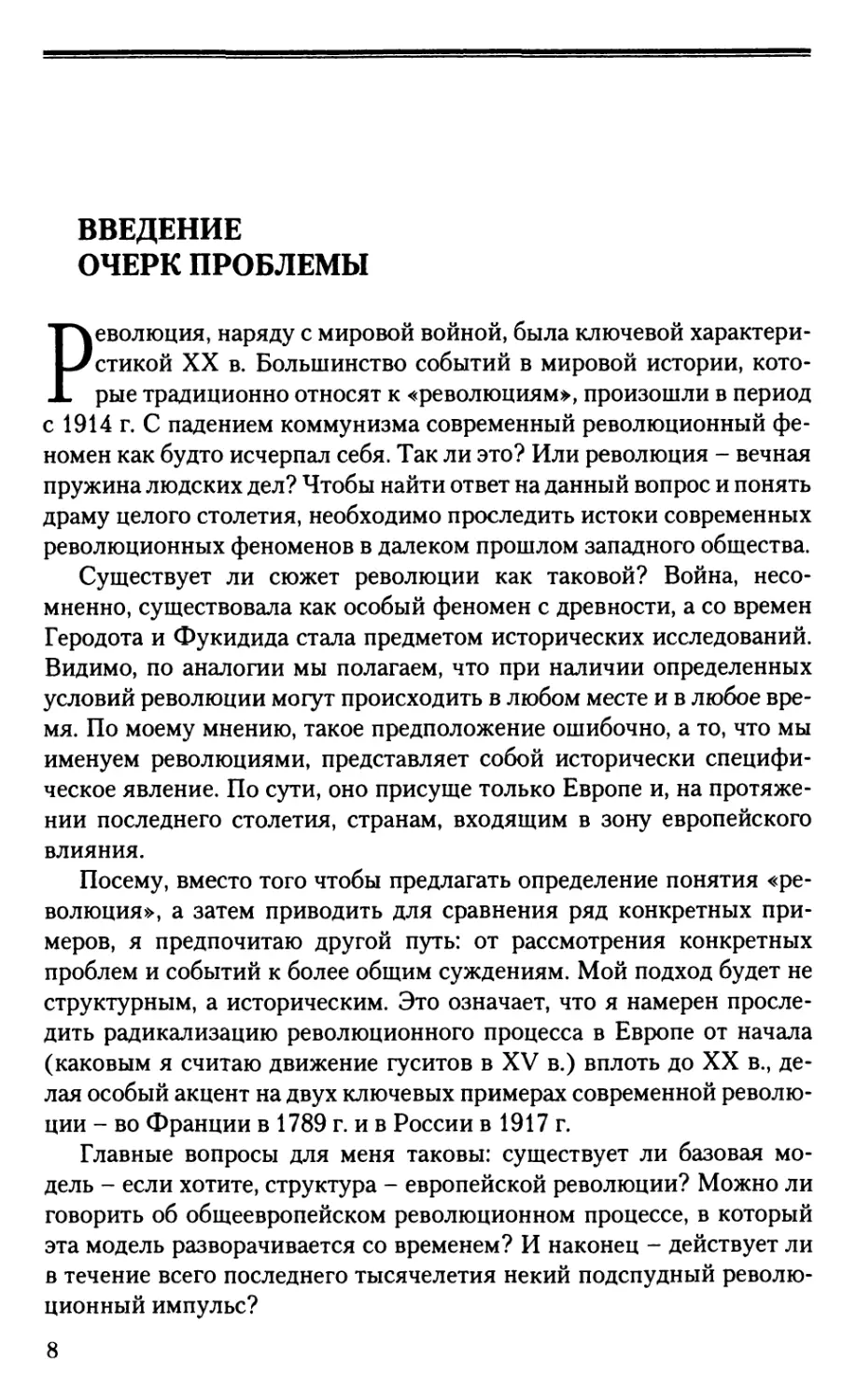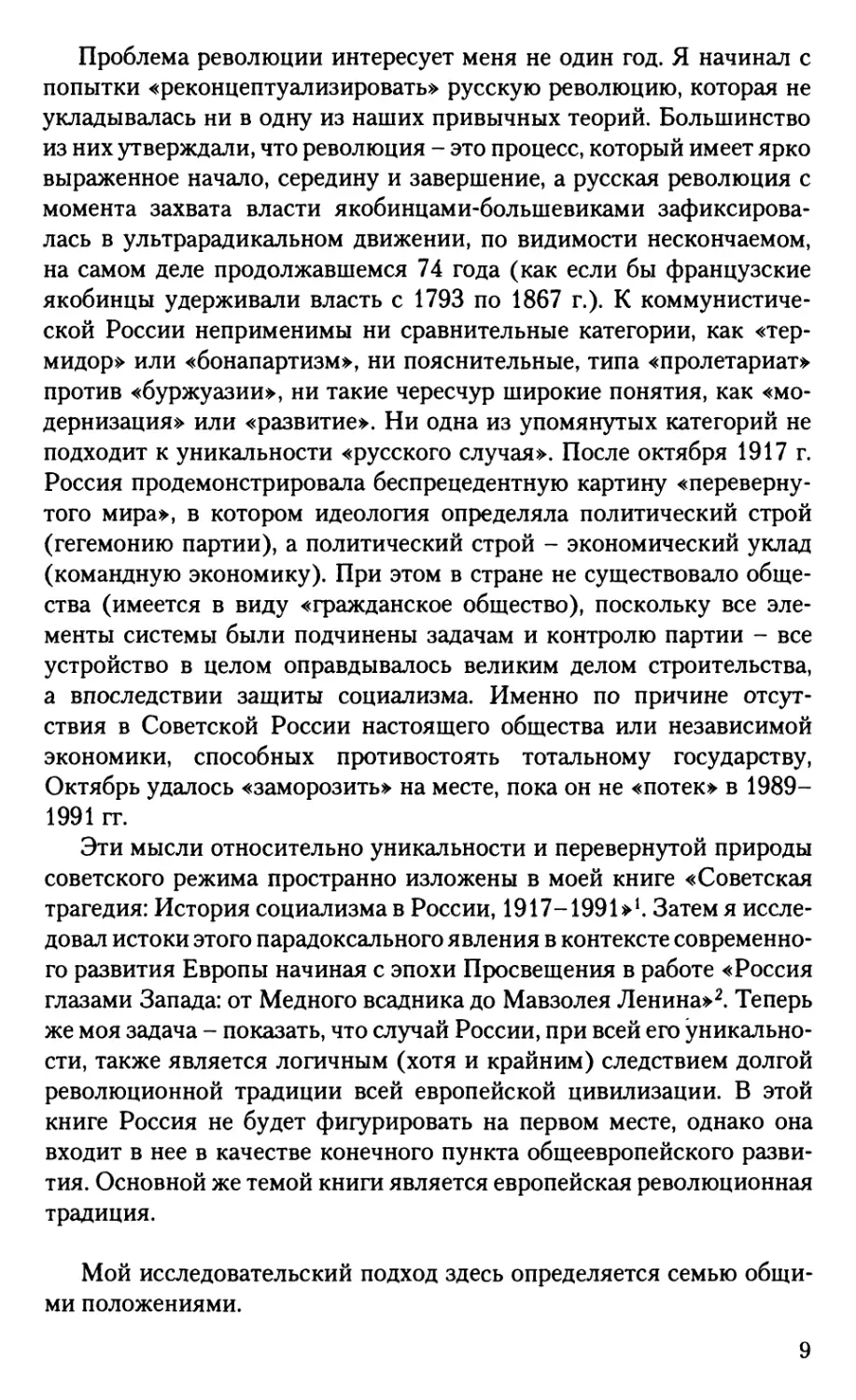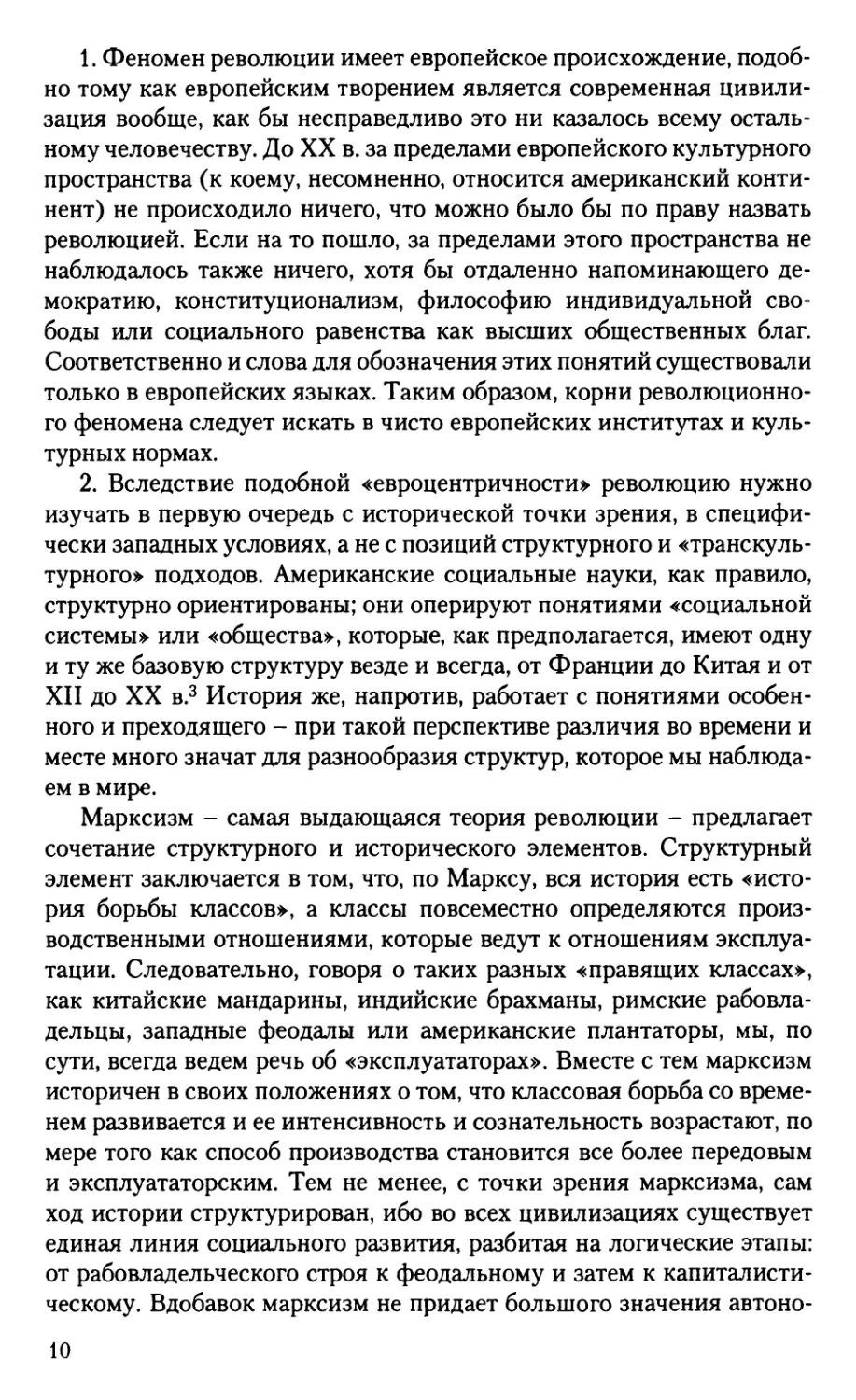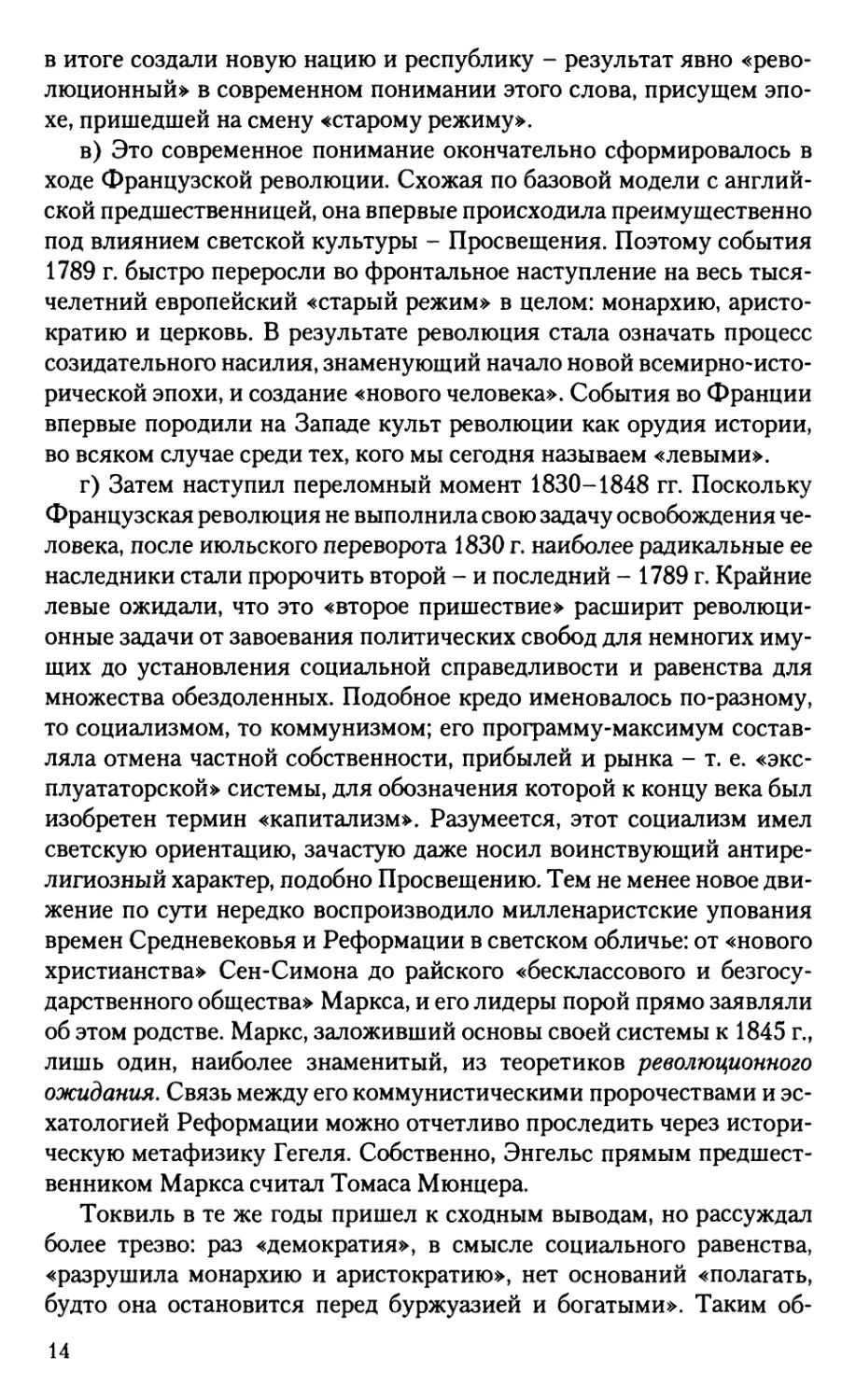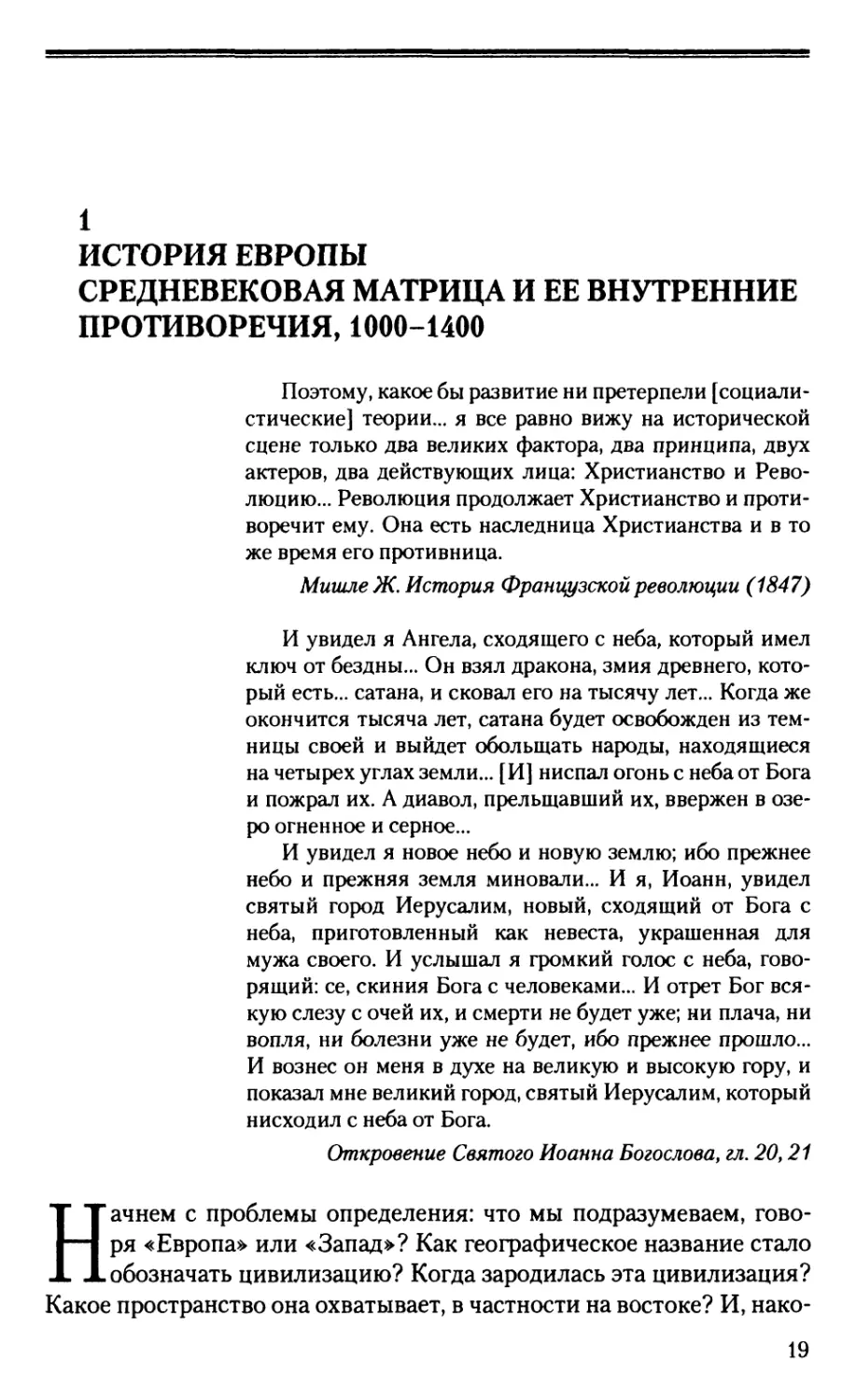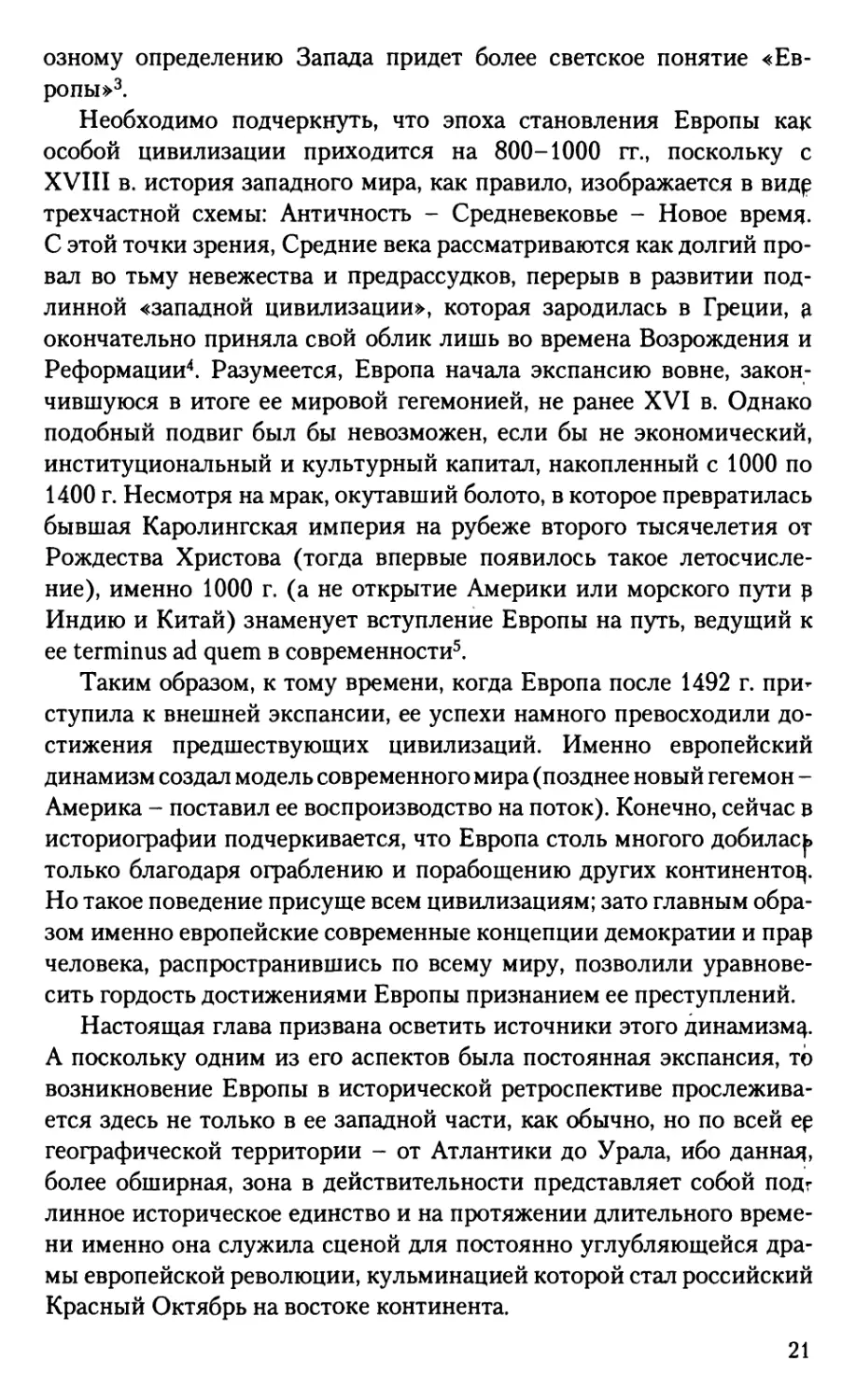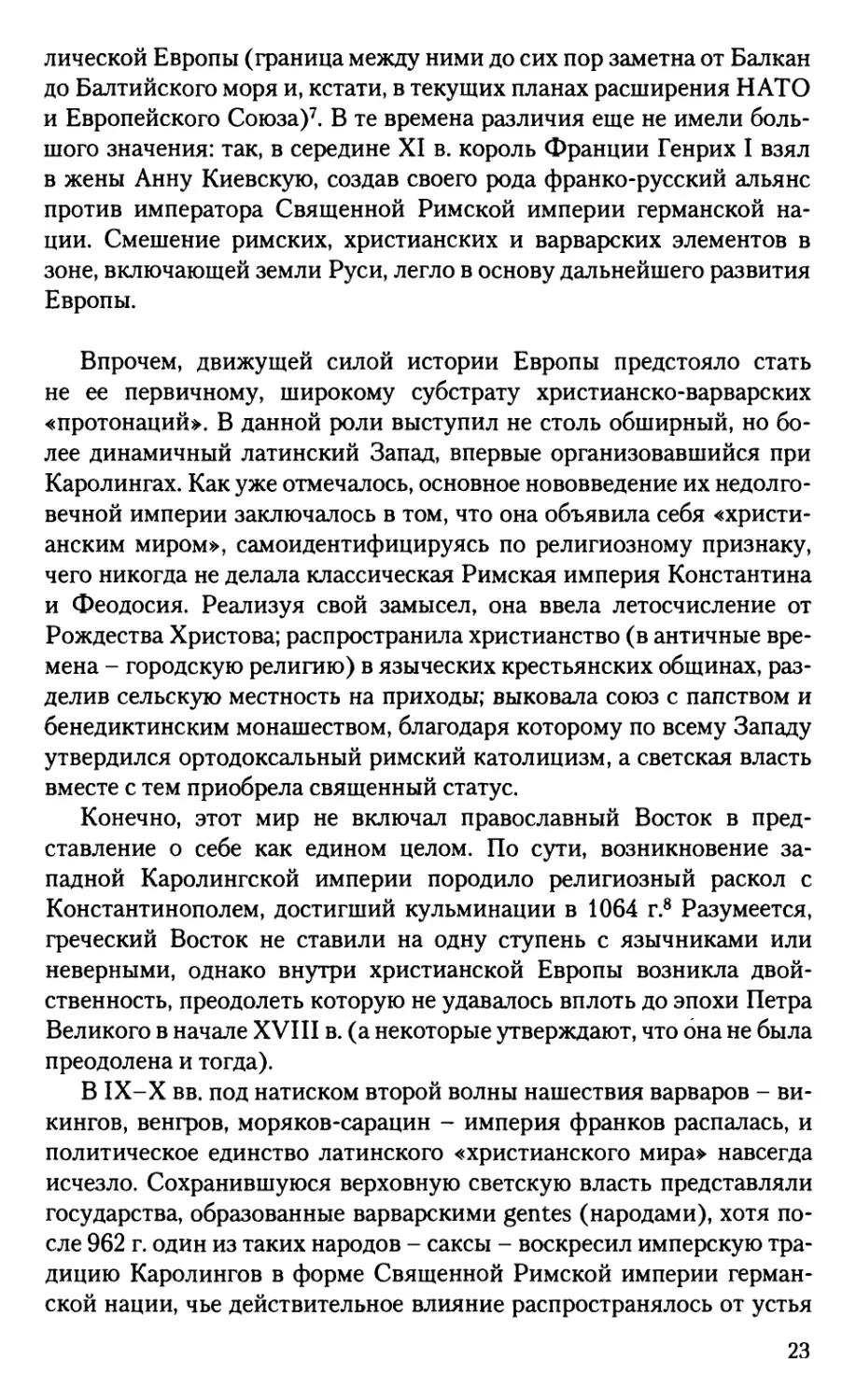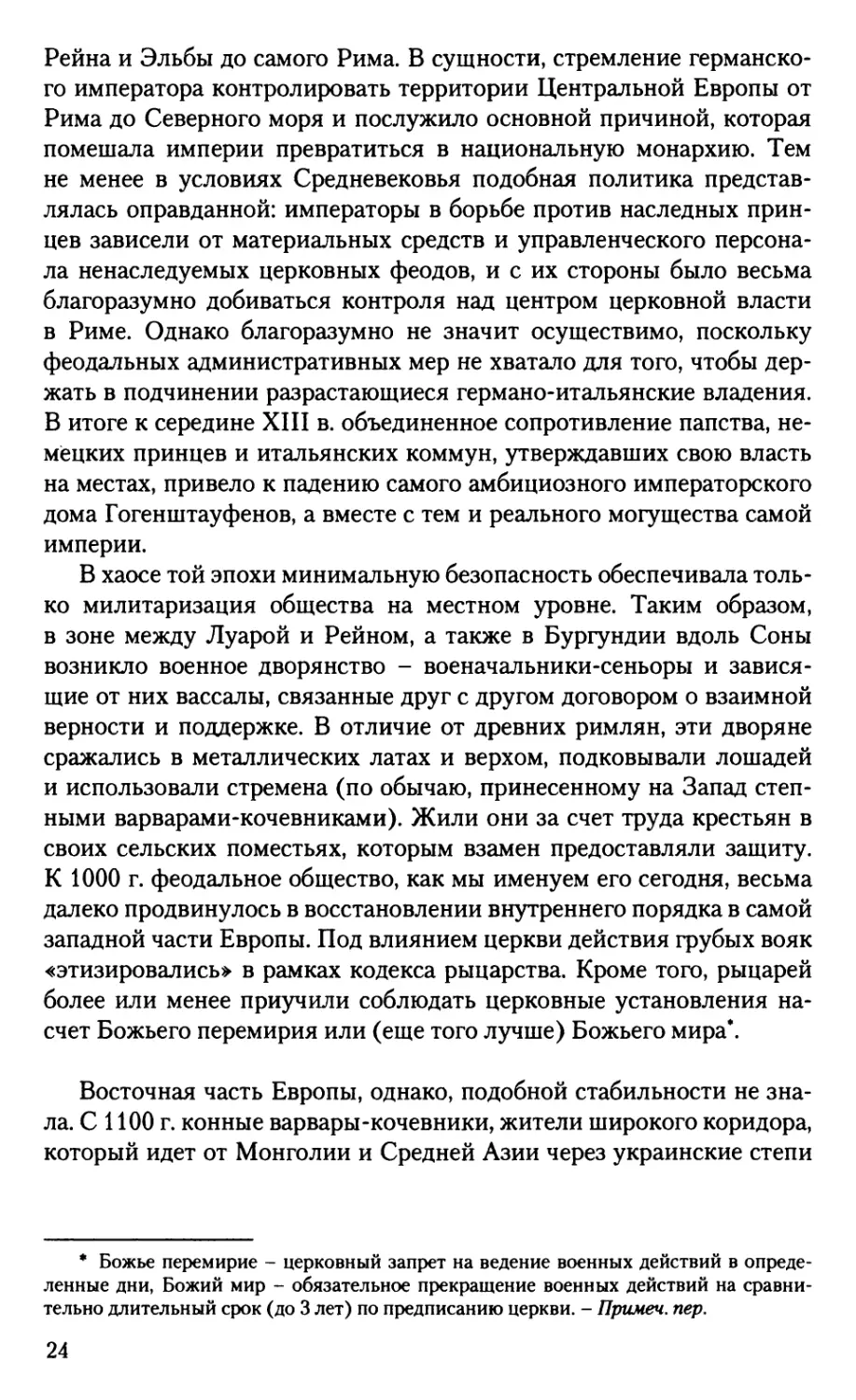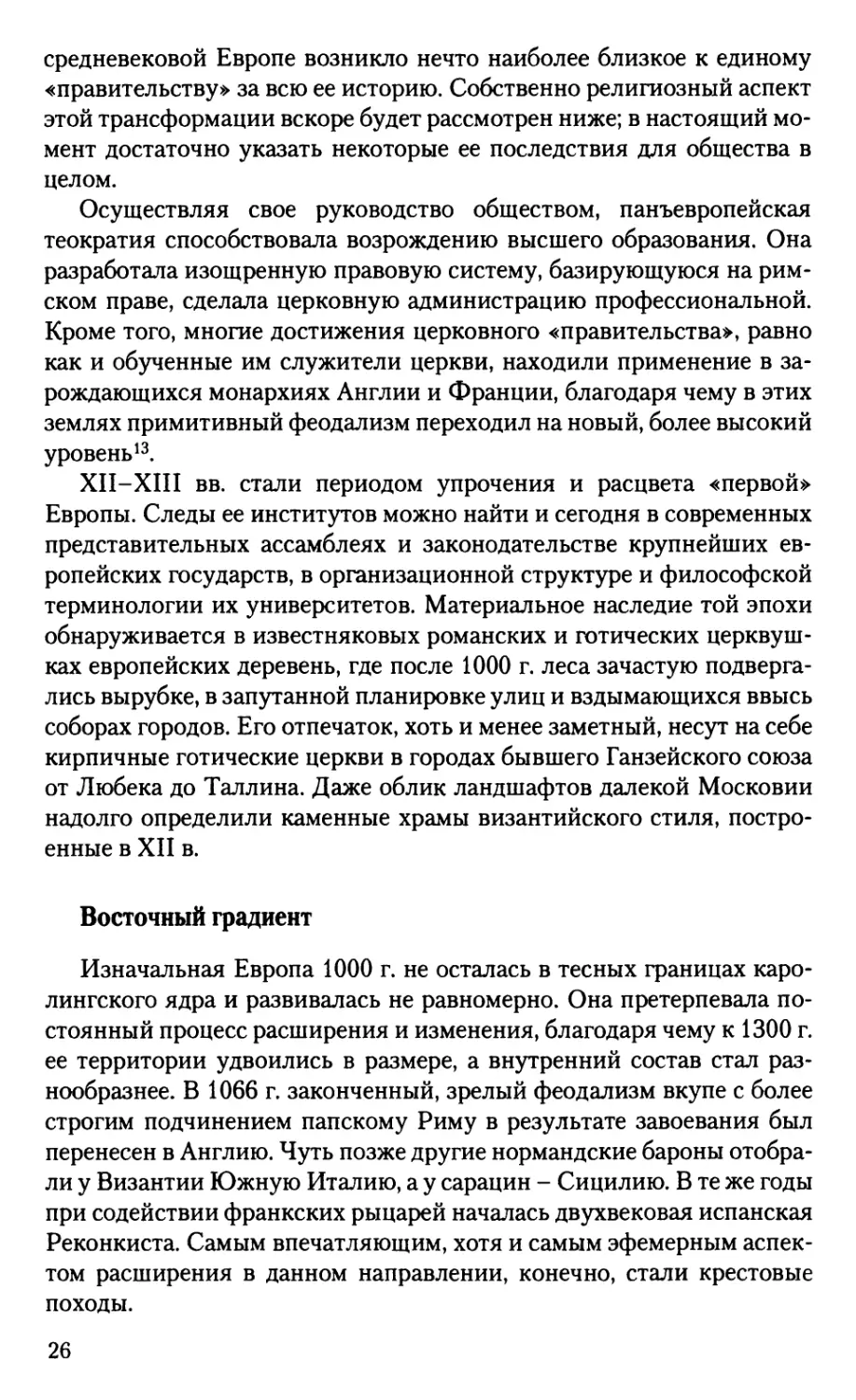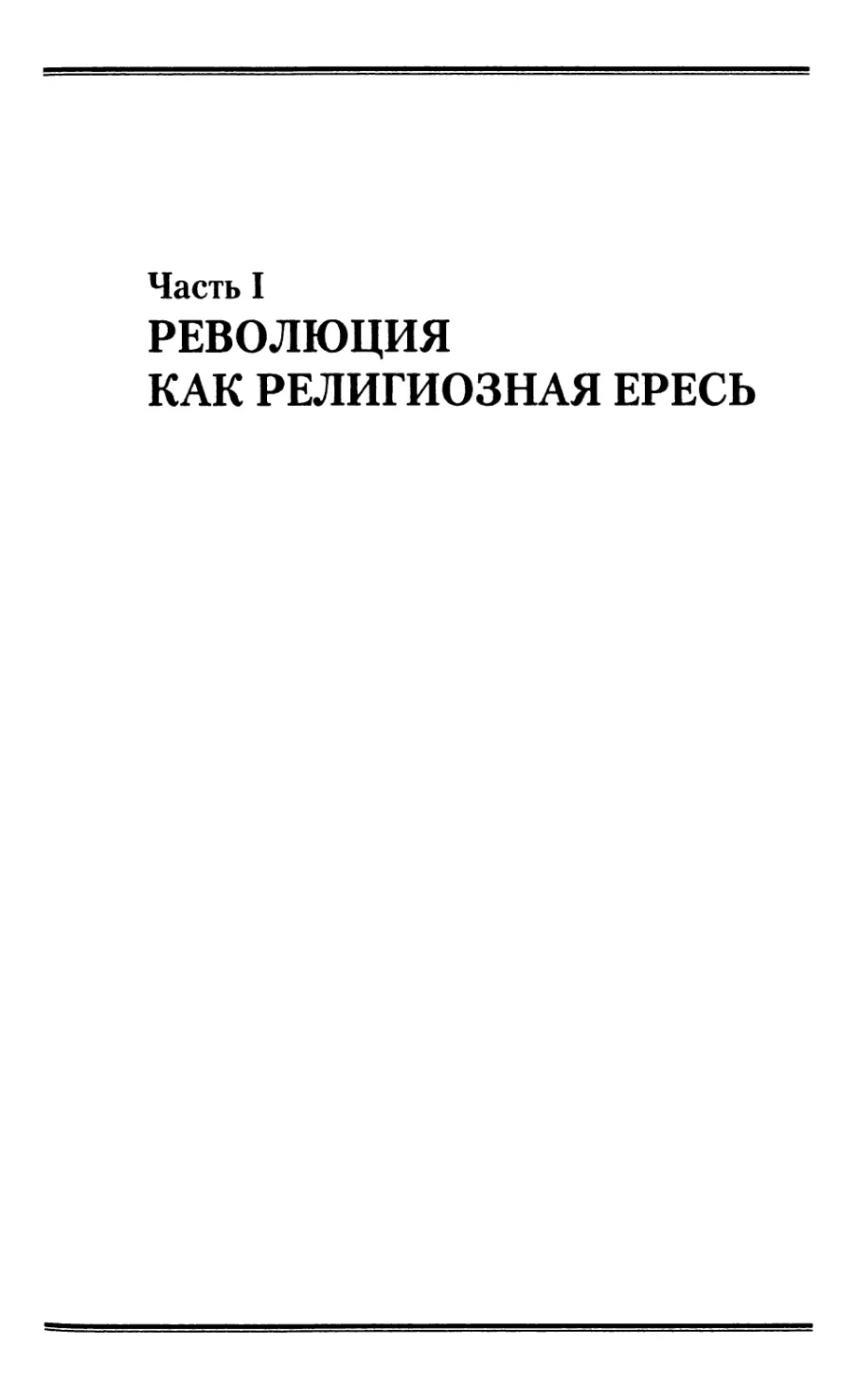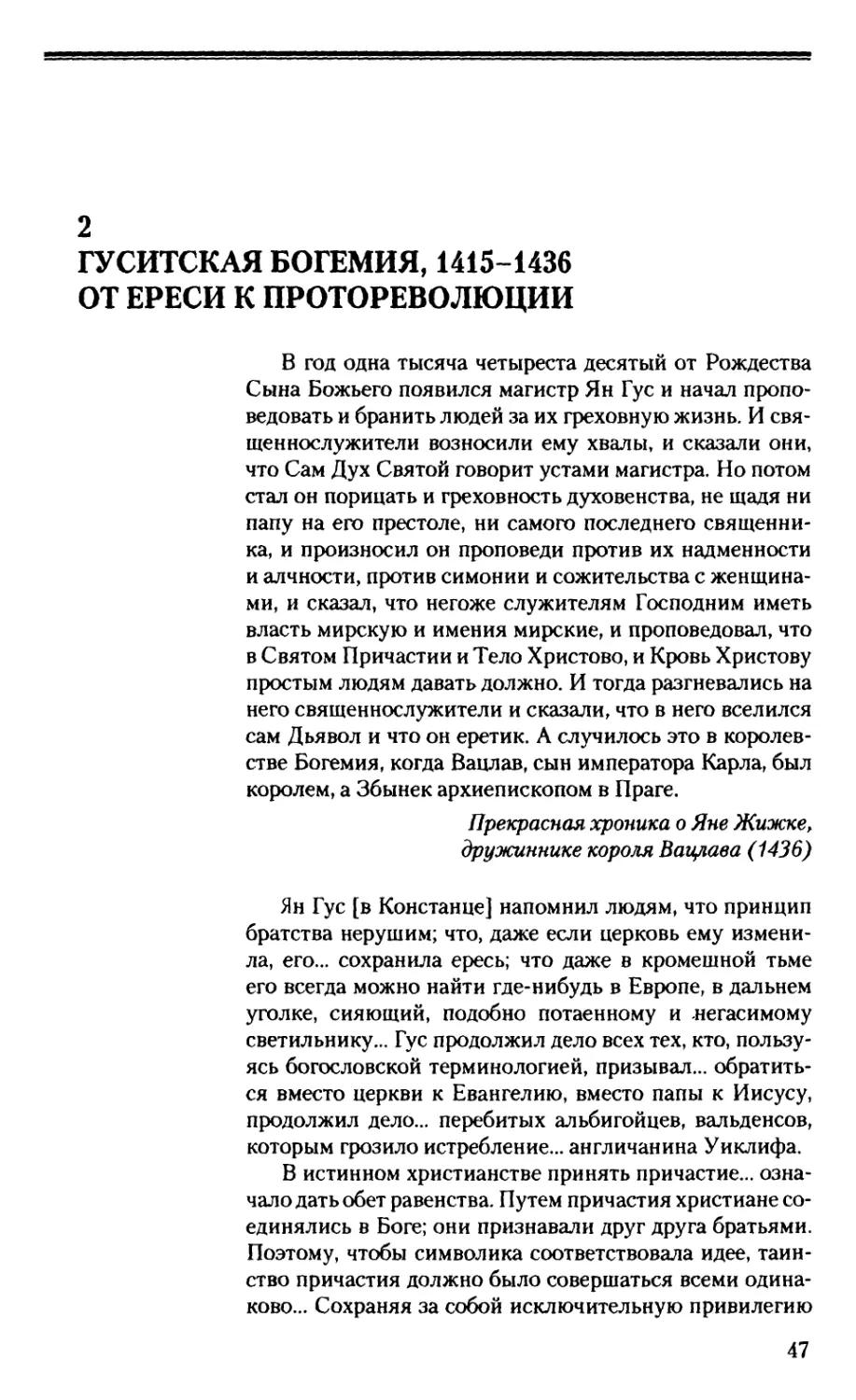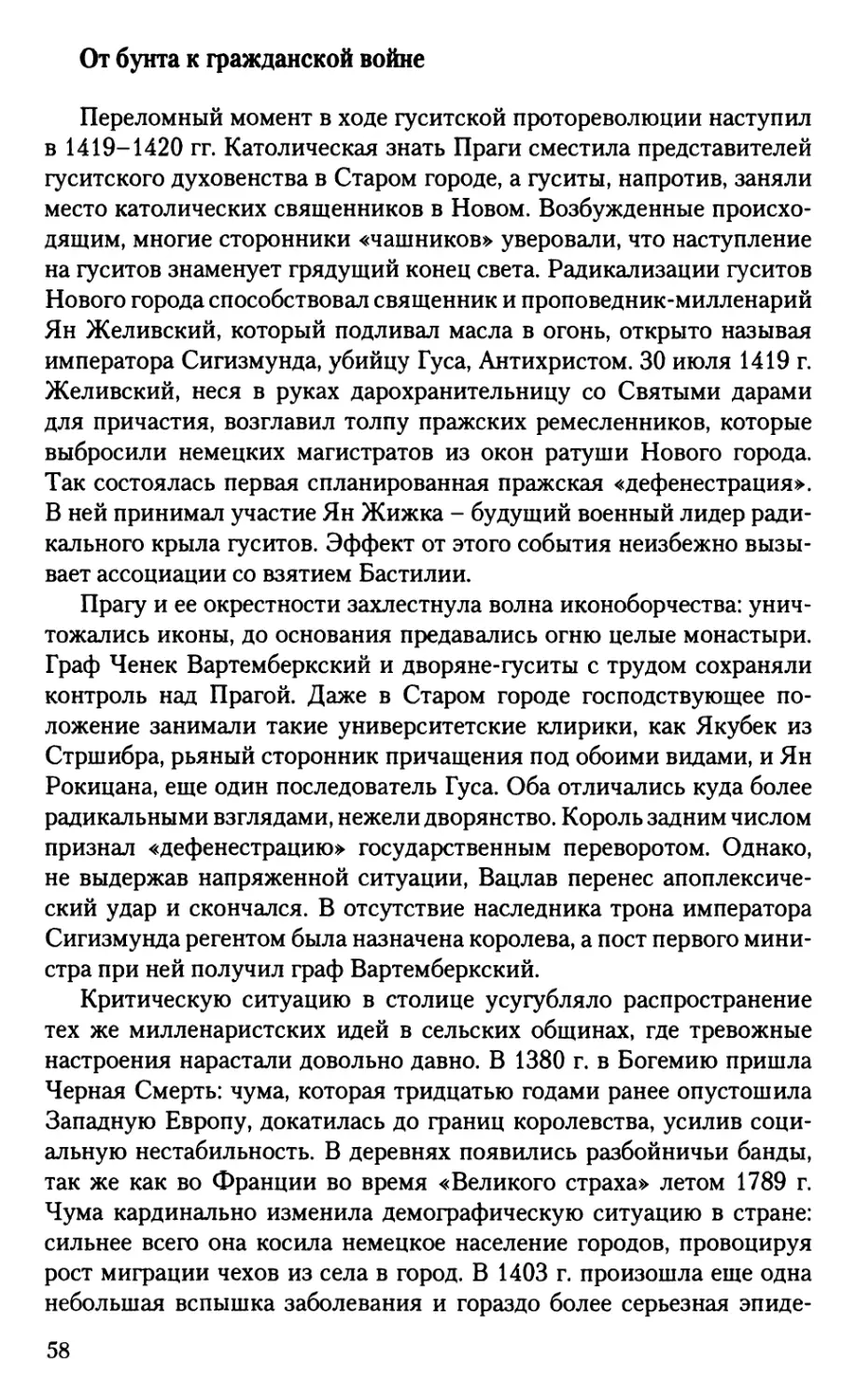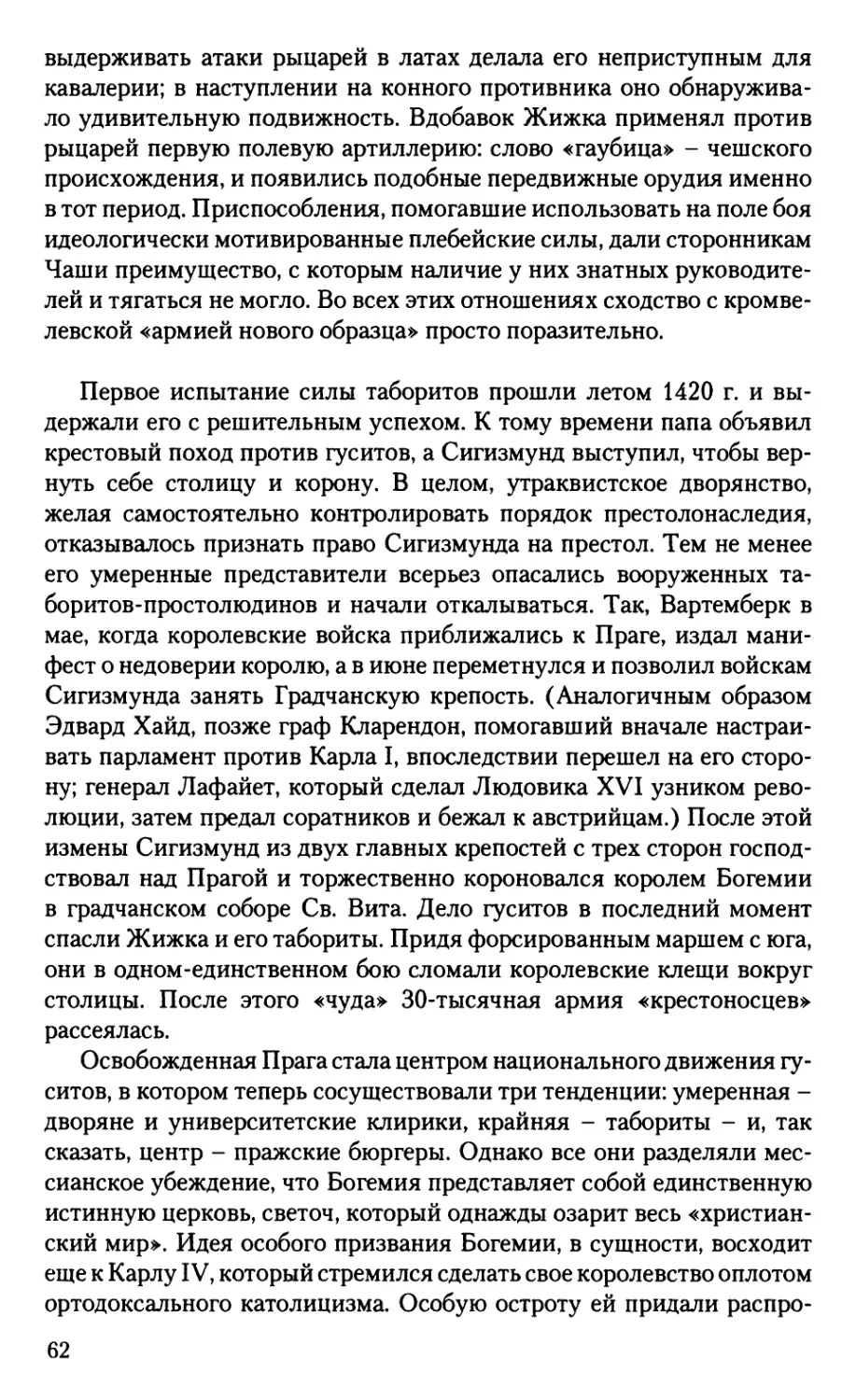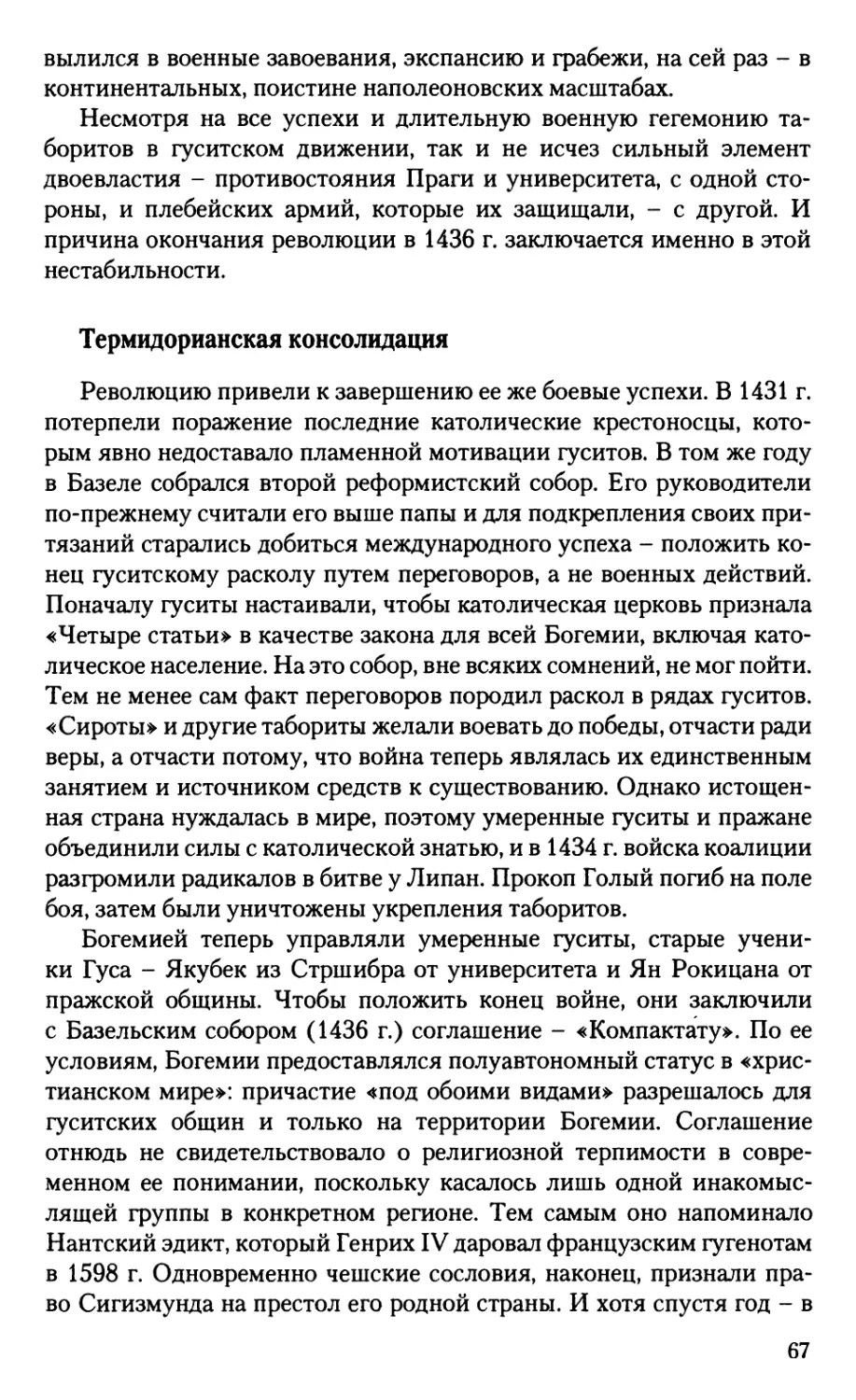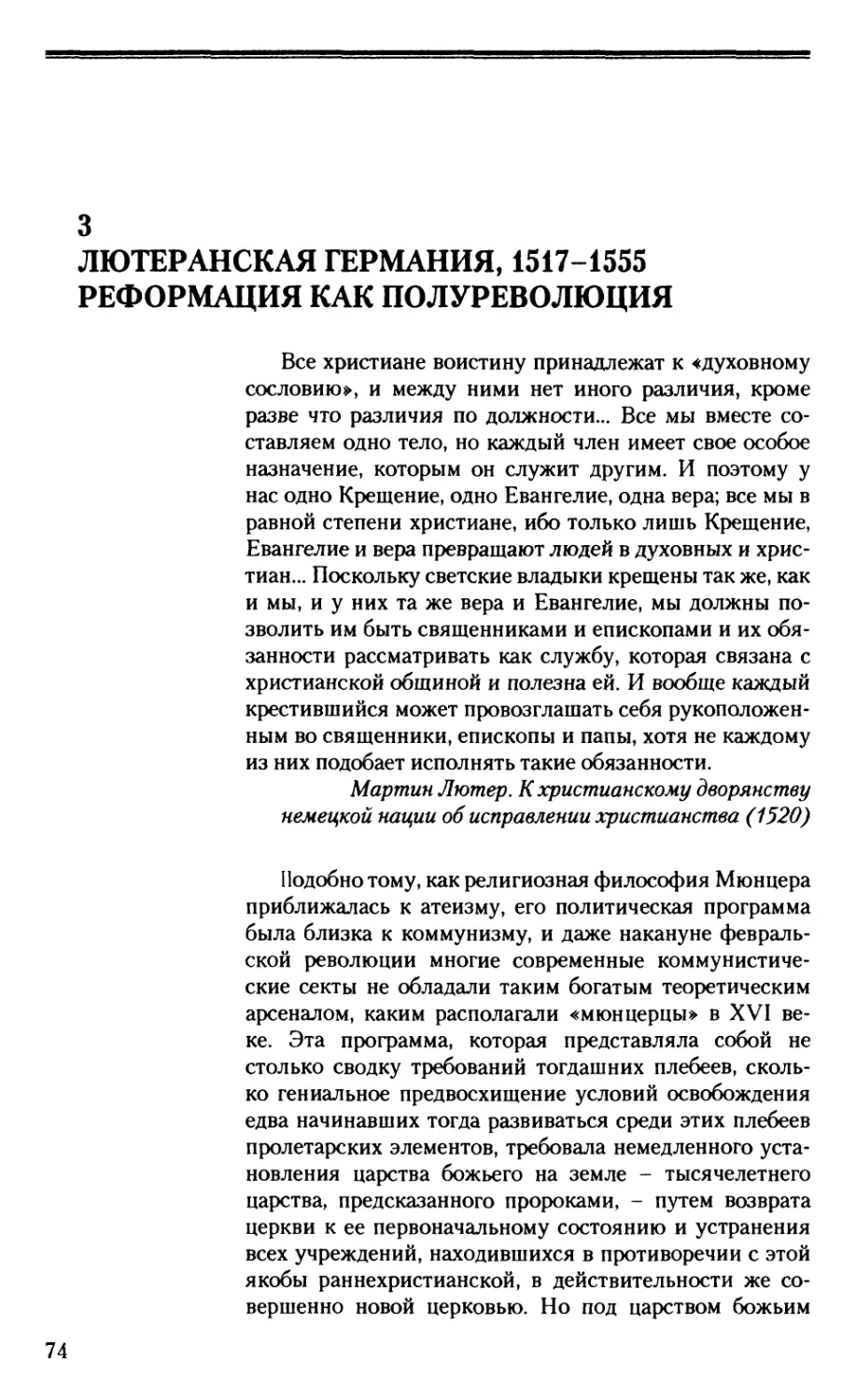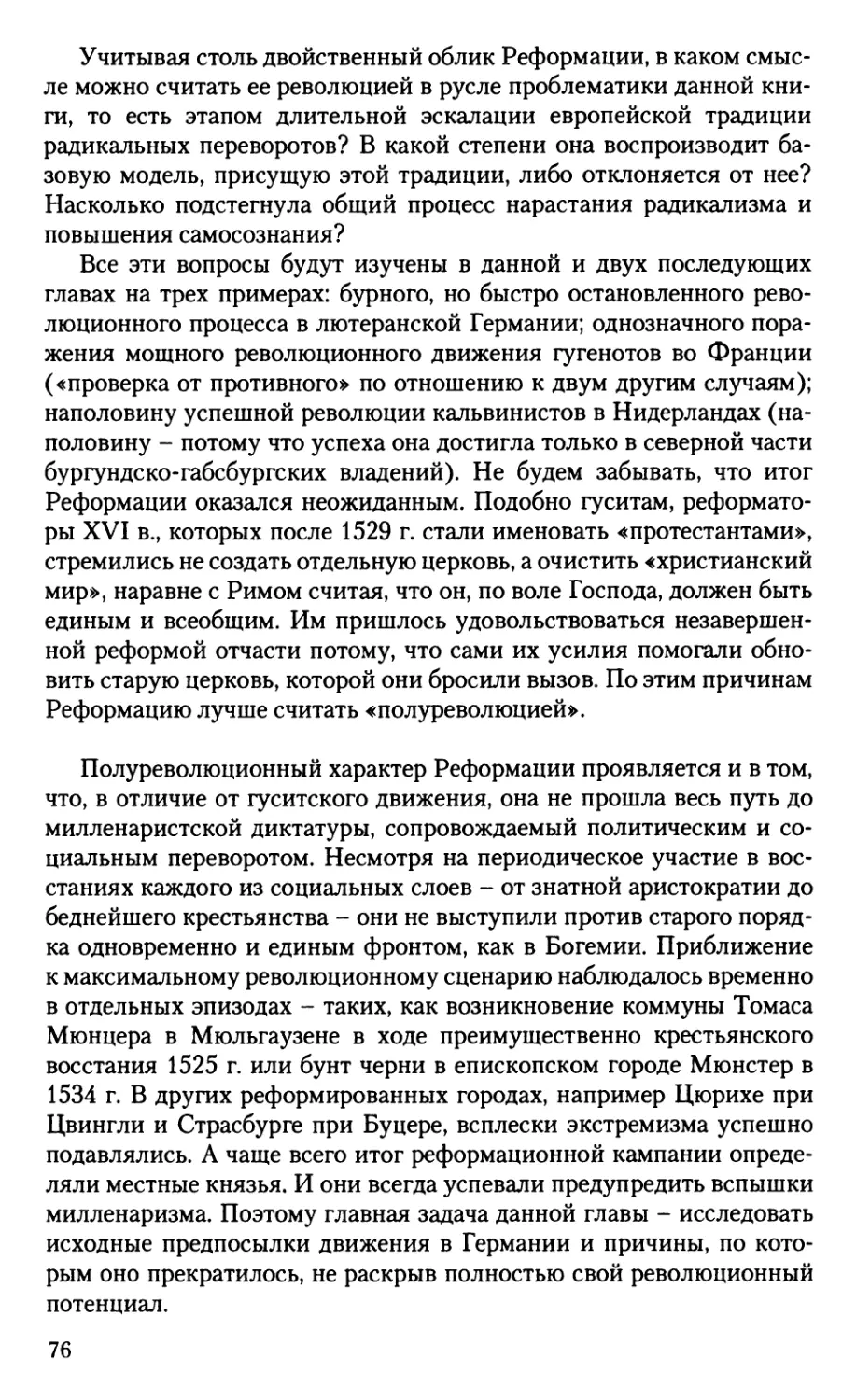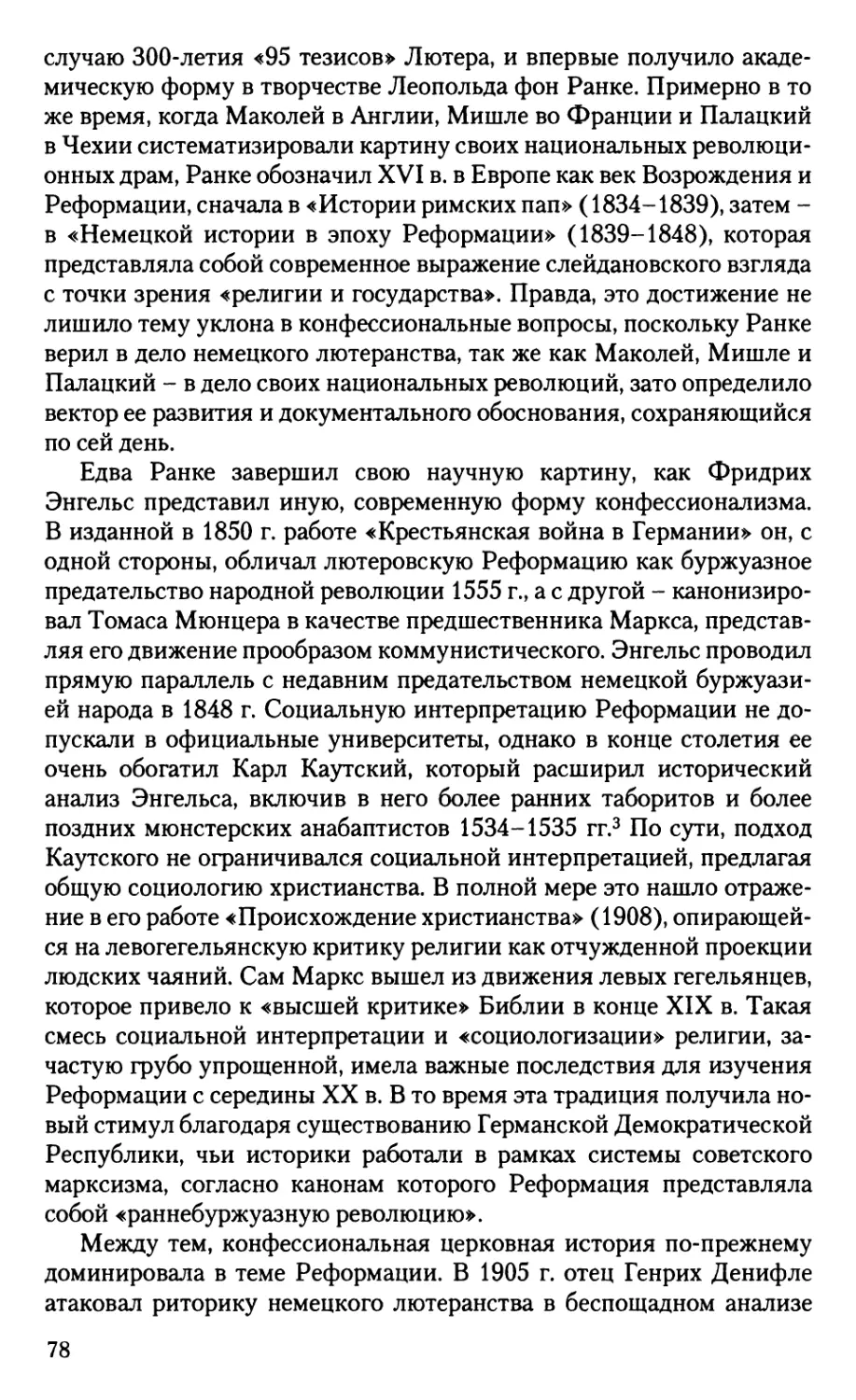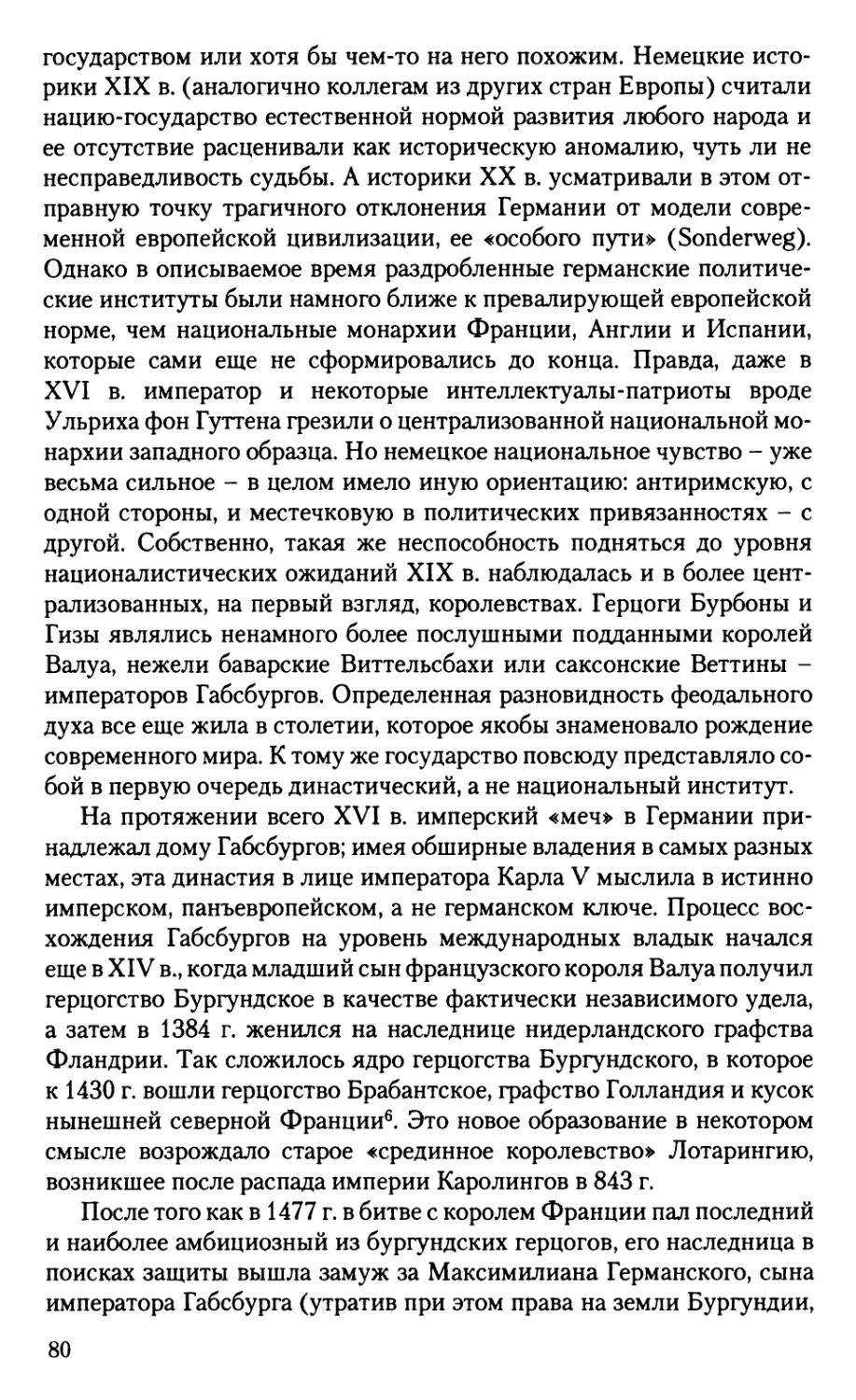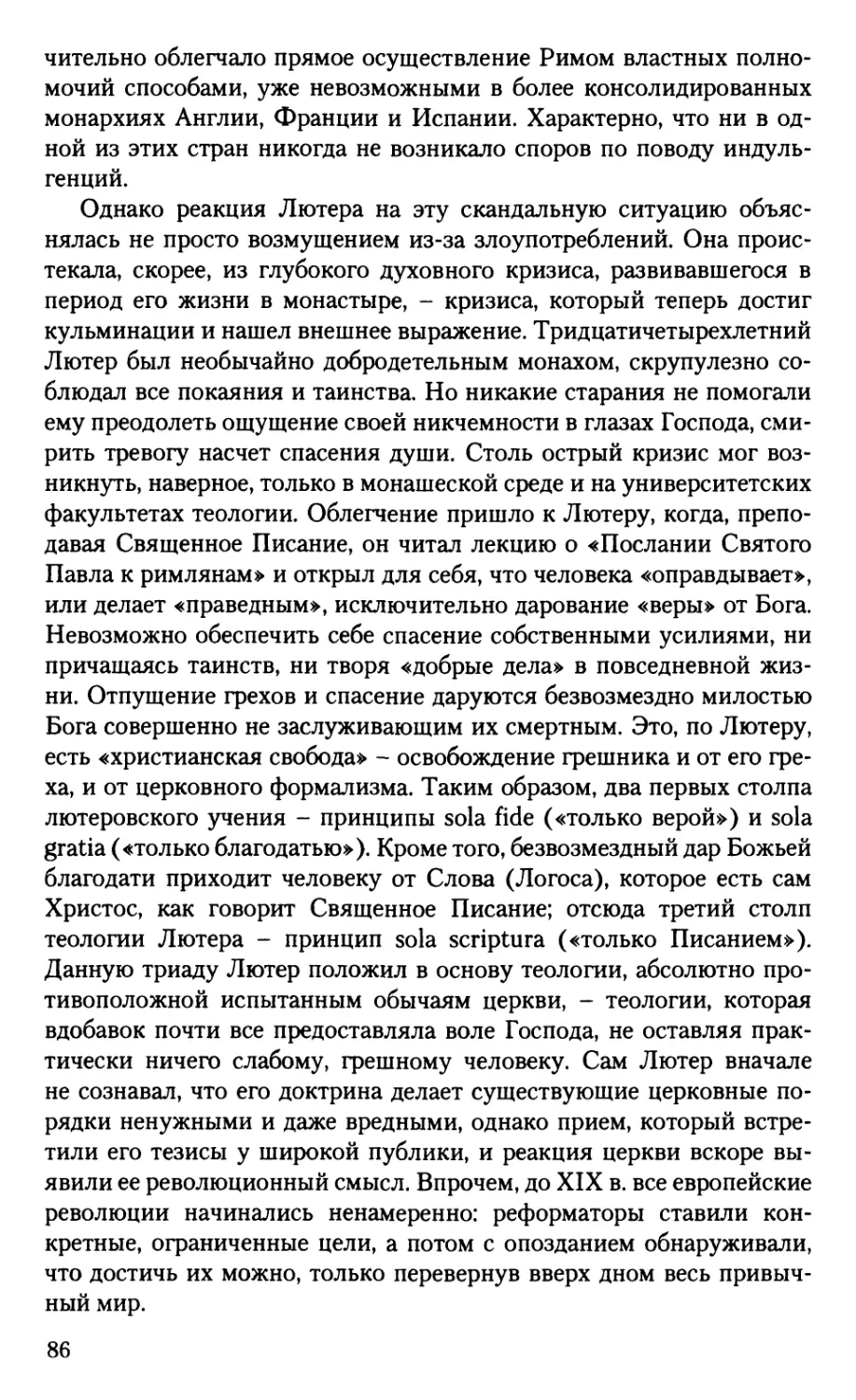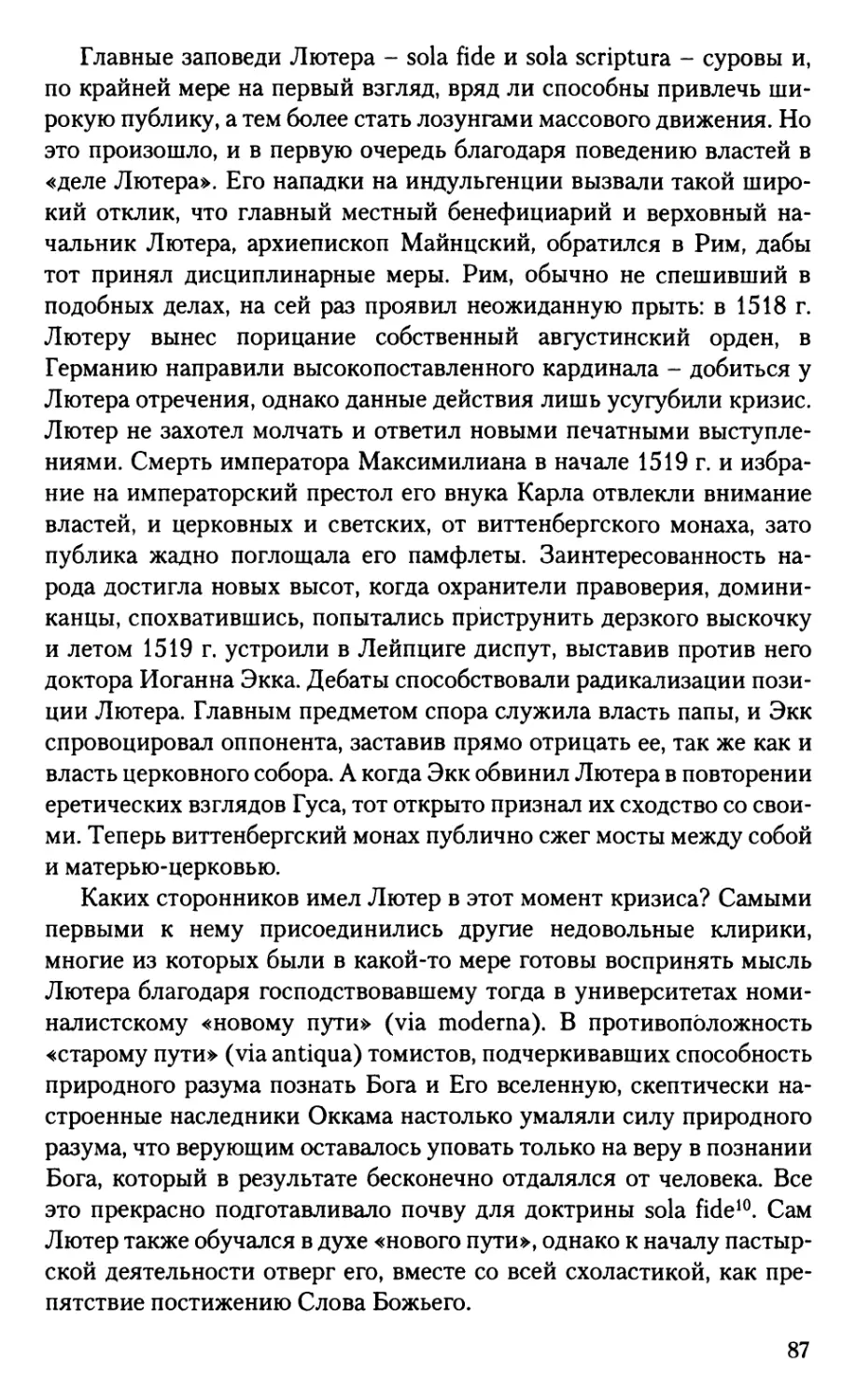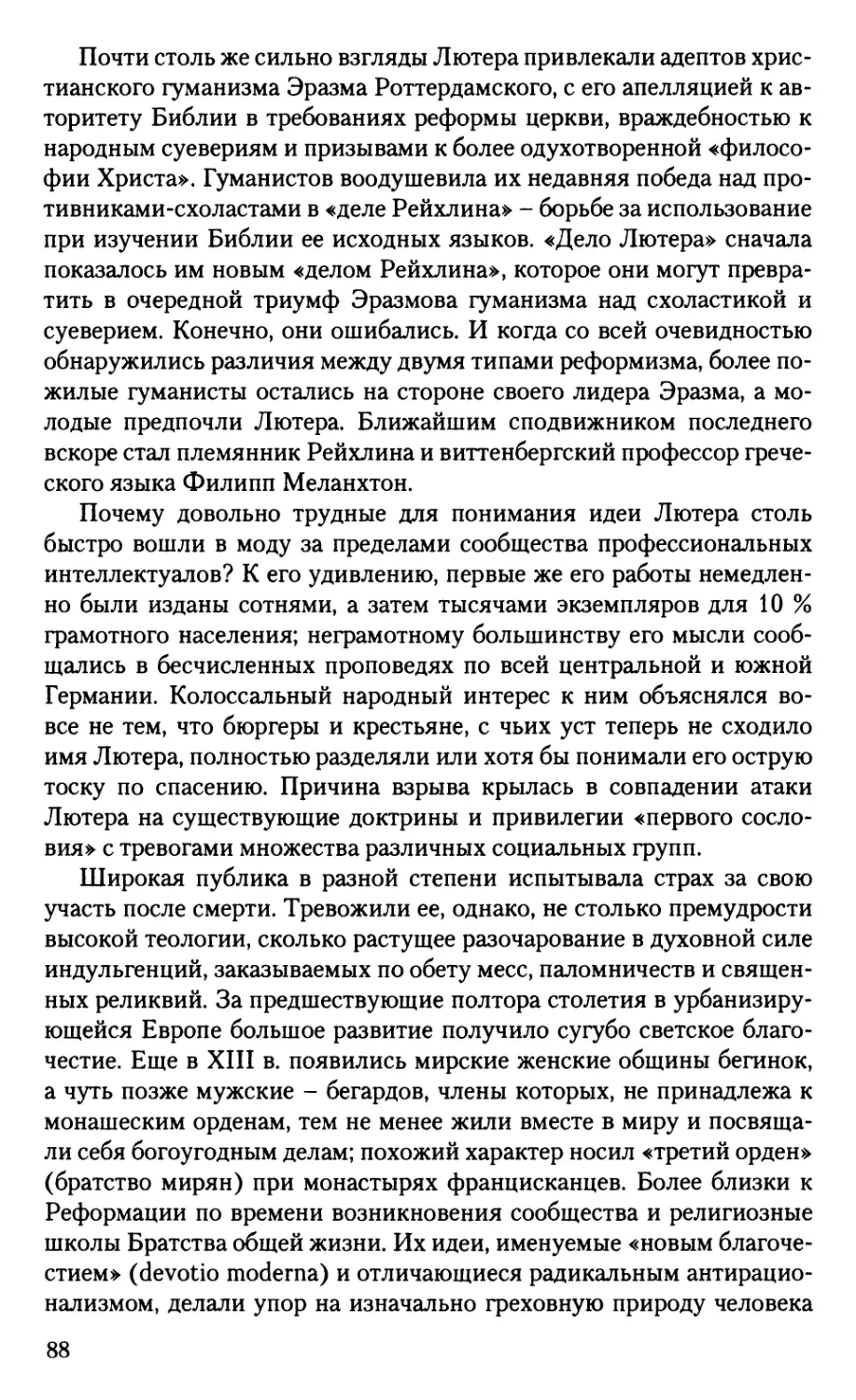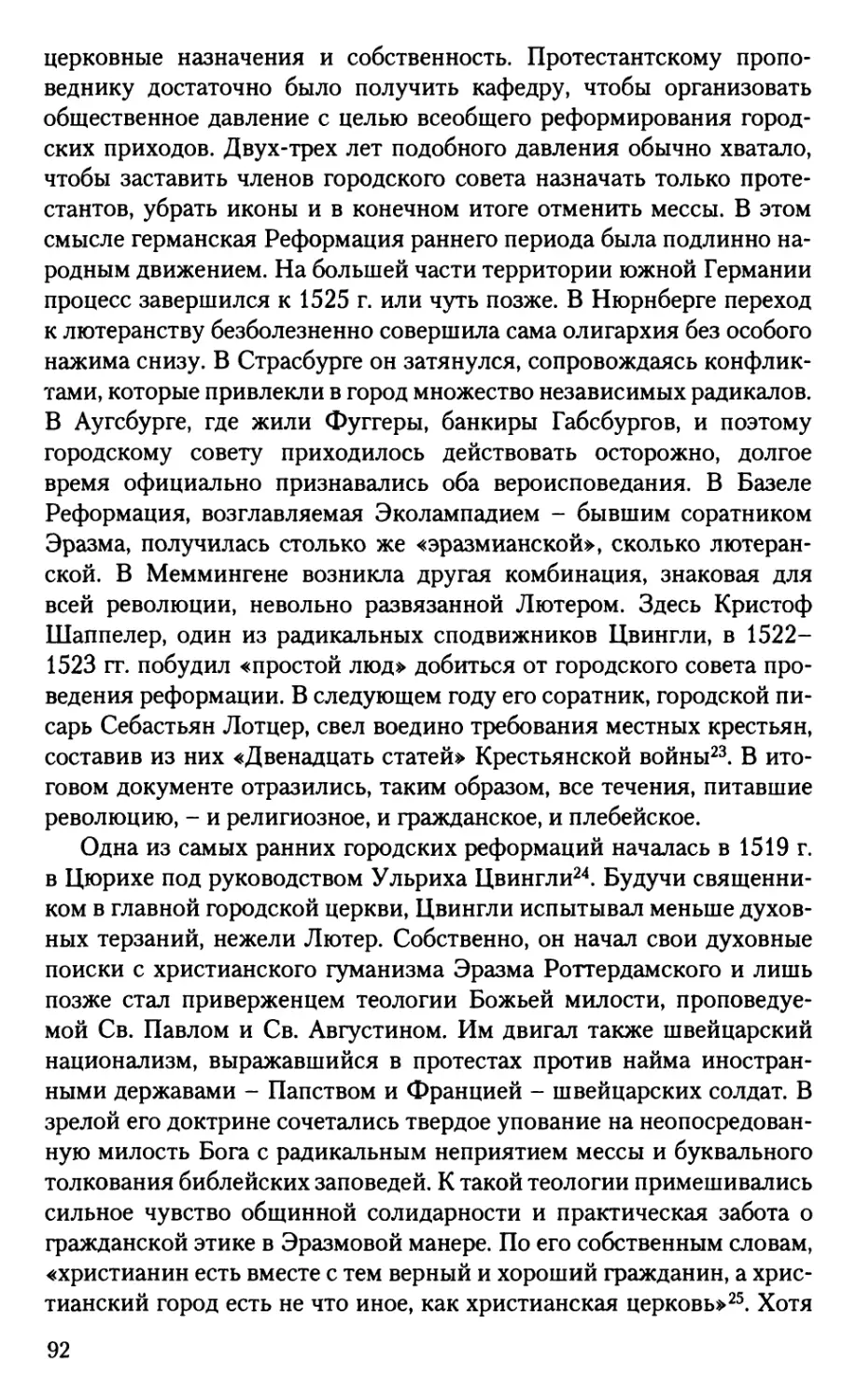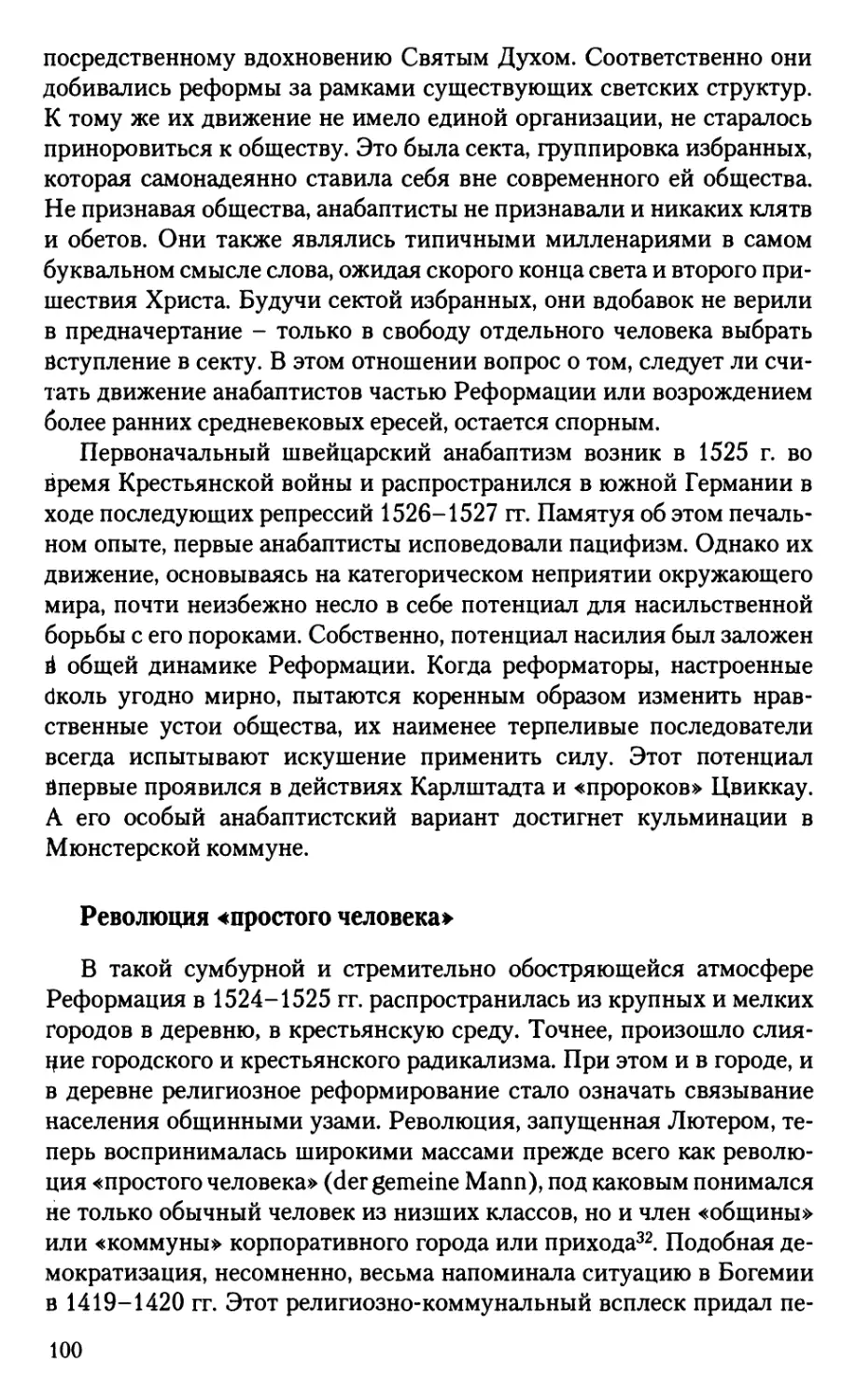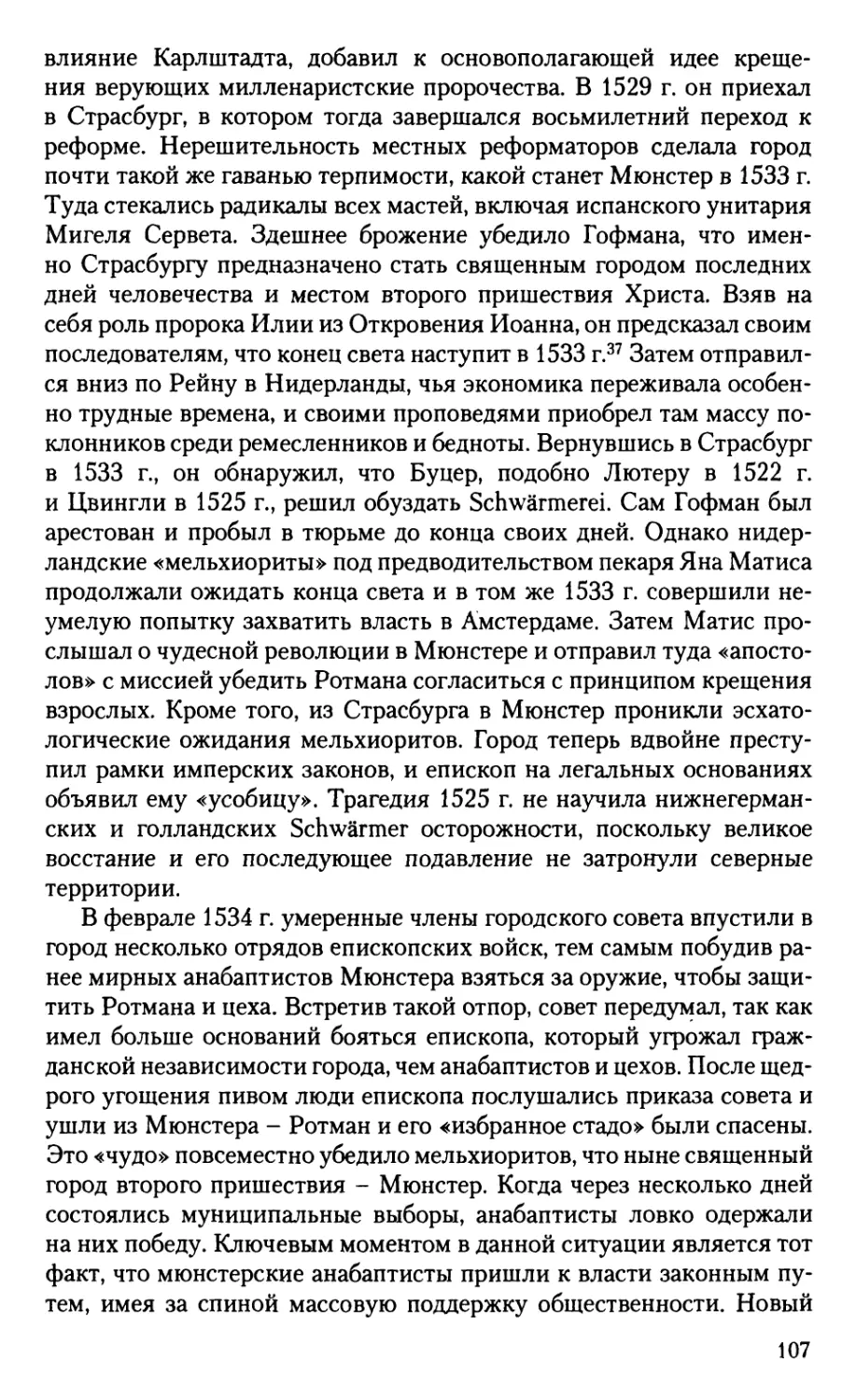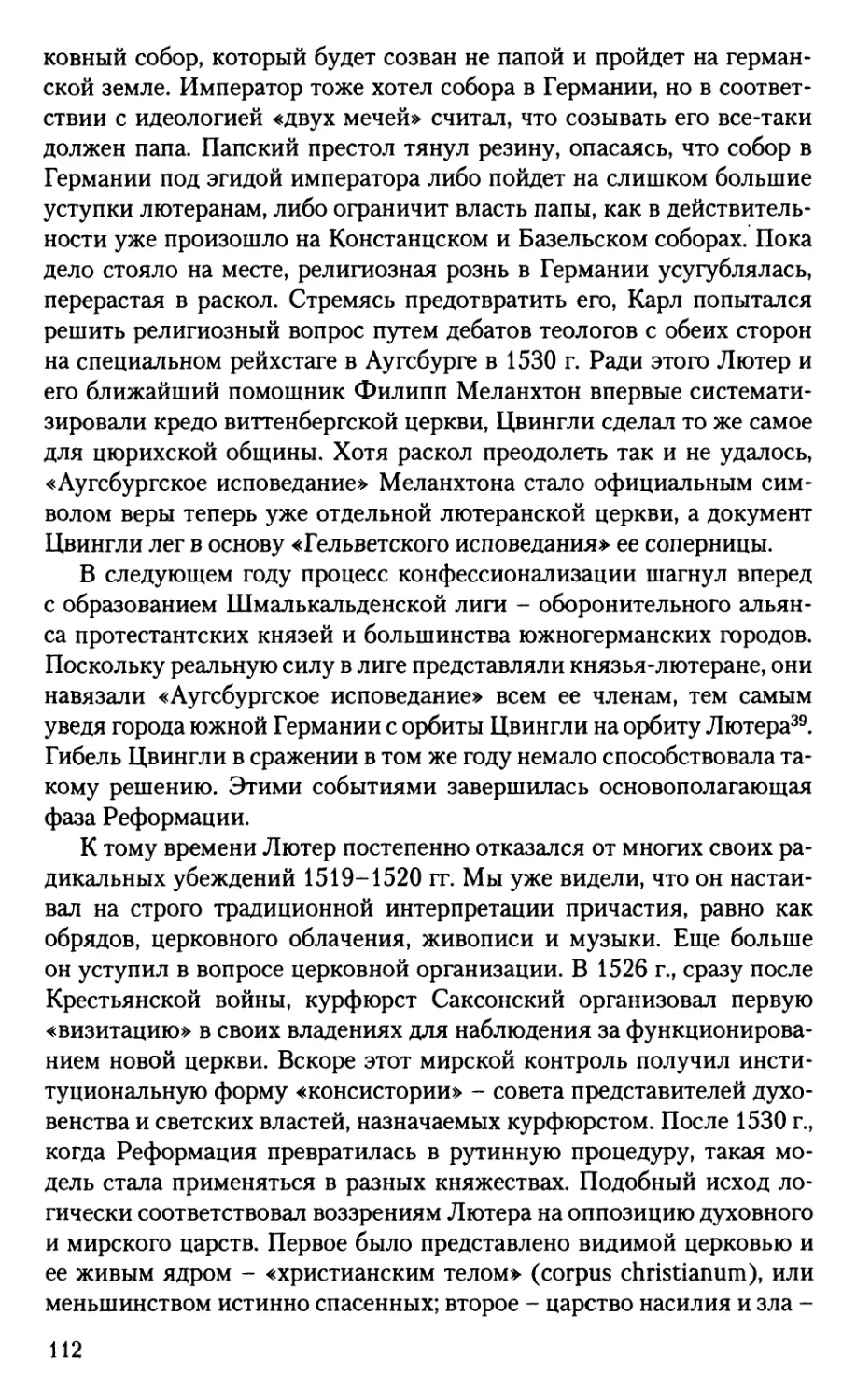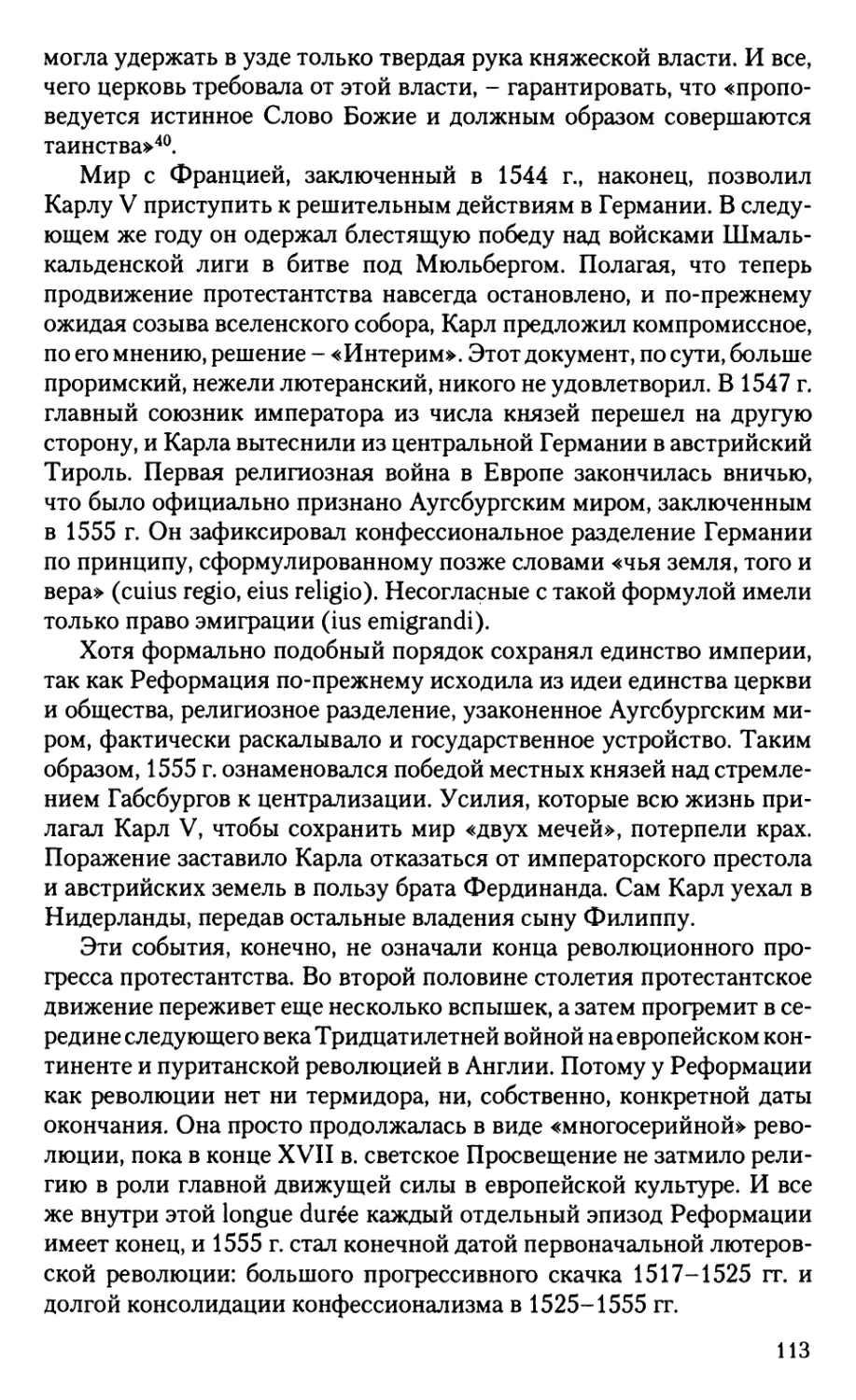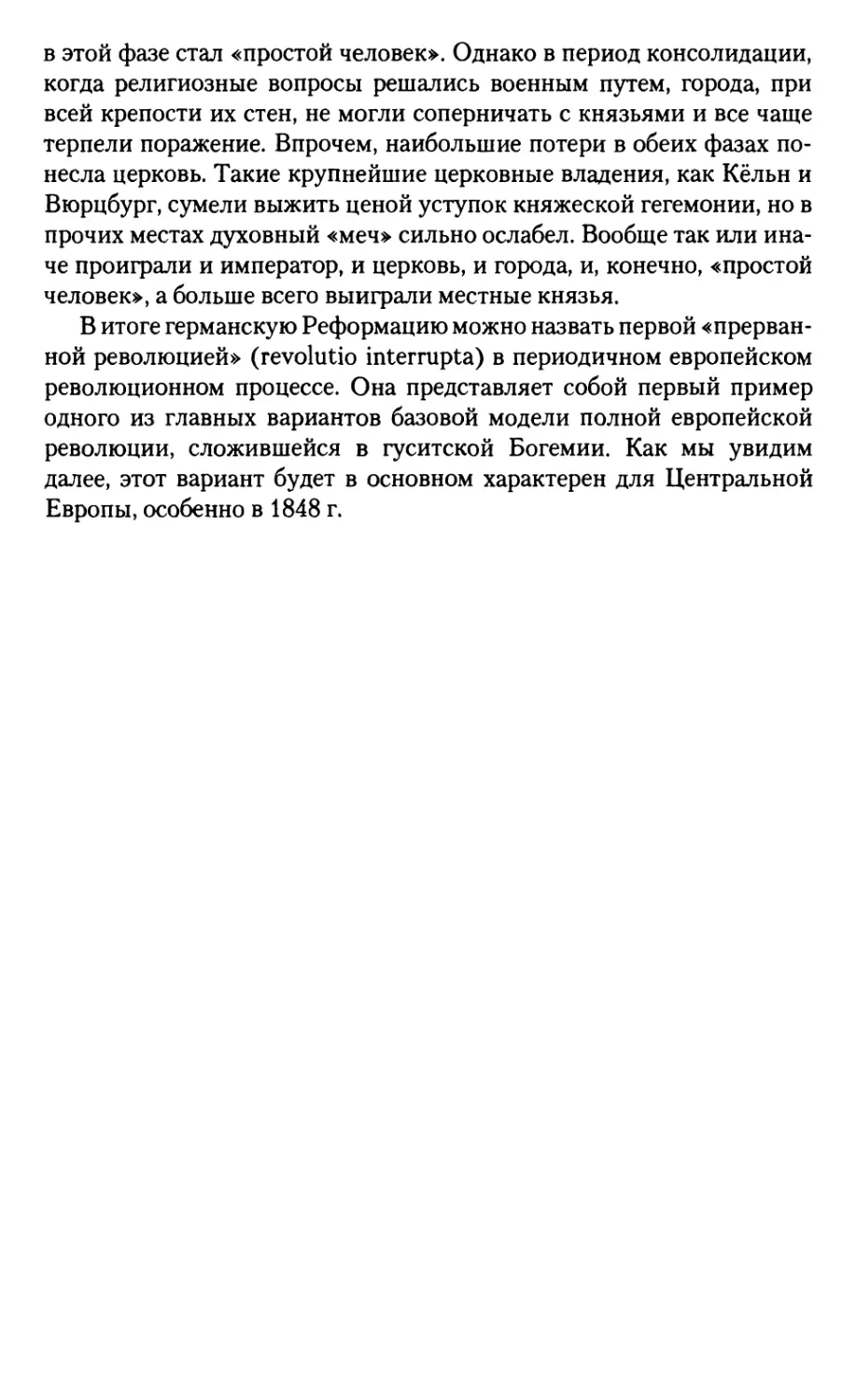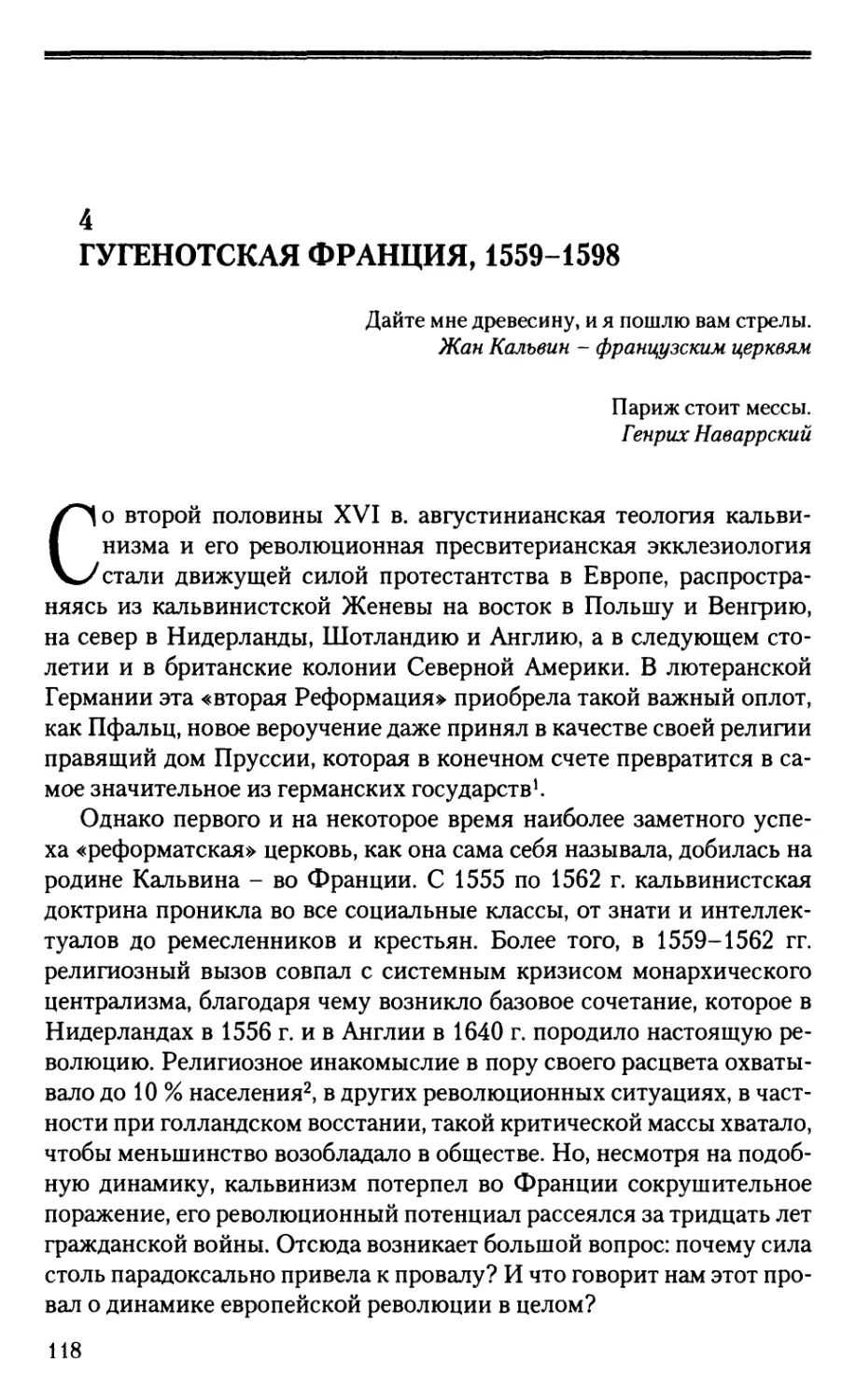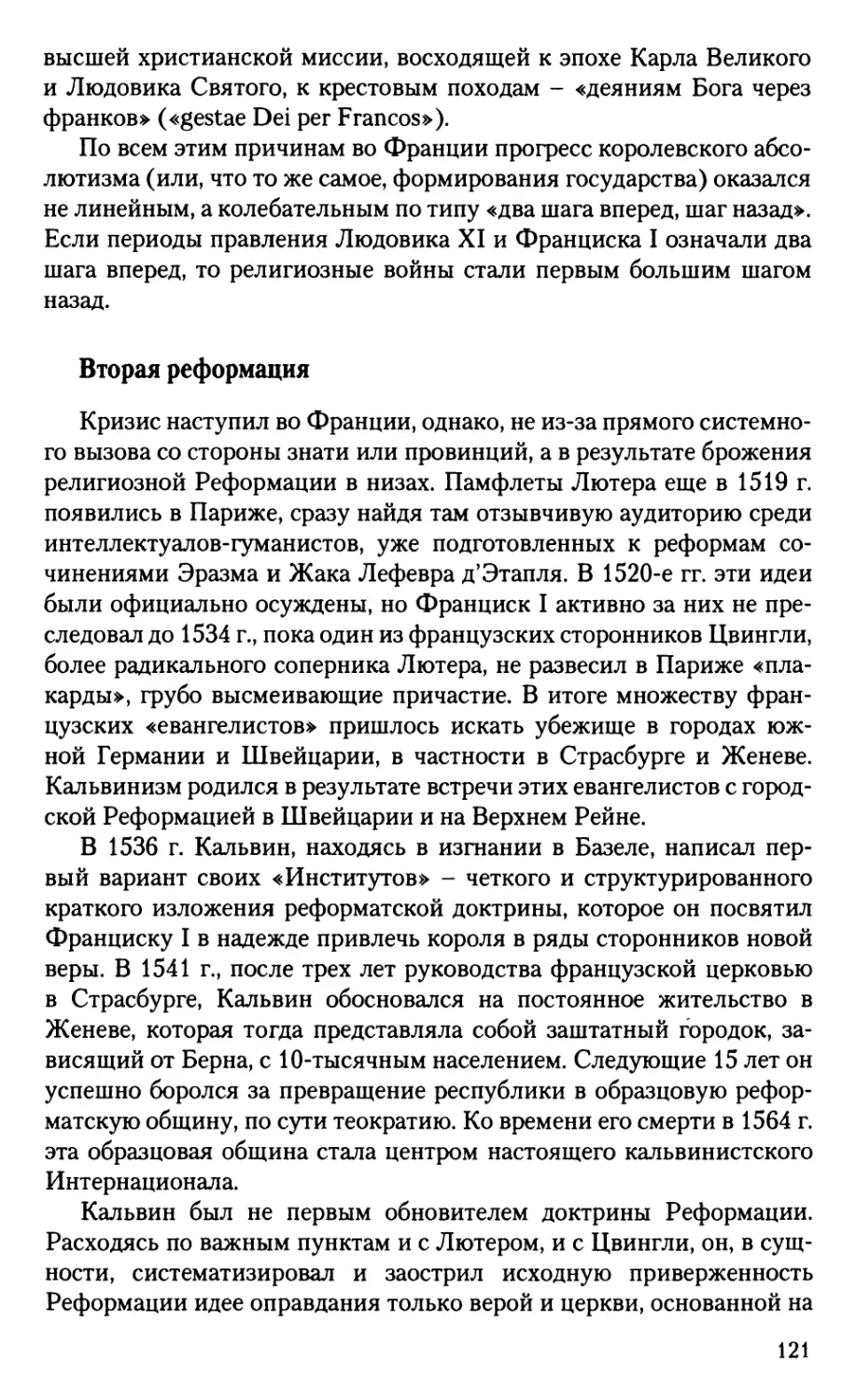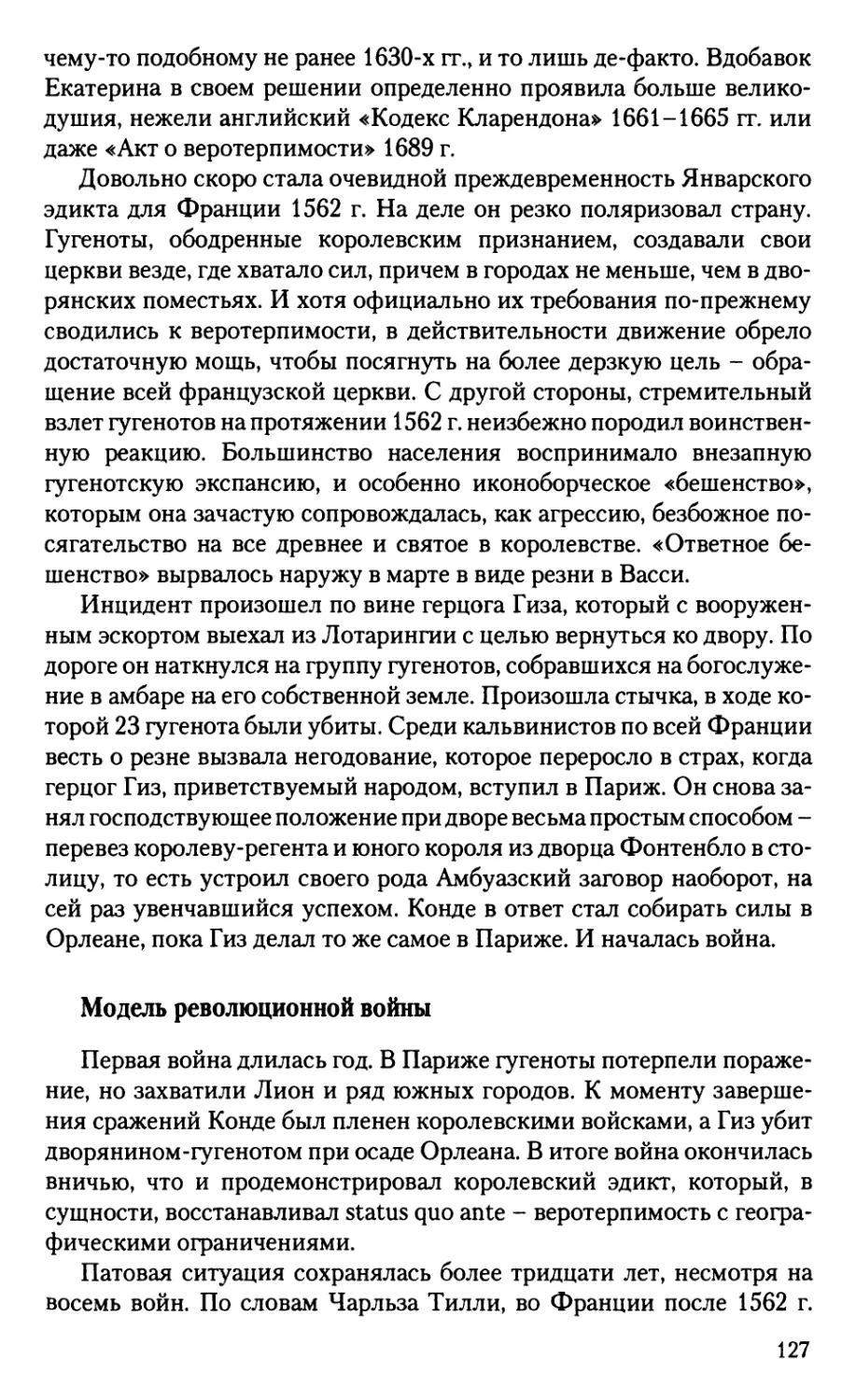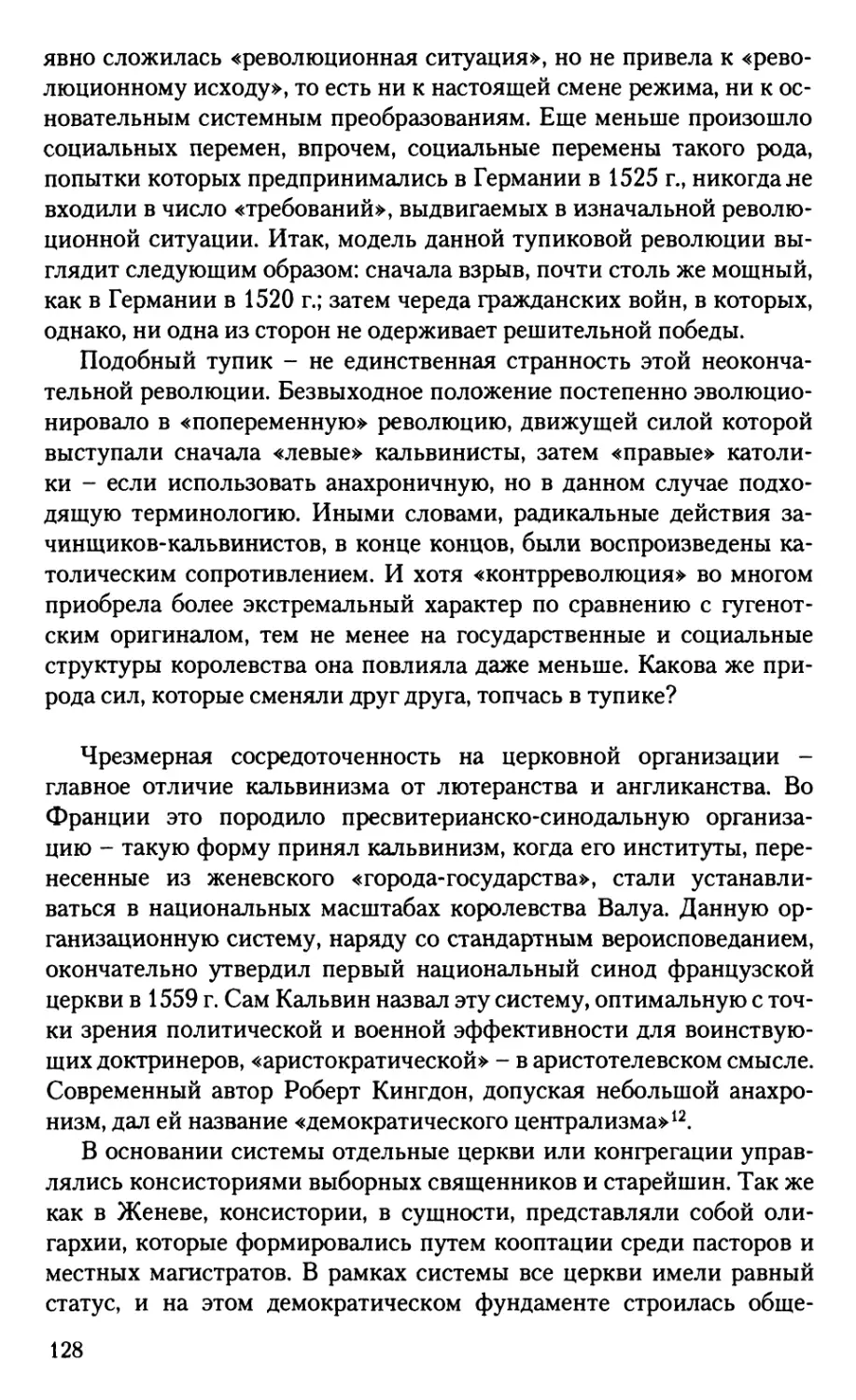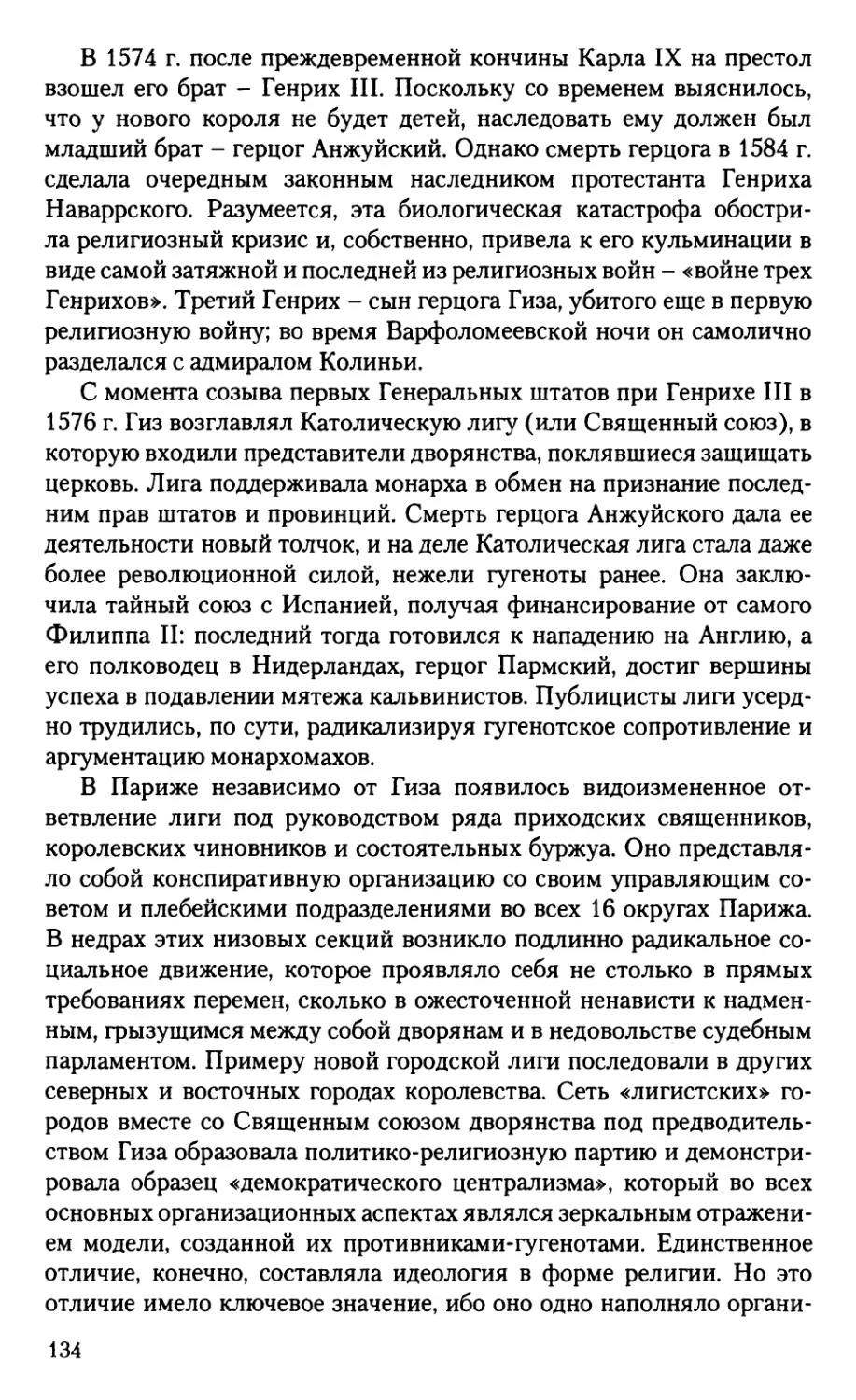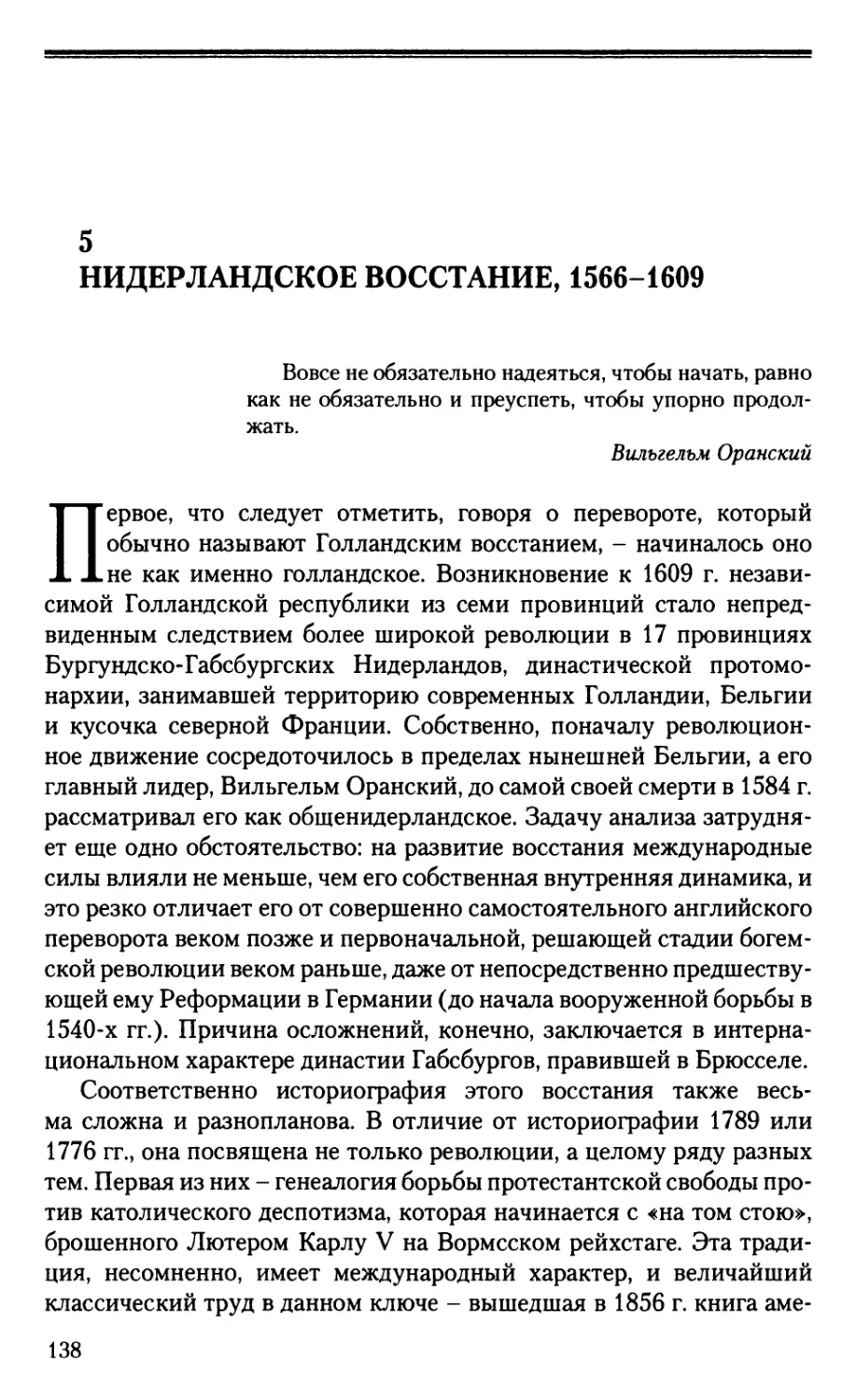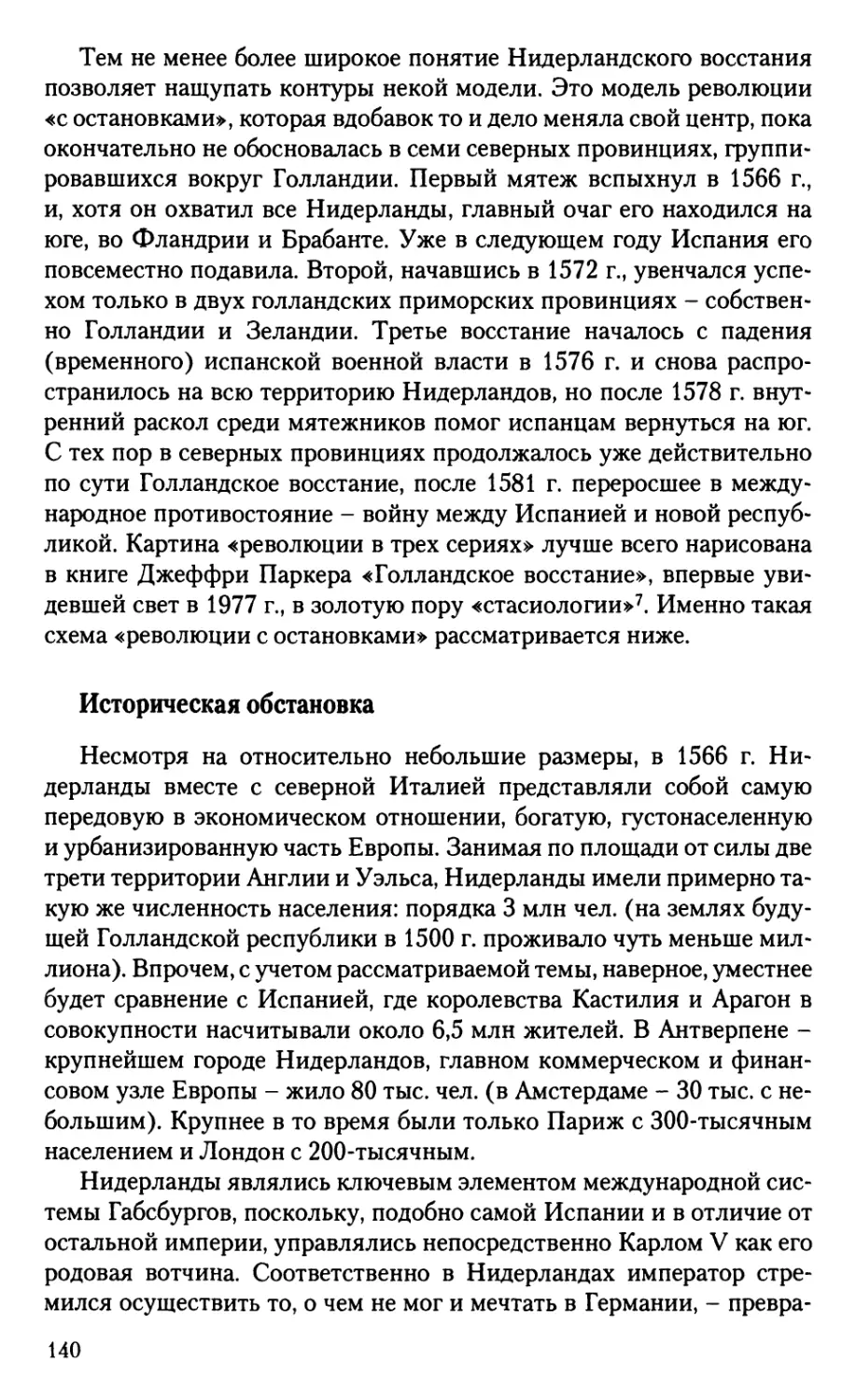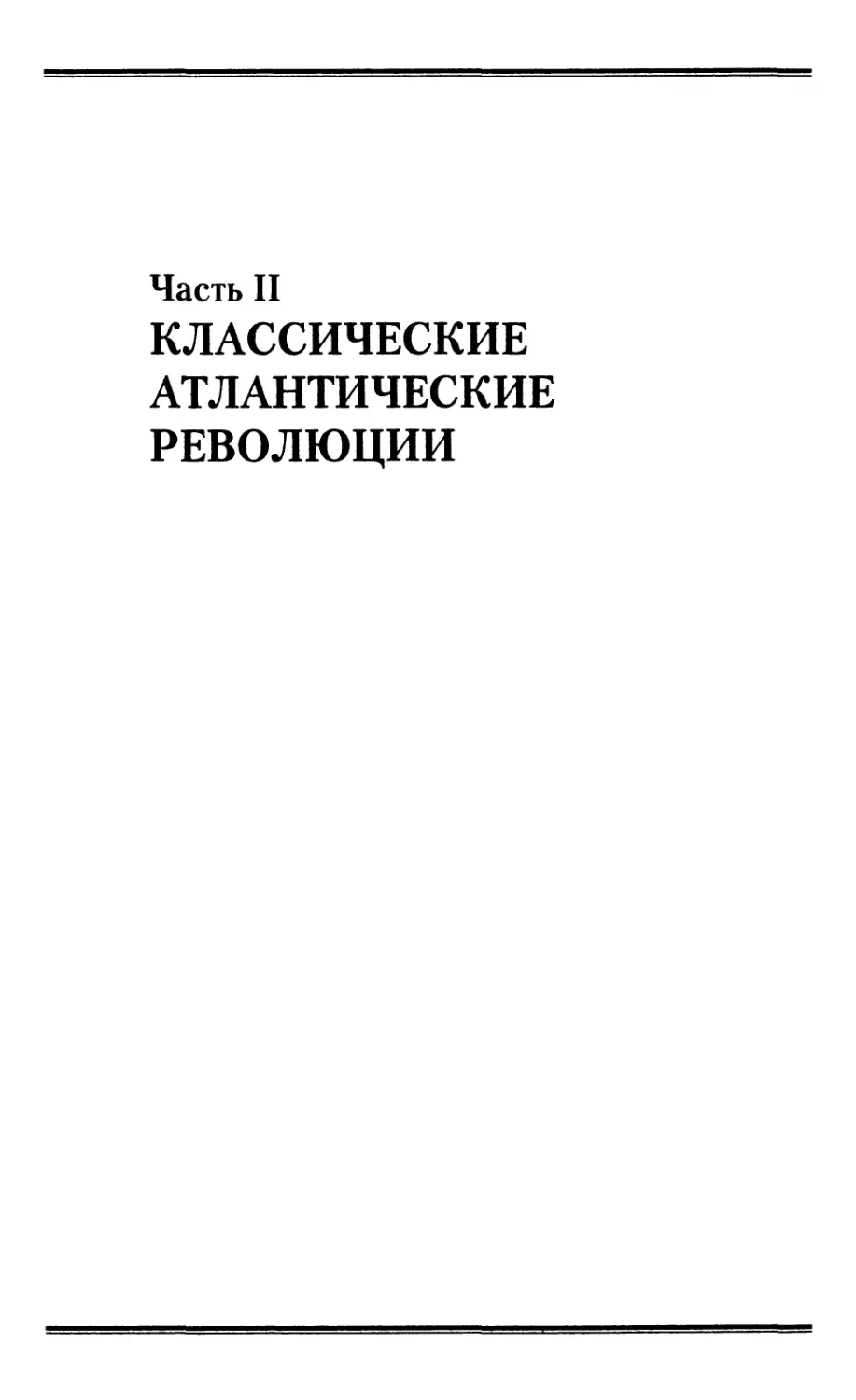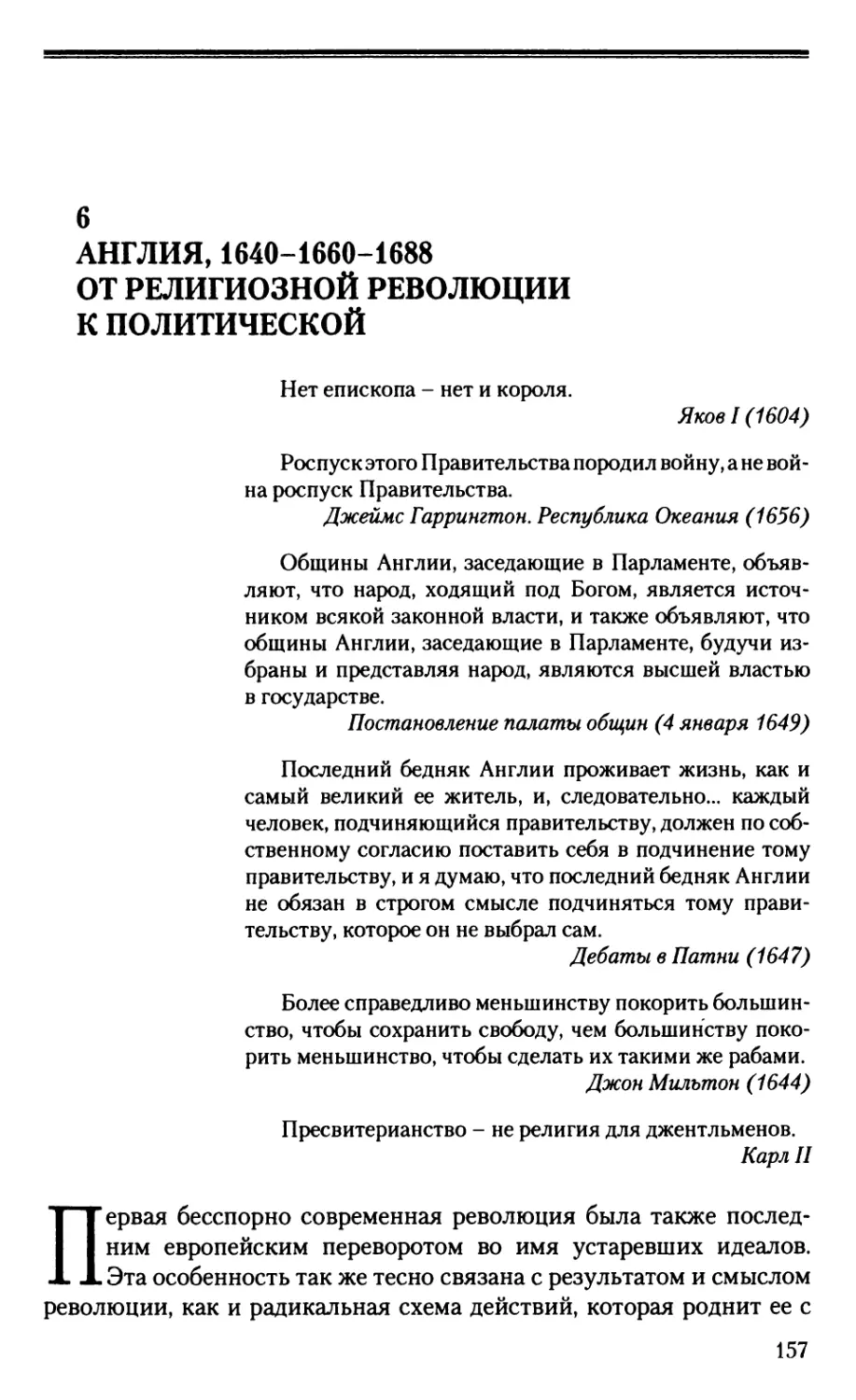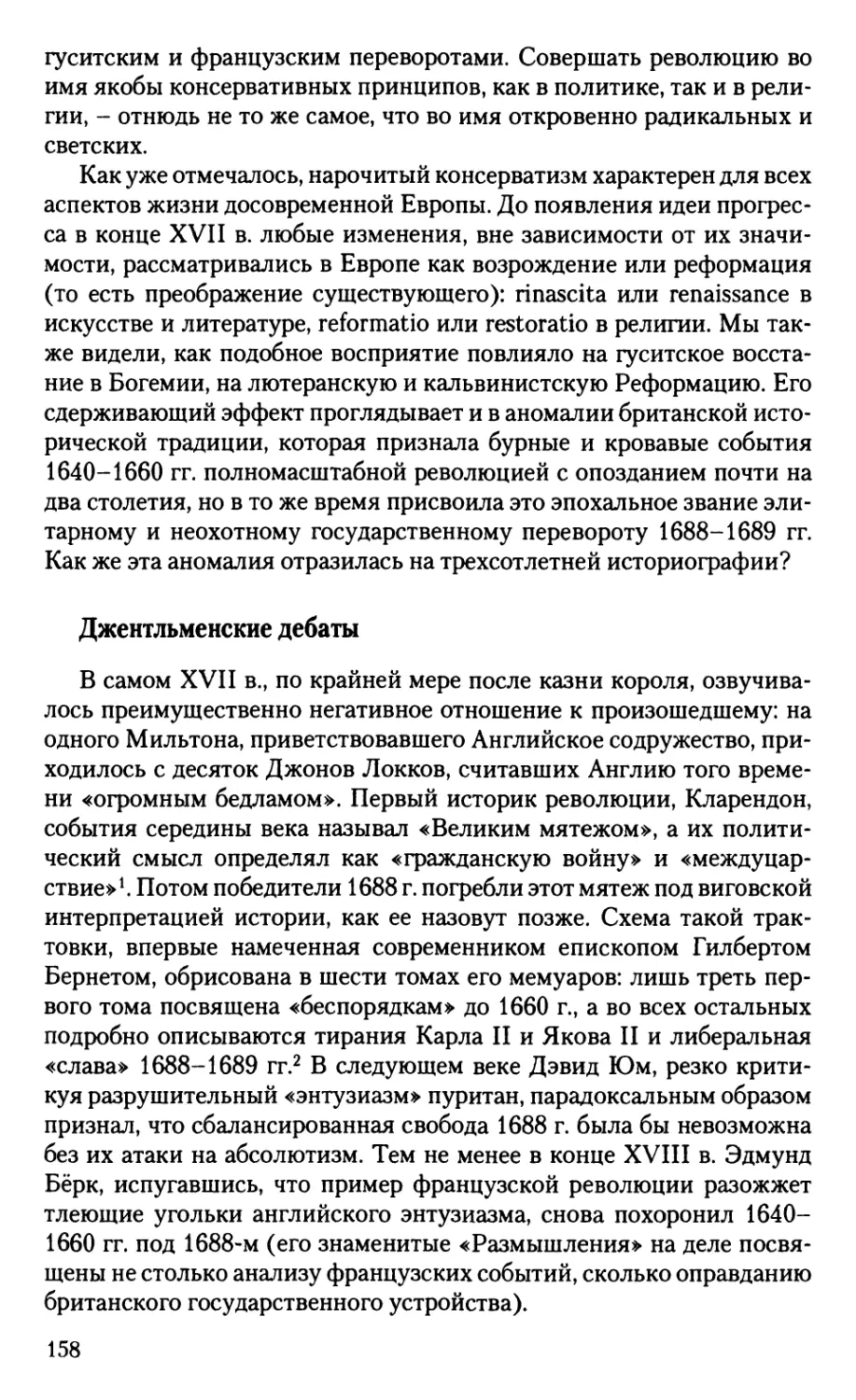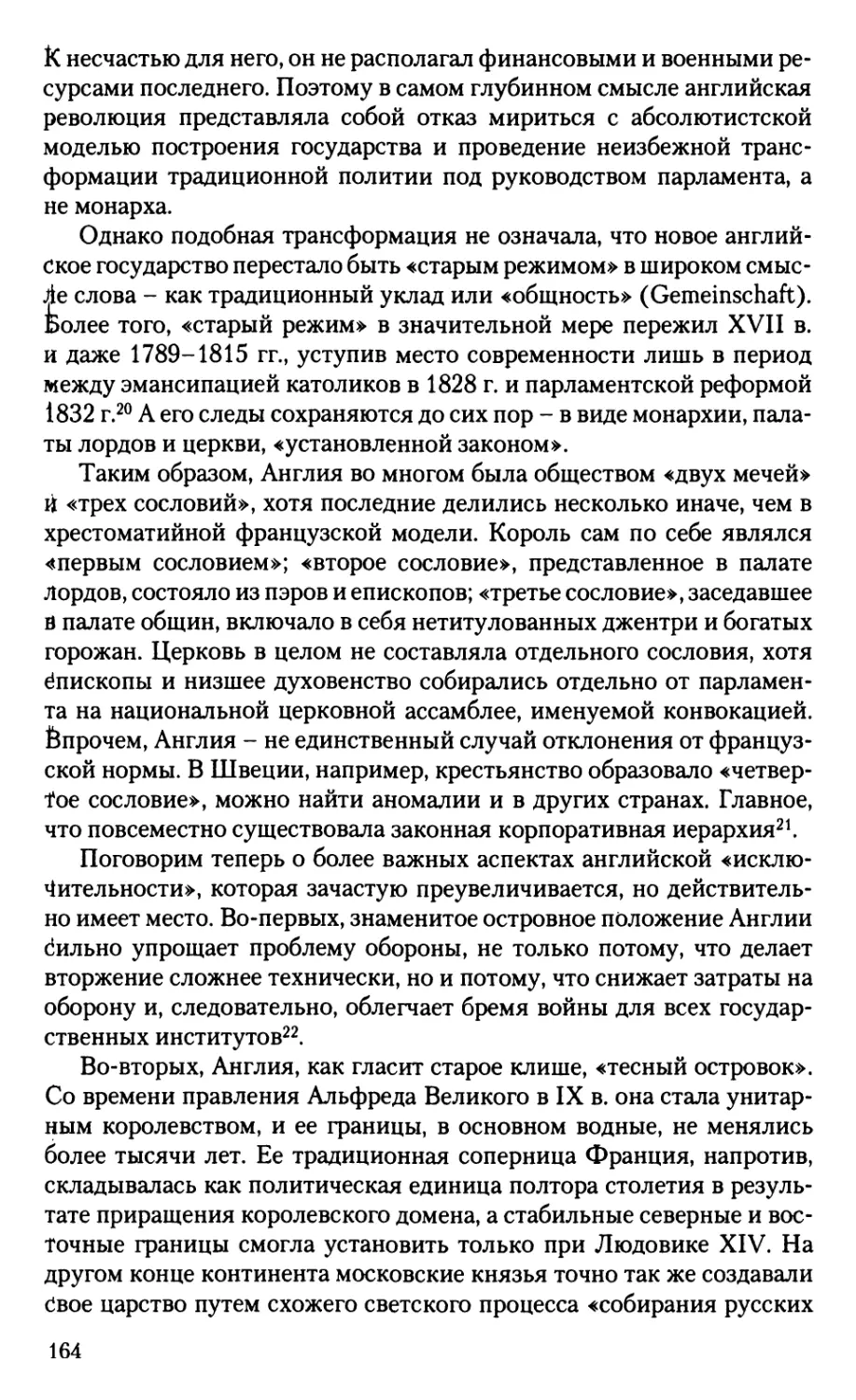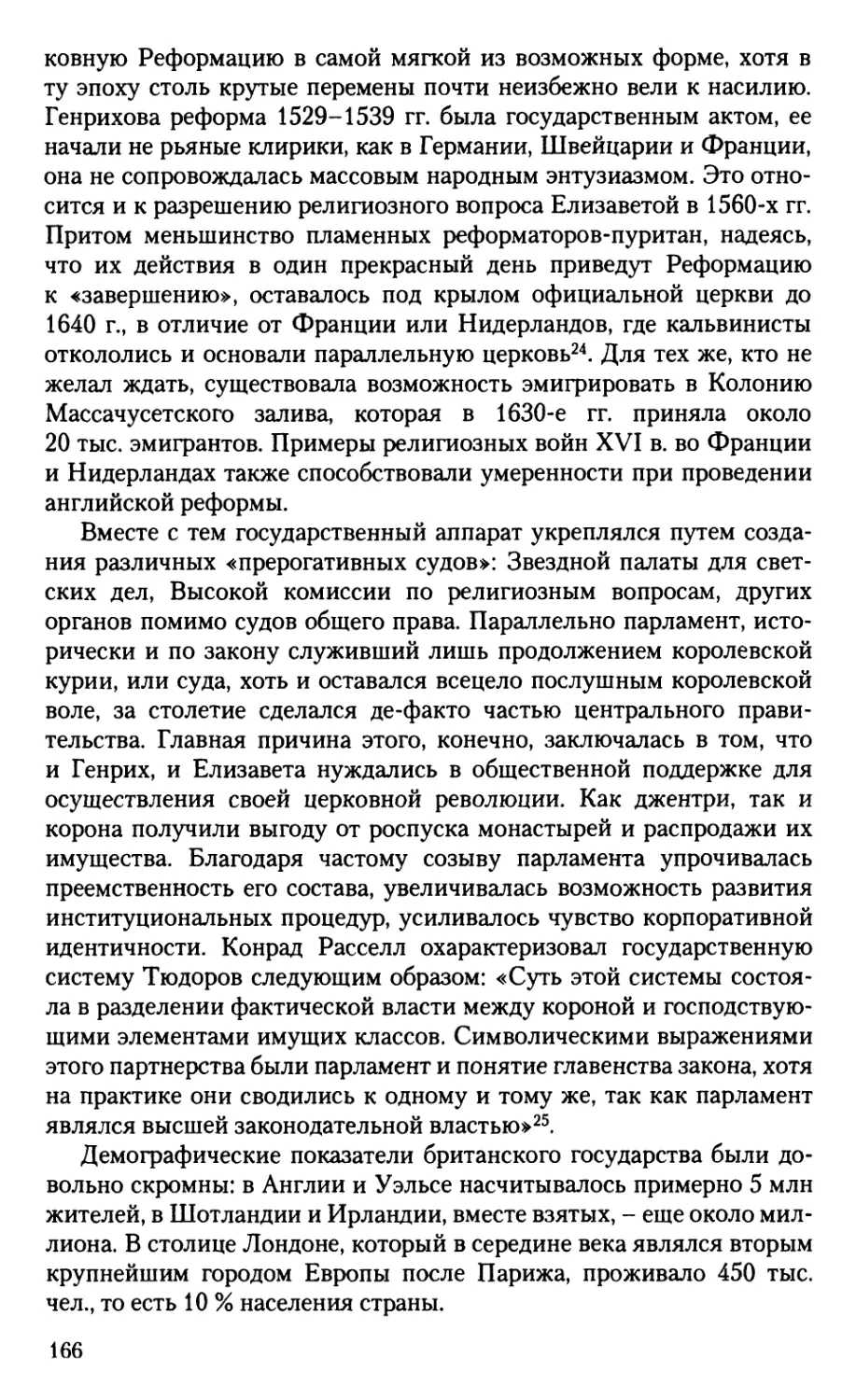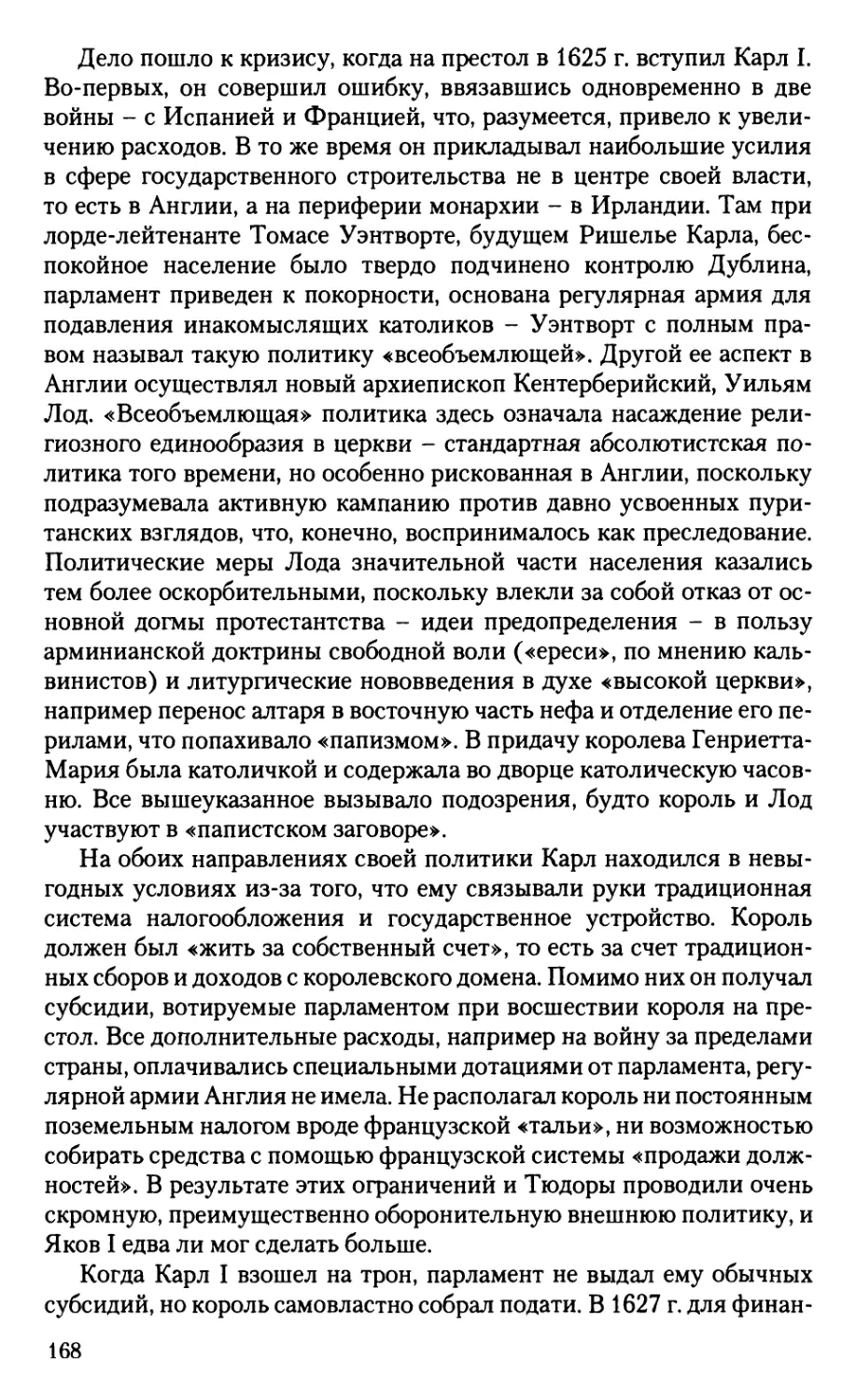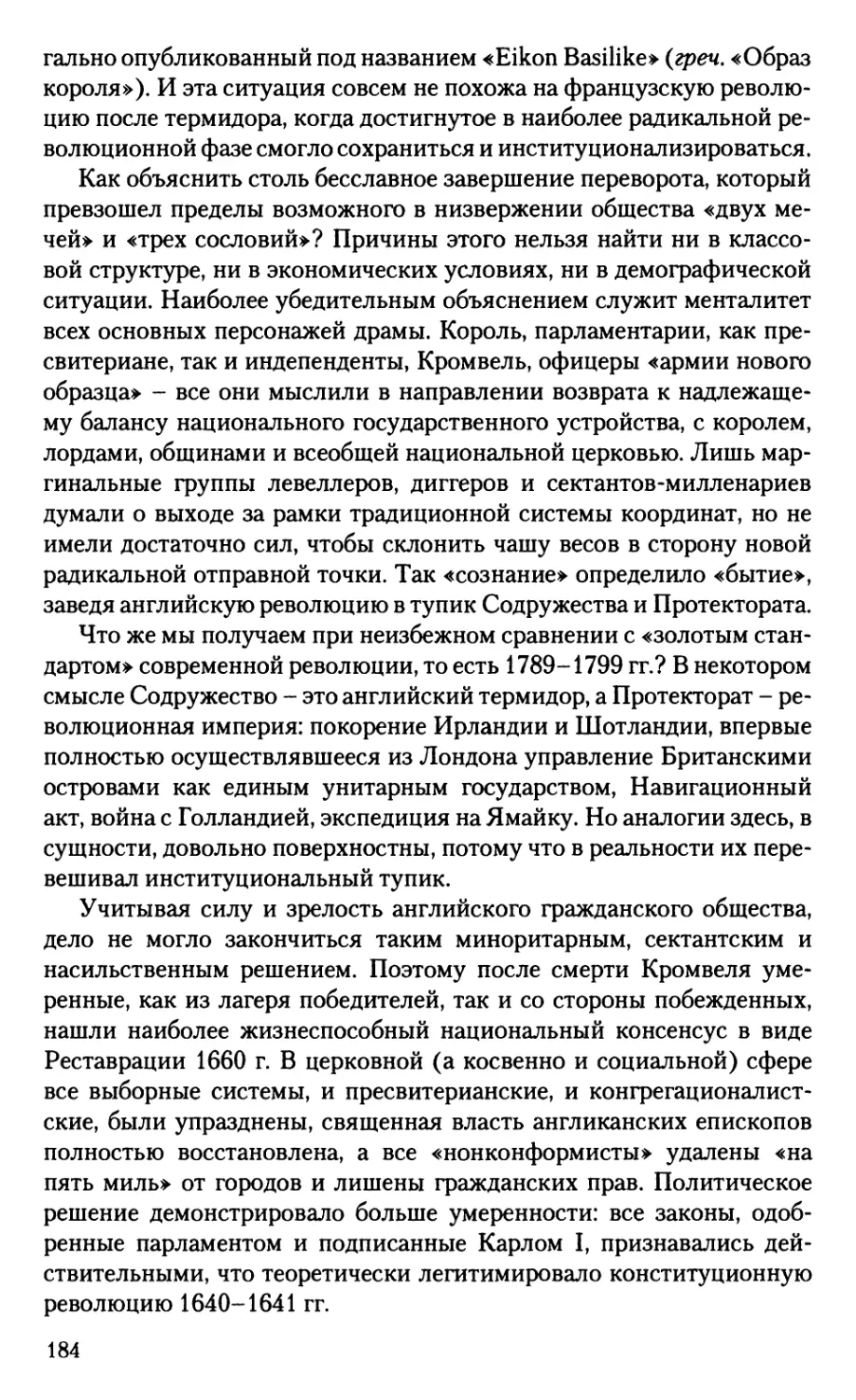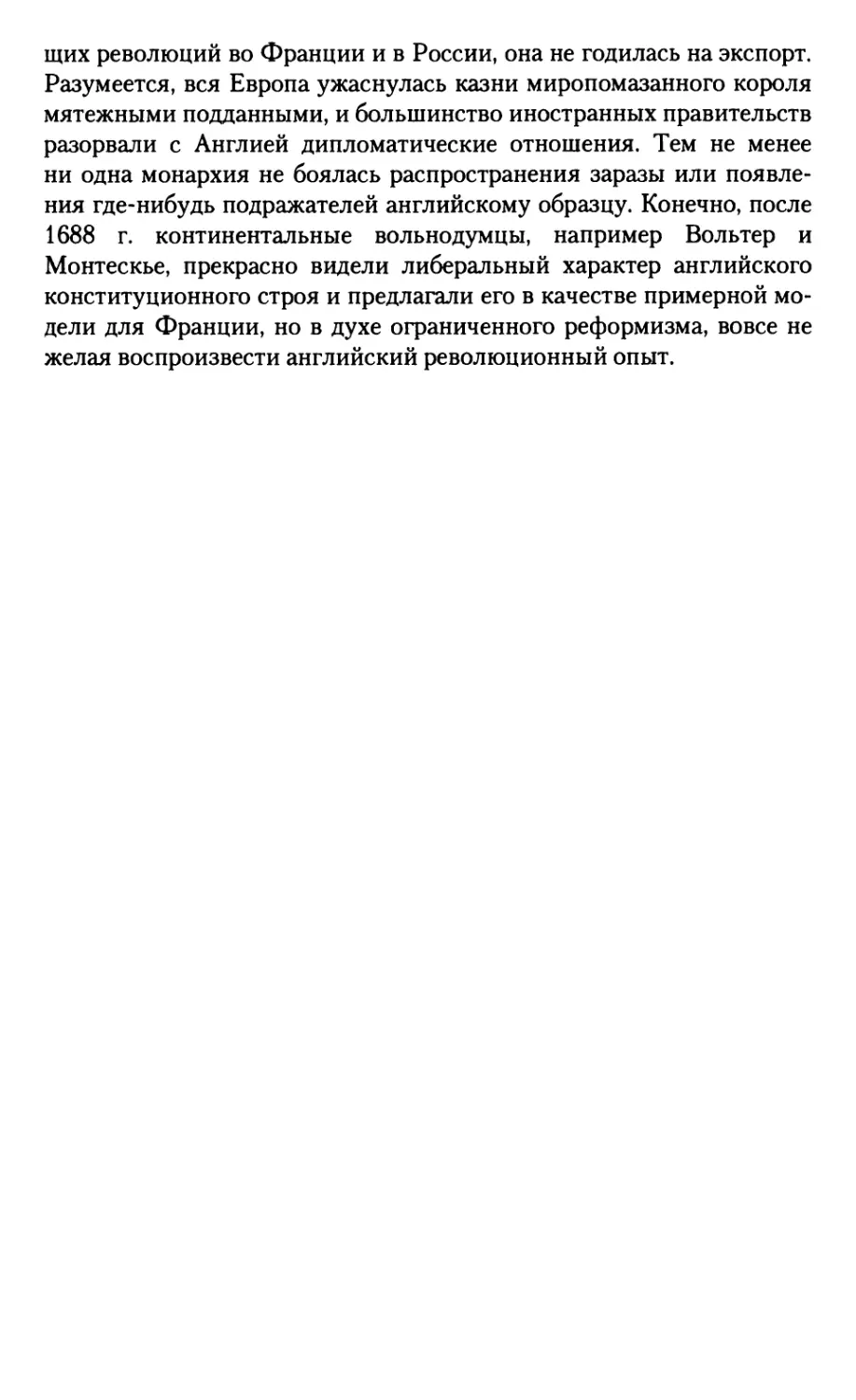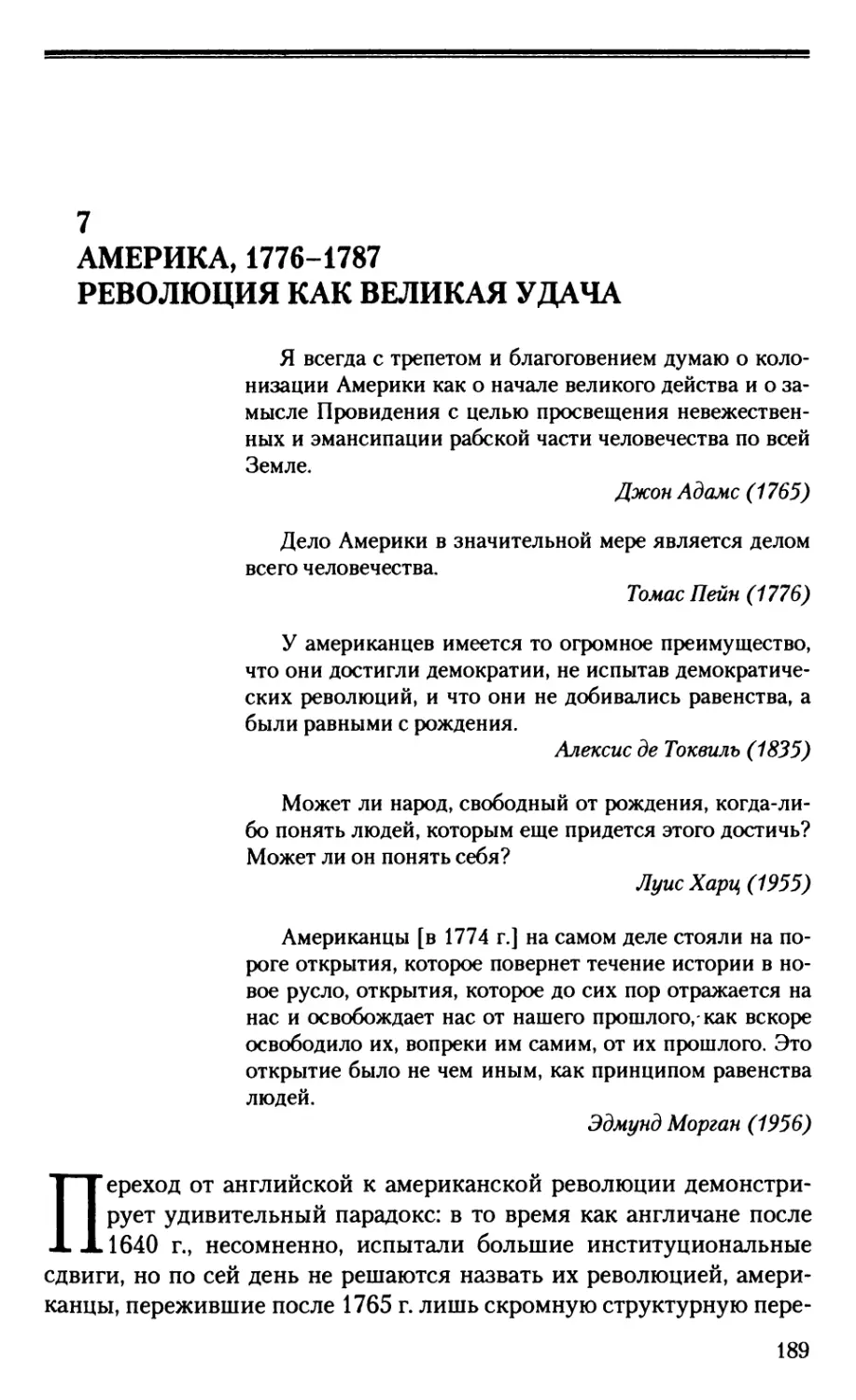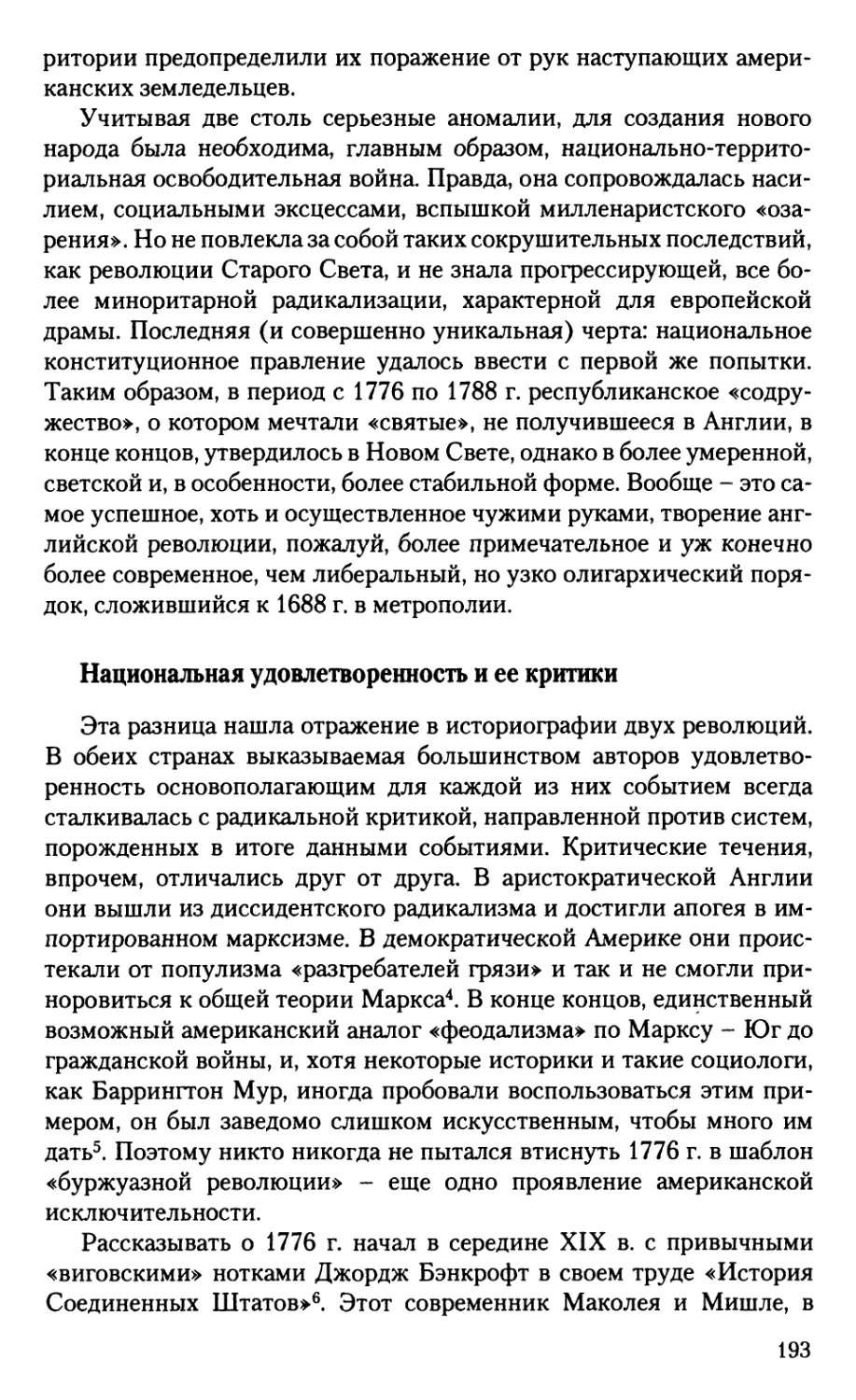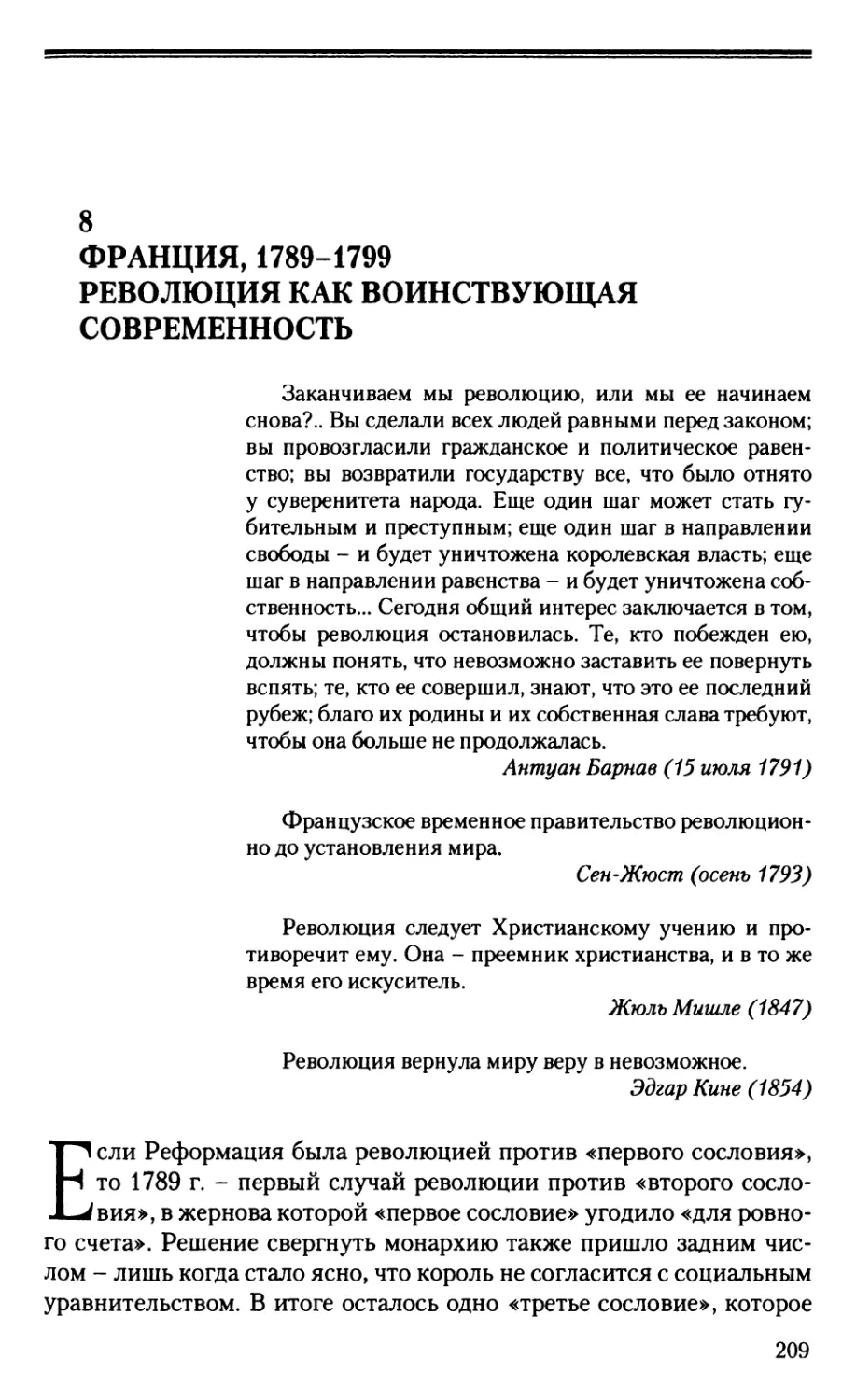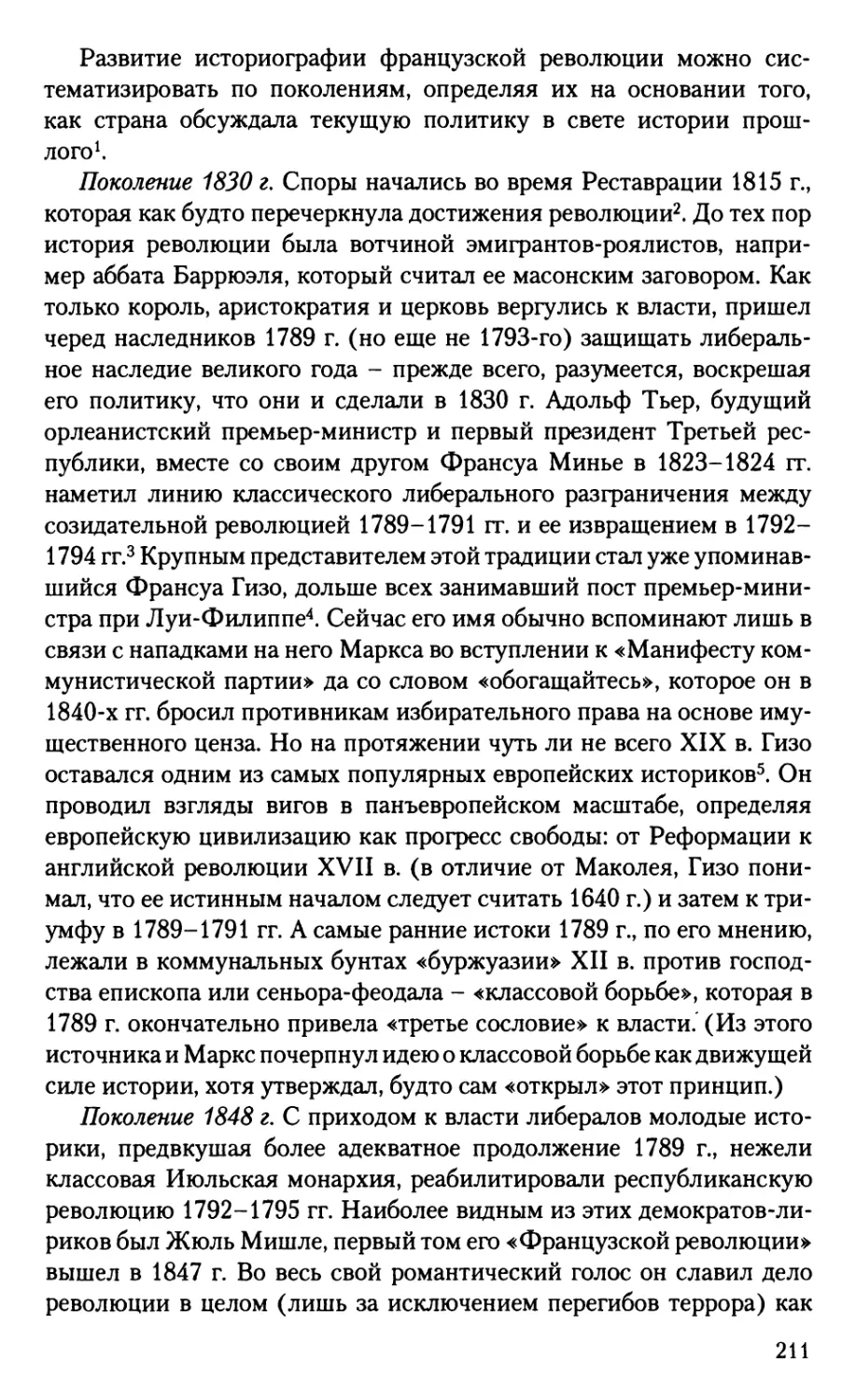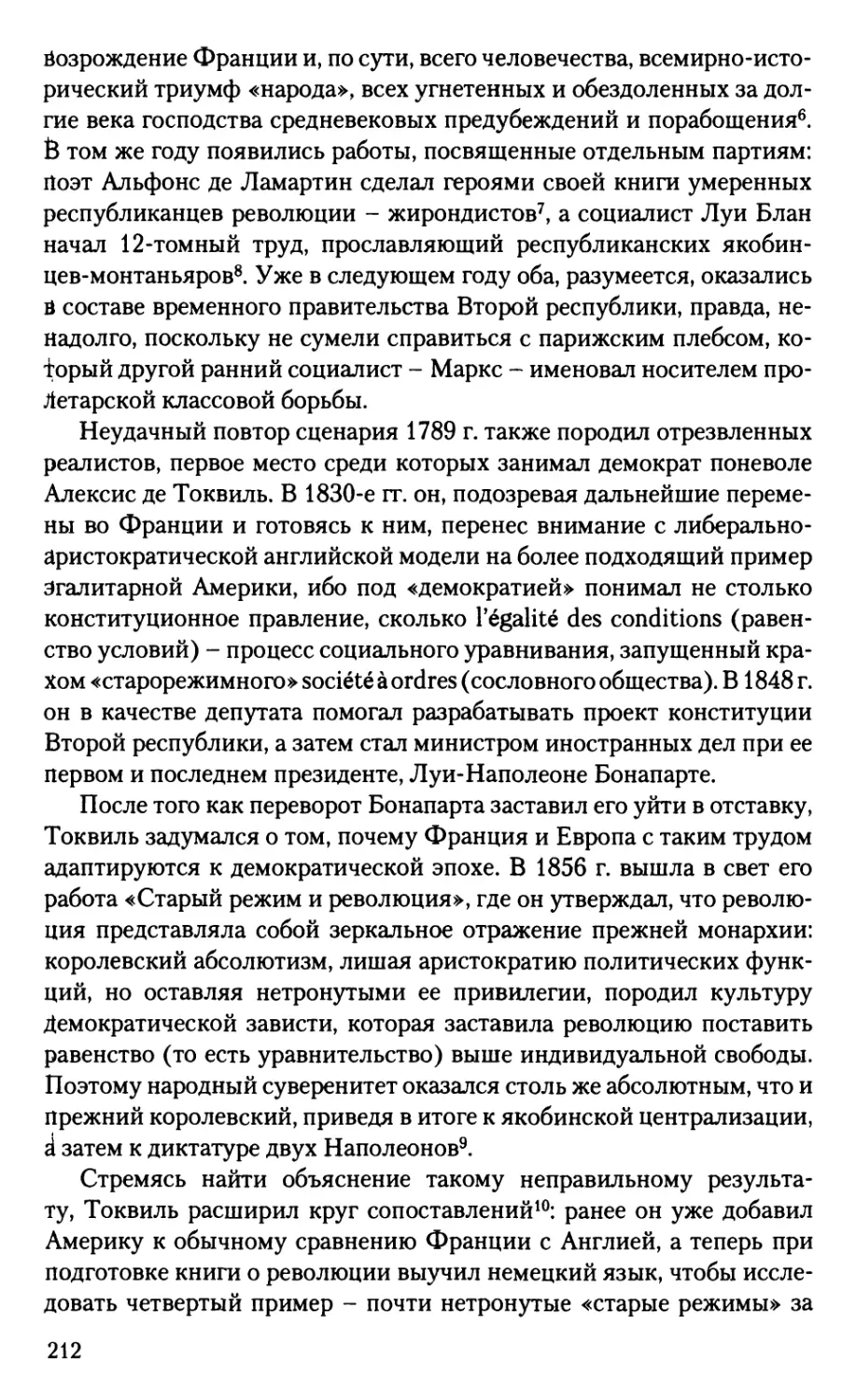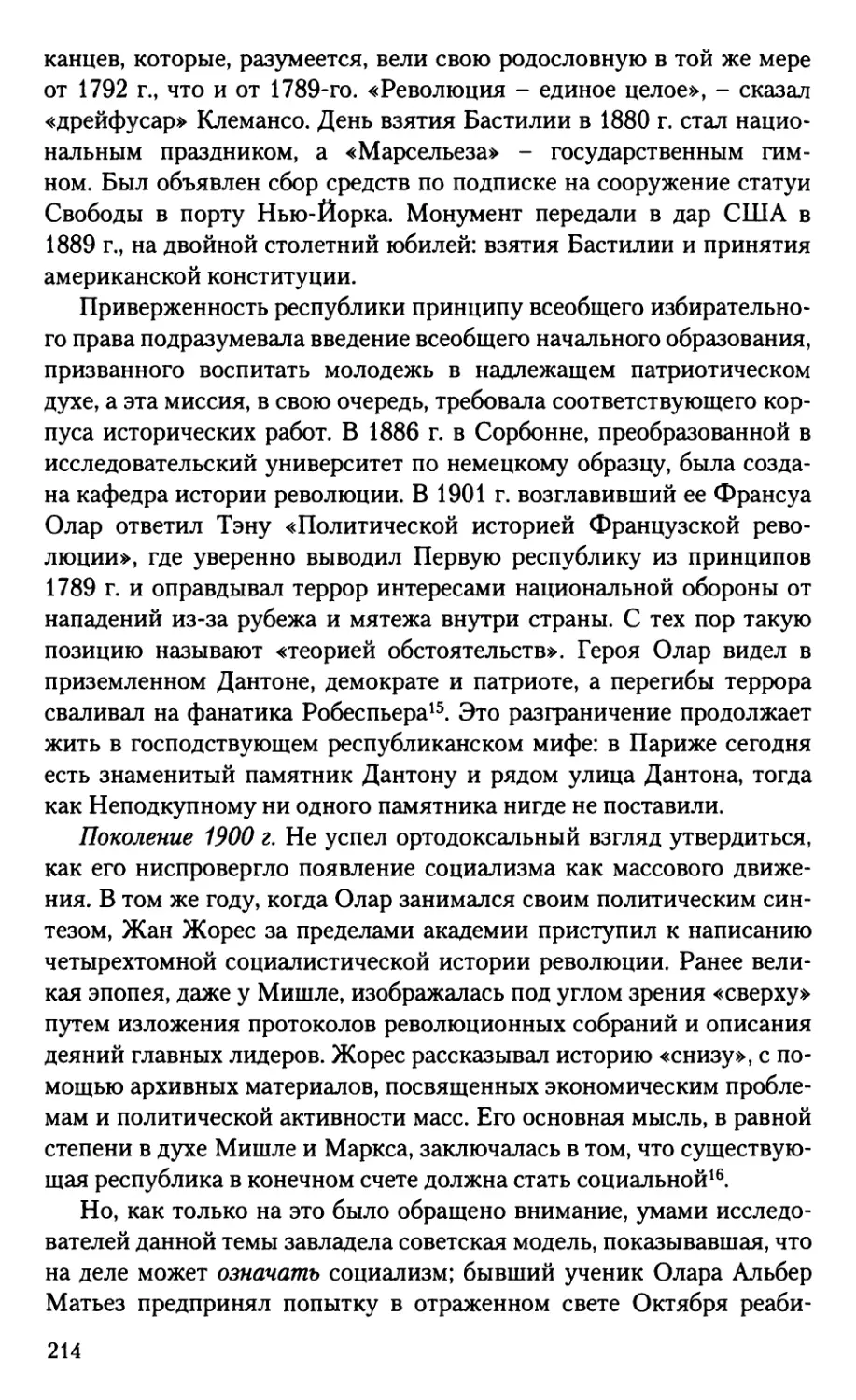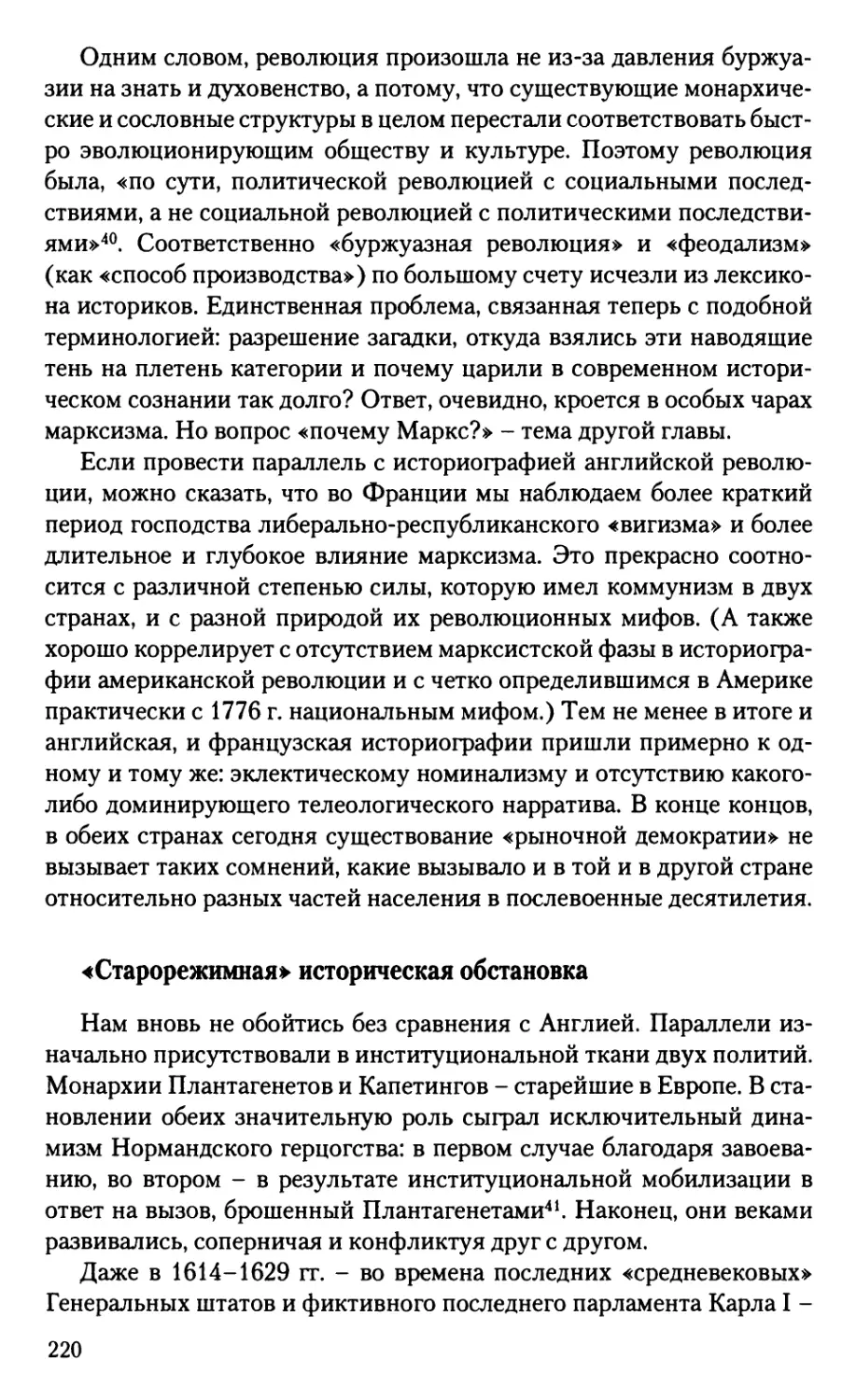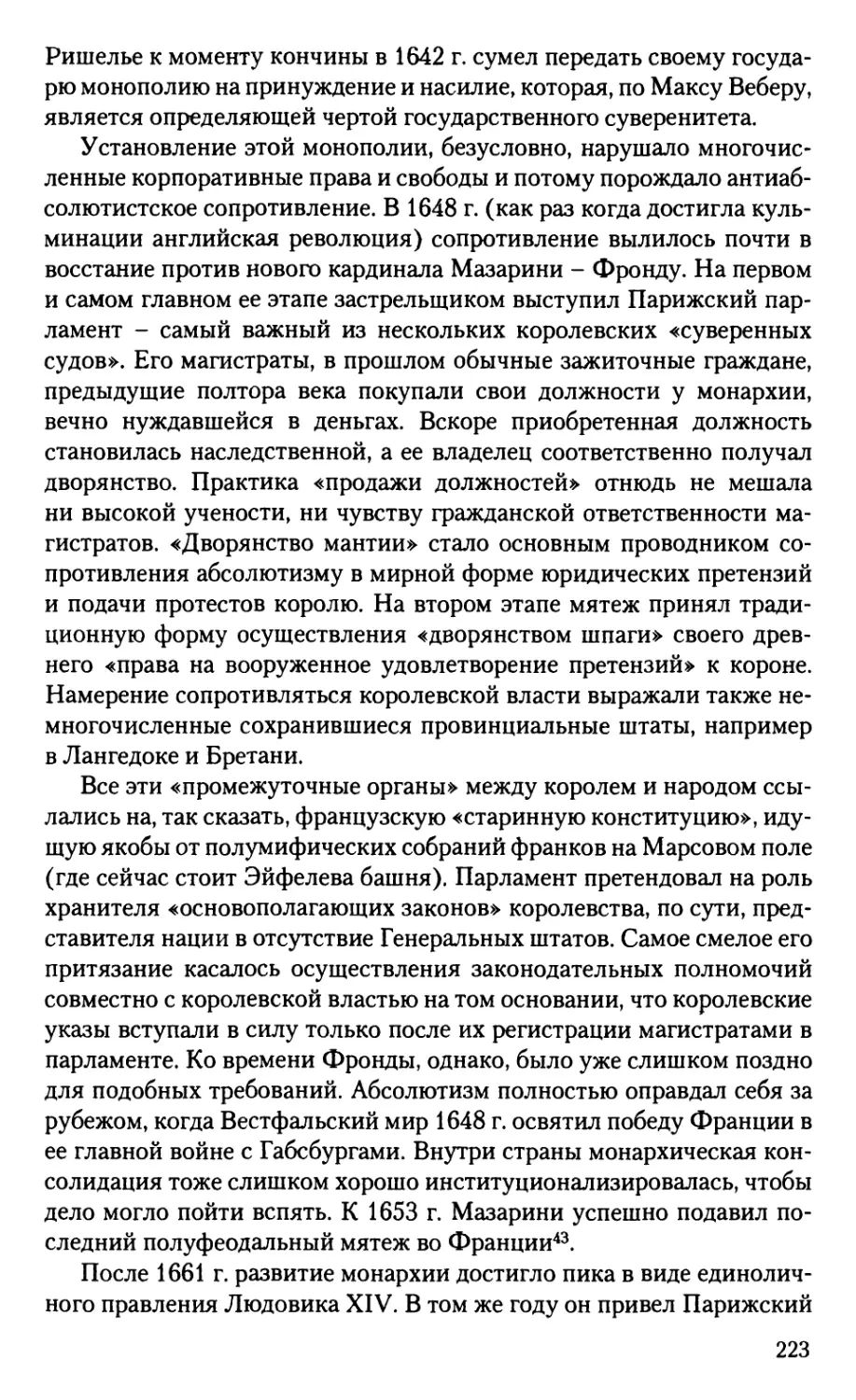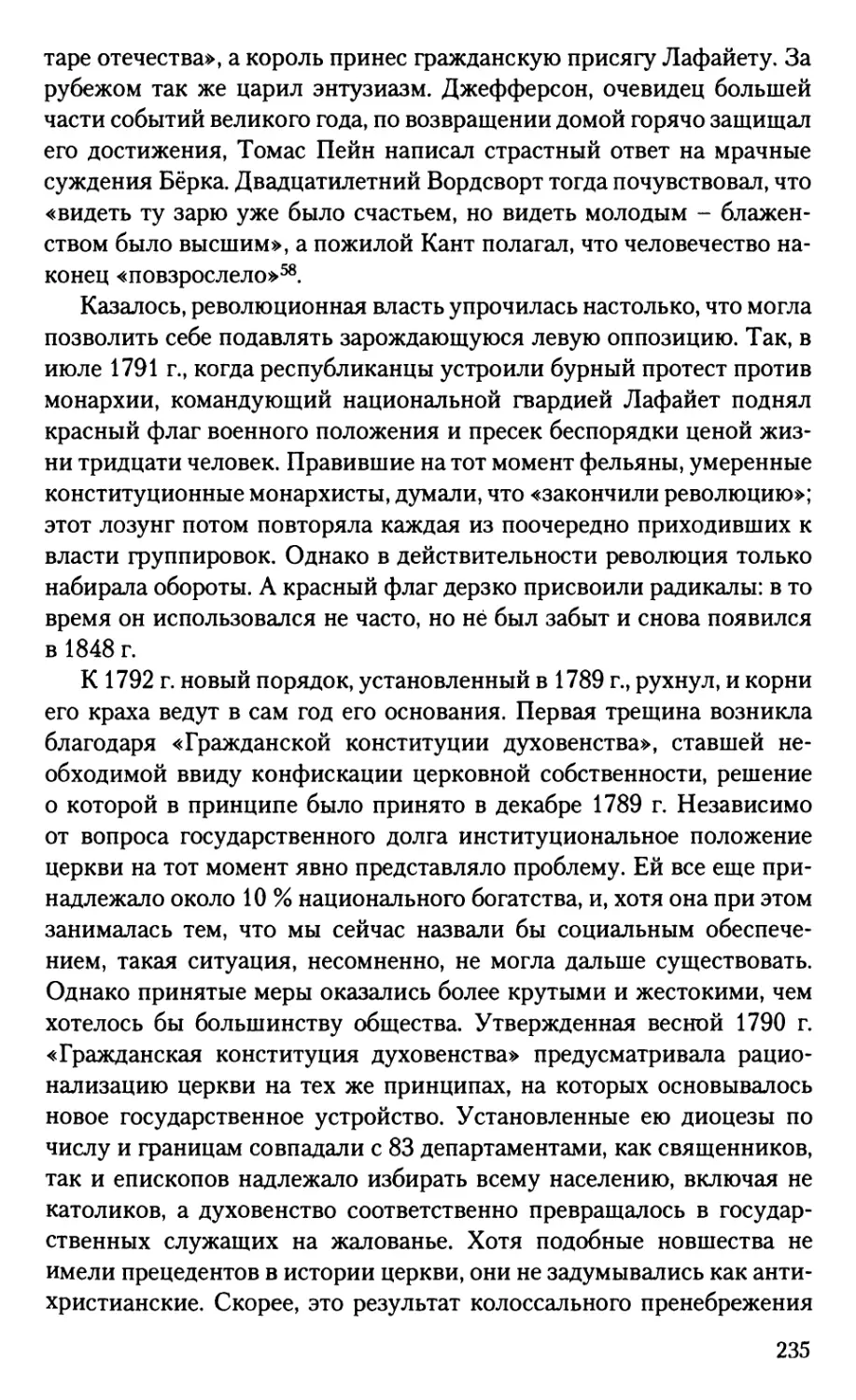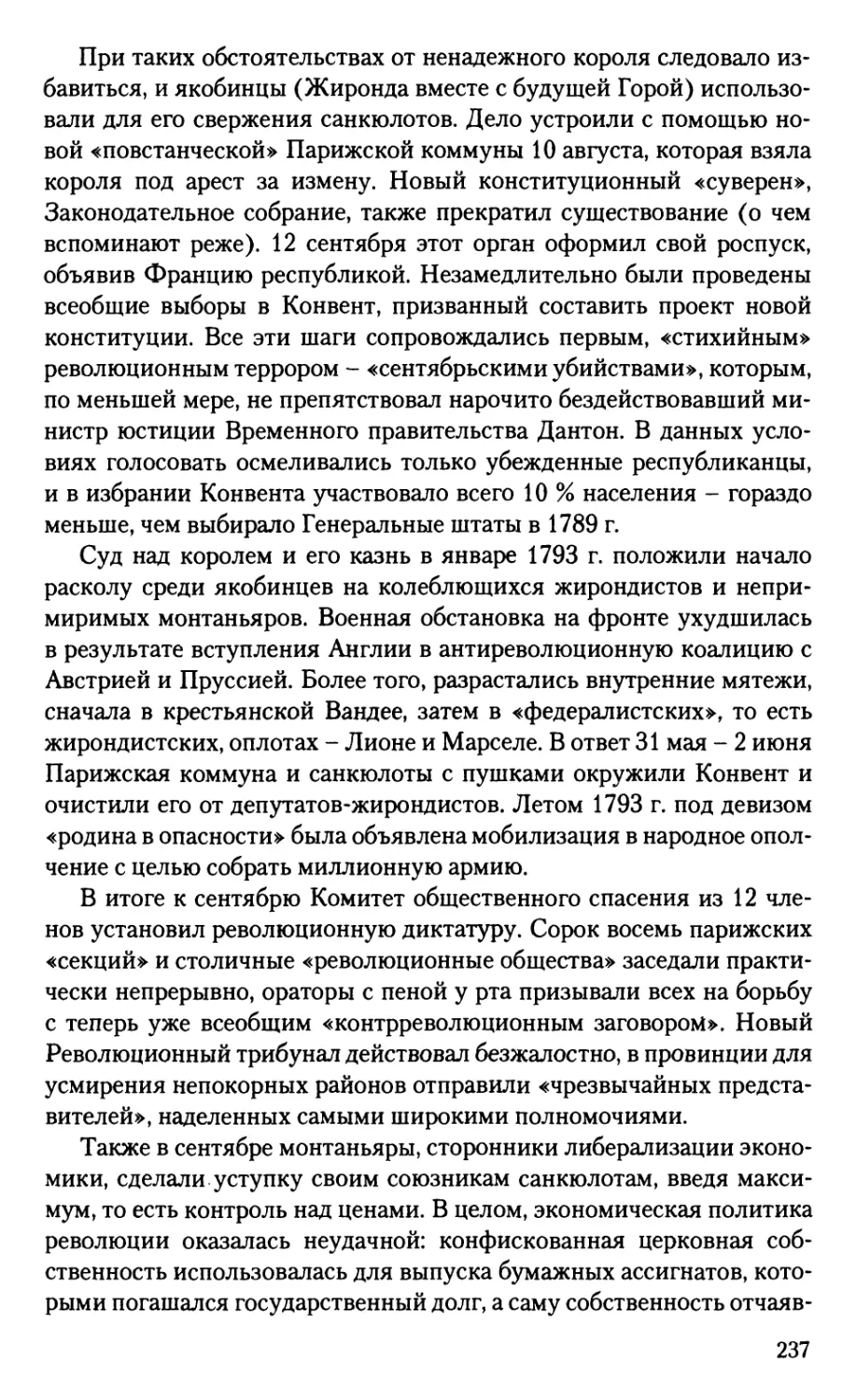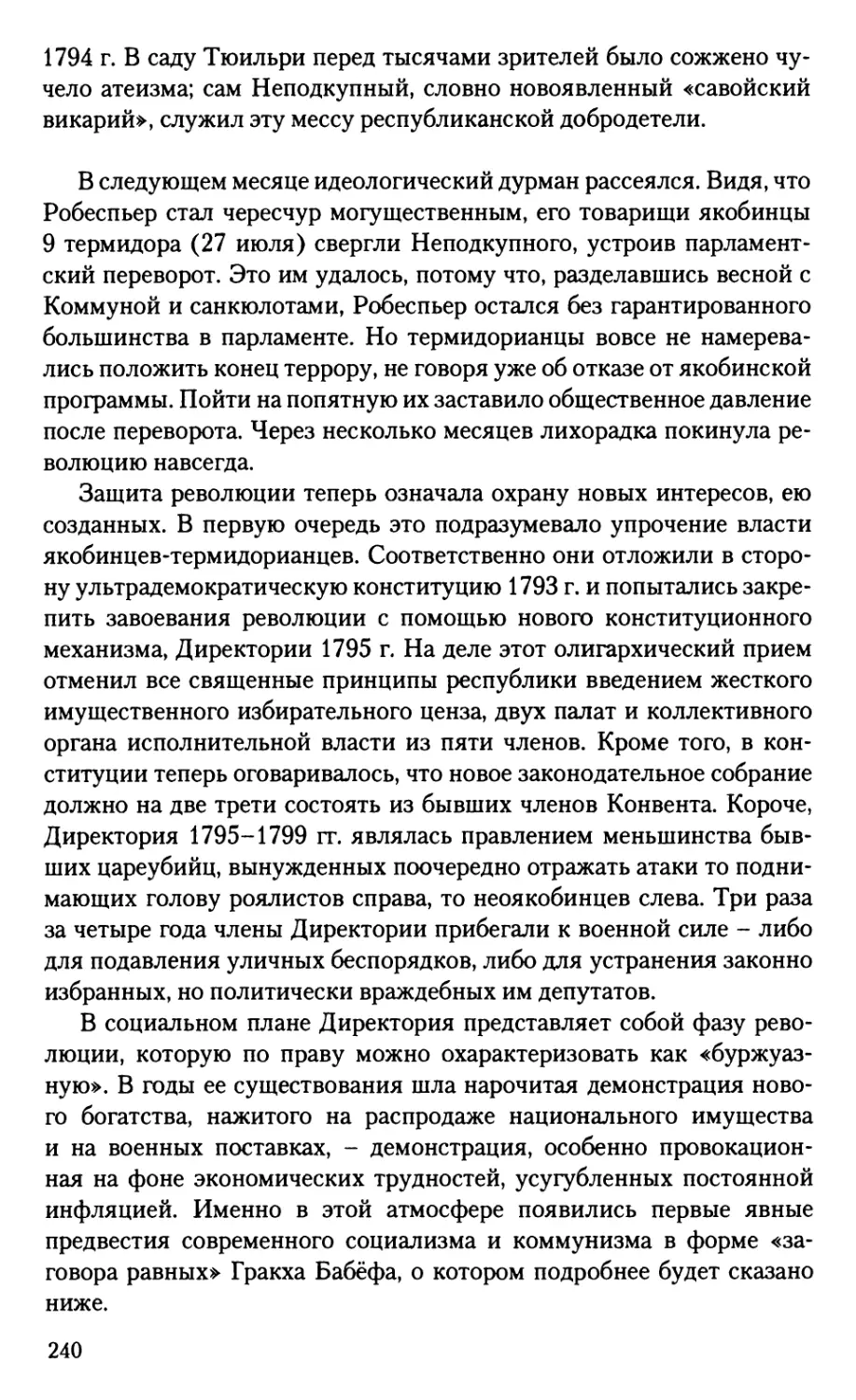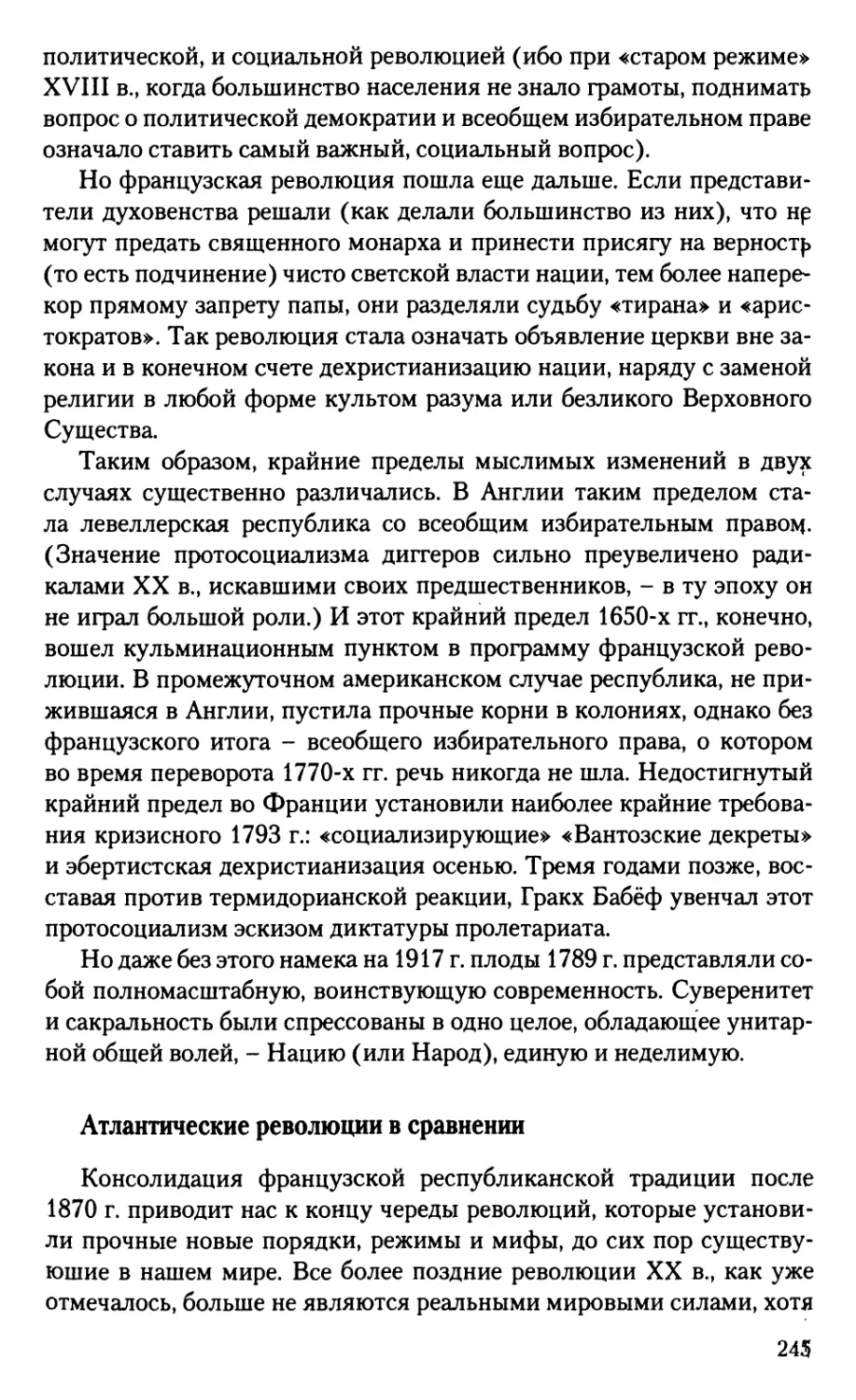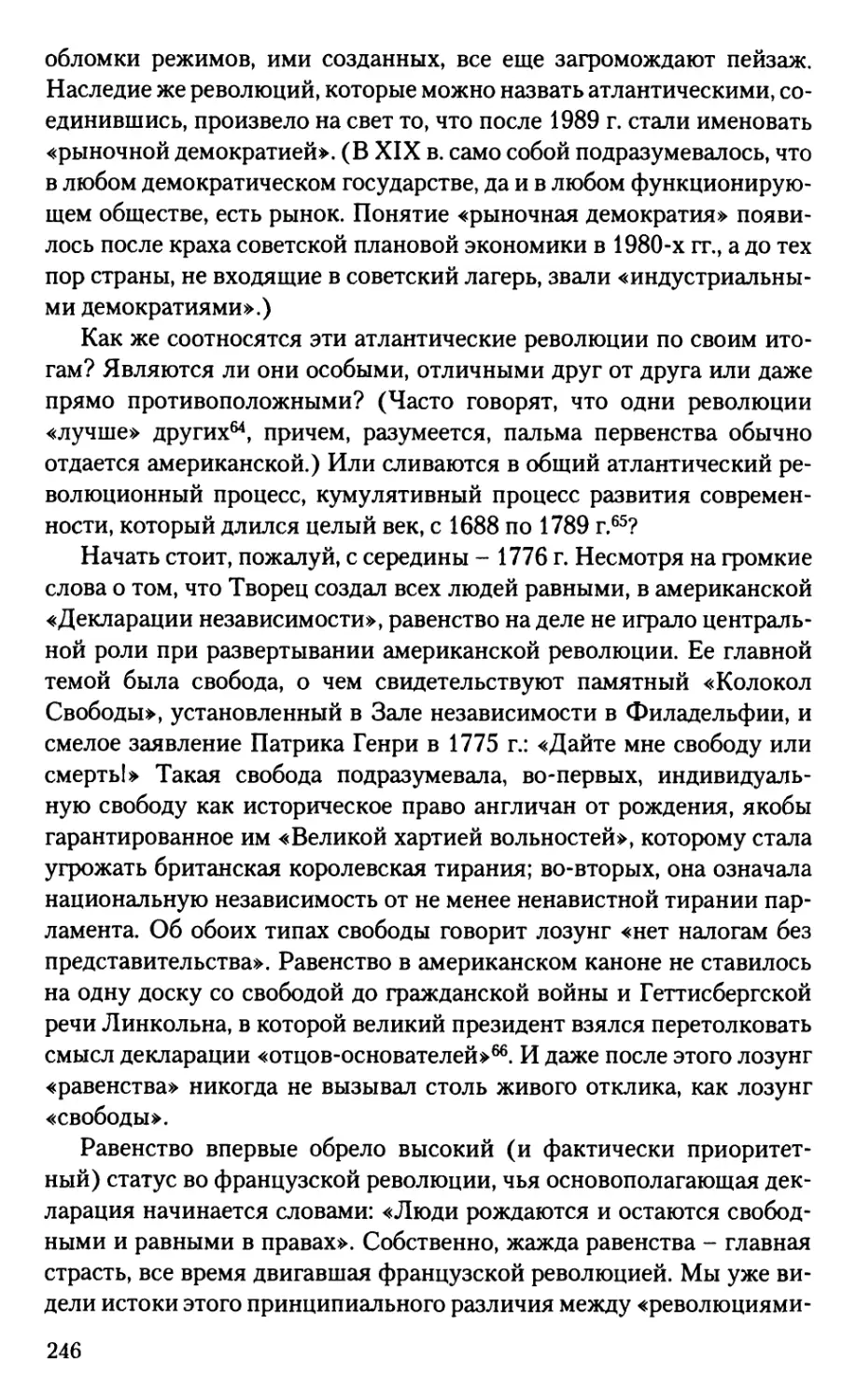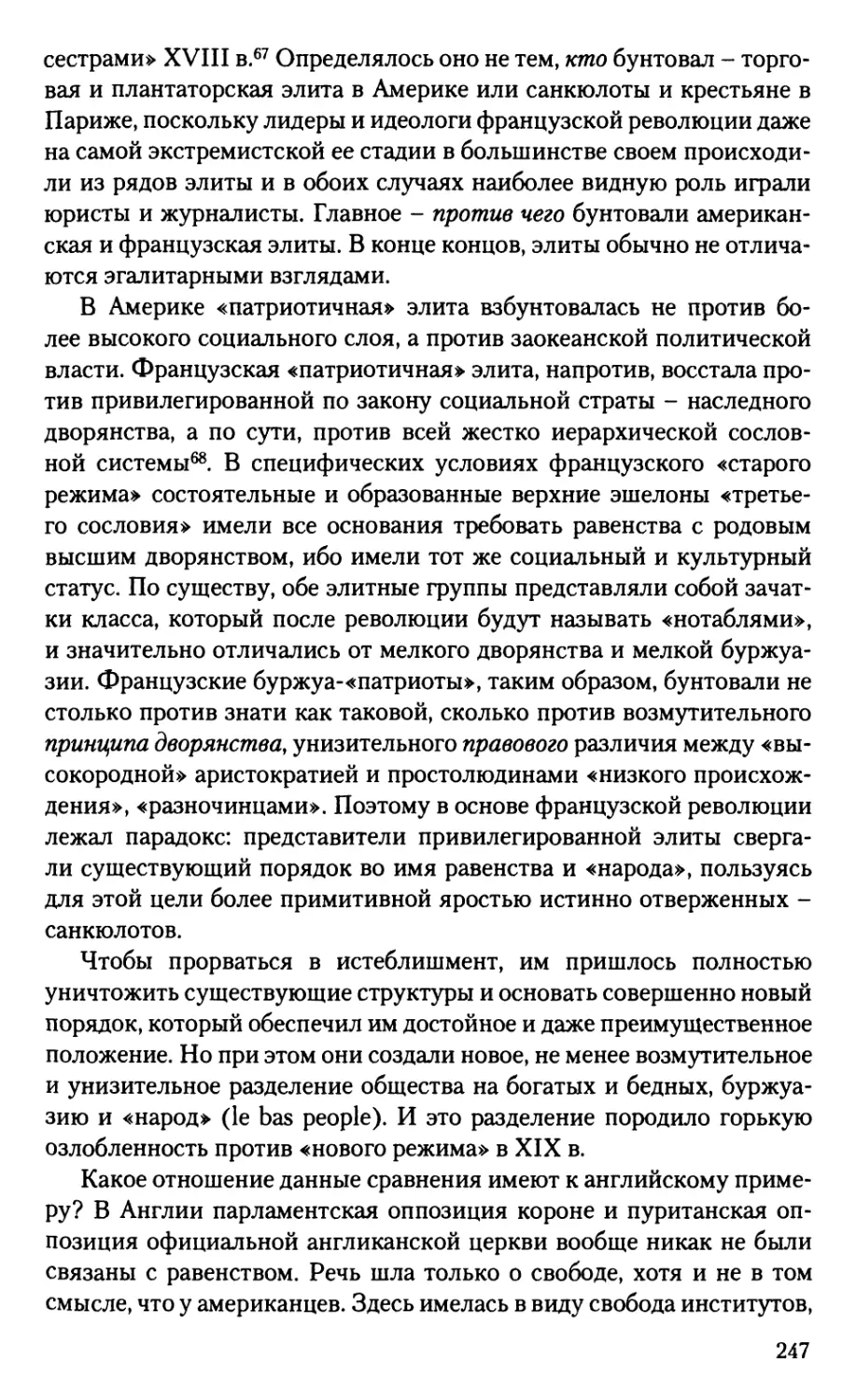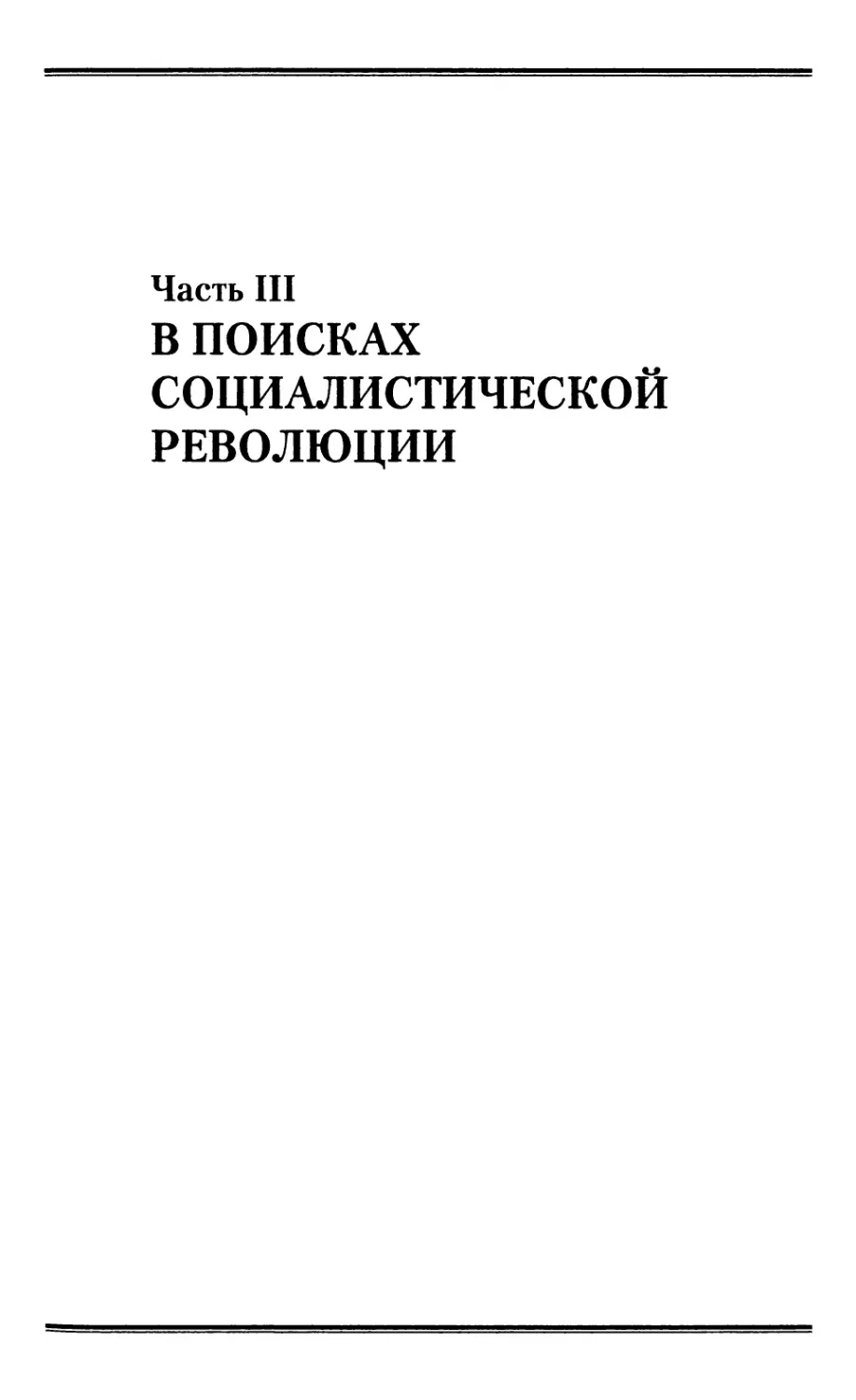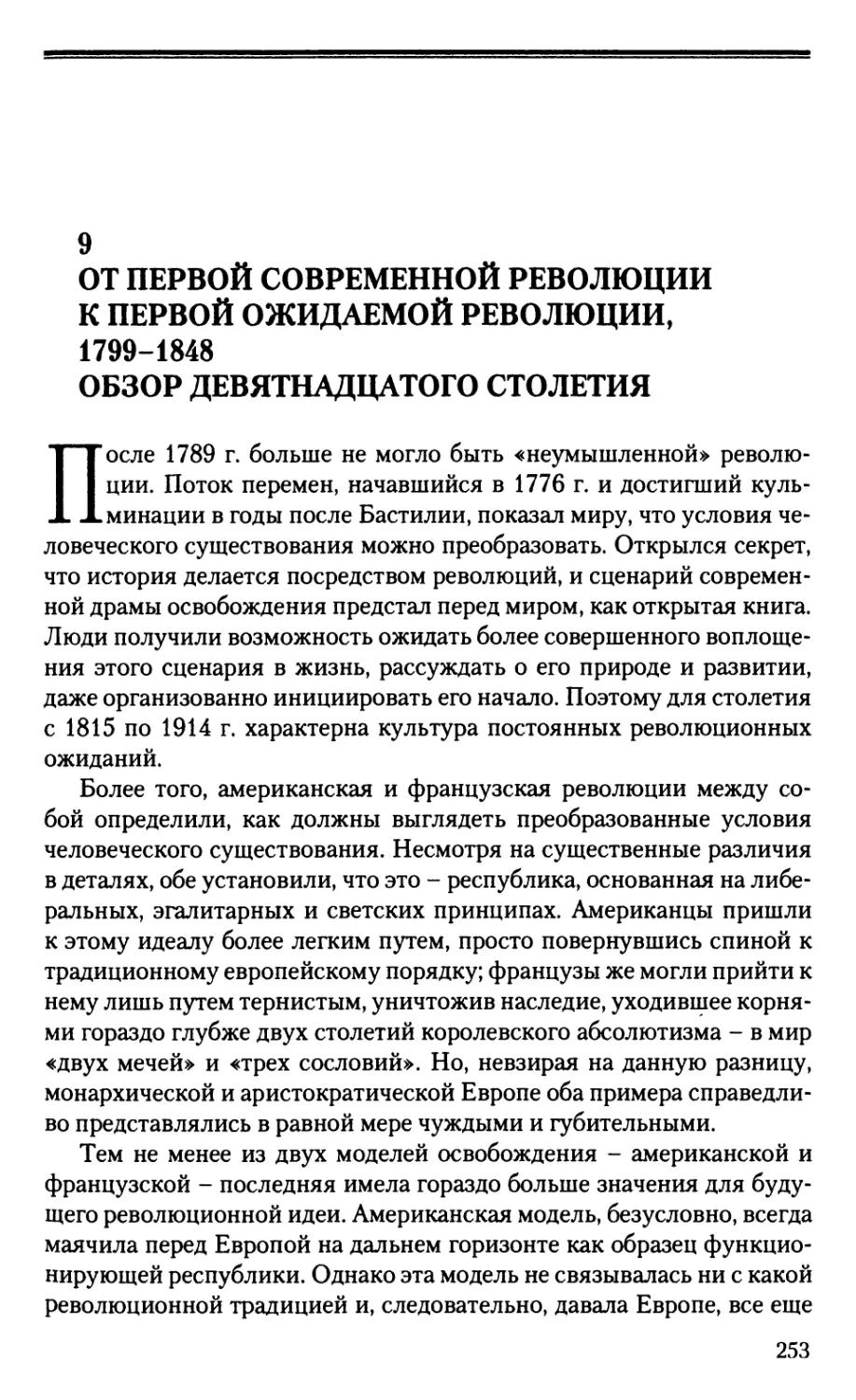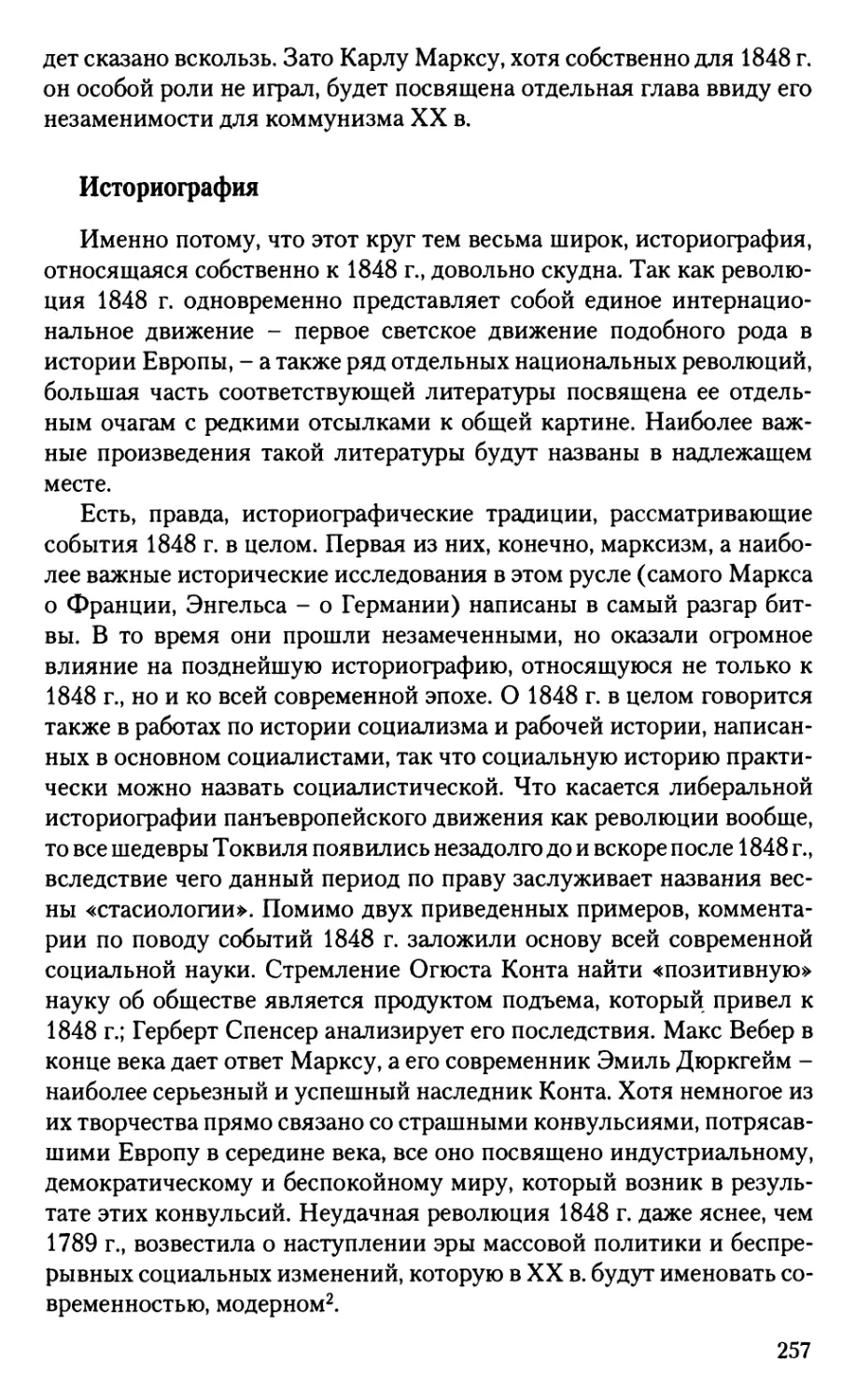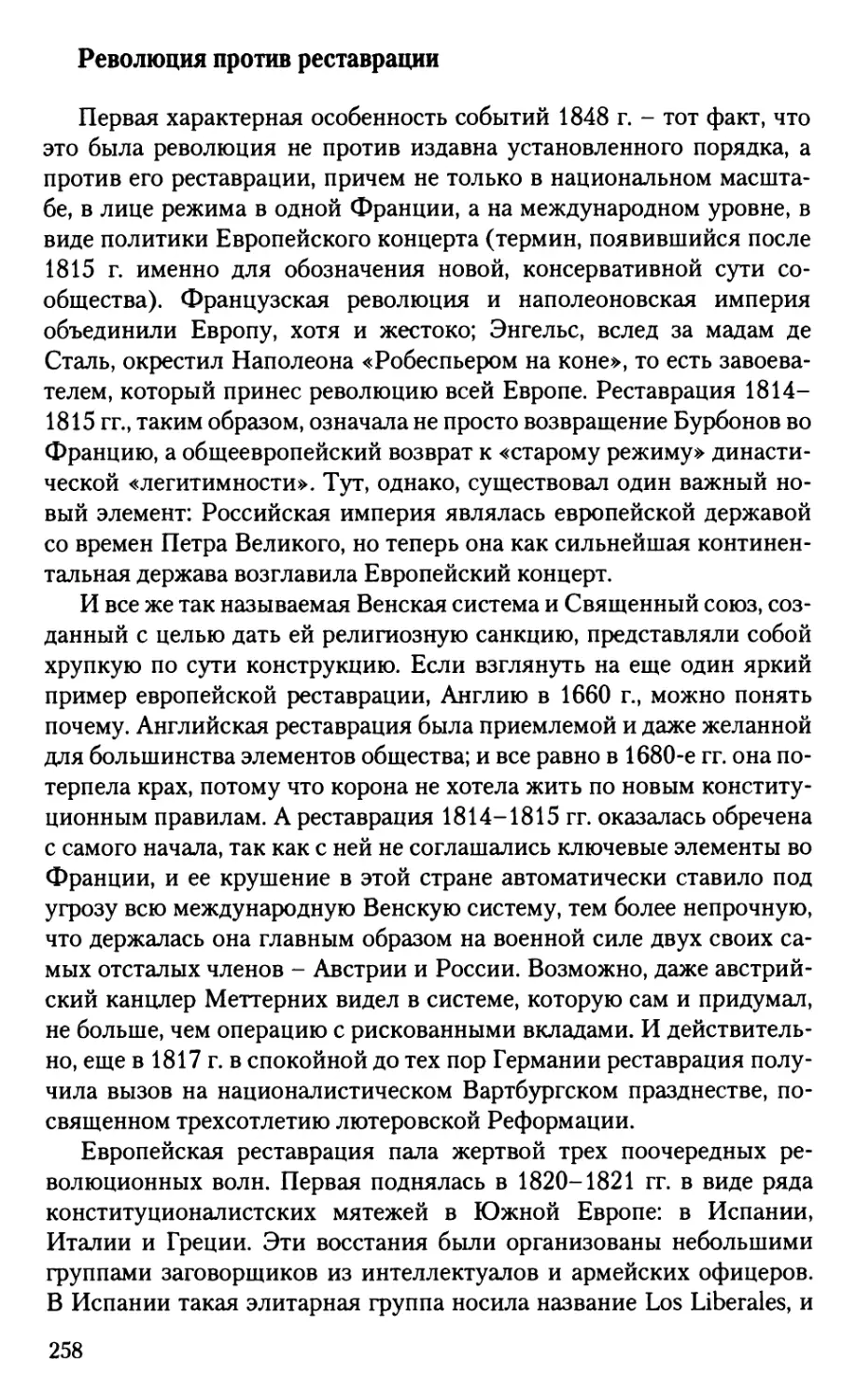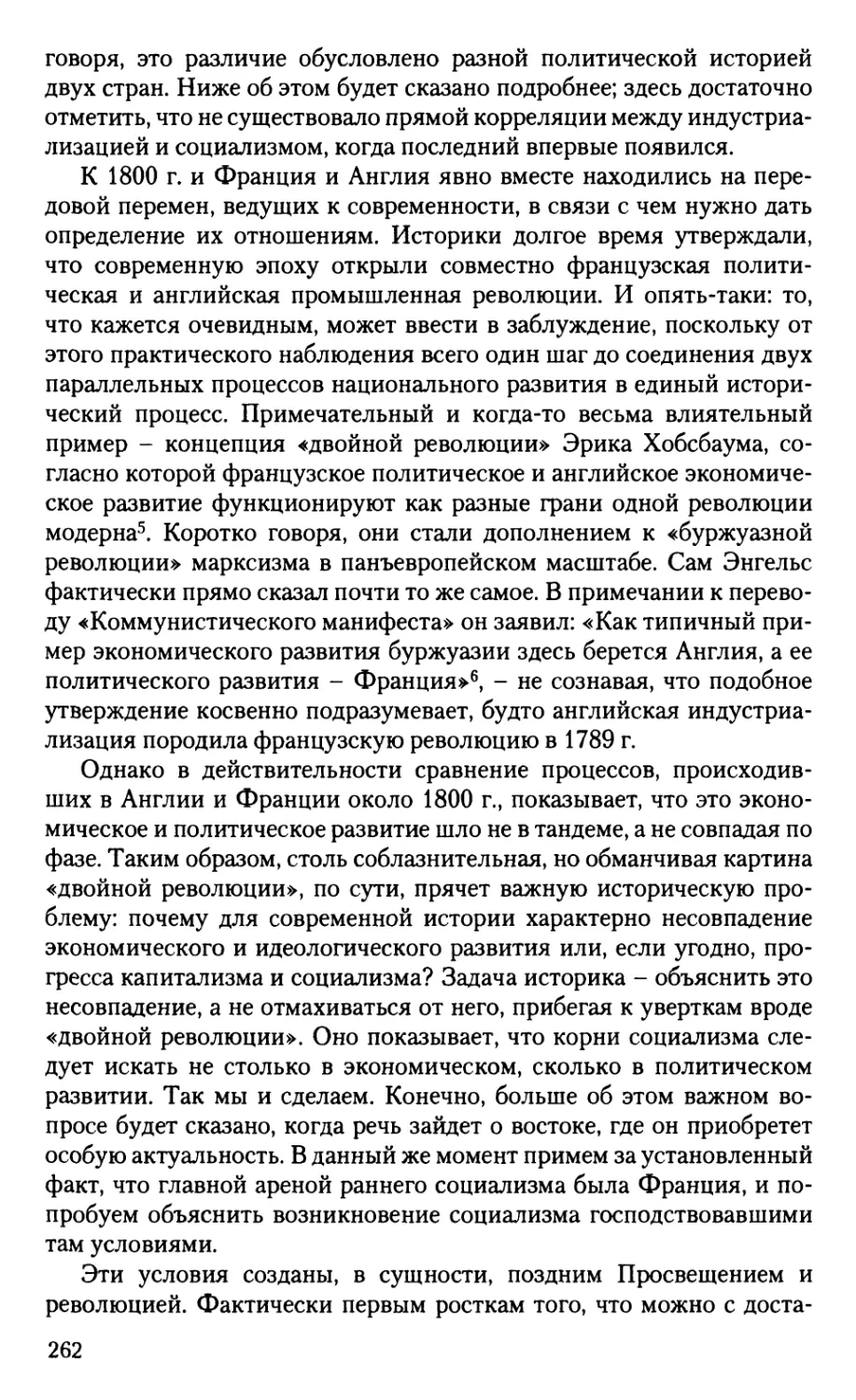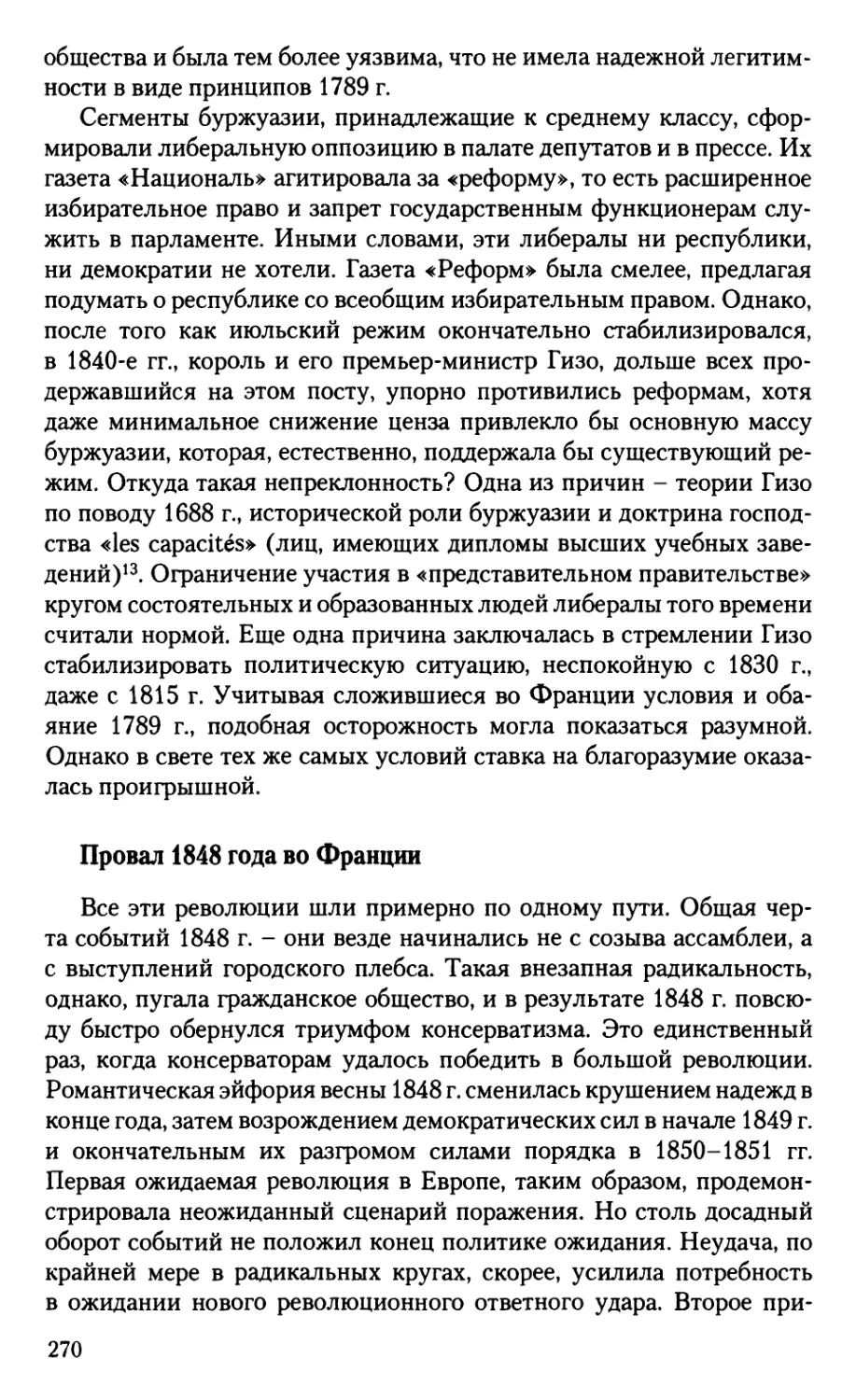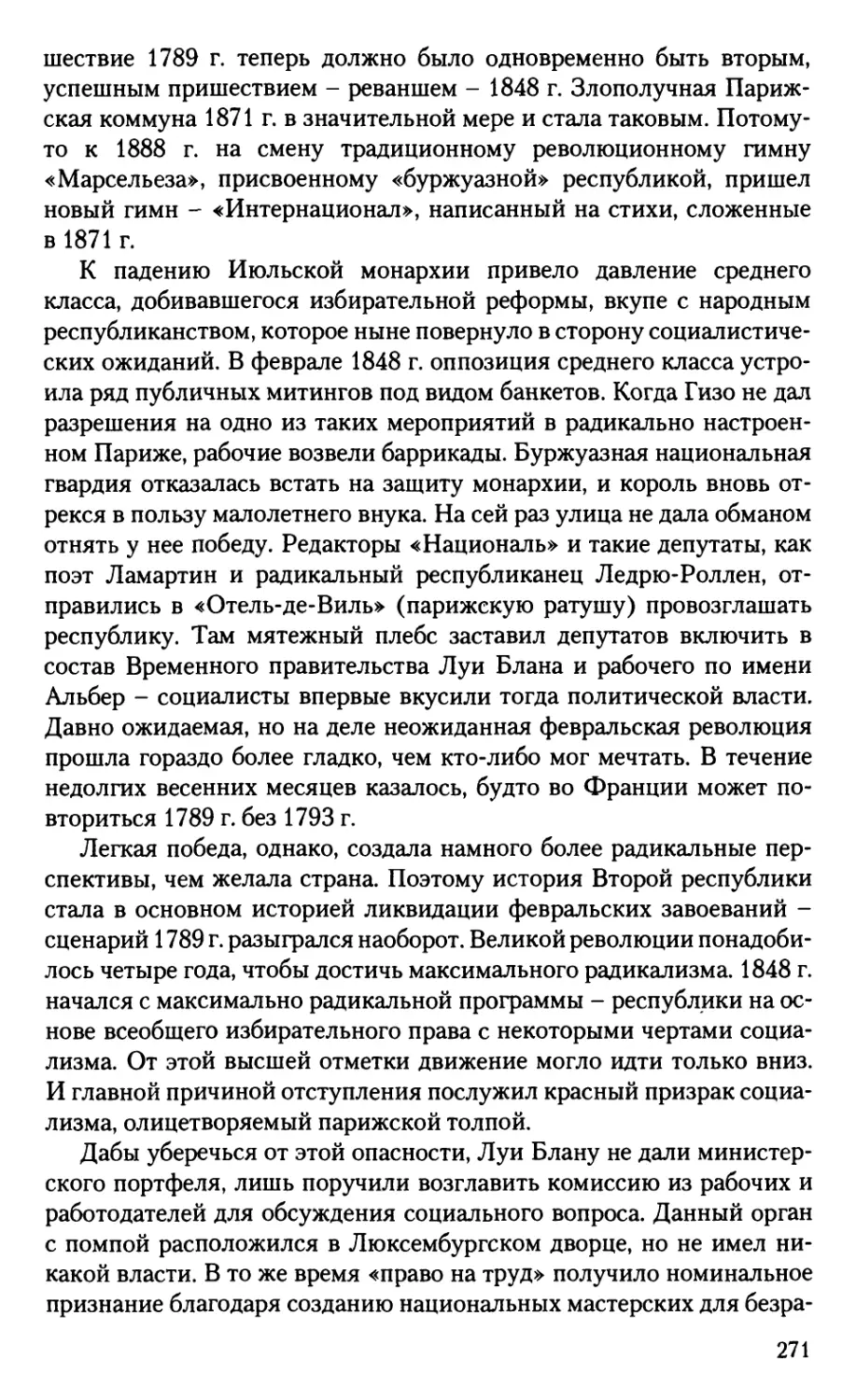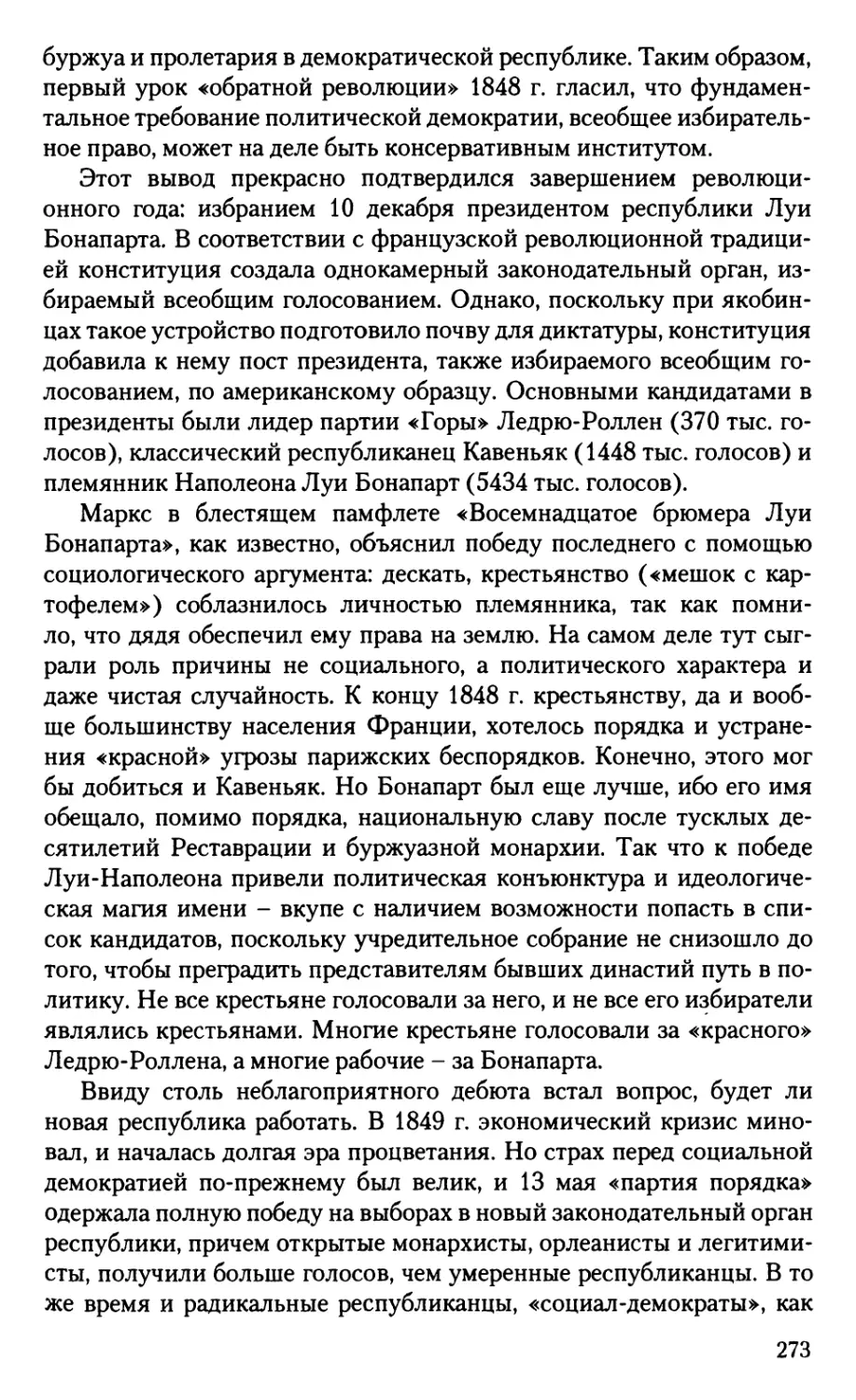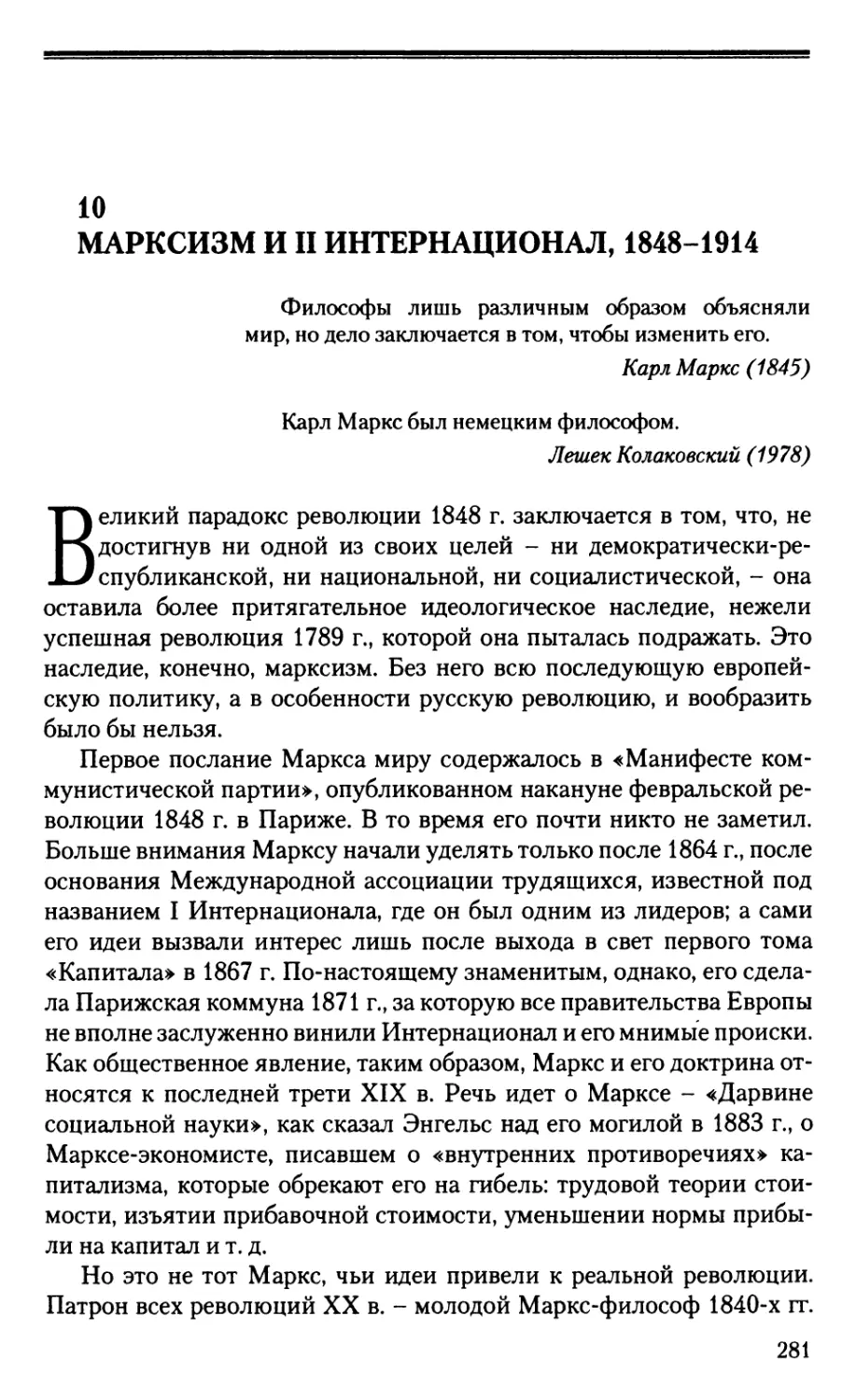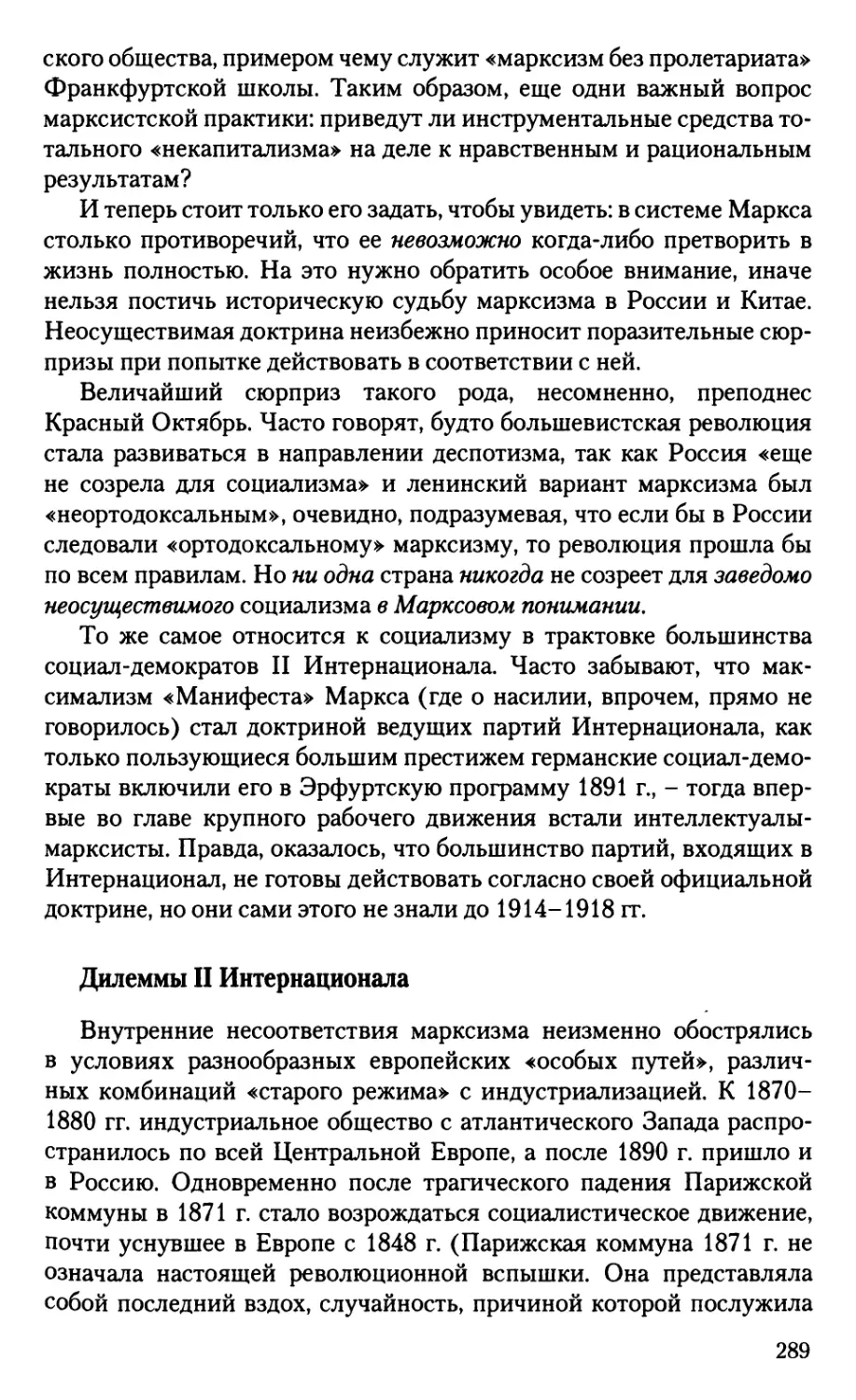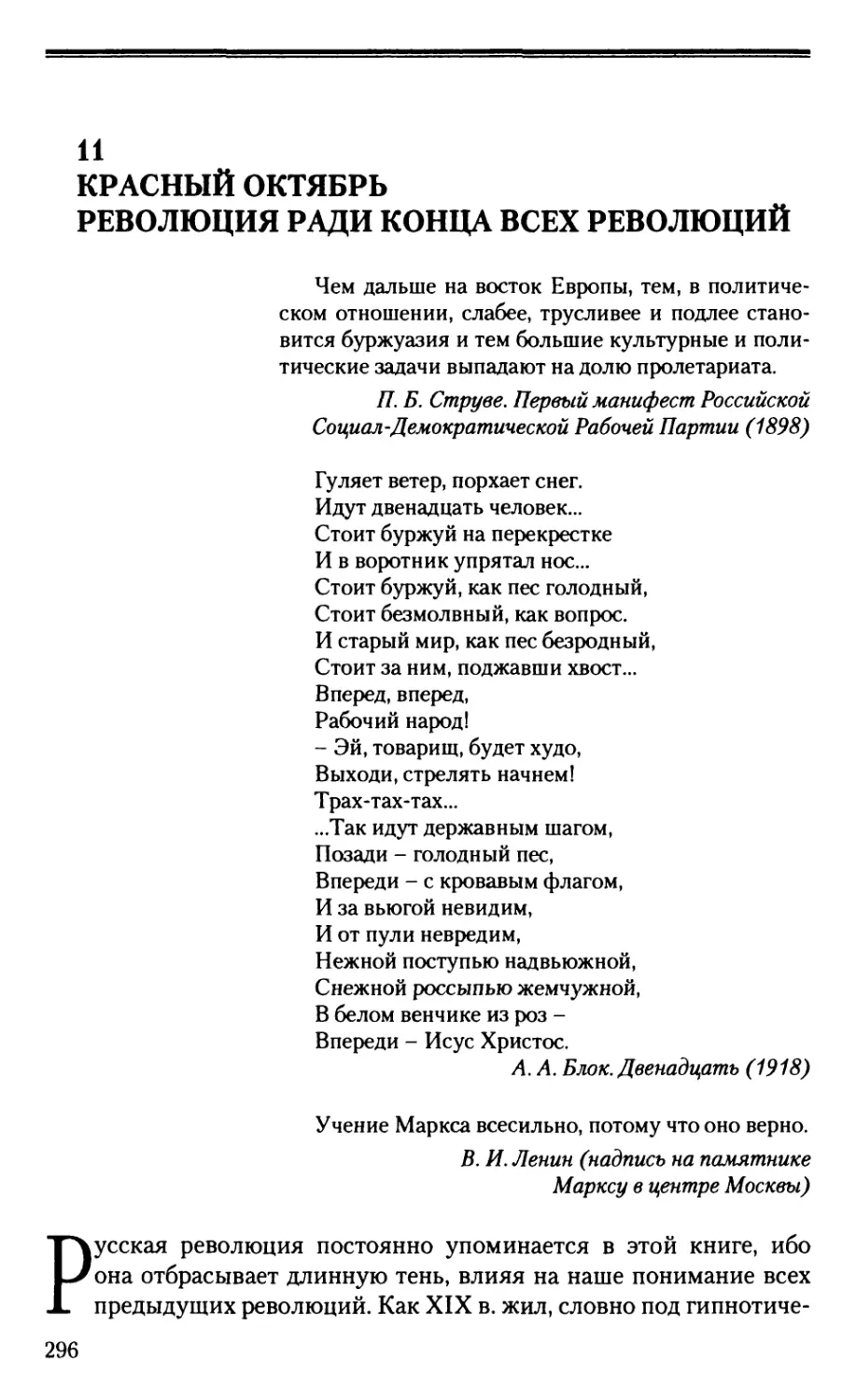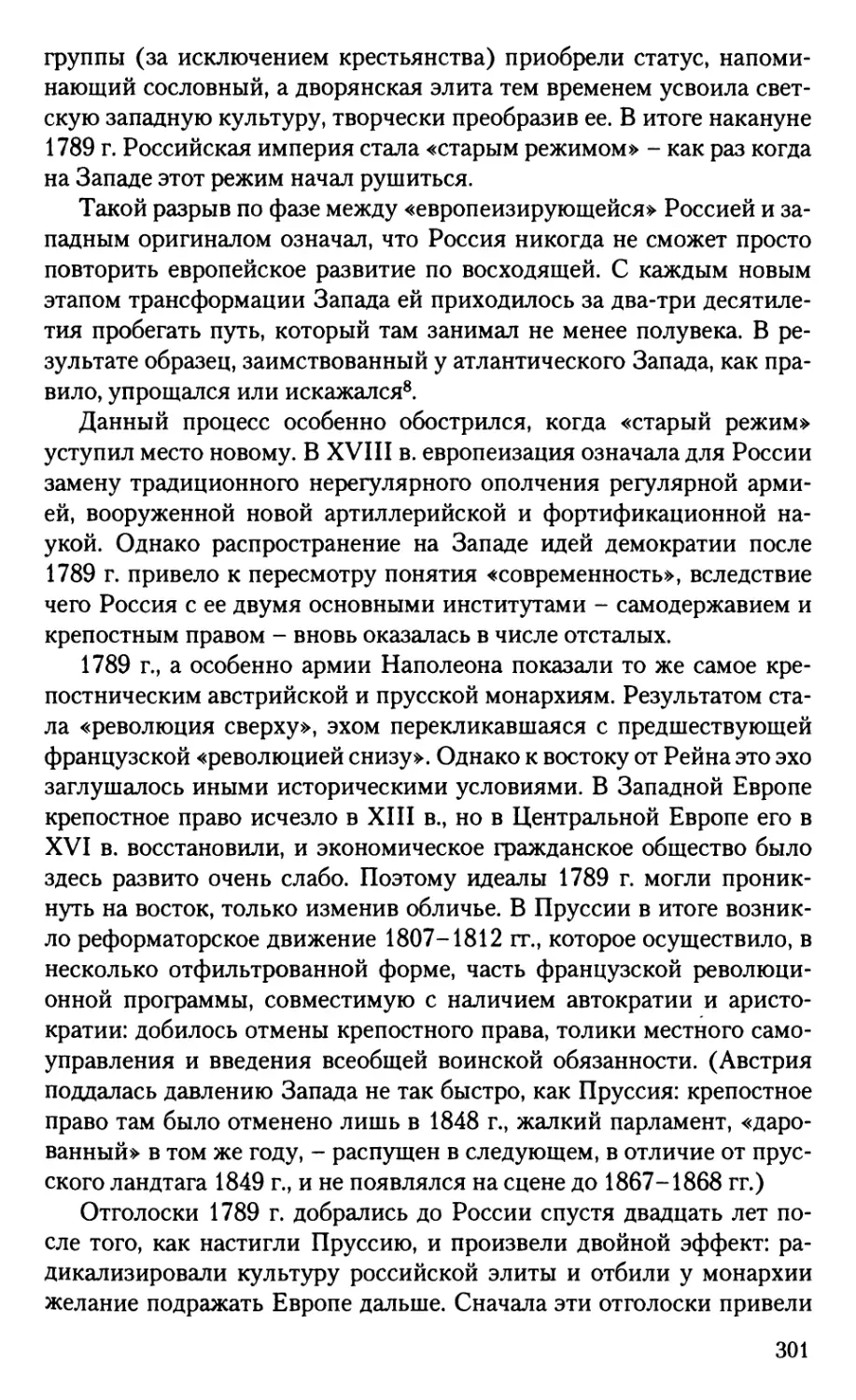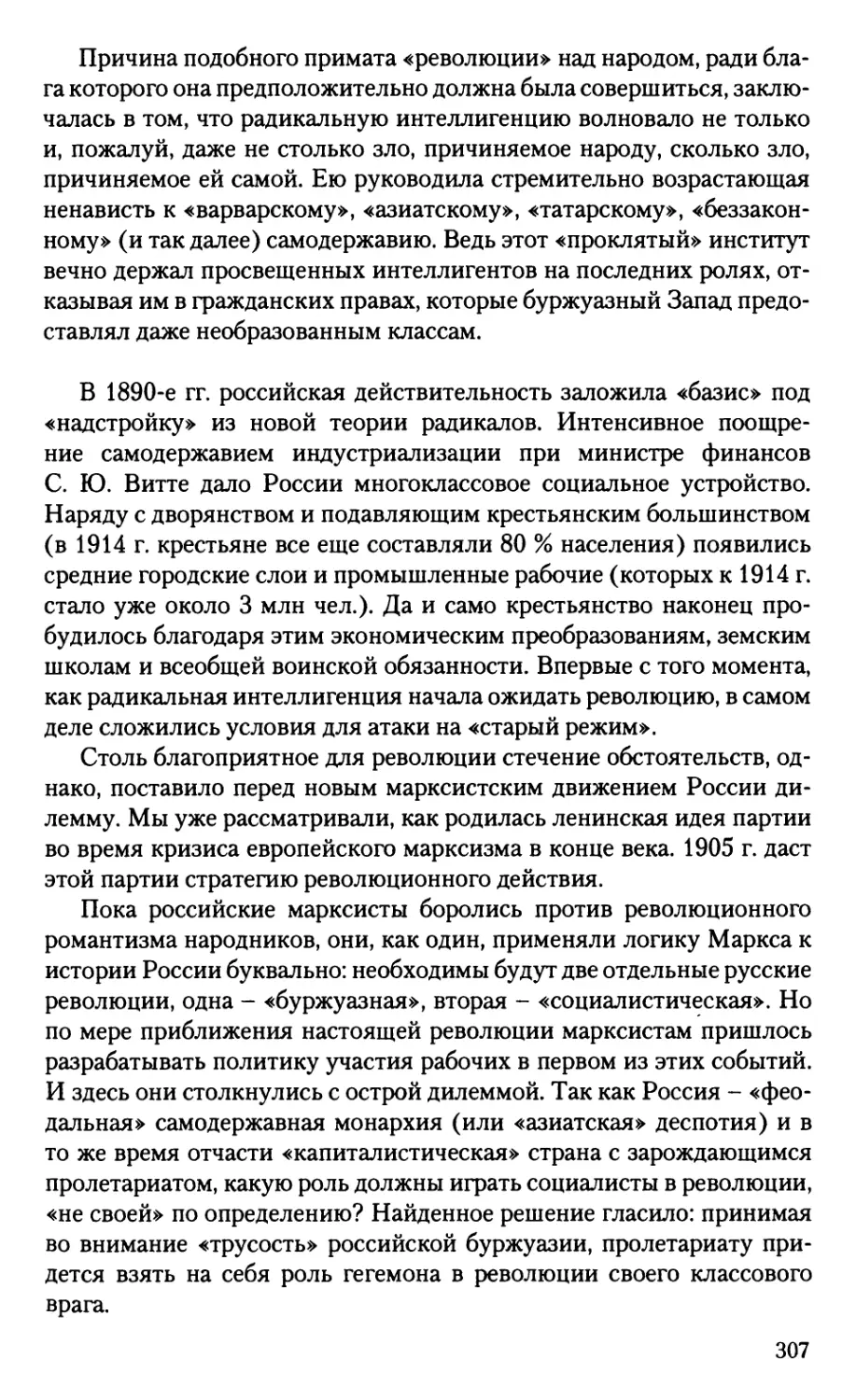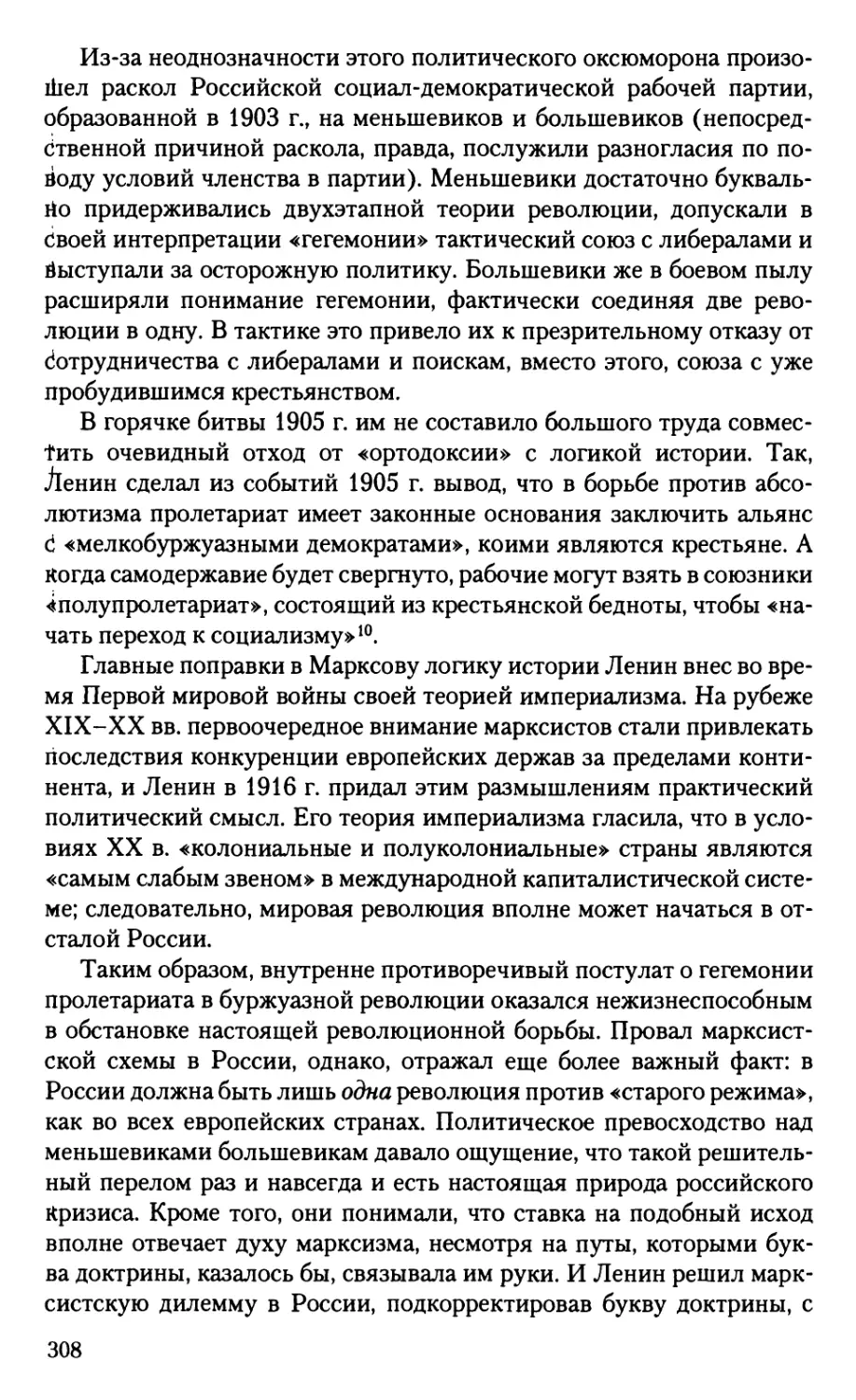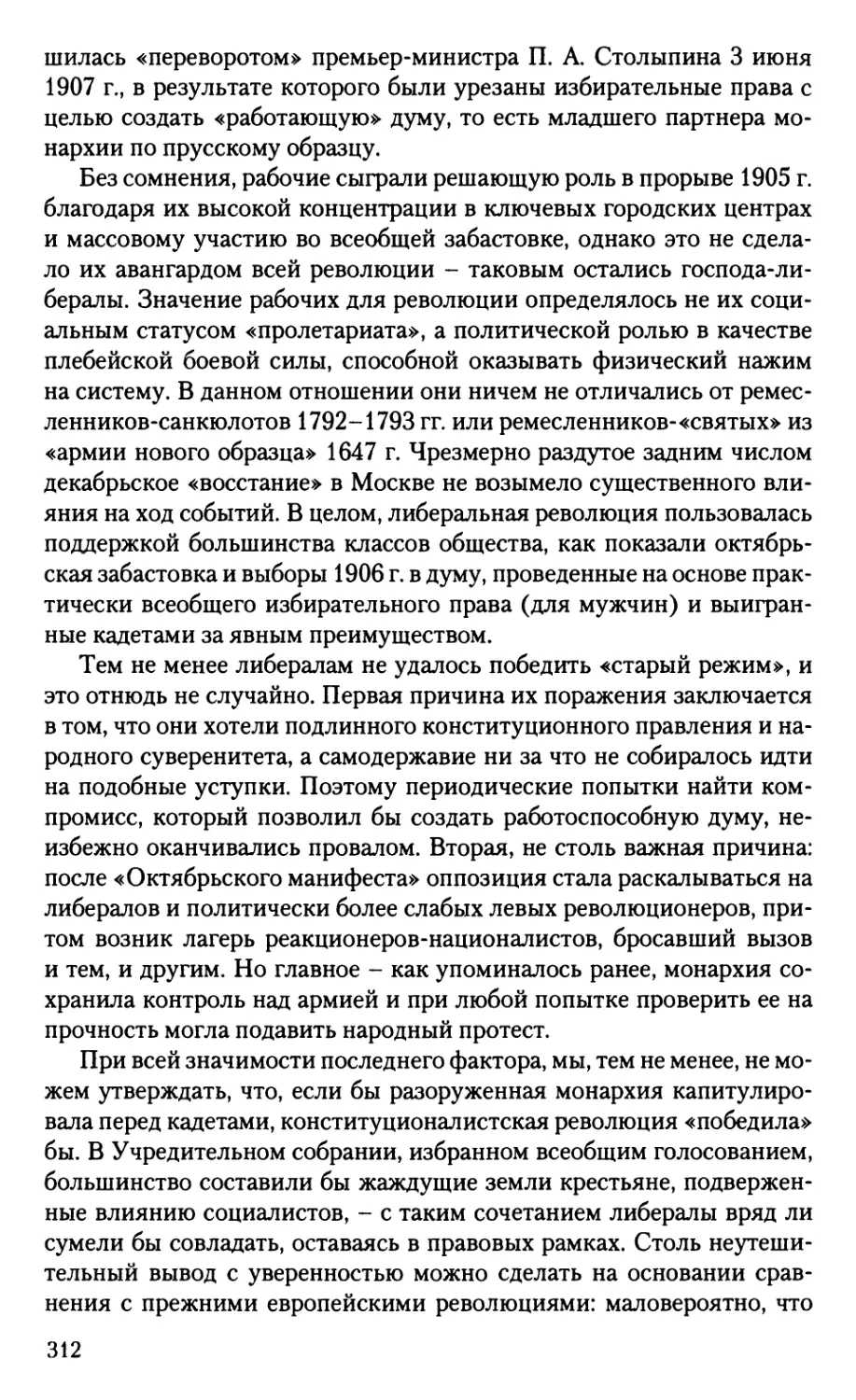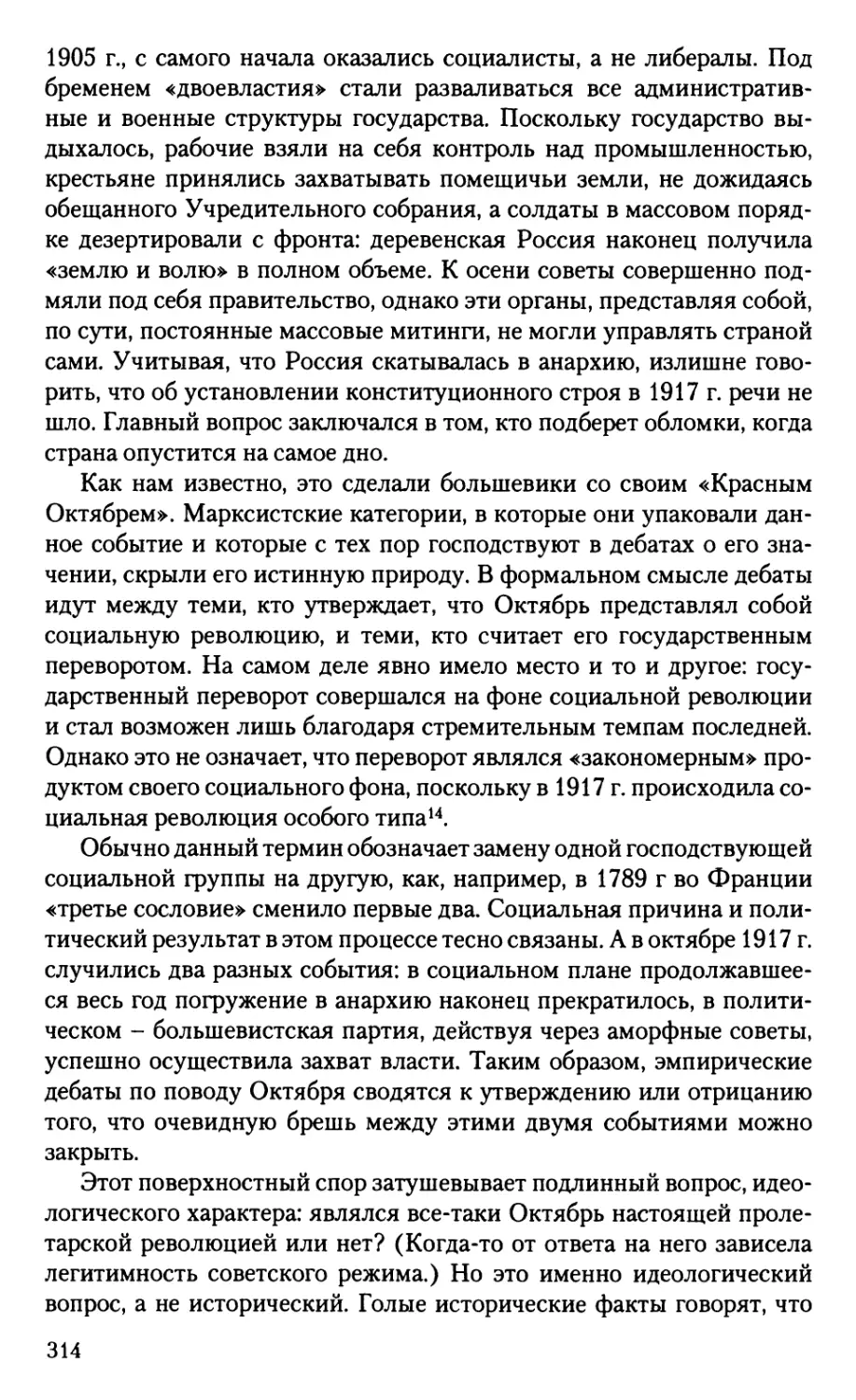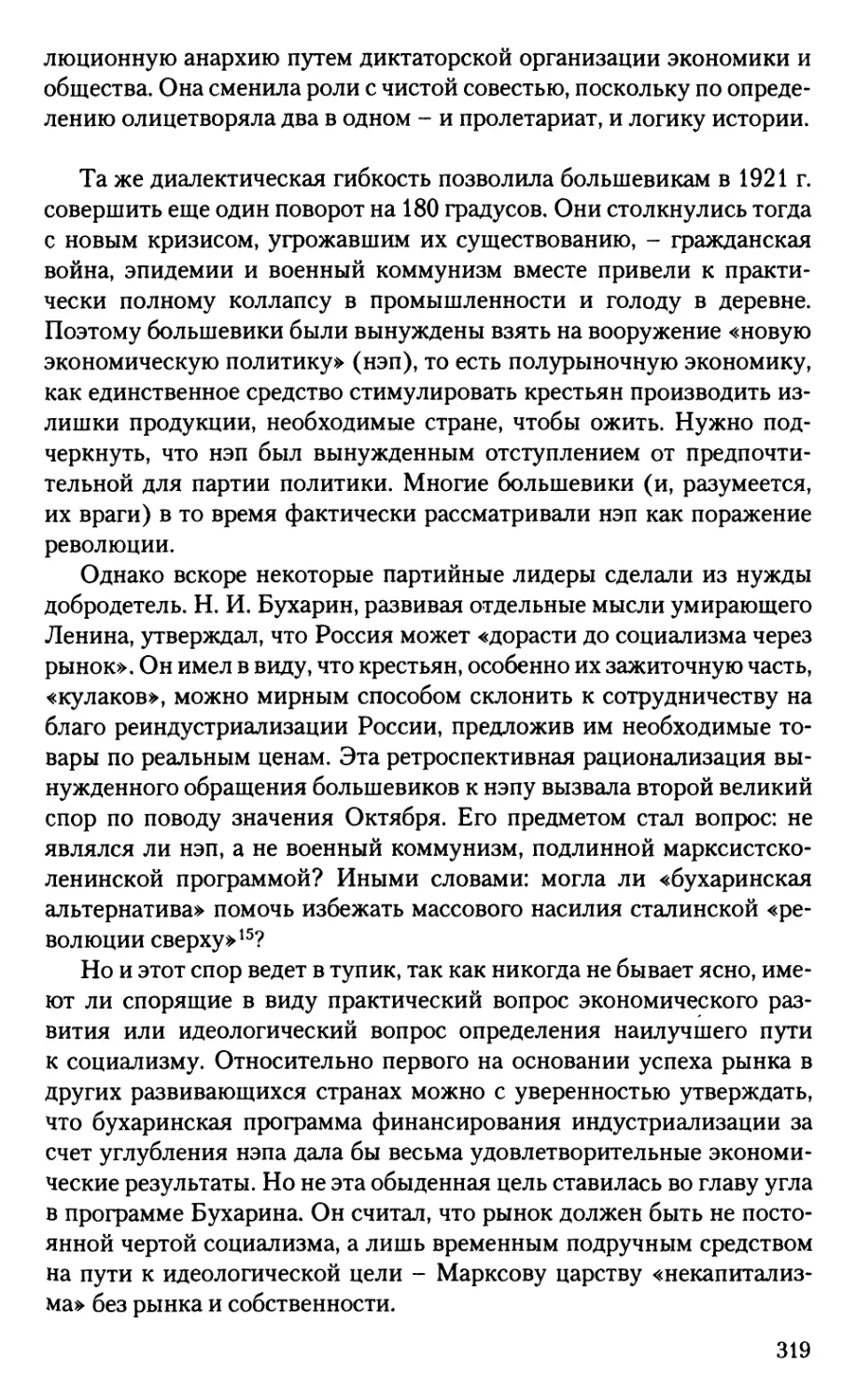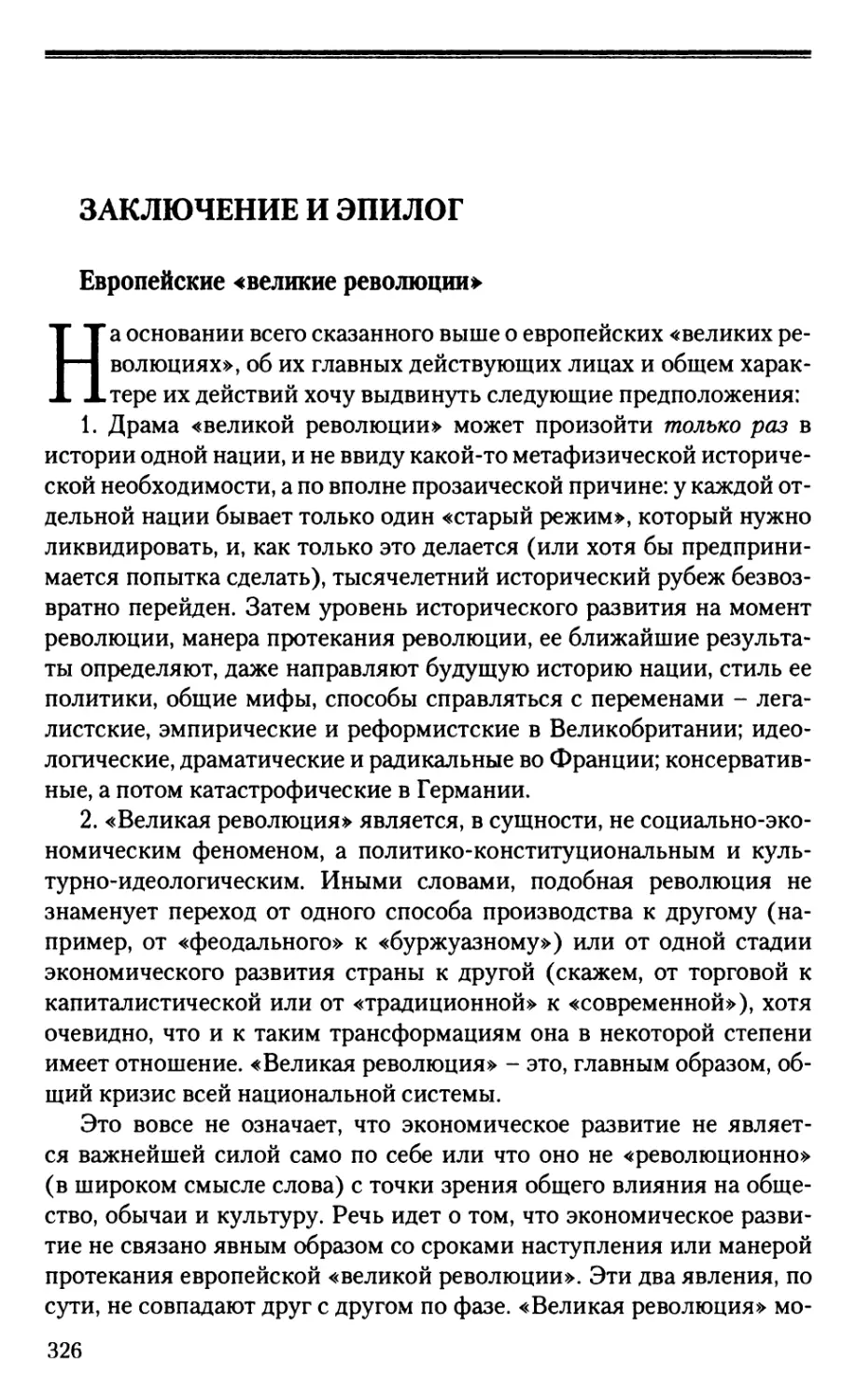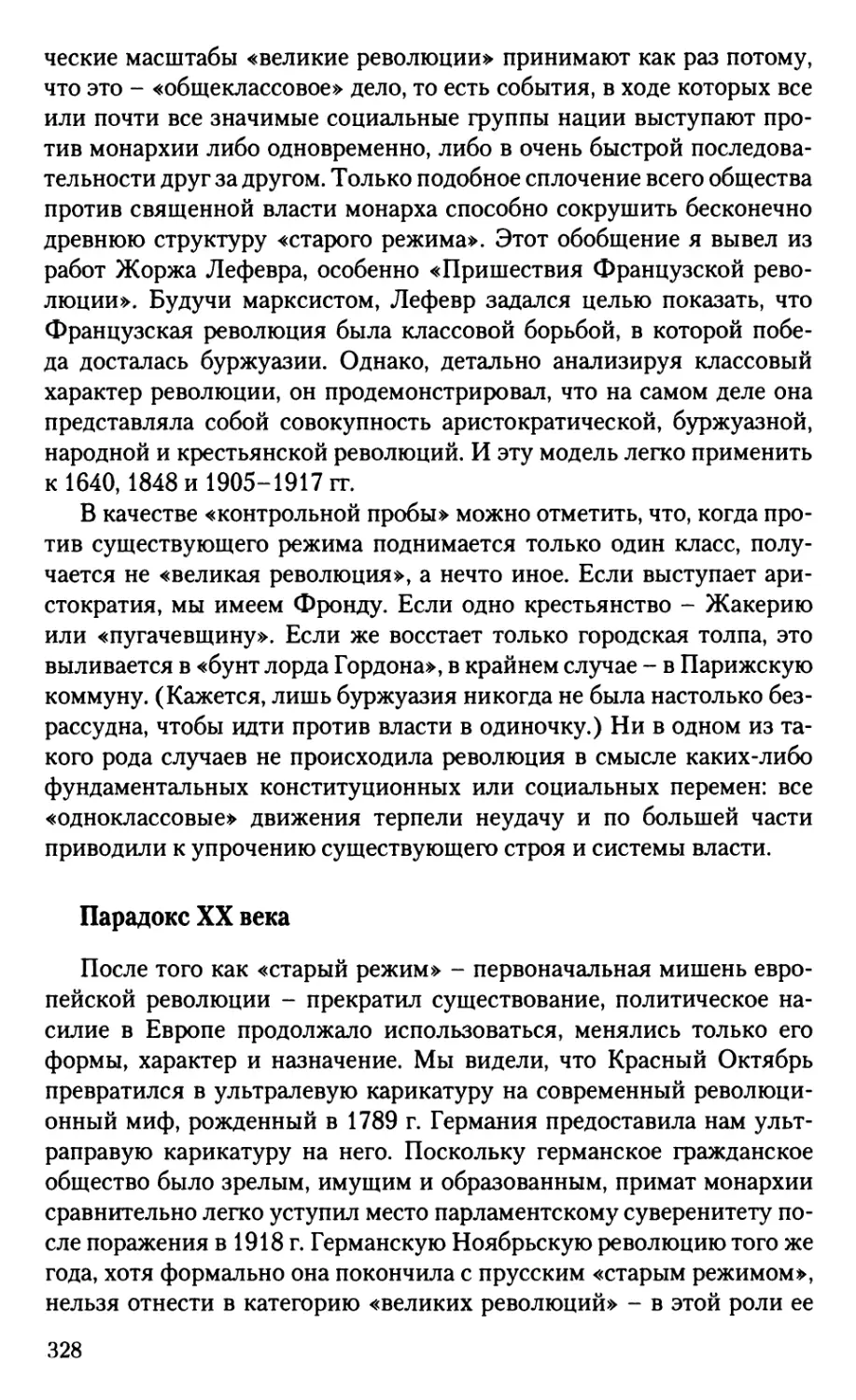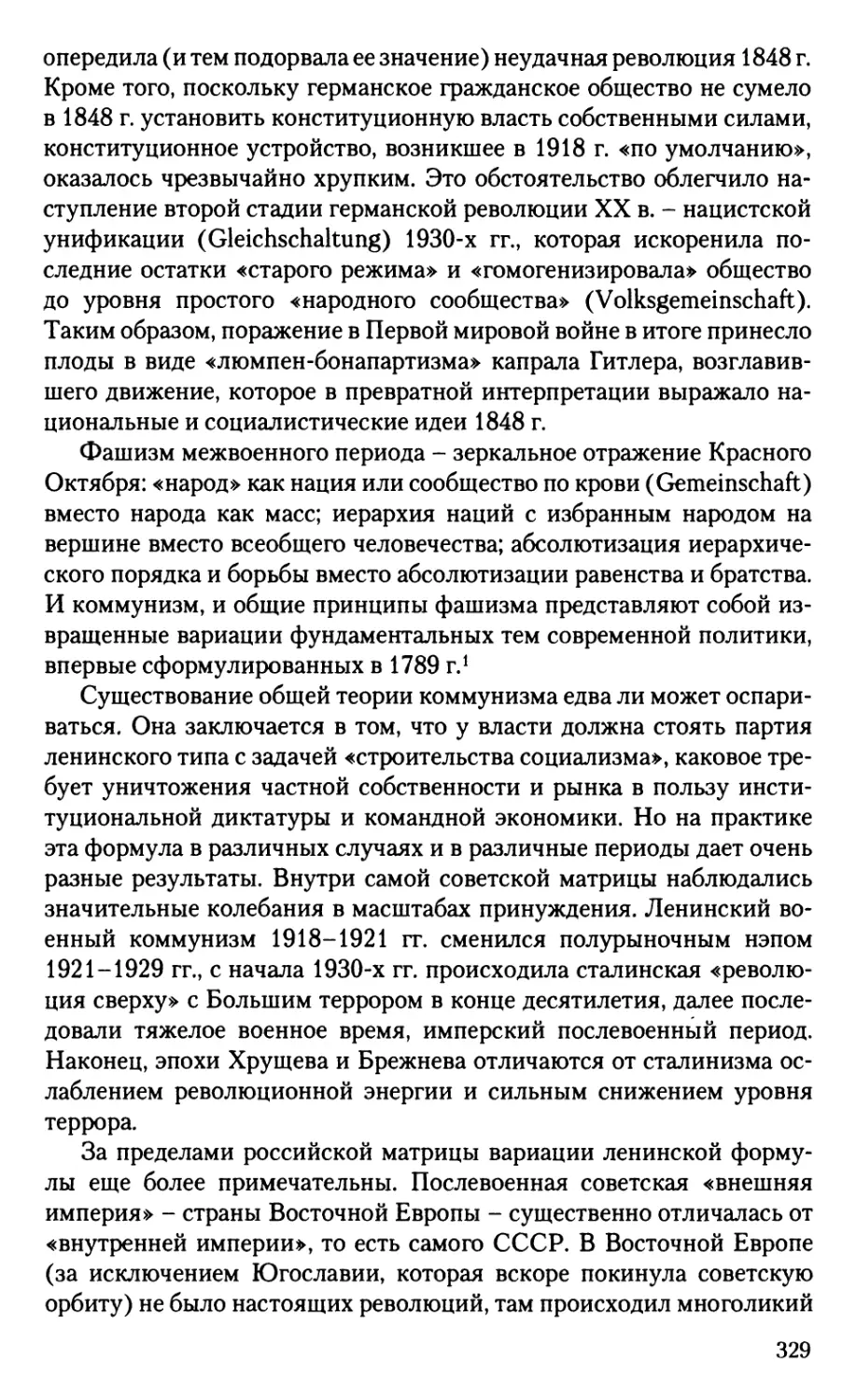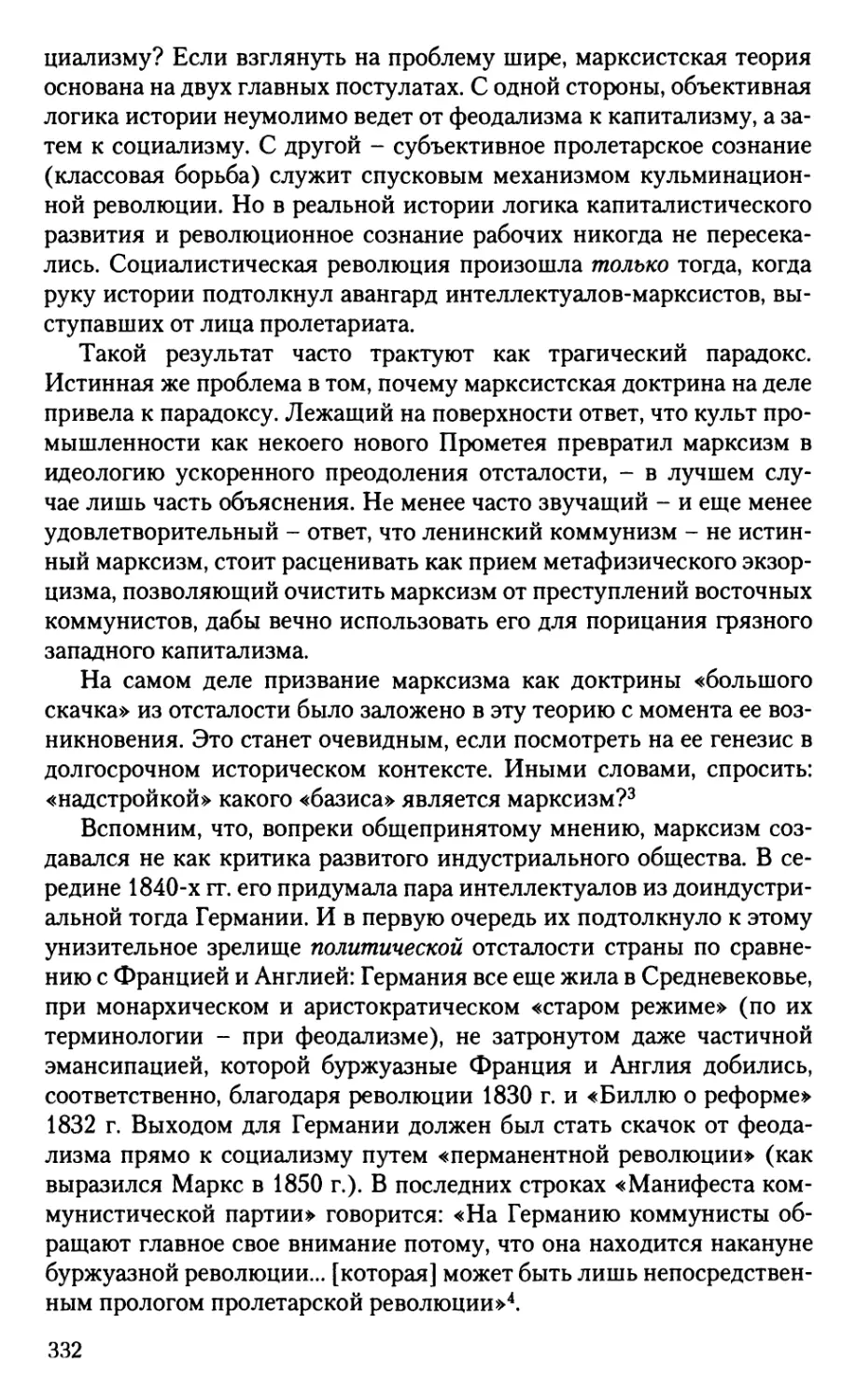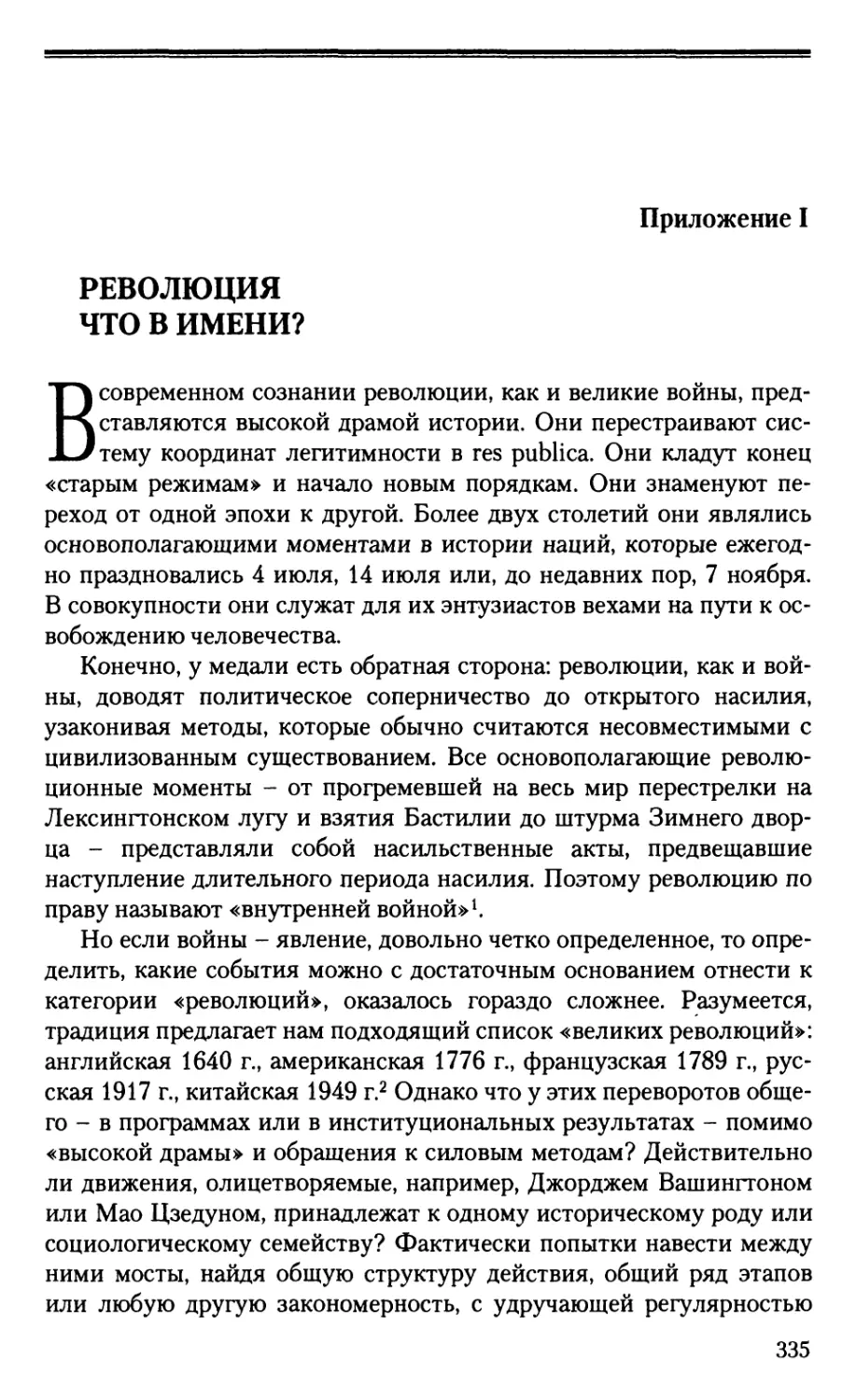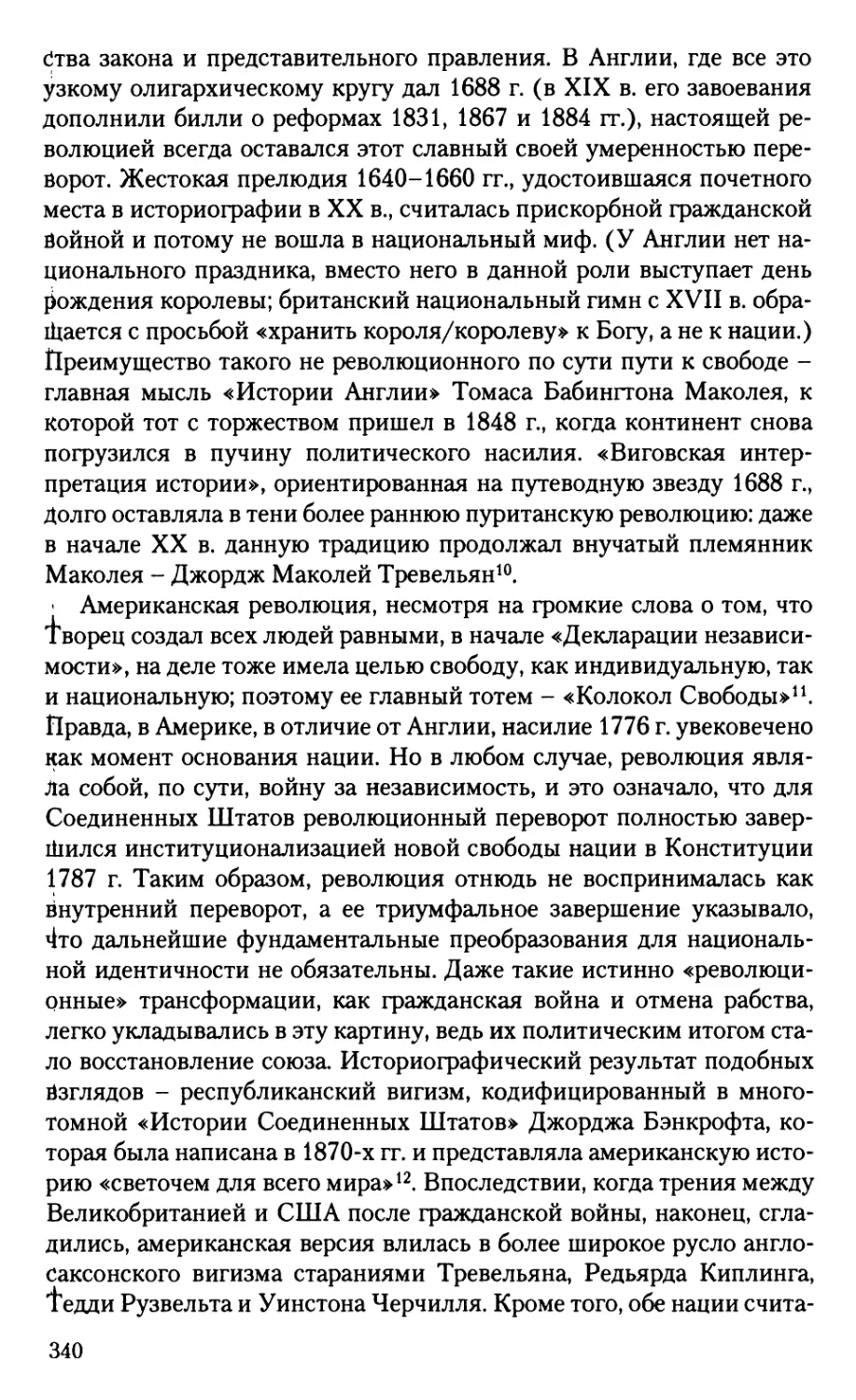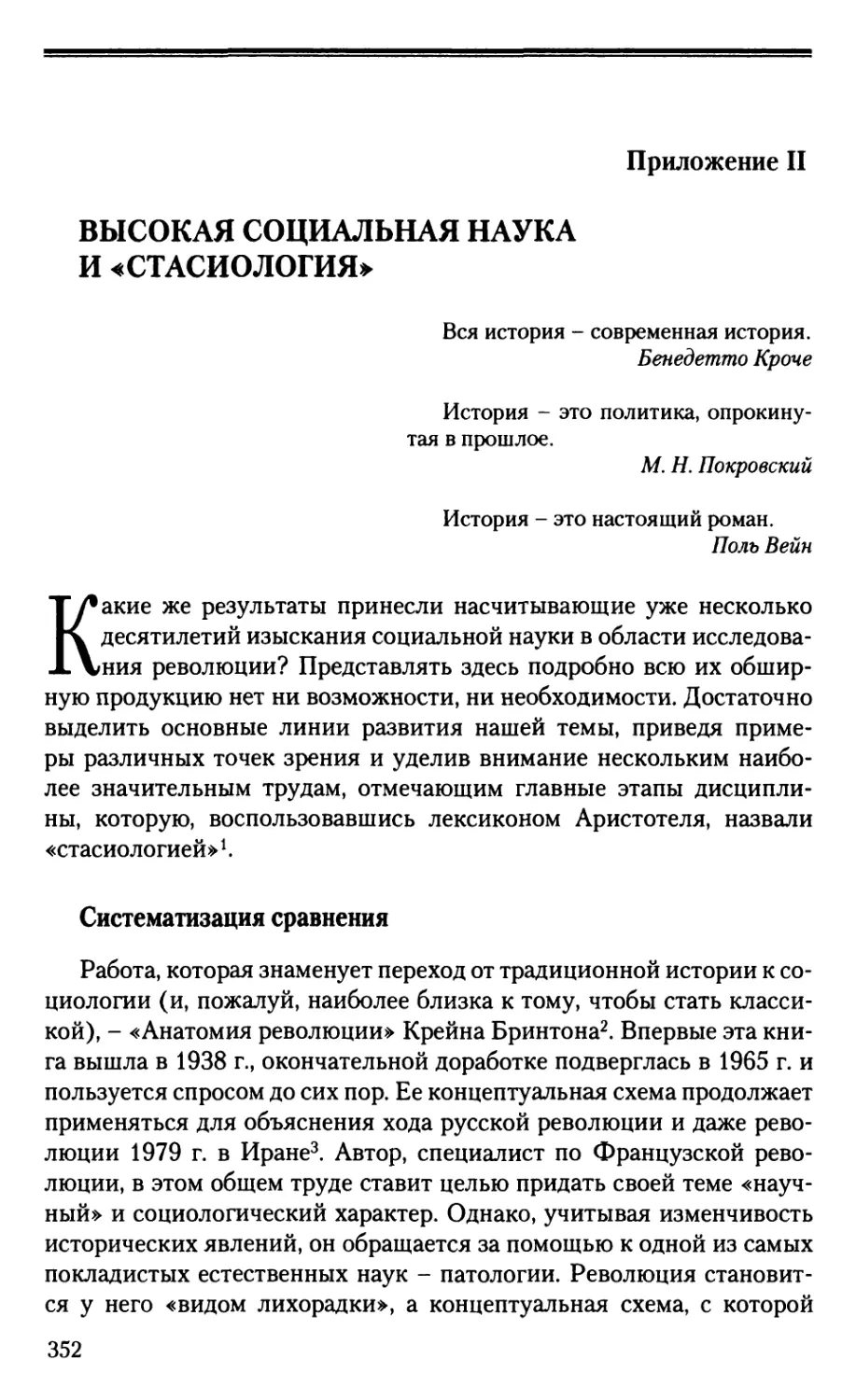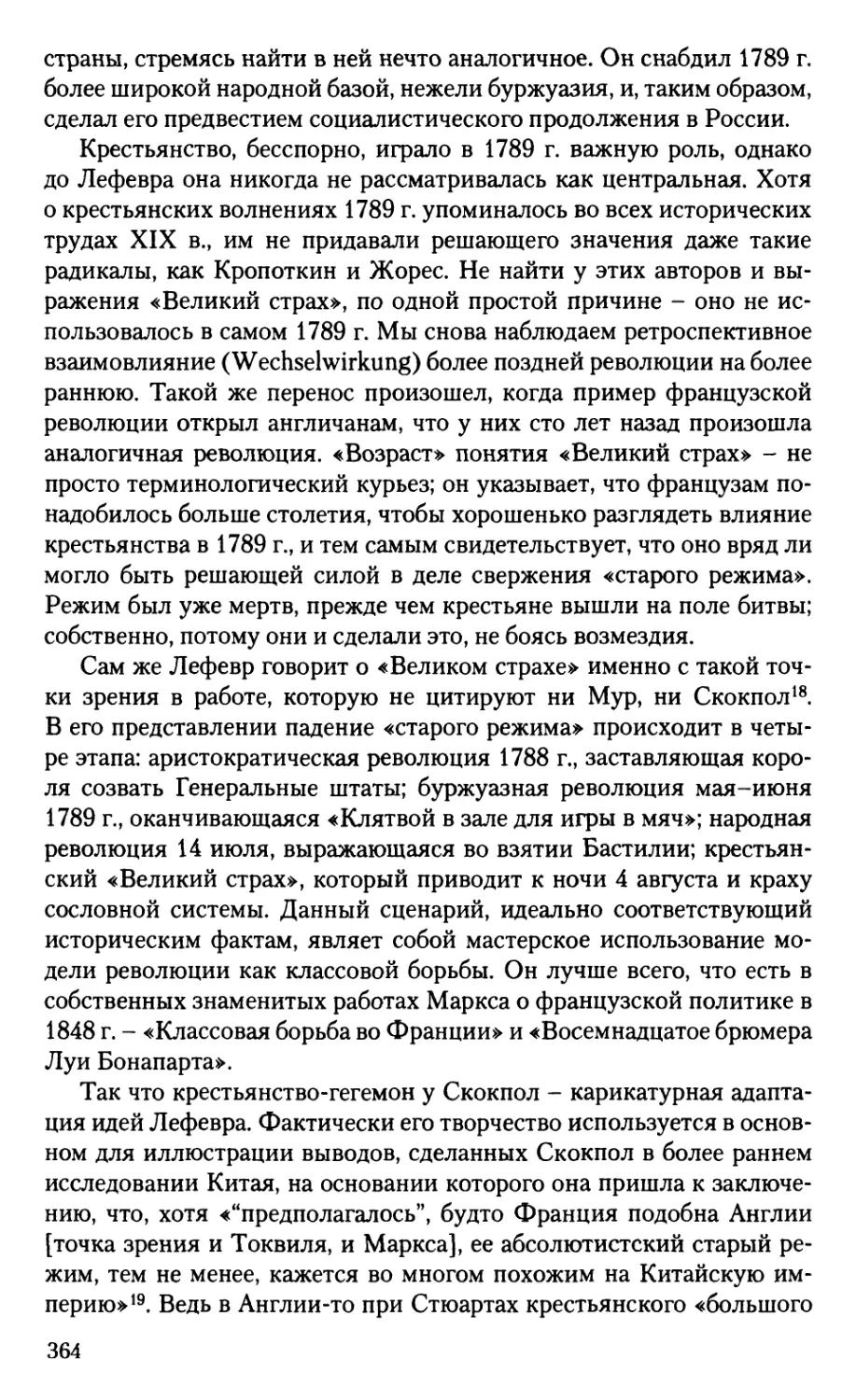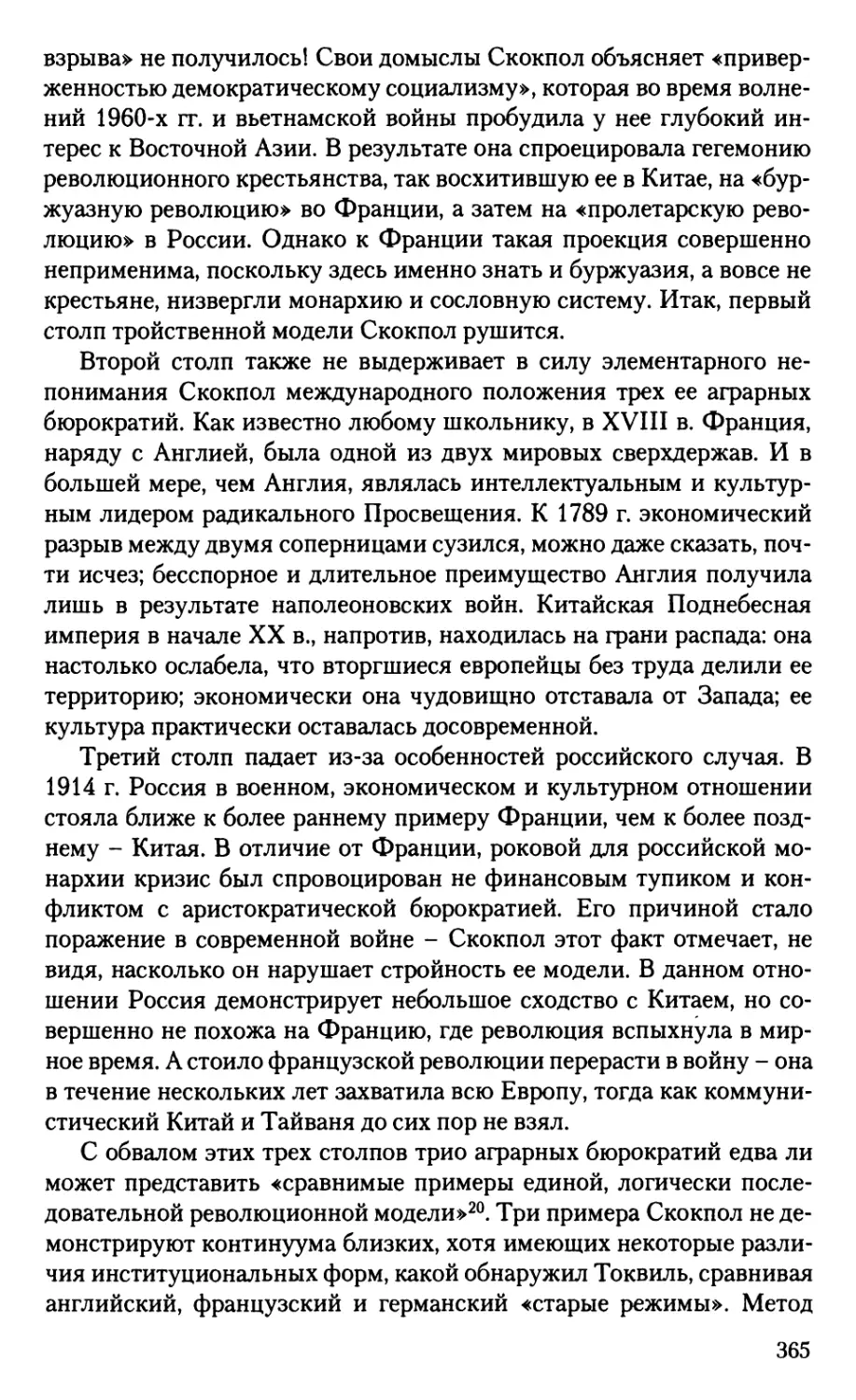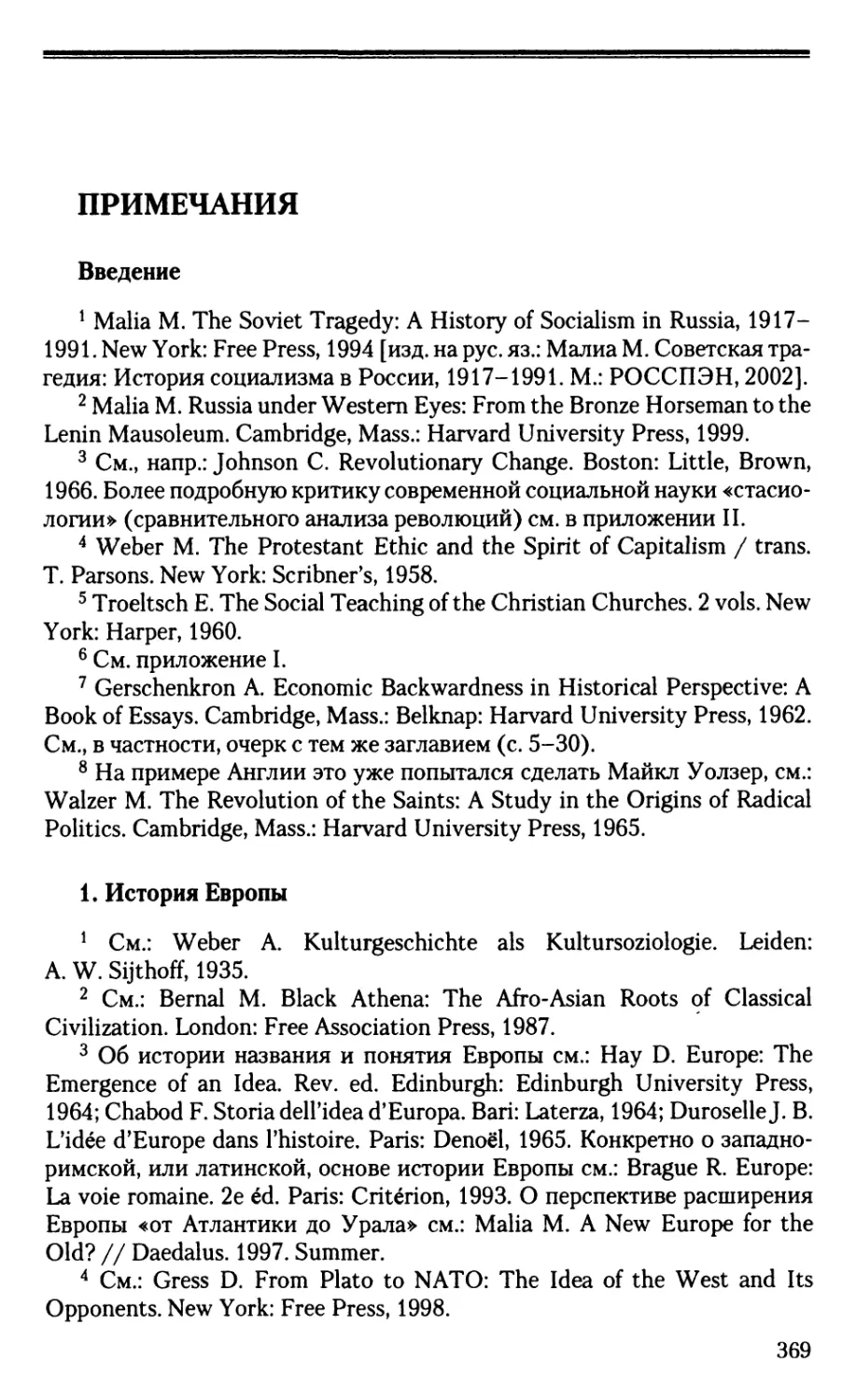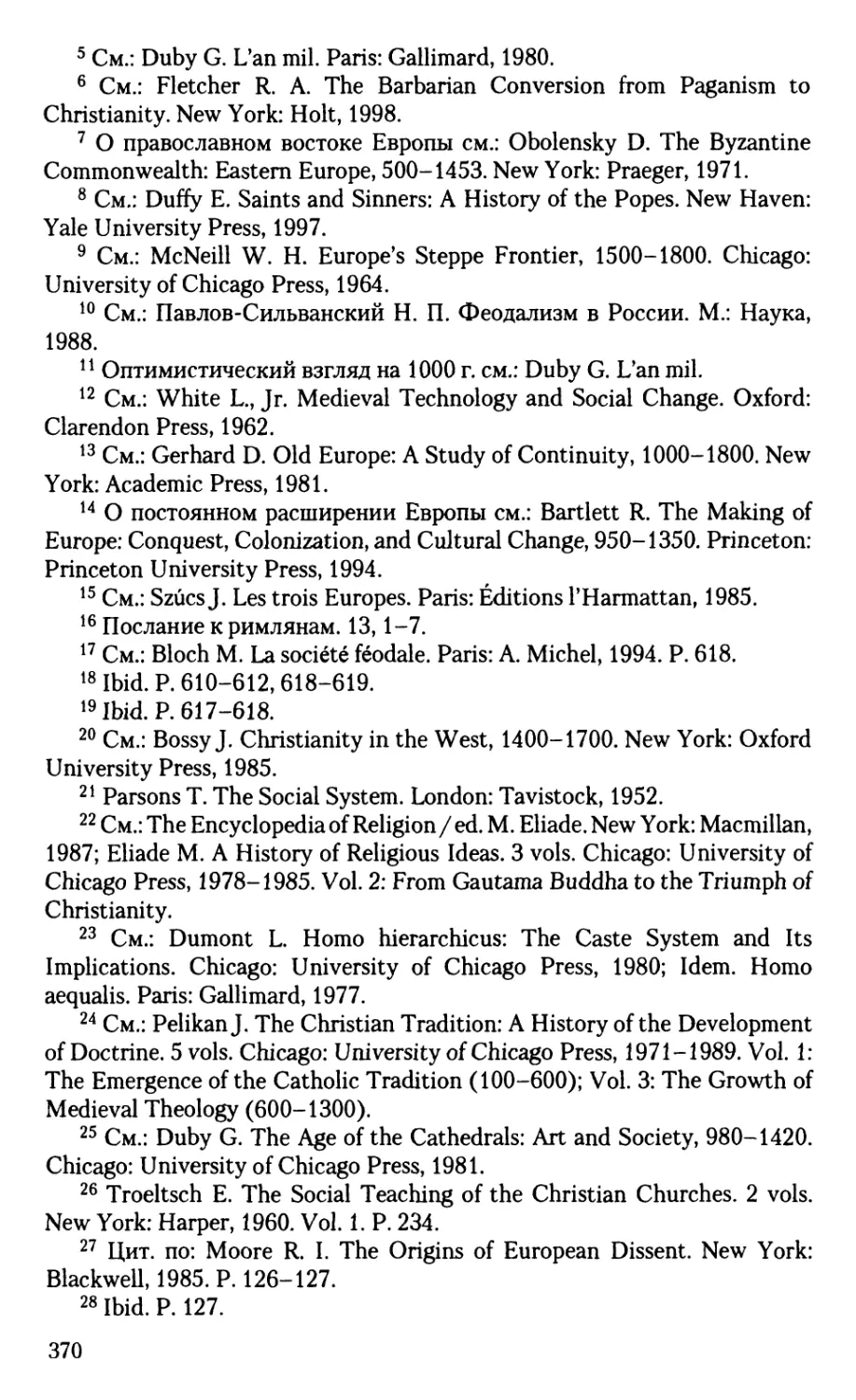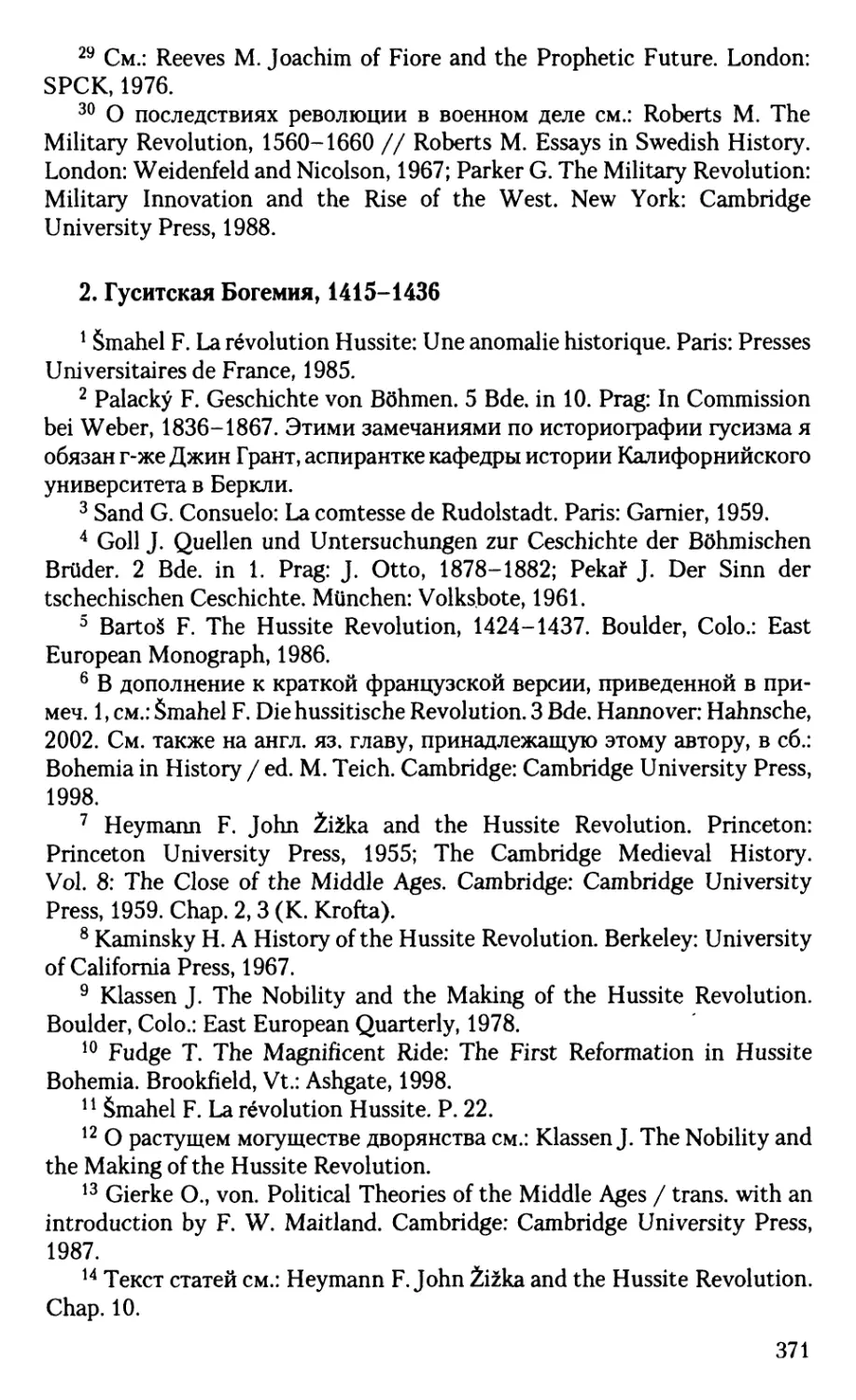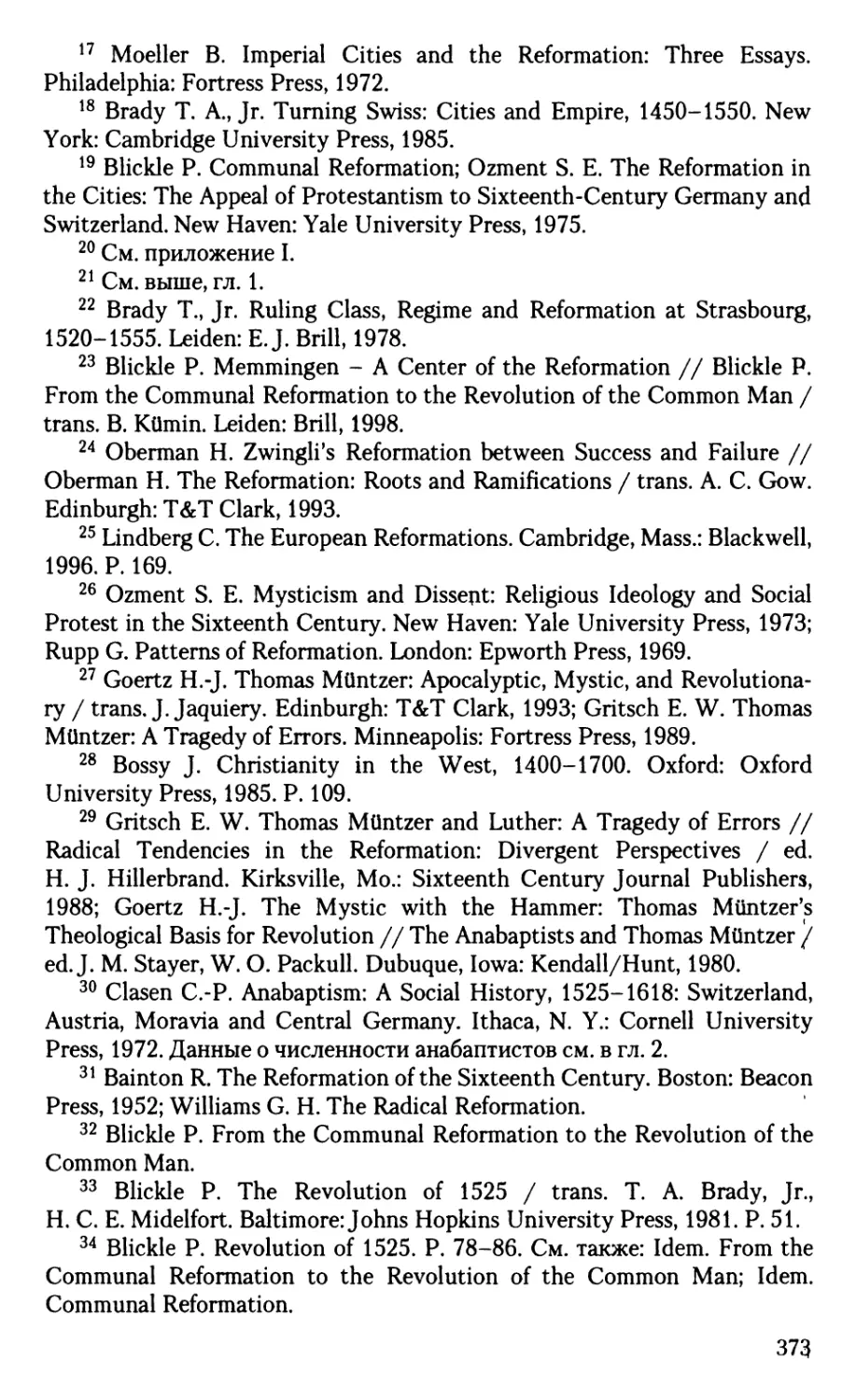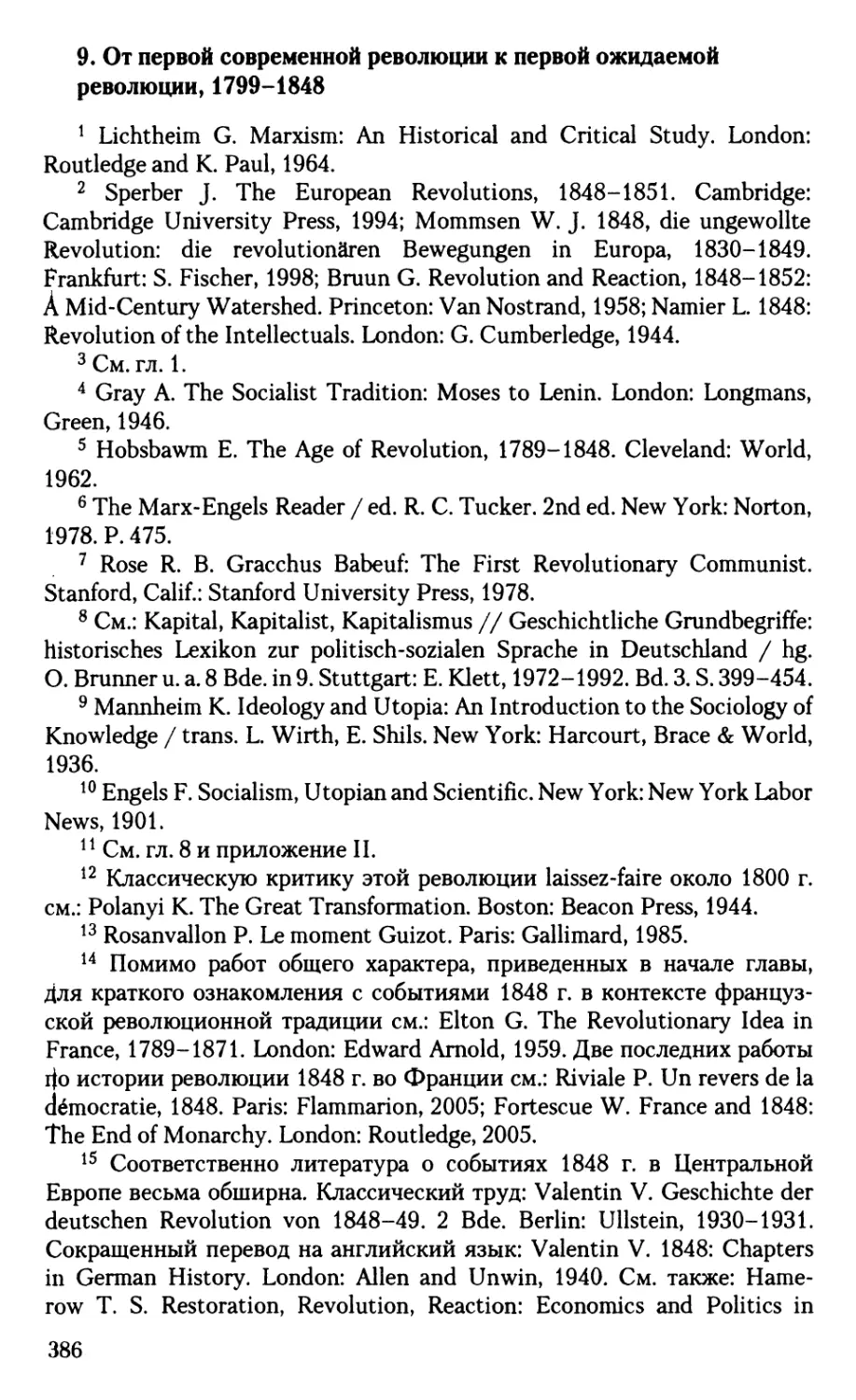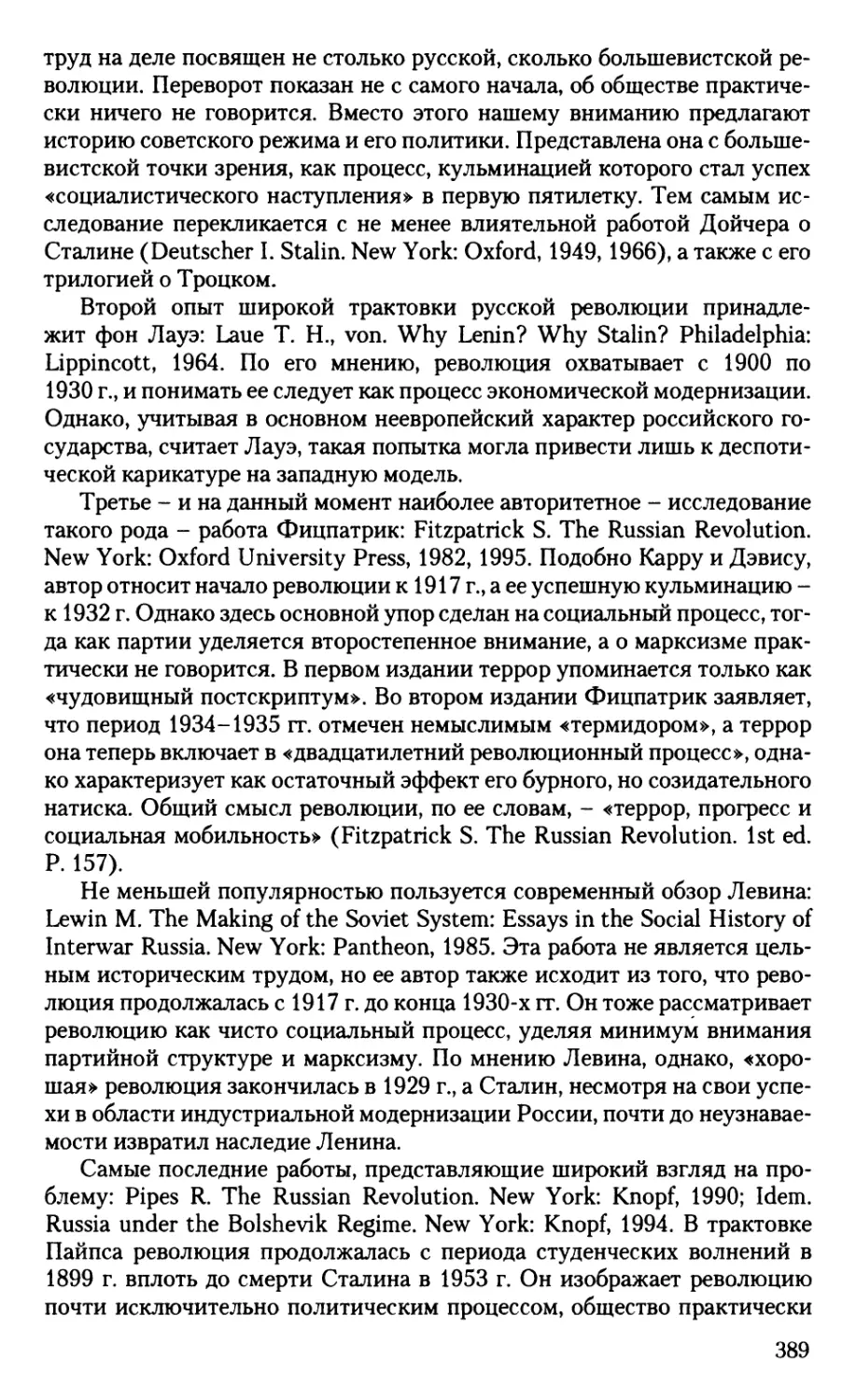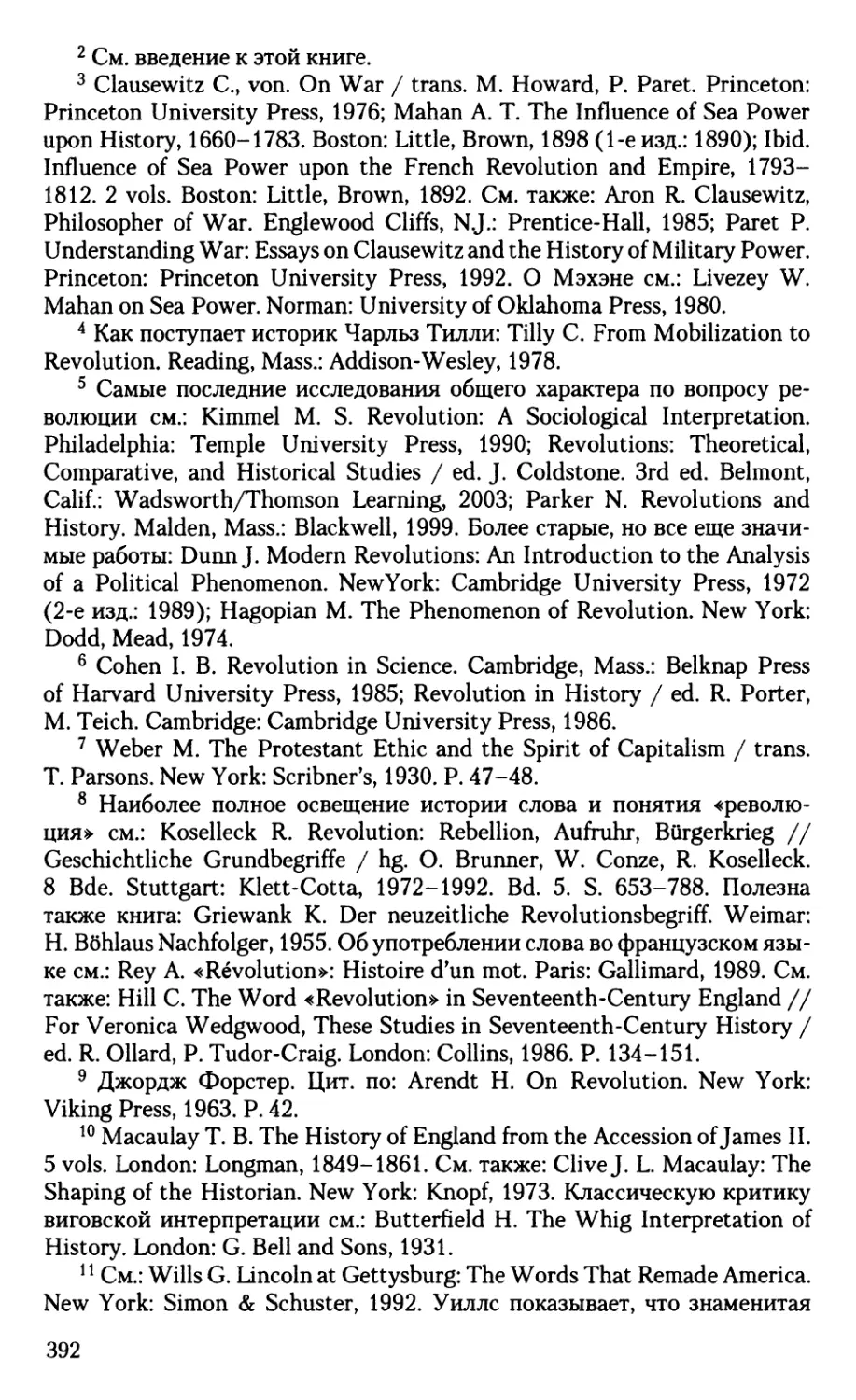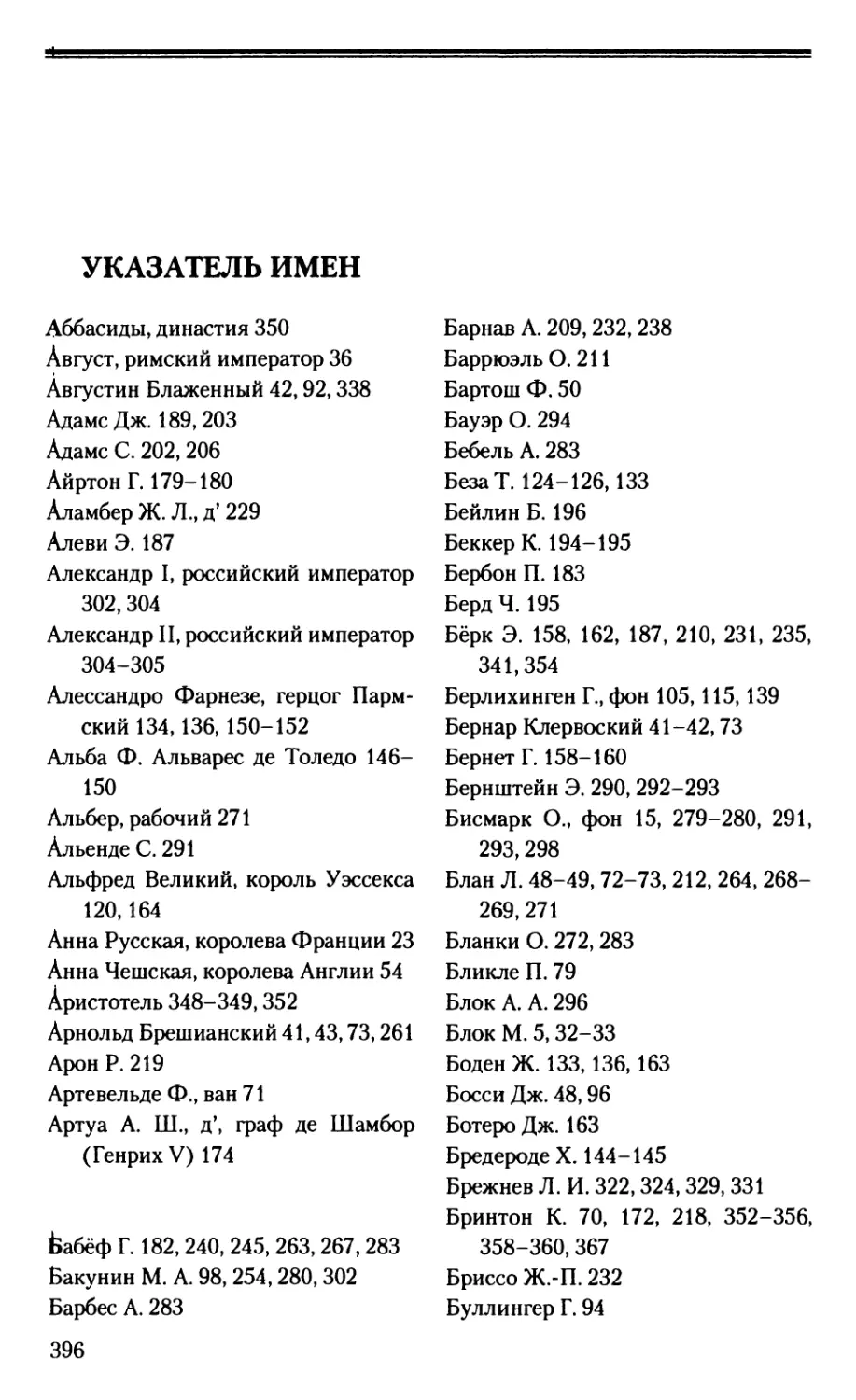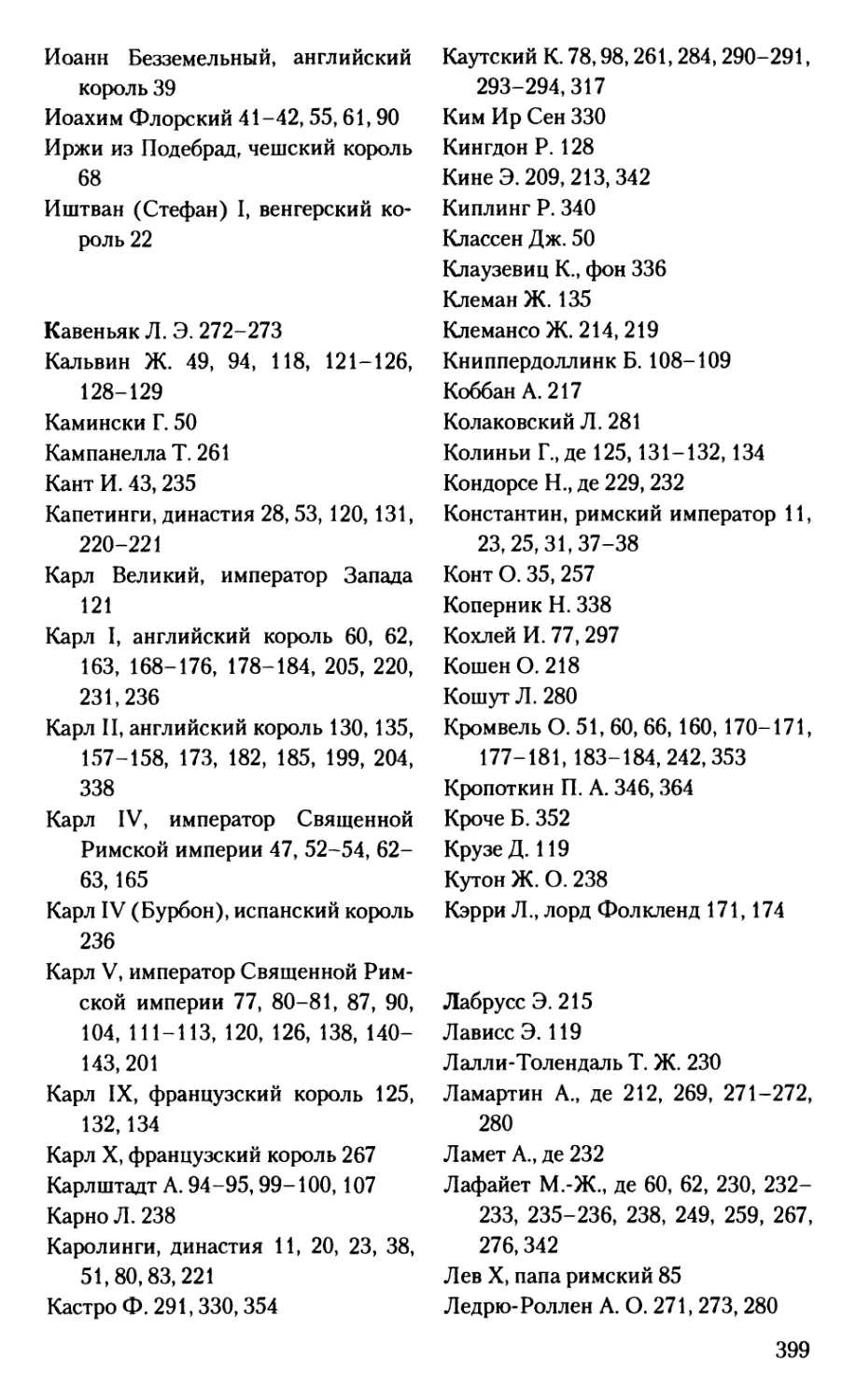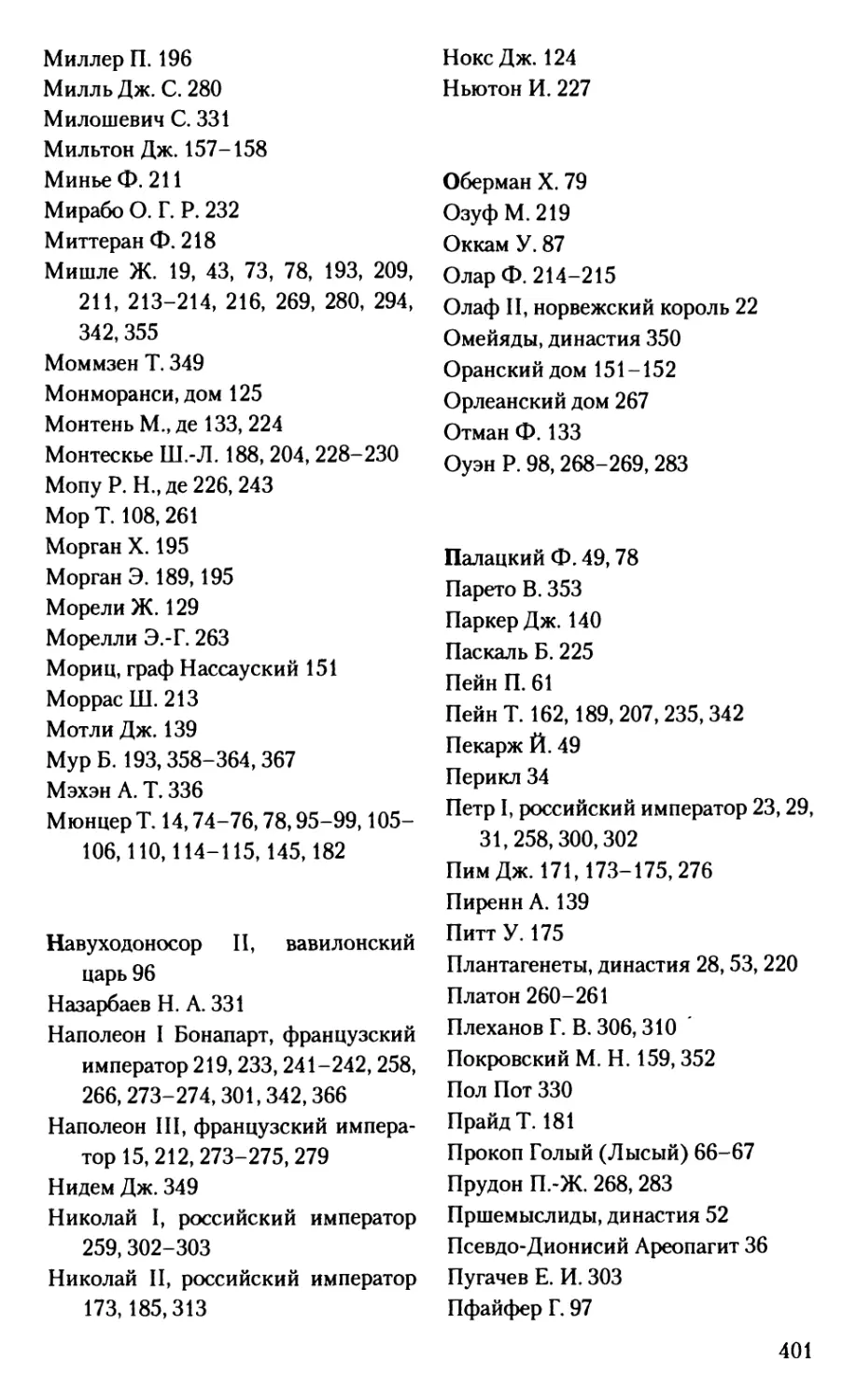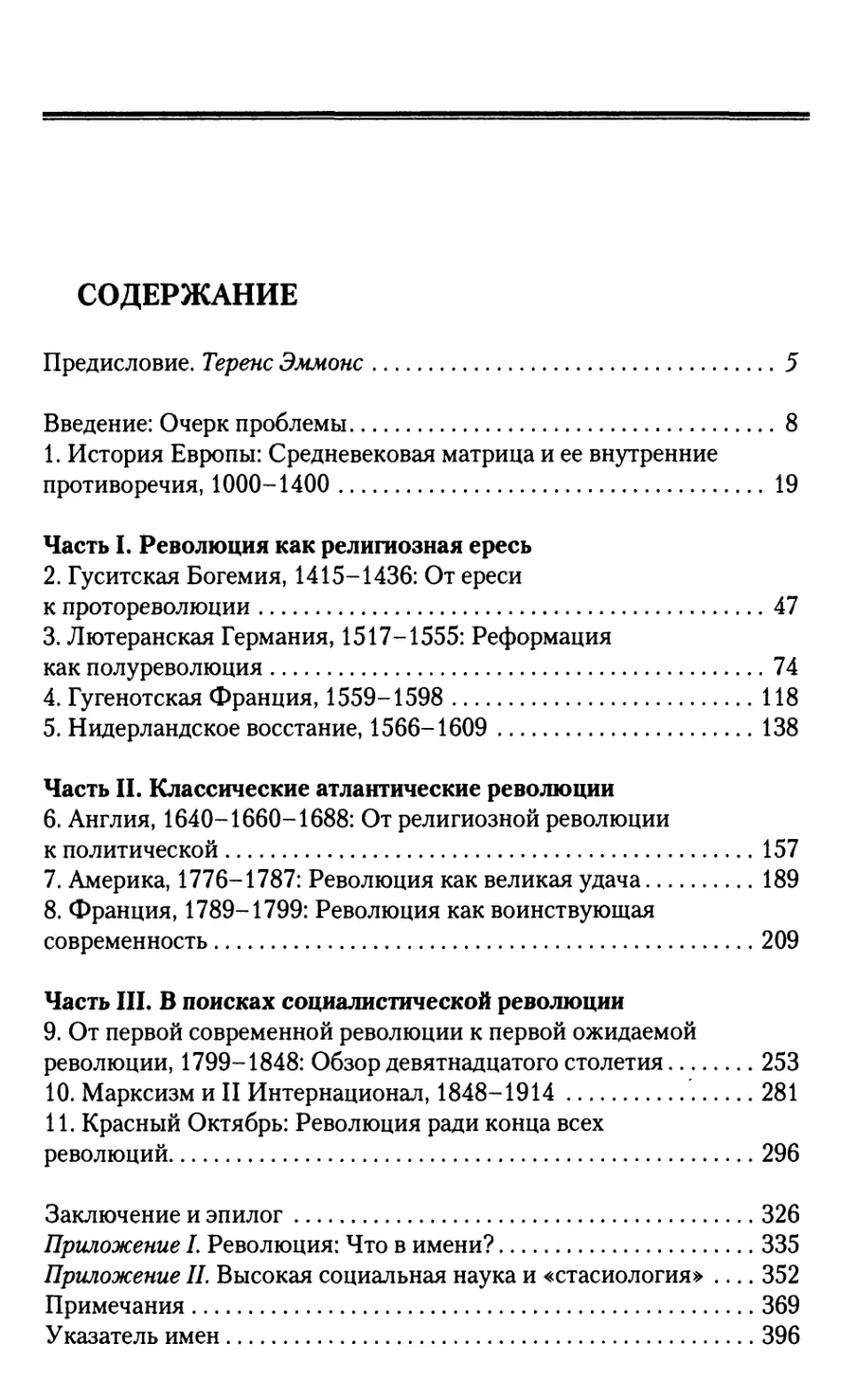Автор: Малиа М.
Теги: всеобщая история история исторические науки революция историческое развитие
ISBN: 978-5-8243-1967-5
Год: 2015
Текст
Martin Malia
HISTORY'S
LOCOMOTIVES
Revolutions
and the Making
of the Modern
World
Edited and with
a Foreword
by Terence Emmons
New Haven; London
Yale University Press
2006
Мартин Малиа
ЛОКОМОТИВЫ
ИСТОРИИ
Революции
и становление
современного
мира
Под редакцией
и с предисловием
Теренса Эммонса
РОССПЭН
Москва
2015
Малиа Мартин
Локомотивы истории : Революции и становление
современного мира / М. Малиа ; под ред. и с предисл. Теренса Эммон-
са ; [пер. с англ. Е. С. Володиной]. - М. : Политическая
энциклопедия, 2015. - 405 с.
ISBN 978-5-8243-1967-5
Американский историк Мартин Малиа исследует европейские
религиозные конфликты XV и XVI вв., революционные события в
Англии, Франции, Соединенных Штатах и России. В итоге он
приходит к выводу, что корни революционных событий XX в. уходят
глубоко в историю Европы, а революционная мысль и модель
поведения от одной великой революции к другой подвергались процессу
радикализации. Малиа предлагает оригинальный взгляд на феномен
революции и дает интересную оценку влиянию этого феномена,
рассматривая его как движущую силу исторического процесса.
Книга рассчитана на специалистов-историков и широкий круг
читателей.
ISBN 978-5-8243-1967-5
© Yale University Press, 2006
© Володина Е. С, перевод на русский
язык, 2015
© Политическая энциклопедия, 2015
ПРЕДИСЛОВИЕ
Основные идеи этой книги, повествующей о том, какую роль
сыграли революции в становлении современного мира, уже
высказывались Мартином Малиа ранее. На ежегодном собрании
Американской исторической ассоциации в 1975 г. он представил
доклад, где говорилось, что многочисленные революции XX в. имеют
особую глубокую связь с историей европейского континента и что
революционная мысль и деятельность от одной «великой» европейской
революции до другой претерпевали радикализацию. Кульминацией
этого процесса стала большевистская революция 1917 г. в Россиц.
Она установила на обломках одного из последних «старых режимов»
Европы революционный режим, который, в теории - все
семьдесят четыре года существования, а на практике - по крайней мере до
1930-х гг., посвящал себя делу всестороннего преобразования
человеческих отношений под знаменем коммунизма. Работая над данной
книгой, Малиа, как он писал в одном из кратких обзоров проекта,
ставил целью «показать, что случай России, при всей его уникальности,
также является логичным (хотя и крайним) следствием долгой
революционной традиции всей европейской цивилизации». Если к этому
его убеждению добавить, что в современной истории можно
плодотворно сравнивать революции лишь как элементы непрерывного
международного или транснационального процесса (т. е., по сути, именно
с исторической точки зрения), то создание такой книги рационально
обосновано.
Кроме того, в книге даются азы подлинно историцистского подхода j<
сравнительной истории, основанного на рассмотрении сходных
тенденций развития внутри пространственно-временного континуума, подходу,
связывающего работу Малиа с интеллектуальной традицией,
выдающимися представителями которой были, например, в XX в. историк Mapjc
Блок, а в XIX в. - корифей исторической социологии (хотя этого
термина тогда не существовало) Алексис де Токвиль.
Несомненно, огромным стимулом для идеи и написания книги
послужил крах коммунистических режимов в СССР и странах Восточно^
Европы в 1989-1991 гг. Совершенно неожиданно эти поистине
исторические события продемонстрировали, что конечный пункт исследований
Малиа - «институционализированная революция», каковую представлял
5
собой советский режим, - наконец завершилась сама по себе. Малиа счел
их удачной иллюстрацией к мысли, неоднократно повторяемой им при
характеристике историографии различных революций, описанных в
данной книге: на интерпретацию исторических событий неизбежно
накладывает отпечаток политический, культурный, идеологический контекст,
в котором работает историк. Историки XIX в. находились под
впечатлением Французской революции, авторов XX в. («короткого», 1914—
1991 гг.) завораживала большевистская революция, сегодняшние
исследователи, истолковывая былые революции (и не только революции),
не могут не испытывать глубокого влияния краха утопического
эксперимента коммунистов. По словам Малиа, перефразирующего замечание
историка Франсуа Фюре, работами которого он восхищался, «русская
революция закончилась».
Как отмечает ниже во введении сам Малиа, прежде чем обратиться к
теме революционной традиции, достигшей кульминации в русской
революции, он написал две книги: в одной изложены его взгляды на природу
советского режима и его краха, в другой исследуются истоки
«уникальности и перевернутой природы советского режима» в контексте
«современного развития Европы начиная с эпохи Просвещения». Затем он
почувствовал себя, так сказать, вправе заняться рассмотрением длительной
исторической традиции, лежавшей в основе событий в России. Новый
«постсоветский» контекст побудил его в значительной степени
переосмыслить данную тему. Приведу цитату из доклада, с которым Малиа
выступил в 2000 г. на собрании Исторического общества в Бостоне: «Что
[крах коммунизма] делает с проблемой революции как таковой? По сути,
он в корне меняет сам характер проблемы. Занимавший всех в прошлом
столетии вопрос о пути от буржуазной революции к социалистической
оказался неверным. Взамен остается вопрос о пути к 1776 году и
особенно к 1789-му. Что не менее важно - мы сталкиваемся с новой задачей:
объяснить двухвековую иллюзию о втором пришествии 1789 г. в виде
социализма». Пытаясь пересмотреть концепцию русской революции, он
первым делом сосредоточился на «великих революциях»: английской
XVII в., американской и французской конца XVIII в. В особенности на
последней и на ее отголосках на протяжении всего XIX столетия вплоть
до Красного Октября. В настоящей работе, в соответствии с первым
тезисом, выдвинутым в приведенной цитате, Малиа предваряет анализ
великих революций подробным описанием их религиозных и
политико-институциональных предпосылок в позднем Средневековье и ранней эпохе
Новой истории Европы (гл. 1-5), что имеет существенное значение для
его утверждения о специфически европейских корнях «импульса
современной революции» вообще. Вторую задачу он выполняет, подвергая
всесторонней критике существующие сегодня общественнонаучные
теории революции и показывая идеологическую подоплеку множества
разнообразных исторических трудов, с которыми ему пришлось иметь дело
в процессе изучения европейской революционной традиции.
6
Когда Мартин Малиа скончался 19 ноября 2004 г., текст
«Локомотивов истории» в сущности был полностью написан. Основная цель -
проанализировать революционную традицию, которая привела к
коммунистическим революциям XX в., - осуществлена в 11 завершенных
главах книги. Никаким сколько-нибудь значительным изменениям
эти главы не подвергались. Все мысли и даже слова автора сохранены.
Изменения в рукописи ограничиваются техническим редактированием,
выверкой ссылок, внутренними отсылками и небольшой стилистической
правкой, которая, как редактору известно по собственному опыту, не
вызвала бы у автора возражений. В редких случаях материалы,
приложенные автором к отдельным главам, как правило, в качестве вариантов или
уточнений, были по усмотрению редактора добавлены к тексту или
внесены взамен некоторых отрывков.
Приложение I («Революция: что в имени?») и приложение II
(«Высокая социальная наука и "стасиология"») в оригинале рукописи
служили соответственно введением и первой главой. Они сделаны
приложениями, чтобы непосредственно перед историческим трудом дать
место подобающему введению, где излагаются основные темы и методы
работы автора. Новое введение составлено из рассказов самого Малиа о
своих исследованиях и методике, почерпнутых из ряда докладов и
книжных проспектов.
Хотя ключевая задача автора в процессе работы оставалась
неизменной - объяснить истоки и природу Красного Октября и
«институционализированной революции», которой он положил начало, - Малиа
подумывал о том, чтобы включить в рукопись главу, посвященную фашизму
в период между двумя мировыми войнами, и еще одну под названием
«Клонирование Октября: Восточная Азия и Латинская Америка, 1945—
1975». Он обсуждал это намерение с коллегами, добавил
соответствующие заголовки в черновой вариант оглавления, кое-что даже записал, от
чисто библиографических ссылок до набросков тезисов, которые
предполагал развить. В данное издание этот материал в полном объеме не
вошел. Ряд мыслей, дополненных с помощью публикаций Малиа по той же
тематике (которые указаны в примечаниях), приводится в заключении
и эпилоге.
Сам Малиа дал книге рабочее название «Модель и эскалация
западной революции: от гуситов до большевиков, 1415-1991 гг.» (вариант:
«Западный революционный процесс, 1415-1991 гг.»). Настоящее
заглавие, напоминающее о знаменитом определении революций у Маркса,
которое автор несколько раз цитирует в тексте, предложено редактором.
Теренс Эммонс
ВВЕДЕНИЕ
ОЧЕРК ПРОБЛЕМЫ
Революция, наряду с мировой войной, была ключевой
характеристикой XX в. Большинство событий в мировой истории,
которые традиционно относят к «революциям», произошли в период
с 1914 г. С падением коммунизма современный революционный
феномен как будто исчерпал себя. Так ли это? Или революция - вечная
пружина людских дел? Чтобы найти ответ на данный вопрос и понять
драму целого столетия, необходимо проследить истоки современных
революционных феноменов в далеком прошлом западного общества.
Существует ли сюжет революции как таковой? Война,
несомненно, существовала как особый феномен с древности, а со времен
Геродота и Фукидида стала предметом исторических исследований.
Видимо, по аналогии мы полагаем, что при наличии определенных
условий революции могут происходить в любом месте и в любое
время. По моему мнению, такое предположение ошибочно, а то, что мы
именуем революциями, представляет собой исторически
специфическое явление. По сути, оно присуще только Европе и, на
протяжении последнего столетия, странам, входящим в зону европейского
влияния.
Посему, вместо того чтобы предлагать определение понятия
«революция», а затем приводить для сравнения ряд конкретных
примеров, я предпочитаю другой путь: от рассмотрения конкретных
проблем и событий к более общим суждениям. Мой подход будет не
структурным, а историческим. Это означает, что я намерен
проследить радикализацию революционного процесса в Европе от начала
(каковым я считаю движение гуситов в XV в.) вплоть до XX в.,
делая особый акцент на двух ключевых примерах современной
революции - во Франции в 1789 г. и в России в 1917 г.
Главные вопросы для меня таковы: существует ли базовая
модель - если хотите, структура - европейской революции? Можно ли
говорить об общеевропейском революционном процессе, в который
эта модель разворачивается со временем? И наконец - действует ли
в течение всего последнего тысячелетия некий подспудный
революционный импульс?
8
Проблема революции интересует меня не один год. Я начинал с
попытки «реконцептуализировать» русскую революцию, которая не
укладывалась ни в одну из наших привычных теорий. Большинство
из них утверждали, что революция - это процесс, который имеет ярко
выраженное начало, середину и завершение, а русская революция с
момента захвата власти якобинцами-большевиками
зафиксировалась в ультрарадикальном движении, по видимости нескончаемом,
на самом деле продолжавшемся 74 года (как если бы французские
якобинцы удерживали власть с 1793 по 1867 г.). К
коммунистической России неприменимы ни сравнительные категории, как
«термидор» или «бонапартизм», ни пояснительные, типа «пролетариат»
против «буржуазии», ни такие чересчур широкие понятия, как
«модернизация» или «развитие». Ни одна из упомянутых категорий не
подходит к уникальности «русского случая». После октября 1917 г.
Россия продемонстрировала беспрецедентную картину
«перевернутого мира», в котором идеология определяла политический строй
(гегемонию партии), а политический строй - экономический уклад
(командную экономику). При этом в стране не существовало
общества (имеется в виду «гражданское общество), поскольку все
элементы системы были подчинены задачам и контролю партии - все
устройство в целом оправдывалось великим делом строительства,
а впоследствии защиты социализма. Именно по причине
отсутствия в Советской России настоящего общества или независимой
экономики, способных противостоять тотальному государству,
Октябрь удалось «заморозить» на месте, пока он не «потек» в 1989-
1991 гг.
Эти мысли относительно уникальности и перевернутой природы
советского режима пространно изложены в моей книге «Советская
трагедия: История социализма в России, 1917-1991»1. Затем я
исследовал истоки этого парадоксального явления в контексте
современного развития Европы начиная с эпохи Просвещения в работе «Россия
глазами Запада: от Медного всадника до Мавзолея Ленина»2. Теперь
же моя задача - показать, что случай России, при всей его
уникальности, также является логичным (хотя и крайним) следствием долгой
революционной традиции всей европейской цивилизации. В этой
книге Россия не будет фигурировать на первом месте, однако она
входит в нее в качестве конечного пункта общеевропейского
развития. Основной же темой книги является европейская революционная
традиция.
Мой исследовательский подход здесь определяется семью
общими положениями.
9
1. Феномен революции имеет европейское происхождение,
подобно тому как европейским творением является современная
цивилизация вообще, как бы несправедливо это ни казалось всему
остальному человечеству. До XX в. за пределами европейского культурного
пространства (к коему, несомненно, относится американский
континент) не происходило ничего, что можно было бы по праву назвать
революцией. Если на то пошло, за пределами этого пространства не
наблюдалось также ничего, хотя бы отдаленно напоминающего
демократию, конституционализм, философию индивидуальной
свободы или социального равенства как высших общественных благ.
Соответственно и слова для обозначения этих понятий существовали
только в европейских языках. Таким образом, корни
революционного феномена следует искать в чисто европейских институтах и
культурных нормах.
2. Вследствие подобной «евроцентричное™» революцию нужно
изучать в первую очередь с исторической точки зрения, в
специфически западных условиях, а не с позиций структурного и
«транскультурного» подходов. Американские социальные науки, как правило,
структурно ориентированы; они оперируют понятиями «социальной
системы» или «общества», которые, как предполагается, имеют одну
и ту же базовую структуру везде и всегда, от Франции до Китая и от
XII до XX в.3 История же, напротив, работает с понятиями
особенного и преходящего - при такой перспективе различия во времени и
месте много значат для разнообразия структур, которое мы
наблюдаем в мире.
Марксизм - самая выдающаяся теория революции - предлагает
сочетание структурного и исторического элементов. Структурный
элемент заключается в том, что, по Марксу, вся история есть
«история борьбы классов», а классы повсеместно определяются
производственными отношениями, которые ведут к отношениям
эксплуатации. Следовательно, говоря о таких разных «правящих классах»,
как китайские мандарины, индийские брахманы, римские
рабовладельцы, западные феодалы или американские плантаторы, мы, по
сути, всегда ведем речь об «эксплуататорах». Вместе с тем марксизм
историчен в своих положениях о том, что классовая борьба со
временем развивается и ее интенсивность и сознательность возрастают, по
мере того как способ производства становится все более передовым
и эксплуататорским. Тем не менее, с точки зрения марксизма, сам
ход истории структурирован, ибо во всех цивилизациях существует
единая линия социального развития, разбитая на логические этапы:
от рабовладельческого строя к феодальному и затем к
капиталистическому. Вдобавок марксизм не придает большого значения автоно-
10
мии политики или культуры, для него и та, и другая - лишь
«надстройка».
Одним словом, несмотря на то что марксизм признает
исторические различия, обусловленные временем, по-настоящему
компаративистским марксистский подход назвать нельзя, поскольку он сводит
всю историю к единому набору социально-экономических факторов,
организованных по возрастающей. Таким образом, исторический
материализм хоть и заявляет: «Европа показывает остальному
человечеству его будущее», едва ли может объяснить, почему только
европейская «борьба классов» породила те самые революции, которые
являются «локомотивами» всеобщей истории. Однако
распространенные идеи марксизма, несомненно, по-прежнему оказывают
величайшее влияние на современные общественные науки.
3. Западная революция представляет собой в первую очередь
политическое и идеологическое преобразование, а не социальное.
Наилучшее руководство в данном вопросе - работы Вебера, если
воспринимать их как общее методологическое противоядие от Маркса,
поскольку Вебер ничего не говорит непосредственно о феномене
революции. Важно, что он, как истинный компаративист, пытался
объяснить, почему Марксов капитализм зародился в Европе, а не в
какой-нибудь другой культуре. Его ответ гласит, что особенность
европейской религии, в частности кальвинизма, сделала Европу более
динамичной по сравнению с другими цивилизациями4.
Но европейская религия - это отнюдь не только Лютерова
доктрина мирского призвания и кальвинистский принцип двойного
предопределения, выделенные Вебером. В первую очередь это
сложившаяся в эпоху раннего христианства и в Средние века система таинств
и священства; развивавшийся со времен императора Константина
принцип коэкстенсивности церкви и общества - «церкви-общества»,
которое при Каролингах получило название «христианского мира».
В этом сакрализованном мире духовный и мирской «мечи» (власти)
были неразрывно связаны, причем первый, разумеется, считался
превыше второго. Таким образом, любое восстание, даже еще не
революция, начиналось в Европе с переопределения сферы духовного - т. е.
с ереси.
В частности, поскольку вечное спасение зависело от таинств, а те
могли оказаться недействительными, если их совершал недостойный
священнослужитель, европейские ереси неуклонно тяготели к
отрицанию божественной власти духовенства и священности таинств. В
итоге по прошествии многих лет после григорианской реформы XI в.
стало очевидно, что логическим следствием такой позиции является
полное упразднение духовенства и таинств ради прямого общения
И
верующего с Богом. Кульминационным выражением этой идеи стало
восстание анабаптистов в 1534-1535 гг. в Мюнстере.
Кроме того, в сакрализованном мире любой вызов церковной
иерархии автоматически означал вызов иерархии светской власти.
Поэтому религиозное инакомыслие и ереси придали
первоначальный импульс коренным переменам в обществе, а в конечном счете - в
западной культуре, и оставались главной движущей силой
эгалитаризма до Просвещения XVIII в. Даже собственные попытки церкви
реформироваться порождали милленаристские ожидания Царствия
Святого Духа на земле. Реформация поставила эти и другие, более
умеренные формы религиозного протеста в центр политической
жизни; секуляризация религиозных ценностей, совершенно
очевидно, входит в число элементов западной революционной традиции,
способствуя распылению власти аналогично процессу разделения
политических полномочий при феодализме. Наиболее яркую
теоретическую формулировку радикальным политическим и
эгалитарным социальным последствиям ересей Средневековья и эпохи
Реформации дал коллега Вебера Эрнст Трёльч5.
Эти гипотезы и их применение на материале Средневековья и
Реформации составляют содержание первой части книги. Здесь
рассматриваются «по нарастающей» три примера: гуситская Богемия,
лютеранская Германия и нидерландская революция.
4. Такое же культурное отличие можно найти в европейских
политических формах и философских учениях, поскольку только в
западном мире - сначала в Греции и Риме, затем в средневековых
представительных собраниях и их современных вариациях - известны
партиципаторная политика и порождаемая ею правовая и
философская рефлексия. Западная «борьба классов» полностью заключена в
рамки данной политической культуры.
Несмотря на множество примеров острых социальных
конфликтов в истории Европы, будь то городские бунты (такие, как восстание
чомпи во Флоренции в 1385 г.) или сельские восстания (например,
Жакерия во время Столетней войны или Крестьянская война 1525 г.
в Германии), ни один из них не привел ко всеобщей революции вроде
тех, что произошли в 1640 или 1789 гг. Следовательно, социальная
борьба - необходимое, но не достаточное условие крупной
революции. Чтобы случилось подобное событие, прежде всего нужна
структура унитарного государства, которая фокусирует все политические,
социальные и иные формы протеста на одном наборе институтов.
Именно сконцентрированность на преобразовании государственных
структур и сопутствующее ей оспаривание легитимности
существующего государства придают всеобщей революции ее взрывной
характер и политико-идеологическую природу.
12
Исторически европейские формы государственного устройства
зародились в феодальных монархиях. Протонациональная институ-
ционализация светского «меча», равно как и параллельная
организация духовного «меча» в структуру духовенства - мирян, носила
строго иерархический характер. По сути, две иерархии слились в систему
трех сословий: тех, кто молится, тех, кто воюет, и тех, кто работает.
Сформировавшиеся примерно в 1100-1300 гг. феодальные монархии
постепенно централизовались и к XVI в. превратились в государства,
которые историки позже назвали «абсолютными» монархиями, а
после 1789 г. все стали звать «старым режимом». Феодальные корни
этих государственных форм имеют огромное значение, поскольку
феодальные отношения всегда подразумевают раздел власти, и в
дальнейшем это легло в основу принципа «разделения властей» и
системы «сдержек и противовесов» в современном конституционализме.
5. Таким образом, европейская «великая революция» - это
принявший всеобщий характер бунт против «старого режима». В
истории каждой нации подобная трансформация может произойти лишь
единожды, так как она закладывает фундамент будущей
«современности» этой нации. Свои отличительные черты западные революции
приобретают от конституционных и культурных структур «старого
режима», против которых они совершаются, порождающих
соответствующие модели революционных действий. С 1400 по 1789 г.
европейские революции совершались против священного союза двух
властей и трех сословий.
6. Западные революции не просто воспроизводят базовую модель
бунта против «старого режима». Каждая новая революция извлекает
уроки из предшествующего опыта и, таким образом, повышает
радикализм модели. (Вспомним, что к востоку от Рейна
модифицированный «старый режим» существовал до Первой мировой войны - в
Пруссии, Австро-Венгрии и России.) Схематично эта прогрессия
выглядит следующим образом.
а) Английская или пуританская революция по схеме действий
мало отличалась от французской, однако носила наполовину
религиозный характер и потому сама себя никогда революцией не считала.
Когда она закончилась, ее наследники постарались стереть из
национального сознания нации тот факт, что они совершили революцию.
Ее завершающий эпизод - «Славная революция» 1688 г. - в свое
время понимался как «реставрация». (Изначальный смысл слова
«революция» - возвращение к исходной точке6.)
б) Американские колонисты начали то, что они действительно
именовали «революцией» (в духе 1688 г.), с попытки
«реставрировать» свои исторические права как части английской нации. Однако
13
в итоге создали новую нацию и республику - результат явно
«революционный» в современном понимании этого слова, присущем
эпохе, пришедшей на смену «старому режиму».
в) Это современное понимание окончательно сформировалось в
ходе Французской революции. Схожая по базовой модели с
английской предшественницей, она впервые происходила преимущественно
под влиянием светской культуры - Просвещения. Поэтому события
1789 г. быстро переросли во фронтальное наступление на весь
тысячелетний европейский «старый режим» в целом: монархию,
аристократию и церковь. В результате революция стала означать процесс
созидательного насилия, знаменующий начало новой
всемирно-исторической эпохи, и создание «нового человека». События во Франции
впервые породили на Западе культ революции как орудия истории,
во всяком случае среди тех, кого мы сегодня называем «левыми».
г) Затем наступил переломный момент 1830-1848 гг. Поскольку
Французская революция не выполнила свою задачу освобождения
человека, после июльского переворота 1830 г. наиболее радикальные ее
наследники стали пророчить второй - и последний - 1789 г. Крайние
левые ожидали, что это «второе пришествие» расширит
революционные задачи от завоевания политических свобод для немногих
имущих до установления социальной справедливости и равенства для
множества обездоленных. Подобное кредо именовалось по-разному,
то социализмом, то коммунизмом; его программу-максимум
составляла отмена частной собственности, прибылей и рынка - т. е.
«эксплуататорской» системы, для обозначения которой к концу века был
изобретен термин «капитализм». Разумеется, этот социализм имел
светскую ориентацию, зачастую даже носил воинствующий
антирелигиозный характер, подобно Просвещению. Тем не менее новое
движение по сути нередко воспроизводило милленаристские упования
времен Средневековья и Реформации в светском обличье: от «нового
христианства» Сен-Симона до райского «бесклассового и
безгосударственного общества» Маркса, и его лидеры порой прямо заявляли
об этом родстве. Маркс, заложивший основы своей системы к 1845 г.,
лишь один, наиболее знаменитый, из теоретиков революционного
ожидания. Связь между его коммунистическими пророчествами и
эсхатологией Реформации можно отчетливо проследить через
историческую метафизику Гегеля. Собственно, Энгельс прямым
предшественником Маркса считал Томаса Мюнцера.
Токвиль в те же годы пришел к сходным выводам, но рассуждал
более трезво: раз «демократия», в смысле социального равенства,
«разрушила монархию и аристократию», нет оснований «полагать,
будто она остановится перед буржуазией и богатыми». Таким об-
14
разом, он охарактеризовал демократическую революцию как
неизбежную судьбу современного мира. Великий политический вопрос
современности, по его мнению, состоял в том, как совместить ее с
индивидуальной свободой. На самом деле именно это, а не химера
всеобъемлющего социализма, является практически-политической
и социальной задачей современной политики. Далее Токвиль
убедительно выявил корни современной свободы в феодальных
«вольностях», а современного стремления к уравниванию - в борьбе
монархического государства против тех же самых аристократических
вольностей. Наконец, он показал себя истинным компаративистом:
чтобы понять, почему самая бурная из европейских революций
вспыхнула именно во Франции, стал сравнивать последнюю с
похожими «старыми режимами», которые не породили революций,
стремясь «выделить переменную», присущую французскому случаю.
Ответ, конечно, заключался в том, что такой переменной был
антидворянский, уравнительный монархический строй. Все эти идеи
будут использованы в данном исследовании применительно к ста
пятидесяти годам революционной истории после Токвиля.
д) Когда в 1848 г., наконец, произошли события, претендующие
на то, чтобы стать повторением 1789 г., ожидания всех
революционных слоев, будь то либералы, социалисты или националисты,
оказались обмануты. К власти пришли такие личности, как Наполеон III
и Бисмарк, т. е. революция впервые привела к победе консерваторов.
Однако революционное ожидание не исчезло. Разумеется, в
индустриализированной Западной Европе после Парижской коммуны
1871 г. больше не случалось восстаний рабочего класса, а марксисты
Второго Интернационала после 1889 г. все больше склонялись к
выборам как методу достижения поставленных целей, фактически, если
не в официальной доктрине, встав к 1914 г. на путь
социал-демократического реформизма. Тем не менее социализм в смысле полной
противоположности капитализму оставался прокламируемой целью
международного рабочего движения, и любой кризис легко мог
вдохнуть в эту идею новую жизнь.
е) В то же время произошел сдвиг максималистских
революционных ожиданий на восток - в сторону отсталой России. В 1917 г.
в этом былом оплоте европейской реакции неожиданно произошла
Вторая и Последняя революция, предрекаемая, но постоянно
пресекаемая на Западе с 1830 по 1871 г. С победоносных высот Октября
марксизм-ленинизм оживил среди части западных левых культ
революции, чей призрак на протяжении всего XX в. будет оказывать такое
сильное влияние на мировую политику.
7. Развитие западной революционной традиции идет не только от
примата политической свободы к примату устранения социального
15
неравенства и от сравнительной умеренности к экстремизму. Она
также переходит из передовых обществ в отсталые. Так, от
экономически развитых и политически сложных «старых режимов»
атлантического Запада эта традиция распространилась на более простые и
милитаризованные «старые режимы» Пруссии и Австрии, а также на
самый незрелый и жестокий из них - российский. Т. е. она движется,
как говорят немцы, по «западно-восточному культурному
градиенту». Данный фактор также способствует радикализации
революционного процесса, поскольку продвижение современности на восток
приводит к сжатию исторических стадий, а после 1917 г. - к
инверсии западного развития. Наконец, достигнув своего «последнего»,
инвертированного воплощения в России, революционная традиция
в XX в. охватила большинство стран «третьего мира», превращая
это столетие в главную точку на всемирно-исторической оси
революции. (Представление о Европе как спектре зон, находящихся на
различных ступенях прогресса, во многом почерпнуто у Александра
Гершенкрона7.)
Изложенные соображения позволяют, наконец, дать
исчерпывающее определение метода, применяемого в данном исследовании.
Он заключается, во-первых, в сравнении, вслед за Токвилем, только
сходных случаев в рамках одной культуры или, шире, смежных
случаев в последовательном временном континууме: т. е. при частичном
взаимоналожении или частичном расхождении между более
ранними и более поздними моментами резких переломов в европейской
истории. По сути, такой генетический и постепенный подход
является стержнем исторического метода. В конце концов, историческое
исследование посвящено в первую очередь не структурам, а
человеческому опыту существования во времени по законам изменений и
преемственности.
По замыслу, главная задача данного исследования - обобщение
идей Токвиля по поводу современного демократического импульса с
расширением поля исследования вперед и назад по времени. Токвиль
объяснял эскалацию эгалитаризма до 1789 г. влиянием
старорежимной абсолютной монархии на феодальные структуры, ведущие свою
историю от 1000 г. Однако очевидно, что порожденный таким
образом эгалитарный импульс продолжал нарастать и после 1789 г.,
приводя ко все более радикальным уравнительным революциям XX в.
Кроме того, хотя Токвиль часто говорил о духовенстве, он мало
упоминал о самой религии, разве только отмечал, что она была
необходима для нравственного цементирования общества.
Поэтому второй фундаментальный аспект используемого здесь
подхода - соединение с токвилевской постановкой проблемы ве-
16
беровского чуткого восприятия социальной роли христианства.
Имеется в виду установление связи доктринального содержания и
институциональных структур христианства с политическим и
социальным процессом демократической эскалации. Для этого
необходимо вернуться к отправной точке работы Токвиля - 1000 г. и соотнести
христианскую теологию и экклезиологию как с феодализмом, так и с
его «старорежимными» преемниками эпохи раннего Нового времени.
Сам Вебер, конечно, подобных попыток никогда не делал, да и тема
революции его не занимала. Но тот аспект европейской
уникальности, который его интересовал, - капитализм - явно не был
источником другого сугубо европейского феномена - нарастающей
революции, что наглядно иллюстрируют превратности судьбы марксизма в
XX в. Тем не менее религиозный подход к политической
проблематике Токвиля будет вполне оправданным логическим
продолжением суждения Вебера о решающем историческом значении
культуры8. Ведь именно долговременный политико-культурный контекст
обусловил ненасытную, «фаустовскую» революционную традицию
Европы.
Чтобы проиллюстрировать рождение земного радикализма мира
веры в Царствие Небесное, вспомним, что до исторического рубежа
1776-1789 гг. у европейцев не было современного представления о
революции как коренном переломе и новом начале. Вспомним и то,
что во время первой европейской революции, которая сегодня
считается современной, - английской революции 1640-1660 гг. - борьба
велась под знаменем религиозной идеологии. Отсюда ее другое
название - пуританская. Между тем кульминационный момент этой
«революции святых» - ритуальная казнь монарха - связывает ее с
очередным великим переворотом в классической серии -
однозначно светской и демократической французской драмой 1789-1799 гг.
Две эти революции наглядно представляют два «вида» одного
исторического «рода». До сих пор современная «стасиология»
прослеживала его органическое развитие вперед во времени, до XX в. Однако
первое, что мы сделаем здесь, - проследим процесс назад, до
средневековой матрицы особой европейской цивилизации в период 1000-
1300 гг. Именно в те далекие века впервые возник европейский
революционный импульс, и направлен он был не против государства,
которого еще не существовало, а против церкви, являвшейся тогда
единственным универсальным институтом европейского общества.
Первыми его проявлениями стали религиозные ереси, особенно в
милленаристской или апокалиптической форме.
От этой отправной точки тенденция европейского радикализма
будет прослеживаться по мере ее эскалации: от религиозного к по-
17
литическому бунту и к очевидной революции; от политических
революций XVH-XVIII вв. к «научному» милленаризму социальной
революции XX в. Западная революционная традиция пройдет перед
нами свой тысячелетний путь от религии спасения как суррогата
политики до политики спасения как суррогата религии.
На протяжении 70 с лишним лет социальная наука «стасиология»
стремилась найти универсальную (стандартную) модель революции,
неизбежно опираясь главным образом на компаративистский подход.
К сожалению, этот метод обычно рассматривается как улица с
односторонним движением, которая должна привести нас к подобиям. На
деле же, поскольку между любыми двумя случаями всегда
существует по меньшей мере столько же сходных черт, сколько и различий,
вожделенная «модель» так и не появилась. Теперь, спустя семь
десятилетий усилий, поиски зашли в тупик. Так почему бы не двинуться
по противоположной стороне улицы, уделяя внимание различиям?
Этим испытанным методом, собственно, пользовались Токвиль и
Вебер, чтобы выделить в том или ином случае ключевые
политические и культурные переменные. И если речь пойдет об историческом,
а не социологическом исследовании, то, может быть, различия в
сочетании со сходством дадут модель иного рода - модель
постепенно-революционного изменения с течением времени? Мысль, что при
сравнении следует учитывать и сходство, и различия, несомненно,
банальна. Тем удивительнее, сколь многие великие умы упускали из
виду эту элементарную вещь - например, Маркс, по мнению
которого все «буржуазные революции» в конечном итоге должны быть
одинаковы.
В XIX в. «революция» считалась проблемой политической
истории. В XX в. она перешла в разряд проблем социальной истории.
Через два столетия безуспешного применения обоих подходов
становится ясно, что феномен революции в первую очередь должен
рассматриваться в контексте изучения истории идей. Это утверждение
справедливо по двум причинам. Во-первых, историография,
посвященная и различным «примерам», и революции как таковой,
настолько противоречива, что к пониманию предмета и в том и в другом
случае изначально следует подходить с точки зрения интеллектуальной
истории. Во-вторых, эта историография свидетельствует, что именно
идеи оказывали решающее влияние как на политическое, так и на
социальное содержание каждого «примера». Поэтому настоящая
работа представляет собой прежде всего исследование революции как
истории идей, и рассмотрение каждого из представленных здесь
примеров будет начинаться с обзора соответствующей историографии.
Итак, довольно общих рассуждений. Пора переходить к
историческому повествованию.
1
ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ
СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАТРИЦА И ЕЕ ВНУТРЕННИЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ, 1000-1400
Поэтому, какое бы развитие ни претерпели
[социалистические] теории... я все равно вижу на исторической
сцене только два великих фактора, два принципа, двух
актеров, два действующих лица: Христианство и
Революцию... Революция продолжает Христианство и
противоречит ему. Она есть наследница Христианства и в то
же время его противница.
МишлеЖ. История Французской революции (1847)
И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел
ключ от бездны... Он взял дракона, змия древнего,
который есть... сатана, и сковал его на тысячу лет... Когда же
окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся
на четырех углах земли... [И] ниспал огонь с неба от Бога
и пожрал их. А диавол, прельщавший их, ввержен в
озеро огненное и серное...
И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее
небо и прежняя земля миновали... И я, Иоанн, увидел
святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для
мужа своего. И услышал я громкий голос с неба,
говорящий: се, скиния Бога с человеками... И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло...
И вознес он меня в духе на великую и высокую гору, и
показал мне великий город, святый Иерусалим, который
нисходил с неба от Бога.
Откровение Святого Иоанна Богослова, гл. 20,21
Начнем с проблемы определения: что мы подразумеваем,
говоря «Европа» или «Запад»? Как геофафическое название стало
обозначать цивилизацию? Когда зародилась эта цивилизация?
Какое пространство она охватывает, в частности на востоке? И, нако-
19
нец, каковы ее основные характеристики? Разумеется, последний
вопрос не имеет ничего общего с метафизическими изысканиями, с
поиском некой неизменной культурной сущности, что характерно для
работ Тойнби, Шпенглера или Альфреда Вебера1. Речь идет, скорее,
о выделении внешних специфических черт на основании
эмпирических наблюдений.
Широкое определение Европы предполагает, что она берет
начало от Греции и Рима. И действительно, без учета этого наследия
невозможно понять ни один аспект современной западной
цивилизации: ни искусство и литературу, ни законы и политику, ни языки
и философию. Но и античная Европа не является самодостаточной
культурной единицей, поскольку истоки христианства,
главенствующей религии как поздней Античности, так и современного Запада,
лежат в иудаизме, а географически - на Востоке, простирающемся
до Вавилона, Персии и, конечно, африканского Египта2. Однако три
континента и три тысячелетия - уж слишком много для того, чтобы
создать одну-единственную цивилизацию. Подобный поиск самых
отдаленных корней, по сути, лишь показывает, что в истории не
существует абсолютного начала.
Тем не менее в делах людских бывают сравнительно явные
переломные моменты или цезуры, и одним из них стал упадок (или
угасание) Западной Римской империи в V-VIII вв. По мнению некоторых
исследователей, гибель империи на западе оказалась для
средневековой Европы большой удачей, ибо уберегла ее от самодержавия,
царившего на востоке под властью Константинополя или в вечно
оозрождающейся китайской Поднебесной империи. Благодаря
распаду западноримского государства латинский Запад получил шанс
открыть новую страницу своей истории.
Поэтому под начальной хронологической границей Европы, ее
terminus a quo, мы будем понимать момент, когда жители Запада
стали считать себя сообществом, отличным от других сообществ, и,
кроме того, когда их самосознание воплотилось в систему устойчивых
общих институтов. Подобная коллективная самоидентификация,
вкупе с минимальным набором соответствующих институтов,
впервые проявилась при Каролингах: тогда зародилось представление о
«христианском мире», противостоящем варварам-язычникам и
неверным-мусульманам. Это размежевание упрочилось в результате
завоевания арабами в VIII в. южной половины романского мира,
которое в первый раз выделило европейский полуостров в
культурном отношении из единой средиземноморской ойкумены Древнего
Рима. Только в конце XVII в. на смену вышеуказанному религи-
20
озному определению Запада придет более светское понятие
«Европы»3.
Необходимо подчеркнуть, что эпоха становления Европы как
особой цивилизации приходится на 800-1000 гг., поскольку с
XVIII в. история западного мира, как правило, изображается в видр
трехчастной схемы: Античность - Средневековье - Новое время.
С этой точки зрения, Средние века рассматриваются как долгий
провал во тьму невежества и предрассудков, перерыв в развитии
подлинной «западной цивилизации», которая зародилась в Греции, э
окончательно приняла свой облик лишь во времена Возрождения и
Реформации4. Разумеется, Европа начала экспансию вовне,
закончившуюся в итоге ее мировой гегемонией, не ранее XVI в. Однако
подобный подвиг был бы невозможен, если бы не экономический,
институциональный и культурный капитал, накопленный с 1000 по
1400 г. Несмотря на мрак, окутавший болото, в которое превратилась
бывшая Каролингская империя на рубеже второго тысячелетия от
Рождества Христова (тогда впервые появилось такое
летосчисление), именно 1000 г. (а не открытие Америки или морского пути р
Индию и Китай) знаменует вступление Европы на путь, ведущий к
ее terminus ad quem в современности5.
Таким образом, к тому времени, когда Европа после 1492 г.
приступила к внешней экспансии, ее успехи намного превосходили
достижения предшествующих цивилизаций. Именно европейский
динамизм создал модель современного мира (позднее новый гегемон -
Америка - поставил ее воспроизводство на поток). Конечно, сейчас в
историографии подчеркивается, что Европа столь многого добилась
только благодаря ограблению и порабощению других континентов
Но такое поведение присуще всем цивилизациям; зато главным
образом именно европейские современные концепции демократии и прар
человека, распространившись по всему миру, позволили
уравновесить гордость достижениями Европы признанием ее преступлений.
Настоящая глава призвана осветить источники этого динамизму.
А поскольку одним из его аспектов была постоянная экспансия, то
возникновение Европы в исторической ретроспективе
прослеживается здесь не только в ее западной части, как обычно, но по всей ер
географической территории - от Атлантики до Урала, ибо данная,
более обширная, зона в действительности представляет собой
подлинное историческое единство и на протяжении длительного
времени именно она служила сценой для постоянно углубляющейся
драмы европейской революции, кульминацией которой стал российский
Красный Октябрь на востоке континента.
21
Протяженность во времени и пространстве
Первое самоопределение нынешней «Европы» - античное
«Romanitas», политическое обозначение ойкумены Римской империи.
Корни «Christianitas» («христианского мира») каролингской эпохи
и 1000 г., несомненно, восходили к старому «Romanitas», от которого
он унаследовал имперские амбиции, религию, центральный
институт - церковь, письменный язык - латынь, а также все то немногое,
что сохранилось в нем от высокой культуры. Однако новая империя в
первую очередь определялась уже не политически; она представляла
собой общество, где политика и религия сливались воедино.
Правда, она была не одинока в подобного рода
самоопределении. К 800 г. Восточная империя тоже обрела сакральный институт,
хотя высшая власть здесь однозначно принадлежала басилевсу. Как
уже упоминалось, в VII в. арабские кочевники завоевали южную
часть Средиземноморья, тем самым превратив латинский Запад в
«охвостье» старого Рима. В то же время захватчики несли с собой
новый монотеизм, синтезированный из иудаизма и христианства.
Уцелевшие христианские земли оказались перед лицом
конкурирующей и непримиримо враждебной религиозно-политической
ойкумены. Словно в качестве компенсации, урезанный латинский Запад
стал расширяться на северных границах гибнущего «романского
мира», обращая в свою веру местные кочевые варварские племена:
первыми, в V-VI вв., - германцев, затем, около 1000 г., -
скандинавов, западных славян, венгров и на самом востоке - скандинаво-сла-
вян, варягов (именуемых также русами)6.
Обращение северных язычников обеспечило первый субстрат
для исторической Европы. Все современные нации, живущие
на ее территории, выходили на сцену истории, когда
миссионеры Средиземноморья крестили военного предводителя того или
иного варварского племени. Первый этап продолжался от
крещения Хлодвига Франкского в 497 г. до крещения Этельберта
Саксонского, короля Кента, в 598 г. Затем около 1000 г. приняли
христианство Святой Олаф Норвежский, Святой Иштван (Стефан)
Венгерский, Мешко Польский, а в 988 г. - Святой Владимир, князь
Киевский. Правда, в том, происходило ли обращение под эгидой
Константинополя или Рима, заключалась существенная разница.
Восточная церковь, действовавшая в регионе, где существовали
древние развитые цивилизации, всегда использовала в литургии, наряду с
греческим языком, местные наречия и ту же политику проводила в
отношении новообращенных, например армян и славян. Впоследствии
это приведет к огромному различию в судьбах православной и като-
22
лической Европы (граница между ними до сих пор заметна от Балкан
до Балтийского моря и, кстати, в текущих планах расширения НАТО
и Европейского Союза)7. В те времена различия еще не имели
большого значения: так, в середине XI в. король Франции Генрих I взял
в жены Анну Киевскую, создав своего рода франко-русский альянс
против императора Священной Римской империи германской
нации. Смешение римских, христианских и варварских элементов в
зоне, включающей земли Руси, легло в основу дальнейшего развития
Европы.
Впрочем, движущей силой истории Европы предстояло стать
не ее первичному, широкому субстрату христианско-варварских
«протонаций». В данной роли выступил не столь обширный, но
более динамичный латинский Запад, впервые организовавшийся при
Каролингах. Как уже отмечалось, основное нововведение их
недолговечной империи заключалось в том, что она объявила себя
«христианским миром», самоидентифицируясь по религиозному признаку,
чего никогда не делала классическая Римская империя Константина
и Феодосия. Реализуя свой замысел, она ввела летосчисление от
Рождества Христова; распространила христианство (в античные
времена - городскую религию) в языческих крестьянских общинах,
разделив сельскую местность на приходы; выковала союз с папством и
бенедиктинским монашеством, благодаря которому по всему Западу
утвердился ортодоксальный римский католицизм, а светская власть
вместе с тем приобрела священный статус.
Конечно, этот мир не включал православный Восток в
представление о себе как едином целом. По сути, возникновение
западной Каролингской империи породило религиозный раскол с
Константинополем, достигший кульминации в 1064 г.8 Разумеется,
греческий Восток не ставили на одну ступень с язычниками или
неверными, однако внутри христианской Европы возникла
двойственность, преодолеть которую не удавалось вплоть до эпохи Петра
Великого в начале XVIII в. (а некоторые утверждают, что она не была
преодолена и тогда).
В IX-X вв. под натиском второй волны нашествия варваров -
викингов, венгров, моряков-сарацин - империя франков распалась, и
политическое единство латинского «христианского мира» навсегда
исчезло. Сохранившуюся верховную светскую власть представляли
государства, образованные варварскими gentes (народами), хотя
после 962 г. один из таких народов - саксы - воскресил имперскую
традицию Каролингов в форме Священной Римской империи
германской нации, чье действительное влияние распространялось от устья
23
Рейна и Эльбы до самого Рима. В сущности, стремление
германского императора контролировать территории Центральной Европы от
Рима до Северного моря и послужило основной причиной, которая
помешала империи превратиться в национальную монархию. Тем
не менее в условиях Средневековья подобная политика
представлялась оправданной: императоры в борьбе против наследных
принцев зависели от материальных средств и управленческого
персонала ненаследуемых церковных феодов, и с их стороны было весьма
благоразумно добиваться контроля над центром церковной власти
в Риме. Однако благоразумно не значит осуществимо, поскольку
феодальных административных мер не хватало для того, чтобы
держать в подчинении разрастающиеся германо-итальянские владения.
В итоге к середине XIII в. объединенное сопротивление папства, не-
м<ецких принцев и итальянских коммун, утверждавших свою власть
на местах, привело к падению самого амбициозного императорского
дома Гогенштауфенов, а вместе с тем и реального могущества самой
империи.
В хаосе той эпохи минимальную безопасность обеспечивала
только милитаризация общества на местном уровне. Таким образом,
в зоне между Луарой и Рейном, а также в Бургундии вдоль Соны
возникло военное дворянство - военачальники-сеньоры и
зависящие от них вассалы, связанные друг с другом договором о взаимной
верности и поддержке. В отличие от древних римлян, эти дворяне
сражались в металлических латах и верхом, подковывали лошадей
и использовали стремена (по обычаю, принесенному на Запад
степными варварами-кочевниками). Жили они за счет труда крестьян в
своих сельских поместьях, которым взамен предоставляли защиту.
К 1000 г. феодальное общество, как мы именуем его сегодня, весьма
далеко продвинулось в восстановлении внутреннего порядка в самой
западной части Европы. Под влиянием церкви действия грубых вояк
«этизировались» в рамках кодекса рыцарства. Кроме того, рыцарей
более или менее приучили соблюдать церковные установления
насчет Божьего перемирия или (еще того лучше) Божьего мира*.
Восточная часть Европы, однако, подобной стабильности не
знала. С 1100 г. конные варвары-кочевники, жители широкого коридора,
который идет от Монголии и Средней Азии через украинские степи
* Божье перемирие - церковный запрет на ведение военных действий в
определенные дни, Божий мир - обязательное прекращение военных действий на
сравнительно длительный срок (до 3 лет) по предписанию церкви. - Примеч. пер.
24
до венгерских равнин, становились все активнее. Пиком их
завоевательной деятельности стало нашествие монголов в 1240 г.9 В оседлом
мире не нашлось военной силы, которая могла бы им противостоять.
Латинский Запад спасло лишь то, что после разгрома
немецко-польского войска в 1241 г. при Легнице в Силезии монголы повернули
обратно, узнав о смерти своего Великого Хана. Зато большую часть
русских княжеств они сделали своими данниками.
Это примерно на триста лет отрезало Россию от «христианского
мира», как завоевание арабами в 712 г. лет на пятьсот отторгло от него
Испанию, а турецкое завоевание 1526 г. почти на двести - Венгрию.
Точнее, Киевская Русь после 1240 г. разделилась на западные
земли (сегодня это территории Украины и Белоруссии), поглощенные
Польско-Литовским государством, и Московию (Московскую Русь),
которая одна испытала тяготы «татарского ига». Однако, в отличие от
Испании и Венгрии, Московская Русь не подверглась ни оккупации,
ни колонизации, и, вопреки широко распространенному мнению,
никаких монгольских институтов власти там не насаждалось. По сути,
ею по-прежнему правили князь, его бояре и дружина. Эти
институты функционировали вплоть до конца XV в., образуя «договорную»
систему, которую по праву можно отнести к начаткам феодализма10.
Подъем Запада
Устойчивый динамизм истории Европы зародился в сердце
латинского «христианского мира», после 1000 г. сравнительно
безопасном под защитой упрочившегося феодализма11. Процесс начался с
аграрной революции, перехода к технологии глубокой распашки, к
применению хомута, который позволил использовать лошадей не
только для верховой езды дворян, но и в более «низменных» целях -
как тягловую силу, и к трехпольной системе земледелия12. К 1300 г.
эта революция сделала заальпийскую Европу богаче и многолюднее,
чем когда-либо было античное Средиземноморье. Она также
положила конец крепостному праву, возникшему в Европе в позднерим-
ский период при Диоклетиане и Константине. Благодаря новообре-
тенному богатству оживилась торговля, появились мануфактуры.
Количество и размеры городов росли от Средиземного до Северного
моря, даже на балтийском побережье вплоть до русского Новгорода.
Феодальная организация власти и развитие экономики создали
условия для строительства в латинском «христианском мире»
прочной институциональной структуры. Она была создана «сверху»,
посредством радикального реформирования слабой половины
каролингской системы - монашеско-папской церкви, благодаря чему в
25
средневековой Европе возникло нечто наиболее близкое к единому
«правительству» за всю ее историю. Собственно религиозный аспект
этой трансформации вскоре будет рассмотрен ниже; в настоящий
момент достаточно указать некоторые ее последствия для общества в
целом.
Осуществляя свое руководство обществом, панъевропейская
теократия способствовала возрождению высшего образования. Она
разработала изощренную правовую систему, базирующуюся на
римском праве, сделала церковную администрацию профессиональной.
Кроме того, многие достижения церковного «правительства», равно
как и обученные им служители церкви, находили применение в
зарождающихся монархиях Англии и Франции, благодаря чему в этих
землях примитивный феодализм переходил на новый, более высокий
уровень13.
XII-XIH вв. стали периодом упрочения и расцвета «первой»
Европы. Следы ее институтов можно найти и сегодня в современных
представительных ассамблеях и законодательстве крупнейших
европейских государств, в организационной структуре и философской
терминологии их университетов. Материальное наследие той эпохи
обнаруживается в известняковых романских и готических
церквушках европейских деревень, где после 1000 г. леса зачастую
подвергались вырубке, в запутанной планировке улиц и вздымающихся ввысь
соборах городов. Его отпечаток, хоть и менее заметный, несут на себе
кирпичные готические церкви в городах бывшего Ганзейского союза
от Любека до Таллина. Даже облик ландшафтов далекой Московии
надолго определили каменные храмы византийского стиля,
построенные в XII в.
Восточный градиент
Изначальная Европа 1000 г. не осталась в тесных границах
каролингского ядра и развивалась не равномерно. Она претерпевала
постоянный процесс расширения и изменения, благодаря чему к 1300 г.
ее территории удвоились в размере, а внутренний состав стал
разнообразнее. В 1066 г. законченный, зрелый феодализм вкупе с более
строгим подчинением папскому Риму в результате завоевания был
перенесен в Англию. Чуть позже другие нормандские бароны
отобрали у Византии Южную Италию, а у сарацин - Сицилию. В те же годы
при содействии франкских рыцарей началась двухвековая испанская
Реконкиста. Самым впечатляющим, хотя и самым эфемерным
аспектом расширения в данном направлении, конечно, стали крестовые
походы.
26
Одновременно германская колонизация перешагнула старую
каролингскую границу по Эльбе и Заале, богемским лесам и Инну
(примерно там же в 1945 г. опустился «железный занавес»). По сути,
именно угроза со стороны немцев заставила языческие
западнославянские королевства принять римское христианство - в основном
для того, чтобы обрести легитимность, защищающую от Германской
империи. К 1300 г. немцы в ходе своего «натиска на восток» (Drang
nach Osten) пересекли Одер, достигли Вислы и спустились по Дунаю
до Вены. Самая дальняя граница их продвижения усилиями
рыцарей-крестоносцев протянулась вдоль балтийского побережья, от
Восточной Пруссии до нынешних стран Прибалтики. Отчасти эта
колонизация вытеснила прежнее славянское население. Однако она
же в значительной степени побудила Богемию, обширное Польско-
Литовское государство и растущее Венгерское королевство бороться
с угрозой со стороны дальнего Запада, перенимая его характерные
черты: сначала феодальные формы политической организации, затем
городские коммуны, а к XIV в. - и университеты14.
Таким образом возникла «вторая» Европа, как ее иногда
называют, - к востоку от Эльбы и Юлийских Альп15. Эта полупограничная
зона уступала каролингскому ядру и Англии по богатству и
динамичности: трехпольная система появилась здесь примерно на два
столетия позже, импортированные феодальные институты были слабее
развиты, города - меньше по размерам и не столь многочисленны, их
готическая архитектура создавалась не из известняка, а из кирпича.
Кроме того, к концу XV в. «вторая», заэльбская Европа стала
превращаться в источник зерна, полезных ископаемых и сырья для более
развитого атлантического Запада. Такие экономические отношения,
выгодные, но зависимые, заставляли местных феодалов закрепощать
(или возвращать в крепостное состояние) своих крестьян, приведя
ко «второму крепостничеству», которое двигало общество «второй»
Европы в противоположную сторону по сравнению с «первой» и
сохранялось здесь вплоть до начала XIX в.
Поэтому начиная с XIII в. уместно говорить о явлении, которое
немецкие историографы не так давно стали именовать
«западно-восточным культурным градиентом», - падении в развитии,
отграничившем передовую Европу от отсталой и разделившем континент
на ведущие и догоняющие регионы. Но это деление не совпадает с
границей между латинским «христианским миром» и православным
Востоком - оно существует внутри самого «христианского мира».
Впоследствии данное обстоятельство обусловило, как говорят те же
немецкие историографы, размышляя о катастрофе XX в., «особый
путь» (Sonderweg) их нации к современности. В сущности, в течение
27
longue durée исторической Европы наиболее четкий рубеж по
указанному градиенту рассекал саму Германию по Эльбе. И от этой линии
череда «особых путей» демонстрирует падение в развитии к востоку
до Урала.
Бросим взгляд на эволюцию «второй» Европы в долгосрочной
перспективе. Во-первых, здесь существовали германские военные
марки - Бранденбург на севере и Восточная на Дунае, которые в
XVII в. стали основой современных прусской и австрийской
держав. Помимо этих пограничных государств были еще Богемское,
Венгерское и Польское королевства, в различные периоды с XIV
по XVI в. пережившие свой «золотой век независимости». Однако,
в отличие от королевств Плантагенетов и Капетингов, во всех трех
странах дворянство постоянно наращивало собственную власть за
счет монархии. И когда в XVII в. наступило время решающего
испытания на прочность государственности, центральноевропейские
королевства одно за другим были уничтожены Османской Турцией,
габсбургской Австрией, а последнее из них, Польша, - совместно го-
генцоллерновской Пруссией и романовской Россией.
Ибо тем временем к 1500 г. Московская Русь, стряхнув
последние остатки «татарского ига», положила конец своему долгому
отсутствию в жизни Европы. Она тоже стала пограничным государством,
вступившим на путь к великим свершениям. Однако на этом пути ей
пришлось преодолевать самые большие экономические препятствия
в Европе. На бедных по природе местных землях трехпольная
система утвердилась лишь во второй половине XV в. (то есть на четыре
столетия позже, чем во Франции и Англии). Правда, двухсотлетняя
борьба со степными кочевниками дала великому князю возможность
в значительной степени освободиться от влияния наследственных
бояр, заменив их дворянами, служилыми людьми, которым земли
жаловались за военную службу. Вся эта структура держалась
теперь на закрепощении крестьян, что ставило социальную систему
Московской Руси в один ряд со «вторым крепостничеством»
«второй» Европы. Здесь крепостному праву суждено было
просуществовать дольше, чем у соседей, - до второй половины XIX в. Расцвет
самодержавия не похоронил окончательно элементы «договорных»
отношений: до середины XVII в. Земский собор действовал как
зачаточная система сословного представительства. Но при этом в центре
и на западе континента успешно функционировали более развитые
представительные органы.
Таким образом, к концу XV в. Европ фактически оказалось три.
Первая («изначальная»), на атлантическом Западе, уже готовилась
возглавить вторую великую экспансию «христианского мира» - на
28
сей раз за Атлантический океан и по всему земному шару. Вторая
охватывала заэльбскую Германию, Богемию, Венгрию и Польшу.
И была «кандидатка» в Европу, Московская Русь, которую еще
тревожили набегами степняки, но которая со времен Ивана IV (Грозного)
стремилась прорваться к берегам Балтийского моря и в
польско-литовские земли. При Петре I эта «кандидатка», наконец, совершила
желанный прорыв в обоих направлениях, став одной из пяти великих
держав современной Европы. Вместе с тем и заэльбская Европа
получила конфигурацию, которую сохранит до Первой мировой войны:
три династических империи, организованные как «старые режимы»,
по обе стороны от трех ныне не существующих центральноевропей-
ских национальных монархий.
Консервативная основа Европы
Все время, пока шел процесс гомогенизации региона за Эльбой,
центр динамизма европейской системы в целом оставался на дальнем
Западе, в «первой» Европе. Какой же характер имела эта часть света
в XV в., накануне заокеанской экспансии латинского «христианского
мира» и его собственного внутреннего раскола?
Официально новая Европа придерживалась абсолютно
статичного мировоззрения, в соответствии с которым любая легитимность
исходит от Бога и вечного естественного порядка. Поэтому на земле
в основе человеческого бытия лежали покорность высшей власти и
иерархическое структурирование общества, влекущее за собой
деление человечества на взаимозависимые корпоративные слои. Однако,
как мы яснее увидим далее, чувство индивидуальности было не
чуждо этому миру. Феодальный культ личной чести и справедливости
давал мощный стимул индивидуализму. Тем не менее в обществе эта
ценность не считалась высшим принципом его организации, как в
современном мире. Старая Европа, как впоследствии скажет
социология, представляла собой органичную общность (Gemeinschaft), а
не атомизированное индивидуалистическое общество (Gesellschaft),
характерное для современности. Не человек создавал свой мир, а мир
делал из человека то, что он есть, члена одного из «сословий» - тех,
кто молится, тех, кто сражается, или же тех, кто смиренно трудится.
Все в этом дольнем мире имело предназначение служить целям его
Создателя и зарабатывать спасение служащих ему.
Поэтому в средневековой Европе не существовало такой вещи,
как политика в древнем или современном значении этого слова -
организованная и легальная борьба за власть. Не было там и
представления о реформировании посредством законодательной деятель-
29
ности признанных органов власти. Девиз той эпохи гласил: «Закон
находят, а не создают». Считалось, что мир неизменен и каждому
человеку в нем пожизненно отведено свое место в социальной
иерархии, ибо такова воля Божья. В подобном мире, разумеется, не могло
идти речи о революции, равносильной, по сути, богохульству. В этой
связи часто цитируются слова Святого Павла: «Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие
же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти
противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя
осуждение»16.
Нас интересует здесь вопрос, каким же образом в статичном мире
средневековой Европы могли появиться и в конечном счете обрести
некоторую легитимность оправдания радикальных перемен? Ответ
кроется во внутренних противоречиях двух основ средневекового
общества - феодализма в светской сфере и римско-католической
церкви в духовной. Конфликтующие силы, подспудно действовавшие в
этих двух институтах, во многом объясняют историческую
уникальность Запада и развившуюся у него в итоге предрасположенность к
периодическим революциям.
Динамика феодализма
Начиная с земной основы - феодализма, мы снова сталкиваемся с
путаницей в терминологии, для устранения которой следует
рассматривать конкретный исторический контекст. В общем обиходе слово
«феодальный» сейчас употребляется в марксистском значении -
свойственный аграрной экономике, построенной на отношениях
крестьянина и помещика (иными словами, манориальной системе).
Маркс использовал его в этом смысле из-за наследия Французской
революции. В 1789 г. были отменены «феодальные повинности»,
которые действительно существовали в Средние века, однако к XVIII в.
приобрели форму обычных манориальных сборов, например платы
крестьян сеньору за пользование мельницей и т. д. К слову «феодал»
Маркс добавил обобщающий суффикс «-изм», называя с помощью
нового термина всю дореволюционную социально-политическую
систему, все то, что точнее характеризуется другим
послереволюционным термином - «старый режим». В результате расширения
(или, скорее, размывания) под влиянием модернизационной
теории Маркса понятие «феодализм» стало обозначать
«традиционное» (иными словами, аграрное) общество как противоположность
«современному» (индустриальному). При таком его употреблении
«феодальной» можно назвать какую угодно страну, от Саудовской
30
Аравии до маньчжурского Китая, однако подобная широта делает
этот термин бесполезным для социологии.
Единственный способ преодолеть понятийную неразбериху -
обратиться к исторической этимологии слова. Как хорошо знали
господа, отменившие в XVIII в. феодальные повинности, эпитет
«феодальный» происходил от слова «феод»*. Соответственно «féodalité»
(феодальное устройство) - система отношений между вассалом и
сеньором, господствовавшая в средневековой Европе. Токвиль
указывал, что она переживала расцвет с XI в. до начала централизации
государств под властью королевских династий в XIII в., а в течение
последующих пяти столетий постепенно приходила в упадок. Таково
значение термина «феодализм» для медиевистов, и только в этом
смысле он будет употребляться здесь.
Разумеется, феодализм в данном значении предполагает
наличие манориальной системы с подчинением крепостного
крестьянина феодалу-помещику, но не тождествен ей. В том или ином виде
манориальная система существовала в столь разных обществах, как
абсолютистская империя Диоклетиана и Константина, российская
самодержавная монархия Петра I и Екатерины II и управляемая
латифундистами Мексика при Порфирио Диасе, где в итоге вспыхнуло
крестьянское восстание под предводительством Эмилиано Сапаты.
Однако средневековый феодализм в собственном смысле слова
означает только военные, юридические и политические
взаимоотношения сеньора и вассала. Это двусторонний договор между двумя
свободными людьми, взаимное соглашение, в рамках которого
сеньор дарует защиту и земельное владение (с прикрепленными к нему
крестьянами) конному воину в обмен на рыцарскую службу
последнего в определенные сроки и в определенном месте. Если же сеньор
не выполнит свою часть договора, вассал имеет право восстать
против него, в том числе даже присягнуть в верности другому сеньору.
«Человек может противиться своему королю или его судье, если тот
поступает против закона [или его прав], и даже может помогать вести
войну против него... Тем самым он не нарушит долга верности», -
гласил один из статутов17. Отметим также, что в Средние века
«закон» и «право» обозначались одним словом «droit».
Возникает вопрос, представляет ли собой феодализм в таком
понимании исключительно европейское явление. Очевидно, что
похожее общественное устройство в разные периоды истории
существовало и в других местах: от Византии и Индии до некоторых районов
* Земельное владение феодала. - Примеч. пер.
31
Африки. Самый показательный пример - средневековая Япония, где
хозяин совершенно «по-европейски» даровал своим самураям землю
и слуг в обмен на несение военной службы. Однако в Японии
обязанности, привязывающие вассала к сеньору, носили односторонний
характер и исключали право на законное сопротивление18.
Это различие потом будет иметь важные политические
последствия, поскольку именно право на сопротивление, заложенное в
феодальной системе Европы, стало основой для формирования
комплекса политических прав западного общества. Возьмем, к примеру, самый
известный прецедент: английскую «Великую хартию вольностей»
1215 г. Вопреки распространенным утверждениям, она была не
биллем о правах в современном понимании, а феодальным
договором между королем и его баронами, которые в ответ на попрание
монархом их прав организовали коллективное сопротивление,
вынудив сюзерена пойти на уступки. Поэтому договор не заключал
в себе ничего кардинально нового: в нем лишь детально
растолковывались взаимные обязательства, которые, как
предполагалось, король и бароны всегда имели друг перед другом. К тому же
хартия не распространялась на других подданных монарха - ни на
крестьян-вилланов, ни даже на горожан, разъясняя лишь
отношения, существующие внутри знатного сословия. Пару веков спустя
аналогичные коллективные действия по расширению договорных
отношений приведут к возникновению выборных представительных
институтов, предшественников современного парламента - системы,
неизвестной ни в античных, ни (вплоть до XX в.) в азиатских
обществах.
Один из самых авторитетных в XX в. историк феодализма Марк
Блок описывал его политическую динамику следующим образом:
«Вассальный оммаж представлял собой настоящий договор, причем
двусторонний. Не исполняя свои обязанности, сеньор терял свои
права. С неизбежностью перенесенная в политическую сферу - поскольку
главные подданные короля одновременно являлись его вассалами -
эта идея не могла не иметь весьма далеко идущих последствий, тем
более что здесь она подкреплялась очень древними
представлениями, согласно которым король несет мистическую ответственность за
благосостояние своих подданных и заслуживает кары в случае общих
бедствий. В данном аспекте древняя мысль соединилась с другой,
возникшей в лоне церкви вследствие григорианского протеста
против мифа о священной и сверхъестественной природе королевской
власти. Именно авторы из этой клерикальной группы впервые с
силой, долгое время не имевшей себе равных, выразили мнение, что
государя с его народом связывает договор - как "свинопаса с хозяином,
32
нанявшим его", писал эльзасский монах около 1800 г.»19. Сравнивая
опять же Европу с Японией, Блок отмечает, что, в отличие от
европейских королей, японский император являлся божественным
существом, «остававшимся вне структуры вассальных обязательств» и,
следовательно, навеки недосягаемым для своих подданных.
Таким образом, несмотря на царившие в средневековой Европе
насилие и хаос, на угнетение закрепощенной бедноты, феодализм
принес ей подрыв идеи всевластия, тем самым строго ограничив
вселенские амбиции как империи, так и папства. В конце концов, он
также противодействовал стремлению протонациональных
территориальных монархий к централизации. К тому моменту, когда в 1789 г.
были стерты его последние следы, свойственное ему понятие об
индивидуальных правах внесло немалый вклад в формирование ново-
провозглашенной концепции всеобщих Прав Человека.
Динамика городских коммун
Феодальные отношения не обошли стороной и
оживившуюся городскую экономику. Постепенно возникавшие в XI в. вдоль
торговых путей из Северной Италии во Фландрию новые города
к 1300 г. стали богаче античных. Кроме того, они сильно
отличались по своей организации. Полис или цивитас, во всяком случае
до возникновения Римской империи, служили не только
торговыми центрами. Это были территориальные города-государства, где
сначала главную роль играло сельское хозяйство (как, скажем, в
Спарте) и лишь позже на первое место вышла торговля (как
показывает пример Афин). В Римской империи (по крайней мере, в ее
западной части) они все больше приобретали административные
функции.
Средневековые города, напротив, в первую очередь являлись
средоточием торговли и даже промышленности. По уровню технологии
и коммерческого искусства такие центры текстильного
производства и банковского дела, как Флоренция или Брюгге, намного
превосходили древние Афины. Естественно, когда такой новый центр
складывался вокруг старой римской цивитас, он одновременно
становился резиденцией епископа. В этом случае епископский «сите»
(cité) окружался «бургом» (bourg) торговцев и ремесленников, чьи
обитатели, или «буржуа», рано или поздно в ходе классовой борьбы,
подробно описанной Гизо, вырывали у своего церковного сюзерена
хартию, объединяющую их в коммуну.
Такая относительная независимость, однако, не делала эти
центры, даже если они управляли окружающей сельской местностью,
33
что было характерно практически для всей Северной Италии, в
меньшей степени подданными какого-либо сюзерена, хотя бы и
столь далекого, как император или папа. Аналогичным образом
и внутри городских стен ремесленные цеха и торговые гильдии,
патриции и плебеи организовывались в корпоративные
структуры с коллективными правами и обязанностями. Ученые и
учащиеся кафедральной школы при епископе тоже получали хартию в
качестве «universitas» - еще одно слово для обозначения
корпорации.
Иными словами, даже «свободные» анклавы новой буржуазии
во многом являлись частью окружавшего их феодального мира.
Например, «классовая борьба» - между горожанами и их сюзереном
за пределами городских стен, между аристократами и
простолюдинами или мастерами и подмастерьями внутри самой коммуны -
неизбежно облекалась в феодальную терминологию и велась за
корпоративные права. Поэтому слово «свобода» в средневековом обществе
не имело единственного числа, обозначающего
абстрактно-универсальное понятие. Его всегда употребляли во множественном числе,
говоря о конкретных договорных «свободах» различных единиц
феодального мира. Свободы, или права, в этом смысле были также
неизвестны демократии Перикла.
Тем не менее, хотя в определенном смысле возникавшие
городские общины интегрировались в феодальную систему, в ряде
фундаментальных аспектов они всегда оставались чуждыми ей. В
долгосрочной перспективе, как признавали и Гизо, и Маркс, они являлись
самыми динамичными элементами средневекового мира, поскольку
представляемый ими вид богатства был способен порождать
гораздо большую экономическую и политическую мощь, чем манори-
альное землевладение. Однако на ближайшее будущее сам факт их
богатства поставил перед ними и окружающим их миром серьезную
нравственную проблему. Евангелие учило с подозрением
относиться к богатству в любой форме, а особенно - к добытому не
производительным трудом, а путем ростовщической практики одалживания
денег под проценты, которое считалось столь греховным, что
заслуживало проклятия. Материальные блага, и в частности их
абстрактное выражение - деньги, олицетворяли царство Мамоны, а человек
не может служить Богу и Мамоне одновременно. Из-за этого чуть не
до середины XVI в. Европу раздирало противоречие между ее
растущей способностью к созданию богатства и стойким убеждением, что
царство Божие - не от мира сего. Особую остроту это противоречие
приобрело, когда в сети Мамоны попала церковь, мистическое тело
Христово на земле.
34
Религиозная динамика
Переходя к рассмотрению развития духовной основы
средневекового общества, церкви, необходимо подчеркнуть, что постичь ее роль,
глядя на нее главным образом с институциональной точки зрения,
нельзя. Институциональная организация церкви (экклезиология)
являлась в первую очередь выражением ее теологии, и нам следует
предельно серьезно отнестись к принципам этой теологии, если мы
хотим понять ее влияние на мирскую сферу20.
Господствующая в дискурсе социальной науки мода, однако,
сильно осложняет задачу. Здесь все еще сильно влияние
марксизма, который низводит религию до надстройки, чистой «идеологии»,
опиума для народа, предназначенного для того, чтобы обманом
заставить массы смиренно повиноваться эксплуататорскому государству.
Недалеко от него ушел и структурный функционализм, трактующий
религию просто как «систему неэмпирических верований», которая
дает «ценностные ориентации», призванные «смазывать» сложные
механизмы социальной системы21.
Воспользуемся снова словами Вебера: все религии не похожи
друг на друга, и в зависимости от их доктринального содержания
существенно различается их социальное воздействие. Есть религии
без трансцендентности (т. е., в сущности, без Бога): конфуцианство,
буддизм, синтоизм22; лучше всего их, пожалуй, характеризует
западный термин «естественная религия». Есть древние политеистические
религии (например, индуизм), конвергирующие в универсалистский
субстрат бытия, который, однако, также не является
трансцендентным. Эта теология взаимодействует с кастовой системой общества
благодаря вере в переселение душ - доктрине, делающей статус
человека в жизни явлением преходящим, а потому несущественным23.
Существуют и религии, требующие человеческих
жертвоприношений (скажем, верования индейцев Мезоамерики - ацтеков и майя), -
несомненно, имеющие весьма специфические социальные
последствия. И наконец, есть ближневосточные монотеистические религии
(иудаизм, христианство и ислам), которые такими разными, но
исторически мыслящими философами, как Гегель и Конт,
рассматриваются как высшая форма духовности, поскольку представляют собой
веру в абстрактного, трансцендентного и всемогущего Бога.
Помимо общей ключевой идеи три последние религии имеют
значительные расхождения в доктринах, институтах и обрядовой
практике. Взять хотя бы духовенство: раввины - это учителя, улемы -
толкователи Корана, а священники - служители господни,
совершающие таинства, которые должны даровать каждому верующему
35
искупление личных грехов и вечное спасение. Короче говоря,
священник является наделенным божественной властью посредником
между Богом и своей паствой. Еще одна особенность христианского
монотеизма - догмат о Троице, который не раз давал противникам
Христианства повод говорить о его скрытом политеизме. Однако для
Христиан триединая природа Бога представляет собой неминуемое
Следствие фундаментального догмата их веры: воплощения
божественного логоса в Иисусе, Сыне Божием. Только благодаря этому
стало возможно его распятие и воскресение во искупление грехов
человечества. А поскольку Бог никогда не оставляет церковь, то его
1ретьим воплощением является Святой Дух, который направляет и
хранит «мистическое тело» верующих до Страшного Суда24.
Современному сознанию эти доктринальные хитросплетения
могут казаться невразумительными до полной бессмыслицы - если их
вообще не считают суеверными фантазиями, разжигающими в
единой семье человечества нетерпимость и братоубийственную вражду.
Конечно, в течение столетий непреклонный монотеизм имел
достаточно негативных последствий. Но все же это не единственные его
последствия, о чем свидетельствует хотя бы экскурсия по маршруту
путеводителя Мишлен по уцелевшим белостенным церквям Галлии.
Парящие своды и светлые окна Шартра и Сент-Шапель, по сути,
представляют собой теологические декларации в камне и стекле.
Они несут послание, выведенное аббатом Сугерием из мистических
произведений Псевдо-Дионисия Ареопагита: Бог есть свет,
источник всего сущего и конечная цель бытия, к которой однажды
придет человечество25. Время, кстати, покажет, что такое мировоззрение
невозможно адекватно отобразить с помощью афинских дорических
колонн или римских куполов времен Августа, - примерами тому
служат рационалистические храмы XVIII в. в Париже - церковь Мадлен
и Пантеон. Последний сегодня переименован в Храм Республики,
*1то весьма ему подходит.
С нашей точки зрения, впрочем, самый важный вклад в
уникальный характер Европы христианская теология сделала не в сфере
искусства, а в области экклезиологии. Ибо эта теология вызывала в
миру отголоски, которые на современном языке назывались бы
социально-политическими, но, учитывая их религиозную
формулировку, действовали весьма несовременными путями. Поэтому неверно
говорить, что спор об инвеституре был всего лишь борьбой за
политическую власть, а ересь в действительности представляла собой
социальный протест. Теология - не просто незрелая форма политики.
Она трактует проблемы веры, которые касаются неизбежных, но не
имеющих рациональных ответов «великих вопросов» о бытии и его
смысле.
36
Вероятно, наилучшим образом теологическую основу
средневековой цивилизации сформулировал коллега Вебера, который больше,
чем он, занимался социологией религии, - лютеранский богослов и
социальный критик Эрнст Трёльч: «Исторический Богочеловек,
соединяющий в своем лице оба начала - человеческое и Божественное,
основал церковь как отражение самого себя, как Богочеловеческий
организм. За счет своего Божественного начала этот организм
должен быть абсолютно единообразным и господствовать над
природным царством, подобно тому как в Богочеловеке Божественное
начало господствует над человеческим. Соответственно Он
выделяется в церковном богослужении как Христос причастный, который
каждый раз, когда совершается таинство причастия, возобновляет
союз Божественного и человеческого, делая священника,
приносящего жертву, тем, кто осуществляет это единство; соответственно
Он также приходит к каждому человеку посредством причастия,
через чувства и в то же время сверхчувственно, дабы поставить
природное под управление Божественного и чудесным образом придать
Божественность природному и материальному. Церковные таинству
суть продолжение Воплощения, повторение духовного процесса,
благодаря которому милость Божья является в жизнь человека»26. Одно
это учение, впрочем, не могло вызвать на латинском Западе духовное
возрождение и институциональный подъем церкви, произведенный
григорианской реформой середины XI в. В конце концов, ту же
доктрину почитал и греческий Восток. Однако именно в середине XI в.
начался долгий упадок Византии, приведший в итоге к турецкому
завоеванию Константинополя в 1453 г. В сущности, даже во времена
наивысшего процветания при императоре Юстиниане в VI в.
греческий Восток не обнаруживал такого динамизма, как латинский Запад
после XI в.
Общепринятое объяснение подобного контраста вкратце
приводилось в начале данной главы. Если остановиться на нем
подробнее, то в основе его лежит парадокс. На Востоке империя (к
сожалению) оказалась достаточно сильна, чтобы справиться с варварам^,
и, спасшись, обеспечила себе возможность долго стагнировать. На
Западе империя (к счастью) пала жертвой варварского нашествие,
и латинскому «христианскому миру» пришлось искать новый пут^,
дабы вернуться к цивилизации. В частности, на Востоке церковь
так и осталась в подчиненном положении, в которое ее поставили
Константин и Юстиниан, тогда как на Западе она освободилась от
светского контроля, и ее духовная власть сумела заменить
империю в качестве высшей силы в обществе. Беспрецедентный примат
трансцендентных устремлений и дал раздробленному Западу пер-
37
вый толчок к построению нового - послеримского - порядка. Этим,
конечно, объясняется не все, но очень многое. Ниже речь пойдет об
истоках западной сацердотальной империи и ее внутренних
противоречиях.
При Каролингах духовный «меч» церкви находился в
подчинении у светского «меча» империи, так же как в Византии, ибо
«территориальная церковь», насколько известно ученым, фактически
служила единственным административным аппаратом, имевшимся в
распоряжении франкских императоров. Вместе с тем, поскольку
искупить грехи можно было только при посредничестве церкви,
светские магнаты одаривали ее землей, дабы обеспечить себе спасение
души. Развал центральной власти усугубил ситуацию: после 850 г.
контроль над церковными землями и должностями перешел к
местным феодалам.
Тем не менее одна из ветвей церкви - монастыри ордена Св.
Бенедикта - сохранила относительную независимость. Один из них,
основанный в 910 г. в Клюни, создал сеть реформированных аббатств и
первым выступил против феодального подчинения духовных
властителей мирским. При поддержке императора Священной Римской
империи клюнийские монахи в середине XI в. убедили папу в
необходимости радикальной реформы всей церкви. Григорианская реформа
1040-1060 гг. сделала папский престол настоящим центром
латинского «христианского мира», исполняющим миссию христианизации
всех живущих на земле.
Этот замысел полностью преобразил прежние модели отношений
церкви и государства. До Константина церковь не враждовала с
государственной властью, но держалась в стороне от нее, следуя
библейской заповеди отдавать «кесарю - кесарево, а Богу - Богово». По
завершении его правления она все еще функционировала отдельно
от имперской власти, которая обеспечивала ей протекцию, ожидая
взамен подчинения в светских делах. Миссии христианизировать
языческий мир церковь по-прежнему не имела. При Каролингах
церковь и общество соединились, но император стоял выше. С приходом
на папский престол Григория VII роли в корне изменились: церковь
и общество оставались связанными воедино, но верховной властью
стала духовная. С точки зрения монастырского духовенства и
папства, для церкви это был единственный способ сохранить
независимость от мирского контроля и уберечься от развращения «светом».
По словам Гиббона, Древний Рим завоевал мир, защищаясь. То же
самое можно сказать и о папском Риме, который, защищаясь,
завоевал феодальную Европу. Но при этом церковь приняла на себя новую
38
миссию - сделать мир святым, превратить его в социальное
воплощение христианства.
В результате белое (не монашеское) духовенство обязали давать
обет безбрачия, дабы освободить его от мирских забот о семье,
детях и наследовании имущества. Папы отныне избирались коллегией
кардиналов, что исключало вмешательство со стороны императора
и римской знати. Все сильнее подчеркивалось, что главное таинство
причастия есть знак присутствия живого Христа на земле и
первостепенный источник милости, несущей спасение. Это превращало
духовенство в жреческую касту, отдельную от мирян и
возвышающуюся над ними. Но и самих мирян возвели на более «чистый»
уровень: физическую любовь между ними недвусмысленно объявили
«таинством брака». Основные таинства крещения и причастия были
включены в более широкий круг «семи таинств», которые подавали
человеческому существу помощь от рождения до смерти. Даже война,
профессиональное занятие феодалов, получила нравственное
обоснование, когда воинский пыл направили в русло крестовых походов
против неверных в Святую Землю, испанской Реконкисты и борьбы
с собственными еретиками, например альбигойцами или позднее -
гуситами.
Эти реформы весьма агрессивными методами осуществлялись во
второй половине XI в. рядом монахов, по очереди занимавших
папский престол, важнейшую роль среди них сыграл Гильдебранд, или
Григорий VII. Первой мерой стало лишение императора права
инвеституры священников и епископов и возвращение этих
полномочий церкви. Папство в общем и целом победило в споре по данному
вопросу. Великим символом его победы стало публичное унижение
отлученного от церкви германского императора Генриха IV,
который босиком пришел к Григорию VII в замок Каносса, умоляя снять
отлучение.
Папское могущество проявило себя во всей красе в начале XIII в.
при папе-юристе Иннокентии III, который постоянно вмешивался во
все мирские дела Европы. Оружием ему служили отлучение
отдельных лиц от животворящих таинств, а в крайних случаях «интердикт» -
запрет на совершение таинств в целых регионах. Капитуляция
английского короля Иоанна на Раннимиде* была частично вызвана тем,
что понтифик наложил подобный запрет на Англию, стремясь вос-
* Раннимид - луг на берегу Темзы, в графстве Суррей, на котором в 1215 г. король
Иоанн Безземельный под давлением восставших баронов подписал «Великую хартию
вольностей». - Примеч. пер.
39
препятствовать незаконному вмешательству короля в процесс
выборов нового архиепископа Кентерберийского.
На втором этапе реформы развернулась кампания за повышение
статуса белого духовенства, священников и епископов, зачастую
обязанных своими должностями покровительству феодалов или
императора. С этой целью церковь поощряла деятельность все более
пуританских и суровых орденов: в середине XII в. - цистерцианцев и
августинцев, в начале XIII в. (в ответ на проблему, представляемую
новыми городами) - доминиканцев и францисканцев. Примерно до
1270 г. реформаторское движение шло в авангарде духовного
пробуждения и отвечало требованиям священнической чистоты,
которые усилиями церкви внушались обществу.
Правда, с первых шагов григорианской реформы стремление
искоренить леность и развращенность пагубно сказывалось на самой
церкви. Начало этому положил прямой призыв Григория к
мирянам восставать против недостойных священнослужителей,
повинных в грехе симонии (покупки должностей), пристрастии к роскоши
или сожительстве с женщинами. Подобное подстрекательство (по
сути, к бунту) встретило наиболее горячий отклик в новых городах
Северной Италии и Франции, в динамичной среде которых
обмирщение феодализированного духовенства вызывало особое
недовольство. Можно сказать, что именно благодаря реформе Григория VII
впервые со времен поздней Античности возникло еретическое
несогласие с церковью.
В сущности, реформаторы-григорианцы в своем стремлении
очистить от грехов мирскую жизнь пытались ввести в светском
обществе нечто вроде монастырского устава. Но это означало требовать
невозможного от простых верующих, а в долгосрочной
перспективе - слишком многого и от самих себя. Аскетичное рвение монахов-
реформаторов вряд ли могло сохраняться на том же уровне из
поколения в поколение. И когда оно пошло на убыль, попытка церкви
христианизировать мир возымела неожиданное следствие, придав
более мирской характер ей самой.
Рост количества монашеских реформаторских орденов,
наблюдавшийся в XII в., спровоцировал возникновение в ответ ряда
еретических течений, общей чертой которых являлось отрицание
божественной власти духовенства. Их основной принцип гласил, что
недостойные священнослужители не могут совершать подлинные
таинства. Выводы из него делались разные: кто-то требовал более
радикальных реформ, а кто-то - роспуска духовенства и вообще
упразднения церкви, чтобы небольшие группы верующих общались с Богом
напрямую с помощью Евангелия (миланская патария, вальденсы или
«лионские нищие», альбийские катары).
40
Кроме того, религиозное инакомыслие вскоре частично слилось
с мятежными настроениями коммун XII в. Самый яркий пример
такого симбиоза продемонстрировала в середине этого столетия
фигура Арнольда Брешианского - соборного каноника (т. е.
представителя духовенства), интеллектуала, сведущего в только что
появившейся схоластике, и горожанина. В результате неприятностей
с церковными властями он в конце концов был приговорен к
епитимье в Риме. Современник так описал его программу: «Его
[Арнольда] часто слышали на Капитолии и в общественных
собраниях. Он уже публично обличал кардиналов, говоря, что их коллегия,
со своей гордостью, алчностью, лицемерием и многочисленными
пороками, - не Божья церковь, а торжище и воровской притон,
пришедшие на смену книжникам и фарисеям среди христиан. Сам папа - не
тот, кем должен быть, не преемник апостолов и пастырь душ, а
кровожадный человек, удерживающий власть огнем и мечом, мучитель
церквей и угнетатель невинных, которого ничто в мире не интересует
кроме удовлетворения своих страстей и опустошения чужих
сундуков, дабы набить собственный»27. Обличение прегрешений
духовенства у Арнольда укладывается в традиционное русло и, в сущности,
очень похоже на мысли, которые в то же время высказывал Святой
Бернар. Но Арнольд сделал из этих мыслей совершенно новый
политический вывод. Папа, утверждал он, «столь далек от апостольства,
что ни жизни, ни учению апостолов не следует, почему и не
заслуживает ни повиновения, ни почитания, и в любом случае не может
пользоваться признанием человек, который хочет наложить ярмо
рабства на Рим - средоточие империи, источник свободы и владыку
мира»28. Иными словами, он призывал к городскому восстанию,
которое, в конце концов, и вспыхнуло в неповоротливом Риме, изгнавшем
папу и установившем демократическое народное правление. Арнольд
добился своего, но инспирированные им события показали, что
подстрекательство к внутрицерковному мятежу ведет и к подрыву
феодально-иерархического общества. Поскольку ни клерикальное, ни
светское общество, ни священническая, ни имперская власть не
могли допустить подобного, Арнольд потерпел поражение от коалиции
папы, императора и римской аристократии. Римская коммуна была
разгромлена, а ее лидер казнен.
Иоахимитская революция в представлениях о времени
От пуристов среди возникавших реформаторских монашеских
орденов пошла великая традиция ереси милленариев. В ее основу легли
пророчества цистерцианского аббата Иоахима Флорского и его тео-
41
рия деления всемирной истории на три эры - Отца, Сына и Святого
Духа.
Греки и римляне считали, что время циклично, вечно движется по
кругу, т. е. история никуда не идет. Древние евреи имели линейную
или прогрессивную концепцию времени, измеряющегося чередой
откровений Бога своему народу. Им же принадлежит
апокалиптический вариант этой теории, предсказывающий пришествие Мессии
и конец света. Первые христиане позаимствовали и адаптировали
обе версии. В общем и целом они верили, что конец времен близок,
а христианская вера появилась, чтобы возвестить об этом. Когда мир
не прекратил существования, христианству пришлось
приспосабливаться к жизни в нем, и апокалиптическая или милленарная
теория времени была отодвинута на задворки такими теологами, как
Евсевий Кесарийский, фактически доказывавший
предопределенность Римской империи, и особенно Августин. По мнению
последнего, Воплощение является кульминацией божественного откровения
в истории; следовательно, дальнейшего движения истории нет, а есть
только бессмертная церковь.
Иоахим Флорский в конце XII в. круто изменил
общепринятую со времен Августина концепцию исторического времени29. Для
него Воплощение было уже не венцом действий Бога в истории, а
лишь кульминационным моментом первой стадии откровения и
началом новой стадии - Святого Духа. Он перетолковал Откровение
Св. Иоанна, наметив основную линию европейского милленариз-
ма. Церковь, считал он, настолько развратилась, что конец времен
уже приближается. На самом деле на протяжении XII в. состояние
церкви неуклонно улучшалось, и одним из главных признаком этого
служило возникновение цистерцианского ордена Иоахима. Однако
улучшение лишь поднимало планку приемлемого и нормального
(относительная депривация). Иоахим, впрочем, не принадлежал к
милленариям-демократам: он полагал, что воцарение Святого Духа
просто приведет к созданию нового реформаторского монашеского
ордена, а новая реформа и будет «тысячелетним царством». Его
нельзя назвать ни революционером, ни еретиком в каком бы то ни было
смысле. И Св. Бернар, и Св. Франциск, и Св. Доминик - все они
думали, что новый реформаторский орден необходим.
Существует, однако, большая разница между взглядами самого
Иоахима и иоахимитской традицией после его смерти, когда та
действительно стала революционной. Эта традиция, которой положили
начало в 1270 г. францисканцы-спиритуалисты, окончательно
созрела спустя столетие в ходе протеста против «вавилонского плена» пап
в Авиньоне. Церковь и мир так погрязли в пороках, гласил иоахимизм
в новой форме, что до предсказанных в Откровении Св. Иоанна по-
42
следних дней рукой подать. В надвигающемся апокалипсисе
«спасительному остатку» верующих, которые сохранили верность Библии
и предписываемой ею бедности, доведется пережить обещанные
Откровением чудеса.
Иоахимитская традиция играла большую роль в европейском
религиозном инакомыслии вплоть до германской Реформации и
во время нее. Она нашла отражение в трудах Лессинга, Канта и
Шеллинга, сохранилась в Вюртемберге до времен Гегеля, от
которого, безусловно, передалась Марксу. Мишле воспользовался ею,
объясняя Французскую революцию. Первой остановкой на ее долгом
пути была Богемия начала XV в., где Европа впервые увидела успех
дела Арнольда Брешианского. Этим событиям посвящена
следующая глава.
Итоги и взгляд вперед
В основных чертах структура, породившая средневековый этос
неизменного, иерархического мироустройства, просуществовала
вплоть до 1789 г. Сам этос, однако, после 1300 г. постепенно
разрушался, по мере того как принципы феодальной и христианской Европы
подрывали институты, призванные воплощать их на практике. Во-
первых, феодальная организация власти, которая в ХП-ХШ вв.
способствовала общественному развитию, в кризисных XIV-XV вв.
превратилась в источник междоусобной борьбы. Главными
признаками кризиса стали Столетняя война и сопутствовавшая ей
экономическая «великая депрессия». В результате баланс политической
власти сместился в сторону централизованных монархий, которые,
стремясь навести порядок на своих плохо управляемых
территориях, дали сословиям, или звеньям феодальной иерархии,
конституционную форму выборных представительных собраний. Во-вторых,
усилия церкви, направленные на христианизацию мира, в конечном
счете произвели обратный эффект обмирщения церкви. Авиньонское
пленение пап и Великий раскол - главные признаки этого кризиса.
Как следствие одна за другой возникали ереси - от катаров до
гуситов, - искавшие путь к спасению души вне устоявшихся
священнических структур и системы таинств.
Так подготавливалась почва для Возрождения и Реформации
XVI в. И то, и другое имело целью обновить «христианский мир», но
в обоих случаях конечным результатом оказалась его дальнейшая
секуляризация. Возрождение способствовало ей прямо, заново
открывая нехристианскую культуру Античности; Реформация - косвенно,
невольно раскалывая единый «христианский мир», который
предполагала очистить. На исходе XVII в. стало ясно, что восстановить бы-
43
лое религиозное единство христиан уже невозможно, и это поставило
под сомнение религиозную истину любого толка.
В эту-то брешь и проникла самая значительная инновационная
сила из всех - научная революция XVII в. Хотя ее творцы не
замышляли ничего антирелигиозного и отчасти ее стимулировала
церковная схоластика, тем не менее она предложила совершенно новый
источник истины - бесспорной в пределах человеческого опыта; не
имеющей ничего общего с божественными откровениями;
выводящей все из естественных причин путем эмпирического
подтверждения. Возникла культура, в корне отличная как от христианства, так и
от классического наследия, и вместе с ней основания для разработки
рациональной науки о человеке и обществе, с помощью которой
человек мог творить собственный мир.
В XVII в. изменения в сфере высокой культуры совпали с
революцией в еще более далекой от религии военной области, которая
способствовала переходу от традиционной монархии с остатками
феодализма к централизованному абсолютизму - системе,
получившей после 1789 г. название «старого режима»30. Поскольку военная
техника и мобилизация поглощали от 80 до 90 % доходов любого
монарха, королевские правительства повсеместно упраздняли либо
стремились упразднить традиционные сословия, чтобы собирать
налоги с населения силами собственных агентов. Одновременно
военный абсолютизм использовал новую науку и сопутствующую ей
философию рационализма для развития более стройной системы
государственного управления, создания «упорядоченного»
общества и совершенствования экономики. Именно военный абсолютизм
в союзе с новой наукой привил единую светскую культуру
унитарным государствам, которые к началу XVIII в. распространились от
Атлантики до Урала.
В эпоху Просвещения между молотом новой науки и наковальней
королевского абсолютизма превратился в пыль этос старой Европы -
хоть в католическом, хоть в протестантском, хоть в православном
варианте. Новый рационализм не мог в конечном счете не бросить
вызов освященному божественной силой королевскому
абсолютизму и остаткам его феодального фундамента - это был только вопрос
времени. Таким образом оказалась подготовлена почва для прихода
в 1789 г. демократии, как позже назовет новый строй Токвиль, при
которой базовой единицей общества стал индивид как гражданин, а
основой политики - равенство граждан. Во всяком случае, это
произошло в «первой» Европе к западу от Рейна. «Вторая» и «третья»
благодаря своим «особым путям» сохранили наполовину
«старорежимные» системы до 1917-1918 гг.
Часть I
РЕВОЛЮЦИЯ
КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ЕРЕСЬ
2
ГУСИТСКАЯ БОГЕМИЯ, 1415-1436
ОТ ЕРЕСИ К ПРОТОРЕВОЛЮЦИИ
В год одна тысяча четыреста десятый от Рождества
Сына Божьего появился магистр Ян Гус и начал
проповедовать и бранить людей за их греховную жизнь. И
священнослужители возносили ему хвалы, и сказали они,
что Сам Дух Святой говорит устами магистра. Но потом
стал он порицать и греховность духовенства, не щадя ни
папу на его престоле, ни самого последнего
священника, и произносил он проповеди против их надменности
и алчности, против симонии и сожительства с
женщинами, и сказал, что негоже служителям Господним иметь
власть мирскую и имения мирские, и проповедовал, что
в Святом Причастии и Тело Христово, и Кровь Христову
простым людям давать должно. И тогда разгневались на
него священнослужители и сказали, что в него вселился
сам Дьявол и что он еретик. А случилось это в
королевстве Богемия, когда Вацлав, сын императора Карла, был
королем, а Збынек архиепископом в Праге.
Прекрасная хроника о Яне Жижке>
дружиннике короля Вацлава (1436)
Ян Гус [в Констанце] напомнил людям, что принцип
братства нерушим; что, даже если церковь ему
изменила, его... сохранила ересь; что даже в кромешной тьме
его всегда можно найти где-нибудь в Европе, в дальнем
уголке, сияющий, подобно потаенному и негасимому
светильнику... Гус продолжил дело всех тех, кто,
пользуясь богословской терминологией, призывал...
обратиться вместо церкви к Евангелию, вместо папы к Иисусу,
продолжил дело... перебитых альбигойцев, вальденсов,
которым грозило истребление... англичанина Уиклифа.
В истинном христианстве принять причастие...
означало дать обет равенства. Путем причастия христиане
соединялись в Боге; они признавали друг друга братьями.
Поэтому, чтобы символика соответствовала идее,
таинство причастия должно было совершаться всеми
одинаково... Сохраняя за собой исключительную привилегию
47
причащения под двумя видами, священники обособляли
себя ото всех остальных верующих; они призывали
самого Бога в свидетели правомерности существования
каст; они попирали социальное равенство в самой
возвышенной его форме - религиозной.
Блан Л. История Французской революции (1847)
Среди простых чехов возникла милленаристская
реакция: переход [вселенской] церкви [на Констанцском
соборе] в руки врага расценивался как несомненное
знамение приближающегося второго пришествия Христа.
При виде этого великого знака друзьям Господа
надлежало слиться в совершенном братстве, которое
требовало упразднения таких понятий, как «мое» и «твое», и
общности всего, а любого, кто встанет на их пути,
уничтожать мечом справедливости. Чехам не понадобилось
придумывать эти идеи, поскольку нравственная система
средневекового христианства не могла не навевать их
время от времени.
БоссиДж. Христианство на Западе, 1400-1700 гг.
Гуситы Богемии в начале XV в. первыми перешли черту,
отделяющую религиозное инакомыслие от политических и социальных
беспорядков. Почему бы тогда не назвать их восстание
полномасштабной революцией, не добавляя приставку «прото-»? Ведь, в
конце концов, они низвергли официальную церковь, временно
заменили монархию выборным сословным правлением и чуть не с ног на
голову перевернули социальную иерархию. И во многих книгах по
данной тематике прямо говорится о «гуситской революции».
В одной из лучших, правда, добавляется подзаголовок
«историческая аномалия», как бы указывающий, что та революция пришла
в мир в неподходящее для таких событий время. Но это верно лишь
отчасти1. Сам факт восстания свидетельствует о том, что
средневековое общество уже могло предчувствовать собственный упадок.
Поэтому движение гуситов лучше рассматривать как первый этап
затяжного европейского революционного процесса, начальную стадию
его долгой эскалации до полного самоосознания в переломную эпоху
1776-1789 гг.
Но это была именно первая стадия. Чешские «революционеры»
1415-1436 гг. ни о каких нововведениях не думали. Все свои
политические и социальные цели они определяли с помощью религиозных
категорий, сформулированных либо самой церковью, либо
вольнодумцами-еретиками со времен григорианской реформы XI в. Они
стремились не к светлому будущему, а к обновлению (renovatio)
48
вечных истин, выраженных доктриной «двух мечей» в религиозной
сфере и «трех сословий» - в социальной. Таким образом, гуситы не
создали ни новых религиозных или политических понятий, ни
учения или трактатов, которые по оригинальности могли бы сравниться
с наследием более поздних религиозных революционеров - Лютера
и Кальвина. И хотя они двадцать лет переворачивали вверх дном всю
Богемию, когда пыль улеглась, королевство так и не вышло за
пределы средневековой католической и феодальной матрицы (спустя
столетие то же самое будет с германской Реформацией и
нидерландским восстанием). Гуситский переворот не оставил наследия или
легенд другим странам Европы: в сознании «христианского мира» он
несколько столетий воспринимался как «ересь», в конечном счете
разгромленная.
Многоликая историография
В Новое время гуситы впервые стали анахронично
изображаться главным образом не в средневеково-религиозном контексте, а
в качестве предшественников чешского национального
сопротивления против немцев в XIX в. Прежде всего это произошло
благодаря Франтишеку Палацкому, который в период с 1836 по 1867 г.
опубликовал свою «Историю Богемии» в пяти томах, после 1848 г.
переведенную на чешский язык, указав также, что гуситы являлись
предтечами Реформации XVI в.2 Одновременно первые социалисты
открыли для себя радикальное гуситское крыло, таборитов (о чем
свидетельствует приведенный выше в эпиграфе отрывок из книги
Луи Блана), так же как Энгельс затем популяризировал и
«присвоил» крестьянское восстание 1525 г. в Германии. Жорж Санд под
влиянием сенсимониста Пьера Леру в 1842 г. представила дело гуситов
в несколько мистическом облике в романе «Консуэло»,
пользовавшемся большим успехом3. В конце XIX в. подобный романтизм
уступил место реалистическому позитивизму Ярослава Голла и Йозефа
Пекаржа, чьи труды продемонстрировали более глубокое понимание
средневекового характера гусизма, хотя в них все еще делался акцент
на национализм4.
Решительный переворот в историографии гуситского движения
произошел в период насаждения коммунизма после Второй мировой
войны. Официальный марксизм той эпохи, естественно, требовал
смотреть на гуситский радикализм как на прародителя коммунизма -
претензия сомнительная, но, тем не менее, открывшая дорогу
исследованию социальной истории движения. Это, в свою очередь,
заставило обратить внимание на его милленаризм и вообще на его связи
49
со средневековой ересью, интегрируя тем самым национальную
историю Чехии в общеевропейскую историю. Новая точка зрения
нашла путь к англоязычному читателю в труде Франтишека Бартоша5.
Однако самым известным поборником убеждения, что гуситское
движение нужно считать раннеевропейской революцией, является
уже упоминавшийся в примечании 1 Франтишек Шмагел. Его
работы, к счастью, доступны на нескольких языках6.
Впрочем, в начале второго послевоенного десятилетия
гуситским движением стали заниматься не только чехи. В 1967 г. Говард
Камински добавил к более ранней англоязычной публикации7
крупное исследование «История гуситской революции»8, где
подробно проанализировал хилиастическую фазу гуситского движения и
ее кульминацию в деятельности таборитов периода 1415-1424 гг.
Десятилетие спустя Джон Классен включил в эту картину чешское
дворянство, способствуя дальнейшей интеграции гусизма в общую
историю Европы9. Наконец, на исходе века вдохновенную оду
гуситам пропел Томас Фадж в книге «Великолепная дорога: первая
реформация в гуситской Богемии»10. Разумеется, сегодня Чешская
Республика входит в состав Европейского Союза.
Современный подход
Здесь мы смотрим на гуситское движение с точки зрения его
европейского и революционного характера. Собственно, в данной
главе утверждается, что в этом движении в первый раз был разыгран
базовый сценарий всех европейских революций до 1789 г. Следует
напомнить, что ранее о нем речь не шла, поскольку объяснительные
«модели», взятые из воздуха в самом начале исследования, выглядят
искусственно; их можно выводить только при объяснении
конкретных случаев. Теперь же, когда перед нами стоит задача
характеристики восстания гуситов, настало время изложить наше представление
о базовой модели революционного действия. Настоящая глава
отдельно дает предварительное описание схемы европейских
революций; в последующих главах оно будет сравниваться с более
поздними случаями с целью выявления их сходных черт и специфических
особенностей. Так постепенно возникнет вторая часть нашей модели
европейских революций, а именно - общая формула их эскалации,
по мере того как каждый последующий переворот учитывает уроки
предыдущих, опирается на них или отвергает их.
Мы начнем с простого рассказа об истории гуситов -
классического подхода, избранного по двум причинам. Во-первых, кризис
XIV в. в «далекой, мало нам известной стране» (как выразился бри-
50
танский премьер-министр в 1938 г.), несомненно, знаком читателю
меньше, чем события, рассматриваемые далее. Во-вторых, что более
важно, для современников история разворачивается постепенно, шаг
за шагом. И если мы при взгляде на нее по возможности постараемся
не забегать вперед, это поможет нам понять, каким образом Европа
впервые неожиданно приблизилась к революции.
В целом этот революционный опыт занял двадцать четыре года, с
момента отлучения Яна Гуса от церкви в 1412 г. до разгрома гуситских
радикалов - таборитов - в 1436 г. Но критический период в
развитии движения, когда оно превратилось в откровенно революционное,
пришелся на 1419-1420 гг. и длился примерно 15 месяцев, от
первой пражской «дефенестрации» до освобождения города таборитами
Яна Жижки. После данного события, пока Жижка не умер в 1424 г.,
движение захватило всю Богемию, радикализировало ее
политические и церковные структуры. Таким образом, активная
революционная фаза продолжалась 6 лет, с 1419 по 1424 г. - примерно столько
же, сколько самая жаркая пора Французской революции, и
ненамного меньше девяти лет активной пуританской революции. Затем
последовали двенадцать лет воинственного и в основном военного
правления, пока в 1436 г. запоздалый «термидор» не сверг
радикалов, - период, который больше напоминает диктатуру Кромвеля,
нежели нестабильные Директорию и Консульство во Франции.
Короче говоря, сценарий гуситской протореволюции, хоть и не
идеально соответствует более поздним случаям, все же достаточно
к ним близок, чтобы здесь начала прослеживаться определенная
модель. Поэтому ниже, там, где это уместно, будет проводиться
сравнение с хорошо известными эпизодами последующих революций,
чтобы очертить общие контуры европейской революции. Как только
в конце главы эти контуры будут намечены, можно будет позволить
себе заняться более точным моделированием.
Кризис «старорежимной» Богемии
В период позднего Средневековья Богемия была самым
передовым регионом «второй» Европы, описанной в предыдущей
главе, или, иначе выражаясь, авангардом отсталой пограничной зоны
«христианского мира». Как мы видели, она присоединилась к Европе
лишь во время второй волны обращения язычников, в «группе
1000 г.» - вместе с Венгрией, Польшей и Скандинавией. После того
как франки при Каролингах обратили в христианство остальные
германские племена, в значительной мере путем завоевания, Германия
продолжила такой же военный нажим на славян и скандинавов.
51
Местные князья, стремясь защитить свои земли от завоевания и
колонизации немцами, заблаговременно принимали христианство и
Добивались королевского титула, который предпочитали получать из
рук папы, а не императора. Так в 973 г. Прага, находившаяся до тех
пор в юрисдикции епископа Регенсбургского, превратилась в
самостоятельное епископство, хотя и зависимое от Майнцского
архиепископства, а князь из династии Пршемыслидов в 1158 г. обрел титул
короля под сюзеренитетом империи.
Связь с империей в итоге привела к недолгому «золотому веку»
Еогемии в середине XIV в. Уже к XIII в. внутренняя колонизация и
трехпольная система земледелия приблизили богемскую деревню к
западному уровню развития. Среди знати утвердились феодальные
отношения западного типа; стали появляться города торговцев и
ремесленников с коммунальной организацией. Всем этим процессам
способствовала иммиграция из более развитых германских земель -
по такому же образцу происходила вестернизация путем
колонизации в Польше и Венгрии.
В начале XIV в. чешская корона благодаря династическому
браку перешла к дому Люксембургов, которому в то время
принадлежал также трон империи. Новый король и наследовавший ему сын
Карл воспитывались при французском дворе и оба усвоили высокую
идею королевского величия. В середине XIV в. Карл IV, став
королем Богемии и германским императором, преобразовал свои чешские
владения на западный лад, тем самым подняв их до высшего
международного уровня. Подобно всем сильным средневековым
монархам, он в большой мере опирался на церковь, черпая у нее
моральную поддержку и талантливые административные кадры. В 1344 г.
Пражское епископство уже было возведено в ранг архиепископства,
что освободило его от власти Майнца. Карл отметил это возвышение
началом строительства в Пражском Граде нового готического собора
Градчаны; он также построил каменный мост через Влтаву -
сооружение более грандиозное, чем все мосты Парижа, и по сей день
вызывающее восхищение у гостей чешской столицы. Кроме того, вдоль
границы Старого города, где преобладали немцы, он заложил Новый
город, преимущественно с чешским населением.
Однако самое великое его деяние - основание Пражского
университета в 1348 г. Отчасти на этот поступок его сподвигло
рациональное стремление обеспечить королевство учеными клириками и
законоведами, что давно вошло в обычай во Франции и Англии. Но
вместе с тем он хотел придать своей столице блеска на мировой арене.
Новый университет стал первым в Европе к востоку от Рейна
(первый германский университет в Вене был основан только в 1365 г., а
52
второй, в Гейдельберге, в 1386 г.). Его устройство следовало образцу
старейшего в Европе Парижского университета, четыре факультету
(свободных искусств, теологии, права и медицины) делились на
четыре «землячества», три из которых до начала XV в. фактически
являлись немецкими и лишь одно - чешским.
«Восточный Париж» быстро завоевал международную славу
имперского центра и одновременно высший моральный авторитет э
Богемии. Двойная роль города приумножила власть местной церкви,
которая к 1415 г. действительно была очень велика. В Праге при
соборе Св. Вита служили 250 клириков, в многочисленных городских
приходах насчитывалось 330 представителей белого духовенства, а э
25 монастырях - 400 представителей черного; 1 200 клириков учились
в университете. Если сложить все цифры вместе, то каждый
двадцатый житель Праги состоял в духовном звании. Конечно, на остальной
территории Богемии концентрация священнослужителей не
отличалась такой плотностью, но, тем не менее, по всей стране наблюдался
переизбыток «первого сословия»11. Именно через многочисленных
церковников гуситское движение пришло в Богемию; и началось это,
когда чехи наконец стали большинством в своем «окне на Запад» -
университете, по большому счету импортированном оттуда.
Хотя называть созданную Карлом Богемию государством было бы
преждевременно, все же следует признать, что протогуситская
революция протекала в компактном политическом образовании, которое
эффективно управлялось монархом через его посредников-феодало^.
Более того, в те времена Прага являлась центром власти, городской
метрополией с населением в 40 тыс. чел. Этот показатель несколько
превосходил численность населения Лондона и значительно -
населения любого из германских городов. Прага управляла
королевством не менее эффективно, чем Париж с его сотней тысяч жителей
управлял Францией. В целом Богемия, где проживало порядка 1 млн
чел., представляла собой сравнительно небольшую феодальную
монархию. Однако же она практически не уступала по уровню развития
Франции при Капетингах или Англии при Плантагенетах. Вместе
с остальными землями, подконтрольными королю Богемии, -
чешской Моравией, а также германской Силезией и Лужицей,
насчитывавшими еще около миллиона человек, - королевство отдаленно
напоминало государственным устройством существовавшие в тот же
период Бургундские Нидерланды, которыми правили герцоги Валуа.
Все эти аспекты сильно отличали Богемию от Германии или Италии.
В последних, как мы уже выяснили, задолго до 1400 г. политическая
власть была разделена среди многочисленных местных территори-
53
альных или муниципальных суверенных единиц. Отчасти именно
из-за отсутствия в этих странах ядра настоящего протогосударства
патары, вальденсы, иоахимиты, францисканцы-спиритуалисты и
другие еретические группировки так и не совершили хотя бы про-
тореволюции. Таким образом, Богемия предоставила характерному
для Средневековья еретическому движению первый реальный шанс
прийти к власти.
Карл скончался в 1378 г. - в год начала Великого раскола
церкви. Трон Богемии перешел к его старшему сыну Вацлаву IV. Однако
императором в 1410 г. был избран второй сын Карла, Сигизмунд,
который, женившись, стал венгерским королем. Очень скоро
Вацлав столкнулся с рядом проблем, вызванных успехами его отца.
Возмущенный обширными полномочиями и богатством церкви, он
поссорился с архиепископом, тем самым давая знатным дворянам
возможность оспаривать силу монархии, созданной Карлом. В 1394 г.
Дворянский союз потребовал от короля доступа к самым важным
властным полномочиям. Дважды Вацлав подвергался аресту,
причем во второй раз, в 1403 г., помощь дворянам оказал Сигизмунд.
Монарху пришлось уступить12.
Покровительство Карла церкви привело к обычному кризису
обмирщения духовенства. К началу 1415 г. церковные владения
составляли около трети всех земель Богемии - общая закономерность
для средневековых монархических государств на стадии
формирования. В соответствии с той же закономерностью на второй стадии
церковь сама порождала реформаторские течения. Началось это еще
при Карле, пригласившем из Австрии монаха-августинца Конрада
Вальдхаузера с целью повысить уровень местных церковников.
Вскоре появились и чешские реформаторы, такие, как Ян Милич и
Матей из Янова, с более радикальными идеями возврата церкви к
апостольской скромности, чистоте и бедности. А поскольку Великий
раскол уже начался, как минимум одного из пап можно было объявить
Антихристом, не впадая в ересь. После раскола чешское духовенство
предпочитало ездить в Оксфорд, а не в Париж, связи с Англией
укрепились благодаря брачному союзу сестры Вацлава Анны и Ричарда II,
заключенному в 1382 г. По этим каналам в Прагу к 1390-м гг.попали
труды Джона Уиклифа, и чешское «землячество» в университете
усвоило некоторые его взгляды; молодой бакалавр факультета
свободных искусств Ян Гус зарабатывал на жизнь переписыванием работ
Уиклифа. По всей вероятности, среди теорий оксфордского магистра
большинству чехов импонировала доктрина «доминиона», согласно
которой король и феодалы королевства должны способствовать
очищению церкви, лишая ее богатств. Проблема, однако, заключалась в
54
том, что Рим уже осудил основные идеи Уиклифа как еретические.
Так, в 1403 г. германский магистр теологии в университете публично
подверг порицанию сорок пять «статей» английского реформатора.
Дискуссии не ограничивались стенами университета. В 1391 г.
в Старом городе была основана Вифлеемская часовня, проповеди в
которой велись не на немецком языке, а на чешском. В 1402 г.
именно там началась славная карьера Яна Гуса. Он выступал в качестве
проповедника-«обновленца», а не ученого с университетским
образованием, тем не менее академическая культура и знание текстов
Священного Писания делали его проповеди такими яркими и
авторитетными, каких простой люд прежде от своего духовенства не
слышал. Красноречивое и резкое осуждение погони церковников за
мирскими благами, давно свойственное сторонникам реформистских
идей, сочеталось в проповедях Гуса с призывом вернуться к
«закону Христову», под которым он подразумевал главенство Библии и ее
заповедей в жизни общества, а также к чистоте первохристианской
церкви. Этот посыл приобретал апокалиптический оттенок,
поскольку Гус, подобно многим другим средневековым реформистам Европы
начиная с Иоахима, верил, что разложение духовенства предвещает
конец света.
Сначала Гус пользовался поддержкой нового архиепископа
Пражского и в некоторой степени короля Вацлава. Однако
германские магистры университета донесли в Рим о еретическом «уикли-
физме» Гуса, запугав тем самым архиепископа и заставив его
отказаться от подопечного. Король же, напротив, продолжал оказывать
ему содействие. Кроме того, Вацлав в 1408 г. впервые в истории дал
чехам большинство мест в совете Старого города; на следующий год
он даровал чешскому «землячеству» университета три голоса против
одного для всех остальных, т. е. немцев (которые из-за этого
перебрались в новый университет в Лейпциге). В 1409 г. Гуса избрали
ректором.
В 1412 г. деятельность реформистов привела к первой кризисной
ситуации, когда их вдохновитель подверг критике практику продажи
индульгенций, как век спустя сделает Лютер. Трое студентов
устроили демонстрацию в знак протеста против торговли спасением души (с
которой король, кстати, получал определенную долю), за что
аристократические члены совета Старого города приговорили их к
смертной казни. Вацлав, опасаясь, что в Европе его обвинят в поддержке
ереси, в свою очередь, отступился от Гуса. Однако тому предложили
покровительство некоторые из представителей высшего общества -
отчасти ввиду приверженности реформистским идеалам, отчасти
желая доказать свою независимость от королевской власти. Лидером
55
нового союза знати стал Ченек из Вартемберка - высочайший бург-
граф, второе лицо в королевстве. Рим в ответ наложил на Прагу
интердикт до тех пор, пока город предоставляет убежище еретику. Гусу
пришлось покинуть Прагу и укрыться под защитой Вартемберка
неподалеку от деревни Сезимово-Усти в Южной Богемии - как позже
Лютер скрывался в крепости Вартбург у курфюрста Саксонского.
В период вынужденного уединения чешский реформатор начал
проповедовать крестьянам в деревне.
Следует подчеркнуть, однако, довольно важный момент: хотя Гус
находился на грани открытого бунта против церкви, его идеи
всегда носили умеренный характер. Его постоянная стратегия, так же
как впоследствии лютеровская, заключалась в том, чтобы привлечь
сильных мира сего к делу церковной реформы. Собственно, суть его
«уиклифизма» и составляла опора на светскую власть, а не
поистине неортодоксальные взгляды оксфордского магистра на причастие
и спасение. За 5-6 лет после избрания Гуса ректором возглавляемое
им радикальное реформаторское движение фактически оформилось
в коалицию университета и чешской аристократии.
От реформы к бунту
Гус никогда не отделял себя от римской церкви. С самого начала
Великого раскола в 1378 г. в странах Европы развернулось
движение за всеобщий церковный собор, который положил бы конец
разделению. В 1414 г. император Сигизмунд созвал Констанцский
собор, призванный воссоединить «христианский мир». Главная идея
«соборного» движения заключалась в том, что высшей властью в
церкви признавался не папа, а выборная ассамблея прелатов и
университетских магистров, наделенная полномочиями назначать и
смещать пап, а также определять принципиальные положения
доктрины. Выражаясь политическими терминами, в церкви предполагался
переход от папского абсолютизма к конституционной монархии.
В таком виде движение за собор представляло собой аналогию
возникавшим тогда в светских монархиях Европы выборным органам
«сословий» духовенства, знати и бюргеров: парламенту в Англии,
Генеральным штатам во Франции и Бургундских Нидерландах,
кортесам в Испании, чешскому, польскому и венгерскому сеймам13.
(К этому списку можно добавить Земский собор на Руси,
появившийся столетием позже.)
По настоянию Сигизмунда высшая инстанция «христианского
мира» на тот период в 1414 г. вызвала Гуса в Констанц, дабы тот
ответил за свои «еретические» убеждения. Император даровал ему ох-
56
ранную грамоту, и проповедник, искренне веря, что сможет убедить
собор в правильности своей программы по лишению церкви мирской
власти и богатств, охотно явился. Однако соборные
«конституционалисты», составлявшие большинство, в 1415 г. осудили его взгляды, что
и неудивительно. Сигизмунд отдал приказ сжечь отступника на
костре, а через год та же участь постигла ученого Иеронима Пражского,
который выступал главным свидетелем Гуса на Констанцском
соборе. В 1418 г. собор покончил с расколом, избрав нового понтифика,
но к тому времени Богемия, по сути, отпала от «христианского мира».
Смерть Гуса мобилизовала чешское реформистское движение,
превратив его в протополитическую партию. В сентябре 1415 г.
магнаты сформировали национальный союз в защиту Гуса и реформы.
Последняя теперь предполагала участие мирян в таинстве
причащения «под обоими видами», то есть хлебом и вином, Телом и Кровью
Христовыми. Эту практику впервые ввел Якубек из Стршибра -
ближайший сподвижник Гуса - в 1414 г., когда сам Гус уже был в
Констанце; после его смерти она стала применяться повсеместно.
Причащение «под обоими видами», несомненно, опиралось на
традиции первохристианской церкви, обычай оставлять чашу для
священнослужителя родился лишь во время реформ XI в. Призванное
упростить служение обедни, в долгосрочной перспективе подобное
нововведение лишь усугубило разрыв между сацердотальным
духовенством и массой верующих. А возврат чаши мирянам
символизировал их сближение и придавал церкви более демократичный
характер. Из-за него последователей Гуса стали называть утраквистами
(от латинского словосочетания sub utraque specie, что означает «под
обоими видами»), каликстинцами (от латинского calix - «чаша») или
«чашниками». Слово «гуситы» служило уничижительным
названием богемской ереси в других странах Европы.
Католическое дворянство в ответ на вооруженное объединение
«чашников» организовало под покровительством короля свое
вооруженное движение в защиту Святого Креста. Отныне Богемия,
фактически разделенная на два примерно равных друг другу по
численности воинственных лагеря, постоянно балансировала на грани
гражданской войны. В то же время с окончанием Великого раскола
королевство вновь оказалось перед лицом объединенного
«христианского мира». Император Сигизмунд как хранитель вновь
обретенного единства церкви и ее ортодоксальной доктрины угрожал своей
еретической родине крестовым походом. И к 1418-1419 гг. королевская
власть в Богемии, ослабленная бременем накопившихся проблем,
оказалась неспособна предотвратить открытое столкновение
утраквистов и католиков.
57
От бунта к гражданской войне
Переломный момент в ходе гуситской протореволюции наступил
в 1419-1420 гг. Католическая знать Праги сместила представителей
гуситского духовенства в Старом городе, а гуситы, напротив, заняли
место католических священников в Новом. Возбужденные
происходящим, многие сторонники «чашников» уверовали, что наступление
на гуситов знаменует грядущий конец света. Радикализации гуситов
Нового города способствовал священник и проповедник-милленарий
Ян Желивский, который подливал масла в огонь, открыто называя
императора Сигизмунда, убийцу Гуса, Антихристом. 30 июля 1419 г.
Желивский, неся в руках дарохранительницу со Святыми дарами
для причастия, возглавил толпу пражских ремесленников, которые
выбросили немецких магистратов из окон ратуши Нового города.
Так состоялась первая спланированная пражская «дефенестрация».
В ней принимал участие Ян Жижка - будущий военный лидер
радикального крыла гуситов. Эффект от этого события неизбежно
вызывает ассоциации со взятием Бастилии.
Прагу и ее окрестности захлестнула волна иконоборчества:
уничтожались иконы, до основания предавались огню целые монастыри.
Граф Ченек Вартемберкский и дворяне-гуситы с трудом сохраняли
контроль над Прагой. Даже в Старом городе господствующее
положение занимали такие университетские клирики, как Якубек из
Стршибра, рьяный сторонник причащения под обоими видами, и Ян
Рокицана, еще один последователь Гуса. Оба отличались куда более
радикальными взглядами, нежели дворянство. Король задним числом
признал «дефенестрацию» государственным переворотом. Однако,
не выдержав напряженной ситуации, Вацлав перенес
апоплексический удар и скончался. В отсутствие наследника трона императора
Сигизмунда регентом была назначена королева, а пост первого
министра при ней получил граф Вартемберкский.
Критическую ситуацию в столице усугубляло распространение
тех же милленаристских идей в сельских общинах, где тревожные
настроения нарастали довольно давно. В 1380 г. в Богемию пришла
Черная Смерть: чума, которая тридцатью годами ранее опустошила
Западную Европу, докатилась до границ королевства, усилив
социальную нестабильность. В деревнях появились разбойничьи банды,
так же как во Франции во время «Великого страха» летом 1789 г.
Чума кардинально изменила демографическую ситуацию в стране:
сильнее всего она косила немецкое население городов, провоцируя
рост миграции чехов из села в город. В 1403 г. произошла еще одна
небольшая вспышка заболевания и гораздо более серьезная эпиде-
58
мия - в 1414 г. Регионы, наиболее пострадавшие от этого бедствия,
позже стали средоточиями самого ярого милленаризма.
Политические события после смерти Гуса сильно подстегнули
затаенную тревогу в деревне. К 1419 г. всплеск милленаризма начал
охватывать неграмотные массы. Нельзя сказать, что чешские
крестьяне подвергались особому угнетению. Все они были свободными
людьми, крепостничества не знали и, судя по многочисленным
свидетельствам, по средневековым меркам жили весьма благополучно.
Милленаристские настроения возникали, скорее, вследствие
ощущения, будто мир рушится, потому что церковь изменила своей миссии
и общественный порядок расстраивается. Никто не мог предугадать,
где зло нанесет следующий удар.
Милленаристские волнения были особенно сильны в Южной
Богемии, где некогда проповедовал Гус. С начала 1419 г. крестьяне
и ремесленники сходились послушать священников-радикалов,
которые, цитируя библейские тексты, утверждали, что нынешние беды
возвещают конец света. Это привело к массовым паломничествам
(впервые - на Пасху 1419 г.) на возвышенности, «горы»,
получавшие библейские названия: Хорив (чеш. Ореб), Фавор (чеш. Табор).
Последнее место сборов, близ Сезимово-Усти, появилось после того,
как Католическая лига изгнала из церквей окрестных городов
утраквистское духовенство. В ответ изгнанные священники летом 1419 г.
стали собирать свою паству на плоской вершине холма и причащать
ее под двумя видами, соорудив молельню из палатки. Поскольку
атмосфера общности под открытым небом воскрешала в памяти
библейские представления о горах как месте, благоприятствующем
спасению, холм назвали Табором (Фавором), по аналогии с горой
Преображения Господня.
Все лето количество участников собраний, проводившихся все
чаще, росло. Иной раз оно доходило до 40 тыс. чел. Вскоре появились
региональные ассамблеи «возрожденных». Пошли слухи, что лишь
пять городов Богемии избегнут Судного дня. В середине сентября
одна из ассамблей, в Пльзене, призвала всех верующих королевства
засвидетельствовать свою преданность вере маршем на Прагу из
разных концов страны. В конце месяца колонны вошли в столицу и
слились в факельное шествие по городу; колокола всех городских
церквей приветствовали его своим звоном.
Приход этого массового движения в Прагу после
«дефенестрации» не вызывал особой радости у дворянских и ученых
предводителей «чашников», равно как и у городской верхушки. Но они
понимали также, что только мощное течение плебейского радикализма в
городах и селах дает им преимущество или хотя бы толику безопасно-
59
сти перед лицом сил Святого Креста внутри страны и католической
Европы - за ее пределами. В более спокойные времена подобный
мощный толчок снизу мог привести к открытому классовому
расслоению, как почти неизменно происходило в других странах Европы -
например, во время английского крестьянского восстания, которое
наступало на Лондон в 1381 г. Однако, видя угрозу для истинной
веры, союз знати и университетского сообщества решил оседлать
плебейскую волну. Таким образом, общество оставалось послушным,
и руководство из высшего класса могло навязать всем собственную
реформу; межклассовое движение выступало единым фронтом, пока
существовала опасность. Проводя вполне уместные параллели,
можно сказать, что лидеры утраквистов сделали тот же выбор в пользу
радикальных союзников, что и мятежный и уязвимый
пресвитерианский парламент, субсидировавший «армию нового образца» в
борьбе против Карла I. В 1793 г. якобинцы-буржуа, решившиеся на
цареубийство, столкнувшись, с одной стороны, с мятежом роялистов
внутри страны, а с другой - с Первой коалицией монархов за
рубежом, тоже предпочли опереться на буйных парижских санкюлотов
(как и Лафайет в 1789 г.).
В течение первых шести месяцев 1420 г. скрытая внутренняя
война предыдущего года переросла в вооруженное противостояние
между сторонниками Креста и Чаши. Первым шагом в этом
направлении стало преобразование беспорядочного милленаризма
первоначального Табора в милитаризованный и институционализированный
милленаризм организованного и укрепленного Табора под
руководством Яна Жижки, в котором фанатизм Робеспьера сочетался с
военным искусством Кромвеля.
Основываясь на астрологических подсчетах, милленарии из
крестьян и ремесленников ожидали наступления конца света
между И и 14 февраля 1420 г. Когда ничего так и не произошло,
гуситы из Сезимово-Усти взяли это поселение штурмом, разрушили до
основания и начали строительство постоянного Табора на соседнем
холме. По их замыслу, новому поселению предстояло стать
идеальным обществом равных братьев и сестер, живущих исключительно
по Закону Божьему. Частная собственность строго ограничивалась,
жизнь общины регламентировалась. Использование латыни в церкви
отменялось в пользу чешского языка. Общинный символ веры
объявлял семь свободных искусств, преподаваемых в университете,
смертными грехами, некоторые книги были преданы сожжению. Все следы
римского и германского права искоренялись; общине впредь
предлагалось руководствоваться Законом Божьим в толковании священни-
60
ков-утраквистов. Из церквей убирали богатые одеяния духовников и
иконы святых, мирянам предписывали придерживаться
строжайшего пуританства в одежде и поведении. Запрещалось ростовщичество,
в Праге закрывались публичные дома. В довершение ко всему
церковь лишалась своей собственности.
Воодушевление первых месяцев существования общины табори-
тов заставило примкнуть к ним даже еретиков, которые долгое время
скрывались в Богемии. Среди них были вальденсы, привлеченные
перспективой апостольской бедности, а также англичанин Питер
Пейн, представитель уиклифизма - самого молодого из еретических
течений Европы, который, выучив чешский язык, стал одним из
видных участников движения. К таборитам присоединились и пикарди-
сты, или Братья свободного духа, ожидавшие неминуемого
наступления «последних дней». Вопрос о непосредственном влиянии учения
Иоахима на это движение вторичен по сравнению с тем фактом, что
хилиастические ожидания к указанному моменту стали нормой для
крайних ответвлений средневековых ересей. Наконец, в лагерь табо-
ритов пришли антиномисты адамиты, веровавшие, что грядущий
конец света означает возвращение к невинности Эдема, сексуальному
освобождению и общности жен.
Однако к концу года необходимость зарабатывать средства к
существованию в новом «граде на холме» положила конец
социальному равенству и апостольской бедности. Лидеры общины начали
собирать феодальные подати с окрестных сел, дабы получить
деньги на прокорм и вооружение. Военная организация стала
первоочередной задачей перед лицом угрозы со стороны католической знати и
Сигизмунда. Ключевая роль здесь принадлежала Яну Жижке - самой
значимой и символичной фигуре гуситской революции после самого
Гуса. Под его руководством первоначальный, духовный Табор
превратился в военно-религиозное братство, общину «святых воителей».
Жижке, мелкопоместному дворянину, было тогда под шестьдесят.
Во время походов по всей Центральной Европе он потерял глаз. К
моменту описываемых событий Жижка стал глубоко убежденным
пуританином-утраквистом и безжалостным врагом всех противников
Закона Божьего, особенно монастырского духовенства. Кроме того,
он являлся гениальным военачальником. В эпоху, когда военные
действия велись преимущественно с использованием тяжелой
рыцарской кавалерии, Жижка изобрел средство, позволявшее простым
крестьянам и ремесленникам громить своих бывших господ: ваген-
бург, передвижное фортификационное сооружение из крестьянских
телег, расположенных кругом и защищенных деревянными щитами с
бойницами для стрельбы. В обороне способность такого укрепления
61
выдерживать атаки рыцарей в латах делала его неприступным для
кавалерии; в наступлении на конного противника оно
обнаруживало удивительную подвижность. Вдобавок Жижка применял против
рыцарей первую полевую артиллерию: слово «гаубица» - чешского
происхождения, и появились подобные передвижные орудия именно
в тот период. Приспособления, помогавшие использовать на поле боя
идеологически мотивированные плебейские силы, дали сторонникам
Чаши преимущество, с которым наличие у них знатных
руководителей и тягаться не могло. Во всех этих отношениях сходство с кромве-
левской «армией нового образца» просто поразительно.
Первое испытание силы таборитов прошли летом 1420 г. и
выдержали его с решительным успехом. К тому времени папа объявил
крестовый поход против гуситов, а Сигизмунд выступил, чтобы
вернуть себе столицу и корону. В целом, утраквистское дворянство,
желая самостоятельно контролировать порядок престолонаследия,
отказывалось признать право Сигизмунда на престол. Тем не менее
его умеренные представители всерьез опасались вооруженных та-
боритов-простолюдинов и начали откалываться. Так, Вартемберк в
мае, когда королевские войска приближались к Праге, издал
манифест о недоверии королю, а в июне переметнулся и позволил войскам
Сигизмунда занять Градчанскую крепость. (Аналогичным образом
Эдвард Хайд, позже граф Кларендон, помогавший вначале
настраивать парламент против Карла I, впоследствии перешел на его
сторону; генерал Лафайет, который сделал Людовика XVI узником
революции, затем предал соратников и бежал к австрийцам.) После этой
измены Сигизмунд из двух главных крепостей с трех сторон
господствовал над Прагой и торжественно короновался королем Богемии
в градчанском соборе Св. Вита. Дело гуситов в последний момент
спасли Жижка и его табориты. Придя форсированным маршем с юга,
они в одном-единственном бою сломали королевские клещи вокруг
столицы. После этого «чуда» 30-тысячная армия «крестоносцев»
рассеялась.
Освобожденная Прага стала центром национального движения
гуситов, в котором теперь сосуществовали три тенденции: умеренная -
дворяне и университетские клирики, крайняя - табориты - и, так
сказать, центр - пражские бюргеры. Однако все они разделяли
мессианское убеждение, что Богемия представляет собой единственную
истинную церковь, светоч, который однажды озарит весь
«христианский мир». Идея особого призвания Богемии, в сущности, восходит
еще к Карлу IV, который стремился сделать свое королевство оплотом
ортодоксального католицизма. Особую остроту ей придали распро-
62
странение образования, поощряемое Карлом, а также два десятка лет
реформистских проповедей. После смерти Гуса чехи уверовали, что
им даровано благословение понять истинный смысл Закона Божьего.
Они считали себя богоизбранной нацией, призванной спасти
погрязшую в грехе Европу. В русле такого мессианизма они толковали и
о мистической силе чешского языка, противопоставляя его латыни
и немецкому. Было сделано три перевода Библии - на два больше,
чем существовало в то время на английском языке. Фактически чехи
теперь коллективно определяли себя по языку - éesky yazyk,
который для остальной Европы именовался lingua bohemica и почитался
священным.
В радостной экзальтации гуситская коалиция возвестила миру о
своей вере в «Четырех Пражских статьях». Их первый проект
представлял собой переложение принципов, ранее выработанных
чешским «землячеством» университета. Он появился вскоре после
«дефенестрации», в сентябре 1419 г., в виде обращения Пражского сейма
к Сигизмунду. Во время осады города Сигизмундом текст был
переделан в более непримиримом духе, множество раз переписан от руки
(до изобретения Гутенбергом книгопечатания оставалось еще
тридцать лет) и выпущен в свет. Хотя этот документ касался
исключительно злободневных вопросов своего времени, не имея обобщенного
значения более поздних «биллей о правах», он, тем не менее,
представлял собой самый ранний религиозный вариант декларации прав,
как «Великая хартия вольностей» - феодальный14.
В первой статье говорилось, что «Слово Божье» должно
«свободно» проповедоваться по всему королевству, т. е. проповеди на родном
языке на основе Священного Писания ставились на один уровень с
причащением во время мессы; допускалось даже внецерковное
проповедование. Вторая статья провозглашала необходимость
причащать мирян под обоими видами, ибо так «заповедал» Иисус: иными
словами, она говорила, что для спасения нужно полное таинство, а
не половина, как у римских католиков. Эти два вопроса совести в
совокупности составляли изначальный религиозный посыл движения,
развивавшегося до смерти Гуса.
Однако следующие два требования уже пересекались со
сферой политики. Третья статья содержала обычное для позднего
Средневековья осуждение обмирщения церковных служителей и
завершалась заявлением, что духовенство должно быть лишено
«незаконной» мирской власти и «земных владений». Это означало, что
церковь следует экспроприировать и отстранить от исполнения каких бы
то ни было светских властных полномочий. Но самой радикальной
из четырех статей была последняя, требовавшая от «тех, кому дана
63
власть», «запрещать и карать» «все смертные грехи» и «другие
непорядки, противные Закону Божию». Иначе говоря, светским властям
в лице гуситского дворянства, городских коммун и таких
вооруженных братств истинно верующих, как табориты, предлагалось
принудительно очищать и революционизировать церковь.
Последние две статьи, конечно, шли гораздо дальше того, чему
учил абсолютно не склонный к насилию Гус. Сформулированные в
них обвинения возникли в ходе борьбы, которую вело движение, во
время ее мирной фазы. Поскольку, однако, эта фаза в итоге привела
в тупик, продолжавшийся три года, стало очевидно, что только
силой можно сдвинуть процесс с мертвой точки, что без применения
силы, собственно, реформа погибнет. Так утраквизм обнаружил
совершенно неожиданное революционное призвание - нечто подобное
будет происходить и во всех последующих европейских революциях
вплоть до XIX в.
Соответственно стала меняться библейская риторика движения.
Поначалу его адепты ссылались преимущественно на заповеди
любви и братства из Нового Завета. Теперь же, когда движению
пришлось обороняться в вооруженном конфликте, обоснование этому
нашлось в рассказах Ветхого Завета о царях-воителях, сражавших
врагов Господа на поле битвы. Аналогичное смещение акцентов
прослеживается и в риторике пуританства, где кромвелевские
святые превратились в воинов славы Господней, ведущих борьбу
против прелатства и папизма, и у гугенотов столетием раньше. Только
во время американской революции ссылки на классических авторов
взяли верх над библейскими, а во время французской - риторика
политических активистов полностью отказалась от Библии в пользу
прославления идеалов Древнего Рима, сперва республиканского,
затем имперского.
Осознав свое истинное революционное призвание, гуситы
стали методично воплощать его в жизнь. В течение года после
обороны Праги и выхода «Четырех статей» табориты Жижки освободили
от королевских войск большую часть Богемии. Тогда некоторые из
наиболее заметных сторонников Сигизмунда, включая Вартемберка,
вновь переметнулись на сторону Чаши, а вскоре к ним
присоединился и архиепископ Пражский. В июне 1421 г. горожане Праги,
архиепископ и крупные магнаты (в таком новом порядке старшинства)
созвали в Чаславе сейм всех земель Богемии. Это протоучредитель-
ное собрание аннулировало коронацию Сигизмунда, объявило его
низложенным с чешского престола, а также избрало регентский
совет для управления королевством, пока не будет найден
иностранный принц, который взойдет на престол (как сделают и голландцы в
64
1581 г.). В период междуцарствия регентский совет должен был
состоять из восьми бюргеров, семи представителей мелкого дворянства
и только пяти крупных магнатов - значительная «демократизация»
по сравнению с составом английского парламента, существовавшего
уже более ста лет.
Правда, чешские сословия так и не сделали последнего шага к
провозглашению республики. Хотя в Европе давно существовали,
например, Венецианская и Флорентийская республики,
превращение установленной божьим предопределением монархии в
государство такого рода еще казалось немыслимым. Вместе с тем найти
подходящего принца никак не удавалось. Фактически на протяжении
всего остального революционного периода монархический строй в
Богемии был временно упразднен, и страна управлялась по
республиканской модели, хотя само слово «республика» никогда не
употреблялось. Следующим шагом к разрушению священной монархии
стали события в северной части Нидерландов, когда после
«отречения» законного наследника трона, принца Филиппа II, страна в
отсутствие преемника автоматически стала Голландской республикой.
Только при образовании пуританского Английского содружества
был сделан осознанный идеологический выбор в пользу народного
правления.
После Чаславского сейма две главные силы гуситской
коалиции - Прага и Табор - внутренне консолидировались, подавив
радикальные ответвления. Сравнительно легко этой цели достигла
Прага - как более прочное и долговременное образование. В 1421 г.
Желивский, воспользовавшись напряженной обстановкой кризиса,
добился слияния Старого и Нового городов в единую коммуну, где
главенство принадлежало более демократическому Новому городу,
а сам Желивский фактически являлся диктатором. В 1422 г., когда
напряжение спало, умеренное крыло бюргерства Старого города
вызвало его в здание городской ратуши и без суда обезглавило. Однако
вскоре этот аристократический контрпереворот был подавлен, и
контроль над городом перешел в руки коалиции
«умеренно-радикальных» бюргеров и университетских магистров под руководством
Якубека из Стршибра. Они удерживали власть в столице вплоть до
окончания революции.
Среди таборитов стабилизация представлялась более сложной
задачей и была возможна лишь до известного предела. В конце 1420 г.
Табор отделался от ультрамилленариев-пикардистов; их лидера
Мартина Гуску, воспитанника университета и одного из немногих
гуситов, отрицавших «истинное присутствие», Жижка лично
привлек к суду и отправил на костер. Еще более заблудших адамитов по-
65
просту вышвырнули из общины и загнали в леса. Дабы обеспечить
прочный религиозный порядок, табориты избрали собственного
епископа - Микулаша из Пельгржимова. Таким образом, Табор стал
некой контрцерковью, противопоставившей себя господствующему
столичному утраквизму, который на протяжении всей революции
сохранял структуры, таинства, литургию, латинское богослужение и в
значительной степени теологию Рима.
В результате временная стабилизация Табора оказалась шаткой.
Жижка зверски обращался с ортодоксальными священниками,
дворянами-роялистами и особенно представителями монастырского
духовенства, которых его войска брали в плен. Жестокость его методов
вызвала протест со стороны епископа Пельгржимовского и таборит-
ских священников, поэтому в 1423 г. Жижка ушел к близкому ему по
духу Оребскому братству в Восточной Богемии, которое теперь
именовалось «Малым Табором». Эта новая община стала основой для
высокоорганизованной военно-религиозной армии - по сути,
профессионального корпуса примерно из 12 тыс. воинов, несущих
постоянную службу и преданных «Закону Божьему». Несмотря на потерю
к тому времени второго глаза в одном из сражений, фанатизм и
военный гений Жижки по-прежнему не имели равных, и именно за два
последних года он, слепой, одержал самые громкие победы. Жижка
забрал такую силу, что на сейме 1423 г. Прага и умеренные гуситы
вместе с католической знатью проголосовали за его смещение и даже
взялись за оружие. Это предвестие гуситского термидора в конечном
счете не осуществилось: в следующем году чешский Кромвель погиб
в бою.
Уходом со сцены Жижки завершилась наиболее радикальная,
так сказать, «творческая» фаза революции. Впрочем, его армия,
теперь называвшая себя «сиротами», в знак посмертной верности
своему предводителю, продолжала действовать еще одно десятилетие
существования рутинизированного таборизма. За это время она
отразила четыре иноземных крестовых похода, в которых участвовали
в основном немцы и венгры - наемники Сигизмунда. Новым лидером
таборитов стал Прокоп Голый (Лысый), позже прозванный Великим.
Под его руководством гуситы старались насадить свою веру в
принадлежавших богемской короне землях с нечешским населением. В
конце концов, отряды Прокопа дошли до Балтийского моря и Венгрии,
притом эти профессиональные солдаты жили тем, что грабили
захваченные земли. Здесь снова напрашивается сравнение с «армией
нового образца»: с ней Кромвель впервые установил владычество
Лондона на всех Британских островах, но она также жила грабежом
земель за пределами Англии. И во Франции революционный взрыв
66
вылился в военные завоевания, экспансию и грабежи, на сей раз - в
континентальных, поистине наполеоновских масштабах.
Несмотря на все успехи и длительную военную гегемонию та-
боритов в гуситском движении, так и не исчез сильный элемент
двоевластия - противостояния Праги и университета, с одной
стороны, и плебейских армий, которые их защищали, - с другой. И
причина окончания революции в 1436 г. заключается именно в этой
нестабильности.
Термидорианская консолидация
Революцию привели к завершению ее же боевые успехи. В 1431 г.
потерпели поражение последние католические крестоносцы,
которым явно недоставало пламенной мотивации гуситов. В том же году
в Базеле собрался второй реформистский собор. Его руководители
по-прежнему считали его выше папы и для подкрепления своих
притязаний старались добиться международного успеха - положить
конец гуситскому расколу путем переговоров, а не военных действий.
Поначалу гуситы настаивали, чтобы католическая церковь признала
«Четыре статьи» в качестве закона для всей Богемии, включая
католическое население. На это собор, вне всяких сомнений, не мог пойти.
Тем не менее сам факт переговоров породил раскол в рядах гуситов.
«Сироты» и другие табориты желали воевать до победы, отчасти ради
веры, а отчасти потому, что война теперь являлась их единственным
занятием и источником средств к существованию. Однако
истощенная страна нуждалась в мире, поэтому умеренные гуситы и пражане
объединили силы с католической знатью, и в 1434 г. войска коалиции
разгромили радикалов в битве у Липан. Прокоп Голый погиб на поле
боя, затем были уничтожены укрепления таборитов.
Богемией теперь управляли умеренные гуситы, старые
ученики Гуса - Якубек из Стршибра от университета и Ян Рокицана от
пражской общины. Чтобы положить конец войне, они заключили
с Базельским собором (1436 г.) соглашение - «Компактату». По ее
условиям, Богемии предоставлялся полуавтономный статус в
«христианском мире»: причастие «под обоими видами» разрешалось для
гуситских общин и только на территории Богемии. Соглашение
отнюдь не свидетельствовало о религиозной терпимости в
современном ее понимании, поскольку касалось лишь одной
инакомыслящей группы в конкретном регионе. Тем самым оно напоминало
Нантский эдикт, который Генрих IV даровал французским гугенотам
в 1598 г. Одновременно чешские сословия, наконец, признали
право Сигизмунда на престол его родной страны. И хотя спустя год - в
67
1437 г. - он скончался, а на его место пришел избранный гуситами
король, Иржи из Подебрад, который правил до 1471 г., утраквистская
церковь осталась умеренной, и революция, по сути, закончилась.
Итоги
Каковы же конкретные результаты революции? В социальном
плане этот переворот сильно ограничил власть и богатство церкви,
особенно монастырей, как будет и в других странах во время
протестантской Реформации. Выиграли от передела богатств главным
образом высшая знать, городские бюргеры и мелкое дворянство
(именно в данной последовательности), как среди католиков, так и среди
утраквистов, - то же самое опять-таки произойдет спустя столетие.
Ё политической сфере монархия неуклонно слабела, вскоре
фактически превратившись в выборную. Духовенство устранили из сейма,
королевские города, напротив, увеличили свое присутствие в этом
собрании, тем самым было покончено с традиционной структурой
национального представительства, однако не с сословной системой
как таковой. Новый состав сейма включал дворян, рыцарей и
бюргеров - устройство, гораздо более благоприятное для низших сословий,
**ем в любой другой европейской стране того времени. Что же
касается крестьян, то они, послужив пехотинцами революции, не получили
ничего. В конечном итоге они подверглись «второму закрепощению»,
которое проходило в Центральной и Восточной Европе в XVI в.
Можно ли, исходя из вышеперечисленного, назвать гуситскую
протореволюцию таким же отправным пунктом формирования
современной чешской нации, каким служили более поздние революции
в странах западнее Богемии? До конца XV в. дело более или менее так
и выглядело. В действительности, однако, два десятка лет войны
настолько истощили экономику страны, что Богемия, которая еще в
середине XIV в. занимала лидирующие позиции среди европейских
государств, к 1500 г. снова оказалась на периферии. В результате в 1526 г.
она попала в руки Габсбургов - самой могущественной из
европейских династий - и четыре века оставалась под их властью. За это
время новая линия королей снова сделала монархию наследственной,
Сведя влияние сословий к минимуму. Гуситская церковь
существовала до Реформации, когда ее практически поглотило лютеранство.
После разгрома антигабсбургского восстания в битве у Белой горы в
1620 г. контрреформаторы восстановили в Богемии католичество, а
Габсбургская монархия регерманизировала ее элиту.
По сути, все, что осталось от гуситского движения, - Моравские
братья, ведущие свою историю от бывшего таборита Петра Хель-
68
чицкого (ок. 1390 - ок. 1460). Вначале он был близок к радикальным
милленариям, но, в конце концов, склонность последних к насилию
оттолкнула его и заставила основать пацифистскую и аскетическую
общину «Братское единение» (Unitas Fratrum). Члены ее стали, с
небольшими поправками, духовными наследниками
францисканцев-спиритуалистов и предшественниками голландских меннонитор
XVI в. и квакеров пуританской революции.
И все же восстание гуситов, войдя в легенды, сохранилось в
чешском национальном сознании. Когда в XIX в. представители
чешского национализма из рядов интеллигенции и среднего класса начали
вновь отстаивать свои права перед лицом новой немецкой элиты, Гус
и Жижка стали великими символами возрождения национальной
идентичности. Так, наконец, гуситская революция, пусть
опосредованно, в виде мифа и несколько искусственно, послужила фактором
национального самоопределения чехов15.
Базовая модель европейской революции
Ранее уже указывалось, что гуситская протореволюция
воплотила базовый сценарий всех последующих революций Европу
вплоть до 1789 г. Ее этапы показаны выше; теперь мы можем
обобщить изложенное, выстроив стадии развития конфликта в единуьр
последовательность.
Чешское движение началось, когда один из сегментов
традиционной элиты страны - духовенство и дворянство - потребовал
значительных реформ (хотя и не полного изменения) существующей
религиозной практики. Подобное требование неизбежно повлекло
за собой такие важные социально-политические перемены, как
секуляризация большей части церковного имущества. Однако некоторые
представители элиты, равно как и монархия, колебались, их
нерешительность втянула в реформистское движение городскую верхушку,
довершив тем самым мобилизацию той силы, которую позже будут
называть «гражданским обществом». Поскольку Рим, король и част^
высшей знати сопротивлялись утраквистской реформе,
священнослужители-радикалы подняли городской плебс на захват власти в
столице. Это вылилось в «дефенестрацию» 1419 г., осуществленную
мелкими торговцами и ремесленниками Праги. Последующий крак
центральной власти пробудил еще одного актора - крестьяне^,
приведя к первым сборищам таборитов-милленариев.
Первое, что следует сказать о данной схеме развития событиц:
движение охватывало все слои общества, и они быстро приступали
к действию друг за другом. Как правило, отдельные бунты бюргерор
69
или ремесленников неизменно проваливались, что мы видели на
примере итальянских и фламандских городских восстаний XIV в. Вторая
отличительная черта действий гуситов заключается в том, что
изначальная всеобщая мобилизация поляризовала общество на лагеря
консервативных опасений и радикальных ожиданий, ведущих игру
друг против друга. Обе стороны воспринимали разворачивающуюся
внутреннюю войну как политический Армагеддон, т. е. борьбу,
которая может закончиться только полной победой одной из сторон и
уничтожением другой.
В огне подобного тотального конфликта лагерь надежды,
естественно, мотивирован сильнее, чем лагерь страха. А наиболее
сильную мотивацию в первом лагере имеют идейные радикалы. Поэтому
лидерство в нем захватило крайнее милленаристское крыло,
которое благодаря своему рвению создало самую боевую организацию.
Ультрарадикалы выигрывали решающие сражения, возглавляя
движение в целом, как случилось во время существования второго,
военного Табора Жижки. В то же время они все больше пугали своих
более прагматичных союзников. Победоносная революция оставалась
ненадежной коалицией или режимом «двоевластия»,
противопоставлявшим пражский городской совет и университет, с одной стороны,
Табору и «сиротам» - с другой. Тем не менее эта неустойчивая
коалиция разгромила католиков-роялистов у себя в стране, дала отпор
Риму и императору Сигизмунду за рубежом.
Однако после победы устранение общего врага, усталость от войны
и угасание милленаристского пыла раскололи коалицию. Умеренные
утраквисты в союзе с ослабленными консерваторами ликвидировали
экстремистское крыло, тем самым положив конец милленаристской
лихорадке. Это произошло, когда разбитые католики-роялисты
после 1424 г. объединили силы с Якубеком из Стршибра, чтобы, в конце
концов, устроить Липанский термидор. Учитывая данный итог,
можно сказать, что гуситское восстание претерпело все возможные для
европейского революционного процесса изменения. Таким образом,
революция гуситов представляет собой исчерпывающую формулу
европейской революции.
Какой свет описанная схема проливает на методологические
вопросы? Очевидно, Бринтон (см. приложение II) в целом правильно
подметил смену революционных фаз от умеренности к экстремизму
и наоборот. И это доказывает, что Французская революция,
послужившая основой для его модели, представляет собой кульминацию
тенденций, берущих начало в Средних веках (как хорошо видел
Токвиль). Кстати, революция 1789 г. впервые полностью выявила
взрывной потенциал подобных тенденций, создав современную кон-
70
цепцию революции. Видимо, поэтому данная концепция не
применяется к предшествующей европейской истории.
Однако гуситское восстание позволяет добавить к проверенной
французской модели и другие детали. Во-первых, для революции
необходимо, чтобы идеологический и социальный протест получил
также политическую направленность в условиях государства с
большой многонациональной столицей. (Выражение Теды Скокпол
«возвращение государства» слишком бледно описывает эту изначальную
предпосылку.) Мы знаем в истории позднего Средневековья
примеры куда более мощного социального протеста, чем тот, что возник в
среде пражских ремесленников. В XIV в. таковы восстания чомпи
во Флоренции, ван Артевельде во Фландрии или Этьена Марселя
в Париже в момент временного развала французского государства;
ни одно из них не переросло в революцию. И крестьянский бунт в
Богемии сам по себе также выражал социальное недовольство не
сильнее, чем французская Жакерия в 1343 г. или крестьянское
восстание в Англии в 1381 г. Тем не менее он породил мощную
революционную армию таборитов, так как это недовольство совпало с
борьбой аристократии и горожан за государственную власть и обе
социальные силы были воодушевлены пылом религиозного
«обновления». Иными словами, для превращения социального протеста или
«конфликта» в явление, которое можно с уверенностью назвать
революцией, необходимо наличие и государства, и «энтузиазма».
Во-вторых, долгосрочные изменения, достигнутые в ходе
гуситской революции, произошли на ее первом, умеренном этапе. Это
конфискация церковных земель, жесткое ограничение прав монархии
городами и знатью, важная (для того времени) перемена
религиозного характера - дарование Чаши мирянам. Все радикальные
попытки установить социальное равенство, равно как и территориальные
завоевания таборитских братств на пике военной фазы революции,
свел на нет Липанский термидор. Та же модель оказывается верной
для английской и французской революций. Как мы увидим
дальше, в первом случае долгосрочные изменения произведены в 1640-
1641 гг. (ограниченная или конституционная монархия); во втором
случае - в 1789-1791 гг. (правление, ограниченное «Декларацией
прав человека и гражданина»). Радикальное Английское
содружество и французская якобинская диктатура вскоре были уничтожены
и остались лишь легендами для творцов будущих революций -
сначала в Америке, затем в России. Тогда возникает вопрос: почему во
всех трех случаях воодушевление вылилось в кровавые и
разрушительные внутренние войны? Исчерпывающе ответить на него мы
сможем только после того, как рассмотрим два последних примера.
71
Однако на данном этапе можно сказать, что часть ответа
заключена в «системе революционных альянсов». Гуситская революция
по максимуму разыграла сценарий европейской революции только
потому, что высшие слои не побоялись пойти на союз с низшими и
более радикальными слоями в борьбе против общего,
превосходящего их в институциональном отношении врага, - императора и папы,
которые старались уничтожить утраквистскую церковь. Если
описывать ситуацию современными терминами, то лидеры утраквистов
перед лицом угрозы выживанию нации провозгласили принцип «слева
нет врагов». Но такая политика всегда опасна для любого
истеблишмента, поскольку левое движение легко выходит из-под контроля.
Поэтому альянс гуситского образца противоречит обычной модели
политического поведения элиты, первое правило которой требует
сохранять контроль над ситуацией, владеть инициативой при
формулировании политики.
Еще одна часть ответа: революционная лихорадка бушевала
дольше, чем было необходимо, потому что религия превратила политику
в вопрос вечного спасения или проклятия. Энтузиасты редко
утихомириваются сами - их приходится останавливать. И соответственно
жертвовать милленаристской динамикой и уравнительными
программами революции ради закрепления ее первоначальных
достижений. Иными словами, энергия «избыточной мощи» милленаристско-
го импульса необходима для того, чтобы совершить революционный
прорыв. А затем необходимо термидорианское отступление, чтобы
сохранить конкретные результаты этого прорыва.
Данный парадокс, характерный для всех европейских революций,
вызывает весьма интересный вопрос. Что случилось бы, если бы
термидора не было и если бы милленаристские устремления стали
практической программой перманентного Табора? Такая перспектива,
конечно, указывает на кульминацию европейской радикальной
традиции, революцию ради конца всех революций - Красный Октябрь.
В свое время мы рассмотрим и его.
Наконец, все вышесказанное приводит нас к вопросу о том,
насколько предполитические, религиозные устремления связаны с
перестройкой общества на более демократический лад. Иначе
говоря, в какой степени можно считать религиозное инакомыслие
предвестием современной политической и/или социальной демократии?
Справедливо ли категорическое утверждение Луи Блана, что
религиозная ересь - предшественница 1789 г.? А если отмести его как
чрезмерное упрощение, то насколько обоснована нарисованная Трёльчем
более сложная и богатая нюансами картина перехода Европы от
иерархического устройства церковного типа к более эгалитарным
72
вариантам сектантского типа и затем к современности, все еще
вдохновляемой религиозным наследием?
Возможным ответом будут служить многие последующие главы.
Ни в гуситской Богемии, ни позже религиозная ориентация никогда
не имела прямой связи с определенной классовой принадлежностью
или социальным статусом. Верующие-гуситы были и среди знатных
лордов, и среди простых крестьян. То же самое можно сказать и об их
противниках - правоверных католиках. Однако от проблемы
взаимоотношений между религией и революцией никуда не уйти,
поскольку комментаторы со времен Арнольда Брешианского и Святого
Бернара до эпохи Жюля Мишле и Луи Блана неизменно признавали,
что ересь в церкви всегда равносильна призыву к мятежу в обществе.
Ну, а проблема взаимосвязи двух форм бунта ведет к более
общему вопросу: в какой степени независимой переменной служит
культура, включая транспонированную религию, для понимания
современного, официально светского общества? Иными словами,
насколько обособленной частью культуры является религия? Имеет
ли она фундаментальные отличия от рационалистических
политических идеологий и социальных теорий или же представляет собой их
незрелую форму? Не дожила ли она до современности, прикрываясь
маской рационализма? Все эти проблемы снова встанут, когда речь
пойдет о Реформации, на материале которой они видны лучше,
нежели в нашем первом примере - гуситской протореволюции.
3
ЛЮТЕРАНСКАЯ ГЕРМАНИЯ, 1517-1555
РЕФОРМАЦИЯ КАК ПОЛУРЕВОЛЮЦИЯ
Все христиане воистину принадлежат к «духовному
сословию», и между ними нет иного различия, кроме
разве что различия по должности... Все мы вместе
составляем одно тело, но каждый член имеет свое особое
назначение, которым он служит другим. И поэтому у
нас одно Крещение, одно Евангелие, одна вера; все мы в
равной степени христиане, ибо только лишь Крещение,
Евангелие и вера превращают людей в духовных и
христиан... Поскольку светские владыки крещены так же, как
и мы, и у них та же вера и Евангелие, мы должны
позволить им быть священниками и епископами и их
обязанности рассматривать как службу, которая связана с
христианской общиной и полезна ей. И вообще каждый
крестившийся может провозглашать себя
рукоположенным во священники, епископы и папы, хотя не каждому
из них подобает исполнять такие обязанности.
Мартин Лютер. К христианскому дворянству
немецкой нации об исправлении христианства (1520)
Подобно тому, как религиозная философия Мюнцера
приближалась к атеизму, его политическая программа
была близка к коммунизму, и даже накануне
февральской революции многие современные
коммунистические секты не обладали таким богатым теоретическим
арсеналом, каким располагали «мюнцерцы» в XVI
веке. Эта программа, которая представляла собой не
столько сводку требований тогдашних плебеев,
сколько гениальное предвосхищение условий освобождения
едва начинавших тогда развиваться среди этих плебеев
пролетарских элементов, требовала немедленного
установления царства божьего на земле - тысячелетнего
царства, предсказанного пророками, - путем возврата
церкви к ее первоначальному состоянию и устранения
всех учреждений, находившихся в противоречии с этой
якобы раннехристианской, в действительности же
совершенно новой церковью. Но под царством божьим
74
Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй,
в котором больше не будет существовать ни классовых
различий, ни частной собственности, ни обособленной,
противостоящей членам общества и чуждой им
государственной власти.
Фридрих Энгельс.
Крестьянская война в Германии (1850)
Революционность» Реформации в широком понимании этого
слова никогда не вызывала сомнений, поскольку она
навсегда расколола единый доселе мир латинского христианства на
два антагонистических блока. В этом смысле она, наряду с
произошедшей через три столетия Французской революцией, представляет
собой одну из двух великих цезур в истории той Европы, что
сформировалась около 1000 г.1
Но Реформация носила революционный характер и в более
конкретном институциональном значении. Она представляла собой бунт
против высшего элемента в мире «двух мечей» - «первого сословия».
А в том мире любое изменение религиозной доктрины или церковной
организации неизменно влекло за собой перемены в устройстве
государства и общества. Вдобавок, как ни парадоксально, инициатива
бунта исходила от самого духовенства: самые первые реформаторы
почти все до единого были священниками или монахами. Правда,
хотя эти клирики стремились убрать существующее «первое
сословие», они отнюдь не намеревались сместить религию с центральных
позиций в обществе. Они, скорее, искали способ очистить церковь,
дабы привести мир в большее соответствие с Законом Божьим.
Если говорить об отдаленных последствиях этого
революционного перелома, то сложился прочный, хотя и несколько устаревший
теперь обычай рассматривать Реформацию, наряду с Ренессансом, как
начало эпохи «модерна», делая ее, таким образом, первой ласточкой
свободы совести, критической мысли и буржуазного
индивидуализма. Однако подобная точка зрения оставляет слишком мало
достижений на долю эпохального переворота 1789 г. Подлинно
современная концепция модерна, уже предложенная здесь, предполагает, что
его главные черты - не только демократичность, но и светскость и
что эти ценности органически связаны с городским индустриальным
или, по крайней мере, рыночным обществом. Кроме того,
господствующее сегодня в историографии мнение обращает на средневековые
корни Реформации не меньше внимания, чем на ее прогрессивный
характер. В конце концов, это было в первую очередь движение за
религиозную реформу, которое продолжало диссидентскую традицию,
идущую от XI в.
75
Учитывая столь двойственный облик Реформации, в каком
смысле можно считать ее революцией в русле проблематики данной
книги, то есть этапом длительной эскалации европейской традиции
радикальных переворотов? В какой степени она воспроизводит
базовую модель, присущую этой традиции, либо отклоняется от нее?
Насколько подстегнула общий процесс нарастания радикализма и
повышения самосознания?
Все эти вопросы будут изучены в данной и двух последующих
главах на трех примерах: бурного, но быстро остановленного
революционного процесса в лютеранской Германии; однозначного
поражения мощного революционного движения гугенотов во Франции
(«проверка от противного» по отношению к двум другим случаям);
наполовину успешной революции кальвинистов в Нидерландах
(наполовину - потому что успеха она достигла только в северной части
бургундско-габсбургских владений). Не будем забывать, что итог
Реформации оказался неожиданным. Подобно гуситам,
реформаторы XVI в., которых после 1529 г. стали именовать «протестантами»,
стремились не создать отдельную церковь, а очистить «христианский
мир», наравне с Римом считая, что он, по воле Господа, должен быть
единым и всеобщим. Им пришлось удовольствоваться
незавершенной реформой отчасти потому, что сами их усилия помогали
обновить старую церковь, которой они бросили вызов. По этим причинам
Реформацию лучше считать «полуреволюцией».
Полуреволюционный характер Реформации проявляется и в том,
что, в отличие от гуситского движения, она не прошла весь путь до
милленаристской диктатуры, сопровождаемый политическим и
социальным переворотом. Несмотря на периодическое участие в
восстаниях каждого из социальных слоев - от знатной аристократии до
беднейшего крестьянства - они не выступили против старого
порядка одновременно и единым фронтом, как в Богемии. Приближение
к максимальному революционному сценарию наблюдалось временно
в отдельных эпизодах - таких, как возникновение коммуны Томаса
Мюнцера в Мюльгаузене в ходе преимущественно крестьянского
восстания 1525 г. или бунт черни в епископском городе Мюнстер в
1534 г. В других реформированных городах, например Цюрихе при
Цвингли и Страсбурге при Буцере, всплески экстремизма успешно
подавлялись. А чаще всего итог реформационной кампании
определяли местные князья. И они всегда успевали предупредить вспышки
милленаризма. Поэтому главная задача данной главы - исследовать
исходные предпосылки движения в Германии и причины, по
которым оно прекратилось, не раскрыв полностью свой революционный
потенциал.
76
Правда, окончание революционного процесса в Германии - его
датируют, самое позднее, подписанием Аугсбургского мира в 1555 г. -
не означало конца Реформации как революции. Те же религиозные
силы, которые, словно лава вулкана, вырвались на свободу в 1517 г.
в Саксонии и чуть позже в Швейцарии, создавали очаги пожара по
соседству друг с другом по всей Европе, в той или иной мере
затронув к концу века большинство стран. Иногда пожары возникали как
отклик на события в Германии и Швейцарии. Но еще чаще -
вспыхивали в результате стихийного возгорания, охватывая как сельскую
местность, так и города региона и находя сторонников во всех
слоях общества сверху донизу. Поэтому Реформация, с одной стороны,
являлась общеевропейским радикальным движением, а с другой -
представляла собой череду локальных выступлений. Разумеется, это
движение свидетельствовало о кризисе всей европейской системы.
Однако столь масштабный процесс невозможно плодотворно
исследовать в целом. Нужно начать с анализа отдельных его
составляющих, первым и наиболее важным из которых является лютеранская
Германия.
Историография
Историография Реформации в Германии - один из самых
старых и обширных существующих комплексов научных работ. Однако
весьма небольшая его часть имеет отношение к теме революции, во
всяком случае - прямое. Основное внимание исследователей
сосредоточено на религиозном аспекте: они начинают с личности Лютера и
прослеживают развитие его движения вплоть до Аугсбургского мира
1555 г. Как раз в том году секретарь Шмалькальденской лиги
протестантских князей Иоганн Слейдан опубликовал свои «Комментарии
о состоянии религии и государства в царствование императора
Карла V», которые до начала XIX в. будут определять направление
дискуссий по данному вопросу2. Однако этот труд посвящен
конфессиональной истории и написан в ходе полемики, в которой первым
ударом со стороны католиков стали в 1549 г. «Комментарии о
деяниях и сочинениях Лютера» Иоганна Кохлея. Идеологический спор
продолжался и в XVII в., когда организованные раздельно церкви
мерились силами, и в XVIII в., когда антиклерикалы Просвещения
пытались вписать прежние «предрассудки» во всеобщую историю
прогресса.
«Историографическая революция» начала XIX в. задала нам
координаты современного представления о Реформации и «модерне»
XVI в. вообще. Это началось со всплеска романтического
национализма в связи с Вартбургским празднеством, устроенным в 1817 г. по
77
случаю 300-летия «95 тезисов» Лютера, и впервые получило
академическую форму в творчестве Леопольда фон Ранке. Примерно в то
же время, когда Маколей в Англии, Мишле во Франции и Палацкий
в Чехии систематизировали картину своих национальных
революционных драм, Ранке обозначил XVI в. в Европе как век Возрождения и
Реформации, сначала в «Истории римских пап» (1834-1839), затем -
в «Немецкой истории в эпоху Реформации» (1839-1848), которая
представляла собой современное выражение слейдановского взгляда
с точки зрения «религии и государства». Правда, это достижение не
лишило тему уклона в конфессиональные вопросы, поскольку Ранке
верил в дело немецкого лютеранства, так же как Маколей, Мишле и
Палацкий - в дело своих национальных революций, зато определило
вектор ее развития и документального обоснования, сохраняющийся
по сей день.
Едва Ранке завершил свою научную картину, как Фридрих
Энгельс представил иную, современную форму конфессионализма.
В изданной в 1850 г. работе «Крестьянская война в Германии» он, с
одной стороны, обличал лютеровскую Реформацию как буржуазное
предательство народной революции 1555 г., а с другой -
канонизировал Томаса Мюнцера в качестве предшественника Маркса,
представляя его движение прообразом коммунистического. Энгельс проводил
прямую параллель с недавним предательством немецкой
буржуазией народа в 1848 г. Социальную интерпретацию Реформации не
допускали в официальные университеты, однако в конце столетия ее
очень обогатил Карл Каутский, который расширил исторический
анализ Энгельса, включив в него более ранних таборитов и более
поздних мюнстерских анабаптистов 1534-1535 гг.3 По сути, подход
Каутского не ограничивался социальной интерпретацией, предлагая
общую социологию христианства. В полной мере это нашло
отражение в его работе «Происхождение христианства» (1908),
опирающейся на левогегельянскую критику религии как отчужденной проекции
людских чаяний. Сам Маркс вышел из движения левых гегельянцев,
которое привело к «высшей критике» Библии в конце XIX в. Такая
смесь социальной интерпретации и «социологизации» религии,
зачастую грубо упрощенной, имела важные последствия для изучения
Реформации с середины XX в. В то время эта традиция получила
новый стимул благодаря существованию Германской Демократической
Республики, чьи историки работали в рамках системы советского
марксизма, согласно канонам которого Реформация представляла
собой «раннебуржуазную революцию».
Между тем, конфессиональная церковная история по-прежнему
доминировала в теме Реформации. В 1905 г. отец Генрих Денифле
атаковал риторику немецкого лютеранства в беспощадном анализе
78
фигуры реформатора, где, помимо всевозможных инвектив,
убедительно показал, что, превознося оригинальность учения Лютера,
исследователи Реформации проявляют прискорбную
неосведомленность о средневековом окружении, породившем этого человека. Так
начались поиски корней мировоззрения Лютера в религиозности,
философии и теологии позднего Средневековья. Подобно
социальной истории, данное направление развернулось вовсю только во
второй половине XX в. Благодаря расширению временных рамок
периода Реформации углублялась перспектива картины событий XVI в.,
она стала включать анабаптистов и другие секты, которые в те
времена подвергались преследованиям со стороны основных конфессий и
потому, как правило, не упоминались в их историографии. Тематику
сект, изначально разрабатывавшуюся их наследниками в
«многоверной» Америке, обобщил и систематизировал Джордж Уильяме в
монументальном труде под названием «Радикальная Реформация»4.
В эпоху радикального демократизма сектантский радикализм
оказался весьма привлекателен. Отныне основным «магистерским»
конфессиям пришлось делить историографическую сцену с этими
бунтовщиками.
По сути, только тогда сформировался лишенный
конфессиональной тенденциозности, по-настоящему экуменический взгляд
на Реформацию и Контрреформацию (старый термин Ранке, от
которого сейчас отказываются в пользу более дипломатичного
«католическая Реформация»). Новый экуменический дух проник и в
социальную историю, которая, освобождаясь от влияния марксизма
(особенно после того, как в 1989 г. прекратила существование ГДР),
вместе с историей культуры попала теперь в общий
историографический котел. В результате из-под пера Петера Бликле вышла история
крестьянской войны, впервые опубликованная в 1975 г. под
названием «Германская революция 1525 г.». Кроме того, в это же время
Реформация в значительной степени «денационализировалась»,
о чем свидетельствует карьера голландца Хейко Обермана, автора
«Наследия средневековой теологии»5, который после многих лет
преподавательской деятельности в Тюбингене закончил свои дни
регент-профессором истории Университета штата Аризона. Именно
с таких позиций рассматривается здесь германская Реформация как
форма революции.
Историческая обстановка
Первое, что стоит отметить, говоря о Германии: в отличие от
Богемии ранее, а также Англии и Франции позже, Священную
Римскую империю германской нации определенно нельзя назвать
79
государством или хотя бы чем-то на него похожим. Немецкие
историки XIX в. (аналогично коллегам из других стран Европы) считали
нацию-государство естественной нормой развития любого народа и
ее отсутствие расценивали как историческую аномалию, чуть ли не
несправедливость судьбы. А историки XX в. усматривали в этом
отправную точку трагичного отклонения Германии от модели
современной европейской цивилизации, ее «особого пути» (Sonderweg).
Однако в описываемое время раздробленные германские
политические институты были намного ближе к превалирующей европейской
норме, чем национальные монархии Франции, Англии и Испании,
которые сами еще не сформировались до конца. Правда, даже в
XVI в. император и некоторые интеллектуалы-патриоты вроде
Ульриха фон Гуттена грезили о централизованной национальной
монархии западного образца. Но немецкое национальное чувство - уже
весьма сильное - в целом имело иную ориентацию: антиримскую, с
одной стороны, и местечковую в политических привязанностях - с
другой. Собственно, такая же неспособность подняться до уровня
националистических ожиданий XIX в. наблюдалась и в более
централизованных, на первый взгляд, королевствах. Герцоги Бурбоны и
Гизы являлись ненамного более послушными подданными королей
Валуа, нежели баварские Виттельсбахи или саксонские Веттины -
императоров Габсбургов. Определенная разновидность феодального
духа все еще жила в столетии, которое якобы знаменовало рождение
современного мира. К тому же государство повсюду представляло
собой в первую очередь династический, а не национальный институт.
На протяжении всего XVI в. имперский «меч» в Германии
принадлежал дому Габсбургов; имея обширные владения в самых разных
местах, эта династия в лице императора Карла V мыслила в истинно
имперском, панъевропейском, а не германском ключе. Процесс
восхождения Габсбургов на уровень международных владык начался
еще в XIV в., когда младший сын французского короля Валуа получил
герцогство Бургундское в качестве фактически независимого удела,
а затем в 1384 г. женился на наследнице нидерландского графства
Фландрии. Так сложилось ядро герцогства Бургундского, в которое
к 1430 г. вошли герцогство Брабантское, графство Голландия и кусок
нынешней северной Франции6. Это новое образование в некотором
смысле возрождало старое «срединное королевство» Лотарингию,
возникшее после распада империи Каролингов в 843 г.
После того как в 1477 г. в битве с королем Франции пал последний
и наиболее амбициозный из бургундских герцогов, его наследница в
поисках защиты вышла замуж за Максимилиана Германского, сына
императора Габсбурга (утратив при этом права на земли Бургундии,
80
что сделало ее владения, по сути, голландскими). Ее сын взял в жены
Хуану Безумную, наследницу Фердинанда и Изабеллы, чей
собственный брачный союз, объединив Кастилию и Арагон, создал Испанию,
уже готовившуюся захватить львиную долю Нового Света. После
Хуаны все эти владения отошли ее сыну Карлу V, родившемуся и
выросшему во Фландрии. В1517 г. он унаследовал испанский трон
(вместе с подвластным ему итальянским королевством Неаполитанским,
к которому вскоре присоединил герцогство Миланское). Затем в
1519 г. он был избран на престол Священной Римской империи,
традиционно занимаемый австрийскими Габсбургами. Пребывание
Карла во главе «христианского мира» совпало с апогеем могущества
Османской Турции в Средиземноморье и на Балканах. Поэтому в
течение столетия земли Габсбургов в Испании и Австрии были
форпостом обороны христианства от ислама и в то же время первым оплотом
ортодоксии в борьбе против ереси в Европе.
Наблюдая восхождение Габсбургов к мировому господству,
изумленные современники отпускали язвительные замечания: bella gérant
allii, tu felix Austria nube (войны пусть ведут другие, а ты, счастливая
Австрия, заключай браки). Стремительный подъем этой династии
действительно являл пример самого быстрого и колоссального
наращивания власти в европейской истории Европы - и создания
величайшей державы на земле в то время. Однако империя Габсбургов
представляла собой не просто плод удачи или брачной лотереи.
В мире династических государств брак означал альянс, и браки,
образовавшие империю Карла V, воздвигли огромное количество барьеров
вокруг расположенной в центре Франции, которую Максимилиан,
возможно, хотел окончательно раздробить. Так или иначе, данные
альянсы породили череду войн между Габсбургами и Валуа,
определявших европейскую политику до середины XVI в. Эти войны, равно
как и борьба с турками, осложняли развитие Реформации на каждом
этапе.
Географически основные земли империи помимо
нынешней территории ФРГ включали Бургундские Нидерланды
(Бельгию и Голландию), Эльзас и Лотарингию, сегодня
принадлежащие Франции, Австрию, Чехию, долину Одера от Силезии до
Балтийского моря и - по крайней мере, формально - Швейцарию.
В придачу к этим обширным владениям империя правила частью
Италии к северу от Папской области, правда, после краха империи
Гогенштауфенов в XIII в. - чисто номинально. Фактически, когда в
XIV в. дом Люксембургов возобновил усилия по строительству
империи, он обратил их на германские земли севернее Альп, имея центр
81
в Богемии. Позже Габсбурги вели такую же политику со своих баз в
Австрии и Голландии. При этом в обоих случаях средоточие власти
императора находилось на негерманской периферии системы. Вот в
такой ограниченной, но по-прежнему неоднородной империи
произошла Реформация.
Устройство империи также ослабляло центральную власть.
Несмотря на наличие ряда центральных институтов, в частности
судебных, не имелось ничего похожего на центральную
администрацию, что фактически превращало империю в свободную
конфедерацию почти суверенных княжеств и самоуправляющихся городов.
Императора избирала коллегия из семи князей-выборщиков
(курфюрстов), четырех светских и трех церковных. Титул императора
стал де-факто передаваться по наследству в династии Габсбургов
только в XVI в. В германском сердце империи существовали три
самостоятельных типа политической власти. В Рейнланде и на юге
Германии располагались крупные церковные княжества,
епископства и аббатства: Кёльнское, Трирское, Майнцское, Вюрцбургское.
Тот же регион мог похвастаться многочисленными и богатыми
вольными имперскими городами, такими, как Франкфурт, Страсбург и
Аугсбург. Бок о бок с ними существовала россыпь архаичных
независимых рыцарских доменов. Практически повсеместно, но
особенно в центре и на северо-востоке, местные князья успешно
добивались суверенной власти над своими мини-государствами, например
Саксонией, Бранденбургом, Баварией, угрожая и рыцарям, и
вольным городам. А в городах сложилась социальная иерархия из
потомственных дворян, крупных купцов, цеховых ремесленников и
значительной «люмпенской» массы.
Начиная с последних десятилетий XV в. германское ядро
империи переживало первую серьезную экономическую экспансию. По
берегам Рейна и на юге процветали торговля и мануфактурное
производство; в центральных регионах Тюрингии и Саксонии высокого
развития достигли добыча серебра и другие горные промыслы; восток
экспортировал зерно на запад, к Атлантике. К 1500 г. общая
численность населения этих земель составляла около 19 млн чел. Появилось
великое множество городов, точнее городков, по официальным
данным - три тысячи, но лишь пятьдесят из них имели достаточно
важное значение, чтобы удостоиться статуса вольного города. Самым
крупным был Аугсбург с населением около 50 тыс. чел.; население
Кёльна с 60 тыс. чел. в XIII в. сократилось до 40 тыс.; в Нюрнберге,
Магдебурге и Страсбурге проживало примерно по 30 тыс. чел. В
подавляющем большинстве городков, однако, насчитывалось меньше
тысячи жителей. Тем не менее, несмотря на довольно скромные мас-
82
штабы урбанизации по сравнению, например, с Северной Италией
или Нидерландами, аугсбургские Фуггеры входили в число
крупнейших банкиров Европы, Нюрнберг стал одним из главных центров
мануфактурной промышленности, а долина Рейна - колыбелью
европейской книгопечатной революции. Короче говоря, Германия эпохи
Реформации, подобно гуситской Богемии, находилась на подъеме.
Такого преимущества в Европе она достигнет потом не раньше конца
XIX в.
Несмотря на достигнутые успехи, в Германии отсутствовал
единый центр. Не было даже столицы. Как уже упоминалось,
резиденции Люксембургов и Габсбургов находились на периферии - в Праге
или Вене, главный интерес для императоров представляли
собственные суверенные владения: Австрия, Венгрия, Нидерланды. Вдобавок,
нося титул римских королей, они предпочитали действовать на
международном, а не германском уровне. Высший государственный
институт - имперский сейм, или рейхстаг - не имел постоянного
пристанища. Он кочевал из города в город, и в конфликте интересов
составляющих его «сословий» отражалась неравноправность
региональных и социальных элементов всего «рейха».
Таким образом, Германия не стала даже протонациональным
государством. Вследствие этого, хотя волнения Реформации 1517—
1525 гг. оказались самым широким по охвату, жестоким и глубоким
кризисом в истории Европы до Французской революции,
отсутствовал институциональный фокус, который придал бы им силу
полномасштабной революции.
Германии не хватало единства и в другом отношении: она не
только не имела четко установленных границ ни на западе, ни на
востоке, ни на юге, но и в своих подвижных пределах развивалась
неравномерно. Германские земли к западу от Рейна и к югу от Дуная
ранее входили в состав Римской империи, и этот опыт оставил следы
прежней цивилизации, из которых средиземноморское вино - лишь
один наиболее наглядный пример. Земли к востоку от Рейна и к
северу от Дуная были включены в сферу христианской
цивилизации Средиземноморья только в эпоху Каролингов, хотя достаточно
скоро, уже в X в., стали центром возрождения империи в обличье
Священной Римской империи германской нации. Эти две зоны
вместе составили «старую» Германию, как ее часто называют, и здесь
располагалось большинство городов страны. Далее, за Эльбой и по
берегу Балтийского моря до Восточной Пруссии, простиралась
«новая» Германия - зона колонизации, отвоеванная с XII в. у славянских
племен, малонаселенная и бедная, почти без городов, что делало ее
весьма удобной для политической организации под властью князей.
83
Реформация началась на границе между «старой» и «новой»
1"ерманиями - «грязных задворках запада», по выражению Лютера7, -
на той же линии разлома между развитой и отсталой Европой, где как
раз к югу от Рудных гор веком ранее возникло гуситское движение.
Дело Лютера
Начало нового движения выглядело чистой воды «монашеской
склокой» в той самой университетской среде «первого сословия», из
которой вышел в свое время Гус. XVI в. - одна из многих эпох, чье
своеобразие обычно объясняется «расцветом буржуазии», и Реформация
Действительно добилась первых массовых успехов именно в городах
империи. Тем не менее, если количество городов с населением
свыше 5 тыс. чел. за предыдущие пятьдесят лет выросло в Германии с
40 до 80, то количество университетов в Европе увеличилось с 30 до
70, поскольку в этом якобы современном столетии «реальность все
бще носила тонзуру»8. Одним из последних за указанный период
появился Виттенбергский университет Лютера, основанный в 1506 г.
курфюрстом Саксонским, который желал придать блеска своей
захолустной столице. Лютер, скорее всего, не приколачивал «95 тезисов»
к двери церкви Виттенбергского замка и, несомненно, никогда не
намеревался оспаривать существующие европейские порядки, однако
его тезисы получили огласку, и вызванные ими споры поистине
заложили пороховую бочку под «христианский мир».
Острая фаза последовавшей затем настоящей революции длилась
3 лет - с начала 1518 г. до конца лета 1525 г. (Реформация как широкое
Явление, конечно, продолжалась еще не одно десятилетие). Основное
Содержание первого этапа революции, с 1518 по 1521 г., составлял
личный конфликт Лютера с церковными властями Рима и светскими
властями империи. После осуждения Лютера в Вормсе в 1521 г. его
идеи, подхваченные городами южной Германии и Швейцарии, стали
знаменем активного движения за городскую или «коммунальную»
реформацию. Этот второй этап, в свою очередь, незаметно перерос в
Великую крестьянскую войну 1524-1525 гг. После такой взрывной
кульминации руководство лютеранским движением перешло к
победителям 1525 г. - местным князьям, и новая церковь, как в
городах, так и в княжеских владениях, начала принимать организованную
форму.
После того как Аугсбургскому рейхстагу в 1530 г. не удалось
(что и неудивительно) положить конец религиозному конфликту,
стала вырисовываться новая «конфессиональная» карта империи.
«Протестанты», получившие это наименование после Шпейерского
84
рейхстага 1529 г., разделились на лютеран центральной и северной
Германии и сакраментариев, которые сосредоточились в некоторых
южных областях и в Швейцарии, где проповедовал Цвингли. В
следующем году, когда образовалась лютеранская Шмалькальденская
лига князей и городов, революция превратилась в открытое
политическое - а вскоре и военное - противостояние «старой» и «новой»
церквей. Мюнстерский «Новый Иерусалим» 1534-1535 гг., который
часто считается самым революционным эпизодом всей Реформации,
был, в сущности, отголоском главной германской революции и на
самом деле может быть охарактеризован как случайность,
произошедшая благодаря стечению обстоятельств места и времени.
Как же мог теологический спор привести к столь грандиозным
последствиям? Когда Лютер обнародовал знаменитые тезисы на
латыни, они предназначались для университетского сообщества с целью
открыть научный диспут с другими богословами на тему
правомерности индульгенций. Однако продажа индульгенций занимала такое
важное место в религиозной практике того времени, а религия - р
европейском порядке, что эти тезисы были тут же переведены на
немецкий язык и широко разошлись.
Коротко говоря, обычай продажи индульгенций основывался нэ
идее «сокровищницы заслуг», которую копят святые и к которой
церковь может обращаться, дабы освобождать души из Чистилищу.
Конкретно это достигалось тем, что живущие совершали
достойные дела, гарантируя дорогим усопшим соответствующее чж>
ло дней «индульгенции» - отпущения грехов. Общество
позднего Средневековья было одержимо мыслями о смерти после чумвд
1345 г., погубившей почти треть населения Западной Европы, пото^
ему добавила тревог Столетняя война и сопутствующая ей «великая
депрессия». В этом мире мертвые в народном сознании
присутствовали повсюду рядом с живыми9. Главными символами эпохи служили
склеп и «пляска смерти». В результате частные заупокойные месс^1
оплачивались все более щедро, и спрос на индульгенции неуклонно
рос. Соответственно, когда столь высокий церковный сановник, как
архиепископ Майнцский, искал средства для получения от Рима
особого разрешения занимать больше одной кафедры или папа Лев X
нуждался в деньгах на продолжение реконструкции собора Святого
Петра, попросту продавалось побольше индульгенций. Подобная
торговля велась тогда по всей пограничной области из Виттенберга
в Саксонском герцогстве. В этой связи нужно отметить, что
продажа индульгенций могла приобрести скандальные масштабы только э
Германии. Отсутствие сильного централизованного государства зна-
85
чительно облегчало прямое осуществление Римом властных
полномочий способами, уже невозможными в более консолидированных
монархиях Англии, Франции и Испании. Характерно, что ни в
одной из этих стран никогда не возникало споров по поводу
индульгенций.
Однако реакция Лютера на эту скандальную ситуацию
объяснялась не просто возмущением из-за злоупотреблений. Она
проистекала, скорее, из глубокого духовного кризиса, развивавшегося в
период его жизни в монастыре, - кризиса, который теперь достиг
кульминации и нашел внешнее выражение. Тридцатичетырехлетний
Лютер был необычайно добродетельным монахом, скрупулезно
соблюдал все покаяния и таинства. Но никакие старания не помогали
ему преодолеть ощущение своей никчемности в глазах Господа,
смирить тревогу насчет спасения души. Столь острый кризис мог
возникнуть, наверное, только в монашеской среде и на университетских
факультетах теологии. Облегчение пришло к Лютеру, когда,
преподавая Священное Писание, он читал лекцию о «Послании Святого
Павла к римлянам» и открыл для себя, что человека «оправдывает»,
или делает «праведным», исключительно дарование «веры» от Бога.
Невозможно обеспечить себе спасение собственными усилиями, ни
причащаясь таинств, ни творя «добрые дела» в повседневной
жизни. Отпущение грехов и спасение даруются безвозмездно милостью
Бога совершенно не заслуживающим их смертным. Это, по Лютеру,
есть «христианская свобода» - освобождение грешника и от его
греха, и от церковного формализма. Таким образом, два первых столпа
лютеровского учения - принципы sola fide («только верой») и sola
gratia («только благодатью»). Кроме того, безвозмездный дар Божьей
благодати приходит человеку от Слова (Логоса), которое есть сам
Христос, как говорит Священное Писание; отсюда третий столп
теологии Лютера - принцип sola scriptura («только Писанием»).
Данную триаду Лютер положил в основу теологии, абсолютно
противоположной испытанным обычаям церкви, - теологии, которая
вдобавок почти все предоставляла воле Господа, не оставляя
практически ничего слабому, грешному человеку. Сам Лютер вначале
не сознавал, что его доктрина делает существующие церковные
порядки ненужными и даже вредными, однако прием, который
встретили его тезисы у широкой публики, и реакция церкви вскоре
выявили ее революционный смысл. Впрочем, до XIX в. все европейские
революции начинались ненамеренно: реформаторы ставили
конкретные, ограниченные цели, а потом с опозданием обнаруживали,
что достичь их можно, только перевернув вверх дном весь
привычный мир.
86
Главные заповеди Лютера - sola fide и sola scriptura - суровы и,
по крайней мере на первый взгляд, вряд ли способны привлечь
широкую публику, а тем более стать лозунгами массового движения. Но
это произошло, и в первую очередь благодаря поведению властей в
«деле Лютера». Его нападки на индульгенции вызвали такой
широкий отклик, что главный местный бенефициарий и верховный
начальник Лютера, архиепископ Майнцский, обратился в Рим, дабы
тот принял дисциплинарные меры. Рим, обычно не спешивший в
подобных делах, на сей раз проявил неожиданную прыть: в 1518 г.
Лютеру вынес порицание собственный августинский орден, в
Германию направили высокопоставленного кардинала - добиться у
Лютера отречения, однако данные действия лишь усугубили кризис.
Лютер не захотел молчать и ответил новыми печатными
выступлениями. Смерть императора Максимилиана в начале 1519 г. и
избрание на императорский престол его внука Карла отвлекли внимание
властей, и церковных и светских, от виттенбергского монаха, зато
публика жадно поглощала его памфлеты. Заинтересованность
народа достигла новых высот, когда охранители правоверия,
доминиканцы, спохватившись, попытались приструнить дерзкого выскочку
и летом 1519 г. устроили в Лейпциге диспут, выставив против него
доктора Иоганна Экка. Дебаты способствовали радикализации
позиции Лютера. Главным предметом спора служила власть папы, и Экк
спровоцировал оппонента, заставив прямо отрицать ее, так же как и
власть церковного собора. А когда Экк обвинил Лютера в повторении
еретических взглядов Гуса, тот открыто признал их сходство со
своими. Теперь виттенбергский монах публично сжег мосты между собой
и матерью-церковью.
Каких сторонников имел Лютер в этот момент кризиса? Самыми
первыми к нему присоединились другие недовольные клирики,
многие из которых были в какой-то мере готовы воспринять мысль
Лютера благодаря господствовавшему тогда в университетах
номиналистскому «новому пути» (via moderna). В противоположность
«старому пути» (via an tiqua) томистов, подчеркивавших способность
природного разума познать Бога и Его вселенную, скептически
настроенные наследники Оккама настолько умаляли силу природного
разума, что верующим оставалось уповать только на веру в познании
Бога, который в результате бесконечно отдалялся от человека. Все
это прекрасно подготавливало почву для доктрины sola fide10. Сам
Лютер также обучался в духе «нового пути», однако к началу
пастырской деятельности отверг его, вместе со всей схоластикой, как
препятствие постижению Слова Божьего.
87
Почти столь же сильно взгляды Лютера привлекали адептов
христианского гуманизма Эразма Роттердамского, с его апелляцией к
авторитету Библии в требованиях реформы церкви, враждебностью к
народным суевериям и призывами к более одухотворенной
«философии Христа». Гуманистов воодушевила их недавняя победа над
противниками-схоластами в «деле Рейхлина» - борьбе за использование
при изучении Библии ее исходных языков. «Дело Лютера» сначала
показалось им новым «делом Рейхлина», которое они могут
превратить в очередной триумф Эразмова гуманизма над схоластикой и
суеверием. Конечно, они ошибались. И когда со всей очевидностью
обнаружились различия между двумя типами реформизма, более
пожилые гуманисты остались на стороне своего лидера Эразма, а
молодые предпочли Лютера. Ближайшим сподвижником последнего
вскоре стал племянник Рейхлина и виттенбергский профессор
греческого языка Филипп Меланхтон.
Почему довольно трудные для понимания идеи Лютера столь
быстро вошли в моду за пределами сообщества профессиональных
интеллектуалов? К его удивлению, первые же его работы
немедленно были изданы сотнями, а затем тысячами экземпляров для 10 %
грамотного населения; неграмотному большинству его мысли
сообщались в бесчисленных проповедях по всей центральной и южной
Германии. Колоссальный народный интерес к ним объяснялся
вовсе не тем, что бюргеры и крестьяне, с чьих уст теперь не сходило
имя Лютера, полностью разделяли или хотя бы понимали его острую
тоску по спасению. Причина взрыва крылась в совпадении атаки
Лютера на существующие доктрины и привилегии «первого
сословия» с тревогами множества различных социальных групп.
Широкая публика в разной степени испытывала страх за свою
участь после смерти. Тревожили ее, однако, не столько премудрости
высокой теологии, сколько растущее разочарование в духовной силе
индульгенций, заказываемых по обету месс, паломничеств и
священных реликвий. За предшествующие полтора столетия в
урбанизирующейся Европе большое развитие получило сугубо светское
благочестие. Еще в XIII в. появились мирские женские общины бегинок,
а чуть позже мужские - бегардов, члены которых, не принадлежа к
монашеским орденам, тем не менее жили вместе в миру и
посвящали себя богоугодным делам; похожий характер носил «третий орден»
(братство мирян) при монастырях францисканцев. Более близки к
Реформации по времени возникновения сообщества и религиозные
школы Братства общей жизни. Их идеи, именуемые «новым
благочестием» (devotio moderna) и отличающиеся радикальным
антирационализмом, делали упор на изначально греховную природу человека
88
и соответствующую необходимость пассивного приятия Божьей
милости. Этическая и интроспективная природа их учения нашла
классическое выражение в книге Фомы Кемпийского «О
подражании Христу» («Imitatio Christi»)11. Таким образом, протест Лютера
пал на хорошо подготовленную и благодатную почву мирского
благочестия. Подготовка не ограничивалась духовной сферой: светское
общество имело свои мирские заботы, экономические занятия,
политические устремления и социальные претензии. И эти заботы
подогревали тлеющий антиклерикализм, который на протяжении всей
эпохи Средневековья сосуществовал с распространением мирского
благочестия. Земные богатства и власть церкви неизбежно
раздражали амбициозных светских властителей и растущие городские
коммуны. Лютеровская упрощенная теология спасения, в числе прочих
ее достоинств, предполагала также и упрощенную - а значит, менее
затратную - церковную структуру12.
После Лейпцигского диспута Лютер стал крупной публичной
фигурой, в обществе начали появляться его активные сторонники. В
конце 1519 г. рыцарь-гуманист и писатель Ульрих фон Гуттен и его
коллега Франц фон Зиккинген, уже грезившие общенациональным
крестовым походом против Рима, открыто объявили себя
приверженцами Лютера и предложили ему защиту13. Теперь Лютер
почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы полнее изложить
формирующуюся у него позицию. Он сделал это в трех больших трактатах в
1520 г.
Первый, написанный на немецком языке, - «Письмо к
христианскому дворянству немецкой нации». В нем Лютер призывал к замене
отдельного «первого сословия» «всеобщим священством»; тогда
единственное различие между верующими будет заключаться в должности
или функции. Светской власти - императору и князьям -
предлагалось реформировать церковь принудительно. Этот призыв был также
сильно окрашен национальным антироманизмом. Вторая работа -
«О вавилонском пленении церкви» - написана на латыни, однако
сразу же появился ее перевод. Здесь Лютер подвергал критике систему
церковных таинств как основу нечестивой «праведности по делам»,
признавая соответствующими Писанию только крещение,
причащение и, в модифицированной форме, исповедь. Третья, тоже на латыни,
с сопроводительным письмом к папе и, конечно, тоже переведенная, -
«О свободе христианина». Данный труд, более
абстрактно-теологический, чем два предыдущих, воспевал получаемую возрожденным
христианином благодаря милости Божьей свободу от греха и рабской
зависимости от дел, установленной старой церковью. Написав эти три
89
трактата, Лютер стал первым автором в истории, который продал
более ста тысяч экземпляров своих сочинений14. Он приобрел огромное
влияние. Остается, однако, вопрос, в какой мере его мысли доходили
до простого человека. Вероятно, во многих случаях все
ограничивалось ключевыми фразами: «свобода христианина», «всеобщее
священство», «спасение только Писанием». Но этих трех лозунгов
вполне хватило, чтобы расколоть весь средневековый порядок.
Папству и существующей на тот момент теологической и
институциональной структуре «христианского мира» бросили перчатку.
Провозглашение папы Антихристом перестало быть чистой
метафорой. Подобно Гусу и другим радикальным реформаторам, а ранее
францисканцам-спиритуалистам и Иоахиму Флорскому, Лютер был
убежден: церковь Христова столь развращена, что не за горами
последние дни человечества.
Из-за мятежных воззваний папа пригрозил Лютеру отлучением
от церкви в булле «Exsurge Domine» («Восстань, Господи!»). В
октябре 1520 г. Лютер демонстративно сжег экземпляр «Свода
канонического права», а для неграмотной публики бросил в огонь и копию
буллы, после чего его тут же предали анафеме. При таком обороте
событий высший защитник церкви - светский «меч» имперской
власти - не мог не вмешаться в происходящее. Лютера вызвали на
рейхстаг в Вормсе, где он должен был предстать перед лицом
21-летнего государя и собрания сословий империи. Памятуя о судьбе Гуса
на Констанцском соборе, курфюрст Саксонский потребовал от Карла
охранную грамоту для человека, прославившего его герцогство.
Поездка Лютера в Вормс превратилась в триумфальное шествие.
Однако вести публичные дебаты, которых он ждал, ему не позволили.
Вместо этого на знаменитой встрече с императором Лютеру
приказали во всеуслышание отречься от своих убеждений, на что он
ответил отказом. Вследствие этого рейхстаг издал Вормсский эдикт,
согласно которому Лютер и его сторонники, в дополнение к анафеме,
объявлялись вне закона на территории империи. На обратном пути в
Виттенберг курфюрст Саксонский «похитил» Лютера, теперь
вдвойне изгнанника, и увез в надежное убежище замка Вартбург, где тот и
будет находиться весь следующий год, занимаясь переводом Нового
Завета на немецкий язык.
Городская Реформация
До этого момента Реформация носила характер
интеллектуального движения и религиозно-юридической борьбы вокруг Лютера
как отдельного человека. Слово «лютеране», впервые прозвучавшее
90
в 1519 г., обозначало просто его сторонников. До рейхстага в Вормсе
Лютер ничего не реформировал, да и после инициатива активного
изменения церковных обрядов в соответствии с тем, что почиталось
его доктринами, принадлежала больше интеллектуалам-лютеранам,
чем самому их вдохновителю. В последующие четыре года это
движение вызвало бурные волнения на территории центральной и южной
Германии, которые привели к глубокому кризису 1525 г.15
Долгое время исследователи Реформации придерживались
расхожего мнения, будто своим успехом она обязана поддержке местных
князей. В действительности до 1525 г. Лютера поддерживал только
курфюрст Фридрих Саксонский, хотя его протекция, несомненно,
имела важнейшее значение для развертывания движения. Тем не
менее Фридрих, известный своим пристрастием к
коллекционированию реликвий и весьма консервативный христианин, вряд ли
понимал лютеровские идеи; он покровительствовал реформатору,
скорее, как теологической звезде своего университета. Первым из
местных правителей на защиту именно дела Лютера встал ландграф
Филипп Гессенский, который в 1526 г. провел реформу в своих
землях. Вплоть до 1530 г. среди сторонников Лютера не будет замечено
других князей16. В ключевой период своего формирования, который
пришелся на 1521-1525 гг., Реформация как движение представляла
собой практически исключительно городское явление17. В этом
отношении небольшой окраинный городок Виттенберг, при всем своем
нравственном авторитете, не мог служить образцом для подражания.
Центром притяжения для городской Реформации стали
юго-западная Германия и швейцарские кантоны18.
Несмотря на то что этот процесс в каждом городе имел свои
особенности, все же у него есть приблизительная общая модель19. Его
можно назвать умеренной коммунальной революцией позднесред-
невекового типа с добавлением весомого элемента религиозной, а не
только политической трансформации. Большинство городских
центров, втянутых в него, являлись вольными имперскими городами, то
есть корпоративными коммунами, не имевшими другого сюзерена,
кроме императора. Эти города добились независимости в ХН-ХШ вв.
в ходе бунтов против владычества епископов или феодалов. На
большое историческое значение данного феномена впервые указал Гизо20.
Затем, как мы видели на примере фламандских городов21, в XIV-
XV вв. произошла вторая волна бунтов, в ходе которых ремесленные
цеха отобрали часть власти у господствовавшего в то время
купечества, что привело не к подлинной демократизации, а лишь к
расширению правящей олигархии22. Во всех этих городах еще до начала
Реформации магистраты в значительной степени контролировали
91
церковные назначения и собственность. Протестантскому
проповеднику достаточно было получить кафедру, чтобы организовать
общественное давление с целью всеобщего реформирования
городских приходов. Двух-трех лет подобного давления обычно хватало,
чтобы заставить членов городского совета назначать только
протестантов, убрать иконы и в конечном итоге отменить мессы. В этом
смысле германская Реформация раннего периода была подлинно
народным движением. На большей части территории южной Германии
процесс завершился к 1525 г. или чуть позже. В Нюрнберге переход
к лютеранству безболезненно совершила сама олигархия без особого
нажима снизу. В Страсбурге он затянулся, сопровождаясь
конфликтами, которые привлекли в город множество независимых радикалов.
В Аугсбурге, где жили Фуггеры, банкиры Габсбургов, и поэтому
городскому совету приходилось действовать осторожно, долгое
время официально признавались оба вероисповедания. В Базеле
Реформация, возглавляемая Эколампадием - бывшим соратником
Эразма, получилась столько же «эразмианской», сколько
лютеранской. В Меммингене возникла другая комбинация, знаковая для
всей революции, невольно развязанной Лютером. Здесь Кристоф
Шаппелер, один из радикальных сподвижников Цвингли, в 1522—
1523 гг. побудил «простой люд» добиться от городского совета
проведения реформации. В следующем году его соратник, городской
писарь Себастьян Лотцер, свел воедино требования местных крестьян,
составив из них «Двенадцать статей» Крестьянской войны23. В
итоговом документе отразились, таким образом, все течения, питавшие
революцию, - и религиозное, и гражданское, и плебейское.
Одна из самых ранних городских реформации началась в 1519 г.
в Цюрихе под руководством Ульриха Цвингли24. Будучи
священником в главной городской церкви, Цвингли испытывал меньше
духовных терзаний, нежели Лютер. Собственно, он начал свои духовные
поиски с христианского гуманизма Эразма Роттердамского и лишь
позже стал приверженцем теологии Божьей милости,
проповедуемой Св. Павлом и Св. Августином. Им двигал также швейцарский
национализм, выражавшийся в протестах против найма
иностранными державами - Папством и Францией - швейцарских солдат. В
зрелой его доктрине сочетались твердое упование на
неопосредованную милость Бога с радикальным неприятием мессы и буквального
толкования библейских заповедей. К такой теологии примешивались
сильное чувство общинной солидарности и практическая забота о
гражданской этике в Эразмовой манере. По его собственным словам,
«христианин есть вместе с тем верный и хороший гражданин, а
христианский город есть не что иное, как христианская церковь»25. Хотя
92
Цвингли приступил к реформаторской деятельности в Цюрихском
соборе еще в 1519 г., он продвигался вперед не спеша, с помощью
аргументации и дебатов, желая привлечь на свою сторону магистратов.
Поэтому цюрихская и вообще швейцарская Реформация развивалась
путем многочисленных постановочных «диспутов» между
сторонниками старой и новой веры. Когда почва была таким образом
подготовлена, городской совет официально ввел реформу в 1523 г. Пример
Цюриха фактически можно рассматривать как архетип городской
Реформации.
Такая Реформация, кроме того, изменяла отнюдь не только
вероучение и литургию - она производила значительные
институциональные преобразования. В досовременной Европе смена теологии
влекла за собой смену экклезиологии, а это глубоко затрагивало
общество в целом. И в городах, и в княжествах Реформация
уничтожила параллельную систему церковного управления. Первыми исчезли
монашеские ордена - международная сеть, служившая оплотом
папской власти. Их солидное имущество и наделы частью отошли
светским властям, частью - таким организациям, как больницы и
благотворительные «общие кассы», которые заводили теперь в городах.
Эти перемены коснулись 10-30 % собственности в охваченных
процессом областях. В то же время была упразднена тщательно
разработанная система церковных судов, в юрисдикции которых находились
не только проблемы ереси и морали, но и вопросы брака,
наследования, социальной помощи, соответствующей эпохе, - все эти функции
отныне возлагались на светские власти. Правонарушения,
совершенные представителями духовенства, теперь также рассматривались
не в специальном церковном суде, а в гражданских судах. В
реформированных городах священники больше не составляли отдельную
касту, а перешли в разряд обычных горожан. Записи актов
гражданского состояния населения, l'état civil, стали вести муниципалитеты.
Каноническое право, насколько оно еще сохранялось, было
подчинено гражданскому. Не случайно Лютер драматически
продемонстрировал свой окончательный разрыв с Римом, предав огню «Свод
канонического права». Наконец, лютеранское духовенство не заседало
в территориальных собраниях сословий, хотя клирики, разумеется,
остались в рейхстаге и собраниях католических регионов.
Вообще эти перемены вели к значительному обмирщению
общества. Но можно ли их назвать секуляризацией? Потенциально - да, в
действительности - нет. В долгосрочной перспективе Реформация,
расколов «христианский мир», сделала каждую из его частей более
уязвимой, однако очевидным это станет не ранее конца XVII в. На
ближайшее же будущее она сильно укрепила светскую власть над
93
церковью, как видно на хрестоматийном примере Цюриха, где
руководство церковью, по сути, перешло в руки городских магистратов.
И все же подобная секуляризация была скорее мнимой, чем
реальной, поскольку Цвингли, а затем его преемник Буллингер так
умело управляли городским советом, что реформированный Цюрих по
праву именовали теократией; к аналогичному режиму явно
стремился и Буцер в Страсбурге. В краткосрочной перспективе общество
Реформации оставалось преимущественно «благочестивым». Тем
не менее институциональная зависимость реформированной церкви
от светских магистратов ставила продолжительность этого
«благочестия» под сомнение. Проблему окончательно разрешил Кальвин,
наделив реформированную церковь структурами, которые
обеспечили ей институциональную независимость. Только на такой основе
новая церковь могла добиться прочного преобладания в обществе,
что, в конце концов, являлось общей теократической мечтой
реформаторов.
Schwärmerei*
По мере внедрения в городах «магистерской» Реформации Лютера
и Цвингли формировалось ее радикальное «левое» крыло. Оба
течения развивались параллельно, приведя к бурным событиям 1525 г. и
Мюнстерской коммуне 1534 г. Зародилось и то, и другое в
ближайшем окружении Лютера в Виттенберге, когда сам он находился в
замке Вартбург. Очевидно, что смещение центрального элемента
теологии от церковных таинств к sola fide и sola scriptura требовало и новой
экклезиологии. Однако до Вормса Лютер для ее разработки ничего не
делал. Тем не менее к 1521 г. в результате его успешного
противостояния императору и папе существующая церковная структура стала
рушиться по всей южной Германии. Одним из показателей этого
послужило прибытие в том же году в Виттенберг трех плебейских
«пророков» из шахтерского городка Цвиккау, куда из-за Рудных гор
просочилось гуситское влияние. «Пророки» требовали отменить крещение
детей, призывали к упразднению духовенства и предрекали скорое
наступление конца света, заявляя, что им открыл это Святой Дух.
Одновременно коллега Лютера, богослов Андреас Карлштадт, с
одобрения городского совета начал проводить богослужения на немецком
языке, запретил использовать иконы и женился, демонстративно
отвергнув обет безбрачия духовенства. Общественный энтузиазм в
* Энтузиазм, фанатизм (нем.). - Примеч. пер.
94
связи с такими переменами вылился во всплеск иконоборчества -
первое проявление насилия в ходе Реформации. По возвращении в
Виттенберг в марте 1522 г. Лютер, неприятно удивленный
событиями, немедленно отменил последние нововведения и принялся
проповедовать постепенность перемен. Карлштадта перевели в один из
сельских приходов, где он ударился в популизм. Называя себя «брат
Анди», он сменил церковное одеяние на обычное платье, частично
перевел богослужения на немецкий язык, а в проповедях делал особый
упор на социальное недовольство народа. Его идеология также
приобрела более радикальный характер: он отказывался крестить детей
и открыто спорил с Лютером, который отстаивал идею «истинного
присутствия» в таинстве причащения26. Подобно всем реформаторам
с довольно ограниченной программой, Лютер, бросив вызов,
породивший смуту, был оттеснен на второй план «левыми» энтузиастами,
чьи программы отличались куда большим радикализмом.
Еще более значительную угрозу лютеровской Реформации
представлял Томас Мюнцер. До 1523 г. он позиционировал себя как
последователя Лютера. Однако вмешательство Лютера в Виттенберге
с целью затормозить реформы настроило Мюнцера против него. Тут
же объединившись с Карлштадтом, Мюнцер вскоре обвинил Лютера
в предательстве дела обновления «христианского мира», которое
тот сам же начал. В конце концов, Мюнцер обрушился в печати на
«сладко живущую плоть виттенбергскую» и «Доктора Лжеца». Для
Лютера, в свою очередь, он превратился в «слугу Сатаны», ничем
не лучше папы-Антихриста. В его глазах пророки-радикалы были
Schwärmer («фанатиками» или «энтузиастами»), в буквальном
смысле слова «сосудами Божьего гнева», а их пророчества -
заблуждением. Schwärmer действительно представляли собой enragés
(«бешеных») эпохи Реформации. Так лютеранское движение с
самого начала столкнулось с вызовом со стороны своего радикального
«двойника». Всего за пару лет после выхода трех основополагающих
трактатов 1520 г. Реформация показала свой радикальный потенциал
во всей красе.
Хотя недолгая карьера Мюнцера поистине впечатляет, на деле
остаются вопросы, был ли он такой уж важной фигурой и в чем
заключалась подлинная суть его протеста. После книги Энгельса
1850 г. Мюнцер стал символом Реформации как стадии зарождения
социальной революции27. Однако, невзирая на высокое
покровительство Энгельса, нам не стоит ожидать от Мюнцера чего-либо
существенного в плане социальной критики. Он пришел к революции
исключительно теологическим путем, и даже его теологию сложно
реконструировать ввиду фрагментарности источников.
95
Он появляется перед нами, видимо, в возрасте 31 года, в 1520 г.
в городке Цвиккау, где ему предоставили кафедру по рекомендации
Лютера (когда-то Мюнцер учился в Виттенберге) и где он
сблизился с местными «пророками». Его пламенные проповеди и нападки
на более умеренных представителей духовенства довольно скоро
вызвали беспорядки, и в 1522 г. он бежал в Богемию в надежде
раздуть еще тлеющие там угли гуситского милленаризма. В Праге он
впервые сформулировал спиритуалистическое учение, основанное
на непосредственном боговдохновлении человека, за что был
изгнан утраквистским духовенством из страны. На протяжении всего
последующего года он скитался по Германии, пока, наконец, весной
1523 г. не обосновался в саксонском шахтерском городке Альштедт -
территории с населением в 900 чел., законодательно объединенной в
«город». Там он жил шестнадцать месяцев, которые стали для него
периодом самых громких успехов. Его первый подвиг - создание
круглогодичной литургии на немецком языке, когда Лютер еще не
приступил к осуществлению этой задачи в Виттенберге. Богослужения
Мюнцера приобрели такую известность, что в Альштедт стягивались
толпы со всех окрестностей, особенно шахтеры из Мансфельда, на
которых чрезвычайно подействовали его страстные
антиклерикальные проповеди.
К этому времени он разработал доктрину, весьма отличную от
проповедуемой в Виттенберге. Три пункта доктрины Мюнцера
заключались в следующем: 1) Дух выше Слова, и то, что Бог напрямую
говорит душе верующего, есть большее свидетельство истины, чем
сухие библейские тексты; слово мертво, но дух жив; 2) это
означает, что слово, изложенное на бумаге, есть внешняя оболочка слова
внутреннего, которое следует распознать; 3) это также означает, что
Бог, который, по излюбленному выражению Мюнцера, не нем, имеет
иные способы общения с человечеством, как то: озарение пророков,
видения, а также свидетельство всего сущего. Как писал Джон Босси,
«судя по блестящей проповеди Мюнцера перед саксонскими
князьями по второй главе Книги пророка Даниила, главной задачей его
учения являлось обличение официальных реформаторов... как писак,
торгующих словом, и утверждение свободы доступа "простого
человека", в том числе неграмотного, к духу Христову»28.
Некоторое время Мюнцер надеялся убедить саксонские власти
применить силу для очищения церкви. В проповеди перед братом
и соправителем Фридриха Мудрого Мюнцер сравнивал себя с
пророком Даниилом, обращающим Навуходоносора к Богу. После того
как его призыв не достиг цели, чего и следовало ожидать, Мюнцер
направил свой милленаристский пыл в равной мере и против духо-
96
венства, и против князей. Поскольку из-под пера Лютера тогда
вышло «Послание саксонским князьям о мятежном духе в Алыптедте»,
Мюнцер его тоже отнес к категории вероломного духовенства.
Осудив, таким образом, все существующее общество, он увидел в
простом народе, великой страдающей массе человечества особое
орудие Господа, призванное в грандиозном апокалипсисе уничтожить
сложившийся порядок вещей. Цитируя пророка Иеремию, Мюнцер
называл свои воззвания «молотом, который расколет скалу» падшего
«христианского мира». В качестве подготовки к решительным
действиям он организовал из альштедтцев военизированную «лигу
избранных». Правда, все свелось лишь к разрушению маленькой
часовни за городскими стенами, но князья были достаточно встревожены,
чтобы припугнуть Мюнцера. В начале 1524 г. он внезапно сбежал из
города под покровом ночи, бросив молодую жену, ребенка и книги.
На сей раз он нашел прибежище в Мюльхаузене, который в то
время размерами превышал Дрезден и Лейпциг, вместе взятые. Город
терзало особенно бурное реформирование под руководством
беглого монаха-цистерцианца Генриха Пфайфера. Мюнцер примкнул к
протестантам, выступающим против городского совета, и два
проповедника вместе создали еще одно военизированное сообщество -
«Вечную лигу». Однако на данном этапе борьбы реформаторы вскоре
проиграли, и следующую зиму Мюнцер провел в Шварцвальде среди
крестьян, уже готовых к открытому бунту. Но весной он возвратился
в Мюльхаузен ради второго - и победного - раунда Реформации29.
На смену свергнутому городскому совету пришел новоизбранный
«Вечный совет». Возобновила существование военная лига с
«радужным флагом», символизировавшим возрождение человечества после
библейского потопа. Впоследствии Мюнцер заявлял, что программа
союза основывалась на принципе omnia sunt communia (все есть
общее), то есть всеми вещами надлежало владеть сообща, хотя каких-
либо конкретных шагов к осуществлению провозглашенного идеала
ни в Алыптедте, ни в Мюльхаузене не делалось.
В этот момент до Тюрингии с юга докатилась великая
Крестьянская война. Мюнцер в апокалиптическом экстазе призвал жителей
Алыптедта вступить в мюльхаузенскую лигу, чтобы «ковать, бить
по наковальням Нимрода». Уповая, что «люди станут свободными
и Господь будет единым Владыкой над ними», он повел свое трех-
сотенное войско на соединение с несколькими тысячами крестьян
и рудокопов, ставших лагерем в соседнем городке Франкенхаузен.
Иными словами, Мюнцер со своей лигой влился в уже
существующее народное движение, не милленаристское, а выдвигавшее вполне
конкретные и специфические требования.
97
Скоро на сцену выступили и князья. В день битвы 15 мая вокруг
солнца появилась необычайная корона. Восседая на коне, Мюнцер
обратился к крестьянскому войску, провозглашая, что этот радужный
ореол - предзнаменование их победы. Последовавшая битва
обернулась бойней, унесшей жизни около семи тысяч крестьян. Вскоре
после этого Мюнцера схватили и подвергли пыткам. Он признался
в подрывных замыслах, принес публичное покаяние и был казнен.
Мюльхаузенская коммуна Мюнцера, если можно ее так назвать,
просуществовала два месяца.
Если искать в этой истории предвестия современного
социализма, на ум прежде всего приходит не Маркс, а Бакунин с его
девизом: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть»
(1842). О том, чтобы связать Мюнцера с современным
радикализмом, лучше не думать. В его немногочисленных апокалиптических
сочинениях, равно как и в недолговечных «лигах» Альштедта и
Мюльхаузена, ничто не предвосхищает Оуэна, Фурье или Маркса.
В целом бродячая жизнь Мюнцера представляет собой, скорее,
патетическую, нежели героическую повесть.
Куда бы он ни приезжал, его деятельность немедленно вызывала
такую неразбериху, что ему приходилось бежать в поисках другого
пристанища. Его идеология приобретала все более радикальный
характер, по мере того как ему снова и снова приходилось скрываться.
Со времен Реформации и до 1840-х гг. личность Мюнцера обычно
демонизировали вслед за Лютером. Впервые его реабилитировали
в 1840-е гг. радикалы-«домартовцы», которые искали
революционную традицию в Германии, - соответствующую теорию разработали
Энгельс и Каутский. После Второй мировой войны
коммунистический режим ГДР возвел его в ранг великого предтечи. В результате
такого сочетания демонизации и канонизации историческое
значение фигуры Мюнцера было сильно преувеличено и искажено. В свое
время он являлся второстепенным персонажем, паразитом, а не
лидером Крестьянской войны. «Дело Мюнцера» больше сотворено в
историографии, чем взято непосредственно из летописи истории. И это не
единственный пример проблемы, созданной путем
ретроспективного анализа. Мы еще не раз столкнемся с таким историографическим
«творчеством», включая изображение Октября 1917 г. как глубокой
социальной революции, а не большевистского переворота.
Вскоре после того, как в Саксонии произошел первый
сопутствующий Реформации всплеск радикализма, за ним последовал
второй, в Швейцарии. Новый раскол, который противники быстро
окрестили анабаптистским, возник, как и первый, из-за осторожно-
98
сти реформаторов-магистров, возлагавших надежды на поддержку
светских властей. В конце концов, Цвингли производил реформу
церкви в Цюрихе поэтапно и всегда с согласия городской олигархии.
Однако ослабление существующих структур неизбежно
подталкивало к действиям менее терпеливых сторонников протестантства.
И в 1523 г. - как раз когда Цюрих официально объявили
«реформированным» - группа во главе с мирянином Конрадом Гребелем,
образованным человеком из хорошей семьи, подняла вопрос о
крещении детей. Новый Завет гласил, что условиями для крещения
являются покаяние и вера в Христа, а его следствиями - сошествие
Святого Духа, отпущение грехов и общая благодать для крещеных.
Ребенок, утверждали сторонники Гребеля, не может ни верить Слову
Божьему, ни понимать его. Поэтому крестить надо преданных Богу
взрослых. Однако крещение детей составляло основу любой церкви,
сосуществующей с обществом, отказ от него расторгал гражданские
узы, сплачивающие христианско-муниципальную общину Цюриха.
Посему ни Цвингли, ни городской совет не могли пойти на крещение
взрослых, что в условиях того времени являлось фактически
«перекрещиванием». В их глазах это означало отделение от общества и
уход в сектантские распри. Гребель и его сторонники отвечали, что
в Писании речь идет только о крещении взрослых и лишь оно одно
может быть основой для церкви истинно избранных. В 1525 г. был
устроен диспут между Цвингли и Гребелем и Цвингли, конечно,
провозглашен победителем. Тогда Гребель и его последователи
публично совершили собственное повторное крещение. За неповиновение
их изгнали из Цюриха, а повторное крещение объявили тяжким
преступлением, которое карается смертью через утопление. Не сумев
захватить цюрихскую церковь, швейцарские анабаптисты рассеялись
к северу до германского Рейнланда и Нидерландов и к востоку - в
Австрии и Моравии. Повсюду, где распространялось это движение,
возникали разнообразные местные секты с широким спектром док-
тринальных убеждений (впитавших в конечном счете и наследие
Мюнцера и Карлштадта). Однако нигде их приверженцы не
отличались многочисленностью, не говоря уже о достижении большинства.
На любой конкретный момент времени они, вероятно, составляли
менее 1 % населения30. Крещение взрослых, по правде говоря, -
принцип для секты, но никак не для церкви.
Вообще-то программа анабаптистов доводила «магистерскую»
теологию всеобщего священства до логического конца: полное
упразднение обрядовой и жреческой церкви в пользу демократических
конгрегации преданных верующих, повторно крещенных во взрослом
возрасте31. Радикалы уходили от Слова Священного Писания к не-
99
посредственному вдохновению Святым Духом. Соответственно они
добивались реформы за рамками существующих светских структур.
К тому же их движение не имело единой организации, не старалось
приноровиться к обществу. Это была секта, группировка избранных,
которая самонадеянно ставила себя вне современного ей общества.
Не признавая общества, анабаптисты не признавали и никаких клятв
и обетов. Они также являлись типичными милленариями в самом
буквальном смысле слова, ожидая скорого конца света и второго
пришествия Христа. Будучи сектой избранных, они вдобавок не верили
в предначертание - только в свободу отдельного человека выбрать
Вступление в секту. В этом отношении вопрос о том, следует ли
считать движение анабаптистов частью Реформации или возрождением
более ранних средневековых ересей, остается спорным.
Первоначальный швейцарский анабаптизм возник в 1525 г. во
время Крестьянской войны и распространился в южной Германии в
ходе последующих репрессий 1526-1527 гг. Памятуя об этом
печальном опыте, первые анабаптисты исповедовали пацифизм. Однако их
движение, основываясь на категорическом неприятии окружающего
мира, почти неизбежно несло в себе потенциал для насильственной
борьбы с его пороками. Собственно, потенциал насилия был заложен
È общей динамике Реформации. Когда реформаторы, настроенные
аколь угодно мирно, пытаются коренным образом изменить
нравственные устои общества, их наименее терпеливые последователи
всегда испытывают искушение применить силу. Этот потенциал
Впервые проявился в действиях Карлштадта и «пророков» Цвиккау.
А его особый анабаптистский вариант достигнет кульминации в
Мюнстерской коммуне.
Революция «простого человека»
В такой сумбурной и стремительно обостряющейся атмосфере
Реформация в 1524-1525 гг. распространилась из крупных и мелких
городов в деревню, в крестьянскую среду. Точнее, произошло
слияние городского и крестьянского радикализма. При этом и в городе, и
в деревне религиозное реформирование стало означать связывание
населения общинными узами. Революция, запущенная Лютером,
теперь воспринималась широкими массами прежде всего как
революция «простого человека» (der gemeine Mann), под каковым понимался
не только обычный человек из низших классов, но и член «общины»
или «коммуны» корпоративного города или прихода32. Подобная
демократизация, несомненно, весьма напоминала ситуацию в Богемии
в 1419-1420 гг. Этот религиозно-коммунальный всплеск придал пе-
100
риоду расцвета немецкой Реформации полуреволюционный
характер. В нем приняли участие представители всех корпоративных
категорий, от самой верхушки до низов сословной структуры. В какой-то
момент они, казалось, собрались выступить против старой церкви
единым фронтом.
Прелюдией к ожидаемому всеобщему восстанию послужил
мятеж имперских рыцарей фон Гуттена и фон Зиккингена. В 1523 г. эти
дон-кихоты из приходящего в упадок сословия ополчились против
одного из князей церкви - курфюрста-архиепископа Трирского. Так
как учение Лютера подорвало позиции «первого сословия» в
империи, дерзкая парочка решила секуляризовать архиепископские земли
в пользу массы рыцарства юго-западной Германии. Они также
стремились создать прецедент для ликвидации других многочисленных
и обширных церковных княжеств. Однако их военная авантюра
закончилась весьма плачевно: архаичная фигура вольного имперского
рыцаря не шла ни в какое сравнение с новыми наемными войсками
императора.
Главным же восстанием стала Крестьянская война 1525 г. Это
действительно было самое масштабное и наиболее радикальное
социальное движение в Европе до Французской революции. Ранке не
менее убедительно, чем Энгельс, доказывал его центральное место р
немецкой истории и признавал его подлинно революционный
характер. Вспыхнув осенью 1524 г. на Боденском озере, пламя мятежа уже
на следующий год перекинулось в Швабию и южную Германию,
затем на север в Тюрингию и Саксонию, на восток в Австрию и Тироль,
на запад в Эльзас. На Верхнем Рейне крупные крестьянские
волнения происходили и ранее: в различные периоды с 1490 г. там
поднималось «знамя башмака» (с изображением тяжелой обуви, которую
обычно носили крестьяне); уже в 1514 г. Вюртемберг сотрясло
восстание общества «Бедный Конрад». Бунтовщики также прибегали
к религиозному оправданию своих действий «благочестивым
законом». Учитывая данную предысторию, можно сказать, что даже бер
лютеровской Реформации на тех же землях следовало ожидать
дальнейших крестьянских волнений. А религиозное брожение,
спровоцированное Лютером, придало новому крестьянскому бунту
беспрецедентные масштабы и мощь.
Но после одной бурной весны это мощное движение захлебнулось
в крови. Более того, его провал, наконец, погасил импульс
революционных перемен, данный Лютером в 1517 г. Конечно, Реформация
по-прежнему порождала радикальные преобразования в Германии
и за ее пределами. Однако теперь это происходило в виде череды нр
столь серьезных вспышек; непрерывный стремительный поток изме-
101
нений иссяк. Обречена также оказалась идея всеобщего священства.
Пасторы, магистраты и князья Реформации, ее интеллектуальные и
политические лидеры больше не предлагали простому человеку
вместе с ними очищать церковь и нести Слово Божье. Реформирование с
тех пор осуществлялось исключительно сверху.
Хотя в начале XVI в. наблюдался экономический рост, но
наряду с ним росли и цены, что заставляло светских и церковных владык
увеличивать бремя податей для своих крестьян. Это давление
постоянно ужесточалось, и крестьянская жизнь ухудшалась на
протяжении всего предыдущего столетия, а особенно в последние
десятилетия перед 1525 г.33 В юго-восточной Германии началось возрождение
крепостничества, практически повсеместно упраздненного еще в
XIII в. Это стало прелюдией ко «второму закрепощению», которое
до конца века восторжествует на территориях к востоку от Эльбы.
Конечно, одной из причин повышения фискального давления
являлась деятельность местных князей по строительству государства,
однако на монастырских крестьян ложилось даже более тяжелое бремя.
Соответственно главной мишенью для бунтовщиков служили князья
и аббаты. Крестьяне, которые находились в подчинении у владевших
их землями городов, питали меньше враждебности к своим
хозяевам. После того как в 1522-1523 гг. по вольным имперским городам
региона прокатилась волна муниципальных преобразований, город
демонстрировал образец организованного, коммунального,
самодостаточного хозяйства. По сути, между ним и деревней существовал
некий довольно глубокий симбиоз. К тому же крестьяне видели
пример успешного республиканского восстания в соседней Швейцарии,
а в качестве предводителей могли выбрать наемников-ландскнехтов,
в большом количестве живших среди них.
Под влиянием этих многочисленных стимулов у крестьян в
начале века стало развиваться некоторое политическое сознание. Так
как местные князья консолидировали свою законодательную и
административную власть, заменяя обычное право римским, крестьяне в
ответ пытались организовывать территориальные собрания -
ландшафты (Landschaften), частично объединяясь с прежними местными
сословиями против господ (Herrschaften). Таким образом,
формирование политического сознания крестьян приняло облик борьбы
устаревшего обычного права против современного, универсального
римского права. И именно в этот момент вызов Лютера
существующему церковному устройству с требованием всеобщего священства
верующих по божественному закону Слова Христова дал крестьянам
новое оружие против господских законов: Божий Закон Евангелия34.
102
После 1524 г. конкретные социально-экономические претензии
крестьянства слились с идеей христианской свободы,
проповедуемой Лютером и другими реформаторами. В обществе, где высший
принцип легитимности носил теологический характер, крестьянский
протест приобрел теперь благословение свыше. Не менее важное
значение для влияния Реформации на «революцию простого человека»
имел пример успешного противостояния Лютера папе и императору -
верховным правителям христианского мира. Как только это
случилось, все стало возможным в мире «двух мечей».
Летом 1524 г. крестьяне юга и центра Германии создавали
вооруженные отряды, препятствуя сбору податей и выступая против
фискальных обязательств перед церковью, особенно по выплате
десятины и феодальных податей монастырям. Чрезвычайная
раздробленность власти в южной Германии сильно облегчала их
деятельность. Подчиненный императору Швабский союз дворянства и
городов (большинство его войск тогда сражались в Италии в войне
Габсбургов против Валуа) шесть месяцев вел переговоры с
крестьянами, и в этот период крестьянские протесты оставались мирными.
Лишенные центрального управления, различные отряды
формулировали разные требования, обычно с помощью лидеров-горожан, в
частности радикального духовенства, связанного с идущими, и
зачастую весьма бурно, муниципальными реформами.
Самый известный документ подобного рода - «Двенадцать
статей», которые, как мы видели, начали распространяться из южного
города Мемминген в феврале 1525 г. Написанный довольно
умеренным тоном, вероятно, не вполне отражавшим истинные чувства
крестьян, этот манифест скорее реформистский, чем
революционный. Один из его основных пунктов утверждает право каждой
общины свободно выбирать себе пастора - общераспространенное
требование в Германии того времени. В других статьях выражается
согласие выплачивать «справедливую зерновую десятину» при
отмене остальных «мелких поборов». Крепостная зависимость
осуждается как «противная Писанию и христианской свободе». Эта статья
содержит одновременно конкретное требование и утверждение
права крестьян на более справедливое положение в обществе в качестве
религиозного и морального принципа. Далее идут притязания на
права охоты, рыбной ловли, рубки деревьев в общинных лесах,
протест против чрезмерных манориальных податей и трудовых
повинностей. Некоторые статьи направлены против расширения
формального римского права в ущерб «старому писаному закону», в основе
которого лежали обычаи, существовавшие с незапамятных времен.
Собственно, в ряде других списков претензий крестьяне призывали
103
к возрождению центральной имперской власти, с одной стороны, как
защиты от князей и рыцарей, а с другой - как средства укрепления
германской нации. Наконец, в последней двенадцатой статье авторы
заявляют о готовности исключить любые статьи, противные Слову
Божьему. Они также обещают применять силу только в крайнем
случае и призывают курфюрста Саксонского и великого пророка
христианской свободы Лютера представить их требования на суд
имперских властей.
Восстание обострило крестьянское политическое сознание.
Отчасти это произошло потому, что, несмотря на преобладание
крестьян в отрядах революции 1525 г., значительное участие в ней
приняли городские ремесленники, а в некоторых регионах - шахтеры,
принеся больше искушенности в защиту дела «простого человека».
В результате восстание породило на свет ряд, можно сказать,
конституционных проектов или, по крайней мере, предложений.
Большинство из них представляло собой вариации на тему
территориальных собраний-ландшафтов, которым теперь придавалась
«корпоративно-ассоциативная» форма. Иными словами, основой нового
политического порядка предполагались добровольные объединения
социальных, цехового типа, «корпусов» крестьян, ремесленников,
шахтеров или иных категорий простых людей, стоящих ниже двух
первых сословий и городской олигархии. В Вюртемберге, Зальцбурге,
Тироле и кое-где в других местах были предложены разные типы
собраний, в зависимости от местных условий, однако во всех вариантах
духовенство и знать в них не включались, только народные
корпорации под сильно ограниченной властью местного князя. Поэтому
в современной историографии бунт простолюдинов трактуется как
своего рода ранне демократическая революция.
Сначала крестьянские отряды действительно воздерживались
от насилия. Но к концу апреля 1525 г. по сельской местности
бродило свыше 300 тыс. вооруженных людей, и некоторые из отрядов
неизбежно начали грабить, разрушать монастыри, совершать набеги
на дворянские владения. Когда восстание докатилось до Тюрингии,
Лютер сам отправился в деревню, убеждая крестьян, что
христианскую свободу следует понимать «в духовном плане, а не в плотском»,
и вернулся напуганный их гневом. Со своей стороны, правительство
эрцгерцога Фердинанда, брата Карла V, теперь только притворялось,
будто ведет переговоры, стремясь выиграть время для мобилизации
войск. Притом раздробленность политической власти в Германии не
предоставляла крестьянам центральной мишени для атаки: там не
было ни Бастилии, которую можно взять штурмом, ни
национального парламента, который можно заставить принять требования
восставших. Да и не могли крестьяне долго оставаться под ружьем; после
104
двух недель на большой дороге им приходилось возвращаться домой
и выходить в поле. Когда апрель сменился маем, бесцельное
движение «простого человека», «мужика» (Karsthans) вырвалось из-под
контроля. Как ранее в Богемии, повсюду особую ненависть вызывало
все, связанное с учением и книгами. В некоторых местах восстание
привлекло последних представителей революционного рыцарства,
таких, как Гёц фон Берлихинген. В других - получило поддержку
ремесленников из мелких городков. И, конечно же, оно притягивало
радикальных клириков и пророков-милленариев, самый яркий тому
пример - Томас Мюнцер. Однако подавляющее превосходство в силе
все же оставалось на стороне князей, а не народных масс. К концу
июня восстание практически везде было подавлено ценой
нескольких сотен тысяч жизней.
Могло ли сложиться по-другому? Бликле и другие его
единомышленники среди современных историков утверждают, что могло.
Некоторые имперские города, например Эрфурт и Мемминген,
сумели наладить сосуществование с крестьянскими отрядами. Поэтому
можно вообразить себе победу крестьян и городских общин, ведущую
к чему-то вроде швейцарской системы. Но республиканско-федера-
листская Швейцария выжила в основном благодаря естественной
защите в виде Альп. На открытых же пространствах империи
панъевропейская логика строительства современного государства
совершенно противоречила такой раннедемократической революции.
И князья это хорошо понимали. Их упорное нежелание вести
переговоры в чем-то напоминает политику Адольфа Тьера по принципу «чем
хуже, тем лучше» в отношении Парижской коммуны. Столкнувшись
с размахом восстания 1525 г., они предпочли полностью разгромить
крестьян, дабы раз и навсегда покончить с угрозой со стороны
деревенского «башмака». Стратегия князей увенчалась успехом, так же
как действия Тьера положили конец парижской повстанческой
традиции. Потом немецким крестьянам сделали небольшие уступки, и
до XIX в. их не было слышно.
Мюнстерская коммуна
Несмотря на то что первая большая вспышка Реформации-
революции в 1525 г. закончилась, общенациональное, а по сути -
европейское, реформационное движение, вдохновленное Лютером,
отнюдь не заглохло. В самой Германии дисперсность политической
власти превратила его в череду локальных реформации. После 1525 г.
местные князья взяли руководство им на себя, проводя реформы
сверху, особенно в бедных землях «новой» Германии к востоку от
105
Эльбы. Аналогичные примеры наблюдались в скандинавских
королевствах и во владениях орденов крестоносцев в Прибалтике. Теперь,
однако, подобные переходы в другую веру стали довольно
«рутинной» революцией. В вольных имперских городах севера Реформация
тоже главным образом оставалась в «магистерских» рамках. Но в
одном случае - в епископском городе Мюнстере - неизбежные
радикальные последствия реформы стремительно достигли
беспрецедентной мощности.
В лице Мюнстерской коммуны 1534-1535 гг. Германия получила
настоящий, хотя и строго локализованный «Табор». Действительно,
за 16 месяцев существования коммуны город пережил
максимально полный революционный цикл, впервые открытый гуситской
Богемией35. Так вышло, потому что «система революционных
альянсов», сломанная на юге в 1525 г., полностью реализовала здесь свой
радикальный потенциал и отдала всю власть народу или, точнее, его
«бешеным» лидерам. Тут мечта Мюнцера, наконец, сбылась во всем
своем апокалиптическом масштабе.
К столь страшному результату привело слияние стандартной
германской коммунальной Реформации, пришедшей на север с
запозданием, и мельхиоризма - эсхатологического варианта
анабаптизма, центр которого находился в соседней Голландии. Реформация в
Мюнстере, самоуправляющемся городе с населением около 15 тыс.
чел., началась в 1531 г. под руководством Бернгарда Ротмана,
энергичного священника, перешедшего в лютеранство и пользовавшегося
поддержкой цехов. К 1533 г. реформы были признаны в договоре с не
проживающим в городе епископом и защищались фактическим
религиозным перемирием, установленным «Аугсбургским исповеданием»
1530 г. Со временем, однако, взгляды Ротмана радикализировались:
под влиянием последователей Цвингли, изгнанных из близлежащего
Вассенберга, он принял символическое толкование причастия,
которое не было защищено положениями «Аугсбурского исповедания».
И с этого момента мюнстерская реформация стала считаться
незаконной. Епископ угрожал; лютеранская и католическая верхушка
совместно пыталась выдворить Ротмана из города. Тот призвал на
помощь цеха и заставил городской совет уступить. Мюнстер
превратился в оплот толерантности, притягивавший наиболее радикально
настроенных энтузиастов, то есть анабаптистов36.
После разгрома швейцарских анабаптистов-пацифистов в 1525 г.
движение распространилось на восток в Моравию, где его
приверженцы под названием гуттеритов организовали
сельскохозяйственные общины, и на север в Рейнланд, где бывший скорняк и
мирской проповедник Мельхиор Гофман, некогда испытавший
106
влияние Карлштадта, добавил к основополагающей идее
крещения верующих милленаристские пророчества. В 1529 г. он приехал
в Страсбург, в котором тогда завершался восьмилетний переход к
реформе. Нерешительность местных реформаторов сделала город
почти такой же гаванью терпимости, какой станет Мюнстер в 1533 г.
Туда стекались радикалы всех мастей, включая испанского унитария
Мигеля Сервета. Здешнее брожение убедило Гофмана, что
именно Страсбургу предназначено стать священным городом последних
дней человечества и местом второго пришествия Христа. Взяв на
себя роль пророка Илии из Откровения Иоанна, он предсказал своим
последователям, что конец света наступит в 1533 г.37 Затем
отправился вниз по Рейну в Нидерланды, чья экономика переживала
особенно трудные времена, и своими проповедями приобрел там массу
поклонников среди ремесленников и бедноты. Вернувшись в Страсбург
в 1533 г., он обнаружил, что Буцер, подобно Лютеру в 1522 г.
и Цвингли в 1525 г., решил обуздать Schwärmerei. Сам Гофман был
арестован и пробыл в тюрьме до конца своих дней. Однако
нидерландские «мельхиориты» под предводительством пекаря Яна Матиса
продолжали ожидать конца света и в том же 1533 г. совершили
неумелую попытку захватить власть в Амстердаме. Затем Матис
прослышал о чудесной революции в Мюнстере и отправил туда
«апостолов» с миссией убедить Ротмана согласиться с принципом крещения
взрослых. Кроме того, из Страсбурга в Мюнстер проникли
эсхатологические ожидания мельхиоритов. Город теперь вдвойне
преступил рамки имперских законов, и епископ на легальных основаниях
объявил ему «усобицу». Трагедия 1525 г. не научила
нижнегерманских и голландских Schwärmer осторожности, поскольку великое
восстание и его последующее подавление не затронули северные
территории.
В феврале 1534 г. умеренные члены городского совета впустили в
город несколько отрядов епископских войск, тем самым побудив
ранее мирных анабаптистов Мюнстера взяться за оружие, чтобы
защитить Ротмана и цеха. Встретив такой отпор, совет передумал, так как
имел больше оснований бояться епископа, который угрожал
гражданской независимости города, чем анабаптистов и цехов. После
щедрого угощения пивом люди епископа послушались приказа совета и
ушли из Мюнстера - Ротман и его «избранное стадо» были спасены.
Это «чудо» повсеместно убедило мельхиоритов, что ныне священный
город второго пришествия - Мюнстер. Когда через несколько дней
состоялись муниципальные выборы, анабаптисты ловко одержали
на них победу. Ключевым моментом в данной ситуации является тот
факт, что мюнстерские анабаптисты пришли к власти законным
путем, имея за спиной массовую поддержку общественности. Новый
107
совет избрал одним из бургомистров Бернарда Книппердоллинка,
богатого торговца тканями, отнюдь не «пророка». «Система
революционных альянсов» воспроизвела «Табор» в одном отдельно взятом
городе, как исключительный для Германии случай. Мюнстерское
чудо окончательно свершилось: мельхиориты из
диссидентов-изгоев превратились в начальство (Obrigkeit). Несомненно, этому городу
Божьей волей предстояло стать Новым Иерусалимом.
Вскоре Матис сам приехал в Мюнстер вместе с портным Яном
Лейденским и другими голландскими анабаптистами. Объявив
себя Енохом при заключенном в тюрьму Гофмане-Илии, Матис
начал свое шестимесячное правление в качестве неконституционного
харизматичного лидера. Ротман стал его рупором, писал апологии
и воззвания к другим сектантам с просьбой о поддержке. Поначалу
Матис хотел истребить всех «нечестивцев», однако Книппердоллинк
уговорил его отпустить из города около двух тысяч лютеран и
католиков. На их место немедленно прибыли примерно 2 500
анабаптистов с окрестных земель. Имущество эмигрантов было
конфисковано, вся собственность передана в общее пользование, город взял на
себя контроль над продовольственным снабжением, денежное
обращение заменялось бартером (хотя конфискованные ценности
город хранил для расчетов с внешним миром). Официально городское
устройство не упразднили, но фактически всем заправляли
двенадцать старейшин, назначенные Матисом. Такой «коммунистический»
строй отчасти соответствовал условиям осадного положения, а
вместе с тем отражал вечную мечту сектантов об обществе наподобие
первохристианской церкви, как она описана в «Деяниях святых
апостолов». Двадцатью годами ранее аналогичную картину нарисовал в
«Утопии» Томас Мор.
Правление Матиса внезапно закончилось в апреле 1534 г., когда
он совершил вылазку против осаждающих, дабы, по его словам,
одержать «чудесную» победу. Может быть, он таким образом покончил -с
собой, поскольку его пророчества не сбылись?38 Руководство тут же
принял на себя Ян Лейденский, но эсхатологический энтузиазм
пошел на убыль. Все усилия по привлечению сотен новых сторонников
из Голландии пресекались габсбургскими властями. Попытка
переворота в Амстердаме, предпринятая на Пасху, завершилась кровавой
резней мельхиоритов. Кольцо осады сжималось.
Ян Лейденский в ответ на это решил институционализировать ха-
ризматичное лидерство мельхиоритов, превратив его в постоянный
балаган на соборной площади. После отражения атаки епископа в
августе один из собратьев-пророков провозгласил Яна Лейденского
царем на манер Давида. «Царь» окружил себя придворными, под-
108
ражал церемониям императорского двора и пожаловал двенадцати
старейшинам герцогский титул. Он заявлял, что в один прекрасный
день его царство распространится на весь мир, и даровал своим
«герцогам» громадные иноземные владения. Более прагматичный
поступок «царя» - укрепившее его власть назначение богатого купца
Книппердоллинка вице-регентом. Но самым одиозным новшеством
оказалось введение принудительного многоженства. Разве царь
Давид и патриархи не придерживались этого обычая? А в Мюнстере,
где до конца света надлежало, согласно Откровению Иоанна (7:4),
вырастить 144 тысячи «запечатленных», женщин было больше, чем
мужчин. Подобная мера вызвала мятеж среди городских скептиков,
по-видимому, довольно многочисленных, но Ян Лейденский
подавил его, казнив 50 бунтовщиков. Он убил одну из собственных
непослушных жен и попрал ее тело ногами на городской площади. Террор
стал главным методом его правления. Жуткая смесь социальных
бедствий, военного положения и визионерского милленаризма
позволила коммуне продержаться до июня 1535 г., когда войска католическо-
протестантской коалиции взяли город штурмом, перебив жителей.
Ротман погиб в бою. Яна Лейденского и Книппердоллинка пытали и
затем публично казнили. Их останки подвесили в железной клетке на
церковной колокольне. Пустая клетка по сей день продолжает висеть
на том же месте.
Практическое влияние Мюнстерской коммуны на развитие
Реформации заключалось лишь в том, что она предоставила лидерам -
«магистрам» впечатляющее основание для ненависти к Schwärmerei.
Никаких уроков для современного социального радикализма
коммуна также не дала. Однако она представляет немалый интерес в том
смысле, что проливает свет на основные механизмы европейского
революционного процесса. Во-первых, она показывает, что в
революции, движимой религией, теология - не просто прикрытие для
политических или социальных претензий. Скорее, теология
определяет политическую ориентацию и одерживает верх над социальными
соображениями. Приятие или отрицание «истинного присутствия»
разделяет умеренных и радикалов во всех реформированных
церковных общинах. Аналогично вопрос о крещении детей или взрослых
отделял ультрарадикалов от остальной части церковно-политическо-
го спектра, так же как вопрос о мирном или принудительном
крещении верующих раскалывал ультрарадикалов на более толерантных,
зачастую весьма достойных, сектантов и безнадежно асоциальных
преступников-анархистов. А споры о таинствах, особенно таинстве
причащения, будут играть центральную роль в революционной
политике вплоть до 1688 г.
109
Во-вторых, Мюнстер подтверждает «закономерность», которую
впервые продемонстрировала гуситская революция: степень
радикализма любого переворота зависит от широты охвата «системы
революционных альянсов». В Мюнстере система включала всех, и это
позволило в обычном процессе городской коммунальной Реформации
применять самые крайние социальные меры, сохраняя прежние
иерархические корпоративные структуры практически
нетронутыми. В конце концов, мюнстерский «коммунизм» на деле зашел не
слишком далеко: «благочестивые» сохранили имущество и
собственность, им разве что приходилось держать двери открытыми, с
загородками на половину высоты - дабы не пускать в дом кур и свиней.
Но такая всеохватность, конечно, не способна была предотвратить
крушение, потому что мини-революция в единственном городе не
могла победить в окружении нереволюционного общества. В случае
с Табором та же модель породила военную машину, способную
завоевать государственную власть, именно ввиду революционности всего
общества. Однако табориты утратили свои первоначальные
коммунистические стремления, оставшись только военной машиной. В
соответствии с перевернутой логикой утопии обе коммуны - Таборская
и Мюнстерская - предполагают параллели с современными
вариантами милленаризма «осажденных» у якобинцев и большевиков; к
этим аналогиям мы еще вернемся в свое время.
Одним из итогов событий в Мюнстере стало укрощение
анабаптизма. Эксцессы в коммуне Яна Лейденского дискредитировали
насилие и революцию, даже грозили дискредитировать сектантскую
религию как таковую. Поэтому в конечном счете Менно Симоне
реорганизовал в Нидерландах уцелевшие группы анабаптистов,
превратив их в общины, исповедующие пацифизм и нравственную
жизнь в апостольской чистоте. Послереволюционное перерождение
анабаптизма в меннонизм повторяет трансформацию одного крыла
таборитов в Чешское братство, а также предвосхищает превращение
воинствующих английских индепендентов в квакеров. Здесь
совершенно очевидна немаловажная закономерность милленаристских
революционных движений.
Наследие анабаптизма этим не ограничивается. Мифы о Мюльхау-
зене при Мюнцере и о Мюнстерской коммуне живут как символы
«предательства» Реформацией собственных евангелических
обещаний. В этом отношении оба примера могут рассматриваться как
грубая аналогия с левеллерами и диггерами в Англии и с французскими
бабувистами - двумя посттермидорианскими всплесками
отчаянного радикализма, о которых постоянно говорят, осуждая изъяны
радикального кальвинизма и якобинства соответственно. Ни тот, ни
НО
другой эпизод не привел к каким-либо особым результатам, но оба
стали предвестием схожих и гораздо более дерзких революционных
авантюр в будущем. Правда, Мюнстер все равно остается аномалией
Реформации.
Революция без термидора?
А что же магистральное движение? Когда оно дошло и дошло ли
до своего термидора? Термидор, проще говоря, означает конец
прогрессивного скачка революционных перемен наряду с угасанием
«лихорадки» энтузиазма. Очевидно, что 1525 г. ознаменовал
ослабление обеих тенденций, хотя на протяжении века они периодически
снова будут возникать не только в Мюнстере, но и в других частях
Европы. Чем же завершилась исходная германская и лютеранская
«Реформация как революция»?
После событий 1525 г. лютеранское движение начало принимать
стабильную доктринальную и организационную форму. Прежде
всего четко размежевались церкви Виттенберга и Цюриха. Яблоком
раздора снова послужил главный обряд христианства - причастие.
Хотя Лютер отвергал римскую доктрину пресуществления, он, тем не
менее, твердо придерживался принципа «истинного присутствия»;
причастие и крещение, таким образом, оставались для него
подлинными святыми таинствами, необходимыми для спасения. С другой
стороны, Цвингли и его последователи, которых теперь именовали
«сакраментариями», полагали, что Тайная вечеря представляла
собой исключительно памятное событие и не сопровождалась
никакими превращениями хлеба и вина - а следовательно, не являлась
таинством в обычном смысле. В 1529 г. два лидера встретились на
обсуждении в Марбурге, однако им не удалось преодолеть
разногласия. Дальше оба течения пошли разными путями в условиях роста
взаимной неприязни. Так начался процесс раскола протестантства,
да и самой Германии в целом, известный под названием «конфессио-
нализации». Цвинглианство, ограниченное территорией Швейцарии
и некоторыми городами Верхнего Рейна, в конечном счете
сблизилось с кальвинизмом. А большинство южногерманских городов
последовали за Лютером - в силу сложившейся в империи новой
политической конфигурации.
В 1530 г. император Карл V вернулся в Германию после почти
десяти лет отсутствия, в течение которых он занимался устройством
дел в Испании и Италии, а также противостоял турецкой угрозе со
стороны Средиземноморья. После осуждения Лютера Вормсским
рейхстагом его последователи стали бороться за «свободный» цер-
111
ковный собор, который будет созван не папой и пройдет на
германской земле. Император тоже хотел собора в Германии, но в
соответствии с идеологией «двух мечей» считал, что созывать его все-таки
должен папа. Папский престол тянул резину, опасаясь, что собор в
Германии под эгидой императора либо пойдет на слишком большие
уступки лютеранам, либо ограничит власть папы, как в
действительности уже произошло на Констанцском и Базельском соборах. Пока
дело стояло на месте, религиозная рознь в Германии усугублялась,
перерастая в раскол. Стремясь предотвратить его, Карл попытался
решить религиозный вопрос путем дебатов теологов с обеих сторон
на специальном рейхстаге в Аугсбурге в 1530 г. Ради этого Лютер и
его ближайший помощник Филипп Меланхтон впервые
систематизировали кредо виттенбергской церкви, Цвингли сделал то же самое
для цюрихской общины. Хотя раскол преодолеть так и не удалось,
«Аугсбургское исповедание» Меланхтона стало официальным
символом веры теперь уже отдельной лютеранской церкви, а документ
Цвингли лег в основу «Гельветского исповедания» ее соперницы.
В следующем году процесс конфессионализации шагнул вперед
с образованием Шмалькальденской лиги - оборонительного
альянса протестантских князей и большинства южногерманских городов.
Поскольку реальную силу в лиге представляли князья-лютеране, они
навязали «Аугсбургское исповедание» всем ее членам, тем самым
уведя города южной Германии с орбиты Цвингли на орбиту Лютера39.
Гибель Цвингли в сражении в том же году немало способствовала
такому решению. Этими событиями завершилась основополагающая
фаза Реформации.
К тому времени Лютер постепенно отказался от многих своих
радикальных убеждений 1519-1520 гг. Мы уже видели, что он
настаивал на строго традиционной интерпретации причастия, равно как
обрядов, церковного облачения, живописи и музыки. Еще больше
он уступил в вопросе церковной организации. В 1526 г., сразу после
Крестьянской войны, курфюрст Саксонский организовал первую
«визитацию» в своих владениях для наблюдения за
функционированием новой церкви. Вскоре этот мирской контроль получил
институциональную форму «консистории» - совета представителей
духовенства и светских властей, назначаемых курфюрстом. После 1530 г.,
когда Реформация превратилась в рутинную процедуру, такая
модель стала применяться в разных княжествах. Подобный исход
логически соответствовал воззрениям Лютера на оппозицию духовного
и мирского царств. Первое было представлено видимой церковью и
ее живым ядром - «христианским телом» (corpus christianum), или
меньшинством истинно спасенных; второе - царство насилия и зла -
112
могла удержать в узде только твердая рука княжеской власти. И все,
чего церковь требовала от этой власти, - гарантировать, что
«проповедуется истинное Слово Божие и должным образом совершаются
таинства»40.
Мир с Францией, заключенный в 1544 г., наконец, позволил
Карлу V приступить к решительным действиям в Германии. В
следующем же году он одержал блестящую победу над войсками Шмаль-
кальденской лиги в битве под Мюльбергом. Полагая, что теперь
продвижение протестантства навсегда остановлено, и по-прежнему
ожидая созыва вселенского собора, Карл предложил компромиссное,
по его мнению, решение - «Интерим». Этот документ, по сути, больше
проримский, нежели лютеранский, никого не удовлетворил. В 1547 г.
главный союзник императора из числа князей перешел на другую
сторону, и Карла вытеснили из центральной Германии в австрийский
Тироль. Первая религиозная война в Европе закончилась вничью,
что было официально признано Аугсбургским миром, заключенным
в 1555 г. Он зафиксировал конфессиональное разделение Германии
по принципу, сформулированному позже словами «чья земля, того и
вера» (cuius regio, eius religio). Несогласные с такой формулой имели
только право эмиграции (ius emigrandi).
Хотя формально подобный порядок сохранял единство империи,
так как Реформация по-прежнему исходила из идеи единства церкви
и общества, религиозное разделение, узаконенное Аугсбургским
миром, фактически раскалывало и государственное устройство. Таким
образом, 1555 г. ознаменовался победой местных князей над
стремлением Габсбургов к централизации. Усилия, которые всю жизнь
прилагал Карл V, чтобы сохранить мир «двух мечей», потерпели крах.
Поражение заставило Карла отказаться от императорского престола
и австрийских земель в пользу брата Фердинанда. Сам Карл уехал в
Нидерланды, передав остальные владения сыну Филиппу.
Эти события, конечно, не означали конца революционного
прогресса протестантства. Во второй половине столетия протестантское
движение переживет еще несколько вспышек, а затем прогремит в
середине следующего века Тридцатилетней войной на европейском
континенте и пуританской революцией в Англии. Потому у Реформации
как революции нет ни термидора, ни, собственно, конкретной даты
окончания. Она просто продолжалась в виде «многосерийной»
революции, пока в конце XVII в. светское Просвещение не затмило
религию в роли главной движущей силы в европейской культуре. И все
же внутри этой longue durée каждый отдельный эпизод Реформации
имеет конец, и 1555 г. стал конечной датой первоначальной лютеров-
ской революции: большого прогрессивного скачка 1517-1525 гг. и
долгой консолидации конфессионализма в 1525-1555 гг.
113
Критический разбор прерванной революции
Большой вопрос относительно Реформации как революции:
почему эта революция остановилась на полпути в 1525 г.? Или, если
рассматривать ту же проблему в сравнительной перспективе:
почему в Богемии все социальные слои - духовенство, магнаты, рыцари,
горожане, ремесленники, крестьяне - объединились в утраквистской
революции, а в Германии те же самые слои разделились в самый
разгар событий, тем самым внезапно положив конец революционной
фазе лютеранства?
Одним из первых над этой проблемой бился Фридрих Энгельс в
работе «Крестьянская война в Германии». В своем 1850 г. он
рассматривал события 1525 г. сквозь призму другой неудавшейся
германской революции - 1848 г. С точки зрения Энгельса, Реформация
стала «раннебуржуазной революцией», а провалилась, потому что, когда
движение обратилось к неизбежно необходимому насилию,
«умеренные либералы» во главе с Лютером предали протопролетарский
плебс под предводительством Мюнцера. Тот же сценарий с другими
актерами он увидел в 1848 г. Взгляды Энгельса на события 1848 г.
(но не 1525 г.) сходны с выводом Билефельдской школы XX в., что
Германия пошла к современности «особым путем» (Sonderweg) как
раз из-за «провала демократической революции» 1848 г.41 А если
Германия пережила две неудавшиеся революции, не значит ли это,
что над ее национальной судьбой тяготеет некое «проклятие
консерватизма»42? Так или иначе, все равно остается вопрос: почему в обоих
случаях неудачных революций немецкие умеренные не заключили
пакта с плебейской чернью, как сделали им подобные в Богемии в
XV в., а также в других местах позже?
Такой исход обусловлен многими причинами. Наиболее
очевидная из них: размах плебейского насилия в 1525 г. заставил все
прочие элементы общества сплотиться с целью его подавления. Не менее
очевидно, что брат императора и регент Фердинанд, князья,
некоторые из свободных городов вместе с новой и старой церковью имели
превосходство в силе и институциональной легитимности над
бродячими крестьянскими бандами. Но сравнение с гуситской Богемией
раскрывает еще более широкий спектр причин.
Во-первых, фактор удачи и личности. Томас Мюнцер не был
Яном Желивским - человеком, обладавшим, при всем своем
необузданном фанатизме, истинно лидерскими качествами и
организаторскими способностями. Точно так же в рядах немецкого рыцарства не
нашлось Яна Жижки, в лице которого немецкие Schwärmer обрели
бы собственный светский «меч». Франц фон Зиккинген и Гёц фон
114
Берлихинген - всего лишь мелкие кондотьеры. Еще одно отличие
заключается в том, что Лютер, харизматичный пророк
германского движения, в отличие от Гуса, оставался в живых. При поддержке
большинства церковных реформаторов он нарочито лишил
восстание моральной легитимности, санкции Слова Божьего. В памфлете
«Против разбойных и грабительских шаек крестьян», написанном
в весьма суровых выражениях, Лютер напомнил заповедь Святого
Павла: «Каждый да повинуется власти». Тем самым он всецело
одобрил военные репрессии со стороны князей. В эпоху, когда Закон
Божий служил для человека высшим законом, такой
«идеологический» или культурный фактор имел огромное значение.
Во-вторых, на сцену выступают структурные факторы, начиная
с новой теологии Лютера. Реформатор так яростно осуждал
крестьян, поскольку справедливо подозревал, что их движение тяготеет к
Мюнцеровой программе оправдания разрушением, а в его глазах
подобная милленаристская пародия на Слово имела не менее
сатанинскую природу, чем римский Антихрист. Короче, для Лютера в борьбе
с крестьянами на кону стояло, ни много ни мало, будущее дела Божия
в мире сем. Отрекшись от крестьян в 1525 г., Лютер начертал
границу, за которую его Реформация не выйдет, дабы не впасть в ересь.
И эта граница проходила между церковью, сосуществующей с
обществом, то есть старым «христианским миром» в новой форме, и
сектантским раздроблением единой церкви на основе мнимого
вдохновения Святым Духом. Разумеется, князья и городские магистраты
придерживались такого же взгляда на нерушимое единство церкви
и общества. Хотя крестьяне разделяли кооперативно-ассоциативное
представление о «хорошем» обществе, требуемая ими радикальная
деконструкция церкви практически вела к ее полной локализации и
сектантскому сепаратизму.
В результате всех этих факторов в Германии не получилось
Табора - только такие злополучные вспышки плебейского движения, как
в Мюльхаузене в 1525 г. и особенно в Мюнстере в 1536 г. Не
сложилось и ничего похожего на плебейско-патрицианский альянс Табора
и Праги. На этот счет Энгельс прав. Хотя он совершенно не понимал
Мюнцера, поскольку не мог воспринимать его религиозные мотивы
всерьез, зато верно подметил, что система политических альянсов
управляет революционным процессом. Реформация как революция
была прервана из-за невозможности расширить ее систему альянсов
до включения туда самого радикального и демократического
элемента. Любое революционное движение, которое преступает границы
своего радикального потенциала, нуждается в союзе с плебсом,
противоречащем естественным правилам политики43. В Богемии летом
115
1419 г. жгли монастыри, но это не примирило крупных магнатов и
Прагу с императором Сигизмундом. Кромвелевская «армия нового
образца» кишела демократами - левеллерами и индепендентами, но
Зто не помешало ее четырехлетнему сотрудничеству с
пресвитерианским парламентом из представителей высших классов. В августе
1789 г. во Франции горели замки, но это не затормозило
реформаторской деятельности Законодательного собрания, не толкнуло его
rt Людовику XVI, а юристы-якобинцы не побоялись поднять
парижских санкюлотов против всех врагов республики. Таким образом,
главное объяснение неудачи в Германии заключается в следующем:
лидеры чешского, английского и французского гражданского
общества чувствовали, что им следует больше опасаться вооруженной
силы прежнего повелителя, нежели плебейского буйства, а
германские князья и городские магистраты видели более серьезную угрозу
do стороны сорвавшегося с цепи «простого человека», чем со стороны
государя-императора. Реформация-революция против «первого
сословия» так и не вышла за пределы этой основной цели, поскольку
обладатели светского «меча» боролись за сохранение и расширение
своих традиционных позиций.
Но удалось ли полностью убрать духовный «меч»? В конечном
счете лютеранская Германия осталась миром, где церковь и
община продолжали сосуществовать нераздельно. Разумеется, духовный
«меч» затупился, а светский, хотя бы на местном, если не на
имперском уровне, приобрел гораздо больше могущества, чем раньше,
обеспечив себе право вмешиваться в церковные дела куда сильнее,
нежели допустил бы Рим до 1517 г. Все это означало для церкви
существенное снижение авторитета и утрату мирского владычества.
Тем не менее лютеранский пастор еще не стал просто одним из лиц
свободной профессии, хотя как человек с университетским
образованием формально принадлежал к данной категории. Он имел
призвание (Beruf), более высокое, чем обычное мирское призвание, которое,
с точки зрения Лютера, должны исполнять все верующие. Его
служба (Amt) состояла в том, чтобы проповедовать спасительное Слово
Божье, это отделяло пастора от обычного христианина и возносило
над ним. Несмотря на пониженный статус, протестантское пасторство
осталось некой клерикальной кастой, напоминающей старое «первое
сословие». Так что и в этом отношении Реформация-революция не
имеет окончательного завершения.
Кто же в целом выиграл и проиграл в германской Реформации как
революции? Из первоначального революционного всплеска
победителями вышли городская верхушка на юге и местные князья в
других регионах, особенно в центре и на севере. Главным проигравшим
116
в этой фазе стал «простой человек». Однако в период консолидации,
когда религиозные вопросы решались военным путем, города, при
всей крепости их стен, не могли соперничать с князьями и все чаще
терпели поражение. Впрочем, наибольшие потери в обеих фазах
понесла церковь. Такие крупнейшие церковные владения, как Кёльн и
Вюрцбург, сумели выжить ценой уступок княжеской гегемонии, но в
прочих местах духовный «меч» сильно ослабел. Вообще так или
иначе проиграли и император, и церковь, и города, и, конечно, «простой
человек», а больше всего выиграли местные князья.
В итоге германскую Реформацию можно назвать первой
«прерванной революцией» (revolutio interrupta) в периодичном европейском
революционном процессе. Она представляет собой первый пример
одного из главных вариантов базовой модели полной европейской
революции, сложившейся в гуситской Богемии. Как мы увидим
далее, этот вариант будет в основном характерен для Центральной
Европы, особенно в 1848 г.
4
ГУГЕНОТСКАЯ ФРАНЦИЯ, 1559-1598
Дайте мне древесину, и я пошлю вам стрелы.
Жан Кальвин - французским церквям
Париж стоит мессы.
Генрих Наваррский
Со второй половины XVI в. августинианская теология
кальвинизма и его революционная пресвитерианская экклезиология
стали движущей силой протестантства в Европе,
распространяясь из кальвинистской Женевы на восток в Польшу и Венгрию,
на север в Нидерланды, Шотландию и Англию, а в следующем
столетии и в британские колонии Северной Америки. В лютеранской
Германии эта «вторая Реформация» приобрела такой важный оплот,
как Пфальц, новое вероучение даже принял в качестве своей религии
правящий дом Пруссии, которая в конечном счете превратится в
самое значительное из германских государств1.
Однако первого и на некоторое время наиболее заметного
успеха «реформатская» церковь, как она сама себя называла, добилась на
родине Кальвина - во Франции. С 1555 по 1562 г. кальвинистская
доктрина проникла во все социальные классы, от знати и
интеллектуалов до ремесленников и крестьян. Более того, в 1559-1562 гг.
религиозный вызов совпал с системным кризисом монархического
централизма, благодаря чему возникло базовое сочетание, которое в
Нидерландах в 1556 г. и в Англии в 1640 г. породило настоящую
революцию. Религиозное инакомыслие в пору своего расцвета
охватывало до 10 % населения2, в других революционных ситуациях, в
частности при голландском восстании, такой критической массы хватало,
чтобы меньшинство возобладало в обществе. Но, несмотря на
подобную динамику, кальвинизм потерпел во Франции сокрушительное
поражение, его революционный потенциал рассеялся за тридцать лет
гражданской войны. Отсюда возникает большой вопрос: почему сила
столь парадоксально привела к провалу? И что говорит нам этот
провал о динамике европейской революции в целом?
118
Увы, такие вопросы отнюдь не занимают центрального места в
историографии «французских религиозных войн», как обычно
именуется интересующий нас период. Так же как в работах о Реформации
и гуситах, историки сначала сосредоточились на проблеме религии, в
данном случае - поиска конфессиональной идентичности
меньшинством современных французских протестантов. Их усилия
увенчались выходом многотомных трудов Пьера Эмбара де ла Тура и Эмиля
Думерга - перед этими двумя классиками в долгу все последующие
авторы3. Вторым главным стимулом исследований служил
патриотический интерес французов к становлению французского государства,
для которого войны являлись досадной помехой. Такое направление
задано в соответствующих томах классической «Истории Франции»
Эрнеста Лависса4, по сей день представляющих наиболее подробный
рассказ о событиях того времени. Но серьезнейший поворот в его
интерпретации произвела школа «Анналов». Один из основателей
журнала Люсьен Февр положил начало современным внеконфессио-
нальным исследованиям религии XVI в. в ее социальных и
культурных аспектах5. Позже еще один представитель школы, Эммануэль Ле
Руа Ладюри, оживил традиционный взгляд на религиозные войны
с точки зрения формирования государства, дополнив его анализом
социальной, экономической и демографической истории6. Акцент на
собственно религиозную сторону событий, характерный для работ
Февра, нашел продолжение в более углубленной форме в нескольких
книгах Дени Крузе, по мнению которого обе стороны конфликта
буквально считали себя «воинами Господними»: гугеноты - солдатами
нового священного завета, католики - крестоносцами,
защищающими святую землю от неверных7.
Лишь изредка религиозные войны во Франции рассматривались
как разновидность революции. Разумеется, довольно регулярно,
хотя и поверхностно обсуждались поразительные намеки на 1789 г.,
которые можно увидеть в Парижском бунте 1588 г. Но очевидные
параллели с современным последнему восстанием в Нидерландах и
событиями в Англии после 1640 г. не привлекли внимания,
которого заслуживали. Наиболее примечательная попытка исправить это
упущение была вдохновлена расцветом «стасиологии» после Второй
мировой войны. Ее автор - Перес Загорин, использовавший в своей
работе 1980 г. богатую национальную и конфессиональную
историографию Европы XVI-XVH вв. для весьма поучительных сравнений
между разного рода восстаниями и мятежами8. Его обобщения
(слово «модель» будет здесь чересчур сильным) по каждому случаю
идеально соответствуют историческим фактам. Хотя Квентин Скиннер
в большом труде, посвященном истории современной политической
119
мысли, представляет гугенотов как революционное движение9,
социальная наука «стасиология» почти не обратила на это внимания.
В данной главе я следую примеру Загорина, правда, сравниваю в
основном не одновременные, а происходившие друг за другом события.
Историческая обстановка
Население Франции середины XVI в. при Валуа насчитывало
порядка 19 млн чел.; это было самое многонаселенное государство
в Европе с крупнейшей столицей - Парижем, где проживало около
300 тыс. чел. Французское королевство также занимало самую
большую территорию, а его монархия входила в число сильнейших,
наряду с английской и испанской. И, подобно двум своим соседям,
Франция находилась на первом интенсивном этапе строительства
современного государства.
Этот процесс стал тем более необходимым, когда на престол в
1519 г. взошел император Карл V, окружив владения Валуа со всех
сторон землями, подвластными Габсбургам. В результате между
двумя державами до 1559 г. тянулась череда войн. Противостояние
не приносило Франции особой выгоды, но хотя бы направляло
воинственный пыл французской знати на внешнего противника. Мир
грозил разжечь внутренний конфликт, поскольку королевскому
абсолютизму было еще далеко до полного подчинения дворянства.
Другим препятствием на пути консолидации королевского
абсолютизма служили сами размеры королевства, институциональное
разнообразие его многочисленных провинций, наличие больших
доменов, которые являлись оплотом власти аристократии. Сравнение с
соседним английским королевством может иллюстрировать
трудности, стоявшие перед французской монархией. По территории Англия
равнялась трем-четырем Нормандским герцогствам, что
облегчало управление страной из единого центра, в отличие от обширного
королевства Капетингов. Кроме того, Англия со времен Альфреда
Великого была унитарным государством, а централизованный
норманнский вариант феодализма укрепил ее целостность. Здесь
правителю не приходилось, подобно французским королям, собирать
воедино провинцию за провинцией. В этом отношении Франция
напоминала гораздо более молодую двойную монархию Испании,
хотя центральная область Испании, Кастилия, была довольно
эффективно централизована, когда Карл V в 1520 г. подавил городское
восстание коммунерос, превратив кортесы (испанский парламент)
в совершенно безобидный орган. С другой стороны, Франция
обладала преимуществом, которого никогда не имели ее соседи: тайной
120
высшей христианской миссии, восходящей к эпохе Карла Великого
и Людовика Святого, к крестовым походам - «деяниям Бога через
франков» («gestae Dei per Francos»).
По всем этим причинам во Франции прогресс королевского
абсолютизма (или, что то же самое, формирования государства) оказался
не линейным, а колебательным по типу «два шага вперед, шаг назад».
Если периоды правления Людовика XI и Франциска I означали два
шага вперед, то религиозные войны стали первым большим шагом
назад.
Вторая реформация
Кризис наступил во Франции, однако, не из-за прямого
системного вызова со стороны знати или провинций, а в результате брожения
религиозной Реформации в низах. Памфлеты Лютера еще в 1519 г.
появились в Париже, сразу найдя там отзывчивую аудиторию среди
интеллектуалов-гуманистов, уже подготовленных к реформам
сочинениями Эразма и Жака Лефевра д'Этапля. В 1520-е гг. эти идеи
были официально осуждены, но Франциск I активно за них не
преследовал до 1534 г., пока один из французских сторонников Цвингли,
более радикального соперника Лютера, не развесил в Париже «пла-
карды», грубо высмеивающие причастие. В итоге множеству
французских «евангелистов» пришлось искать убежище в городах
южной Германии и Швейцарии, в частности в Страсбурге и Женеве.
Кальвинизм родился в результате встречи этих евангелистов с
городской Реформацией в Швейцарии и на Верхнем Рейне.
В 1536 г. Кальвин, находясь в изгнании в Базеле, написал
первый вариант своих «Институтов» - четкого и структурированного
краткого изложения реформатской доктрины, которое он посвятил
Франциску I в надежде привлечь короля в ряды сторонников новой
веры. В 1541 г., после трех лет руководства французской церковью
в Страсбурге, Кальвин обосновался на постоянное жительство в
Женеве, которая тогда представляла собой заштатный городок,
зависящий от Берна, с 10-тысячным населением. Следующие 15 лет он
успешно боролся за превращение республики в образцовую
реформатскую общину, по сути теократию. Ко времени его смерти в 1564 г.
эта образцовая община стала центром настоящего кальвинистского
Интернационала.
Кальвин был не первым обновителем доктрины Реформации.
Расходясь по важным пунктам и с Лютером, и с Цвингли, он, в
сущности, систематизировал и заострил исходную приверженность
Реформации идее оправдания только верой и церкви, основанной на
121
Священном Писании. В области теологии это означало крайнее и
беспощадно логичное августинианство, претворившее мысль о
природной греховности человека и трансцендентном величии Бога в ясную
доктрину «двойного предопределения»: проклятия для большинства
и спасения для немногих. Однако это четкое разделение на
отверженных и избранных не производило депрессивного психологического
воздействия, как мы могли бы предположить при нашей современной
демократической впечатлительности, ибо за оправданием следовало
освящение, то есть праведное и благочестивое поведение в жизни
избранных. В результате доктрина «двойного предопределения» не
столько вселяла в верующего беспокойство по поводу перспектив
его спасения, сколько внушала ему убеждение, что он - посланник
Всемогущего Господа на земле. Отсюда берет начало воинственная
активность, присущая всем реформатским церквям и резко
контрастирующая с большей сосредоточенностью на внутренней жизни
(Innerlichkeit) и сравнительным квиетизмом лютеранства.
По центральному вопросу - о причастии или, как его теперь
называли, Тайной вечере - Кальвин занимал среднюю позицию между
Лютером и Цвингли. Лютер верил в «материальное» истинное
присутствие, которое именовал «пресуществлением», Цвингли считал
таинство чисто символическим. В основе промежуточной позиции
Кальвина лежала вера в духовное истинное присутствие: Христос в
его понимании действительно являл себя верующим, но лишь в
духовной, а не в «материальной» форме. Одно из последствий такой
трактовки - требование в правильно реформированной церкви
допускать к Тайной вечере только избранных. Другое следствие -
гораздо более острая враждебность к римско-католической мессе как
таинству, нежели у лютеран и цвинглиан. Кальвинисты смеялись над
церковными просвирами - «запеченным Богом» - и сами, в
противоположность католикам, сводили обряд Тайной вечери к суровой
простоте. Вдобавок они совершенно не признавали икон, традиционных
церковных одеяний, церемониала и любых других признаков
религиозной помпезности или зрелищности. Все это с отвращением
причислялось к идолопоклонничеству, и кальвинистские пасторы,
уподобляясь ветхозаветным пророкам, сокрушавшим языческих Ваалов,
подстрекали паству к иконоборчеству. Конечно, лютеране и цвингли-
ане тоже очищали свои церкви от следов «папистских суеверий»,
однако осуществлялось это обычно по указу гражданских магистратов.
А в случае французских гугенотов чаще действовали сами верующие
под руководством пасторов.
Кальвинистская экклезиология, несомненно, обязана своим
появлением на свет южногерманским и швейцарским городским республи-
122
кам. Там за проведение Реформации отвечали гражданские
магистраты и в большинстве мест, например в Цюрихе, в итоге устанавливали
административный контроль над новой церковью. Кальвин и в
данном вопросе занимал срединную позицию, которая, с одной
стороны, отражала этот патрицианский конституционализм, а с другой,
стремилась ослабить его влияние. Он ставил целью сделать церковь
независимой от светского начальства, но притом не развращать ее
предоставлением прямой политической власти, каковая в глазах
реформатов являлась великим пороком римской церкви. Конкретно это
означало руководство церковью со стороны консистории, состоящей
из старейшин (священнослужителей и мирян), или «пресвитеров»,
избираемых гражданскими магистратами. Кандидатуры старейшин
выдвигались духовенством, затем их утверждали магистраты и - по
крайней мере, формально - вся конгрегация. Консистория, в свою
очередь, ведала назначением новых священнослужителей и
проповедников. Она обладала полномочиями налагать дисциплинарные
взыскания на членов конгрегации, и магистрат обязан был исполнять
ее вердикты. Иными словами, гражданские органы имели право
голоса, но отнюдь не играли решающей роли в управлении церковью,
зато церковь играла ведущую нравственную роль в управлении
обществом в целом. Подобная система представляла собой своего рода
антиклерикальную теократию. Она отстраняла церковь от мирских
дел, вознося ее над ними. Таким образом, женевская церковь, как и
сама женевская республика, была олигархической или городской
аристократической.
После 1555 г. эти отлаженные структуры стали переноситься на
гораздо более обширную сцену государства Валуа. От изменчивого
евангелизма эпохи Франциска I королевство перешло при Генрихе II
к зрелому, строго дисциплинированному кальвинизму. Вспышек
анабаптизма или анархического милленаризма среди французских
гугенотов не возникало.
Подъем гугенотов, 1555-1662
Тем не менее сам кальвинизм нагрянул во Францию
стремительно, и его приход чем-то напоминал всплеск милленаристских
настроений. К 1555 г., когда реформатская церковь прочно утвердилась в
Женеве, Кальвин, видимо, решил, что дальнейшее служение делу
Господа требует активного «насаждения» независимых церквей во
Франции. К тому же там явно прошли времена, когда реформаты
могли надеяться на обращение монархии в свою веру. С 1547 г. новый
король всецело поддерживал гонения на них. Ведь конституционной
123
нормой эпохи стал принцип «одна вера, один закон, один король»
(une foi, une loi, un roi). Кальвин получал от неорганизованных
подпольных групп французских «правоверных» все более настойчивые
просьбы возглавить их. Дело пошло к открытому кризису, после того
как король в 1559 г. положил конец длительному противостоянию
Валуа и Габсбургов, подписав Като-Камбрезийский мирный договор,
невыгодный для страны, но позволяющий, наконец, сосредоточить
внимание на внутренних проблемах, то есть разрастающейся ереси.
Кальвина, несомненно, вдохновлял на новую
интервенционистскую политику успех реформатов-миссионеров, таких, как его
старый наставник Буцер из Страсбурга и Вермильи из Цюриха,
которые в конце концов добились доктринальной Реформации в Англии
при Эдуарде VI (1547-1553). Еще более многообещающим казался
пример шотландской Реформации 1558-1559 гг., инициированной
непосредственно женевской пасторской компанией. Здесь лавина
пропагандистских памфлетов, напечатанных в Женеве, а вслед за
ней проповеди Джона Нокса побудили новое церковное руководство,
«лордов Конгрегации», поднять оружие против королевы-регента -
сестры герцога Гиза, одного из главных сподвижников французского
короля Генриха II. Подобный активный интернационализм резко
отличает кальвинистов от лютеран Германии и Скандинавии, которые
в основном ограничивались национальными пределами.
Женева теперь была хорошо организована для выполнения
грандиозной задачи «насаждения» реформатской церкви по всей Франции.
К 1555 г. этот незначительный ранее городок занял третье место по
объему издания книг на французском языке, уступая только Парижу
и Лиону. В 1559 г. муниципальный совет основал Женевскую
академию, где первым ректором стал помощник Кальвина Беза. Главным
предназначением академии являлась подготовка для Франции
пасторов-миссионеров. Пасторы из ее стен выходили не только
образованные, но и привычные к руководящей роли, поскольку набирались в
основном из высших классов, зачастую из дворянства. Так Женева
превратилась в «колыбель» движения гугенотов, «главный источник
церковных лидеров и потока печатной пропаганды», «оплот
заговоров, место переговоров о займах, производителя и распространителя
оружия»10. К 1559 г. новая церковь обрела достаточно сил, чтобы
созвать первый в своей истории национальный синод в Париже, прямо
под носом у короля.
В том же году кальвинизму выпал уникальный шанс -
неожиданная гибель Генриха II ввергла Францию в состояние кризиса.
Несмотря на то что его наследник, шестнадцатилетний Франциск II,
юридически достиг совершеннолетия, слишком слабые позиции при
124
дворе сделали его пешкой во фракционной борьбе за власть, которая
в Европе раннего Нового времени неизбежно вспыхивала при
королях юного возраста. Сначала победу одержали герцог Гиз и его брат,
кардинал Карл Лотарингский, - дяди короля по линии его жены,
Марии Шотландской. Их ультракатолицизм побудил
стремительно растущее сообщество гугенотов к сопротивлению. Гугенотскую
контрмобилизацию возглавил принц Бурбон-Конде, который,
будучи принцем крови и кузеном короля, полагал, что именно он, а не
выскочки Гизы, должен стать фактическим регентом. Однако Бурбонов
потеснил третий влиятельный клан, Монморанси - традиционно
первые бароны Франции, часто служившие коннетаблями
королевства. Наиболее выдающимся представителем этой группы был
адмирал Франции Гаспар де Колиньи.
Как раз в тот период высшая аристократия страны стала в
массовом порядке переходить в кальвинизм. На самом раннем этапе, с
1545 по 1555 г., доктрина Кальвина обычно находила приверженцев
среди мелкой буржуазии, высококвалифицированных
ремесленников, например ткачей и печатников, и мелкопоместного
дворянства. Благодаря обращению множества аристократов реформатская
церковь повсеместно обрела мощную институциональную и
военную поддержку. Тревожной демонстрацией этого факта явился
Амбуазский заговор в марте 1560 г., когда несколько мелких дворян-
гугенотов попытались захватить короля. Конде ждал своего часа за
кулисами, и, хотя Кальвин возражал против данного предприятия,
Беза, по-видимому, втайне поддержал заговорщиков, поскольку
статус Конде как принца крови придавал их действиям видимость
законности. Дабы положить конец кризисной ситуации, в августе
король, под давлением королевы-матери Екатерины Медичи, впервые с
1484 г. созвал Генеральные штаты.
Однако еще до начала заседаний, в декабре, Франциск II
скончался. Его правление продолжалось всего 18 месяцев. Поскольку
его брату, Карлу IX, было только 10 лет, Екатерина стала регентом.
В ходе работы штатов ее канцлер Мишель де Лопиталь выступил с
политикой толерантности и примирения. Гизы потеряли влияние
при дворе, и Екатерина обратила свою благосклонность на Бурбонов
и Монморанси. Но если ранее репрессии Гизов дали толчок
распространению кальвинизма, то терпимость Екатерины лишь усиливала
самоуверенность и воинственный настрой кальвинистов.
К концу года во Франции уже насчитывалось около 1 000
реформатских церквей, а в марте следующего года состоялся второй
национальный синод. В августе снова собрались Генеральные
штаты. После 76-летнего перерыва их собрания будут проводиться ре-
125
гулярно в критические моменты на протяжении всего периода
религиозных войн - в 1576, 1588 и 1593 гг. Но даже несмотря на это,
они останутся слабым инструментом политики - отчасти потому,
что провинциальным штатам легче было управлять настроением
населения, а особенно ввиду институционального перевеса монархии.
Таким образом, основной ареной фракционной борьбы по-прежнему
служил королевский двор.
Соответственно главной попыткой примирения стала личная
встреча протестантских и католических богословов на коллоквиуме
в Пуасси, устроенном Екатериной в сентябре. Она надеялась
найти способ сосуществования двух вер в лоне единой национальной
церкви, нечто вроде политики, успешно осуществляемой в Англии
королевой Елизаветой. В рамках компромисса католикам следовало
устранить злоупотребления и упростить церковные обряды, а
протестантам - смягчить непримиримость доктрины. К сожалению,
подобное решение устроило бы только тех, кто не придавал религии
первостепенного значения. Ни Кальвин, ни кардинал Лотарингский
даже думать о таком не желали. Ту же линию - и столь же неудачно -
пытался проводить своим «Интеримом» Карл V в 1545 г.
На коллоквиум приехал из Женевы сам Беза и открыто
проповедовал в Париже под охраной солдат Конде. Женевское влияние при
дворе так усилилось, что Гизы сочли благоразумным отбыть в свои
лотарингские владения. Возникающие на юге гугенотские оплоты
захлестнула первая волна иконоборчества, направленная против
«папистского идолопоклонства».
К концу 1561 г. количество реформатских церквей во Франции
достигло примерно двух с половиной тысяч. В январе следующего
года Екатерина издала Сен-Жерменский (Январский) эдикт,
который даровал гугенотам свободу вероисповедания и право проведения
богослужений за городскими стенами или в частных домах знатных
аристократов. Несмотря на географические ограничения, это была
неслыханная уступка по тем временам11. Аугсбургский мир 1555 г.
в принципе не признавал веротерпимости; он, скорее, разделил
Германию на два лагеря - регионы с католическим и протестантским
вероисповеданием, и ни в одном из них приверженцы другой веры не
могли рассчитывать на толерантное отношение. Правда, в Богемии
и Польше протестантство фактически дозволялось, но по обычаю, а
не по закону. Январский эдикт Екатерины Медичи - первый случай
официального признания европейским государством
сосуществования двух церквей на своей территории, хотя вплоть до Нантского
эдикта 1598 г. этот принцип не получил полной реализации, да и
впоследствии мог быть в любой момент отменен. Голландия подошла к
126
чему-то подобному не ранее 1630-х гг., и то лишь де-факто. Вдобавок
Екатерина в своем решении определенно проявила больше
великодушия, нежели английский «Кодекс Кларендона» 1661-1665 гг. или
даже «Акт о веротерпимости» 1689 г.
Довольно скоро стала очевидной преждевременность Январского
эдикта для Франции 1562 г. На деле он резко поляризовал страну.
Гугеноты, ободренные королевским признанием, создавали свои
церкви везде, где хватало сил, причем в городах не меньше, чем в
дворянских поместьях. И хотя официально их требования по-прежнему
сводились к веротерпимости, в действительности движение обрело
достаточную мощь, чтобы посягнуть на более дерзкую цель -
обращение всей французской церкви. С другой стороны, стремительный
взлет гугенотов на протяжении 1562 г. неизбежно породил
воинственную реакцию. Большинство населения воспринимало внезапную
гугенотскую экспансию, и особенно иконоборческое «бешенство»,
которым она зачастую сопровождалась, как агрессию, безбожное
посягательство на все древнее и святое в королевстве. «Ответное
бешенство» вырвалось наружу в марте в виде резни в Васси.
Инцидент произошел по вине герцога Гиза, который с
вооруженным эскортом выехал из Лотарингии с целью вернуться ко двору. По
дороге он наткнулся на группу гугенотов, собравшихся на
богослужение в амбаре на его собственной земле. Произошла стычка, в ходе
которой 23 гугенота были убиты. Среди кальвинистов по всей Франции
весть о резне вызвала негодование, которое переросло в страх, когда
герцог Гиз, приветствуемый народом, вступил в Париж. Он снова
занял господствующее положение при дворе весьма простым способом -
перевез королеву-регента и юного короля из дворца Фонтенбло в
столицу, то есть устроил своего рода Амбуазский заговор наоборот, на
сей раз увенчавшийся успехом. Конде в ответ стал собирать силы в
Орлеане, пока Гиз делал то же самое в Париже. И началась война.
Модель революционной войны
Первая война длилась год. В Париже гугеноты потерпели
поражение, но захватили Лион и ряд южных городов. К моменту
завершения сражений Конде был пленен королевскими войсками, а Гиз убит
дворянином-гугенотом при осаде Орлеана. В итоге война окончилась
вничью, что и продемонстрировал королевский эдикт, который, в
сущности, восстанавливал status quo ante - веротерпимость с
географическими ограничениями.
Патовая ситуация сохранялась более тридцати лет, несмотря на
восемь войн. По словам Чарльза Тилли, во Франции после 1562 г.
127
явно сложилась «революционная ситуация», но не привела к
«революционному исходу», то есть ни к настоящей смене режима, ни к
основательным системным преобразованиям. Еще меньше произошло
социальных перемен, впрочем, социальные перемены такого рода,
попытки которых предпринимались в Германии в 1525 г., никогда ле
входили в число «требований», выдвигаемых в изначальной
революционной ситуации. Итак, модель данной тупиковой революции
выглядит следующим образом: сначала взрыв, почти столь же мощный,
как в Германии в 1520 г.; затем череда гражданских войн, в которых,
однако, ни одна из сторон не одерживает решительной победы.
Подобный тупик - не единственная странность этой
неокончательной революции. Безвыходное положение постепенно
эволюционировало в «попеременную» революцию, движущей силой которой
выступали сначала «левые» кальвинисты, затем «правые»
католики - если использовать анахроничную, но в данном случае
подходящую терминологию. Иными словами, радикальные действия
зачинщиков-кальвинистов, в конце концов, были воспроизведены
католическим сопротивлением. И хотя «контрреволюция» во многом
приобрела более экстремальный характер по сравнению с
гугенотским оригиналом, тем не менее на государственные и социальные
структуры королевства она повлияла даже меньше. Какова же
природа сил, которые сменяли друг друга, топчась в тупике?
Чрезмерная сосредоточенность на церковной организации -
главное отличие кальвинизма от лютеранства и англиканства. Во
Франции это породило пресвитерианско-синодальную
организацию - такую форму принял кальвинизм, когда его институты,
перенесенные из женевского «города-государства», стали
устанавливаться в национальных масштабах королевства Валуа. Данную
организационную систему, наряду со стандартным вероисповеданием,
окончательно утвердил первый национальный синод французской
церкви в 1559 г. Сам Кальвин назвал эту систему, оптимальную с
точки зрения политической и военной эффективности для
воинствующих доктринеров, «аристократической» - в аристотелевском смысле.
Современный автор Роберт Кингдон, допуская небольшой
анахронизм, дал ей название «демократического централизма»12.
В основании системы отдельные церкви или конгрегации
управлялись консисториями выборных священников и старейшин. Так же
как в Женеве, консистории, в сущности, представляли собой
олигархии, которые формировались путем кооптации среди пасторов и
местных магистратов. В рамках системы все церкви имели равный
статус, и на этом демократическом фундаменте строилась обще-
128
национальная иерархия. Церкви избирали делегатов в местные
коллоквиумы, затем в региональные синоды и, наконец, в периодически
созываемые национальные синоды, которые разрабатывали
доктрину для всего гугенотского сообщества.
Несмотря на то что к 1562-1563 гг. эта система в основном
упрочилась, она все же столкнулась с демократическим вызовом,
брошенным мирянином Жаном Морели, который отстаивал форму
«церковной дисциплины», или церковного управления, впоследствии
получившего название конгрегационалистского13. Морели
предлагал, чтобы священнослужителей и старейшин избирала каждая
конгрегация, сознавая, что подобный тип церковного устройства будет
иметь определенные демократизирующие последствия и для
государственного. Однако авторитетные защитники аристократического
«пресвитерианства» Кальвина легко отразили удар благодаря почти
постоянному военному положению и естественной роли дворянства
в войне. По тем же причинам пресвитерианско-синодальную
систему приняли осажденные кальвинисты Нидерландов на своем первом
национальном синоде в 1571 г. Ее менее удачный вариант возник в
1559 г. в Шотландии, где консистории именовались «церковными
сессиями» (kirk sessions), но притом весьма нелогично сохранялись
епископы. В 1643 г. английский парламент сделал пресвитерианскую
модель официальной для англиканской церкви, но там она не
прижилась, поскольку вскоре произошел раскол между парламентскими
ковенантерами и конгрегационалистами-индепендентами,
связанными с «армией нового образца». А в Массачусетсе, разумеется,
конгрегационализм (правда, без управляющей консистории) возобладал с
самого начала, так как колониальным индепендентам не приходилось
бороться с военной угрозой.
Церковная организация гугенотов великолепно сочеталась с
параллельной организацией их политического сообщества. Последняя
состояла из различных муниципалитетов, где большинство
населения принадлежало к реформатской церкви, особенно на юге,
однако временами и в таких важных центрах, как Лион, Орлеан и Руан.
Гугеноты преобладали также в отдельных дворянских владениях и
штатах некоторых провинций, например Лангедока. Все эти единицы
избирали представителей в национальное собрание. А порой
национальный церковный синод служил своего рода главным съездом
гугенотов, как, скажем, Ла-Рошельский в 1571 г. Это собрание привлекло
иностранных участников, в том числе Людвига Нассауского, брата
Вильгельма Молчаливого, и в результате получился своеобразный
конгресс кальвинистского Интернационала. То же самое произойдет
на голландском синоде в Дордрехте в 1618 г. Наконец, организация
129
гугенотского церковно-политического сообщества удачно совпадала
с сословной организацией королевства, демонстрируя аналогичную
расстановку сил: «первое сословие» пасторов и «второе сословие»
военачальников-дворян руководили «третьим сословием» городских
магистратов.
Одним словом, в гугенотской Франции мы имеем дело с политико-
религиозной партией, то есть движением, основанным не на
классовом единстве, общности экономических интересов и даже не на
конкретной политической программе, а сплоченным принадлежностью
к определенной религии14. Точнее, политико-религиозная партия
есть выражение стремления религии меньшинства одержать верх над
только что консолидировавшейся монархией раннего Нового
времени и ее официальной церковью, неважно - католической или
англиканской. Лишь хорошо структурированная и фанатично идейная
организация давала такому меньшинству шанс выстоять перед лицом
мощи государства.
Собственно, политико-религиозные движения конца XVI в.
вообще ознаменовали зарождение «партии» в современном смысле
или, по крайней мере, в одном из современных значений этого слова.
Конечно, традиционно принято считать, что впервые современные
политические партии появились в Англии в лице вигов и тори во
время «Кризиса исключения» при Карле П. Но даже эти рыхлые, слабо
структурированные, узко элитарные группировки имели
конфессиональный оттенок: первые выступали за терпимость к диссидентам,
вторые веровали в божественное право монархии и религиозную
монополию англиканской церкви. Французские гугеноты и позднее,
как мы увидим, голландские «гёзы» представляли собой гораздо
более внушительную силу, с широкой опорой в народе и большим
военным потенциалом. Таким образом, если вигов и тори можно
рассматривать как предшественников современных политических партий,
которые мирно конкурируют за власть, то политико-религиозная
партия XVI в. - предтеча более воинственных современных
политических образований: английских пуритан, французских якобинцев,
российских большевиков15. В последующих главах эта сложная тема
будет раскрыта подробнее.
На данный момент сказанного достаточно для описания того,
как впечатляющая организация гугенотов, вкупе с энтузиазмом
верующих, способствовала успешному насаждению «богоугодного»
управления на значительной части территорий Франции. Основная
схема была следующей: как только город с немалым кальвинистским
элементом получал военную защиту со стороны дворянства,
католических чиновников там убирали, новые пасторы очищали церкви от
130
«идолой», и рождалась новая устойчивая гугенотская «республика».
По аналогичному сценарию в 1572 г. будут действовать «морские
гёзы» в Зеландии и Голандии. В число важнейших гугенотских
республик, созданных таким образом, вошли Ла-Рошель, Монтобан
и Ним. Вместе с многочисленными мелкими опорными пунктами
кальвинизма, особенно в Севеннских горах, они образовали
полумесяц, который простирался от провинции Пуату на западе вдоль
долины реки Гаронна, через Лангедок и до провинции Дофине на востоке.
Париж с самого начала являлся бастионом католичества.
В ходе религиозных войн гугеноты все больше терпели
поражение в северных и восточных частях страны и в основном стекались
в пределы своего южного «полумесяца». Каковы же причины
подобного географического распределения? Юг во многом отличался
от остальной Франции, кое-кто мог бы даже утверждать, что здесь
проживала особая национальность. Южане говорили на собственном
языке - лангедокском (ныне именуется окситанским), пользовались
римским, а не обычным (или общим) правом, которое применялось в
северных регионах языка «ойль» (диалекты центральной и северной
Франции в средние века). Монархия Капетингов силой
аннексировала их земли в XIII в. в результате Альбигойских войн. И хотя те
времена давно канули в прошлое, южный регион по-прежнему оставался
наиболее обособленным от Парижа по сравнению с остальными
частями королевства. Так уж сложилось, что северные края, где
доминировали католики, дольше и теснее интегрировались в королевский
домен, нежели южные. В сущности, на кальвинистском юге начинали
формироваться «Соединенные провинции» с перспективой
последующего отделения, по образцу северных нидерландских провинций.
Но, в отличие от габсбургских Нидерландов - относительно
молодого государства, во Франции уже существовало слишком сильное
чувство общей идентичности под эгидой древней Капетингской
монархии, чтобы подобное решение стало возможным. А следовательно,
патовая ситуация сохранялась.
От гугенотской «революции» до католической
По завершении первой войны 1562-1563 гг. наступило
десятилетие относительных успехов движения гугенотов под руководством
адмирала Колиньи. В 1567 г., накануне второй войны, они осмелели
настолько, что снова попытались захватить Екатерину Медичи и
короля в Mo, отчасти ради самозащиты, но вместе с тем и в надежде
победить в противостоянии одним решающим ударом. В сущности, на
протяжении всего периода религиозных войн захват монархии - пу-
131
teM наложения рук на королевскую особу, обращения короля в свою
йеру, приобретения большинства голосов в его совете или, наконец,
благодаря наследованию, по мере того как представители династии
Ёалуа умирали один за другим, - являлся ключевой целью и
гугенотской, и католической политико-религиозных партий. Метод
воздействия посредством Генеральных штатов, дабы ограничить власть
монарха или вырвать у него уступки, от случая к случаю
использовался, но всегда имел второстепенное значение. Посему монархия,
Лаже находясь в самом слабом положении со времен Столетней
войны, оставалась центральным объектом политического соперничества,
главным призом в борьбе за власть над королевством.
После того как дерзкая выходка гугенотов в Mo получила
резкий отпор в ходе второй войны 1567-1568 гг., Карл IX и Екатерина
снова выступили в поддержку политики толерантности. На деле
первые успехи Филиппа II в подавлении нидерландского восстания
породили страх перед его могуществом, толкая королевский двор к
реальному союзу с гугенотами. Нового главу клана Бурбонов,
юного Генриха Наваррского, обручили с дочерью Екатерины Медичи,
Маргаритой. Колиньи тогда настаивал на объединении
французских католиков и протестантов с целью последующей интервенции
Ê Нидерланды на стороне восставших. Однако Екатерине такая
политика показалась чересчур опасной, особенно с учетом роста
влияния Колиньи на двадцатидвухлетнего короля. В августе 1572 г.,
Когда гугенотское дворянство съехалось в Париж на свадьбу Генриха
Наваррского, королева-мать убедила короля испытать их силу,
подстроив убийство Колиньи. Покушение провалилось, Колиньи
отделался ранением. Знатные гугеноты, обвиняя Гизов, рьяно требовали
правосудия. В столь напряженной ситуации двор, охваченный
паникой, принял решение ликвидировать всех главных гугенотских
вождей, полагая, что на этом инцидент будет исчерпан. Но, едва
операция началась, ситуация мгновенно вышла из-под контроля. Грянул
мощный взрыв «ответного бешенства», которое впервые проявило
себя в Васси: фанатичные католики-парижане, в том числе многие
высокопоставленные чиновники, воспользовались шансом очистить
Париж от гугенотов, чья наглость, по их мнению, грозила навлечь на
город гнев Господень. Общее количество жертв достигло двух с
половиной тысяч. Варфоломеевская ночь, как стали называть эту
резню, распространилась на другие города Франции и в целом унесла по
всей стране, вероятно, до 5 000 жизней16. Вскоре она заслужила славу
самого ужасающего злодеяния эпохи17. Движению гугенотов был
нанесен страшный удар, от которого оно по-настоящему так и не
оправится.
132
Ужас массовой резни наконец стимулировал возникновение
третьей силы в обществе - «политиков», названных так потому, что
они ставили интересы государства и гражданского мира выше заботы
о чистоте религии. Выдающийся пример человека подобного
склада - Монтень, который, правда, не вел активной политической
деятельности. Именно «политиком» в душе был Генрих Наваррский, по
политическим соображениям сначала исповедовавший
протестантство, а затем перешедший в католичество. Крупным теоретиком этой
новой силы был Жан Воден. В шести его «Книгах о республике»,
изданных в 1576 г., определялась абсолютная концепция
государственной власти, которая в контексте монархии означала королевский
абсолютизм18. Поскольку в то время никто не мог сохранять
религиозный нейтралитет, на практике «политики» обычно поддерживали
неформальный союз с более слабой религиозной партией -
гугенотами. Даже после Варфоломеевской ночи гугеноты пользовались
легальными правами на подконтрольных им территориях.
Однако с 1572 г. им пришлось занять оборонительную позицию, р
результате чего появилось огромное количество литературы,
посвященной гугенотскому сопротивлению. Современники - поборники
королевского суверенитета прозвали ее авторов «монархомахами»
(«борцами с монархией»). В 1573 г. вышла «Франкогаллия» Франсуа
Отмана, доказывавшего, что со времен франкского завоевания
монархия во Франции была конституционной, опираясь на народный
суверенитет и народное согласие. Сходной позиции придерживались
защитники «старинной конституции» в Англии XVII в. Кстати,
гугеноты еще с 1567 г. требовали нового созыва Генеральных штатоэ.
В 1574 г. сам Теодор Беза пополнил такого рода литературу
трактатом «Право магистратов», который предварял появление в 1579 г.
анонимной «Защиты против тиранов» («Vindiciae contra tyrannos»),
написанной еще более резко. Словно в ответ на современную
концепцию верховной власти, изложенную Боденом, оба гугенотских
памфлета представляют первое более или менее современное обосно-
вание права на революционное сопротивление. Конечно, и раныыр
встречались схоластические апологии тираноубийства, но
литература монархомахов пошла дальше, формулируя всесторонне развитую
политическую теорию сопротивления. Правда, сопротивление онр
пропагандировала отнюдь не демократическое, признавая его
законность только для «нижестоящих магистратов» в рамках
существующего устройства, то есть принцев крови, Генеральных штатоц,
судебных парламентов либо дворянства в целом, когда не заседаю^
Генеральные штаты. Это литературное наследие сыграет важнейшую
роль в нидерландском восстании, а также в Англии в период от
гражданской войны 1640-х гг. до «Славной революции» 1688 г.19
133
В 1574 г. после преждевременной кончины Карла IX на престол
взошел его брат - Генрих III. Поскольку со временем выяснилось,
что у нового короля не будет детей, наследовать ему должен был
младший брат - герцог Анжуйский. Однако смерть герцога в 1584 г.
сделала очередным законным наследником протестанта Генриха
Наваррского. Разумеется, эта биологическая катастрофа
обострила религиозный кризис и, собственно, привела к его кульминации в
виде самой затяжной и последней из религиозных войн - «войне трех
Генрихов». Третий Генрих - сын герцога Гиза, убитого еще в первую
религиозную войну; во время Варфоломеевской ночи он самолично
разделался с адмиралом Колиньи.
С момента созыва первых Генеральных штатов при Генрихе III в
1576 г. Гиз возглавлял Католическую лигу (или Священный союз), в
которую входили представители дворянства, поклявшиеся защищать
церковь. Лига поддерживала монарха в обмен на признание
последним прав штатов и провинций. Смерть герцога Анжуйского дала ее
деятельности новый толчок, и на деле Католическая лига стала даже
более революционной силой, нежели гугеноты ранее. Она
заключила тайный союз с Испанией, получая финансирование от самого
Филиппа II: последний тогда готовился к нападению на Англию, а
его полководец в Нидерландах, герцог Пармский, достиг вершины
успеха в подавлении мятежа кальвинистов. Публицисты лиги
усердно трудились, по сути, радикализируя гугенотское сопротивление и
аргументацию монархомахов.
В Париже независимо от Гиза появилось видоизмененное
ответвление лиги под руководством ряда приходских священников,
королевских чиновников и состоятельных буржуа. Оно
представляло собой конспиративную организацию со своим управляющим
советом и плебейскими подразделениями во всех 16 округах Парижа.
В недрах этих низовых секций возникло подлинно радикальное
социальное движение, которое проявляло себя не столько в прямых
требованиях перемен, сколько в ожесточенной ненависти к
надменным, грызущимся между собой дворянам и в недовольстве судебным
парламентом. Примеру новой городской лиги последовали в других
северных и восточных городах королевства. Сеть «лигистских»
городов вместе со Священным союзом дворянства под
предводительством Гиза образовала политико-религиозную партию и
демонстрировала образец «демократического централизма», который во всех
основных организационных аспектах являлся зеркальным
отражением модели, созданной их противниками-гугенотами. Единственное
отличие, конечно, составляла идеология в форме религии. Но это
отличие имело ключевое значение, ибо оно одно наполняло органи-
134
зационные формы политическим смыслом и психологическим
содержанием.
В мае 1588 г. Гиз совершил торжественный въезд в столицу по
приглашению Совета шестнадцати - управляющего органа Парижской
лиги. Когда король попытался применить против него силу,
горожане взбунтовались в «День баррикад», 9 мая. Король был вынужден
бежать из города, а Совет шестнадцати превратился в параллельное
городское правительство, конкурирующее с законным
муниципалитетом. Все это, конечно, очень похоже на парижские события 1789 г.
и вообще сильно напоминает организацию якобинцев в Париже и
общенациональную сеть якобинских клубов в 1793 г. Подобно
якобинцам, Совет шестнадцати терзался страхом перед изменой и вел
списки «подозрительных», которых при необходимости надлежало
устранить. С кафедр приходских церквей раздавались страстные,
даже фанатичные призывы к борьбе с тиранией Генриха III и
бдительному выслеживанию его сторонников в стенах города. Главное,
но опять-таки фундаментальное различие между двумя примерами
заключается в идеологии. В 1588 г. «идеологией» служило
католичество тридентского толка, означавшее реформированную версию
традиционного церковного устройства; в 1793 г..- руссоистский идеал
«республики добродетели», который подразумевал дерзкий прорыв к
светлому светскому будущему.
После «Дня баррикад» у короля не осталось иного выбора,
кроме союза с Генрихом Наваррским - предводителем вооруженных
сил гугенотов, а также официального признания кузена-еретика
наследником французского престола. (В иных обстоятельствах
аналогичный выбор сделает Карл II, король Англии, защищая право
на престолонаследие своего брата-католика, герцога Йоркского.)
Стремясь вновь обрести контроль над ситуацией, король,
вдохновленный летним провалом выступления Филиппа II против Англии,
созвал Генеральные штаты в нейтральном городе Блуа. Католическая
лига без особого труда добилась избрания в них большинства своих
сторонников. Тогда Генрих III ухватился за иллюзорное решение в
виде быстрой хирургической операции. В королевском замке, где
заседали штаты, люди короля убили Гиза и его брата, кардинала. (Тем
временем в одной из комнат замка умирала королева-мать Екатерина
Медичи.) Затем Генрих III и Генрих Наваррский взяли в осаду
мятежный Париж, который упорно сражался еще год. В 1589 г. король
погиб в лагере осаждающих за городскими стенами от руки монаха-
фанатика Жака Клемана, подготовленного к заданию агентами
уцелевших братьев Гиза.
Генрих Наваррский по закону стал королем, однако большая
часть страны не желала признавать его власть из-за веры. Париж и
135
Католическая лига не сложили оружия, в 1590 и 1591 гг. Филипп II
отправлял на юг, им на помощь, армию герцога Пармского. Что
касается престола, то сначала братья Гизы возвели на него
престарелого кардинала Бурбонского (хотя старший из них и сам туда метил).
После смерти кардинала лига, под давлением Испании, поддержала
претензии дочери Филиппа от Елизаветы Валуа, инфанты Изабеллы.
Поскольку салический закон предусматривал наследование престола
только по мужской линии, в 1593 г. в Париже снова были созваны
Генеральные штаты, чтобы найти способ передать власть испанской
наследнице.
В этот-то момент Генрих Наваррский, понимая, что не сможет
победить силой оружия, отрекся от протестантской веры. В 1594 г.
он был коронован в Шартре и через несколько месяцев вступил в
Париж. Тем самым он нанес решающий удар слабеющей гугенотской
революции. Четыре года спустя Генрих IV издал Нантский эдикт, по
большому счету повторяющий положения Сен-Жерменского эдикта
1562 г. Гугенотам, количество которых теперь составляло не более
миллиона человек (около 5 % населения страны), разрешалось
открыто исповедовать свою веру в строго определенных местах. Кроме
того, они продолжали удерживать ряд крепостей (places fortes),
таких, как Ла-Рошель. Иными словами, религиозное устройство
предполагало, скорее, сосуществование, нежели веротерпимость, как мы
ее сейчас понимаем. Да и французское государство в итоге
пользовалось не совсем полным суверенитетом в современном смысле или
хотя бы в трактовке Бодена.
Основная причина провала гугенотов заключается в том, что, при
всех своих силах и рвении, они так и не сумели овладеть
монархией. Альтернативной возможности - ограничить монархию
посредством Генеральных штатов (как произойдет позже в Нидерландах и
Англии) - во Франции не существовало. Для этой цели штаты
оказались попросту слишком слабым институтом, а власть монарха имела
чересчур большое значение для национальной идентичности. В свою
очередь, главным препятствием, помешавшим гугенотам захватить
монархию, стал антипротестантский настрой большинства
населения, причем значительное меньшинство этого большинства на всех
социальных уровнях было достаточно воинственным, чтобы
сопротивляться гугенотам, даже находясь по закону в их власти.
Фактически зашедшая в тупик революция XVI в. во Франции
придала силы централизующей руке монархии, способствовала росту
ее поддержки в народе и, таким образом, ускорила ее путь к зрелому
абсолютизму Бурбонов. Если говорить об анализе революционных
136
процессов, эта безвыходная и «попеременная» революция должна
научить нас быть скромнее в претензиях на открытие базовой модели
революции для Европы, а тем более для всего мира и на все времена.
Что касается самой Франции, то наследие неудавшейся
французской Реформации внесет существенный вклад в развитие кризиса,
который породит события 1789 г.
5
НИДЕРЛАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ, 1566-1609
Вовсе не обязательно надеяться, чтобы начать, равно
как не обязательно и преуспеть, чтобы упорно
продолжать.
Вильгельм Оранский
Первое, что следует отметить, говоря о перевороте, который
обычно называют Голландским восстанием, - начиналось оно
не как именно голландское. Возникновение к 1609 г.
независимой Голландской республики из семи провинций стало
непредвиденным следствием более широкой революции в 17 провинциях
Бургундско-Габсбургских Нидерландов, династической протомо-
нархии, занимавшей территорию современных Голландии, Бельгии
и кусочка северной Франции. Собственно, поначалу
революционное движение сосредоточилось в пределах нынешней Бельгии, а его
главный лидер, Вильгельм Оранский, до самой своей смерти в 1584 г.
рассматривал его как общенидерландское. Задачу анализа
затрудняет еще одно обстоятельство: на развитие восстания международные
силы влияли не меньше, чем его собственная внутренняя динамика, и
это резко отличает его от совершенно самостоятельного английского
переворота веком позже и первоначальной, решающей стадии
богемской революции веком раньше, даже от непосредственно
предшествующей ему Реформации в Германии (до начала вооруженной борьбы в
1540-х гг.). Причина осложнений, конечно, заключается в
интернациональном характере династии Габсбургов, правившей в Брюсселе.
Соответственно историография этого восстания также
весьма сложна и разнопланова. В отличие от историографии 1789 или
1776 гг., она посвящена не только революции, а целому ряду разных
тем. Первая из них - генеалогия борьбы протестантской свободы
против католического деспотизма, которая начинается с «на том стою»,
брошенного Лютером Карлу V на Вормсском рейхстаге. Эта
традиция, несомненно, имеет международный характер, и величайший
классический труд в данном ключе - вышедшая в 1856 г. книга аме-
138
риканца Джона Мотли «Возникновение Голландской республики»1.
Кроме того, сюжет о Голландском восстании вошел в литературный
канон эпохи Просвещения, воспевающий идею свободы. Гёте в
период расцвета движения «Буря и натиск» в 1775 г., во время
американской революции, посвятил ему пьесу «Эгмонт», так же как ранее
«Гёца фон Берлихингена» - либертарной Реформации. Шиллер,
набив руку на другом персонаже либеральной иконографии, швейцарце
Вильгельме Телле, сделал голландские события основой дворцовой
мелодрамы «Дон Карлос»; Верди превратил шиллеровскую версию в
грандиозную оперу.
Более жизнеспособная, хотя и не столь заметная на
международном уровне историографическая традиция рассматривает восстание
как источник современной голландской национальной
идентичности. Именно в этом направлении была проделана наиболее
серьезная работа. Однако, поскольку голландский язык не является
международным, ее результаты лишь изредка проникали в наше общее
историческое сознание, прежде всего благодаря труду Питера Гейла
«Мятеж в Нидерландах (1555-1609)», впервые изданному в 1932 г.2
Дело осложняется тем, что восстание произвело на свет не одну, а две
современные нации, и потому великий медиевист Анри Пиренн не
менее серьезно считал его главным фактом истории Бельгии3. Маркс
и Энгельс, конечно, без колебаний отнесли нидерландские события к
разряду «буржуазных революций», даже не делая попыток
серьезного анализа; такая точка зрения в середине XX в. породила
радикальную исследовательскую традицию4.
Только после Второй мировой войны, под влиянием марксизма
и расцвета «стасиологии», восстание в Нидерландах стали
рассматривать как революцию, пусть и не обязательно «буржуазную». Но
мнения историков относительно географических рамок,
продолжительности и модели развития этой революции все равно расходятся.
Структура деятельности восставших столь иррегулярна, что плохо
поддается схематизации и сравнительному анализу. Несмотря на
примерно те же политические, социальные, идеологические факторы,
что наблюдались раньше в Богемии и Германии, а позже в Англии,
модель действий, через которую эти факторы себя проявляли, в
данном случае своеобразна чуть ли не до аномальности. Перед нами
восстание, которое можно одинаково убедительно охарактеризовать и
как радикальную, и как консервативную революцию, и как народное,
и как элитарное движение5. Кроме того, поскольку самым
значительным его результатом фактически стало возникновение Голландской
республики, экономического гегемона и мировой державы XVII в.,
дискуссия постоянно, как и прежде, сворачивает к «Голландскому
восстанию»6.
139
Тем не менее более широкое понятие Нидерландского восстания
позволяет нащупать контуры некой модели. Это модель революции
«с остановками», которая вдобавок то и дело меняла свой центр, пока
окончательно не обосновалась в семи северных провинциях,
группировавшихся вокруг Голландии. Первый мятеж вспыхнул в 1566 г.,
и, хотя он охватил все Нидерланды, главный очаг его находился на
юге, во Фландрии и Брабанте. Уже в следующем году Испания его
повсеместно подавила. Второй, начавшись в 1572 г., увенчался
успехом только в двух голландских приморских провинциях -
собственно Голландии и Зеландии. Третье восстание началось с падения
(временного) испанской военной власти в 1576 г. и снова
распространилось на всю территорию Нидерландов, но после 1578 г.
внутренний раскол среди мятежников помог испанцам вернуться на юг.
С тех пор в северных провинциях продолжалось уже действительно
по сути Голландское восстание, после 1581 г. переросшее в
международное противостояние - войну между Испанией и новой
республикой. Картина «революции в трех сериях» лучше всего нарисована
в книге Джеффри Паркера «Голландское восстание», впервые
увидевшей свет в 1977 г., в золотую пору «стасиологии»7. Именно такая
схема «революции с остановками» рассматривается ниже.
Историческая обстановка
Несмотря на относительно небольшие размеры, в 1566 г.
Нидерланды вместе с северной Италией представляли собой самую
передовую в экономическом отношении, богатую, густонаселенную
и урбанизированную часть Европы. Занимая по площади от силы две
трети территории Англии и Уэльса, Нидерланды имели примерно
такую же численность населения: порядка 3 млн чел. (на землях
будущей Голландской республики в 1500 г. проживало чуть меньше
миллиона). Впрочем, с учетом рассматриваемой темы, наверное, уместнее
будет сравнение с Испанией, где королевства Кастилия и Арагон в
совокупности насчитывали около 6,5 млн жителей. В Антверпене -
крупнейшем городе Нидерландов, главном коммерческом и
финансовом узле Европы - жило 80 тыс. чел. (в Амстердаме - 30 тыс. с
небольшим). Крупнее в то время были только Париж с 300-тысячным
населением и Лондон с 200-тысячным.
Нидерланды являлись ключевым элементом международной
системы Габсбургов, поскольку, подобно самой Испании и в отличие от
остальной империи, управлялись непосредственно Карлом V как его
родовая вотчина. Соответственно в Нидерландах император
стремился осуществить то, о чем не мог и мечтать в Германии, - превра-
140
тить свое бургундское наследство в нечто вроде унитарной монархии
по французскому или английскому образцу8.
Это означало, во-первых, завоевание или присоединение иным
способом северо-восточных провинций по другую сторону залива
Зёйдерзее. Но притом все провинции, теперь уже семнадцать,
сохраняли традиционные права и привилегии. Наглядным примером
может служить брабантская хартия «Радостное вступление» («Joyeuse
Entrée»), на верность которой присягал каждый новый суверен.
Политика Габсбургов сводилась к тому, чтобы дать стране ряд
центральных административных и фискальных институтов,
функционирующих наряду с редко созываемыми Генеральными штатами и
аристократическим Орденом Золотого Руна. В конце концов, в 1548 г.
Нидерланды, формально входящие в состав империи, были
организованы как особый Бургундский округ - по сути, новое государство,
отдельное от собственно Германии. Вместе с тем политика Карла
вела к повышению налогов ради финансирования войн императора
с Францией. Это, в свою очередь, означало решительное усмирение
любого бунтарства на муниципальном уровне, традиционного
явления для городской жизни Фландрии, что наиболее ярко
продемонстрировал Гент в 1540 г. Наконец, после 1520 г. это предполагало и
систематическое преследование религиозной ереси, чего Карл никак
не мог добиться в Германии. В конечном счете он планировал создать
в Нидерландах 3 новых архиепископства и 15 епископств
(существовавшая в тот период устаревшая иерархия включала только 4
епископов и совершенно не соответствовала численности населения
страны). Назначать новых епископов государь собирался сам. В общем, в
своих владениях Карл делал то же, что делали или пытались делать
все прочие современные ему государи в своих. И мотивы имел
схожие: наращивал силы для международного соперничества. Однажды
он сказал на французском (которым обычно пользовался): «Я заберу
Париж в свою перчатку», - произнеся слово «перчатка» (gant) как
название своего родного города Гент.
Однако к моменту его отречения в 1555 г. государственное
строительство в Нидерландах продвинулось гораздо меньше, чем во
Франции, Англии или Кастилии. Каждая из 17 провинций имела
собственные уложения законов и права. С момента их
административного объединения прошло слишком мало времени, чтобы они обрели
сильную общую идентичность, учитывая вдобавок лингвистическое
разделение между голландско- и франкоязычными территориями по
линии от Дюнкерка до Лимбурга, огибавшей Брюссель с юга. Правда,
все чаще слышались разговоры о нидерландской «родине» (patrie),
особенно среди дворянской элиты. Но на деле, как выяснилось,
провинциальный партикуляризм оказался сильнее.
141
Таким образом, нидерландское восстание было революцией,
которую спровоцировала фаза нарастания государственного
строительства в Европе. Тот же процесс в менее зрелой стадии породил гуситов
век назад, а в более зрелой - подстегнет пуритан век спустя.
Первое восстание
Ситуация стала накаляться, когда власть перешла к сыну Карла
Филиппу II. В отличие от отца, он родился и вырос в Испании.
Несмотря на четырехлетнее правление в Брюсселе с 1555 г. (когда
завершалась последняя война с Валуа), Филипп так и не овладел
французским языком и всегда смотрел на местные проблемы взглядом
испанца. Он продолжал курс на консолидацию, взятый Карлом V,
особенно в отношении преследования еретиков и создания новых
епископств. Когда в 1559 г. он вернулся в Испанию (как оказалось,
навсегда), то предоставил проводить эту линию своей единокровной
сестре, герцогине Маргарите Пармской, назначив ее правительницей.
Однако реальной властью Филипп наделил кардинала Антуана де
Гранвеля, верного слугу королевской семьи, обойдя высших
нидерландских сановников, которым покровительствовал Карл. Он также
оставил в Нидерландах трехтысячный испанский корпус, чего ранее
в мирное время никогда не случалось.
По вполне понятным причинам эти меры не понравились таким
знатным вельможам, как принц Оранский и граф Эгмонт,
традиционно входившие в Государственный совет. По их мнению,
политика Филиппа обрекала Нидерланды на абсолютную зависимость
от Испании, как Милан или Неаполь. В частности, эти сановники
возражали против его религиозной политики на том основании, что
Филипп нарушил традиционные права страны, передав
рассмотрение дел о ереси из ведения местных судов в юрисдикцию специально
учрежденной инквизиции. В знак протеста они бойкотировали
заседания Государственного совета, и Филипп уступил: к весне 1564 г.
он вывел из Нидерландов испанские войска, а главное, отозвал
Гранвеля. Столь очевидное поражение королевского абсолютизма
перед лицом аристократический оппозиции вызвало общий кризис
системы.
К 1564 г. Нидерланды превратились в котел, где бурлило
недовольство полувековым государственным строительством Габсбургов
и все больше - репрессиями на религиозной почве. Реформация
пришла в Нидерланды в 1520-1522 гг., то есть почти одновременно
с ее первыми вспышками в Германии и Швейцарии. Однако между
142
Нидерландами и княжеством Саксонским, вольными городами
империи или Швейцарией существовало одно очень большое различие:
светский «меч» в лице Карла не только не поддержал реформу, но,
напротив, приложил все усилия, чтобы ее пресечь. В результате
четыре следующих десятилетия нидерландская Реформация развивалась
снизу, тайно и, тем не менее, активно9.
Это движение прошло в общих чертах три этапа. На первом, в
1520-х гг., довольно нестойкое лютеранство накладывалось на
христианский гуманизм, поначалу среди духовенства, но вскоре процесс
затронул и класс ремесленников. К 1530-м гг. появился также весьма
заразный, в основном для низов, анабаптизм. В 1535 г. его
приверженцы предприняли неудачную попытку захватить власть в Амстердаме.
Тысячам их собратьев пришлось бежать от преследований в
северовосточную Германию - обстоятельство, немало способствовавшее
впечатляющему мюнстерскому бунту 1536 г., ведь два его главных
предводителя, Матис и Ян Лейденский, были голландцами. Однако
после катастрофы в Мюнстере преемники воинственного
голландского анабаптизма, подобно чешским адептам Хельчицкого раньше
или английским квакерам позже, укрылись по сектам,
проповедующим пацифизм и богоугодные дела. Ключевой фигурой такого
преображения стал Менно Симоне, основатель секты меннонитов. Третий
и наиболее важный этап нидерландской Реформации ознаменован
подъемом с 1540 г. воинствующего, но притом дисциплинированного
и хорошо структурированного кальвинизма. Придя в Нидерланды из
Франции через валлонские провинции, он быстро распространился
по всей стране, хотя кальвинисты везде поневоле действовали
тайно, «под крестом», собираясь малыми группами. Наиболее
ревностные из них эмигрировали в голландские «общины иностранцев» в
Лондоне и Эмдене (Германия). Именно там к 1571 г. они
организовали церковь по женевским канонам, с формальным символом веры и
отдельной пресвитерианско-синодальной структурой, управляемую
местными консисториями и региональными синодами.
Соединение воинственной религиозности с конституционными
устремлениями дворянства породило восстание 1566 г. Историки-
марксисты указывают, что и времена тогда наступили
экономически тяжелые, особенно для низших классов. В 1564-1566 гг. за
суровой зимой последовал неурожай, так же как во Франции в 1788—
1789 гг. Но «голодный год» все же послужил усугубляющим
обстоятельством, а не главной причиной революции10. В истории Европы
бывало много голодных лет, однако не всякий из них современники
нарекали «годом чудес».
143
1566-й - год чудес
Мятеж 1566 г. казался annus mirabilis («годом чудес») из-за
необычайной скорости и радикальности развития событий. Это
поистине один из величайших революционных годов европейской
истории, потрясение, вполне сопоставимое с тем, что произошло в 1419 г.
в Богемии, в 1520 г. в Германии, даже в 1640 г. в Англии, а то и в
1789 г. во Франции. По сути, нидерландская революция достигла
максимальной мощи именно во время своего начального эпизода.
Так что данный эпизод нужно рассматривать наиболее внимательно,
месяц за месяцем.
Отзыв Филиппом Гранвеля в 1564 г., по-видимому,
сигнализировал грандам из Государственного совета, что они могут осуществить
свою программу; в сущности, по всей стране королевская власть
стала терять позиции. В декабре вельможи обратились к королю с
предложением смягчить религиозные преследования, в феврале 1565 г.
отправили фафа Эгмонта в Мадрид отстаивать свое дело. Эгмонт
наивно полагал, что убедил Филиппа, хотя в действительности тот
всего лишь согласился продолжить теологические консультации, и
по возвращении сообщил об этом соратникам. В мае теологическая
комиссия, избранная советом, рекомендовала проявлять
умеренность. Однако реальная политика Филиппа оставалась прежней. Все
иллюзии развеялись в ноябре с появлением знаменитых «Писем из
лесов Сеговии», в которых монарх подтвердил жесткую позицию в
отношении ереси, занятую им еще в 1559 г. Перед дворянством встал
выбор: повиноваться или нет. Однако страна так сильно жаждала
перемен, что, если бы совет не оказал сопротивления, его авторитет мог
сильно пошатнуться.
Осенью высшая знать и мелкое дворянство (среди последнего
часто встречались кальвинисты) обсуждали планы сопротивления.
Ряд мелкопоместных дворян во главе с Филиппом Марниксом
составили «Компромисс дворян» - документ о создании конфедерации
или ковенанта (соглашения) против инквизиции. Всего под ним
подписались около 400 чел. Сановники, занимавшие государственные
должности, не могли этого сделать, хотя, например, принц Оранский
в январе 1566 г. сложил с себя полномочия штатгальтера
(губернатора), не желая выполнять новые приказы короля. Мелкие дворяне,
посовещавшись с вельможами, решили представить свою программу
в виде «просьбы» правительнице. 5 апреля барон Бредероде с тремя
сотнями вооруженных конфедератов совершили почти неприкрыто
мятежный поступок: демонстративно ворвались в Брюссель и силой
проложили себе путь во дворец правительницы, чтобы передать ей
144
обращение. Один из придворных презрительно назвал прибывших
«гёзами» (нищими), но конфедераты подхватили эту кличку и стали
носить ее с дерзкой гордостью. Правительнице, которой лишний раз
показали ее бессилие, не оставалось ничего иного, кроме
капитуляции. Спустя несколько дней она издала манифест об «умеренности»,
смягчавший применение законов против ереси. Хотя большинству
населения страны он пришелся по душе, сановники, защищая свои
конституционные прерогативы, продолжали добиваться расширения
полномочий Государственного совета и в конце апреля отправили в
Испанию новую делегацию.
Одновременно с расколом в высших правящих кругах в схватку
вступили низы общества, причем в гораздо более радикальной
манере. Кальвинисты «из-под креста» вышли на люди и в мае
принялись проповедовать «под живой изгородью», то есть под открытым
небом в деревне и городских предместьях. Из Лондона и Германии
возвращались обученные изгнанники. К лету сотни, а потом
тысячи людей слушали проповеди (presches) Евангелия и пели псалмы в
полях близ крупнейших городов. 30 июня 1566 г. под Антверпеном
собралось порядка 30 тыс. чел. Вельможи и конфедераты Бредероде
уже не контролировали движение, которое сами же спровоцировали.
Атмосфера во Фландрии и Брабанте напоминала милленаристское
лето 1419 г. в Богемии или Мюльхаузен при Мюнцере летом 1525 г.
С 10 августа массовый «энтузиазм» привел к самой мощной
вспышке расправ со святыми образами за всю эпоху Реформации.
«Иконоборческое бешенство» весь август охватывало город за
городом. В некоторых местах оно вспыхивало стихийно, но в сердце
восстания, на юге Нидерландов, являлось «делом рук очень маленькой
банды решительно настроенных людей... от пятидесяти до ста
человек, многие из которых недавно вернулись из изгнания» и не
намеревались больше покидать родину. Некоторых «нанимали за плату
кальвинистские консистории из Антверпена и других крупных
городов»; в конце концов, страна переживала экономическую
депрессию11. Впрочем, хотя это «бешенство» в значительной мере было
результатом «заговора» меньшинства, стоит отметить, что желающих
защищать церкви находилось очень мало.
В конце лета правительница провела переговоры с вельможами и
25 августа даровала им «согласие» признать свободу протестантской
веры там, где она уже стала свершившимся фактом, - по сути,
решение, повторяющее Аугсбургский мир 1555 г. в Германии. Тем не
менее иконоборческое движение продолжалось и в сентябре, поскольку
принц Оранский и другие сановники толковали «согласие» более
либерально, чем предполагала Маргарита. Однако теперь в безвыход-
145
ной ситуации оказались представители знати, которым не доверяли
ни правительница, ни кальвинисты. Они также осознавали, что
беспорядки зашли слишком далеко: Филипп вынужден будет
отреагировать со всей суровостью и возложит ответственность лично на них.
29 октября король действительно послал в Нидерланды армию под
командованием своего советника герцога Альбы, сторонника самых
жестких мер.
К началу декабря мятеж, впрочем, пошел на спад по внутренним
причинам. Скороспелый летний экстремизм меньшинства породил
не менее быструю ответную реакцию среди умеренного большинства
населения. В результате правительница почувствовала себя
достаточно сильной, чтобы осадить два самых кальвинистских города -
Турне и Валансьен. На исходе года она сумела собрать
внушительное войско; некоторые знатные дворяне, например граф Эгмонт,
перешли на ее сторону. В апреле-мае последние очаги восстания были
подавлены. Принц Оранский бежал в свои германские владения.
Правительница овладела ситуацией и вновь запретила открытое
исповедание кальвинизма.
Бурная радикализация в «год чудес» и столь же стремительный
откат в последующие шесть месяцев создали такое положение,
благодаря которому нидерландская революция получила
совершенно уникальную в европейской истории модель. Летом 1567 г.
герцог Альба прибыл в Нидерланды с десятитысячным войском (еще
10 тыс. чел. уже были мобилизованы на месте) и учинил расправу
надо всеми участниками беспорядков. А репрессии, если они
достаточно массовые, обычно дают результаты. Это означало, что отныне
восстание должно превратиться в первую очередь в военную
операцию по свержению испанского режима в Брюсселе. Руководство им
перешло в руки изгнанников за рубежом, что автоматически
благоприятствовало радикалам, особенно наиболее воинственным
кальвинистам. Выход на международный уровень, в свою очередь,
подразумевал, что судьба восстания зависит от того, найдут ли мятежники
базы в Англии, Франции и на территории империи, причем и первая,
и вторая, и третья опасались портить отношения с Испанией -
сильнейшей державой того времени. Испании же приходилось
противостоять турецкой угрозе в Средиземноморье, и этот фактор определял,
насколько щедро Филипп мог тратить финансовые и военные
ресурсы на Нидерланды.
Альба железной рукой правил Нидерландами четыре года. По
крайней мере, вначале он успешно восстановил на этих землях
королевскую власть, но с помощью новых кадров, отдав управление в
руки испанцев, а не местных элит. Дабы покарать участников мятежа
146
1566 г., он сформировал особый трибунал - Совет по беспорядкам.
Графов Эгмонта и Горна казнили публично. В общей сложности
перед судом органа, заслужившего в народе прозвание «Совет крови»,
предстали 12 тыс. чел., тысяча была казнена. Около 60 тыс. чел.
бежали за границу, что на время избавило страну от экстремистов.
Ладить с умеренным большинством Альбе удавалось хуже.
Поскольку война с Турцией требовала огромных расходов из казны
Филиппа, нидерландскую операцию предполагалось финансировать
за счет местного налогообложения. Однако Генеральные штаты,
ссылаясь на старинные привилегии, упорно отказывались предоставлять
Альбе средства. Поэтому герцог незаконно ввел «десятый грош»
(десятипроцентный налог на все продажи кроме недвижимости).
Данная мера, вкупе с преследованием ереси, оттолкнула от него
население и подготовила почву для новой радикализации. Правда,
активная внутренняя оппозиция на тот момент была разгромлена. В 1568 г.
принц Оранский, теперь, безусловно, главный лидер оппозиции,
предпринял попытку вторжения из Германии с отрядами наемников.
Кампания с треском провалилась, продемонстрировав слабость
поддержки «гёзов» среди большинства населения страны.
«Морские гёзы»
Воскресили мятеж «морские гёзы» - базировавшиеся в
иностранных портах каперы, которым принц Оранский в качестве
суверенного имперского князя выдавал каперские свидетельства. В 1572 г.
королева Елизавета по дипломатическим соображениям выдворила
группу «гёзов» из Лондона. 1 апреля они в поисках пропитания
высадились в небольшом порту Брилль в южной Голландии и, не
обнаружив в окрестностях испанских войск, решили завладеть
городком. Неожиданная операция им удалась, потому что незадолго до нее
Филипп вывел из региона войска, готовясь к выступлению против
Англии, которое потом отложил. Эти «гёзы» были обычными
моряками из Голландии и Зеландии, плававшими под командованием
мелких дворян, в сопровождении кальвинистских проповедников.
Используя Брилль как базу, летом 1572 г. «морские гёзы» заняли
большинство городов Голландии и Зеландии. Происходило это по
одной и той же схеме. Будучи бойцами сильными, но
немногочисленными, «гёзы» обычно не могли брать города штурмом. Они вступали
с магистратами или «правителями» каждого городка в переговоры о
передаче власти от Филиппа принцу Оранскому. Условия передачи,
как правило, сохраняли политический и социальный статус-кво с
единственным изменением - религиозной свободой как для
католического большинства, так и для кальвинистского меньшинства, что
147
соответствовало политике Вильгельма Оранского. На практике же
кальвинистские священники чаще всего захватывали главный
городской храм и запрещали служить мессу, тем самым делая официальной
реформатскую церковь. В июле 1572 г. «гёзы» созвали Голландские
Штаты и пригласили принца Оранского вновь занять пост
штатгальтера Голландии, а также соседних Зеландии, Фрисландии и Утрехта.
Пока «морские гёзы» подчиняли себе две прибрежные
провинции, Людвиг, брат принца Оранского, в мае пришел из Франции с
гугенотским отрядом и захватил Монс. А в июле сам Вильгельм
предпринял еще одну атаку из Германии. Казалось, испанское
владычество, наконец, пошатнулось. Однако уже в августе колесо фортуны
повернулось в обратную сторону: Варфоломеевская ночь в Париже
положила конец надеждам на широкомасштабную помощь со
стороны гугенотов. После этого герцог Альба без труда одержал
победу над Вильгельмом Оранским, но на сей раз тот нашел убежище
не за границей, а в Голландии, наконец обретя опору внутри самих
Нидерландов.
Таким образом, к 1573 г. нидерландская революция превратилась
в Голландское восстание. После попыток найти компромисс с
лютеранами принц Оранский обратился в кальвинизм, поскольку все его
наиболее преданные сторонники исповедовали эту веру. Сам он, в
Сущности, принадлежал к разряду «политиков», ставивших
гражданский мир и благосостояние государства выше религиозных
убеждений, и, следовательно, предпочитал веротерпимость. Новый порядок,
однако, повсеместно устанавливался меньшинством путем
насильственных действий. Хотя это противоречило отстаиваемой Оранским
политике «религиозного мира» и терпимости, иного выбора у него не
было. Прежних магистратов прогоняли, заменяя новыми - зачастую
изгнанниками 1566-1567 гг. Проповедники-кальвинисты занимали
церкви и запрещали мессу, несмотря на немногочисленность
реформатов в большинстве мест. К реформатским конгрегациям
принадлежало всего около 10 % населения, да и среди них к причастию ходило
меньшинство. Амстердам «дошел» до революции только в 1578 г.
За пределами Зеландии и Голландии герцог Альба прочно
держался у власти. Имея около 85 тыс. солдат, он использовал их для
новых, более жестоких репрессий. Герцог развернул настоящий
террор, перебив жителей Наардена, Мехелена и Зютфена. В то же
время произошла знаменитая осада и героическая оборона Лейдена,
когда голландцы подвезли продовольствие в город на судах, открыв
шлюзы и затопив испанские войска. Историк Питер Гейл
совершенно верно отмечал значение географической «переменной» в
нидерландской революции. Две могучие реки, Рейн и Маас, вкупе с целой
148
сетью озер сделали Голландию и Зеландию незаменимым оплотом
для повстанцев.
Апогей и спад
В 1576 г. восстание снова превратилось в нидерландскую
революцию. И опять это случилось благодаря международной ситуации:
войны на двух фронтах - в Нидерландах и Средиземноморье -
вынудили Филиппа в сентябре 1575 г. объявить о банкротстве. Возникшие
в результате задолженности по выплате жалованья военным
спровоцировали бунты в армии, кульминацией которых стал погром
в Антверпене в ноябре 1576 г., получивший название «Испанская
ярость». В разгар тех беспорядков умер преемник Альбы на посту
генерал-губернатора, власть испанцев рушилась повсюду. Генеральные
штаты собрались по собственной инициативе и в начале сентября
1576 г. взяли на себя функции управления, формально заявляя о
верности королю. В ноябре лоялистские и мятежные провинции
подписали «Гентское умиротворение» - договор, предусматривавший
прекращение военных действий между двумя группировками. Он
призывал к выводу всех испанских войск с территории страны и
признавал религиозный статус-кво. Таким образом, новый оранжист-
ский режим в Голландии и Зеландии не утратил ни своих
отличительных особенностей, ни вооруженных сил.
Затем началась борьба за приверженность штатов между принцем
Оранским с одной стороны и новым генерал-губернатором Хуаном
Австрийским, сводным братом Филиппа, с другой. Не имея
достаточной военной поддержки, дон Хуан мог войти в Брюссель, только
смирившись, хотя бы внешне, с условиями «Гентского умиротворения».
Принц Оранский, уверенный, что удовлетворительное соглашение р
Филиппом II невозможно, отказался объединиться с Генеральными
штатами и сотрудничать с Хуаном Австрийским. В июле 1577 г. дон
Хуан, потеряв терпение, попытался применить военную силу против
штатов, на что Вильгельм ответил контратакой, взывая к.радикаль-
ным устремлениям низших классов в городах Брабанта и Фландрии,
По сути, в конце 1576 г. на юге вспыхнула новая революция по
образцу 1566 г. Цеха в Брюсселе сформировали «Комитет
восемнадцати», члены которого внедрились в Брабантские штаты, а затем
заставили Генеральные штаты утвердить Вильгельма штатгальтером
провинции (18 октября 1577 г.). Вильгельм 23 сентября
торжественно вступил в Брюссель, возвратившись в родовой замок, откуда был
вынужден бежать 10 лет назад. В Генте события приняли еще более
крутой оборот: местный «Комитет восемнадцати», образованный
цехами, провел чистку в рядах умеренных католиков, управлявших
149
Фландрией, упразднил мессу, а также стал поощрять возвращение
изгнанных в 1566 г. Из Гента революционное движение
распространилось на другие фламандские города примерно так же, как «морские
гёзы» в 1572 г. прибрали к рукам Голландию. Это движение, которое
иногда именуют «радикальной революцией» в рамках Голландского
восстания и нередко сравнивают с последующими событиями в
Англии и Франции, привело к возникновению ряда кальвинистских
городских республик в Брюгге, Ипре, Ауденарде и других городах12.
Подобные результаты намного превосходили желания Вильгельма,
поскольку такой радикализм мог только отпугнуть умеренных,
заставить их искать защиты у испанских властей. Однако на тот момент
ему ничего не оставалось, кроме как поддерживать своих наиболее
воинственных сторонников. Между тем, дело «патриотов» как будто
торжествовало по всей стране. К началу 1578 г. принц Оранский
«добился статуса, которого жаждал как минимум с 1564 г.: фактически
возглавил правительство. Он унаследовал пост, некогда
принадлежавший кардиналу Гранвелю»13.
И снова, как в 1566 г., народный кальвинистский экстремизм
помешал третьему восстанию объединить все Нидерланды14. Радикалы
продолжали наступать, в мае 1578 г. кальвинисты устроили
переворот в Амстердаме. В ответ на это аристократия и городская
верхушка южных провинций стали оказывать давление на Вильгельма,
заставляя его принять меры против своих радикальных союзников.
В августе 1579 г. он принудительно разоружил гентский «Комитет
восемнадцати». Тем не менее урон уже был нанесен. Католические
лидеры в Генеральных штатах, особенно дворяне и духовенство,
совершенно перестали доверять Вильгельму и его
соратникам-кальвинистам. К лету штаты воспротивились «религиозному миру»
принца Оранского, поскольку он закрепил бы завоевания кальвинистов
на юге. Католики не менее, чем кальвинисты, не желали мириться с
ересью в подконтрольных им регионах.
Стремясь защитить интересы католиков, штаты предложили
герцогу Анжуйскому, младшему брату французского короля, стать
«защитником свобод Нидерландов». Этот шаг побудил английскую
королеву Елизавету предоставить средства германской армии
кальвинистов для обороны Брабанта. Штаты испытывали тогда
трудности с выплатой жалованья католическим войскам, и те начали
бунтовать. Отряды «недовольных» (Malcontents) пошли войной на
кальвинистский Гент.
И тут в октябре 1578 г. скончался Хуан Австрийский. На
смену ему пришел племянник Филиппа Алессандро Фарнезе, герцог
Пармский. Наконец у Филиппа появился талантливый
генерал-губернатор, к тому же, в отличие от Альбы, понимавший, что ключ к
150
победе испанцев лежит в привлечении на свою сторону умеренного
центристского большинства.
Герцогу Пармскому помог тот факт, что религиозные разногласия
между католиками и кальвинистами усугублялись провинциальным
партикуляризмом. Фактическая независимость Гента и Фландрии
спровоцировала аналогичные партикуляристские устремления во
франкоязычных провинциях Артуа и Эно. В январе 1579 г. эти
провинции образовали Аррасскую унию, которая в мае заключила мир
с Филиппом и герцогом Пармским. Это, в свою очередь, заставило
Голландию и Зеландию объединиться в Утрехтскую унию с пятью
другими северными провинциями, установив там правление
кальвинистов. Позже к ним присоединились кальвинистские провинции
Брабант и Фландрия.
От Генеральных штатов осталось одно «охвостье», они теперь на
деле представляли собой конгресс северных провинций и
кальвинистских республик Фландрии и Брабанта. В июле 1581 г. этот
новый радикальный орган проголосовал за «низложение» Филиппа как
своего суверена, то есть, по сути, принял своего рода голландскую
декларацию независимости. Но штаты не провозгласили себя
республикой. Подобно чехам в 1421 г., голландцы еще не избавились от
монархического образа мыслей и потому голосовали за избрание герцога
Анжуйского наследным «принцем и наместником Нидерландов».
Позже, когда из этого ничего не вышло, они направили аналогичное
предложение королеве Елизавете, которая ответила отказом, взамен
предложив одолжить им своего фаворита, графа Лестера. Когда же
и здесь их постигло разочарование, семь провинций стали
республикой де-факто, «по умолчанию», а принцы Оранские - де-факто
полумонархами.
К моменту обретения северными провинциями независимости,
однако, Филипп II поправил свои финансовые дела. Герцог Пармский
включил отряды «недовольных» в собственную армию и начал
отвоевывать Фландрию и Брабант. Принц Оранский и Генеральные штаты
в июле 1583 г. отступили в Антверпен, в августе - в Мидделбург, на
территорию Зеландии. В следующем году Вильгельм Оранский был
убит агентом Филиппа. Руководство перешло к сыну и наследнику
Вильгельма Морицу Нассаускому, весьма способному полководцу,
но, несмотря на его талант, к 1589 г. мятежников оттеснили почти в
тот же самый регион, который они контролировали в 1572-1574 гг., а
герцог Пармский продолжал наступать.
Подавить восстание окончательно не удалось по двум
причинам. Во-первых, по внутренней организации и военной мощи семь
Соединенных провинций значительно превосходили Голландию и
Зеландию 1574 г. Во-вторых, международная ситуация в очередной
151
раз сыграла голландцам на руку. В 1588 г., когда состоялся
знаменитый поход Армады, отборные войска герцога Пармского были
переброшены к Ла-Маншу с целью возможной их перевозки в Англию.
Затем в начале 1590-х гг. Филипп отправил их во Францию, чтобы
помешать гугенотскому королю вступить в Париж.
В итоге нидерландская революция окончилась вничью. Патриоты
и кальвинизм одержали победу на севере, испанская власть и
контрреформация - на юге. Около ста тысяч непримиримых
кальвинистов переселились из Фландрии и Брабанта в Голландскую
республику; чуть меньшее количество католической знати уехало в
южные края. В 1609 г. Испания и Соединенные провинции подписали
«Двенадцатилетнее перемирие». И хотя в 1621 г. военные действия
возобновились, тем не менее этот договор фактически сделал
республику независимым государством в политической системе Европы.
Если, конечно, здесь можно говорить о государстве. Соединенные
провинции представляли собой весьма слабую федерацию.
Суверенитетом обладала каждая из семи провинций со своими штатами, а
не федерация в целом. Генеральные штаты не имели большой власти,
поскольку для определения той или иной политики требовалось
единогласное решение всех провинций. В этом отношении голландская
«конституция» напоминала Соединенные Штаты в период
существования «Статей конфедерации»; проглядывалось даже некоторое
сходство с ультралибертарным устройством Польско-Литовского
содружества. Фактически же доминировала в федерации Голландия - как ее
военная опора и самый богатый регион, - обеспечивая Соединенным
провинциям прочные позиции на международной арене.
В каждой из частей федерации в значительной степени
сохранялось то же устройство, что и до 1566 г. В провинции
главенствующее положение занимали города, в городе - класс магистратов,
правителей, не тождественный купеческому классу. Таким образом,
Голландское восстание нельзя назвать ни социальной революцией,
ни конституционной, ни, тем более, демократической. По сути, это
была революция узко олигархическая. Хотя практики возведения
в дворянство в республике не существовало, дворяне, начиная с
Оранского дома, там оставались. Их манеры и образ жизни
способствовали аристократизации правителей.
В итоге почти не имели распространения республиканские
теории и идеология. Ведущие политические теоретики республики
Гуго Гроций и Юст Липсий писали на латыни для международной
аудитории, размышляя преимущественно о естественном законе
вообще и его применении в международных делах. В данном
отношении политический исход революции можно охарактеризовать как
консервативный.
152
Однако в религиозном аспекте это не совсем так. На протяжении
всего периода восстания организованный кальвинизм являлся его
динамичной движущей силой: и в 1566 г., и в 1572 г., и в ходе
неудачной «радикальной революции» 1576-1577 гг. Лишь благодаря этой
силе политические конституционалисты-оранжисты смогли в
конечном счете взять верх на половине территории Нидерландов. Тем не
менее кальвинисты оставались в меньшинстве (не более трети
населения) и после победы так и не сумели занять главенствующие
позиции в обществе. Каждая суверенная провинция сама определяла
свое религиозное устройство, и во всех них реформаты стали
«государственной церковью», поддерживаемой властями15. Но далеко не
все общество принадлежало к ней, а те, кто принадлежал, делились на
полноправных прихожан и, так сказать, «слушателей» или
«попутчиков». Различие между двумя группами заключалось в обладании
правом участия в Тайной вечере, которое даровалось только при
условии подчинения правилам кальвинистской консистории. Правящая
верхушка не желала распространять такую систему на все общество,
предпочитая удерживать рычаги охраны порядка в собственных
руках. Поэтому, хотя ортодоксальный кальвинизм на национальном
синоде в Дордрехте восторжествовал над не столь суровым
учением арминиан-ремонстрантов, протестантская Голландия не стала ни
второй Женевой, ни Массачусетсом, ни даже Шотландией. По тем
временам это было самое толерантное и светское общество в Европе.
В значительной мере так вышло благодаря тому, что
олигархическая республика являлась еще и республикой торговой, хотя
купеческий класс не управлял ею напрямую. Торговля и промышленность,
рыболовство и текстильное производство, перевозки и, наконец,
банковское дело составляли основу ее существования, служили
источником средств для поддержания военной мощи. Все эти виды
деятельности требуют открытости для международных контактов и
терпимости к разнообразию. Республика приютила католика Декарта и
еврея-еретика Спинозу с их радикальным рационализмом, дала
убежище отцам-пилигримам и философу-вигу Джону Локку. Конечно,
это не то, что мы сейчас называем плюрализмом, но настолько близко
к нему, насколько было возможно в Европе того времени. И,
вероятно, это самый радикальный аспект революции, максимальное
приближение Реформации XVI в. к современности.
Религиозные революции в сравнении
В отличие от полуреволюции лютеран, нидерландская
революция началась не с религии, а с политики. Конечно, крайний
религиозный радикализм присутствовал в ней с первого же этапа. Именно
153
нидерландский радикализм, собственно, с исключительной силой
проявил себя в Мюнстере. Но его подавляли сначала правительство
Габсбургов, затем лидеры-«политики» (Вильгельм Оранский) в ходе
войны за независимость. Так что милленаристского момента в
нидерландской революции нет. Кальвинизм, хоть и стал главной религией,
пришел поздно, не добился абсолютной гегемонии и, в отличие от
Женевы, Шотландии или Массачусетса, вынужден был играть
вторую скрипку в светской республике. По мере того как мы переходим
от гуситов к «гёзам», вопрос государственного устройства
приобретает все большее значение, а религиозного - все меньшее. С точки
зрения типологии, разрабатываемой в данной книге, нидерландская
революция, несмотря на умеренный и немилленаристский характер,
привела к преждевременно радикальному результату -
республиканскому федеративному государству. В этом она куда больше похожа
на события, которые будут происходить в Соединенных Штатах,
нежели в Англии или Франции.
В качестве предварительного заключения и для того, чтобы
подчеркнуть, что для великой революции необходим весь набор
элементов, о которых шла речь выше, давайте сравним Голландское
восстание конца XVI в. с английским случаем из следующего столетия -
как будто похожим, а на самом деле совершенно иным.
В Нидерландах при Филиппе II, несомненно, наблюдался примерно
тот же уровень торгово-промышленного развития и урбанизации, что
и в Англии при первых Стюартах (а возможно, и выше). Кальвинизм
там, пожалуй, носил более фанатичный и воинственный характер, чем
в Англии времен Лода. Наконец, Нидерландами правил гораздо более
сильный король, обладавший куда более мощной армией, чем когда-
либо имел Вестминстер. Тем не менее, хотя в Нидерландах
разыгралась одна из самых жестоких войн столетия, но не было революции
в смысле «фанатизации» политики и структурного распада
гражданского общества, как после 1640 г. в Англии. Ибо там отсутствовал
национальный фокус, который придал бы восстанию
концентрированную конституционно-идеологическую направленность. Оно приняло
форму военной конфедерации (сначала из тринадцати провинций,
затем из семи) против монарха в различных его званиях - как графа
Фландрского или Голландского, герцога Брабантского и т. д. Поэтому
борьба превратилась, в сущности, в национально-территориальную
освободительную войну, аналогичную той, что американские колонии
вели против Англии. Однако не произошло
конституционно-идеологического внутреннего переворота, подобного борьбе английского
парламента со своим королем за верховную власть в единой,
унифицированной государственной системе.
Часть II
КЛАССИЧЕСКИЕ
АТЛАНТИЧЕСКИЕ
РЕВОЛЮЦИИ
6
АНГЛИЯ, 1640-1660-1688
ОТ РЕЛИГИОЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
К ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Нет епископа - нет и короля.
Яков I (1604)
Роспуск этого Правительства породил войну, а не
война роспуск Правительства.
Джеймс Гаррингтон. Республика Океания (1656)
Общины Англии, заседающие в Парламенте,
объявляют, что народ, ходящий под Богом, является
источником всякой законной власти, и также объявляют, что
общины Англии, заседающие в Парламенте, будучи
избраны и представляя народ, являются высшей властью
в государстве.
Постановление палаты общин (4 января 1649)
Последний бедняк Англии проживает жизнь, как и
самый великий ее житель, и, следовательно... каждый
человек, подчиняющийся правительству, должен по
собственному согласию поставить себя в подчинение тому
правительству, и я думаю, что последний бедняк Англии
не обязан в строгом смысле подчиняться тому
правительству, которое он не выбрал сам.
Дебаты в Патни (1647)
Более справедливо меньшинству покорить
большинство, чтобы сохранить свободу, чем большинству
покорить меньшинство, чтобы сделать их такими же рабами.
Джон Мильтон (1644)
Пресвитерианство - не религия для джентльменов.
Карл II
Первая бесспорно современная революция была также
последним европейским переворотом во имя устаревших идеалов.
Эта особенность так же тесно связана с результатом и смыслом
революции, как и радикальная схема действий, которая роднит ее с
157
гуситским и французским переворотами. Совершать революцию во
имя якобы консервативных принципов, как в политике, так и в
религии, - отнюдь не то же самое, что во имя откровенно радикальных и
светских.
Как уже отмечалось, нарочитый консерватизм характерен для всех
аспектов жизни досовременной Европы. До появления идеи
прогресса в конце XVII в. любые изменения, вне зависимости от их
значимости, рассматривались в Европе как возрождение или реформация
(то есть преображение существующего): rinascita или renaissance в
искусстве и литературе, reformatio или restoratio в религии. Мы
также видели, как подобное восприятие повлияло на гуситское
восстание в Богемии, на лютеранскую и кальвинистскую Реформацию. Его
сдерживающий эффект проглядывает и в аномалии британской
исторической традиции, которая признала бурные и кровавые события
1640-1660 гг. полномасштабной революцией с опозданием почти на
два столетия, но в то же время присвоила это эпохальное звание
элитарному и неохотному государственному перевороту 1688-1689 гг.
Как же эта аномалия отразилась на трехсотлетней историографии?
Джентльменские дебаты
В самом XVII в., по крайней мере после казни короля,
озвучивалось преимущественно негативное отношение к произошедшему: на
одного Мильтона, приветствовавшего Английское содружество,
приходилось с десяток Джонов Локков, считавших Англию того
времени «огромным бедламом». Первый историк революции, Кларендон,
события середины века называл «Великим мятежом», а их
политический смысл определял как «гражданскую войну» и
«междуцарствие»1. Потом победители 1688 г. погребли этот мятеж под виговской
интерпретацией истории, как ее назовут позже. Схема такой
трактовки, впервые намеченная современником епископом Гилбертом
Бернетом, обрисована в шести томах его мемуаров: лишь треть
первого тома посвящена «беспорядкам» до 1660 г., а во всех остальных
подробно описываются тирания Карла II и Якова II и либеральная
«слава» 1688-1689 гг.2 В следующем веке Дэвид Юм, резко
критикуя разрушительный «энтузиазм» пуритан, парадоксальным образом
признал, что сбалансированная свобода 1688 г. была бы невозможна
без их атаки на абсолютизм. Тем не менее в конце XVIII в. Эдмунд
Бёрк, испугавшись, что пример французской революции разожжет
тлеющие угольки английского энтузиазма, снова похоронил 1640—
1660 гг. под 1688-м (его знаменитые «Размышления» на деле
посвящены не столько анализу французских событий, сколько оправданию
британского государственного устройства).
158
В труде, положившем начало современной историографии
вопроса, - «Истории Англии» Маколея - акценты заимствованы у
епископа Бернета, но в духе удовлетворенности тем, что ставка вигов на
реформу в 1832 г. уберегла Англию от чего-то похожего на 1848 г, во
Франции. Лишь в конце блистательной эры викторианской
стабильности С. Р. Гардинер смог, наконец, без опаски эксгумировать
историю пуританского энтузиазма и даже подчеркнуть его значение для
окончательного триумфа ценностей вигов и национального величия3.
Тем не менее и в 1938 г., когда внучатый племянник и духовный
наследник Маколея Дж. М. Тревельян опубликовал книгу под
названием «Английская революция», он все еще имел в виду события 1688—
1689, а вовсе не 1640-1660 гг. - последние он разбирал отдельно под
нейтральным заголовком «Англия при Стюартах»4.
Правда, к тому времени такой взгляд стал анахронизмом, ибо
превращение социализма в массовое движение на рубеже веков уже
начало приносить свои плоды в историографии. Первый достойный
внимания пример подал Р. Г. Тони, англокатолик и член Фабианского
общества. В книге «Религия и становление капитализма», вышедшей
в 1926 г., он использовал тезис Макса Вебера о протестантской этике,
доказывая, что пуританство на самом деле являлось матрицей
британского капитализма, которому, как он надеялся, вскоре придет на
смену этический социализм, черпающий вдохновение в допуритан-
ском христианстве5. Как и следовало ожидать, этот мягкий
социализм вскоре полевел под воздействием более жесткого варианта,
созданного Октябрем 1917 г.
В 1940 г. марксист и член компартии Великобритании Кристофер
Хилл опубликовал свою первую работу под простым названием
«Английская революция», без каких-либо дополнительных
характеристик. Он имел в виду в первую очередь события 1640-1660 гг., и в
его глазах этот новооткрытый эпохальный раскол представлял собой
«буржуазную революцию» в Англии6, а сектанты-пуритане являлись
далеким прообразом современного пролетариата - идеи, которые,
несомненно, идут от Энгельса 1890-х гг.7 Короче говоря, под
влиянием российского примера Хилл сделал для английских левеллеров,
диггеров и рантеров то же, что Лефевр чуть раньше для французских
крестьян XVIII в.8 Даже Тревельяну пришлось присоединиться к
новому тренду и написать социальную историю Англии, которую он
охарактеризовал как «историю без учета политики»9. Но до конца
XX в. изучение «двухголовой» Английской революции шло в столь
тесной связи с современной политикой, что так и хочется
поправить Тревельяна вердиктом советского историка M. H. Покровского:
«История - это политика, опрокинутая в прошлое»10.
159
После Второй мировой войны, когда в Великобритании
восторжествовали социалисты, подход к Английской революции с точки
зрения классовой борьбы вылился в знаменитую некогда «бурю из-
за джентри». В 1941 г. Тони, перейдя на более радикальную позицию,
в статье «Подъем джентри, 1558-1640» изобразил этих сельских
джентльменов деревенской буржуазией, которая готовилась бросить
вызов старому «феодальному» строю. Лоренс Стоун в 1948 г.
дополнил его тезис рассуждениями о происходившем в то же время
упадке аристократии11. Бурю данный вопрос вызвал в 1953 г., когда Хью
Тревор-Роупер в статье «Упадок джентри» перевернул с ног на
голову и Маркса, и Вебера. Он утверждал, что индепенденты Кромвеля
были обнищавшими сквайрами, движимыми ненавистью к
централизующей и дорогостоящей монархии вкупе с ностальгией по более
простой Англии, которая якобы существовала при Елизавете I. Затем
в 1958 г. суровый заокеанский виг Джек Хекстер в статье «Буря
из-за джентри» разнес в пух и прах обе стороны дебатов. И Тони, и
Тревор-Роупер, писал он, делают обобщения на основе скудных до
ничтожности фактов: в действительности часть джентри переживала
подъем, часть - упадок, но это не имело никакой связи с
господствующими среди них тенденциями и реальной политической
ориентацией12. Задним числом спор о проблеме, которая не стоит выеденного
яйца, увлекший, однако, ряд наиболее выдающихся историков того
времени, выглядит почти комичной «интерференцией» настоящего
и прошлого, причем кажется, что Кларендон и Бернет явно ближе к
истине.
Тем не менее еще двадцать лет концепция Английской революции
неизменно главенствовала в истории Стюартов. Наиболее искусно
ее пропагандировал Лоренс Стоун, переселившийся в Америку и
попавший (на сей раз удачно для себя) под влияние социальной науки
«стасиологии»13. И, конечно, с усиленным вниманием продолжалось
изучение социально-экономической ситуации, сильно обогатившее
наши знания. Но выражение «буржуазная революция» постепенно
исчезало из оборота, даже сам Хилл отказался от строгого
определения джентри как сельских капиталистов и стал говорить, что 1640-
1660 гг. лишь создали общие условия, которые позже сделали
возможным капиталистическое развитие14.
Разумеется, в конечном счете «промарксистская» социальная
история, характерная для середины XX в., не устояла под
ответным ударом политического и идеологического «ревизионизма».
Перемены были обусловлены не только очевидным крушением
теории буржуазной революции; свою роль, несомненно, сыграло и то,
что изрядно потускнел глянец отечественного социализма в Англии
160
и «реального социализма» за рубежом. Ощущение исторической
особенности Британии заметно усилилось, когда трехсотлетие событий
1688-1689 гг. с точностью до нескольких месяцев совпало с
двухсотлетием 1789 г. и крахом коммунизма в Восточной Европе.
Новую страницу в историографии еще в 1971 г. открыл Конрад
Расселл работой «Кризис парламентов: Английская история, 1509—
1660», явно избрав столь неброское заглавие, дабы избежать термина
«революция»15. Впрочем, это не означало возврата к виговской
интерпретации, так как «ревизионисты» были против телеологического
взгляда на британскую историю, хоть национального, хоть
марксистского. Согласно ревизионистской точке зрения, все, что осталось от
драмы XVII в., - цепь кризисов, в которых парламент, точнее, любой
из парламентов являлся не столько институтом, сколько событием.
Лишь после чередования этих кризисов к концу столетия
определилось, выживет ли парламент, чтобы стать опорой британской
государственности. Следовательно, при исследовании противоречивых
1640-1660 гг. объяснять надо не вспышку революции, а истоки
гражданской войны. Слово «революция» годится в лучшем случае для
безусловно радикального момента казни короля в конце 1640-х гг.16
Ревизионизм продолжает существовать по сей день в виде
«номиналистского», по выражению Расселла, стиля, колеблющегося между
антиревизионистскими выпадами и неоревизионистскими изысками.
Что же будет означать термин «английская революция» в данной
книге? Очевидно, и акцент радикалов на 1640-1660 гг., и внимание
вигов к 1688-1689 гг. отчасти оправданы. Первый из этих периодов -
самый поразительный и насыщенный эпизод столетия; без него не
было бы и 1688 г. Вместе с тем кризис, начавшийся в 1640 г.,
урегулировала не Реставрация 1660 г., а скромный «последний толчок»
1688 г., который в результате по праву считается моментом
закладывания фундамента современной британской политики и
сопровождающего ее национального мифа. Поскольку 1688 г., бесспорно,
является ключевым наследием века, «английской революцией» мы здесь
будем называть весь кризис 1640-1660-1688 гг.
С такой точки зрения, 1640-1660 гг. - действительно долгий
интервал, перерыв в национальном развитии, как утверждает виговская
интерпретация. Однако если Хилл и марксисты чересчур
размахнулись, делая из этого периода буржуазную революцию, то
«ревизионисты» зашли слишком далеко в обратную сторону, сводя его к
«кризису парламентов» и тем самым превращая начало гражданской войны
в главную загадку, требующую объяснения. Тем, кто не участвовал в
дебатах, Лоренс Стоун в 1970 г. предложил компромиссную позицию:
«Саму войну объяснить сравнительно несложно; сложнее разгадать,
161
почему большинство признанных государственных и церковных
институтов - корона, суд, центральная администрация, епископат - так
позорно пали за два года до нее»17. Позже к перечисленным потерям
добавился парламент. Это практически максимум всего, что
можно сделать для демонтажа «традиционного» европейского порядка.
Кроме того, со времен гуситского восстания двухсотлетней давности
английская драма стала первым европейским переворотом, который
дошел до крайностей сравнимого масштаба, и первым, с которым
сознательно ассоциировали свои действия участники всех
последующих революций. Несомненно, подобных достижений достаточно,
чтобы зваться революцией.
Формулировку Стоуна необходимо дополнить последней
загадкой: почему признаваемые им катаклизмы оставили столь малый след
в британской истории? Как мы увидим ниже, главными настоящими
наследниками Английского содружества были американские отцы-
основатели. В Англии же сохранилась лишь полупохороненная, но не
сказать, чтобы совсем несущественная традиция
нонконформистского радикализма. Наиболее видный его представитель, пожалуй,
оппонент Бёрка - Томас Пейн, которому пришлось искать свою
революцию за океаном или Ла-Маншем. Мы можем поставить в один строй
с ним таких историков середины XX в., как Хилл и Э. П. Томпсон,
искавших свою - в московском мираже. Дома они утешались
сектантами XVII в. и промышленными рабочими до 1832 г. - протопроле-
тариями, которым не довелось стать локомотивом истории, как бы их
выявление ни стимулировало развитие историографии18.
В чем же суть долгой революции 1640-1688 гг.? Здесь виговская
традиция, при всей ее упрощенной телеологии и преувеличенном
манихействе, зрила в корень. На всех этапах этой революции решался
конституционный вопрос взаимоотношений парламента и короля
или, как сказал Маколей, перехода от «средневековой смешанной
монархии к современной смешанной монархии». Одновременно
(и отнюдь не во вторую очередь) шла речь о правильной
христианской доктрине и надлежащей церковной организации, что в конечном
счете открыло перспективы для современной толерантности. Каковы
были глубинные причины революции - другой вопрос, но никто не
может спорить с тем, что современники эпохи думали, будто
сражаются именно за две указанные выше цели.
Историческая обстановка
Если по поводу статуса «Великого мятежа» как революции есть
сомнения, то насчет того, являлась ли монархия первых Стюартов го-
162
сударством, сомнений нет. Но каким государством? Привычный
ярлык для европейского государства того времени - «новая монархия».
В качестве стандартных примеров приводятся Испания Фердинанда
и Изабеллы, Франция Людовика XI, Англия Генриха VII. Что
касается Англии, то еще вопрос, можно ли определять тюдоровскую
«новую монархию» как абсолютизм. Сами Тюдоры, конечно,
считали, что можно: Генрих VIII после разрыва с Римом именовал свое
королевство «империей», а Елизавета себя - «абсолютным
государем». Тем не менее позже значительная часть тех, кому «миф
творения» Великобритании представлялся сплавом актов
национального самоутверждения, от демарша Генриха VIII в 1529 г. до провала
абсолютистских претензий Стюартов в 1688 г., не желали вешать
«континентальную» «алую букву» на предшественников последних.
На самом деле режим, унаследованный Стюартами от Тюдоров, был
абсолютным настолько же, насколько и любое другое династическое
правление его времени. Расхождение появилось только в XVII в.,
когда «новая монархия» почти повсеместно скатилась к настоящему
абсолютизму; наиболее совершенным его примером служило,
разумеется, государство Людовика XIV (или Льюиса XIV, как назвал его
Маколей), на фоне которого и стали наноситься завершающие
штрихи британского национального мифа19.
Возможно, прояснить проблему поможет беглый взгляд на ее
longue durée. В Европе становление государств происходило в три
стадии. Вначале консолидировалась феодальная монархия XII—
XIII вв., при которой пирамида вассалитета наконец стала более или
менее эффективной командной структурой, но ничего похожего на
прямую власть короля над страной не наблюдалось. Затем возникла
«новая монархия» конца XV - XVI вв., приблизившаяся к прямому
королевскому правлению вследствие ликвидации или укрощения
высшей знати. И наконец, на первую половину XVII в., главным
образом благодаря «военной революции», пришлась очередная волна
государственного строительства, породившая в итоге государство,
которое напрямую контролировало национальную территорию и
потому безоговорочно может быть названо современным. Эти процессы
сопровождались также развитием идеи высшего средоточия власти,
или суверенитета, в политии, сформулированной Жаном Боденом в
1576 г., и принципа «интересов государства» (ragione di stato),
впервые предложенного Джованни Ботеро в 1589 г., который превратил
благополучие суверенной власти в самоцель, освободив ее от
традиционных нравственных ограничений. В контексте данной третьей
стадии и следует рассматривать политику первых Стюартов. Карл I,
в сущности, пытался подражать своему шурину Людовику XIII.
163
К несчастью для него, он не располагал финансовыми и военными
ресурсами последнего. Поэтому в самом глубинном смысле английская
революция представляла собой отказ мириться с абсолютистской
моделью построения государства и проведение неизбежной
трансформации традиционной политии под руководством парламента, а
не монарха.
Однако подобная трансформация не означала, что новое
английское государство перестало быть «старым режимом» в широком
смысле слова - как традиционный уклад или «общность» (Gemeinschaft).
Более того, «старый режим» в значительной мере пережил XVII в.
и даже 1789-1815 гг., уступив место современности лишь в период
между эмансипацией католиков в 1828 г. и парламентской реформой
1832 г.20 А его следы сохраняются до сих пор - в виде монархии,
палаты лордов и церкви, «установленной законом».
Таким образом, Англия во многом была обществом «двух мечей»
й «трех сословий», хотя последние делились несколько иначе, чем в
хрестоматийной французской модели. Король сам по себе являлся
«первым сословием»; «второе сословие», представленное в палате
Лордов, состояло из пэров и епископов; «третье сословие», заседавшее
в палате общин, включало в себя нетитулованных джентри и богатых
горожан. Церковь в целом не составляла отдельного сословия, хотя
епископы и низшее духовенство собирались отдельно от
парламента на национальной церковной ассамблее, именуемой конвокацией.
Ёпрочем, Англия - не единственный случай отклонения от
французской нормы. В Швеции, например, крестьянство образовало «четвер-
foe сословие», можно найти аномалии и в других странах. Главное,
что повсеместно существовала законная корпоративная иерархия21.
Поговорим теперь о более важных аспектах английской
«исключительности», которая зачастую преувеличивается, но
действительно имеет место. Во-первых, знаменитое островное положение Англии
йильно упрощает проблему обороны, не только потому, что делает
вторжение сложнее технически, но и потому, что снижает затраты на
оборону и, следовательно, облегчает бремя войны для всех
государственных институтов22.
Во-вторых, Англия, как гласит старое клише, «тесный островок».
Со времени правления Альфреда Великого в IX в. она стала
унитарным королевством, и ее границы, в основном водные, не менялись
более тысячи лет. Ее традиционная соперница Франция, напротив,
складывалась как политическая единица полтора столетия в
результате приращения королевского домена, а стабильные северные и
восточные границы смогла установить только при Людовике XIV. На
другом конце континента московские князья точно так же создавали
Свое царство путем схожего светского процесса «собирания русских
164
земель». Все, что находилось между ними, превратилось в прочные
национальные образования лишь в XIX в.
Кроме того, Англии очень повезло со способом приобщения к
институциональной матрице всех европейских государств -
феодализму. Ей не пришлось создавать такую систему относительного
порядка из почти анархии 1000 г., как странам по ту сторону Ла-Манша:
феодализм победил в Англии одним ударом благодаря
норманнскому завоеванию в 1066 г. А норманнский феодализм был самым
эффективным в Европе - единственным, при котором король
действительно, а не теоретически стоял на вершине феодальной пирамиды23.
Только норманнское же королевство Южной Италии и Сицилии
представляло собой сравнимое по эффективности феодальное прото-
государство; оно и составило основу исключительной, но
недолговечной империи Фридриха II Гогенштауфена в начале XIII в. Причем
английское королевство Вильгельма I и Генриха И, подобно Богемии
Карла IV, имело максимальные размеры для успешной феодальной
монархии (примерно два Нормандских герцогства). Эта монархия
потерпела крах лишь дважды за историю своего существования: во
время Войны Алой и Белой розы и «междуцарствия» XVII в. Еще
одним благословением для «царственного острова» стала
относительная дешевизна управления его унитарным государством, поскольку
должностные лица графств, шерифы и мировые судьи,
принадлежали к местным нотаблям и служили королю бесплатно.
Столь же ранним экономическим развитием Англия похвастаться
не могла. Почти до 1500 г. она в основном экспортировала сырье,
преимущественно шерсть для текстильной промышленности Фландриц
и Флоренции. В течение XVI в. она с помощью завезенных
фламандских работников устроила собственные шерстяные
мануфактуры. В то же время английские корабли стали активно участвовать
в осуществлении торговли в Северной Европе вплоть до русского
Архангельска, а к началу XVII в. при содействии немецких шахтеров
добыча угля превратилась в промышленное производство широких
масштабов. По сути, Англия XVI в., которую впоследствии возьмут
за образец индустриального развития более отсталые нации, сама,
дебютируя на индустриальной сцене, воспользовалась, так сказать,
«преимуществами отсталости» по сравнению с более развитыми
соседями за Ла-Маншем. К моменту вступления Стюартов на престол
Англия уже встала на путь, который в итоге приведет ее к
экономическому лидерству в Европе.
В политическом отношении Англия XVI в. следовала модели
сравнительно медленных, постепенных изменений без резких
скачков и радикальных переломов. Благодаря этому она пережила цер-
165
ковную Реформацию в самой мягкой из возможных форме, хотя в
ту эпоху столь крутые перемены почти неизбежно вели к насилию.
Генрихова реформа 1529-1539 гг. была государственным актом, ее
начали не рьяные клирики, как в Германии, Швейцарии и Франции,
она не сопровождалась массовым народным энтузиазмом. Это
относится и к разрешению религиозного вопроса Елизаветой в 1560-х гг.
Притом меньшинство пламенных реформаторов-пуритан, надеясь,
что их действия в один прекрасный день приведут Реформацию
к «завершению», оставалось под крылом официальной церкви до
1640 г., в отличие от Франции или Нидерландов, где кальвинисты
откололись и основали параллельную церковь24. Для тех же, кто не
желал ждать, существовала возможность эмигрировать в Колонию
Массачусетского залива, которая в 1630-е гг. приняла около
20 тыс. эмигрантов. Примеры религиозных войн XVI в. во Франции
и Нидерландах также способствовали умеренности при проведении
английской реформы.
Вместе с тем государственный аппарат укреплялся путем
создания различных «прерогативных судов»: Звездной палаты для
светских дел, Высокой комиссии по религиозным вопросам, других
органов помимо судов общего права. Параллельно парламент,
исторически и по закону служивший лишь продолжением королевской
курии, или суда, хоть и оставался всецело послушным королевской
воле, за столетие сделался де-факто частью центрального
правительства. Главная причина этого, конечно, заключалась в том, что
и Генрих, и Елизавета нуждались в общественной поддержке для
осуществления своей церковной революции. Как джентри, так и
корона получили выгоду от роспуска монастырей и распродажи их
имущества. Благодаря частому созыву парламента упрочивалась
преемственность его состава, увеличивалась возможность развития
институциональных процедур, усиливалось чувство корпоративной
идентичности. Конрад Расселл охарактеризовал государственную
систему Тюдоров следующим образом: «Суть этой системы
состояла в разделении фактической власти между короной и
господствующими элементами имущих классов. Символическими выражениями
этого партнерства были парламент и понятие главенства закона, хотя
на практике они сводились к одному и тому же, так как парламент
являлся высшей законодательной властью»25.
Демографические показатели британского государства были
довольно скромны: в Англии и Уэльсе насчитывалось примерно 5 млн
жителей, в Шотландии и Ирландии, вместе взятых, - еще около
миллиона. В столице Лондоне, который в середине века являлся вторым
крупнейшим городом Европы после Парижа, проживало 450 тыс.
чел., то есть 10 % населения страны.
166
Пролог
Почему же исключительно успешная государственная
машина, созданная Тюдорами, скатилась в кризис и развалилась при их
преемниках? На деле эта система уже стала анахронизмом к тому
времени, как ее унаследовали Стюарты: как раз тогда наступила
фаза «жесткого» государственного строительства в Европе XVII в.
Главным стимулом к ней послужила так называемая «военная
революция» раннего Нового времени. С начала XVI до середины XVII в.
борьба испанских Габсбургов и Франции за Италию и Нидерланды
преобразила европейское военное дело. Использование пороха
увеличило наступательную мощь; густая сеть укреплений во много раз
усилила оборону; в ответ появились усовершенствованная
артиллерия и массовая пехота, организованная в регулярные армии. Во
время Тридцатилетней войны революция распространилась на восток, в
Германию, и на север, в Швецию, а Британского архипелага достигла
лишь в ходе гражданской войны XVII в.26
Все это, конечно, стоило дорого, и в результате после
двухсотлетнего процветания выборных штатов (собраний сословий) в
большинстве стран Европы монархии в начале XVII в. стали отдавать
предпочтение более послушному и стабильному постоянному
бюрократическому аппарату. При Якове I стремление к такому
новомодному абсолютизму проявлялось скорее в риторике, чем на практике.
Он громко заявлял о божественном праве королей и упорно не
поддавался давлению пуритан, желавших «завершения Реформации»,
которое на деле означало пресвитерианское, то есть выборное,
управление церковью - такую систему он знал по Шотландии и верно
понимал ее несовместимость с идеей сильной монархии. В области
реальной политики Якову не удался честолюбивый замысел
объединить Англию и Шотландию в королевство Великобританию с
единым парламентом. Что касается остального, то он вышел из затяжной
войны с Испанией, начатой его предшественницей, и отказался
ввязываться в Тридцатилетнюю войну после 1618 г., хотя большинству
его подданных она представлялась борьбой за протестантство против
контрреформации, а его зять был главной, причем терпящей
поражение, силой на стороне протестантов. В результате Англия не
присутствовала при основополагающем событии европейской
дипломатии - заключении Вестфальского мира в 1648 г. Единственное
преимущество подобной политики заключалось в том, что она не
требовала больших расходов и тем самым позволяла избегать конфликта с
парламентом из-за введения новых налогов, хотя периодически
возникали разногласия по вопросу монополий и, разумеется, религии.
167
Дело пошло к кризису, когда на престол в 1625 г. вступил Карл I.
Во-первых, он совершил ошибку, ввязавшись одновременно в две
войны - с Испанией и Францией, что, разумеется, привело к
увеличению расходов. В то же время он прикладывал наибольшие усилия
в сфере государственного строительства не в центре своей власти,
то есть в Англии, а на периферии монархии - в Ирландии. Там при
лорде-лейтенанте Томасе Уэнтворте, будущем Ришелье Карла,
беспокойное население было твердо подчинено контролю Дублина,
парламент приведен к покорности, основана регулярная армия для
подавления инакомыслящих католиков - Уэнтворт с полным
правом называл такую политику «всеобъемлющей». Другой ее аспект в
Англии осуществлял новый архиепископ Кентерберийский, Уильям
Лод. «Всеобъемлющая» политика здесь означала насаждение
религиозного единообразия в церкви - стандартная абсолютистская
политика того времени, но особенно рискованная в Англии, поскольку
подразумевала активную кампанию против давно усвоенных
пуританских взглядов, что, конечно, воспринималось как преследование.
Политические меры Лода значительной части населения казались
тем более оскорбительными, поскольку влекли за собой отказ от
основной догмы протестантства - идеи предопределения - в пользу
арминианской доктрины свободной воли («ереси», по мнению
кальвинистов) и литургические нововведения в духе «высокой церкви»,
например перенос алтаря в восточную часть нефа и отделение его
перилами, что попахивало «папизмом». В придачу королева Генриетта-
Мария была католичкой и содержала во дворце католическую
часовню. Все вышеуказанное вызывало подозрения, будто король и Лод
участвуют в «папистском заговоре».
На обоих направлениях своей политики Карл находился в
невыгодных условиях из-за того, что ему связывали руки традиционная
система налогообложения и государственное устройство. Король
должен был «жить за собственный счет», то есть за счет
традиционных сборов и доходов с королевского домена. Помимо них он получал
субсидии, вотируемые парламентом при восшествии короля на
престол. Все дополнительные расходы, например на войну за пределами
страны, оплачивались специальными дотациями от парламента,
регулярной армии Англия не имела. Не располагал король ни постоянным
поземельным налогом вроде французской «тальи», ни возможностью
собирать средства с помощью французской системы «продажи
должностей». В результате этих ограничений и Тюдоры проводили очень
скромную, преимущественно оборонительную внешнюю политику, и
Яков I едва ли мог сделать больше.
Когда Карл I взошел на трон, парламент не выдал ему обычных
субсидий, но король самовластно собрал подати. В 1627 г. для финан-
168
сирования проигрышной войны он прибег к принудительному
займу у подданных под угрозой судебного преследования. В1628-1629 гг.
парламент отказался давать ему деньги, пока он не удовлетворит
возникшие претензии. Вспыхнули большие беспорядки, и Карла
вынудили принять составленную парламентом «Петицию о правах»,
подробно расписывавшую, что члены парламента считали своими
правами по «старинной конституции». Парламент был немедленно
распущен, его наиболее активные лидеры заключены в тюрьму по
королевскому приказу, а Карл поклялся никогда впредь не созывать
парламентов.
В течение одиннадцати лет Карл пытался управлять страной
единолично, как Мария Медичи, будучи регентом при Людовике XIII,
после 1614 г. правила без созыва Генеральных штатов. Чтобы добыть
новые средства, ему приходилось перетолковывать правила
взимания старых податей и пошлин. Главным примером такого рода стали
«корабельные деньги» - налог, изначально собираемый только с
портовых городов, но теперь распространенный на все королевство под
предлогом, что раз весь остров получает выгоду от морского флота, то
и города, расположенные внутри страны, должны оплачивать его
содержание. Некий Джон Хэмптон отказался платить и был отправлен
в тюрьму; в 1637 г. суд подтвердил приговор. Этот случай приобрел
характер серьезного конституционного прецедента, так как со
временем «корабельные деньги» могли превратиться в постоянный налог
наподобие французской «тальи», тем самым устраняя необходимость
в парламенте. Прерогативные суды все больше посягали на
традиционную сферу деятельности судов общего права. С политической
точки зрения это означало, что парламентская, приверженная общему
праву оппозиция правлению королевской «прерогативы» выступала
не за рациональное улучшение существующего положения дел, а за
возврат к непреходящей легитимности «старинной конституции»
(понятие, основанное главным образом на неверном толковании
«Хартии вольностей» и других средневековых статутов), якобы
нарушаемой последними «нововведениями» необузданной королевской
тирании27. Удалось бы Карлу безнаказанно гнуть свою
«всеобъемлющую» линию бесконечно? Может быть, и да, но при одном
обязательном условии: избегая любых военных авантюр, которые потребовали
бы сбора новых налогов.
Начало кризиса
Настоящий кризис был спровоцирован религиозным вопросом.
В 1638 г. Карл, стремясь к религиозному единообразию во всем ко-
169
ролевстве, попытался ввести англиканскую «Книгу общей молитвы»
в пресвитерианской Шотландии. Результатом стали национальный
мятеж, отраженный в «Торжественной лиге и Ковенанте»
пресвитерианской партии, и падение во всей Шотландии королевской власти.
Карл повел на свое северное королевство английскую милицию,
набранную из всякого сброда, но закончилось это позорным
перемирием в Бервике. В разгар кризиса он отозвал Уэнтворта из Ирландии и
сделал его графом Страффордом. Весной 1640 г. королю пришлось
созвать новый парламент, дабы изыскать средства. Тот отказался
голосовать за налоги, пока не будут рассмотрены его претензии и
проведена реформа. Король не подчинился и распустил орган, вошедший
в историю под названием «Короткого парламента».
К лету 1640 г. в Англии воцарилось нечто близкое к анархии.
В Лондоне вспыхивали бунты, дворец Лода подвергся нападению.
Население перестало платить «корабельные деньги». Чувствуя
слабость монарха, шотландские ковенантеры вторглись в северную
Англию, одержали верх над королевскими войсками и потребовали
850 фунтов стерлингов в день (огромная сумма по тем временам),
пока их требования не будут официально удовлетворены. В столь
затруднительном положении Карлу не оставалось ничего иного, как
созвать новый парламент и на сей раз вести с ним переговоры.
Очевидной параллелью созыва «Долгого парламента» в
ноябре 1640 г. является созыв французских Генеральных штатов в мае
1789 г. И в первом, и во втором случае монархии в связи с войной
требовалось утверждение налогов. И в обоих случаях старые
средневековые сословия тут же взяли на себя современные законодательные
функции, прежде чем выручить корону из финансовых затруднений.
Генеральные штаты сделали это открыто и недвусмысленно. «Долгий
парламент» толковал об осуществлении своих исконных прав по
«старинной конституции», но фактически поступил точно так же.
Следующие двадцать лет кризиса и волнений можно в общих
чертах «схематизировать», разбив на три части: парламент и
пресвитерианцы против короля (1640-1645 гг.); армия и индепенденты против
парламента (1646-1649 гг.); Кромвель и армия (1649-1660 гг.). Или
же можно выделить четыре стадии, каждая из которых отмечена
усилением и радикализацией революционной динамики. Первая стадия
(1640-1641 гг.) противопоставила парламент королю в политической
борьбе, которая велась почти единодушно за программу
фундаментальной, но достигаемой правовыми средствами конституционной
реформы. Во время второй (1642-1646 гг.) в парламенте произошел
раскол между умеренными англиканами и
радикалами-пресвитерианами, и последние со своей «армией нового образца» начали воору-
170
женную борьбу против короля. Третья стадия (1647-1649 гг.)
включала в себя падение парламента в результате второй войны между
армией и Карлом, на сей раз выступавшим вместе с шотландцами,
которая закончилась чисткой парламента, казнью короля и
установлением республики. В то же время «левые» индепенденты подавили
«ультралевых» левеллеров. Последняя же стадия, продлившаяся с
1649 до 1660 г., принесла крах Английского содружества,
завоевание Ирландии и Шотландии, упразднение парламента и диктатуру
Кромвеля и армии.
«Долгий парламент» собрался в атмосфере эйфории и
общенациональной готовности к переменам. Именно эта поддержка поощрила
парламент взять на себя по сути законодательные функции. И,
подобно Генеральным штатам 1789 г., для достижения своих целей он
был готов прибегнуть к незаконным методам и физическому
принуждению. Во-первых, парламент намеренно использовал шотландских
ковенантеров, чтобы заставить короля пойти на уступки. Во-вторых,
он располагал либеральным ресурсом в виде столичной черни,
«обученных отрядов» (то есть муниципальной милиции) и лондонских
подмастерьев. К тому же за этими активистами стояло
организованное руководство. «Слева» - «клика» Джона Пима из бывших
членов предыдущих парламентов, имевшая связи с пуританами,
например Джоном Хэмпденом, и часто собиравшаяся в помещениях
Компании острова Провиденс («логово заговорщиков», аналогичное
Бретонскому клубу 1789 г.). Эта группа состояла в нелегальных, если
не открыто изменнических отношениях и с шотландцами, и с
лондонской толпой. Другая «клика» (парламентские группировки того
времени еще сложно назвать «партиями») сформировалась вокруг
Эдварда Хайда и Люшиуса Кэрри, лорда Фолкленда, более
умеренных по политическим взглядам и англикан по вере. Тауэр не
штурмовали, как Бастилию, но абсолютно точно существовало городское
революционное движение с вооруженной гвардией, которое
оказывало прямое физическое воздействие на короля во все решающие
моменты последующих двух лет.
В этой атмосфере, дышавшей насилием, «Долгий парламент»
поистине совершил конституционную революцию. Началась она,
однако, не с декларации общих принципов, как впоследствии в Америке
и Франции, а в более «наивной» политической форме, с нападения
на «дурных советников» короля - подобная форма протеста
позволяла не обвинять прямо самого монарха. Первым делом 11 ноября
предъявили обвинение главному министру короля, Страффорду,
вскоре после него - Лоду, обоих заключили в Тауэр. Когда признать
Страффорда виновным в измене по суду оказалось невозможно, вес-
171
ной 1641 г. парламент приговорил его к смерти законодательным
актом под названием «билль об опале». Карл подписал этот билль под
давлением - толпа подмастерьев осаждала дворец Уайтхолл. Короля
мучили раскаяние из-за того, что он предал верного слугу, и
унижение от принудительной капитуляции. Против других влиятельных
министров также были выдвинуты обвинения, Лода судили и
казнили. В течение первого года существования «Долгого парламента»
Карл не имел сторонников, и предполагавшееся «всеобъемлющее»
дело его царствования потерпело полный крах.
Вместе с тем исчезла цензура, страну наводнили политические
и религиозные памфлеты, обличающие то или иное зло и
предлагающие соответствующие нововведения. Как и следовало ожидать,
церковная дисциплина рухнула, из церквей повыдирали алтарные
ограждения. Пуританское пресвитерианство завоевывало позиции с
активной помощью шотландских союзников парламента, начали
появляться «сборные» церкви индепендентов-конгрегационалистов,
баптисты и другие, более радикальные сектанты. Вообще страну
охватила неистовая политизация вкупе с религиозным энтузиазмом.
В воздухе витали милленаристские ожидания национального
возрождения, прихода Нового Человека и Нового Мира. Новые
парламентарии «приезжали в Вестминстерский дворец с разговорами
о реформированной церкви, Божьем содружестве, Великой хартии
вольностей, старинной конституции и Отечестве»28. После бунта
ирландцев-католиков в декабре 1641 г. парламент объявил последнюю
среду каждого месяца национальным днем общественного поста, в
течение которого почтенные члены парламента должны слушать
проповедь выбранного ими пуританского священника в церкви Святой
Маргариты. Таким образом, революция вскормила собственный
«агитпроп». В то же время она породила своих первых эмигрантов.
Томас Гоббс отправился в Париж, предвидя «беспорядки», так как
Англия, по его словам, «бурлила вопросами о праве господства и
послушании подчиненных - истинными предвестниками
приближающейся войны»29. Одним словом, 1640-1641 гг. были отмечены
сильнейшей вспышкой революционной «лихорадки», по выражению
Бринтона.
В жаркой атмосфере всеобщего заболевания парламент
приступил к своей конституционной реструктуризации. Весной 1641 г. он
принял «Трехгодичный акт», обеспечивающий регулярные собрания
парламента каждые три года не по инициативе короны. За ним сразу
последовал билль, предупреждающий роспуск или перерыв в
работе парламента без его на то согласия. Оба документа Карл подписал
вместе с приговором Страффорду. В июле были упразднены преро-
172
гативные суды Высокой комиссии и Звездной палаты. Принимая эти
меры, парламент, безусловно, выходил за границы «старинной
конституции» и нарушал королевскую прерогативу, в ней воплощенную.
Король в 1629-1640 гг., соблюдая букву «старинной конституции»,
вводил новшества, противоречащие духу ее прежнего применения.
Теперь действия «Долгого парламента» в ходе его первой сессии,
хоть и облеченные в форму удовлетворения претензий, на самом
деле представляли собой фундаментальные нововведения. Иными
словами, к окончанию первой сессии существующий парламент,
превратившийся в учредительное собрание, неуклонно загонял короля
в угол, лишив его прерогативных полномочий. В сущности, эти
изменения сделали парламент официальной и постоянной частью
государственного устройства. То, что именно к этому он и стремился,
подтверждается еще одним новшеством: расходясь на перерыв в
сентябре, обе палаты назначили комитет, который заседал во время
каникул под председательством Пима.
Более того, изменения, сделанные за время первой сессии, легли в
основу соглашения о Реставрации 1660 г. и восстановления этого
соглашения в 1688-1689 гг. Почему же это конституционное
урегулирование не положило конец революции? Почему революция
продолжалась открыто еще целых двадцать лет, а в скрытой форме - почти
до конца века?
Объяснение, которое чаще всего давалось тогда и почти с тех
самых пор встречается в историографии, - нежелание короля
смириться и следовать новому порядку, его неизменное вероломство в
последующих отношениях с парламентом. И все дело будто бы в его
характере. Предполагается, что другой монарх легко принял бы
новый порядок и спокойно с ним ужился. Карл и вправду ожесточился
и стал хитрить. Но личные особенности тут ни при чем; такова ех
officio* специфика монархии божественного права. С ее точки зрения,
Карла «раскороновали», принудив к капитуляции с помощью
физической силы весной 1641 г. Ни один из его сыновей ни Карл II, ни
Яков II, по-настоящему так и не приняли новый порядок. У Людовика
XVI была та же реакция неприятия, когда его вынудили подписать
«Декларацию прав человека» осенью 1789 г. и «Гражданскую
конституцию духовенства» в 1791 г. И он терзался раскаянием, что
нарушил клятву, данную при коронации, подписав эти документы.
Подобную реакцию мы снова наблюдаем у Николая II: он не
смирился с Октябрьским манифестом 1905 г. и созданием Государственной
* По должности (лат.). - Примеч. пер.
173
думы, поскольку тоже полагал, что изменил коронационной клятве,
подписав Октябрьский манифест. (Есть ведь еще трогательный
пример графа де Шамбора, он же Генрих V, который даже в 1875 г. не
отказался от белого знамени Бурбонов ради того, чтобы стать
конституционным монархом.) Возможно, эти государи поступали
неразумно, но они всего лишь исполняли обязательства, возложенные на
них предопределенной свыше ролью, когда не желали идти на
компромисс с бунтарями. Вот почему их приходилось принуждать путем
дальнейшей революции.
Так что революция продолжилась, когда новый порядок
столкнулся с двумя вопросами: во-первых, можно ли верить, что король будет
выполнять соглашения, вырванные у него силой; во-вторых, стоит ли
в перестройке королевства выходить за пределы политики и
проводить «очищение» церкви. Из-за этих двух вопросов единодушные до
сих пор парламент и нация разделились. Одну сторону представляли
«умеренные» англикане, такие, как Хайд и Фолкленд, которые
полагали, что Карла следует поддерживать, раз он принял новый порядок
1641 г. И Карл не преминул воспользоваться расколом уже в конце
первой сессии, предложив Хайду и Фолкленду, лидерам умеренной
фракции, высокие посты. Они вдобавок боялись, что реформа церкви
на пресвитерианский лад будет иметь разрушительный эффект для
всего общества. Данный вопрос также возник в конце первой сессии,
когда радикалы предложили проект закона об отмене епископата -
билль «О корнях и ветвях». Революция, по мнению умеренных,
завершилась, и парламенту надлежало сотрудничать с королем. Клика
Пима, впрочем, более прозорливо считала, что Карл не смирится с
новым порядком и потому нужно продолжать революционное
давление силами радикалов и шотландцев. В этот момент, будто в
подтверждение их подозрений, Карл отправился на лето в Шотландию
искать помощи в борьбе с английскими неприятностями. И в августе
парламент распустил шотландскую армию. Парламент и гражданское
общество поляризовались, предоставляя тем самым королю
политическую базу, необходимую для попытки вернуть прежнее положение;
окончиться это могло только гражданской войной. И тогда начала
демонстрировать себя во всей красе логика насилия и политической
интоксикации.
Первая радикализация
Когда в октябре 1641 г. парламент собрался вновь, в третьем
королевстве Карла, Ирландии, разразилась собственная революция, и в
Англии положение начало склоняться в сторону вооруженного кон-
174
фликта. Ирландцы, чрезвычайно раздраженные «всеобъемлющей»
политикой Уэнтворта и боявшиеся теперь попасть под владычество
пуританского парламента, дерзнули на бунт, видя, что английское
правительство разваливается в самом своем центре. В октябре
ирландские католики, как джентри, так и крестьяне, с именем короля
поднялись против преемника Страффорда на посту
лорда-лейтенанта и в ходе бунта вырезали часть населения Ольстера,
пресвитерианской «плантации», созданной при Якове. Новости о резне привели
в ужас английских протестантов, доведя до паранойи их вечные
подозрения насчет «папистского» заговора против английских свобод.
Пошли разговоры, что за бунтовщиками стоят Карл и его королева
в надежде воспользоваться армией ирландских католиков против
своих английских подданных. Эта вера в обширный иностранный
заговор против свободы станет неизменной чертой
революционного синдрома. Во времена американской революции колонисты были
убеждены, что политика Георга III служит выражением
британского заговора против традиционных свобод, в годы французской
революции «патриоты» считали, что вокруг сплошные заговоры
аристократов и неприсягнувших священников, стакнувшихся с Питтом и
Кобургом.
В практическом отношении ирландский бунт снова поставил
проблему формирования и содержания армии, а главное, возможности
доверить ее Карлу. Будет ли он ее использовать только против
ирландцев, которые, между прочим, заявляли о своей поддержке
короля, или первым делом бросит против парламента? Враждебность
к королю переросла чуть ли не в панику, клика Пима потребовала
предъявить ему «Великую ремонстрацию», где в истерическом тоне
подробно перечислялись все злоупотребления, совершенные им
с самого начала царствования. Этот подстрекательский документ
был принят большинством всего в 11 голосов (159 против 148), что
свидетельствовало об углублении раскола в парламенте. Такое
разделение подтолкнуло Карла к ответному выступлению, и в январе
он попытался арестовать Пима, Хэмпдена и еще трех
парламентариев. Когда палата общин отказалась их выдать, Карл лично пришел
за ними в палату с парой сотен солдат, но обнаружил, что «птички
упорхнули». Они нашли укрытие в Лондоне, куда за ними вскоре
последовала вся палата общин, создав комитет в Гилдхолле под
защитой лондонцев. В итоге радикальные парламентарии прибрали к
рукам городской совет Сити, очистив его от ненадежных элементов,
а также его милицию - «обученные отряды». С этого момента
столица стала бастионом парламентского движения, которое получило в
свое распоряжение (конечно, под соответствующий процент) ее не-
175
малые богатства для финансирования армии. (Английская валюта со
времен Елизаветы до девальвации 1930-х гг. в основном отличалась
стабильностью, в Англии не было кризиса инфляции, какой случился
во Франции.)
Карл после провала попытки, недвусмысленно обнаружившей его
нежелание соглашаться с конституционной революцией
предыдущего года, уехал из столицы в Йорк. Торжествующая палата общин в
ответ выслала ему билли об исключении епископов из палаты лордов,
явно нарушавшем «старинную конституцию», и передаче
командования ополчением парламенту («Ордонанс о милиции»), что
представляло собой откровенную узурпацию главной королевской
прерогативы. Так как Карл забрал с собой Большую государственную
печать, парламент самовластно присвоил себе право издавать
«ордонансы», то есть осуществлять законодательную власть, вводить
налоги и управлять всеми государственными делами без короля. Страна
оказалась в патовой ситуации. В июне парламент представил королю
«Девятнадцать предложений», кодифицирующих вышеуказанные
изменения; король, естественно, их не принял. В июле парламент
создал Комитет общественной безопасности в качестве временного
исполнительного органа, действующего вместо короля, и поставил во
главе армии графа Эссекса. Через месяц король поднял в Ноттингеме
королевский штандарт, и противостояние переросло в вооруженный
конфликт.
Вторая радикализация
Война, в особенности гражданская, всегда оказывает
радикализирующее действие. Она милитаризует политику и тем самым
обостряет все политические и идеологические расхождения. Таким образом,
по мере продолжения войны конституционные и религиозные
проблемы, разделявшие английское общество, постепенно приобретали
все более серьезный характер.
Король, твердо убежденный в своем божественном праве на
власть и повиновение подданных, избрал тактику переговоров и, если
необходимо, компромиссов ради того, чтобы выиграть время,
дожидаясь раскола среди противников, каковой уже произошел
однажды в конце 1641 г. Этим объяснялось его неизбежное и неизменное
двуличие, так как до самого конца он верил, что рано или поздно
победит. Парламенту же гораздо сложнее было выработать стратегию.
С одной стороны, он очень долго ставил целью не разгромить короля
по всем статьям, а лишь заставить его утвердить тот или иной
вариант «Девятнадцати предложений». С другой стороны,
парламентарии в глубине души сознавали, что сама природа королевской власти,
возможно, не позволит Карлу добровольно пойти на компромисс.
176
В спорах по вопросу о войне выделились три партии: партия
«мира как можно скорее», партия «ограниченных боевых действий»
и партия «войны до полной победы». Учитывая натуру короля, время
играло на руку последней группе.
Страна раскалывалась медленно и неохотно, и в этом процессе
не прослеживалось четких социальных или географических
закономерностей. В общих чертах юг и восток поддерживали парламент,
а север и запад - роялистов, что примерно соответствовало
разграничению между развитой и отсталой частями страны. Но при этом
Лондон твердо стоял за «круглоголовых», а Бристоль, второй по
значению город Англии, - за «кавалеров». В восточной Англии,
регионе в основном сельском, преобладали пуритане, отчасти благодаря
близости и влиянию кальвинистских Нидерландов. Представители
всех социальных слоев, от великих пэров до простых ремесленников,
встречались в обоих лагерях, хотя люди «низшего сорта» играли
более громкую и заметную роль на стороне парламента. Одним словом,
в действительности раскол происходил по идеологическим
принципам - политическим и религиозным.
В военном отношении изначально король обладал
преимуществом, в частности, поскольку в его лагере насчитывалось больше
военных-профессионалов, таких, как принц Руперт, заслуживший
рыцарские шпоры во время Тридцатилетней войны. Парламенту же
после первых военных неудач пришлось создавать собственное
профессиональное войско. Его самую эффективную боевую силу
составляла набранная из ремесленников и крестьян армия Восточной
ассоциации под командованием Кромвеля - знаменитые
«железнобокие». В 1644 г. их слили с другими военными частями,
организованными парламентом, в «армию нового образца». «Нового» -
потому что «Ордонансом о самоотречении» все члены парламента,
кроме Кромвеля, устранились от военного руководства, предоставив
ведение войны профессионалам. Она представляла собой примерно
50-тысячное вооруженное формирование под началом сэра Томаса
Фэрфакса, Кромвель командовал кавалерией.
С политической точки зрения, парламент пользовался поддержкой
шотландцев, официальным воплощением которой служил Комитет
обоих королевств. А так как религия всегда переплеталась с
политикой, то одновременно с этим союзом была создана Вестминстерская
ассамблея из пресвитерианских богословов двух стран. В 1643 г.
парламент и шотландцы заключили между собой «Торжественную
лигу и Ковенант», поклявшись реформировать религию в Англии,
Шотландии и Ирландии «по Слову Божьему и по образцу лучших
реформатских церквей». Это означало введение пресвитерианства
177
на всей территории Британских островов, отмену парламентом
епископата, но не открывало дверь ни индепендентам, ни конгрегацион-
ной организации церковного управления. Предполагалось сохранить
единую национальную церковь и единую ортодоксию. Разумеется,
подобное положение оказалось неприемлемым для растущего числа
индепендентов-конгрегационалистов, особенно в армии, и Кромвель
разделял их позицию. В результате пресвитерианство не удалось
ввести де-факто по всей Англии, на деле в стране ширился религиозный
плюрализм.
В той же политической сфере парламенту пришлось стать
настоящим правительством. Налоги повысились в несколько раз по
сравнению с теми, что существовали при Карле. Они легли тяжким
бременем на все население, особенно на низшие классы, и в целом 1640-е гг.
стали периодом экономической разрухи и депрессии. После отмены
епископата церковные земли были конфискованы и проданы,
королевские владения также проданы или выставлены на аукцион вместе
с поместьями некоторых пэров-роялистов.
С помощью всех перечисленных мер парламент к 1646 г. выиграл
войну против Карла, 14 июня одержав победу при Несби. Королевская
столица, Оксфорд, капитулировала, король сдался шотландцам.
Парламент передал ему новый пакет предложений по преодолению
кризиса, включавших признание пресвитерианского Ковенанта и
предоставление парламенту контроля над армией на двадцать лет.
Карл, видя явно намечающийся разлад между парламентскими
пресвитерианами и армейскими индепендентами, отказался принять
условия парламента. В итоге шотландцы выдали его парламенту за
400 тыс. фунтов, которые король им задолжал. Эту сумму
пресвитерианскому парламенту предоставили финансовые воротилы
лондонского Сити.
Третья радикализация
На следующий год между парламентом и армией
действительно произошел разрыв. После шести лет волнений страна жаждала
стабильности и чрезвычайно устала от тяжелых налогов на войну.
В качестве плана урегулирования парламент предполагал ввести в
Англии единообразный пресвитерианский порядок и поставить
короля перед свершившимся фактом, который ему придется признать,
дабы вернуться на трон. Соответственно епископские земли
конфисковали и продали, но в то же время в качестве меры против индепен-
дентов запретили проповедовать лицам, не имеющим духовного сана.
Затем парламент принял ошибочное решение немедленно распус-
178
тить армию, кроме частей, необходимых для усмирения Ирландии.
Деньги на ирландскую кампанию могли поступить только от Сити,
а он давил на парламент, чтобы тот снизил расходы путем роспуска
армии. Ветераны, однако, не желали принять эту программу прежде
полной выплаты обещанного им жалованья. В марте армия поклялась
не расходиться, пока ей не выплатят все долги и не обеспечат
свободу совести - основной догмат индепендентов. Чтобы отстаивать свои
позиции, рядовые бойцы начали организовывать настоящие
солдатские советы. Каждый полк выбирал двух «агитаторов» (в то время
это слово означало просто «агент» или «депутат»). В конечном счете
агитаторы объединились с младшими офицерами и сформировали
Совет армии для нажима на парламент.
В начале июня армия потеряла терпение и фактически
взбунтовалась, приняв «Торжественное обязательство» не складывать оружие,
пока не будут удовлетворены ее требования. Без сомнения, самое
большое значение для нее имели деньги, но многих всерьез волновал
вопрос религии, да, наконец, и о чести речь шла не в последнюю
очередь. 14 июня военные заявили: «Мы были не просто наемной
армией, готовой служить любому произволу государства». К тому
времени Кромвель и его главный сподвижник и зять Айртон, испугавшись,
что пресвитерианское большинство в парламенте заключит сделку
с шотландцами и Карлом против армии и индепендентов, покинули
Лондон и присоединились к военному лагерю, стоявшему в двадцати
милях к северу от Сити. Этим военачальникам пришлось примкнуть
к мятежному Совету армии, с тем чтобы отстаивать его требования,
не позволяя, однако, бунту заходить слишком далеко. В разгар
сумятицы один из младших офицеров, корнет Джойс, с отрядом в 500 чел.
захватил Карла. Армия тут же потребовала привлечь к суду
одиннадцать парламентских лидеров-пресвитериан.
К июлю наступила анархия, какой Англия не знала с лета
1640 г. Люди опять отказывались платить налоги. Солдаты из
прежних ополчений, расформированных вследствие создания в 1645 г.
«армии нового образца», заполонили Лондон, требуя выплатить
задолженности им. Вместе с вечно беспокойными лондонскими
подмастерьями эти «реформаторы» ворвались в парламент с заявлением,
что в первую очередь должны быть удовлетворены их претензии, а уж
потом - «армии нового образца». Спикеры обеих палат и около сотни
парламентариев бежали к армии. 3 августа военные заняли Лондон и
водворили обоих спикеров обратно в парламент, выгнав оттуда
одиннадцать пресвитерианских лидеров. Контроль над ситуацией
перешел в руки полумятежной армии. Она представила в августе Карлу
свои условия. Озаглавленные «Пункты предложений», эти условия
179
носили более радикальный характер, чем любая из предыдущих
программ урегулирования: требовали роспуска существующего
парламента и выборов нового на основе реформированного и
расширенного избирательного права.
В ходе кризиса армия радикализировалась идеологически. Уже
преимущественно индепендентская в религиозном отношении, она
Стала откровенно демократичной в политике. Произошло это под
влиянием Джона Лильберна и группы радикалов, которых
противники иронически называли левеллерами (уравнителями), - группы,
зародившейся летом среди индепендентских конгрегации Лондона
под угрозой нового усиления власти пресвитериан30. В октябре в
приходской церкви Патни, где тогда стояла лагерем армия, недавно
избранные агитаторы, радикально настроенные младшие офицеры и
делегаты левеллеров обсуждали проект левеллерской конституции под
Названием «Народное соглашение». В нем предлагались народный
Суверенитет, верховенство парламента, а в качестве краеугольного
камня - всеобщее (для мужчин) избирательное право31. Обосновывая
свою программу, левеллеры ссылались не на исторические
прецеденты, а на естественные права и естественный здравый смысл.
Ёстревоженные Кромвель и Айртон возражали, что только жители,
имеющие «долю» в обществе, то есть обладающие собственностью,
должны голосовать за любой новый парламент. Так были
поставлены пределы даже индепендентскому радикализму. С этого времени
армейское командование предпринимало активные шаги, чтобы взять
Под контроль и в конечном счете уничтожить движение левеллеров.
Одновременно армейская верхушка вступила в переговоры с
королем. Они привели к столь же досадно неубедительным
результатам, с какими ранее столкнулись парламентарии-пресвитериане:
Карл по-прежнему дожидался раскола среди противников, который
докажет нации, что без его правления не обойтись. Роялистские
настроения действительно нарастали, враждебность к армии и
парламенту усиливалась. И конечно в стане врагов короля произошел
раскол. Парламент и шотландцы опасались, что армия заключит сделку
ç Карлом за счет пресвитериан, армия ожидала от парламента и
шотландцев того же за счет индепендентов. Треугольник взаимных
подозрений разрешился последним компромиссом, который
предложили Карлу индепенденты и умеренные пресвитериане из парламента:
«четыре билля», обеспечивающие парламенту командование армией
в течение двадцати лет и позволяющие ему самостоятельно
определять срок своих полномочий. Король их отверг, так как получил от
шотландцев более выгодное предложение - командовать ополчением
в обмен на единообразное пресвитерианство в обоих королевствах.
180
В ответ парламент в начале 1648 г. наконец отказался от лояльности
королю.
Это развязало вторую, более короткую и решающую гражданскую
войну. С одной стороны, вторгшаяся в Англию шотландская
пресвитерианская армия и местные роялисты, поднявшие ряд мятежей,
стремились восстановить Карла на троне. С другой стороны, армия,
которая снова его захватила, старалась подавить мятежи и отразить
наступление шотландцев. За шесть летних недель она успешно
справилась с обеими задачами. Проигравшими оказались английские
пресвитериане, занимавшие центристскую позицию. За колебание
во время конфликта их в декабре выгнали из парламента, когда
полковник Прайд не пустил в палату общин почти половину ее членов,
оставив лишь индепендентское «Охвостье».
Кромвель и армия потеряли всякое терпение в отношении Карла
и начали против него судебное дело за «ведение войны против
собственного народа». От «Охвостья» добились создания
специального Высокого суда. После упрощенной судебной процедуры короля
приговорили к смерти и обезглавили 30 января 1649 г. Это было не
идеологически мотивированным актом или намеренной прелюдией
к установлению нового порядка, а политическим ходом,
продиктованным суровой действительностью ввиду отсутствия иного способа
справиться с упрямым монархом. Таким образом, без умысла кого-
либо из участников революции Англия «случайно» стала
республикой, когда пятьдесят индепендентов, оставшиеся от «Долгого
парламента», проголосовали за отмену монархии и провозгласили Англию
«содружеством».
Почему произошла великая радикализация 1647-1648 гг., и
почему индепенденты одержали победу над пресвитерианами? Потому
что раньше парламентские пресвитериане, совершив насилие над
королем и существующей конституцией, показали армейским инде-
пендентам, как можно то же самое сделать с ними самими. Гардинер
много лет назад сказал: «В 1647 г., как и в 1642 г., была призвана сшЦ,
чтобы оказать сопротивление плохому управлению, и привычка
применять силу не исчезнет, пока не будет преломлен меч руками тогр,
кто его держит»32. Это положение воистину является
фундаментальным законом всех настоящих революций и главной причиной,
почему революционный процесс так трудно закончить.
Радикализация, ведущая в тупик
В некотором смысле Английское содружество является
радикальной кульминацией английской революции: по крайней мере, фор-
181
мально оно знаменовало создание нового мира - республики,
основанной на народном суверенитете, и нового человека - святого воина
«армии нового образца». И действительно, во многих уголках страны
казнь короля расценивалась как прелюдия к концу света и второму
пришествию. Соответственно в начале 1650-х гг. наступил расцвет
сектантства в Англии, различные движения плодились как грибы.
Левеллеры переживали упадок, зато по их стопам в 1649 г. пришли
диггеры Джерарда Уинстенли, выступавшие за ликвидацию частной
собственности и совместное владение землей. Хотя Уинстенли -
привлекательная личность, историки-радикалы слишком
преувеличили значение его движения как предтечи современного социализма;
по сравнению с радикалами-таборитами или Томасом Мюнцером
диггеры вели себя смирно и на события своего времени оказали
незначительное влияние33.
Одновременно произошел всплеск милленаристских
умонастроений и распространения новых сект. Самой заметной среди них и,
без сомнения, наиболее долговечной стала секта Джорджа Фокса -
квакеры «внутреннего света». С точки зрения теологии, они
представляют собой окончательную деконструкцию традиционного
христианства: у них нет церкви, нет духовенства и практически нет
доктрины. В социальном плане изначально они имели явное родство
с активистами-левеллерами, но по завершении революции ушли в
собственные «общества друзей», преданные идеям пацифизма,
самодисциплины, делания денег и гражданской филантропии, - подобно
бывшему табориту Петру Хельчицкому и его Моравским братьям.
Почти столь же важную роль в то время играли «Люди Пятой
монархии» - анархисты, верившие, что после победы над Антихристом -
Карлом - Святые должны немедленно установить Пятое (и
последнее) Царство Справедливости, как предсказано в Книге пророка
Даниила34. На практике это означало восстание против
существующего несовершенного Содружества, и движение было своевременно
подавлено армией, после чего осуществило последнее безнадежное
покушение на Карла II вскоре после Реставрации. По сути,
движение «Людей Пятой монархии» - последний отчаянный вздох мил-
ленаризма, прошедшего 1640-е гг. и теперь взбешенного изменой
«святых», пришедших к власти. Подходящая аналогия из будущего -
«Заговор равных» Гракха Бабёфа, реакция разъяренных санкюлотов
на «предательство» посттермидорианских якобинцев35.
Вместе с тем Содружество, по крайней мере, породило немного
республиканского теоретизирования. Поиск преемника «Долгому
парламенту», который находился у власти столько лет, что утратил
львиную долю своей легитимности, встал на повестку дня со вре-
182
мен левеллерского «Народного соглашения» 1647 г. Наиболее
яркий пример новой рефлексии - «Республика Океания» Джеймса
Гаррингтона, изданная в 1656 г. Его программа носила светский и,
может быть, не подлинно демократический (так как предлагала
избирательное право с имущественным цензом), но во многом
передовой характер. Главная новизна заключалась в том, что Гаррингтон
основывал политическое право на участие в управлении
республикой на собственности, а не историческом прецеденте или принципе
наследования. И хотя «святые», стоявшие тогда у власти, совершенно
не были заинтересованы в исполнении такой программы, она
оказала значительное влияние на более поздние республиканские теории,
прежде всего в североамериканских колониях Великобритании36.
Не менее важное значение для республиканской мысли будущего
имели сумбурные попытки «святых» создать новый политический
порядок. Поначалу продолжало править «Охвостье», бессистемно
пытаясь организовать выборы в новый парламент (актуальный
вопрос со времен «Народного соглашения» левеллеров) и
реформировать громоздкую и дорогостоящую правовую систему, до сих пор
применявшую в судах «французское право». В 1653 г. Кромвель не
захотел больше терпеть «Охвостье» и по собственной инициативе
распустил этот остаток «Долгого парламента»37. Затем он
попробовал подобрать ассамблею «святых», прозванную Бербонским
парламентом по имени одного из наиболее «благочестивых» ее членов,
Прейзгода Бербона. Когда и эта затея не удалась, он заставил
назначить себя протектором Содружества по письменной конституции
(которая, как правило, считается первым документом такого рода в
истории) - «Орудию управления». Появился и новый парламент, на
сей раз выборный, но он тоже не работал и был распущен. Кромвелю
предложили корону, он от нее отказался и продолжил управлять
вместе с главными генералами. Англиканскому духовенству
запретили читать проповеди, католических священников высылали за
границу. Была восстановлена цензура, введены по всей стране пуританские
«голубые законы». Одним словом, кульминационный момент
революции, Содружество, окончился тупиком.
Все, что показали разнообразные конституционные
эксперименты «святых», - отсутствие у них осуществимой практической
программы. Собственно, благодаря их импровизациям обнаружилось,
что единственная такая программа - реставрация монархии. Тем
более режим теперь представлял собой ненавистное меньшинство, а
роялистские настроения набирали силу с самого момента казни
короля. Одновременно с ростом числа милленаристских сект в 1650-х гг.
становился бестселлером сборник последних изречений Карла, неле-
183
гально опубликованный под названием «Eikon Basilike» (греч. «Образ
короля»). И эта ситуация совсем не похожа на французскую
революцию после термидора, когда достигнутое в наиболее радикальной
революционной фазе смогло сохраниться и институционализироваться.
Как объяснить столь бесславное завершение переворота, который
превзошел пределы возможного в низвержении общества «двух
мечей» и «трех сословий»? Причины этого нельзя найти ни в
классовой структуре, ни в экономических условиях, ни в демографической
ситуации. Наиболее убедительным объяснением служит менталитет
всех основных персонажей драмы. Король, парламентарии, как
пресвитериане, так и индепенденты, Кромвель, офицеры «армии нового
образца» - все они мыслили в направлении возврата к
надлежащему балансу национального государственного устройства, с королем,
лордами, общинами и всеобщей национальной церковью. Лишь
маргинальные группы левеллеров, диггеров и сектантов-милленариев
думали о выходе за рамки традиционной системы координат, но не
имели достаточно сил, чтобы склонить чашу весов в сторону новой
радикальной отправной точки. Так «сознание» определило «бытие»,
заведя английскую революцию в тупик Содружества и Протектората.
Что же мы получаем при неизбежном сравнении с «золотым
стандартом» современной революции, то есть 1789-1799 гг.? В некотором
смысле Содружество - это английский термидор, а Протекторат -
революционная империя: покорение Ирландии и Шотландии, впервые
полностью осуществлявшееся из Лондона управление Британскими
островами как единым унитарным государством, Навигационный
акт, война с Голландией, экспедиция на Ямайку. Но аналогии здесь, в
сущности, довольно поверхностны, потому что в реальности их
перевешивал институциональный тупик.
Учитывая силу и зрелость английского гражданского общества,
дело не могло закончиться таким миноритарным, сектантским и
насильственным решением. Поэтому после смерти Кромвеля
умеренные, как из лагеря победителей, так и со стороны побежденных,
нашли наиболее жизнеспособный национальный консенсус в виде
Реставрации 1660 г. В церковной (а косвенно и социальной) сфере
все выборные системы, и пресвитерианские, и конгрегационалист-
ские, были упразднены, священная власть англиканских епископов
полностью восстановлена, а все «нонконформисты» удалены «на
пять миль» от городов и лишены гражданских прав. Политическое
решение демонстрировало больше умеренности: все законы,
одобренные парламентом и подписанные Карлом I, признавались
действительными, что теоретически легитимировало конституционную
революцию 1640-1641 гг.
184
К «последнему толчку» 1688 года
Реставрация 1660 г. не завершила революционный процесс,
начавшийся в 1640 г., так как новый король, Карл II, не соглашался с
ограничением роли монархии. В результате новый кризис 1680-х гг.
вылился в «последний толчок землетрясения» в 1688-1689 гг.
Внешне, по крайней мере, Реставрация представляла собой
абсолютно разумный компромисс, за одним исключением: ввиду
самого факта компромисса она обходила вопрос о том, кому в конечном
счете принадлежит верховная власть - «священному» королю или
«естественной» нации. Этот фундаментальный конституционный
конфликт не мог не вспыхнуть снова, поскольку Карл II в последние
годы жизни, а Яков II всю жизнь вели себя так, словно во взглядах
на королевскую власть совершенно не отличались от своего отца или
кузена Людовика XIV (склонность «ничего не забывать и ничему не
учиться» проявляли не только Бурбоны, это общая черта всех
истинно «старорежимных» государей, от Стюартов до Вильгельма II и
Николая II).
К 1688 г. гражданское общество в лице парламента столкнулось с
той же дилеммой, что и в 1640 г.: что делать с королем, стремящимся
стать абсолютным монархом? Но парламент, не забывая, научился;
главный вынесенный им урок гласил, что союз с городской толпой
в открытой революции против короля для гражданской свободы не
менее опасен, чем сам королевский абсолютизм (такова вкратце
основная мысль «Двух трактатов» Локка38). Он принял тактическое
решение обойтись без «массы негодяев» в столице с их безумными
«ирландскими ночами» бунта против королевских войск,
пригласив на престол вполне легитимного принца с иностранной армией
из голландских и французских гугенотов, чтобы избавиться от
Якова, - прием, вряд ли достойный с национальной точки зрения, но в
социальном плане весьма безопасный. Если говорить о
конституционных нормах, то все сделали вид, будто бегство Якова равносильно
«отречению» и, следовательно, ни о каком «свержении» короля речи
не идет. Отсюда торжественное название «Славная революция»,
которое на современный английский можно перевести примерно как
«восстановление старинных вольностей без участия народа и с
видимым соблюдением законности».
Но даже этот сногсшибательный трюк непризнанных
революционных государственных умов еще не сделал Англию надежным
оплотом современного конституционного порядка. Чтобы такое
подозрительное урегулирование сработало, Вильгельму III сначала
пришлось победить в непопулярной войне Аугсбургской лиги. Новая
185
система явно встала поперек горла бесчисленным тори, якобитам и
шотландцам; любая неудача сомнительного короля за рубежом
легко привела бы к тому же конституционному кризису в полном
масштабе. Только после победы в 1697 г. стало возможным закрепление
нового порядка «Актом об устроении» 1701 г. С помощью этого
инструмента парламент фактически выбрал стране династию и
определил условия ее пребывания у власти. Тем самым он убедительно, но
без применения силы утвердил суверенитет гражданского общества
над верховным представителем исполнительной власти - королем, а
через него - над государством, которым король отныне руководил,
но не распоряжался. Можно даже утверждать, что конституционный
кризис завершился лишь в 1714 г., когда новая, избранная династия
действительно «вступила в должность» без каких-либо беспорядков
и эффективной оппозиции.
Мораль данного повествования такова: даже при самых
благоприятных обстоятельствах - в безопасной, островной, не до конца
абсолютистской Англии - для революционного перехода от «старого»
режима к новому понадобились десятилетия, ушедшие на то, чтобы
добиться стабилизации и жизнеспособного «современного»
равновесия: от первоначальных потрясений 1640 г. до неудачной Реставрации
1660 г., затем до успешного переворота 1688 г. и, наконец, до 1701-го,
а то и 1714 г. И если уж в felix Anglia («счастливой Англии») все шло
так непросто, чего следовало ожидать по другую сторону Ла-Манша,
за Рейном или Неманом? И как должны были сложиться дела в ту
эпоху и в той культуре, когда люди под словом «революция» стали
понимать не «реставрацию», а намеренный, сознательный и
позитивный «переворот»? Эти размышления подводят нас к основной
особенности английской революции - ее идеологической оболочке и
смягчающему политическому эффекту последней.
Политическая динамика английской революции та же, что у всех
великих европейских революций, - радикализирующий переход от
эйфорического национального единства к резкой идейной
поляризации, к вооруженной диктатуре меньшинства. Политическое
содержание английского бунта также обычно для «старорежимной»
Европы: борьба за национальный суверенитет между
централизующим королевским государством и различными сословиями прежней
системы, превращающимися в сознательное гражданское общество.
Особенность английского случая заключается в том, что современная
революция совершалась, по сути, в досовременном
культурно-идеологическом контексте, то есть в религиозном и очень традиционном
обществе.
Поскольку парламентско-пуританская революция оказалась
втиснута в рамки консервативной, реставраторской идеологии, это
186
необычайно притупило осознание важнейших изменений, которые
происходили в действительности. Следовательно, события,
которые все участники единодушно считали неправильной и ненужной
«гражданской войной», никак не могли породить культ
революционных перемен как таковых. Данное обстоятельство, наряду с
поразительно беспроблемным переворотом 1688 г., позволило Эдмунду
Бёрку и прочим в конечном счете ассимилировать наследие Англии
XVII в. в чрезвычайно консервативный канон. В результате
англичане по сей день мыслят и ведут себя так, будто никогда не устраивали
столь дикой, грязной революции, какая была у младших братьев за
Ла-Маншем.
Идеологические особенности английского XVII века имели еще
одно «модерирующее» следствие. Конституционная проблема
суверенитета находила прямое политическое и революционное
выражение в борьбе между королем и парламентом. Но социальный вопрос
перестройки и демократизации гражданского общества выражался не
напрямую, а в религиозной и, соответственно, менее революционной
внешне форме. Ввиду этой идеологической особенности два
указанных вопроса решались раздельно, что дало возможность завершить
политическую революцию, не осуществив социальной. На деле в
XVII в. был разрешен лишь конституционный вопрос, и это привело
к либерализации, но не к демократизации английского общества;
после 1688 г. социальное устройсто страны осталось всецело
олигархическим, как в 1640 г. Ибо восстановление в 1660 г. англиканства,
которое 1688 г. никак не затронул, означало откладывание социального
вопроса на неопределенный срок. В то же время практическая
политика веротерпимости, впервые принятая на вооружение после 1688 г.,
позволила выжить старым инакомыслящим сектам и возникнуть
новым, в частности методистам, тем самым оставляя исключенным
элементам английского общества средства самовыражения,
надежду и в конечном счете способность добиваться социальных перемен.
Таким образом, религия продолжала задавать социальному вопросу в
Англии особые, умеренные рамки вплоть до образования
лейбористской партии в 1905 г., как отмечал Эли Алеви, объясняя контраст с
гораздо более радикальной социальной политикой Франции39.
Необходимо отметить еще один аспект умеренного характера
английской революции. Учитывая, что она не воспринималась
осознанно как революция, не была умышленно направлена на создание
общества нового типа, а имела целью реставрировать «старинный»
порядок, и, наконец, касалась специфически английских правовых
норм и английских церковных вопросов, она не могла служить
революционной моделью для остальной Европы. В отличие от последую-
187
щих революций во Франции и в России, она не годилась на экспорт.
Разумеется, вся Европа ужаснулась казни миропомазанного короля
мятежными подданными, и большинство иностранных правительств
разорвали с Англией дипломатические отношения. Тем не менее
ни одна монархия не боялась распространения заразы или
появления где-нибудь подражателей английскому образцу. Конечно, после
1688 г. континентальные вольнодумцы, например Вольтер и
Монтескье, прекрасно видели либеральный характер английского
конституционного строя и предлагали его в качестве примерной
модели для Франции, но в духе ограниченного реформизма, вовсе не
желая воспроизвести английский революционный опыт.
7
АМЕРИКА, 1776-1787
РЕВОЛЮЦИЯ КАК ВЕЛИКАЯ УДАЧА
Я всегда с трепетом и благоговением думаю о
колонизации Америки как о начале великого действа и о
замысле Провидения с целью просвещения
невежественных и эмансипации рабской части человечества по всей
Земле.
Джон Адаме (1765)
Дело Америки в значительной мере является делом
всего человечества.
Томас Пейн (1776)
У американцев имеется то огромное преимущество,
что они достигли демократии, не испытав
демократических революций, и что они не добивались равенства, а
были равными с рождения.
Алексис де Токвилъ (1835)
Может ли народ, свободный от рождения,
когда-либо понять людей, которым еще придется этого достичь?
Может ли он понять себя?
Луис Харц (1955)
Американцы [в 1774 г.] на самом деле стояли на
пороге открытия, которое повернет течение истории в
новое русло, открытия, которое до сих пор отражается на
нас и освобождает нас от нашего прошлого, как вскоре
освободило их, вопреки им самим, от их прошлого. Это
открытие было не чем иным, как принципом равенства
людей.
Эдмунд Морган (1956)
Переход от английской к американской революции
демонстрирует удивительный парадокс: в то время как англичане после
1640 г., несомненно, испытали большие институциональные
сдвиги, но по сей день не решаются назвать их революцией,
американцы, пережившие после 1765 г. лишь скромную структурную пере-
189
стройку, тут же сочли ее предельно радикальным событием и с тех
самых пор не устают славить ее плоды. Таким образом, британская
Северная Америка, наряду с Францией, выступила «крестной
матерью» понятия революции, известного современному миру. Но в
каком смысле колониальный бунт являлся революцией?
Схема действий, приведших к 1776 г. и последовавших потом,
нисколько не напоминает сценарий, разыгранный в Англии веком ранее
и во Франции десятилетием позже. Не штурмовалась Бастилия, не
катились с эшафота королевские головы. Главными символичными
событиями стали «Бостонское чаепитие» и мушкетная перестрелка
на Лексингтонском лугу. Переворот закончился не выездом на
авансцену человека на коне, а закрытым конвентом, на котором
уважаемые джентльмены составили проект конституции политического
строя, существующего и поныне. Более того, «отцы-основатели»
были в основном теми же лидерами, что подняли мятеж двенадцать
лет назад. Эта революция явно своих детей не пожрала. Подобное
отсутствие драматизма делает американскую революцию «третьим
лишним» в каноне «стасиологии».
Американская революция аномальна и в других аспектах. Во-
первых, монарх, против которого восстали колонии, отсутствовал на
сцене, находясь за океаном на расстоянии трех тысяч миль, что в
значительной мере превращает революцию в территориальную Войну за
независимость. Во-вторых, в самих колониях имелось крайне мало
укоренившихся иерархических институтов, подлежавших
ниспровержению, и это позволило избежать череды переломов в ходе
мятежа, которые в Англии влекли за собой радикальный переход власти
от короля к парламенту и от парламента к армии. В Америке
эскалация событий выражалась в серии протестов против налогов, кстати,
не таких уж высоких (налоговое бремя здесь в четыре раза уступало
британскому). Наконец, американский мятеж вспыхнул в
провинциях с более высоким доходом на душу населения, чем в любой стране
Старого Света, что резко снижало тягу к социальным переменам.
Кроме того, ряд современников, в особенности противники
восстания, прекрасно видели диспропорцию между не слишком
серьезными основаниями для недовольства и взрывной реакцией
колонистов. «Никогда в истории, - сказал один американский тори, - не
было еще такого бунта по столь "малому поводу"». Другой писал, что
это «самый беспричинный и неестественный мятеж из всех
когда-либо случавшихся»: «Анналы ни одной из стран не смогут представить
пример восстания столь ожесточенного, гнева и безумия столь
безудержного, вызванных столь тривиальными причинами, на которые
ссылались эти несчастные люди»1. Что же тогда «революционного»
в событиях 1776 г.?
190
Главным образом, создание демократической республики
беспрецедентного континентального масштаба - деяние, изображаемое
как начало Нового Мира и Нового Человека, светоч для остального
человечества. Вдобавок республика родилась в разгар нарастающей
милленаристской «лихорадки», практически аналогичной той, что
служила импульсом развития прежних революционных эпизодов в
Европе. Этот идеологический всплеск быстро набрал силу в период
от кризиса 1765 г. в связи с «Актом о гербовом сборе» до начала
вооруженного конфликта и принятия «Декларации независимости» в
1774-1776 гг.; он в течение восьми лет войны не спадал среди
«патриотов» и, вернувшись в более умеренной форме, вдохновлял
установление новой конституции в 1787-1788 гг. Именно такое
эсхатологическое республиканство имели в виду «отцы-основатели», ставя
слова novus ordo seclorum («новый порядок веков») на
государственную печать и меняя консервативный, в духе 1688 г., смысл слова
«революция» на современный: «эпохальный переворот».
Впрочем, если говорить о конкретных деталях, в
«старорежимной» Европе есть модель, которой американские события кое в чем
соответствуют, - нидерландское восстание XVI в. Вспомним, что и
тогда король-суверен проживал в другой стране. Являясь в самих
Нидерландах лишь «герцогом» или «графом» отдельных провинций,
объединяемых только слабыми и неэффективными Генеральными
штатами, суверен решил превратить свои родовые владения в нечто
похожее на подлинную монархию, способную взимать с населения
налоги, охранять порядок, а также обеспечивать религиозное
единообразие. Это вызвало сопротивление со стороны знати и простых
людей, а в конце концов - народное восстание. В ответ король применил
вооруженную силу, что лишь обострило ситуацию; потом
попытался пойти на уступки, но тоже потерпел неудачу. Поэтому он
возобновил репрессии, а мятежные провинции обратились за помощью к
Франции и Англии. Конфликт разрешился только после долгой
войны, завершившейся образованием федеративной республики в семи
северных провинциях (зато на юге мятеж был успешно подавлен).
С поправкой на ряд немаловажных деталей и принимая во внимание
идеологические изменения, произошедшие почти за два века, можно
сказать, что схема действий в британской Северной Америке в
течение двадцати четырех лет после 1765 г. примерно такая же. Иными
словами, подобно всем европейским революциям, американский
мятеж начался как реакция на государственное строительство со
стороны короля и закончился представительным конституционным
правлением.
Здесь, впрочем, существует гораздо более глубокая связь со
«старой Европой», чем сам механизм конфликта. Идеологически амери-
191
канцы начали борьбу, на которую падал далекий отсвет 1688 г., то
есть пытались защитить свои исторические права как англичане. Но
завершили они ее в прямом и переносном смысле в канун 1789 г. -
созданием республики граждан, которую французы уже готовились
радикализировать и универсализировать2. Таким образом,
американская революция, хоть и аномальная по своей политической форме, по
нравственному содержанию вполне укладывалась в основное русло
общеевропейского революционного процесса.
Однако в Новом Свете этот процесс был существенно
модифицирован, а успех смелого республиканского эксперимента стал
возможным только благодаря уникальным особенностям американской
ситуации. Прежде всего, в Америке отсутствовал фактор, который
до тех пор являлся определяющим для европейской цивилизации, -
«старый режим». Там не просто не проживал король, но, что
гораздо важнее, не существовало ни сословной системы, ни другого рода
наследственных привилегий, ни единой церковной организации или
традиции сакральное™ власти3. Имелись только рудиментарные
остатки аристократического порядка в виде оброка, права
первородства и майората в некоторых колониях да слабоорганизованные
местные церкви в девяти из них. Каждая колония располагала
хорошо развитой представительной ассамблеей, где главную роль играла
нижняя палата; во многих случаях такие ассамблеи появились
раньше назначения в колонию королевского губернатора. Избирательное
право на основе имущественного ценза чаще всего оказывалось
достаточно широким, чтобы охватить большинство взрослого
населения мужского пола. Населяли колонии на 80 % конгрегационалисты
и кальвинисты-пресвитериане - потомки разгромленного левого
крыла английской революции. Даже англикане составляли
«небольшой» процент и не имели местного епископа. В этих условиях
зерна, посеянные в 1688 г., упали на исключительно благодатную почву.
Фактически, как мы увидим, принципы 1688 г. устарели здесь еще до
того, как раздался первый выстрел на Лексингтонском лугу.
Вторая важная черта американской исключительности -
географическое положение. Тринадцать колоний, отделенные от
средоточия британской власти тремя тысячами миль океана, находились к
тому же на краю малолюдного континента, предоставлявшего
практически беспредельный простор для социальной мобильности и
множество источников обогащения. Разумеется, континент не был
«необитаемым», как часто предполагается. В 1770 г. около 150 тыс.
индейцев жили к востоку от Миссисипи. Но они все еще оставались
охотниками-собирателями, мало занимаясь сельским хозяйством;
низкая численность и низкий уровень освоения столь обширной тер-
192
ритории предопределили их поражение от рук наступающих
американских земледельцев.
Учитывая две столь серьезные аномалии, для создания нового
народа была необходима, главным образом,
национально-территориальная освободительная война. Правда, она сопровождалась
насилием, социальными эксцессами, вспышкой милленаристского
«озарения». Но не повлекла за собой таких сокрушительных последствий,
как революции Старого Света, и не знала прогрессирующей, все
более миноритарной радикализации, характерной для европейской
драмы. Последняя (и совершенно уникальная) черта: национальное
конституционное правление удалось ввести с первой же попытки.
Таким образом, в период с 1776 по 1788 г. республиканское
«содружество», о котором мечтали «святые», не получившееся в Англии, в
конце концов, утвердилось в Новом Свете, однако в более умеренной,
светской и, в особенности, более стабильной форме. Вообще - это
самое успешное, хоть и осуществленное чужими руками, творение
английской революции, пожалуй, более примечательное и уж конечно
более современное, чем либеральный, но узко олигархический
порядок, сложившийся к 1688 г. в метрополии.
Национальная удовлетворенность и ее критики
Эта разница нашла отражение в историографии двух революций.
В обеих странах выказываемая большинством авторов
удовлетворенность основополагающим для каждой из них событием всегда
сталкивалась с радикальной критикой, направленной против систем,
порожденных в итоге данными событиями. Критические течения,
впрочем, отличались друг от друга. В аристократической Англии
они вышли из диссидентского радикализма и достигли апогея в
импортированном марксизме. В демократической Америке они
проистекали от популизма «разгребателей грязи» и так и не смогли
приноровиться к общей теории Маркса4. В конце концов, единственный
возможный американский аналог «феодализма» по Марксу - Юг до
гражданской войны, и, хотя некоторые историки и такие социологи,
как Баррингтон Мур, иногда пробовали воспользоваться этим
примером, он был заведомо слишком искусственным, чтобы много им
дать5. Поэтому никто никогда не пытался втиснуть 1776 г. в шаблон
«буржуазной революции» - еще одно проявление американской
исключительности.
Рассказывать о 1776 г. начал в середине XIX в. с привычными
«виговскими» нотками Джордж Бэнкрофт в своем труде «История
Соединенных Штатов»6. Этот современник Маколея и Мишле, в
193
сущности, смотрел на американскую революцию так же, как и те, кто
ее делал: она представлялась ему совершенно оправданным и в
высшей степени героическим отказом от иностранной, монархической
тирании, а появившаяся в результате республика - естественно,
путеводной звездой для человечества. Впрочем, к концу века
академическая наука модифицировала этот узконациональный подход в
новой немецкой манере, рассматривая историю колоний в британском
имперском контексте, то есть с учетом британской политики того
времени7. Из работ «имперской школы» следовало, что Георга III
вовсе нельзя назвать тираном, жаждавшим уничтожить плоды 1688 г.
как в Британии, так и в Америке, что ошибки его политики - больше
следствие неумелости, чем злого умысла, и что англичане после
победы в 1763 г. на вполне законных основаниях пытались дать своей
широко раскинувшейся империи какую-то центральную организацию и
соответственно заставляли колонистов платить их долю за защиту.
В то же время возникшее в самой Британии соперничество с
кайзеровской Германией пробудило чувство «англоязычной» солидарности с
вольнолюбивой Америкой, и такая перемена настроения отражена
в «Американской революции» Джорджа Отто Тревельяна, впервые
вышедшей в начале 1899 г.8 Некоторые авторы «имперской школы»,
правда, зашли слишком далеко, полагая, что революция, возможно,
не являлась необходимой, представляла собой ошибку, которой
можно было избежать. На подобные непатриотичные эксцессы тут же
последовала корректирующая реакция, однако имперский контекст
остался неизменной частью общей картины.
Настоящий вызов национальной ортодоксии бросила
разоблачительная историография рубежа XIX-XX вв. В Европе той эпохи
этот вызов поступил от социализма, обычно марксистского толка, в
Америке подобные работы появились благодаря прогрессистскому
движению и носили более примитивный, не теоретический характер.
В Европе врагом социального радикализма называли «капитализм»,
а жертвой/соперником - «пролетариат»; в Америке в роли врага
прозаично выступал «крупный бизнес», а жертвы/соперника - просто
«маленький человек». Разница не только риторическая: она служит
мерой размаха социальных изменений, которые рисовали в своем
воображении радикалы.
Начало новой школе положили две работы: Чарльза Линкольна
о Пенсильвании, выпущенной в 1901 г., и Карла Беккера о Нью-
Йорке, вышедшей в 1909 г. Оба автора обнаружили бунтарство среди
низших классов. Революцию они изображали как борьбу западных
переселенцев, зачастую пресвитериан из Ирландии и Шотландии, в
союзе с городскими ремесленниками и «механиками» против фила-
194
дельфийской и нью-йоркской олигархии с побережья с целью
прорваться к власти, получив избирательное право9. Согласно
знаменитому изречению Беккера, американская революция представляла
собой схватку не только за то, чтобы «править у себя дома», но и
за то, «кто будет править дома». Поэтому за патриотической
риторикой эти ревизионисты видели классовую борьбу, «совсем как в
1789 г.» или во время любого европейского восстания. Кроме того,
Артур Шлезингер-старший авторитетно разъяснил в 1918 г., что
американская революция боролась не за конституционные принципы,
как уверяют национальные ортодоксы, а за экономические интересы:
торговцы побережья выступали против колониальной коммерческой
системы Британии10.
Наиболее сенсационное заявление в духе новой ортодоксии
прозвучало, правда, несколько раньше, в 1913 г., в «Экономической
интерпретации Конституции Соединенных Штатов» Чарльза Берда11.
В этом труде, который пользовался огромным влиянием, Берд
фактически разоблачал Конституционный конвент, видя в нем заговор
бизнесменов-консерваторов с целью выхолостить наследие 1776 г.,
своего рода циничный термидор, а не торжество революционных
принципов, как воображали ортодоксы. Он пытался, в частности,
показать, что творцы конституции являлись не столько
землевладельцами, сколько инвесторами, вкладывавшими средства в
мануфактуры, торговлю и особенно в государственные ценные бумаги, а
следовательно, много выигрывали от установления сильной
федеральной власти. Книга повлекла за собой бесконечную полемику и
дотошное изучение фактов, приводимых автором. В результате
утверждение о ценных бумагах было опровергнуто, однако весьма
значительная роль экономических интересов в революционной борьбе
подтвердилась. Соответственно во времена экономического бума
1920-х гг. и «великой депрессии» 1930-х гг. социальные историки
уделяли особое внимание в исследованиях народному радикализму,
который проявлял себя в деятельности корреспондентских
комитетов, и демократической интеллектуальной жизни, пробужденной
той эпохой12. А когда прогрессизм уступил место «Новому курсу»,
Меррилл Дженсен в 1940-1950 гг. реабилитировал
децентрализованные «Статьи Конфедерации», до тех пор осуждавшиеся в свете
ортодоксального благоговения перед Конституцией13.
В послевоенную эпоху, впрочем, маятник неизбежно качнулся
назад, в сторону политики и конституционного строительства, а
следовательно, идей и идеологий14. Первопроходцами на этом пути стали
Эдмунд и Хелен Морган, выпустившие в 1953 г. книгу «Кризис из-
за гербового сбора: Пролог к Революции», убедительно демонстри-
195
ровавшую, что с самого начала колонисты отказывали парламенту в
праве взимать не только внутренние налоги, но и любые другие
сборы с целью повышения государственных доходов. Тем самым
конституционный принцип «нет налогам без представительства» был
реабилитирован в качестве подлинного мотива революции, вдобавок
Неизменно существовавшего еще с 1765 г.
Бернард Бейлин в 1967 г. развил и углубил такой подход в
«Идеологических истоках Американской революции». Основываясь
на последних работах, показывающих, что наследие пуританской
республики XVII в. сохранилось и в XVIII в. в виде радикальной
критики «продажного» правления вигов15, Бейлин продемонстрировал,
Что идеология «приверженцев Содружества» в большей мере, чем
Просвещение, вдохновляла основную массу протестной литературы в
Америке начиная с 1765 г. Именно эта идеология стояла за знаковыми
событиями того времени - известной серией кризисов от протестов
против «Акта о гербовом сборе» до «Бостонского чаепития». В
частности, ограничительные меры британского правительства в те годы
казались колонистам очевидным «доказательством самого
настоящего умышленного сговора, в который тайно вступили заговорщики и в
Англии, и в Америке»16. Поиски роли идей в революции
продолжались. Перри Миллер, уже исследовавший пуританский менталитет в
книгах «Мышление Новой Англии» 1939 и 1953 гг.17, развил тему,
посвятив ей важную статью «От Ковенанта к возрождению»18. Алан
Хеймерт делал акцент на религиозных истоках революции19.
Следствием такой усиленной сосредоточенности на идеях как
движущей силе революции стало преуменьшение роли радикальных
социально-экономических сил, которым отдавали пальму первенства
прогрессисты. Теперь нам предлагали картину консервативной
революции. Бейлин подытожил новую концепцию следующим образом:
«революцию наделило особой силой и сделало преобразующим
событием» не «свержение существующего порядка», а «радикальная
идеализация и рационализация предыдущих полутораста лет
американского опыта»20.
Разумеется, дело не могло закончиться столь мало
вдохновляющей, консервативной оценкой смысла революции. И
действительно, висконсинская школа Меррилла Дженсена и его последователей
продолжает традицию социального радикализма. Кроме того, по
мере приближения двухсотлетней годовщины еще более молодые
историки начали критиковать компромисс революции с рабством,
нежелание революционеров дать женщинам право голоса, политику
геноцида против коренных американцев. Это опять вызвало
реакцию - Гордон Вуд в ответ написал книгу «Радикализм Американской
196
революции», имея в виду эгалитарное по сути институциональное
наследие колониальной Америки, получившее развитие благодаря
действиям народа в ходе революционной борьбы21. Но, в каких бы
пропорциях мы ни обнаружили консерватизм и радикализм в
событиях 1776-1786 гг., следует вместе с Токвилем сделать вывод: этот
наименее революционный по форме из современных переворотов по
демократическому содержанию полностью соответствовал самым
передовым стандартам XVIII в.
Историческая обстановка
Сцена, на которой разыгрался новый переворот, сильно
отличалась от сцены любой предыдущей революции на европейской
культурной орбите: британская Северная Америка во всех смыслах слов^
являлась Новым Светом. С географической точки зрения она
представляла собой целый континент, хотя колонисты населяли только
его окраину. К 1776 г. их насчитывалось 2,5 млн чел., то есть
примерно четверть населения самой Великобритании; 500 тыс. из них были
чернокожими рабами. Крупнейший город в колониях, Филадельфия,
имел 40 тыс. жителей (Нью-Йорк - всего 25 тыс.), тогда как Лондон
уже достиг миллионной отметки. И, конечно, не существовало
национальной столицы, поскольку речь еще не шла ни о национальном
государстве, ни даже об американской нации.
Колонии состояли преимущественно из сельских поселений ц
развивали сельское хозяйство, но это вовсе не означает их досовре-
менного характера в каком-либо смысле. Они в значительной мерр
представляли собой «коммерческое общество», как окрестил его
Адам Смит в 1776 г.; их жители отличались чрезвычайной
грамотностью, как и следовало ожидать в местах господства евангелической
религии. Правда, часть населения приехала в Америку в качеству
законтрактованных работников, но в этом статусе они пребывали
временно на пути к экономической независимости, достигаемой
зачастую на быстро отодвигающейся западной границе. Самый
оригинальный фактор американской ситуации заключался в том, что
сравнительно немногочисленное население увеличивалось в
геометрической прогрессии22. От 1 млн чел. в 1750 г. оно выросло более чем
до 2 млн к 1770 г. К окончанию Семилетней войны в 1763 г.
побережье было почти полностью заселено и переселенцы уже
перевалили за Аппалачи. Ко времени объявления независимости в 1783 г.
численность населения превысила 3 млн чел., несмотря на военные
потери и эмиграцию тори, а в 1800 г. составляла 5,3 млн чел. При таких
темпах роста для каждого поколения «восток» и «запад» оказыва-
197
лись новыми, пока в 1848 г. американцы не вышли к Тихому океану.
Европейцы никогда не знали подобной демографической динамики и
социальной мобильности, и колонисты прекрасно это понимали.
Кроме того, как отмечалось выше, 2 млн колонистов уже имели
больше доходов на душу населения и больше свободы, чем жители
любой страны, принадлежавшей к европейской орбите. Во многом
это явилось следствием того способа, каким создавались колонии.
Новую Испанию и Новую Францию в конечном итоге организовало
государство по своей инициативе, перенеся туда «старый режим» с
манориальной системой, аристократией, официальной церковью и
губернатором в звании вице-короля; еретикам не разрешали там
селиться (поэтому гугеноты эпохи Людовика XIV уезжали в Голландию,
Англию, Пруссию, Северную и Южную Каролины). Новую Англию
основала торговая компания с королевской хартией - «Компания
Массачусетского залива», превратив управлявший ею совет
акционеров в провинциальную ассамблею, которая сама выбирала
представителей исполнительной власти. Виргиния, более аристократичная и
англиканская, чем конгрегационалистская Новая Англия, тоже была
основана частной компанией и точно так же создала свою Палату
горожан. Другие колонии, например Мэриленд и Пенсильвания,
основаны по королевской лицензии частными владельцами, которые,
тем не менее, наделили их представительными ассамблеями. Даже
если колонии, как Нью-Йорк, основывались прямо по королевскому
указу и управлялись назначенными королем губернаторами, они все
равно получали свои ассамблеи. И хотя назначаемый губернатором
исполнительный совет почти везде служил верхней палатой
ассамблеи, олицетворяя аристократический принцип британского
правительства, избираемые народом нижние палаты очень скоро начали
играть ведущую роль в системе. Короче говоря, практически всюду
главе исполнительной власти (любого происхождения)
приходилось управлять с согласия «палаты общин». Избирательное право,
конечно, основывалось на имущественном цензе, но даже в таких
аристократических колониях, как Виргиния и Нью-Йорк, ценз был
сравнительно низок, во всяком случае ниже, чем в Британии, а
большинство взрослого мужского населения почти повсеместно обладало
собственностью.
Вдобавок метрополия очень долго пренебрегала колониями и,
следовательно, мало вмешивалась в их дела. Первые два
представителя династии Стюартов, несмотря на вопли пуритан об их
«деспотизме», были слишком слабы, чтобы проводить строгую колониальную
политику или хотя бы не давать еретикам селиться на своих
заокеанских землях. При кромвелевском Содружестве политика Англии
198
стала более интервенционистской: правительство выкупило
«сахарные острова» Вест-Индской компании, ввело для всей британской
системы «Навигационный акт», который обязывал
североамериканские колонии торговать только в рамках этой системы. С точки
зрения британцев, колонии предназначались для того, чтобы служить
источником сырья (табака, индиго, риса) или продукции первичной
обработки (вроде соленой трески), а также закрытым рынком для
товаров британских мануфактур; собственное мануфактурное
производство в колониях не поощрялось. Последние Стюарты проявляли к
Северной Америке больше активного интереса: Карл II выдал хартии
на основание еще двух аристократических и англиканских колоний к
югу от Виргинии, а Яков II, отвоевавший при брате Нью-Йорк у
голландцев, впервые попытался привести пуританскую Новую Англию
в более подобающий королевской провинции порядок. 1688 г. сорвал
этот проект, и при первых двух правителях из Ганноверской
династии колонии снова наслаждались благодатным забвением со стороны
верховной власти.
В XVIII в. между колониями и метрополией существовало два
основных вида связи. Во-первых, коммерция: к 1763 г., например, почти
половина британских судов была задействована в торговле с
колониями, причем большая их часть именно там и построена. Вторая связь
носила военный характер. Так как Северная Америка служила
главным театром мирового соперничества Англии с Францией в XVIII в.,
колонии нуждались в британской защите от Франции и индейцев
со стороны Канады и долины Огайо. Джордж Вашингтон приобрел
первый военный опыт при безуспешной попытке отвоевать
территорию нынешнего Питтсбурга у французов во время Семилетней
войны 1756-1763 гг.23 (Хотя на самом деле при наличии всего 60 тыс.
французов в Канаде и еще пары тысяч в Луизиане демография уже
предопределила судьбу Северной Америки.) Подлинное значение
решительной победы Британии в 1764 г. для будущего заключалось
в том, что колониям больше не требовалась ее защита. Метрополия в
одночасье стала потенциально не нужна.
Десять лет революции
Выше уже отмечалось, что один из наиболее поразительных
моментов, связанных с началом американской революции, - как мало
понадобилось для того, чтобы дело пошло. Весь век колонии
прекрасно себя чувствовали в рамках закрытой торговой системы,
установленной «Навигационным актом», но, едва в 1763 г. был подписан
мир, потеряли покой. Поводом к недовольству, как и в случае нидер-
199
ландского восстания, послужила инициатива, исходящая из центра
имперской системы.
Англия, против которой восстали колонисты, уже не была
«маленьким тесным островком» 1688 г. - теперь она стала центром
империи, по праву названной «фискально-военным государством», и,
наверное, самым консолидированным национальным образованием
в Европе24. Виги, беспрерывно управлявшие Британией с 1715 г., хоть
и являлись якобы более либеральной из двух британских партий, но
к 1760 г. превратились в закрытую, консервативную олигархию,
преданную идее, что 1688 г. уладил британские дела в совершенстве и
навсегда.
Именно в этот момент в возрасте двадцати одного года на трон
взошел Георг III, первый настоящий англичанин из Ганноверской
династии. В отличие от своих предшественников, он решил править
самостоятельно, хотя и не деспотически, как когда-то думали. Он остался
верен наследию 1688 г., адаптированному в 1717 г. созданием поста
премьер-министра, то есть правил через парламент посредством
партии «друзей короля» (королевских чиновников, занимавших места
в парламенте) и клиентелы других типов, заменяя министров-вигов
новыми людьми. Целью его колониальной политики было создание
более централизованной административной структуры для империи,
простиравшейся теперь от Северной Америки до Индии. Для ее
осуществления в 1763 г. его кабинет министров провел по Аппалачам
прокламационную линию, дабы отделить новоприобретенные земли
внутри материка от прибрежных колоний, хотя многие колонии
издавна претендовали на эти территории.
Более серьезную проблему представляло решение Лондона
впервые со времени основания колоний напрямую облагать их налогом;
до тех пор все налоги принимались голосованием на их собственных
представительных ассамблеях. Причиной послужил тот факт, что
славная победа 1763 г. оставила после себя огромный долг размером
более 122 млн фунтов, выплата которого требовала свыше 4 млн
фунтов ежегодно. Налоговый гнет, обусловленный этим долгом,
который на Британских островах был во много раз тяжелее, чем где-либо
в колониях, вызвал в Англии всеобщее недовольство. В результате
Лондон небезосновательно счел, что колонии должны платить более
справедливую долю налогов за выгоду, которую получают от
британской имперской системы. Следует отметить, что налоги, собираемые
с колоний, шли только на содержание десяти тысяч британских
военных на территории Северной Америки, а не на выплату
национального долга. Так уж случилось, что после войны в колониях впервые за
все время их существования остались британские вооруженные силы,
200
так же как последняя война Карла V впервые привела к
постоянному размещению испанских войск в Нидерландах. Осуществление
британской налоговой политики вкупе с присутствием британской
армии в промежуток времени между появлением «Акта о гербовом
сборе» в 1765 г. и началом открытого конфликта в 1775 г.
спровоцировали американскую революцию. И те же годы стали самым
революционным ее этапом.
Собственно революционная часть, или нарастающая
идеологическая лихорадка, началась с «Акта о гербовом сборе» 1765 г. Уже
в предыдущем году волну недовольства вызвал «Сахарный акт»,
повышавший пошлину на ввоз патоки из Вест-Индии в Новую Англию
для изготовления рома - товара, который, в свою очередь,
использовался для поддержания работорговли. «Акт о гербовом сборе»
поднял настоящую бурю протеста, быстро достигшую масштабов
кризиса. Гербовый сбор, издавна существовавший в Англии, подразумевал
покупку официальной (гербовой) бумаги для любого рода
юридических и коммерческих документов; для продажи этой бумаги Лондон
выбирал некоторых именитых колонистов. Когда известия о новых
правилах достигли Северной Америки, результатом стал
незамедлительный массовый протест под лозунгом «нет налогам без
представительства». Этот лозунг будет лейтмотивом всей революции.
Дело было не в размере сбора, весьма умеренном, а в
конституционном принципе народного утверждения налогов, которые в конечном
счете взимались с индивидуальной собственности, а собственность,
как знал каждый свободнорожденный англичанин, - единственный
залог свободы. Таким образом, протест облекался в абсолютно лоя-
листские формулировки. По мнению колонистов, они, будучи
англичанами, требовали всего лишь соблюдения своих исторических
прав, восторжествовавших в революции 1688-1689 гг. Все их
аргументы исходили из британской виговской традиции, гласившей, что
британская конституция, удивительным образом сочетавшая
монархические, аристократические и демократические принципы, - самая
совершенная в мире.
Однако, отстаивая эти права, колонисты немедленно прибегли к
мерам, которые нарушали «королевский мир» и, по сути, граничили
с бунтом. Местные органы власти организовывали ремесленников,
«механиков» и прочих мускулистых индивидуумов в
«патриотические» дружины под названием «Сыны свободы», призывали их
прогонять из города исполнителей «Акта о гербовом сборе», уничтожать
их ненавистную гербовую бумагу, а иногда и их имущество. Зачастую
подобные действия превращались в уличные беспорядки, как в
случае с разгромом дома Томаса Хатчинсона, лейтенанта-губернатора
201
Массачусетса. В конце года стихийные местные протесты
увенчались проведением в Нью-Йорке «Конгресса по поводу Акта о
гербовом сборе» с участием представителей девяти колоний, не имевшего
легального разрешения. Энтузиазм собравшихся представлял
разительный контраст с полным провалом конгресса в Олбани,
созванного англичанами в 1754 г. с целью организации обороны во время
войны с французами.
Поначалу Лондон предположил, что колонии возражают лишь
против «внутренних» отчислений в казну, считая их сбор функцией
собственных представительных ассамблей, но не против «внешних»
налогов, регулирующих торговлю. Имея в виду это
безосновательное и довольно бессмысленное различие, парламент ответил, что,
хотя колонии не представлены в парламенте напрямую, так же как,
например, английские города Манчестер или Бирмингем, они
представлены «виртуально», поскольку по старинному историческому
праву парламент говорит от имени всех британских доминионов.
Колонисты, естественно, отвергли подобный аргумент на том
основании, что виртуальное представительство, может, и имеет смысл на
территории Великобритании, однако в Северной Америке
применяется английская конституция, а это означает налогообложение только
с помощью представительных органов, избранных на местах. Затем
предметом спора стало разделение налогообложения как
колониальной прерогативы и законодательства как прерогативы парламента.
При этом колонисты все время настаивали на своей верности королю
как суверену - и заблуждались, так как по конституции, которой они
обосновывали свой протест, сувереном являлся объединенный
орган - «король в парламенте».
В любом случае, разрешили дело не споры, а прямые действия со
стороны колонистов. Тем, кто имел глупость согласиться взять на
себя обязанности исполнителя «Акта о гербовом сборе», угрожало
уличное насилие со стороны «Сынов свободы» из простолюдинов
под руководством людей вроде Сэмюэля Адамса. Такое давление,
вкупе с бойкотом британской торговли путем отказа от потребления
и ввоза британских товаров, который возглавили крупные торговцы,
поразило британское правительство. В результате к концу года «Акт
о гербовом сборе» фактически утратил силу. В следующем году
британское правительство, понимая, что совершило ошибку,
аннулировало оскорбительный акт. Но, чтобы спасти лицо, парламент принял
«Деклараторный закон», сохранявший за ним (абстрактно) право
издавать законы для колоний «по любым, каким бы то ни было,
вопросам», то есть предположительно и по налоговым. Разумеется,
утверждать принцип, который не осмеливаешься воплотить в жизнь, -
наихудшее из возможных решений.
202
Вторая волна протеста прокатилась после введения в 1767 г.
пошлин Тауншенда на стекло, свинец, краски и чай. На сей раз кризис
нарастал постепенно, на протяжении нескольких лет. Но кульминации
он достиг более радикальной, вылившись в вооруженный конфликт
1775 г. и отделение от Британии в 1776 г.
Вводя пошлины Тауншенда, англичане стремились избежать
повторения беспорядков 1765 г. Для взыскания пошлин назначались
таможенные чиновники, которым платили жалованье из собранных
средств. В 1768 г. в Бостонской бухте был наложен арест на корабль
«Свобода», якобы за неуплату пошлин, после чего начался бунт.
Таможенные чиновники попросили защиты у английских войск. В то
же время ассамблея Массачусетса отказалась аннулировать
«циркулярное письмо» с протестом против пошлин, разосланное в другие
колонии и подписанное ими. Городские торговцы объявили бойкот
импорту британских товаров. В ответ королевский губернатор
распустил ассамблею, но та не повиновалась, продолжая собираться как
неузаконенный «конвент». Английские войска прибыли в Бостон,
однако жители отказывались предоставлять военным жилье, хотя
их обязывал к этому «Акт о постое» 1765 г. Трения между
войсками и горожанами неизбежно привели к стычке - так называемой
Бостонской бойне в марте 1770 г.
На следующий год Лондон снова пошел на попятную, отменив
пошлины Тауншенда, кроме пошлины на чай. В результате
бойкот импорта сорвался, и все успокоилось. Однако в 1772 г. поджог
таможенного судна послужил поводом для создания королевской
следственной комиссии, и пошли слухи, что предполагаемых
виновников будут судить в Англии, то есть не «судом равных», как
требовало обычное право. Вице-адмиралтейские суды при таможне также
работали без присяжных. Одновременно губернатор Массачусетса
Хатчинсон объявил, что раз ему и членам верховного суда платит
жалованье корона, то он не зависит от местной ассамблеи и является
прямым представителем короля. К концу года подобные
инциденты и накопившиеся претензии привели к образованию Бостонского
корреспондентского комитета, финансируемого городским
собранием, под руководством Джона Адамса, вскоре этому примеру
последовали остальные колонии. Существование этой сети, связывающей
колонии между собой, параллельно с официальной королевской
администрацией, по сути, создало нечто вроде двоевластия.
Затем Лондон допустил еще один промах. В 1773 г. парламент,
стремясь помочь Ост-Индской компании справиться с
финансовыми трудностями, уполномочил ее назначать в Америке собственных
агентов для продажи чая напрямую розничным торговцам, то есть в
203
обход американских оптовиков. Хотя это означало снижение цен на
чай, корреспондентские комитеты стали подстрекать горожан, чтобы
те заворачивали обратно суда с чаем, и большинство так и делало.
В Бостоне губернатор не позволил судам покинуть бухту без
разгрузки, тогда в декабре «патриоты», замаскированные под индейцев,
забрались на корабли и выкинули чай в воду.
«Бостонское чаепитие» окончательно вывело английское
правительство из себя и положило конец поискам компромисса. Ответ
парламента пришел в виде пяти «Принудительных актов» 1774 г.
Бостонский порт был закрыт, городские собрания запрещены,
провинциальные ассамблеи сильнее подчинены короне; королевских
чиновников, обвиняемых в тяжких преступлениях, судили в Англии,
подальше от враждебных колониальных присяжных; вышел также
новый «Акт о постое», ужесточавший прежний, изданный в 1765 г.
Для исполнения этих актов губернатором Массачусетса назначили
командующего английскими войсками в Северной Америке. Как
еще один удар по свободе американские колонисты восприняли не
имеющий к ним прямого отношения «Акт о Квебеке», поскольку он
расширял границы территории прерогативного управления
«папистской» Канады к югу от долины Огайо, включая туда индейские
земли, которые жаждали заполучить колонисты.
Эти «невыносимые» меры окончательно убедили колонистов, что
их неприятности с Англией - результат обширного заговора
продажных властей в метрополии и таких должностных лиц, как Хатчинсон,
в Америке с целью превратить колонистов в рабов и,
следовательно, уничтожить британскую свободу. А поскольку за пределами
Швейцарии и Венеции истинная свобода существовала только в
британском мире, значит, заговорщики намеревались искоренить
свободу везде. Таким образом, дело колонистов становилось делом всего
человечества.
В основе растущей уверенности в мощи всемирного заговора
против свободы лежала интеллектуальная традиция, идущая от
парламентариев-пуритан 1640-х гг. к ранним вигам эпохи «Кризиса
исключения» при Карле II и к «приверженцам Содружества», которые
в XVIII в. противостояли виговской олигархии Роберта Уолпола
при двух первых Ганноверах. Разумеется, колониальная элита
хорошо разбиралась в высокой политической теории Джона Локка и
Монтескье. Но эмоционально и психологически ей были ближе
республиканство Джеймса Гаррингтона и мученика «Заговора
житницы», Алджернона Сиднея, а также находившиеся в меньшинстве
радикальные критики-виги начала XVIII в.25
Мировоззрение, впитанное из этих источников, опиралось на
оценку человеческой природы, которая противоречила оптимизму
204
Просвещения, характерному для периода накануне французской
революции. Человек, согласно радикальной виговской точке зрения,
не рационален и не добр по природе, им правят страсти,
предрассудки, тщеславие, амбиции, жажда власти и богатства (очень
кальвинистский взгляд). При подобных наклонностях правительство
людей неизменно склонялось к коррупции и деспотизму, а свобода,
процветавшая в редкие времена и в немногих местах, например в
Древней Греции и Риме, а затем в Англии после 1688 г., вечно
находилась под угрозой исчезновения. Отсюда постоянные попытки
Стюартов закабалить народ в XVII в. Даже после 1688 г. темные силы
вокруг короля и в самом парламенте - продажные «друзья короля»,
наймиты и вообще «корыстолюбцы» - продолжали угрожать
свободе. «Принудительные акты» 1774 г. ясно показали колонистам, что
с 1765 г. Америка стала жертвой тайного заговора с целью обратить
ее в рабство и уничтожить достижения 1688 г. в самой Англии. Как
еще объяснить содержание регулярной армии в Северной Америке,
кампанию по лишению американцев собственности путем
налогового произвола, отказ от суда присяжных в столь многих случаях и
отстранение правительства Массачусетса? Как объяснить кампанию
1774 г. по установлению англиканского епископата в пуританской
Америке26? И разве это не совпало с расширением юрисдикции
«папистского» Квебека?
Одним словом, к 1774 г. колонисты твердо верили, что
продолжают борьбу парламента с деспотизмом Стюартов, начатую в
XVII в., только теперь вместо Стюартов - сам парламент. Это явно
сильное преувеличение, в сущности, попахивающее паранойей. И
чем оно объяснялось? Стюарты вправду представляли настоящую
угрозу парламентским свободам, «папизм» в эпоху контрреформации
XVII в. являлся реальным и мощным противником протестантства.
Но Георг III, безусловно, не походил ни на Карла I, ни на Якова II,
американские плюрализм и индивидуализм слишком прочно
укоренились, чтобы их легко было уничтожить. Наиболее приемлемое
объяснение заключается в следующем: исключительные привилегии
и свободы, которыми пользовались американцы, сделали их
сверхчувствительными к любой попытке уменьшения таковых. Отсюда
мгновенный взрыв 1765 г. Отсюда же глубокая убежденность в
существовании заговора, когда дела действительно приняли опасный
оборот с появлением «Принудительных актов» в 1774 г.
Поскольку ситуация стала по-настоящему критической,
колонисты перешли к организованному и координированному
сопротивлению. По инициативе корреспондентских комитетов осенью 1774 г.
был созван межколониальный или континентальный конгресс. Этот
205
Первый континентальный конгресс принял ряд массачусетских
резолюций, представленных Сэмюэлем Адамсом и одобрявших активное
сопротивление «Невыносимым актам». Он также утвердил
соглашение об отказе от ввоза и потребления британских товаров. И снова
отверг любые притязания парламента на законодательную власть
над колониями, признав за ним лишь право регулировать
торговлю. Короче говоря, конгресс потребовал возвращения к статус-кво,
существовавшему до 1765 г.
Английское правительство, со своей стороны, уверилось, что
Адаме и массачусетские радикалы намерены добиться
независимости. Единственным подобающим ответом на это могло быть
проявление твердости. Соответственно в апреле 1775 г. английским
войскам, размещенным в Бостоне, приказали выслать вооруженную
колонну в Конкорд, чтобы конфисковать оружие, которое хранила
там колониальная милиция. Именно данная акция
спровоцировала знаменитую перестрелку на Лексингтонском лугу и начало
военных действий между «красными мундирами» и «минитменами».
А это противостояние, в свою очередь, вызвало падение британского
правительства во всех колониях. Королевские губернаторы один за
другим покидали посты и уходили под защиту британских военных
кораблей. Колониальные ассамблеи, которым прежде для заседаний
требовалось разрешение губернатора, снова собирались в качестве
чрезвычайных «конгрессов» и начинали управлять как верховные
органы власти: формировать войска и печатать бумажные деньги,
чтобы платить им, хотя в то время бумажные деньги были в новинку
и многим казались безрассудной затеей.
В такой ситуации Второму континентальному конгрессу,
собравшемуся в следующем месяце, ничего не оставалось, как
перейти от декларации общих принципов к ведению войны и
исполнению обязанностей временного центрального правительства. Он
преобразовал провинциальную милицию из окрестностей Бостона
в Континентальную армию, назначив ее главнокомандующим
полковника милиции Джорджа Вашингтона. Он выпустил
континентальные бумажные деньги и вступил в переговоры с иностранными
правительствами, стремясь, в частности, заручиться поддержкой
Франции. Однако, несмотря на действия, означающие де-факто
суверенитет, американцы еще не чувствовали готовности оборвать все
связи с Англией. Полностью отвергая власть парламента, колонии
снова заверяли в своей лояльности короля и направили ему петицию
с просьбой отменить изданные парламентом тиранические законы.
Вину за них они по проверенному временем правилу
революционеров-неофитов возлагали на «дурных советников» монарха - его ми-
206
нистров. Король не ответил на петицию колонистов и вскоре объявил
их бунтовщиками, а парламент проголосовал за отправку в Америку
еще 25 тыс. солдат. Единственным выходом представлялась
независимость, и в январе 1776 г. Томас Пейн в памфлете «Здравый смысл»
сформулировал мысль, что не только Георг III - тиран, но и монархия
как таковая - абсурдное явление, по природе своей несовместимое с
человеческим достоинством. В июле независимость была должным
образом провозглашена, и колонисты без особых терзаний и дебатов
превратились в убежденных республиканцев.
1776 г. стал апогеем революционной лихорадки и запала. Падение
британской власти частично и с некоторыми модификациями
вернуло колонии в «естественное» состояние. Континентальный
конгресс посоветовал всем штатам обзавестись новыми конституциями.
Искушенные в политике и располагавшие обилием британских
прецедентов для примера колонисты быстро выстроили новый
политический порядок. Провинциальные «конгрессы» - по существу,
прежние колониальные ассамблеи - в 1776 и 1777 гг. создали новые, более
демократичные провинциальные ассамблеи с сильными биллями о
правах, продолжая выступать в роли действующих правительств
штатов. В этот краткий период были введены радикальная конституция
Пенсильвании, виргинский билль о правах, церковь отделена от
государства, сделаны первые шаги к отмене рабства на севере. Но
главным нововведением в реорганизации правления стал изобретенный
в Массачусетсе в 1780 г. отдельный «конституционный конвент», не
участвующий в управлении. Данный орган послужил образцом для
общенационального Конституционного конвента, а в течение двух
последующих столетий копировался по всему миру.
Самой неотложной задачей, однако, было закрепить
независимость победой в войне. Слабость Континентальной армии и
ополчений штатов диктовала необходимость просто поддерживать их
существование, пока ошибки англичан и иностранная помощь (из
Франции) не сделают победу возможной. Положение англичан
сильно осложнял недостаток ресурсов для такой большой территории с
враждебным населением. Соединенные Штаты не смогли бы
победить тогда и так, когда и как они победили, без французской помощи.
Да и то на победу ушло восемь лет. Впрочем, география и демография
со временем все равно разрушили бы их связь с Британией.
Подведем итог, во второй раз вариант большого
революционного процесса произошел в североамериканских колониях Британии.
Правда, местные условия очень сильно изменили европейский
сценарий. При всецело европейском культурном, религиозном и кон-
207
ституционном наследии, в Америке сохранились лишь осколки
институционального «старого режима»: там не проживали ни монарх,
ни епископ, не существовало ни единой официальной церкви, ни
закрепленной законом классовой иерархии, а Просвещение
достигло американской территории лишь в умеренной локковской и
шотландской версии. Кроме того, Новую Англию и среднеатлантические
штаты основывали, главным образом, представители радикального
крыла английской революции в изгнании. В то же время здесь
имелись практически беспредельные и никем не охраняемые земли, куда
могла перебираться беспокойная беднота с побережья Атлантики.
Таким образом, американскому бунту пришлось ниспровергать
гораздо меньше, чем любому европейскому, и он не породил острых
социальных конфликтов, которые радикализировали европейские
революции. Конечно, существовало рабство, но оно парадоксальным
образом производило консервативный эффект, удаляя самую
обездоленную часть населения из политического тела. Поэтому
американская революция стала, по сути, войной за независимость от
заморского «наполовину старого режима», чьи парламентские привилегии
полагались только британцам, и созданием к 1789 г. унитарного
национального государства там, где раньше государства не было
вообще. По словам Токвиля, «Америка насладилась плодами революции,
не пройдя через ее процесс». Но плоды действительно оказались
революционными, так как возникшая в итоге эгалитарная и светская
республика представляла собой поразительный пример отрицания
всех «старорежимных» структур и ценностей. Собственно, именно
потому, что Америка никогда не знала «старого режима», утверждает
Луис Харц, позже она не знала и социалистического движения.
8
ФРАНЦИЯ, 1789-1799
РЕВОЛЮЦИЯ КАК ВОИНСТВУЮЩАЯ
СОВРЕМЕННОСТЬ
Заканчиваем мы революцию, или мы ее начинаем
снова?.. Вы сделали всех людей равными перед законом;
вы провозгласили гражданское и политическое
равенство; вы возвратили государству все, что было отнято
у суверенитета народа. Еще один шаг может стать
губительным и преступным; еще один шаг в направлении
свободы - и будет уничтожена королевская власть; еще
шаг в направлении равенства - и будет уничтожена
собственность... Сегодня общий интерес заключается в том,
чтобы революция остановилась. Те, кто побежден ею,
должны понять, что невозможно заставить ее повернуть
вспять; те, кто ее совершил, знают, что это ее последний
рубеж; благо их родины и их собственная слава требуют,
чтобы она больше не продолжалась.
Лнтуан Барнав (15 июля 1791)
Французское временное правительство
революционно до установления мира.
Сен-Жюст (осень 1793)
Революция следует Христианскому учению и
противоречит ему. Она - преемник христианства, и в то же
время его искуситель.
Жюль Мигиле (1847)
Революция вернула миру веру в невозможное.
Эдгар Кипе (1854)
Если Реформация была революцией против «первого сословия»,
то 1789 г. - первый случай революции против «второго
сословия», в жернова которой «первое сословие» угодило «для
ровного счета». Решение свергнуть монархию также пришло задним
числом - лишь когда стало ясно, что король не согласится с социальным
уравнительством. В итоге осталось одно «третье сословие», которое
209
теперь, собственно, и представляло собой нацию, великую
современную массу равных граждан-братьев.
1789 г. придал европейской революции новый, беспрецедентный
масштаб. Ее первый злейший враг Эдмунд Бёрк тут же подметил
(хотя в 1790 г. не видел еще и половины случившегося): «Рассмотрев
все обстоятельства, приходишь к выводу, что французская
революция - наиболее выдающееся событие из всех, что происходили
ранее». Она действительно знаменовала конец тысячелетнего
господства режима «двух мечей» и «трех сословий», причем не
только для Франции, но косвенно и для Европы вообще: после 1789 г.
ничто и нигде уже не могло остаться прежним. Поэтому обзоры
истории Европы неизменно делят ее на периоды до и после 1789 г.;
1688 г. переломным рубежом считается реже, а 1640 г. - почти
никогда. Единственное сопоставимое потрясение в прошлом европейская
система испытала в 1517 г. с началом Реформации, однако этот
переворот, конечно, не принято называть «революцией». А единственным
сопоставимым потрясением в дальнейшем станет Октябрь 1917 г.,
но его творцы сами будут говорить о себе как о продолжателях дела
1789 г. на более высокой и последней социалистической ступени
истории.
Спорное наследие
Соответственно историография Великой французской
революции - самая обширная из комплексов работ, посвященных
подобного рода событиям, страсти вокруг этого периода по накалу уступают
лишь тем, что кипят вокруг Красного Октября. Кроме того, она имеет
первостепенное значение для понимания революции как таковой и
жизненно важна для самой влиятельной теории революции и самой
амбициозной всемирно-исторической теории - марксизма. События
1789 г. стали матрицей Марксовой концепции «буржуазной
революции», которая, в свою очередь, послужила шаблоном для
предполагаемой в будущем «пролетарской революции». Поэтому если в Англии
поднялась «буря из-за джентри» (в Америке выродившаяся в «бой с
тенью» из-за плантаторского «феодализма»), то во Франции
разразился настоящий ураган в спорах о буржуазном статусе событий 1789 г.
Речь шла не только о ходе французской истории, но и о пути всего
человечества в целом: если уж события 1789 г. нельзя
охарактеризовать как буржуазную революцию, значит, такого зверя в природе не
существует; а если не существует, то и прогнозируемая пролетарская
революция - фантом.
210
Развитие историографии французской революции можно
систематизировать по поколениям, определяя их на основании того,
как страна обсуждала текущую политику в свете истории
прошлого1.
Поколение 1830 г. Споры начались во время Реставрации 1815 г.,
которая как будто перечеркнула достижения революции2. До тех пор
история революции была вотчиной эмигрантов-роялистов,
например аббата Баррюэля, который считал ее масонским заговором. Как
только король, аристократия и церковь вергулись к власти, пришел
черед наследников 1789 г. (но еще не 1793-го) защищать
либеральное наследие великого года - прежде всего, разумеется, воскрешая
его политику, что они и сделали в 1830 г. Адольф Тьер, будущий
орлеанистский премьер-министр и первый президент Третьей
республики, вместе со своим другом Франсуа Минье в 1823-1824 гг.
наметил линию классического либерального разграничения между
созидательной революцией 1789-1791 гг. и ее извращением в 1792—
1794 гг.3 Крупным представителем этой традиции стал уже
упоминавшийся Франсуа Гизо, дольше всех занимавший пост
премьер-министра при Луи-Филиппе4. Сейчас его имя обычно вспоминают лишь в
связи с нападками на него Маркса во вступлении к «Манифесту
коммунистической партии» да со словом «обогащайтесь», которое он в
1840-х гг. бросил противникам избирательного права на основе
имущественного ценза. Но на протяжении чуть ли не всего XIX в. Гизо
оставался одним из самых популярных европейских историков5. Он
проводил взгляды вигов в панъевропейском масштабе, определяя
европейскую цивилизацию как прогресс свободы: от Реформации к
английской революции XVII в. (в отличие от Маколея, Гизо
понимал, что ее истинным началом следует считать 1640 г.) и затем к
триумфу в 1789-1791 гг. А самые ранние истоки 1789 г., по его мнению,
лежали в коммунальных бунтах «буржуазии» XII в. против
господства епископа или сеньора-феодала - «классовой борьбе», которая в
1789 г. окончательно привела «третье сословие» к власти. (Из этого
источника и Маркс почерпнул идею о классовой борьбе как движущей
силе истории, хотя утверждал, будто сам «открыл» этот принцип.)
Поколение 1848 г. С приходом к власти либералов молодые
историки, предвкушая более адекватное продолжение 1789 г., нежели
классовая Июльская монархия, реабилитировали республиканскую
революцию 1792-1795 гг. Наиболее видным из этих
демократов-лириков был Жюль Мишле, первый том его «Французской революции»
вышел в 1847 г. Во весь свой романтический голос он славил дело
революции в целом (лишь за исключением перегибов террора) как
211
йозрождение Франции и, по сути, всего человечества,
всемирно-исторический триумф «народа», всех угнетенных и обездоленных за
долгие века господства средневековых предубеждений и порабощения6.
6 том же году появились работы, посвященные отдельным партиям:
йоэт Альфонс де Ламартин сделал героями своей книги умеренных
республиканцев революции - жирондистов7, а социалист Луи Блан
начал 12-томный труд, прославляющий республиканских
якобинцев-монтаньяров8. Уже в следующем году оба, разумеется, оказались
ö составе временного правительства Второй республики, правда,
ненадолго, поскольку не сумели справиться с парижским плебсом,
который другой ранний социалист - Маркс - именовал носителем
пролетарской классовой борьбы.
Неудачный повтор сценария 1789 г. также породил отрезвленных
реалистов, первое место среди которых занимал демократ поневоле
Алексис де Токвиль. В 1830-е гг. он, подозревая дальнейшие
перемены во Франции и готовясь к ним, перенес внимание с либерально-
аристократической английской модели на более подходящий пример
Эгалитарной Америки, ибо под «демократией» понимал не столько
конституционное правление, сколько l'égalité des conditions
(равенство условий) - процесс социального уравнивания, запущенный
крахом «старорежимного» société à ordres (сословного общества). В1848 г.
он в качестве депутата помогал разрабатывать проект конституции
Второй республики, а затем стал министром иностранных дел при ее
первом и последнем президенте, Луи-Наполеоне Бонапарте.
После того как переворот Бонапарта заставил его уйти в отставку,
Токвиль задумался о том, почему Франция и Европа с таким трудом
адаптируются к демократической эпохе. В 1856 г. вышла в свет его
работа «Старый режим и революция», где он утверждал, что
революция представляла собой зеркальное отражение прежней монархии:
королевский абсолютизм, лишая аристократию политических
функций, но оставляя нетронутыми ее привилегии, породил культуру
Демократической зависти, которая заставила революцию поставить
равенство (то есть уравнительство) выше индивидуальной свободы.
Поэтому народный суверенитет оказался столь же абсолютным, что и
прежний королевский, приведя в итоге к якобинской централизации,
à затем к диктатуре двух Наполеонов9.
Стремясь найти объяснение такому неправильному
результату, Токвиль расширил круг сопоставлений10: ранее он уже добавил
Америку к обычному сравнению Франции с Англией, а теперь при
подготовке книги о революции выучил немецкий язык, чтобы
исследовать четвертый пример - почти нетронутые «старые режимы» за
212
Рейном. Он даже бросил взгляд на пятый - царскую Россию,
прочитав известную в то время книгу 1847-1852 гг. о русской
крестьянской общине, написанную бароном фон Гакстгаузеном. Его отклик
достоин того, чтобы стоять в одном ряду со знаменитым сравнением
России и Америки в заключительной части «Демократии в Америке»:
«С одной стороны, мы видим народ, законодательно прикрепленный
к земле, как в X в., а с другой - постоянную географическую и
социальную неугомонность, свойственную американцам... Это производит
впечатление Америки без просвещения и свободы. Демократическое
общество, которое пугает»11.
Аналогичное разочарование во французской революционной
традиции постигло единомышленника Мишле -
республиканца Эдгара Кине12, хотя, в отличие от своего друга, Кине считал, что
1789 г. стал не столько прорывом, сколько красивым поражением.
Подобно Токвилю, он отчасти винил в таком исходе
институциональное наследие «старого режима». Однако разница заключалась
в том, что Кине в равной мере возлагал вину и на католичество. Не
будучи протестантом, как Гизо, Кине, тем не менее, полагал, что
провал Реформации во Франции оставил революцию лицом к лицу со
слишком многими проблемами одновременно, чтобы хоть одну из
них можно было решить либеральным способом. Он снова проводил
сравнение с Англией, разрешившей религиозную проблему в XVI в„
а конституционную - в XVII в., что помогло ей легче пережить
пришествие демократического равенства в XIX в.13 Тезис о
перенапряжении революции и католическом наследии в 1789 г. определенно стоит
обдумать.
Поколение 1870 г. При Третьей республике смысл революции
вновь изменился. Поскольку республика родилась из бедствий 1870—
1871 гг., первым прозвучало негативное суждение о революции,
принадлежавшее Ипполиту Тэну14. Подобно орлеанистам, он был
англофилом, что объясняло его враждебность к якобинской кульминации
революции. Но, в отличие от них, Тэн враждебно относился к
революции в целом, находя истоки террора в первоначальной «анархии»
1789 г. и даже в абстрактном и уравнительном esprit classique
(классическом духе) времен «старого режима». Поэтому его труд «Истоки
современной Франции», начатый в 1876 г., представлял собой свод
пессимистических воззрений на современную Францию. Подобный
пессимизм периодически прорывался и у таких роялистов, как Пьер
Гаксотт, Жак Бэнвиль и Шарль Моррас.
Однако после 1870 г. возобладал позитивный тон. В том году,
когда книга Тэна пошла в печать, новый режим попал в руки республи-
213
канцев, которые, разумеется, вели свою родословную в той же мере
от 1792 г., что и от 1789-го. «Революция - единое целое», - сказал
«дрейфусар» Клемансо. День взятия Бастилии в 1880 г. стал
национальным праздником, а «Марсельеза» - государственным
гимном. Был объявлен сбор средств по подписке на сооружение статуи
Свободы в порту Нью-Йорка. Монумент передали в дар США в
1889 г., на двойной столетний юбилей: взятия Бастилии и принятия
американской конституции.
Приверженность республики принципу всеобщего
избирательного права подразумевала введение всеобщего начального образования,
призванного воспитать молодежь в надлежащем патриотическом
духе, а эта миссия, в свою очередь, требовала соответствующего
корпуса исторических работ. В 1886 г. в Сорбонне, преобразованной в
исследовательский университет по немецкому образцу, была
создана кафедра истории революции. В 1901 г. возглавивший ее Франсуа
Олар ответил Тэну «Политической историей Французской
революции», где уверенно выводил Первую республику из принципов
1789 г. и оправдывал террор интересами национальной обороны от
нападений из-за рубежа и мятежа внутри страны. С тех пор такую
позицию называют «теорией обстоятельств». Героя Олар видел в
приземленном Дантоне, демократе и патриоте, а перегибы террора
сваливал на фанатика Робеспьера15. Это разграничение продолжает
жить в господствующем республиканском мифе: в Париже сегодня
есть знаменитый памятник Дантону и рядом улица Дантона, тогда
как Неподкупному ни одного памятника нигде не поставили.
Поколение 1900 г. Не успел ортодоксальный взгляд утвердиться,
как его ниспровергло появление социализма как массового
движения. В том же году, когда Олар занимался своим политическим
синтезом, Жан Жорес за пределами академии приступил к написанию
четырехтомной социалистической истории революции. Ранее
великая эпопея, даже у Мишле, изображалась под углом зрения «сверху»
путей изложения протоколов революционных собраний и описания
деяний главных лидеров. Жорес рассказывал историю «снизу», с
помощью архивных материалов, посвященных экономическим
проблемам и политической активности масс. Его основная мысль, в равной
степени в духе Мишле и Маркса, заключалась в том, что
существующая республика в конечном счете должна стать социальной16.
Но, как только на это было обращено внимание, умами
исследователей данной темы завладела советская модель, показывавшая, что
на деле может означать социализм; бывший ученик Олара Альбер
Матьез предпринял попытку в отраженном свете Октября реаби-
214
литировать жестокий террор Робеспьера. Комитет общественного
спасения, который устанавливал контроль над ценами (максимум),
стал у него уже не только правительством национальной обороны,
но и зародышем диктатуры пролетариата, увы, задушенной
реакционной термидорианской буржуазией. Соответственно Матьез чернил
оларовского Дантона и пел дифирамбы своему Робеспьеру, который
якобы вел настоящую кампанию за социализм против
существующего республиканского истеблишмента. Однако этому первому
квазимарксизму недоставало социологической глубины, поскольку
Матьез подробно расписывал «дороговизну» в годы террора, как
будто она могла объяснить диктатуру республиканской «добродетели»,
установленную Неподкупным17. В любом случае, отход Матьеза от
взглядов Олара положил конец недолгой жизни течения, которое
можно назвать неоякобинским «вигизмом». Следующие полвека в
исследованиях революции царил Маркс.
Поколение 1936 г. Расцвета это движение достигло благодаря
преемнику Олара в Сорбонне - Жоржу Лефевру18. Его социалистическое
и марксистское, в духе Жюля Геда, творчество предлагает максимум
того, на что способна социальная интерпретация революции. В
начале 1920-х гг., следуя примеру дореволюционных российских ученых,
много писавших о французском крестьянстве XVIII в., - главным
образом И. В. Лучицкого19 - и воодушевленный картиной решающей
роли крестьянства в событиях 1917 г., Лефевр, по сути, создал
современную отрасль французской аграрной истории монументальным
исследованием жизни крестьян его родного департамента Нор в эпоху
революции20. В методологическом плане он был весьма восприимчив
к социологии Эмиля Дюркгейма и историков школы «Анналов», чье
влияние очевидно прослеживается в посвященной крестьянству всей
Франции работе 1932 г. «Великий страх» - социальной истории того
типа, который впоследствии получит название «истории
менталитета»21. В 1937 г. после победы Народного фронта Лефевр возглавил
кафедру в Сорбонне, а в 1939 г., к 150-летию 1789 г., написал
сокращенное изложение событий того судьбоносного года, которое
представляет собой лучший образчик классового анализа, нежели
знаменитые памфлеты самого Маркса, изданные в 1848 г.22 После войны, в
1951 г., когда Лефевр начал симпатизировать ФКП, на которую тогда
падал отсвет Сталинграда, из-под его пера вышел обобщающий труд
о революции во всех ее аспектах: политическом, экономическом и
социальном23. Он включил туда, в частности, данные скрупулезных
экономических исследований Эрнеста Лабрусса, демонстрирующие
рост благосостояния до 1778 г., а затем десятилетие кризиса, в ре-
215
зультате которого цена на хлеб взлетела до максимальной отметки за
столетие как раз 14 июля 1789 г.24
Хотя в целом Лефевр рассматривал 1789 г. как «буржуазную
революцию», он все же не сводил те события исключительно к
взаимодействию политики с классовыми интересами и не считал их
главным образом промежуточной станцией на пути к Октябрю. Подобно
Мишле, он полагал, что народный суверенитет и «Декларация прав
человека» сами по себе - эпохальная историческая кульминация.
Соответственно его классовый анализ событий 1789 г. достаточно
нюансирован. Движение, по его словам, началось как
аристократическая революция в 1787-1788 гг., переросло в буржуазную революцию
в мае-июне 1789 г., потом в народную и муниципальную революцию
в июле и, наконец, в крестьянскую революцию против феодальных
податей в августе - в том же месяце после этих четырех стадий
наступила кульминация в виде провозглашения «Декларации прав
человека» и отмены сословной системы. Именно путем такого каскада
изменений революция уничтожила «старый режим».
Лет через пятнадцать после Второй мировой войны престиж
«партии» во Франции достиг наибольшей высоты, в то время первый
парижский «мандарин» Жан-Поль Сартр мог с уверенностью
провозглашать марксизм «неизбежным горизонтом нашего века». В такой
атмосфере Альбер Собуль, ученик и впоследствии преемник Лефевра
в Сорбонне, ревизовал творчество Матьеза, изучая санкюлотов 1793 г.
в более диалектической манере. Его диссертация, напечатанная в
1958 г., показывает, как «пехотинцев» революции трагически
стерли в порошок ее внутренние противоречия25. С одной стороны, они
были революционным классом в полном смысле слова,
поборниками прямой демократии и протосоциалистического экономического
контроля; с другой - лишь архаичным «предпролетариатом»,
состоявшим из ремесленников и мелких лавочников вкупе с неимущими
наемными работниками. Тем не менее их способность к прямому
действию толкала революционные законодательные собрания влево,
от 1789 г. к якобинской диктатуре 1793 г., и в данной роли они
действительно выглядели предтечами современного пролетариата и
российских советов. А трагедия термидора произошла из-за
несовместимости между этим народным движением и «буржуазной»
приверженностью Комитета общественного спасения к представительной
демократии и экономическому либерализму. На деле монтаньяры
использовали санкюлотов только для защиты от «феодальной»
реакции. И как только их власть упрочилась, Робеспьер пресек народное
движение, невольно лишив себя телохранителей к решающей схватке
9 термидора.
216
Однако не все пропало, остался ориентир грядущего Октября -
данная тема с растущим усилием подчеркивалась в каждом
последующем издании «Краткого курса» истории революции от Собуля26.
Этот «Краткий курс» сделал социальную интерпретацию революции
застывшей политической догмой. А Собуль, член партии,
воспользовавшись должностным положением, превратил кафедру, созданную
для проповедования принципов буржуазной республики, в
коммунистическую вотчину.
Поколение 1968 г. Как и следовало ожидать, вскоре последовало
наступление «ревизионистов». Первый залп дали британские исто-
рики-эмпиристы, которые не рассматривали события 1789 г. ни с
точки зрения судьбы нации, ни с точки зрения политики
настоящего времени. В 1964 г., в разгар послевоенной гегемонии марксизма
(Э. П. Томпсон выпустил свой главный труд в предыдущем году, а
Собуль свою диссертацию - несколькими годами ранее), Альфред
Коббан опубликовал «Социальную интерпретацию Французской
революции»27. Он исходил из предпосылки, что «якобы социальные
категории наших историй - буржуа, аристократы, санкюлоты - по
сути, категории политические» (а также в действительности
метафизические)28. Он отыскал у Лефевра примеры, показывающие, что
легендарная буржуазия и ее феодальный противник - пустые
абстракции. К сожалению, ему не удалось придумать ничего лучше, чем (как
вы наверняка уже догадались!) приписать революцию «слабеющей
буржуазии» в лице озлобленных юристов и королевских чиновников
(officiers).
На следующий год ревизионистский вызов прозвучал уже во
Франции в более аналитической форме. Здесь его бросили бывшие
коммунисты Франсуа Фюре и Дени Рише, взявшие на себя весьма
смелую для столь юных историков задачу создания
обобщающего труда с провокационным акцентом на политику и идеологию29.
В 1971 г. в битву оказалась непосредственно втянута собулевская
Сорбонна, когда Фюре напечатал в «Анналах» свой «Катехизис
Французской революции», устанавливающий эсхатологическую
связь между 1789 и 1917 гг.30 В 1978 г. «Архипелаг ГУЛАГ» А. И.
Солженицына нанес непоправимый урон советской загадке во Франции,
а ревизионизм обрел свой манифест в виде «Размышлений о
Французской революции» Фюре31. Теперь Фюре объявил, что
революция, расколовшая Францию в XIX в. и косвенным образом -
вследствие ее проекции на Октябрь - в XX в., наконец «закончилась».
Поскольку ссылка на Советы перестала быть фактором французской
политики, пора изгнать советский призрак и из науки.
217
Героями Фюре стали два представителя традиции XIX в. -
Токвиль и ученик Тэна Огюстен Кошен, которых ныне «открыли» во
Франции32. Раньше оба фактически пользовались вниманием только
со стороны «англосаксов» - Токвиль само собой, и даже Кошен,
которому следовал наш первый «стасиолог» Крейн Бринтон в своей до
сих пор не потерявшей актуальности истории революции, вышедшей
в 1934 г.33 Кошен понадобился во Франции, потому что предоставил
противоядие против объяснения террора «обстоятельствами»:
«теорию заговора». Название неудачное, поскольку Кошен имел в виду не
настоящий заговор, а лишь организацию идейно подкованного
меньшинства в политически влиятельные группировки. Подобного рода
организация действительно стояла за всеми ключевыми событиями
революции - от взятия Бастилии до чистки жирондистов в 1793 г.
В конце концов, «люди сами делают свою историю», как сказал
величайший «социологизатор» истории Маркс, характеризуя
собственную систему объяснения провала 1848 г.
Фюре, синтезировавшему идеи Токвиля и Кошена, первый дал
ключ к пониманию истоков и последствий революции, а второй -
к характеристике самого революционного процесса. Этот процесс
Фюре определяет как «поток», «каскад» или «шквал» событий,
движимый диалектикой идеологического «перебивания цен» между
революцией и контрреволюцией. Период 1789-1791 гг. вылился в
стремительно раскручивающуюся спираль «патриотических»
подозрений и упреждающих действий против всепроникающего
«заговора аристократии» - все во имя «чистой демократии» и «равенства».
Революционная политика перестала касаться конкретных
экономических, социальных или иных вопросов, сосредоточившись на
манипулировании эгалитарным parole (словом), то есть дискурсом.
Разумеется, у Фюре были свои политические задачи. Отбирая
тему революции у Маркса, уравновешивая его влияние мыслями
Токвиля и Гизо, он стремился к деидеологизации текущих
политических дебатов во Франции. Международная ситуация
благоприятствовала выполнению такой задачи. К 1970-м гг. история Французской
революции перестала быть «галлоцентричной». Современный
массовый университет сильно расширил ее границы, и рядом с
парижским ядром все более заметную роль стали играть британцы и
американцы34.
Поколение 1989 г. В этот момент вступление на пост президента
Франсуа Миттерана в 1981 г. в последний раз бросило Францию в
объятия Народного фронта. Однако его попытка «перехода от
капитализма к социализму» вскоре провалилась, и общий социалистиче-
218
ский миф оказался дискредитирован почти так же, как
коммунистический. Теперь считалось, что Раймон Арон, автор скандальной
некогда книги «Опиум интеллектуалов» (1951), был прав во всех
своих выпадах против Сартра, своего бывшего однокашника35. Затем
сразу после падения берлинской стены Франция отметила 200-летие
революции. Устроенное социалистическим правительством
праздничное торжество омрачила критическая переоценка взглядов,
произведенная Фюре и его давней соратницей Моной Озуф36. Фюре
ревизовал собственный ревизионизм: в труде 1965 г. он изображал
1793 г. как отклонение от курса 1789 г.; в работе, написанной к
двухсотлетию, 1793 г. уже ставился в прямую связь с годом «прорыва».
Революция вновь признавалась «единым целым», однако в более
трагичном смысле, чем в эпоху Клемансо. Некоторые историки даже
полагали революцию и Наполеона чрезмерно затратным способом
модернизации и, кивая на другой берег Атлантики, доказывали, что
из-за этого экономическое развитие страны отстало на целое
поколение и Франция начала постепенно приходить в упадок как мировая
держава37.
Так или иначе, ревизионизм стал господствующей ортодоксией.
Однако эта ортодоксия не жаловала догмы и катехизисы. Потому
она означала не упразднение социальной истории, а включение в
политическую, интеллектуальную и культурную историю (и обычно
подчинение ей). Соответственно оперирование чересчур широкой
категорией социально-экономического класса уступило место более
целесообразному анализу сословных структур и королевских
институтов XVIII в.38 В результате и знать, и буржуазия рассыпались на
внутренние антагонистические страты, каждая из которых нередко
частично пересекалась с аналогичным уровнем конкурирующего
«сословия». Ведь, как ни странно, подробным исследованием
«старого режима» не с точки зрения современной классовой теории, а
в его исторической специфике - как société à ordres - почти никто
по-настоящему не занимался39. А теперь оказалось, что буржуазия
и высшая знать принадлежали к одному экономическому классу, их
богатство составляла в основном земельная собственность, а не
современный капитал. Тот же самый костяк «нотаблей»
господствовал во французском обществе после 1799 г. не менее прочно, чем в
1789 г. Вдобавок и для знатных, и для незнатных нотаблей была
общей культура Просвещения, которая, стало быть, уже не может
называться идеологией «поднимающейся буржуазии». К этой культуре
относились и королевские чиновники, в социальном плане частично
сливавшиеся с имущей элитой.
219
Одним словом, революция произошла не из-за давления
буржуазии на знать и духовенство, а потому, что существующие
монархические и сословные структуры в целом перестали соответствовать
быстро эволюционирующим обществу и культуре. Поэтому революция
была, «по сути, политической революцией с социальными
последствиями, а не социальной революцией с политическими
последствиями»40. Соответственно «буржуазная революция» и «феодализм»
(как «способ производства») по большому счету исчезли из
лексикона историков. Единственная проблема, связанная теперь с подобной
терминологией: разрешение загадки, откуда взялись эти наводящие
тень на плетень категории и почему царили в современном
историческом сознании так долго? Ответ, очевидно, кроется в особых чарах
марксизма. Но вопрос «почему Маркс?» - тема другой главы.
Если провести параллель с историографией английской
революции, можно сказать, что во Франции мы наблюдаем более краткий
период господства либерально-республиканского «вигизма» и более
длительное и глубокое влияние марксизма. Это прекрасно
соотносится с различной степенью силы, которую имел коммунизм в двух
странах, и с разной природой их революционных мифов. (А также
хорошо коррелирует с отсутствием марксистской фазы в
историографии американской революции и с четко определившимся в Америке
практически с 1776 г. национальным мифом.) Тем не менее в итоге и
английская, и французская историографии пришли примерно к
одному и тому же: эклектическому номинализму и отсутствию какого-
либо доминирующего телеологического нарратива. В конце концов,
в обеих странах сегодня существование «рыночной демократии» не
вызывает таких сомнений, какие вызывало и в той и в другой стране
относительно разных частей населения в послевоенные десятилетия.
«Старорежимная» историческая обстановка
Нам вновь не обойтись без сравнения с Англией. Параллели
изначально присутствовали в институциональной ткани двух политий.
Монархии Плантагенетов и Капетингов - старейшие в Европе. В
становлении обеих значительную роль сыграл исключительный
динамизм Нормандского герцогства: в первом случае благодаря
завоеванию, во втором - в результате институциональной мобилизации в
ответ на вызов, брошенный Плантагенетами41. Наконец, они веками
развивались, соперничая и конфликтуя друг с другом.
Даже в 1614-1629 гг. - во времена последних «средневековых»
Генеральных штатов и фиктивного последнего парламента Карла I -
220
обе монархии во многом все еще представляли собой вариации на
одни и те же темы. Назначение Уэнтворта на пост главы Совета по
делам Севера в 1628 г. можно расценивать как аналогию прихода
Ришелье к власти в 1624 г., только не увенчавшуюся таким успехом.
С этого момента, однако, пути формирования государства в двух
случаях разошлись: первый привел к неудачному абсолютизму,
переродившемуся в современную смешанную, или конституционную,
монархию; второй - к самому «всестороннему» абсолютизму, который
породил столь же «всестороннее» движение против себя и в
результате сменился республикой с всеобщим избирательным правом.
Диалектике французского пути к современности предшествовала
схожая диалектика внутри самого «старого режима». Этот первый
зигзаг делился на два этапа: сначала королевский абсолютизм
развивался по восходящей с эпохи Ришелье до смерти Людовика XIV
в 1715 г., затем началось движение по нисходящей, процесс
«оттепели» и распада, завершившийся взрывом в 1789 г.42 Такую схему
предопределили некоторые исторические особенности королевства
Капетингов.
К 1789 г. это была самая большая и густонаселенная
европейская страна (Россия, конечно, превосходила ее размерами и к концу
XVIII в. стала не менее густонаселенной, но периферийное
местоположение сильно ограничивало ее политическое значение).
Французское королевство занимало территорию площадью около
545 тыс. кв. км, в то время как территория острова Великобритания
составляла 230 тыс. кв. км (Ирландию следует считать обузой,
ослаблявшей Британию). Население Франции насчитывало 28 млн чел.,
Парижа - 650-750 тыс. чел. В Великобритании того времени
проживало 10 млн чел., в том числе почти 1 млн чел. в столице. Одним
словом, сцена, на которой развернулись события революции, для той
эпохи огромна. Она также представляла собой центр всей
европейской системы, как географически, так и в культурном плане, - эта
особенность возникла в эпоху союза Каролингов с папством под
знаменем «христианского мира». Каждый из преемников Людовика
Святого носил титул «христианнейшего короля», крестовые походы
рассматривались в национальной мифологии как «деяния Бога,
совершенные через франков». Особую роль «великой нации» Франция
продолжала играть в светской форме и в XVII в., когда ее
абсолютизму стали подражать на востоке за Рейном, и в XVIII в., благодаря ее
выдающимся заслугам в деле создания «республики ученых» эпохи
Просвещения.
Франция в 1789 г. представляла собой пеструю и сложную
картину. В отличие от унитарной Англии, французское королевство не-
221
сколько веков складывалось, как «мозаика»: провинции
присоединялись к королевскому домену путем завоевания, брачных союзов или
иным способом. Каждая из них входила в состав королевства со
своими институтами, обычаями и законами, которые считались
извечными «свободами», «привилегиями» и «правами». Таким крупным
провинциям, как Бретань, Лангедок, Нормандия или Прованс,
размеры вполне позволяли стать отдельными королевствами, по
своему политическому значению не уступающими, скажем, Шотландии
или Каталонии. Некоторые из них действительно раньше были
независимы. Собирая эти регионы, монархия почти ни одного из их
разнообразных институтов не упраздняла, просто ставила над ними
собственные центральные институты; последним таким
нововведением стали чрезвычайные региональные уполномоченные Ришелье -
«интенданты» - превратившиеся в часть постоянной администрации
при Людовике XIV. Лишь тогда французское государство в основном
обрело законченный вид и неуязвимость для угрозы парламентского
и дворянского мятежа вроде Фронды, бушевавшей во время детства
Людовика XIV - с 1648 по 1653 г.
Тем не менее уровень централизации вряд ли соответствовал
современным стандартам. В экономическом плане королевство,
разделенное внутренними таможенными барьерами, различиями в
системах мер и весов, не имело единого национального рынка. Правовые
системы в нем также различались: на севере применялось обычное
или общее право, на юге - римское. На королевском французском
говорило меньшинство населения, крестьянское большинство,
зачастую неграмотное, пользовалось теми или иными диалектами («па-
туа») северного языка «ойль» и южного языка «ок», иностранные
языки были в ходу от Бретани и Эльзаса до Беарна.
Формирование государства в эпоху Ришелье происходило
прежде всего под влиянием войны с окружавшей Францию кольцом
державой Габсбургов: в Испании, Нидерландах, Римской империи
германской нации и Италии. Таковы издержки не островного
положения. Это неизбежно требовало укрепления королевской власти
внутри страны. Кардинал-министр начал с того, что отобрал у
гугенотов «крепости», оставленные им по Нантскому эдикту Генриха IV.
Затем подчинил и разоружил знать, которая совсем недавно
разоряла королевство в ходе религиозных войн. А чтобы иметь средства на
осуществление своей амбициозной внешней политики, он ввел столь
тяжкие налоги, что ему не раз приходилось подавлять фискальные
бунты среди крестьян. Благодаря таким почти диктаторским методам
222
Ришелье к моменту кончины в 1642 г. сумел передать своему
государю монополию на принуждение и насилие, которая, по Максу Веберу,
является определяющей чертой государственного суверенитета.
Установление этой монополии, безусловно, нарушало
многочисленные корпоративные права и свободы и потому порождало
антиабсолютистское сопротивление. В 1648 г. (как раз когда достигла
кульминации английская революция) сопротивление вылилось почти в
восстание против нового кардинала Мазарини - Фронду. На первом
и самом главном ее этапе застрельщиком выступил Парижский
парламент - самый важный из нескольких королевских «суверенных
судов». Его магистраты, в прошлом обычные зажиточные граждане,
предыдущие полтора века покупали свои должности у монархии,
вечно нуждавшейся в деньгах. Вскоре приобретенная должность
становилась наследственной, а ее владелец соответственно получал
дворянство. Практика «продажи должностей» отнюдь не мешала
ни высокой учености, ни чувству гражданской ответственности
магистратов. «Дворянство мантии» стало основным проводником
сопротивления абсолютизму в мирной форме юридических претензий
и подачи протестов королю. На втором этапе мятеж принял
традиционную форму осуществления «дворянством шпаги» своего
древнего «права на вооруженное удовлетворение претензий» к короне.
Намерение сопротивляться королевской власти выражали также
немногочисленные сохранившиеся провинциальные штаты, например
в Лангедоке и Бретани.
Все эти «промежуточные органы» между королем и народом
ссылались на, так сказать, французскую «старинную конституцию»,
идущую якобы от полумифических собраний франков на Марсовом поле
(где сейчас стоит Эйфелева башня). Парламент претендовал на роль
хранителя «основополагающих законов» королевства, по сути,
представителя нации в отсутствие Генеральных штатов. Самое смелое его
притязание касалось осуществления законодательных полномочий
совместно с королевской властью на том основании, что королевские
указы вступали в силу только после их регистрации магистратами в
парламенте. Ко времени Фронды, однако, было уже слишком поздно
для подобных требований. Абсолютизм полностью оправдал себя за
рубежом, когда Вестфальский мир 1648 г. освятил победу Франции в
ее главной войне с Габсбургами. Внутри страны монархическая
консолидация тоже слишком хорошо институционализировалась, чтобы
дело могло пойти вспять. К 1653 г. Мазарини успешно подавил
последний полуфеодальный мятеж во Франции43.
После 1661 г. развитие монархии достигло пика в виде
единоличного правления Людовика XIV. В том же году он привел Парижский
223
парламент к повиновению, лично приказав на одном из lit de justice
(заседаний в присутствии короля) зарегистрировать спорный эдикт.
Он перенес резиденцию королевской власти из потенциально
неспокойного Парижа в блистательный Версаль. Он нейтрализовал
высшую знать, заняв ее придворными увеселениями, и дал мелким
дворянам возможность для славной карьеры в его 400-тысячной
армии, крупнейшей в Европе. В 1685 г. он отменил Нантский эдикт,
лишив гугенотов последних свобод, которые им оставил Ришелье,
а в конечном счете вообще запретил их религию. Одновременно он
преследовал диссидентское религиозное течение в католичестве -
янсенизм, особенно популярный среди парламентариев. В конце его
царствования, после полного разгрома янсенистов, было
установлено, по крайней мере по закону, абсолютное религиозное единство
согласно распространенному в Европе «старорежимному» идеалу
государственного суверенитета. К 1700 г. режим «великого монарха»
казался почти всей Европе высшим свидетельством государственной
мудрости и настоящим образцом цивилизованного
«упорядоченного» государства44.
Однако сам же успех абсолютизма Бурбонов и создал
предпосылки для его гибели. Его международное могущество привело к
образованию антифранцузской европейской коалиции в войне за
Испанское наследство 1701-1713 гг., что задержало французскую
экспансию почти на столетие. Внутри страны централизация
перешла пределы, в которых давно успокоившееся общество могло ее
допустить в качестве платы за безопасность. Оппозиция подняла
голову сразу после смерти короля в 1715 г.: его «кузен Орлеанский»
заставил Парижский парламент в нарушение королевской воли
назначить его регентом, тем самым положив начало движению
абсолютизма по нисходящей кривой в XVIII в.
Руководили этим движением почти весь век не философы, как
считают многие, а парламенты, которые во второй раз вышли на
сцену в роли конституционной оппозиции. При этом они черпали
вдохновение из политизированной версии янсенизма, что признано лишь
недавно45.
Янсенизм как религиозное учение возник в 1640-е гг. Это был
радикальный августинианский ответ на гуманизм и скептицизм таких
деятелей Возрождения, как Монтень, на «попустительство», которое
«отшельники Пор-Руаяля» (аббатство янсенистов под Парижем)
находили в услужливой казуистике суетных иезуитов. Столь
строгое учение вызвало встречные обвинения в том, что янсенисты вы-
224
ступают поборниками скрытого кальвинизма внутри католицизма, -
они подобную «ересь» рьяно отрицали. На самом деле янсенистская
теология вполне соответствовала решениям Тридентского собора,
и акцент на внутреннее совершенствование души сочетался в ней с
глубоким почитанием евхаристии. Выделяло янсенистов стремление
очистить церковь от всего мирского и в особенности предпочтение
сана обычных священников, а не иерархов, которые чаще всего
принадлежали к высшей знати. Янсенистское духовенство вскоре нашло
поддержку и в светских кругах, а именно в судебных парламентах.
Такое сочетание диссидентской религии и конституционной
оппозиции напоминало пуританский парламентаризм в Англии, и
французские лоялисты не замедлили провести эту параллель.
Данное обстоятельство вкупе с враждебностью янсенистов к
иезуитам неизбежно определило Пор-Руаялю политическую роль. Хотя
иезуиты в принципе являлись приверженцами абсолютного
авторитета папы римского, на практике они стали верными союзниками
галликанской монархии, которая со времен Генриха IV использовала
их для восстановления религиозного конформизма; они также
поставляли Бурбонам духовников. Соответственно янсенизм
превратился в антиабсолютистскую силу, не только в Париже, но и в Риме
(современники видели его сходство с британским пуританством).
Монархия, в свою очередь, настаивала на административной
независимости французской церкви от Рима во всех мирских делах, однако
в то же время нуждалась в Риме и иезуитах для доказательства своего
священного характера и объединения французской церкви. Поэтому
начиная с 1650-х гг. король и доминирующее галликанское
духовенство убеждали Рим осудить те или иные «положения», почерпнутые
из янсенистской литературы. Янсенистские теологи (и миряне вроде
Паскаля) упорно твердили, что это результат заблуждения. В 1705 г.
Людовик, разгневанный длительным противостоянием,
приказал сравнять с землей аббатство Пор-Руаяль. В 1713 г. он заставил
папу официально объявить янсенизм ересью в булле «Uhigenitus»
(«Единородный сын»), которую ее жертвы назвали самым большим
заблуждением.
С 1715 г. религиозный янсенизм сменился политическим по сути
движением, которое стало центром «теневой политики» в
последнее столетие «старого режима». Так как папская власть в тот момент
поддерживала репрессивную политику монархии, янсенисты взяли
на вооружение тактику апелляций против папы к вселенскому
собору, за что получили название «апеллянты». Чтобы задушить эту
оппозицию, монархия в 1730 г. включила буллу «Unigenitus» (или
225
«апостольскую конституцию») в гражданское законодательство,
представителей духовенства, поддержавших данную меру, прозвали
«конституционариями». Парламент неоднократно выносил по
громким делам решения в пользу апеллянтов против конституционариев,
и в особо кризисные моменты монархия в ответ «ссылала» его в
какой-нибудь провинциальный город. В конце концов, в середине века
монархия запретила причащать янсенистов перед смертью без
свидетельства об исповеди (billet de confession) за подписью священни-
ка-конституционария. Такое решение повлекло за собой целый ряд
драматичных и скандальных сцен у смертного одра. Прямое
вмешательство светской власти в религиозные вопросы было
беспрецедентным даже для системы «двух мечей». В итоге оно десакрализовало и
галликанскую церковь, и монархию божественного права.
На другом фронте парламенты вели упорную кампанию против
иезуитов, обвиняя их в систематическом нарушении галльских
«свобод». В 1762 г. монархия наконец уступила и изгнала иезуитов из
королевства46. Победа, правда, вскоре оказалась роковой для самих
парламентов. В 1770 г. Людовик XV и его канцлер Мопу в приливе
реформаторской энергии заменили эти наследственные органы более
современной системой магистратов, которые получали жалованье,
хотя служили пожизненно. Могущественные друзья «дворянства
мантии» из других привилегированных «корпораций» надавили на
нового короля, и в 1774 г. он отменил реформы Мопу и вернул
парламенты в прежнем виде. Эта уступка показала нерешительность и
деградацию монархии, но и парламенты не выглядели настоящим
орудием перемен47.
Фактически к 1770 г. янсенизм утратил значение как оппозиция.
Янсенисты всегда действовали в проверенном временем европейском
стиле продвижения реформ, проповедуя возврат к
идеализированному прошлому: к первохристианской церкви для очищения
нынешнего католичества, к «старинной конституции» франков для
стимулирования текущей конституционной реформы или к более раннему и
чистому галликанству для борьбы с существующим союзом папства
и абсолютизма. Но к 1770 г. медленная эрозия священного
«старого режима» зашла слишком далеко (в том числе благодаря усилиям
самих янсенистов), чтобы такие призывы к прошлому помогли
справиться с надвигающимися проблемами настоящего. В десятилетие,
когда американская революция вновь поставила идею республики
в политическую повестку дня, привычная для XVII в. программа
превращения средневековой смешанной монархии в современную
смешанную монархию перестала быть адекватным средством преоб-
226
разования слабеющего абсолютизма в однозначно конституционную
политику. Судебный янсенизм XVIII в., таким образом, оказался
последним вздохом консервативного радикализма, служившего
движущей силой европейской революции, от гуситов до пуритан. Отныне
только идеология, глядящая в будущее, а не в прошлое, подходила
для решения накопившихся проблем, порожденных двумя
столетиями абсолютизма. И в первые ряды оппозиции «старому режиму»
вышли деятели Просвещения.
Не будем, конечно, повторять старый припев, что революция -
«вина Вольтера, вина Руссо». До 1789 г. ни один из них явно не
воображал, и тем более не пропагандировал, никакой революции. Элитист
Вольтер, к примеру, вряд ли чувствовал бы себя как дома в пучине
революционных беспорядков, а «Общественный договор» Руссо до
1792 г. почти никто не читал48. Как же «просветители» влияли на
политику? Хотя путем эмпирических исследований можно в конечном
счете выяснить, сравнялись ли высшая аристократия и верхушка
буржуазии по экономическому статусу к 1789 г., невозможно с такой
же точностью установить, каким образом революционная политика
была обусловлена Просвещением49.
Тем не менее некоторые основные моменты очевидны. С V по
XVII в. в европейской культуре доминировала богооткровенная
религия; все прочие интеллектуальные течения - от аристотелианства
XII в. до гуманизма и платонизма XV-XVI вв. - поневоле
подчинялись христианству. Первая интеллектуальная сила, о которой
такого не скажешь, - естественная наука XVII в. Разумеется, все новые
ученые, от Галилея до Ньютона, были религиозны и даже убеждены,
что своими открытиями прославляют Творца. На деле, однако,
божественное откровение не имело никакого отношения к научным
исканиям, и в следующем веке это очень быстро стало ясно.
В результате чаша весов в европейской культуре впервые
склонилась от религиозного к светскому, от священного к профанному50.
Новая наука вскоре стала примером для анализа всех предметов,
от политики и общества до этики и морали, и даже самой
религии, с чисто светской и земной точки зрения. Собственно, только в
XVIII в. слово «религия» приобрело свое современное значение:
отдельная область человеческой деятельности, такая же, как
философия, государство, коммерческая и производственная
деятельность, которую мы сейчас называем экономикой. Соответственно
все столетие мыслители, даже скептик Юм, лелеяли честолюбивую
надежду стать Ньютонами в нравственной вселенной. Конечно, но-
227
вый секуляризм ограничивался кругом образованной элиты, и то не
всей. Но будущее принадлежало этому меньшинству, которое после
1690 г. мгновенно покорило старую гуманистическую «республику
ученых».
Вместе с тем в Европе изменилось ощущение времени, и
сверхъестественная перспектива будущего уступила место земной. На смену
представлению о предопределенном ходе истории ко второму
пришествию и концу света пришла вера в прогресс человечества здесь и
Сейчас51. Возрождение и классицизм эпохи Людовика XIV показали,
^то современная Европа в литературе и искусстве сравнялась с
древними и даже превзошла их, но только благодаря новой науке прогресс
стал представляться бесконечным покорением природы и
преодолением недугов общества52. Соответственно приключения Европы
были поделены на древнюю, средневековую и новую историю: два
просвещенных периода, и между ними - долгое, темное, религиозное
Средневековье.
Конечно, эта «революция» в исторической перспективе стала
предпосылкой для предпринятой после 1789 г. дерзкой попытки
построить абсолютно новый мир на руинах отвергнутого темного
прошлого. Без идеологической оболочки Просвещения французская
революция не была бы воспринята ни как начало новой эпохи,
когда «люди сами делают свою историю», ни как сознательное
созидание конституционных и социальных структур, ни как кульминация
естественного и мирского исторического процесса.
В более конкретном плане французской революции
предшествовало много откровенных размышлений о природе политики и
общества: от «Духа законов» Монтескье до «Общественного договора»
Руссо (это только самые очевидные примеры)53. Английской
революции, напротив, не предшествовало ничего более подрывного, чем
теологические и экклезиологические домыслы да теоретизирование по
поводу природы существующей совокупности правовых норм -
«старинной конституции». Английская политическая теория возникла
только по ходу и после революции в творчестве Гоббса, Гаррингтона
и Локка. Кроме того, наиболее сильное влияние она оказала за
пределами Англии - в Америке и Франции.
Точнее, у французских philosophes имелась философия в прямом
смысле слова - эмпиризм Джона Локка. Основное положение
эмпиризма гласило, что «нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в
ощущениях». Иными словами, наши знания идут не от
сверхъестественного Творца, а от чисто «естественных» процессов нашего
физического, материального бытия.
228
Эту новую эпистемологию, однако, можно было трактовать в
скептическом и умеренном духе или в радикально-реформистском.
В британской версии, сформулированной Локком и доработанной
Юмом, она направлялась против религиозного «энтузиазма», то есть
подчеркивала ограниченные возможности нашего понимания и
призывала не путать настоящее знание с обширным кругом просто
«мнений»54. Скептический британский эмпиризм, таким образом, может
считаться позицией, способствующей поддержанию статус-кво,
созданного в 1688 г.
Во Франции же эмпиризм интерпретировали как «сенсуализм»,
согласно которому идея есть прямое отражение ощущения. Эту
мантру повторяли весь век и Вольтер, и Д'Аламбер, и Кондорсе, у них она
обычно ассоциировалась с идеей деистов о Боге-часовщике. Но
другие, например радикалы Гельвеций и Гольбах, толкали сенсуализм
к открытому материализму и атеизму. Так или иначе, все варианты
сенсуализма подчеркивали значение уровня и точности наших
знаний, трансформируя тем самым эмпиризм в идеологию активности и
изменений. Сенсуализм ясно подразумевал, что если мы в состоянии
контролировать или направлять стимулы, поступающие в мозг из
внешнего мира природы, а еще лучше - из общества, то можем
изменить внутренний мир человека. Такой «инвайронментализм»
означает, по меньшей мере, что «просветители» ставили целью изменить
человечество с помощью образования, а в конечном счете полностью
переделать его путем строительства новых институтов.
Философия в итоге становилась не просто пониманием ради
понимания, а пониманием ради изменения мира, доктриной для жизни.
Собственно, эта новая «философия», хоть и номинально враждебная
к априори присущим идеям, психологически имела много общего р
рационалистическим духом якобы отвергаемого ею картезианству,
которое также старалось постичь действительность во всей ее
полноте. Можно также отметить, что своей догматичностью французский
эмпиризм в некоторой степени обязан духу французского
католичества: практически все philosophes учились в иезуитских коллежах, и
даже такой атеист, как Дидро, в свое время был семинаристом.
Тем не менее в рамках одной общей эпистемологии есть
существенные нюансы55. У англофила Монтескье она носит трезво
компаративистский и умеренный характер. Она стала воинственно
антирелигиозной у Вольтера, который к тому же в политических взглядах
колебался между англофилией и просвещенным деспотизмом - вер
время забывая, что «раздавить гадину» (католическую церковь)
означает вызвать гигантский социальный катаклизм. В «Энциклопедии»
229
Дидро это теория технологическая, социальная и экономическая (а
методологически скорее сциентистская). Наконец, у радикального
демократа Руссо ощущение превратилось в чувство («мы имеем
чувства раньше идей»). В итоге «хорошее общество» Вольтера
основано на естественной религии, его «голос совести» сильно напоминает
«внутренний свет» пуританских «святых», а его «общая воля» имеет
ауру теологии.
К 1774 г. многообразные разновидности философии
сосуществовали и переплетались, так и не произведя на свет главную
доктрину Просвещения, которая играла бы среди них ту роль, какую играл
марксизм в радикализме конца XIX - XX вв. Эти разновидности
также уживались (зачастую в одном человеке) с праведным
галликанским католичеством или благочестивым янсенизмом: и среди
знатных дворян вроде Лалли-Толендаля или Лафайета, и среди обычных
клириков, таких, как аббаты Сийес и Грегуар. Хотя «просветители»
не создали для 1789 г. доктрины или свода принципов, они породили
«атмосферу мнений» - общий дискурс по поводу общественных дел,
который все будущие деятели 1789 г. впитывали в себя по крайней
мере с 1770 г. Сенсуалистская философия, прогресс, главенство
закона, нация как основа государства, естественное право, разум - вот
воздух, которым дышали образованные классы, и, как только в 1789 г.
начались действия, они неизбежно обратились к усвоенным
заповедям. В течение двух десятилетий перед 1789 г. культура Просвещения
быстро проникала и в менее образованные слои общества
благодаря массовому распространению и популяризации большого
количества литературы, созданной за период от выхода «Духа законов»
Монтескье в 1748 г. до завершения «Энциклопедии» в 1771 г,56
Такой прогрессивный способ восприятия революции во многом
способствовал ее радикализации. Во-первых, он помог осуществлять
процесс конституционных и социальных изменений совершенно в
открытую, а потому сделал его более быстрым и всесторонним. Во-
вторых, он позволил зайти дальше англичан, которые оспаривали
божественное право королей и апостольскую власть епископов как
ложные (поскольку они освящены «Вавилонской блудницей»),
сохраняя при этом само понятие святости, только перенеся его на
Содружество «божьих святых». Рационалистическая оболочка
французского переворота отрицала понятие святости как таковое в
политическом и социальном мире. А когда отрицается священное -
то есть неприкосновенное, по сути своей не зависящее от
человеческой воли и власти - земных ограничений для перемен не остается.
Можно «свергнуть» все что угодно, если есть средства, воля и власть.
230
(Именно посягательством на извечно неприкосновенное так пугала
французская революция Бёрка и так восхищала Маркса, и с тех пор
соответствующее отношение к ней разделяет правых и левых.)
В последнее столетие существования «старого режима» не все,
впрочем, находилось в кризисе. Одна из причин оптимизма
просвещенной оппозиции по поводу прогресса заключалась в том, что в эту
эпоху действительно произошло заметное улучшение земной жизни.
Со времен внутриевропейских распрей 1640-1650-х гг. все крупные
государства наслаждались гражданским миром и общественным
порядком. Франция к тому же переживала исключительный
экономический и демографический рост. XVII в. для большинства
европейских стран, за исключением Голландии и в конце века - Англии, был
периодом депрессии или, как минимум, стагнации. Франция
особенно сильно пострадала в последние годы царствования
Людовика XIV. В XVIII в., напротив, почти повсеместно наблюдалась самая
быстрая экономическая экспансия с XIII в. В сущности, XVIII в.
положил начало устойчивому экономическому росту, который
является одной из определяющих характеристик того, что мы называем
«современностью». Во Франции он имел впечатляющие масштабы с
1715 по 1774 г., затем последовали 15 лет относительного кризиса.
Революция, таким образом, разразилась, когда долгое бурное
процветание и культурный оптимизм столкнулись с временными
социальными бедствиями.
Взрыв
Лавина тронулась, когда бремя долга, который накопила монархия
во время американской Войны за независимость, привело ее на грань
банкротства; в новой комплексной экономике XVIII в. дефолт не
являлся выходом, так как перекрыл бы возможность будущих кредитов.
Поэтому в 1787 г. король был вынужден созвать Собрание нотаблей,
в состав которого входили высшая знать и прелаты. Последний раз
до этого оно созывалось в 1626 г. Члены собрания, однако, отказались
одобрить новые налоги без реформы; осталась единственная
альтернатива - Генеральные штаты. Два привилегированных сословия
наивно полагали возглавить штаты и добиться от монархии
суверенитета - это и есть аристократическая революция 1787-1788 гг. по
Лефевру, которую чаще всего называют «предреволюцией»57.
В конце 1788 г. решение монархии уступить этому требованию
привело к фактическому распаду королевской власти - так же как
согласие Карла I на новый парламент в 1640 г. В ходе последующих
231
волнений представители «третьего сословия» (самый известный из
них - аббат Сийес) заявили, что их сословие на самом деле и есть
«нация» и потому в будущей ассамблее в палату общин (как они
теперь говорили) должно входить число депутатов, равное числу
представителей первых двух сословий, вместе взятых, и голосовать
ассамблея должна поголовно, а не по сословиям. Король согласился
на «удвоенное представительство», но парламент лишил его уступку
смысла, постановив, что по «старинной конституции» нужно
голосовать по сословиям.
Когда Генеральные штаты собрались в мае 1789 г., «третье
сословие» при поддержке мелкого духовенства из «первого сословия»
в нарушение закона добилось объединения трех представительств
в один орган, который получил название Национального собрания.
В отличие от «Долгого парламента» 1640 г., этот орган открыто
предъявил претензию на законодательные функции и немедленно
принялся за работу. Так началась лавина, поток, каскад событий,
который мы называем революцией. Поток этот постоянно набирал
скорость до 1794 г.
Основной комплекс революционных событий можно разбить на
две фазы, которые мы уже видели: 1789-1791 гг. и 1792-1794 гг., то
есть периоды конституционной монархии и якобинской республики.
Внутри эти главные фазы членились на ряд второстепенных по мере
усиления жажды перемен и сопутствующей ей идеологической
интоксикации: от умеренных конституционных монархистов Мирабо
и Лафайета к их более радикальным преемникам Барнаву и Ламету,
затем к умеренным республиканцам Бриссо и Кондорсе и, наконец, к
ультрареспубликанцам Дантону и Робеспьеру (и внутри каждой
второстепенной фазы также существовали свои течения).
Тем не менее все важнейшие решения, обусловившие общий
процесс, были приняты с мая по декабрь 1789 г. Первое из них -
преобразование Генеральных штатов в Национальное собрание с
законодательными функциями, в котором партия «патриотов» взяла на себя
смелость говорить за всю «нацию». Второе - отражение
королевской контратаки посредством штурма Бастилии и создания первой
Парижской коммуны и муниципальной национальной гвардии как
постоянных противовесов монархии. Третьим шагом стало полное
уничтожение базовых институтов «старого режима» (феодальных
повинностей, дворянского статуса и сословной системы как таковой)
ночью 4 августа - обвал, спровоцированный «Великим страхом»
конца июля, хотя и не им вызванный. («Старый режим» уже обрекли на
гибель капитуляция короля в июне и падение Бастилии в середине
232
июля.) Конец «старого режима» в 1789 г. был предрешен в Версале
и Париже, а не в деревне, и поэтому ход революции определялся в
городах. Крестьянство, получив ответ на главное свое чаяние -
отмену феодальных податей, - перестало быть составляющей
революционной динамики и вернулось на сцену только в лице пехотинцев
крестовых походов республики и Наполеона против Европы.
За 4 августа последовали и основные конституционные решения.
Была составлена и принята голосованием «Декларация прав
человека и гражданина», потом речь зашла о государственном устройстве.
«Монархистов», желавших учредить двухпалатный парламент
англо-американского типа и предоставить королю реальные
исполнительные полномочия с правом вето, быстро победили сторонники
единого суверенного представительного органа. Исполнительная
власть короля теперь создавалась конституцией (хотя, как ни
парадоксально, оставалась наследственной), а не историей и/или Богом.
Наконец, устанавливалось избирательное право на основе
имущественного ценза, что противоречило универсалистским принципам
декларации и не предвещало ничего хорошего. Когда король отказался
подписать декларацию и указы от 4 августа, к нему применили
более жесткие меры принуждения, чем в июле. 5-6 октября парижские
женщины пошли маршем на Версаль в сопровождении Лафайета, и
королевскую семью вернули в Париж, где ее члены отныне
действительно стали узниками революции.
В декабре, как будто вдогонку, было принято последнее
решение года - с подачи епископа Талейрана церковная собственность
«предоставлена в распоряжение нации» для выплаты
королевского долга. Хотя это положение не задумывалось как удар по
«первому сословию», а тем более по религии, оно уже содержало зародыш
«Гражданской конституции духовенства», принятой в начале
следующего года, которая к 1793 г. разделила нацию на две. Собственно, в
совокупности решений 1789 г. есть семена всех будущих
политических расколов революции, так же как предпосылки ее нарастающей
идеологической интоксикации.
Ход революции
Правда, на первый взгляд баланс периода 1789-1791 гг. кажется
в целом положительным. В конце концов, замена абсолютной
монархии конституционным правлением, а наследственных привилегий -
равенством всех граждан перед законом, несомненно, означает
прогресс. То же самое можно сказать и об административных реформах
233
Учредительного собрания: замещении многовекового клубка
пересекающихся и частично противоречащих друг другу региональных
юрисдикции, 83 единообразными департаментами с одинаковым
административным делением на более мелкие единицы; упразднении
внутренних пошлин, различий в системе мер и весов и неравных
ставок налогообложения. Иудеи и протестанты получили гражданские
права, разнообразные правовые системы страны были упрощены и
стандартизированы (хотя этот процесс полностью завершился
только с появлением Кодекса Наполеона в 1810 г.). Наконец, под
занавес Учредительное собрание проголосовало в июне 1791 г. за свою
самую «буржуазную» меру - закон Ле Шапелье, уничтожавший все
ремесленные цеха и ассоциации как архаичные препятствия
свободной торговле. Но так ли уж «буржуазна» на самом деле эта мера,
несомненно, благоприятная для предпринимателей того времени?
Тюрго сделал то же самое в 1774 г. (тогда его решение отменил
король), а Екатерина Великая в России еще в 1765 г. начала
пропагандировать принципы свободной конкуренции посредством
учреждения Вольного экономического общества. Свободу торговли не просто
придумала буржуазия ради своей выгоды - она являлась одним из
аспектов рационализации жизни, к которой в ту эпоху стремился
весь мир. Ее главный символ, конечно, метрическая система,
введенная в 1792 г., однако разработанная раньше: применимая ко всей
вселенной, она олицетворяла самую суть современности.
Разумеется, эта «современность» не была совершенной.
Избирательное право с имущественным цензом разделило граждан на
«активных» и «пассивных»; рабов во французских вест-индских
колониях не освободили; о всеобщем начальном образовании подумывали,
но так его и не ввели (равноправие женщин в программе реформ
тогда вообще не стояло). Словно в знак признания того, что
демократизация должна быть длительным, если не бесконечным процессом,
рассадка депутатов в Собрании впервые произвела современное
разграничение на «левых» и «правых». Но, как бы то ни было, работа
Учредительного собрания создала условия, гораздо более
«современные», чем в любой другой стране, включая американскую республику.
На самом деле в 1790-1791 гг. подавляющее большинство
населения одобряло новый порядок. В 1790 г. первую годовщину
взятия Бастилии отметили тщательно организованным «Праздником
Федерации». Национальные гвардии возникали по всей стране,
вызывая опасения за национальное единство, поэтому Национальное
собрание постаралось «федерализовать» их в столице. В присутствии
королевской семьи и 200 тыс. чел. Талейран отслужил мессу на «ал-
234
таре отечества», а король принес гражданскую присягу Лафаиету. За
рубежом так же царил энтузиазм. Джефферсон, очевидец большей
части событий великого года, по возвращении домой горячо защищал
его достижения, Томас Пейн написал страстный ответ на мрачные
суждения Бёрка. Двадцатилетний Вордсворт тогда почувствовал, что
«видеть ту зарю уже было счастьем, но видеть молодым -
блаженством было высшим», а пожилой Кант полагал, что человечество
наконец «повзрослело»58.
Казалось, революционная власть упрочилась настолько, что могла
позволить себе подавлять зарождающуюся левую оппозицию. Так, в
июле 1791 г., когда республиканцы устроили бурный протест против
монархии, командующий национальной гвардией Лафайет поднял
красный флаг военного положения и пресек беспорядки ценой
жизни тридцати человек. Правившие на тот момент фельяны, умеренные
конституционные монархисты, думали, что «закончили революцию»;
этот лозунг потом повторяла каждая из поочередно приходивших к
власти группировок. Однако в действительности революция только
набирала обороты. А красный флаг дерзко присвоили радикалы: в то
время он использовался не часто, но не был забыт и снова появился
в 1848 г.
К 1792 г. новый порядок, установленный в 1789 г., рухнул, и корни
его краха ведут в сам год его основания. Первая трещина возникла
благодаря «Гражданской конституции духовенства», ставшей
необходимой ввиду конфискации церковной собственности, решение
о которой в принципе было принято в декабре 1789 г. Независимо
от вопроса государственного долга институциональное положение
церкви на тот момент явно представляло проблему. Ей все еще
принадлежало около 10 % национального богатства, и, хотя она при этом
занималась тем, что мы сейчас назвали бы социальным
обеспечением, такая ситуация, несомненно, не могла дальше существовать.
Однако принятые меры оказались более крутыми и жестокими, чем
хотелось бы большинству общества. Утвержденная весной 1790 г.
«Гражданская конституция духовенства» предусматривала
рационализацию церкви на тех же принципах, на которых основывалось
новое государственное устройство. Установленные ею диоцезы по
числу и границам совпадали с 83 департаментами, как священников,
так и епископов надлежало избирать всему населению, включая не
католиков, а духовенство соответственно превращалось в
государственных служащих на жалованье. Хотя подобные новшества не
имели прецедентов в истории церкви, они не задумывались как
антихристианские. Скорее, это результат колоссального пренебрежения
235
религиозными чувствами нации. За неимением реальной
альтернативы, архиепископ Парижский посоветовал королю подписать
конституцию. Римский папа не спешил высказываться по этому поводу,
опасаясь раскола, и предал ее анафеме только в конце года. Между
тем началось ее воплощение в жизнь, и раскол незамедлительно
последовал: лишь небольшая часть духовенства приняла
«конституционную церковь».
Второй изъян имел органическую связь с первым. Король,
подобно Карлу I в 1640 г., не смирился со своей новой ролью, а без доброй
воли короля падение конституционной монархии было только
вопросом времени. Уже в июле 1789 г. Людовик написал «испанскому
кузену» Бурбону, что все его действия в будущем следует считать
вынужденными. Его молчаливое сопротивление усиливалось; в 1791 г. он
отказался подписать «Гражданскую конституцию духовенства»,
сказав, что это будет преступлением против его христианской совести и
коронационной присяги. К тому же после падения Бастилии
нескончаемый поток эмигрантов, ищущих иностранной поддержки,
предоставлял королю потенциальную опору для реванша. Подозрения в
измене подтвердила попытка королевской семьи покинуть страну в
апреле 1791 г., беглецов остановили в последний момент в Варение.
Короля оставили на троне, но версия о его «похищении» была
слишком шаткой, чтобы долго продержаться.
Начиная с 1789 г. сопротивление короля и знати подогревало веру
в «заговор аристократии» против революции, и этот синдром отныне
способствовал постоянной радикализации последней. Процесс
ускорился, когда священнослужителей, ставших госслужащими, обязали
принести присягу на верность новому режиму и «Гражданской
конституции». Большинство неприсягнувших священников попали в
список аристократов - врагов народа.
Напряженную ситуацию усугубило объявление войны Австрии
в апреле 1792 г. За войну сначала выступали жирондисты,
жаждавшие добавить революции динамизма, превратив ее в крестовый
поход против всей «старорежимной» Европы. Войны хотел и король,
вероятно, надеявшийся на поражение Франции, которое принесло
бы ему освобождение и сокрушило революцию. И
действительно, после вторжения неприятеля в страну деморализованный
офицерский корпус, состоявший из дворян, воевал из рук вон плохо.
Ощущение опасности возросло, когда «герой двух миров» и товарищ
Вашингтона по оружию генерал Лафайет оставил свой пост и
перешел на сторону австрийцев. Теперь революции, вне сомнения,
угрожал заговор иностранных и отечественных приверженцев «старого
режима».
236
При таких обстоятельствах от ненадежного короля следовало
избавиться, и якобинцы (Жиронда вместе с будущей Горой)
использовали для его свержения санкюлотов. Дело устроили с помощью
новой «повстанческой» Парижской коммуны 10 августа, которая взяла
короля под арест за измену. Новый конституционный «суверен»,
Законодательное собрание, также прекратил существование (о чем
вспоминают реже). 12 сентября этот орган оформил свой роспуск,
объявив Францию республикой. Незамедлительно были проведены
всеобщие выборы в Конвент, призванный составить проект новой
конституции. Все эти шаги сопровождались первым, «стихийным»
революционным террором - «сентябрьскими убийствами», которым,
по меньшей мере, не препятствовал нарочито бездействовавший
министр юстиции Временного правительства Дантон. В данных
условиях голосовать осмеливались только убежденные республиканцы,
и в избрании Конвента участвовало всего 10 % населения - гораздо
меньше, чем выбирало Генеральные штаты в 1789 г.
Суд над королем и его казнь в январе 1793 г. положили начало
расколу среди якобинцев на колеблющихся жирондистов и
непримиримых монтаньяров. Военная обстановка на фронте ухудшилась
в результате вступления Англии в антиреволюционную коалицию с
Австрией и Пруссией. Более того, разрастались внутренние мятежи,
сначала в крестьянской Вандее, затем в «федералистских», то есть
жирондистских, оплотах - Лионе и Марселе. В ответ 31 мая - 2 июня
Парижская коммуна и санкюлоты с пушками окружили Конвент и
очистили его от депутатов-жирондистов. Летом 1793 г. под девизом
«родина в опасности» была объявлена мобилизация в народное
ополчение с целью собрать миллионную армию.
В итоге к сентябрю Комитет общественного спасения из 12
членов установил революционную диктатуру. Сорок восемь парижских
«секций» и столичные «революционные общества» заседали
практически непрерывно, ораторы с пеной у рта призывали всех на борьбу
с теперь уже всеобщим «контрреволюционным заговором». Новый
Революционный трибунал действовал безжалостно, в провинции для
усмирения непокорных районов отправили «чрезвычайных
представителей», наделенных самыми широкими полномочиями.
Также в сентябре монтаньяры, сторонники либерализации
экономики, сделали уступку своим союзникам санкюлотам, введя
максимум, то есть контроль над ценами. В целом, экономическая политика
революции оказалась неудачной: конфискованная церковная
собственность использовалась для выпуска бумажных ассигнатов,
которыми погашался государственный долг, а саму собственность отчаяв-
237
шееся правительство с чрезмерной поспешностью пустило с молотка
и, как следствие, распродало по ценам намного ниже ее реальной
стоимости. Экономику подрывало также нежелание крестьян
выполнять феодальные повинности, так что в 1793 г. они были упразднены
без какой-либо компенсации. В то же время введение в обращение
ассигнатов в качестве валюты привело к высокой инфляции. Времена
наступили, безусловно, более тяжелые, чем в последние годы
«старого режима».
В этих непростых условиях Дантон и умеренные якобинцы стали
терять влияние, а 32-летний Робеспьер и два его соратника, 27-летний
Сен-Жюст и Кутон, заняли главенствующее положение в Комитете
общественного спасения. Еще более левое крыло революции под
нажимом Коммуны и ее комиссара Эбера перешло от «Гражданской
конституции духовенства» к активной дехристианизации.
К концу года политическое руководство Робеспьера, вдохнувшего
энергию в Конвент, и организационный талант Лазара Карно,
собравшего и снарядившего новую массовую армию, устранили опасность,
угрожавшую республике в первый героический год ее
существования. В декабре коалицию теснили по всем фронтам, а внутренние
мятежи были подавлены. Однако всю первую половину 1794 г. террор
продолжался и даже усилился. Тут мы подходим к великой загадке
революции: что вызвало последний приступ горячки?
Вступлением к этому крещендо послужило объявление Конвентом
в марте, перед лицом всеобщего обнищания и под нажимом
санкюлотов, «национализации» и перераспределения имущества эмигрантов.
Хотя радикальные историки позже провозгласили «Вантозские
декреты» предвестием социализма, на самом деле они, как и максимум,
введенный в сентябре 1793 г., являлись чрезвычайной мерой
военного времени. И притом это самое большее, чего добились низы,
требовавшие государственного регулирования экономики. Хотя имущие
классы всю революцию, особенно в годы террора, жили в постоянном
страхе перед «земельным законом» - переделом земли по образцу lex
agraria Гракхов 133 г. до н. э., такого никто никогда не планировал и
тем более не пытался осуществить на практике.
Словно для того, чтобы донести эту мысль до масс, в марте
представителей народного радикализма - Эбера и экстремистов из
Коммуны - гильотинировали за измену. За ними, как будто для равновесия,
в апреле последовали на эшафот Дантон и его «снисходительные»,
которых подозревали в намерении заключить мир с
антифранцузской коалицией. Революция после устранения Лафайета, Варнава
и жирондистов пожирала теперь последнее поколение своих детей.
238
С апреля по июль революционное правительство и террор
представляли собой почти диктатуру Робеспьера с двумя ближайшими
сподвижниками (ему все-таки приходилось добиваться большинства в
Конвенте). Террор стал своего рода культовым очищением общества
во имя республиканских идеалов чистоты, добродетели и единства.
За время террора были казнены около 20 тыс. чел., примерно 1 400 из
них - за последние месяцы, в июне-июле 1794 г.59
Разумеется, эти невероятные события нельзя объяснить
«обстоятельствами». Логичной кажется лишь «теория заговора», и то при
условии, если под активным меньшинством понимается не
какая-либо группа с общими социальными, экономическими или иными
интересами, а сообщество подвергшихся идеологической интоксикации.
Опять-таки основа для этой последней эскалации революционной
лихорадки была заложена в первый «год творения». Приступы
паники, повторяющиеся с каждым шагом революции вперед, который
порождал новых тайных врагов (от аристократов-эмигрантов до не-
присягнувших священников), вызывали к жизни все более строгие
законы, определяющие врагов и «подозреваемых»60.
Какова же была идеология якобинцев? Они видели свой идеал в
обществе мелких частных собственников, где никому не следует быть
слишком богатым, так как богатство неизбежно развращает61. Кроме
того, это общество, считали они, должно поклоняться культу
гражданской добродетели, то есть жить в постоянной готовности
бороться против аристократии, привилегий, реванша порочного прошлого.
В конце концов, большинство недавно освобожденных граждан
являлись продуктами этой порочности. Таким образом, они походили на
тех, кого кальвинисты ранее называли «нечестивцами».
Добродетель означала внутреннее освобождение населения от
былой порочности посредством постоянной гражданской активности.
Освобожденные, настоящие граждане, составляли меньшинство.
Они были, так сказать, избранниками современной эпохи,
единственными настоящими республиканцами. Следовательно, чистка,
осуществляемая избранными среди «нечестивцев», - не
преступление против свободы, а единственная гарантия ее выживания и
триумфа. В основе этого мировоззрения не лежит какой-либо великий
текст или стройная теория вроде тех, что марксизм и ленинизм позже
дали революционному социализму. Ближе всего к такой теории
труды Руссо, предлагающие, скорее, некий набор эгалитарных взглядов,
нежели четко сформулированную идеологию.
Данная связь ясно проявилась в последнем официальном акте
Робеспьера - празднестве в честь Верховного Существа в июне
239
1794 г. В саду Тюильри перед тысячами зрителей было сожжено
чучело атеизма; сам Неподкупный, словно новоявленный «савойский
викарий», служил эту мессу республиканской добродетели.
В следующем месяце идеологический дурман рассеялся. Видя, что
Робеспьер стал чересчур могущественным, его товарищи якобинцы
9 термидора (27 июля) свергли Неподкупного, устроив
парламентский переворот. Это им удалось, потому что, разделавшись весной с
Коммуной и санкюлотами, Робеспьер остался без гарантированного
большинства в парламенте. Но термидорианцы вовсе не
намеревались положить конец террору, не говоря уже об отказе от якобинской
программы. Пойти на попятную их заставило общественное давление
после переворота. Через несколько месяцев лихорадка покинула
революцию навсегда.
Защита революции теперь означала охрану новых интересов, ею
созданных. В первую очередь это подразумевало упрочение власти
якобинцев-термидорианцев. Соответственно они отложили в
сторону ультрадемократическую конституцию 1793 г. и попытались
закрепить завоевания революции с помощью нового конституционного
механизма, Директории 1795 г. На деле этот олигархический прием
отменил все священные принципы республики введением жесткого
имущественного избирательного ценза, двух палат и коллективного
органа исполнительной власти из пяти членов. Кроме того, в
конституции теперь оговаривалось, что новое законодательное собрание
должно на две трети состоять из бывших членов Конвента. Короче,
Директория 1795-1799 гг. являлась правлением меньшинства
бывших цареубийц, вынужденных поочередно отражать атаки то
поднимающих голову роялистов справа, то неоякобинцев слева. Три раза
за четыре года члены Директории прибегали к военной силе - либо
для подавления уличных беспорядков, либо для устранения законно
избранных, но политически враждебных им депутатов.
В социальном плане Директория представляет собой фазу
революции, которую по праву можно охарактеризовать как
«буржуазную». В годы ее существования шла нарочитая демонстрация
нового богатства, нажитого на распродаже национального имущества
и на военных поставках, - демонстрация, особенно
провокационная на фоне экономических трудностей, усугубленных постоянной
инфляцией. Именно в этой атмосфере появились первые явные
предвестия современного социализма и коммунизма в форме
«заговора равных» Гракха Бабёфа, о котором подробнее будет сказано
ниже.
240
Главным делом Директории была война. Преодолев опасности
1793 г., республика вступила на путь беспрерывных завоеваний,
продолжавшихся до 1812 г. Первоначальная борьба с интервентами
превратилась после 1795 г. в якобинский крестовый поход против королей
Европы. Директория создала «дочерние» республики с классическими
названиями (Батавскую в Голландии, Цизальпинскую в Ломбардии,
Партенопейскую в Неаполе), установив между тем
«естественную» границу Франции по Рейну. Эта экспансия действительно
имела сильную идеологическую составляющую: солдаты не
переставали петь «Карманьолу», давно забытую в Париже. Но помимо
славы она приносила контрибуции и награбленную добычу,
необходимые, чтобы держать на плаву финансы неустойчивого
правительства. Члены Директории слишком поздно поняли, что зависимость от
армии, которая помогала им сохранять симпатии большинства на
родине и добывала славу и презренный металл за рубежом, сделала их
беззащитными перед амбициями какого-нибудь удачливого
генерала. Таким счастливчиком стал 27-летний Бонапарт. Восемнадцатого
брюмера (10 ноября) один из членов Директории, Сийес, устроил
парламентский переворот и поставил его во главе диктаторского
Консульства, видя в этом единственный способ как завершить
революцию, так и стабилизировать ее.
«Последние толчки»
Идеологическая фаза революции действительно завершилась, но
результаты процесса, начатого в 1789 г., едва ли стабилизировались.
Как мы видели, процесс, начавшийся в 1640 г. в Англии, не
заканчивался до «последнего толчка» 1688 г., а его результаты прочно
консолидировались только в 1715 г. Во Франции же, где
первоначальное потрясение 1789 г. было гораздо более тяжелым, чем в Англии в
1640 г., и число «последних толчков» оказалось больше, и
консолидации удалось достичь только при Третьей республике в 1870-х гг. -
спустя почти век, а не полвека.
Кроме того, в Англии для стабилизации итогов революции
требовалось гораздо меньше структурных преобразований, чем во
Франции. Прыжок от средневековой смешанной монархии к
современной смешанной, притом узко олигархической, монархии нельзя
сравнивать с квантовым скачком от зрелого королевского
абсолютизма к республике со всеобщим избирательным правом. Достижения
Великой французской революции могли быть закреплены только
в такой чистой форме политической современности. Разумеется,
241
коренные, необратимые изменения, произведенные французской
революцией, были совершены в первый год, так же как важнейшие
перемены, обусловленные английской революцией, - в ее первый
год. И, разумеется, преобразования 1789 г. содержали в зародыше
республику 1792 г., основанную на всеобщем избирательном праве:
кастрированная монархия и принцип полноправного гражданства
сделали такую республику вероятной, даже логичной
кульминацией нового порядка. Благодаря данному обстоятельству, вкупе с
героической борьбой, сопровождавшей рождение Первой республики,
якобинский миф стал неотделим от общего революционного мифа,
что и определило момент, в который могло быть наконец закреплено
наследие самого 1789 г. (С другой стороны, Содружество «святых»
не являлось пригодным идеалом для современной эпохи.) Вдобавок
якобинство означало строгий лаицизм, то есть полное отделение
церкви от государства. Если принять это во внимание, то
окончательной датой завершения революции следует считать 1905 г., когда
таковое произошло.
Столь обширная программа потребовала даже не двух, а четырех
«последних толчков», чтобы достичь консолидации. «Человек на
коне» французской революции, Бонапарт, конечно, временно
стабилизировал ее результаты, но не сумел их закрепить, потому что не
умел вовремя остановиться. Кромвеля остановили морские границы
Британских островов (и возможности военно-морских сил, которых
хватило только для завоевания Ямайки). Амбициям Наполеона не
ставили предел подобные географические ограничения. В итоге в
1814 г. поражение привело к его низложению.
Затем Франция пережила повторение всего своего
предыдущего революционного опыта. С 1814 по 1830 г. она видела «жесткую»
Реставрацию, подобие «старого режима»62. С 1830 по 1848 г. -
более живучий вариант конституционной монархии 1791 г. С 1848 по
1851 г. - подобие Первой республики, ас 1851 по 1870 г. -
наполеоновской империи. Лишь после 1870 г. стало возможным создание
долговечной республики, отчасти потому, что у страны не осталось
других альтернатив, отчасти потому, что эта республика начала свою
жизнь с решительной расправы с парижским плебсом, а отчасти еще
и потому, что монархисты, за которыми до 1876 г. в стране шло
большинство, не смогли объединиться вокруг какого-то одного
претендента из династии Бурбонов. Так Франция впервые сформировала
устойчивый демократический строй - без идеологии, спонтанно,
почти по-английски и без детально разработанного
конституционного документа. Более того, хотя новый строй сделал культ из всеобще-
242
го избирательного права, при нем имелась отнюдь не
соответствующая якобинским взглядам верхняя палата.
Сопоставления с 1640-1688 гг.
Основные различия между революциями в Англии и Франции
уже упоминались. Во-первых, 1640 г. и его последствия мыслились
и переживались как реставрация, а не инновация, и потому несли в
себе внутренний ограничитель радикализации. События 1789 г. и их
продолжение, напротив, воспринимались как намеренное
революционное «перерождение», радикальность которого, следовательно,
преград не имела. Во-вторых, идейная оболочка английских событий
была религиозной, ориентированной на сверхъестественное, а идеи,
вдохновившие французские события, носили светский, решительно
мирской характер, что подкрепляло разницу в представлениях двух
революций о времени.
Другой радикализирующий фактор во французском случае -
невероятное количество вещей, которые надлежало ниспровергнуть.
Ранее уже упоминалось, что в результате провала кальвинизма во
Франции церковные структуры, уровень богатства духовенства и
догматическая культура остались там почти как в XVI в., тридент-
ская контрреформация усугубила положение, а янсенистская
контрреформация лишь осложнила это наследие, не облегчив его гнета.
Выше отмечалось также, что формирование современного
государства осуществлял королевский абсолютизм, за счет всех
«промежуточных инстанций». Следовательно, нужен был второй раунд
государственного строительства, чтобы предоставить гражданскому
обществу подлинно современную, то есть партиципаторную, роль.
Процесс предстоял тем более мучительный, что абсолютистская
централизация не проникла глубоко в государственное устройство и
фактически не затронула сеть архаичных и мешающих местных органов
власти. Частичная реформа такой громоздкой структуры потерпела
явную неудачу во время движения абсолютизма по нисходящей в
XVIII в., главные примеры - судьба парламентов Мопу и инициатив
Тюрго.
Накопившийся груз проблем и неудач к 1789 г. поставил страну
перед срочной необходимостью массы институциональных
изменений. А когда прорывается долго создававшийся затор, за ним следует
потоп - бурная радикализация, течение которой мы уже проследили.
Несомненно, неукротимая «гидродинамика» революции - одна из
причин, почему она увлекла за собой столь многих и так глубоко про-
243
рвалась в политическую систему, при этом столь многое уничтожив и
нанеся Франции раны, которые пришлось залечивать сто лет.
Еще один фактор радикализации - узость каркаса французского
«старого режима», в отличие от его британского собрата и тем более
Другого берега Атлантики, где таковой вообще отсутствовал. Хотя и
французское, и британское государства представляли собой
священный порядок, в котором монархия, церковь и аристократия
взаимосвязаны и взаимозависимы, во Франции это сильнее выражалось63.
Здесь король одновременно являлся «внешним епископом» (évèque
du dehors) и первым дворянином королевства. Иными словами, все
f ри составляющие системы сходились в одной точке. Следовательно,
объединение «первого» и «второго» сословия с «третьим» в июне
1789 г. автоматически превратило монархию в призрак, а также
передало всю полноту священного суверенитета монарха - отныне
священной и суверенной Нации. Английская сословная система XVII в.,
напротив, начиналась с довольно широкой формулы: духовные
лорды, светские лорды и общины, - а при Стюартах все стало еще проще:
король, лорды и общины. Поскольку лорды и общины, то есть
парламент, вместе совершили революцию против короля (желая только его
образумить, не более), система в целом не подверглась десакрализа-
ции. И когда при Содружестве сам парламент был распущен,
общество, по-прежнему оставшееся религиозным, решительно отвергло
новый порядок, встретив Реставрацию, можно сказать, с
распростертыми объятиями. В итоге получилась «разбавленная» современность,
то есть совместный суверенитет общества (или, по крайней мере, его
элиты) и монарха, создавший условия для постепенного перехода к
настоящей современности, когда у страны будет соответствующее
настроение.
Поэтому во Франции действие разворачивалось гораздо быстрее,
<1ем в Англии. Было значительно больше гражданского (а не
военного) насилия, то есть террора. И больше социально-экономических
нарушений и/или преобразований: конфискация имущества,
непрекращающаяся инфляция, экономический кризис, материальная нужда.
Это значит, что во Франции политический и социальный вопросы
йпервые слились воедино и не поддавались разрешению по
отдельности. Чтобы подчинить монархию обществу, необходимо было
уничтожить сословную систему и объединить всех «граждан» в
единую нацию на почве равенства. Следовательно, французская
революция была направлена одновременно против «произвола» и «при-
оилегий», против «деспотизма» и «аристократии». Она совершалась
ради свободы и равенства. Иными словами, ей пришлось быть сразу и
244
политической, и социальной революцией (ибо при «старом режиме»
XVIII в., когда большинство населения не знало грамоты, поднимать
вопрос о политической демократии и всеобщем избирательном праве
означало ставить самый важный, социальный вопрос).
Но французская революция пошла еще дальше. Если
представители духовенства решали (как делали большинство из них), что нр
могут предать священного монарха и принести присягу на верности
(то есть подчинение) чисто светской власти нации, тем более
наперекор прямому запрету папы, они разделяли судьбу «тирана» и
«аристократов». Так революция стала означать объявление церкви вне
закона и в конечном счете дехристианизацию нации, наряду с заменой
религии в любой форме культом разума или безликого Верховного
Существа.
Таким образом, крайние пределы мыслимых изменений в двух
случаях существенно различались. В Англии таким пределом
стала левеллерская республика со всеобщим избирательным правом.
(Значение протосоциализма диггеров сильно преувеличено
радикалами XX в., искавшими своих предшественников, - в ту эпоху он
не играл большой роли.) И этот крайний предел 1650-х гг., конечно,
вошел кульминационным пунктом в программу французской
революции. В промежуточном американском случае республика, не
прижившаяся в Англии, пустила прочные корни в колониях, однако без
французского итога - всеобщего избирательного права, о котором
во время переворота 1770-х гг. речь никогда не шла. Недостигнутый
крайний предел во Франции установили наиболее крайние
требования кризисного 1793 г.: «социализирующие» «Вантозские декреты»
и эбертистская дехристианизация осенью. Тремя годами позже,
восставая против термидорианской реакции, Гракх Бабёф увенчал этот
протосоциализм эскизом диктатуры пролетариата.
Но даже без этого намека на 1917 г. плоды 1789 г. представляли
собой полномасштабную, воинствующую современность. Суверенитет
и сакральность были спрессованы в одно целое, обладающее
унитарной общей волей, - Нацию (или Народ), единую и неделимую.
Атлантические революции в сравнении
Консолидация французской республиканской традиции после
1870 г. приводит нас к концу череды революций, которые
установили прочные новые порядки, режимы и мифы, до сих пор
существующие в нашем мире. Все более поздние революции XX в., как уже
отмечалось, больше не являются реальными мировыми силами, хотя
245
обломки режимов, ими созданных, все еще загромождают пейзаж.
Наследие же революций, которые можно назвать атлантическими,
соединившись, произвело на свет то, что после 1989 г. стали именовать
«рыночной демократией». (В XIX в. само собой подразумевалось, что
в любом демократическом государстве, да и в любом
функционирующем обществе, есть рынок. Понятие «рыночная демократия»
появилось после краха советской плановой экономики в 1980-х гг., а до тех
пор страны, не входящие в советский лагерь, звали
«индустриальными демократиями».)
Как же соотносятся эти атлантические революции по своим
итогам? Являются ли они особыми, отличными друг от друга или даже
прямо противоположными? (Часто говорят, что одни революции
«лучше» других64, причем, разумеется, пальма первенства обычно
отдается американской.) Или сливаются в общий атлантический
революционный процесс, кумулятивный процесс развития
современности, который длился целый век, с 1688 по 1789 г.65?
Начать стоит, пожалуй, с середины - 1776 г. Несмотря на громкие
слова о том, что Творец создал всех людей равными, в американской
«Декларации независимости», равенство на деле не играло
центральной роли при развертывании американской революции. Ее главной
темой была свобода, о чем свидетельствуют памятный «Колокол
Свободы», установленный в Зале независимости в Филадельфии, и
смелое заявление Патрика Генри в 1775 г.: «Дайте мне свободу или
смерть!» Такая свобода подразумевала, во-первых,
индивидуальную свободу как историческое право англичан от рождения, якобы
гарантированное им «Великой хартией вольностей», которому стала
угрожать британская королевская тирания; во-вторых, она означала
национальную независимость от не менее ненавистной тирании
парламента. Об обоих типах свободы говорит лозунг «нет налогам без
представительства». Равенство в американском каноне не ставилось
на одну доску со свободой до гражданской войны и Геттисбергской
речи Линкольна, в которой великий президент взялся перетолковать
смысл декларации «отцов-основателей»66. И даже после этого лозунг
«равенства» никогда не вызывал столь живого отклика, как лозунг
«свободы».
Равенство впервые обрело высокий (и фактически
приоритетный) статус во французской революции, чья основополагающая
декларация начинается словами: «Люди рождаются и остаются
свободными и равными в правах». Собственно, жажда равенства - главная
страсть, все время двигавшая французской революцией. Мы уже
видели истоки этого принципиального различия между «революциями-
246
сестрами» XVIII в.67 Определялось оно не тем, кто бунтовал -
торговая и плантаторская элита в Америке или санкюлоты и крестьяне в
Париже, поскольку лидеры и идеологи французской революции даже
на самой экстремистской ее стадии в большинстве своем
происходили из рядов элиты и в обоих случаях наиболее видную роль играли
юристы и журналисты. Главное - против чего бунтовали
американская и французская элиты. В конце концов, элиты обычно не
отличаются эгалитарными взглядами.
В Америке «патриотичная» элита взбунтовалась не против
более высокого социального слоя, а против заокеанской политической
власти. Французская «патриотичная» элита, напротив, восстала
против привилегированной по закону социальной страты - наследного
дворянства, а по сути, против всей жестко иерархической
сословной системы68. В специфических условиях французского «старого
режима» состоятельные и образованные верхние эшелоны
«третьего сословия» имели все основания требовать равенства с родовым
высшим дворянством, ибо имели тот же социальный и культурный
статус. По существу, обе элитные группы представляли собой
зачатки класса, который после революции будут называть «нотаблями»,
и значительно отличались от мелкого дворянства и мелкой
буржуазии. Французские буржуа-«патриоты», таким образом, бунтовали не
столько против знати как таковой, сколько против возмутительного
принципа дворянства, унизительного правового различия между
«высокородной» аристократией и простолюдинами «низкого
происхождения», «разночинцами». Поэтому в основе французской революции
лежал парадокс: представители привилегированной элиты
свергали существующий порядок во имя равенства и «народа», пользуясь
для этой цели более примитивной яростью истинно отверженных -
санкюлотов.
Чтобы прорваться в истеблишмент, им пришлось полностью
уничтожить существующие структуры и основать совершенно новый
порядок, который обеспечил им достойное и даже преимущественное
положение. Но при этом они создали новое, не менее возмутительное
и унизительное разделение общества на богатых и бедных,
буржуазию и «народ» (le bas people). И это разделение породило горькую
озлобленность против «нового режима» в XIX в.
Какое отношение данные сравнения имеют к английскому
примеру? В Англии парламентская оппозиция короне и пуританская
оппозиция официальной англиканской церкви вообще никак не были
связаны с равенством. Речь шла только о свободе, хотя и не в том
смысле, что у американцев. Здесь имелась в виду свобода институтов,
247
а не индивидов. Разумеется, исторические права англичан
почитались священными, однако для их создания не требовалась
революционная борьба; считалось, что они в достаточной мере гарантированы
существующим обычным правом, якобы идущим от «Великой
хартии вольностей», в настоящее же время нужно лишь освободить их
от тирании новой королевской «прерогативы». Нечто подобное и
сделал в ходе своей первой сессии «Долгий парламент». После
этого борьба за свободу означала борьбу за вольности - и за само
существование - парламента как органа против короны. Англичане не
разделяли взгляд на монархию саму по себе как на тиранию, к
которому пришли в ходе своей революции французы. В религиозных
вопросах английская революция (или, как говорили тогда, «дело»)
подразумевала борьбу за выборную, но олигархическую
организацию церкви (пресвитерианство) либо за выборную и конгрегацион-
ную (индепендентство). В какой-то мере обе группировки боролись
за индивидуальную свободу совести, логическим следствием которой
являлась веротерпимость. Однако терпимости требовали в
отношении «деноминаций» (как стали называть различные религиозные
течения в XVIII в.), а не индивидов. Наконец, эти конфессиональные
«свободы» предполагались лишь для немногих избранных, а не для
человечества в целом, огромное большинство которого относилось
к категории «нечестивцев». Посему в борьбе англичан отсутствовал
элемент универсализма, то есть идея прав, политических или
религиозных, которые должны быть доступны, хотя бы потенциально,
всему людскому роду. Свои свободы, привилегии, избирательные
права они считали историческими и исключительно английскими,
раз именно они за них сражались и их завоевали. Таким образом,
английский «Билль о правах», принятый в 1689 г., - это билль о правах
парламента, а не самых разных подданных короны.
Американцы же, напротив, дополняя свою конституцию «Биллем
о правах», расширили общие принципы «Декларации
независимости», чтобы предоставить конкретные права и всем отдельным
гражданам, и их добровольным ассоциациям, религиозным или
политическим. Поэтому универсализма в американском документе
значительно больше, нежели в его более архаичном британском аналоге.
Впрочем, даже расширенные права американцев касались
исключительно вещей, которые государство - и только на федеральном
уровне - может или не может делать в рамках их особой национальной
конституции.
Процесс абстрагирования и универсализации прав достиг своей
кульминации в ходе французской революции. Несмотря на то, что
248
«Декларация прав человека и гражданина», аналогично
американскому случаю, прилагалась к конкретной национальной
конституции, она не служила лишь ее дополнением. Она была разработана
еще до обсуждения проекта самой конституции и представляла собой
преамбулу, провозглашающую фундаментальные принципы
будущего управления нацией. Французы придали концепции прав
абсолютный и универсальный характер, назвав свой документ декларацией
«прав человека» - то есть прав, потенциально имеющих силу в
любом месте в любое время. Более того, декларация 1789 г. включалась
в качестве преамбулы почти во все последующие 11 конституций
Франции и играет ту же роль в нынешней.
Глядя на такое сочетание идеологического постоянства и
институциональной изменчивости, англосаксонские критики (начиная с
возражений Томаса Джефферсона Лафайету в 1789 г.) утверждали, что
лучше двигаться от конкретного и частного к общему и
универсальному, а не наоборот. Однако мировая общественность считает
иначе. В 1948 г. ООН приняла «Всеобщую декларацию прав человека»,
разработанную международной комиссией под председательством
Элеоноры Рузвельт, где синтезированы французская и
американская точки зрения; в 2000 г. еще не оперившийся Европейский Союз
принял «Хартию об основных правах», согласно которой граждане
стран - членов ЕС, даже стоящей несколько особняком
Великобритании, могут подавать в суд на свои правительства. Для
современности критерий универсальности, по всей видимости, является
нормой, когда речь идет о человеческих ценностях и достоинстве.
В последний раз в столь всеобъемлющей форме он встречался в
религиозной идее личного бессмертия души, особенно в ее
христианском варианте, согласно которому Бог воплотился в человека,
дабы искупить грехи всего человечества. Разумеется, «христианский
мир» существовал в ограниченном географическом ареале, видя себя
окруженным язычниками и неверными. И, конечно, с XI в. (как
минимум) он раскололся на греческую и латинскую части; а
последняя с XVI в., в свою очередь, - на католичество и различные формы
протестантства. Тем не менее принцип всеобщности или «кафолич-
ности» утверждался им как основополагающий, то есть
провозглашалось потенциальное единство человеческого рода. В сущности,
«Четыре Пражские статьи» можно считать первой неуклюжей
попыткой определения прав не в духе партикуляристской феодальной
хартии, а в религиозном смысле, как свободы совести: права
слышать Слово Божье на чешском языке и причащаться под обоими
видами.
249
Иными словами, каждая европейская революция не только
становилась радикальнее предыдущей: весь европейский революционный
процесс в целом носил кумулятивный характер. Таким образом,
гуситская протореволюция, вспыхнувшая в основном на религиозной
почве, по сути, способствовала возникновению не оформленного
теоретически конституционализма, который предопределил новый
раунд завершенных революций - в Нидерландах и Англии, хотя эта
преемственность, конечно, открыто не признавалась. (Вспомним, что
лютеранская Реформация была незавершенной революцией.) Затем
английская революция, поскольку она представляла собой также
радикальную Реформацию, опиралась на континентальную
кальвинистскую идеологию и экклезиологию, включая теорию
политического сопротивления эпохи французских религиозных войн. Столь
же очевидно, что американцы подхватили эстафету у англичан, с их
историческими правами английской нации, сформулированными в
1688 г., обобщив последние в терминах естественного права, идущих
от стоиков и средневекового «христианского мира». Наконец,
французы начали с того, на чем остановились американцы, и завершили
процесс универсализации: права человека стали внеисторическими
рациональными принципами, основанными на истинно народном
суверенитете и влекущими за собой социальное следствие - идею
равенства.
Чего же следовало ожидать дальше? Только попытки начать с
вечно не выполняемого обещания равенства вкупе с еще более
неуловимым «братством» и добиться их путем последней и совершенной
революции. В XIX в. это «второе пришествие 1789 г.» получит
название «социализма». Он станет великим теоретическим проектом
девятнадцатого столетия и великим практическим экспериментом
двадцатого.
Часть HI
В ПОИСКАХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
9
ОТ ПЕРВОЙ СОВРЕМЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
К ПЕРВОЙ ОЖИДАЕМОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
1799-1848
ОБЗОР ДЕВЯТНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ
После 1789 г. больше не могло быть «неумышленной»
революции. Поток перемен, начавшийся в 1776 г. и достигший
кульминации в годы после Бастилии, показал миру, что условия
человеческого существования можно преобразовать. Открылся секрет,
что история делается посредством революций, и сценарий
современной драмы освобождения предстал перед миром, как открытая книга.
Люди получили возможность ожидать более совершенного
воплощения этого сценария в жизнь, рассуждать о его природе и развитии,
даже организованно инициировать его начало. Поэтому для столетия
с 1815 по 1914 г. характерна культура постоянных революционных
ожиданий.
Более того, американская и французская революции между
собой определили, как должны выглядеть преобразованные условия
человеческого существования. Несмотря на существенные различия
в деталях, обе установили, что это - республика, основанная на
либеральных, эгалитарных и светских принципах. Американцы пришли
к этому идеалу более легким путем, просто повернувшись спиной к
традиционному европейскому порядку; французы же могли прийти к
нему лишь путем тернистым, уничтожив наследие, уходившее
корнями гораздо глубже двух столетий королевского абсолютизма - в мир
«двух мечей» и «трех сословий». Но, невзирая на данную разницу,
монархической и аристократической Европе оба примера
справедливо представлялись в равной мере чуждыми и губительными.
Тем не менее из двух моделей освобождения - американской и
французской - последняя имела гораздо больше значения для
будущего революционной идеи. Американская модель, безусловно, всегда
маячила перед Европой на дальнем горизонте как образец
функционирующей республики. Однако эта модель не связывалась ни с какой
революционной традицией и, следовательно, давала Европе, все еще
253
находившейся в значительной степени под властью «старого
режима», мало идей о том, как освободиться. Франция служила
остальным европейским странам более подходящим примером. Поскольку
французская республика оказалась недолговечной, радикальные
настроения сосредоточились на революционных действиях, которые ее
создали и стали вновь необходимы, чтобы ее вернуть. Новая эпоха
ожидаемой революции, таким образом, черпала вдохновение
преимущественно во французской традиции.
Долгое ожидание революции в XIX в. можно разделить на два
основных периода. В широком смысле радикальные ожидания были
лирическими и романтическими до 1848 г., позитивистскими и
«научными» после него. До 1848 г. новый переворот постоянно казался
близким, и действительно нередко вспыхивали волнения. В
промежутках между ними не прекращало существовать революционное
движение, международное по масштабам и поддерживаемое сетью
тайных обществ. В тот период действие сосредоточилось в Париже,
священном городе революции, куда стекались люди со всего
континента. Ибо революция стала теперь настоящей профессией для
международной группы ее служителей, таких, как Джузеппе Мадзини,
Карл Маркс, Михаил Бакунин, стремившихся адаптировать
французскую модель освобождения для более отсталых регионов Европы.
Революционная практика в те годы означала в основном
вооруженное восстание и уличные баррикады - ритуал освобождения,
который Делакруа в 1830 г. обессмертил своей «Свободой, ведущей
народ» с обнаженной грудью, а Гюго в сентиментальных тонах
изобразил в «Отверженных», описывая события 1848 г. Собственно, эти
образы до сих пор олицетворяют «революцию» в народном
воображении. Однако подобная тактика похоронила себя поражением 1848 г.
(эстетические похороны ей устроил Флобер в романе «Воспитание
чувств»), и последняя вспышка такого рода во время Парижской
коммуны 1871 г. уже представляла собой безнадежный анахронизм.
После катастрофы революционное движение смирилось с
необходимостью длительной и терпеливой борьбы.
Ожидание революции институционализировалось в виде I и
II Интернационалов. Знаковыми моментами их деятельности были
периодические многонациональные конгрессы, а безудержный
утопизм начала XIX в. уступил место рационалистическому
материализму марксизма1. Одновременно революция продвигалась на восток и к
1890-м гг. стала научной, все чаще парламентской борьбой с центром
в недавно объединенной Германии, чье промышленное превосходство
создало сильнейшее в Европе рабочее движение. Революционеры с
отсталого востока, из Австро-Венгрии, Польши и России, смотрели
254
уже не на Париж, а на Берлин - конечно, ища не примеры восстания,
ибо германская социал-демократия славилась нелюбовью к
решительным действиям, а, скорее, руководство в марксистской теории и
практике.
Несмотря на неослабные радикальные ожидания, в XIX в.
впервые начиная с XV в. не произошло успешной революции. Поэтому
большинство «стасиологических» исследований не включают 1848 г.
в канон великих революций, перескакивая от 1789 г. сразу к 1917 г.
Маркс в свое время назвал 1848 г. «фарсом» в сравнении с высокой
«трагедией» 1789 г. А. Дж. П. Тейлор в знаменитом изречении осмеял
его как «поворотный момент в истории, когда история не сумела
повернуться». Но игнорировать 1848 г. как абсолютный провал -
значит недооценивать событие, по-настоящему важное.
Прежде всего, оно имело огромное значение для современного
революционного мифа, поскольку являло первый - и
единственный - пример общеевропейской революции. Хотя события 1848 г.
представляли собой в первую очередь серию отдельных
национальных революций, они взаимодействовали и усиливали друг друга, пока
пожар не охватил всю Европу. Поэтому в дальнейшем ожидалось, что
настоящая революция будет мировой, принесет спасение всему
человечеству. Соответственно европейский социализм организовался в
«Интернационал» и дал такое же название своему гимну.
Игнорировать 1848 г. неверно и с точки зрения
сравнительного метода. Случаи неудачи, остановки или прерывания
какого-либо исторического явления - прекрасные «контрольные пробы»
при исследовании примеров его более успешного развития, как
показывает сопоставление судеб Реформации в Германии, Франции
и Нидерландах. На самом деле столь многие компоненты событий
1848 г. присутствовали и в 1789, и в 1917 гг., что первым признаком
разумной интепретации должен быть вопрос: почему в 1848 г. эти
составляющие привели к столь ничтожному эффекту? Или, если
взглянуть с несколько иной стороны: каким образом консерваторам
впервые удалось победить в современной крупной революции?
Наконец, в полной мере значимость 1848 г. стала очевидна лишь
в последующие годы. На время, безусловно, провал либеральной
революции в Германии резко отделил ее от современного Запада,
поскольку задача национального объединения легла на
полуаристократическую Пруссию. Но что, если в долгосрочной перспективе особый
путь (Sonderweg) компромисса с силами «старого режима»,
ставший результатом 1848 г., в действительности подготовил Германию
к тоталитарной «революции правых»? Вопрос актуальный, однако,
сколько ни спорь, по-видимому, его не разрешить.
255
Меньше споров вызывает значение наследия 1848 г. для
революционного будущего России. Действительно, величайшая из
современных революций была бы невозможна в той форме, в какой мы ее
знаем, без главного продукта 1848 г. - марксизма. Эта доктрина, хотя
и сформировалась в период расцвета романтизма первой половины
XIX в., отличалась железной логикой, которая помогла ей стать
господствующей идеологией более позднего «научного» социализма,
как раз когда Россия шла к революции. Если существует
общеевропейский революционный процесс, как утверждается в данной книге,
то марксизм как посредник между 1848 и 1917 гг., безусловно, одно из
ключевых его связующих звеньев. Пусть в области событий история
в 1848 г. и не особенно повернулась, но в области теории она дала
большой крен влево.
Однако самая яркая и поистине уникальная черта 1848 г. - тот
факт, что в одной революции заключалось три. В первую очередь и в
основном это была либерально-демократическая революция во имя
принципов 1789 г. и наиболее радикального их воплощения -
республики. Во-вторых - серия национальных революций, практически
неизбежно сопутствовавших делу либеральной республики. И,
наконец, - первая, слабая и в конечном счете роковая попытка
социалистической революции, причем только в одной стране - Франции;
тогда она потерпела фиаско, однако ее ожидало большое будущее.
Таким образом, основной вопрос, поставленный первой половиной
века ожидаемой революции, касается отношения и национализма, и
социализма к исходной революционной идеологии - либеральной
демократии с республикой на основе всеобщего избирательного
права, впервые обозначенной после 1789 г. Стоит, конечно, отметить, что
демократический прорыв Великой революции был частично
заслугой «патриотов», действовавших от имени «нации», и такая позиция
легко могла перейти в национализм tout court. He менее важно, что
в самом знаменитом девизе революции коллективные ценности
равенства и братства перевешивают индивидуалистическую ценность
свободы, а это уже чревато социализмом. Поэтому в нашей трактовке
истории XIX в. основное внимание уделено неоднозначным и
накладывающимся друг на друга силам главной троицы современности:
либерализма, национализма и социализма.
В первой части данной главы социализм исследуется как продукт
уже упомянутых «последних толчков» 1789 г. во Франции. Во второй
части национализм рассматривается в связи с провалом либеральных
революций Германии в трех центрах: Франкфурте, Берлине и Вене.
В целях упрощения хаотично сложной картины событий 1848 г. в
панъевропейском масштабе о важных случаях Италии и Венгрии бу-
256
дет сказано вскользь. Зато Карлу Марксу, хотя собственно для 1848 г.
он особой роли не играл, будет посвящена отдельная глава ввиду его
незаменимости для коммунизма XX в.
Историография
Именно потому, что этот круг тем весьма широк, историография,
относящаяся собственно к 1848 г., довольно скудна. Так как
революция 1848 г. одновременно представляет собой единое
интернациональное движение - первое светское движение подобного рода в
истории Европы, - а также ряд отдельных национальных революций,
большая часть соответствующей литературы посвящена ее
отдельным очагам с редкими отсылками к общей картине. Наиболее
важные произведения такой литературы будут названы в надлежащем
месте.
Есть, правда, историографические традиции, рассматривающие
события 1848 г. в целом. Первая из них, конечно, марксизм, а
наиболее важные исторические исследования в этом русле (самого Маркса
о Франции, Энгельса - о Германии) написаны в самый разгар
битвы. В то время они прошли незамеченными, но оказали огромное
влияние на позднейшую историографию, относящуюся не только к
1848 г., но и ко всей современной эпохе. О 1848 г. в целом говорится
также в работах по истории социализма и рабочей истории,
написанных в основном социалистами, так что социальную историю
практически можно назвать социалистической. Что касается либеральной
историографии панъевропейского движения как революции вообще,
то все шедевры Токвиля появились незадолго до и вскоре после 1848 г.,
вследствие чего данный период по праву заслуживает названия
весны «стасиологии». Помимо двух приведенных примеров,
комментарии по поводу событий 1848 г. заложили основу всей современной
социальной науки. Стремление Огюста Конта найти «позитивную»
науку об обществе является продуктом подъема, который привел к
1848 г.; Герберт Спенсер анализирует его последствия. Макс Вебер в
конце века дает ответ Марксу, а его современник Эмиль Дюркгейм -
наиболее серьезный и успешный наследник Конта. Хотя немногое из
их творчества прямо связано со страшными конвульсиями,
потрясавшими Европу в середине века, все оно посвящено индустриальному,
демократическому и беспокойному миру, который возник в
результате этих конвульсий. Неудачная революция 1848 г. даже яснее, чем
1789 г., возвестила о наступлении эры массовой политики и
беспрерывных социальных изменений, которую в XX в. будут именовать
современностью, модерном2.
257
Революция против реставрации
Первая характерная особенность событий 1848 г. - тот факт, что
это была революция не против издавна установленного порядка, а
против его реставрации, причем не только в национальном
масштабе, в лице режима в одной Франции, а на международном уровне, в
виде политики Европейского концерта (термин, появившийся после
1815 г. именно для обозначения новой, консервативной сути
сообщества). Французская революция и наполеоновская империя
объединили Европу, хотя и жестоко; Энгельс, вслед за мадам де
Сталь, окрестил Наполеона «Робеспьером на коне», то есть
завоевателем, который принес революцию всей Европе. Реставрация 1814—
1815 гг., таким образом, означала не просто возвращение Бурбонов во
Францию, а общеевропейский возврат к «старому режиму»
династической «легитимности». Тут, однако, существовал один важный
новый элемент: Российская империя являлась европейской державой
со времен Петра Великого, но теперь она как сильнейшая
континентальная держава возглавила Европейский концерт.
И все же так называемая Венская система и Священный союз,
созданный с целью дать ей религиозную санкцию, представляли собой
хрупкую по сути конструкцию. Если взглянуть на еще один яркий
пример европейской реставрации, Англию в 1660 г., можно понять
почему. Английская реставрация была приемлемой и даже желанной
для большинства элементов общества; и все равно в 1680-е гг. она
потерпела крах, потому что корона не хотела жить по новым
конституционным правилам. А реставрация 1814-1815 гг. оказалась обречена
с самого начала, так как с ней не соглашались ключевые элементы во
Франции, и ее крушение в этой стране автоматически ставило под
угрозу всю международную Венскую систему, тем более непрочную,
что держалась она главным образом на военной силе двух своих
самых отсталых членов - Австрии и России. Возможно, даже
австрийский канцлер Меттерних видел в системе, которую сам и придумал,
не больше, чем операцию с рискованными вкладами. И
действительно, еще в 1817 г. в спокойной до тех пор Германии реставрация
получила вызов на националистическом Вартбургском празднестве,
посвященном трехсотлетию лютеровской Реформации.
Европейская реставрация пала жертвой трех поочередных
революционных волн. Первая поднялась в 1820-1821 гг. в виде ряда
конституционалистских мятежей в Южной Европе: в Испании,
Италии и Греции. Эти восстания были организованы небольшими
группами заговорщиков из интеллектуалов и армейских офицеров.
В Испании такая элитарная группа носила название Los Liberales, и
258
во многом благодаря ей слово «либерал» вошло в широкий оборот
по всей Европе. В Италии подобные «либералы» действовали через
иерархические тайные общества «карбонариев» - форма
организации, корнями уходившая в прежнее антинаполеоновское
сопротивление. Карбонаризм затем распространился и во Францию, где
в довольно обширном заговоре участвовала и такая «звезда», как
Лафайет, являвшийся также лидером парламентских либералов. В
Германии тогдашние студенческие братства (Burschenschaften)
симпатизировали либеральным взглядам, хотя никогда не
предпринимали попыток политических акций. В 1825 г. элитистский
революционный либерализм проявил себя даже в далекой России, в неудачном
декабрьском восстании, участников которого стали именовать
«декабристами». Хотя все восстания 1820-х гг. закончились плохо, они, тем
не менее, показали, что реставрация долго не продержится.
Наконец, она дала трещину в результате революции 1830 г.
В июле во Франции пала монархия Бурбонов, что спровоцировало
либеральную революцию в Бельгии, а в ноябре - крупное национально-
освободительное восстание в русской Польше. Бельгийцы упрочили
свою независимость от Голландии, и отныне их государство служило
моделью конституционной монархии для остальной Европы. Поляки
были разгромлены русскими, благодаря чему их дело стало
священным для международного революционного движения, а русский царь
Николай I получил прозвище «жандарма Европы». Поддерживая
Пруссию и Австрию, Россия представляла собой главный оплот
европейской реакции. Поэтому для передовой, демократической части
Запада дальнейшая либерализация Европы автоматически означала
войну с Россией, а может быть, и с Австрией.
1848 г. привел оппозиционные силы, которые наращивали мощь
с 1830 г., к общеевропейскому взрыву. В феврале и марте почти все
страны Европы, кроме Великобритании и России, сотрясла цепная
реакция революций, бои на баррикадах заставили существовавшие
монархии согласиться на учреждение конституционных собраний в
Париже, Вене, Милане, Праге и Берлине. Таким образом, в 1848 г.
сценарий 1830 г. повторился в европейском масштабе.
С идеологической точки зрения карбонаризм 1820-х гг.
также запустил процесс развития, достигшего кульминации в 1848 г.
Изначально основным требованием всех движений против
реставрации были «принципы 1789 г.». Конкретно этот исходный
конституционный либерализм означал представительное правление,
гражданское равенство и индивидуальные права. С 1789 г. и 1793 г.
соответственно появились два антагонистических варианта
данного кредо. Первый - конституционная монархия, основанная на из-
259
бирательном праве с имущественным цензом, которое допускало к
участию в политике только состоятельных и образованных граждан.
Второй - республика, основанная на всеобщем избирательном праве
Для мужчин. После 1830 г. эта формула получила название
«демократия» - термин, со времен Платона обычно подразумевавший
господство толпы.
1815-1848 гг. показали вдобавок, что границу, очерчивающую
«pays légal» («юридическую страну», население, участвующее в
политике), нельзя с помощью имущественного ценза защитить от «pays
réel» («подлинной страны»), лишенной избирательных прав. По
мере того как усиливалось до 1848 г. политическое брожение времен
Июльской монархии, стало ясно, что границу политического участия
не может сохранить и республика со всеобщим избирательным
правом, ибо помимо формальной демократии политической республики
есть или должны быть полное равенство и братство социальной
республики, «социальная демократия», как ее впервые назвали деятели
1848 г.
Постоянная эскалация принципов 1789 г. отразилась в эволюции
+ерминологии того времени. В 1820-е гг. лозунгом людей доброй
воли был либерализм в духе конституционной монархии. В 1830-е гг.
Лозунгом авангарда стала республика, неизменно понимаемая как
Всеобщее избирательное право или «демократия». Правда, новое и
пока довольно туманное учение - социализм - предложило еще
более совершенную форму демократии. В 1840-е гг. идея республики
Продолжала господствовать, но зарождающийся социализм уже
испытывал давление со стороны нового авангардного идеала -
коммунизма с его красным знаменем, старым символом 1791 г. Хотя в
строгом смысле он подразумевал конец частной собственности и полную
коллективизацию общества, на практике люди использовали это
слово фактически как синоним «социализма», и здесь мы последуем их
примеру.
Проблема социализма
Что именно мы должны понимать под «социализмом»? За два
прошлых века данный термин использовался для характеристики
столь разных теорий, движений и режимов, что сам по себе стал
бессмысленным. Он приобретает смысл только в историческом
контексте, а поскольку остальная часть этой книги посвящена
социалистическим революциям и режимам, все написанное ниже будет также
попыткой популярно объяснить, что такое социализм. Процесс
выяснения можно начать с его появления в истории.
260
Эта первая проблема не столь существенна, но с ней так часто
сталкиваешься, что игнорировать ее невозможно. Многие
авторитетные личности, включая выдающегося социалиста Карла Каутскогр,
прослеживают историю социалистической идеи до таких источников,
как Платон, «Деяния апостолов», Кампанелла и Томас Мор. Хотя
этот обычай возник как попытка современных социалистов
обзавестись славной генеалогией, он также подразумевает, что социализм -
универсальная идея или вечная истина, которая в конце концов
приняла форму конкретного движения с появлением промышленного
пролетариата. Однако почти все перечисляемые, как правило,
ступени данной генеалогии имеют лишь самое поверхностное сходство с
какой-либо реальной формой социализма.
Платон, в частности, ничего общего с социализмом не имел. Сут|>
социализма - в равенстве, в то время как идеальный город Платону,
хоть и организован как коммуна, имеет свою иерархию и элиту.
И хотя его патриции-«хранители» не обладают собственностью, но
мелкие ремесленники полиса фактически обладают. Апостольский
коммунизм первых христиан - также плохая аналогия, поскольку он
существовал лишь в рамках небольшой группы верующих, а
современный социализм предназначен для всего общества. Иногда поиск
предшественников все-таки дает исторически плодотворные
результаты, как случилось, например, с Каутским, когда он, распростившись
с «Республикой» Платона, начал историю социализма с Арнольда
Брешианского, еретика XII в., который, как показано выше3,
действительно имел связи с настоящим социальным движением. Однако э
целом коллективистские утопии прошлого были всего лишь
спекулятивными идеями*, и использование их для объяснения
происхождения социализма неисторично в корне.
Второе превратное представление имеет гораздо более важное,
даже фундаментальное значение, поскольку отражает точку зрение
большинства социалистов на истоки их движения. Они считают, что
социализм родился как реакция рабочего класса на промышленный
капитализм. Однако подобное утверждение ставится под сомненир
первым же примером, призванным его доказать, - английской
промышленной революцией. Ведь логично предположить, что там, где
больше промышленности, должно быть больше социализма. На
практике при зарождении социализма дело обстояло иначе: Британия
была родиной передовой индустрии, но, хотя социализм существовал
там в форме оуэнизма, его не сравнить с разнообразным
социализмом Франции, которая тогда отставала в промышленном развитии.
В Британии рабочий класс ответил на индустриализацию чартизмом,
движением за политическую, а не социалистическую реформу. Грубо
261
говоря, это различие обусловлено разной политической историей
двух стран. Ниже об этом будет сказано подробнее; здесь достаточно
отметить, что не существовало прямой корреляции между
индустриализацией и социализмом, когда последний впервые появился.
К 1800 г. и Франция и Англия явно вместе находились на
передовой перемен, ведущих к современности, в связи с чем нужно дать
определение их отношениям. Историки долгое время утверждали,
что современную эпоху открыли совместно французская
политическая и английская промышленная революции. И опять-таки: то,
что кажется очевидным, может ввести в заблуждение, поскольку от
этого практического наблюдения всего один шаг до соединения двух
параллельных процессов национального развития в единый
исторический процесс. Примечательный и когда-то весьма влиятельный
пример - концепция «двойной революции» Эрика Хобсбаума,
согласно которой французское политическое и английское
экономическое развитие функционируют как разные грани одной революции
модерна5. Коротко говоря, они стали дополнением к «буржуазной
революции» марксизма в панъевропейском масштабе. Сам Энгельс
фактически прямо сказал почти то же самое. В примечании к
переводу «Коммунистического манифеста» он заявил: «Как типичный
пример экономического развития буржуазии здесь берется Англия, а ее
политического развития - Франция»6, - не сознавая, что подобное
утверждение косвенно подразумевает, будто английская
индустриализация породила французскую революцию в 1789 г.
Однако в действительности сравнение процессов,
происходивших в Англии и Франции около 1800 г., показывает, что это
экономическое и политическое развитие шло не в тандеме, а не совпадая по
фазе. Таким образом, столь соблазнительная, но обманчивая картина
«двойной революции», по сути, прячет важную историческую
проблему: почему для современной истории характерно несовпадение
экономического и идеологического развития или, если угодно,
прогресса капитализма и социализма? Задача историка - объяснить это
несовпадение, а не отмахиваться от него, прибегая к уверткам вроде
«двойной революции». Оно показывает, что корни социализма
следует искать не столько в экономическом, сколько в политическом
развитии. Так мы и сделаем. Конечно, больше об этом важном
вопросе будет сказано, когда речь зайдет о востоке, где он приобретет
особую актуальность. В данный же момент примем за установленный
факт, что главной ареной раннего социализма была Франция, и
попробуем объяснить возникновение социализма господствовавшими
там условиями.
Эти условия созданы, в сущности, поздним Просвещением и
революцией. Фактически первым росткам того, что можно с доста-
262
точным основанием назвать современным социализмом, дала жизнь
атака Руссо на неравенство. В середине XVIII в. на Просвещение
рационалистическое и научно ориентированное пошло в наступление
Просвещение сентиментальное и моралистическое, связанное
прежде всего с именем Руссо. Когда ощущение уступило место чувству,
а разум - интуиции, жалость к слабым и сочувствие ко всем легли
в основу зарождающейся демократической гражданской религии,
согласно которой все люди - одновременно граждане и братья. Эта
новая религия считала неравенство величайшим грехом против
природы и человечества и, следовательно, источником всех пороков в
организации общества. Хотя у самого Руссо подобные убеждения лишь
изредка сопровождались мыслью о необходимости отмены частной
собственности, такой вывод был логичным, и некоторые из его
учеников, в частности Мабли и Морелли, опубликовали действительно
коммунистические утопии.
Но это все оставалось на уровне идей, первый же импульс к
созданию социалистического движения дала сама революция, точнее, ее
неудачи. Революция со столь экзальтированными идеями, как
принципы Первой республики, не могла обойтись без неудач, вернее,
разочарований. Ведь свобода, обещанная в 1789 г., стала реальной лишь
для меньшинства, достаточно богатого, чтобы сделать ее таковой, а
равенство, превозносимое санкюлотами в 1793 г., оказалось еще
более уязвимо для экономических сил, неподвластных народу. Пока
шла якобинская революция, она еще могла отражать эти угрозы
идеалам республики, создавая иллюзию окончательного успеха. Однако в
1794 г. с падением Робеспьера иллюзии развеялись, и «народ»
столкнулся с реальностью: революция ничего ему не дала. Граждан
олицетворяла лишь буржуазия, и возникла новая система неравенства, не
менее тираническая, чем «старый режим».
Осознание этого породило при Директории, когда в Париже царил
настоящий экономический кризис, «заговор равных» Бабёфа с
первыми наметками идеологии, которая впоследствии получила
название коммунизма. Листовка, в большом количестве экземпляров
распространенная среди населения Парижа в апреле 1976 г., начиналась
фразой: «Природа дала каждому человеку право на владение равной
долей всей собственности». Однако «заговор равных» задушили в
зародыше при помощи правительственных агентов, внедрившихся в
организацию Бабёфа, а ее лидера вместе с несколькими соратниками
в мае 1797 г. гильотинировали7.
Тем не менее современный социализм, при всем уважении к его
эгалитарным предшественникам, остается движением, которое
возникло, лишь когда сам термин «социализм» вошел в употребление
263
в 1830-е гг.; назвать что-то «социалистическим» можно только в том
случае, если оно имеет какую-либо прямую связь с последующими
движениями, действительно использовавшими это название.
Чтобы определить его сущность в первом приближении,
давайте посмотрим, что социализмом не является. С этой точки зрения,
социализм в первую очередь - отрицание некоего явления под
названием «капитализм». И вместе с тем - ожидание того, что должно
последовать за этим отрицанием.
Собственно, данная пара терминов с самого начала
существовала в виде антитезы. «Социализм» появился раньше, выйдя из-под
пера Пьера Леру в 1831 г., сразу после установления «буржуазной
монархии» Луи-Филиппа, основанной на избирательном праве с
имущественным цензом. Тогда он означал, что республика со
всеобщим избирательным правом, за которую ратовало основное течение
оппозиции, - не тот идеал, для настоящего равенства людей
необходима определяемая по-разному социальная республика. Препятствие
на пути к социализму впервые окрестил «капитализмом» в 1850 г.
Луи Блан (использовавший это слово в нейтральном описательном
значении), но тогда термин не закрепился. Маркс, например, его не
использовал, говоря не о «капитализме», а о «буржуазном способе
производства» либо иногда о «капиталистическом способе
производства». Настоящая жизнь термина «капитализм» началась с 1869 г.,
когда в Германии его взял на вооружение Родбертус, употребляя в
качестве бранного слова в адрес общества, которое желал
уничтожить. Популярность такого употребления росла в Германии до конца
столетия (в более передовых политиях Франции и Англии она была
меньше). Под растущим нажимом левых
монархически-либеральные германские академические круги попытались смягчить
антитезу, сделав капитализм предметом научных исследований. Так
появились «Современный капитализм» Вернера Зомбарта в 1902 г. и
«Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера в 1904 г.8
Следует, однако, отметить, что их в 1899 г. опередил труд Ленина
«Развитие капитализма в России», который представлял собой не
агитационный памфлет, а хорошо аргументированную научную
работу, которая могла быть легально напечатана в Российской
империи. В чем же состояла дихотомия социализма/капитализма, чьи
сторонники одерживали верх на протяжении XX столетия?
Обычно считается, что это - антитеза экономических систем.
В таком случае социализм означает общественную (или
коллективную, или социальную, или коммунальную) собственность на средства
производства и распределения и общее распоряжение ими, а
капитализм - частную или индивидуальную собственность на те же эко-
264
номические инструменты и индивидуальное оперирование ими.
В рамках этого стандартного определения из словаря последующий
советский эксперимент подчеркнул также важнейшее различие
между государственным планированием и свободным рынком.
Однако другие распространенные представления об антитезе
социализма/капитализма осложняют картину. Если перейти от
экономики к истории, то две системы, как правило, рассматриваются
как противоборствующие формы индустриального общества. С этой
точки зрения, чем больше капитализма, тем больше должно быть
социалистического давления. Предполагается, что социализм -
политическая идеология рабочего класса, а экономический либерализм -
естественная философия «капитала» или «буржуазии». Некогда
знаменитый и влиятельный социолог Карл Мангейм, доводя подобный
грубо эмпирический редукционизм до крайности, без тени сомнения
именовал марксизм «пролетарской мыслью», как будто такое
сочетание самоочевидно9.
XX в. остался в прошлом, и нельзя сказать, чтобы эти
исторические допущения подтвердились. Напротив, попытки «построить
социализм» совершались чаще в отсталых аграрных обществах, нежели
в развитых индустриальных. Кроме того, промышленные рабочие
отнюдь не всегда хранили верность универсалистскому социализму,
партикуляристский национализм имел равные, если не
преимущественные шансы завоевать их расположение. А с тех пор как в 1920-
1930-е гг. были обнаружены ранние рукописи Маркса, мы слишком
много знаем о метафизических основах его системы, чтобы
принимать ее за «пролетарскую мысль».
Все это свидетельствует, что социализм - не просто
экономический проект или логическое следствие промышленного развития.
В сущности, вышесказанного достаточно, чтобы показать, что
социализм - проект тотальный, нацеленный на выход за пределы
имеющегося в настоящем общества и создание абсолютно нового мира и
нового человека. Другими словами, социализм - не что-то, существующее
или существовавшее в реальности, а утопия. Поэтому в дихотомии
капитализма/социализма, которую мы обычно используем,
рассуждая о современной политике, две стороны антитезы не симметричны,
не равны онтологически. Они также не обозначают ни сопоставимых,
хотя и конкурирующих систем социальной организации, ни в равной
степени возможных политических курсов или альтернатив. Скорее,
они обозначают реально существующий в настоящем (и, конечно,
скверный) порядок и его воображаемую (разумеется, идеальную)
будущую альтернативу. Тем не менее вот уже почти два столетия, и
особенно в XX в., мы ведем речь о капитализме и социализме как об
265
одинаково реальных исторических формациях, между которыми
может выбирать общество.
Назад к 1830 году
Французская Реставрация была недолговечна по двум причинам.
Во-первых, она наступила, потому что Франция потерпела
поражение в войне; Бурбонов, «вернувшихся в обозе союзников», стране
навязали. После славной эпохи Наполеона «легитимная» монархия
воспринималась как унижение. Во-вторых, ликвидировать
грандиозные перемены, произошедшие с 1789 по 1815 г., не представлялось
возможным, а их интеграция в систему реставрированной монархии
только подтачивала новую структуру. В итоге и гражданское
равенство 1789 г., и Кодекс Наполеона, и Конкордат, и
административный аппарат империи остались неизменными, большинство
государственных служащих сохранили прежние места. В политической
сфере Людовику XVIII, брату Людовика XVI, хотя он и претендовал
на божественное право королей, пришлось принять
конституционную хартию, которая предусматривала представительное собрание и
значительную свободу слова - уступки, теоретически «дарованные»
(octroyées) наследным монархом, но фактически необходимые, если
Бурбоны не хотели потерять шансы править страной. В течение
пятнадцати лет режим Реставрации раздирало противоречие между его
династическим и революционным наследием.
С одной стороны, в палате депутатов, несмотря на строгий
имущественный ценз, сильно ограничивавший число избирателей (до
нескольких сотен тысяч из 30-миллионного населения), возникла
оппозиция, преданная принципам 1789 г. В лице таких историков,
как Тьер и Гизо (чьи работы здесь уже упоминались), «либералы»
выступали за конституционную монархию английского типа, с
парламентом, избираемым на основе имущественного ценза. С другой
стороны, монархия после квазилиберального начала все больше
благоволила своей естественной клиентеле - старой аристократии,
вернувшимся из-за границы эмигрантам и церкви. В 1820-е гг. альянс
«трона и алтаря» настойчиво стремился возродить наследие
«старого режима», в ответ громче заявляла о себе либеральная оппозиция.
Наконец, в июле 1830 г., когда после роспуска палаты королем
либералы одержали победу на новых выборах, король, воспользовавшись
предоставленным ему хартией правом издавать ордонансы, к
которому прежде не прибегал, совершил попытку настоящего
государственного переворота. Он распустил новую палату, еще сильнее ограничил
избирательные права, ужесточил законы о печати. Парламентские
266
либералы во главе с Тьером заявили публичный протест, парижский
рабочий класс (один) откликнулся и пошел на баррикады. Ранее
монархия расформировала национальную гвардию как ненадежную,
а теперь выяснилось, что армия не в состоянии вести уличные бои.
После трехдневных перестрелок восстание победило без
кровопролития. Карл X отрекся от трона в пользу 9-летнего внука -
либералов, естественно, такое решение не устраивало.
Встал вопрос, будет ли новый режим конституционной
монархией с младшей ветвью Бурбонов, Орлеанским домом, на троне или
республикой с народным суверенитетом. Триумфаторы июльских
событий, парижские рабочие, хотели республики, однако либералы,
в основном принадлежавшие к среднему классу, желали превратить
июль во французский 1688 г. и тем самым упрочить наконец наследие
1789 г. в умеренной форме. Либеральные лидеры уговорили
прославленного Лафайета, который на самом деле стремился к республике
вашингтонского образца, поддержать воцарение Луи-Филиппа,
герцога Орлеанского, как безопасный средний путь: создание
конституционной монархии под триколором, на условиях старой хартии,
немного пересмотренной. Королевское право издания ордонансов
отменили, число обладателей избирательных прав увеличилось на
250 тыс. чел., включив ту буржуазию, которая, как длительное время
доказывал Гизо, являлась классом, выковавшим нацию при «старом
режиме» и совершившим прорыв 1789 г. Так был установлен режим,
с гордостью именовавший себя «буржуазной монархией», с
самопровозглашенным «королем-гражданином», который носил титул
не «короля Франции», а «короля французов». Ключевой проблемой
французской политики отныне стал вопрос, сможет ли страна жить
с такими несочетаемыми критериями легитимности. Как мы знаем,
1830 г. не превратился в 1688-й, он даже не помог решить, сумеет ли
Франция пережить новый 1789 г. без нового 1793 г.
Рабочее сопротивление и социалистическая агитация
после 1830 года
В 1832, 1834 и 1839 гг. в Париже и Лионе имели место
кровавые рабочие стачки и полувосстания. Рабочие, убежденные, что у
них украли июльскую победу, продолжали требовать республики и
всеобщего избирательного права. В качестве основной тактики они
предпочитали прямую демократию уличных акций, как в 1793 г., а в
качестве формы организации - тайное общество, как во времена
«заговора равных» Бабёфа в 1796 г. Этот квазиреволюционный нажим
рабочего класса подействовал на всю политическую систему.
267
Прежде всего, он создал предпосылки для возникновения
социализма как движения в 1830-х гг. Еще больше ударной силы
приобрела социалистическая литература 1840-х гг. Не существовало четкой и
прочной границы, которая отделяла бы социалистическую традицию
от республиканской или даже бонапартистской: все они произошли
от революции. Революция всегда выступала за свободу и равенство,
а в 1840-е гг. вышел на первый план и третий лозунг - «братство»
(в 1790-е гг. звучавший реже). Три лозунга объединились в новую
троицу, «свобода, равенство, братство», ставшую официальным
девизом ожидаемой новой республики.
По большей части социализм двух десятилетий,
предшествовавших 1848 г., классифицируется как утопический. Такое определение
впервые дали ему Маркс и Энгельс в негативном смысле, но оно уже
давно сделалось каноническим10. Этот социализм по преимуществу
не являлся революционным. В сущности, его идеалом было
достижение гармонии между социальными классами, а не классовая борьба.
Социалисты-утописты предлагали позитивные решения: те или иные
схемы обеспечения гармонии, прогресса, равенства, объединения,
экономической безопасности и т. д. посредством добровольной
реорганизации общества, то есть кооперативов производителей или
потребителей (Оуэн и Фурье), и государственной поддержки рабочих
(«организация труда» и «общественные мастерские» Блана) -
дальних предшественников «государства всеобщего благосостояния»;
технократического усовершенствования общества (сенсимонисты);
бесплатного кредитования рабочих, открывающих собственное дело
(Прудон и Оуэн). Большинство этих схем в действительности
оказались непрактичными, и лишь немногие из них, помимо
кооперативного движения, дали какие-то результаты. Тем не менее все они
заостряли внимание на «социальном вопросе», и в их основе лежала
мысль, что политической республики со всеобщим избирательным
правом недостаточно, чтобы сделать людей свободными, равными
и братьями, нужна социальная республика с некоей организацией
экономики. Таким путем принцип 1789 г. и республиканский идеал
плавно переходили в социализм и, следовательно, в отрицание
господства буржуазии, установленного в 1830 г. Мы снова видим, что
истоки современного социализма лежат в политической и
идеологической традиции, созданной «буржуазной революцией» 1789 г.
Ситуация продолжала радикализироваться. Реставрация
породила поток либеральной политической литературы. Июльская
монархия - расцвет республиканской теории и развитие
социалистической. В популярнейшей «Демократии в Америке» Токвиля
неизбежно (и намеренно) поднимался вопрос о перспективах демо-
268
кратии в Европе. Как мы наблюдали, в 1847 г. появилась масса
исторических работ, идеализировавших революцию, не только 1789 г.,
но и Первую республику 1792 г. (за исключением террора): книги
Мишле, Ламартина, Луи Блана и других авторов11.
Революция laissez-faire
Социализм получил очень широкое распространение в период
экономического кризиса «голодных сороковых», наиболее
впечатляющим примером которого, пожалуй, служит голод 1846-1847 гг.
в Ирландии. В то время голод и депрессия, каковые уже отмечались
в 1788-1789 гг. во Франции и в 1565-1566 гг. в Нидерландах,
приняли поистине исключительные масштабы. Одна из причин глубины
кризиса, помимо плохой погоды, заключалась в господствовавшей в
то время идеологии laissez-faire, свободной конкуренции. Laissez-faire
представляла собой не просто «буржуазное» требование, а одно из
направлений атаки Просвещения на «старорежимный» абсолютизм
с его меркантилизмом и камерализмом, то есть этатистской
политикой поддержки экономического развития. «Просветители» считали
свободный рынок более эффективным и продуктивным, чем
государственный протекционизм. Эту идеологию разрабатывали Адам
Смит и физиократы в передовых государствах и горячо
приветствовал просвещенный деспотизм в более отсталых странах. Первыми
ее победами стали такие меры, как Англо-французский договор о
свободной торговле 1788 г., закон Ле Шапелье 1791 г., запретивший
«ассоциации», а также британский «Акт против синдикатов» 1801 г.
Кампания против «старорежимных» цехов и гильдий как сговора,
препятствующего торговле, логически вытекала из новой идеологии.
И все это с наступлением первой великой депрессии современности
в 1815 г., по завершении наполеоновских войн, создало проблему
массовой безработицы и «пауперизма». Для обозначения «пауперов»
использовался и другой неологизм - «пролетарии». Их бедственное
положение составляло основную суть социального вопроса и сильно
заботило социалистов-утопистов. И Роберт Оуэн, и Шарль Фурье
начали критиковать новое рыночное общество в революционные и
наполеоновские годы. Злейшего врага оба видели в конкуренции, а
выход - в кооперации. Иными словами, экономическим стимулом к
социализму служила не фабричная система как таковая, а анархия
рынка и сопутствующая ей социальная незащищенность12. В
сочетании с французской революционной традицией это питало
неистощимый источник современного социализма. Французская буржуазная
монархия являла особенно вопиющий пример нового рыночного
269
общества и была тем более уязвима, что не имела надежной
легитимности в виде принципов 1789 г.
Сегменты буржуазии, принадлежащие к среднему классу,
сформировали либеральную оппозицию в палате депутатов и в прессе. Их
газета «Националь» агитировала за «реформу», то есть расширенное
избирательное право и запрет государственным функционерам
служить в парламенте. Иными словами, эти либералы ни республики,
ни демократии не хотели. Газета «Реформ» была смелее, предлагая
подумать о республике со всеобщим избирательным правом. Однако,
после того как июльский режим окончательно стабилизировался,
в 1840-е гг., король и его премьер-министр Гизо, дольше всех
продержавшийся на этом посту, упорно противились реформам, хотя
даже минимальное снижение ценза привлекло бы основную массу
буржуазии, которая, естественно, поддержала бы существующий
режим. Откуда такая непреклонность? Одна из причин - теории Гизо
по поводу 1688 г., исторической роли буржуазии и доктрина
господства «les capacités» (лиц, имеющих дипломы высших учебных
заведений)13. Ограничение участия в «представительном правительстве»
кругом состоятельных и образованных людей либералы того времени
считали нормой. Еще одна причина заключалась в стремлении Гизо
стабилизировать политическую ситуацию, неспокойную с 1830 г.,
даже с 1815 г. Учитывая сложившиеся во Франции условия и
обаяние 1789 г., подобная осторожность могла показаться разумной.
Однако в свете тех же самых условий ставка на благоразумие
оказалась проигрышной.
Провал 1848 года во Франции
Все эти революции шли примерно по одному пути. Общая
черта событий 1848 г. - они везде начинались не с созыва ассамблеи, а
с выступлений городского плебса. Такая внезапная радикальность,
однако, пугала гражданское общество, и в результате 1848 г.
повсюду быстро обернулся триумфом консерватизма. Это единственный
раз, когда консерваторам удалось победить в большой революции.
Романтическая эйфория весны 1848 г. сменилась крушением надежд в
конце года, затем возрождением демократических сил в начале 1849 г.
и окончательным их разгромом силами порядка в 1850-1851 гг.
Первая ожидаемая революция в Европе, таким образом,
продемонстрировала неожиданный сценарий поражения. Но столь досадный
оборот событий не положил конец политике ожидания. Неудача, по
крайней мере в радикальных кругах, скорее, усилила потребность
в ожидании нового революционного ответного удара. Второе при-
270
шествие 1789 г. теперь должно было одновременно быть вторым,
успешным пришествием - реваншем - 1848 г. Злополучная
Парижская коммуна 1871 г. в значительной мере и стала таковым. Потому-
то к 1888 г. на смену традиционному революционному гимну
«Марсельеза», присвоенному «буржуазной» республикой, пришел
новый гимн - «Интернационал», написанный на стихи, сложенные
в 1871 г.
К падению Июльской монархии привело давление среднего
класса, добивавшегося избирательной реформы, вкупе с народным
республиканством, которое ныне повернуло в сторону
социалистических ожиданий. В феврале 1848 г. оппозиция среднего класса
устроила ряд публичных митингов под видом банкетов. Когда Гизо не дал
разрешения на одно из таких мероприятий в радикально
настроенном Париже, рабочие возвели баррикады. Буржуазная национальная
гвардия отказалась встать на защиту монархии, и король вновь
отрекся в пользу малолетнего внука. На сей раз улица не дала обманом
отнять у нее победу. Редакторы «Националь» и такие депутаты, как
поэт Ламартин и радикальный республиканец Ледрю-Роллен,
отправились в «Отель-де-Виль» (парижскую ратушу) провозглашать
республику. Там мятежный плебс заставил депутатов включить в
состав Временного правительства Луи Блана и рабочего по имени
Альбер - социалисты впервые вкусили тогда политической власти.
Давно ожидаемая, но на деле неожиданная февральская революция
прошла гораздо более гладко, чем кто-либо мог мечтать. В течение
недолгих весенних месяцев казалось, будто во Франции может
повториться 1789 г. без 1793 г.
Легкая победа, однако, создала намного более радикальные
перспективы, чем желала страна. Поэтому история Второй республики
стала в основном историей ликвидации февральских завоеваний -
сценарий 1789 г. разыгрался наоборот. Великой революции
понадобилось четыре года, чтобы достичь максимального радикализма. 1848 г.
начался с максимально радикальной программы - республики на
основе всеобщего избирательного права с некоторыми чертами
социализма. От этой высшей отметки движение могло идти только вниз.
И главной причиной отступления послужил красный призрак
социализма, олицетворяемый парижской толпой.
Дабы уберечься от этой опасности, Луи Блану не дали
министерского портфеля, лишь поручили возглавить комиссию из рабочих и
работодателей для обсуждения социального вопроса. Данный орган
с помпой расположился в Люксембургском дворце, но не имел
никакой власти. В то же время «право на труд» получило номинальное
признание благодаря созданию национальных мастерских для безра-
271
ботных. На практике это означало назначение рабочих, среди
которых часто встречались искусные ремесленники, на черную работу, и
мастерские быстро превратились в плохо управляемую помощь
неимущим. Толпы безработных устремились в Париж; средний класс
с растущим негодованием относился к этому дорогостоящему
предприятию, боясь возможных беспорядков. Трудно, однако, сказать,
как можно было бы избежать столь взрывоопасной ситуации. С
одной стороны, рабочие создали республику, и с ними следовало
считаться; с другой стороны, сложившиеся условия позволяли только
изобразить видимость «государства всеобщего благосостояния».
Страна готовилась к серьезному столкновению между
плебейским Парижем и консервативной, по большей части крестьянской
Францией. С самого начала Ламартин, к разочарованию радикалов,
заверил европейские державы, что новая республика не пойдет в
революционный крестовый поход, как в 1792 г. Временное правительство
стремилось немедленно провести выборы в учредительное собрание,
чтобы стабилизировать ситуацию путем создания республиканского
противовеса парижской толпе. Толпа, естественно, старалась
оттянуть выборы, желая сохранить рычаг воздействия на правительство.
17 марта грандиозная демонстрация чуть его не сбросила. Однако
нажим радикалов привел к отсрочке неизбежных выборов только до
28 апреля. В результате вполне предсказуемо победили умеренные
республиканцы и тайные монархисты. Временное правительство
уступило место Исполнительной комиссии из пяти членов, ни один
социалист туда не вошел. В гневе и отчаянии парижские радикалы
15 мая под предлогом тяжелого положения в угнетенной Польше
ворвались в Национальное собрание, предприняв новую попытку
захвата власти. Правительство арестовало Бланки и других видных
лидеров радикалов, одновременно готовясь к неотвратимому
теперь противоборству с Парижем. В конце июня оно распорядилось
перевести национальные мастерские в провинцию. Теперь уже
плебейские восточные кварталы Парижа с отчаяния подняли бунт,
прибегнув к излюбленному средству - баррикадам. Правительственные
войска под командованием опытного республиканского
генерала Кавеньяка (его отец был членом Конвента) ждали наготове.
Последующая городская война продлилась три дня и унесла жизни
7 тыс. чел. Кавеньяк де-факто стал диктатором, пока собрание
составляло текст конституции.
В результате «июньских дней» понятие классовой борьбы,
впервые пущенное в ход либеральными историками периода Реставрации
для описания судьбы их предков при «старом режиме», приобрело
новое, более современное значение. Оно стало обозначать конфликт
272
буржуа и пролетария в демократической республике. Таким образом,
первый урок «обратной революции» 1848 г. гласил, что
фундаментальное требование политической демократии, всеобщее
избирательное право, может на деле быть консервативным институтом.
Этот вывод прекрасно подтвердился завершением
революционного года: избранием 10 декабря президентом республики Луи
Бонапарта. В соответствии с французской революционной
традицией конституция создала однокамерный законодательный орган,
избираемый всеобщим голосованием. Однако, поскольку при
якобинцах такое устройство подготовило почву для диктатуры, конституция
добавила к нему пост президента, также избираемого всеобщим
голосованием, по американскому образцу. Основными кандидатами в
президенты были лидер партии «Горы» Ледрю-Роллен (370 тыс.
голосов), классический республиканец Кавеньяк (1448 тыс. голосов) и
племянник Наполеона Луи Бонапарт (5434 тыс. голосов).
Маркс в блестящем памфлете «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта», как известно, объяснил победу последнего с помощью
социологического аргумента: дескать, крестьянство («мешок с
картофелем») соблазнилось личностью племянника, так как
помнило, что дядя обеспечил ему права на землю. На самом деле тут
сыграли роль причины не социального, а политического характера и
даже чистая случайность. К концу 1848 г. крестьянству, да и
вообще большинству населения Франции, хотелось порядка и
устранения «красной» угрозы парижских беспорядков. Конечно, этого мог
бы добиться и Кавеньяк. Но Бонапарт был еще лучше, ибо его имя
обещало, помимо порядка, национальную славу после тусклых
десятилетий Реставрации и буржуазной монархии. Так что к победе
Луи-Наполеона привели политическая конъюнктура и
идеологическая магия имени - вкупе с наличием возможности попасть в
список кандидатов, поскольку учредительное собрание не снизошло до
того, чтобы преградить представителям бывших династий путь в
политику. Не все крестьяне голосовали за него, и не все его избиратели
являлись крестьянами. Многие крестьяне голосовали за «красного»
Ледрю-Роллена, а многие рабочие - за Бонапарта.
Ввиду столь неблагоприятного дебюта встал вопрос, будет ли
новая республика работать. В 1849 г. экономический кризис
миновал, и началась долгая эра процветания. Но страх перед социальной
демократией по-прежнему был велик, и 13 мая «партия порядка»
одержала полную победу на выборах в новый законодательный орган
республики, причем открытые монархисты, орлеанисты и
легитимисты, получили больше голосов, чем умеренные республиканцы. В то
же время и радикальные республиканцы, «социал-демократы», как
273
их сейчас именуют, набирали силу. Окрыленные успехами, 13 июня
левые вышли на улицу в массовой демонстрации протеста против
интервенции правительства в Римскую республику в защиту папы.
«Партия порядка» и принц-президент истолковали эту
демонстрацию как попытку переворота (в которую она вполне могла
превратиться, как 15 мая предыдущего года). Они приняли против левых
крутые меры, поставив условием для предоставления права голоса
трехлетнее проживание на одном месте, что исключало из числа
избирателей огромную массу рабочих, вынужденных постоянно
переезжать. Избирательное право, формально оставаясь всеобщим,
фактически стало ограниченным. Таким образом, поляризация общества
на правых и левых, столь ярко проявившаяся в июньские дни, нашла
долговременное политическое выражение в расколе между социал-
демократами и буржуазной республикой.
После устранения из политической игры левых радикалов,
республика превратилась в арену соревнования между
принцем-президентом и монархической партией порядка, и в этой борьбе все
козыри держала на руках исполнительная власть. Луи-Наполеон
сначала попытался пойти правовым путем - заставить собрание
изменить конституцию и разрешить ему переизбрание на второй срок
сразу вслед за первым. Когда попытка не удалась, он, будучи
главнокомандующим вооруженными силами, устроил государственный
переворот (собственно, именно с тех пор это понятие вошло в
современный политический словарь). 2 декабря 1851 г., в годовщину
победы Наполеона I под Аустерлицем, его племянник объявил, что
«Собрание распущено, а всеобщее избирательное право
восстановлено», сделав себя президентом пожизненно. Через год он провозгласил
себя императором. Виктор Гюго окрестил его Наполеоном Малым и
отправился в изгнание. Карл Маркс назвал этот новый брюмер
последним актом «фарса», начавшегося в феврале 1848 г., и отошел от
активной политической деятельности, дабы найти законы истории,
которые обеспечат «красным» победу в следующий раз14.
Схема действий в 1848-1849 годах
Важнейшая особенность 1848 г. во Франции, Пруссии, Австрии
и различных итальянских государствах заключалась в реализации
сценария 1789-1793 гг. в обратном порядке. События начинались с
победы крайнего левого фланга тогдашнего политического спектра,
устанавливалась республика со всеобщим избирательным правом и
признаками социализма, а затем все этап за этапом смещалось
вправо, заканчиваясь реставрацией и усилением монархии, легитимной
274
или бонапартистской. Маркс чутко уловил инверсию
революционных ожиданий, заметив, что люди 1789-1804 гг. подражали древним
римлянам, а люди 1848-1852 гг. - своим предшественникам в 1789—
1804 гг.
В сущности, и Гюго, и Маркс были правы, утверждая, что
главная причина провала революции - бремя исторической памяти. Все
участники событий 1848 г. в попытке оживить 1789 г. (в виде возврата
к республике 1792 г. или повторения первоначальной драмы на более
высоком уровне социальной демократии), заранее предвидя
определенные им роли, тем самым автоматически изменяли характер новой
драмы, которую они переживали. Парижский плебс - по большей
части внуки санкюлотов 1793 г., - пытаясь возглавить
революционные действия, преждевременно напугал умеренных республиканцев
и толкнул их избирателей в ряды монархической партии порядка.
Кроме того, левые в 1848 г. забыли, что, в отличие от 1789 г., уже
нет достоверной правой угрозы, которая сплотила бы левый плебс и
буржуазию, социалистов и республиканцев. Правые монархисты -
орлеанисты и легитимисты - были слишком слабы для такой роли,
а благодаря одновременному краху «старого режима» в Австрии и
Пруссии исчез из виду и призрак международной реакции. В
подобных обстоятельствах настоящие реакционные силы могли опереться
на прошлое, рядясь в революционные одежды. Так консервативные и
монархические приверженцы порядка первыми объявили себя
умеренными республиканцами. Так и Бонапарт незаметно подобрался к
остальным игрокам, не встретив особого сопротивления с их стороны.
У него это получилось тем легче, что он вполне убедительно мог
делать вид, будто защищает самую суть революционной демократии -
всеобщее избирательное право, и на данном основании даже
претендовать на некоторую близость к сенсимонистам и другим
пропагандистам социального вопроса. Короче говоря, основное объяснение
неудачи революции заключено в самом эффекте ожидания,
обращении к старым формулам в новой ситуации.
Английская «контрольная проба»
В середине XIX в. условия в Англии и во Франции были
похожи, как никогда. В обеих странах господствовала конституционная
монархия, и промышленность находилась на раннем этапе развития.
И все же... возникли разные политические обстоятельства в силу
различного хронологического соотношения революции с процессом
образования современного государства в каждой из стран. Английская
олигархическая революция XVII в. создала политический механизм,
275
позволивший Англии мирно переварить потрясения
индустриализации (точнее, маркетизации), тогда как Французская революция
XVIII в. породила радикально-эгалитарную политическую культуру,
которую не могла обуздать либеральная, но классовая
конституционная монархия. Потому индустриализация со свободным рынком в
Англии привела к чартизму, а ранний индустриализм во Франции -
it радикальному республиканству с примесью социализма
«государства всеобщего благосостояния».
Германия, Центральная Европа и национализм
Для Германии 1848 г. стал гораздо более значительным
событием, нежели для Франции: это был германский 1640-й или 1789 г. -
фолько неудачный. Главная задача в связи с 1848 г. в Центральной
Европе - объяснить, почему «великая революция» впервые не
привела к классическому конституционному результату. Отчасти причина
кроется в некоторых особенностях, выделяющих 1848 г. в общей
последовательности европейских революций; другую причину можно
йайти в институциональных и культурных особенностях Германии и
Центральной Европы15.
' По первому пункту следует сказать, что 1848 г. стал первым
всецело сознательным революционным опытом Европы. Мы видели, что
английская революция, когда она только начиналась, не
воспринималась как таковая; но в ходе ее развития быстро пришло понимание
истинной природы происходящего. К 1799 г. Франция и вся Европа
уже хорошо знали сценарий драмы «великой революции». Еще одной
«неумышленной» революции нигде в Европе больше не могло
произойти. Вследствие этого в феврале-марте 1848 г. все потенциальные
действующие лица начавшейся драмы знали или думали, что знают,
предназначенные им роли. И это обстоятельство во многом
объясняет отмеченную ранее стремительную инициативу городской толпы.
В Париже умышленно делали февральские дни повторением 1830 г.
и еще более великих 1789-1793 гг. А мартовские дни в Милане, Вене,
Праге, Будапеште и Берлине представляли собой не менее
умышленный и прямой отклик на парижский февраль. Однако
предвидение природы предстоящего события может исказить и нарушить его
Действительный ход - в 1848 г. так и получилось. Как сказано выше,
йо-первых, сознательный и преждевременный радикализм городской
толпы сразу отпугнул гражданское общество, заставив его занять
более консервативную позицию, чем во время предыдущих
«великих революций». Пим и Лафайет долго думали, что смогут держать
толпу под контролем, а Франкфуртский парламент с самого начала
276
понимал, что не сможет, и потому даже не пытался ею руководить.
Во-вторых, консерваторы, особенно дворянство, тоже извлекли урок
из 1789 г.; они тоже знали сценарий и ждали своего часа, не покидая
короля в тяжелую минуту, пока гражданское общество не начинало
раскалываться, в особенности из-за социального вопроса и
городского насилия (тогда как английские и французские дворяне, по крайней
мере вначале, полагали, что выиграют от революции больше всех и
станут естественными вождями нации, когда власть будет вырвана у
короля).
Непоколебимый консерватизм дворянства в 1848 г. подводит
нас к вопросу об институциональных и культурных особенностях
Германии и Центральной Европы. В данном отношении стоит
вспомнить, что выше говорилось о решающем значении для успешной
«великой революции» предпосылки в виде сильного национального
фокуса и в качестве иллюстрации сравнивались революционная Англия
и просто мятежная Голландия. В Центральной Европе
институционализированного национального фокуса не было, только военная
монархия Гогенцоллернов в северной Германии и Габсбургов в Австрии
и Италии. Зато на всей этой территории, в отличие от Голландии
XVI в., существовало подлинное, современное национальное
сознание. Именно конфликтом между национальным сознанием и
институциональными рамками наднациональной династической и
военной монархии в первую очередь объясняется провал 1848 г.
Это национальное сознание представляло собой явление нового
типа в европейской истории. Уже указывалось, что
западноевропейский национализм (в Англии и Франции) носил не этнический, а
политический характер: он означал членство или гражданство в
исторически-юридическом сообществе (под властью короны или нации - не
важно). Пример - и завоевания - французской революции заставили
всю зарейнскую Европу приноравливаться к западной концепции
национального сообщества, ныне выражавшей себя в сокрушительно
динамичной форме массовой мобилизации революционных граждан
с оружием в руках. Однако французское политическое
определение нации не отвечало институциональным реалиям Центральной
Европы. В результате немцы, не без помощи романтизма,
выработали новую концепцию национального существования: Volk
(народ), объединенный по этническим и лингвистическим признакам.
Определяемая таким образом национальность рассматривалась как
культурная предшественница политико-институциональной нациц,
духовная матрица, по которой создается нация. Затем
этнолингвистическую концепцию национальности переняли итальянцы,
славяне, венгры; и не случайно революция в 1848 г. (за исключением осо-
277
бого случая Франции) охватила исключительно ту часть Европы, где
политико-институциональную нацию еще предстояло построить, но
этнолингвистический национализм был уже полностью развит.
Реорганизация Центральной Европы в политические единицы по
этнолингвистическим признакам означала бы абсолютное
уничтожение монархических систем Гогенцоллернов и Габсбургов (а не просто
их захват нацией, как произошло с английской и французской
монархиями): Пруссия влилась бы в Германию, Австрия распалась бы на
части. Но каждая из двух монархий опиралась на военную
аристократию и гражданскую бюрократию, которые мыслили не
этнолингвистическими, а династическими категориями и не желали
собственного уничтожения. Поэтому прусская и австрийская аристократия не
примкнула к революции даже в ее эйфорический начальный период,
когда царило почти полное единодушие. Благодаря такой
преданности прусский и австрийский монархи всегда имели под рукой
боеспособную армию, которой так недоставало Людовику XVI после
взятия Бастилии.
Национальный вопрос в Центральной Европе также (наряду со
страхом перед городской толпой) гасил революционный пыл
гражданского общества. Отчасти это выражалось в перенаправлении
революционной энергии с ограничения власти прусского короля на
второстепенные, больные для националистов вопросы (например,
о Шлезвиг-Гольштейне), что лишний раз настраивало Англию и
Россию против германской революции. Выражалось это и в том, что
либеральное гражданское общество, нуждаясь в армии прусского
короля, чтобы отобрать Шлезвиг-Гольштейн у датчан (а возможно, и
припугнуть Австрию), не дерзало выступать против него слишком
смело. Наконец, главенство национального вопроса разделяло
немцев со славянами и венграми, тогда как им всем следовало бы
действовать сообща, если они хотели победить прусский и австрийский
истеблишмент.
Результатом указанных обстоятельств стала так называемая
прерванная революция. После мартовских дней и первоначальной
капитуляции короля Франкфуртское национальное собрание и
Берлинский ландтаг вели себя так, словно победили, и, по обычаю
«великой революции», взяли на себя законодательные функции.
Однако продолжавшиеся среди городской толпы волнения и
возрастающая неоднозначность отношения гражданского общества к
происходящему развязали королю руки. В конце года он двинул свою
армию из Потсдама и приструнил берлинскую чернь. Это
лишило франкфуртское и берлинское собрания оружия против короля.
Теперь они могли принимать какие угодно конституции, но не имели
средств провести их в жизнь. В следующем году король распустил
278
оба собрания и отверг плоды их работы. Верховенство королевской
исполнительной власти было сохранено, король пошел только на
небольшую уступку в виде «дарованной» или «установленной»
конституции, согласно которой он оставался высшим сувереном.
После 1862 г. Бисмарк творчески развил и упрочил это решение.
Когда либеральное большинство прусского ландтага попыталось
расширить свои полномочия, отказавшись утвердить военный бюджет,
Бисмарк ответил политикой «легитимистского бонапартизма». На
примере Наполеона III он увидел, что всеобщее избирательное право
может быть использовано в своих целях консерваторами - так же как
национализм и политика социальной помощи. Поэтому он твердо
придерживался принципа превосходства королевской власти,
принимая в дальнейшем военный бюджет без его утверждения
парламентом. В то же время он дал германской нации все остальное, чего
она желала, в модифицированной форме: национальное единство, но
с помощью прусского оружия; всеобщее избирательное право, но без
ответственных министров и с классовым цензом в доминирующей
Пруссии; социальную помощь, чтобы усмирить городской плебс. За
счет такой «полусовременности» основные элементы «старого
режима»: монархия и аристократия - продолжали господствовать вплоть
до 1918 г.
В заключение перечислим еще раз общие черты революций 1848 г.
1. Все они начинались не с созыва представительной ассамблеи
(Генеральных штатов), а с прямых действий городского плебса.
2. «Баррикадные» революции легко победили весной 1848 г.,
поскольку не имели серьезных противников. В 1789 г. революция
совершалась против тысячелетней системы «двух мечей» и
двухсотлетнего успешного абсолютизма. В 1848 г. единственным ее противником
была недавняя и непрочная реставрация. Соответственно «система
революционных альянсов» работала против дальнейшей
радикализации. Весной 1848 г. конституционалисты из среднего класса приняли
революцию как свершившийся факт и затем попытались удержать ее
в конституционных рамках. Однако они не настолько боялись
возможной реакции, чтобы продолжать действовать заодно с плебсом.
В 1789 г. революция страшилась возвращения роялистов в союзе с
монархической Европой, поэтому ее лидеры нуждались в
воинственных санкюлотах. В 1848 г. все династии, за исключением российской,
оказались нейтрализованы одновременно; общеевропейской войны
не шло. Так что установка «слева нет врагов» роли не играла.
3. Соответственно после весны 1848 г. революцией двигал страх
перед «красными» и левыми. И это, разумеется, подготовило почву
для реакции нового типа: либо псевдодемократического и псевдосоци-
279
ального бонапартизма, либо аристократического легитимизма,
следующих сходной стратегии в сочетании с применением силы. Примером
может служить политика Шварценберга и особенно - Бисмарка.
4. С 1815 по 1848 г. существовал либеральный «Интернационал».
Умеренные либералы вроде Гизо ощущали солидарность с идейными
собратьями за границей. То же самое касается и либералов, не
чуждых демократии, как Милль и Токвиль, и радикальных демократов,
как Мишле, Ледрю-Роллен, Мадзини и Кошут. Очевидно, это верно и
в отношении социалистов: Бакунина, Маркса, Вейтлинга. Отметим, в
частности, роль «мученицы Польши» в мобилизации
либерально-радикального интернационализма. Этот «интернационал» считал
своими врагами дворы Вены, Берлина и Петербурга (особенно последний).
И эти интернационалисты с радостью приветствовали бы
европейскую войну под предводительством Франции за
освобождение Европы от Священного союза. Такие симптомы наблюдались в
1830 г., но Луи-Филипп предпочел мирную политику. Такие
надежды питали многие левые в 1848 г., но Ламартин продолжил
благоразумную традицию Июльской монархии.
5. В ходе революций 1848 г. возникновение национализма
разрушило либеральный «интернационал». В частности, цели
германцев противоречили целям славян (Познань и Богемия), а венгры
ссорились как с германцами, так и со славянами. Национализм
старых государств, Англии и Франции, не создавал столько проблем.
Итальянский национализм меньше сталкивался с другими
националистическими претензиями.
6. Период с 1815 по 1848 г. был по преимуществу эпохой
романтизма. Либерализм, национализм и социализм выражали себя в
лирической и романтической манере. С этим связан также царивший тогда
обычай изобретать специфические новые светские «религии»,
которые одновременно считались «научными». Сама идея революции
стала рассматриваться и как религиозно-искупительная, и как научная.
7. Спектр революционных программ включал конституционную
монархию на основе избирательного права с имущественным
цензом, республику на основе всеобщего избирательного права
(радикализм), некие формы экономической «ассоциации» (социализм), а в
самой левой части - эгалитарный коллективизм или коммунизм.
8. Революция везде проходила одинаковый путь: за братством и
эйфорией весны 1848 г. следовало открытое столкновение буржуазии
и плебса (летом или ранней осенью), а к концу года - откровенный
триумф партии порядка, хотя все еще в конституционалистской
форме. Затем эта умеренная реакция вызывала новую атаку радикалов
весной 1849 г. И под конец новый вызов приводил к тому, что
проблема надолго разрешалась авторитарными методами.
10
МАРКСИЗМ ИII ИНТЕРНАЦИОНАЛ, 1848-1914
Философы лишь различным образом объясняли
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.
Карл Маркс (1845)
Карл Маркс был немецким философом.
Лешек Колаковский (1978)
Великий парадокс революции 1848 г. заключается в том, что, не
достигнув ни одной из своих целей - ни
демократически-республиканской, ни национальной, ни социалистической, - она
оставила более притягательное идеологическое наследие, нежели
успешная революция 1789 г., которой она пыталась подражать. Это
наследие, конечно, марксизм. Без него всю последующую
европейскую политику, а в особенности русскую революцию, и вообразить
было бы нельзя.
Первое послание Маркса миру содержалось в «Манифесте
коммунистической партии», опубликованном накануне февральской
революции 1848 г. в Париже. В то время его почти никто не заметил.
Больше внимания Марксу начали уделять только после 1864 г., после
основания Международной ассоциации трудящихся, известной под
названием I Интернационала, где он был одним из лидеров; а сами
его идеи вызвали интерес лишь после выхода в свет первого тома
«Капитала» в 1867 г. По-настоящему знаменитым, однако, его
сделала Парижская коммуна 1871 г., за которую все правительства Европы
не вполне заслуженно винили Интернационал и его мнимые происки.
Как общественное явление, таким образом, Маркс и его доктрина
относятся к последней трети XIX в. Речь идет о Марксе - «Дарвине
социальной науки», как сказал Энгельс над его могилой в 1883 г., о
Марксе-экономисте, писавшем о «внутренних противоречиях»
капитализма, которые обрекают его на гибель: трудовой теории
стоимости, изъятии прибавочной стоимости, уменьшении нормы
прибыли на капитал и т. д.
Но это не тот Маркс, чьи идеи привели к реальной революции.
Патрон всех революций XX в. - молодой Маркс-философ 1840-х гг.
281
Диалектика отрицания и созидания, принцип самообогащающегося
отчуждения, которые заложили фундамент экономических законов
позднего Маркса, родились в период от его приезда в Париж в 1843 г.
до выхода «Манифеста» пять лет спустя. Нас интересует именно этот
Маркс, поскольку разработанная им историческая схема послужит
средством переноса милленаристских ожиданий 1848 г. в XX
столетие. Этапы данной исторической схемы, наряду с социологией,
лежащей в ее основе, показаны в приложении I. Здесь же нам необходимо
проследить, каким путем Маркс пришел к своим теориям.
Общий социализм
Благодатнейшей почвой для теорий, предсказывавших
революцию, стала «буржуазная монархия» 1830-1848 гг. во Франции. Уже
отмечалось, что именно проблемы этой интерлюдии между двумя
революциями привели Токвиля к формулировке его политической
социологии демократии как движущей силы современного мира.
Если развить данную мысль несколько иными словами, можно
сказать, что главным источником, питавшим политику его времени,
служило социальное неравенство. В глазах тех, кого впервые стали
тогда обобщенно называть «левыми», социальный вопрос, а не
классовый либерализм премьер-министра Гизо, представлял собой
настоящее наследие «великой революции». С их точки зрения,
политическая республика 1792 г. оказалась явно не способна содействовать
освобождению человечества, а конституционная Июльская
монархия 1830 г. - тем более. Следовательно, для выполнения
демократических обещаний 1789-1792 гг. необходима социальная республика.
Точнее, отмена юридического неравенства «старорежимного»
общества «сословий» фактически не сделала людей равными гражданами,
лишь обнажила новую несправедливость - социальное неравенство,
основанное на частной собственности. Чтобы достичь подлинной
справедливости и равенства, требовалось некое перераспределение
богатства и собственности. В итоге ультралевые выдвинули идею
«социализма» как исторического этапа, следующего за либеральным
конституционализмом, и кульминации человеческой эмансипации.
Общий, исходный социализм не обязательно был
революционным, но на родине 1789 г. принимал все более радикальный характер
по мере приближения 1848 г. Это объяснялось тем, что Франция
являлась единственной европейской страной с живой революционной
традицией, опиравшейся на самую радикальную форму Просвещения
XVIII в. Как отмечено в гл. 9, первый «набросок» революционного
социализма возник непосредственно в результате «великой револю-
282
ции», в виде «заговора равных» Бабёфа в 1796 г., затем бунтарская
традиция через Филиппе Микеле Буонарроти перешла к поколению
1830-х гг., дальше ее подхватили Огюст Бланки с Арманом Барбесом
и, наконец, Карл Маркс.
Следует подчеркнуть, что колыбелью зарождающегося
социализма стала Франция, хотя в соответствии с распространенным тезисом,
что социализм - движение промышленного пролетариата, ею должна
была стать Англия, экономически более передовая, нежели ее
соседка. Однако, несмотря на кооперативы Роберта Оуэна, социализма в
Англии почти до конца века особо не наблюдалось. Там
существовали зачатки рабочего движения, возникшего накануне 1848 г. в форме
чартизма. Заслуга его создания принадлежит самим рабочим,
которые ставили во главу угла политическую борьбу за всеобщее
избирательное право, желая добиваться социальной реформы с помощью
представительства в парламенте. Таким образом,
конституционалистское наследие 1640-1688 гг. сгладило остроту радикализма в
Англии, столкнувшейся с вызовом промышленной революции.
Иными словами, различия между Францией и Англией в период
созревания социализма объясняются не социально-экономическими
условиями, а идейно-политическими традициями. Этот момент стоит
подчеркнуть вдвойне, ведь, начиная с Маркса, его мало кто признавал.
В примечании к переводу «Манифеста коммунистической партии»
Энгельс указал, что они с Марксом взяли Англию как «типичный»
пример экономического развития «буржуазии», а Францию - как
столь же «типичный» пример ее политического развития. Правда, он
не заметил, что выводить французскую политику из английской
экономики нелогично, - элементарная ошибка, весьма
распространенная и по сей день1. Но, если не признать, что социализм не является
классовым сознанием промышленных рабочих, нельзя понять его
историческую роль, особенно когда речь идет о России.
Социалистическая идея, в отличие от рабочего движения, на
протяжении всей своей истории оставалась тем же, что и в момент
рождения при Июльской монархии: идеологическим прогнозом, как
лучше всего осуществить переход от сословного и/или классового
общества к полностью эгалитарному. Социализм являлся логической
кульминацией «демократии» в понимании Токвиля - «равенства
условий» или социального уравнительства. Занимались таким
прогностическим теоретизированием главным образом не сами трудящиеся
классы, хотя иногда и выходцы из них становились
социалистическими лидерами, как, например, Вильгельм Вейтлинг, Пьер-Жозеф
Прудон и Август Бебель. В основном социалистическая теория и
политика (опять-таки в отличие от рабочего движения) была вотчиной
283
интеллектуалов, о чем свидетельствуют часто цитируемые изречения
Карла Каутского и В. И. Ленина2. А главным примером данного
феномена служат, безусловно, сами Маркс и Энгельс, чья прогностическая
теория революции к концу века заменила все прочие. Поскольку эта
теория дала обоснование Красному Октябрю и всем его свершениям,
здесь необходимо рассмотреть ее основные компоненты. Анализ
будет ревизионистским, так как наши обычные представления о
марксизме вряд ли помогут нам понять его парадоксальную роль в России.
Генезис марксизма
Обычно марксизм считают общественнонаучной теорией,
предназначенной для анализа развитого индустриального общества. Тот
факт, что ее автор был родом из отсталой тогда Германии и в юности
почитывал Гегеля, якобы не имеет значения. В конце концов,
большую часть зрелых лет он провел в Британском музее, работая с
самыми современными английскими данными. Однако если мы
посмотрим на историю возникновения его доктрины, то увидим обратную
причинно-следственную цепочку: Германия и Гегель будут
первичны, а передовые западные данные станут иллюстрацией к основному
(априори существующему) направлению мысли.
Сейчас уже всеми признано, что фундаментальные координаты
системы Маркса заложены в главном творении времен его
гегельянской молодости - «Немецкой идеологии», написанной 26-летним
автором в 1845-1846 гг.3 и опубликованной только в 1932 г. В этой
работе Маркс преобразил философскую и идеалистическую теорию
логики истории в социально-экономическую и материалистическую
версию диалектического и агонистического пути человечества к
вершинам свободы и самореализации.
Вкратце социологические координаты Марксовой системы в
момент зарождения таковы: «разделение труда», возникшее вследствие
борьбы человека с природой за существование, привело к дегумани-
зирующему классовому неравенству, а обусловленная им
эксплуатация человека человеком в один прекрасный день пробудит среди
рабочих революционное «сознание» и тем самым подготовит взрыв,
который закончится эгалитарным «коммунизмом». «Манифест»
1848 г. представляет собой переложение этого пророчества в
лозунговые формулы, пригодные для политической агитации; «Капитал»
1867 г. - «научное» объяснение внутренних противоречий
«буржуазного способа производства», ведущих к коммунистическому взрыву.
Этот последний труд Маркса давал возможность толковать его в
«позитивистском» ключе, отсеивая метафизику первых набросков систе-
284
мы, - такое прочтение и легло в основу «ортодоксального»
марксизма II Интернационала.
Однако сначала система формулировалась не как теория
капитализма в целом; она возникла как сценарий грядущей германской
революции. Молодой Маркс неоднократно говорил, как ему
«стыдно» за «средневековую» отсталость Германии, и надеялся, что
будущая революция вознесет ее на один уровень с Францией и Англией.
Однако, поскольку Франция уже совершила свою «буржуазную
революцию» и теперь копила силы для ее социалистического
продолжения, Германии не требовалось повторять 1789 г. Полагаясь на
ожидаемый социалистический взрыв в Париже, она могла сложить
буржуазную и пролетарскую революции воедино; на подобный
подвиг она была способна еще и потому, что в одной области -
рациональной философии - шла впереди всего Запада. Именно в таком
свете 25-летний Маркс по прибытии в Париж в 1843 г. видел роль
Германии в приближающейся революции: «Немцы размышляли в
политике о том, что другие народы [то есть французы и англичане]
делали. Германия была их теоретической совестью»4.
Затем он наметил предполагаемый революционный Sonderweg
для Германии: «В чем же, следовательно, заключается
положительная возможность немецкой эмансипации? Ответ: в образовании
класса, скованного радикальными цепями, такого класса
гражданского общества, который не есть класс гражданского общества; такого
сословия, которое являет собой разложение всех сословий; такой
сферы, которая имеет универсальный характер вследствие ее
универсальных страданий и не притязает ни на какое особое право, ибо над
ней тяготеет не особое бесправие, а бесправие вообще... Этот
результат разложения общества, как особое сословие, есть пролетариат».
Базовый принцип социализма, таким образом, заключается в том,
что последние станут первыми, причем только «последние», в силу
самой их деградации, представляют собой класс, который способен
освободить человечество. Следовательно, пролетариат определяется
как универсальный класс, единственный, чьи собственные интересы
совпадают с общечеловеческими.
Национальная отсталость - форма бытия «последних». Поэтому
и она может послужить стимулом стать «первыми» - авангардом
эмансипации человечества: «Единственно практически возможное
освобождение Германии есть освобождение с позиций той теории,
которая объявляет высшей сущностью человека самого человека.
В Германии эмансипация от средневековья [то есть старого режима]
возможна лишь как эмансипация вместе с тем и от частичных побед
над средневековьем [то есть французского и британского конститу-
285
ционализма с имущественным избирательным цензом]. В Германии
никакое рабство не может быть уничтожено без того, чтобы не было
уничтожено всякое рабство... Эмансипация немца есть эмансипация
человека».
Последний принцип социализма состоит в том, что он
представляет универсальный разум в социальной форме: «Голова этой
эмансипации - философия, ее сердце - пролетариат. Философия не может
быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата,
пролетариат не может упразднить себя, не воплотив философию
в действительность». Дальше перекидывается мостик в сторону
Франции: «Когда созреют все внутренние условия, день немецкого
воскресения из мертвых будет возвещен криком галльского петуха»5.
В этой работе 1843 г. обычно усматривают «открытие Марксом
пролетариата». Однако пролетариат, о котором в ней говорится, - не
столько социальная, сколько метафизическая категория, о реальном
рабочем классе Маркс в то время почти ничего не знал. Позже,
разумеется, его пролетариат обрастет социально-экономической плотью
благодаря появлению трудовой теории стоимости, принципа
присвоения капиталистами прибавочной стоимости, закона возрастающего
«обнищания» и т. д. И все же Марксов пролетариат так и не
перестал быть в первую очередь «универсальным классом» человечества,
носителем мессианской миссии уничтожения всех классов, которому
судьбой предначертано стать искупителем грехов общества,
поскольку он в этом обществе самый дегуманизированный.
Но, вероятно, больше всего в этом «прамарксизме» поражает
определение пролетариата как избранного сосуда философии. Это,
разумеется, гегелевская философия, преобразованная Марксом в
исторический материализм под влиянием «Сущности христианства»
Людвига Фейербаха. Именно гегельянская составляющая системы
Маркса делает ее системой. Ни один английский экономист или
французский социалист-«утопист» не был способен создать что-либо
настолько систематичное, а потому особо притягательное, как раз
ввиду отсутствия (тут Маркс прав) «философского сознания».
Гегельянский компонент марксизма дает вдвойне мощный
эффект, поскольку это «сознание» не просто философское, но и оста-
точно теологическое. Хотя многие поспорят с таким суждением,
гегельянство не случайно называют «философской религией»,
трансформировавшей христианский провиденциализм в потенциально
рационалистические категории6. У Гегеля божественный разум
становится имманентным истории, эволюционируя через усложняющиеся
культурные формы человечества до абсолютного «самосознания»,
которое также есть абсолютная человеческая свобода. Однако разум
286
прогрессирует лишь за счет «отчуждения», диалектики, при которой
все формы бытия «опредмечиваются» или «отрицают себя» в
«противоположностях», создавая тем самым новые формы, более высокие и
богатые, чем их несовершенные предшественницы.
Маркс преобразовал гегелевскую метафизическую телеологию в
социально-экономическую: сменяющие друг друга все более
интенсивные «способы производства» преодолевают зависимость
человечества от слепых сил природы. Он секуляризовал диалектику,
превратив ее в диалектику «классовой борьбы», в условиях которой переход
людского рода к более интенсивным способам производства требует
все более эксплуататорских классовых отношений. Социальное
отчуждение является и самообогащающимся, поскольку порождает у
«угнетенных» сознание жестокой, но созидательной логики
общества, тем самым указывая на освобождение «в конце предыстории».
В этой агонистической эсхатологии пролетариат занимает самое
высокое положение, так как, будучи наиболее дегуманизированным
классом при наиболее интенсивном способе производства,
капитализме, он один может покончить со всякой эксплуатацией и отдать,
наконец, человеку полную власть над самим собой.
Таким образом, система Маркса состоит из двух основных частей,
не совсем совместимых. Во-первых, существует логика истории,
неизбежно ведущая человечество от рабовладельческого общества
через феодализм и капитализм к социализму. Этим продвижением
управляют объективные исторические законы, действующие
независимо от человеческой воли. Во-вторых, существует классовая
борьба, служащая движущей силой «закономерной» логики истории. Эту
борьбу питает «осознание» эксплуатации - идеологический фактор,
который привносит человеческую волю в объективный исторический
процесс. В теоретическом плане Маркс разрешил потенциальный
конфликт между объективной логикой и субъективным сознанием в
своей системе, сказав, что в момент исторической зрелости последнее
автоматически порождается первым в соответствии с
фундаментальной аксиомой исторического материализма, что «бытие определяет
сознание». Но, конечно, большой вопрос марксистской практики
заключается в том, всегда ли революционное побуждение к классовой
борьбе будет действительно совпадать со зрелостью объективных
исторических условий.
Еще сильнее испытывает на прочность систему Маркса
поставленная им конечная цель - социализм (или коммунизм, как
предпочитал говорить он сам). В общих чертах эта цель представляет собой
бесклассовое и безгосударственное общество - анархическая
программа, вступающая в противоречие с преимущественным акцентом
287
на «закономерность» истории. Хотя она заведомо неосуществима, не
будем совершать распространенную ошибку и отмахиваться от нее
как от маловажного заблуждения. Ленин, к примеру, принял ее
абсолютно всерьез, обосновывая диктатуру пролетариата в «Государстве
и революции». В сущности, это вернейший признак милленарист-
ских устремлений в основе как марксизма, так и ленинизма.
Но самое главное внутреннее противоречие марксизма -
взаимоотношение между данной утопической целью и предлагаемой
программой ее достижения, большая часть которой, в отличие от
самой утопии, может быть осуществлена. По Марксу, суть
социализма заключена в «отрицании» капитализма; такой «некапитализм»
подразумевает отмену частной собственности, прибыли, рынка и
даже денег. Все эти орудия эксплуатации должны быть заменены
рациональным планированием. А «отрицанием» «мелкобуржуазного»
мира единоличного сельского хозяйства и связанного с ним
«идиотизма деревенской жизни» станет рациональная коллективизация.
Детали этой программы довольно подробно изложены в
«Манифесте», выпущенном от имени гипотетической
«коммунистической партии». Цели коммунистов: сначала захватить политическую
власть, с тем чтобы «вырвать у буржуазии шаг за шагом весь
капитал», а потом «централизовать все орудия производства в руках
государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий
класс». Кроме того, все производство будет сосредоточено «в руках
ассоциации индивидов» с «учреждением промышленных армий, в
особенности для земледелия», и «общим планом». Короче, «коммунисты
могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение
частной собственности». То, что осталось неясным в «Манифесте», было
разъяснено в «Капитале», который представляет собой одну длинную
инвективу против «товарного производства ради обмена» (то есть на
рынок) и «запятнанного кровью» посредника в процессе получения
прибыли с целью накопления капитала - денег. Следовательно,
конкретная программа «эмансипации человека» у Маркса - тотальный
«некапитализм», и никак не меньше.
Необходимо настаивать на данном факте, ибо многие
комментаторы отказываются его признавать, утверждая, будто Маркс, в отличие
от социалистов-«утопистов», предлагал не картину будущего, а лишь
«научное» знание законов истории. Причина столь странной
близорукости, конечно, в том, что, как только Сталин реализовал эту самую
программу с помощью массового насилия, многие представители
Запада от нее отшатнулись, либо предпочитая верить, что
какой-нибудь другой большевик построил бы лучший социализм, либо
трактуя Марксову доктрину исключительно как критику капиталистиче-
288
ского общества, примером чему служит «марксизм без пролетариата»
Франкфуртской школы. Таким образом, еще одни важный вопрос
марксистской практики: приведут ли инструментальные средства
тотального «некапитализма» на деле к нравственным и рациональным
результатам?
И теперь стоит только его задать, чтобы увидеть: в системе Маркса
столько противоречий, что ее невозможно когда-либо претворить в
жизнь полностью. На это нужно обратить особое внимание, иначе
нельзя постичь историческую судьбу марксизма в России и Китае.
Неосуществимая доктрина неизбежно приносит поразительные
сюрпризы при попытке действовать в соответствии с ней.
Величайший сюрприз такого рода, несомненно, преподнес
Красный Октябрь. Часто говорят, будто большевистская революция
стала развиваться в направлении деспотизма, так как Россия «еще
не созрела для социализма» и ленинский вариант марксизма был
«неортодоксальным», очевидно, подразумевая, что если бы в России
следовали «ортодоксальному» марксизму, то революция прошла бы
по всем правилам. Но ни одна страна никогда не созреет для заведомо
неосуществимого социализма в Марксовом понимании.
То же самое относится к социализму в трактовке большинства
социал-демократов II Интернационала. Часто забывают, что
максимализм «Манифеста» Маркса (где о насилии, впрочем, прямо не
говорилось) стал доктриной ведущих партий Интернационала, как
только пользующиеся большим престижем германские
социал-демократы включили его в Эрфуртскую программу 1891 г., - тогда
впервые во главе крупного рабочего движения встали интеллектуалы-
марксисты. Правда, оказалось, что большинство партий, входящих в
Интернационал, не готовы действовать согласно своей официальной
доктрине, но они сами этого не знали до 1914-1918 гг.
Дилеммы II Интернационала
Внутренние несоответствия марксизма неизменно обострялись
в условиях разнообразных европейских «особых путей»,
различных комбинаций «старого режима» с индустриализацией. К 1870—
1880 гг. индустриальное общество с атлантического Запада
распространилось по всей Центральной Европе, а после 1890 г. пришло и
в Россию. Одновременно после трагического падения Парижской
коммуны в 1871 г. стало возрождаться социалистическое движение,
почти уснувшее в Европе с 1848 г. (Парижская коммуна 1871 г. не
означала настоящей революционной вспышки. Она представляла
собой последний вздох, случайность, причиной которой послужила
289
Франко-прусская война, и носила гораздо более якобинский и
патриотический, чем протосоциалистический характер. Но она оставила
после себя могущественный миф для «следующего раза».) В 1889 г.,
в столетнюю годовщину Французской революции, в Париже был
учрежден II Интернационал. И у постоянно увеличивающегося
мирового сообщества рабочих появилась перспектива увидеть столь
долгожданное пришествие социалистического 1789 г.
Вместе с тем всеобщее или почти всеобщее избирательное право
даже при псевдоконституционализме в Германии и Австрии
позволяло социалистическим партиям входить в парламент и содействовать
реформам, хотя и не «социалистическим», но все же приносившим
пользу рабочим. При подобных обстоятельствах, наконец,
сложилось крепкое профсоюзное движение. И эти изменения показали, во-
первых, что капитализм может не порождать растущее «обнищание»
рабочих, а, наоборот, повышать уровень их жизни, во-вторых, что
при проведении парламентской реформы необходимость революции
отпадает.
Кризис марксизма II Интернационала достиг наибольшей
остроты в противоречивых условиях Германской империи, которая
превратилась в европейского индустриального гиганта, оставаясь
наполовину «старым режимом». В 1898 г. Эдуард Бернштейн сделал
откровенно реформистские выводы из реальной практики
германской социал-демократии в течение десятилетия после Эрфурта. Он
заявил, что Маркс был неправ насчет обнищания и развития
революционного сознания среди рабочих, и заключил, что в социализме
«движение - все, цель - ничто»7.
«Ортодоксальное» большинство социал-демократов во главе с
Карлом Каутским вполне обоснованно осудили такую позицию как
«ревизионистскую». Каутский, впрочем, и сам кое-что пересмотрел,
утверждая, что в действительности парламентская демократия
стала заключительной стадией логического хода истории и социализма
можно достичь посредством выборов. Но следует подчеркнуть: под
«социализмом» Каутский имел в виду не то, что сейчас мы
понимаем как «демократический социализм» (государство всеобщего
благосостояния, обеспечивающее защиту «от колыбели до могилы»),
а Марксову максималистскую цель построения «некапитализма».
Поэтому ортодоксальную позицию лучше назвать программой
«эволюционной революции».
Отметим также, что эта революция предполагалась в
достаточно далеком будущем (социал-демократическая
«программа-максимум»), ибо не надо забывать: во времена Каутского Центральная
Европа непоколебимо оставалась псевдоконституционной. Непос-
290
редственной задачей социал-демократов (их «программой-мини-
мум») была борьба не только за улучшение жизни рабочих, но и за
демократию, которой «буржуазия» не добилась в 1848 г., - неудачу
усугубил тот факт, что при Бисмарке либералы Германии
отказались от своего «естественного» конституционалистского призвания
ради национального объединения под эгидой полуавтократической
Пруссии. Таким образом, на окольном германском «особом пути»
первоочередная роль марксизма заключалась в том, чтобы заявить
претензии на территорию демократии, от которой отказалась
буржуазия, и взять на себя лидерство в политической борьбе с политической
отсталостью Германии.
Именно эта двусмысленная доктрина «эволюционной
революции» в следующие полвека будет известна на Западе под
наименованием «ортодоксального марксизма». Надо отметить, что
«ортодоксальные» марксисты, даже обладая подавляющим большинством
в парламенте, никогда не осмеливались переходить к выполнению
своей программы-максимум. И они имели все основания для такой
сдержанности: экспроприации, необходимые для осуществления
социализма как «некапитализма», привели бы только к
сопротивлению и гражданской войне (наглядный пример - судьба Сальвадора
Альенде, верившего, что, получив 51 % голосов, сможет без боя
установить в Чили социализм в стиле Кастро). Поэтому на практике
теория эволюционной революции, отстаиваемая ортодоксальными
социал-демократами, оказалась столь же утопической, как изначальная
Марксова теория революционного «большого взрыва».
Поражение «ортодоксальному» марксизму II Интернационала
нанесла Первая мировая война. Во-первых, война окончательно
дискредитировала революционность социал-демократов Каутского. Ее
начало убедительно продемонстрировало, что они - не более чем
реформисты, притом ограниченные рамками патриотизма. А ее
окончание с разгромом Германии наконец привело этих «марксистов» к
власти в Веймарской республике, но теперь под началом профсоюзного
лидера и партийного бюрократа Фридриха Эберта, которого даже
реформистом вряд ли можно назвать. Тем не менее социал-демократы
продолжали настаивать, что их движение - единственно
правоверное, хотя к тому времени оно подозрительно напоминало
«мелкобуржуазную демократию», которую всегда порицал Маркс. И как только
программа-минимум социал-демократов, «буржуазная демократия»,
была без особых усилий достигнута благодаря падению монархии в
1918 г., их максимальная утопия испарилась, уступив место
реформизму в русле «государства всеобщего благосостояния». Однако
лишь в 1958 г. немецкие социал-демократы признали этот факт и
открыто отреклись от марксизма.
291
Первые шаги ленинизма
Произвести пересмотренную версию марксизма, которая,
оставаясь революционной, могла работать в реальном мире, выпало
третьему, провинциальному участнику ревизионистской полемики -
Ленину. Его дела подробно описаны в следующей главе. Однако его
теорию нужно рассмотреть здесь, в контексте породивших ее на свет
Дебатов во II Интернационале. Не стоит забывать, что существует
органическая связь между этой теорией и дальнейшей ленинской
практикой: как всегда настаивал родоначальник большевизма, «без
революционной теории не может быть и революционного движения».
Первым стимулом к деятельности Ленина послужила русская
форма ревизионизма, которую ее противники заклеймили как
«экономизм». Едва марксизм успел акклиматизироваться в России в
1890-х гг., как некоторые товарищи стали советовать рабочим
ограничиться экономическими требованиями и оставить опасную
политическую борьбу против самодержавия интеллектуалам. Подобная
программа отделяла рабочих от революционного движения, воплощать
Которое в жизнь, согласно Марксу, было их миссией. Такая «ересь»
заставила еще одного нетерпеливого молодого человека, 30-летнего
Ленина, сформулировать собственную теорию партии-авангарда.
При этом он, по сути, согласился с Бернштейном, что
экономическая борьба рабочих не пробуждает революционного сознания. Но,
не в пример Бернштейну, заключил, что цель - это все, а потому
движением к ней надо руководить. Ленинский рецепт против недостатка
сознательности у рабочих заключался в отказе от «стихийности» в
пользу «профсоюзного» реформизма. Он предлагал насаждать среди
пролетариата сознательность «извне», знакомя его с «научной»
революционной теорией. Ленин не уставал повторять: «Без
революционной теории не может быть и революционного движения». Подобная
Теория могла исходить только от интеллигенции, организованной в
партию профессиональных революционеров.
Суть разрешения кризиса, в котором оказался марксизм конца
йека, по-ленински заключалась в том, чтобы оставить доктрину
революционной, но ценой подчинения исторической логики идейной
«сознательности», или политической воле. Формально Ленин, конечно,
поставил Маркса с ног на голову, подчинив «бытие» «сознанию».
В действительности же он нашел единственное решение,
позволявшее «бытию» достичь кульминации в виде тотальной революции,
которую, по мнению Маркса, должна породить сама жизнь. Ленинская
теория партии восполнила недостающее звено в Марксовом
сценарии революции, отведя передовой интеллигенции роль единственной
292
силы, способной перевести социалистическую революцию в сферу
практики. Изложенное в работе «Что делать?» в 1902 г., когда Ленину
было всего 32 года, это решение кризиса марксизма на рубеже веков
привело к созданию партии большевиков, «партии нового типа», р
помощью которой он обещал «перевернуть Россию»8.
Безусловно, ленинская ревизия марксизма отвечала российскому
«особому пути» при «старом режиме». Россия
индустриализировалась ровно настолько, чтобы вызвать недовольство рабочего класса,
но при этом не улучшить сколько-нибудь существенно его долю. До
1906 г. там не существовало парламента, а до 1917 г. (когда стало ужр
поздно) - всеобщего избирательного права, то есть двух вещей,
необходимых, чтобы дать реформизму его главный шанс. Но
социологические особенности России - не единственная причина
возникновения ленинизма. Не менее важны внутренние несоответствия в самом
марксизме.
Поскольку невозможно реализовать всю марксистскую доктрину
целиком, ее адепты в конечном итоге вынуждены делать выбор между
ее компонентами. Бернштейн предпочел следовать логике истории,
которая при индустриальном обществе фактически ведет к
«государству всеобщего благосостояния». Но подобный выбор неизбежно
уничтожает марксизм, ибо «государство всеобщего благосостояния»
вряд ли нуждается в революционной доктрине. Собственно, первый
набросок подобного государства создал радикальный консерватор
Бисмарк, а более поздние версии - фабианцы и демократы «Новогр
курса». Каутский формально выбрал верность марксизму, однако нр
самом деле питал иллюзию, что логика истории демократическим
путем приведет к максималистской цели Маркса; в результате его
последователи де-факто оказались ревизионистами. Наконец, Ленин
выбрал верность Марксовой цели и принял меры, чтобы ее достичь,
поставив классовую борьбу пролетариата под руководство партии.
А чтобы отдать пальму первенства цели построения «некапитализма»
и добиваться ее во что бы то ни стало, необходимо быть марксистом.
Бесполезно спорить о том, какой из этих «марксизмов» является
«ортодоксальным» или истинно социалистическим, ибо в реальном
мире нет такой вещи, как истинно марксистский социализм. В
реальном мире есть только банальное, но удобное «государство
всеобщего благосостояния» или головокружительное, но пугающее
ленинское государство-партия. Стоит, однако, отметить, что из них двоих
лишь последнее реализовало представление Маркса о социализме
как «некапитализме». И сумело сделать это путем инвертирования
Марксовой логики истории и построения социализма в отсталом, р
не в развитом индустриальном обществе.
293
Марксизм, без ведома его создателя, с самого начала был призван
когда-нибудь привести именно к такому исходу. Ибо, родившись как
теория для преодоления отсталости Германии в 1840-е гг., он всегда
находил применение в основном в экономически и/или политически
отсталых странах.
До 1914 г. марксизм укоренился только в Германской империи,
Австро-Венгрии, «конгрессовой Польше» и в меньшей степени в
Италии. Сильнейшие социалистические партии II Интернационала
происходили оттуда, так же как и главные теоретики Интернационала:
Каутский, Роза Люксембург, Рудольф Гильфердинг, Отто Бауэр и,
конечно, Ленин и Троцкий (дальше на Западе Жан Жорес,
например, по духу был ближе к Мишле, чем к Марксу). Только благодаря
примеру русской революции, затем антифашизму и народным
фронтам 1930-х гг. марксизм впервые начал приживаться западнее Рейна,
иногда в виде массовых коммунистических партий и почти везде
среди интеллектуалов. После 1917 г. коммунизм распространялся
прежде всего в местах европейской колониальной экспансии; после
1945 г. только там, особенно в Восточной Азии, он самостоятельно
пришел к власти за пределами России.
Устойчивая корреляция марксизма вообще и коммунизма в
частности с политической и/или экономической отсталостью должна
бы вызывать большое любопытство у социологов. Но нет: проблема,
как правило, игнорируется, либо, еще того хуже, от нее
отделываются отговоркой, что отсталые страны «не были готовы к социализму»
и поэтому извратили марксизм. А следовало бы задать реальный
(и, стало быть, квазимарксистский) вопрос: в силу какой логики
марксизм приобретает социальную базу и актуальность
исключительно в отсталых регионах?
В общих чертах ответ заключается в том, что марксизм делает
капитализм заманчивым в двух аспектах: он оказывается самым
созидательным «способом производства» в истории и в то же время
необходимой предпосылкой для выхода за рамки этой эксплуататорской
истории посредством достижения социализма. В результате
интеллектуалы в отсталых странах обращаются к марксизму, желая
сначала подняться на уровень передового Запада, а затем - побить его
козыри, став социалистическим обществом.
Итак, единственный удачный продукт провалившейся
революции 1848 г. - марксизм - выступил в роли связующего звена между
французской и русской революциями, двумя узловыми пунктами
современной революционной традиции. Трансцендентальная немецкая
теория завершения французской революции спустилась на землю в
294
грубой практике русской революции. И в совокупности эти три
стадии идеологической эскалации дали нам базовые категории, с
помощью которых мы рассуждаем обо всех революциях9.
Именно это обстоятельство исказило наше восприятие
революции в России, поскольку мы упорно расцениваем ее либо как
исполнение сценария Маркса для социалистического 1848 г., либо как
измену ему. Однако предполагаемый сценарий германского 1789 г. «на
более высоком уровне» сработал в условиях российского «особого
пути» в 1917 г. не лучше, чем в первый раз во вступившей на свой
«особый путь» Германии в 1848 г. В результате ленинская
революция стала в одно и то же время и осуществлением, и предательством
идей Маркса: применение инструментальной программы марксизма
на практике обернулось отступлением от нравственного идеала
социальной справедливости, изначально одушевлявшего его систему.
Если бы Гегелю довелось стать свидетелем подобного исхода, он вряд
ли сильно удивился бы, ведь таково «лукавство разума» в истории.
Вызвала первую социалистическую революцию опять же не
динамика классовой борьбы, а политика - в форме влияния Первой
мировой войны на менее всего реформированный «старый режим»
Европы, Россию.
11
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
РЕВОЛЮЦИЯ РАДИ КОНЦА ВСЕХ РЕВОЛЮЦИЙ
Чем дальше на восток Европы, тем, в
политическом отношении, слабее, трусливее и подлее
становится буржуазия и тем большие культурные и
политические задачи выпадают на долю пролетариата.
П. Б. Струве. Первый манифест Российской
Социал-Демократической Рабочей Партии (1898)
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек...
Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос...
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост...
Вперед, вперед,
Рабочий народ!
- Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!
Трах-тах-тах...
...Так идут державным шагом,
Позади - голодный пес,
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз -
Впереди - Исус Христос.
A.A. Блок. Двенадцать (1918)
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
В. И. Ленин (надпись на памятнике
Марксу в центре Москвы)
Русская революция постоянно упоминается в этой книге, ибо
она отбрасывает длинную тень, влияя на наше понимание всех
предыдущих революций. Как XIX в. жил, словно под гипнотиче-
296
ским влиянием Французской революции, так и ленинский Октябрь
околдовал весь XX в. И, поскольку он являлся предполагаемой
конечной точкой человеческого прогресса (процесса, в начальной точке
которого стояли Гус и Жижка), предложенные им объяснительные
категории содержались, а зачастую и доминировали в историографии
любой революции со времен Гуса и Жижки.
Это понятно, но, к сожалению, те же чары господствовали над
историографией режима, порожденного Октябрем. Конечно,
партийная историография вигов и якобинцев в свое время тоже нередко
искажала смысл 1640 и 1789 гг., но Октябрь в этом смысле сделал
куда больше, так как историография русской революции
складывалась по ходу затянувшегося революционного процесса, которому та
положила начало. В результате она говорит нам о русской революции
примерно то же, что мы можем узнать о лютеранской Реформации от
Слейдана и Кохлея1. Советские историки работали в тисках
ограничений, неведомых западным коллегам. По сути, в вопросах широкой
интерпретации советская историография была служанкой
«историософской» идеологии государства и может рассматриваться как
подвид официальной идеологии. Поэтому американская и вообще
западная историография, посвященная России, всегда стояла особняком в
современной науке, так же как ее предмет - в современной культуре
и политике. О ней еще будет речь ниже2.
Собираясь говорить о русской революции, необходимо сначала
уточнить, что мы под этим понимаем. Для одних русская революция
означает десять октябрьских дней, которые потрясли мир3. Для
других - февраль-октябрь 1917 г., то есть восемь месяцев борьбы
большевиков за власть4. Для кого-то это 1917-1921 гг. - период, который
потребовался большевикам, чтобы добиться контроля над большей
частью бывшей Российской империи5. А для кого-то революция
начинается с 1917 г. и длится вплоть до выполнения миссии
Октября - построения социализма в начале 1930-х гг. И, наконец,
сторонники широкой перспективы называют так весь процесс перехода от
старого режима к новому - от революций 1905 г. до сталинской
«революции сверху» и террора 1930-х гг.6 Именно такое всеобъемлющее
определение будет использоваться здесь.
События 1905 г., без сомнения, представляли собой первую фазу
двух «революций» 1917 г., с той же монархией, теми же
политическими партиями и теми же основными действующими лицами. Февраль
окончательно разделался с монархией; относительно будущего,
однако, 1917 г. мало что решил. Октябрь лишь предоставил большевикам
шанс получить власть. Но до главных сражений Гражданской войны
297
в1918-1919гг. и параллельного установления диктатуры партии при
военном коммунизме не было уверенности, что они сумеют ее
удержать. А смысл «советской власти» оставался не в полной мере ясен,
пока Сталин не использовал ее для «строительства социализма» в
1930-х гг. Собственно, все последствия этого «социализма» проявили
себя только после его мгновенного краха в 1989-1991 гг.,
показавшего, что он, по сути, всегда являлся фальшивкой.
Поэтому здесь мы будем говорить о длительном процессе,
который шел с 1905 по 1991 г., рассматривая период с октября 1917 г. по
1939 г. как кульминацию русской революции, поскольку именно в те
годы формировались ее отличительные особенности: первый в мире
марксистский режим и первое «социалистическое» общество7. После
1939 г. это общество добилось больших успехов на международной
арене, однако на родине воодушевление времен его создания
превратилось в государственную догму.
Во всех этих аспектах русская революция представляет собой
аномалию в серии революций, рассмотренных нами к этому
моменту. Все остальные имели ясно определенные начало, середину и
конец, длились не более одного-двух десятилетий. В их случаях слово
«революция» относится к событию или быстрой последовательности
тесно связанных между собой событий. В России же происходящее
впервые приняло революционную форму во время волнений 1904—
1907 гг. И надо подчеркнуть, что это была не просто «репетиция
1917 г.», как потом заявляли большевики (в частности, Троцкий). Те
события представляли собой вариант европейской революции против
«старого режима», которую мы здесь называем «нормальной», вне
зависимости от того, совершилась ли она полностью, как во Франции в
1789 г., или прервалась на середине, как в Германии в 1848 г.
Россия пришла к собственной новой модели революции в два
этапа. Первый этап - революция 1905 г. - воспроизводил образец
«прерванной революции», которая уже имела место в Пруссии и
Австрии в 1848 г., то есть сокращенный классический сценарий
европейской революции, заканчивающийся
псевдоконституционализмом (Scheinkonstitutionalismus). Подобный исход обусловливался
тем, что монархия сохраняла контроль над вооруженными силами и
благодаря этому могла сопротивляться претензиям революционного
парламента на суверенитет.
В 1905-1907 гг. в России разыгрался один из вариантов такого
сценария. Ее псевдоконституционализм принял форму Государственной
думы, учредить которую самодержавие неохотно согласилось в
октябре 1905 г. Полномочия думы, однако, были ограничены сильнее,
чем у рейхстага при Бисмарке, и соответственно общественной под-
298
держкой она пользовалась меньше, чем парламентаризм в Германии.
Притом огромная масса недовольного крестьянства создавала в
России куда более взрывоопасную социальную ситуацию. В
результате, когда в 1917 г. наступил крах этого неустойчивого
полуконституционализма, Россия отказалась от обоих предыдущих европейских
образцов и вступила на собственный, беспрецедентный «особый
путь».
Но, повторим, перед тем как взять новый курс, Россия прошла
два этапа. В феврале 1917 г. под влиянием войны спящая русская
революция пробудилась и поначалу, казалось, нашла выход из
конституционного тупика благодаря победе левых
конституционалистов. Однако в октябре российский революционный процесс принял
оборот, уникальный в европейской истории, - ультралевые,
захватив власть, удержали ее; не случилось ни очередного термидора, ни
очередного Бонапарта. Как если бы якобинцы сохраняли власть над
Францией до 1863 г. (те же 74 года советской власти), тем временем
нивелируя существующее общество и заменяя его другим,
собственного изобретения. Таким образом, в случае России «революция» в
итоге стала означать не столько событие, сколько режим, и
превратилась (говоря словами ее мексиканского почти современника) в
«институциональную революцию» - словосочетание, до тех пор
представлявшее собой оксюморон.
В возникновении такой революции-режима, тем не менее, нет
ничего парадоксального. Оно логически вытекает из претензий
коммунизма на роль кульминации человеческого прогресса, конца истории,
за которым не может быть ничего, кроме контрреволюции и
«реставрации капитализма». Следовательно, коммунистическая революция
обязательно должна институционализироваться как режим, так как
она по определению призвана покончить с необходимостью
революции в дальнейшем. Ведь с наступлением коммунизма человечество,
наконец, будет «у цели».
Подобная претензия обусловлена еще одной аномалией
большевистского Октября: большевики впервые в истории «делали»
революцию в соответствии с четко сформулированной революционной
теорией. Разумеется, на ту или иную идеологию опирались все
предыдущие европейские революции, но ни одной из них не руководила
идеология истории как революционного процесса. А у большевиков
такая теория могла появиться только благодаря предшествующему
опыту остальной Европы.
Вспомним: хотя англичане определенно совершили революцию
между 1640 и 1660 гг., они никогда этого не признавали, а ее
конечный итог в 1688 г. расценили как реставрацию, тем самым практиче-
299
ски стерев память о радикализме своих действий из национального
сознания. Американцы прекрасно понимали, что их мятеж
представлял собой революцию, если не сам процесс, то, по крайней мере, его
результат, но в данном случае радикализм был немедленно заключен
в рамки стабильной конституционной системы и потому не привел к
возникновению культа революции как таковой. Французы устроили
революцию, настолько радикальную по сравнению с тысячелетним
опытом Европы, что она впервые явила себя всем как неумолимая
историческая сила. Именно их пример дал современному миру
образец революции как процесса, природной стихии, действующей
независимо от человеческой воли. С этих пор радикалы верили, а
консерваторы боялись, что история вершится путем революций -
«локомотивов истории», если воспользоваться метафорой Маркса.
Начиная с французской революции европейские левые могли
ожидать повторения сценария 1789 г. на более «высоком»,
прогрессивном уровне.
Российский «старый режим»
Что же конкретно произошло, когда весь накопленный багаж
европейской революционной традиции был выгружен в России?
В общих чертах большевики-ленинцы наконец осуществили марк-
совский сценарий социалистического 1848 г., совершив
национальную революцию против «старого режима» и ожидая, что тут же
последует взрыв на Западе. Однако сделали они это в условиях иного
«старого режима», отличного от западного, и на фоне местной
революционной традиции.
Российский «старый режим», самый молодой в Европе, являлся
также самым примитивным и жестоким. Простая военная
автократия, правление с помощью централизованной бюрократии,
услужливая церковь, закостеневшее двухклассовое общество помещиков и
крепостных крестьян (с минимальной купеческой прослойкой, да и
то располагавшейся не совсем посередине между ними), слабо
развитая светская культура - вот что представляла собой Россия,
которую Петр I к моменту своей смерти в 1725 г. сделал одной из пяти
великих европейских держав. Не совсем «армия с государством», как
называли тогда Пруссию, но все же государство, чья главная задача
заключалась в формировании армии, в которой офицеры-дворяне и
рекруты из крепостных служили фактически пожизненно и которая
содержалась за счет налогов с крестьян и купцов. К 1762 г. - началу
правления Екатерины II - дворян, однако, освободили от
обязательной службы государству. Позже они и другие ключевые социальные
300
группы (за исключением крестьянства) приобрели статус,
напоминающий сословный, а дворянская элита тем временем усвоила
светскую западную культуру, творчески преобразив ее. В итоге накануне
1789 г. Российская империя стала «старым режимом» - как раз когда
на Западе этот режим начал рушиться.
Такой разрыв по фазе между «европеизирующейся» Россией и
западным оригиналом означал, что Россия никогда не сможет просто
повторить европейское развитие по восходящей. С каждым новым
этапом трансформации Запада ей приходилось за два-три
десятилетия пробегать путь, который там занимал не менее полувека. В
результате образец, заимствованный у атлантического Запада, как
правило, упрощался или искажался8.
Данный процесс особенно обострился, когда «старый режим»
уступил место новому. В XVIII в. европеизация означала для России
замену традиционного нерегулярного ополчения регулярной
армией, вооруженной новой артиллерийской и фортификационной
наукой. Однако распространение на Западе идей демократии после
1789 г. привело к пересмотру понятия «современность», вследствие
чего Россия с ее двумя основными институтами - самодержавием и
крепостным правом - вновь оказалась в числе отсталых.
1789 г., а особенно армии Наполеона показали то же самое
крепостническим австрийской и прусской монархиям. Результатом
стала «революция сверху», эхом перекликавшаяся с предшествующей
французской «революцией снизу». Однако к востоку от Рейна это эхо
заглушалось иными историческими условиями. В Западной Европе
крепостное право исчезло в XIII в., но в Центральной Европе его в
XVI в. восстановили, и экономическое гражданское общество было
здесь развито очень слабо. Поэтому идеалы 1789 г. могли
проникнуть на восток, только изменив обличье. В Пруссии в итоге
возникло реформаторское движение 1807-1812 гг., которое осуществило, в
несколько отфильтрованной форме, часть французской
революционной программы, совместимую с наличием автократии и
аристократии: добилось отмены крепостного права, толики местного
самоуправления и введения всеобщей воинской обязанности. (Австрия
поддалась давлению Запада не так быстро, как Пруссия: крепостное
право там было отменено лишь в 1848 г., жалкий парламент,
«дарованный» в том же году, - распущен в следующем, в отличие от
прусского ландтага 1849 г., и не появлялся на сцене до 1867-1868 гг.)
Отголоски 1789 г. добрались до России спустя двадцать лет
после того, как настигли Пруссию, и произвели двойной эффект:
радикализировали культуру российской элиты и отбили у монархии
желание подражать Европе дальше. Сначала эти отголоски привели
301
к восстанию декабристов в 1825 г., которое представляло собой не
революцию, а заговор офицеров-дворян с целью введения конституции
и отмены крепостного права. Неизбежный провал их авантюры
спровоцировал второй, противоположный ответ на вызов со стороны
новой Европы. В течение тридцати лет правления Николая I прежняя
просвещенная монархия, со времен Петра до Александра I
подчеркивавшая свою принадлежность к Европе, постаралась изолировать
российское государство от западной «заразы», создав культ
самодержавия как единственно верного пути для России. Так возникла
теория консервативного российского «особого пути», которая останется
государственной доктриной до последних дней «старого режима».
Вместе с тем славянофилы выдвинули идеал более открытого
консерватизма. Не приемля западный конституционализм, они
ратовали за ограничение самодержавия посредством «свободы слова» и
неофициальной автономии «общества», под которым подразумевали
образованную (и вестернизированную) элиту нации. С их точки
зрения, истинный путь России состоял не в индивидуализме, а в
«соборности» - согласии и единении в церкви и обществе, ярчайшим
примером которого служила крестьянская община. Тогда (как раз
в период Июльской монархии во Франции) российская
общественная мысль впервые обратила внимание на этот институт, дабы
показать, что Россия не нуждается в последней демократической новинке
Запада - социализме.
Отвечая славянофилам, левая часть «общества»
модернизировала программу декабристов. «Западники» разделились на два
лагеря. Умеренные полагали, что постепенное реформирование сверху
в конечном итоге приведет к замене самодержавия и
крепостничества конституционным устройством и, следовательно, к сближению
России с Западом. Радикалы, вторя авангарду оппозиции Июльской
монархии, искали этого сближения в революционном социализме.
Так накануне 1848 г. российские ультралевые одновременно со
своими западными наставниками стремительно начали собственную
карьеру на поприще прогнозирования революции.
Однако эти радикалы не могли заимствовать западную модель
буквально, так как в России демократическая идея была применима
лишь к крестьянам - «народу». Данное обстоятельство вскоре
породило специфически российский радикализм, получивший название
«народничества».
Основы его заложены А. И. Герценом и М. А. Бакуниным. В
1840-е гг., подобно Марксу, впоследствии ставшему их противником,
они прошли через провинциальную версию немецкого левого
гегельянства; затем, опять же как Маркс, в канун 1848 г. отправились на
302
Запад в поисках «революции». Перед лицом ее провала их озарила
мысль, что ключ к освобождению человечества, возможно, находится
вовсе не на Западе. К 1849 г. они, следуя примеру славянофилов,
выдвинули теорию, что самый передовой западный идеал, социализм,
может быть реализован в России раньше, чем в Европе, на основе
крестьянской общины. Этот социальный институт уже практически
является «социалистическим» - собственность в общине не частная,
а периодически перераспределяется в соответствии с
изменяющимися потребностями крестьян. Значит, все, что нужно для того, чтобы
сделать общину социалистической в полном смысле слова, -
революция, в ходе которой народный гнев сметет самодержавие и лишит
владений паразитов-помещиков.
Эта заманчивая фантазия подкреплялась более реалистичным
соображением, что грозное российское самодержавие на самом деле
достаточно уязвимо. Учитывая жестокость примитивной двухклассовой
социальной системы, на которой оно базировалось, ни просвещенная
элита, ни дегуманизированный «народ» не питали к нему
привязанности. Убедительные доказательства тому с избытком
предоставляла долгая история российских крестьянских бунтов, от Смутного
времени в начале XVII в. до восстания Стеньки Разина в его конце
и Емельяна Пугачева в 1773-1775 гг., - все они по мощи намного
превосходили и французскую Жакерию 1358 г., и Крестьянскую
войну 1525 г. в Германии. Следовательно, в России будет гораздо легче
разжечь революцию, чем на Западе, где между государством и
народом стоит крепкая буржуазия, гася радикальный пыл полумерами в
виде конституционализма с имущественным избирательным цензом.
Политика революции в России поэтому чрезвычайно проста:
просвещенная элита, носительница революционной «сознательности»,
должна принести социалистическую идею в «темный» народ и,
глядишь, социализм возникнет сам собой. Так родилась радикальная
версия российского «особого пути» в европейской истории.
В более умеренной форме возможность ускорения истории
посредством подражания формулируется как «преимущества
отсталости». Одно из таких преимуществ состояло в том, что Россия очень
быстро сумела ликвидировать отставание от Запада в области
высокой культуры. Российский «просвещенный деспотизм» XVIII в.
модернизировал империю не столько за счет затратного поощрения
экономического развития, сколько за счет более дешевого обучения
дворянства современным методам ведения войн и
бюрократического управления. Это очень хорошо работало, пока сам успех
европеизации не сделал просвещение самоценным, вследствие чего ' при
Николае между просвещенной элитой и ее бывшим самодержавным
покровителем образовалась пропасть.
303
Возникла специфически российская социальная группа, которая
к концу века получила название «интеллигенция». Хотя это понятие
обозначало образованные слои в целом, в большинстве своем не
разделявшие радикальных взглядов, оно, как правило, подразумевало
некую оппозиционность, а на практике именно радикальное
меньшинство интеллигенции вскоре установило идеологическую
гегемонию над российским обществом и культурой. Вплоть до революции
1905 г. нелегальная, «теневая» политика России, как либеральная, так
и радикальная, почти исключительно была вотчиной интеллигенции.
Такой перекос можно считать одним из главных недостатков
отставания; согласно марксистской терминологии, Россия создала
«надстройку» современности, еще не обзаведясь «базисом». Жозеф
де Местр, сардинский посланник в Петербурге, в начале XIX в.
предсказывал Александру I, пытаясь обуздать страсть императора к
основанию новых университетов: однажды величайшей угрозой
хрупкому российскому порядку станет какой-нибудь «университетский
Пугачев»9.
Пророчество начало походить на действительность, когда
Александр II, потрясенный поражением России в Крымской войне,
предпринял оборонительную революцию сверху по прусскому образцу
1807-1812 гг. Последовали Великие реформы 1861-1864 гг.:
отмена крепостного права, элементы местного самоуправления в форме
земств, независимая судебная система; в 1874 г. к ним добавился еще
один современный институт - всеобщая воинская обязанность.
Результаты реформ Александра вскоре подтвердили изречение
Токвиля: «Самый опасный момент для плохого правительства
наступает тогда, когда оно начинает меняться, когда оно начинает
реформироваться». Условия освобождения от крепостной зависимости -
неизбежно представлявшие собой компромисс между дворянскими и
крестьянскими интересами - не удовлетворяли ни крестьян, ни, еще
того хуже, радикальную интеллигенцию. Грубо говоря, крестьяне
получили половину земли и должны были платить за нее выкуп в
рассрочку, а хотели «земли и воли», то есть всю землю в деревне безо
всяких условий. Радикальная интеллигенция тоже этого хотела,
отчасти желая справедливости для крестьян, но в основном -
укрепления базиса для будущего аграрного социализма. Потому ультралевые
с криками о «надувательстве» выдвинули лозунг «хождения в народ»,
рассчитывая, что гнев крестьянства выльется теперь в революцию.
Великим представителем радикалов новой волны был
Н. Г. Чернышевский. Из-за цензуры он не мог призывать к
революции в печати, однако в романе «Что делать?» (1863) дал не одному
поколению радикалов идеальный портрет необходимых для нее
304
«новых людей»: целеустремленных активистов с железной волей,
всецело преданных народному делу. Он также ратовал за
«гражданственность искусства» - кодовое обозначение подчинения культуры
политике - и ненавидел малодушных либералов, отвергавших его
воинственные воззрения. Ленин испытывал особое почтение к
этому своему предшественнику, что и выразил, дав основополагающему
документу большевизма в 1902 г. название его знаменитого романа.
Разочарование интеллигенции в освобождении крестьян
породило кризис, который, в свою очередь, привел к появлению
инвертированной модели политики, просуществовавшей до начала XX в.
В 1862 г. возникло первое социалистическое революционное
общество, «Земля и воля». В том же году представители
либерально настроенного дворянства, также разочарованные уступками
Александра, потребовали «увенчать здание» реформы учреждением
национального представительного органа. Самодержавие было в
состоянии обуздать дворян, просто сказав «нет», но оказалось
неспособно противостоять радикальной интеллигенции. Зерно, посеянное
«Землей и волей», прорастало следующие двадцать лет и в итоге
превратилось в постоянное движение профессиональных
революционеров - новое племя в истории и настоящий национальный «институт»
вплоть до 1917 г.
Сначала народники «ходили в народ» с прямыми призывами к
революции, а когда они потерпели неудачу, часть движения,
объединившись в организацию «Народная воля», перешла в 1879 г. к
антиправительственному террору. Народовольцы намеревались вынудить
самодержавие созвать учредительное собрание, избранное всеобщим
голосованием, которое потом проголосует за социализм, поскольку
большинство в нем неизбежно будет принадлежать крестьянам. Как
ни странно, их тактика сработала, однако не с крестьянами. Сильнее
всего она подействовала на нереволюционное большинство общества:
как либерал И. С. Тургенев, так и реакционер Ф. М. Достоевский
выражали благоговейный страх и восхищение перед лицом героизма
революционеров. Да и самодержавие почувствовало необходимость
подготовить если не конституцию, то, по крайней мере, план созыва
собрания с ограниченными совещательными полномочиями. Затем в
1881 г. народовольцы убили императора.
Народнический этап российского революционного движения
оставил по себе троякое наследие. Во-первых, убийство императора
повлекло за собой двадцать пять лет реакции. Наступила она как раз
тогда, когда российское общество начинало освобождаться от пут
двухклассовости благодаря экономическому развитию и социальной
305
диверсификации по европейскому образцу. Однако царская реакция,
вновь подтвердив, что самодержавие - извечный путь России,
помешала ей политически адаптироваться к этому
эволюционирующему обществу - и тем самым спровоцировала новые революционные
вызовы.
Во-вторых, либерализм, опирающийся в основном на земства,
которые находились под властью помещиков, постоянно оказывался в
невыгодном положении по сравнению с социализмом
интеллигенции. Отчасти потому, что социалистический идеал считался «выше»
конституционализма, отчасти потому, что революционеры могли
действовать нелегально, в то время как либералам связывала руки
приверженность принципу легальности, - а всякая политическая
деятельность в России до 1905 г. была незаконна.
Это обстоятельство составляет главную особенность российской
политической традиции вплоть до 1917 г. Либеральное и
социалистическое движения не только возникли в России одновременно в
1862 г., а не друг за другом, как на Западе, но в следующие полвека
народничество затмило либерализм в российской «теневой»
политике. Таким образом, «нормальное» историческое соотношение
либерализма и социализма оказалось перевернуто. А подобный переворот
в традиционной расстановке приоритетов мог лишь открыть дорогу
революционной погоне за немедленным социализмом, мешая
прогрессу в направлении конституционализма «малых дел».
Последним результатом народнической эпопеи стала
дискредитация самого народничества. Провал как демократической, так и
террористической тактики народников показал, что крестьянство не
революционно. А это, в свою очередь, продемонстрировало, что в отсталой
России пока нет объективных социальных условий для построения
социализма. Думать, будто руку истории можно подтолкнуть силой и
субъективная воля способна заставить Россию перепрыгнуть с одной
ступени развития на другую, - самоубийственный утопизм. Однако,
несмотря на такой относительный реализм, радикальная
интеллигенция продолжала верить, что, когда настанет историческая «зрелость»,
революция наконец придет. Готовясь к ее осуществлению, одна
народническая группа под руководством Г. В. Плеханова в 1883 г.
обратилась к марксизму.
Нужно подчеркнуть, что марксизм пришел в Россию не потому,
что индустриализация породила там пролетариат. Марксизм пришел
в Россию потому, что после провала народничества радикальная
интеллигенция нуждалась в новой революционной теории, ибо в
первую очередь преданность радикального крыла интеллигенции
принадлежала не крестьянам и не рабочим, а революции.
306
Причина подобного примата «революции» над народом, ради
блага которого она предположительно должна была совершиться,
заключалась в том, что радикальную интеллигенцию волновало не только
и, пожалуй, даже не столько зло, причиняемое народу, сколько зло,
причиняемое ей самой. Ею руководила стремительно возрастающая
ненависть к «варварскому», «азиатскому», «татарскому»,
«беззаконному» (и так далее) самодержавию. Ведь этот «проклятый» институт
вечно держал просвещенных интеллигентов на последних ролях,
отказывая им в гражданских правах, которые буржуазный Запад
предоставлял даже необразованным классам.
В 1890-е гг. российская действительность заложила «базис» под
«надстройку» из новой теории радикалов. Интенсивное
поощрение самодержавием индустриализации при министре финансов
С. Ю. Витте дало России многоклассовое социальное устройство.
Наряду с дворянством и подавляющим крестьянским большинством
(в 1914 г. крестьяне все еще составляли 80 % населения) появились
средние городские слои и промышленные рабочие (которых к 1914 г.
стало уже около 3 млн чел.). Да и само крестьянство наконец
пробудилось благодаря этим экономическим преобразованиям, земским
школам и всеобщей воинской обязанности. Впервые с того момента,
как радикальная интеллигенция начала ожидать революцию, в самом
деле сложились условия для атаки на «старый режим».
Столь благоприятное для революции стечение обстоятельств,
однако, поставило перед новым марксистским движением России
дилемму. Мы уже рассматривали, как родилась ленинская идея партии
во время кризиса европейского марксизма в конце века. 1905 г. даст
этой партии стратегию революционного действия.
Пока российские марксисты боролись против революционного
романтизма народников, они, как один, применяли логику Маркса к
истории России буквально: необходимы будут две отдельные русские
революции, одна - «буржуазная», вторая - «социалистическая». Но
по мере приближения настоящей революции марксистам пришлось
разрабатывать политику участия рабочих в первом из этих событий.
И здесь они столкнулись с острой дилеммой. Так как Россия -
«феодальная» самодержавная монархия (или «азиатская» деспотия) и в
то же время отчасти «капиталистическая» страна с зарождающимся
пролетариатом, какую роль должны играть социалисты в революции,
«не своей» по определению? Найденное решение гласило: принимая
во внимание «трусость» российской буржуазии, пролетариату
придется взять на себя роль гегемона в революции своего классового
врага.
307
Из-за неоднозначности этого политического оксюморона
произошел раскол Российской социал-демократической рабочей партии,
образованной в 1903 г., на меньшевиков и большевиков
(непосредственной причиной раскола, правда, послужили разногласия по
поводу условий членства в партии). Меньшевики достаточно букваль-
rto придерживались двухэтапной теории революции, допускали в
овоей интерпретации «гегемонии» тактический союз с либералами и
Ёыступали за осторожную политику. Большевики же в боевом пылу
расширяли понимание гегемонии, фактически соединяя две
революции в одну. В тактике это привело их к презрительному отказу от
Сотрудничества с либералами и поискам, вместо этого, союза с уже
пробудившимся крестьянством.
В горячке битвы 1905 г. им не составило большого труда совмес-
tHTb очевидный отход от «ортодоксии» с логикой истории. Так,
Ленин сделал из событий 1905 г. вывод, что в борьбе против
абсолютизма пролетариат имеет законные основания заключить альянс
С «мелкобуржуазными демократами», коими являются крестьяне. А
Когда самодержавие будет свергнуто, рабочие могут взять в союзники
«полупролетариат», состоящий из крестьянской бедноты, чтобы
«начать переход к социализму»10.
Главные поправки в Марксову логику истории Ленин внес во
время Первой мировой войны своей теорией империализма. На рубеже
XIX-XX вв. первоочередное внимание марксистов стали привлекать
последствия конкуренции европейских держав за пределами
континента, и Ленин в 1916 г. придал этим размышлениям практический
политический смысл. Его теория империализма гласила, что в
условиях XX в. «колониальные и полуколониальные» страны являются
«самым слабым звеном» в международной капиталистической
системе; следовательно, мировая революция вполне может начаться в
отсталой России.
Таким образом, внутренне противоречивый постулат о гегемонии
пролетариата в буржуазной революции оказался нежизнеспособным
в обстановке настоящей революционной борьбы. Провал
марксистской схемы в России, однако, отражал еще более важный факт: в
России должна быть лишь одна революция против «старого режима»,
как во всех европейских странах. Политическое превосходство над
меньшевиками большевикам давало ощущение, что такой
решительный перелом раз и навсегда и есть настоящая природа российского
Кризиса. Кроме того, они понимали, что ставка на подобный исход
вполне отвечает духу марксизма, несмотря на путы, которыми
буква доктрины, казалось бы, связывала им руки. И Ленин решил
марксистскую дилемму в России, подкорректировав букву доктрины, с
308
тем чтобы она соответствовала истинному революционному
потенциалу нового века.
Из всего вышесказанного следует, что марксизм не предлагает
адекватной теории современной революции. Свержение «старого
режима» не является социально-экономическим переходом от
«феодализма» к «капитализму», как утверждал Маркс. Это политический,
идеологический и культурный разрыв с извечной традицией; его суть
заключается в переходе от корпоративного, иерархического мира,
просто данного людям историей и/или божественным промыслом, к
миру, где люди сознательно организуют и формируют свое общество.
Если смотреть с такой точки зрения, подобный переход - обычно
ускоряемый посредством насилия и освящаемый кровью мучеников -
по самой своей природе возможен лишь однажды в истории каждого
конкретного «старорежимного» государства.
Наверное, самая простая терминология для обозначения этого
водораздела, пролегающего раз в тысячелетие, - различение между
«традиционным» и «современным» обществами. Оно, ôeccnopHq,
очень общее и не обязательно прямо подразумевает
революционный перелом, в отличие от марксистской терминологии. Напротив,
оно очень удачно позволяет избежать марксистской фантазии о
двухэтапной современности (капитализм, затем социализм) и
согласуется с истинной развязкой, к которой пришли все европейские
«старые режимы». Ибо история уже показала: не существует такой
вещи, как «социализм» в смысле особой исторической эпохи,
следующей за «капитализмом». Есть лишь «государство всеобщего
благосостояния» как одна из фаз индустриальной рыночной экономики.
Собственно говоря, наилучшая дихотомия - просто «старый режим» /
демократия (то есть конституционализм в сочетании с народным
суверенитетом); такое противопоставление понятий говорит о
реальной форме, которую традиционное и современное общества
принимали в европейской истории11.
Соединение Лениным в одно предполагаемой двухэтапной
революции не означает, что он фактически обратился в народничество -
как часто утверждают, желая поставить под сомнение его
марксистскую «правоверность»12. Мы уже видели, что его теория
партии-авангарда проистекла из чисто марксистского кризиса революционной
практики. Нужно добавить, что такая партийная организация прямо
заимствована у централизованной и иерархичной
социал-демократической партии Германии, а не у гораздо проще структурированной
«Народной воли». А политика Ленина в отношении крестьянству
радикально отличалась от народнической: народники хотели сделать
309
землю «социализированной» собственностью всех крестьян, в то
время как Ленин стремился к государственной «национализации» в
качестве прелюдии коллективизации, причем осуществить ее
предполагал в ходе «классовой войны» между сельской «мелкой
буржуазией» и «пролетариатом» из бедняков.
Ввиду столь важных различий между ленинизмом и
народничеством должно быть ясно, что сходства, все-таки существующие
между двумя традициями, обусловлены не каким-то скрытым родством,
а отсталостью России, которая заставляла ее объединять и сокращать
по времени процессы, имевшие место раньше на Западе. Кстати,
преимущества отсталости подметили не одни народники; Маркс до них
думал то же самое о Германии.
В свои последние годы он явно распространил этот взгляд и на
Россию. После возникновения в 1860-е гг. российского
революционного движения Маркс пристально за ним наблюдал и даже выучил
русский язык, чтобы читать Чернышевского. В 1870-е гг. он стал
советником «Народной воли» (после краха Парижской коммуны
только Россия обещала близкую перспективу революции в Европе). Пыл
русских произвел на него такое впечатление, что в 1881 г. он признал:
если русская революция послужит сигналом пролетарской
революции на Западе, то крестьянская община способна «явиться исходным
пунктом коммунистического развития»13 - иными словами, Россия
может перескочить капитализм. Хотя Плеханов и Энгельс скрывали
эту уступку в пользу «незакономерной» истории, радикальный
компонент марксизма, который ее вызвал, легко пробудился бы к жизни
при любой новой революционной возможности.
Такую возможность предоставил кризис традиционной России
после 1900 г., событие, подобных которому Европа не видела с 1848 г.
Он столкнул большевиков с дилеммой, никогда не встававшей
перед Марксом и II Интернационалом: что делать в случае успешной
революции против «старого режима»? Эта дилемма заставила
большевиков сделать выбор между основными компонентами
марксизма. Поскольку англо-французская норма исторического развития,
лежащая в основе его доктрины, не подходила к российским
условиям, они не могли, доверясь ее логике, упустить единственный
революционный шанс России на социализм. Большевики решили
дилемму так же, как их «отец-основатель», когда впервые
формулировал свою теорию партии, - поставили дух учения Маркса о
классовой борьбе выше буквы его исторической логики. Вследствие
этого им удалось совершить революцию ради конца всех революций,
которой прочие марксисты тщетно дожидались со времен провала
1848 г.
310
Революция 1905 года
Достичь подобной вершины, однако, удалось только после
первого раунда российского революционного процесса - «нормальной»
европейской революции в 1904-1907 гг. Хотя данное событие
обычно характеризуется как рабочая революция, на самом деле это был
звездный час либералов в истории России.
С подъемом политической активности в начале нового века
пятидесятилетнее пребывание российского либерализма в тени
революционного социализма подошло к концу. На протяжении радикальных
1904-1906 гг. руководство движением против самодержавия взяли
на себя либералы, частью из традиционной для них среды поместного
дворянства, но в еще большей степени из кругов рафинированной
интеллигенции - представителей хорошо развитых к тому времени
свободных профессий. (Капиталисты-промышленники слишком сильно
зависели от государства, чтобы играть в оппозиции сколько-нибудь
значительную роль.)
Российский либерализм, организовавшийся в октябре 1905 г. в
Конституционно-демократическую партию (сокращенно «кадеты»),
был значительно левее своего западного аналога, ведь ему
приходилось уложить в десятилетие развитие своей программы, которое в
других странах занимало век. Так, в социальную программу
либералов входили свобода собраний и объединения рабочих в профсоюзы,
а также принудительное отчуждение, с выплатой компенсации,
некоторых частных земель в пользу крестьян. В то же время из страха
перед самодержавием кадеты придерживались гибельной политики
«слева нет врагов» в отношении революционеров-террористов. Что
касается самих революционных партий - двух
социал-демократических, а также неонародников, объединившихся в 1900 г. в Партию
социалистов-революционеров (эсеры), - они в 1905 г. играли
минимальную роль и ни в каком смысле не «вели» народ.
Главное требование, которое выдвигала революция, -
конституционная демократия со всеобщим избирательным правом, по
возможности созыв Учредительного собрания, а если нет - конституционная
монархия. Социализм ее целью никогда не являлся. Это
конституционалистское требование служило лейтмотивом всех революционных
действий. Они начались с земского съезда в ноябре 1904 г.,
продолжились уличным шествием рабочих 9 января, которое закончилось
бойней Кровавого воскресенья, и достигли апогея в октябре, в общей
забастовке всего городского населения, вынудившей монархию
учредить Государственную думу. Наконец, 1906-1907 гг. прошли под
знаком борьбы за полномочия между думой и монархией. Борьба завер-
311
шилась «переворотом» премьер-министра П. А. Столыпина 3 июня
1907 г., в результате которого были урезаны избирательные права с
целью создать «работающую» думу, то есть младшего партнера
монархии по прусскому образцу.
Без сомнения, рабочие сыграли решающую роль в прорыве 1905 г.
благодаря их высокой концентрации в ключевых городских центрах
и массовому участию во всеобщей забастовке, однако это не
сделало их авангардом всей революции - таковым остались
господа-либералы. Значение рабочих для революции определялось не их
социальным статусом «пролетариата», а политической ролью в качестве
плебейской боевой силы, способной оказывать физический нажим
на систему. В данном отношении они ничем не отличались от
ремесленников-санкюлотов 1792-1793 гг. или ремесленников-«святых» из
«армии нового образца» 1647 г. Чрезмерно раздутое задним числом
декабрьское «восстание» в Москве не возымело существенного
влияния на ход событий. В целом, либеральная революция пользовалась
поддержкой большинства классов общества, как показали
октябрьская забастовка и выборы 1906 г. в думу, проведенные на основе
практически всеобщего избирательного права (для мужчин) и
выигранные кадетами за явным преимуществом.
Тем не менее либералам не удалось победить «старый режим», и
это отнюдь не случайно. Первая причина их поражения заключается
в том, что они хотели подлинного конституционного правления и
народного суверенитета, а самодержавие ни за что не собиралось идти
на подобные уступки. Поэтому периодические попытки найти
компромисс, который позволил бы создать работоспособную думу,
неизбежно оканчивались провалом. Вторая, не столь важная причина:
после «Октябрьского манифеста» оппозиция стала раскалываться на
либералов и политически более слабых левых революционеров,
притом возник лагерь реакционеров-националистов, бросавший вызов
и тем, и другим. Но главное - как упоминалось ранее, монархия
сохранила контроль над армией и при любой попытке проверить ее на
прочность могла подавить народный протест.
При всей значимости последнего фактора, мы, тем не менее, не
можем утверждать, что, если бы разоруженная монархия
капитулировала перед кадетами, конституционалистская революция «победила»
бы. В Учредительном собрании, избранном всеобщим голосованием,
большинство составили бы жаждущие земли крестьяне,
подверженные влиянию социалистов, - с таким сочетанием либералы вряд ли
сумели бы совладать, оставаясь в правовых рамках. Столь
неутешительный вывод с уверенностью можно сделать на основании
сравнения с прежними европейскими революциями: маловероятно, что
312
1905 г. мог установить конституционный строй в России с первой же
попытки, тогда как ни Англии, ни Франции, не говоря уже о Германии
и Австрии, это не удалось и при куда более благоприятных
обстоятельствах. В любом случае, в результате провала 1905 г.
конституционалисты исчерпали львиную долю своего политического капитала до
начала следующего раунда российского революционного процесса.
От Февраля к Октябрю
Нестабильная внутренне природа псевдоконституционализма,
рожденного 1905 г., предопределила неизбежность второго раунда.
И начался он при наличии максимума условий для ускоренной
радикализации - в разгар первой в мире тотальной войны. Нужно
подчеркнуть, что революцию 1917 г., какой мы ее знаем, вызвало прежде
всего разрушительное влияние войны, а не «поляризация» между
буржуазией и пролетариатом, хотя и она, очевидно, имела место.
Именно современная война показала наконец уязвимость
государственной и социальной структур царизма, на которую делала
ставку радикальная интеллигенция с момента освобождения крестьян в
1861 г.
Война мобилизовала российских крестьян в многомиллионную
армию, и такая концентрация впервые дала им реальную
политическую силу, правда, негативного характера. Война расстроила и без
того хрупкую промышленную экономику, приведя к 1917 г. к
серьезному продовольственному и топливному кризису. И эта война
оказалась проигрышной, что спровоцировало конституционный кризис:
монархия воспользовалась военным положением, чтобы управлять
страной без думы, а либеральная оппозиция в ответ потребовала
создать правительство «народного доверия» - по сути, прелюдию к
конституции.
На таком фоне в феврале 1917 г. Петроград потрясли массовые
забастовки в знак протеста против продовольственного дефицита.
Солдаты-крестьяне отказались стрелять в толпу, и к уличным
беспорядкам добавился в мятеж в войсках, лишивший монархию щита,
который защищал ее в 1905-1907 гг. Мятеж перерос в революцию,
когда армейское командование оставило Николая и напуганные думские
либералы приступили к формированию Временного правительства.
Правительство это никогда и ничем толком не правило, так как
одновременно рабочие и солдаты под руководством социалистов
создали для присмотра за «буржуазными» министрами свои «советы» -
органы, у которых на деле было больше власти, чем у
номинального правительства. Так в авангарде революции 1917 г., в отличие от
313
1905 г., с самого начала оказались социалисты, а не либералы. Под
бременем «двоевластия» стали разваливаться все
административные и военные структуры государства. Поскольку государство
выдыхалось, рабочие взяли на себя контроль над промышленностью,
крестьяне принялись захватывать помещичьи земли, не дожидаясь
обещанного Учредительного собрания, а солдаты в массовом
порядке дезертировали с фронта: деревенская Россия наконец получила
«землю и волю» в полном объеме. К осени советы совершенно
подмяли под себя правительство, однако эти органы, представляя собой,
по сути, постоянные массовые митинги, не могли управлять страной
сами. Учитывая, что Россия скатывалась в анархию, излишне
говорить, что об установлении конституционного строя в 1917 г. речи не
шло. Главный вопрос заключался в том, кто подберет обломки, когда
страна опустится на самое дно.
Как нам известно, это сделали большевики со своим «Красным
Октябрем». Марксистские категории, в которые они упаковали
данное событие и которые с тех пор господствуют в дебатах о его
значении, скрыли его истинную природу. В формальном смысле дебаты
идут между теми, кто утверждает, что Октябрь представлял собой
социальную революцию, и теми, кто считает его государственным
переворотом. На самом деле явно имело место и то и другое:
государственный переворот совершался на фоне социальной революции
и стал возможен лишь благодаря стремительным темпам последней.
Однако это не означает, что переворот являлся «закономерным»
продуктом своего социального фона, поскольку в 1917 г. происходила
социальная революция особого типа14.
Обычно данный термин обозначает замену одной господствующей
социальной группы на другую, как, например, в 1789 г во Франции
«третье сословие» сменило первые два. Социальная причина и
политический результат в этом процессе тесно связаны. А в октябре 1917 г.
случились два разных события: в социальном плане
продолжавшееся весь год погружение в анархию наконец прекратилось, в
политическом - большевистская партия, действуя через аморфные советы,
успешно осуществила захват власти. Таким образом, эмпирические
дебаты по поводу Октября сводятся к утверждению или отрицанию
того, что очевидную брешь между этими двумя событиями можно
закрыть.
Этот поверхностный спор затушевывает подлинный вопрос,
идеологического характера: являлся все-таки Октябрь настоящей
пролетарской революцией или нет? (Когда-то от ответа на него зависела
легитимность советского режима.) Но это именно идеологический
вопрос, а не исторический. Голые исторические факты говорят, что
314
такой вещи, как пролетарская революция, не существует: за всю
историю капитализма рабочие никогда не отнимали власть у
буржуазии. Можно добавить, что и буржуазной революции не существует.
Конечно, французский «старый режим» был свергнут в 1789 г. от
имени нации, но лишь идеологическая лакировка данного события
ультралевыми в 1840-х гг. превратила его в дату рождения
«буржуазного способа производства». На самом деле и буржуазная, и
пролетарская революции - не события, а понятия, их функция - служить
расположенными поочередно узловыми точками в эсхатологической
фантазии о переходе человечества от «предыстории» к своей
истинной истории, социализму, которая не давала покоя левым с 1848 г.
Впрочем, посреди ужасов Первой мировой войны эта фантазия
обрела наибольшую убедительность, и не только в России. Миллионы
людей поверили в нее и в последующие десятилетия боролись за ее
осуществление. Во имя этой фантазии большевики устроили свой
Октябрь, во имя ее приверженцы Октября потом так горячо
отрицали, что это был переворот. Реальное значение происходившей
одновременно «социальной революции» для Октября заключалось в том,
что лишь порожденная ею анархия дала большевикам возможность
безнаказанно провернуть столь дерзкую операцию - и не быть
расстрелянными за бунт, как расстреляли участников Пасхального
восстания в Дублине годом раньше.
Реальное октябрьское восстание выглядит смехотворным. Оно
безнадежно меркнет в сравнении с парижскими июньскими днями
1848 г. или коммуной 1871 г. - которые Маркс считал образцами
пролетарской революции. Даже в самой России в 1917 г. пролетарии
продемонстрировали куда больше боевитости в феврале и июле, чем в
октябре. Фактически Ленин в октябре поймал момент, когда рабочее
движение 1917 г. уже теряло энергию и большинство петроградских
рабочих отсиживались в стороне от «своего» восстания.
В сущности, ни в каком восстании вообще не было нужды, так как
большевики обладали на съезде советов большинством, готовым
немедленно проголосовать за их власть. Однако Ленин настоял на
«вооруженном восстании» силами одних лишь большевиков, отчасти
чтобы избежать коалиций с другими социалистическими партиями,
а отчасти потому, что со времен штурма Бастилии именно таким
путем свершались события всемирно-исторического значения. Тем не
менее два решающих октябрьских дня - не более чем любительская
полицейская операция разношерстных красногвардейцев и
кронштадтских матросов против Временного правительства, уже
настолько слабого, что сбросить его ничего не стоило.
Таким образом, в октябре победу одержал не социальный рабочий
класс во плоти, а политическая партия идеологов, претендующих на
315
то, чтобы олицетворять революционное сознание рабочих: Красный
Октябрь представлял собой захват власти метафизическим
пролетариатом, действовавшим от лица эмпирического пролетариата. И
все же захват этот, будучи обычным переворотом по форме, являлся
ультрареволюционным по содержанию: большевики отняли власть
не только у буржуазии, но у общества как такового. Создавая
подобный вакуум, они взяли на себя потрясшую весь мир миссию его
заполнения социалистическим порядком, за построение которого
действительно тут же принялись. И «октябрьский переворот» приобрел
силу мифа, который сделает своим нравственным заложником весь
двадцатый век.
Немедленно возникает вопрос: могла ли Россия избежать этой
грандиозной, но ужасной судьбы? К концу 1917 г. количество
вариантов выбора опасно сократилось. Большинство рабочих хотели
коалиционного советского правительства из представителей всех
социалистических партий. Даже если бы большевики не выступили в
октябре в одиночку, подобная советская и социалистическая
коалиция, без сомнения, забрала бы власть у Временного правительства.
Даже если бы демократически избранному Учредительному
собранию (в котором две трети составляли социалисты того или иного
толка) позволили продолжать работу после его единственного
январского заседания, это все равно означало бы власть тех же
социалистических и советских партий. А данные партии (в той малой мере, в
какой советы или Учредительное собрание вообще были способны к
управлению) могли сделать лишь то, что сделали большевики после
Октября: узаконить захват земли крестьянами и контроль рабочих
над промышленностью, распустить армию и заключить сепаратный,
гибельный мир.
Эти национальные бедствия спровоцировали бы ту же правую
реакцию и гражданскую войну, что и в реальной истории. Трудно
представить, чтобы в подобных критических условиях осторожные
меньшевики или слабо структурированное эсеровское большинство
сумели организовать «защиту революции», эта задача все равно
легла бы на большевиков и неистовых левых эсеров. А белые - как
показали результаты их действий, начиная с корниловского мятежа
в августе 1917 г. и заканчивая деникинским наступлением осенью
1919 г., - вызывали слишком мало доверия у «масс», особенно
у крестьян, чтобы одолеть такую защиту собственными силами.
Поэтому российским правым потребовалась бы эффективная
поддержка извне, и не та ограниченная помощь, которую они в
реальности получали от далеких союзников по Антанте, а та, которую
охотно предоставили бы немцы, уже находившиеся в стране с настоящей
316
армией. Но немцы проиграли войну. Так что, за неимением
практически осуществимого правого авторитарного варианта решения,
великая российская анархия 1917 - начала 1918 гг. завершилась к концу
1919 г. левым авторитарным вариантом.
От военного коммунизма к нэпу
Победа, однако, совсем не соответствовала переработанному
Лениным марксистскому сценарию социалистической революции.
После нескольких лет напряженного ожидания ни развитый Запад,
ни колониальный Восток не последовали примеру России. Тем не
менее такой афронт не убедил большевиков в правоте Каутского и
меньшевиков, осуждавших Октябрь как немарксистскую авантюру.
Они легко нашли убедительный марксистский контраргумент:
дескать, послевоенная «стабилизация капитализма» - по самой природе
последнего - временное явление, а пока помогать большевикам
держать оборону русской крепости обязан мировой пролетариат.
Внутри этой крепости изоляция революции создала более
тревожные и злободневные проблемы. Экономическая разруха,
начавшаяся во время войны и усугубленная социальной революцией
1917 г., сделала Россию еще более отсталой, чем при «старом
режиме». К 1918 г. дворянство и городской средний класс как сплоченные
группы были ликвидированы, и Россия превратилась в
элементарную агломерацию рабочих и крестьян - новый тип двухклассового
общества, с плачевной легкостью поддающегося принуждению в
силу своей аморфности. Однако такая «немарксистская» ситуация
не заставила большевиков усомниться в правильности Октября.
Чрезвычайное положение привело их марксизм на совершенно
особый путь демиурга «революции сверху».
К лету 1918 г., в разгар гражданской войны, большевиков
волновала уже не мировая революция, а собственное выживание. На этот
вызов они ответили колоссальным взрывом энергии, которая на
протяжении последующих восемнадцати месяцев и создала основные
элементы советской системы. Ненадежные советы были очищены
от меньшевиков и эсеров и превращены в чисто административные
инструменты «диктатуры пролетариата», перерастающей в
структурированную партию-государство. Возникли зачатки
централизованной, национализированной командной экономики. Вся система
поддерживалась политической полицией, поставленной над законом.
Осуществляя принудительное государственное строительство,
большевики добивались не просто власти ради власти, как часто
утверждают. Они консолидировали власть ради социалистического
317
«светлого будущего»; марксизм предоставлял им незаменимое для
такого предприятия оружие идейно просвещенной политической
воли. Все усилия большевиков по преодолению анархии и борьбе с
белыми изображались не только чрезвычайными мерами, но
разрушительно-созидательной классовой войной, и экономическая
мобилизация для военных нужд, таким образом, превратилась в начало
рационального экономического планирования.
Военные меры коммунистического характера выросли в
«военный коммунизм», как стали называть этот период после 1921 г., когда
от таких мер отказались. Разумеется, смелость военного
коммунизма явно противоречила посылке, что для успеха революции
большевиков необходима также революция на Западе. Но на практике угар
классовой войны затмил это противоречие. Большевики убедили
себя, что в горниле внутренней классовой борьбы выковывают
коммунистические институты и что их импровизации - черновой
набросок мироустройства, которое возникнет в результате международной
классовой борьбы.
Часто говорят, будто к подобной преждевременной политике
большевиков вынудило чрезвычайное военное положение. Однако
такой оправдательной рационализации не соответствует хронология
введения основных мер военного коммунизма. ЧК (первая версия
КГБ) была учреждена вообще до гражданской войны, постановления
о «классовой войне в деревне» с целью изъятия хлеба у крестьян и о
национализации промышленности вышли, когда гражданская война
только начинала разворачиваться далеко на периферии, а
кульминации в виде «милитаризации труда» и отмены денег военный
коммунизм достиг уже после победы большевиков.
Еще важнее, что военный коммунизм, по сути, представляет собой
реальную марксовскую программу социализма как
«некапитализма» - уничтожение частной собственности, прибыли, рынка и денег.
Чрезвычайное военное положение привело большевиков к тому, на
что они и так были идеологически запрограммированы, и
преждевременными их действия можно назвать только с точки зрения
организационной способности партии навязать свои планы стране.
Поспешно принимаясь за установление военного коммунизма,
большевики видели в этом кульминационное развитие своего
принципа авангардной роли партии. В оппозиции партии надлежало
заменить собой пролетариат и захватить власть вместо него, поэтому
она резво оседлала волну анархии, чтобы достичь цели. Когда партия
оказалась у власти, ей пришлось заменить собой и логику истории,
так как история сама не справилась с задачей произвести социализм
из свергнутого капитализма; поэтому теперь партия подавляла рево-
318
люционную анархию путем диктаторской организации экономики и
общества. Она сменила роли с чистой совестью, поскольку по
определению олицетворяла два в одном - и пролетариат, и логику истории.
Та же диалектическая гибкость позволила большевикам в 1921 г.
совершить еще один поворот на 180 градусов. Они столкнулись тогда
с новым кризисом, угрожавшим их существованию, - гражданская
война, эпидемии и военный коммунизм вместе привели к
практически полному коллапсу в промышленности и голоду в деревне.
Поэтому большевики были вынуждены взять на вооружение «новую
экономическую политику» (нэп), то есть полурыночную экономику,
как единственное средство стимулировать крестьян производить
излишки продукции, необходимые стране, чтобы ожить. Нужно
подчеркнуть, что нэп был вынужденным отступлением от
предпочтительной для партии политики. Многие большевики (и, разумеется,
их враги) в то время фактически рассматривали нэп как поражение
революции.
Однако вскоре некоторые партийные лидеры сделали из нужды
добродетель. Н. И. Бухарин, развивая отдельные мысли умирающего
Ленина, утверждал, что Россия может «дорасти до социализма через
рынок». Он имел в виду, что крестьян, особенно их зажиточную часть,
«кулаков», можно мирным способом склонить к сотрудничеству на
благо реиндустриализации России, предложив им необходимые
товары по реальным ценам. Эта ретроспективная рационализация
вынужденного обращения большевиков к нэпу вызвала второй великий
спор по поводу значения Октября. Его предметом стал вопрос: не
являлся ли нэп, а не военный коммунизм, подлинной марксистско-
ленинской программой? Иными словами: могла ли «бухаринская
альтернатива» помочь избежать массового насилия сталинской
«революции сверху»15?
Но и этот спор ведет в тупик, так как никогда не бывает ясно,
имеют ли спорящие в виду практический вопрос экономического
развития или идеологический вопрос определения наилучшего пути
к социализму. Относительно первого на основании успеха рынка в
других развивающихся странах можно с уверенностью утверждать,
что бухаринская программа финансирования индустриализации за
счет углубления нэпа дала бы весьма удовлетворительные
экономические результаты. Но не эта обыденная цель ставилась во главу угла
в программе Бухарина. Он считал, что рынок должен быть не
постоянной чертой социализма, а лишь временным подручным средством
на пути к идеологической цели - Марксову царству
«некапитализма» без рынка и собственности.
319
Не менее важно, что взгляд на бухаринскую программу
«глазами экономиста» игнорирует ее политические последствия.
Предоставление крестьянам экономической автономии подтачивало бы
монополию партии на власть и повлекло бы за собой (снова
говоря словами Бухарина) «продвижение к социализму со скоростью
улитки». Но в монополии на власть ради ускоренного перехода к
социализму заключался весь смысл существования
партии-авангарда. Продолжение нэпа угрожало и этой монополии, и ударному
«строительству социализма», потому Сталин в конце 1920-х гг.
прекратил рыночные эксперименты. Реальную «альтернативу» Сталину
представлял не Бухарин, а отказ от всего неосуществимого проекта
Маркса и вместе с ним - от ленинской партии.
Сталин строит социализм
Момент истины для большевистской авантюры настал в 1929 г.
Над режимом снова нависла смертельная угроза: крестьяне стали
придерживать хлеб, не желая продавать его по искусственно
заниженным государственным ценам, как раз когда началась первая
пятилетка и великая кампания индустриализации. Поэтому Сталин
вернулся к принудительным методам военного коммунизма и
коллективизировал крестьянство, дабы обеспечить режиму необходимое
продовольственное снабжение, не платя за него. Его решение, в
лучших традициях большевиков, было политическим и идеологическим,
но не экономическим. Он сумел успешно провести наступление на
«идиотизм деревенской жизни», потому что теперь в распоряжении
партии находились куда более многочисленные, идейно
вышколенные легионы, чем когда-либо были у Ленина.
С помощью этой партийной армии Сталину удалось раздавить
крестьянскую автономию, досаждавшую режиму с самого Октября.
Бухарин согласился с новой «генеральной линией» без малейшего
ропота и даже написал для Сталина Конституцию 1936 г. Троцкий,
находясь в изгнании, считал, что Сталин портит дело, но взятый им
курс - действительно социалистический (он, собственно, изначально
ратовал за то же самое). Для всех этих верных ленинцев ключом к
построению социализма являлась гегемония партии, а не какая-либо
экономическая стратегия. Хорошо известны слова Троцкого: «...Быть
правым против партии нельзя. Правым можно быть только с партией
и через партию, ибо других путей для реализации правоты история
не создала»16.
Подлинную сущность сталинской квазивоенной «революции
сверху», однако, признать было нельзя. Ее изображали очередным
320
этапом классовой борьбы: бедняков против кулаков в деревне,
городского пролетариата - против кулацкой мелкой буржуазии. Сталин
даже объявил, что чем ближе социализм, тем сильнее обостряется
классовая борьба.
Этот тезис высмеивают как неправильный марксизм. На самом
же деле он представляет собой неизбежно порочный результат
попыток применить на практике марксистское сочетание несочетаемого.
Перефразируя сталинское изречение в неутопичной форме,
получаем: чем ближе недостижимая цель - в данном случае «добровольная»
коллективизация крестьянского сельского хозяйства - тем
интенсивнее сопротивление и тем больше необходимости в принуждении
со стороны партии. Невозможно представить, чтобы
неонародническое советское правительство или традиционное российское
самодержавие проводили в отношении крестьянства столь беспощадную
политику; для такого титанического принуждения необходим
именно марксизм-ленинизм.
Подобными средствами Сталин наконец «построил социализм».
Опираясь на коллективизированное сельское хозяйство, он
стремительно и беспрепятственно довел до конца беспорядочную, но
колоссальную промышленную революцию. По ходу дела он превратил
миллионы крестьян в пролетариев, а сотням тысяч представителей
этого расширенного рабочего класса дал возможность подняться до
управленцев, военных офицеров и аппаратчиков всеобъемлющей
партии-государства. К середине 1930-х гг. он создал режим
институционализированного военного коммунизма. Подобно своему
предшественнику, режим этот воплощал подлинную практическую
программу марксизма: уничтожение частной собственности, прибыли и
рынка (деньги на сей раз в список не попали).
Дабы обеспечить долговечность своих достижений, Сталин
увенчал их Большим террором 1936-1939 гг. Эта операция - не
иррациональный произвол тирана-параноика, как слишком часто говорят.
Она выполняла в зрелой советской системе реальную задачу:
замаскировать тот факт, что результаты построения социализма - от
ужасов коллективизации до хронических дисфункций «командной
экономики» в промышленности - мало соответствуют обещаниям
идеологии, легитимирующей режим. Поскольку идеология была
необходима для выживания системы, террор стал необходим, чтобы
скрыть ужасную правду от населения, да и от самого режима.
Сталин снова обратился к принципу обострения классовой
борьбы по мере приближения к социализму и развернул кампанию по
искоренению «вредителей», троцкистов и прочих «врагов народа».
Конечно, на сей раз «классовая борьба» представляла собой чистой
321
воды политическую метафизику, не имеющую ничего общего с
эмпирическими фактами, поскольку ныне все «враги» были
верными коммунистами. Тем не менее марксистско-ленинский эликсир
классовой борьбы обладал настолько сильным действием, что опять
восторжествовал над грубой действительностью. Сталину удалось
заменить почти всю старую партию новой. Теперь ее, очень кстати
для него, составляли люди, политически созревшие уже после
построения социализма, всем обязанные новой системе, участвовавшие
в ее преступлениях и получавшие от них выгоду, которым поэтому, в
отличие от оппозиционеров 1920-х гг., в голову бы не пришло
усомниться в вожде и его делах.
После второй «революции сверху» в 1930-х гг. активная роль
марксизма (даже в испорченном сталинском варианте) в
формировании советской системы подошла к концу. Однако это не означает,
что система перестала быть идеократической. К 1939 г. идеология
материализовалась в цементе и стали Магнитогорска, в
бесчисленном множестве других достижений пятилеток;
институционализировалась в виде триады: партия - план - органы безопасности;
кодифицировалась как «единственно верное учение» (выражение
А. И. Солженицына) в сталинском «Кратком курсе» 1938 г. Защищая
плоды этой овеществленной и сухой идеологии, мастера «реального
социализма», как назвал его Брежнев, до конца его существования
делили мир на социалистический и капиталистический лагеря,
сцепившиеся в непрерывной международной классовой борьбе17.
«Советизм» как реальный марксизм
Коронный ход Сталина - замена состава партии - призван был не
просто защитить определенные черты его системы. В конечном счете
речь шла о судьбе всего марксистского предприятия после его
возникновения в 1840-х гг. Претензия партии на действительное
построение социализма в России означала, что марксизм в целом впервые
прошел проверку на практике. Результат, который Сталин такими
чудовищными усилиями пытался скрыть, показывал, что марксизм
на самом деле - невозможная утопия, способная привести только к
провалу и фальсификации. По этой причине после смерти Сталина
диссиденты называли советский строй попросту «ложью».
Однако провал утопия потерпела не в материальной сфере, по
крайней мере в краткосрочной перспективе, так как Сталин и вправду
создал промышленную мощь, достаточную, чтобы Россия победила
во Второй мировой войне и десятилетиями вела «холодную войну» в
качестве сверхдержавы. Провал имел место на более глубоком уров-
322
не идейно-нравственного raison d'être системы: обещания, что
социализм станет «светлым будущим» человечества, единственным
справедливым и равноправным обществом, - того обещания, которым
питалась титаническая воля, сделавшая возможными материальные
успехи режима. А в долгосрочной перспективе идейно-нравственный
провал подорвал и эти временные успехи.
Но не следует делать отсюда сильно упрощенный вывод,
будто Сталин, строя социализм путем насилия, «предал» Маркса, - не
более, чем Ленин, когда создавал диктаторскую партию. Отсутствие
нравственного стержня в советском социализме означает, скорее, что
практическая программа Маркса по отмене частной собственности и
рынка не дает ожидаемого освободительного эффекта. Из
неосуществимой системы Маркса Сталин выбрал лишь ту часть, которая могла
быть реализована на практике, - социализм как инструментальное
отрицание капитализма.
Таким образом, первая в мире «пролетарская» революция привела
к жестокому парадоксу. Главная отличительная черта большевизма
среди различных толкований марксизма в XX в. заключалась в
приоритете волюнтаризма классовой борьбы перед детерминизмом
логики истории. Благодаря такому выбору большевики сумели совершить
первую в мире марксистскую революцию и достичь ее цели -
социализма как «некапитализма», в то время как их соперники смогли
разве что подлатать капитализм заплаткой в виде системы социальных
гарантий. Но, чтобы добиться своего сомнительного превосходства,
большевикам пришлось сфабриковать суррогатную логику истории.
Силой политической воли они сначала поправили Марксову
логику истории во время самого Красного Октября: ведь это событие
представляло собой вовсе не пролетарскую революцию, а революцию
партии и интеллигенции. Затем авангард идеологов вообще
перевернул Марксову систему с ног на голову, выступая в роли
«надстройки», создающей свой «базис», который должен был быть уже создан
реальной логикой истории. И снова политическая воля,
замаскированная под классовую борьбу, толкнула партию на форсированную
промышленную «революцию сверху» - на сей раз ради того, чтобы
«догнать и перегнать Америку»18. Результат в виде впечатляющего
ассортимента доменных печей, тракторов и ракет долгое время
оставался пугающе конкурентоспособным в сравнении с «буржуазным
способом производства», но не имел аксессуаров «буржуазной
демократии», которые реальная логика истории также обеспечивала.
Именно в таком усеченном обличье трансцендентальная
доктрина Маркса нашла практическое воплощение. Под руководством
ленинского авангарда она спустилась на землю и оказалась всего лишь
323
низкопробным подражанием своему капиталистическому
противнику. «Лукавство разума» превратило ее в орудие производства того
индустриального и пролетарского общества, которое, как
предполагалось, произвело ее. Так благодаря советскому социализму
«предыстория» Маркса закончилась не освобождением человечества при
коммунизме, а институционализированной революцией коммунизма.
Строя социализм в России прежде, чем она дошла до
капитализма, большевики довели российский способ «сокращения» истории до
прямой инверсии. Марксизм они тоже инвертировали, сделав
ложное идеологическое сознание творцом реального социального бытия.
È итоге марксизм на практике оказался не более чем средством
модернизации отсталой страны.
Но в конце века стало ясно, что и со своей единственной
позитивной ролью марксизм справился не самым лучшим образом. Есть
гораздо более эффективные - и гуманные - способы поощрения
Экономического развития. До Октября была ускоренная
индустриализация Витте, осуществляемая при помощи международного
рынка. После Октября - такие восточноазиатские «тигры», как Южная
Корея и Тайвань, даже рыночный марксизм Дэн Сяопина в Китае.
Кроме того, много значит идеологическое содержание марксизма
авиду его многочисленных порочных эффектов. Он порождает среди
населения отупляющую враждебность к психологическим свойствам,
необходимым для предпринимательства - деятельности, которую
клеймят как «спекуляцию». Подобные умонастроения
институционализируются и тысячекратно усиливаются неэффективностью
централизованной командной экономики. В качестве официальной
государственной догмы марксизм душит критическую мысль и губит
Способность общества к инновациям в любой сфере. А главное,
базовая марксистская программа отмены частной собственности и
рынка - настоящая хартия тотального деспотизма и уничтожения
гражданского общества.
В то же время негибкость «единственно верного учения» делает
этот деспотизм уязвимым. Как только действительность
опровергает легитимирующий систему постулат, что социализм продуктивнее
капитализма, идеология дискредитируется, а вся система
демистифицируется. Этот процесс, начавшийся при Брежневе, достиг
своей кульминации в эпоху «гласности», объявленной Горбачевым.
Когда идеологические чары рассеялись, началась цепная реакция:
идеократический режим потерял уверенность в себе, его воля к
принуждению испарилась, и вся система развалилась, словно карточный
Домик.
324
Эта внутренняя пустота объясняет, почему, когда рухнул
советский режим, он не оставил России сколько-нибудь пригодного для
дальнейшего использования наследия. Какими бы кровавыми и
деструктивными ни бывали подчас английская, американская и
французская революции, все они создали институты, которые дожили
до наших дней, вместе с идеалами, не утратившими нравственной
привлекательности, - это сочетание мы сейчас обобщенно именуем
«рыночной демократией». Русская же революция, окончательно
испустив дух в 1991 г., не оставила после себя ничего, кроме нищеть|,
руин и горечи.
Именно поэтому она оказалась - хотя и в другом смысле -
революцией ради конца всех революций. Она продемонстрировала, что
второго, социалистического пришествия 1789 г. не будет, что в
реальной современной истории существует только политическая
республика и что попытка «возвысить» ее над «государством всеобщего
благосостояния» отбрасывает общество к рабству худшему, чем при
«старом режиме».
Однако наследникам трех атлантических революций не стоит
радоваться раньше времени. Даже после провала коммунистической
попытки подняться над классическим демократическим наследием
остается проблема, изначально вдохновившая социалистический
проект: неравенство людей. Пока эта проблема существует - а
перспектив ее исчезновения в обозримом будущем не видно, -
утопическая политика тоже никуда не денется. Кто знает, какое благое
эгалитарное дело в следующий раз будет извращено милленаризмом
и насилием? Вечное возвращение революционного мифа в новых и
неожиданных обличьях еще долго не даст нам покоя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЭПИЛОГ
Европейские «великие революции»
На основании всего сказанного выше о европейских «великих
революциях», об их главных действующих лицах и общем
характере их действий хочу выдвинуть следующие предположения:
1. Драма «великой революции» может произойти только раз в
истории одной нации, и не ввиду какой-то метафизической
исторической необходимости, а по вполне прозаической причине: у каждой
отдельной нации бывает только один «старый режим», который нужно
ликвидировать, и, как только это делается (или хотя бы
предпринимается попытка сделать), тысячелетний исторический рубеж
безвозвратно перейден. Затем уровень исторического развития на момент
революции, манера протекания революции, ее ближайшие
результаты определяют, даже направляют будущую историю нации, стиль ее
политики, общие мифы, способы справляться с переменами -
легалистские, эмпирические и реформистские в Великобритании;
идеологические, драматические и радикальные во Франции;
консервативные, а потом катастрофические в Германии.
2. «Великая революция» является, в сущности, не
социально-экономическим феноменом, а политико-конституциональным и
культурно-идеологическим. Иными словами, подобная революция не
знаменует переход от одного способа производства к другому
(например, от «феодального» к «буржуазному») или от одной стадии
экономического развития страны к другой (скажем, от торговой к
капиталистической или от «традиционной» к «современной»), хотя
очевидно, что и к таким трансформациям она в некоторой степени
имеет отношение. «Великая революция» - это, главным образом,
общий кризис всей национальной системы.
Это вовсе не означает, что экономическое развитие не
является важнейшей силой само по себе или что оно не «революционно»
(в широком смысле слова) с точки зрения общего влияния на
общество, обычаи и культуру. Речь идет о том, что экономическое
развитие не связано явным образом со сроками наступления или манерой
протекания европейской «великой революции». Эти два явления, по
сути, не совпадают друг с другом по фазе. «Великая революция» мо-
326
жет вспыхнуть на самых разных стадиях процесса экономического
«развития», с XVII до XX в.
Чтобы наглядно показать несовпадение политической и
экономической конфигурации, можно отметить, что в решающий период
промышленной революции в Англии - с 1780 по 1830 г. - у власти
неизменно находилась аристократическая партия тори (о чем и Маркс
был прекрасно осведомлен). Еще поразительнее тот факт, что в
Германии промышленную революцию инициировал и поддерживал
на самом важном этапе автократический «старый режим» Пруссии
посредством создания таможенного союза (Zollverein). Вместе с тем
французская «буржуазная революция» 1789 г. в целом плохо
повлияла на бизнес: она практически парализовала процветавшую прежде
морскую торговлю, установила губительный для
технологического развития протекционизм, способствовала усилению архаичного
крестьянства. В итоге в 1815 г. Франция экономически отставала от
Англии сильнее, чем в 1789 г., когда обе страны находились почти
на равных. А русские революции 1917 г. (и «буржуазная», и
«пролетарская» вместе) вызвали одну из величайших экономических
катастроф в современной истории. Можно даже увидеть негативную
корреляцию между революцией и экономическим ростом. Как минимум,
следует признать, что «великие революции», будучи в некоторых
сферах освободительными и созидательными, в других - чудовищно
деструктивны и обходятся дорого.
Вероятно, лучше всего сформулировать эти взаимосвязи
следующим образом: экономическое развитие есть необходимое, но не
достаточное условие революции; достаточными условиями являются
явно политические и идеологические проблемы, которые решаются
в ходе самих революционных событий, по мнению их участников.
Экономическое развитие в современной истории происходит
практически непрерывно, причем чаще в виде мирных постепенных
изменений, а не насильственных переломов, революции же случаются очень
редко. Отсюда следует, что протекание и исход революции
обусловлены в первую очередь особой динамикой политики кризисных
эпох и идеологической интоксикации и лишь во вторую - долго и
медленно действующими силами социально-экономического
развития. Одним словом, я утверждаю, что кризисная политика и идейное
вдохновение - так же как принуждение, к которому они ведут, -
имеют собственную логику, относительно независимую в своем действии
от социально-экономической матрицы революционного события.
3. «Великая революция» также, в сущности, не означает
перехода от господства одного класса к доминированию другого (например,
опять-таки от «феодальной» гегемонии к «буржуазной»). Свои эпи-
327
ческие масштабы «великие революции» принимают как раз потому,
что это - «общеклассовое» дело, то есть события, в ходе которых все
или почти все значимые социальные группы нации выступают
против монархии либо одновременно, либо в очень быстрой
последовательности друг за другом. Только подобное сплочение всего общества
против священной власти монарха способно сокрушить бесконечно
древнюю структуру «старого режима». Этот обобщение я вывел из
работ Жоржа Лефевра, особенно «Пришествия Французской
революции». Будучи марксистом, Лефевр задался целью показать, что
Французская революция была классовой борьбой, в которой
победа досталась буржуазии. Однако, детально анализируя классовый
характер революции, он продемонстрировал, что на самом деле она
представляла собой совокупность аристократической, буржуазной,
народной и крестьянской революций. И эту модель легко применить
к 1640,1848 и 1905-1917 гг.
В качестве «контрольной пробы» можно отметить, что, когда
против существующего режима поднимается только один класс,
получается не «великая революция», а нечто иное. Если выступает
аристократия, мы имеем Фронду. Если одно крестьянство - Жакерию
или «пугачевщину». Если же восстает только городская толпа, это
выливается в «бунт лорда Гордона», в крайнем случае - в Парижскую
коммуну. (Кажется, лишь буржуазия никогда не была настолько
безрассудна, чтобы идти против власти в одиночку.) Ни в одном из
такого рода случаев не происходила революция в смысле каких-либо
фундаментальных конституционных или социальных перемен: все
«одноклассовые» движения терпели неудачу и по большей части
приводили к упрочению существующего строя и системы власти.
Парадокс XX века
После того как «старый режим» - первоначальная мишень
европейской революции - прекратил существование, политическое
насилие в Европе продолжало использоваться, менялись только его
формы, характер и назначение. Мы видели, что Красный Октябрь
превратился в ультралевую карикатуру на современный
революционный миф, рожденный в 1789 г. Германия предоставила нам
ультраправую карикатуру на него. Поскольку германское гражданское
общество было зрелым, имущим и образованным, примат монархии
сравнительно легко уступил место парламентскому суверенитету
после поражения в 1918 г. Германскую Ноябрьскую революцию того же
года, хотя формально она покончила с прусским «старым режимом»,
нельзя отнести в категорию «великих революций» - в этой роли ее
328
опередила (и тем подорвала ее значение) неудачная революция 1848 г.
Кроме того, поскольку германское гражданское общество не сумело
в 1848 г. установить конституционную власть собственными силами,
конституционное устройство, возникшее в 1918 г. «по умолчанию»,
оказалось чрезвычайно хрупким. Это обстоятельство облегчило
наступление второй стадии германской революции XX в. - нацистской
унификации (Gleichschaltung) 1930-x гг., которая искоренила
последние остатки «старого режима» и «гомогенизировала» общество
до уровня простого «народного сообщества» (Volksgemeinschaft).
Таким образом, поражение в Первой мировой войне в итоге принесло
плоды в виде «люмпен-бонапартизма» капрала Гитлера,
возглавившего движение, которое в превратной интерпретации выражало
национальные и социалистические идеи 1848 г.
Фашизм межвоенного периода - зеркальное отражение Красного
Октября: «народ» как нация или сообщество по крови (Gemeinschaft)
вместо народа как масс; иерархия наций с избранным народом на
вершине вместо всеобщего человечества; абсолютизация
иерархического порядка и борьбы вместо абсолютизации равенства и братства.
И коммунизм, и общие принципы фашизма представляют собой
извращенные вариации фундаментальных тем современной политики,
впервые сформулированных в 1789 г.1
Существование общей теории коммунизма едва ли может
оспариваться. Она заключается в том, что у власти должна стоять партия
ленинского типа с задачей «строительства социализма», каковое
требует уничтожения частной собственности и рынка в пользу
институциональной диктатуры и командной экономики. Но на практике
эта формула в различных случаях и в различные периоды дает очень
разные результаты. Внутри самой советской матрицы наблюдались
значительные колебания в масштабах принуждения. Ленинский
военный коммунизм 1918-1921 гг. сменился полурыночным нэпом
1921-1929 гг., с начала 1930-х гг. происходила сталинская
«революция сверху» с Большим террором в конце десятилетия, далее
последовали тяжелое военное время, имперский послевоенный период.
Наконец, эпохи Хрущева и Брежнева отличаются от сталинизма
ослаблением революционной энергии и сильным снижением уровня
террора.
За пределами российской матрицы вариации ленинской
формулы еще более примечательны. Послевоенная советская «внешняя
империя» - страны Восточной Европы - существенно отличалась от
«внутренней империи», то есть самого СССР. В Восточной Европе
(за исключением Югославии, которая вскоре покинула советскую
орбиту) не было настоящих революций, там происходил многоликий
329
процесс завоевания и поглощения. Например, едва ли можно
сравнивать послевоенную Польшу, где крестьяне никогда не знали
коллективизации, с Россией при Сталине или даже с Румынией при Николае
Чаушеску (по сути, уже не входившей во «внешнюю империю»).
И хотя там везде активно действовала политическая полиция, для
настоящих «гулагов» просто не хватало места.
Если перейти от зоны советского влияния в Европе к коммунизму
в Восточной Азии, мы обнаружим еще более сильные расхождения.
Те режимы не только не зависели от Москвы институционально, но
и друг от друга отличались. Социализм Ким Ир Сена означал
герметично закрытую семейную диктатуру, не менее
сюрреалистичную, чем режим Чаушеску; правда, «Великий Вождь» сохранял союз
с Советами в качестве щита от китайской угрозы. Мао Цзедун,
напротив, был злейшим врагом Москвы слева. Чтобы доказать свое
превосходство над Хрущевым и его «каппутистами», он превзошел
даже сталинский террор, стараясь построить социализм
посредством «большого скачка» 1959-1961 гг. и «культурной революции»
1966-1976 гг. Хо Ши Мин, подлинный ленинец, как и его северные
предшественники, по крайней мере, направил энергию партии на
войну, поддерживаемую населением его страны. Наконец, Пол Пот
довел все коммунистическое предприятие до совершенно безумного
абсурда, стремясь перещеголять радикализмом не только Москву,
но заодно Пекин и Ханой. Степень «бешенства» всех этих «комму-
низмов» также варьировала в разные периоды, особенно заметно
в Китае, где на смену маоизму пришел «рыночный ленинизм» Дэн
Сяопина.
Еще одну вариацию общей коммунистической формулы
производит наложение на ленинизм национализма, не только в советской
зоне и Восточной Азии, но и на Кубе. Часто отмечают, что
«пролетарский интернационализм» составил очень слабую конкуренцию
современному национализму. И действительно, с тех пор как
социалистические партии Европы в 1914 г. проголосовали в своих
парламентах за военные кредиты, практически в каждом кризисе рабочие
во главу угла ставили патриотизм. Соответственно сталинизм
объявляют по сути новой разновидностью мессианского русского
национализма, маоизм - ожесточенным ответом китайцев на советские «ге-
гемонистские» претензии, Хо Ши Мина - вьетнамским Джорджем
Вашингтоном, а самоубийственный безумный геноцид Пол Пота -
следствием традиционной ненависти камбоджийцев к Вьетнаму.
Очевидно, и революция Кастро представляла собой реакцию на
империализм янки. Национализм, конечно, играл свою роль во всех
перечисленных случаях. Но подлинный вопрос заключается в том,
330
достаточно ли значительна эта роль, чтобы оттеснить общий
коммунизм на второе место.
Ответ на него зависит от того, что мы считаем «социальной базой»
коммунизма. Если буквально воспринимать риторику о
«международном рабочем движении», то склонность рабочих к национализму
говорит против значимости общего коммунизма2. Однако на деле это
«движение» всегда представляло собой движение партий, а не
пролетариата. Кроме того, основывали и, как правило, руководили этими
партиями - по крайней мере, в героической фазе их истории -
интеллектуалы, а не их якобы рабочая база; лишь позже их стали
возглавлять аппаратчики, вышедшие из рабочей среды, вроде Хрущева или
Брежнева. А к тому времени, разумеется, полная административная
автономия восточноазиатских партий (и относительная автономия
восточноевропейских) раздробила истинно международное
движение сталинской эпохи на самостоятельные субъекты. Но при этом
каждый такой субъект сохранил ленинскую структуру и цели.
Решение вопроса о преобладании национализма над
коммунизмом зависит также от исторического периода. Для России при
Ленине и даже при Сталине ответ будет отрицательным, для Китая
после Мао вполне может оказаться положительным. Однако
наверняка мы не будем знать, пока не увидим, как исчезнет последний из
ленинских режимов. Более глубокий ответ на данный вопрос таков:
ленинские партии, будучи едиными или разобщенными, способны
были обуздывать национализм населения своих стран лишь до той
поры, пока существовал милленаристский пыл; стоило ему пойти на
спад - национализм снова выходил на передний план. Именно
угасанием этого пыла объясняется участь бывших Советского Союза и
Югославской Федерации. В каждом случае гибель партии порождала
развал единого государства, поскольку бывшие аппаратчики, такие,
как Нурсултан Назарбаев или Слободан Милошевич, чтобы
сохранить власть, принимались отстаивать дело национализма.
Истощение институционального коммунизма в Восточной Азии,
наряду с крахом всех коммунистических движений Латинской
Америки (и то и другое произошло в конце 1970-х гг.), наконец
предоставило возможность исследовать общую траекторию марксизма.
Каков итог полутора веков существования системы, предвестники
которой появились в 1840-х гг.?
Великий вопрос, поставленный историей коммунизма: почему
доктрина, которая предрекала пролетарскую революцию в
передовых индустриальных обществах, обрела власть только в
преимущественно аграрных - согласно Марксу, наименее подготовленных к со-
331
циализму? Если взглянуть на проблему шире, марксистская теория
основана на двух главных постулатах. С одной стороны, объективная
логика истории неумолимо ведет от феодализма к капитализму, а
затем к социализму. С другой - субъективное пролетарское сознание
(классовая борьба) служит спусковым механизмом
кульминационной революции. Но в реальной истории логика капиталистического
развития и революционное сознание рабочих никогда не
пересекались. Социалистическая революция произошла только тогда, когда
руку истории подтолкнул авангард интеллектуалов-марксистов,
выступавших от лица пролетариата.
Такой результат часто трактуют как трагический парадокс.
Истинная же проблема в том, почему марксистская доктрина на деле
привела к парадоксу. Лежащий на поверхности ответ, что культ
промышленности как некоего нового Прометея превратил марксизм в
идеологию ускоренного преодоления отсталости, - в лучшем
случае лишь часть объяснения. Не менее часто звучащий - и еще менее
удовлетворительный - ответ, что ленинский коммунизм - не
истинный марксизм, стоит расценивать как прием метафизического экзор-
цизма, позволяющий очистить марксизм от преступлений восточных
коммунистов, дабы вечно использовать его для порицания грязного
западного капитализма.
На самом деле призвание марксизма как доктрины «большого
скачка» из отсталости было заложено в эту теорию с момента ее
возникновения. Это станет очевидным, если посмотреть на ее генезис в
долгосрочном историческом контексте. Иными словами, спросить:
«надстройкой» какого «базиса» является марксизм?3
Вспомним, что, вопреки общепринятому мнению, марксизм
создавался не как критика развитого индустриального общества. В
середине 1840-х гг. его придумала пара интеллектуалов из доиндустри-
альной тогда Германии. И в первую очередь их подтолкнуло к этому
унизительное зрелище политической отсталости страны по
сравнению с Францией и Англией: Германия все еще жила в Средневековье,
при монархическом и аристократическом «старом режиме» (по их
терминологии - при феодализме), не затронутом даже частичной
эмансипацией, которой буржуазные Франция и Англия добились,
соответственно, благодаря революции 1830 г. и «Биллю о реформе»
1832 г. Выходом для Германии должен был стать скачок от
феодализма прямо к социализму путем «перманентной революции» (как
выразился Маркс в 1850 г.). В последних строках «Манифеста
коммунистической партии» говорится: «На Германию коммунисты
обращают главное свое внимание потому, что она находится накануне
буржуазной революции... [которая] может быть лишь
непосредственным прологом пролетарской революции»4.
332
Германия якобы могла совершить такой скачок, поскольку сама
бедность ее реальной жизни давала ей превосходство в
способности теоретического осмысления своих недостатков. Поэтому
«Манифест» утверждает, что интеллектуалы будут авангардом
грядущей германской «сокращенной» революции: «...у них
[коммунистов, коими в 1848 г. были только Маркс и Энгельс] перед остальной
массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и
общих результатов пролетарского движения»5. Более того, как мы уже
видели, «Манифест» растолковывал, что таковыми результатами
будут централизация всех орудий производства «в руках государства,
т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс»,
сосредоточение производства «в руках ассоциации индивидов» и
«учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия» по
«общему плану»6. Это в точности программа Сталина в 1930-х гг., а
также цель (правда, не реализованная) «большого скачка» Мао.
А гимны «революционной роли» буржуазной промышленности,
благодаря которым «Манифест» главным образом и знаменит
сегодня7? «Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий
производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в
цивилизацию все, даже самые варварские, нации. Дешевые цены ее
товаров - вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она
разрушает все китайские стены...»8 На деле эти технократические
рапсодии описывали не реальную европейскую промышленность, тогда
еще не настолько развитую. Они отражали представления робеющего
и завидующего провинциала о том, что могут заимствования у
англофранцузского Запада сделать на его «феодальной» родине, рисуя
своего рода воображаемый «Хрустальный дворец», предвосхищающий
настоящий, возведенный в 1851 г.
Разумеется, в Германии никогда не было «перманентной
революции» Маркса, но частично она осуществилась в России после
1917 г. - в два «скачка». Ленин организовал успешный захват власти
теоретическим авангардом, однако его военный коммунизм 1918—
1921 гг. потерпел поражение, поскольку ожидаемой одновременной
революции в передовой Европе не произошло. Поэтому Сталин, не
рассчитывая в ближайшем будущем на Запад, предпринял второй
«скачок» в виде построения «социализма в одной стране». Объявив
себя «Лениным сегодня», он устроил новый Октябрь посредством
«великого перелома» в ходе «революции сверху» 1929-1933 гг. Так
был создан образец для марксистских «скачков» из отсталости (так
же как и в национализм), которые совершались дальше и дальше к
востоку, углубляя парадокс марксизма.
Только принимая во внимание эту идеологическую траекторию
через череду все более экстравагантных - и фатальных - «скачков»,
333
мы сможем понять истинную историю «темного двойника»
современности - коммунизма.
Кто-то неизбежно возразит, что Маркс никогда не замышлял
ничего похожего на «революции сверху» Сталина и Мао, что он
«перевернулся бы в гробу», если бы каким-то чудом узнал о них, и т. д.
Разумеется, он никогда не думал о подобных террористических
программах - его целью была «эмансипация человека». Но его
сознательные намерения не имеют значения. Суть в том, что, согласно его
теории, эмансипация должна стать результатом полной коммуниза-
ции общества - невозможная задача, которую нельзя даже пытаться
выполнить без массового насилия. И он открыл дорогу такой
политике, теша себя иллюзией, будто интеллектуальный авангард,
вооруженный знанием законов истории, сможет устроить для человечества
«скачок из царства необходимости в царство свободы»9. Как гласит
старая пословица, цель оправдывает средства.
Приложение I
РЕВОЛЮЦИЯ
ЧТО В ИМЕНИ?
В современном сознании революции, как и великие войны,
представляются высокой драмой истории. Они перестраивают
систему координат легитимности в res publica. Они кладут конец
«старым режимам» и начало новым порядкам. Они знаменуют
переход от одной эпохи к другой. Более двух столетий они являлись
основополагающими моментами в истории наций, которые
ежегодно праздновались 4 июля, 14 июля или, до недавних пор, 7 ноября.
В совокупности они служат для их энтузиастов вехами на пути к
освобождению человечества.
Конечно, у медали есть обратная сторона: революции, как и
войны, доводят политическое соперничество до открытого насилия,
узаконивая методы, которые обычно считаются несовместимыми с
цивилизованным существованием. Все основополагающие
революционные моменты - от прогремевшей на весь мир перестрелки на
Лексингтонском лугу и взятия Бастилии до штурма Зимнего
дворца - представляли собой насильственные акты, предвещавшие
наступление длительного периода насилия. Поэтому революцию по
праву называют «внутренней войной»1.
Но если войны - явление, довольно четко определенное, то
определить, какие события можно с достаточным основанием отнести к
категории «революций», оказалось гораздо сложнее. Разумеется,
традиция предлагает нам подходящий список «великих революций»:
английская 1640 г., американская 1776 г., французская 1789 г.,
русская 1917г., китайская 1949 г.2 Однако что у этих переворотов
общего - в программах или в институциональных результатах - помимо
«высокой драмы» и обращения к силовым методам? Действительно
ли движения, олицетворяемые, например, Джорджем Вашингтоном
или Мао Цзедуном, принадлежат к одному историческому роду или
социологическому семейству? Фактически попытки навести между
ними мосты, найдя общую структуру действия, общий ряд этапов
или любую другую закономерность, с удручающей регулярностью
335
приводили к выстраиванию «моделей» революции самой по себе,
либо слишком абстрактных, чтобы сказать нам что-то, чего мы еще не
знаем, либо слишком искусственных, чтобы сказать нам что-нибудь
вообще. Зачем же снова биться над неразрешимым вопросом: что
такое революция?
Одна из причин заключается в том, что окончание века,
отмеченного как тоталитарной революцией, так и тотальной войной, наконец,
предоставило нам передышку от этой чрезвычайщины и дало больше
возможностей для объективности. Еще более веская причина: конец
века радикально изменил границы темы. Красный Октябрь, до тех
пор венчавший череду «великих революций» (китайская революция
представляла собой его повторение на бис, по крайней мере
концептуально), перестал быть вехой на пути к чему бы то ни было; теперь
он указывает лишь на великий крах 1989-1991 гг. Самая успешная
в истории контрреволюция перечеркнула все предположительные
«необратимые завоевания» Октября: «авангардную» партию,
«рациональный» экономический план, а также «щит и меч» обоих -
политическую полицию. Сегодня большая часть мирового сообщества
живет так, словно 1917 г. никогда не было, ведь все его результаты
аннулированы, а предпосылки опровергнуты. К тому же
подражатели и наследники Октября, от Китая до Кубы, стали тенью самих себя
прежних, некогда грозных, постепенно отказываясь от марксизма в
пользу рынка и прячась в скорлупу партии и полиции. Столь
неожиданный поворот, несомненно, должен сказать нам что-то новое о
всемирно-историческом ходе революции вообще.
О методе определения
Существует ли революция как таковая? Есть ли какая-нибудь
социологическая универсалия или платоническая идея,
подкрепляющая понятие «революции» как отдельного исторического
феномена? Можно писать общие труды о войне: у отца истории Геродота это
центральная тема, так же как у его величайшего античного
последователя Фукидида; современными классиками в данной области стали
генерал фон Клаузевиц и адмирал Мэхэн3. Но можно ли писать их о
революции? Увы, бесспорной классики на ум не приходит. Поэтому
здесь мы не станем для начала предлагать еще одно общее
определение, концептуальную схему или «модель» революции, которая
должна подходить ко всем событиям, традиционно так именуемым4.
Вряд ли целесообразно и строгое разграничение разных типов
насильственных политических изменений: бунта, мятежа, восстания,
революции5. Еще менее плодотворна попытка разобраться в хитро-
336
сплетениях буквального и метафорического употребления нашего
многогранного понятия, которые наглядно демонстрирует миграция
наименования, присвоенного событиям 1789 г.: оно перекочевало в
такие понятия, как «промышленная революция» той же эпохи,
«научная революция» XVII в., «печатная революция» XV в., «научно-
техническая революция» XX в. и так далее, вплоть до послевоенной
«зеленой революции» в сельском хозяйстве стран «третьего мира»
или «сексуальной революции» 1960-х гг. в Америке6. Любые
внезапные, грубые, глубокие, радикальные изменения какого-либо аспекта
человеческой деятельности могут в этом расширенном смысле
классифицироваться как «революционные», и ни одна концептуальная
сеть никогда не будет достаточно широка, чтобы охватить их все и
включить в стройную модель.
Поэтому здесь мы будем двигаться в обратном порядке по
сравнению с подобными семантическими и теоретическими
упражнениями - от исторических частностей к конечным обобщениям. Это метод
в духе принципа Макса Вебера: «Последняя и решающая концепция
не может быть задана в начале исследования, а должна появиться в
его конце»7. Тем не менее такой подход требует предварительной
условной наметки целей, методов и процедур исследования.
В данном случае лучше всего начать их наметку с изучения
первой исторической частности, связанной с революцией, - процесса
формирования самого этого современного концепта. Хотя попытки
априори определить, что такое революция, практически неизменно
оказывались делом столь же трудным, сколь и бесполезным,
проследив, что люди понимали под революцией, мы, по крайней мере,
получим возможность предварительно обозначить, чем она
фактически может быть. Кроме того, этот опыт концептуальной истории
(Begriffsgeschichte) нужно проводить критически - как
аналитическое препарирование существующих теорий революции с целью
выяснить, что в них работает, а в особенности - что не работает. Задача
подобной сортировки заключается в том, чтобы вычленить истинные
проблемы, прежде чем придумывать применительно к ним более
удачные понятия. Поэтому наша попытка определения методом
отрицания примет форму краткой интеллектуальной истории наших
представлений о революции за последние два столетия.
Напомним теперь уже хорошо известный факт: хотя слово
«революция» весьма древнее, стоящее за ним понятие всецело
современное - его появление датируется концом XVIII в.8 В эпоху поздней
Античности существительное «revolutio» было образовано от
латинского глагола «revolvere», означающего «откатиться назад», «вер-
337
нуться в исходную точку». В этом смысле оно использовалось для
обозначения циклических или повторяющихся событий в природе,
таких, например, как рост и убывание Луны. Святой Августин,
пожалуй, первым употребил его в фигуральном смысле применительно к
идее телесного перевоплощения или повторения провиденциальных
схем в историческом времени. На протяжении столетий в разных
контекстах это слово употреблялось главным образом в значении
возвращения или повторения. Такое значение вполне
соответствовало досовременному, обращенному в прошлое взгляду на изменения,
выраженному и в других терминах: «реформация» (reformatio) и
«реставрация» (restoratio) в религии, «возрождение» (rinascita) в
искусстве и литературе. До самого конца XVII в. европейцы, даже в
периоды особенно интенсивной инновационной деятельности, например в
эпоху Возрождения и Реформации, неизменно полагали, что
возрождают наследие былого «золотого века» и все их новые начинания, по
сути, не что иное, как реставрация.
Наиболее примечательный пример досовременного
использования слова «революция» можно найти в астрономии - в
«революционном» трактате Коперника 1543 г. «Об обращениях небесных сфер»
(«De revolutionibus orbium coelestium»). Именно из этого источника
термин впервые был перенесен в политический дискурс по случаю
«реставрации» Карла II в 1660 г. и прочнее закрепился там в
названии английской «Славной революции» 1688 г., которая трактовалась
как возврат к «старинной конституции» королевства, якобы
нарушенной королем. Затем, в XVIII в., слово «революция» в
политической сфере стало все чаще применяться для характеристики любых
внезапных или резких перемен в правлении, хотя и без нормативной
коннотации.
И лишь в конце столетия, на великом рубеже, отмеченном
американской и французской революциями, это слово приобрело
противоположный смысл, а его употребление - всемирно-исторические
масштабы. В ходе двойного катаклизма 1776 и 1789 гг. революция,
некогда подразумевавшая процесс возврата, стала обозначать
переворот и радикальное новое начало. И только с момента этого резкого
и многообещающего перехода к тому, что мы сегодня именуем
современностью, - первого осознанного перехода от старого порядка к
новому - можно говорить о революции как об историческом событии
особого рода.
Трансформация происходила в два этапа. Американцы начали
называть свой мятеж революцией в прежнем смысле - имея в виду
восстановление исторических свобод, принадлежащих им как части
английской нации. Но в итоге они пришли к независимой республике
338
и с гордостью признали, что создали порядок, не имеющий аналогов
не только в английской, но и в мировой истории (эта уверенность
питалась и прежним убеждением, что их Новый Свет станет «градом на
холме» для Божьих избранников). Ощущение божественного
предназначения только укрепилось, когда через каких-то 6 лет их
союзница в 1776-1783 гг., Франция, в свою очередь, свергла «тиранию»,
сделав тем самым борьбу американцев первым эпизодом в череде
событий, которые в один прекрасный день должны привести к
освобождению всего мира.
Французы с самого начала отдавали себе отчет в том, что их
судорожный «скачок» от королевского абсолютизма к народному
суверенитету представляет собой ниспровержение тысячелетнего
национального - даже общеевропейского - порядка и что триада «свобода,
равенство и братство» универсальна в своем значении. Но в конце
десятилетнего пути от конституционной монархии к республике со
всеобщим избирательным правом и далее к бонапартистской
диктатуре они вдобавок осознали, что революция есть нечто большее:
высшее проявление исторического рока, действующего как неодолимая
сила природы. Один очевидец говорил о «величественном лавовом
потоке революции, который ничего не щадит и который никому не
под силу остановить»9. С тех пор и телеологический, и
разрушительно-созидательный аспекты революции, равно как и насилие, стали
неотъемлемыми составляющими частями момента вступления в
современность.
Французский случай также снабдил нас первыми терминами
для сравнительного исследования революций, зачатками «модели»
описания революции как таковой: «якобинство» и «Гора» стали
обозначать революционную диктатуру, «болото» - колеблющийся
политический центр, «царство террора» - кульминационный кризис
революции, «термидор» - начало ее конца, «бонапартизм» - полное
прекращение. Та же траектория произвела на свет два великих
символа революционной поляризации и внутренней войны: красный
флаг гражданского насилия и белое знамя репрессий Бурбонов. Все
наше «социологизирование» в XX в. так и не смогло заменить чем-то
другим эти спонтанно возникшие исторические категории.
Революция как политическое освобождение
Для историков XIX в. революция была в первую очередь
политическим феноменом. Она означала свержение абсолютной монархии
божественного права во имя свободы, индивидуальных прав
(немаловажную роль среди них играло право собственности), главен-
339
с!тва закона и представительного правления. В Англии, где все это
узкому олигархическому кругу дал 1688 г. (в XIX в. его завоевания
дополнили билли о реформах 1831, 1867 и 1884 гг.), настоящей
революцией всегда оставался этот славный своей умеренностью
переворот. Жестокая прелюдия 1640-1660 гг., удостоившаяся почетного
места в историографии в XX в., считалась прискорбной гражданской
ёойной и потому не вошла в национальный миф. (У Англии нет
национального праздника, вместо него в данной роли выступает день
рождения королевы; британский национальный гимн с XVII в.
обращается с просьбой «хранить короля/королеву» к Богу, а не к нации.)
Преимущество такого не революционного по сути пути к свободе -
главная мысль «Истории Англии» Томаса Бабингтона Маколея, к
которой тот с торжеством пришел в 1848 г., когда континент снова
погрузился в пучину политического насилия. «Виговская
интерпретация истории», ориентированная на путеводную звезду 1688 г.,
Долго оставляла в тени более раннюю пуританскую революцию: даже
в начале XX в. данную традицию продолжал внучатый племянник
Маколея - Джордж Маколей Тревельян10.
- Американская революция, несмотря на громкие слова о том, что
Творец создал всех людей равными, в начале «Декларации
независимости», на деле тоже имела целью свободу, как индивидуальную, так
и национальную; поэтому ее главный тотем - «Колокол Свободы»11.
Правда, в Америке, в отличие от Англии, насилие 1776 г. увековечено
как момент основания нации. Но в любом случае, революция
являла собой, по сути, войну за независимость, и это означало, что для
Соединенных Штатов революционный переворот полностью
завершился институционализацией новой свободы нации в Конституции
1787 г. Таким образом, революция отнюдь не воспринималась как
внутренний переворот, а ее триумфальное завершение указывало,
*1то дальнейшие фундаментальные преобразования для
национальной идентичности не обязательны. Даже такие истинно
«революционные» трансформации, как гражданская война и отмена рабства,
легко укладывались в эту картину, ведь их политическим итогом
стало восстановление союза. Историографический результат подобных
ёзглядов - республиканский вигизм, кодифицированный в
многотомной «Истории Соединенных Штатов» Джорджа Бэнкрофта,
которая была написана в 1870-х гг. и представляла американскую
историю «светочем для всего мира»12. Впоследствии, когда трения между
Великобританией и США после гражданской войны, наконец,
сгладились, американская версия влилась в более широкое русло
англосаксонского вигизма стараниями Тревельяна, Редьярда Киплинга,
Тедди Рузвельта и Уинстона Черчилля. Кроме того, обе нации счита-
340
ли свои революции уникальными и несравненными - во всех
смыслах слова.
Только во Франции современная революция за свободу впервыр
открыла дорогу к чему-то более масштабному и смелому, нежели ее
первоначальная политическая цель. Французская революция с
самого начала несла на знамени требование всеобщих «прав человеку
и гражданина» и в своей республиканской фазе наряду с лозунгом
свободы провозгласила лозунги равенства и братства -
демократическую триаду, которая подразумевает не близкое завершение,
а длительный революционный потенциал. Поэтому цезура 1789—
1799 гг. не только совершила эпохальный разрыв с национальным -
и, в сущности, европейским - прошлым; она полностью
ниспровергла существовавший ранее внутренний порядок, низведя его до
статуса отмершего «старого режима». Собственное прошлое было навсегда
отрезано, в отличие от Англии, где якобы реставрационная
революция 1688 г. апеллировала к «Великой хартии вольностей». Столь
резкий отказ от старого порядка, помимо прочего, означал, что во
французской революции проигравших оказалось практически не меньше,
чем победителей. В результате проблема республики раскалывалр
нацию вплоть до «дела Дрейфуса» на рубеже XIX-XX вв. и даже до
вишистского режима 1940-1944 гг. А по мнению крупного историку
Французской революции Франсуа Фюре, которое тот высказал в ее
двухсотлетнюю годовщину в 1989 г., прививка к французскому
наследию 1789 г. большевистского мифа 1917 г. продлила этот
внутренний раскол до 1970-х гг.13
Так что именно французский случай впервые породил на свет,
можно сказать, протонауку о революции как таковой. Прежде Bcerq,
1789 г. задним числом пролил новый свет на значение английской и
американской революций. В Англии созыв Генеральных штатов
заставил религиозных диссидентов - обычно придерживавшихся
радикальных политических взглядов - переосмыслить 1688 г. как
революцию, аналогичную французской, и, следовательно, потребовать
завершения предполагаемого дела 1688 г. - установления полной
демократии. Деятельность одной из таких групп, которая задолго
до того объединилась в «Революционное общество», учрежденное в
память толерантного наследия 1688 г., побудила Эдмунда Бёрка
написать знаменитые «Размышления о революции во Франции», где он
резко разграничил «хороший» английский и «плохой» французский
типы революции14. Тем не менее французские события донесли до
сознания англичан мысль, что они тоже пережили нечто подобно^,
вплоть до казни короля - деяния, которое, разумеется, никогда
больше не должно повториться. Но лишь в конце столетия С. Р. Гардинер
341
сделал пуританскую революцию несомненной частью английской
истории 1603-1688 гг., хотя и не превратил ее в одно из слагаемых
национального мифа15. Похожую дифференциацию вскоре
претерпела и американская революция. Сначала союз, олицетворяемый
Франклином, Джефферсоном и Лафайетом, подчеркивал сходство
двух переворотов, а участие в обоих Томаса Пейна продолжило эту
преемственность до якобинского периода во Франции16. Однако
затем террор и Бонапарт привнесли различия. Таким образом, к
1815 г. в современном мире наличествовало уже три типа революции.
И подобная дифференциация заложила первоначальную основу для
сравнительного анализа революций.
Наиболее полно эта возможность была использована в самой
Франции. Превратности национальной истории (пожар 1789 г. снова
и снова разжигался революциями 1830 и 1848 гг., коммуной 1871 г.)
означали, что здесь не может быть никакого вигизма. Историография
раскололась; спектр взглядов авторов отличался чрезвычайной
широтой: среди них мы видим конституционного монархиста и
умеренного либерала Франсуа Гизо, радикального республиканца и
демократа Жюля Мишле, либерального консерватора и республиканца
поневоле Алексиса де Токвиля, преданного, но разочарованного
республиканца Эдгара Кине, ожесточенного консерватора Ипполита
Тэна17. Но сам этот разброс обогащал историографию, углубляя
размышления о революции вообще.
Либеральное поколение Гизо сделало первый шаг в данном
направлении, стремясь отыскать истоки - и способ легитимации -
1789 г. в «классовой борьбе» средневековых муниципальных коммун
против своих феодальных или церковных сюзеренов, которой
впоследствии воспрепятствовал рост королевского абсолютизма,
уничтоженного, наконец, в 1789 г. Теперь, когда великий прорыв к свободе
совершен, полагали либералы, революция 1830 г. должна стать
французским 1688 г., умеренным продолжением 1789 г., которое завершит
переворот, упорядочив свободу18. Нежелание Токвиля разделить эту
иллюзию впервые сделало зарождающийся компаративный подход
систематическим. После 1830 г. он увидел, что завершение процесса,
начатого в 1789 г., произойдет во Франции не скоро и дастся нелегко.
Революция XIX в. за равенство, которую мы теперь считаем
неотъемлемой чертой современности, черпала свою неодолимую силу из
тысячелетней европейской истории, и конституционная монархия
1830 г. явно остановить ее не могла. Знаменитый пассаж Токвиля
гласит: «Постепенное установление равенства есть предначертанная
свыше неизбежность... носит всемирный, долговременный характер
и с каждым днем все менее и менее зависит от воли людей; все со-
342
бытия, как и все люди, способствуют его развитию. Благоразумно ли
считать, что столь далеко зашедший социальный процесс может быть
приостановлен усилиями одного поколения? Неужели кто-то
полагает, что, уничтожив феодальную систему и победив королей,
демократия отступит перед буржуазией и богачами?»19 Таким образом,
для Токвиля революция означала нивелирование иерархической
структуры «феодального» европейского «старого режима» силами
эгалитарной демократии.
Затем он увидел свою задачу историка (или социолога) в том,
чтобы попытаться найти причины, почему эпохальное движение
против «старого режима», общее для всей Европы, впервые вылилось
в открытую революцию именно во Франции. Это заставило его
постоянно проводить сравнения с менее жестким английским «старым
режимом», более жестким и неповоротливым германским «старым
режимом» и прежде всего - с первой в мире абсолютно современной
нацией - американской20. «Человек, изучающий только Францию, -
заявлял он, - никогда ничего не поймет... во Французской
революции». Необходим «беглый взгляд за пределы Франции», чтобы
«понять, почему великая революция, зревшая в то время почти на всем
континенте, разразилась у нас раньше, чем в иных странах»21. Только
так он мог выделить фактор, который сделал положение во Франции
столь взрывоопасным. Этой переменной (выражаясь современным
языком) оказалась чрезмерная централизация французской
«старорежимной» монархии. Благодаря предпринятому Токвилем шагу
впервые предметом исследования стала революция как таковая.
Интерес к компаративной социологии в 1830-е гг. побудил
Токвиля провести знаменитое исследование демократического
эгалитаризма в Америке. При этом Франция занимала его не меньше,
чем Соединенные Штаты, как свидетельствует предваряющее книгу
бравурное вступление с изложением социологической истории
европейского «старого режима»:
«Я мысленно возвращаюсь к той ситуации, в которой находилась
Франция семьсот лет тому назад: тогда она была поделена между
небольшим числом семейств, владевших землей и управлявших
населением. Право властвовать в то время передавалось от поколения
к поколению вместе с наследственным имуществом; единственным
средством, с помощью которого люди воздействовали друг на друга,
была сила; единственным источником могущества являлась
земельная собственность.
В тот период, однако, стала складываться и быстро
распространяться политическая власть духовенства. Ряды духовенства были
доступны для всех: для бедных и богатых, для простолюдина и сеньора.
343
Через церковь равенство стало проникать внутрь правящих кругов,
и человек, который был бы обречен влачить жалкое существование в
вечном рабстве, став священником, занимал свое место среди дворян
и часто восседал выше коронованных особ.
В связи с тем, что со временем общество становилось более
цивилизованным и устойчивым, между людьми стали возникать более
сложные и более многочисленные связи. Люди начали ощущать
потребность в гражданском законодательстве. Тогда появляются
законоведы. Они покидают свои неприметные места за оградой в залах
судебных заседаний и пыльные клетушки судебных канцелярий и
идут заседать в королевские советы, где сидят бок о бок с
феодальными баронами, облаченными в горностаевые мантии и доспехи.
В то время как короли губят себя, стремясь осуществить свои
грандиозные замыслы, а дворяне истощают свои силы в междоусобных
войнах, простолюдины обогащаются, занимаясь торговлей. Начинает
ощущаться влияние денег на государственные дела. Торговля
становится новым источником обретения могущества, и финансисты
превращаются в политическую силу, которую презирают, но которой
льстят.
Мало-помалу распространяется просвещенность; пробуждается
интерес к литературе и искусству; ум становится одним из
необходимых условий успеха; знания используются в качестве средства
управления, а интеллект обретает статус социальной силы; просвещенные
люди получают доступ к делам государства.
По мере того как открываются новые пути, ведущие к власти,
происхождение человека теряет свое значение. В XI веке знатность
считалась бесценным даром. В XIII веке ее уже можно было купить.
Первый случай возведения в дворянство имел место в 1270 году, и
равенство наконец проникло в сферу власть имущих с помощью самой
аристократии»22.
С учетом подобной многовековой перспективы дальнейшее
движение к демократическому равенству было просто неизбежным;
единственный вопрос заключался в том, будет ли оно
революционным. И, почти как предсказал Токвиль, в 1848 г. стало очевидно, что
«толчки» после землетрясения 1789 г. отнюдь не прекратились.
К 1848 г. появившаяся в XIX в. концепция революции как
достижения политической свободы преобразилась в представление о
революции как о движении к социальному равенству. Механизмы этой
важнейшей трансформации исследуются на протяжении всей данной
книги. Достаточно отметить, что в промежутке между потрясениями
1830 и 1848 гг. возникла магнетически притягательная идея социа-
344
лизма. К концу столетия она породила движение общеевропейского
масштаба, готовое оспорить конституционно-либеральный курс,
проложенный в 1776-1789 гг.
Разумеется, величайшим теоретиком этого движения был Карл
Маркс - о чем также подробно говорится в книге (см. гл. 10). Однако
здесь все же необходимо в двух словах обрисовать суть его теории
революции. Во-первых, потому что она знаменует переход к полной
«социологизации» революции, намеченный Токвилем. Во-вторых,
потому что почти все теоретики, о которых идет речь здесь и в
приложении II, работали в ее тени.
Марксова концепция революции сформировалась незадолго до
1848 г., то есть примерно спустя десятилетие после того, как Токвиль
выступил с идеей революции как эгалитарной демократии. Целью
изысканий Маркса стало определение условий, при которых
революция может произойти в Германии. Он пользовался теми же
историческими данными, что и его либеральные французские
предшественники. Следует подчеркнуть с самого начала: теорию Маркса вызвало
на свет не зарождение «капитализма», как традиционно считается
(такого понятия тогда вообще не существовало), а стремление
открыть исторические законы, которые приведут Германию в лоно
революционного процесса, начатого в 1789 г. Чтобы сформулировать
эти законы, Маркс заимствовал у Гизо принцип классовой борьбы
как движущей силы истории.
Разумеется, по версии Маркса, это борьба
социально-экономическая, а не политическая. Исторические данные, лежащие в основе
созданной Токвилем картины продвижения к равенству одного
европейского класса за другим, он использовал для выстраивания
четко структурированного диалектического пути к «буржуазной
революции» 1789 г. Эту жесткую логику он, несомненно, взял у Гегеля.
В конечном итоге появилась теория революции, толкающей
человечество от рабовладельческого к феодальному, затем к буржуазному
и, наконец, к социалистическому обществу. Данную теорию нельзя
назвать компаративной. Она подразумевает линейное, хотя и
диалектическое, развитие, общее для всей Европы и, собственно, для
всего мира. Кроме того, она предлагает двухъярусную конструкцию из
«надстройки» и «базиса», в рамках которой политика и культура - не
более чем наросты на теле социально-экономических сил.
Первая часть теории - социологическая. Вот знаменитые строки
из работы «К критике политической экономии» 1859 г.: «В
общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные,
необходимые, от их воли не зависящие отношения -
производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени раз-
345
вития их материальных производительных сил. Совокупность этих
производственных отношений составляет экономическую структуру
общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и
политическая надстройка и которому соответствуют определенные
формы общественного сознания. Способ производства
материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный
процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а,
наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»23. Из
социального процесса рождается политический переворот,
устанавливающий новый социальный порядок: «На известной ступени своего
развития материальные производительные силы общества приходят в
противоречие с существующими производственными отношениями,
или - что является только юридическим выражением последних -
с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор
развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения
превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной
революции»24. Ее сценарий подробно изложен в «Манифесте
коммунистической партии», который вышел в свет накануне революции
1848 г.: «Каждая из этих ступеней развития буржуазии
сопровождалась соответствующим политическим успехом. Угнетенное сословие
при господстве феодалов, вооруженная и самоуправляющаяся
ассоциация в коммуне, тут - независимая городская республика (как в
Италии и Германии), там - третье, податное сословие монархии (как
во Франции), затем, в период мануфактуры, - противовес
дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа
крупных монархий вообще, наконец, со времени установления крупной
промышленности и всемирного рынка, она завоевала себе
исключительное политическое господство в современном представительном
государстве»25. Согласно такой всемирно-исторической «логике»
буржуазная эксплуатация в конечном итоге не может не привести
ко второму 1789 г. на более высоком уровне, в виде пролетарской
социалистической революции - правда, весь XIX в. подобный исход,
конечно, оставался лишь в надеждах и прогнозах.
Тем не менее уже к концу века история прошлых революций стала
переписываться с социалистической точки зрения. Начало этой
тенденции было положено (и не случайно, как мы увидим) в самой
отсталой европейской стране - России, книгой князя П. А. Кропоткина
«Великая французская революция: 1789-1793», написанной в 1885 г.
После 1900 г. за ней последовала «Социалистическая история
Французской революции» Жана Жореса26. Реконцептуализация
революции как социального, а не политического феномена на рубеже
XIX-XX вв. устанавливает еще одну предварительную границу
нашего предмета.
346
Революция как социальный сдвиг
С наступлением нового века социалистическая мысль наконец
претворилась в дело. В качестве прелюдии демократическая
революция впервые перешагнула границы Европы, произойдя в 1910 г.
в Мексике, ав 1911 г. в Китае. Затем в 1917 г. российский Красный
Октябрь поднял занавес в главной драме столетия: к власти в первый
раз пришел марксистский режим, провозгласив безотлагательной
задачей «строительство социализма». С тех пор существовали два типа
революции. А может, на самом деле даже два разных вида? В любом
случае, 1917 г. разделил современную историю на «до и после»,
создав два антагонистических и непримиримых лагеря: адепты
социалистического пролетарского восстания повели войну не на жизнь, а
на смерть против либерально-конституционного,
буржуазно-демократического истеблишмента. «Красная революция» самим своим
существованием декларировала, что 1776 и 1789 гг. отменяются и все
их половинчатые меры и частичные свободы аннулируются.
Наследники либерализма вынуждены были перейти к обороне.
Знаковая примета того времени: американская республика, всегда
считавшая себя революционной наставницей, подрывной
международной силой, которая стимулировала мятежи 1820-х гг. в Латинской
Америке и перевороты 1830 и 1848 гг. в Европе (за что прочно
утвердившаяся французская республика вознаградила ее в 1889 г.,
передав американцам в дар к столетию моментов основания двух наций
Статую Свободы), на сей раз объявила большевиков варварами,
находящимися за гранью цивилизации. Британцы предприняли еще
более энергичные действия - организовали против них вооруженную
интервенцию. К ним присоединилась французская буржуазия,
потерявшая вложения в облигации Российской империи ввиду отказа
большевиков платить по царским долгам. Французы не признавали
Советскую Россию официально до 1924 г., англичане - до 1928 г.,
американцы - до 1933 г. Фактически же за все 74 года советского
коммунизма западные демократии, невзирая на «Великий альянс» во
время Второй мировой войны, так и не согласились с легитимностью
большевистского режима.
Одно из последствий этих перемен - появление ряда разных
типов революций, на основании анализа которых можно строить общую
теорию. Вместе с тем все революции (по крайней мере, настоящие)
стали рассматриваться как социальные. По сути, большинство
событий, которые сейчас принято называть «революциями», произошли в
XX в. И почти все эти революции претендовали на звание
социалистических, а подавляющее большинство из них на самом деле были
коммунистическими.
347
Такое стечение обстоятельств превратило тему революции из
исторической проблемы в социологическую. Первоочередным
вниманием аналитиков стали пользоваться не особенности нескольких
переворотов, как в XIX в., а общие, предположительно
универсальные характеристики феномена, который теперь казался бесконечно
повторяющимся.
Реакция либералов на социалистические революции не была
чрезмерной, как полагали многие весь прошлый век. Она
засвидетельствовала реальный факт наличия в современную эпоху двух
разных «семейств» революций, символами которых являются
соответственно 1789 и 1917 гг. И предметом исследования революции
как таковой служит взаимодействие двух этих исторических сил, а
не удлинившаяся череда переворотов. Одни наблюдатели
рассматривают современную революцию как постепенный переход от одного
полюса ко второму. Другие считают их кардинально
противоположными. Но почти все, изучая проблему революции, сосредоточивают
внимание на двух величайших из «великих революций». Полярность
современной революции, обозначенная двумя пиками - 1789 и
1917 гг., - приводит нас к очередному предварительному
ограничению рамок нашего предмета.
Мир за пределами Европы
Означает ли генеалогия революционной концепции, что до XX в.
не было революций в Китае, Индии, исламском мире? Или в Древней
Греции и Древнем Риме? На этот вопрос следует дать
евроцентричный положительный ответ. Правда, во всех этих обществах бывало
много политического насилия и внеправовых изменений. Однако
при подобных трансформациях не наблюдалось ни модели действий,
ни результатов, аналогичных тем, которые обнаружены у
современных западных революций.
Начнем с наиболее удивительных негативных примеров - Греции
и Рима. В конце концов, именно классическая Античность
изобрела политику и дала нам основной политический словарь. Само
слово «политика» происходит от греческого «polis», «демократия» - от
«demos» и «kratos», «республика» - от латинского «res publica». На
всей остальной планете до XX в. существовал только строй, который
западные философы, от Аристотеля до Гегеля, небезосновательно
называли «восточным деспотизмом». Однако в языках двух обществ,
придумавших партиципаторную политику, не было слова для
обозначения революции - по той простой причине, что в их истории
не случалось преобразований, благодаря которым мог бы появиться
348
этот термин. В греческом языке, в знаменитых пассажах из Фукидида
и Аристотеля, слово, которое обычно переводят как «революция», на
самом деле - «stasis» (от глагола «стоять»), означающее
противоборство фракций полиса («демоса», то есть народа, и аристократии),
каждая из которых «стоит на своем». Одним словом, этот термин
означает гражданскую войну, однако не подразумевает переход к
новому порядку или новой эпохе. В латинском языке сопоставимые
понятия: «bellum civitas» («гражданская война»), «seditio» («мятеж»), «res
novae» (буквально «новое дело» или «новое устройство» - примерно
то же, что государственный переворот). Все они опять-таки не несут
в себе коннотации исторического движения вперед.
На этом обстоятельстве заострил внимание такой авторитетный
специалист по античной истории, как сэр Мозес Финли. Будучи
марксистом, он объясняет его тем, что в древности «не было
революционной передачи власти новому классу (или классам), поскольку не
было новых классов». Хотя классовой борьбы и в Греции, и в Риме
хватало, там никогда не происходило «подлинной смены классового
базиса государства». Можно соглашаться или не соглашаться с таким
«классовым» объяснением, однако не поспоришь с тем, что
«античные утопии, как правило, статичны, аскетичны и иерархичны - не
того сорта, чтобы пробуждать народный энтузиазм во имя
прогресса»27. Это резко отличается не только от современных представлений,
но и от средневекового телеологического понимания судьбы
человечества (хотя в средневековом обществе тоже не появлялось новых
классов).
Тем не менее вполне доказанная разница между античным и
более поздним европейским менталитетом не мешала видным
историкам, от Теодора Моммзена в XIX в. до Рональда Сайма в XX в., много
писать о «римской революции», имея в виду период от Гракхов до
Цезаря, то есть от поздней республики до империи28. Но факт
остается фактом: этот важнейший переход никогда не рассматривался
как переход от порочного старого мира к добродетельному новому.
Многие римляне на самом деле полагали обратное: деспотическая
империя представлялась им великим упадком по сравнению со
свободной республикой. И такое суждение естественным образом
вписывается в древнее представление об истории как циклическом, а не
линейном и не прогрессивном процессе.
Та же циклическая модель характерна для Китая до его контактов
с Европой. По словам Джозефа Нидема, также авторитетного
специалиста в своей области, в Китае постоянно происходила смена
династий по одному и тому же образцу29. Династия управляет страной,
которую полагает мировой империей. Правление это - автократиче-
349
ское, опирающееся на класс мандаринов, выходцев из аристократии
(или бюрократии евнухов). В конце концов, система теряет доверие
народа; начинаются крестьянские восстания, зачастую под
руководством мандаринов-перебежчиков, или же возглавляемые вожаками,
которых выдвигали сами крестьяне, В соответствии с национальной
идеологией подобные нарушения свидетельствуют, что династия
утратила «Небесный мандат». В результате следует ее падение, и на
ее руинах приходит к власти новая династия, чтобы править в тех
же государственных формах, что и предшественники. Если угодно,
можно назвать такие циклы «революциями», однако особого смысла
в этом нет, поскольку они не имеют ничего общего с
хрестоматийным европейским сценарием 1789-1799 гг. Бесконечный круговорот
китайских переворотов представляет собой отдельную, совершенно
особенную модель.
Нужно отметить отсутствие правдоподобных аналогов
современной европейской модели революции и в Индии. Конечно, несколько
волн мусульманских завоеваний с XII по XVI в. вызвали там
серьезные перемены: исламизацию значительной части населения
субконтинента наряду с нивелированием индусской кастовой системы.
Однако подобное нивелирование не слишком напоминает
позднейшую европейскую демократизацию. Не находим мы аналогов
ей и в сердце ислама - на Ближнем и Среднем Востоке. Разумеется,
переход халифата из рук дамасских Омейядов в руки багдадских
Аббасидов (который действительно называют аббасидской
революцией) представлял собой крупный сдвиг, смену власти арабских
суннитских сил властью персов-шиитов30. Тем не менее, хотя в данном
изменении присутствовал элемент милленаризма, наблюдавшийся и
в европейских революциях, этого отнюдь недостаточно для того,
чтобы его сравнение с событиями во Франции после 1789 г. принесло
какую-нибудь пользу.
После исключения из рассмотрения классической Античности и
великих империй Востока тема революции сужается до приемлемых
пределов. Только работая с относительно ограниченным числом
примеров, можно прийти к полезным и поддающимся проверке
обобщениям. Подытожим параметры, которые нам удалось установить с
помощью выбранного метода в первом приближении:
а) До XX в. понятие революции имело отношение только к
европейскому культурному пространству, включающему обе Америки.
Это было в основном политическое понятие.
б) Понятие и феномен революции получили распространение в
остальной части мира лишь в XX в., когда другие культуры стали
испытывать на себе европейское влияние. Поэтому большинство пере-
350
воротов, которые принято называть революциями, произошли
именно в XX в.
в) Революции XX в. по своему происхождению и природе
считаются социальными, а не политическими.
г) Поэтому почти все революции XX в. были социалистическими.
А социализм их относился преимущественно к его
коммунистической, марксистско-ленинской разновидности.
д) «Теоретизированием» по поводу этих революций занимались
главным образом социологи и политологи, а не историки. Поскольку
XX в. являлся революционным веком par excellence, неудивительно,
что революция как таковая стала предметом исследования именно в
этом столетии.
В социальной науке XX в. этот предмет занимал столько места,
что один специалист предложил присвоить ему статус отдельной
дисциплины под названием «стасиология» (от греческого «stasis»)31.
Мы исходим здесь из того, что таковая действительно существует.
Приложение II посвящено ее истории в XX в. Акцент сделан на
историю, поскольку анализ революции как явления, так же как и само
понятие революции, эволюционировал с течением времени.
В естественных науках, говоря относительно и со всем уважением
к принципу Гейзенберга, наблюдатель находится вне наблюдаемого
объекта. И хотя у природного мира есть своя история, он меняется
столь медленно, что наблюдатель работает, по сути, без учета
исторического аспекта. В социальных науках наблюдатель - неотъемлемая
часть социального процесса, который он наблюдает. Кроме того, и
процесс, и наблюдения непрерывно изменяются во времени. Посему
«стасиология», да и любые объяснения, предлагаемые социальной
наукой, сами являются эволюционирующими продуктами истории.
Они культурно специфичны. Следовательно, судьбы «стасиологии»
будут рассматриваться в этой специфично-временной перспективе.
Приложение II
ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА
И «СТАСИОЛОГИЯ»
Вся история - современная история.
Бенедетто Кроне
История - это политика,
опрокинутая в прошлое.
М. Н. Покровский
История - это настоящий роман.
Поль Вейн
Какие же результаты принесли насчитывающие уже несколько
десятилетий изыскания социальной науки в области
исследования революции? Представлять здесь подробно всю их
обширную продукцию нет ни возможности, ни необходимости. Достаточно
выделить основные линии развития нашей темы, приведя
примеры различных точек зрения и уделив внимание нескольким
наиболее значительным трудам, отмечающим главные этапы
дисциплины, которую, воспользовавшись лексиконом Аристотеля, назвали
«стасиологией»1.
Систематизация сравнения
Работа, которая знаменует переход от традиционной истории к
социологии (и, пожалуй, наиболее близка к тому, чтобы стать
классикой), - «Анатомия революции» Крейна Бринтона2. Впервые эта
книга вышла в 1938 г., окончательной доработке подверглась в 1965 г. и
пользуется спросом до сих пор. Ее концептуальная схема продолжает
применяться для объяснения хода русской революции и даже
революции 1979 г. в Иране3. Автор, специалист по Французской
революции, в этом общем труде ставит целью придать своей теме
«научный» и социологический характер. Однако, учитывая изменчивость
исторических явлений, он обращается за помощью к одной из самых
покладистых естественных наук - патологии. Революция
становится у него «видом лихорадки», а концептуальная схема, с которой
352
он подходит к четырем наиболее знаменитым примерам - Англии,
Франции, Америки и России, заключается в том, чтобы увидеть в них
«единообразие». Он не ищет законов, действующих для всех
революций, а лишь стремится выявить некие признаки регулярности,
позволяющие упорядочить наше социальное знание, образцы, которые, как
он ожидает, «сделают очевидным то, что любому разумному человеку
уже известно о революциях»4. По сути, его заключения весьма
напоминают хорошо известную маятниковую теорию революции.
Революция начинается тогда, когда старый порядок ломается
под бременем собственной растущей неэффективности, критики со
стороны интеллектуалов и отступничества элит - все эти
классические симптомы кризиса подмечены любимым социологом Бринтона
Вильфредо Парето. На первом этапе революции верховодят
умеренные, добивающиеся серьезных перемен, но не совершенно нового
порядка. Однако применение силы радикализирует ситуацию,
поскольку поднимает на борьбу консервативных противников любых реформ.
Тем самым создаются условия для доминирования меньшинства
«экстремистов», готовых защищать новый порядок с помощью
какого угодно насилия. Эти фанатики - Кромвель, Робеспьер, Ленин -
навязывают обществу царство террора и революционной чистоты. Но
простые смертные не в силах постоянно выносить напряженность,
порождаемую всеобщим принуждением. Давление вызывает
ответный удар - термидорианскую реакцию, лихорадка спадает, и
общество возвращается к тому, чего умеренные желали с самого начала.
Этот сценарий - в сущности, описывает расхожее
представление о том, что бывает во время крупного европейского переворота.
Некоторые из частных параллелей, отмеченных Бринтоном,
поистине поучительны. Одна из них - ужасное крещендо революции до
цареубийства в Англии и Франции. Он также находит параллели с
российским двоевластием Временного правительства и рабочих
советов в 1917 г. Хотя наиболее ярко двоевластие проявило себя
именно в России, такая же полярность «законного» и «незаконного»
суверенитетов явно существовала во Франции (между Конвентом и
парижскими санкюлотами, организованными в секции), в Англии
(между парламентом и индепендентами «армии нового образца»),
даже в Америке (между Континентальным конгрессом и
«патриотическими» корреспондентскими комитетами). Здесь действительно
прослеживается единообразие.
Тем не менее в целом концептуальная схема Бринтона мало что
объясняет. В основном она представляет собой обобщение
французского случая, которое затем проецируется на остальные три. Этот
способ достаточно хорошо работает применительно к Англии, в кото-
353
рой, как понимали и Бёрк, и Гизо, и Токвиль, «старый режим»
походил на французский. Но для Америки и России схема уже не годится.
Сам автор признает, что в Америке, несмотря на некоторые
«патриотические» перегибы, не было террора, а умеренные состоятельные
джентльмены все время держали бразды правления в своих руках.
Российский случай еще дальше от норм Бринтона. Умеренных
1917 г. (конституционных демократов или кадетов)
ликвидировали за считаные месяцы, а не за четыре года, как во Франции.
Экстремистское же течение (большевики), напротив, захватив власть
в октябре, удерживало ее на протяжении 70 лет, что значительно
превосходит пятнадцатимесячный период правления якобинцев.
В России никогда не было термидора: ни в 1921 г., когда закончился
военный коммунизм и наступила передышка в виде полурыночного
нэпа, ни в середине 1930-х гг. между сталинской коллективизацией
и Большим террором. Правда, после смерти Сталина в 1953 г.
революционный пыл стал угасать, однако институционализированная
диктатура партии, созданная Лениным, сохранила власть, и ее
социалистические цели оставались неизменными вплоть до краха 1991 г.
В конце концов, после тщетных попыток отыскать термидор в России,
предпринятых в период между выходом изданий 1938 и 1965 гг.,
автор снабдил российский пример ярлыком «перманентной
революции», так и не объяснив, каким образом большевистская «лихорадка»
привела к столь неправильному результату.
Конечно, в 1935 и даже в 1968 г. мало кто из западных ученых имел
ясное представление о советском эксперименте, поэтому ожидание
термидора было вполне оправдано. В «ожидание Годо» его в
конечном счете превратило неожиданное обретение словом «революция»
после Красного Октября совершенно иного смысла: теперь оно
означало не восстание или переворот, а режим. Отметим, что подобный
перенос значения случился в большинстве революций XX в. Когда
Мао Цзедун или Кастро говорили о «защите революции», они имели в
виду защиту правящей партии-государства - еще одной особенности,
которую XX в. привнес в расширяющийся феномен революции.
Но даже если бы Бринтон обладал всей доступной ныне
информацией, его концептуальная схема не смогла бы объяснить
институционализированную революцию, поскольку он так и не проясняет,
относительно чего умеренные и экстремисты являлись умеренными
и экстремистами? Он признает, конечно, что пуритане-индепенден-
ты были кальвинистами, якобинцы - сынами эпохи Просвещения, а
большевики - марксистами. Однако в его анализе все они действуют
не в рамках этих систем верований, а исключительно в своих ролях
умеренных или экстремистов. То есть определяются функционально,
354
а не идеологически, и в своем функциональном качестве практически
взаимозаменяемы. Короче говоря, схема Бринтона в корне внеисто-
рична. Революции у него концептуально одинаковы или, по крайней
мере, аналогичны. Но должно быть очевидно, что, несмотря на общее
наличие «лихорадки», американская и русская революции находятся
на разных полюсах как в идеологическом, так и в социологическом
плане. Иначе откуда бы взялась «холодная война»? Даже
английский и французский примеры, несмотря на большое структурное
сходство, все же демонстрируют значительные расхождения,
которые функциональный подход не дает заметить, - на чем патриотично
настаивали британские виги и французские республиканцы еще со
времен Маколея и Мишле.
Революции не повторяются. Их нельзя свести к развертыванию
функциональных или структурных моделей (или хотя бы в
малейшей степени понимать как таковое). Революции всегда происходят
ради чего-то. И это что-то меняется со временем, подобно тому, как
современная культура перешла от религиозных к светским заботам
и от политических к социальным. Кроме того, современные
революции демонстрируют образец временного или последовательного
развития, о чем свидетельствует даже ограниченная схема
Бринтона.
Данное развитие заключается в том, что современные
революции становились все более революционными: их итоги менялись от
олигархической конституционной монархии в Англии до умеренной
республики в Америке, радикальной уравнительной республики во
Франции и, наконец, «красной» советской социалистической
республики в России. Главные действующие лица революционной драмы
вдобавок привлекались со все более низких ступеней социальной
лестницы: ведущие роли переходили от сельского дворянства и
состоятельных купцов к интеллектуалам и представителям свободных
профессий, затем к ремесленникам и промышленным рабочим и,
наконец, к крестьянству. Итак, со временем западный революционный
процесс повышал свою интенсивность и амбициозность. Кроме того,
он углублялся: каждая революция училась у предшественниц и затем
радикализировала полученные уроки, возводя их на «высший», более
демократический уровень.
Следовательно, существует не только структурная модель
действий внутри каждой революции, часть которой верно описывает
бринтоновская метафора «лихорадки». Существует также
генетическая модель революционной эскалации, которую в середине XIX в.
по-разному разъясняли Токвиль и Маркс.
355
Революция и высокая социальная наука
Систематический анализ революций развернулся в полную силу
f олько после Второй мировой войны. Первым импульсом к его
развитию послужило вхождение Китая в 1949 г. в канонический
список «великих революций», что вдвое усилило эффект 1917 г. Кроме
того, этот новый виток эскалации впервые в истории выдвинул
Крестьянство на передовую линию мирового революционного
процесса. Начало данной тенденции положило возникновение
движения Эмилиано Сапаты в Мексике в 1910 г., большой шаг вперед она
сделала благодаря российской крестьянской «жакерии», которая
помогла большевикам захватить власть, дав Ленину основание
изображать свою партию «революционным союзом рабочих и крестьян».
Кульминация наступила в Китае, где Мао отодвинул рабочий класс
на второй план, сделав крестьян главным революционным
классом. Китайский эффект усилился в результате «холодной войны»,
Когда «красная» революция распространилась на Вьетнам, Кубу и
Никарагуа, порождая сильные (хотя в конечном счете безуспешные)
коммунистические движения от Индонезии до Южной Америки. По
мере такого «окрестьянивания» революции тема «примитивных
бунтов» и «крестьянских восстаний» привлекала все больше внимания в
Социальной науке5.
Второй побудительный мотив к трансформации исследований
революции дала послевоенная институционализация социальных наук,
особенно в крупнейшем университетском сообществе Америки. Эти
Дисциплины теперь всеми возводились в ранг третьей великой
области изучения, стоящей на одном уровне с гуманитарными и
естественными науками. С последними они также стремились
сравняться по строгости и надежности методов. «Общество», его основные
структуры, функции и составляющие его классы рассматривались
как универсальный объект, поддающийся «внеценностному»
анализу в категориях, справедливых для любой культуры и любого
исторического периода. Поэтому первоочередная задача теперь заключалась
в том, чтобы подогнать расширяющийся феномен революции под
строгие рамки новых категорий. От довоенных теоретических опы-
toB Бринтона вскоре стало принято отмахиваться как от
примитивного «естественноисторического» подхода к революции.
Литература этой высокой социальной науки делится на два
широких направления: структурный функционализм,
представляющий собой американский синтез творчества европейских корифеев
Вебера и Дюркгейма, и социально-экономический классовый анализ,
явно унаследованный от марксизма, но без его «ортодоксальности».
356
В произведениях первой категории мы обнаружим уже упомянутую
ранее теорию «внутренней войны». Если немного детализировать ее
с помощью терминологии новой социальной науки, то она
включает «четыре положительные переменные - неэффективность элитц,
дезориентирующий социальный процесс, подрывную деятельность
и наличие ресурсов для мятежа - и четыре отрицательные
переменные - отвлекающие механизмы, наличие должностных ресурсов,
механизмы приспособления и эффективные репрессии»6. Любая
внутренняя война якобы может объясняться различными
способами взаимодействия этих восьми переменных. Возможно. Но ни один
историк не использовал эту теорию систематически в исследовании
конкретной революции. Затем, существуют теории «фрустрации-
агрессии», структурной «дисфункции», политического и
социального дисбаланса и «неравновесия», институционального блокирования
«модернизации». И, кроме того, есть бихевиористское
предположение, что революции происходят не в результате растущей нищеты, а
из-за «относительной депривации», то есть разрыва между
ожиданиями народа и его восприятием своего реального положения7.
Некоторые из этих теорий нашли творческое применение в
исследовании революций, имевших место в действительности. Историк
Лоренс Стоун эффективно использовал теории относительной
депривации и (отчасти) внутренней войны, анализируя причины
английской революции8. Особо следует выделить работы Чарльза
Тилли, поскольку он одновременно и историк, и социолог,
специалист в области временных и национальных аспектов, а также
теоретик революции в целом. Поэтому, с одной стороны, из-под егр
пера вышла «Вандея», крупное ситуационное исследование внешне
противоречивой контрреволюции низших классов9, а с другой -
теоретический трактат, в котором он анализирует однотипные
основания любого процесса, ведущего от социальной «мобилизации»
к фактической «революции»10. По его мнению, нет единой модели
революции, которая повторялась бы в европейской истории, однако
есть механизм революционных изменений, который лежит в основр
любого конкретного восстания. Тилли сравнивает его с дорожными
пробками, возникающими, когда разные потоки уличного движения,
каждый из которых обусловлен своими причинами, сталкиваются,
образуя огромный затор. Иными словами, революции происходят
тогда, когда сходятся к одной точке разные «нормальные» цепочку
причин и следствий (экономических, демографических,
конституционных, международных и т. д.). В революционной ситуации два или
более блока «соперников» предъявляют несовместимые «претензии»
на власть над государством; такое «двоевластие» ведет к борьбе и ре-
357
волюционному исходу. История играет свою роль в рамках этой
модели, поскольку государство, экономика и общество меняются с
течением времени: в своем анализе Тилли рассматривает Голландское
восстание (первую буржуазную революцию), революции в Англии,
Франции и России. Развал Советского Союза в 1989-1991 гг. он тоже
считает революцией, но не столь масштабной, как предыдущие
четыре «великие революции». Культура и идеология в модели Тилли не
учитываются.
На данный момент достаточно отметить, что различные попытки
структурирования, указанные выше, заставили большинство
историков (чьим призванием теоретизирование не считалось еще много лет
после окончания Второй мировой войны) гораздо точнее
формулировать свои вопросы и ответы11. Однако до сих пор слишком многие
теории сводятся к абстрактной констатации того, что мы уже знаем
о политике и обществе. И практически все они представляют живой
опыт в виде некоего самодвижущегося механизма, «научного»
только в рамках их внутренней концептуальной логики (которая порой
заключается всего лишь в мнимом уточнении чрезмерно
рафинированной терминологии), а не в связи с наблюдаемыми историческими
данными.
Неомарксистские теории революции для историков интереснее,
как раз потому, что сравнение по определению влечет за собой
изучение конкретных примеров. Почти классикой здесь является книга
Баррингтона Мура «Социальное происхождение диктатуры и
демократии: Лорд и крестьянин в становлении современного мира»,
вышедшая в 1966 г.12 Социолог, набравший хороший эмпирический
материал по Советской России13 (как Бринтон - по Франции), исходит
из предпосылки, что определяющим признаком современного мира
служит неуклонное движение всех обществ к капитализму, которое
влечет за собой ликвидацию неисправимо косного крестьянства.
Свою задачу он видит в том, чтобы определить, при каких условиях
подобная «модернизация» приводит к демократии, а не
коммунистической или фашистской разновидности диктатуры. Пытаясь найти
ответ на этот вопрос, он, разумеется, попадает в ловушку великого
парадокса классового анализа XX в.: вопреки марксистским ожиданиям,
социалистическая революция побеждала лишь в отсталых аграрных
обществах и никогда - в развитых промышленных, где происходили
исключительно фашистские революции. Тем не менее квазимарксист
Мур остается верен убеждению, что все революции должны
объясняться с классовой точки зрения. Поэтому он старается разрешить
современный парадокс марксизма, перетасовывая карты социального
358
класса и политического режима, дабы получить новые соотношения
между двумя факторами.
Модель, к которой он приходит в результате, предполагает три
типа модернизации: демократический капитализм на Западе;
авторитарный и в конечном счете фашистский капитализм в Германии
и Японии; коммунистическая модернизация «сверху», заменившая
капитализм в России и Китае. В каждом случае исход определяется
не взаимодействием буржуазии с пролетариатом, как в классическом
марксизме, а взаимодействием аристократии с крестьянством.
В первую категорию «буржуазных демократий» (термин, который
употребляется с некоторым извиняющимся оттенком, но
решительно) входят три подвида: примерами служит вполне ожидаемое трио -
Англия, Франция и Соединенные Штаты. В первом случае
аристократия сама занимается товарным сельским хозяйством и потому
объединяется с буржуазией с целью ограничения власти монархии.
Крестьянство устраняется посредством огораживания общинных
земель, рабочие остаются в стороне от мятежа. Конечный итог -
прочный капитализм и несовершенная, но все же либеральная
демократия. Во Франции буржуазия, экономически не столь динамичная, как
в Англии, опирается на предприимчивых крестьян и отчасти на
рабочих, дабы вытеснить по большей части не занимающуюся
торговлей, паразитическую аристократию и уничтожить монархию. Итог -
широкая демократия, но слабый капитализм ввиду социального веса
мелкокрестьянских собственников. В Америке гражданская война
играет роль буржуазной революции (sic!), уничтожая торговую, но,
тем не менее, «феодальную» аристократию Юга и готовя почву для
триумфа капитализма и небезупречной, однако подлинной
демократии. Последний сценарий представляет собой явно абсурдную,
искусственную проекцию на другой берег Атлантики образцовой для
Мура (и Маркса) экономической модели Англии ради сохранения
априори заданной схемы. Все это, как и терминология Бринтона, на
самом деле показывает, что Америка является «третьим лишним» в
современной революции.
Второй тип взаимоотношений по теории Мура - Германия и
Япония - представляет собой авторитарную модернизацию «сверху».
Ее движущей силой выступает союз аристократии с абсолютной
монархией для того, чтобы поработить крестьянство и самой заняться
коммерческим сельским хозяйством. Этот путь ведет к поощрению
развития капитализма ради возвышения нации, а его итоговый
результат - фашистская диктатура.
Третий тип - Россия и Китай. Слабая аристократия
находится в чрезмерной зависимости от самодержавной монархии, которая
359
нужна ей, чтобы подчинять и эксплуатировать крестьян. Этим
обусловливается очень слабое, в основном руководимое государством,
капиталистическое развитие, что в условиях войн XX в. приводит к
национальному поражению. А оно, в свою очередь, вызывает взрыв
крестьянского бунта во главе с недовольными интеллектуалами,
который сметает и монархию, и аристократию, и зависимую от
государства буржуазию. Неизбежную задачу модернизации берут на себя те
самые недовольные интеллектуалы, пришедшие к власти посреди
всеобщей неразберихи. И эта коммунистическая и «тоталитарная»
диктатура, наконец, осуществляет жестокую, но необходимую
ликвидацию «идиотизма деревенской жизни».
Модель Мура представляет собой интеллектуальную
конструкцию, столь же изобретательную, сколь амбициозную. Она
складывает из множества переменных внутренне стройную схему и внешне
убедительно соотносит ее с целым рядом примеров по всему миру.
В обоих отношениях она идет гораздо дальше упрощенной
«естественной истории» Бринтона. В качестве теоретической конструкции она
соперничает по сложности с наиболее всеобъемлющими структурно-
функциональными моделями, при этом превосходя их полнотой
иллюстративного фактического материала. Автор, прочитавший много
литературы на всех соответствующих европейских языках (ожидать
от него еще и знания китайского и японского было бы уже слишком),
зачастую предлагает интересные методологические наблюдения и
дельные замечания по поводу социальной истории, от Крестьянской
войны 1525 г. в Германии до Китая и Индии XX в.
Но, пожалуй, величайшая роль модели Мура заключается в
непреднамеренной, однако поистине впечатляющей демонстрации
негодного подхода к объяснению исторических событий. По сути, Мур
сумел дискредитировать марксизм сильнее, чем большинство ярых
критиков последнего. Используя классовый анализ в глобальном
масштабе, Мур переворачивает марксовскую теорию истории как
поступательного движения от феодального к буржуазному и затем
социалистическому обществу с ног на голову. Реакционные лорды и
ретрограды-крестьяне становятся у него великими революционными
силами современного мира, буржуазия оказывается единственным
оплотом демократии, а пролетариат совершенно исчезает из поля
зрения. Общий результат революции XX в., по Муру, - не
освобождение человечества, а диктатура. Впрочем, не желая согласиться со
столь печальным итогом современности, Мур добавляет последнюю
главу о социалистической Индии в надежде отыскать какие-нибудь
намеки на лучшее будущее.
В любом случае, хорош марксизм или плох, нужно судить на
основании его применения как объяснительной системы во всей его
360
целостности. Классовая борьба в теории Маркса - выражение
исторической телеологии, согласно которой низшие и эксплуатируемые
классы именно в силу своего угнетенного положения выступают
авангардом рациональной перестройки мира в бесклассовое
общество. Вырванный из этого контекста классовый анализ становится
просто еще одной формой структурализма, причем не самой
полезной. Его явно недостаточно для разъяснения мрачного парадокса,
который демонстрируют семь примеров современных революций,
приведенных Муром. Посему мы вынуждены спросить: что еще
вызывает в современную эпоху столь неприятные следствия?
Ответ отчасти заключается в таких чрезвычайных
обстоятельствах, как война. Мур игнорирует этот фактор, хотя без него
распространение коммунизма в XX в. непостижимо. Еще более серьезная
ошибка Мура заключается в том, что он сохраняет главный изъян
оригинального марксизма: сводит политику и культуру к роли
надстройки на социально-экономическом базисе общества. Политика и
государство у него совершенно не участвуют в революционном
процессе, действующими лицами высокой исторической драмы
выступают исключительно безликие социальные классы. Единственная
политическая сила, упоминаемая в каждом из конкретных
национальных примеров, - монархия, структура и способ
функционирования которой, однако, никогда не описываются и не сравниваются с
другими случаями. Но разве мандаринская империя маньчжуров и
«старый режим» Бурбонов - одно и то же?
Не менее важно, что ни у кого из участников революционного
процесса, изображенного у Мура, как будто нет в голове никаких идей; его
анализ не касается ни идеологии, ни культуры вообще. Мур
правильно указывает, что крестьяне стали главным революционным классом
XX в. не благодаря какому-то своему мировоззрению или программе.
И в России, и в Китае они являлись революционерами только в
негативном смысле: их бунты сметали старый порядок, однако они не
были способны сами прийти к власти или строить государство. Все
это верно. Но вовсе не ведет автоматически к сделанному Муром
выводу, что неизбежная задача модернизации в таком случае
возлагается на недовольных интеллектуалов - одного из главных персонажей
драмы, хотя вряд ли «класса».
Откуда берется это безликое сообщество интеллектуалов?
Какими мотивами вдохновляется их коммунистическая программа?
И как им удается безнаказанно претворять ее в жизнь столь
непомерной ценой? Все эти неизбежные вопросы даже не поднимаются,
словно автор подразумевает, что модернизирующая миссия
интеллигенции - естественный продукт социально-экономического про-
361
цесса. Социологизация революции в очередной раз показывает нам
историю как самодвижущийся социальный механизм. То, что этот
новый механизм имеет социально-экономическую природу, а не
структурную, не делает его менее призрачной абстракцией, чем его
конкуренты.
Заполнить пробелы в модели Мура, по-видимому, поставила
себе целью его ученица Теда Скокпол в работе 1979 г. под
названием «Государства и социальные революции: Сравнительный анализ
Франции, России и Китая», которая до сих пор является наиболее
авторитетным трудом в данной области, а для многих - уже
классикой14. Скокпол провозгласила лозунг «возвращения государства»
(в поле зрения аналитиков)15. Это, безусловно, нужно было сделать.
Но удивительно, что постановка такой задачи считалась
методологическим прорывом. В сущности, подобное стремление заново
изобрести колесо свидетельствует исключительно о том, как низко пала
социология революции. Казалось бы, с самого начала должно быть
очевидно, что не может быть революции без государства, которое
надлежит захватить в свои руки или низвергнуть. Хотя, возможно,
эта мысль действительно стала новостью в сфере исследований, где
специалисты от изучения конкретных эмпирических примеров
перешли к старательному накоплению теоретического материала.
Модель Скокпол охватывает Францию, Россию и Китай. С
помощью «многомерного» анализа трех случаев она пытается найти
общую каузальную схему, обусловливающую каждый из них16. Иными
словами, это «макроистория» на самом высшем уровне.
До революции все три общества представляли собой сходные
«аграрные бюрократии». Этот малопонятный термин,
заимствованный у Мура, вовсе не означает, что бюрократы возделывали поля,
как кому-то может показаться. Смысл его в том, что аграрными
обществами правила бюрократическая монархия. Кроме того, три
страны сильно проигрывали в международной конкуренции
экономически более развитым соперникам: Франция - Англии, Россия -
всей Европе, а Китай - западным державам вообще. Конкуренция
вынуждала каждое аграрное государство осуществлять
«экстраординарную мобилизацию ресурсов в целях экономического и военного
развития». Это повышало налоговое бремя на знатных
землевладельцев, которые также поставляли кадры для
королевской/царской/императорской бюрократии. Знать реагировала: а) добиваясь
с помощью институциональных рычагов в бюрократическом
аппарате контроля над абсолютной монархией (как в случае с
французскими Генеральными штатами); б) увеличивая собственные финан-
362
совые поборы с крестьян. Конфликт между знатью и монархией на
самом верху подрывал государственный аппарат, разжигая внизу
массовые крестьянские бунты против землевладельцев (как,
например, во время «Великого страха» 1789 г.). Эта аграрная революция
в итоге разрушала и старую социальную иерархию, и государство.
Освободившееся место занимала «маргинальная элита политических
движений» - якобинцы или коммунисты, которые перестраивали
государство придавая ему еще более централизованную,
рационализированную и бюрократическую форму; усиленное таким образом
государство возобновляло и завершало миссию модернизации.
Для полноты картины Скокпол берет три отрицательных
«контрольных пробы»: Англию XVII в., Пруссию 1848 г. и Японию эпохи
Мэйдзи. Во всех трех случаях крестьянство как революционный
фактор было нейтрализовано ранним переходом к капиталистическому
сельскому хозяйству, разрушившему традиционные сельские
общины. Кроме того, центральные правительства Японии и Пруссии не
зависели от землевладельческого класса, а потому сохраняли силы для
решительных действий против проявлений социального
недовольства. В результате английский и прусский случаи не имеют
заслуживающих упоминания общих признаков, а Япония вообще обошлась
без революционных потрясений.
Ключевой компонент модели Скокпол и общий знаменатель всех
трех примеров - идея крестьянства как главнейшей революционной
силы современной истории - несомненно, идет от ее учителя Мура.
А откуда он сам эту идею взял? Отчасти почерпнул из очевидного
факта решающей роли крестьянства в революциях России, Китая
и позже - стран «третьего мира». Однако это не объясняет, почему
он отвел аналогичную роль крестьянам во Франции XVIII в. Ведь
Франция послужила Марксу политическим образцом, на основании
которого он построил свою модель революции как классовой
борьбы и который считал квинтэссенцией «буржуазной революции»,
каковой тезис Скокпол безжалостно отметает в пользу крестьянской
гегемонии.
Источник такого концептуального кульбита искать недалеко.
Свою идею центрального положения крестьянства в революционном
процессе Мур заимствовал из работ великого французского
историка-марксиста Жоржа Лефевра, в 1930-х гг. впервые подробно
проанализировавшего «Великий страх» 1789 г. - эпизод, который ныне
можно найти во всех описаниях Французской революции17. Лефевра,
современного якобинца, увлекшегося большевизмом, на мысль об
исторической роли крестьян навело их очевидное главенство в
событиях 1917 г. в России. Поэтому он обратился к истории собственной
363
страны, стремясь найти в ней нечто аналогичное. Он снабдил 1789 г.
более широкой народной базой, нежели буржуазия, и, таким образом,
сделал его предвестием социалистического продолжения в России.
Крестьянство, бесспорно, играло в 1789 г. важную роль, однако
до Лефевра она никогда не рассматривалась как центральная. Хотя
о крестьянских волнениях 1789 г. упоминалось во всех исторических
трудах XIX в., им не придавали решающего значения даже такие
радикалы, как Кропоткин и Жорес. Не найти у этих авторов и
выражения «Великий страх», по одной простой причине - оно не
использовалось в самом 1789 г. Мы снова наблюдаем ретроспективное
взаимовлияние (Wechselwirkung) более поздней революции на более
раннюю. Такой же перенос произошел, когда пример французской
революции открыл англичанам, что у них сто лет назад произошла
аналогичная революция. «Возраст» понятия «Великий страх» - не
просто терминологический курьез; он указывает, что французам
понадобилось больше столетия, чтобы хорошенько разглядеть влияние
крестьянства в 1789 г., и тем самым свидетельствует, что оно вряд ли
могло быть решающей силой в деле свержения «старого режима».
Режим был уже мертв, прежде чем крестьяне вышли на поле битвы;
собственно, потому они и сделали это, не боясь возмездия.
Сам же Лефевр говорит о «Великом страхе» именно с такой
точки зрения в работе, которую не цитируют ни Мур, ни Скокпол18.
В его представлении падение «старого режима» происходит в
четыре этапа: аристократическая революция 1788 г., заставляющая
короля созвать Генеральные штаты; буржуазная революция мая-июня
1789 г., оканчивающаяся «Клятвой в зале для игры в мяч»; народная
революция 14 июля, выражающаяся во взятии Бастилии;
крестьянский «Великий страх», который приводит к ночи 4 августа и краху
сословной системы. Данный сценарий, идеально соответствующий
историческим фактам, являет собой мастерское использование
модели революции как классовой борьбы. Он лучше всего, что есть в
собственных знаменитых работах Маркса о французской политике в
1848 г. - «Классовая борьба во Франции» и «Восемнадцатое брюмера
Луи Бонапарта».
Так что крестьянство-гегемон у Скокпол - карикатурная
адаптация идей Лефевра. Фактически его творчество используется в
основном для иллюстрации выводов, сделанных Скокпол в более раннем
исследовании Китая, на основании которого она пришла к
заключению, что, хотя «"предполагалось", будто Франция подобна Англии
[точка зрения и Токвиля, и Маркса], ее абсолютистский старый
режим, тем не менее, кажется во многом похожим на Китайскую
империю»19. Ведь в Англии-то при Стюартах крестьянского «большого
364
взрыва» не получилось! Свои домыслы Скокпол объясняет
«приверженностью демократическому социализму», которая во время
волнений 1960-х гг. и вьетнамской войны пробудила у нее глубокий
интерес к Восточной Азии. В результате она спроецировала гегемонию
революционного крестьянства, так восхитившую ее в Китае, на
«буржуазную революцию» во Франции, а затем на «пролетарскую
революцию» в России. Однако к Франции такая проекция совершенно
неприменима, поскольку здесь именно знать и буржуазия, а вовсе не
крестьяне, низвергли монархию и сословную систему. Итак, первый
столп тройственной модели Скокпол рушится.
Второй столп также не выдерживает в силу элементарного
непонимания Скокпол международного положения трех ее афарных
бюрократий. Как известно любому школьнику, в XVIII в. Франция,
наряду с Англией, была одной из двух мировых сверхдержав. И в
большей мере, чем Англия, являлась интеллектуальным и
культурным лидером радикального Просвещения. К 1789 г. экономический
разрыв между двумя соперницами сузился, можно даже сказать,
почти исчез; бесспорное и длительное преимущество Англия получила
лишь в результате наполеоновских войн. Китайская Поднебесная
империя в начале XX в., напротив, находилась на фани распада: она
настолько ослабела, что вторгшиеся европейцы без труда делили ее
территорию; экономически она чудовищно отставала от Запада; ее
культура практически оставалась досовременной.
Третий столп падает из-за особенностей российского случая. В
1914 г. Россия в военном, экономическом и культурном отношении
стояла ближе к более раннему примеру Франции, чем к более
позднему - Китая. В отличие от Франции, роковой для российской
монархии кризис был спровоцирован не финансовым тупиком и
конфликтом с аристократической бюрократией. Его причиной стало
поражение в современной войне - Скокпол этот факт отмечает, не
видя, насколько он нарушает стройность ее модели. В данном
отношении Россия демонсфирует небольшое сходство с Китаем, но
совершенно не похожа на Францию, где революция вспыхнула в
мирное время. А стоило французской революции перерасти в войну - она
в течение нескольких лет захватила всю Европу, тогда как
коммунистический Китай и Тайваня до сих пор не взял.
С обвалом этих трех столпов трио афарных бюрократий едва ли
может представить «сравнимые примеры единой, логически
последовательной революционной модели»20. Три примера Скокпол не
демонстрируют континуума близких, хотя имеющих некоторые
различия институциональных форм, какой обнаружил Токвиль, сравнивая
английский, французский и германский «старые режимы». Метод
365
Скокпол, по сути, является псевдокомпаративным, основанным,
скорее, на концептуально обусловленном наложении, а не на
исторически обоснованном структурном родстве. Выражаясь простым
языком, это сравнение яблок и апельсинов.
Очевидно, что аграрное общество - «общий знаменатель» ее
модели - слишком широко и не дифференцировано, чтобы говорить нам
что-либо о политике и государстве, а тем более о культуре. Временами
этот общий знаменатель расплывается еще больше вследствие
включения в список «аграрных бюрократий» Османской Турции и Индии
Моголов. А в 1789 г. вся планета была преимущественно аграрной,
на 98 % - даже поистине «современные» Соединенные Штаты, хотя
американские фермеры, конечно, даже тогда отличались от
европейских крестьян. Токио, кстати, в то время являлся крупнейшим
городом мира, равным Лондону и Парижу, вместе взятым. Зато в
политическом плане Япония оставалась разновидностью автократии.
Такой же расплывчатостью страдает и второй концептуальный
«общий знаменатель» модели Скокпол - бюрократическая монархия.
Если Запретный город Пекина, двор Моголов и «старорежимный»
Версаль действительно правили сопоставимыми государственными
структурами, где прямые эквиваленты в палитре их институтов - от
класса мандаринов до парламентов?
Опасность искусственного сопоставления неродственных
примеров еще более очевидна, если взглянуть, каковы итоги трех
революций у Скокпол. Все они оказываются аналогичными
«бюрократическими национальными государствами, инкорпорирующими
массы», конечно, с вариациями, но каждое создано «образованной
маргинальной элитой, ориентированной на государственную службу
и деятельность», которая поэтому строит жестко централизованные
новые режимы21. С такой точки зрения, империя Наполеона,
«строительство социализма» Сталина и «партия-государство,
мобилизующая массы», Мао Цзедуна более или менее эквивалентны. Подобное
сравнение выглядит смешно. Наполеон был единоличным
диктатором, однако его империя и кодекс, который он распространил по всей
Европе, представляли собой образцовое état de droit (правовое
государство). А посленаполеоновская Франция развилась в либеральную
демократию, разумеется, не без бюрократии (всем нам знакомо клише
из учебников об институциональной преемственности посреди
политической нестабильности в современной французской истории), -
но какое современное государство не является бюрократическим?
С другой стороны, Сталин и Мао построили режимы, правившие
посредством институционализированного террора, временами
доходящего до безумия. От их экономического «планирования» в конечном
366
итоге пришлось отказаться. И практически до краха 1991 г. не
наблюдалось никакой эволюции в направлении демократии и главенства
закона.
Кроме того, Скокпол повторяет ошибку Мура, определяя
революционные маргинальные элиты исключительно в социальных и
функциональных категориях, не обращаясь к культуре. Может быть,
она худо-бедно и вернула в поле зрения государство, однако
идеологию продолжает игнорировать. Для нее ничего не значит тот факт,
что советские и китайские коммунисты были марксистами. Наконец,
ее анализ не пригоден для использования в последующих
попытках объяснить крах коммунистической «модернизации» в 1990-е гг.
Сейчас очевидно, что коммунизм плохо справлялся с задачей
модернизации, но и в 1979 г. не составляло труда это понять. И тем не менее
советские и маоистские формы современности трактуются как
бессмертные достижения.
Это неоспариваемое положение, общее для большей части соци-
альнонаучной литературы о революции XX в., ставит перед нами
последний вопрос: должна ли «внеценностная» социальная наука быть
к тому же «внеморальной»? Не является ли частью проблемы
«модернизирующей революции» этический вопрос о допустимом уровне
человеческих жертв ради предполагаемой ступени достигнутого
прогресса? Его обычно задают относительно более ранних революций,
особенно террора 1793 г. Однако и в структурно-функционалист-
ском, и в неомарксистском анализе революции XX в. он
систематически опускается. Перефразируя лозунг Скокпол, пора вернуть этику в
исследования революций XX столетия.
Назад к истории, политике и культуре
В общем, в несостоятельности используемого подхода Скокпол
превосходит даже Мура. У последнего классовый анализ, по крайней
мере, дает три различных набора результатов, не уходя слишком
далеко от сложностей современной истории. Скокпол же при
построении своей модели пренебрегает очевидным «контрольным»
примером Англии, отделываясь отговоркой: там, дескать, недостаточно
крестьян. Фактически теории Мура и Скокпол с их глобальным
охватом оказываются еще менее полезными, нежели скромные претензии
Бринтона на обнаружение единообразия в виде «лихорадки» и
«двоевластия». Все усилия послевоенной социальной науки - и структур-
но-функционалистской, и неомарксистской - на удивление мало
изменили репертуар пригодной для работы историографии революций.
Столь мизерный эффект разительно отличается от глубокого влия-
367
ния, которое оказали на авторов крупнейших исторических трудов о
революциях теоретики XIX в. - Токвиль и Маркс.
Мы вновь стоим перед необходимостью конструктивно
использовать концептуальную неудачу, позволяющую нам определить
адекватный компаративный метод. Вспомним, что основа для такого
метода заложена в объяснении Токвиля, почему современная
демократическая революция впервые произошла во Франции, а не в
какой-либо другой европейской стране. Сравнивая французский
«старый режим» со сходными примерами, он выделил монархическую
централизацию как решающий фактор, вызвавший французскую
революцию.
Этот подход можно дополнить примером более искушенного в
методологии Вебера, который ставил перед собой задачу объяснить,
почему капитализм возник сначала в Европе, а не в рамках любой
другой цивилизации. Он отмечал сходные протокапиталистические
формы экономической организации во всех евразийских обществах,
находившихся на высокой ступени развития, - от Китая и Индии до
Греции и Рима. Отличала их друг от друга культура, что в досовре-
менных условиях означало религию. Поэтому Вебер стал сравнивать
конфуцианство, индуизм, иудаизм и христианство, чтобы вычленить
те аспекты христианской доктрины, которые обусловили вступление
Запада на путь бесконечной экономической экспансии современного
капитализма. Истоки он, разумеется, отыскал в лютеранской
концепции аскетического мирского «призвания» и кальвинистской
доктрине предопределения - «протестантской этике», которая, секуляризо-
вавшись, стала «духом капитализма»22. Здесь мы не будем обсуждать
достоинства такого объяснения. (Сейчас немногие историки встанут
на его защиту в первоначальной формулировке, хотя некоторая
взаимосвязь между ранним капитализмом и протестантским влиянием
по-прежнему кажется правдоподобной23. Несомненно, корреляция
между радикальной демократией и «старым режимом»,
установленная Токвилем, работает гораздо лучше.) Суть в том, что подход
Вебера годится для выделения любой ключевой исторической
переменной. Так же как и понимание, что культура, в частности
религия, - первооснова европейской уникальности.
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917—
1991. New York: Free Press, 1994 [изд. на рус. яз.: Малиа M. Советская
трагедия: История социализма в России, 1917-1991. М.: РОССПЭН, 2002].
2 Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the
Lenin Mausoleum. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.
3 См., напр.: Johnson С. Revolutionary Change. Boston: Little, Brown,
1966. Более подробную критику современной социальной науки «стасио-
логии» (сравнительного анализа революций) см. в приложении II.
4 Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / trans.
T. Parsons. New York: Scribner's, 1958.
5 Troeltsch E. The Social Teaching of the Christian Churches. 2 vols. New
York: Harper, 1960.
6 См. приложение I.
7 Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A
Book of Essays. Cambridge, Mass.: Belknap: Harvard University Press, 1962.
См., в частности, очерк с тем же заглавием (с. 5-30).
8 На примере Англии это уже попытался сделать Майкл Уолзер, см.:
Walzer M. The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical
Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965.
1. История Европы
1 См.: Weber A. Kulturgeschichte als Kultursoziologie. Leiden:
A. W. Sijthoff, 1935.
2 См.: Bernal M. Black Athena: The Afro-Asian Roots of Classical
Civilization. London: Free Association Press, 1987.
3 Об истории названия и понятия Европы см.: Hay D. Europe: The
Emergence of an Idea. Rev. ed. Edinburgh: Edinburgh University Press,
1964; Chabod F. Storia dell'idea d'Europa. Bari: Laterza, 1964; Duroselle J. B.
L'idée d'Europe dans l'histoire. Paris: Denoël, 1965. Конкретно о западно-
римской, или латинской, основе истории Европы см.: Brague R. Europe:
La voie romaine. 2e éd. Paris: Criterion, 1993. О перспективе расширения
Европы «от Атлантики до Урала» см.: Malia M. A New Europe for the
Old? // Daedalus. 1997. Summer.
4 См.: Gress D. From Plato to NATO: The Idea of the West and Its
Opponents. New York: Free Press, 1998.
369
5 См.: Duby G. L'an mil. Paris: Gallimard, 1980.
6 См.: Fletcher R. A. The Barbarian Conversion from Paganism to
Christianity. New York: Holt, 1998.
7 О православном востоке Европы см.: Obolensky D. The Byzantine
Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453. New York: Praeger, 1971.
8 См.: Duffy E. Saints and Sinners: A History of the Popes. New Haven:
Yale University Press, 1997.
9 См.: McNeill W. H. Europe's Steppe Frontier, 1500-1800. Chicago:
University of Chicago Press, 1964.
10 См.: Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М.: Наука,
1988.
11 Оптимистический взгляд на 1000 г. см.: Duby G. L'an mil.
12 См.: White L., Jr. Medieval Technology and Social Change. Oxford:
Clarendon Press, 1962.
13 См.: Gerhard D. Old Europe: A Study of Continuity, 1000-1800. New
York: Academic Press, 1981.
14 О постоянном расширении Европы см.: Bartlett R. The Making of
Europe: Conquest, Colonization, and Cultural Change, 950-1350. Princeton:
Princeton University Press, 1994.
15 См.: Szucs J. Les trois Europes. Paris: Éditions l'Harmattan, 1985.
16 Послание к римлянам. 13,1-7.
17 См.: Bloch M. La société féodale. Paris: A. Michel, 1994. P. 618.
18 Ibid. P. 610-612, 618-619.
19 Ibid. P. 617-618.
20 См.: Bossy J. Christianity in the West, 1400-1700. New York: Oxford
University Press, 1985.
21 Parsons T. The Social System. London: Tavistock, 1952.
22 См.: The Encyclopedia of Religion / ed. M. Eliade. New York: Macmillan,
1987; Eliade M. A History of Religious Ideas. 3 vols. Chicago: University of
Chicago Press, 1978-1985. Vol. 2: From Gautama Buddha to the Triumph of
Christianity.
23 См.: Dumont L. Homo hierarchicus: The Caste System and Its
Implications. Chicago: University of Chicago Press, 1980; Idem. Homo
aequalis. Paris: Gallimard, 1977.
24 См.: Pelikan J. The Christian Tradition: A History of the Development
of Doctrine. 5 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1971-1989. Vol. 1:
The Emergence of the Catholic Tradition (100-600); Vol. 3: The Growth of
Medieval Theology (600-1300).
25 См.: Duby G. The Age of the Cathedrals: Art and Society, 980-1420.
Chicago: University of Chicago Press, 1981.
26 Troeltsch E. The Social Teaching of the Christian Churches. 2 vols.
New York: Harper, 1960. Vol. 1. P. 234.
27 Цит. по: Moore R. I. The Origins of European Dissent. New York:
Blackwell, 1985. P. 126-127.
28 Ibid. P. 127.
370
29 См.: Reeves M. Joachim of Fiore and the Prophetic Future. London:
SPCK, 1976.
30 О последствиях революции в военном деле см.: Roberts M. The
Military Revolution, 1560-1660 // Roberts M. Essays in Swedish History.
London: Weidenfeld and Nicolson, 1967; Parker G. The Military Revolution:
Military Innovation and the Rise of the West. New York: Cambridge
University Press, 1988.
2. Гуситская Богемия, 1415-1436
1 Smahel F. La révolution Hussite: Une anomalie historique. Paris: Presses
Universitaires de France, 1985.
2 Palacky F. Geschichte von Böhmen. 5 Bde. in 10. Prag: In Commission
bei Weber, 1836-1867. Этими замечаниями по историографии гусизма я
обязан г-же Джин Грант, аспирантке кафедры истории Калифорнийского
университета в Беркли.
3 Sand G. Consuelo: La comtesse de Rudolstadt. Paris: Garnier, 1959.
4 Goll J. Quellen und Untersuchungen zur Ceschichte der Böhmischen
Brüder. 2 Bde. in 1. Prag: J. Otto, 1878-1882; Pekaf J. Der Sinn der
tschechischen Ceschichte. München: Volksbote, 1961.
5 BartoS F. The Hussite Revolution, 1424-1437. Boulder, Colo.: East
European Monograph, 1986.
6 В дополнение к краткой французской версии, приведенной в
примеч. 1, см.: Smahel F. Diehussitische Revolution. 3 Bde. Hannover: Hahnsche,
2002. См. также на англ. яз. главу, принадлежащую этому автору, в сб.:
Bohemia in History / ed. M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press,
1998.
7 Heymann F. John Èièka and the Hussite Revolution. Princeton:
Princeton University Press, 1955; The Cambridge Medieval History.
Vol. 8: The Close of the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University
Press, 1959. Chap. 2,3 (K. Krofta).
8 Kaminsky H. A History of the Hussite Revolution. Berkeley: University
of California Press, 1967.
9 Klassen J. The Nobility and the Making of the Hussite Revolution.
Boulder, Colo.: East European Quarterly, 1978.
10 Fudge T. The Magnificent Ride: The First Reformation in Hussite
Bohemia. Brookfield, Vt.: Ashgate, 1998.
11 Smahel F. La révolution Hussite. P. 22.
12 О растущем могуществе дворянства см.: Klassen J. The Nobility and
the Making of the Hussite Revolution.
13 Gierke O., von. Political Theories of the Middle Ages / trans, with an
introduction by F. W. Maitland. Cambridge: Cambridge University Press,
1987.
14 Текст статей см.: Heymann F.John Èizka and the Hussite Revolution.
Chap. 10.
371
15 The Invention of Tradition / ed. E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge:
Cambridge University Press, 1992.
3. Лютеранская Германия, 1517-1555
1 Handbook of European History, 1400-1600: Late Middle Ages,
Renaissance, and Reformation / ed. T. A. Brady, Jr., H. A. Oberman,
J. D. Tracy. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1996.
2 Dickens A. G., Tonkin J. (with K. Powell). The Reformation in Historical
thought. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
3 Kautsky K. Communism in Central Europe in the Time of the
keformation. New York: Russell & Russell, 1959. Оригинал на немецком
Азыке впервые вышел в свет в 1894 г.
4 Williams G. H. The Radical Reformation. Philadelphia: Westminster
Press, 1962.
5 Oberman H. A. The Harvest of Medieval Theology: Gabriel Biel and
Late Medieval Nominalism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1963.
6 См.: Benedict P. Christ's Churches Purely Reformed. New Haven: Yale
University Press, 2002.
7 Holborn H. A History of Modern Germany. 3 vols. Princeton: Princeton
University Press, 1982. Vol. 1. P. 125.
8 Ozment S. The Age of Reform (1250-1550): An Intellectual and
keligious History of Late Medieval and Reformation Europe. New Haven:
Tale University Press, 1980. P. 231.
9 См.: HuizingaJ. The Autumn of the Middle Ages. Chicago: University
öf Chicago Press, 1996. Тема позднего Средневековья как тревожного
Еремени дополнена и широко документирована в работах Ж. Делюмо:
Delumeau J. La peur en Occident, XlVe-XVIIIe siècles: Une cité assiégée.
Paris: Fayard, 1978; Idem. Le péché et la peur: La culpabilisation en Occident,
XIIIe-XVIHe siècles. Paris: Fayard, 1983.
10 См.: Oberman H. The Shape of Late Medieval Thought // Oberman H.
the Dawn of the Reformation: Essays in Late Medieval and Early
Reformation Thought. Edinburgh: T&T Clark, 1986.
11 Hyma A. The Christian Renaissance: A History of the «Devotio
Moderna». 2nd ed. Hamden, Conn.: Archon Books, 1965.
12 Goertz H.-J. Pfaffenhass und gross Geschrei: Die reformatorischen
Bewegungen in Deutschland, 1517-1529. München: С. Н. Beck, 1987.
13 Holborn H. Ulrich von Hütten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1968.
14 Chaunu P. Le temps des reformes. Paris: Fayard, 1975. P. 441.
15 Blickle P. Communal Reformation: The Quest for Salvation in
Sixteenth-century Germany / trans. T. Dunlap. Atlantic Highlands, N. J.:
Humanities Press, 1992.
16 Dickens A. G. The German Nation and Martin Luther. London: Edward
Arnold, 1974.
372
17 Moeller B. Imperial Cities and the Reformation: Three Essays.
Philadelphia: Fortress Press, 1972.
18 Brady T. A., Jr. Turning Swiss: Cities and Empire, 1450-1550. New
York: Cambridge University Press, 1985.
19 Blickle P. Communal Reformation; Ozment S. E. The Reformation in
the Cities: The Appeal of Protestantism to Sixteenth-Century Germany and
Switzerland. New Haven: Yale University Press, 1975.
20 См. приложение I.
21 См. выше, гл. 1.
22 Brady T., Jr. Ruling Class, Regime and Reformation at Strasbourg,
1520-1555. Leiden: E.J. Brill, 1978.
23 Blickle P. Memmingen - A Center of the Reformation // Blickle P.
From the Communal Reformation to the Revolution of the Common Man /
trans. B. Kümin. Leiden: Brill, 1998.
24 Oberman H. Zwingli's Reformation between Success and Failure //
Oberman H. The Reformation: Roots and Ramifications / trans. A. C. Gow.
Edinburgh: T&T Clark, 1993.
25 Lindberg С. The European Reformations. Cambridge, Mass.: Blackwell,
1996. P. 169.
26 Ozment S. E. Mysticism and Dissent: Religious Ideology and Social
Protest in the Sixteenth Century. New Haven: Yale University Press, 1973;
Rupp G. Patterns of Reformation. London: Epworth Press, 1969.
27 Goertz H.-J. Thomas Müntzer: Apocalyptic, Mystic, and
Revolutionary / trans. J. Jaquiery. Edinburgh: T&T Clark, 1993; Gritsch E. W. Thomas
Müntzer: A Tragedy of Errors. Minneapolis: Fortress Press, 1989.
28 Bossy J. Christianity in the West, 1400-1700. Oxford: Oxford
University Press, 1985. P. 109.
29 Gritsch E. W. Thomas Müntzer and Luther: A Tragedy of Errors //
Radical Tendencies in the Reformation: Divergent Perspectives / ed.
H. J. Hillerbrand. Kirksville, Mo.: Sixteenth Century Journal Publishers,
1988; Goertz H.-J. The Mystic with the Hammer: Thomas Müntzer's
Theological Basis for Revolution // The Anabaptists and Thomas Müntzer /
ed. J. M. Stayer, W. O. Packull. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt, 1980.
30 Clasen C.-P. Anabaptism: A Social History, 1525-1618: Switzerland,
Austria, Moravia and Central Germany. Ithaca, N. Y.: Cornell University
Press, 1972. Данные о численности анабаптистов см. в гл. 2.
31 Bainton R. The Reformation of the Sixteenth Century. Boston: Beacon
Press, 1952; Williams G. H. The Radical Reformation.
32 Blickle P. From the Communal Reformation to the Revolution of the
Common Man.
33 Blickle P. The Revolution of 1525 / trans. T. A. Brady, Jr.,
H. С. Е. Midelfort. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981. P. 51.
34 Blickle P. Revolution of 1525. P. 78-86. См. также: Idem. From the
Communal Reformation to the Revolution of the Common Man; Idem.
Communal Reformation.
373
35 См. выше, гл. 2.
36 Stayer J. M. Anabaptists and the Sword. Lawrence, Kan.: Coronado
Press, 1972.
37 Williams G. H. The Radical Reformation. Chap. 10.
38 Stayer J. M. Christianity in One City: Anabaptist Münster, 1534-
1535 // Radical Tendencies in the Reformation.
39 Brady T. A., Jr. Protestant Politics: Jacob Sturm (1489-1553) and the
German Reformation. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1995.
40 Я привожу по памяти часто используемые Лютером критерии
истинной церкви.
41 См., напр.: Wehler H. U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 4 Bde.
München: С. Н. Beck, 1987-2003.
42 Эта точка зрения высказывалась в различных формах. См., напр.:
Taylor A. J. P. The Course of German History: A Survey of the Development
of Germany since 1815. New York: Capricorn Books, 1962; Fromm E. Escape
from Freedom. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969 (впервые
опубл. в 1941 г.).
43 См. выше, гл. 2.
4. Гугенотская Франция, 1559-1598
1 Лучший обзор кальвинизма как европейского движения см.:
Benedict P. Christ's Churches Purely Reformed. New Haven: Yale University
Press, 2002.
2 Оценки расходятся. Роберт Кингдон, ссылаясь на гугенотские
источники, приводит цифру 15 %, или 3 млн чел. из 19-миллионного
населения: Kingdon R. M. Geneva and the Coming of the Wars of Religion in
France: 1555-1563. Genève: Droz, 1956. P. 79. Жанин Гарриссон, на
сегодняшний день - один из крупнейших специалистов по французскому
протестантству, говорит о 8,75 %, или 1,75 млн чел. из 20-миллионного
населения: Garrisson J. Les derniers Valois. Paris: Fayard, 2001. Филип
Бенедикт называет 10 %, или 1,5-2 млн чел. из общей численности
населения в 19 млн чел.: Benedict P. Christ's Churches Purely Reformed.
P. 137.
3 Imbart de la Tour P. Les origines de la reforme. 4 t. Paris: Hachette,
1905-1935; Doumergue E. Jean Calvin, les hommes et les choses de son
temps. 71. Lausanne: G. Bridel, 1899-1927.
4 Lavisse E. Histoire de France depuis les origines jusqu'à la revolution.
91. Paris: Hachette, 1900-1911. T. 4,5.
5 См., в частности: Febvre L. Au coeur religieux du XVIe siècle. Paris:
SEVPEN, 1957.
6 Le Roy Ladurie E. L'état royal de Louis XI à Henri IV, 1460-1610. Paris:
Hachette, 1987.
7 Crouzet D. Les guerriers de Dieu: La violence au temps des Troubles
de Religion (vers 1525-1610). 2 t. Seyssel: Champ Vallon, 1990; Idem. La
374
genèse de la Réforme Française, 1520-1562. Paris: SEDES, 1996. Такой же
подход отражен в работе: Erlanger P. Le massacre de la Saint-Barthélémy,
24 août 1572. Paris: Gallimard, 1960. Этот том в серии «Тридцать дней,
которые создали Францию» («Trente journées qui ont fait la France»)
позже переписан Крузе: Crouzet D. La nuit de La Saint-Barthélémy: Un rêve
perdu de la Renaissance. Paris: Fayard, 1994. См. также: Davis N. Z. Society
and Culture in Early Modem France: Eight Essays. Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 1975.
8 Zagorin P. Rebels and Rulers, 1500-1660.2 vols. Cambridge: Cambridge
University Press, 1982. Vol. 2. Chap. 10 («Revolutionary Civil War: The
French Civil War»).
9 Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. 2 vols.
Cambridge: Cambridge University Press, 1978. Vol. 2. Chap. 8.
10 Kingdon R. M. Geneva and the Coming of the Wars of Religion in
France. P. 129.
11 Garrisson J. Les derniers Valois. P. 261-267.
12 Kingdon R. M. Geneva and the Coming of the Wars of Religion in
France.
13 Kingdon R. Geneva and the Consolidation of the French Protestant
Movement, 1564-1572. Madison: University of Wisconsin Press, 1967.
14 Этот тезис выдвинут X. Кёнигсбергером в очерке «Организация
революционных партий во Франции и Нидерландах в XVI веке» («The
Organization of Revolutionary Parties in France and the Netherlands during
the Sixteenth Century»), см.: Koenigsberger H. G. Estates and Revolutions:
Essays in Early Modern European History. Ithaca, N.Y.: Cornell University
Press, 1971.
15 Romier L. Le royaume de Catherine de Medicis: La France à la veille
des guerres de religion. Genève: Slatkine Reprints, 1978 (1-е изд.: 1925). См.
также: Walzer M. The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of
Radical Politics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965.
16 Garrisson J. Les derniers Valois. P. 128.
17 Kingdon R. Myths about the St. Bartholomew's Day Massacres, 1572—
1576. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.
18 Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 2.
19 Salmon J. H. M. The French Religious Wars in English Political
Thought. Oxford: Clarendon Press, 1959.
5. Нидерландское восстание, 1566-1609
1 Motley J. L. The Rise of the Dutch Republic: A History. New York:
Thomas Y. Crowell, 1901.
2 Geyl P. The Revolt of the Netherlands (1555-1609). New York:
Barnes & Noble, 1958.
3 Pirenne H. Histoire de Belgique. 71. Bruxelles: M. Lamertin, 1922-1932.
T. 3,4.
375
4 Kuttner E. Das Hungerjahr 1566: Eine Studie zur Geschichte des
niederländischen Frühproletariats und seiner Revolution. Mannheim:
Palatium Verlag, 1997.
5 Schilling H. Der Aufstand der Niederlande: Bürgerliche Revolution
oder Elitenkonflikt? // 200 Jahre amerikanische Revolution und moderne
Revolutionsforschung / hg. H.-U. Wehler // Geschichte und Gesellschaft.
1976. Sonderheft 2. S. 177-231.
6 Это относится к наиболее значительной из последних публикаций
по данной тематике: Israel J. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and
Fall, 1477-1806. Oxford: Clarendon Press, 1995.
7 Parker G. The Dutch Revolt. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.
См. также: Zagorin P. Rebels and Rulers, 1500-1660. Cambridge: Cambridge
University Press, 1982. Vol. 2: Provincial Rebellion; Revolutionary Civil
Wars, 1560-1660. Chap. 11.
8 Полную историю государственного устройства Бургундских
Нидерландов см.: Koenigsberger H. G. Monarchies, States Generals and
Parliaments: The Netherlands in the Fifteenth and Sixteenth Centuries.
Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
9 Schilling H. Religion, Political Culture, and the Emergence of Early
Modern Society: Essays in German and Dutch History. Leiden: E. J. Brill,
1992.
10 Kuttner E. Das Hungerjahr 1566.
11 Parker G. The Dutch Revolt. P. 78.
12 Pirenne H. Histoire de Belgique. T. 4. P. 101-103.
13 Parker G. The Dutch Revolt. P. 186.
14 Koenigsberger H. G. Monarchies, States Generals and Parliaments.
P. 276-279.
15 Duke A. Reformation and Revolt in the Low Countries. London:
Hambledon Press, 1990.
6. Англия, 1640-1660-1688
1 Edward, Earl of Clarendon. The History of the Rebellion and Civil Wars
in England Begun in the Year 1641. Oxford: Clarendon Press, 1958.
2 Разумеется, он, как и граф Кларендон, писал рассказ очевидца. Но
притом его точка зрения отражала общее национальное сознание
периода, когда в Англии еще сохранялась якобитская угроза. См.: Bishop
Burnet. History of His Own Time. 2nd ed. 6 vols. Oxford: Oxford University
Press, 1833.
3 Gardiner S. R. History of England: From the Accession of James I to the
Outbreak of the Civil War, 1603-1642. 10 vols. London: Longmans, 1883-
1884; Idem. History of the Great Civil War, 1642-1649. 4 vols. London:
Longmans, 1893; Idem. History of the Commonwealth and the Protectorate,
1649-1660. 3 vols. London: Longmans, 1897-1901. См. также
приложение I.
376
4 Trevelyan G. M. The English Revolution, 1688-1689. London:
T. Butterworth, 1938; Idem. England under the Stuarts. London: Methuen,
1904 (этот 5-й том его «Истории Англии» выходил под тем же заглавием
во многих последующих изданиях).
5 Tawney R. H. Religion and the Rise of Capitalism: A Historical Study.
London: J. Murray, 1926. См. также: Idem. The Agrarian Problem in the
Sixteenth Century. New York: Burt Franklin, 1912.
6 Hill С The English Revolution // The English Revolution 1640: Three
Essays / ed. С Hill. London: Lawrence & Wishart, 1940.
7 Engels F. Socialism, Utopian and Scientific. New York: New York Labor
News, 1901. См. также: Bernstein E. Sozialismus und Demokratie in der
großen englischen Revolution. Stuttgart: J. H. W. Dietz Nachfolger, 1908.
8 См. приложение II.
9 Trevelyan G. M. English Social History: A Survey of Six Centuries:
Chaucer to Queen Victoria. London: Longmans, 1942.
10 Покровский, разумеется, говорил о той истории, которой
занимались его идейные противники. См.: Enteen G. M. The Soviet Scholar-
Bureaucrat: M. N. Pokrovskii and the Society of Marxist Historians.
University Park: Pennsylvania State University Press, 1978. P. 33.
11 Венцом работы Стоуна по данной тематике стала книга: Stone L.
The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641. Oxford: Clarendon Press, 1965,
12 Hexter J. H. Reappraisals in History. Evanston: Northwestern
University Press, 1961. Фактически Хекстер допускает некоторую связь
между индепендентством и «чистыми» джентри.
13 Stone L. The Causes of the English Revolution, 1529-1642. New York:
Harper & Row, 1972; Idem. The English Revolution // Preconditions of
Revolution in Early Modern Europe / ed. R. Forster, J. P. Greene. Baltimore:
John Hopkins Press, 1970.
14 Hill C. A Bourgeois Revolution? // The Three British Revolutions:
1641,1688,1776/ed.J. G. A. Pocock. Princeton: Princeton University Press,
1980.
15 Russell С The Crisis of Parliaments: English History, 1509-1660.
London: Oxford University Press, 1971. См. также более поздние: Idem. The
Fall of the British Monarchies, 1637-1642. Oxford: Clarendon Press, 1991;
The Origins of the English Civil War / ed. С Russell. New York: Barnes &
Noble, 1973; The Oxford Illustrated History of Britain / К. О. Morgan.
Oxford: Oxford University Press, 1984. Хороший обзор дискуссий см.:
Aylmer С. Е. Rebellion or Revolution? England, 1640-1660. Oxford: Oxford
University Press, 1986.
16 Kishlansky M. A Monarchy Transformed: Britain, 1603-1714. New
York: Penguin, 1996.
17 Stone L. The English Revolution. P. 57. Еще один сторонник идеи,
что период 1640-1660 гт. действительно является революцией, - Перес
Загорин, см.: Zagorin P. Rebels and Rulers, 1500-1660. 2 vols. Cambridge:
Cambridge University Press, 1982. Vol. 2. P. 130-186.
377
18 Thompson E. P. The Making of the English Working Class. London:
V. Gollancz, 1963. См. также несколько вялую попытку жены Томпсона
сохранить надежду: The Essential E. P. Thompson / ed. D. Thompson. New
York: New Press, 2001.
19 Разумную, хотя порой чересчур нарочито провокационную
трактовку британского и иностранного абсолютизма см.: Henshall N. The
Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European
Monarchy. London: Longman, 1992.
20 Clark J. С D. English Society, 1660-1832: Religion, Ideology, and
Politics during the Ancien Regime. Cambridge: Cambridge University Press,
2000.
21 Griffiths G. Representative Government in Western Europe in the
Sixteenth Century: Commentary and Documents for the Study of Comparative
Constitutional History. Oxford: Clarendon Press, 1968; Gierke O. Natural
Law and the Theory of Society, 1500 to 1800 / trans. E. Barker. Boston:
Beacon Press, 1957.
22 Классический тезис о взаимосвязи между внешней политикой и
внутренним устройством см.: Hintze О. Staat und Verfassung: Gesammelte
Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1962. См. также: The Historical Essays of Otto Hintze /
ed. F. Gilbert, R. Berdahl. New York: Oxford University Press, 1975.
Вдохновляющую, хотя в конечном итоге неудачную попытку соединить
Хинце с Марксом см.: Anderson P. Lineages of the Absolutist State. London:
NLB, 1974.
23 Le Patourel J. Feudal Empires: Norman and Plantagenet. London:
Hambledon Press, 1984.
24 Acheson R. J. Radical Puritans in England, 1550-1660. London:
Longman, 1990.
25 Russell C. Introduction // The Origins of the English Civil War. P. 14.
26 См. об этом: Roberts M. The Military Revolution, 1560-1660 //
Idem. Essays in Swedish History. London: Weidenfeld and Nicolson, 1967;
Parker G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the
West, 1500-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Idem. The
Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659: The Logistics of Spanish
Victory and Defeat in the Low Countries' Wars. Cambridge: Cambridge
University Press, 1972; McNeill W. H. The Pursuit of Power: Technology,
Armed Force, and Society Since A. D. 1000. Chicago: University of Chicago
Press, 1982; Porter B. D. War and the Rise of the State: The Military
Foundations of Modern Politics. New York: Free Press, 1994. Критику
общепринятой точки зрения см.: The Origins of War in Early Modern Europe /
ed. J. Black. Edinburgh:John Donald, 1987; BlackJ. A Military Revolution?
Military Change and European Society, 1550-1800. Atlantic Highlands, N.J.:
Humanities Press International, 1991.0 влиянии всего этого на Россию см.:
Hellie R. Enserfment and Military Change in Muscovy. Chicago: University
of Chicago Press, 1971.
378
27 Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study
of English Historical Thought in the Seventeenth Century; A Reissue with a
Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press, 1987; Burgess G. The
Politics of the Ancient Constitution: An Introduction to English Political
Thought, 1603-1642. University Park: Pennsylvania State University
Press, 1993; Hill С Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford:
Clarendon Press, 1965.
28 Stone L. The Causes of the English Revolution. P. 137.
29 Zagorin P. Rebels and Rulers. Vol. 2. P. 130.
30 Robertson D. B. The Religious Foundations of Leveller Democracy.
New York: King's Crown Press, 1951; The Levellers in the English
Revolution / éd. G. E. Aylmer. London: Thames and Hudson, 1975.
31 Протоколы дебатов в Патни из «Рукописей Кларка» см.: Puritanism
and Liberty/ed. A. S. P. Woodhouse. London: J. M. Dent, 1974.
32 Gardiner S. R. History of the Great Civil War, 1642-1649. 4 vols.
London: Longmans, 1905. Vol. 3. P. 290.
33 Доводы в защиту важной роли сектантского радикализма в
английской революции см.: Dow F. D. Radicalism in the English Revolution,
1640-1660. New York: Blackwell, 1985.
34 Сарр В. S. The Fifth Monarchy Men: A Study in Seventeenth-Century
English Millenarianism. London: Faber, 1972.
35 Hill С The World Turned Upside-Down: Radical Ideas during the
English Revolution. London: Penguin Books, 1991.
36 Pocock J. G. A. The Machiavellian Moment: Florentine Political
Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton
University Press, 1975.
37 Классическую биографию Кромвеля см.: Firth С. Oliver Cromwell
and the Rule of the Puritans in England. London: Putnam, 1901. Наиболее
известную последующую трактовку см.: Hill С. God's Englishman: Oliver
Cromwell and the English Revolution. London: Weidenfeld and Nicolson,
1970.
38 Locke J. Two Treatises of Government. New York: New American
Library, 1975.
39 Halévy E. England in 1815. New York: Barnes & Noble, 1961. Это
подчеркивается в его работе: Idem. The Birth of Methodismen England.
Chicago: University of Chicago Press, 1971.
7. Америка, 1776-1787
1 Цит. по: Wood G. S. The Creation of the American Republic, 1776-
1787. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969. P. 3-4.
2 Furet F. L'idée française de Revolution // Le Débat. 1997. Vol. 96.
3 Hartz L. The Liberal Tradition in America: An Interpretation of
American Political Thought since the Revolution. New York: Harcourt Brace,
1955.
379
4 Billington R. A. The Reinterpretation of Early American History:
Essays in Honor of John Edwin Pomfret. New York: Norton, 1968; The
Reinterpretation of the American Revolution, 1763-1789 / ed. J. P. Greene.
New York: Harper & Row, 1968.
5 Genovese E. D. The Political Economy of Slavery: Studies in the
Economy and Society of the Slave South. New York: Vintage Books, 1967.
6 См. приложение I.
7 Morgan E. S. Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in
England and America. New York: Norton, 1988.
8 Trevelyan G. O. The American Revolution. 3 vols, in 4. New York:
Longmans, Green, 1899-1907.
9 Lincoln С. Н. The Revolutionary Movement in Pennsylvania, 1760-
1776. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1901; Becker С L. History
of Political Parties in the Province of New York, 1760-1776. Madison:
University of Wisconsin Press, 1960 (1-е изд.: 1909).
10 Schlesinger A. M. The Colonial Merchants and the American Revolution,
1763-1776. New York: Columbia University, 1918.
11 Beard С A. An Economic Interpretation of the Constitution of the
United States. New York: Macmillan, 1913.
12 Parrington V. L. Main Currents in American Thought. 2 vols. New
York: Harcourt, Brace and Company, 1927. Vol. 1: The Colonial Mind.
13 Jensen M. The Articles of Confederation: An Interpretation of the
Social-Constitutional History of the American Revolution, 1774-1781.
Madison: University of Wisconsin Press, 1940; Idem. The New Nation: A
History of the United States during the Confederation, 1781-1789. New
York: Knopf, 1950.
14 Morgan E. S., Morgan H. M. The Stamp Act Crisis: Prologue to
Revolution. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1953.
15 Bailyn B. The Ideological Origins of the American Revolution.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967.
16 Robbins С The Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies
in the Transmission, Development and Circumstance of English Liberal
Thought from the Restoration of Charles II until the War with the Thirteen
Colonies. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959.
17 Miller P. The New England Mind: The Seventeenth Century. New York:
Macmillan, 1939; Idem. The New England Mind: From Colony to Province.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1953.
18 Miller P. From the Covenant to the Revival // The Shaping of American
Religion / ed. J. W. Smith, A. L. Jamison. Princeton: Princeton University
Press, 1961.
19 Heimert A. Religion and the American Mind from the Great Awakening
to the Revolution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966.
20 Bailyn B. Political Experience and Enlightenment Ideas in Eighteenth
Century America // American Historical Review. 1962. Vol. 67. P. 339-351.
Наиболее полно изложенное представление о консервативной сути рево-
380
люции см.: Middlekauff R. The Glorious Cause: The American Revolution,
1763-1789. NewYork: Oxford University Press, 1982.
21 Wood G. S. The Radicalism of the American Revolution. New York:
Knopf, 1992.
22 Bailyn B. The Peopling of British North America: An Introduction.
New York: Knopf, 1986.
23 Anderson F. The Crucible of War: The Seven Years' War and the Fate
of Empire in British North America, 1754-1766. New York: Knopf, 2000.
24 Brewer J. The Sinews of Power: War, Money and the English State,
1688-1783. London: Unwin Hyman, 1989.
25 Pocock J. G. A. The Machiavellian Moment: Florentine Political
Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton
University Press, 1975.
26 Bridenbaugh C. Mitre and Sceptre: Transatlantic Faiths, Ideas,
Personalities, and Politics, 1689-1775. New York: Oxford University Press,
1962.
8. Франция, 1789-1799
1 Лучшее освещение историографии французской революции см.:
Furet F., Ozouf M. Dictionnaire critique de la Révolution française: 1780-
1880. Paris: Flammarion, 1988. Удобную подборку мнений о революции
см.: Pour ou contre la Révolution, de Mirabeau à Mitterand / sous la dir.
de A. de Baecque. Paris: Bayard, 2002. Краткий обзор историографии до
1960 г. см.: Rude G. Interpretations of the French Revolution. London:
Routledge and Kegan Paul, 1961. Подробное исследование
историографии после Второй мировой войны см.: Doyle W. Origins of the French
Revolution. New York: Oxford University Press, 1999.
2 Mellon S. The Political Uses of History: A Study of Historians in the
French Restoration. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1958.
3 Thiers A. Histoire de la Révolution française. Paris: Furne, 1845-1847
(1-е изд.: 1823-1827); Idem. Histoire du consulat et de l'empire. 211. Paris:
Paulin, 1845-1875; Mignet F. Histoire de la Révolution française. 2 t. Paris:
Didot, 1824.
4 См. приложение I.
5 Его главный труд, переведенный на все европейские языки: Guizot F.
Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire
Romain jusqu'à la Révolution française. Paris: Didier, 1840. См. также:
Rosanvallon P. Le moment Guizot. Paris: Gallimard, 1985.
6 Michelet J. Histoire de la Révolution française. 2 t. Paris: Gallimard,
1961-1962 (1-е изд.: 1847-1853).
7 Lamartine A., de. Histoire des Girondins. 3e éd. 81. Paris: Furne, 1848.
8 Blanc L. Histoire de la Révolution française. 12 t. Paris: Langlois et
Leclercq, 1847-1862.
9 Лучшее издание книги на английском языке, под редакцией, с
предисловием и комментариями Ф. Фюре и Ф. Мелонио см.: Tocqueville A.,
381
de. The Old Regime and the Revolution / trans. A. S. Kahan. 2 vols. Chicago:
University of Chicago Press, 1998-2001.
10 См. приложение I.
11 Цит. по переводу M. Малиа на английский язык, см.: Malia M. Did
Tocqueville Foresee Totalitarianism? //Journal of Democracy. 2000. Vol. 11.
Xol.P. 185.
12 Quinet E. La Révolution. 21. Paris: A. Lacroix, 1865.
13 Furet F. La gauche et la révolution au milieu du XIXe siècle: Edgar
Quinet et la question du jacobinisme, 1865-1870. Paris: Hachette, 1986.
14 Taine H. Les origines de la France contemporaine. 22e éd. 12 t. Paris:
Hachette, 1899 (1-е изд.:1876-1894).
15 Aulard F.-A. Histoire politique de la Révolution française: Origines
et développement de la démocratie et de la République (1789-1804). Paris:
A.Cohn, 1901.
16 Jaurès J. Histoire socialiste de la Révolution française. 81. Paris: Editions
de la Librairie de l'humanité, 1922-1924.
17 Mathiez A. La Réaction Thermidorienne. Paris: A. Cohn, 1929; Idem. La
vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Paris: Payot, 1927.
18 Краткий обзор его жизненного пути см.: Cobb R. Georges
Lefebvre // Idem. A Second Identity: Essays on France and French History. London:
Oxford University Press, 1969.
19 Loutchitsky J. La propriété paysanne en France à la veille de la
Révolution (principalement au Limousin). Paris: H. Champion, 1912; Idem.
L'état des classes agricoles en France à la veille de la Révolution. Paris:
H. Champion, 1911. Российские ученые дали толчок к развитию и
английской, и французской аграрной истории. В первом случае такую
роль сыграл П. Г. Виноградов (позже - сэр Пол Виноградофф),
вдохновитель Фредерика Мейтленда, см.: Maitland F. Domesday Book and
Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 1897. Во втором -
публикация на французском языке работы Н. И. Кареева, прямого
продолжателя российской народнической, то есть аграрно-социалистической,
традиции (Лучицкий, кстати, был студентом Кареева), см.: Kareiew N.
Les paysans et la question paysanne en France dans le dernier quart du
XVIIIe siècle. Paris: V. Giard & E. Brière, 1899. См. также: Kareiew N. Les
travaux russes sur l'époque de la Révolution française depuis dix ans (1902—
1911) // Bulletin de la Société d'Histoire Moderne. 1912. No. 2. P. 132-143;
Погодин С. H. «Русская школа» историков: Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий,
М. М. Ковалевский. СПб.: СПбГТУ, 1997.
20 Lefebvre G. Les paysans du Nord pendant la Révolution française. Paris:
F. Rieder, 1924.
21 Lefebvre G. La Grande peur de 1789. Paris: A. Cohn, 1932.
22 Lefebvre G. The Coming of the French Revolution, 1789 / trans.
R. R. Palmer. Princeton: Princeton University Press, 1947.
Оригинальное изд.: Lefebvre G. Quatre-vingt-neuf. Paris: Maison du livre français,
1939.
382
23 Lefebvre G. La Révolution française. 3e éd., rév. Paris: Presses
Universitaires, 1951.
24 Labrousse С E. Esquisse du mouvement des prix et des revenues en
France au XVIIle siècle. 2 t. Paris: Librairie Dalloz, 1933; Idem. La Crise de
l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution.
Paris: Presses Universitaires de France, 1944.
25 Soboul A. Les Sans-culottes parisiens en l'an II: Mouvement populaire
et gouvernement révolutionnaire, 2 juin 1793 - 9 Thermidor An II. Paris:
Librairie Clavreuil, 1958.
26 См., напр.: Soboul A. La Révolution française. 7e éd. Paris: Presses
Universitaires de France, 1981. Это дополненная версия его «Краткого
курса истории Французской революции», вышедшего в 1962 г.
27 Cobban A. The Social Interpretation of the French Revolution.
Cambridge: Cambridge University Press, 1964. Фактически он уже
изложил раньше суть своей позиции в более краткой форме в 1955 г., см.:
Idem. The Myth of the French Revolution: An Inaugural Lecture Delivered
at University College, London, 6 May 1954. London: University College,
1955.
28 Cobban A. The Social Interpretation of the French Revolution. P. 162.
29 Furet F., Riebet D. La Révolution. 2 t. Paris: Hachette, 1965-1966.
30 Furet F. La catéchisme de la Révolution française // Annales. 1971.
№2.
31 Furet F. Penser la Révolution française. Paris: Gallimard, 1978.
32 Cochin A. L'esprit du jacobinisme: Une interpretation sociologique de
la Révolution française. Paris: Presses Universitaires de France, 1979. Статьи
из этого тома были впервые опубликованы после смерти автора в 1921 —
1924 гг. (Кошен погиб в Первую мировую войну).
33 Brinton С. A Decade of Revolution, 1789-1799. New York: Harper &
Brothers, 1934. По сути, анализ Бринтона с особым акцентом на
идеологическую «лихорадку» во многом предваряет ревизионизм Фюре. Жорж
Рюде, ученик Лефевра, также был хорошо знаком с работами Кошена.
См. также: Lord Elton. The Revolutionary Idea in France, 1789-1871.
London: Edward Arnold, 1923.
34 См., напр.: Furet F., Ozouf M. The Transformation of Political Culture,
1789-1848 // The French Revolution and the Creation of Modern Political
Culture / ed. К. М. Baker. 3 vols. Oxford: Pergamon Press, 1987-1989.
Vol. 3.
35 Пожалуй, лучшая интеллектуальная история послевоенной
Франции: Aron R. Mémoires. Paris: Julliard, 1983. См. также: Judt T.
Past Imperfect: French Intellectuals, 1914-1956. Berkeley: University of
California Press, 1992.
36 Furet F., Ozouf M. The Transformation of Political Culture. Сама идея
«торжества» ставилась под сомнение в ряде статей Фюре, собранных
Моной Озуф в сборник: Furet F. La Révolution en débat. Paris: Gallimard,
1999.
383
37 Chaunu P. Le grand déclassement: A propose d'une commémoration.
Paris: Laffont, 1989.
38 Histories: French Constructions of the Past / ed. J. Revel, L. Hunt. New
York: New Press, 1995.
39 Главное имя в этой области - Ролан Мунье. См.: Mousnier R. Les
institutions de la France sous la monarchie absolue: 1598-1789. 2 t. Paris:
Presses Universitaires de France, 1974; Idem. Les hierarchies sociales de
1450 à nos jours. Paris: Presses Universitaires de France, 1969. См. также:
Goubert P. L'Ancien régime. 2 t. Paris: A. Cohn, 1969; Richet D. La France
moderne: L'esprit des institutions. Paris: Flammarion, 1973.
40 Taylor G. Noncapitalist Wealth and the Origins of the French
Revolution // American Historical Review. 1967. Vol. 72. No. 2. P. 491. Цит.
no: Doyle W. Origins of the French Revolution. P. 17.
41 Strayer J. R. On the Medieval Origins of the Modern State. Princeton:
Princeton University Press, 1970; Medieval Statecraft and the Perspectives
of History: Essays by Joseph R. Strayer. Princeton: Princeton University
Press, 1971.
42 Le Roy Ladurie E. L'Ancien Régime: De Louis XIII à Louis XV, 1610-
1770. Paris: Hachette, 1991; Idem. Saint Simon, ou, Le système de La cour.
Paris: Fayard, 1997.
43 Ranum O. The Fronde: A French Revolution, 1648-1652. New York:
Norton, 1993.
44 Raeff M. The Well-ordered Police State: Social and Institutional
Change through Law in the Germanies and Russia, 1600-1800. New Haven:
Yale University Press, 1983. См. также: Malia M. Russia under Western
Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1999. Chap. 1.
45 Van Kley D. K. The Religious Origins of the French Revolution: From
Calvin to the Civil Constitution, 1560-1791. New Haven: Yale University
Press, 1996; Maire С. De la cause de Dieu à la cause de la nation: Le jansénisme
au XVIIIe siècle. Paris: Gallimard, 1998; Cottret M. Jansénisme et lumières:
Pour un autre XVIIIe siècle. Paris: Albin Michel, 1998.
46 Van Kley D. The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from
France, 1757-1765. New Haven: Yale University Press, 1975.
47 Chaunu P. Le grand déclassement.
48 О круге читателей Руссо см.: Darnton R. The Literary Underground
of the Old Regime. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.
49 См.: Baker К. М. Inventing the French Revolution: Essays on French
Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge
University Press, 1990. Chap. 9.
50 Hazard P. La crise de la conscience européenne, 1680-1715. Paris:
Boivin, 1935.
51 Tuveson E. Millennium and Utopia: A Study in the Background of the
Idea of Progress. Berkeley: University of California Press, 1949; Lowith K.
Meaning in History. Chicago: University of Chicago Press, 1949.
384
52 Bury J. B. The Idea of Progress: An Inquiry into Its Origin and Growth.
London: Macmillan, 1920.
53 Mornet D. Les origines intellectuelles de la révolution française,
1715-1787. Paris: A. Cohn, 1954 (1-е изд.: 1933); Derathe R.Jean-Jacques
Rousseau et la science politique de son temps. Paris: Presses Universitaires de
France, 1950.
54 Porter R. The Creation of the Modem World: The Untold Story of the
British Enlightenment. New York: Norton, 2000.
55 Классические работы о мысли эпохи Просвещения см.: Hazard P.
La pensée européenne au XVII le siècle, de Montesquieu à Lessing. Paris:
A. Fayard, 1963 (1-е изд.: 1946); Cassirer E. The Philosophy of the
Enlightenment / trans. F. С. A. KoellnJ. P. Pettegrove. Princeton: Princeton
University Press, 1951; Gay P. The Enlightenment, an Interpretation. 2 vols.
New York: Knopf, 1966-1969.
56 Darnton R. The Literary Underground of the Old Regime; Idem.
Edition et sédition: L'univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle.
Paris: Gallimard, 1991.
57 Egret J. La Pré-révolution Française, 1787-1788. Paris: Presses
Universitaires de France, 1962.
58 Wordsworth W. The Prelude: The Four Texts (1798, 1805, 1850).
London: Penguin Books, 1995. P. 440. Про Канта см.: Burg P. Kant und die
Franzoesische Revolution. Berlin: Duncker und Humblot, 1974.
59 Higonnet P. Goodness beyond Virtue: Jacobins during the French
Revolution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. P. 52.
60 Gueniffey P. La politique de la Terreur: Essai sur la violence
révolutionnaire, 1789-1794. Paris: Fayard, 2000.
61 Lefebvre G. Saint-Just; Sur la pensée politique de Robespierre // Idem.
Etudes sur la Révolution française. Paris: Presses Universitaires de France,
1963.
62 Furet F. La Révolution: De Turgot à Jules Ferry, 1770-1880. Paris:
Hachette, 1988.
63 Kantorowicz E. The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political
Theology. Princeton: Princeton University Press, 1957.
64 Arendt H. On Revolution. New York: Viking Press, 1968.
65 Palmer R. R. The Age of the Democratic Revolution: A Political History
of Europe and America, 1760-1800. 2 vols. Princeton: Princeton'University
Press, 1959-1964; Godechot J. Les Révolutions, 1770-1799. Paris: Presses
Universitaires de France, 1986.
66 Wills G. Lincoln at Gettysburg: The Words that Remade America. New
York: Simon & Schuster, 1992.
67 Dunn S. Sister Revolutions: French Lightning, American Light. New
York: Faber and Faber, 1999; Higonnet P. Sister Republics: The Origins of
French and American Republicanism. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1988.
68 Rosanvallon P. La démocratie inachevée: Histoire de la souveraineté du
peuple en France. Paris: Gallimard, 2000.
385
9. От первой современной революции к первой ожидаемой
революции, 1799-1848
1 Lichtheim G. Marxism: An Historical and Critical Study. London:
Routledge and K. Paul, 1964.
2 Sperber J. The European Revolutions, 1848-1851. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994; Mommsen W. J. 1848, die ungewollte
Revolution: die revolutionären Bewegungen in Europa, 1830-1849.
Frankfurt: S. Fischer, 1998; Bruun G. Revolution and Reaction, 1848-1852:
À Mid-Century Watershed. Princeton: Van Nostrand, 1958; Namier L. 1848:
Revolution of the Intellectuals. London: G. Cumberledge, 1944.
3См.гл. 1.
4 Gray A. The Socialist Tradition: Moses to Lenin. London: Longmans,
Green, 1946.
5 Hobsbawm E. The Age of Revolution, 1789-1848. Cleveland: World,
1962.
6 The Marx-Engels Reader / ed. R. C. Tucker. 2nd ed. New York: Norton,
1978. P. 475.
7 Rose R. B. Gracchus Babeuf: The First Revolutionary Communist.
Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1978.
8 См.: Kapital, Kapitalist, Kapitalismus // Geschichtliche Grundbegriffe:
historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / hg.
O. Brunner u. a. 8 Bde. in 9. Stuttgart: E. Klett, 1972-1992. Bd. 3. S. 399-454.
9 Mannheim K. Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of
Knowledge / trans. L. Wirth, E. Shils. New York: Harcourt, Brace & World,
1936.
10 Engels F. Socialism, Utopian and Scientific. New York: New York Labor
News, 1901.
11 См. гл. 8 и приложение II.
12 Классическую критику этой революции laissez-faire около 1800 г.
см.: Polanyi К. The Great Transformation. Boston: Beacon Press, 1944.
13 Rosanvallon P. Le moment Guizot. Paris: Gallimard, 1985.
14 Помимо работ общего характера, приведенных в начале главы,
Для краткого ознакомления с событиями 1848 г. в контексте
французской революционной традиции см.: Elton G. The Revolutionary Idea in
France, 1789-1871. London: Edward Arnold, 1959. Две последних работы
rjo истории революции 1848 г. во Франции см.: Riviale P. Un revers de la
démocratie, 1848. Paris: Flammarion, 2005; Fortescue W. France and 1848:
The End of Monarchy. London: Routledge, 2005.
15 Соответственно литература о событиях 1848 г. в Центральной
Европе весьма обширна. Классический труд: Valentin V. Geschichte der
deutschen Revolution von 1848-49. 2 Bde. Berlin: Ullstein, 1930-1931.
Сокращенный перевод на английский язык: Valentin V. 1848: Chapters
in German History. London: Allen and Unwin, 1940. См. также: Hame-
row T. S. Restoration, Revolution, Reaction: Economics and Politics in
386
Germany, 1815-1871. Princeton: Princeton University Press, 1958; Eyck F.
The Frankfurt Parliament, 1848-1849. New York: St. Martin's Press, 1968;
Sperber J. Rhineland Radicals: The Democratic Movement and the Revolution
of 1848-1849. Princeton: Princeton University Press, 1991. Подробнее о
революции в «малых Германиях» см.: Siemann W. The German Revolution of
1848-1849. New York: St. Martin's Press, 1998.
10. Марксизм и II Интернационал, 1848-1914
1 Hobsbawm E.J. The Age of Revolution: 1789-1848. Cleveland: Worlc},
1962.
2 Ленин цитировал Каутского в работе «Что делать?», см.: The Lenin
Anthology / ed. R. С. Tucker. New York: Norton, 1975. P. 68. О
необходимости делать различие между социализмом и рабочим движением
см.: Perlman S. The Theory of the Labor Movement. New York: Macmillan,
1928. Перлман, бывший меньшевик, эмигрировавший в США,
дошел до полного неприятия какого-либо подчинения профсоюзов
интеллектуалам-социалистам.
3 Цитаты из Маркса и Энгельса, если не указано иное,
приводятся по кн.: The Marx-Engels Reader / ed. R. С. Tucker. 2nd ed. New Yorlf:
Norton, 1978. Наиболее важную и глубокую оценку марксистской
мысли см.: Kolakowski L. Main Currents in Marxism: Its Rise, Growth, and
Dissolution / trans. P. S. Falla. 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 1978. Здесь
мы придерживаемся взгляда Колаковского на метафизические основы
марксизма. См. также: Avineri S. The Social and Political Thought of Karl
Marx. London: Cambridge University Press, 1968. Автор последней книги
признает значение гегельянского субстрата марксизма, однако
утверждает, что с течением времени бессмертное наследие Маркса превратилось
в социал-демократический реформизм. Это, пожалуй, наиболее
распространенный на Западе взгляд. Колаковский, тем не менее, настаивает, что
связь марксизма с коммунизмом куда более логична.
4 The Marx-Engels Reader. P. 59.
5 Ibid. P. 64-65.
6 Классический пример секуляризации религиозных элементов в
современной мысли см.: Löwith К. From Hegel to Nietzsche: The Revolution in
Nineteenth Century Thought / trans. D. E. Green. New York: Holt, Rinehart
and Winston, 1964. Классическое возражение Левиту см.: Blumenberg H.
The Legitimacy of the Modern Age / trans. R. Wallace. Cambridge, Mass.:
MIT Press, 1983.
7 Marxism and Social Democracy: The Revisionist Debate, 1896-1898 /
ed. and trans. H. Tudor, J. M. Tudor. Cambridge: Cambridge University
Press, 1988.
8 Основные документы ленинизма см.: The Lenin Anthology.
9 См.: Lichtheim G. Marxism: A Historical and Critical Study. New Yorlç:
Praeger, 1961. Это лучшее исследование марксизма в историческом
387
контексте и в сравнительной перспективе, от Франции до России, хотя
сильнее всего внимание в книге сосредоточено на «сердце»
марксизма - Германии и Австро-Венгрии. Подобно Аверини, Лихтхейм склонен
считать ранние марксизм и ленинизм незрелыми версиями основного
марксизма, а также рассматривать реформистские идеи
социал-демократии как его наилучшее выражение. Однако исторические факты ясно
говорят: Маркс до конца своих дней верил в неотвратимость революции,
а в последние годы жизни - в то, что начало ей может положить кризис
в России.
11. Красный Октябрь
1 Sleidanus J. The General History of the Reformation of the Church
from the Errors and Corruptions of the Church of Rome, Begun in Germany
by Martin Luther; with the Progress Thereof in All Parts of Christendom
from the Year 1517 to the Year 1556 / Written in Latin by John Sleidan; and
Faithfully Englished... London, 1689. Иоганн Кохлей (Добнек) был
католическим гуманистом, публицистом, противником Лютера и Реформации.
2 В двух своих публикациях автор довольно подробно говорил о
западной историографии русской революции и советского режима. См.:
Malia M. L'Histoire soviétique // Axes et méthodes de l'histoire politique /
sous la dir. de S. Berstein, P. Milza. Paris: Presses Universitaires de France,
1998. P. 57-71; Idem. Clio in Taurus: American Historiography on Russia //
Imagined Histories: American Historians Interpret the Past / éd. G. S. Wood,
A. Molho. Princeton: Princeton University Press, 1998. P. 415-433.
3 Reed J. Ten Days That Shook the World. New York: International
Publishers, 1919. См. также фильмы Сергея Эйзенштейна с
одноименным названием (в русской версии «Октябрь», 1928) и Уоррена Битти
«Красные» (1981).
4 Классический пример: Trotsky L. History of the Russian Revolution /
trans. M. Eastman. New York: Simon and Schuster, 1932.
5 Классический пример: Chamberlin W. H. The Russian Revolution.
2 vols. New York: Macmillan, 1935.
6 Первое исследование русской революции как долгосрочного
процесса см.: Carr E. H. A History of Soviet Russia. 3 vols. New York: Macmillan,
1951-1953. Vol. 1: The Bolshevik Revolution, 1917-1923. Kapp
продолжал серию «История Советской России» вместе с Дэвисом до
четвертой книги: Carr E. H., Davies R. W. Foundations of a Planned Economy,
1926-1929.2 vols. New York: Macmillan, 1971-1972. Затем Дэвис один
написал несколько томов серии «Индустриализация Советской России»:
Davies R. W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet
Agriculture, 1929-1930. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980;
Idem. The Soviet Collective Farm, 1929-1930. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1980; The Soviet Economy in Turmoil, 1929-1930.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989. Этот монументальный
388
труд на деле посвящен не столько русской, сколько большевистской
революции. Переворот показан не с самого начала, об обществе
практически ничего не говорится. Вместо этого нашему вниманию предлагают
историю советского режима и его политики. Представлена она с
большевистской точки зрения, как процесс, кульминацией которого стал успех
«социалистического наступления» в первую пятилетку. Тем самым
исследование перекликается с не менее влиятельной работой Дойчера о
Сталине (Deutscher I. Stalin. New York: Oxford, 1949,1966), а также с его
трилогией о Троцком.
Второй опыт широкой трактовки русской революции
принадлежит фон Лауэ: Laue Т. Н., von. Why Lenin? Why Stalin? Philadelphia:
Lippincott, 1964. По его мнению, революция охватывает с 1900 по
1930 г., и понимать ее следует как процесс экономической модернизации.
Однако, учитывая в основном неевропейский характер российского
государства, считает Лауэ, такая попытка могла привести лишь к
деспотической карикатуре на западную модель.
Третье - и на данный момент наиболее авторитетное - исследование
такого рода - работа Фицпатрик: Fitzpatrick S. The Russian Revolution.
New York: Oxford University Press, 1982, 1995. Подобно Карру и Дэвису,
автор относит начало революции к 1917 г., а ее успешную кульминацию -
к 1932 г. Однако здесь основной упор сделан на социальный процесс,
тогда как партии уделяется второстепенное внимание, а о марксизме
практически не говорится. В первом издании террор упоминается только как
«чудовищный постскриптум». Во втором издании Фицпатрик заявляет,
что период 1934-1935 гг. отмечен немыслимым «термидором», а террор
она теперь включает в «двадцатилетний революционный процесс»,
однако характеризует как остаточный эффект его бурного, но созидательного
натиска. Общий смысл революции, по ее словам, - «террор, прогресс и
социальная мобильность» (Fitzpatrick S. The Russian Revolution. 1st ed.
P. 157).
He меньшей популярностью пользуется современный обзор Левина:
Lewin M. The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of
Interwar Russia. New York: Pantheon, 1985. Эта работа не является
цельным историческим трудом, но ее автор также исходит из того, что
революция продолжалась с 1917 г. до конца 1930-х гг. Он тоже рассматривает
революцию как чисто социальный процесс, уделяя минимум внимания
партийной структуре и марксизму. По мнению Левина, однако,
«хорошая» революция закончилась в 1929 г., а Сталин, несмотря на свои
успехи в области индустриальной модернизации России, почти до
неузнаваемости извратил наследие Ленина.
Самые последние работы, представляющие широкий взгляд на
проблему: Pipes R. The Russian Revolution. New York: Knopf, 1990; Idem.
Russia under the Bolshevik Regime. New York: Knopf, 1994. В трактовке
Пайпса революция продолжалась с периода студенческих волнений в
1899 г. вплоть до смерти Сталина в 1953 г. Он изображает революцию
почти исключительно политическим процессом, общество практически
389
не рассматривает, а «идеологии» - то есть марксизму - отводит
второстепенную роль. «Путеводной нитью» революции Пайпс считает
передачу «патримониального» деспотизма России от старого режима к новому.
Во второй книге новый режим показан только до 1924 г., поэтому трудно
спорить по существу с объявленным автором тезисом о преемственности
между Лениным и Сталиным.
7 Таким образом, здесь автор привлекает к объяснению советского
опыта в первую очередь идеологию и политику, так же как в своей
более ранней книге: Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in
Russia, 1917-1991. New York: Free Press, 1994. Однако настоящая
трактовка расширяет предыдущую попыткой рассмотреть русскую
революцию в сравнительном европейском контексте. Подобный же подход к
проблеме с точки зрения идеологии и политики и в сравнении с Европой
см.: Walicki A. Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise
and Fall of the Communist Utopia. Stanford, Calif.: Stanford University
Press, 1995.
8 Gershenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective.
Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1962 (см. эссе
под тем же заглавием, что и вся книга).
9 Maistre J., de. Cinq lettres sur l'éducation publique en Russie // Œuvres
choisies de Joseph de Maistre. Paris: R. Roget et F. Chernoviz, éditeurs, 1910.
T. 1. P. 191.
10 Концепция союза крестьянства и пролетариата впервые отчетливо
сформулирована Лениным в работе 1905 г. «Две тактики
социал-демократии в демократической революции», см.: The Lenin Anthology / ed.
R. С. Tucker. New York: Norton, 1975. P. 120-147.
11 О традиционной Европе как о корпоративном священном
порядке (что здесь именуется «старым режимом» в широком понимании)
прекрасно пишет Дитрих Герхард: Gerhard D. Old Europe: A Study of
Continuity, 1000-1800. San Francisco: Academic Press, 1981.
12 Это основная суть критики большевизма со стороны меньшевиков.
В различных формах ее повторяют такие западные историки, как Роберт
Такер (Tucker R. С. Introduction // The Lenin Anthology) и Леопольд
Хеймсон (Haimson L. The Russian Marxists and the Origins of Bolshevism.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955).
13 Из предисловия Маркса и Энгельса к русскому изданию
«Манифеста коммунистической партии» (1882), цит. по: Walicki A. The
Controversy over Capitalism: Studies in the Social Philosophy of the Russian
Populists. Oxford: Oxford University Press, 1969. P. 180-181.
14 Доводы в пользу того, что Октябрь следует рассматривать как
социальную революцию, см.: The Workers' Revolution in Russia, 1917: The
View from Below / ed. D. H. Kaiser. Cambridge: Cambridge University
Press, 1987; Suny R. Towards a Social History of the October Revolution //
American Historical Review. 1983. Vol. 88. P. 31-52.
15 Главные положения о «бухаринской альтернативе» см.: Cohen S.
Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888-
390
1938. New York: Knopf, 1973; Lewin M. Political Undercurrents in Soviet
Economic Debates: From Bukharin to the Modern Reformers. Princeton:
Princeton University Press, 1974. Более нюансированный анализ
ключевых решений конца 1920-х гг. см.: Nove A. Economic Rationality and Soviet
Politics; or, Was Stalin Really Necessary? New York: Praeger, 1964.
16 Сказано на XIII съезде партии в 1924 г.
17 Тем, кто сомневается в долгой власти идейных установок над
советским руководством, следует обратить внимание на работу: Holloway D.
Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956. New
Haven: Yale University Press, 1995.
18 Лозунг «догнать и перегнать Америку» был особенно популярен
при Н. С. Хрущеве. См.: Taubman W. Khrushchev: The Man and His Era.
New York: Norton, 2003. Это еще одна работа, свидетельствующая о том,
что советское руководство смотрело на мир через призму идеологии
даже через много лет после Второй мировой войны.
Заключение и эпилог
1 Об «общем фашизме», «общем коммунизме» и их сравнении см.:
Malia M. Judging Nazism and Communism // National Interest. 2002. Fall.
P. 63-78. [Текст об «общем коммунизме» ниже с незначительными
изменениями взят из этой статьи. - Т.Э.]
2 Пример такой позиции см.: Diner D. Das Jahrhundert verstehen: eine
universalhistorische Deutung. München: Luchterhand, 1999.
3 Кратко изложенный здесь анализ марксизма раскрыт полнее в кн.:
Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin
Mausoleum. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. Chap. 4.
4 Marx K., Engels F. The Communist Manifesto / intr. by M. Malia. New
York: Signet Classics, 1998. P. 90.
5 Ibid. P. 66.
6 Ibid. P. 76.
7 См., напр., предисловие Хобсбаума к изданию: The Communist
Manifesto: A Modern Edition. London: Verso, 1998. Хобсбаум уверяет нас,
что 150 лет назад Маркс предвидел нынешнюю «глобализацию»,
которая, разумеется, является современным выражением «внутренних
противоречий» капитализма.
8 Marx К., Engels F. The Communist Manifesto. P. 55.
9 Слова Энгельса. См.: Walicki A. Marxism and the Leap to the Kingdom
of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia. Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 1995.
Приложение I. Революция: Что в имени?
1 Eckstein H. Internal War, Problems and Approaches. New York: Free
Press of Glencoe, 1964.
391
2 См. введение к этой книге.
3 Clausewitz С, von. On War / trans. M. Howard, P. Paret. Princeton:
Princeton University Press, 1976; Mahan A. T. The Influence of Sea Power
upon History, 1660-1783. Boston: Little, Brown, 1898 (1-е изд.: 1890); Ibid.
Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-
1812. 2 vols. Boston: Little, Brown, 1892. См. также: Aron R. Clausewitz,
Philosopher of War. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1985; Paret P.
Understanding War: Essays on Clausewitz and the History of Military Power.
Princeton: Princeton University Press, 1992. О Мэхэне см.: Livezey W.
Mahan on Sea Power. Norman: University of Oklahoma Press, 1980.
4 Как поступает историк Чарльз Тилли: Tilly С. From Mobilization to
Revolution. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978.
5 Самые последние исследования общего характера по вопросу
революции см.: Kimmel M. S. Revolution: A Sociological Interpretation.
Philadelphia: Temple University Press, 1990; Revolutions: Theoretical,
Comparative, and Historical Studies / ed. J. Coldstone. 3rd ed. Belmont,
Calif.: Wadsworth/Thomson Learning, 2003; Parker N. Revolutions and
History. Maiden, Mass.: Blackwell, 1999. Более старые, но все еще
значимые работы: Dunn J. Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis
of a Political Phenomenon. NewYork: Cambridge University Press, 1972
(2-е изд.: 1989); Hagopian M. The Phenomenon of Revolution. New York:
Dodd, Mead, 1974.
6 Cohen I. B. Revolution in Science. Cambridge, Mass.: Belknap Press
of Harvard University Press, 1985; Revolution in History / ed. R. Porter,
M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
7 Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / trans.
T. Parsons. New York: Scribner's, 1930. P. 47-48.
8 Наиболее полное освещение истории слова и понятия
«революция» см.: Koselleck R. Revolution: Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg //
Geschichtliche Grundbegriffe / hg. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck.
8 Bde. Stuttgart: Klett-Cotta, 1972-1992. Bd. 5. S. 653-788. Полезна
также книга: Griewank К. Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Weimar:
H. Böhlaus Nachfolger, 1955. Об употреблении слова во французском
языке см.: Rey A. «Révolution»: Histoire d'un mot. Paris: Gallimard, 1989. См.
также: Hill С. The Word «Revolution» in Seventeenth-Century England //
For Veronica Wedgwood, These Studies in Seventeenth-Century History /
ed. R. Ollard, P. Tudor-Craig. London: Collins, 1986. P. 134-151.
9 Джордж Форстер. Цит. по: Arendt H. On Revolution. New York:
Viking Press, 1963. P. 42.
10 Macaulay T. B. The History of England from the Accession of James II.
5 vols. London: Longman, 1849-1861. См. также: Clive J. L. Macaulay: The
Shaping of the Historian. New York: Knopf, 1973. Классическую критику
виговской интерпретации см.: Butterfield H. The Whig Interpretation of
History. London: G. Bell and Sons, 1931.
1 { См.: Wills G. Lincoln at Gettysburg: The Words That Remade America.
New York: Simon & Schuster, 1992. Уилле показывает, что знаменитая
392
преамбула к «Декларации независимости» приобрела свое современное
значение и центральное место в национальном мифе только после не
менее знаменитой речи Линкольна в Геттисберге.
12 Bancroft G. History of the United States, from the Discovery of the
Continent. 6 vols. Boston: Little, 1876. См. также: Jensen M. Historians
and the Nature of the American Revolution // The Reinterpretation of
Early American History: Essays in Honor of John Edwin Pomfret / ed.
R. A. Billington. New York: Norton, 1968.
13 Furet F. La Révolution française est terminée // Idem. Penser la
Révolution française. Paris: Gallimard, 1983.
14 Burke E. Reflections on the Revolution in France. New York: Liberal
Arts Press, 1955. P. 6.
15 Его главные труды: Gardiner S. R. History of England: From the
Accession of James I to the Outbreak of the Civil War, 1603-1642. 10 vols.
London: Longmans, 1883-1884; Idem. History of the Great Civil War, 1642-
1649.4 vols. London: Longmans, 1893; Idem. History of the Commonwealth
and the Protectorate, 1649-1660. 3 vols. London: Longmans, 1897-1901. В
последнем издании он намеревался описать историю Англии с 1649 по
1660 г., однако скончался, завершив только три тома (т. 1: 1649-1651;
т. 2: 1651-1654; т. 3: 1654-1656). Вместе с тем он успел выпустить
краткое популярное изложение своих взглядов (Idem. The First Two Stuarts
and the Puritan Revolution. New York: Charles Scribner's Sons, 1907
[1-е изд.: 1876]), а также работу: Idem. The Constitutional Documents of
the Puritan Revolution, 1625-1660. Oxford: Clarendon Press, 1889.
16 Paine T. The Rights of Man: Being an Answer to Mr. Burke's Attacks
on the French Revolution. London: J. S.Jordan, 1791. Книга одновременно
вышла в Балтиморе и в Париже.
17 О Гизо и Токвиле см. примеч. 18 и 19 ниже. См. также: Quinet E. La
Révolution. 2 t. Paris: A. Lacroix, Verboeckhoven, 1866; Michelet J. Histoire
de la Révolution française. 6 t. Paris: A. Lacroix, 1868-1869; Taine H. Les
origines de la France contemporaine. 61. Paris: Hachette, 1888-1894.
18 Rosanvallon P. Le moment Guizot. Paris: Gallimard, 1985.
19 Tocqueville A., de. De la démocratie en Amérique (Oeuvres II). Paris:
Gallimard, 1992. P. 7. Под «одним поколением» он имеет в виду Гизо и
его сторонников - то есть зодчих конституционно-монархического
«завершения» французской революции.
20 Tocqueville A., de. L'ancien régime (Oeuvres III). Paris: Gallimard,
2004. P. 64-68 (и, по сути, вся гл. IV).
21 Ibid. P. 68.
22 Tocqueville A., de. De la démocratie en Amérique. P. 4-5.
23 The Marx-Engels Reader / ed. R. C. Tucker. 2nd ed. New York: Norton,
1978. P. 4.
24 Ibid. P. 4-5.
25 Ibid. P. 475.
393
26 Kropotkine P. La grande révolution, 1789-1793. Paris: Stock, 1909;
Jaurès J. Histoire socialiste de la Révolution française. 8 t. Paris: Editions de
la Librairie de l'humanité, 1922-1924.
27 Finley M. I. Revolution in Antiquity // Revolution in History / ed.
R. Porter, M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 53-55.
28 Syme R. The Roman Revolution. London: Oxford University Press,
1962.
29 Needham J. Social Devolution and Revolution: Ta Thung and Thai
Phing // Revolution in History. P. 61-73.
30 Shaban M. A. The Abbasid Revolution. Cambridge: Cambridge
University Press, 1970.
31 Baechler J. Conservation, réforme et révolution comme concepts
sociologiques // Esprit critique. 2004. Vol. 6. № 2. P. 70-86.
Приложение П. Высокая социальная наука и «стасиология»
1 Baechler J. Conservation, réforme et révolution comme concepts
sociologiques // Esprit critique. 2004. Vol. 6. № 2. P. 70-86.
2 Brinton С The Anatomy of Revolution. New York: Norton, 1938 (nepe-
печ.: New York: Vintage Books, 1965).
3 Daniels R. V. The End of the Communist Revolution. London: Routledge,
1993; Fitzpatrick S. The Russian Revolution. New York: Oxford University
Press, 1982, 1994; Keddie N. Iran and the Muslim World: Resistance and
Revolution. New York: New York University Press, 1995.
4 Brinton С The Anatomy of Revolution. P. 26.
5 Hobsbawm E.J. Primitive Rebels. Manchester: Manchester University
Press, 1959; Wolf E. Peasant Wars of the Twentieth Century. New York:
Harper & Row, 1969.
6 Eckstein H. On the Etiology of Internal Wars // History and Theory.
1964-1965. Vol. 4. No. 2. P. 133-163; Stone L. The Causes of the English
Revolution, 1529-1642. New York: Harper & Row, 1972. P. 12.
7 Классическое произведение в последнем жанре: Gurr Т. R. Why Men
Rebel. Princeton: Princeton University Press, 1970.
8 Stone L. The Causes of the English Revolution. P. 12-17.
9 Tilly С The Vendée. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964.
10 Tilly С From Mobilization to Revolution. Reading, Mass.: Addison-
Wesley, 1978. См. также: Idem. Coercion, Capital, and European States,
A. D. 990-1990. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, 1990; Idem. European
Revolutions, 1492-1992. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, 1993; Cities and
the Rise of States in Europe, A. D. 1000 to 1800/ed. C.Tilly, W. P. Blockmans.
Boulder, Colo.: Westview Press, 1994; The Formation of National States in
Western Europe / ed. C. Tilly. Princeton: Princeton University Press, 1975.
11 Burke P. History and Social Theory. Ithaca, N.Y.: Cornell University
Press, 1993.
12 Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and
Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 1966.
394
13 Moore B. Soviet Politics: The Dilemma of Power; the Role of Ideas in
Social Change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950.
14 Skocpol T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of
France, Russia, and China. New York: Cambridge University Press, 1979.
15 См. вступительную статью Скокпол под этим названием в сб.:
Bringing the State Back In / ed. P. В. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol.
New York: Cambridge University Press, 1985.
16 Skocpol T. States and Social Revolutions. P. 36.
17 Lefebvre G. La grande peur de 1789. Paris: A. Cohn, 1932.
18 Lefebvre G. The Coming of the French Revolution / trans. R. R. Palmer.
Princeton: Princeton University Press, 1967. Первое издание вышло под
названием: Quatrevingt-neuf. Paris: Maison du livre français, 1939.
19 Skocpol T. States and Social Revolutions. P. xiii.
20 Ibid. P. xi.
21 Ibid.
22 Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / trans.
T. Parsons. New York: Scribner, 1958.
23 Landes D. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are so Rich
and Some so Poor. New York: Norton, 1998.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аббасиды, династия 350
Август, римский император 36
Августин Блаженный 42,92,338
Адаме Дж. 189,203
Адаме С. 202, 206
Айртон Г. 179-180
Аламбер Ж. Л., д' 229
Алеви Э. 187
Александр I, российский император
302,304
Александр II, российский император
304-305
Алессандро Фарнезе, герцог Парм-
ский 134,136,150-152
Альба Ф. Альварес де Толедо 146-
150
Альбер, рабочий 271
Альенде С. 291
Альфред Великий, король Уэссекса
120,164
Анна Русская, королева Франции 23
Анна Чешская, королева Англии 54
Аристотель 348-349,352
Арнольд Брешианский 41,43,73,261
Арон Р. 219
Артевельде Ф., ван 71
Артуа А. Ш., д', граф де Шамбор
(ГенрихУ) 174
Еабёф Г. 182,240, 245, 263,267,283
Бакунин М. А. 98, 254,280,302
Барбес А. 283
396
Барнав А. 209,232, 238
БаррюэльО. 211
Бартош Ф. 50
Бауэр О. 294
Бебель А. 283
БезаТ. 124-126,133
Бейлин Б. 196
Беккер К. 194-195
Бербон П. 183
Берд Ч. 195
Бёрк Э. 158, 162, 187, 210, 231, 235,
341,354
Берлихинген Г., фон 105,115,139
Бернар Клервоский 41-42,73
Бернет Г. 158-160
Бернштейн Э. 290, 292-293
Бисмарк О., фон 15, 279-280, 291,
293,298
Блан Л. 48-49, 72-73, 212, 264, 268-
269,271
Бланки О. 272, 283
Бликле П. 79
Блок А. А. 296
Блок М. 5,32-33
Боден Ж. 133,136,163
Босси Дж. 48,96
Ботеро Дж. 163
Бредероде X. 144-145
Брежнев Л. И. 322,324,329, 331
Бринтон К. 70, 172, 218, 352-356,
358-360,367
Бриссо Ж.-П. 232
Буллингер Г. 94
Буонарроти Ф. M. 283
Бурбон ILL, де 136
Бурбоны, династия 80, 125, 132, 136,
174, 185, 224-225, 242, 258-259,
266-267,339,361
Бухарин Н. И. 319-320
Буцер М. 76,94,107,124
БэнвильЖ.213
БэнкрофтДж. 193,340
Валуа, династия 53, 80-81, 103, 120,
123-124,128,132,142
Вальдхаузер К. 54
Вацлав IV, чешский король 47, 54-
55,58
Вашингтон Дж. 199, 206,236,335
Вебер А. 20
Вебер М. 11-12, 17-18, 35, 37, 159-
160,223,257,264,337,356,368
Вейн П. 352
Вейтлинг В. 280, 283
Верди Дж. 139
Вермильи П. М. 124
Веттины, дом 80
Вильгельм I, английский король 165
Вильгельм I, принц Оранский 129,
138,142,144-151,154
Вильгельм II, германский
император, прусский король 185
Вильгельм III, английский король
185
Витте С. Ю. 307,324
Виттельсбахи, дом 80
Владимир Святославич, великий
князь Киевский 22
Вольтер 188,227,229-230
Вордсворт У. 235
Вуд Г. 196
Габсбурги, династия 68, 80-83, 92,
103, 113, 120, 124, 138, 140-142,
154,167,222-223,277-278
Гаксотт П. 213
Гакстгаузен А., фон 213
Галилей Г. 227
Ганноверы, династия 199-200, 204
ГардинерС. Р. 159,181,341
Гаррингтон Дж. 157,183,204,228
Гегель Г. В. Ф. 14, 35, 43, 284, 289,
295,345,348
ГедЖ.215
Гейл П. 139,148
Гельвеций К. А. 229
Генри П. 246
Генриетта-Мария Французская,
королева Англии 168
Генрих, герцог Анжуйский см.
Генрих III
Генрих I, французский король 23
Генрих II, английский король 165
Генрих II, французский король 123—
124
Генрих III, французский король
134-135
Генрих IV, император Священной
Римской империи 39
Генрих IV, французский король 67,
132-136,222,225
Генрих VII, английский король 163
Генрих VIII, английский король 163,
166
Генрих Наваррский см. Генрих IV,
французский король
Георг III, английский король 175,
194,200,205,207
Геродот 8, 336
Герцен А. И. 302
Гершенкрон А. 16
Гёте И. В. 139
Гиббон Э. 38
Гиз Г., де 134-135
ГизК.,де125
Гиз Ф.,де 124-125, 127
397
Гизо Ф. 33-34, 91, 211, 213, 218,
266-267, 270-271, 280, 282, 342,
345,354
Гизы,дом80, 125-126, 132,136
Гильдебранд см. Григорий VII
Гильфердинг Р. 294
Гитлер А. 329
Гоббс Т. 172,228
Гогенцоллерны, династия 277-278
Гогенштауфены, династия 24,81
Голл Я. 49
Гольбах П. А. 229
Горбачев М. С. 324
Гордон Дж. 328
Горн Ф. де Монморанси 147
Гофман М. 106-108
Гракхи, братья 238,349
Гранвель А., де 142,144,150
Гребель К. 99
Грегуар А. 230
Григорий VII, папа римский 38-40
Гроций Г. 152
Гус Я. 47,51,54-59,61,63-64,67,69,
84,87,90,115,297
Гуска М. 65
Гутенберг И. 63
Гуттен У., фон 80,89,101
Гюго В. 254, 274-275
Дадли Р., граф Лестер 151
Дантон Ж. Ж. 214-215,232,237-238
Девере Р., граф Эссекс 176
Декарт Р. 153
Делакруа Э. 254
Денифле Г. 78
ДженсенМ. 195-196
Джефферсон Т. 235,249,342
Джойс, корнет 179
ДиасП.31
Дидро Д. 229-230
Диоклетиан, римский император 25,
31
Доминик де Гусман (Святой) 42
Достоевский Ф. М. 305
Дрейфус А. 341
ДумергЭ. 119
Дэн Сяопин 324,330
Дюркгейм Э. 215, 257,356
Евсевий Кесарийский 42
Екатерина Медичи, королева
Франции 125-127,131-132,135
Екатерина II, российская
императрица 31, 234, 300
Елизавета Валуа, королева Испании
136
Елизавета I, английская королева
126, 147, 150-151, 160, 163, 166,
176
Желивский Я. 58,65,114
Жижка Я. 47, 51, 58, 60-62, 64-66,
69-70,114,297
Жорес Ж. 214, 294, 346, 364
Загорин П. 119-120
Збынек Зайиц, архиепископ
Пражский 47
Зиккинген Ф., фон 89,101,114
Зомбарт В. 264
Иероним Пражский 57
Изабелла, инфанта 136
Изабелла I, королева Кастилии 81,
163
Иннокентий III, папа римский 39
Иван IV, русский царь 29
398
Иоанн Безземельный, английский
король 39
Иоахим Флорский 41-42, 55,61, 90
Иржи из Подебрад, чешский король
68
Иштван (Стефан) I, венгерский
король 22
Кавеньяк Л. Э. 272-273
Кальвин Ж. 49, 94, 118, 121-126,
128-129
Камински Г. 50
Кампанелла Т. 261
Кант И. 43,235
Капетинги, династия 28, 53,120,131,
220-221
Карл Великий, император Запада
121
Карл I, английский король 60, 62,
163, 168-176, 178-184, 205, 220,
231,236
Карл II, английский король 130,135,
157-158, 173, 182, 185, 199, 204,
338
Карл IV, император Священной
Римской империи 47, 52-54, 62-
63,165
Карл IV (Бурбон), испанский король
236
Карл V, император Священной
Римской империи 77, 80-81, 87, 90,
104, 111-113, 120, 126, 138, 140-
143,201
Карл IX, французский король 125,
132,134
Карл X, французский король 267
Карлштадт А. 94-95,99-100,107
Карно Л. 238
Каролинги, династия 11, 20, 23, 38,
51,80,83,221
Кастро Ф. 291,330, 354
Каутский К. 78,98,261,284,290-291,
293-294,317
Ким Ир Сен 330
КингдонР. 128
КинеЭ.209,213,342
Киплинг Р. 340
Классен Дж. 50
Клаузевиц К., фон 336
Клеман Ж. 135
Клемансо Ж. 214, 219
Книппердоллинк Б. 108-109
КоббанА.217
Колаковский Л. 281
Колиньи Г., де 125,131-132,134
КондорсеН.,де229,232
Константин, римский император И,
23,25,31,37-38
Конт 0.35, 257
Коперник Н. 338
Кохлей И.77, 297
Кошен О. 218
Кошут Л. 280
Кромвель О. 51, 60, 66,160,170-171,
177-181,183-184,242,353
Кропоткин П. А. 346, 364
Кроне Б. 352
КрузеД. 119
Кутон Ж. О. 238
Кэрри Л., лорд Фолкленд 171,174
ЛабруссЭ.215
ЛависсЭ. 119
Лалли-Толендаль Т. Ж. 230
Ламартин А., де 212, 269, 271-272,
280
Ламет А., де 232
Лафайет М.-Ж., де 60, 62, 230, 232-
233, 235-236, 238, 249, 259, 267,
276,342
Лев X, папа римский 85
Ледрю-Роллен А. О. 271, 273, 280
399
Ленин В. И. 264, 284, 288, 292-294,
296, 305, 308-310, 315, 317, 319-
320,323,331,333,353-354,356
Леру П. 49, 264
ЛеРуаЛадюриЭ. 119
Лессинг Г. Э. 43
Лефевр Ж. 159, 215-217, 231, 328,
363-364
Лефевр д'Этапль Ж. 121
Лильберн Дж. 180
Линкольн А. 246
Линкольн Ч. 194
Липсий Ю. 152
ЛодУ. 154,168,170-172
Локк Дж. 153,158,185,204,228-229
Лопиталь М., де 125
Лотцер С. 92
Луи I, принц Бурбон-Конде 125-127
Луи-Наполеон Бонапарт (Луи
Бонапарт) см. Наполеон III
Луи-Филипп, французский король
211,264,267,280
ЛучицкийИ. В.215
Людвиг, граф Нассауский 129,148
Людовик IX, французский король
121,221
Людовик XI, французский король
121,163
Людовик XIII, французский король
163,169
Людовик XIV, французский король
163-164, 185, 198, 221-223, 225,
228,231
Людовик XV, французский король
226
Людовик XVI, французский король
62,116,173,236,266,278
Людовик XVIII, французский
король 266
Люксембург Р. 294
Люксембурга, династия 52,81,83
400
Лютер М. 49, 55-56, 74, 77-79, 84-
98, 100-105, 107, 111-112, 114-
116,121-122,138
Мабли Г. Б., де 263
Мадзини Дж. 254,280
Мазарини Дж. 223
Маколей Т. Б. 78, 159, 162-163, 193,
211,340,355
Максимилиан I, император
Священной Римской империи 80-81,87
Малиа М. 5-7
Мангейм К. 265
Мао Цзедун 330-331, 333-335, 354,
356,366
Маргарита, герцогиня Пармская
142,145
Маргарита Валуа, королева
Наварры 132
Мария Медичи, королева Франции
169
Мария I, шотландская королева 125
Маркс К. 10-11,14, 18,30, 34, 43, 78,
98, 139, 160, 193, 211-212, 214-
215, 218, 220, 231, 254-255, 257,
264-265, 268, 273-275, 280-296,
300, 302, 307, 309-310, 315, 320,
323-324, 327, 331-334, 345, 355,
359,361,363-364,368
МарниксФ. 144
Марсель Э. 71
Матей из Я нова 54
МатисЯ. 107-108,143
Матьез А. 214-216
Меланхтон Ф. 88,112
Местр Ж., де 304
Меттерних К., фон 258
Мешко I, польский князь 22
Микулаш из Пельгржимова 66
Милич Я. 54
Миллер П. 196
Милль Дж. С. 280
Милошевич С. 331
Мильтон Дж. 157-158
МиньеФ.211
Мирабо О. Г. Р. 232
Миттеран Ф. 218
Мишле Ж. 19, 43, 73, 78, 193, 209,
211, 213-214, 216, 269, 280, 294,
342, 355
Моммзен Т. 349
Монморанси, дом 125
Монтень М., де 133, 224
Монтескье Ш.-Л. 188,204, 228-230
МопуР.Н.,де226,243
Мор Т. 108,261
Морган X. 195
Морган Э. 189,195
МорелиЖ. 129
Морелли Э.-Г. 263
Мориц, граф Нассауский 151
МоррасШ. 213
Мотли Дж. 139
Мур Б. 193,358-364,367
Мэхэн А. Т. 336
Мюнцер Т. 14,74-76,78,95-99,105-
106,110,114-115,145,182
Навуходоносор II, вавилонский
царь 96
Назарбаев Н. А. 331
Наполеон I Бонапарт, французский
император 219,233,241-242,258,
266,273-274,301,342,366
Наполеон III, французский
император 15, 212, 273-275, 279
Нидем Дж. 349
Николай I, российский император
259,302-303
Николай II, российский император
173,185,313
НоксДж. 124
Ньютон И. 227
Оберман X. 79
ОзуфМ.219
Оккам У. 87
ОларФ. 214-215
Олаф II, норвежский король 22
Омейяды, династия 350
Оранский дом 151-152
Орлеанский дом 267
Отман Ф. 133
Оуэн Р. 98,268-269, 283
Палацкий Ф. 49,78
Парето В. 353
Паркер Дж. 140
Паскаль Б. 225
Пейн П. 61
ПейнТ. 162,189,207,235,342
Пекарж Й. 49
Перикл 34
Петр I, российский император 23,29,
31,258,300,302
ПимДж. 171,173-175,276
Пиренн А. 139
Питт У. 175
Плантагенеты, династия 28,53, 220
Платон 260-261
Плеханов Г. В. 306,310 '
Покровский M. H. 159,352
Пол Пот 330
Прайд Т. 181
Прокоп Голый (Лысый) 66-67
Прудон П.-Ж. 268,283
Пршемыслиды, династия 52
Псевдо-Дионисий Ареопагит 36
Пугачев Е. И. 303
Пфайфер Г. 97
401
Разин С. Т. 303
Ранке Л., фон 78-79, 101
Расселл К. 161,166
Рейхлин И. 88
Ричард II, английский король 54
РишеД.217
Ришелье А. Ж. дю Плесси 221-224
Робеспьер М. 60, 214-216, 232, 238-
240, 263, 353
Родбертус К. И. 264
РокицанаЯ.58, 67
Ротман Б. 106-109
Рузвельт Т. 340
Рузвельт Э. 249
Руперт, пфальцграф Рейнский 177
Руссо Ж.-Ж. 227-228,230, 239, 263
Сайм Р. 349
Санд Ж. 49
СапатаЭ.31,356
Сартр Ж.-П. 216, 219
Сен-Жюст Л. А. 209, 238
Сен-Симон А., де 14
Сервет М. 107
Сигизмунд, император Священной
Римской империи 54, 56-58, 61-
64,66-67,70,116
Сидней А. 204
СийесЭ.-Ж.230,232,241
Симоне М. НО, 143
СкиннерК. 119
Скокпол Т. 71,362-367
Слейдан И. 77, 297
СмитА. 197,269
Собуль А. 216-217
Солженицын А. И. 217, 322
Спенсер Г. 257
Спиноза Б. 153
Сталин И. В. 288, 320-323, 330-331,
333-334,354,366
Сталь Ж., де 258
Столыпин П. А. 312
Стоун Л. 160-162,357
Струве П. Б. 296
Стюарты, династия 154, 159-160,
162-163, 165, 167, 185, 198-199,
205, 244, 364
Сугерий 36
Талейран Ш. М., де 233-234
Тейлор А. Дж. П. 255
Телль В. 139
Тилли 4.127,357-358
Тойнби А. Дж. 20
Токвиль А., де 5, 14-18, 31, 44, 70,
189, 197, 208, 212-213, 218, 257,
268, 280, 282-283, 304, 342-345,
354-355,364-365,368
Томпсон Э. П. 162,217
Тони Р. Г. 159-160
Тревельян Дж. М. 159,340
Тревельян Дж. 0.194
Тревор-Роупер X. 160
ТрёльчЭ. 12,37,72
Троцкий Л. Д. 294, 298,320
Тургенев И. С. 305
Тьер А. 105,211,266-267
Тэн И. 213-214,218,342
Тюдоры, династия 163,166-168
Тюрго А. Р. Ж. 234, 243
Уиклиф Дж. 54-55
Уильяме Дж. 79
Уинстенли Дж. 182
Уолпол Р. 204
Уэнтворт Т., граф Страффорд 168,
170-172,175,221
Фадж Т. 50
ФеврЛ. 119
Фейербах Л. 286
Феодосии, римский император 23
402
Фердинанд I, эрцгерцог
Австрийский, император Священной
Римской империи 104,113-114
Фердинанд II, король Арагона 81,
163
Филипп, ландграф Гессенский 91
Филипп I, герцог Орлеанский 224
Филипп II, испанский король 65,
ИЗ, 132, 134-136, 142, 144, 146-
147,149-152,154
Финли М. 349
Флобер Г. 254
Фокс Дж. 182
Фома Кемпийский 89
Франклин Б. 342
Франсуа, герцог Анжуйский 134,
150-151
Франциск Ассизский 42
Франциск I, французский король
121,123
Франциск II, французский король
124-125
Фридрих II, император Священной
Римской империи 165
Фридрих III, курфюрст Саксонский
91,96
Фуггеры, семья 83, 92
Фукидид 8,336,349
Фурье Ш. 98,268-269
ФэрфаксТ. 177
ФюреФ. 6, 217-219, 341
Хайд Э., граф Кларендон 62,158,160,
171,174
Харц Л. 189,208
Хатчинсон Т. 201, 203
Хеймерт А. 196
Хекстер Дж. 160
Хельчицкий П. 68-69,143,182
Хилл К. 159-162
Хлодвиг, франкский король 22
Хо Ши Мин 330
Хобсбаум Э. 262
ХрущевН. С. 329-331
Хуан Австрийский 149-150
Хуана Безумная, королева Кастилии
и Леона 81
Хэмпден Дж. 171,175
Хэмптон Дж. 169
Цвингли У. 76, 85, 92-94, 99, 106-
107,111-112,121-122
Цезарь, римский император 349
Чаушеску Н. 330
Ченек Вартемберкский (Вартем-
берк) 56, 58, 62, 64
Чернышевский Н. Г. 304,310
Черчилль У. 340
Шаппелер К. 92
Шварценберг Ф. 280
Шеллинг Ф. В. Й., фон 43
Шиллер Ф. 139
Шлезингер-ст. А. 195
Шмагел Ф. 50
Шпенглер О. 20
Эбер Ж.-Р. 238
ЭбертФ.291
Эгмонт Л. 139,142,144,146-147
Эдуард VI, английский король 124
Экк И. 87
Эколампадий 92
Эмбар де ла Тур П. 119
Эммонс Т. 7
Энгельс Ф. 14, 49, 75, 78, 95, 98, 101,
114-115, 139, 159, 257-258, 262,
268,281,283-284,310,333
Эразм Роттердамский 88,92,121
Этельберт I, король Кента 22
403
Юм Д. 158,227,229
Юстиниан, римский император 37
Яков II, английский король 135,158,
173,185,199,205
Якубек из Стршибра 57-58, 65,
67,70
Ян Лейденский 108-110,143
Яков, герцог Йоркский см. Яков II
Яков I, английский король 157, 167-
168,175
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие. Теренс Эммонс 5
Введение: Очерк проблемы 8
1. История Европы: Средневековая матрица и ее внутренние
противоречия, 1000-1400 19
Часть I. Революция как религиозная ересь
2. Гуситская Богемия, 1415-1436: От ереси
к протореволюции 47
3. Лютеранская Германия, 1517-1555: Реформация
как полуреволюция 74
4. Гугенотская Франция, 1559-1598 118
5. Нидерландское восстание, 1566-1609 138
Часть П. Классические атлантические революции
6. Англия, 1640-1660-1688: От религиозной революции
к политической 157
7. Америка, 1776-1787: Революция как великая удача 189
8. Франция, 1789-1799: Революция как воинствующая
современность 209
Часть III. В поисках социалистической революции
9. От первой современной революции к первой ожидаемой
революции, 1799-1848: Обзор девятнадцатого столетия 253
10. Марксизм и II Интернационал, 1848-1914 281
11. Красный Октябрь: Революция ради конца всех
революций 296
Заключение и эпилог 326
Приложение I. Революция: Что в имени? 335
Приложение П. Высокая социальная наука и «стасиология» 352
Примечания 369
Указатель имен 396
Научное издание
Мартин Малиа
Локомотивы истории:
Революции и становление современного мира
Перевод с английского языка Е. С. Володиной