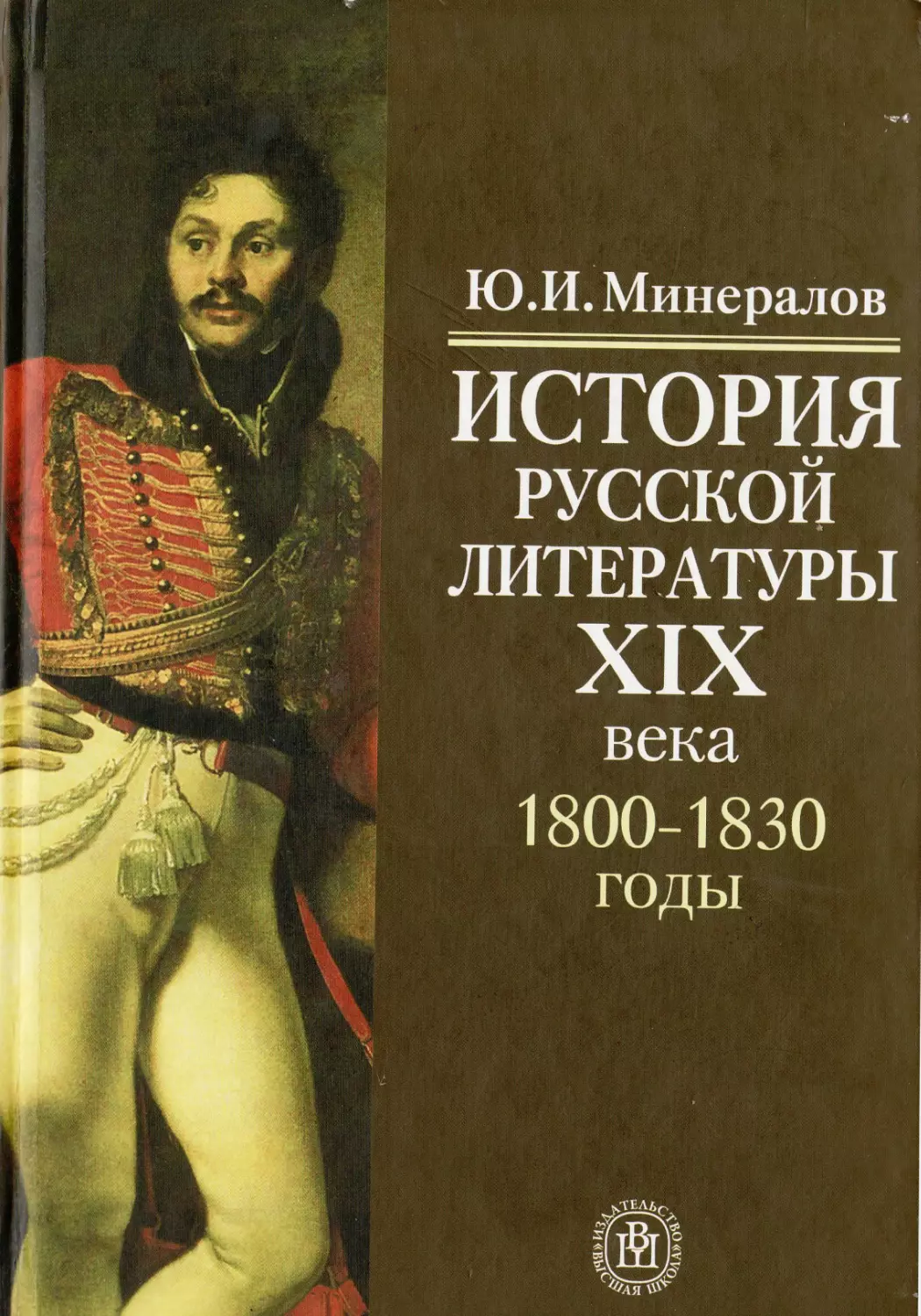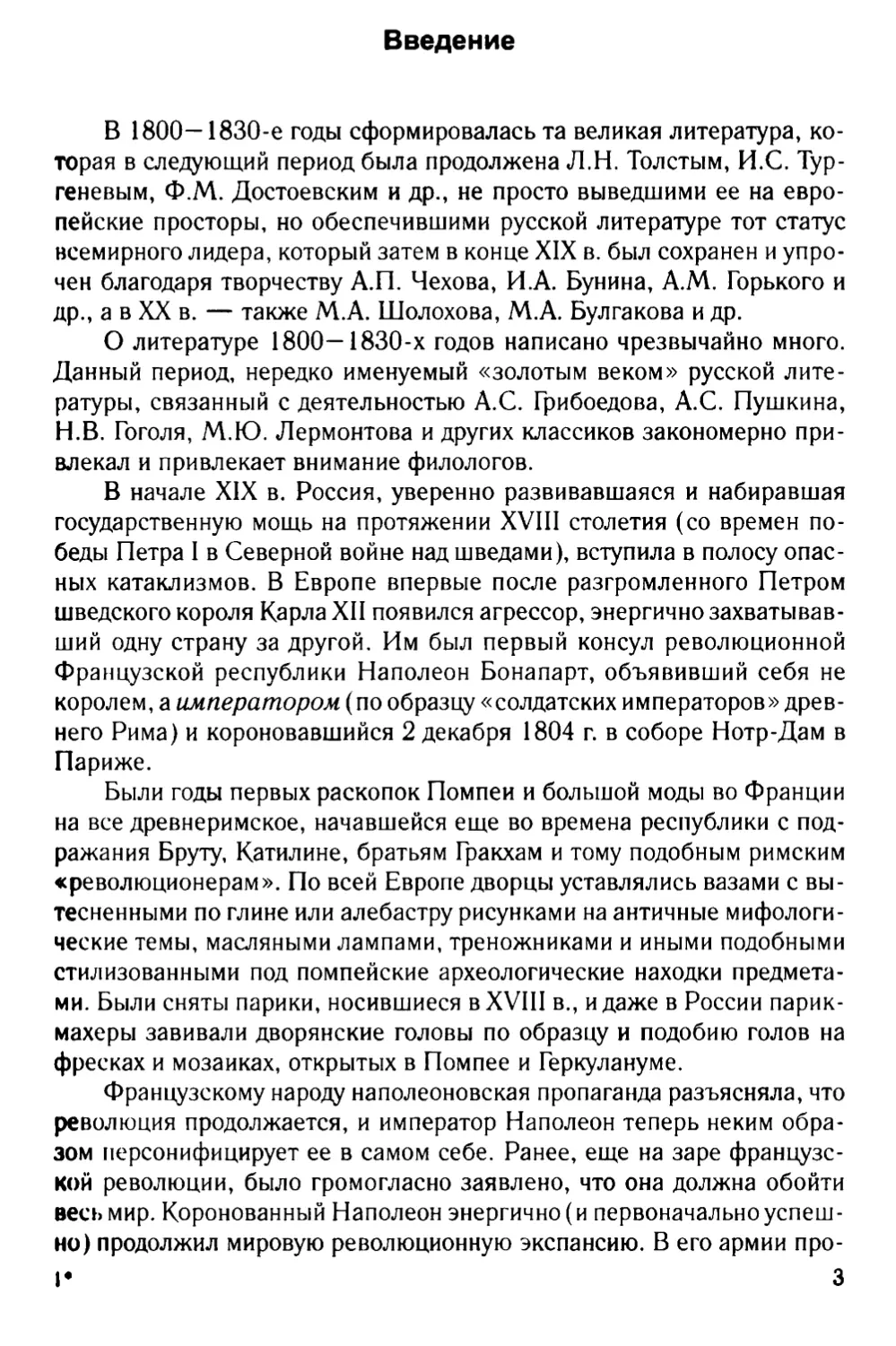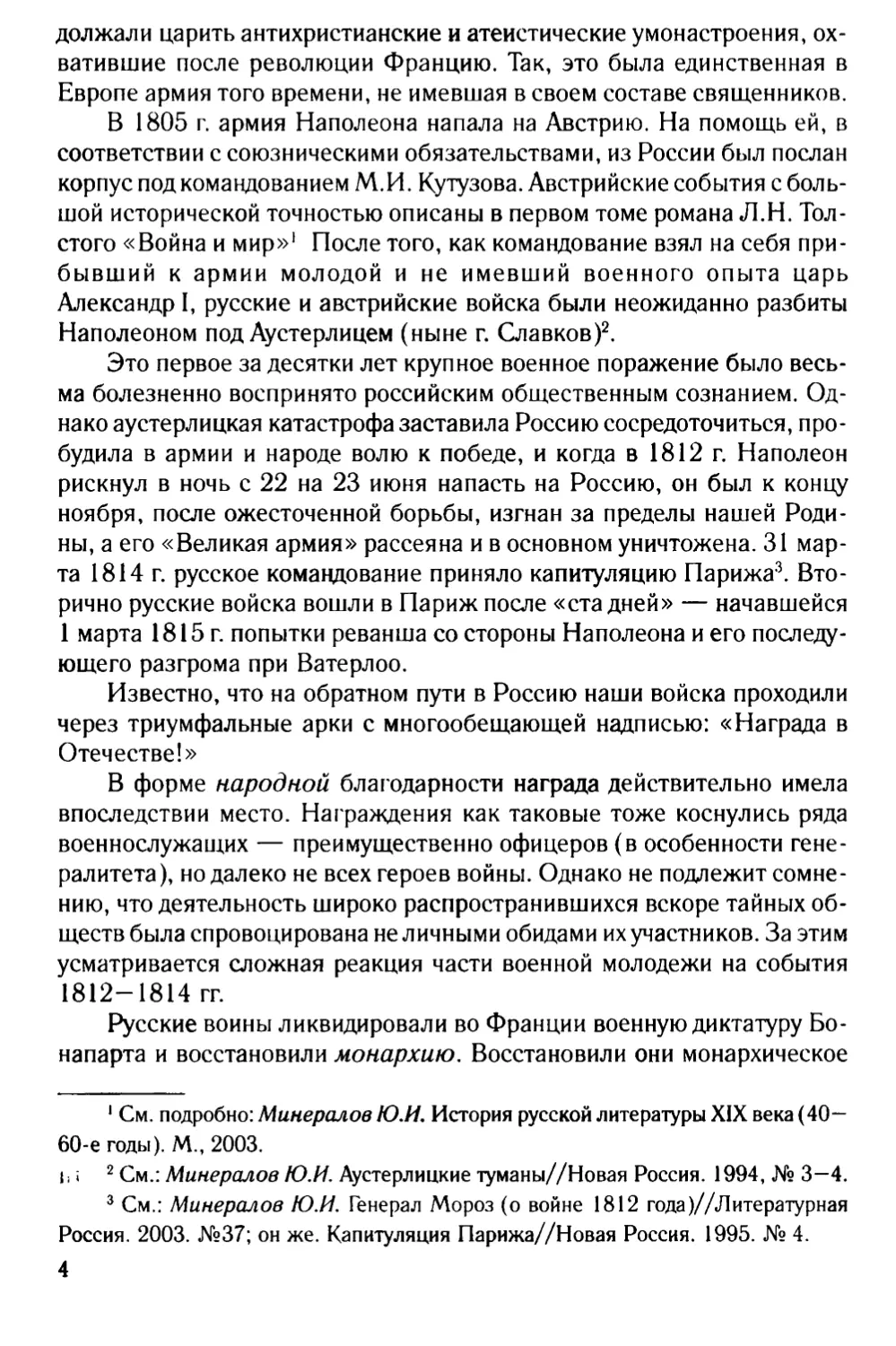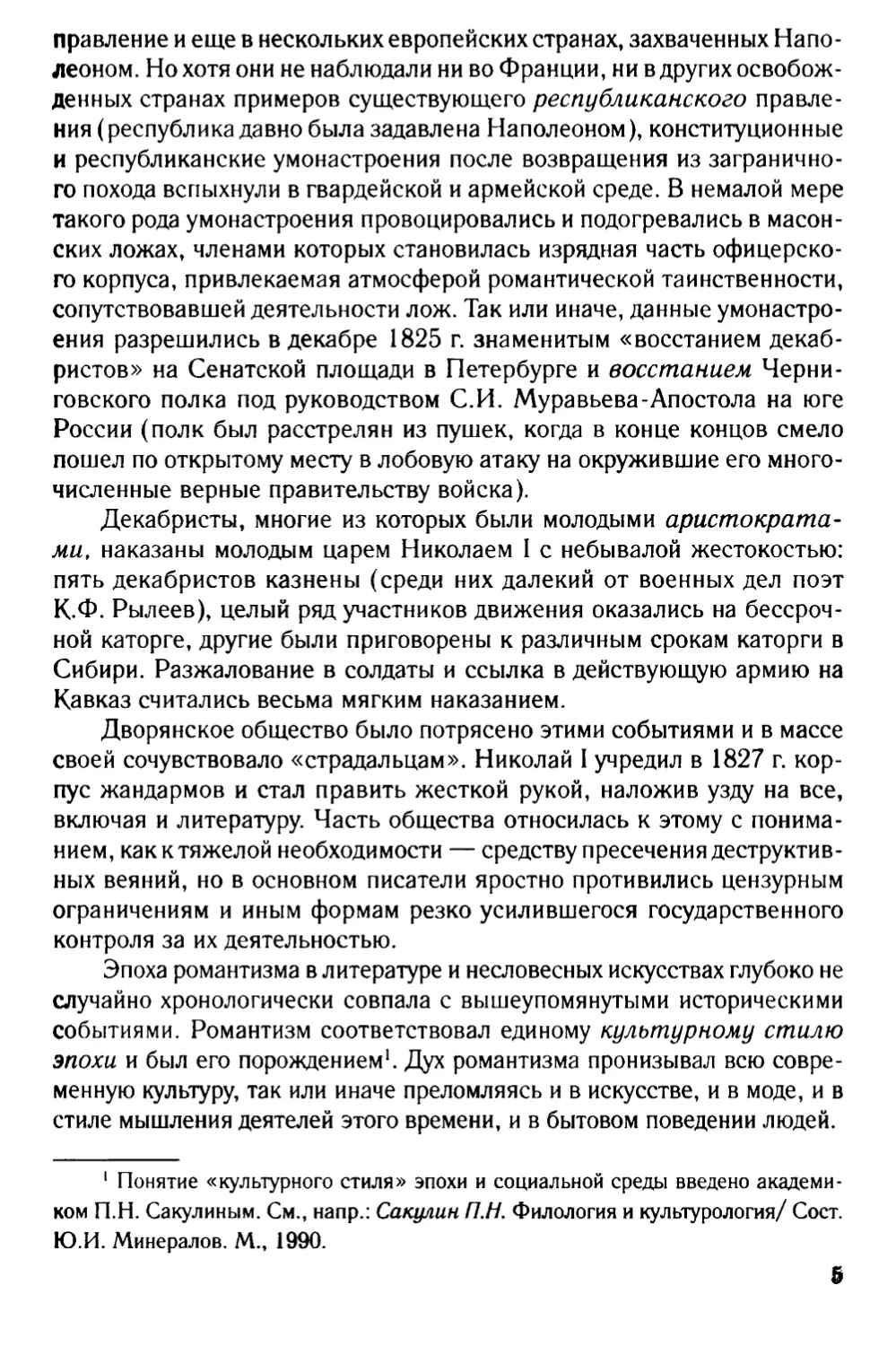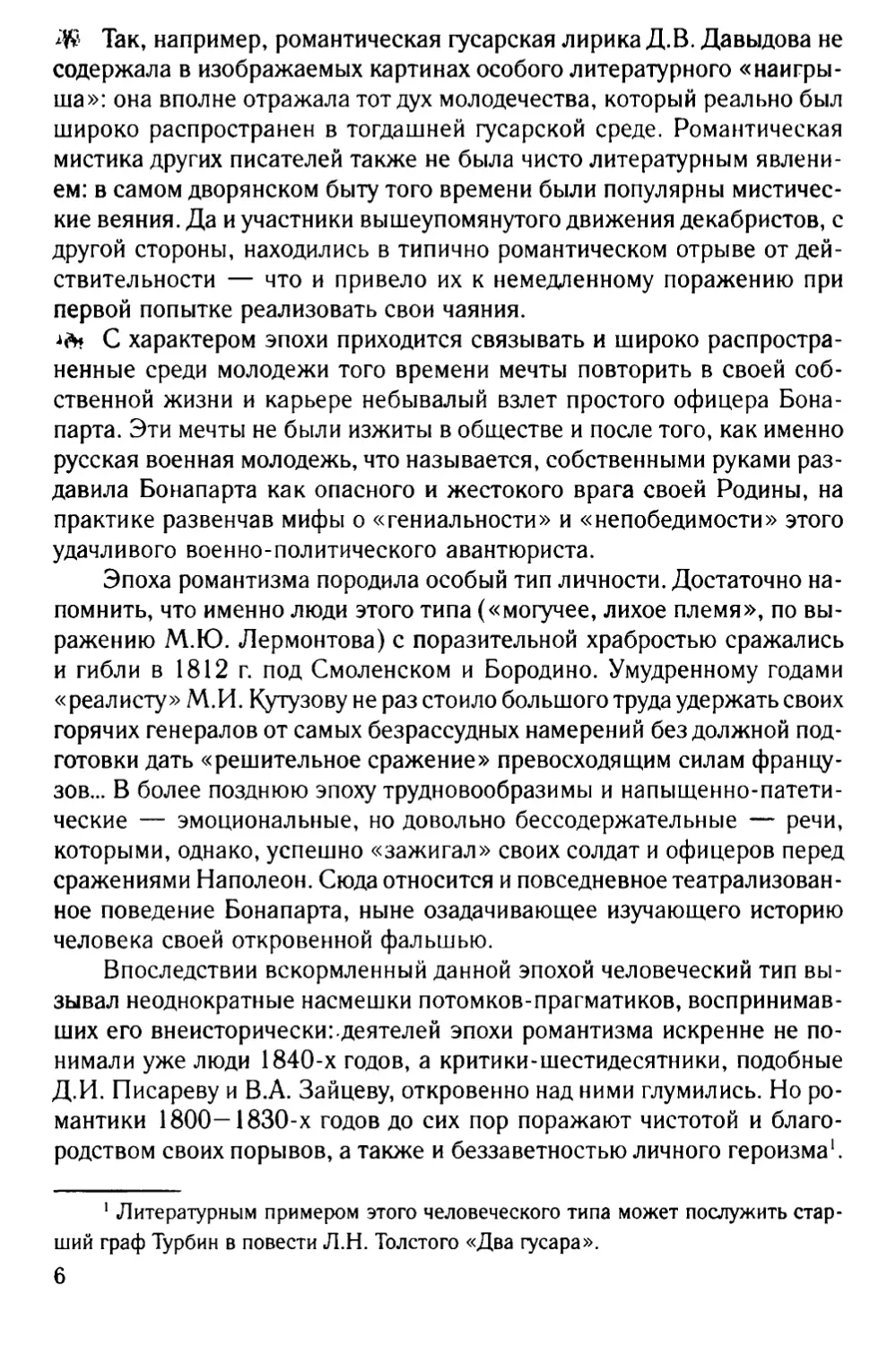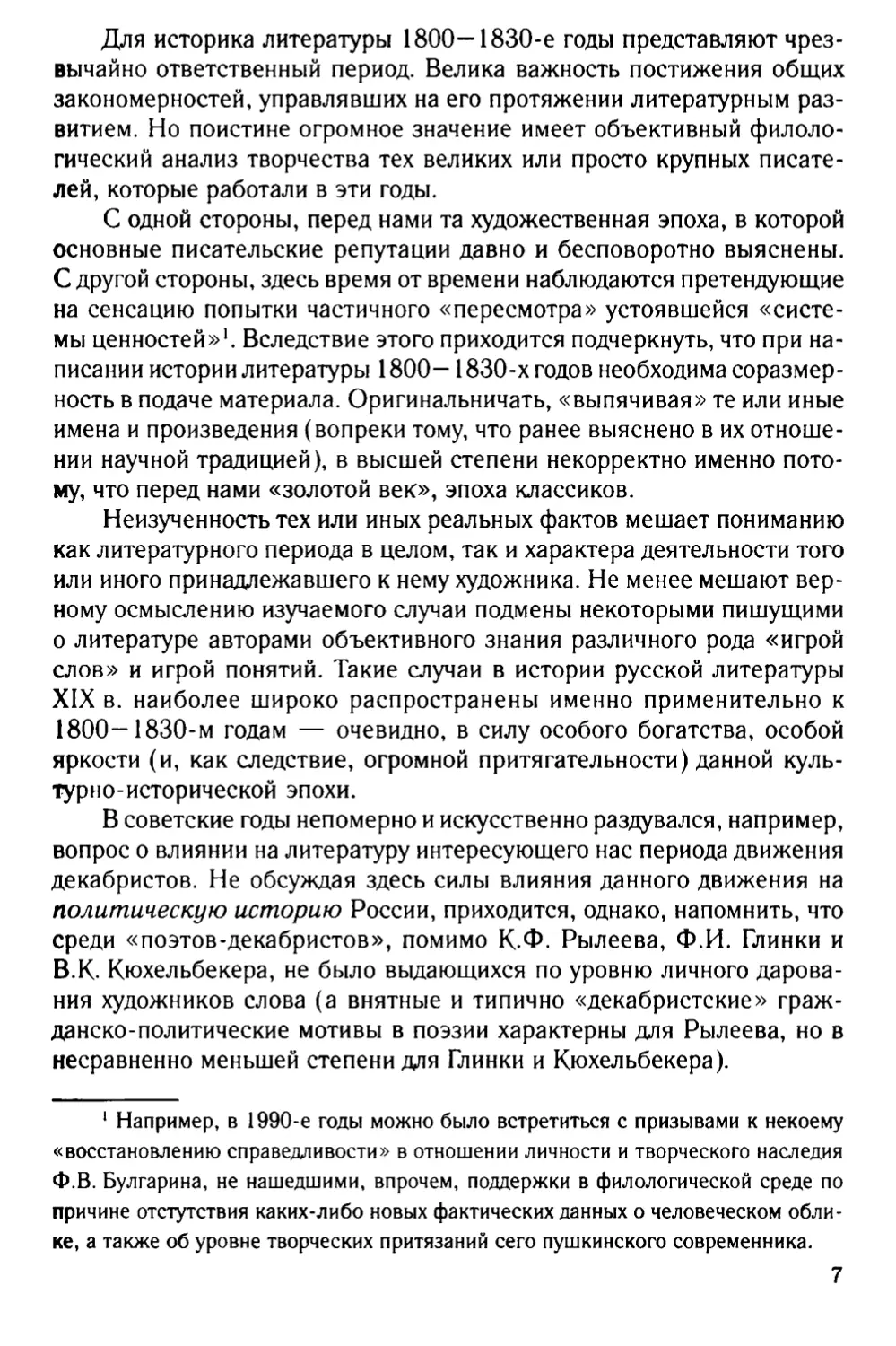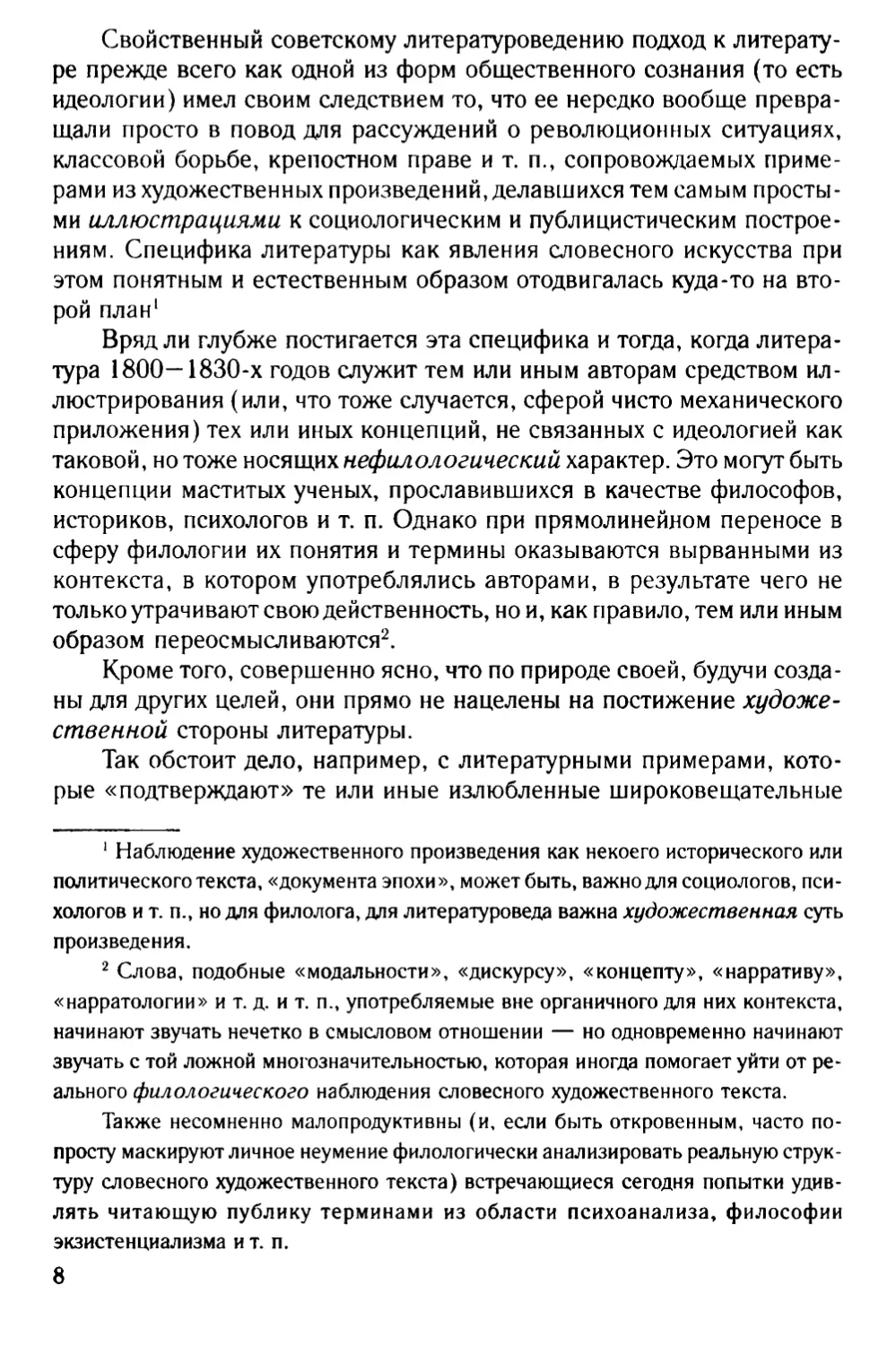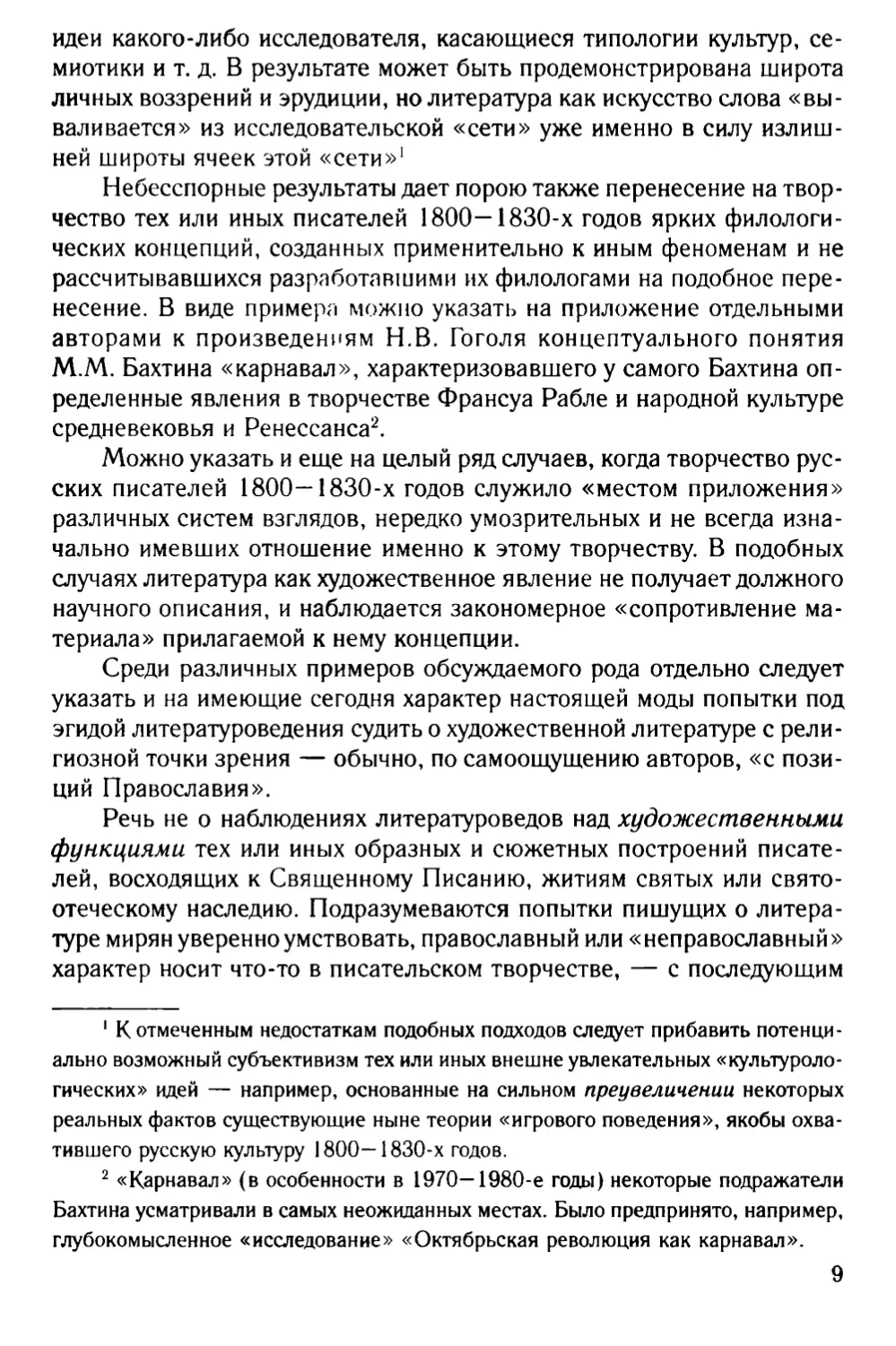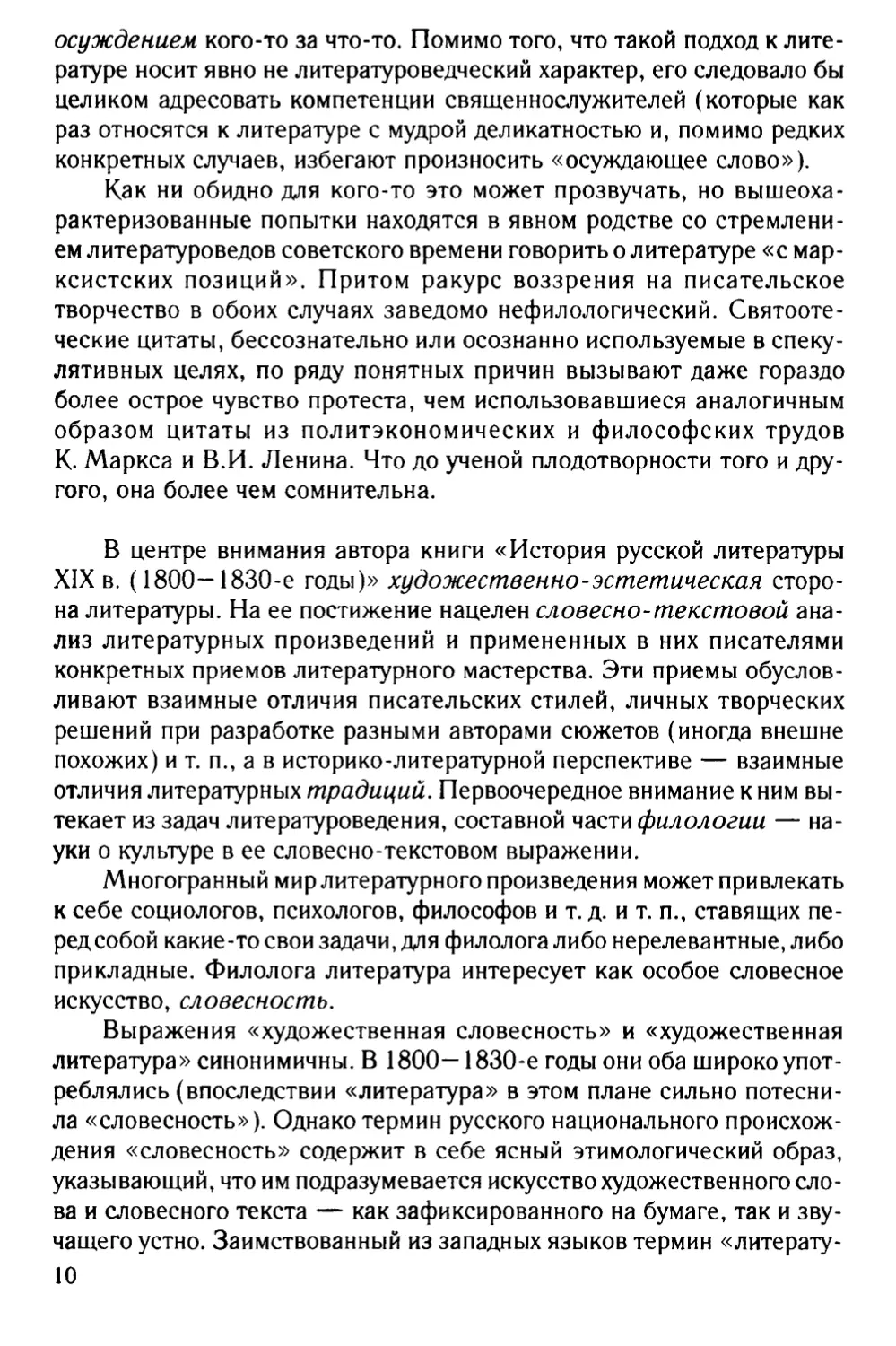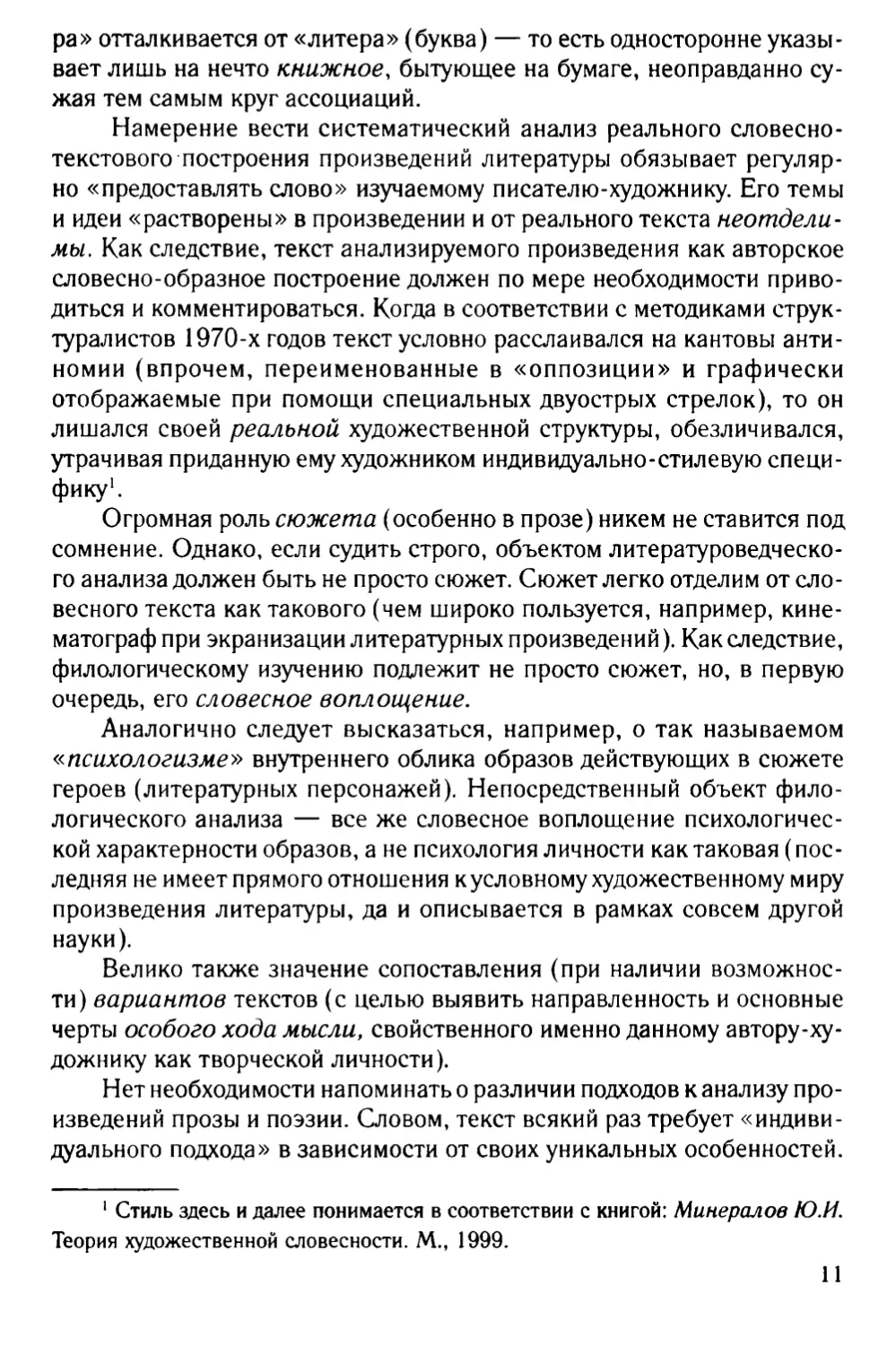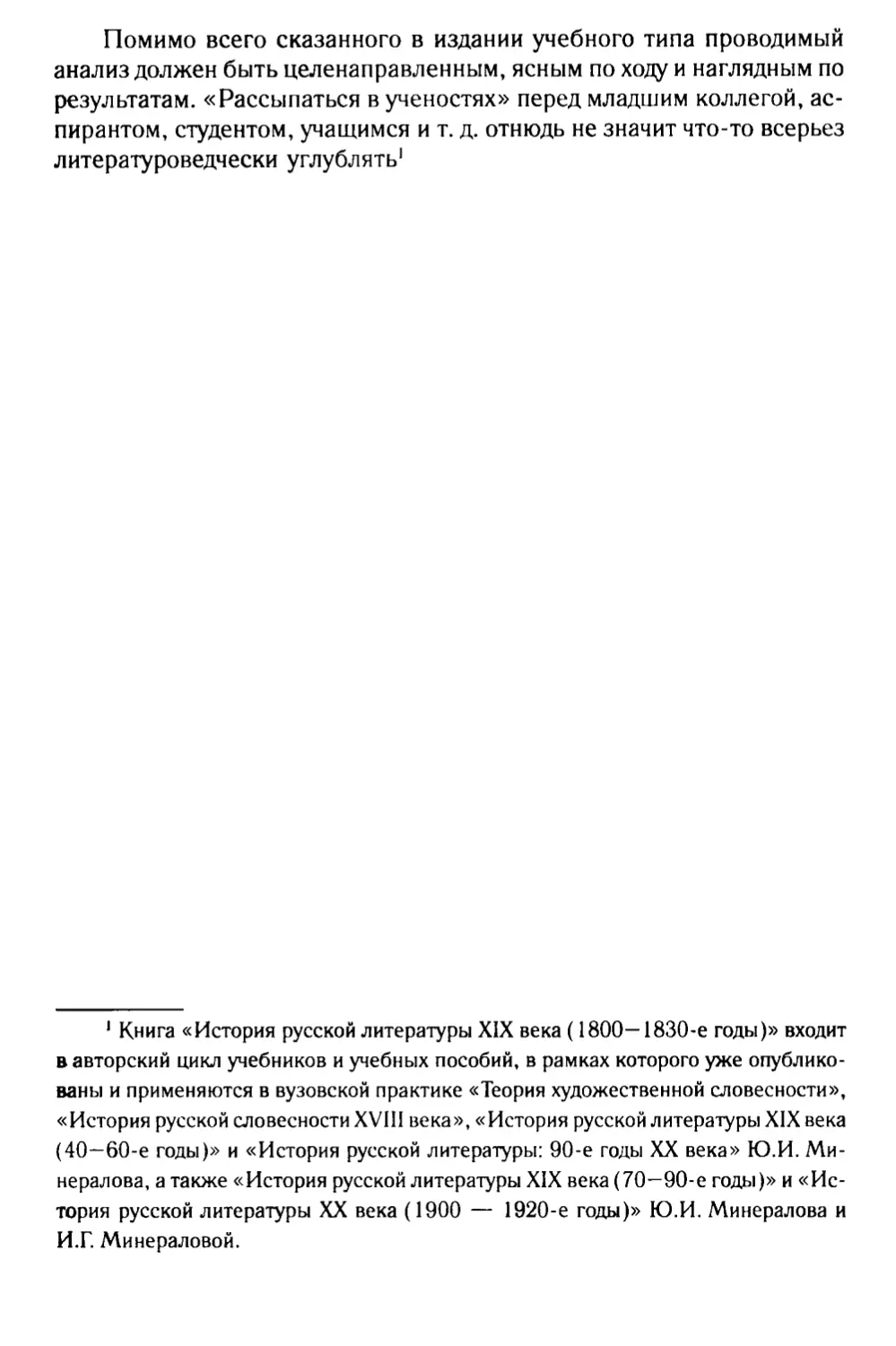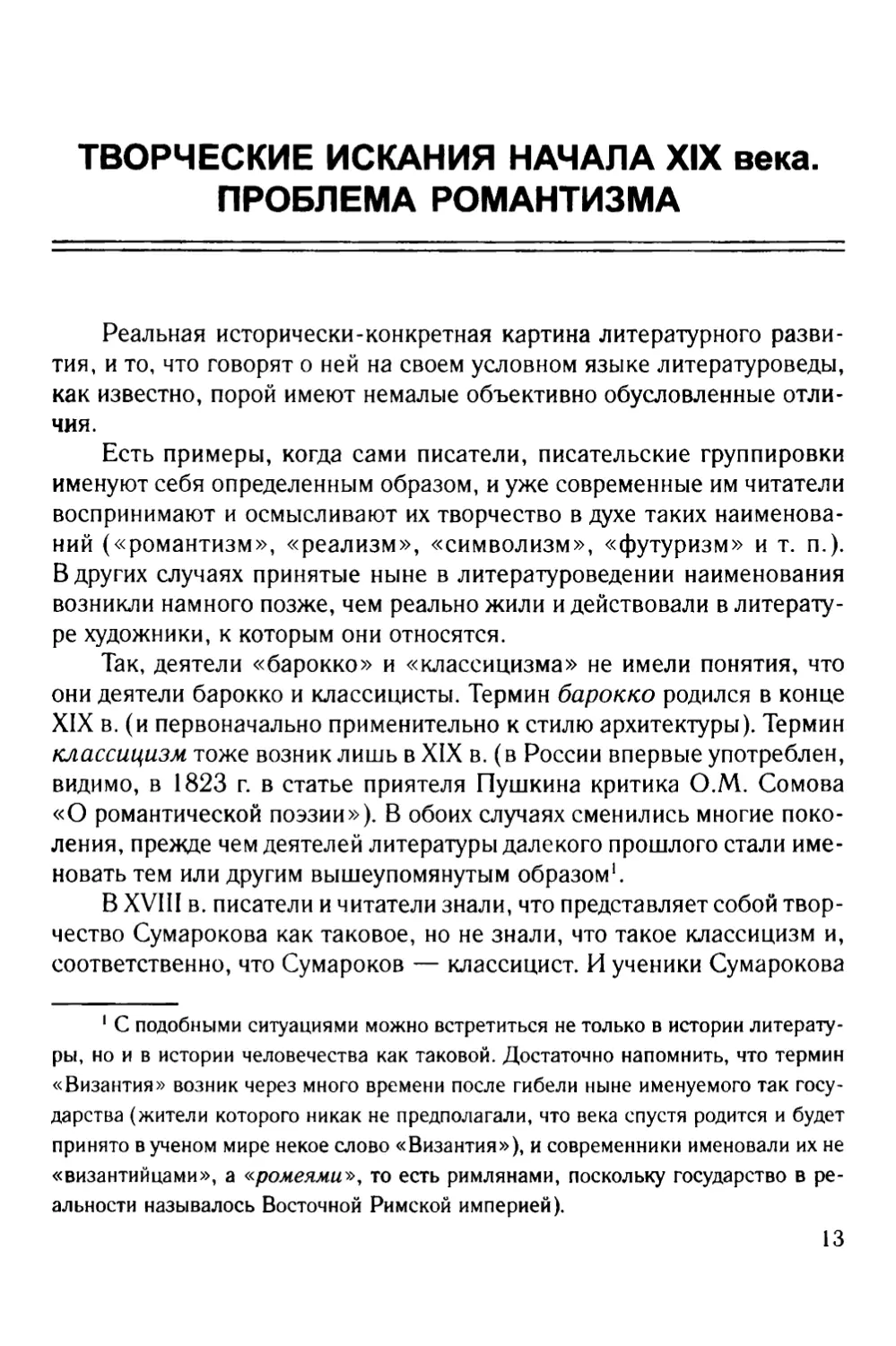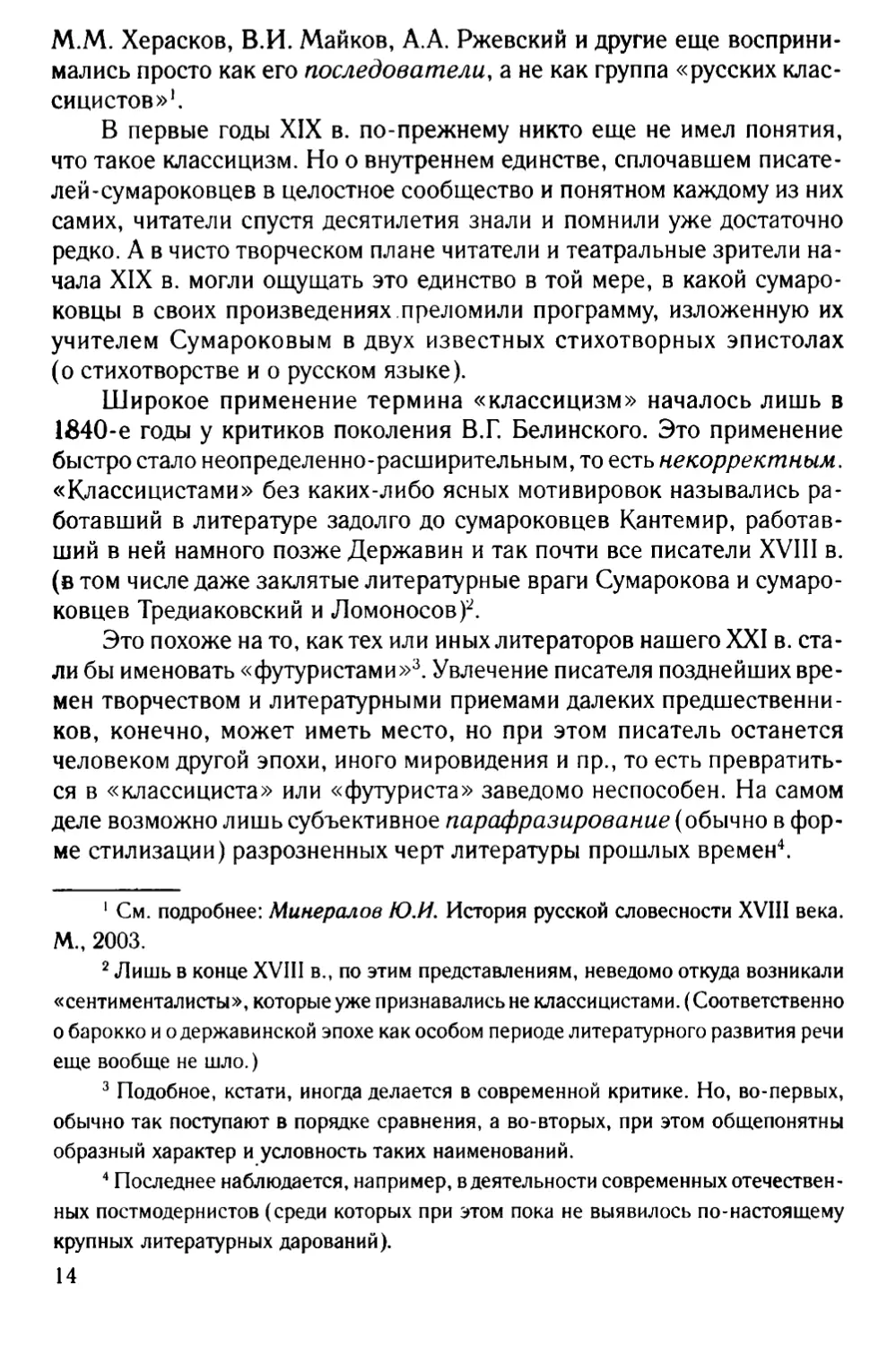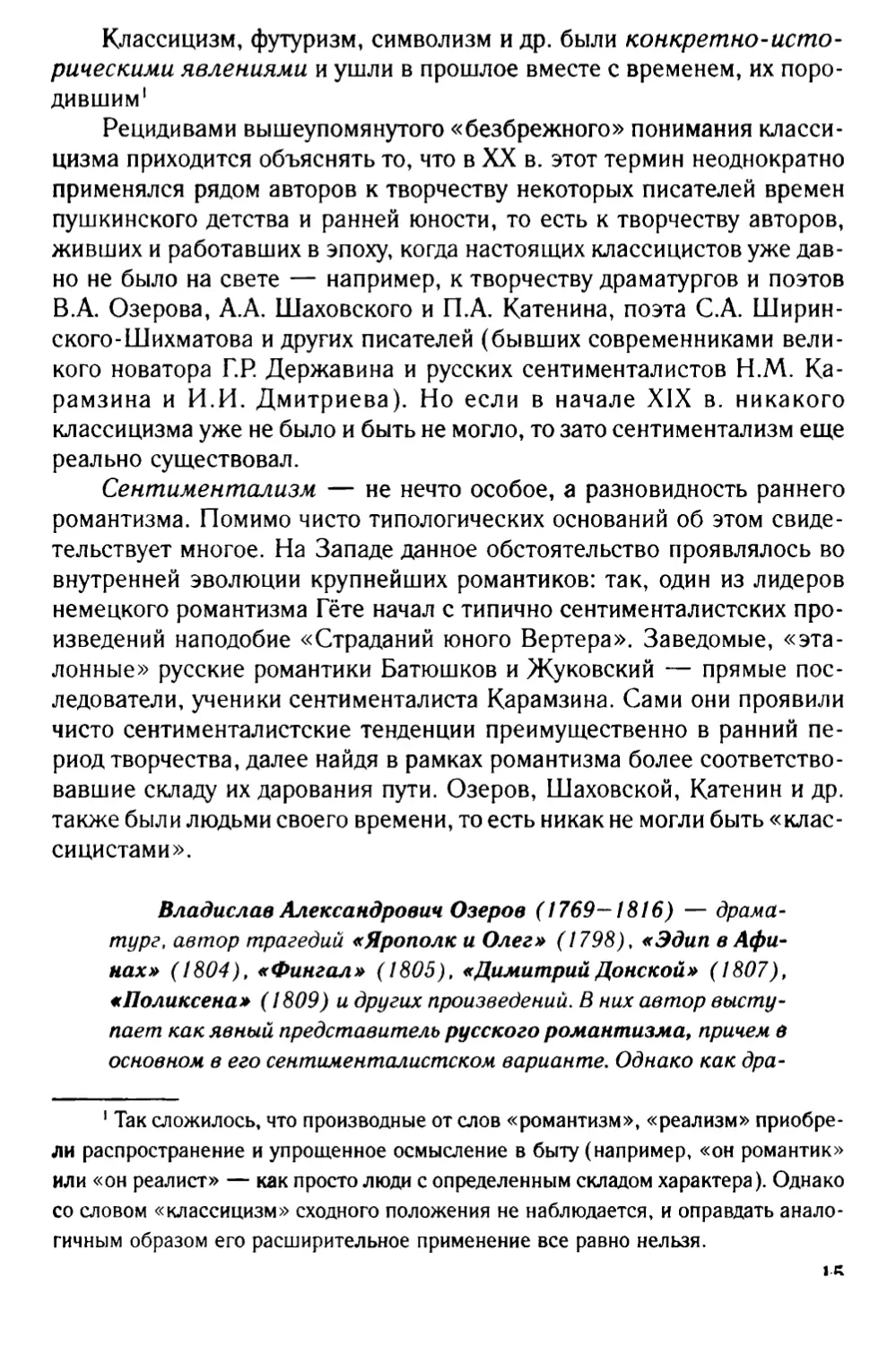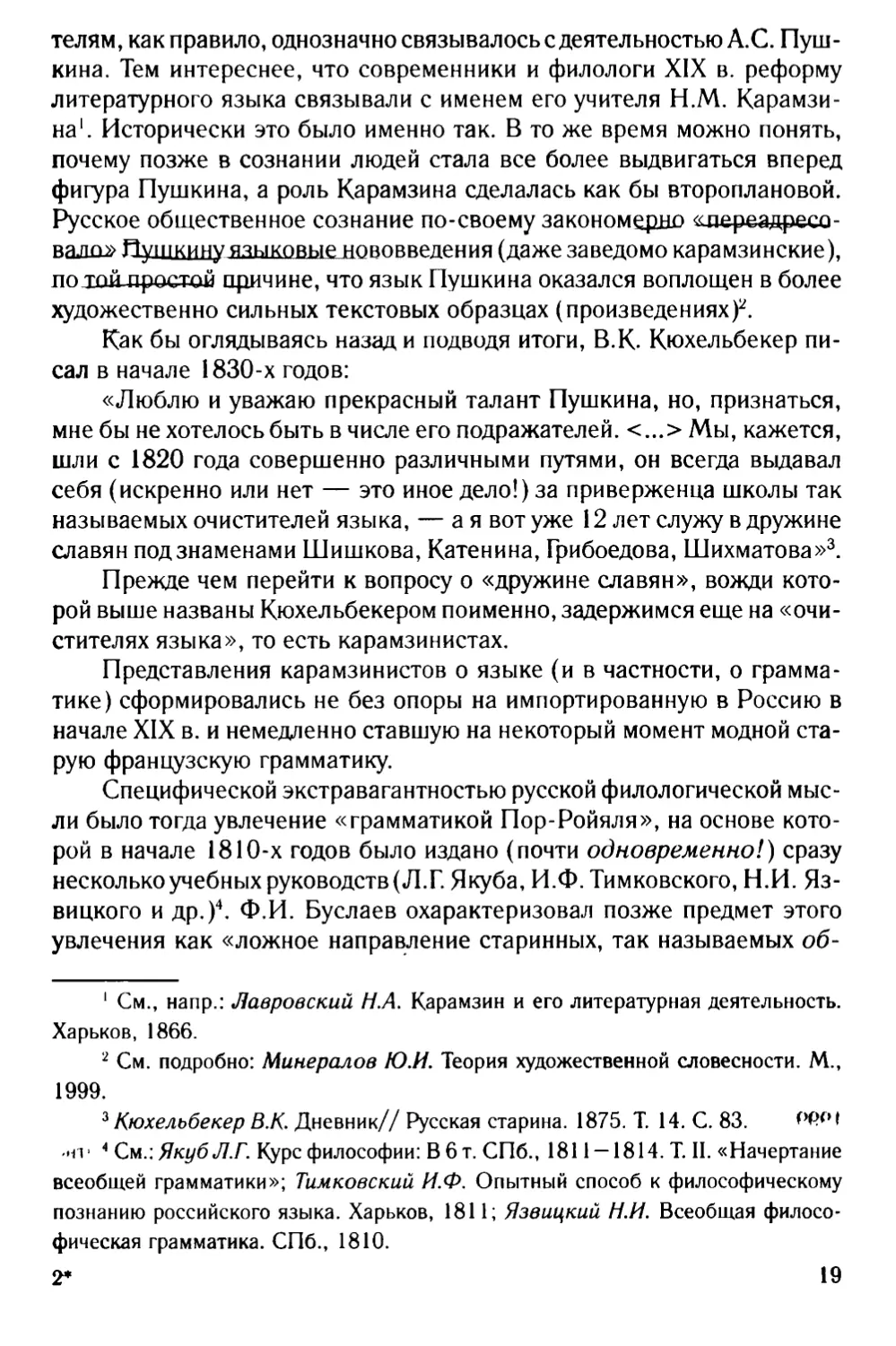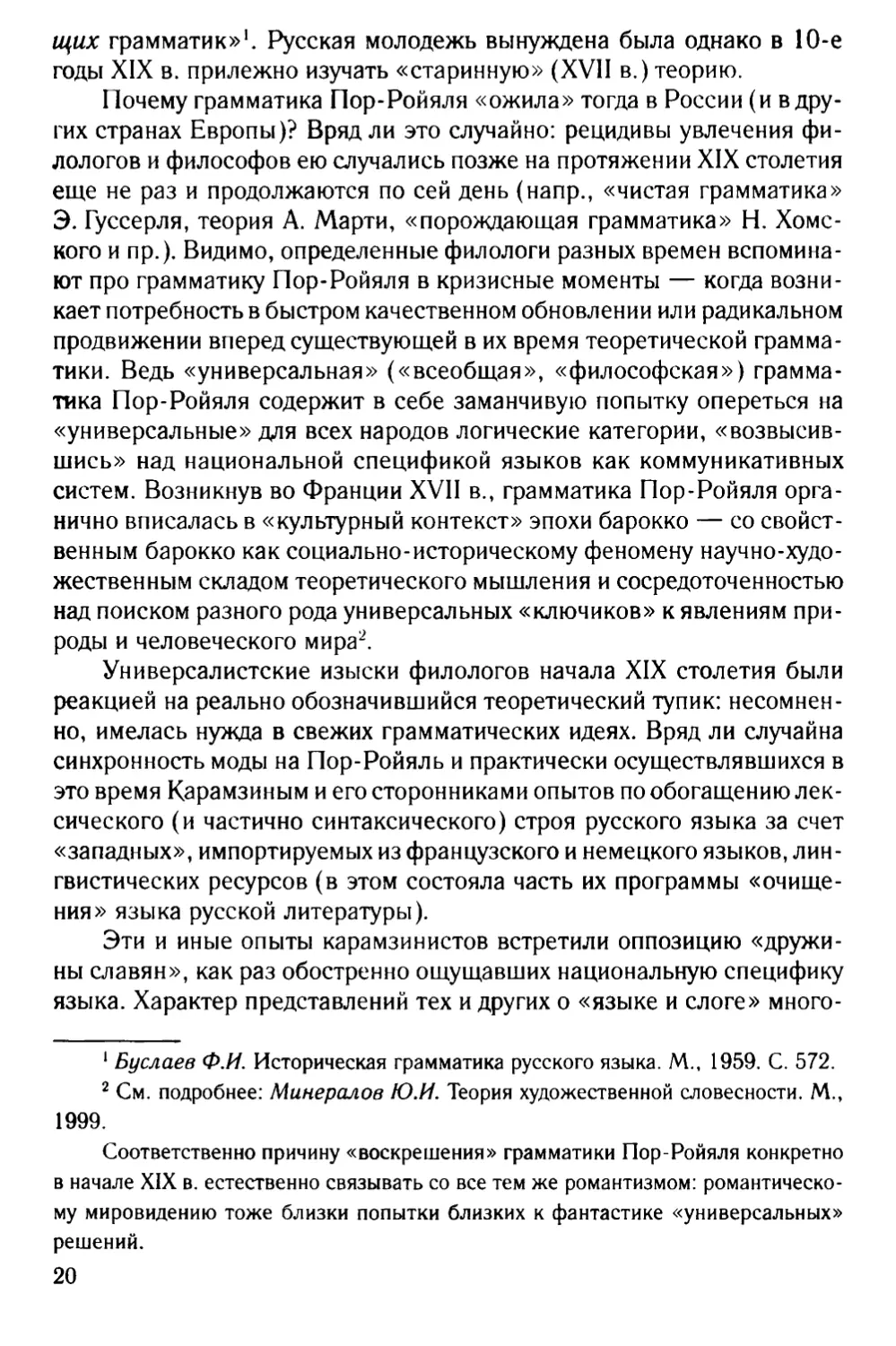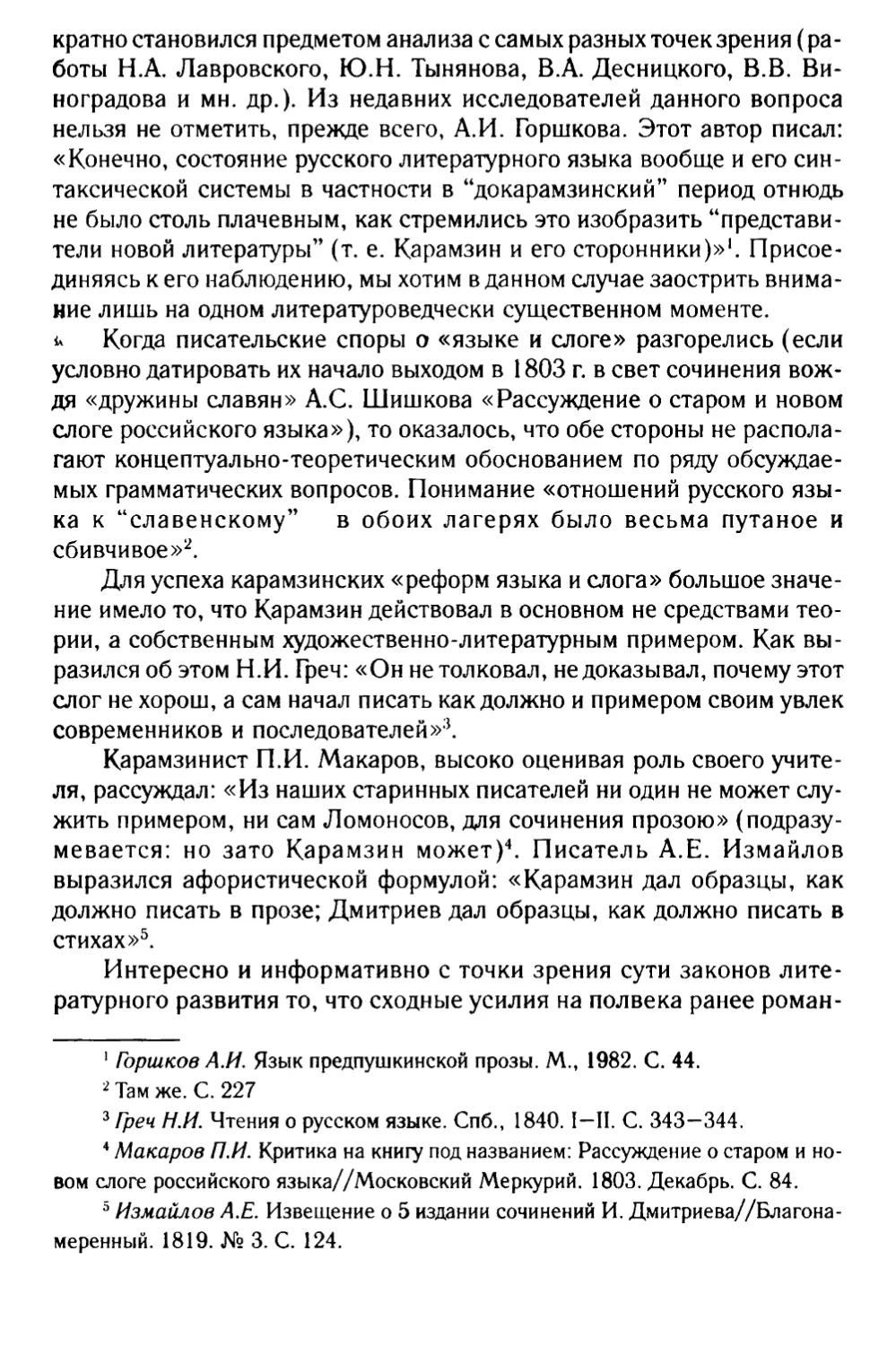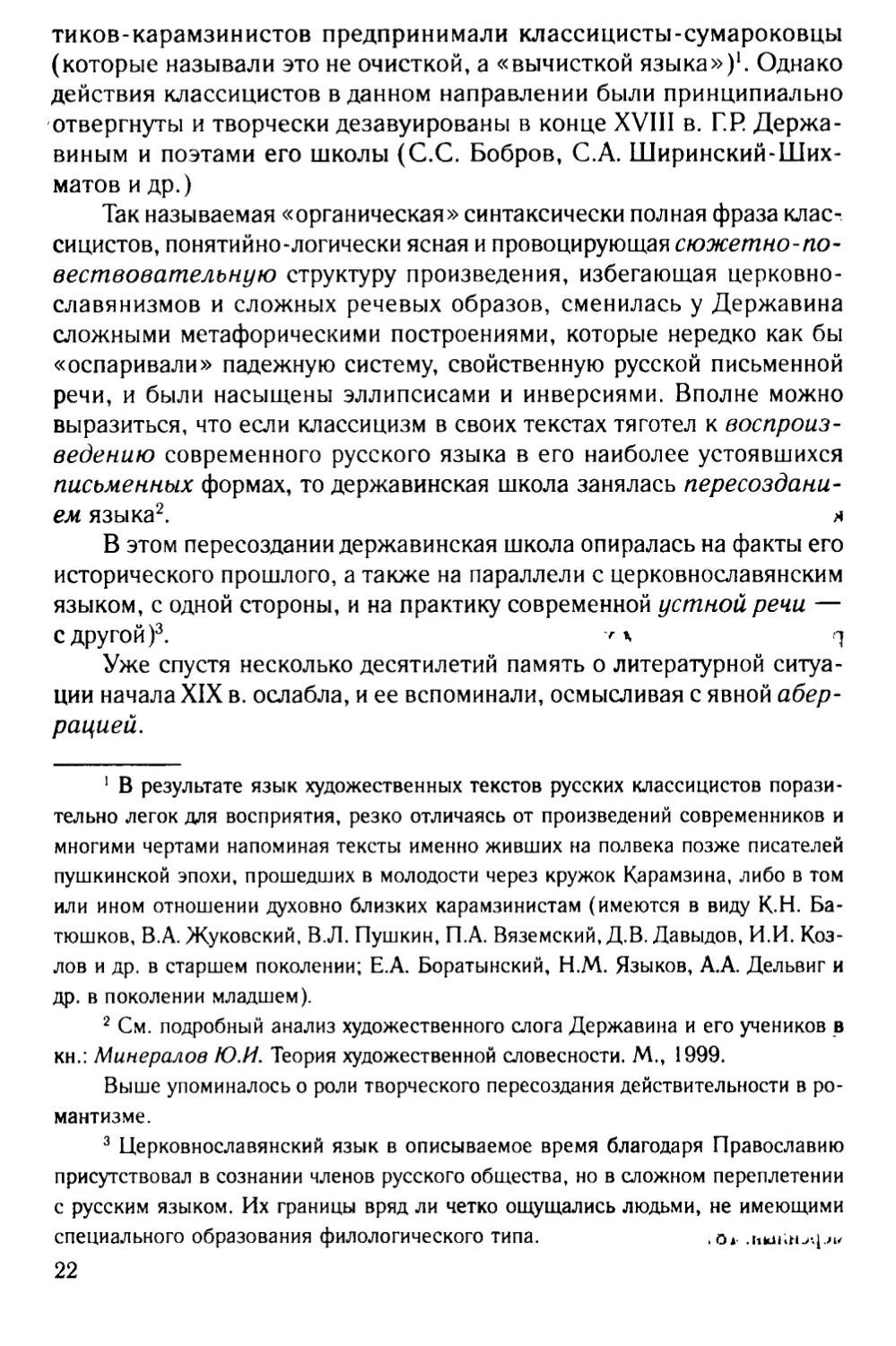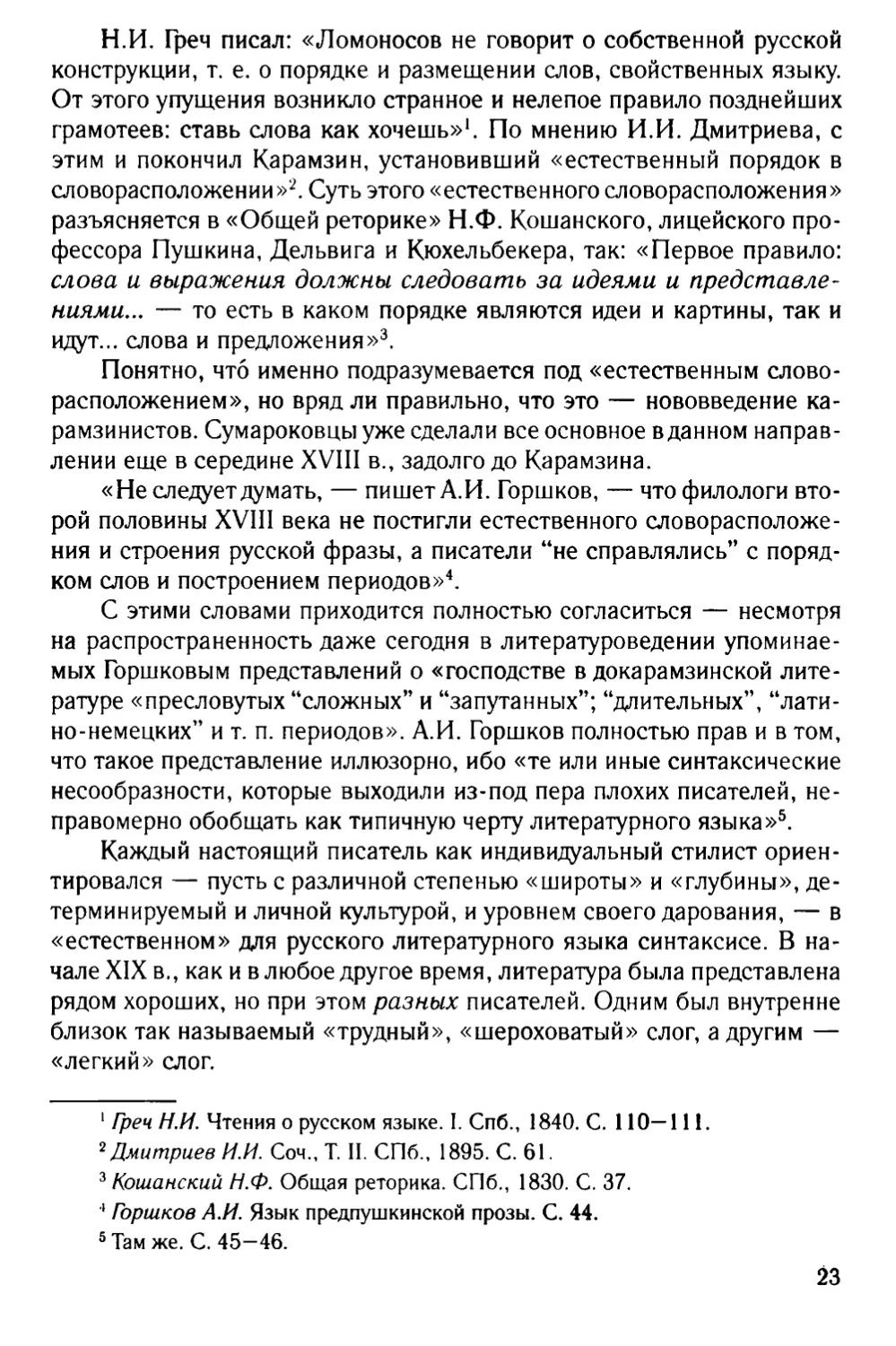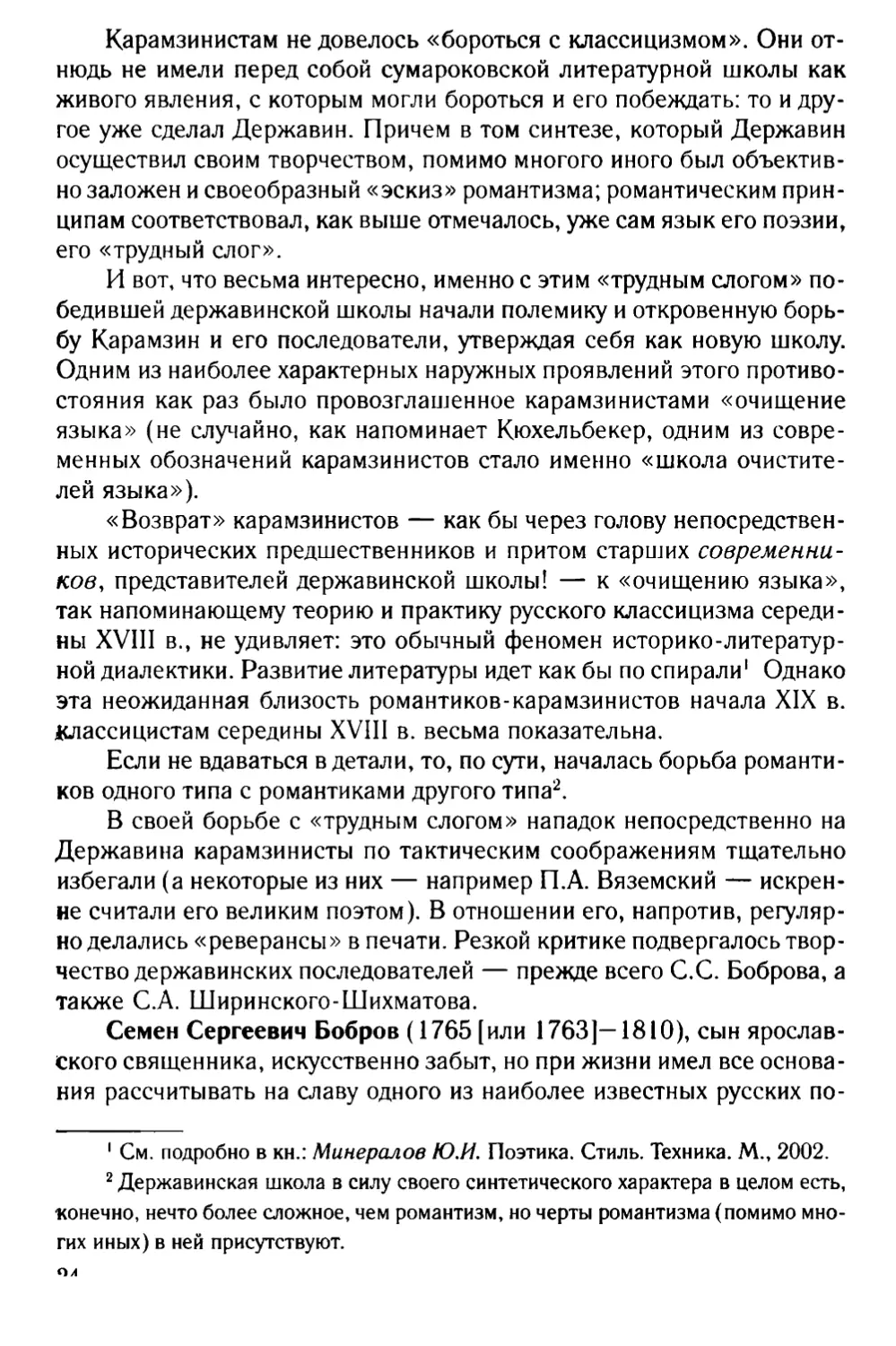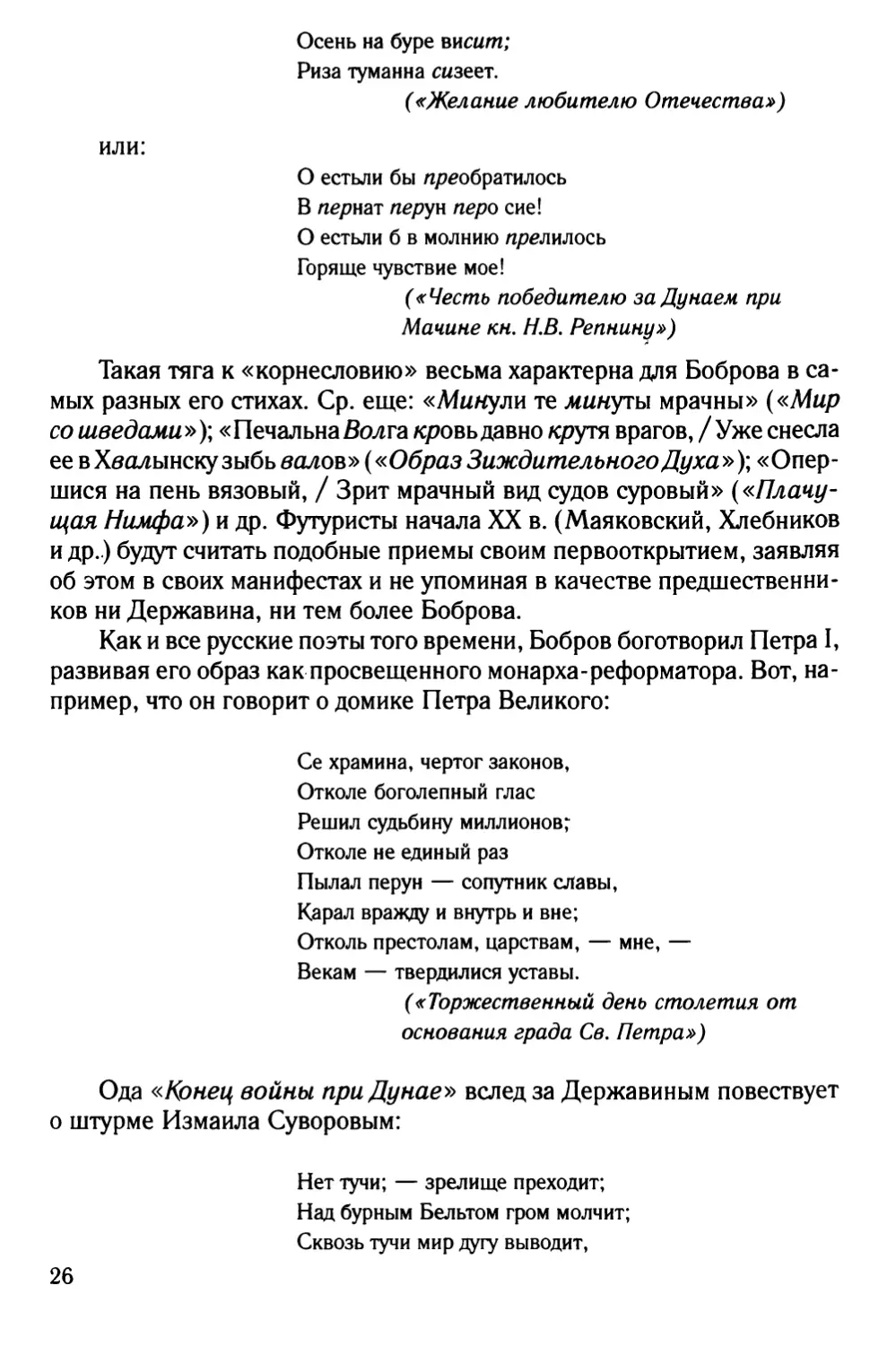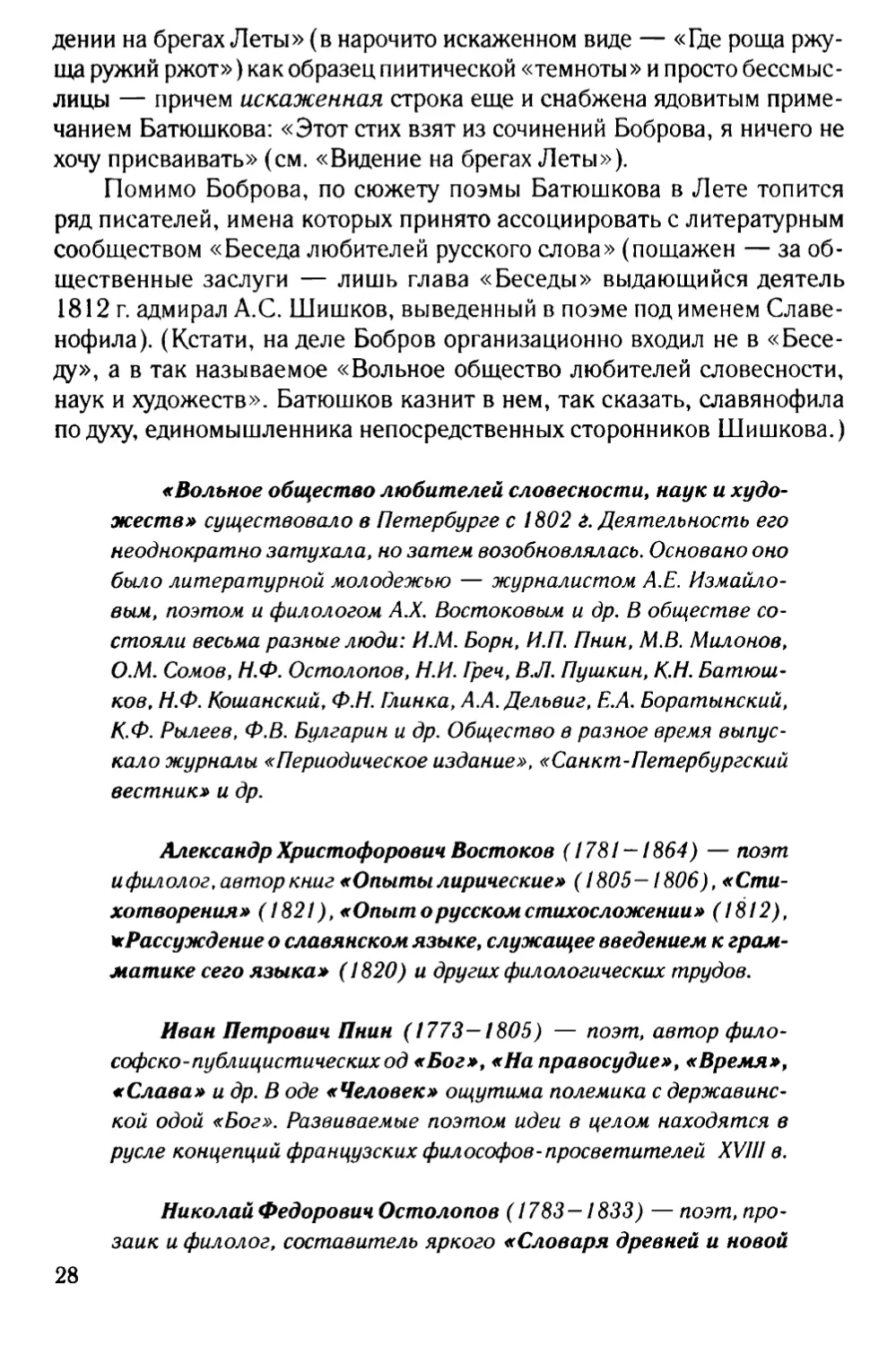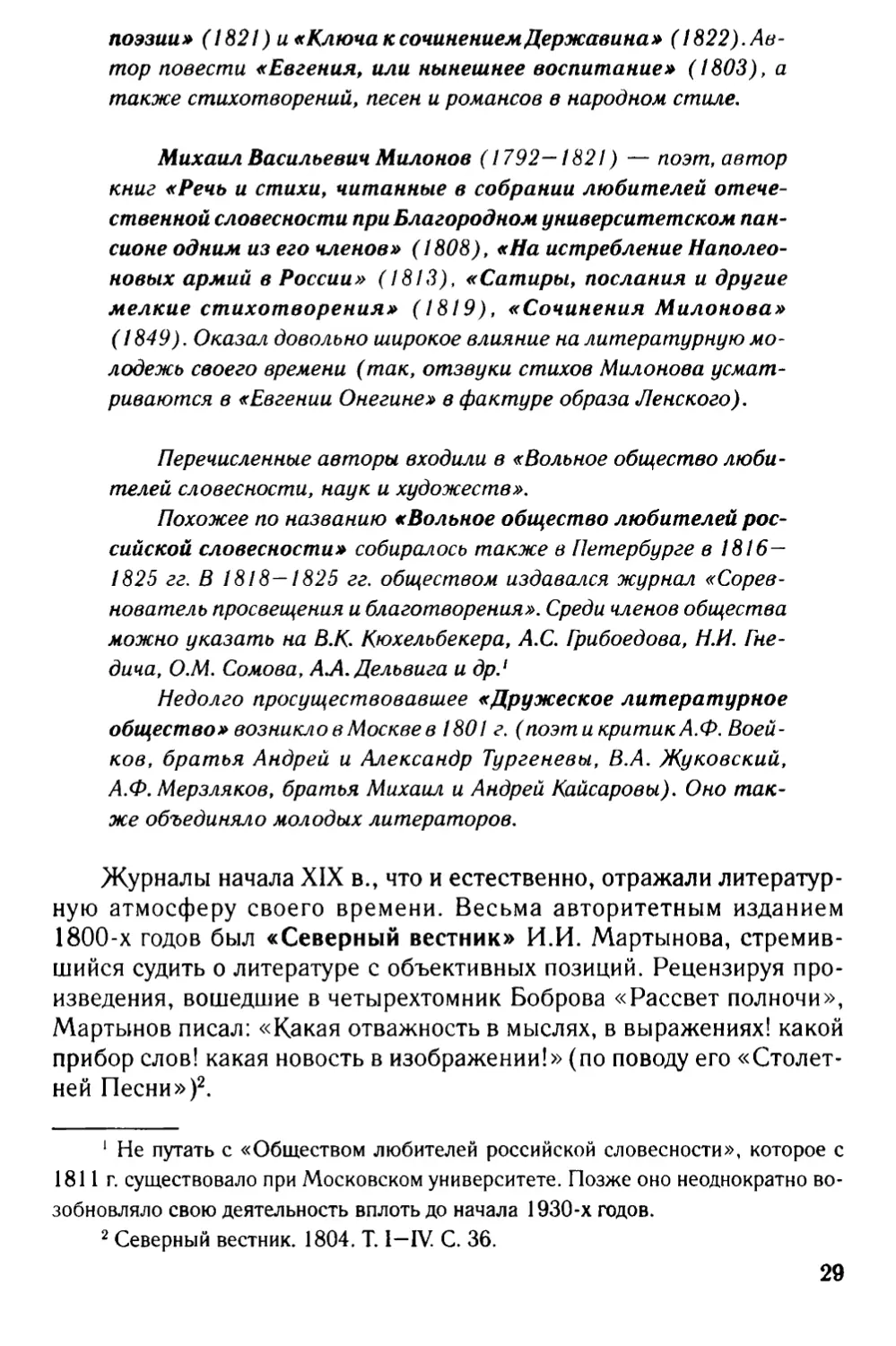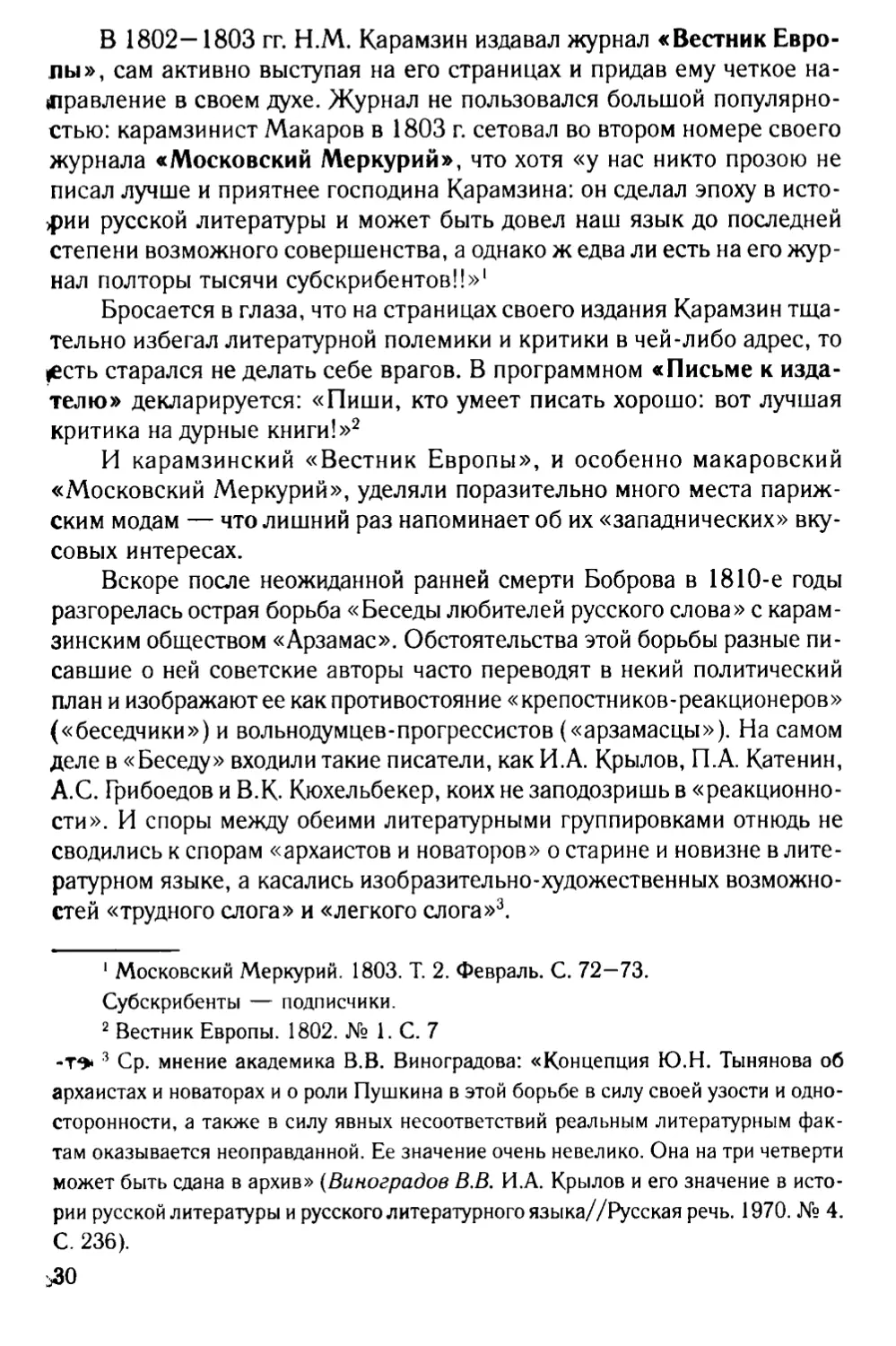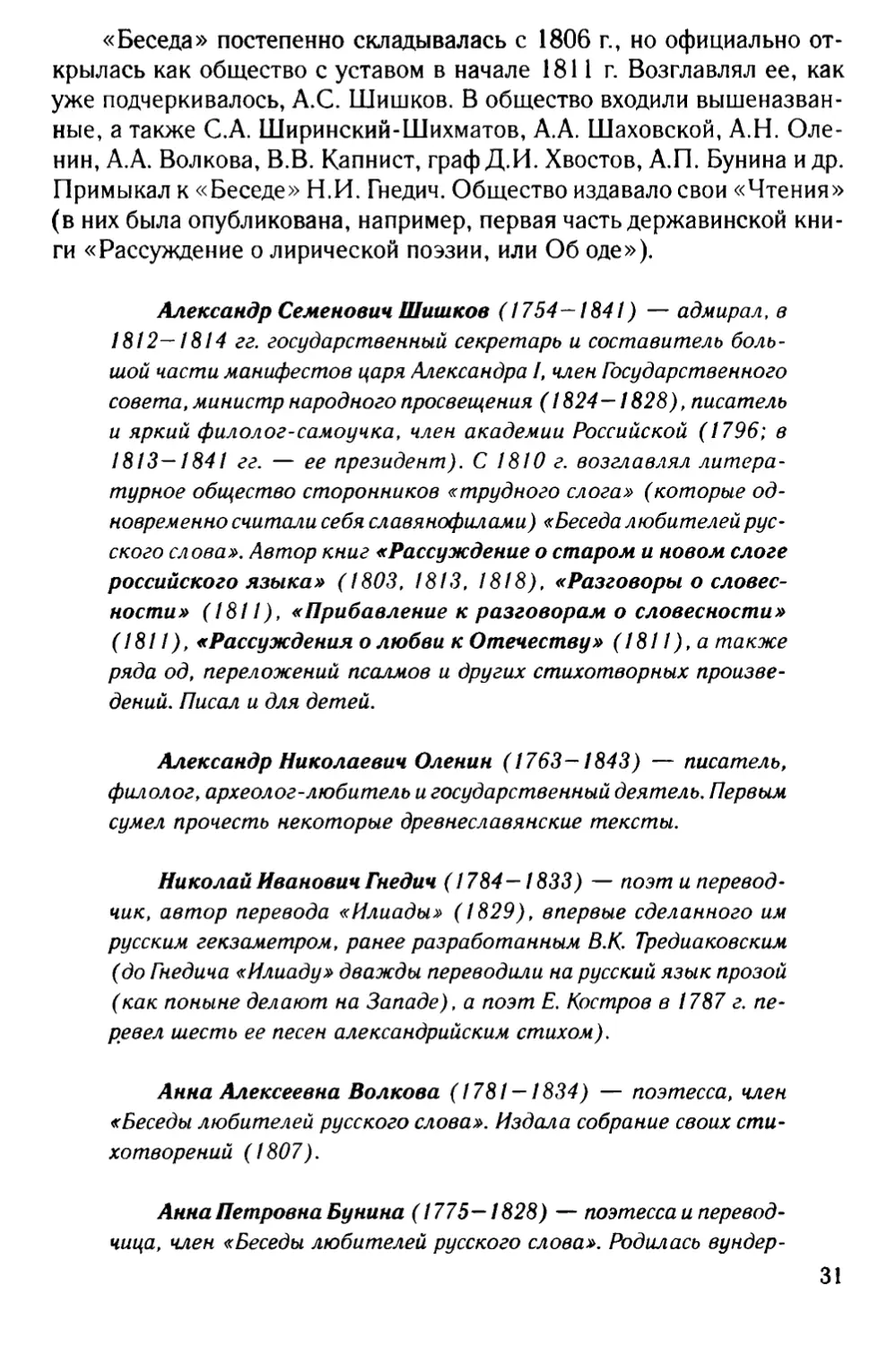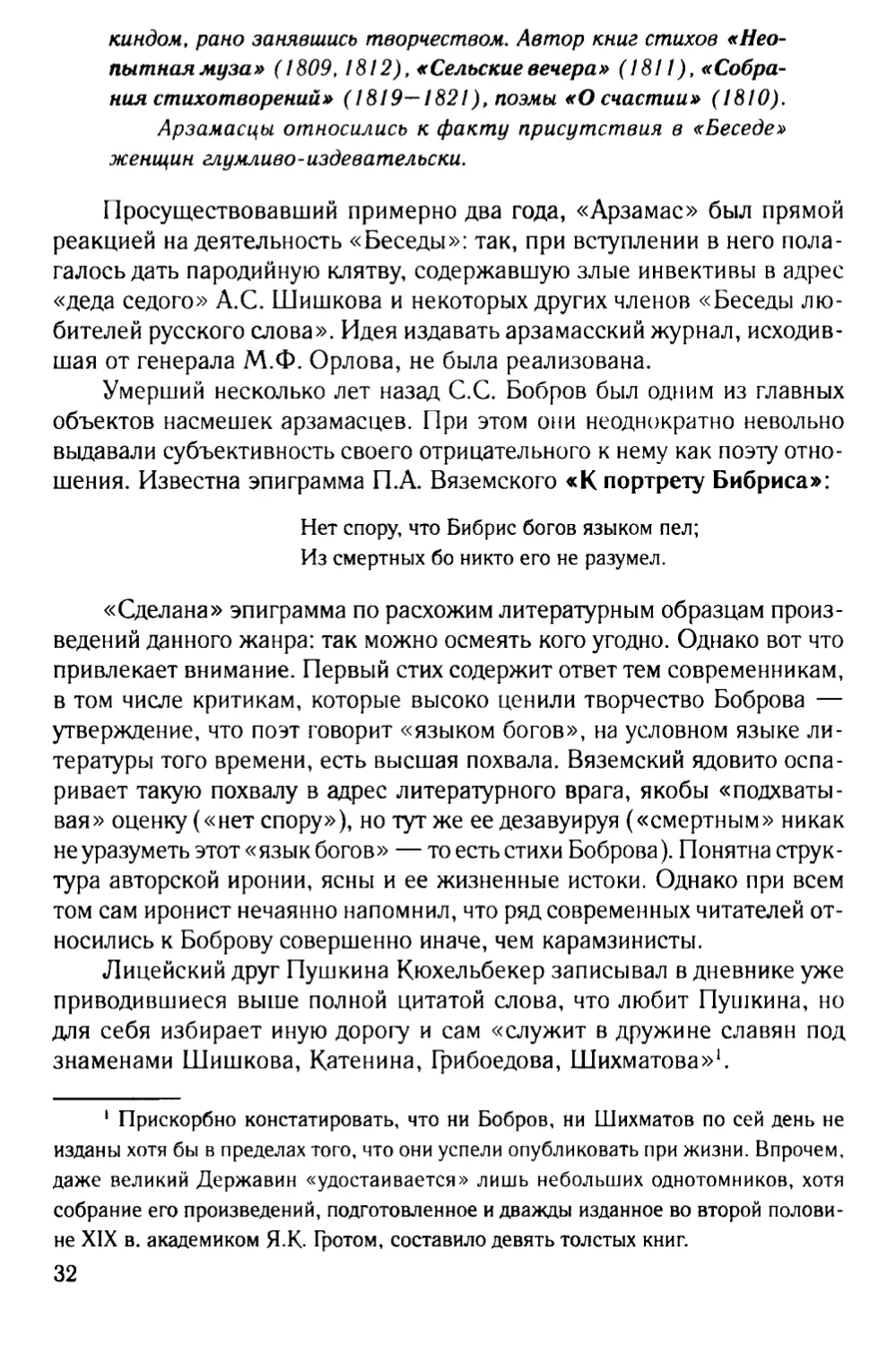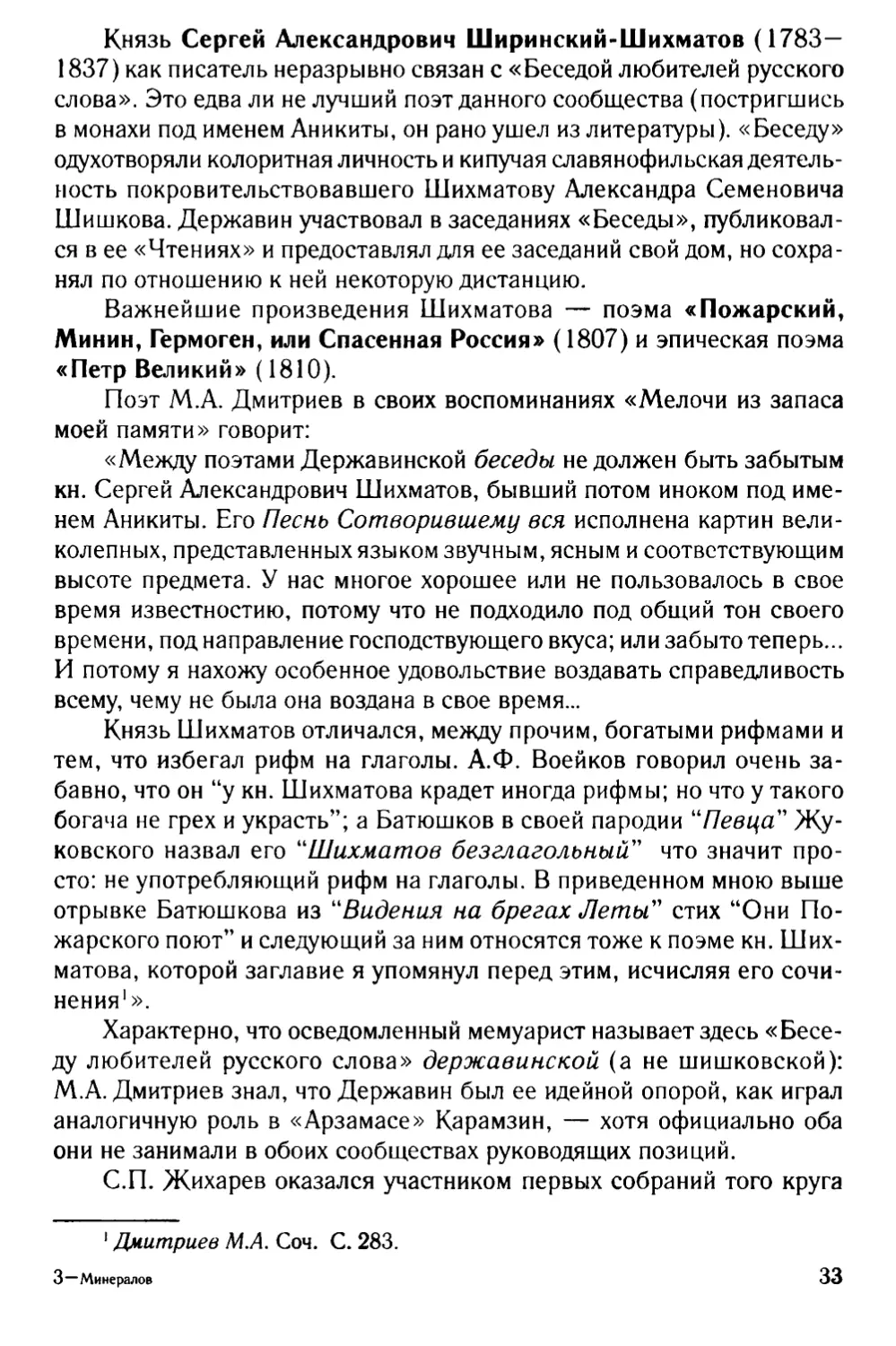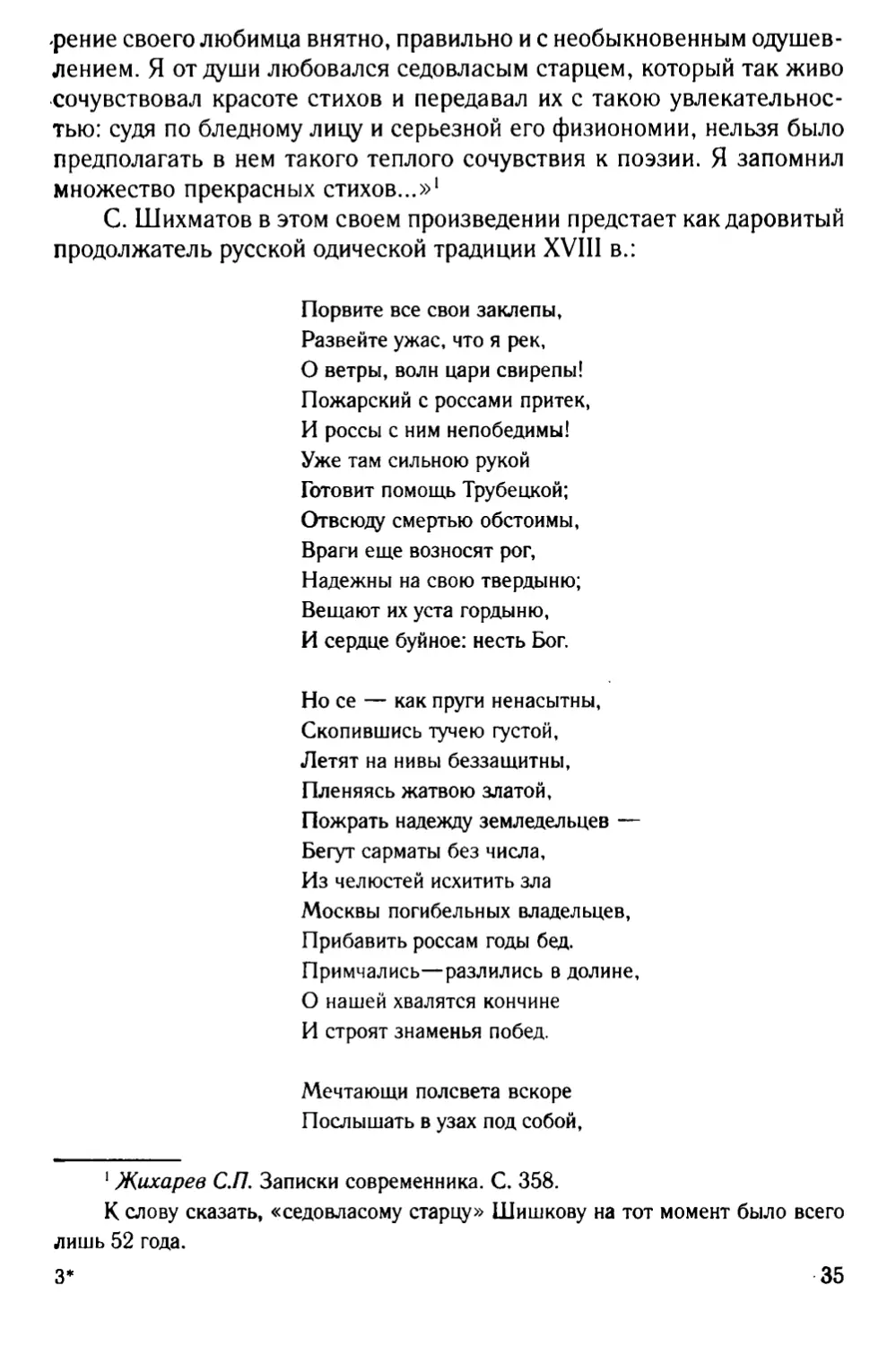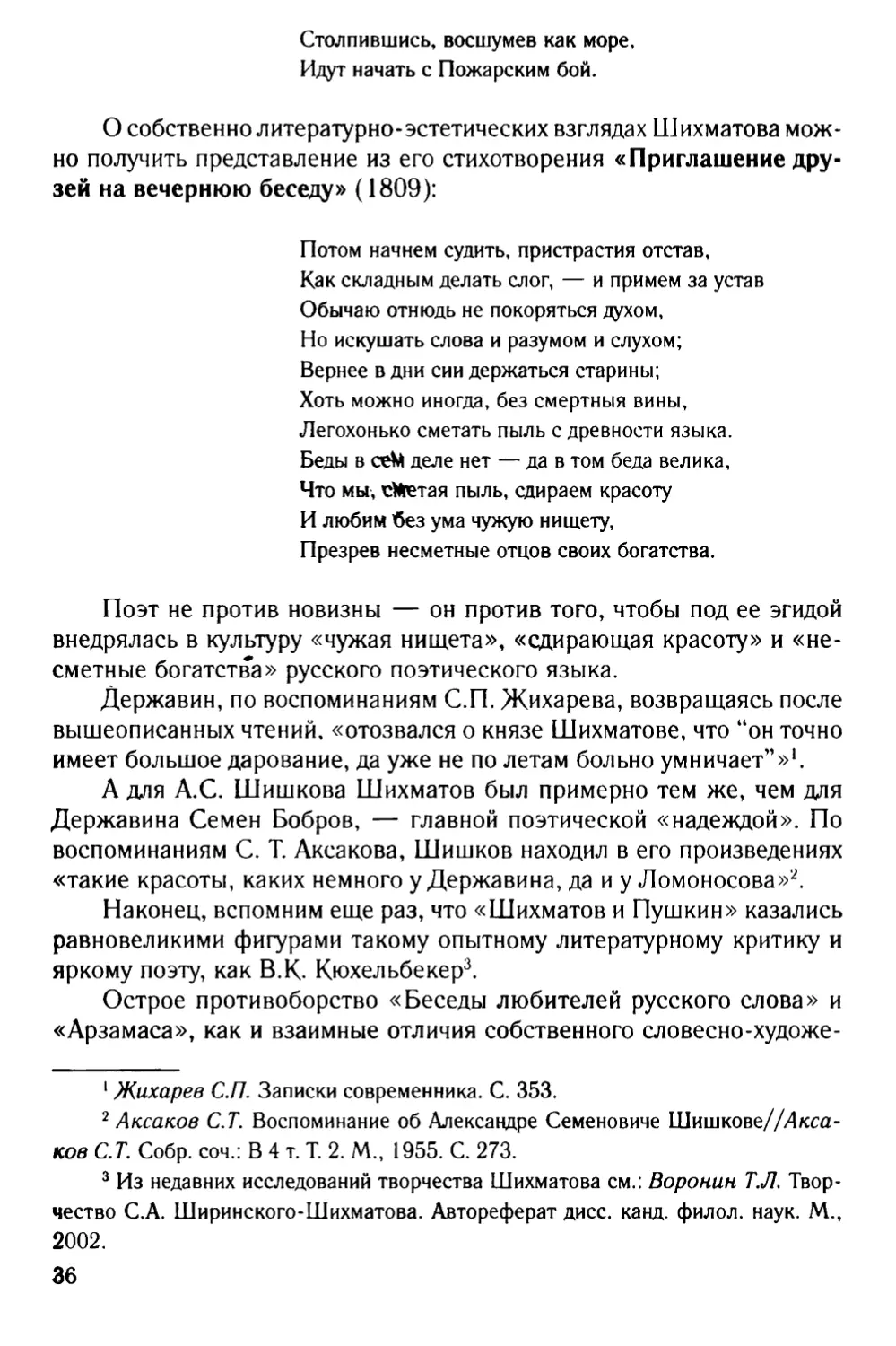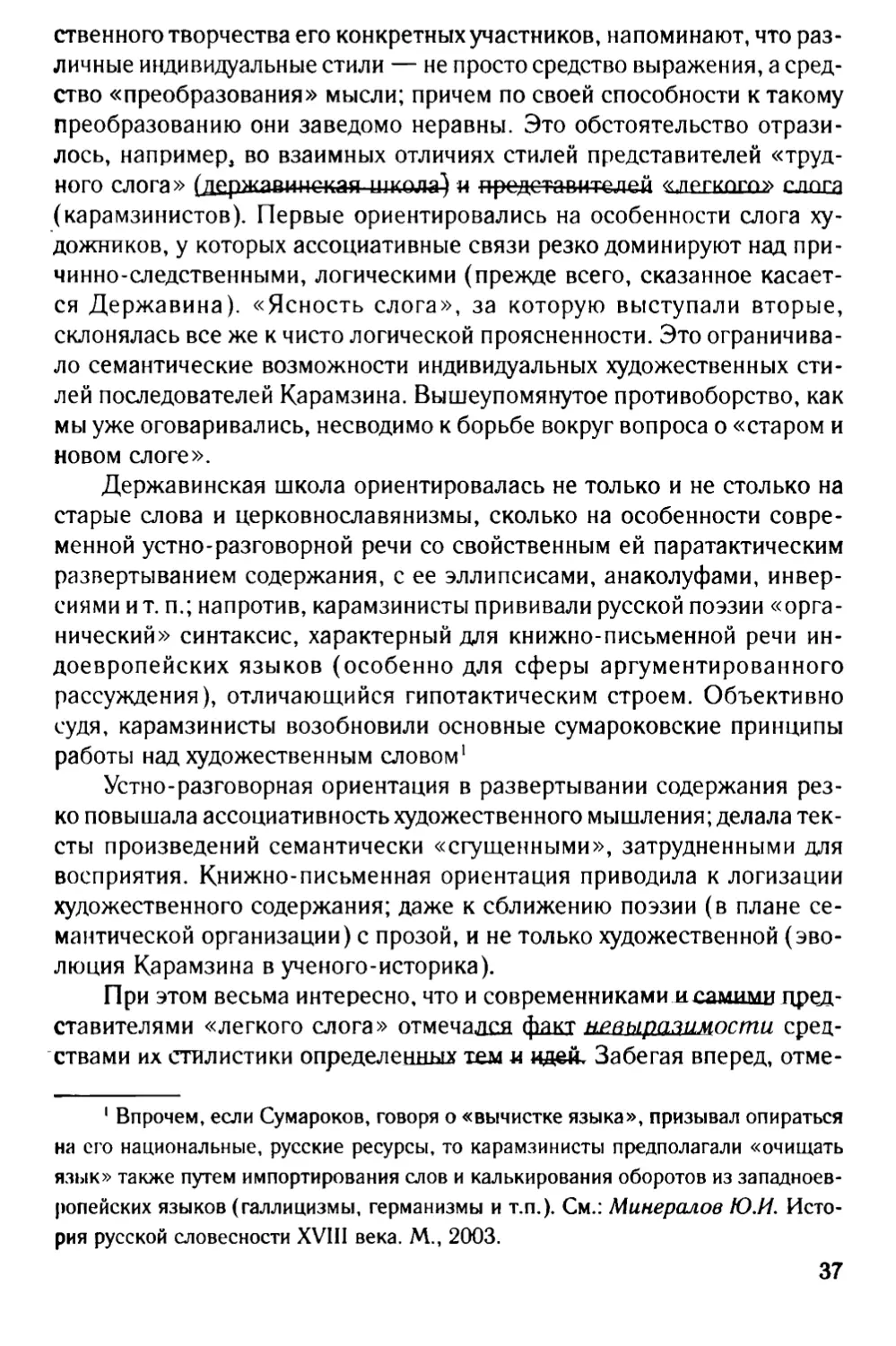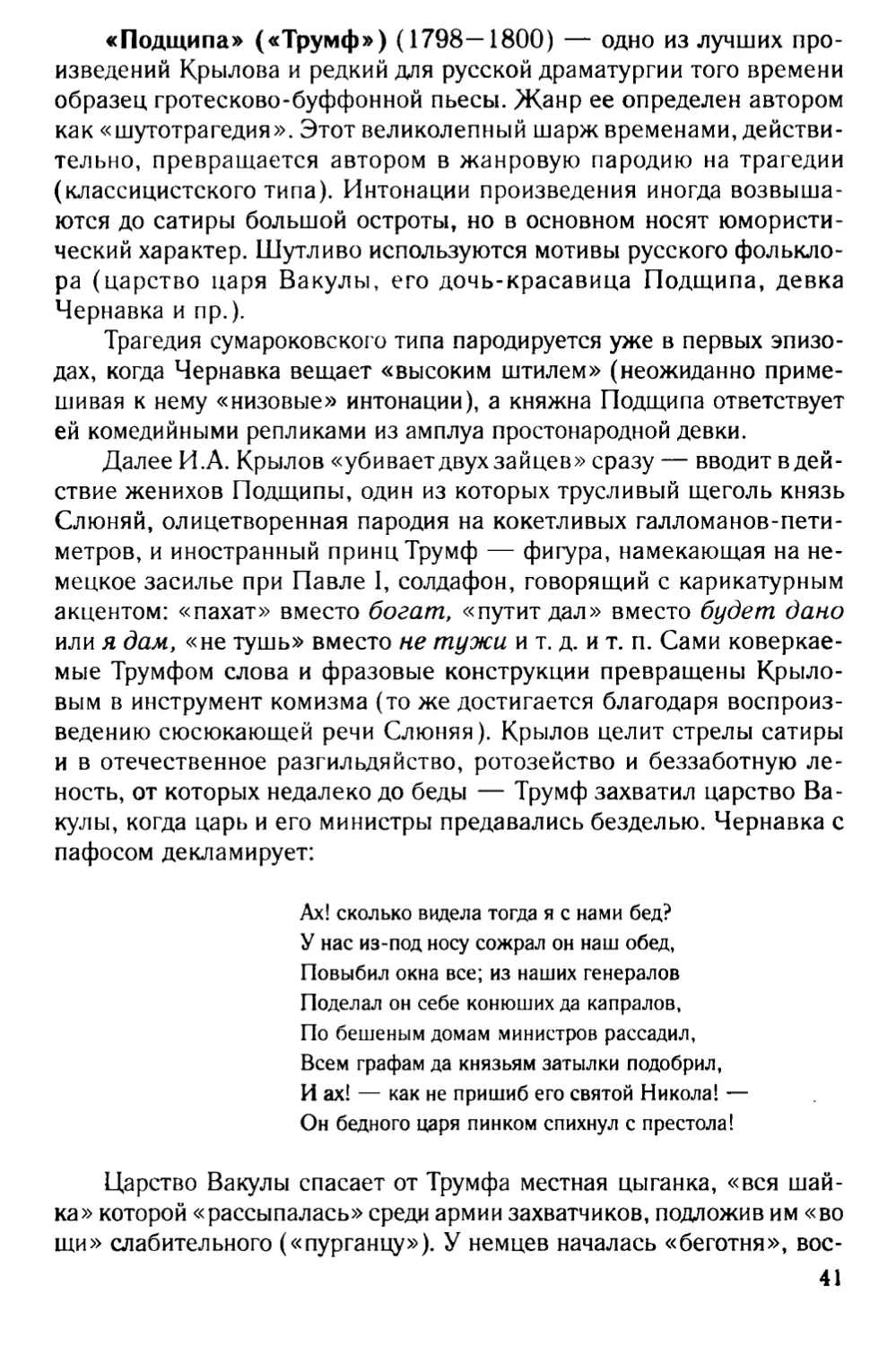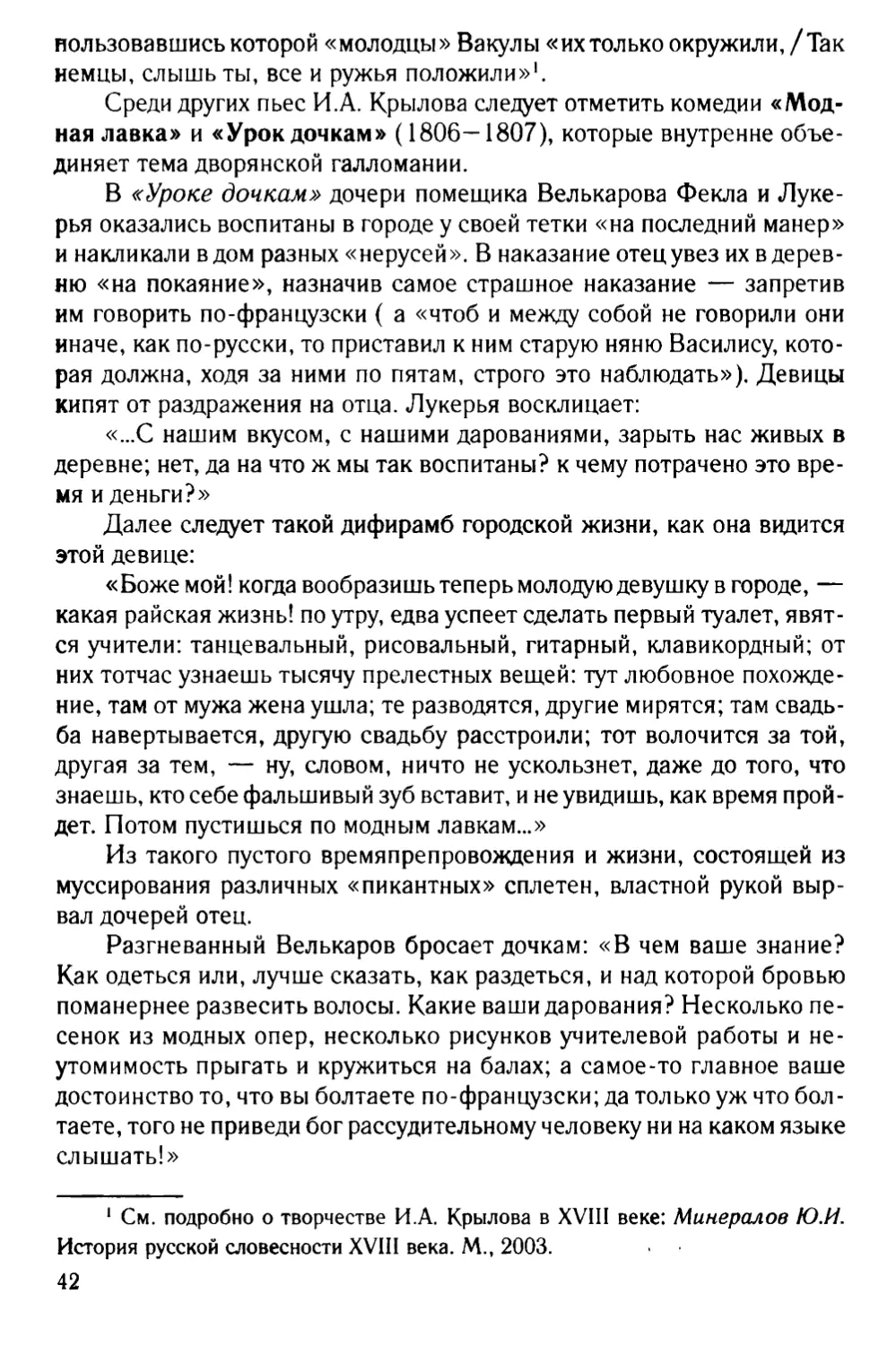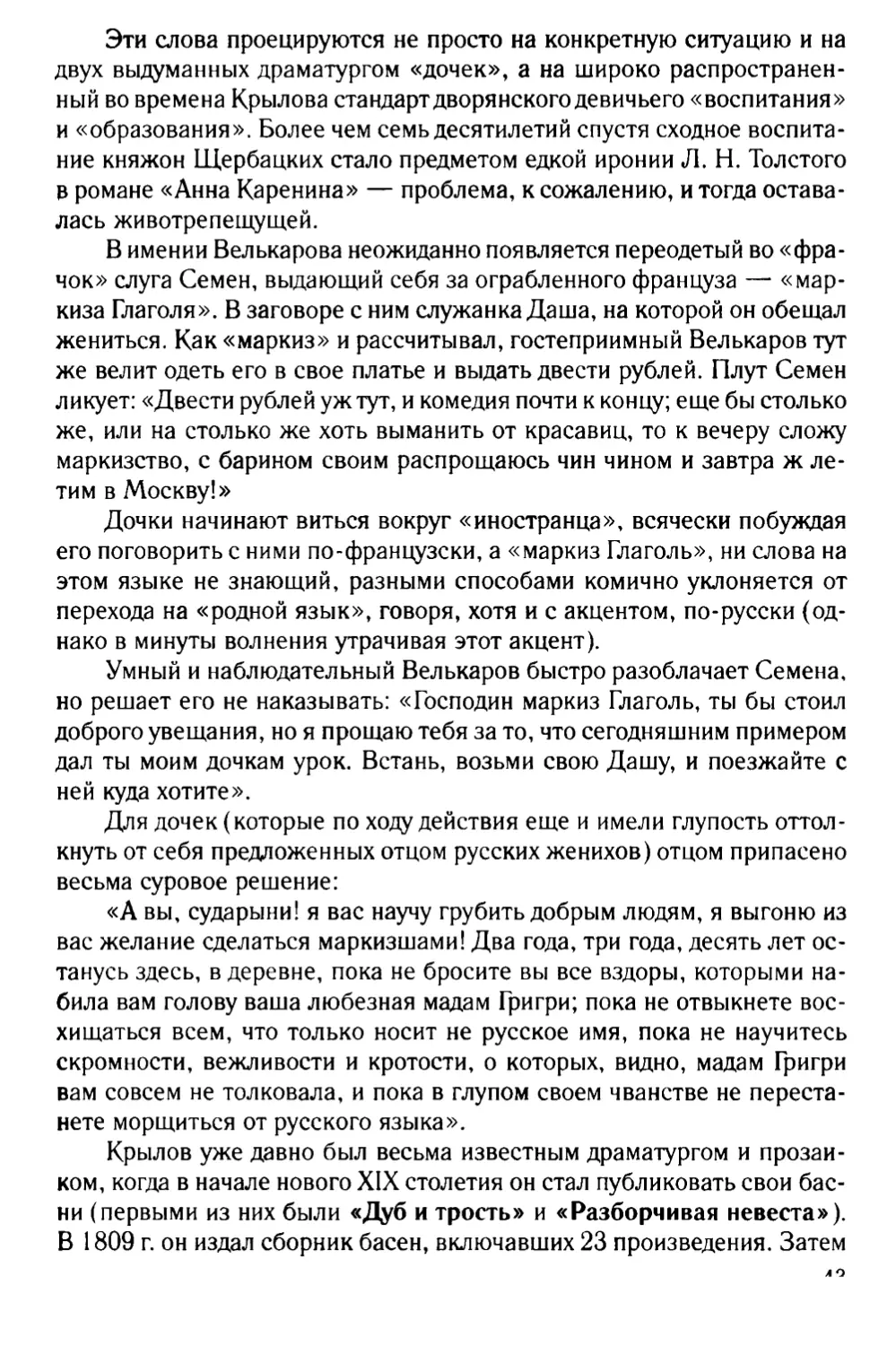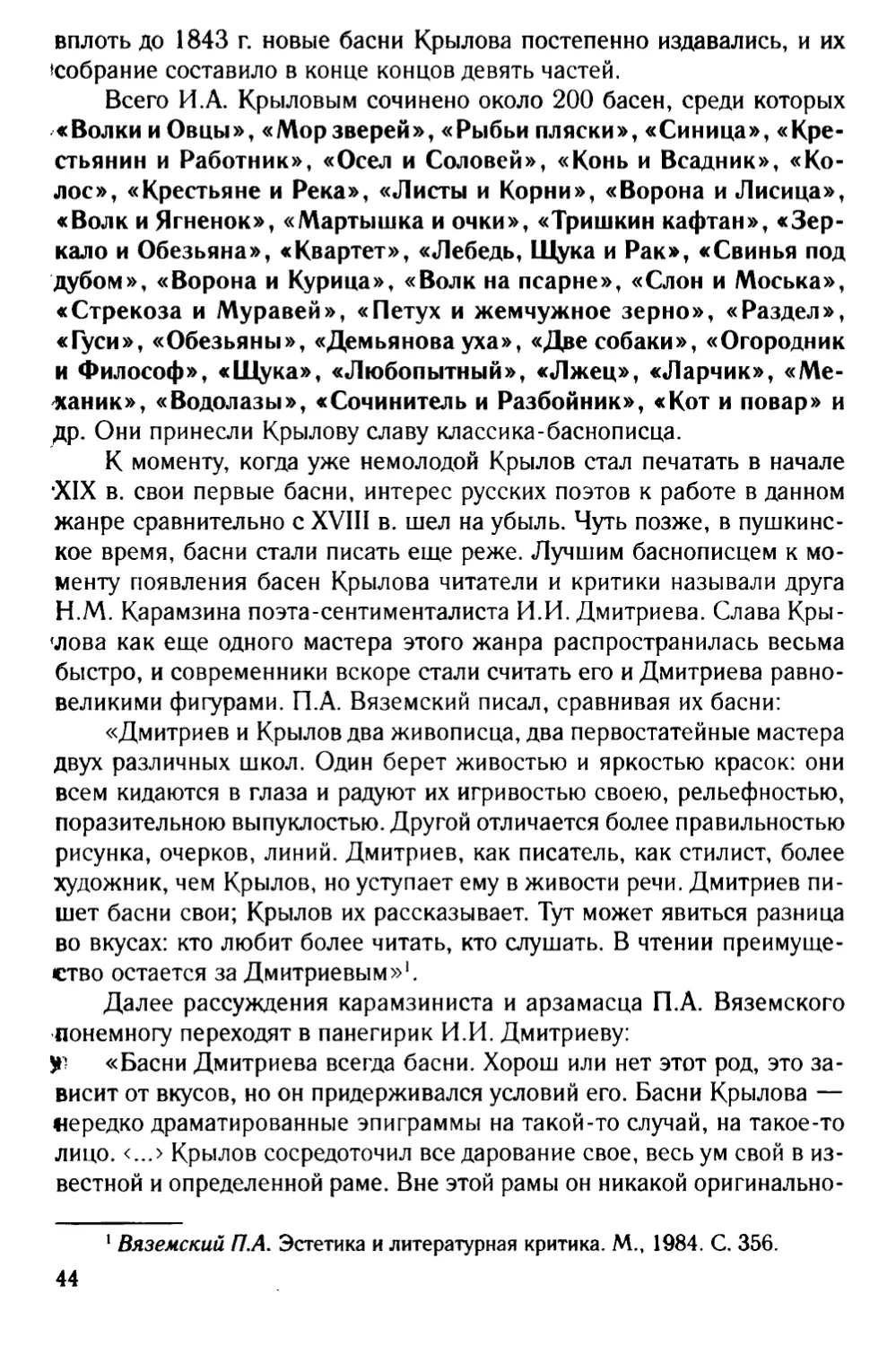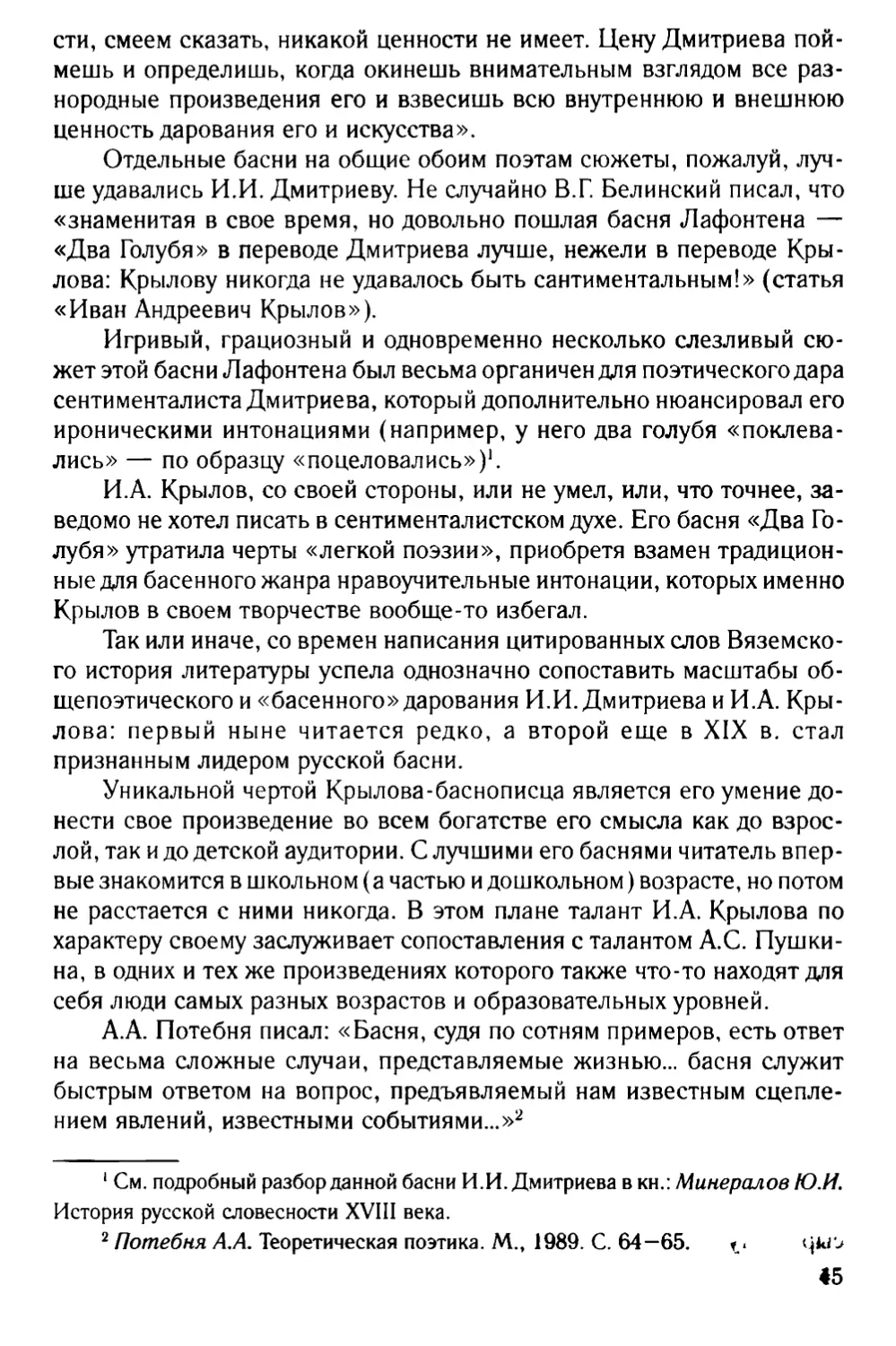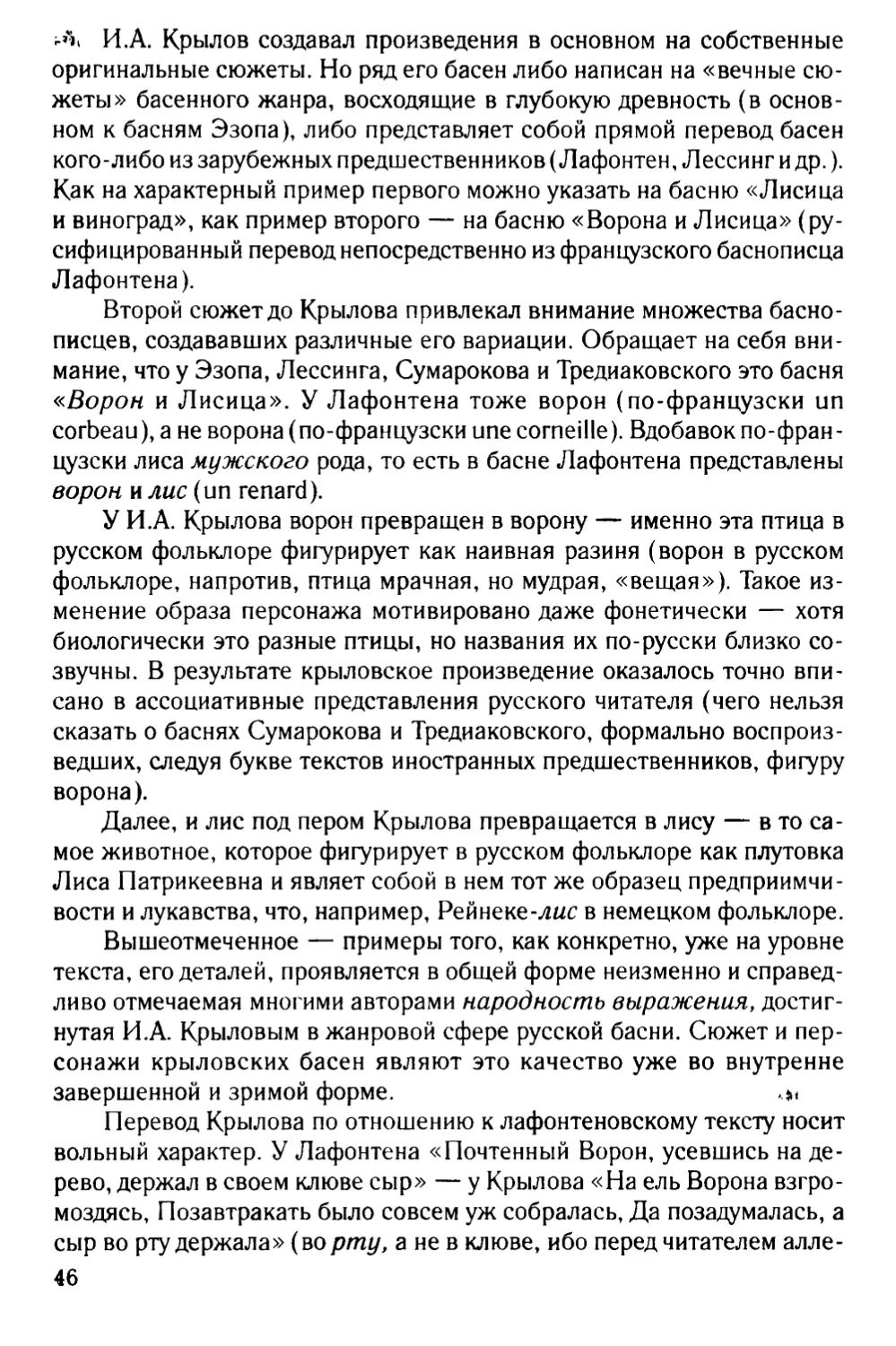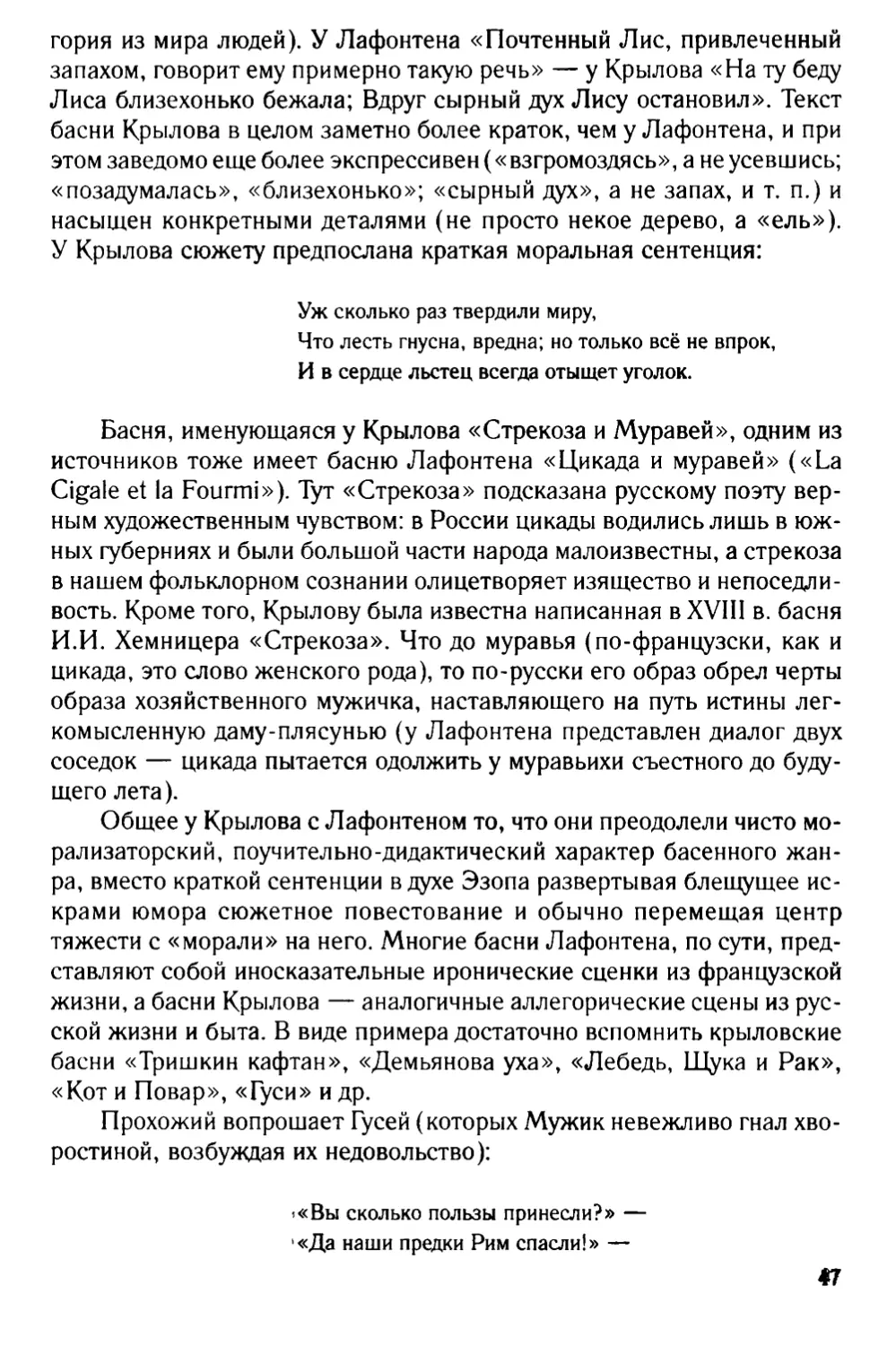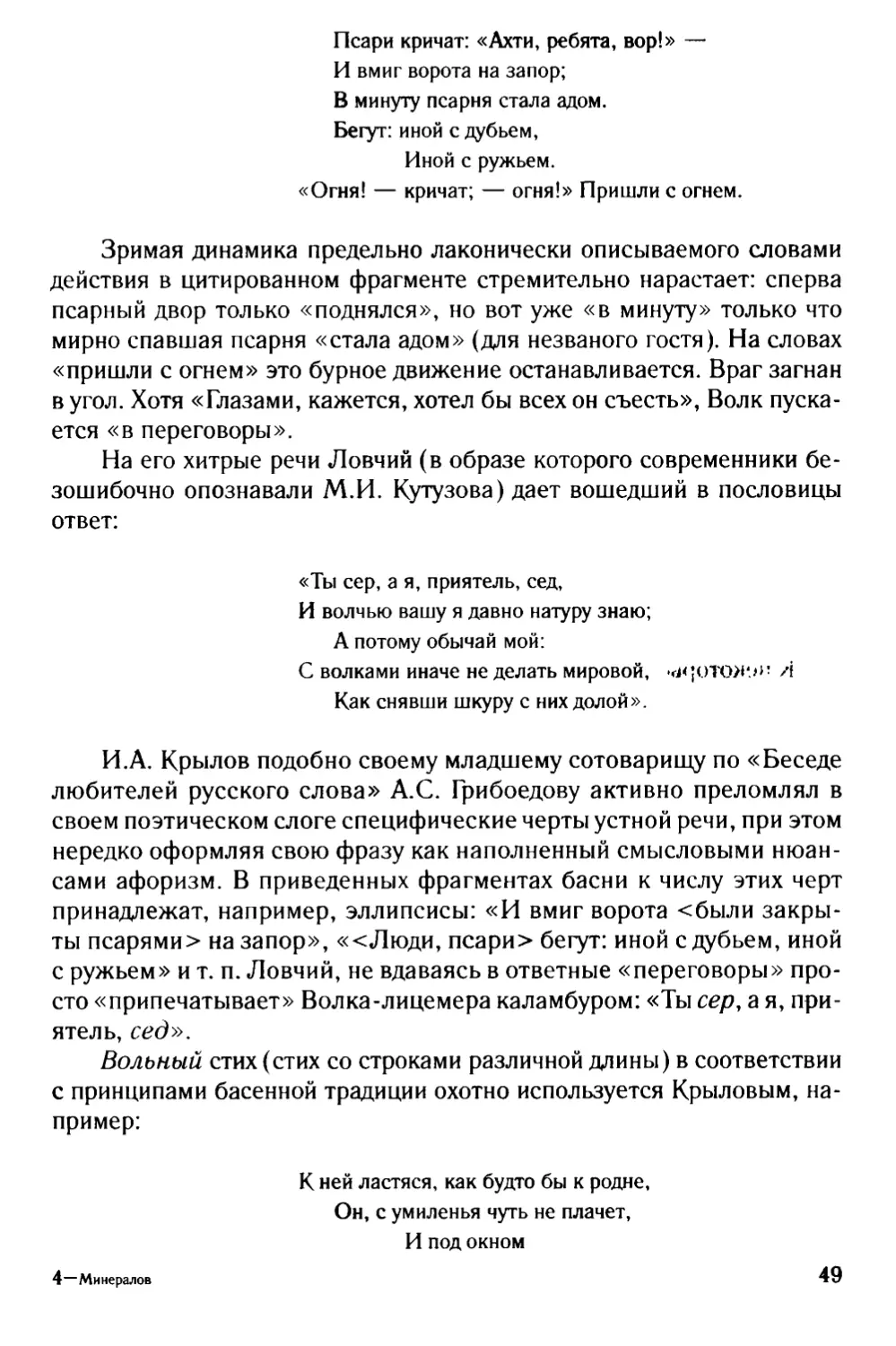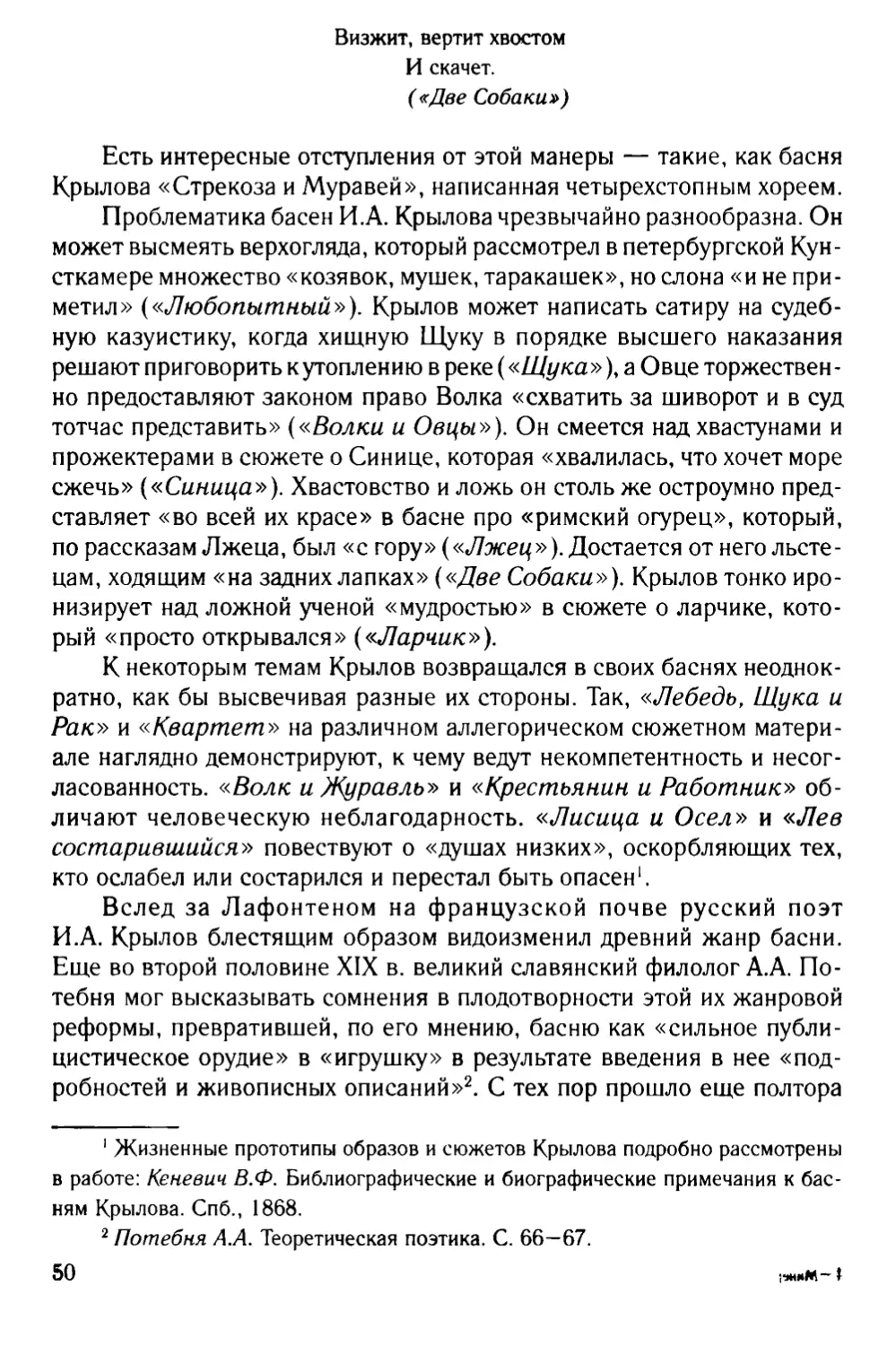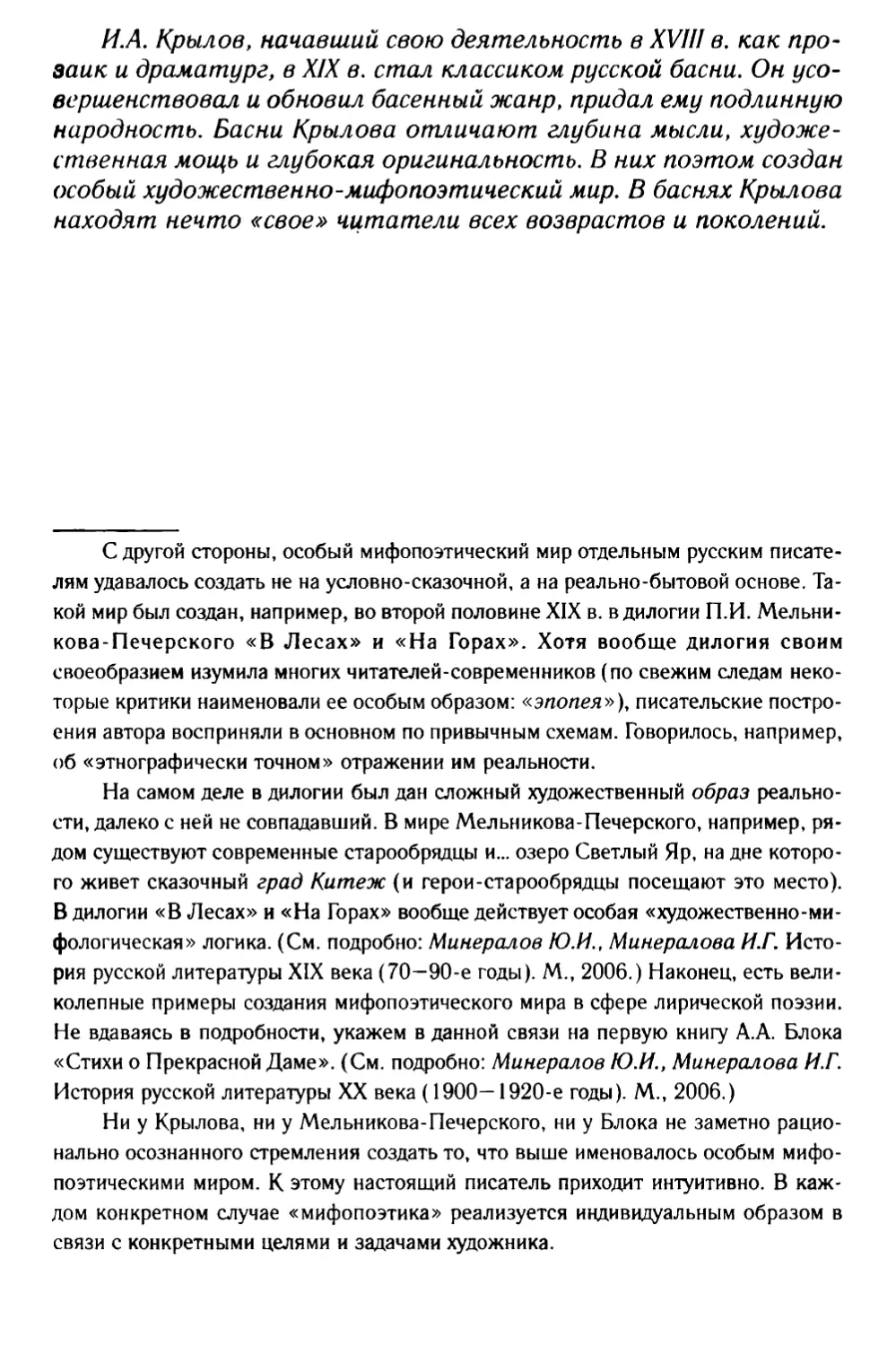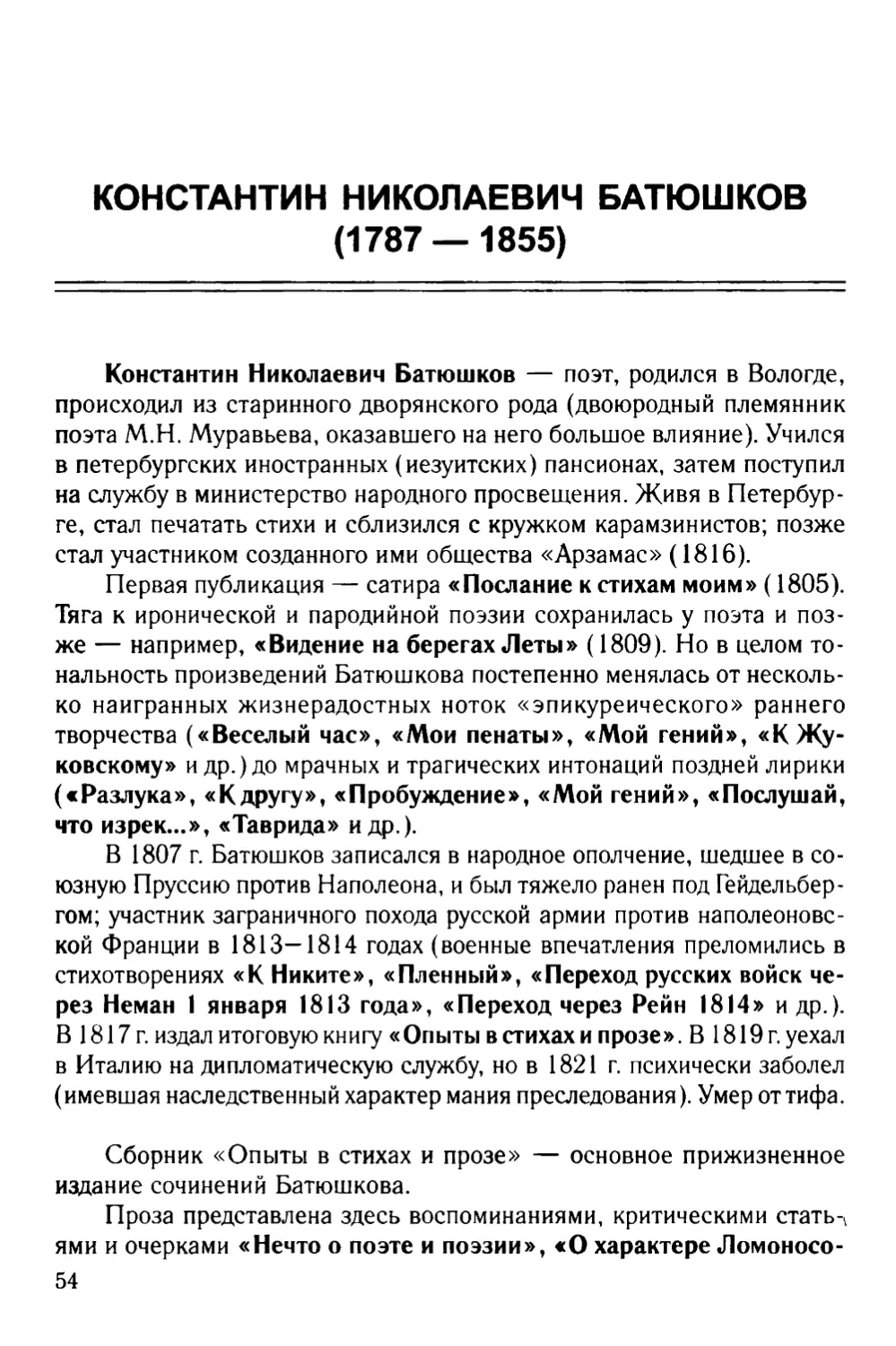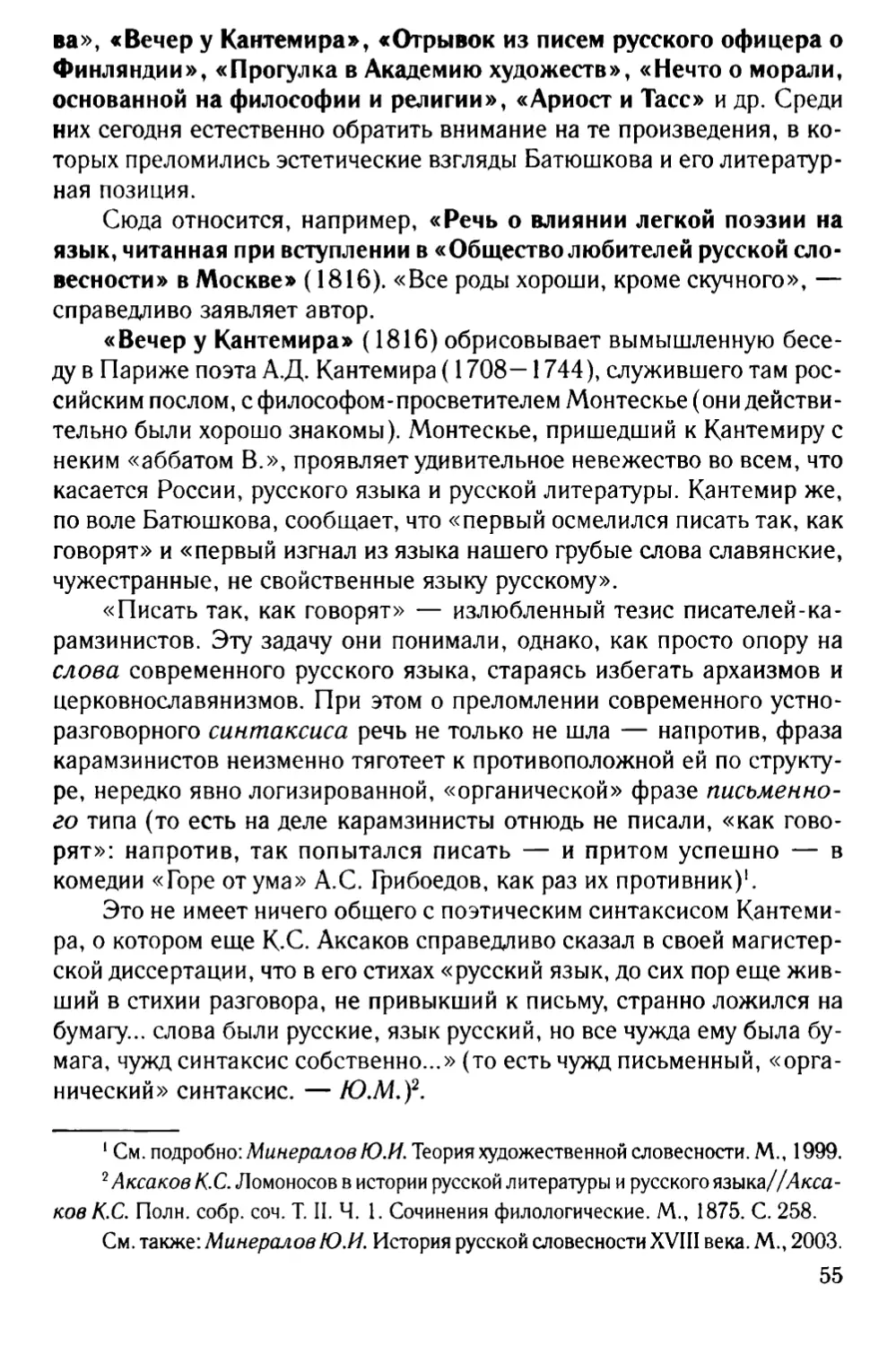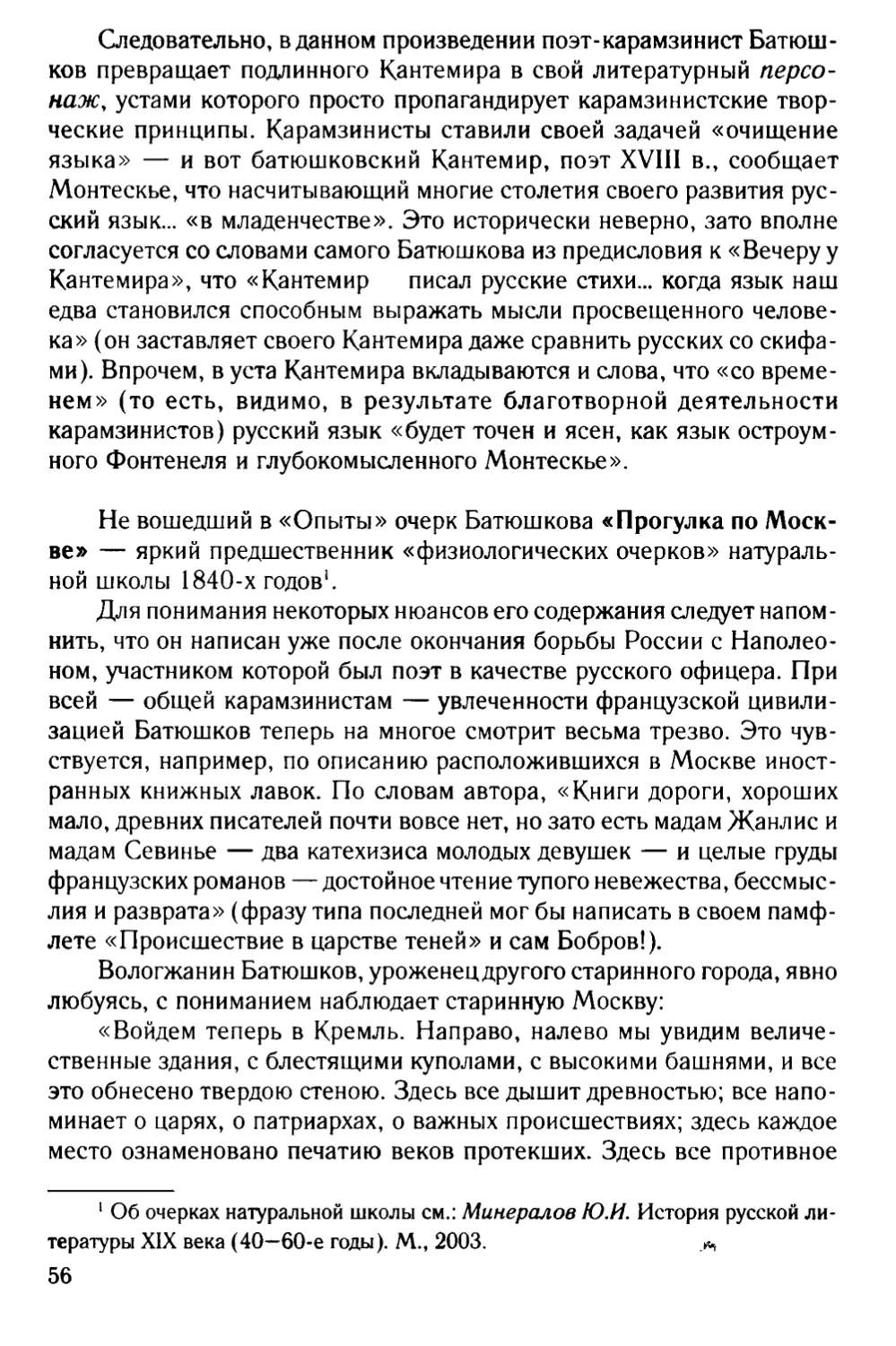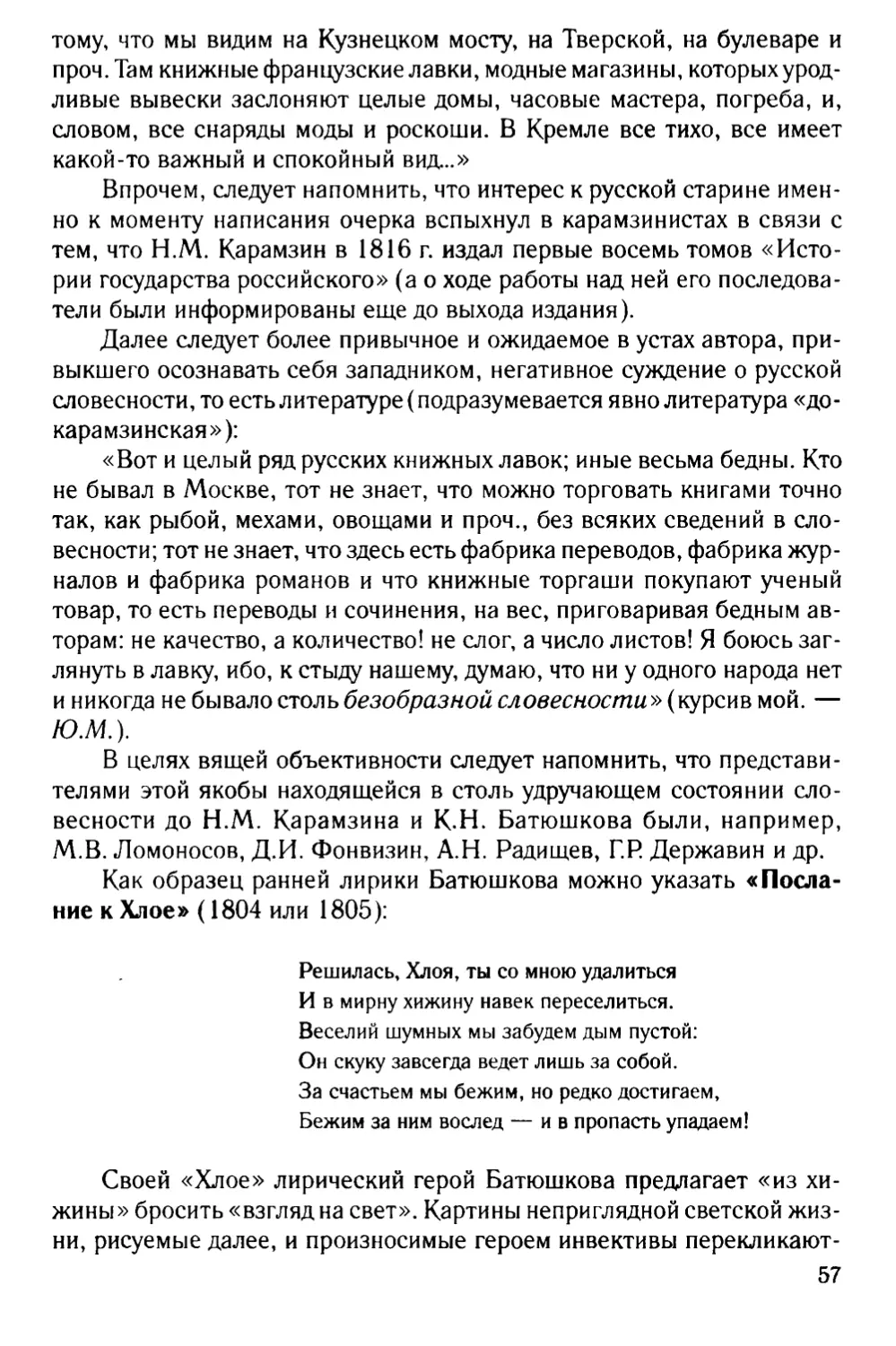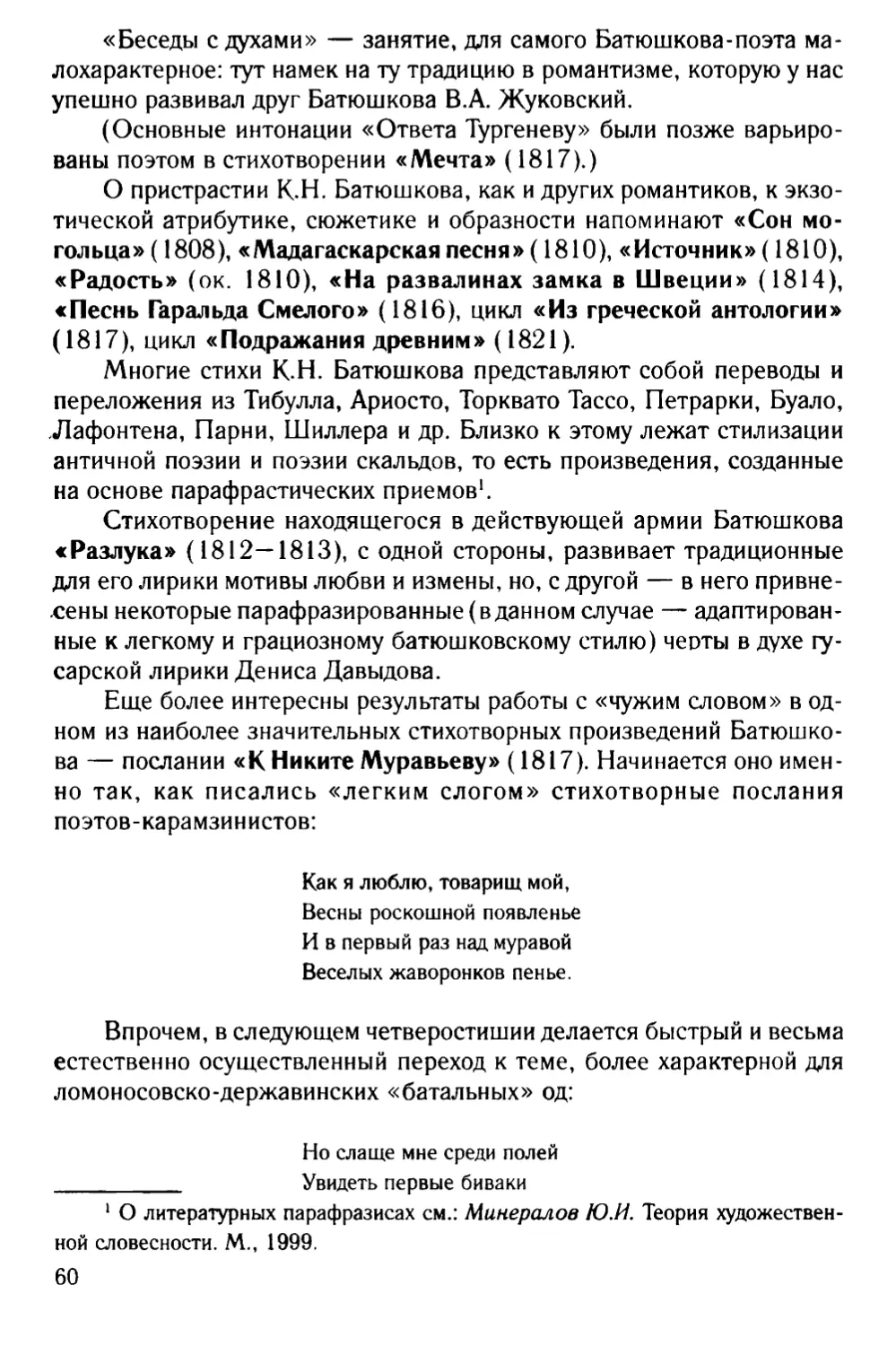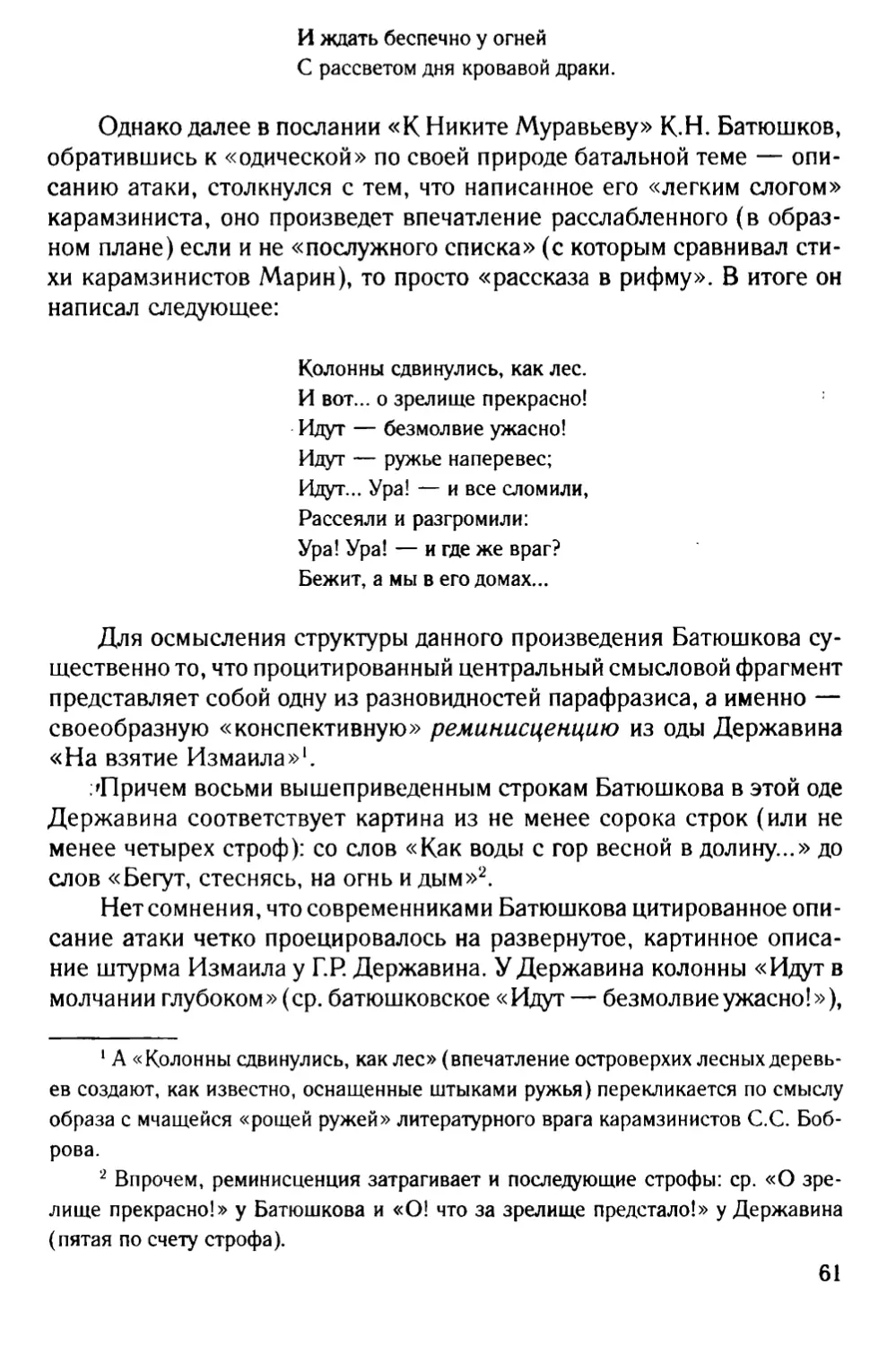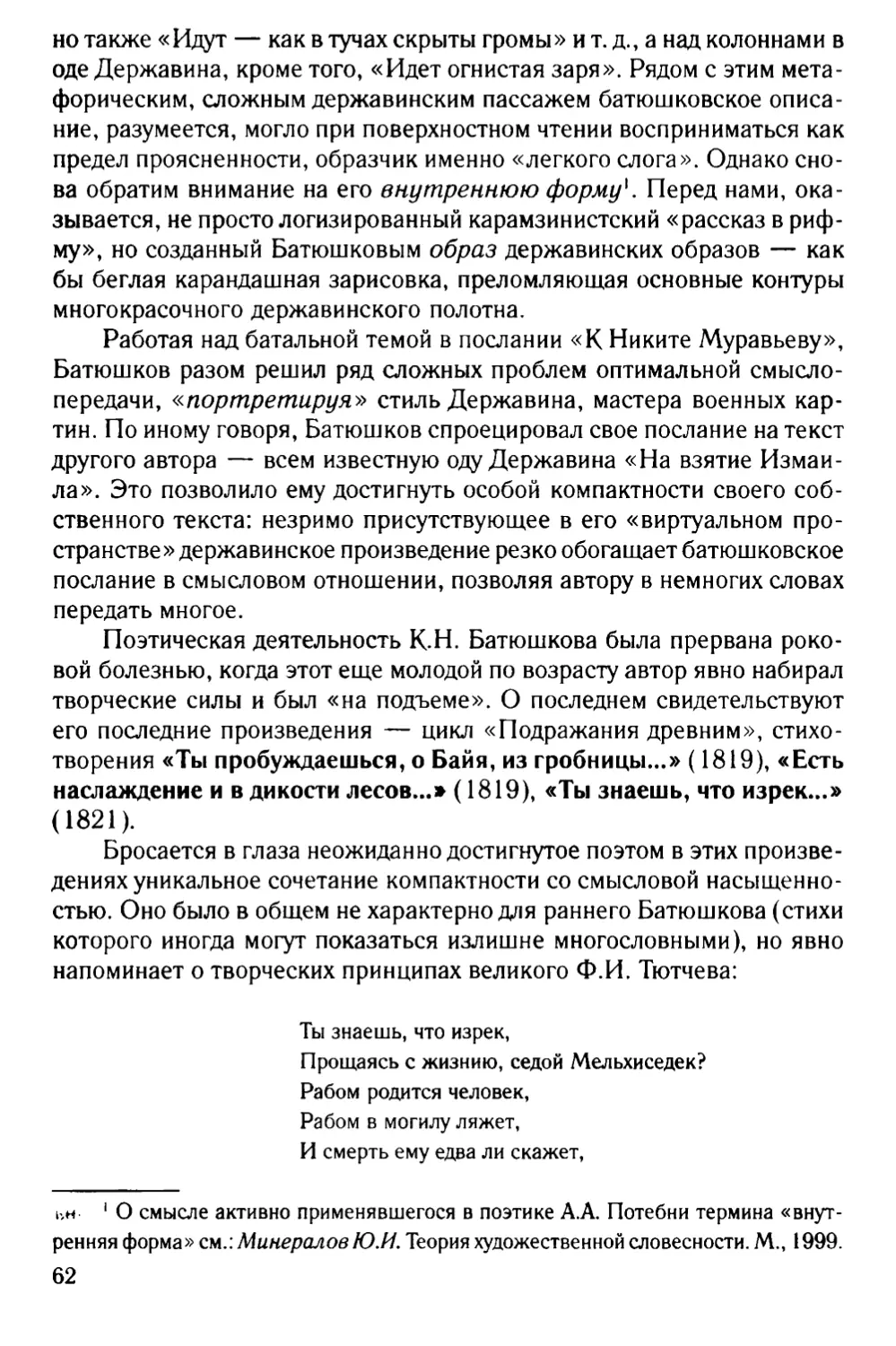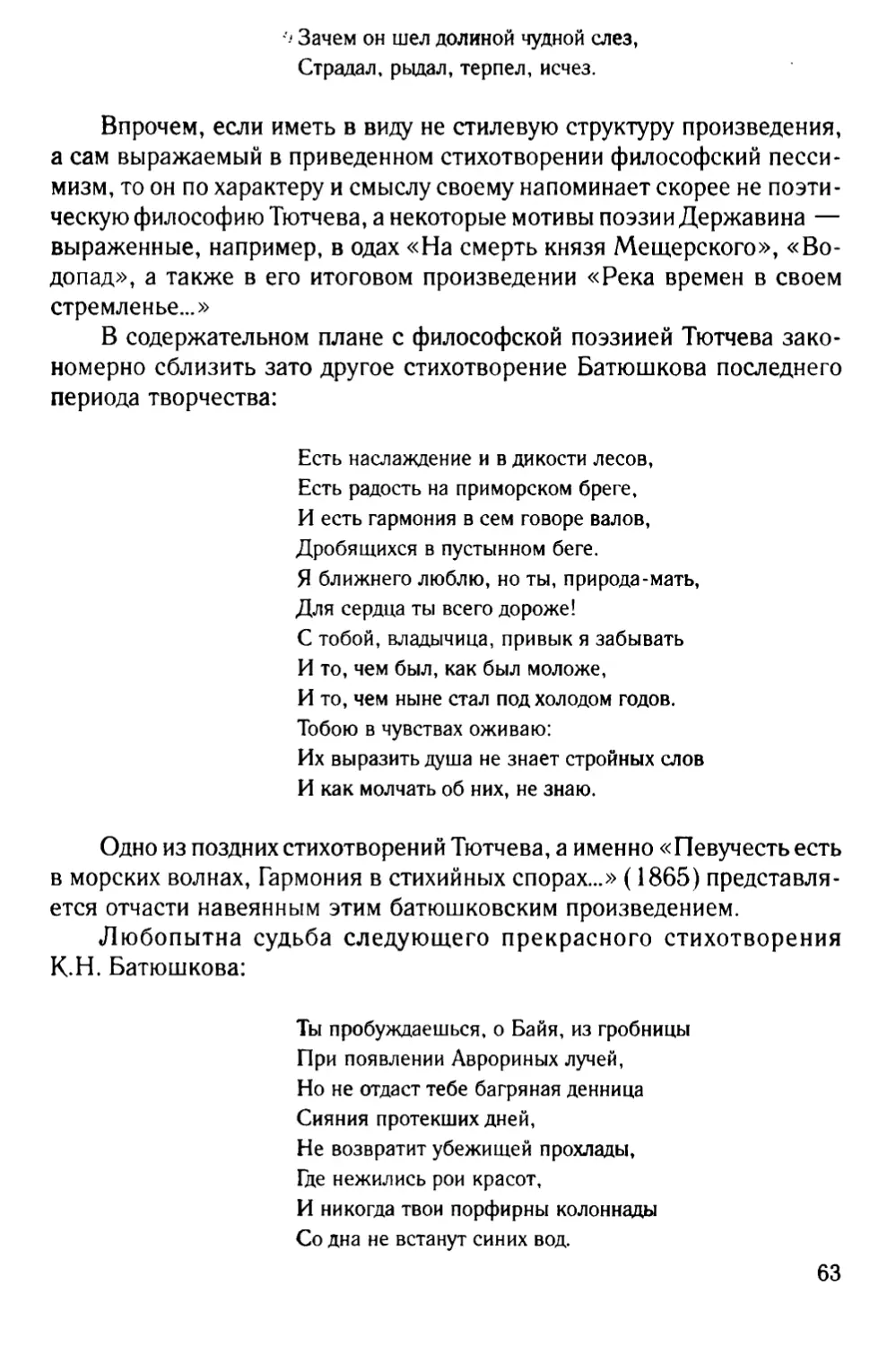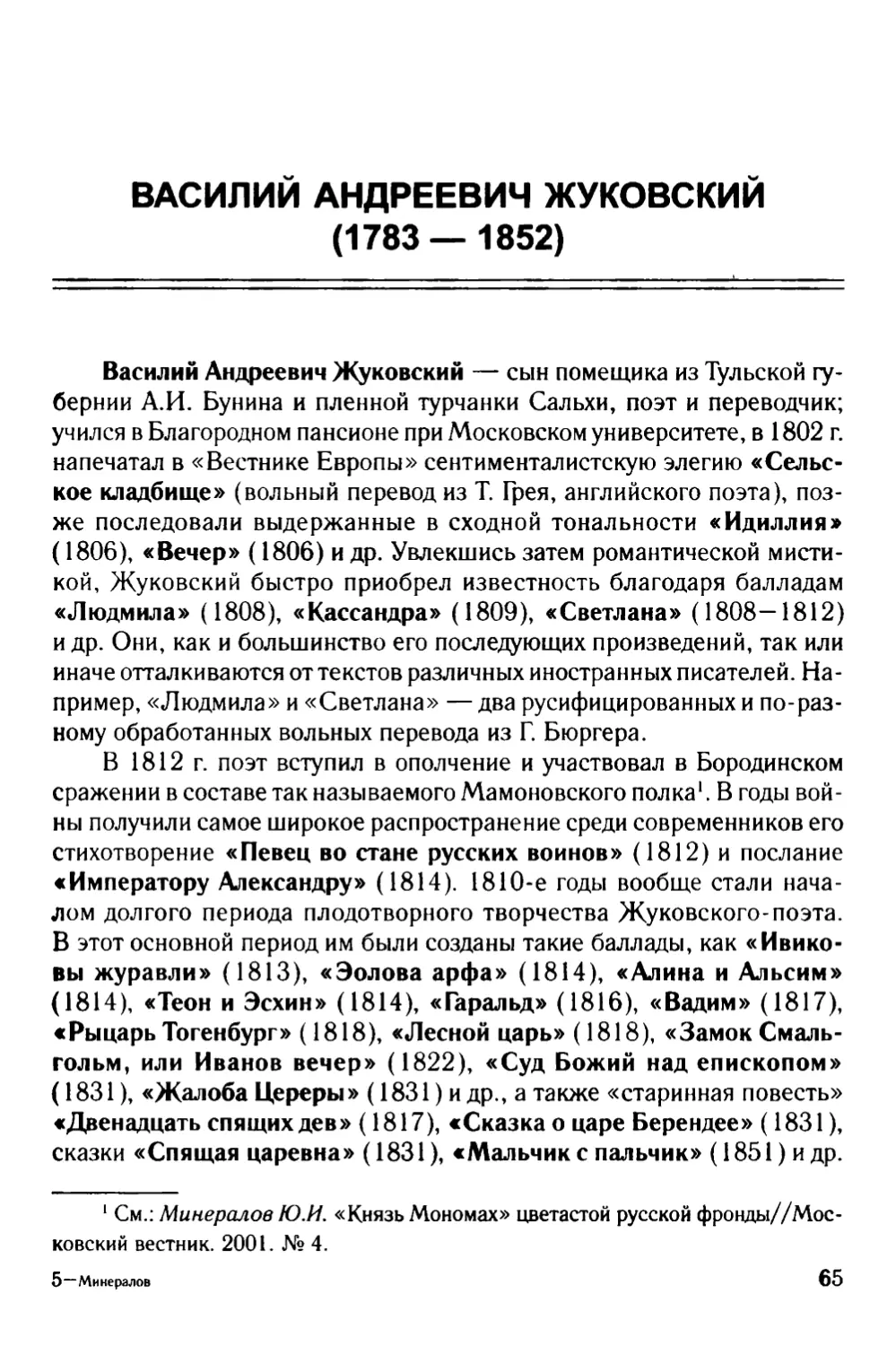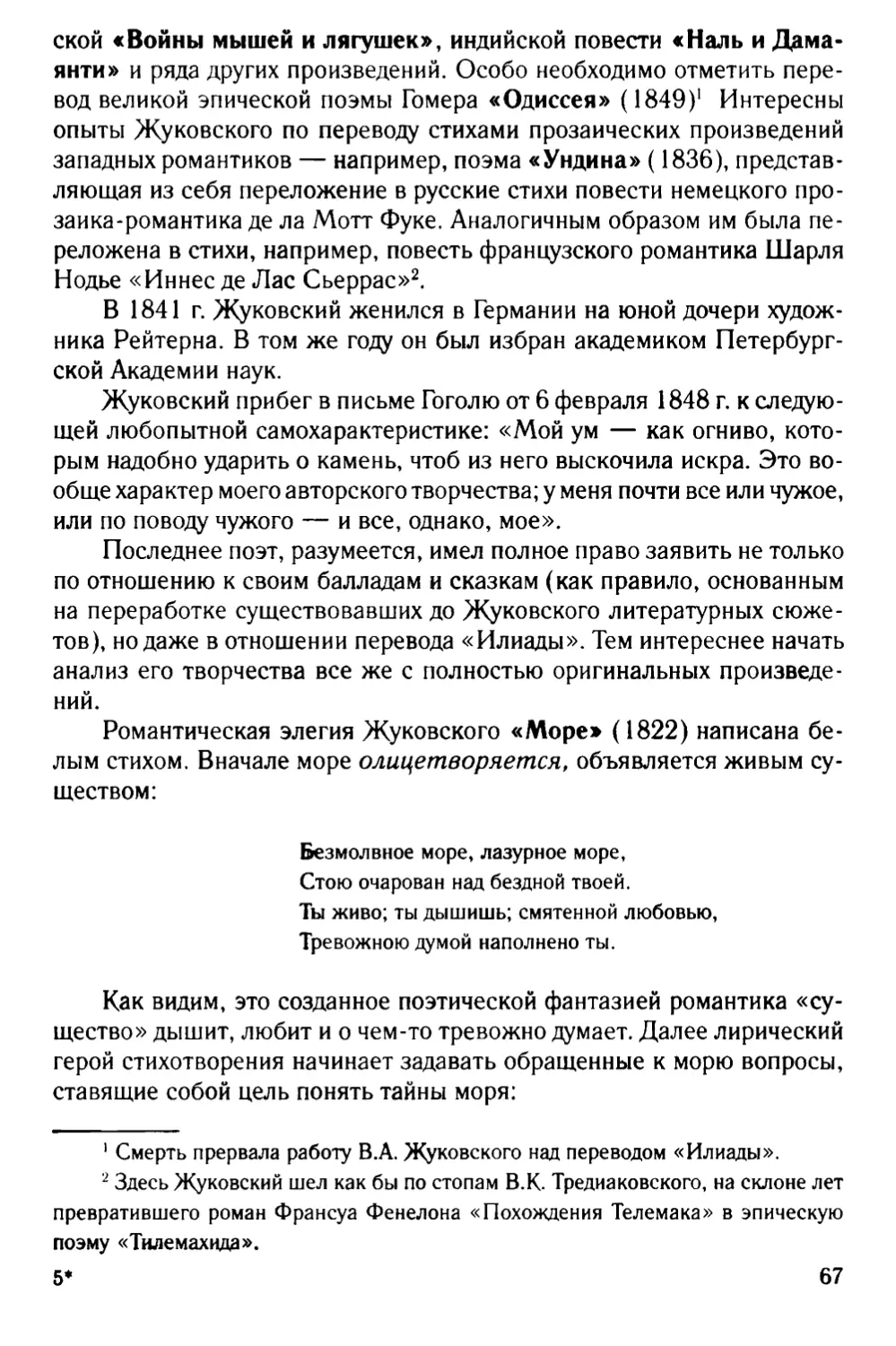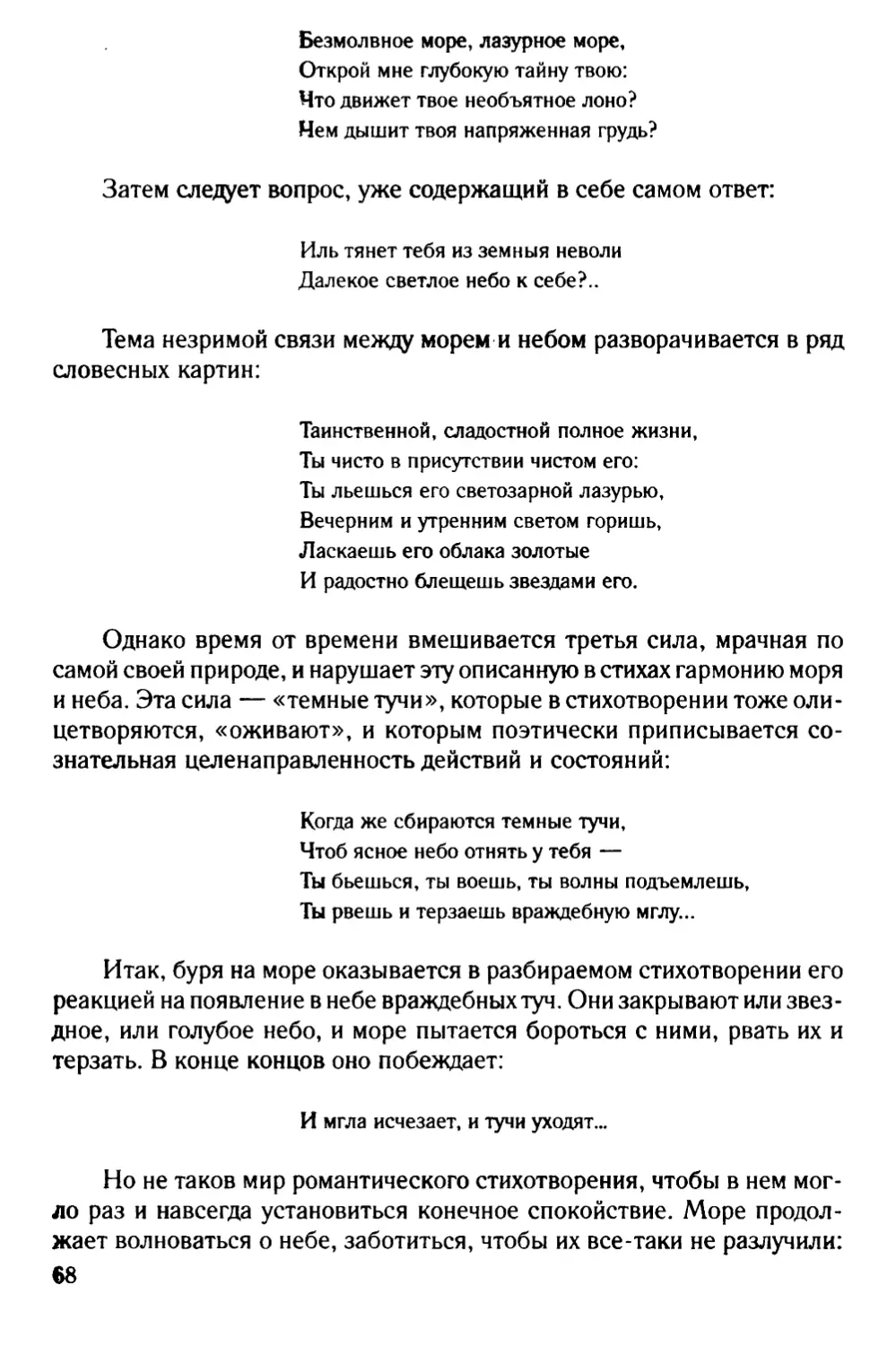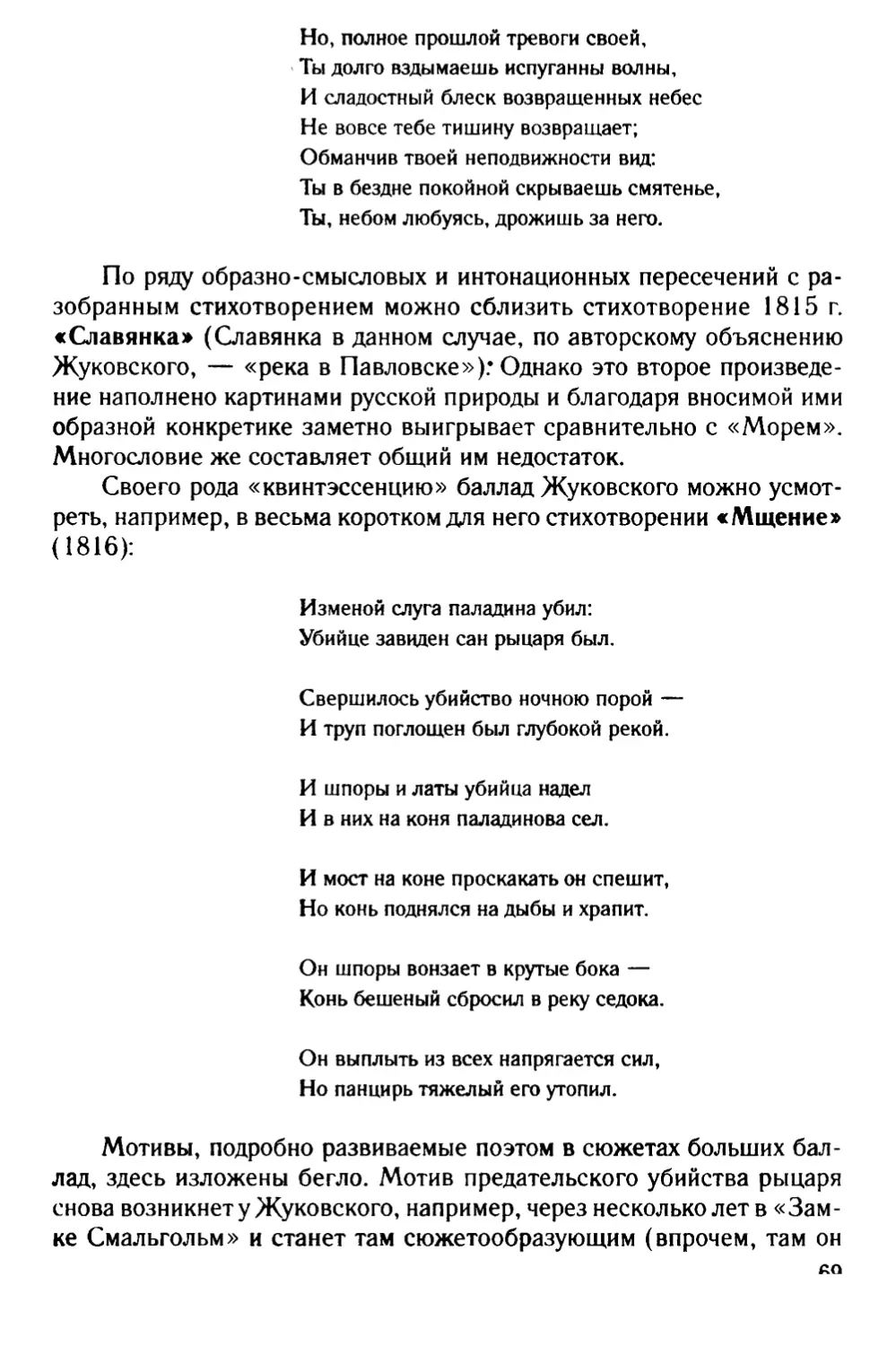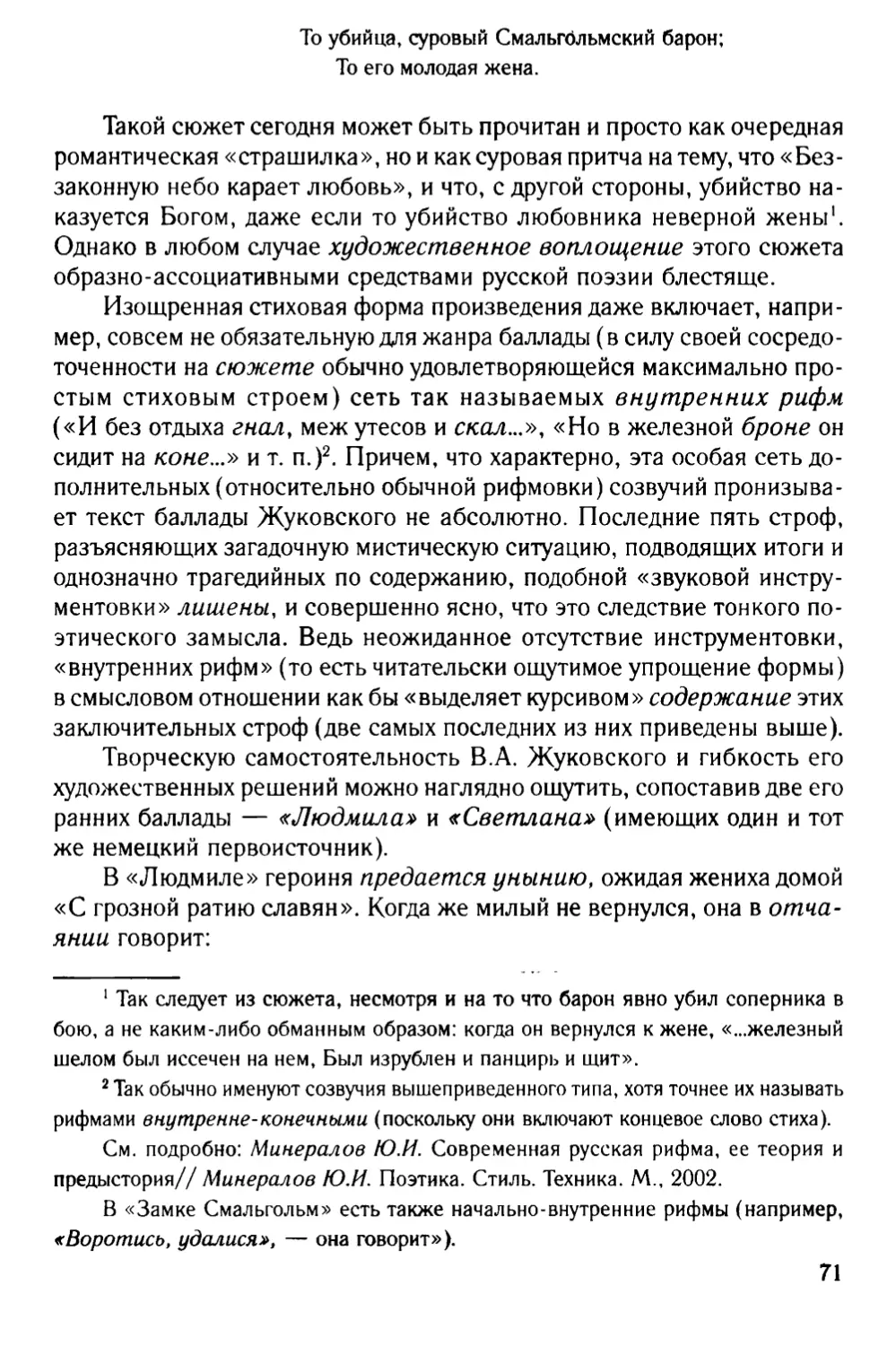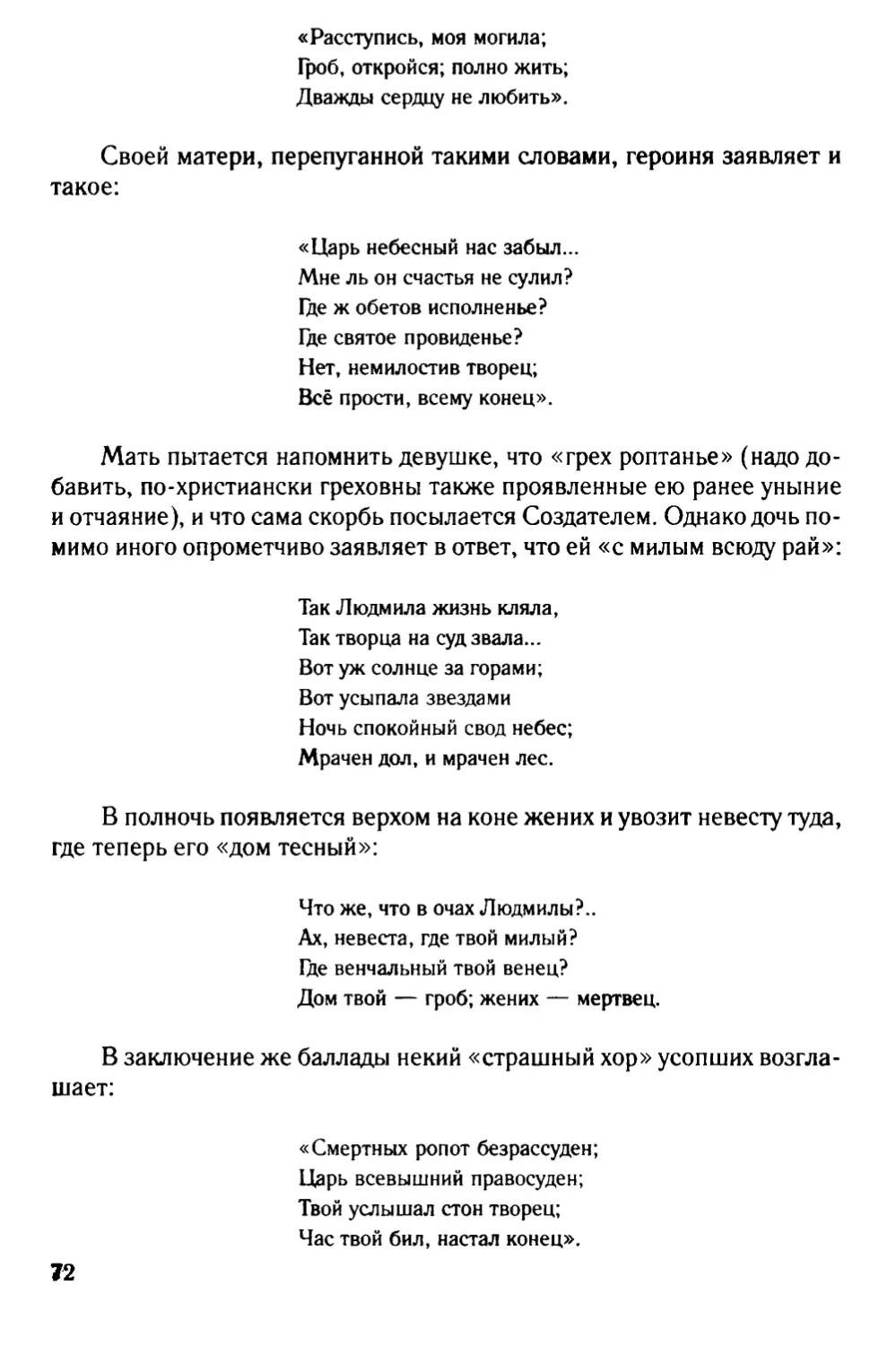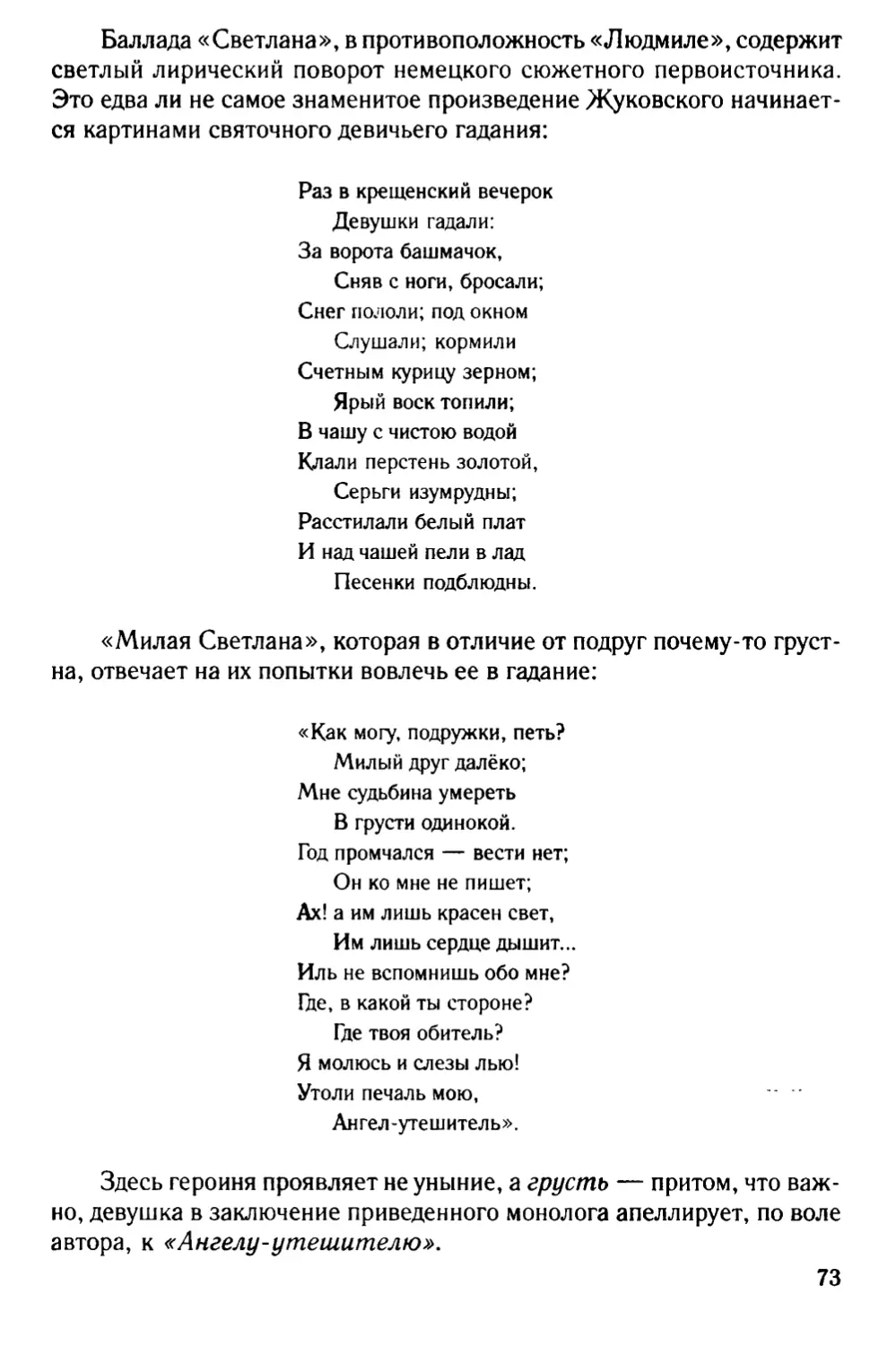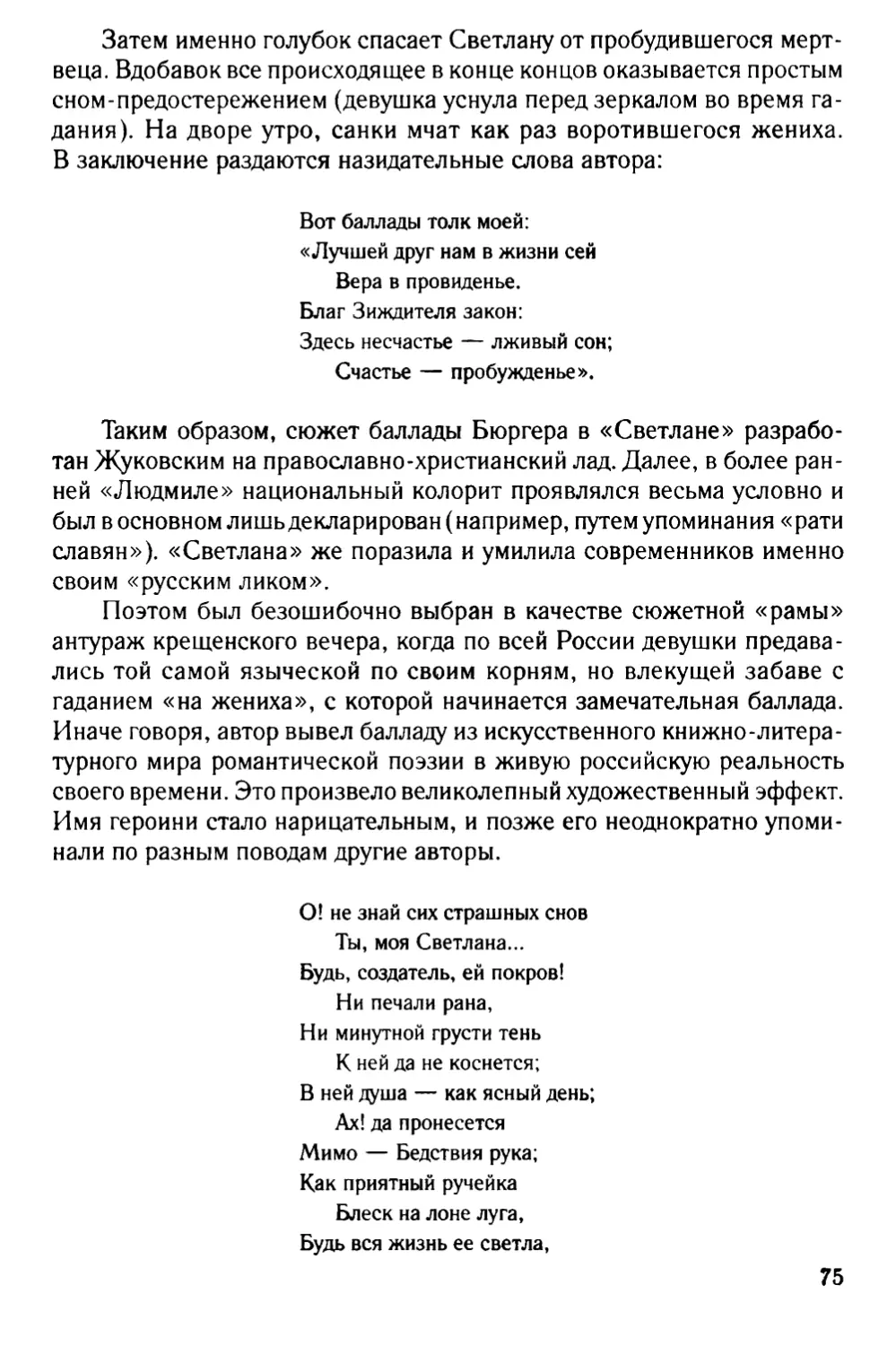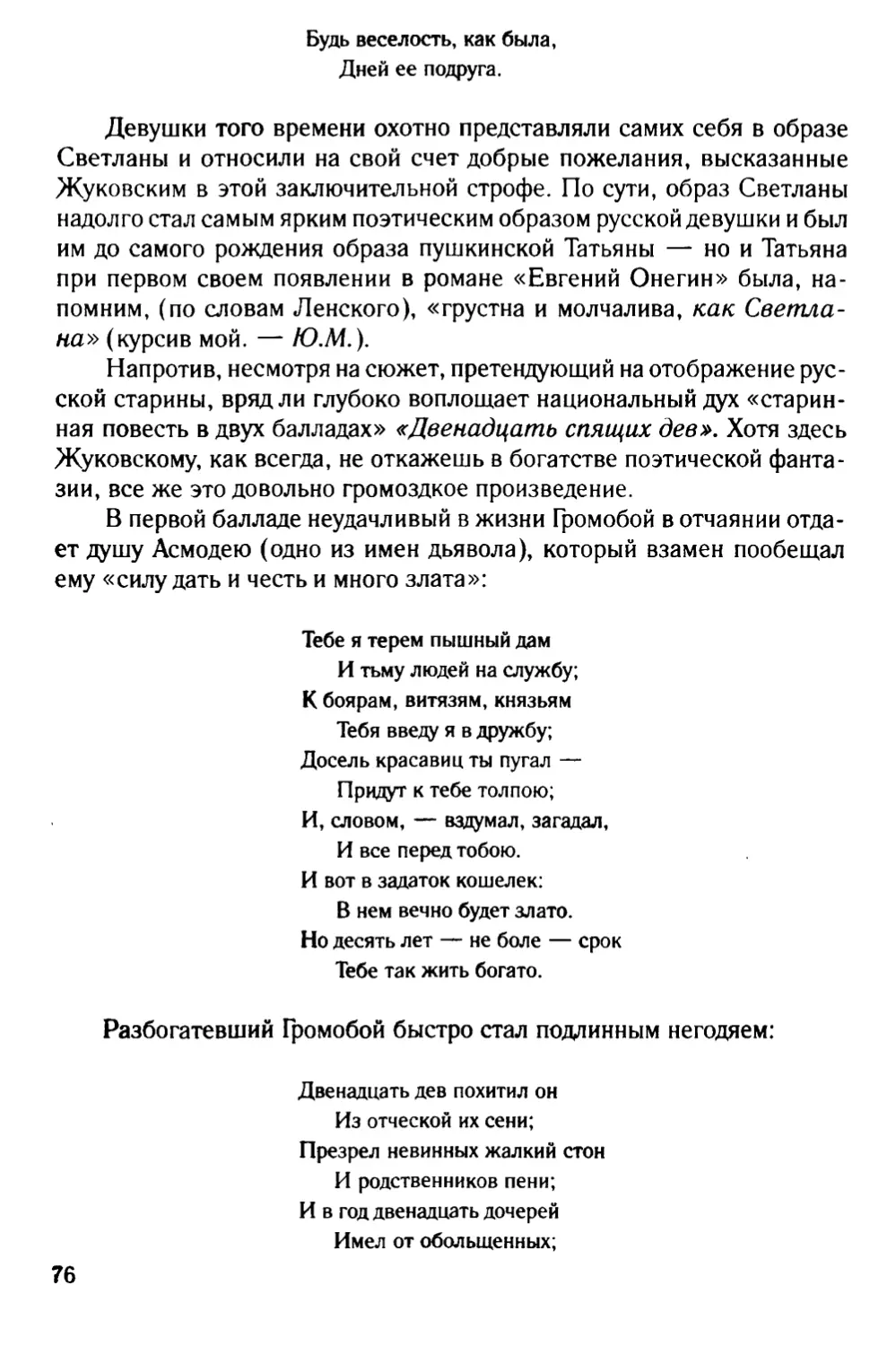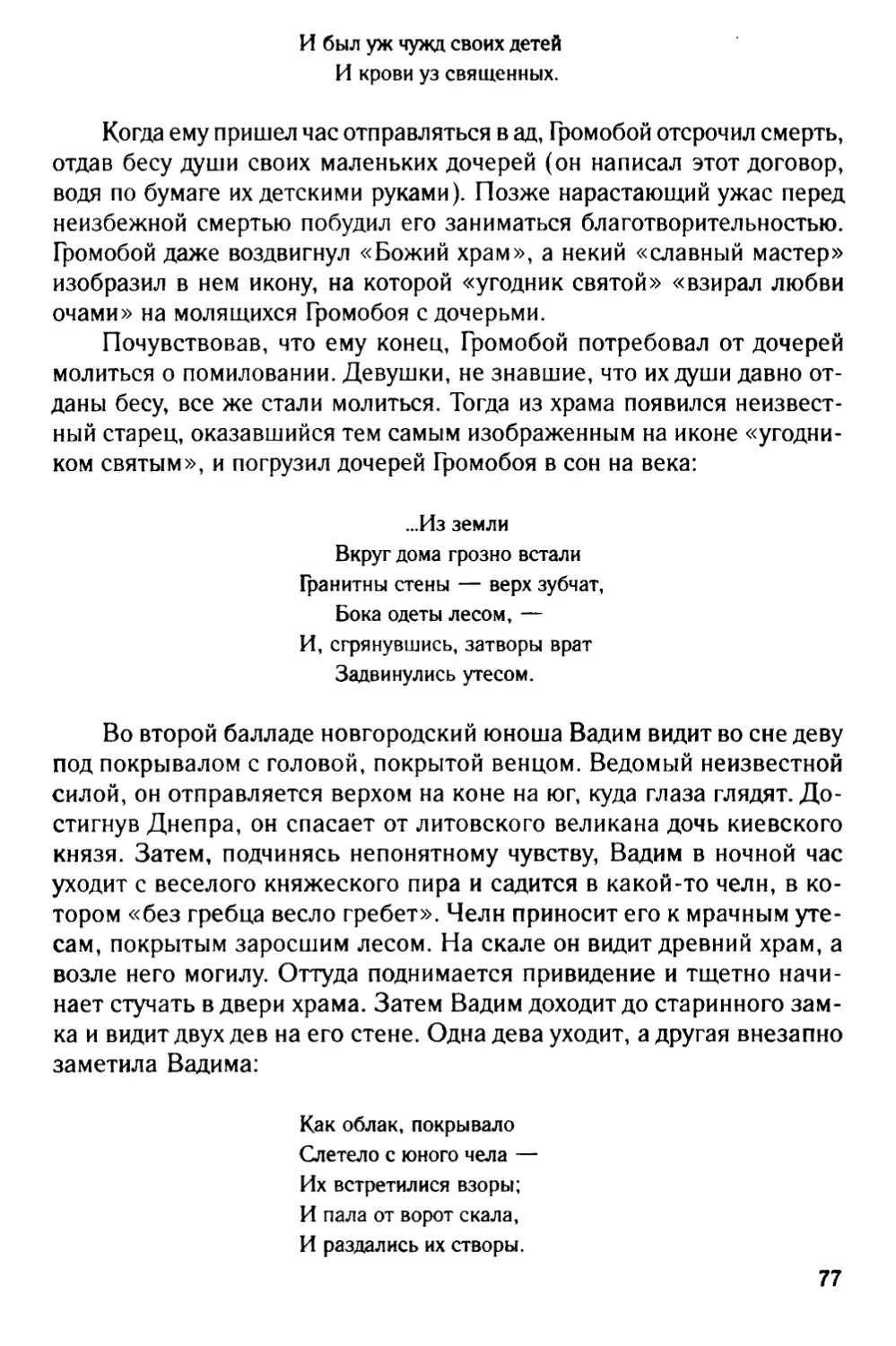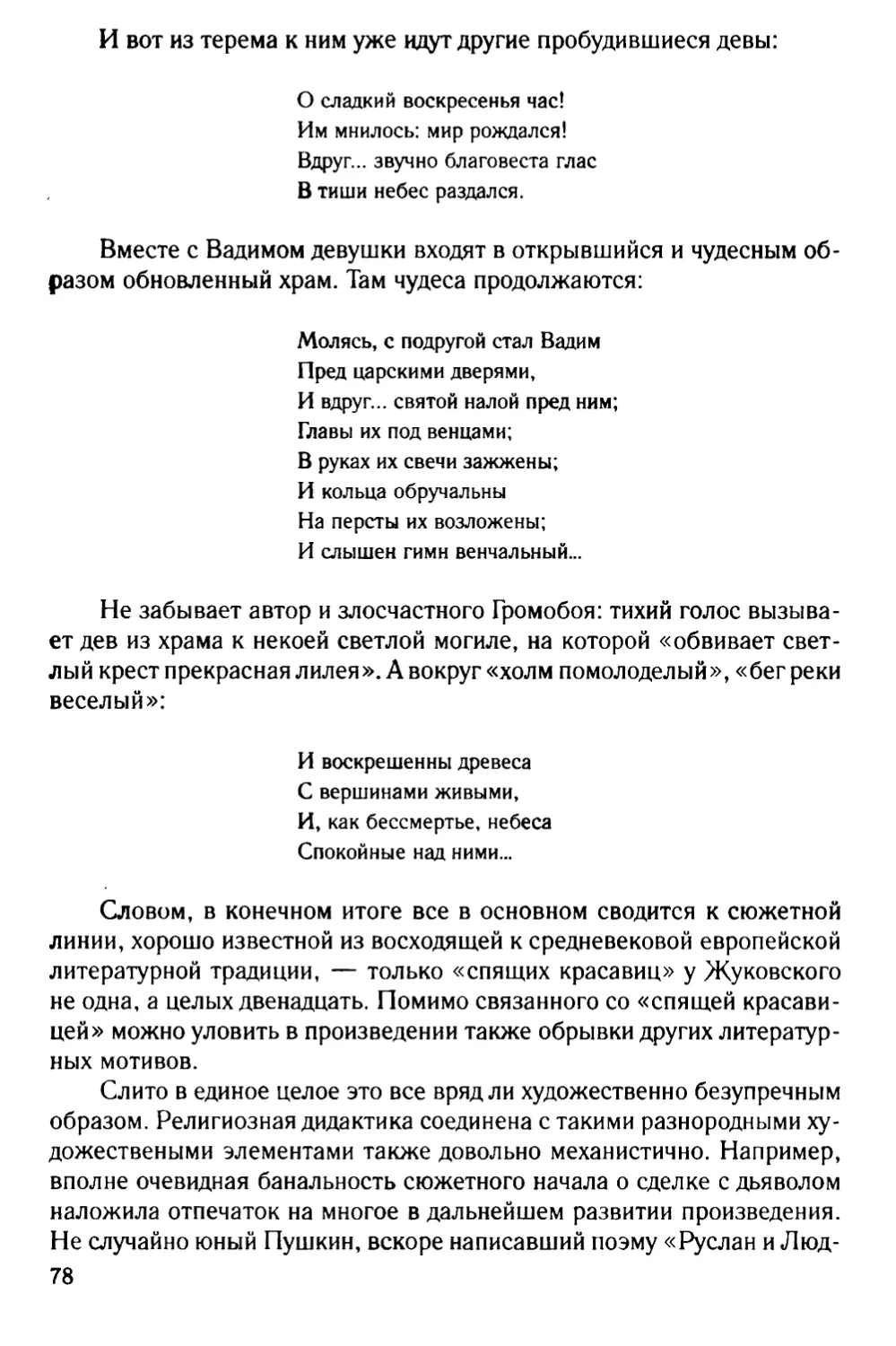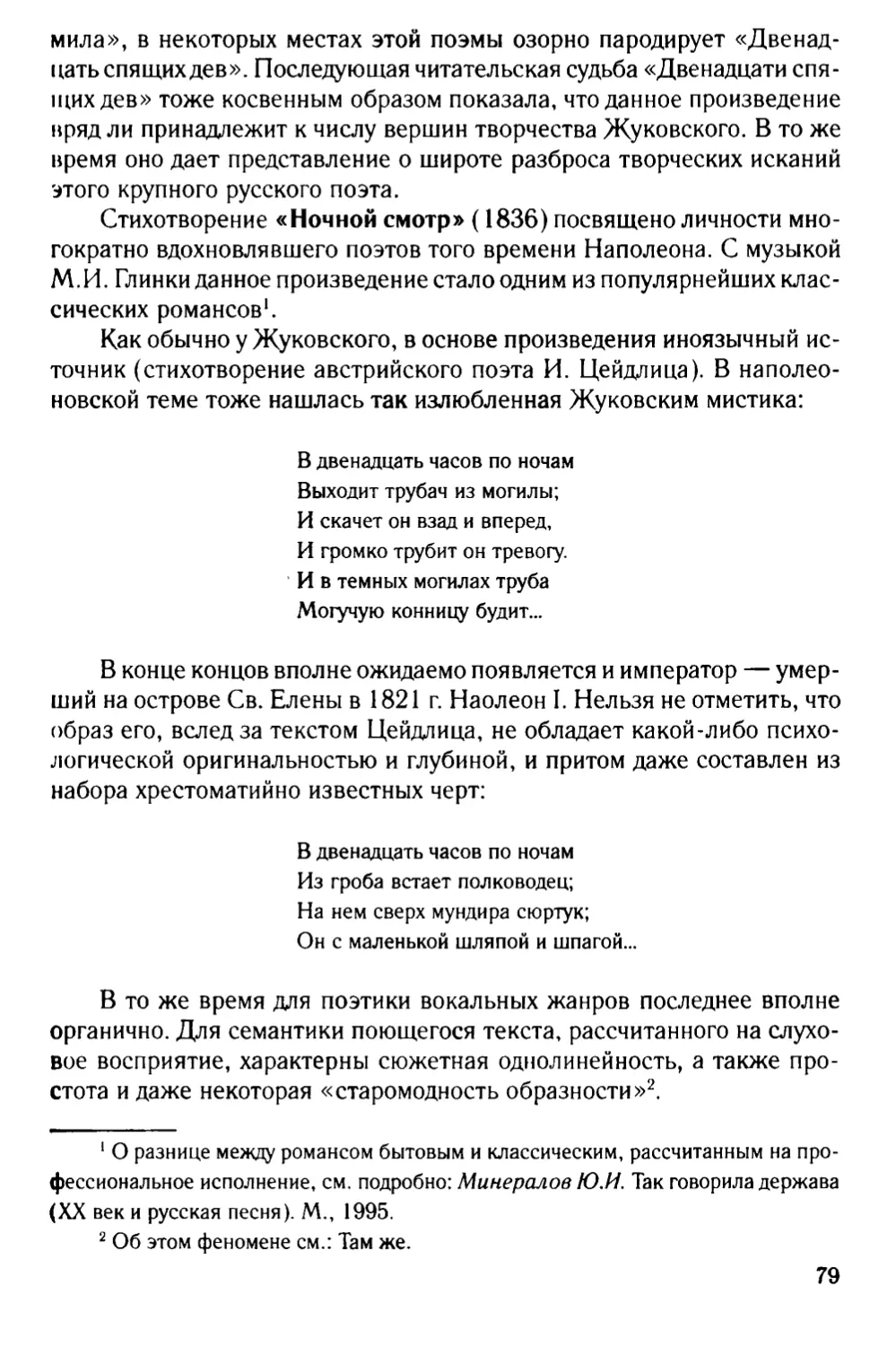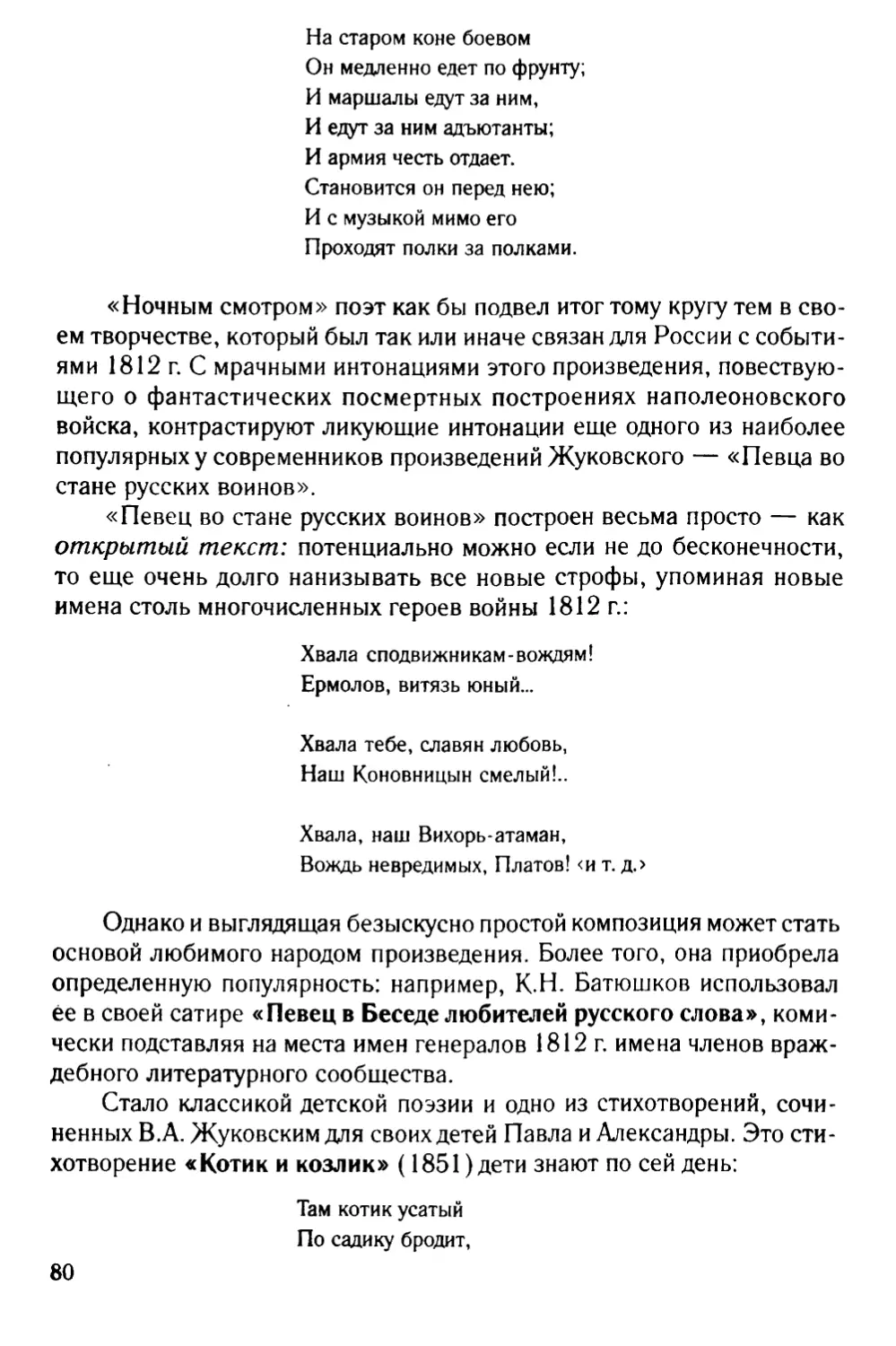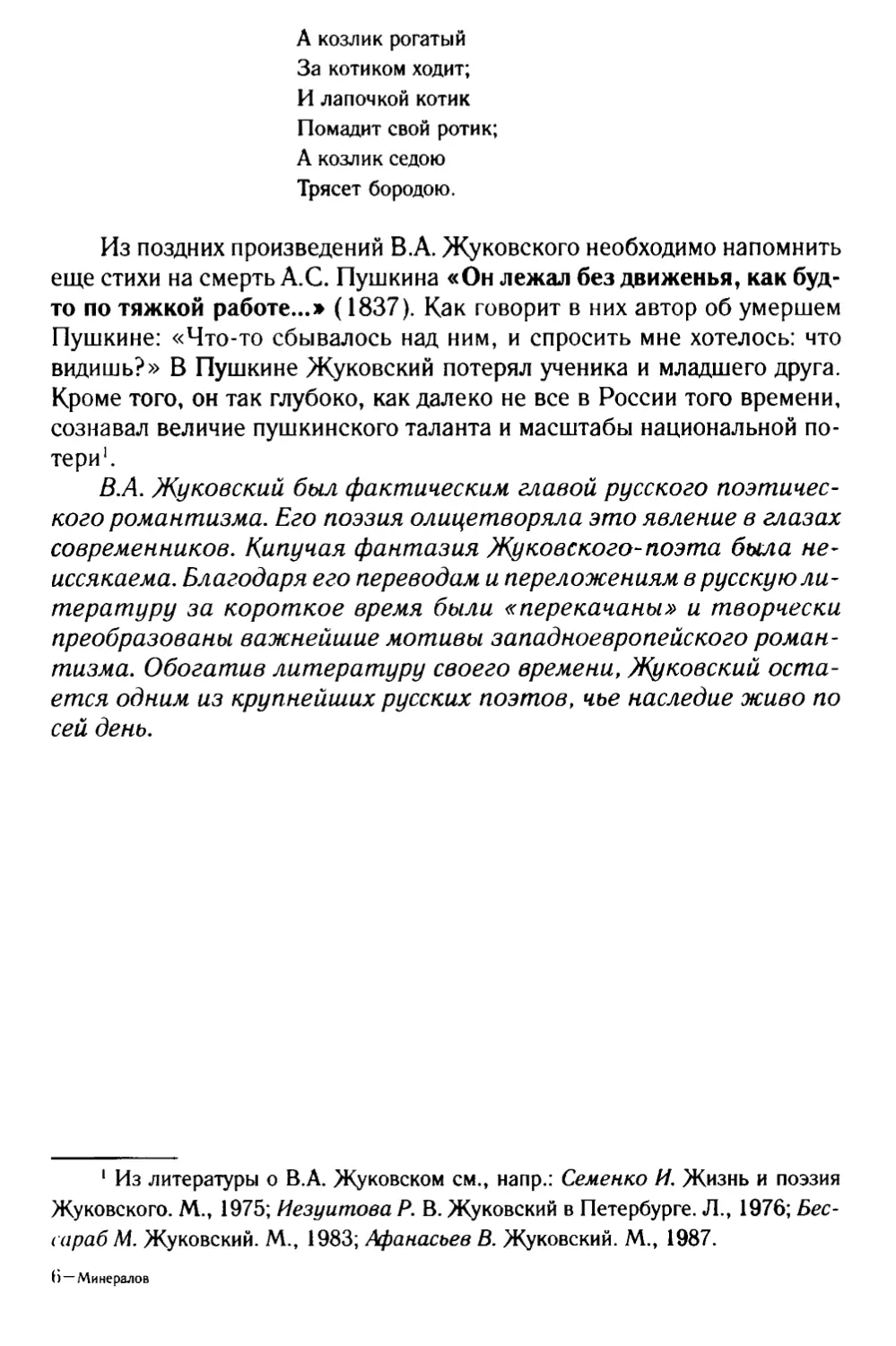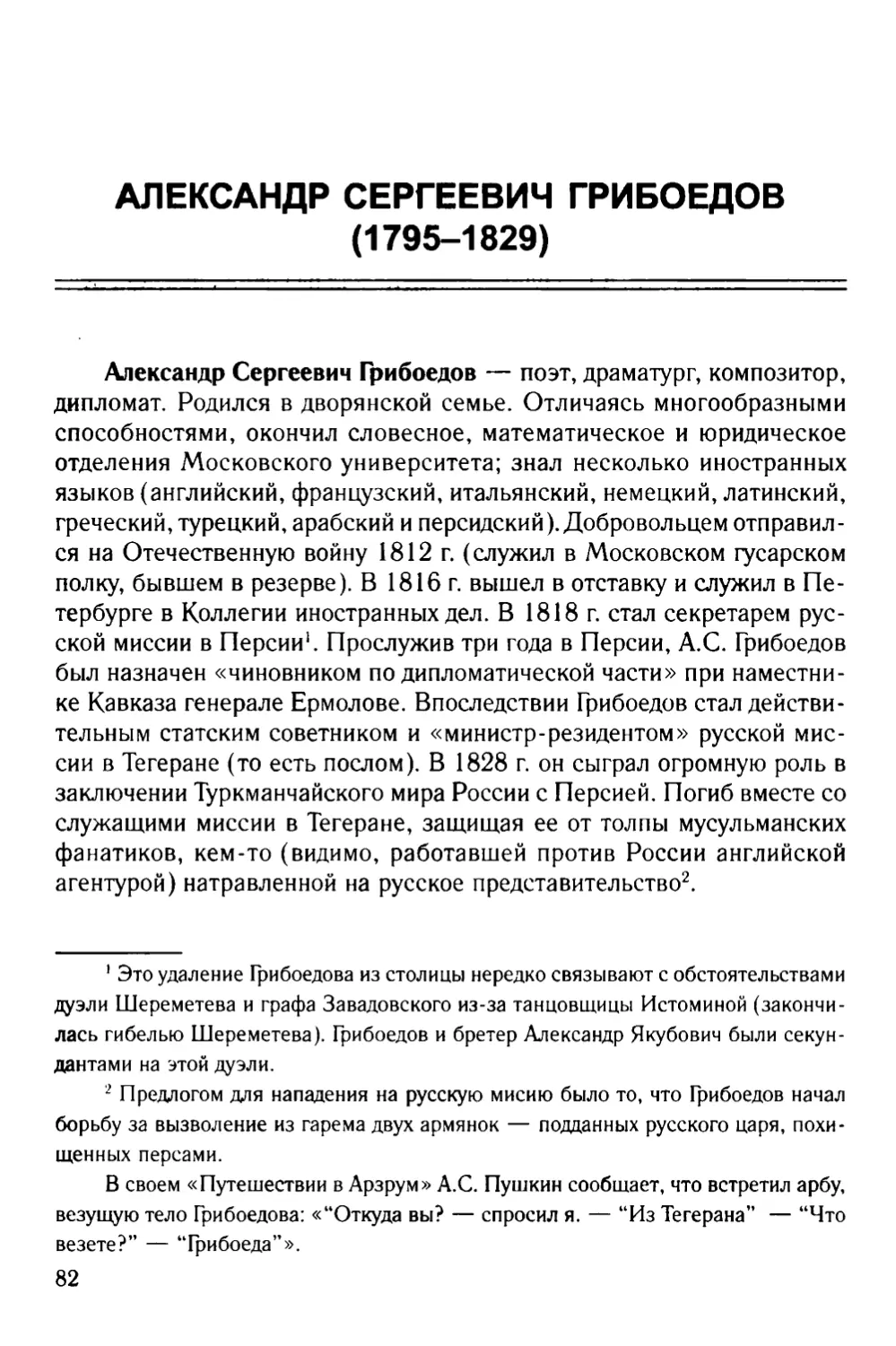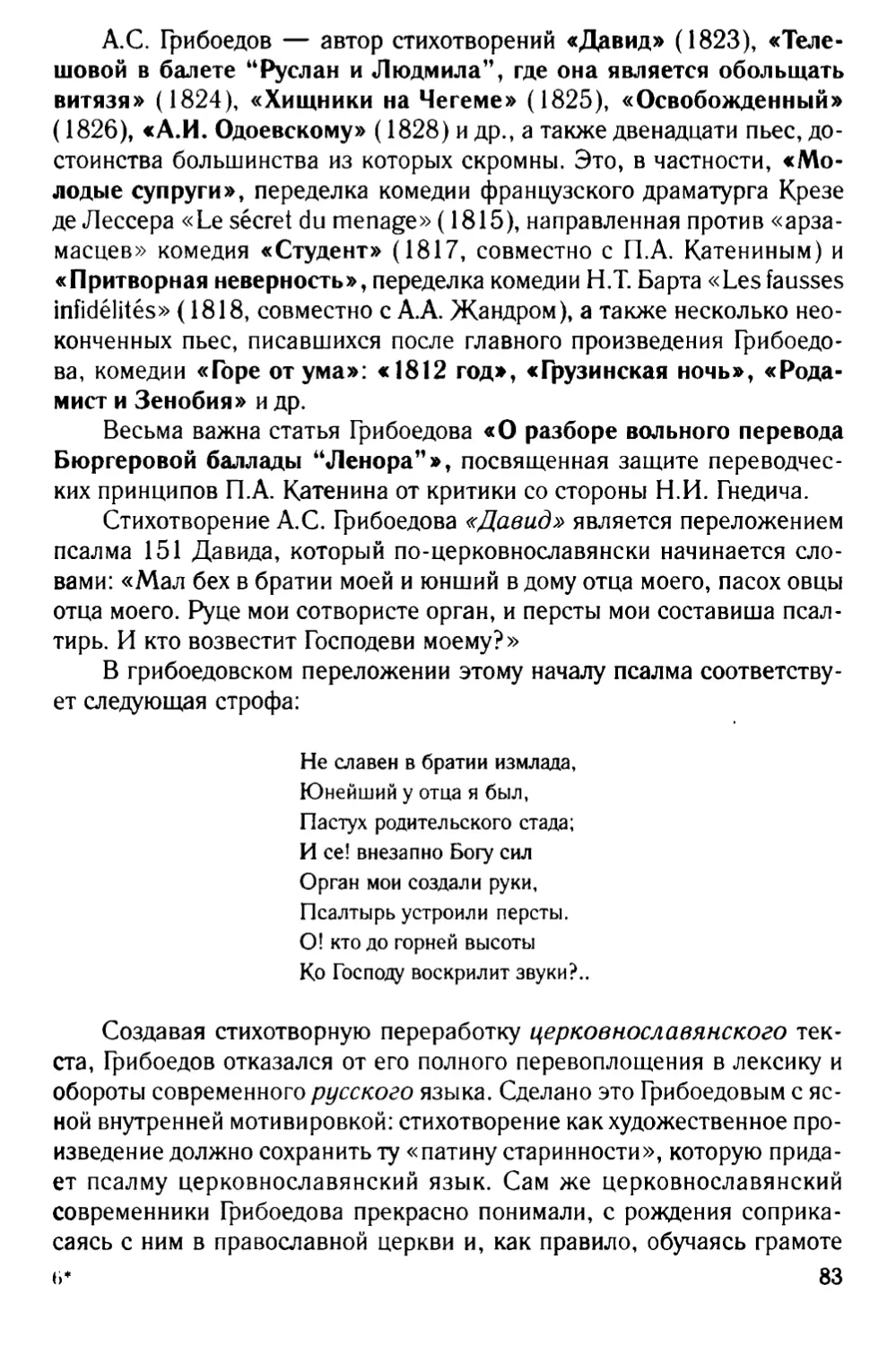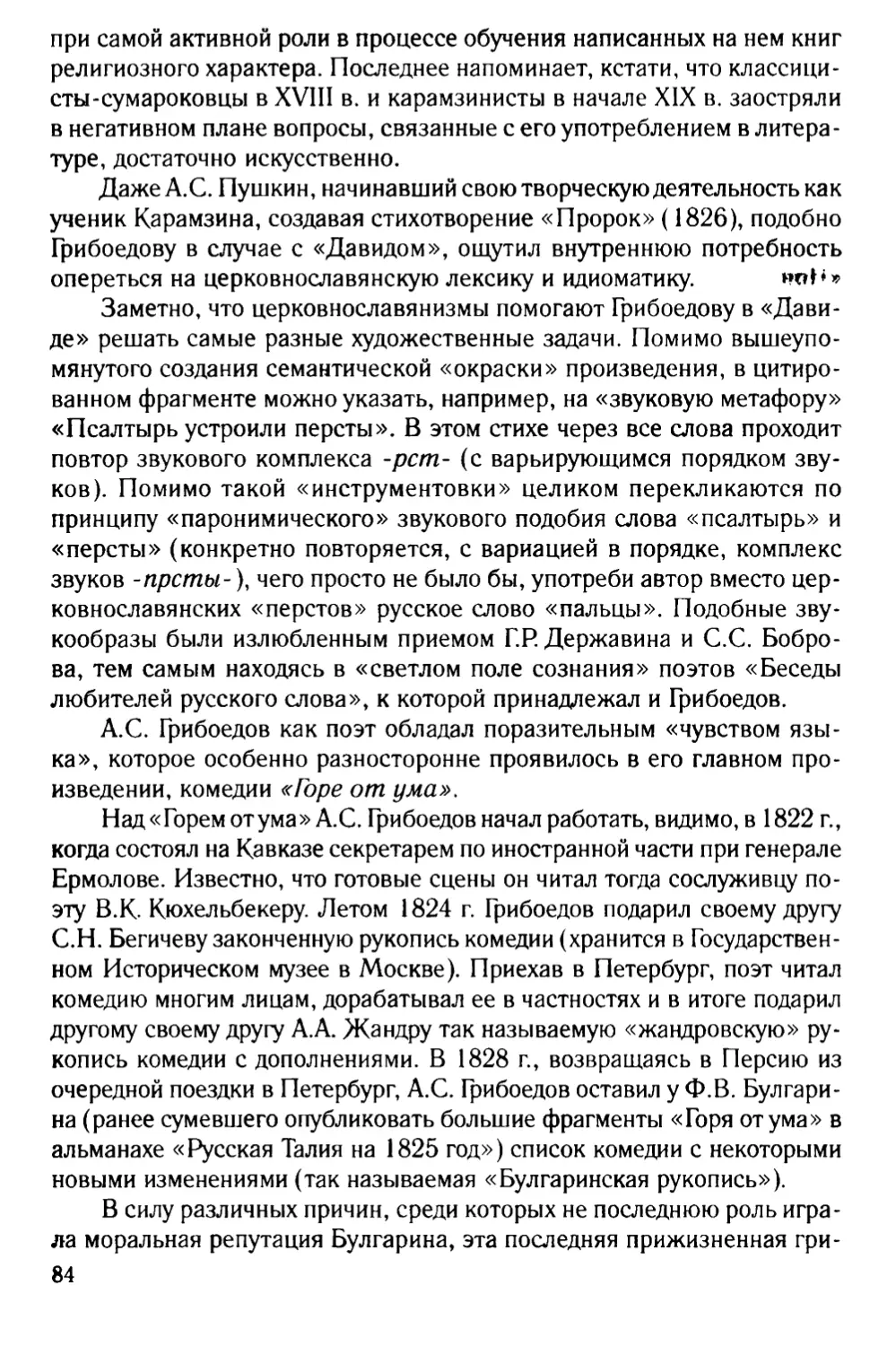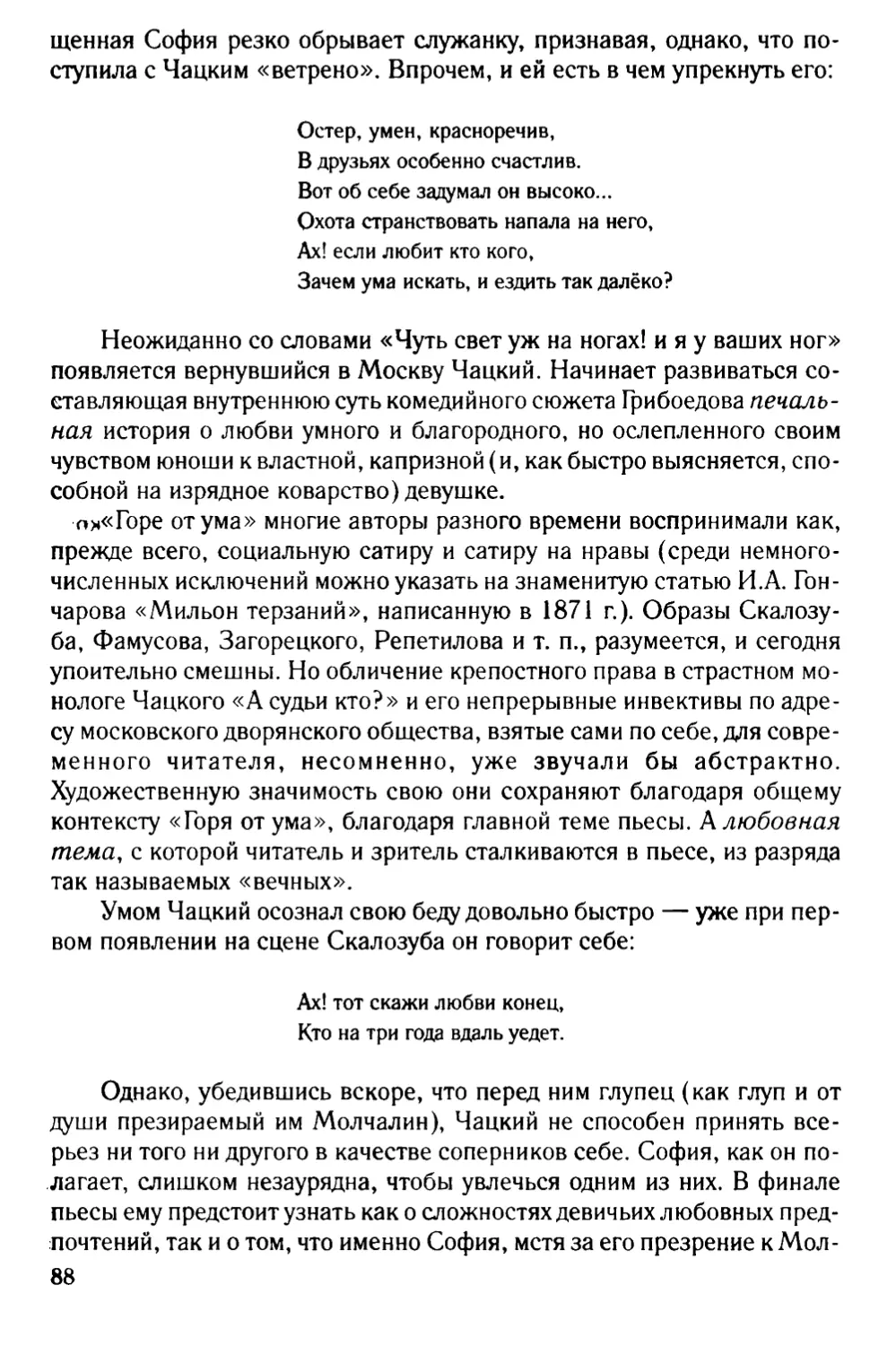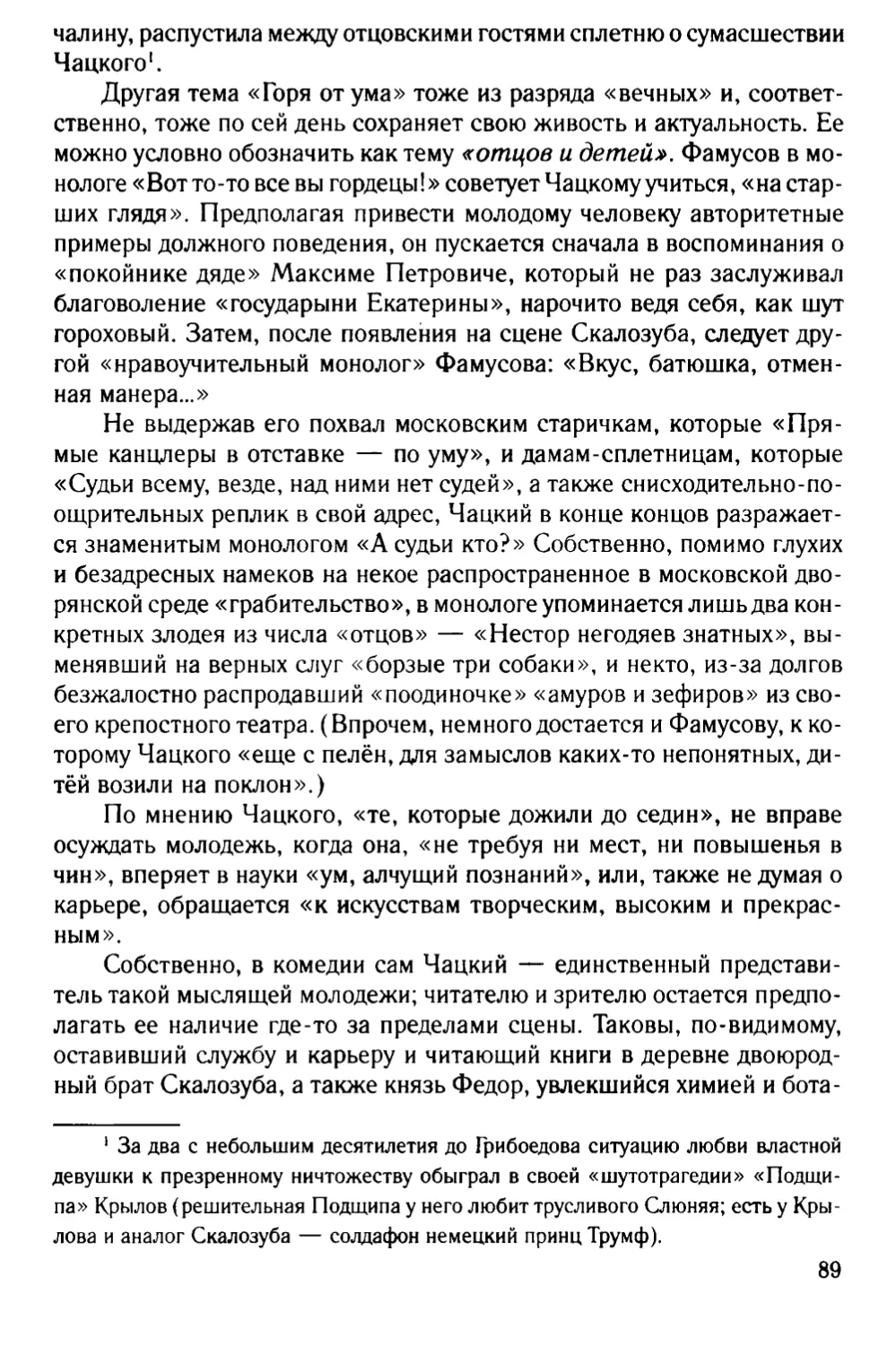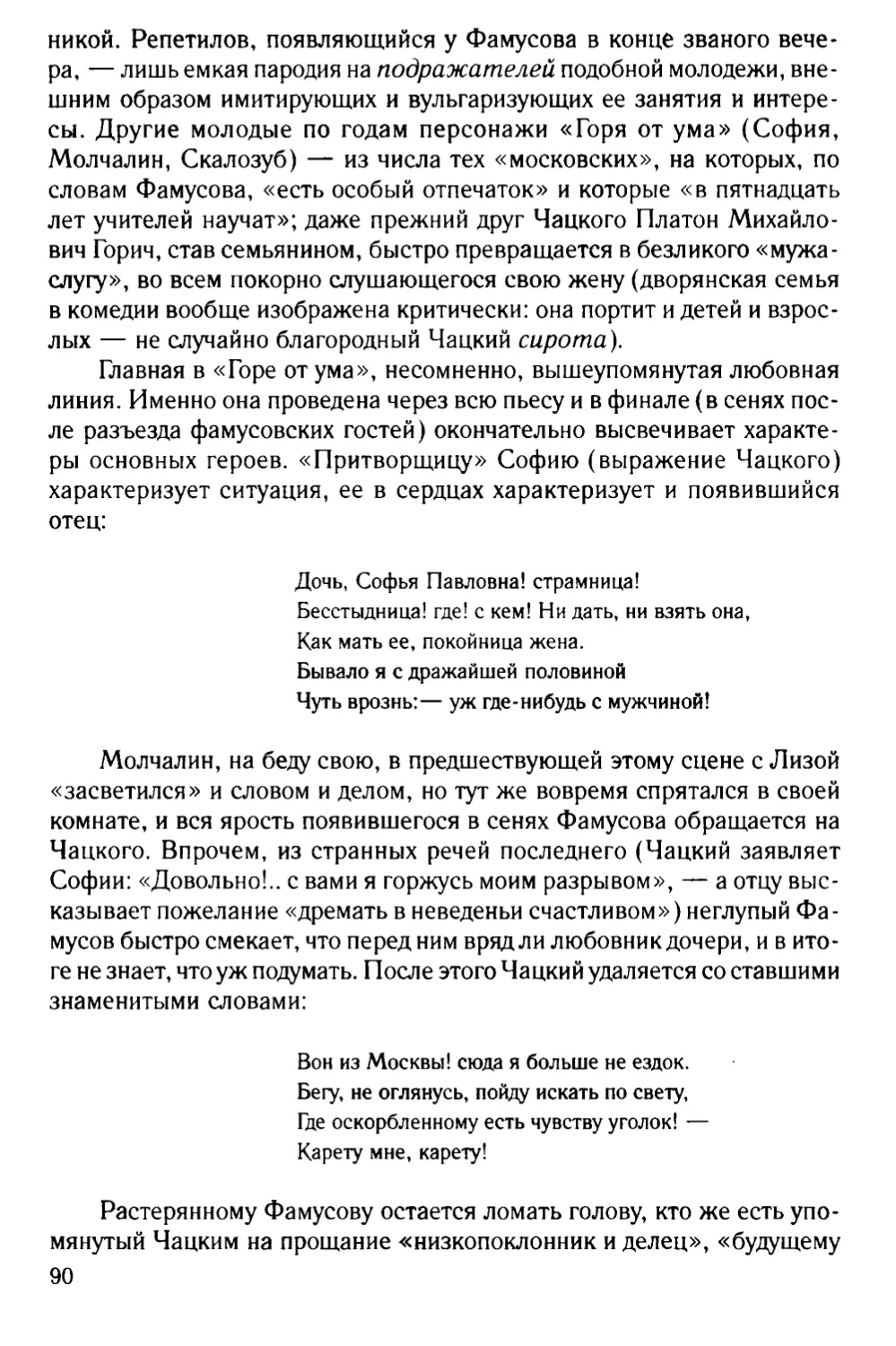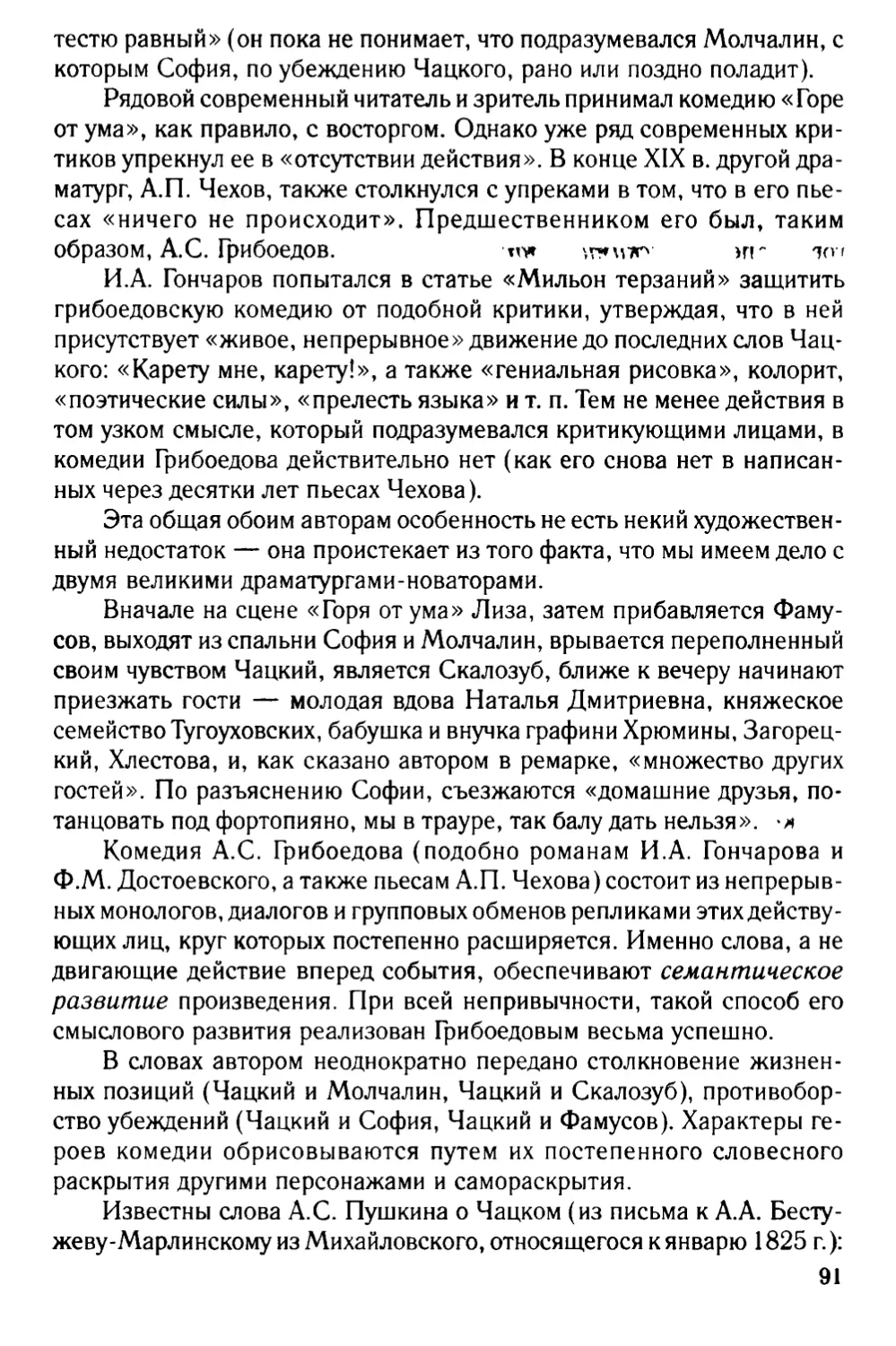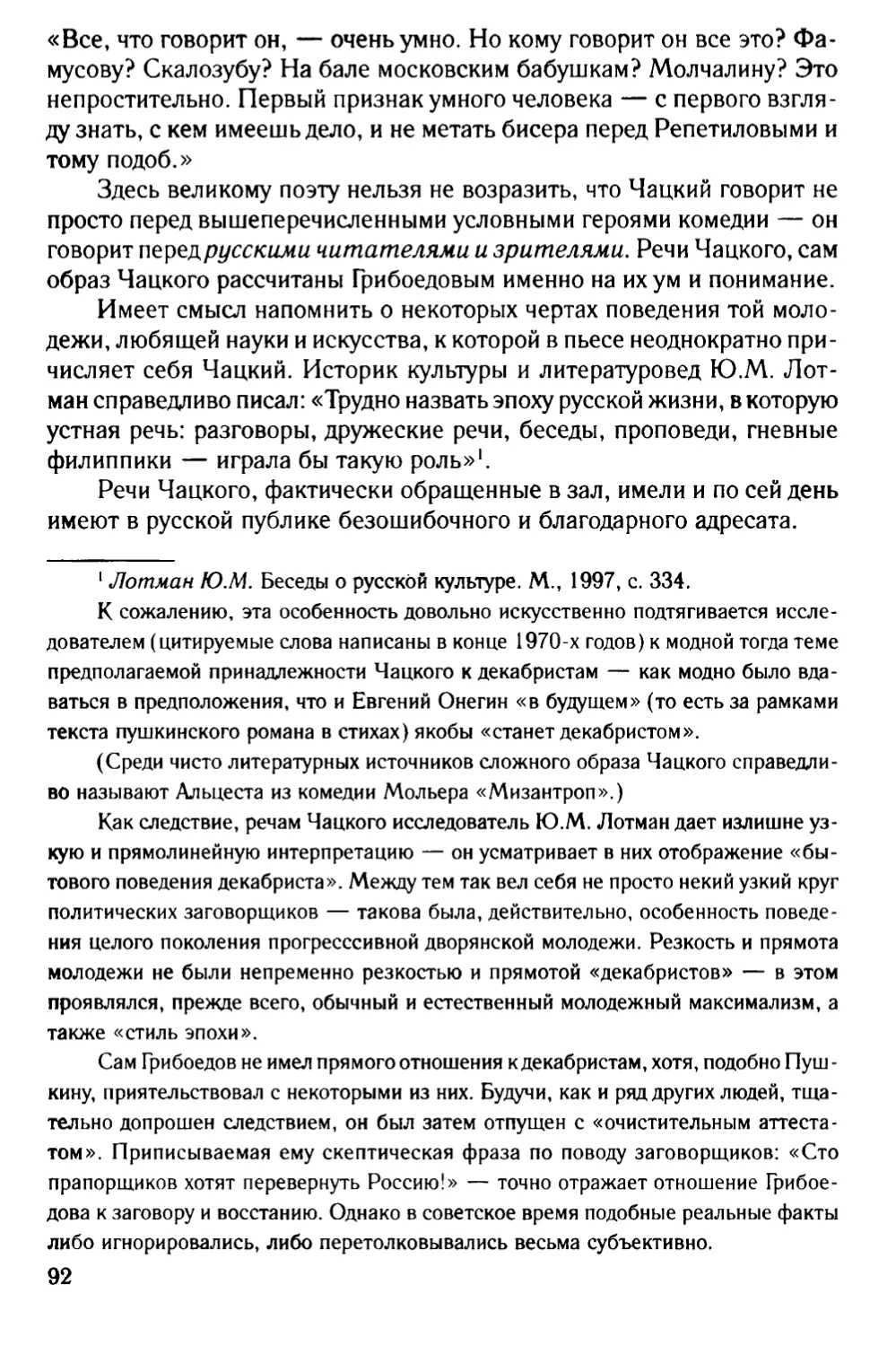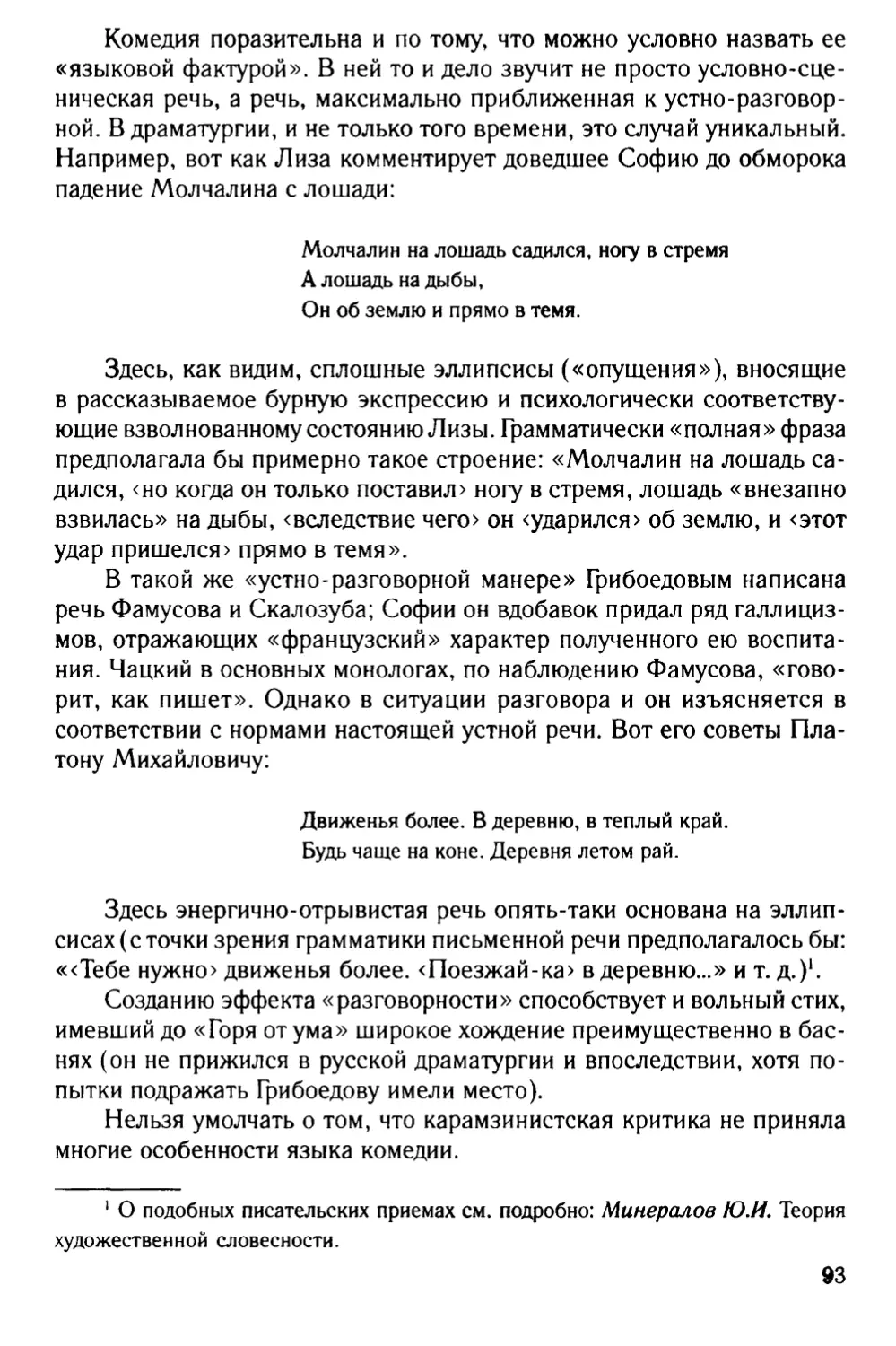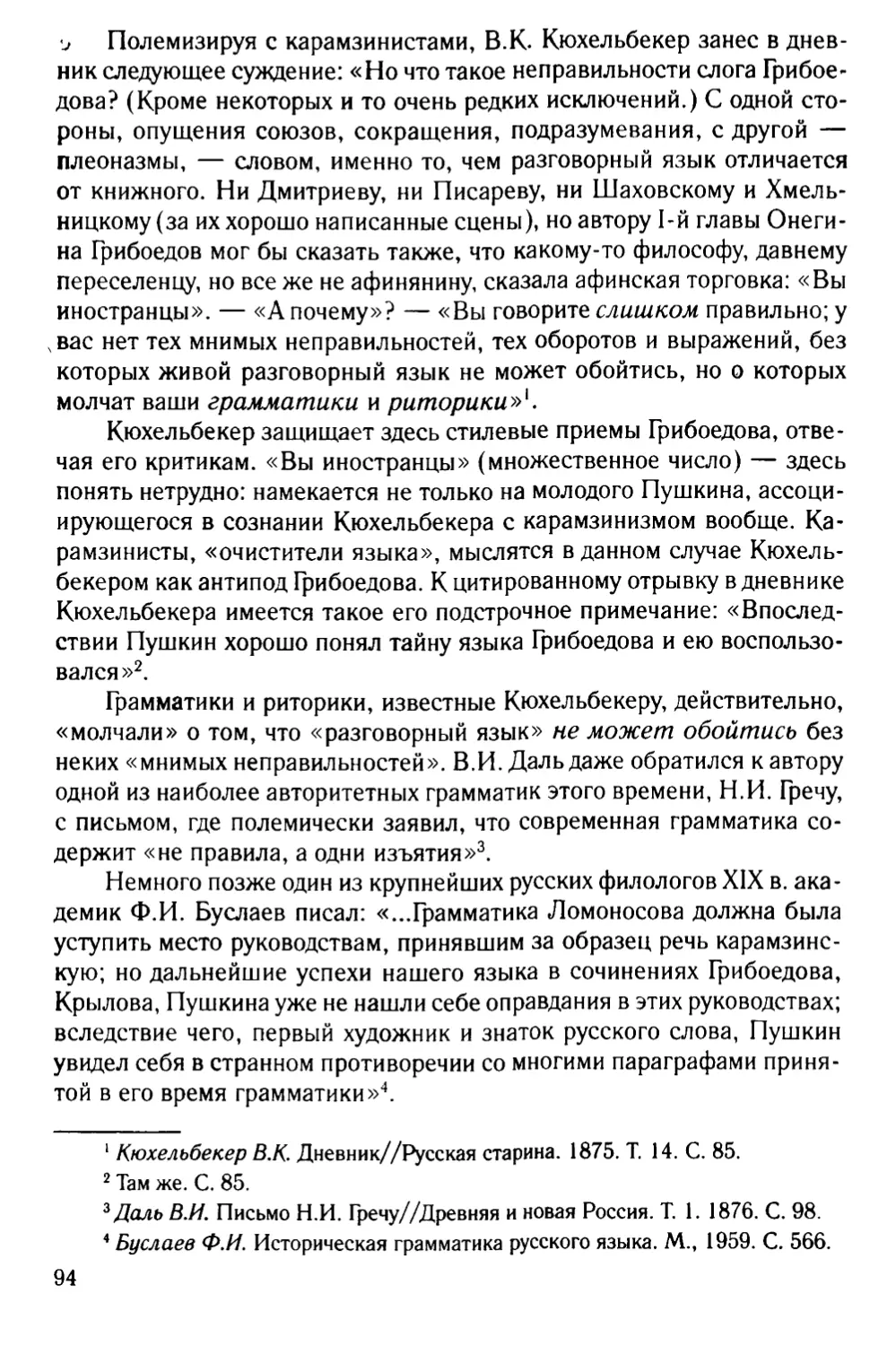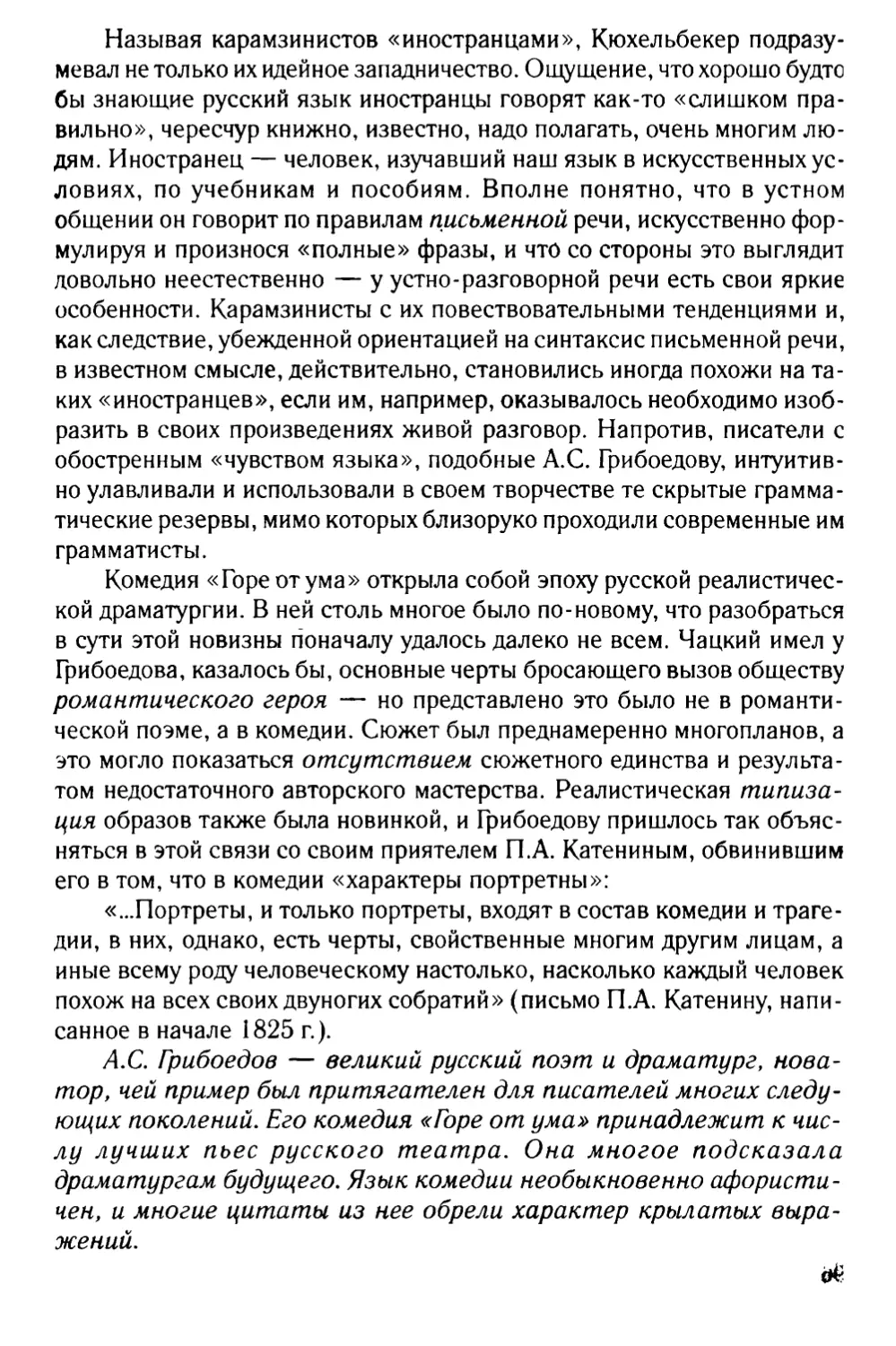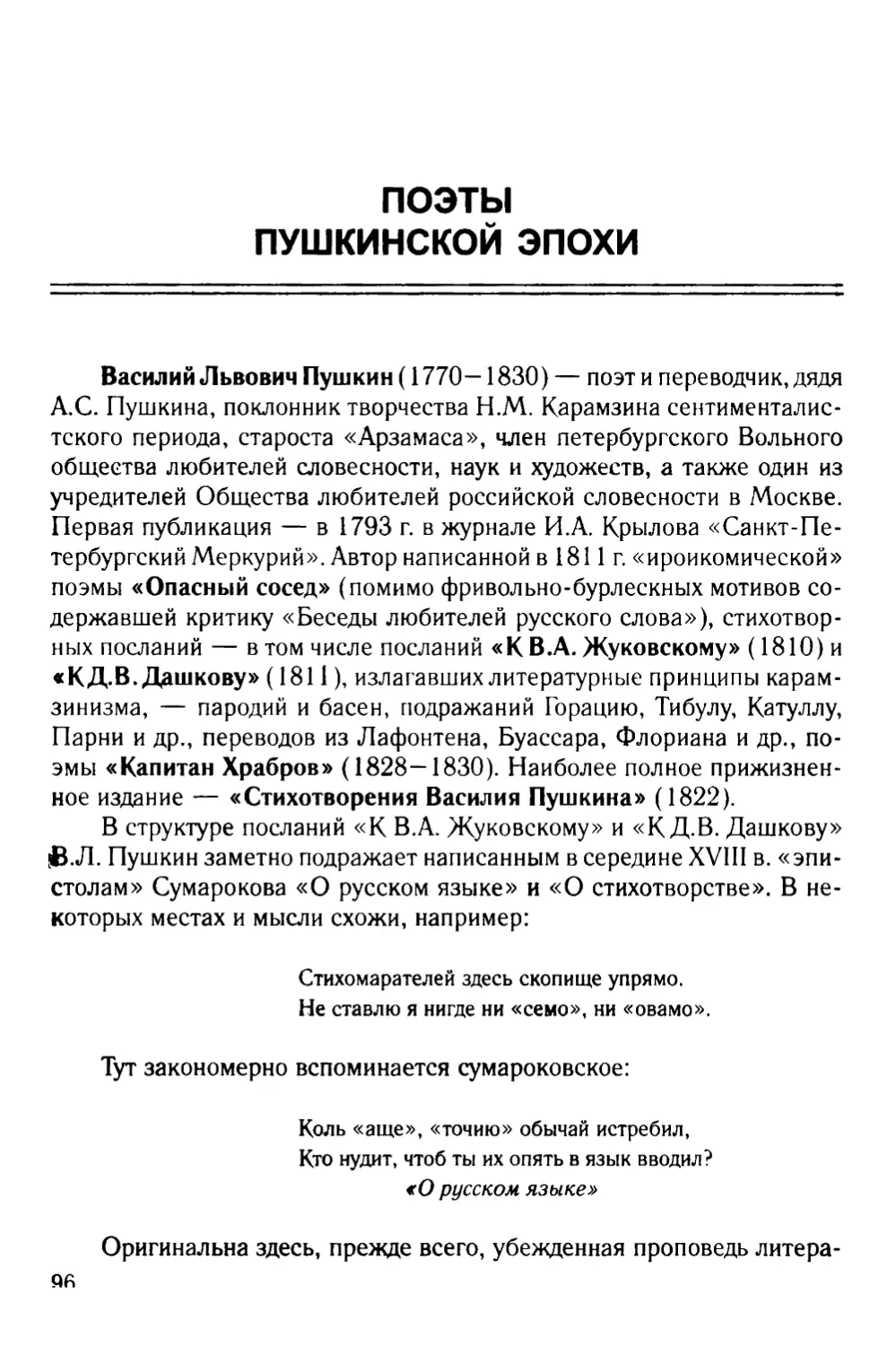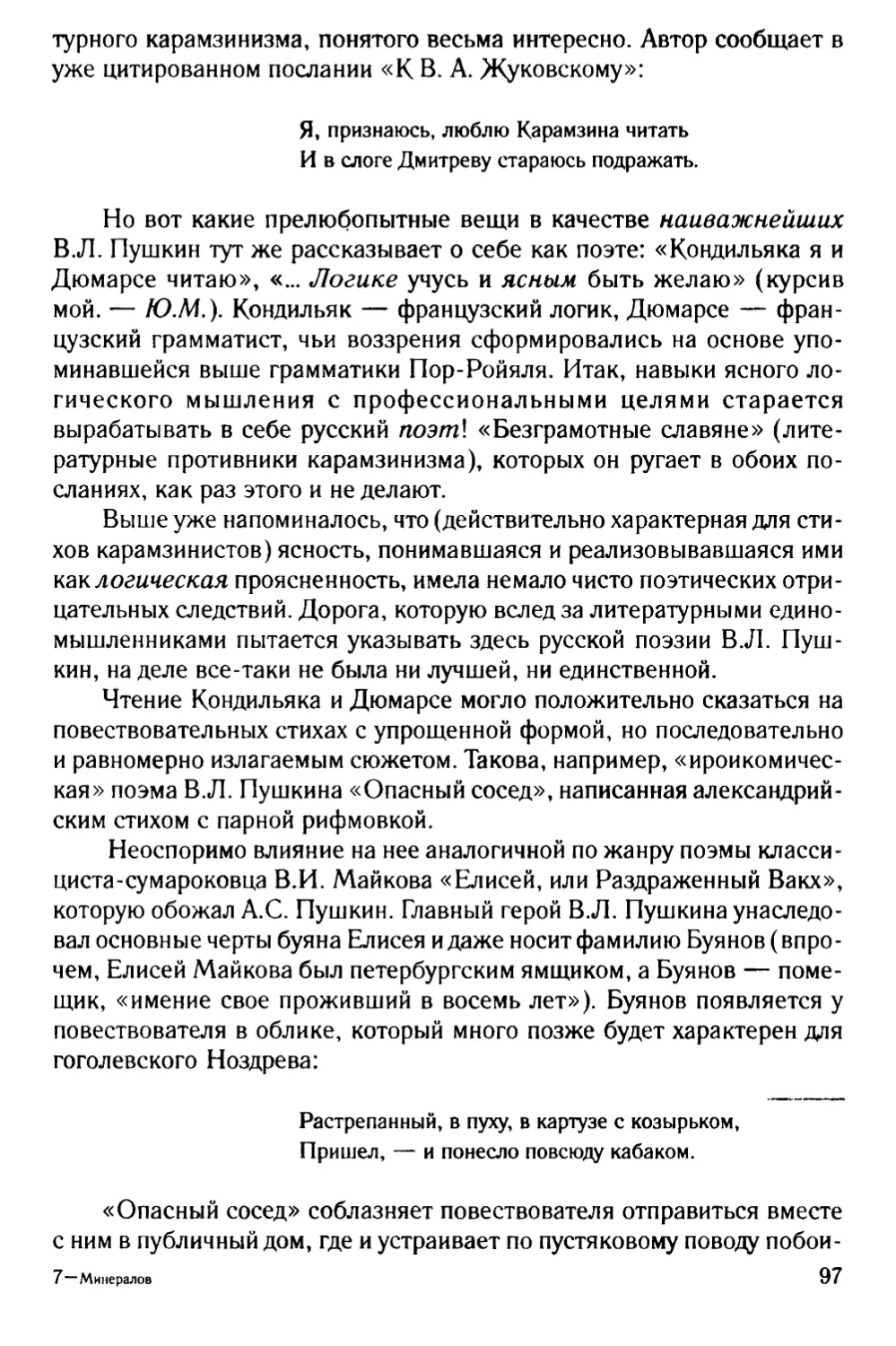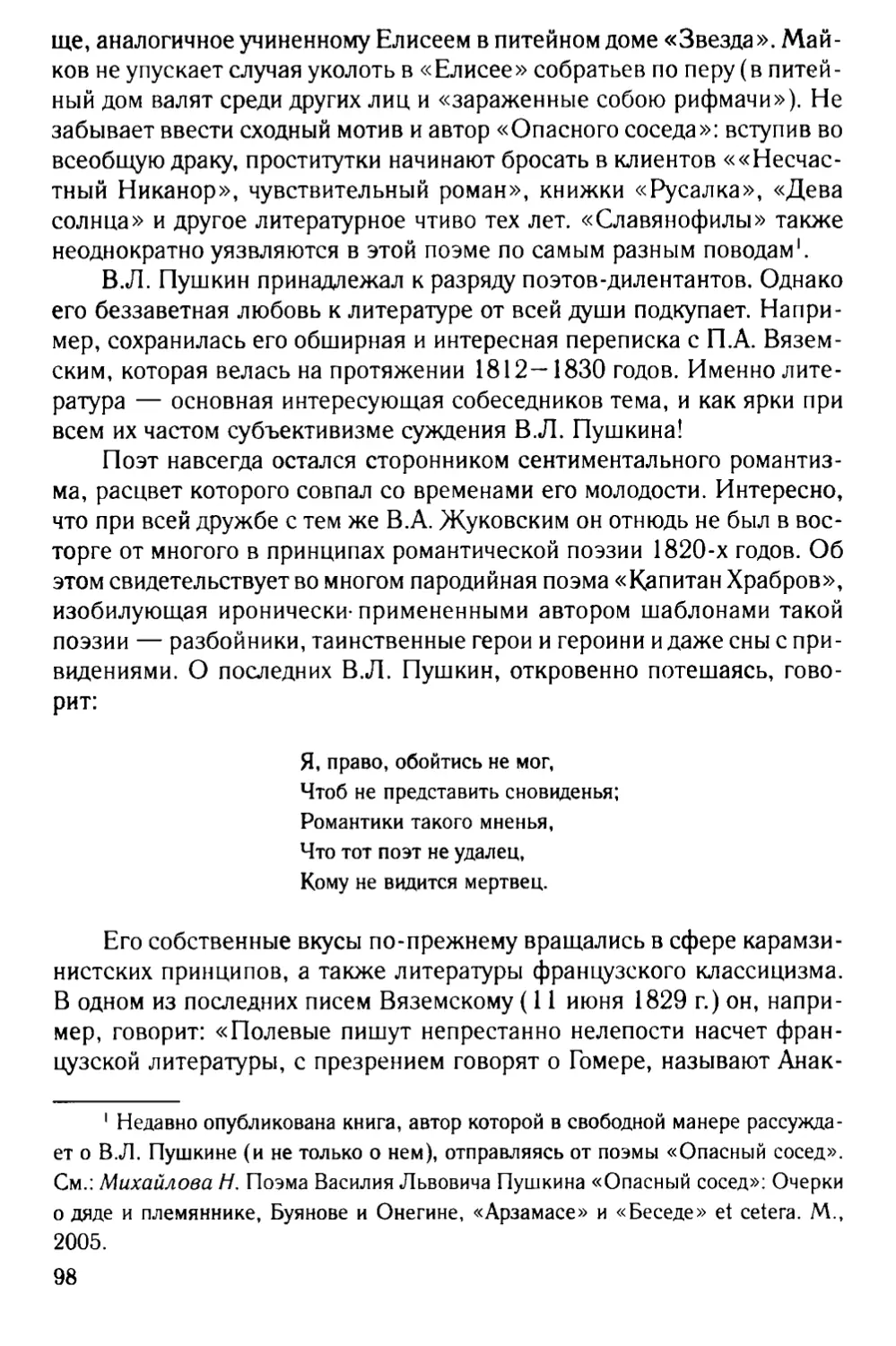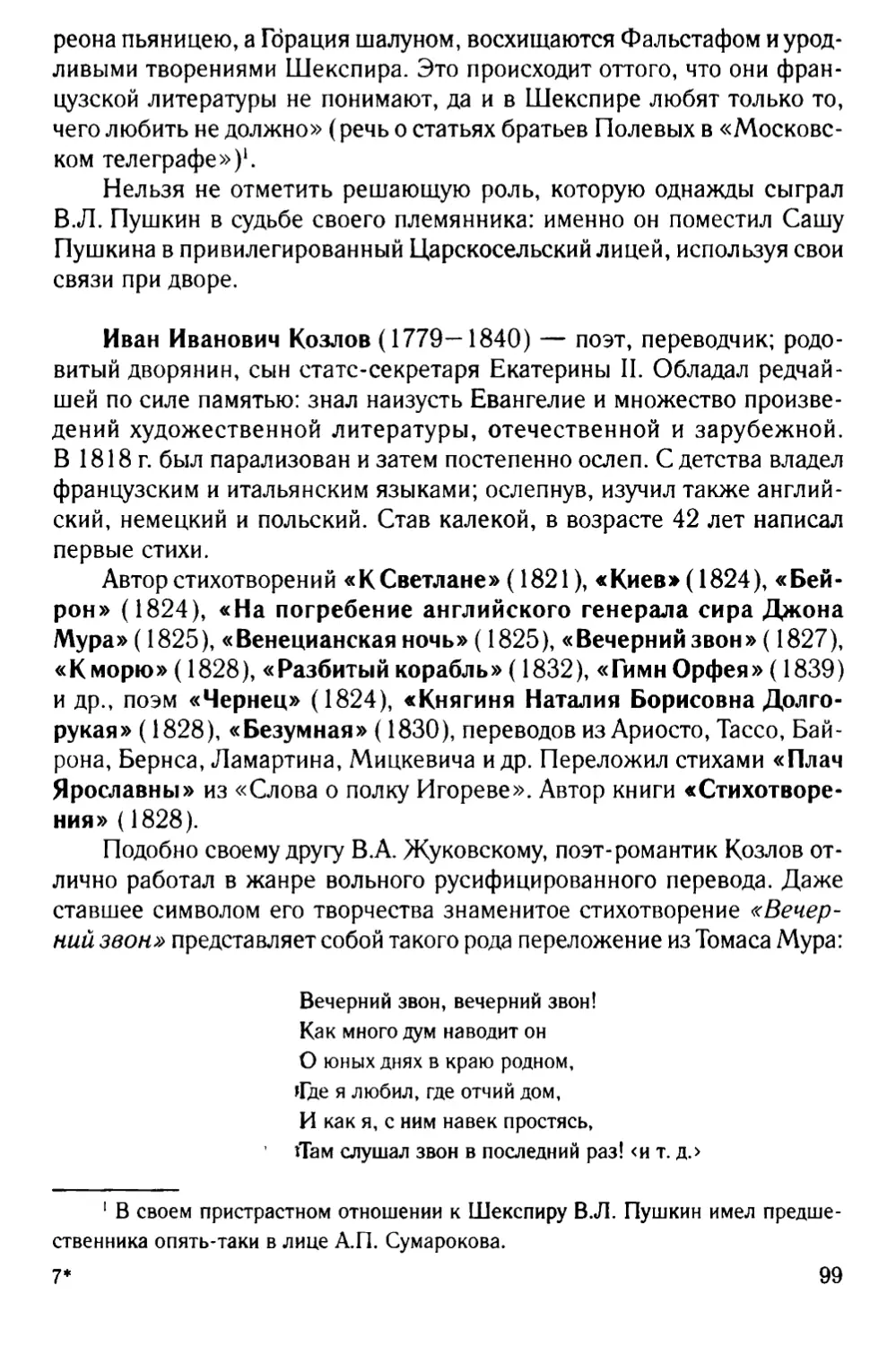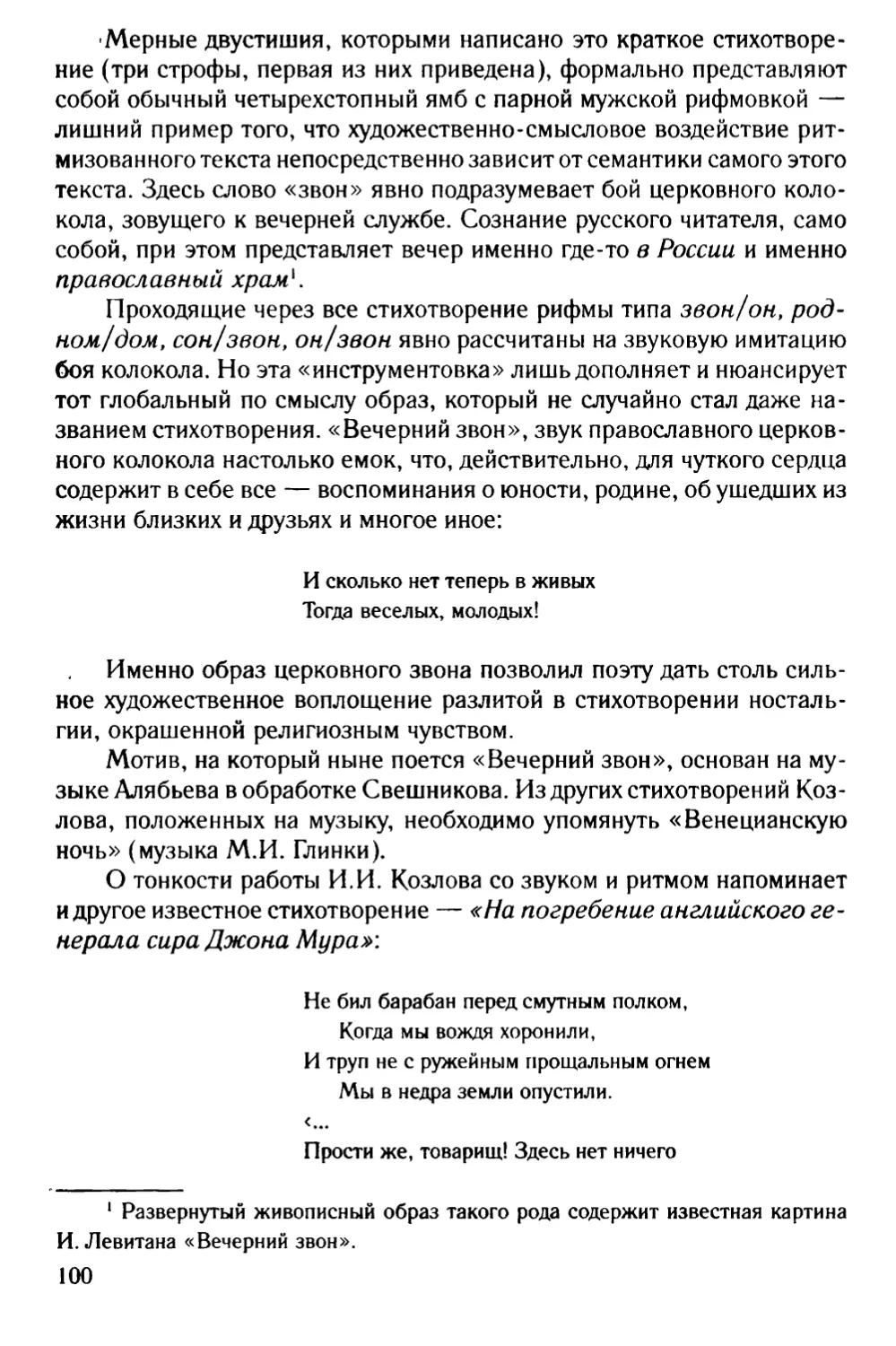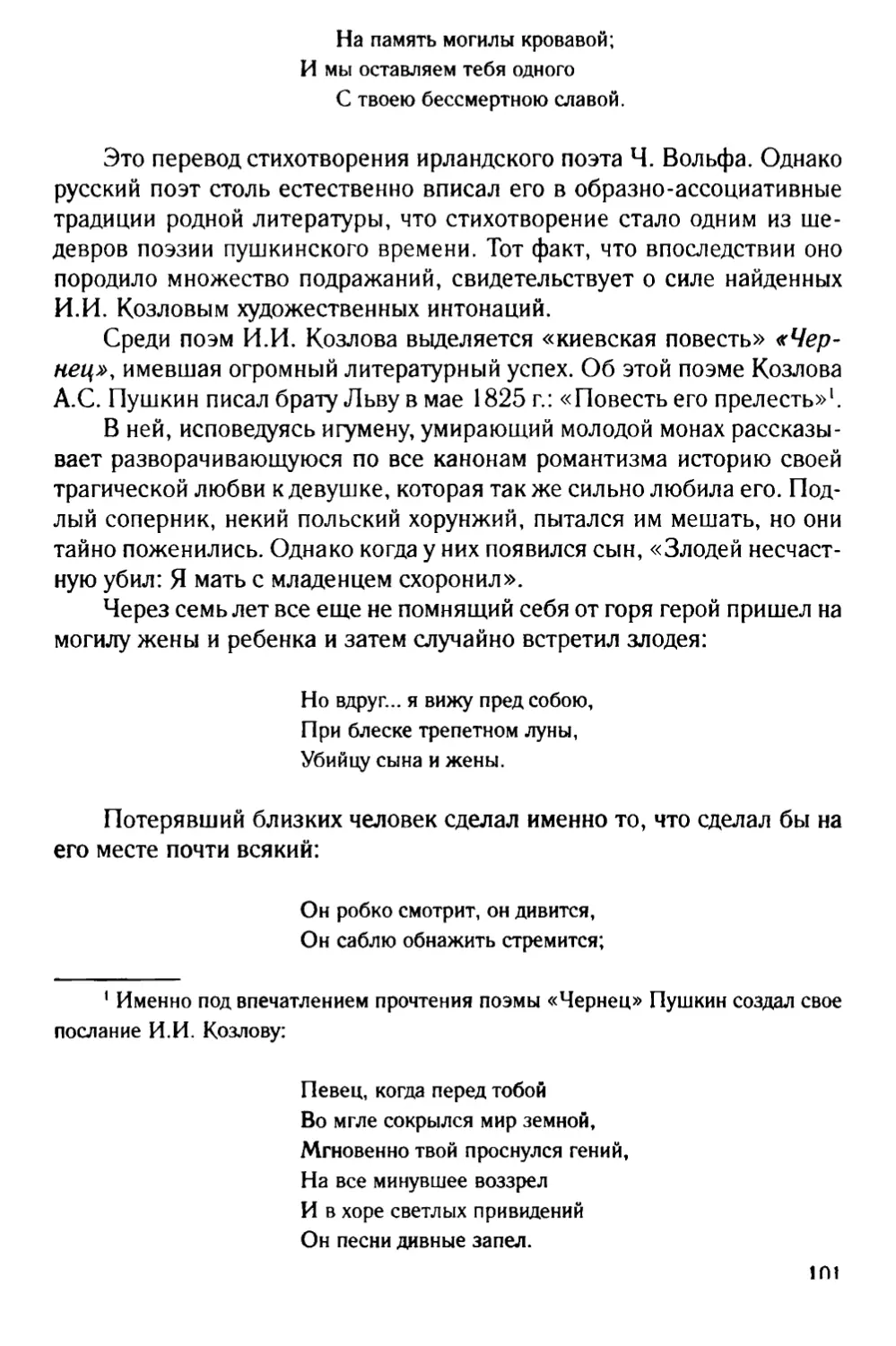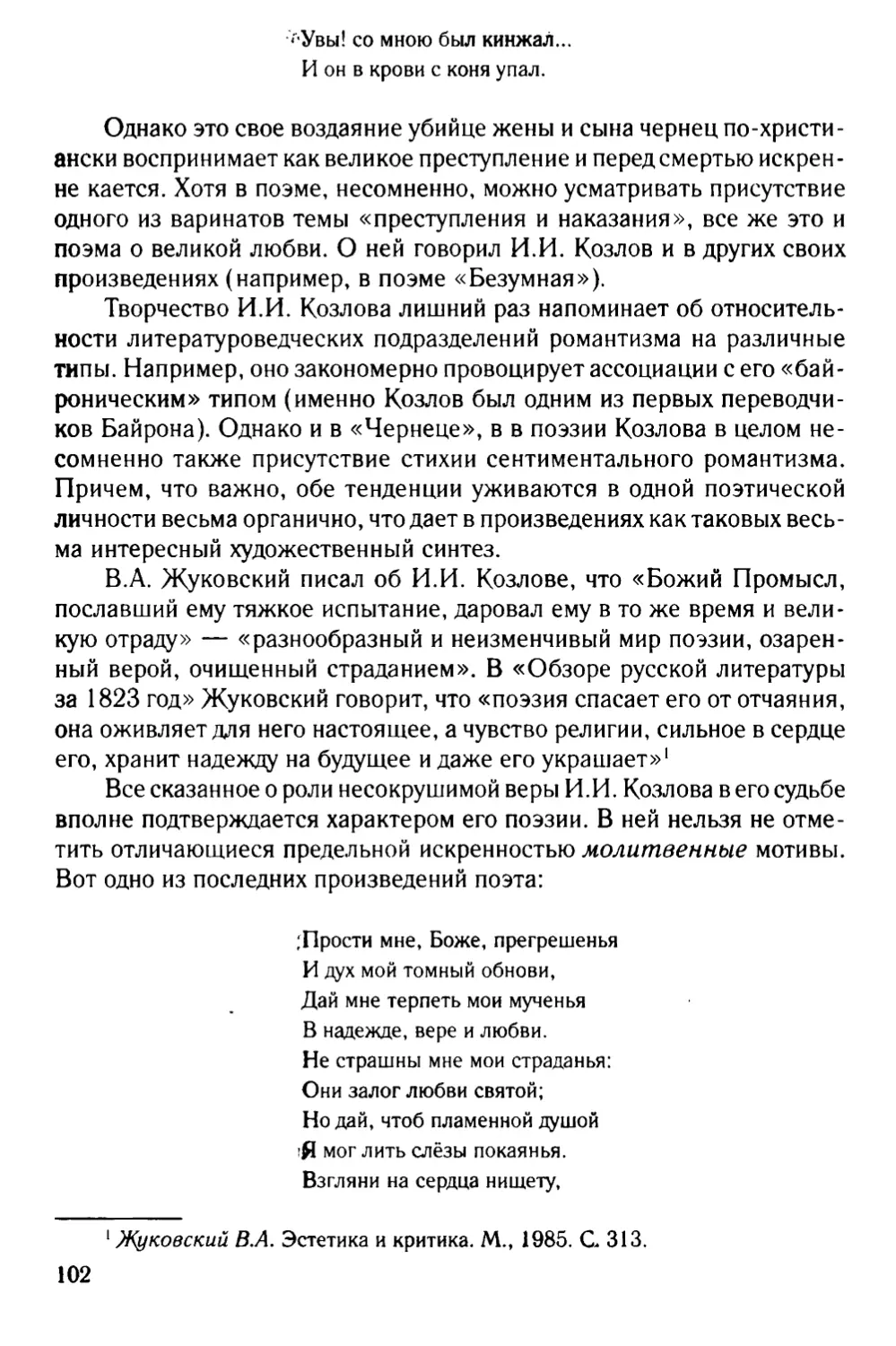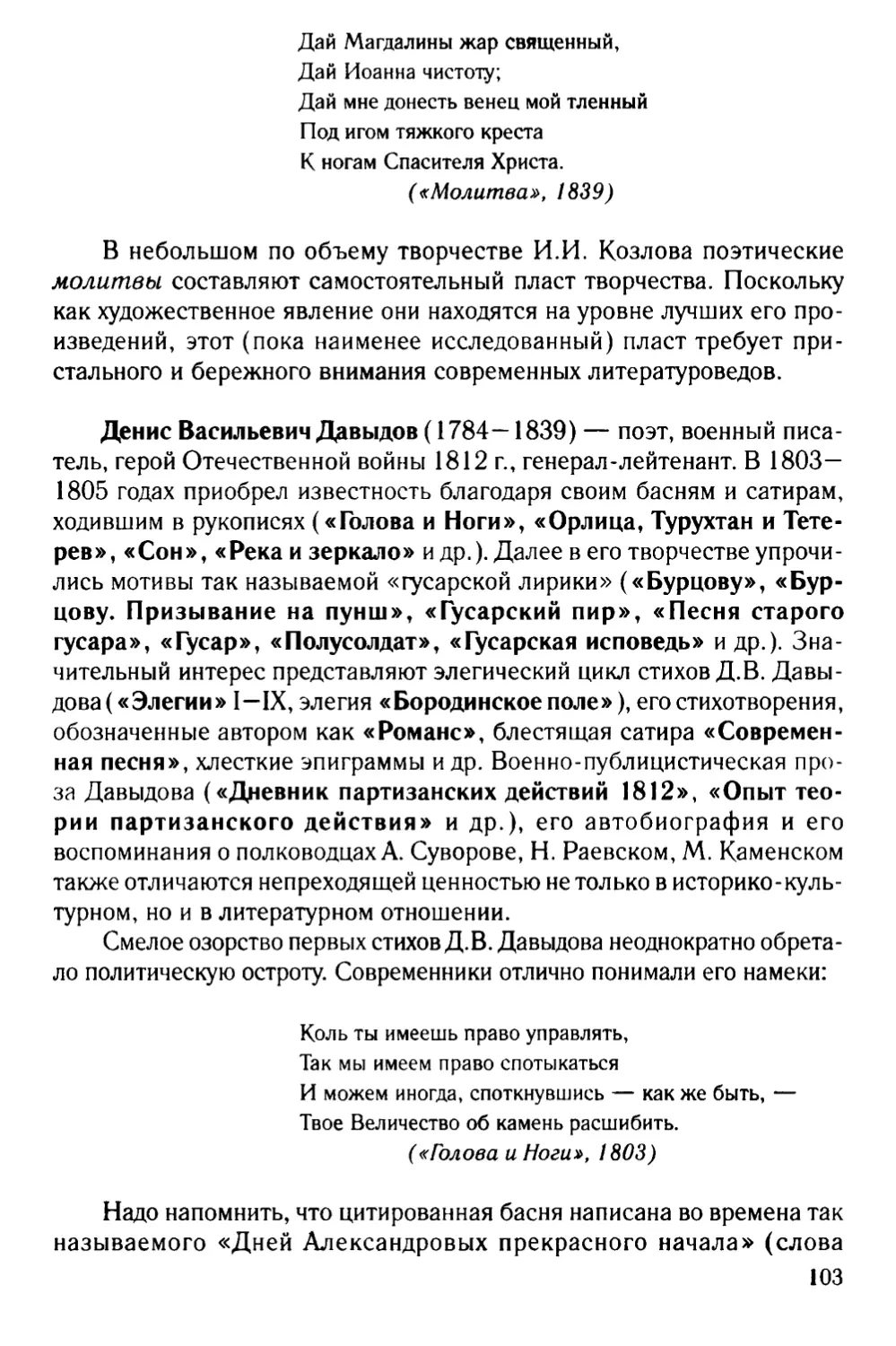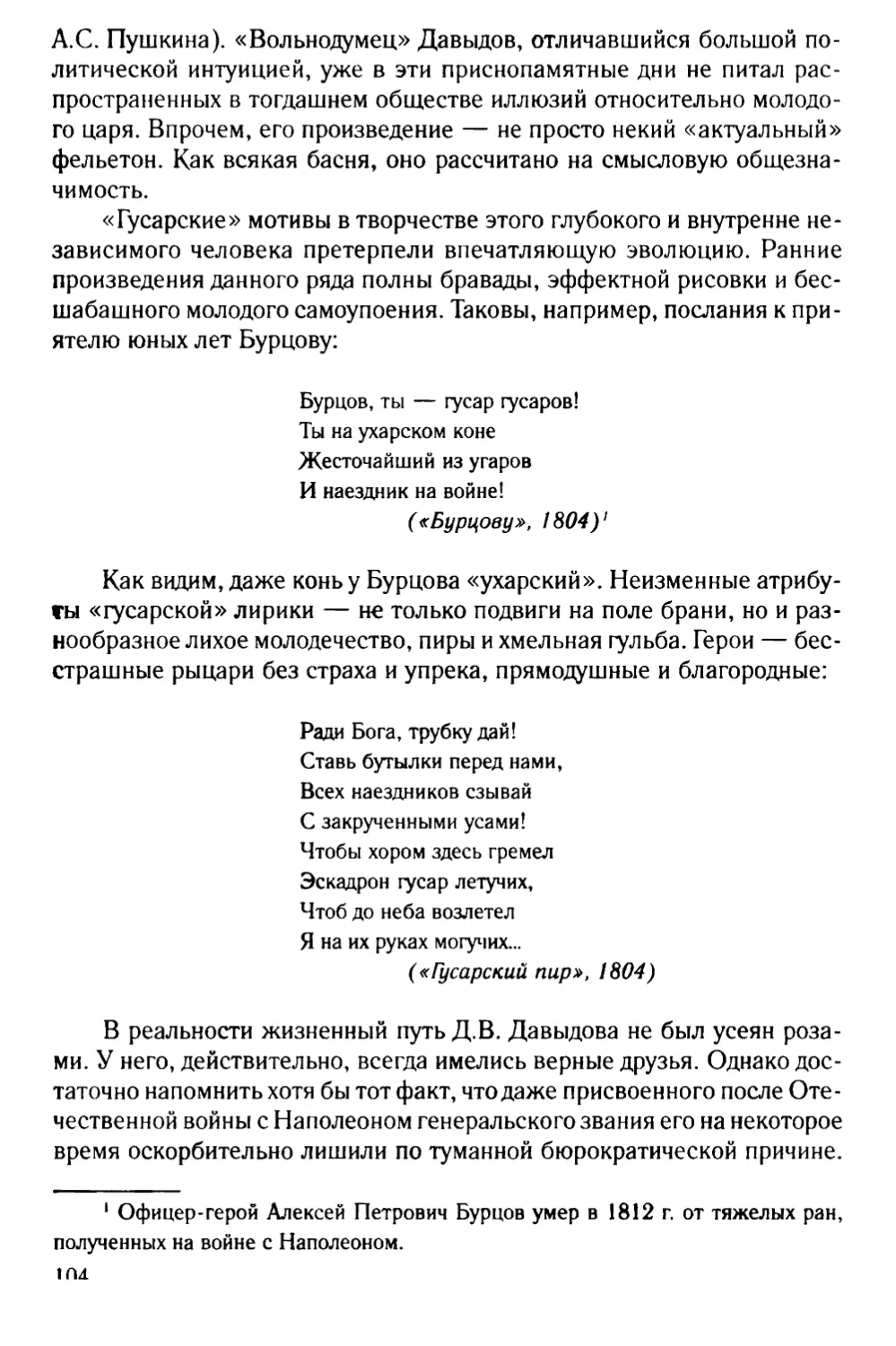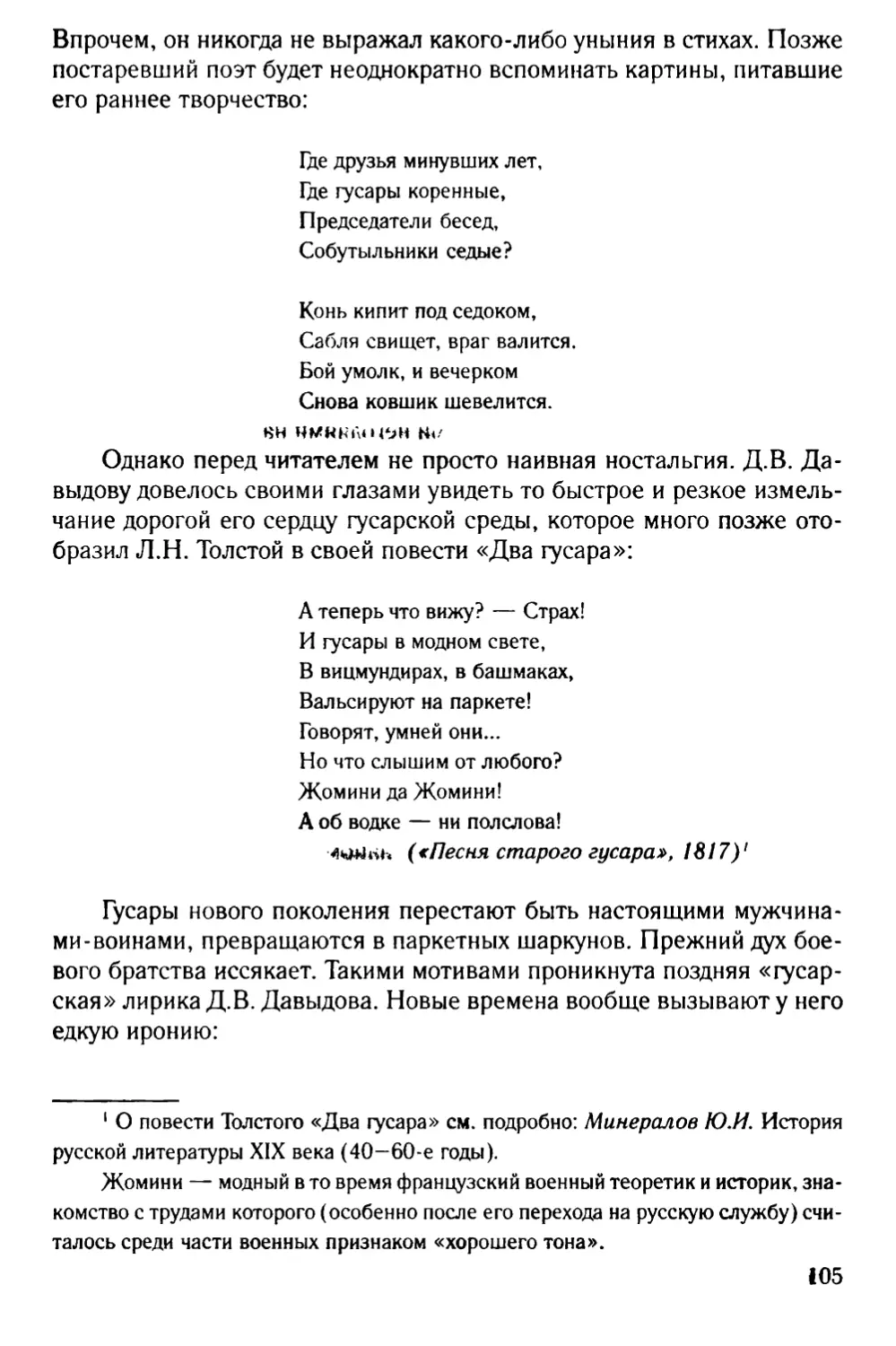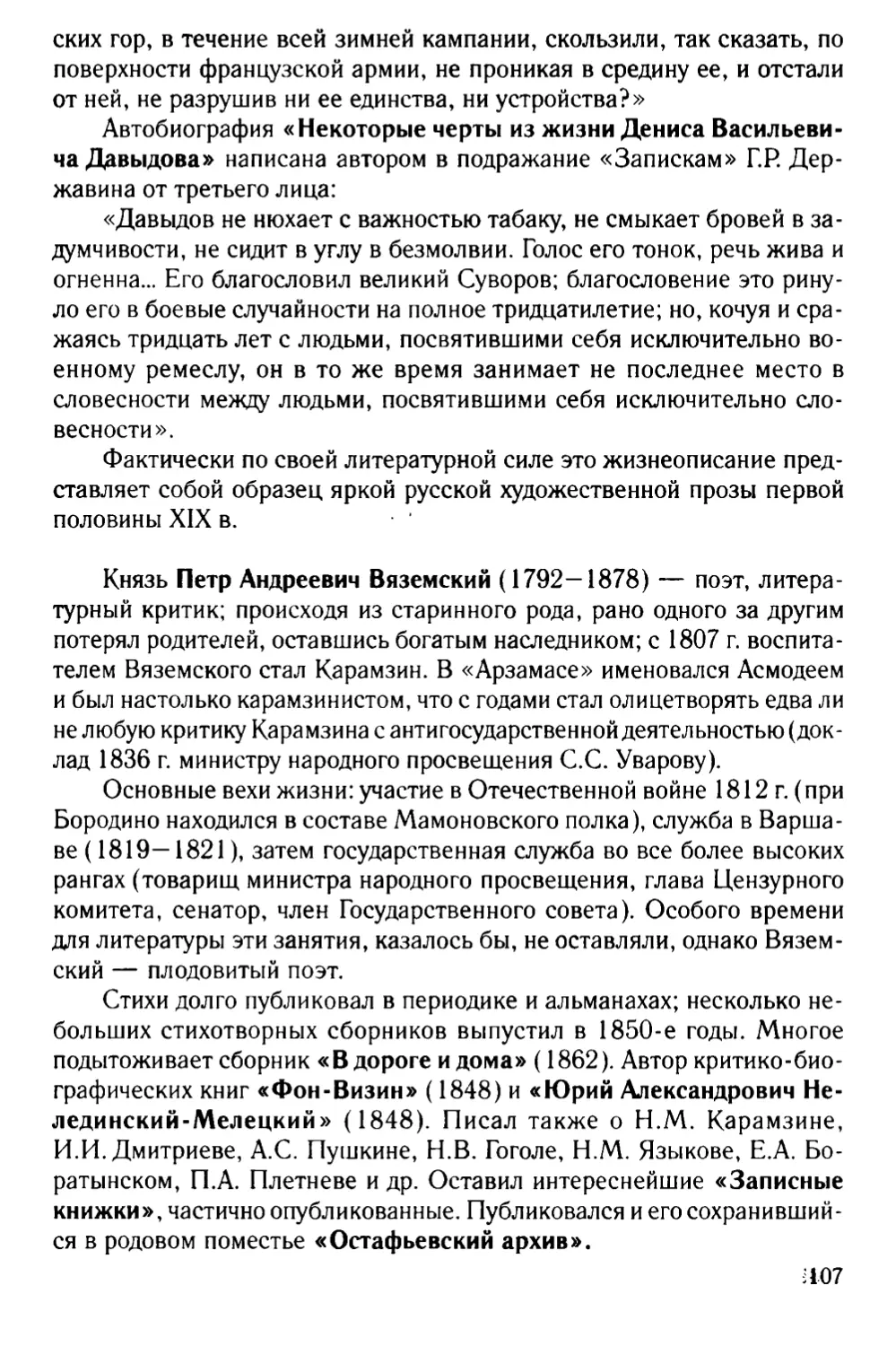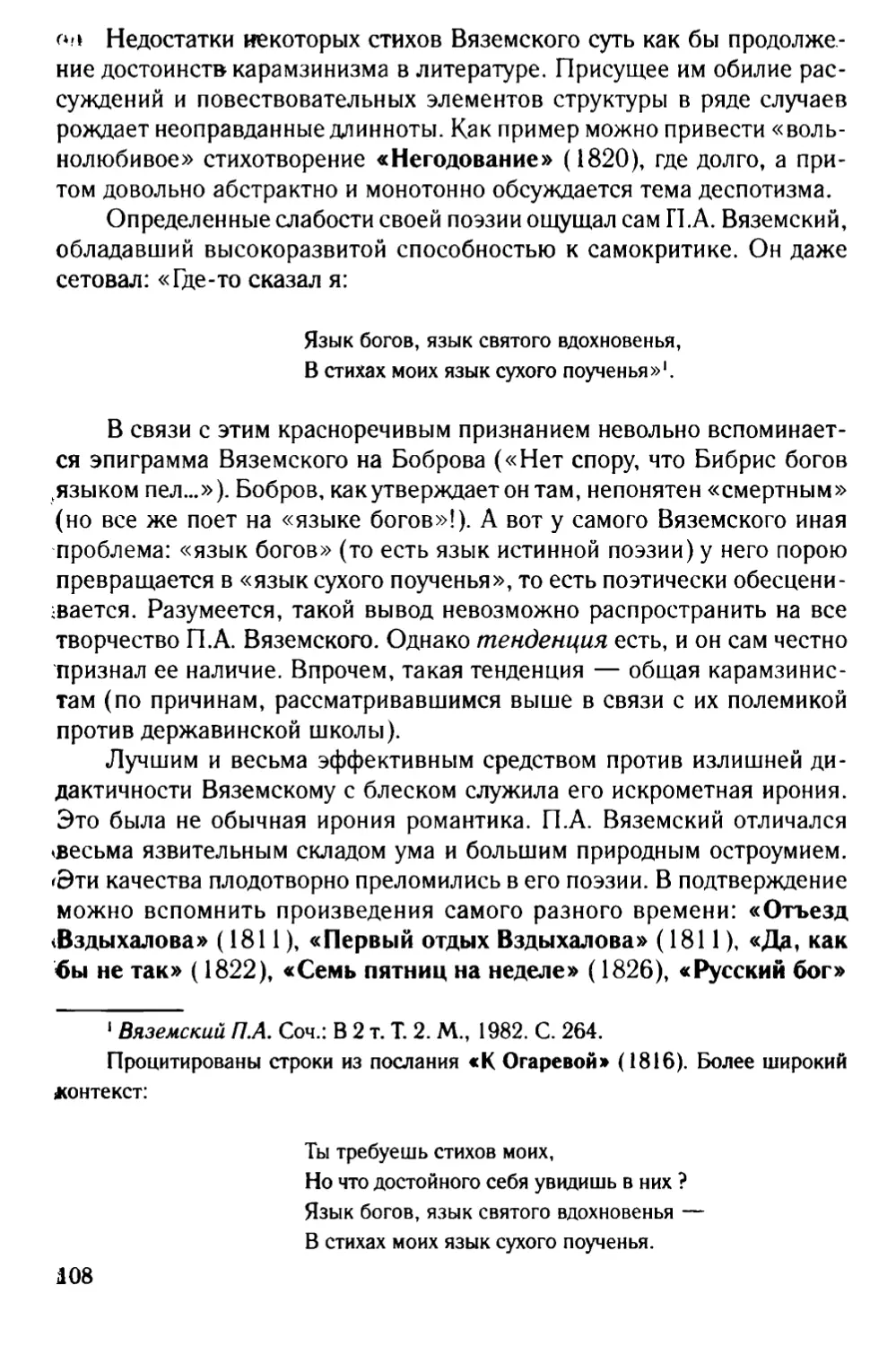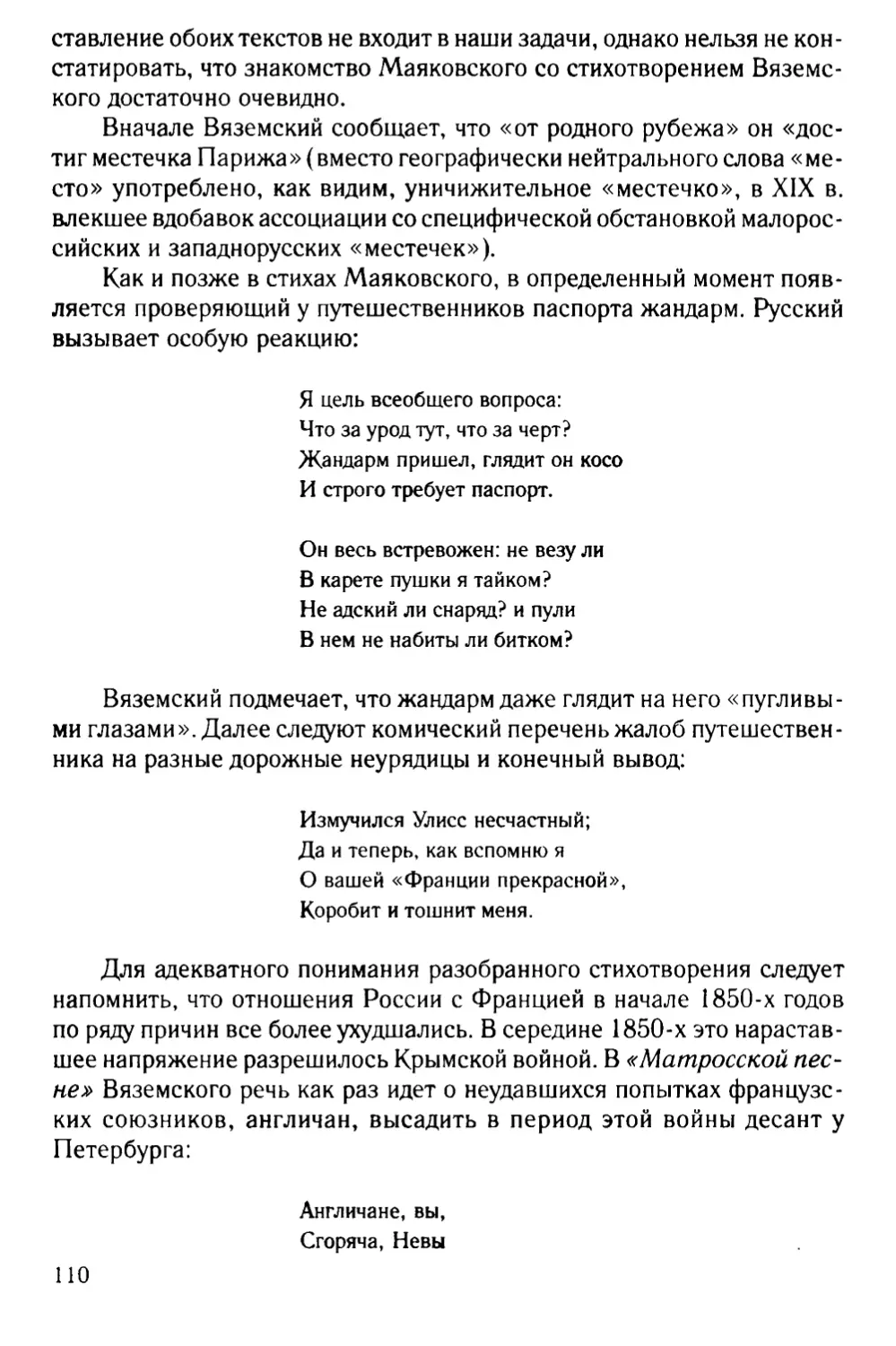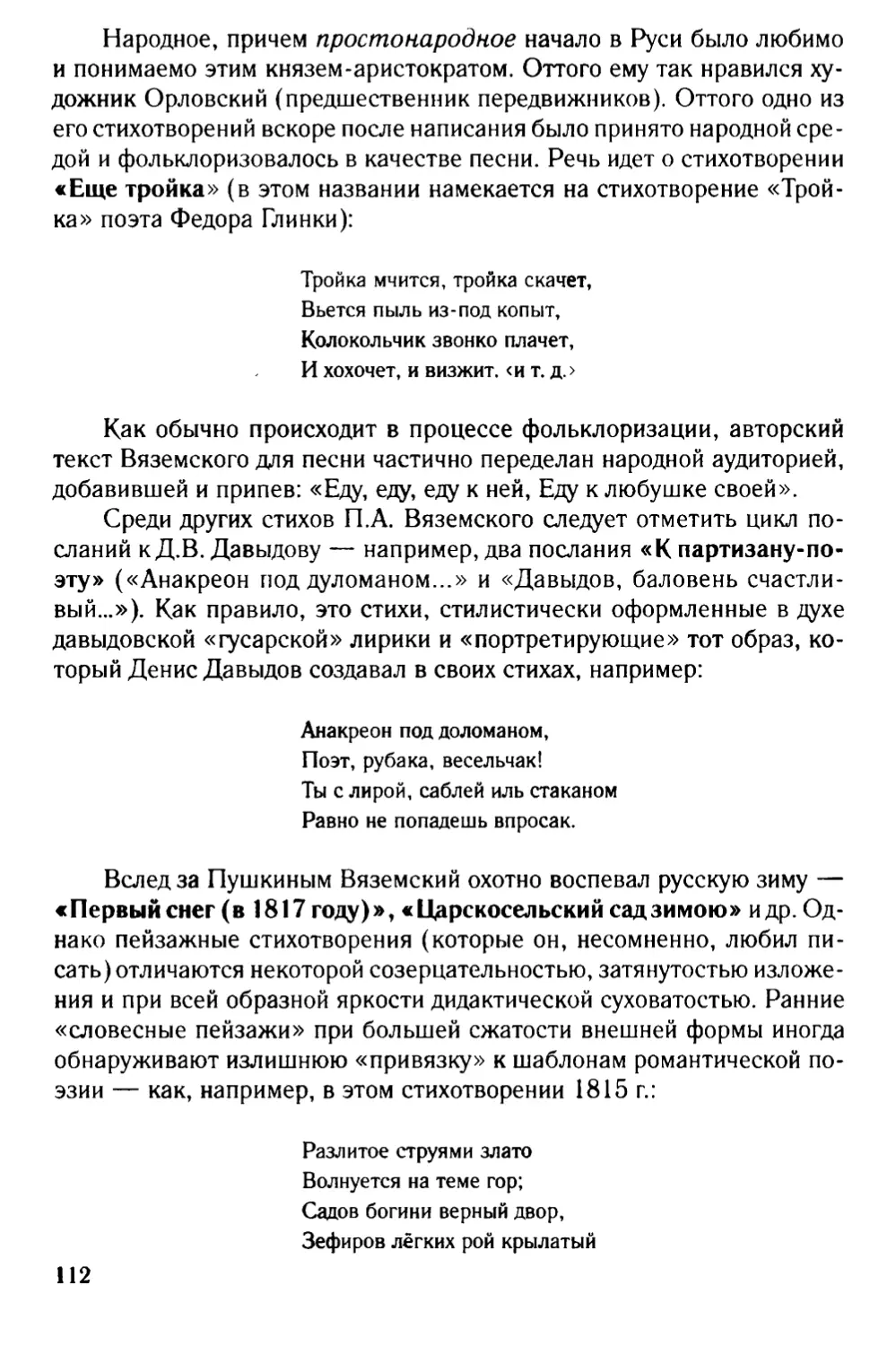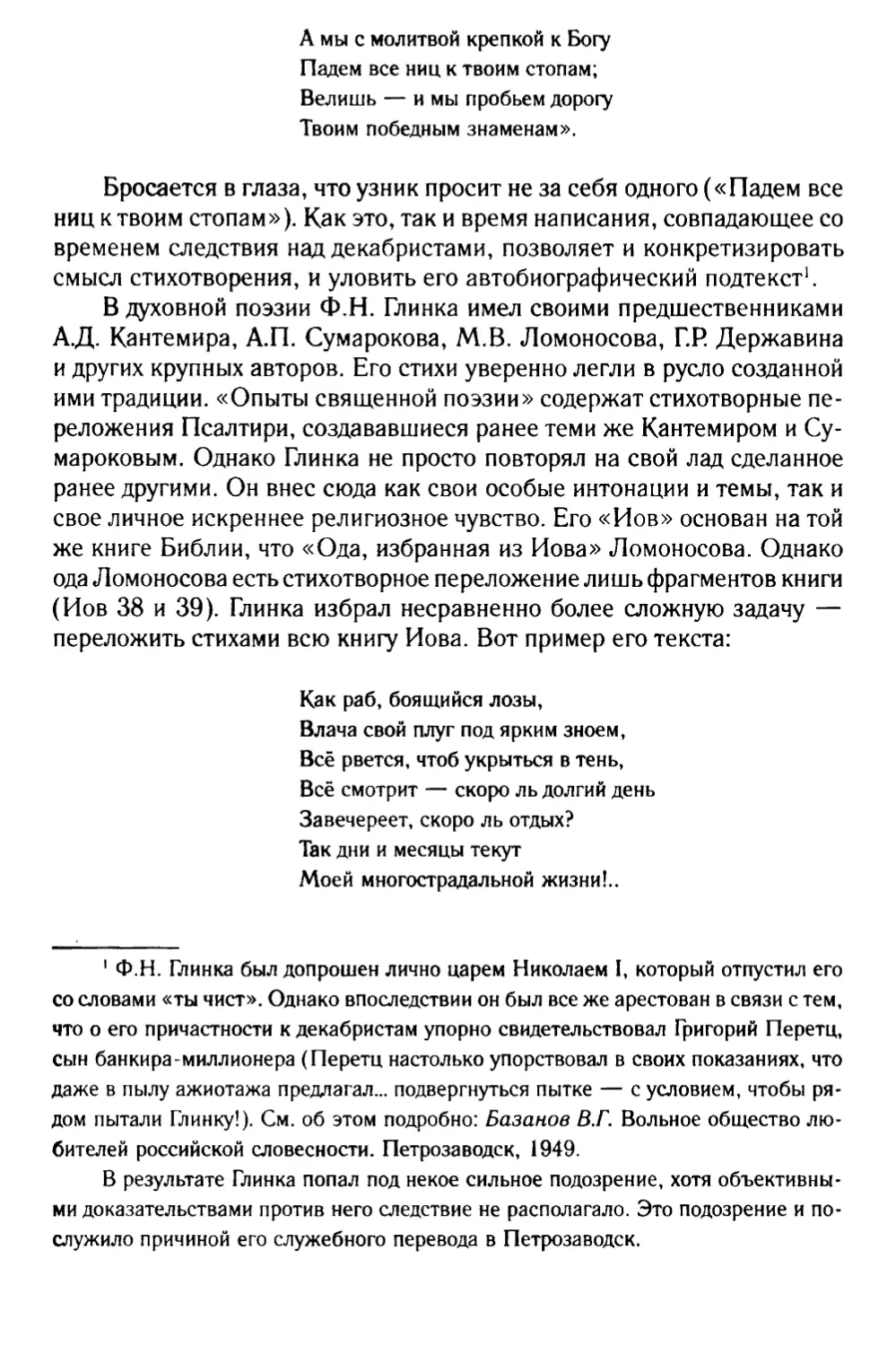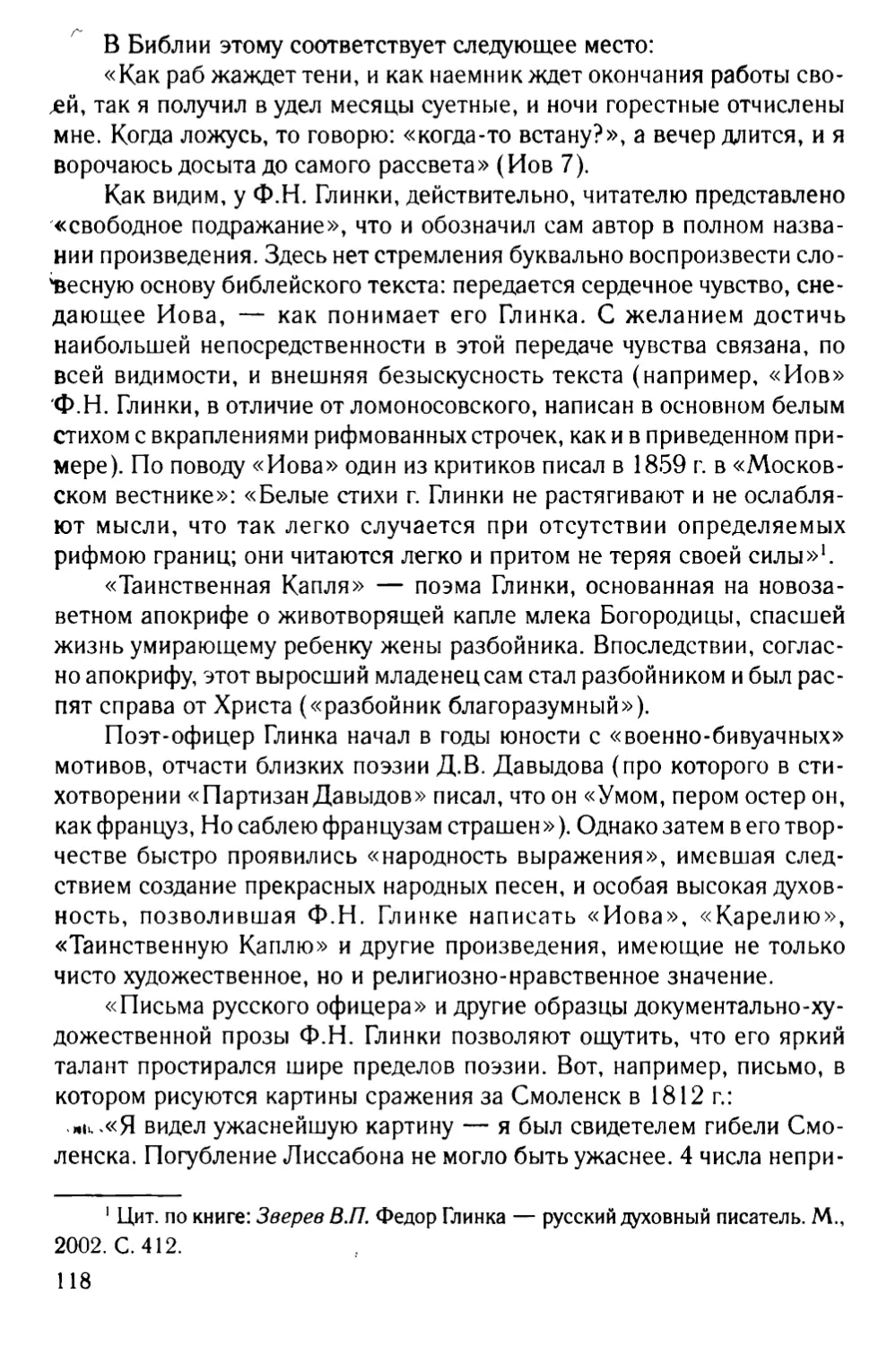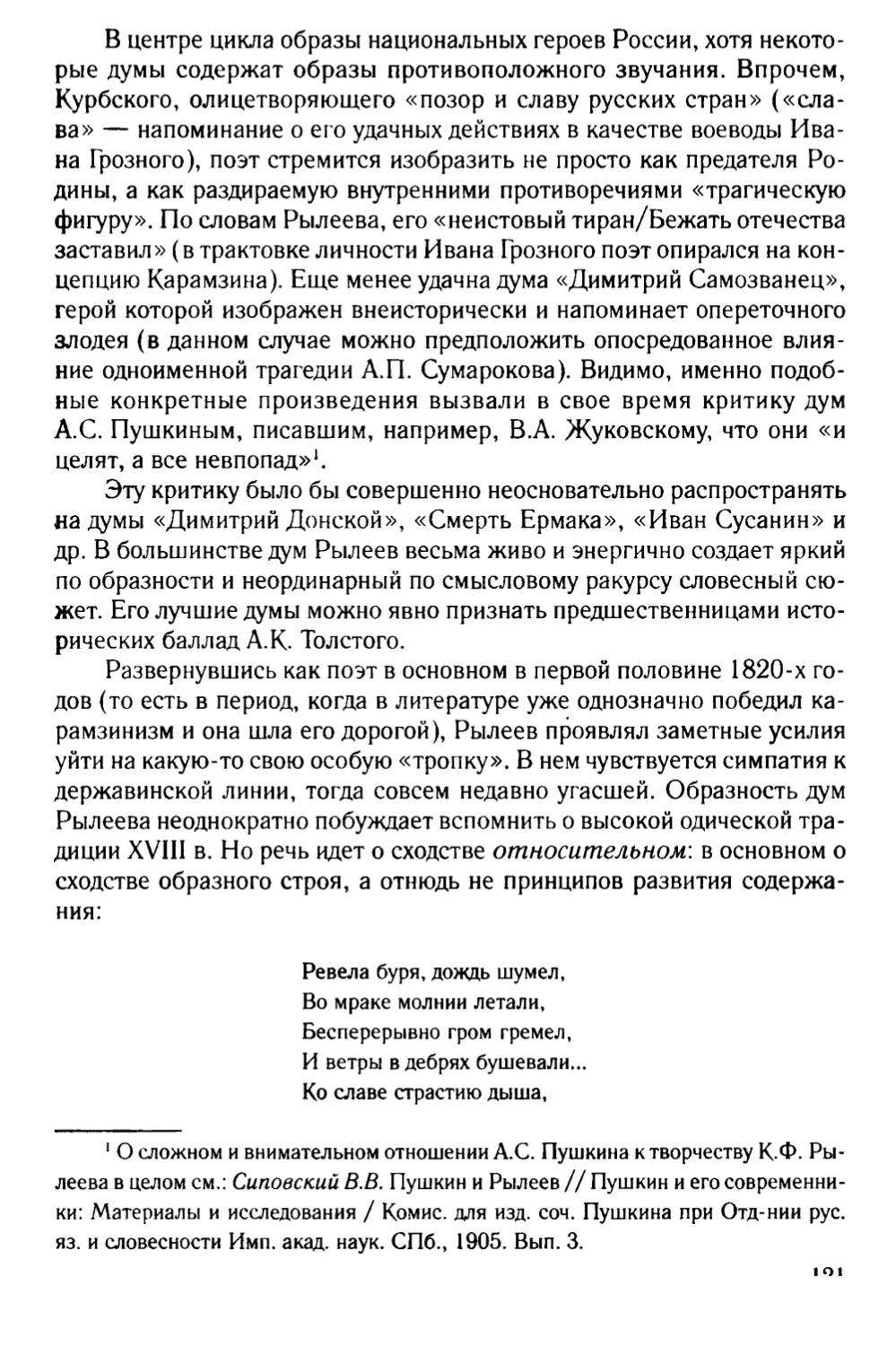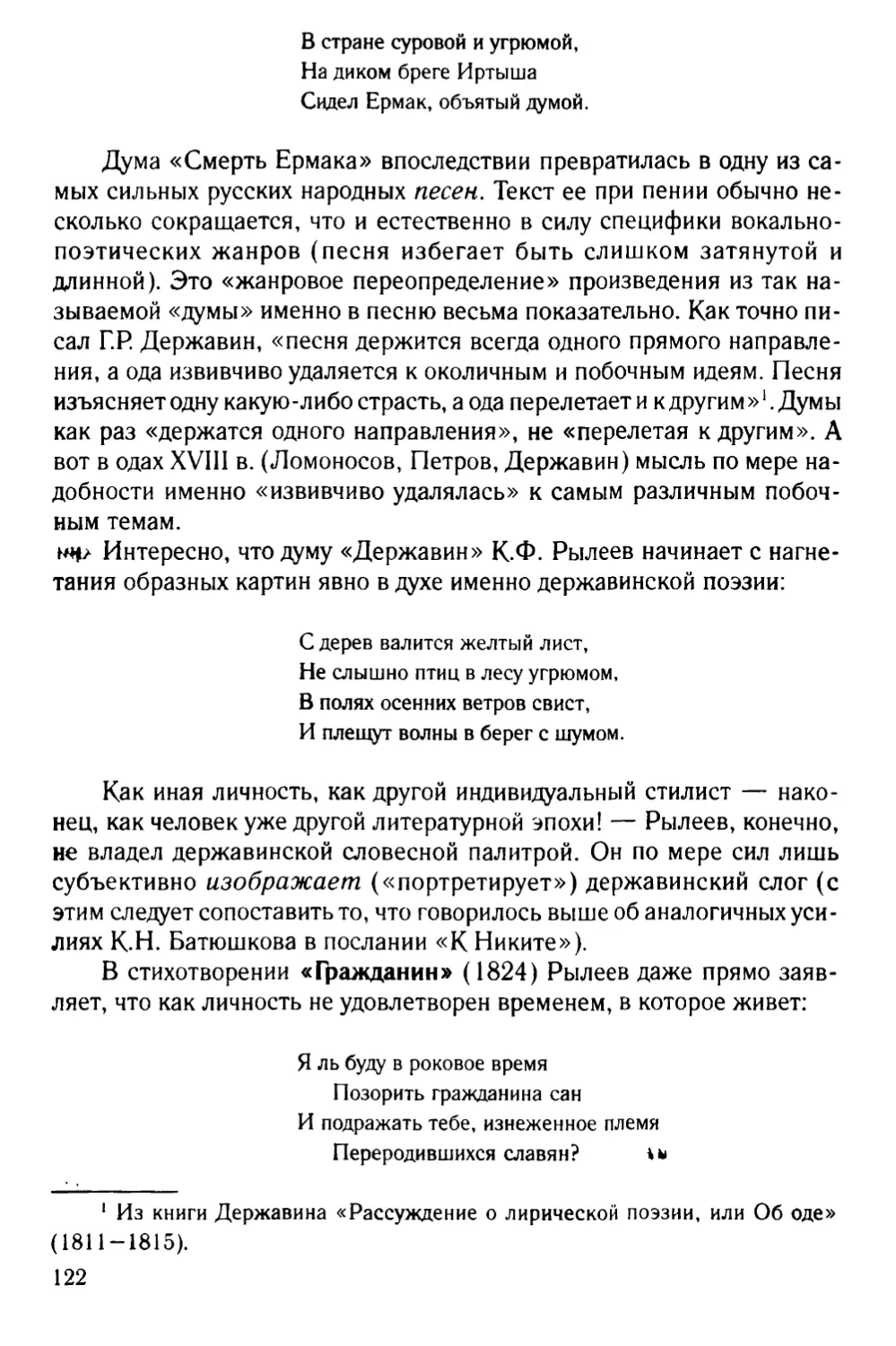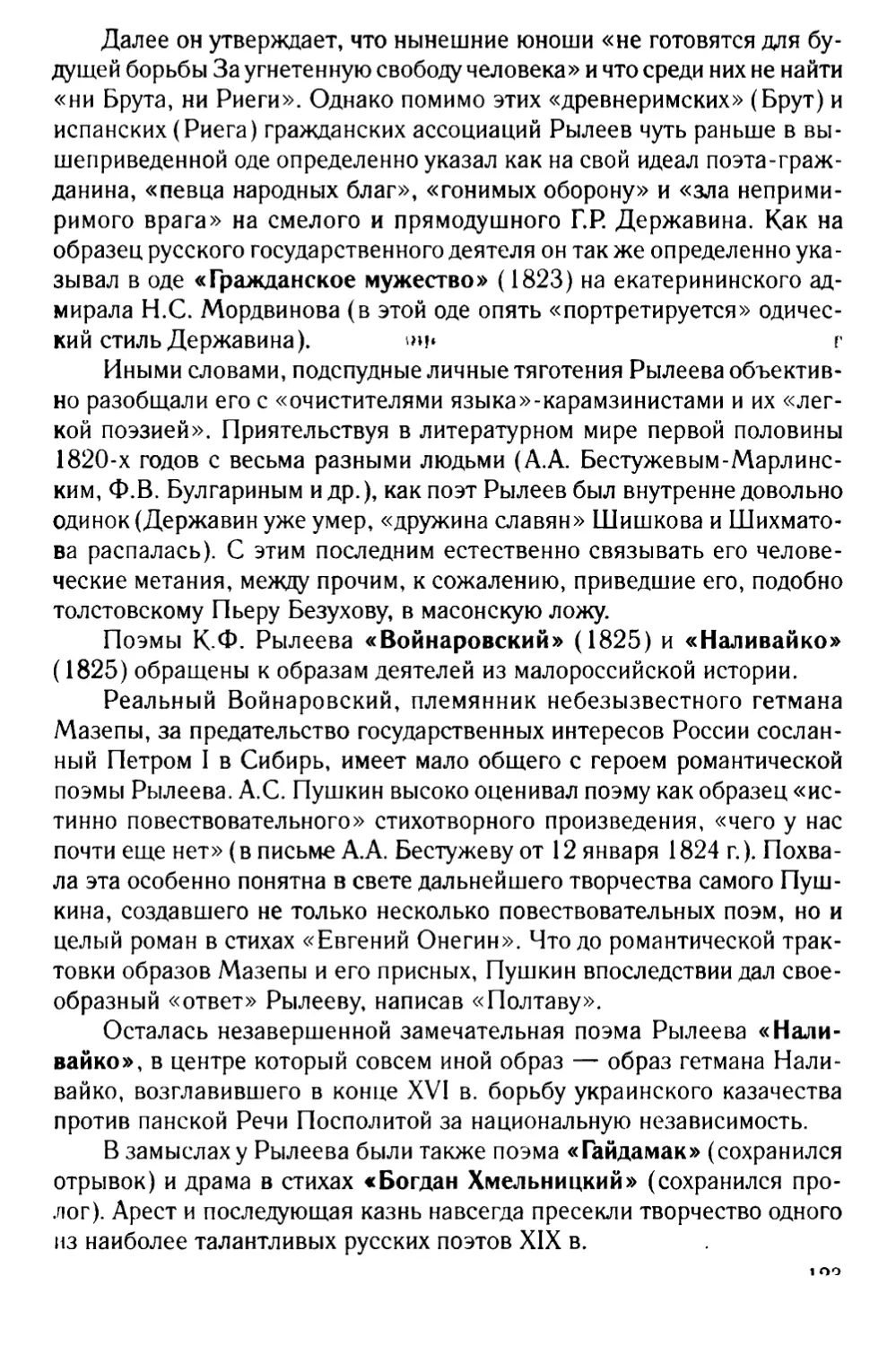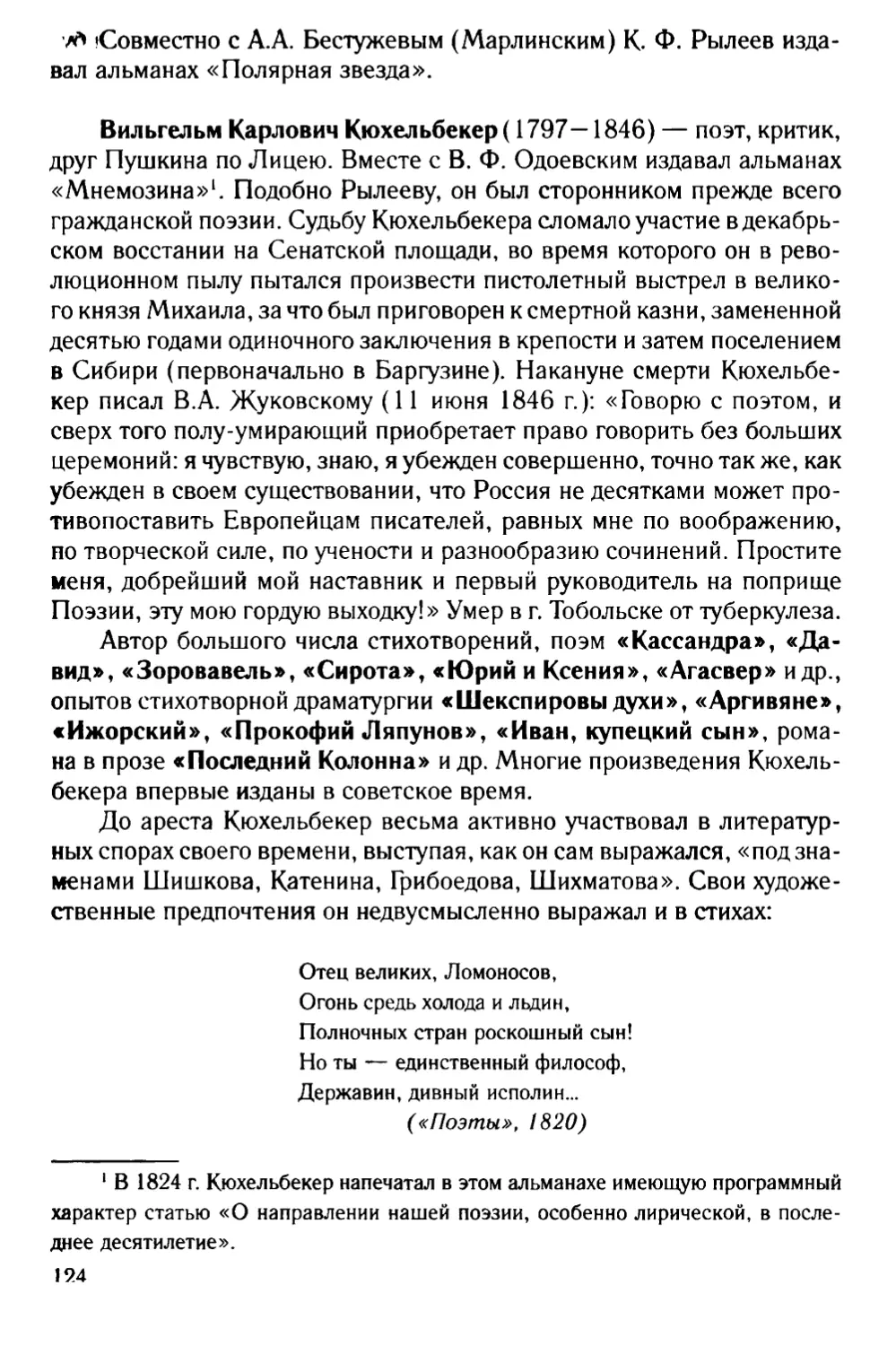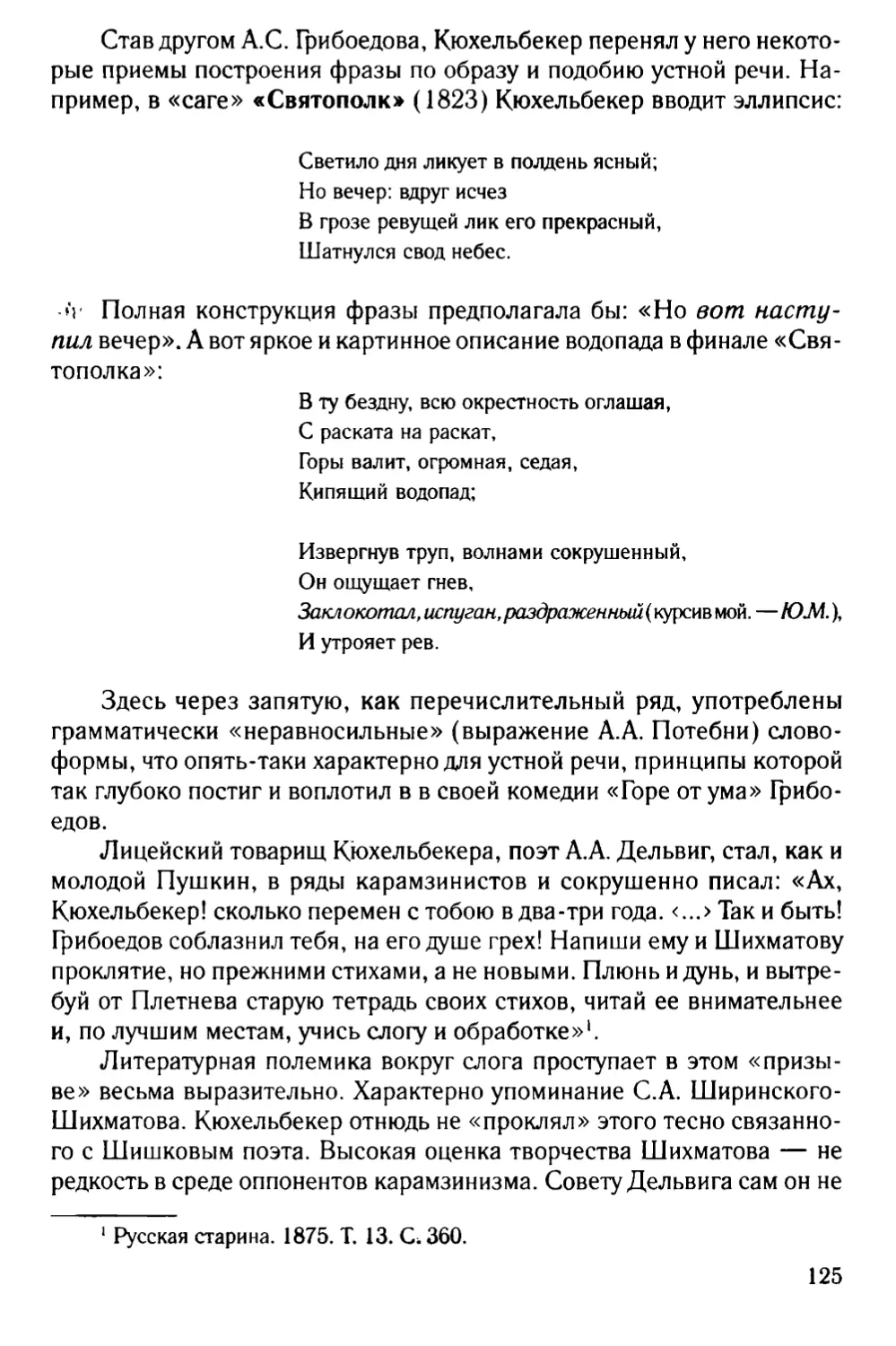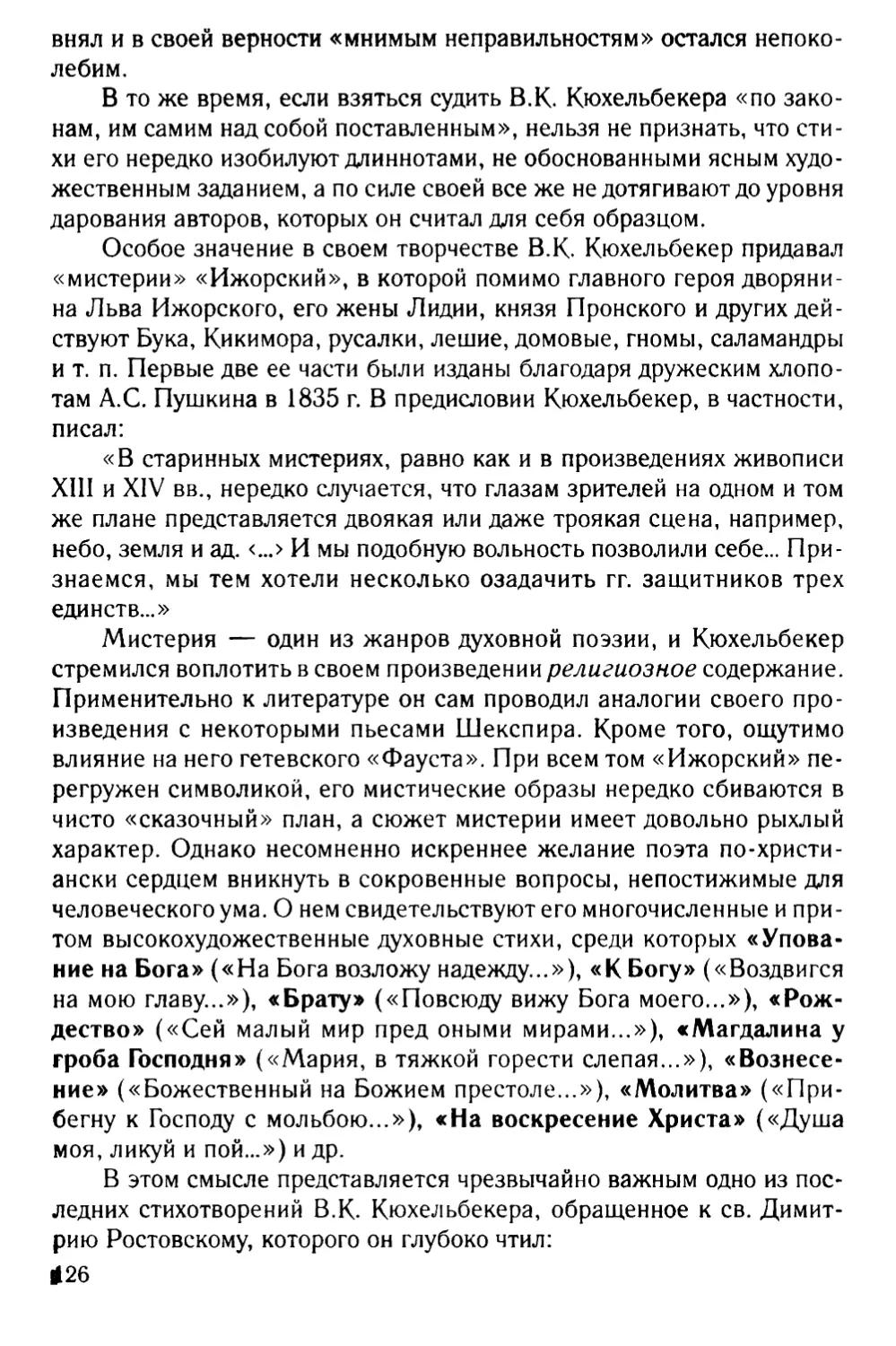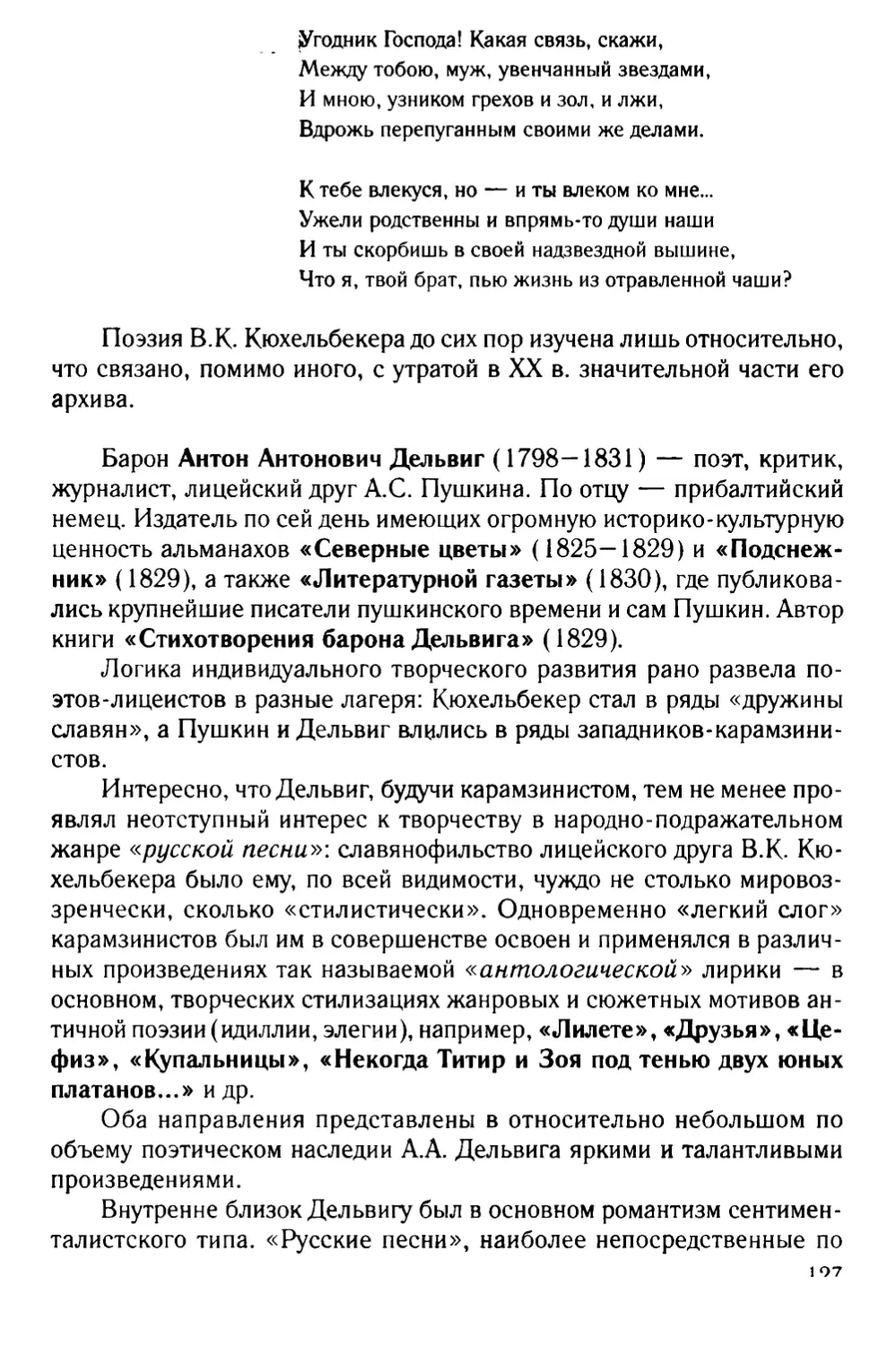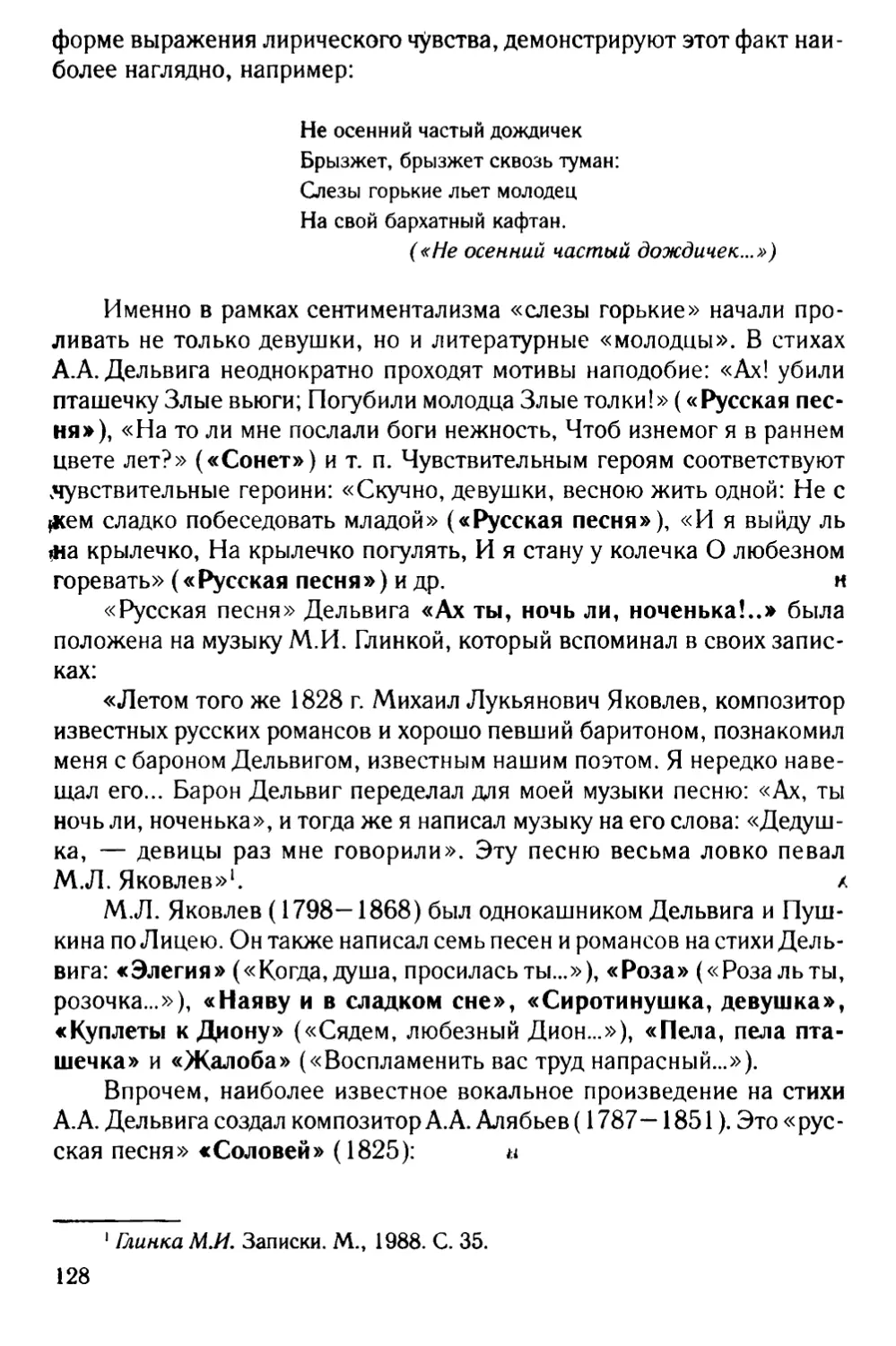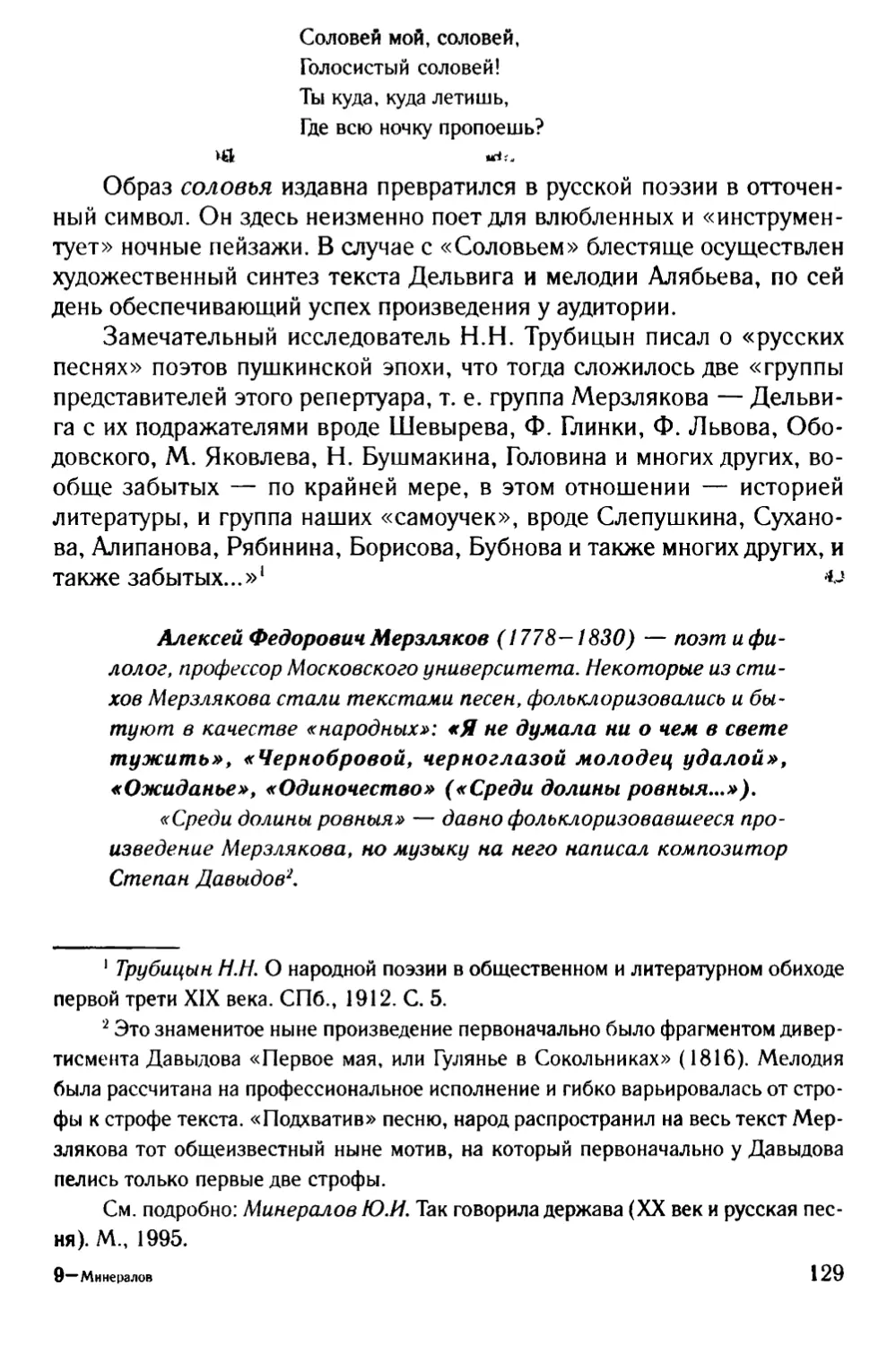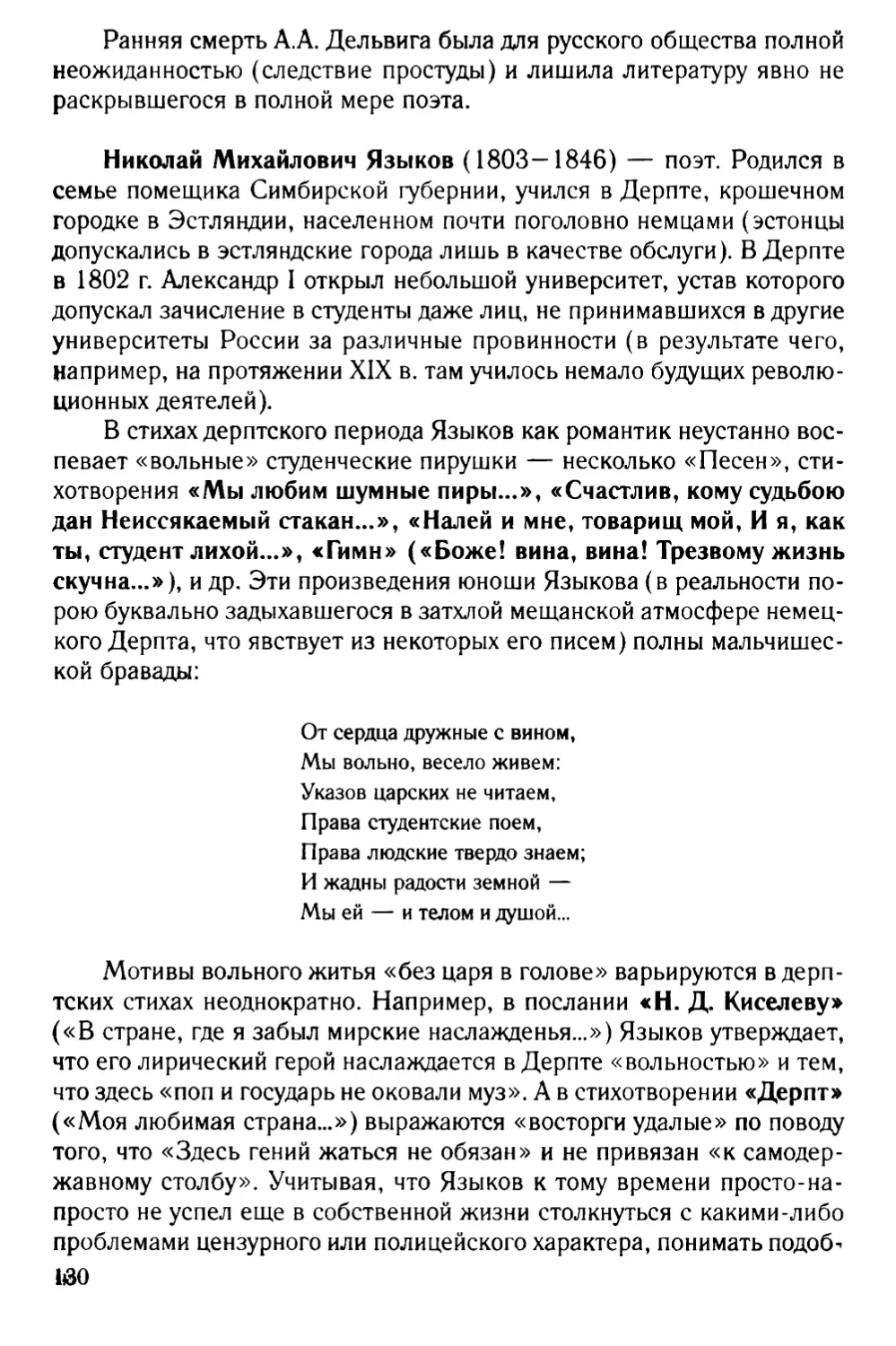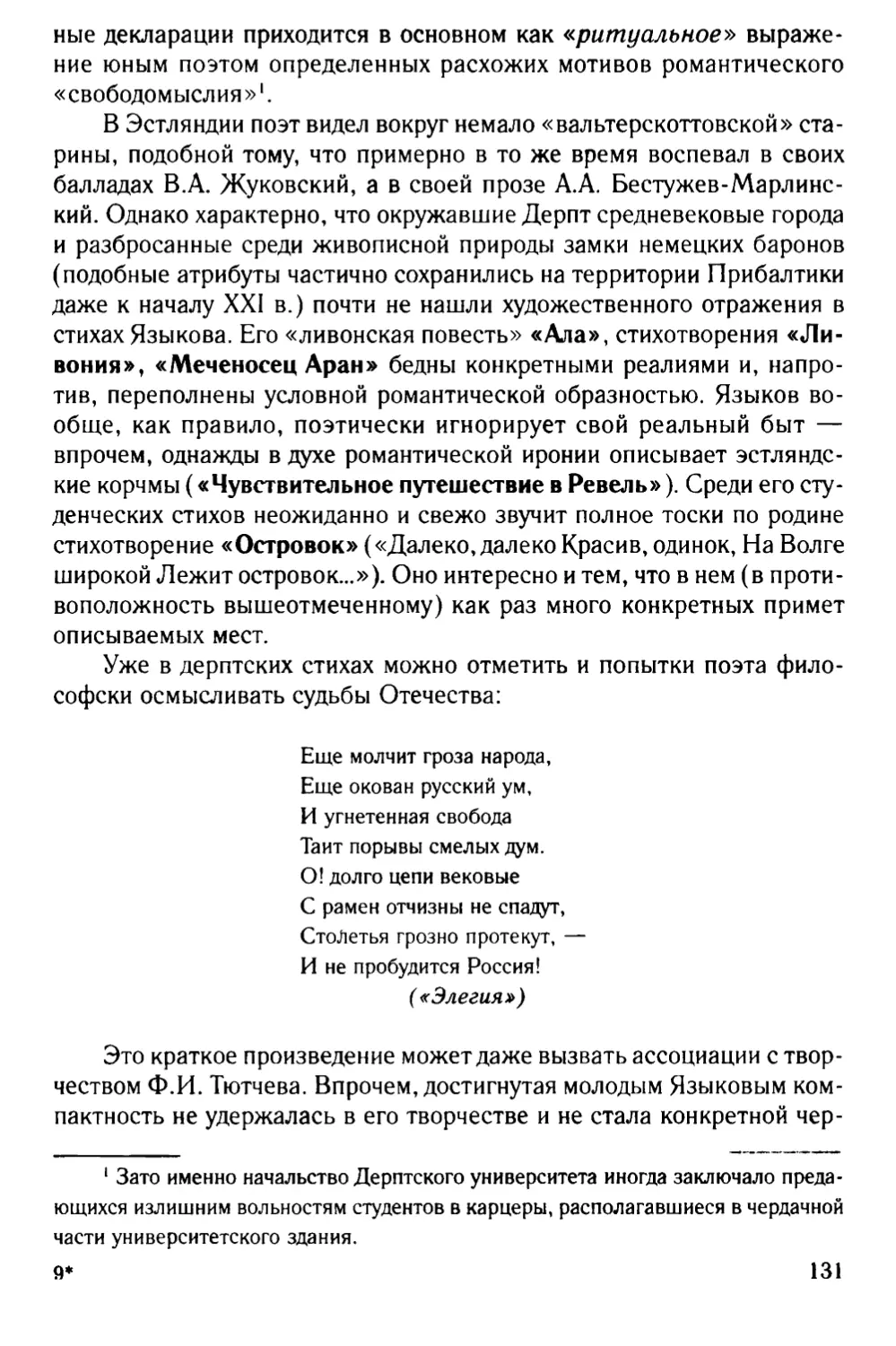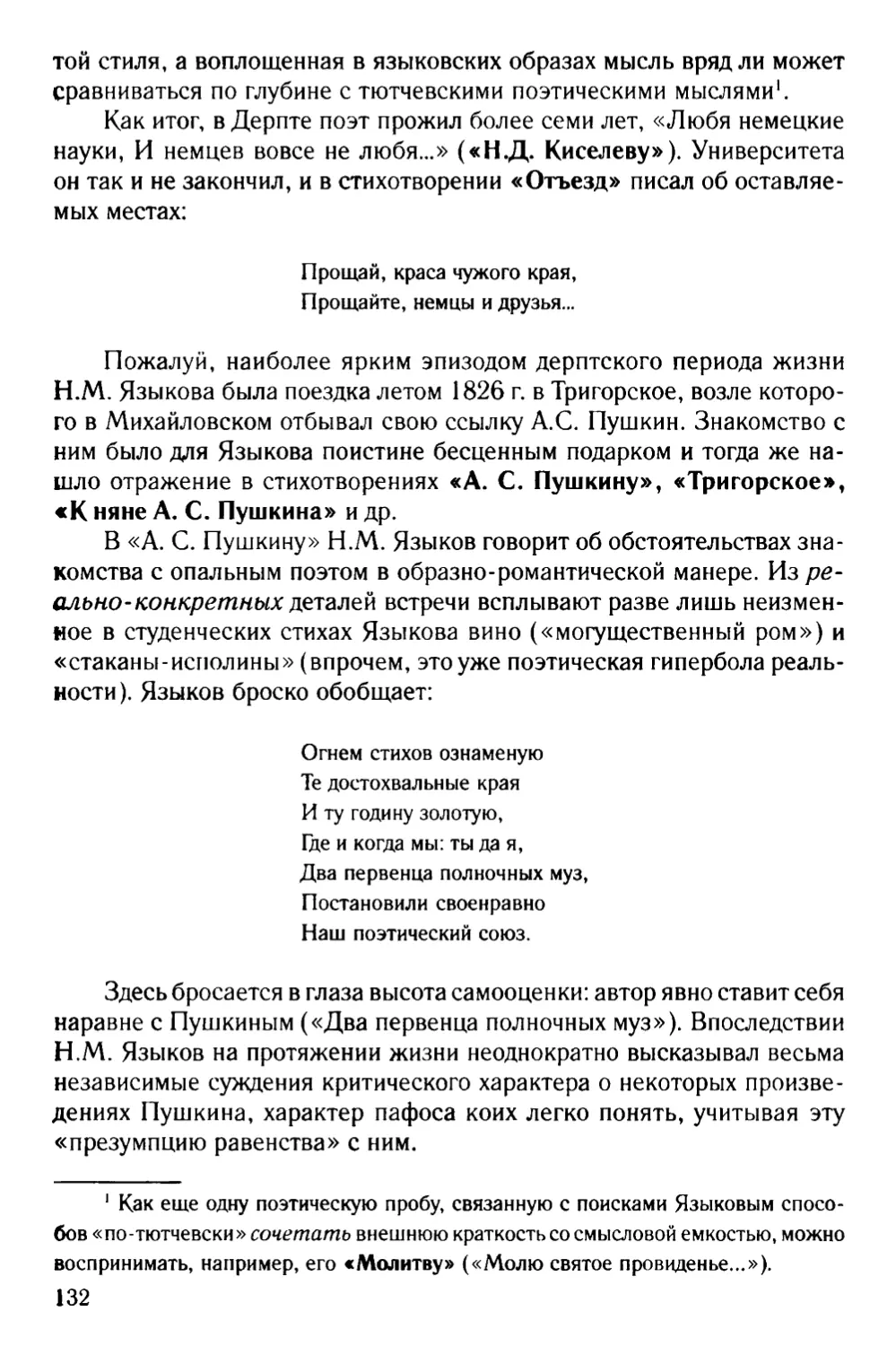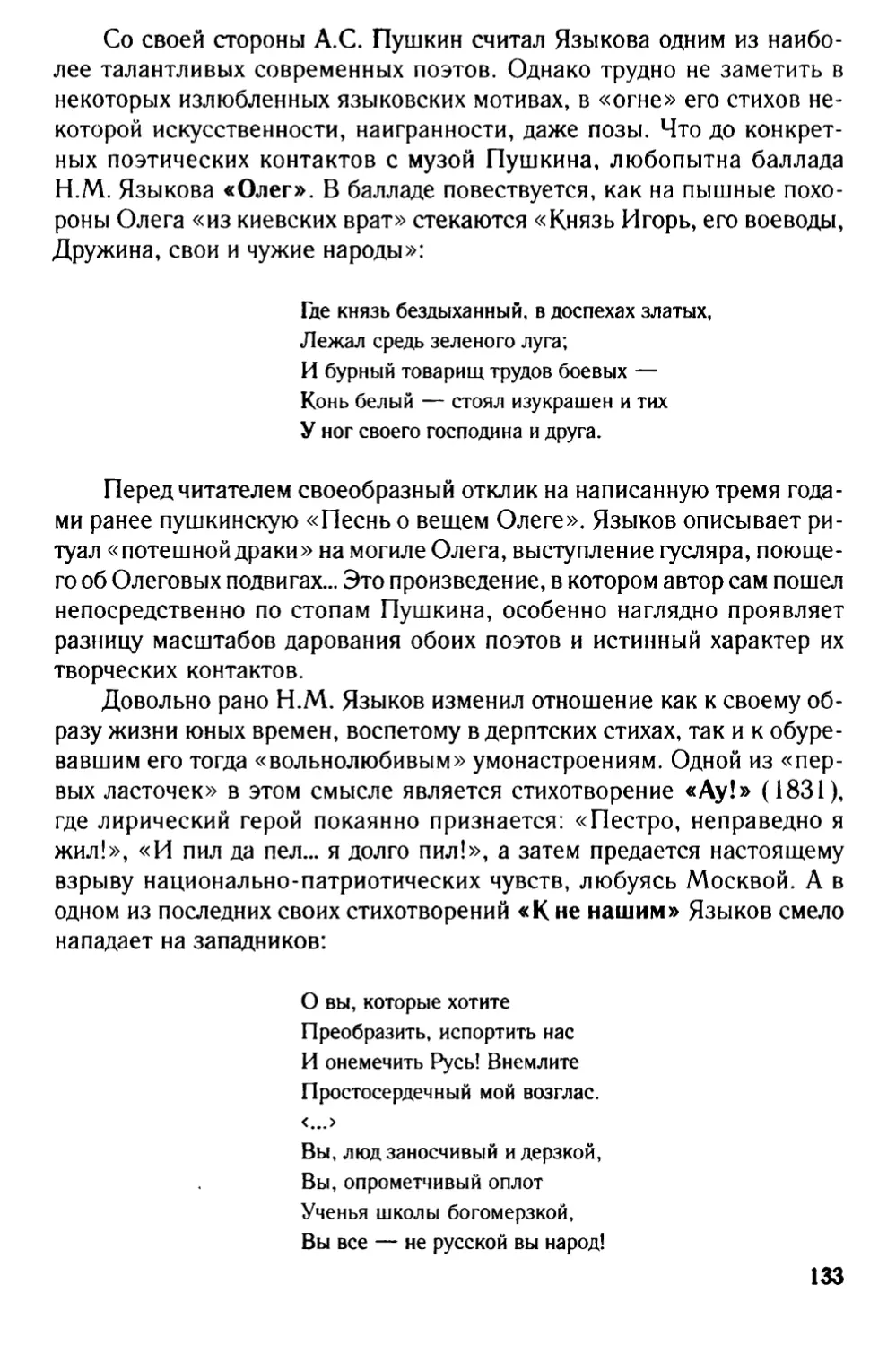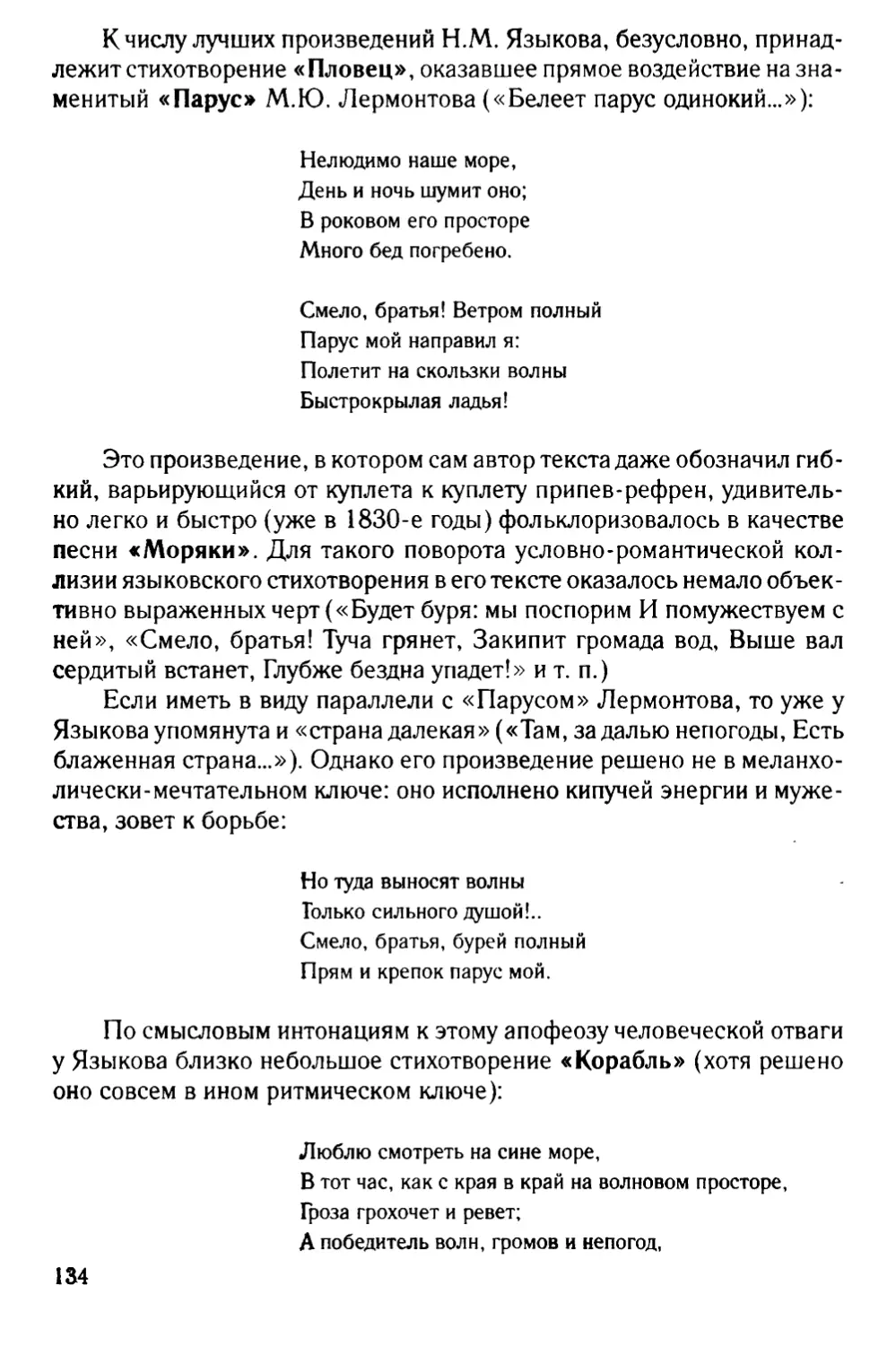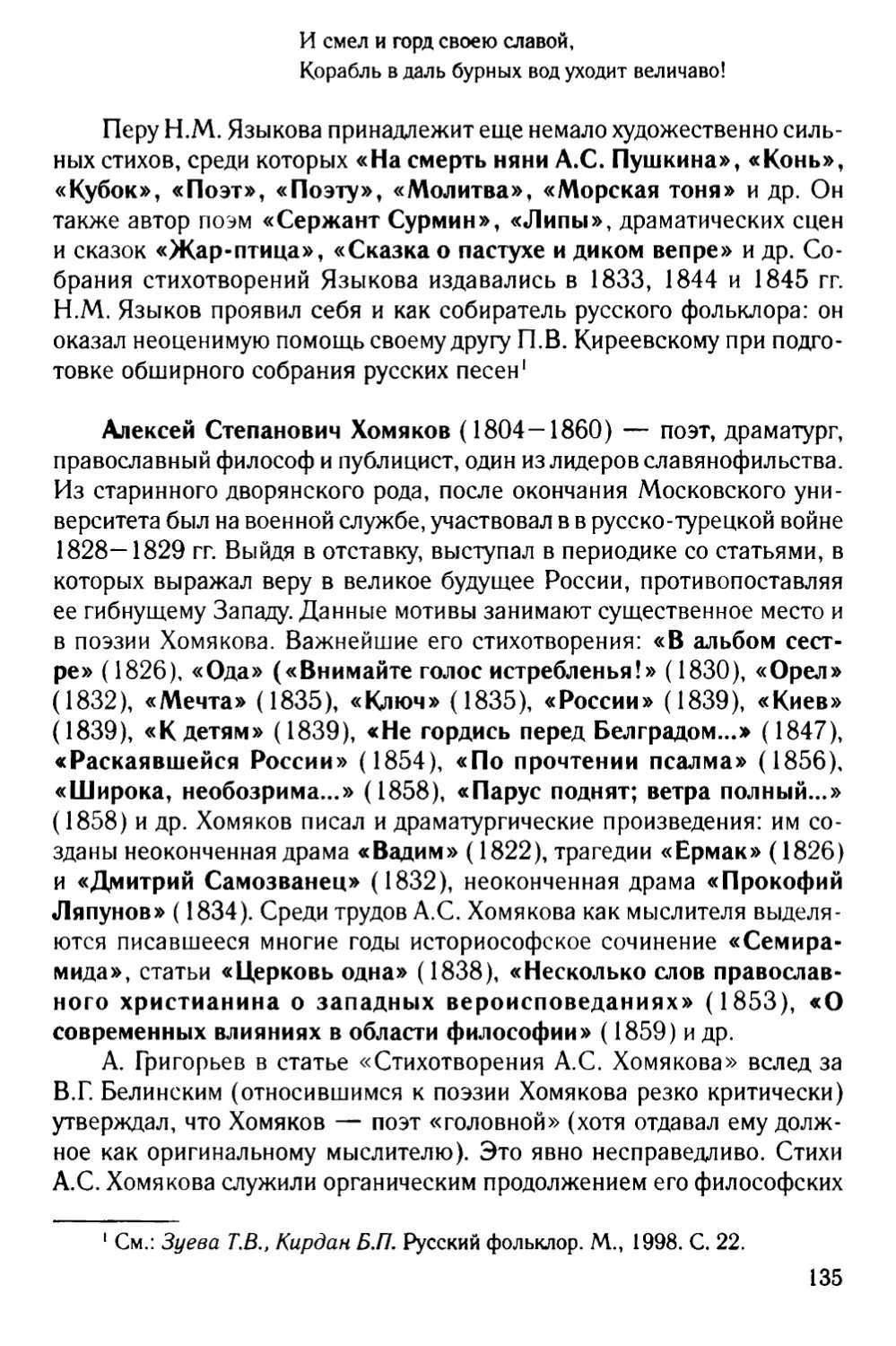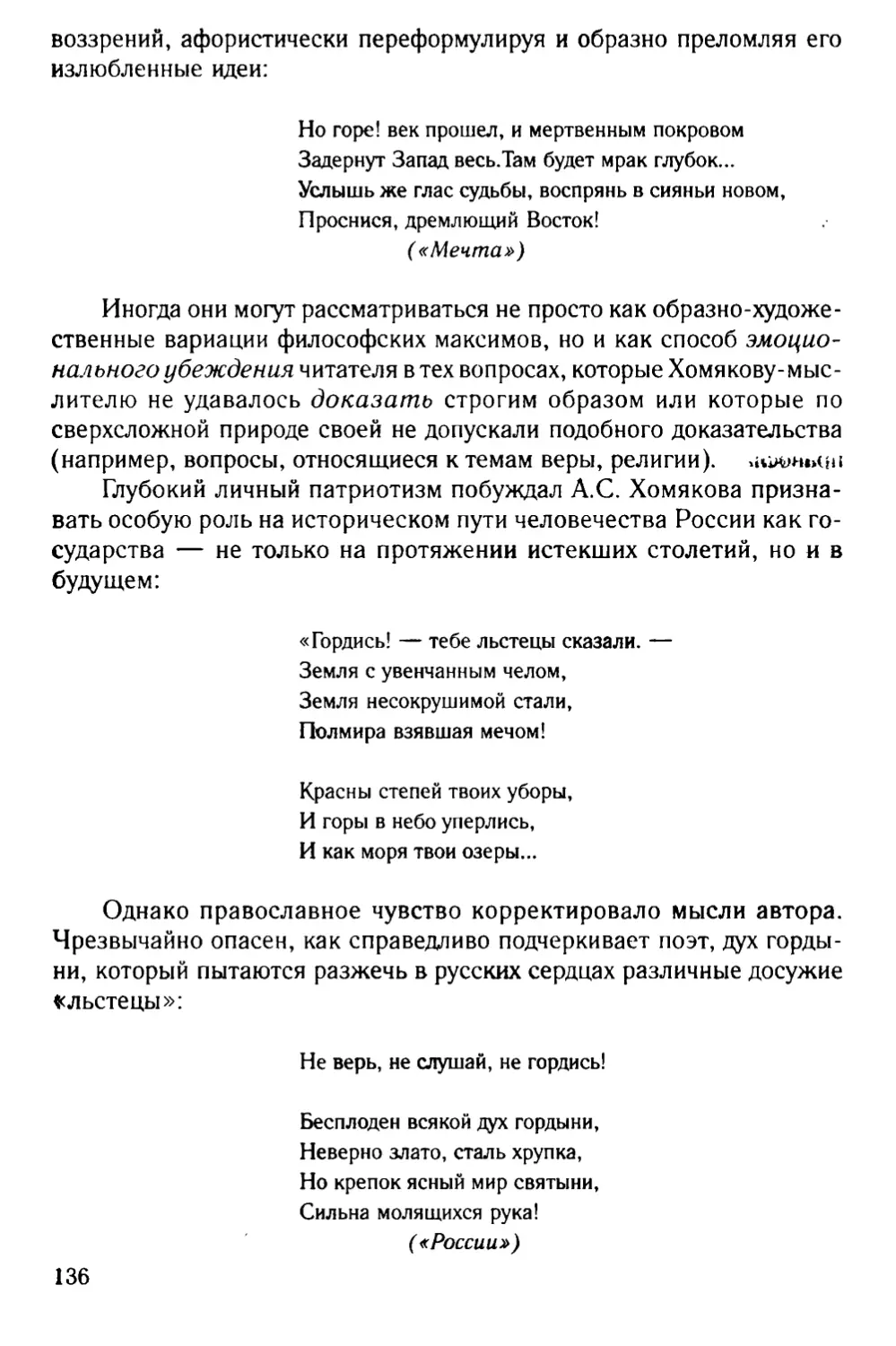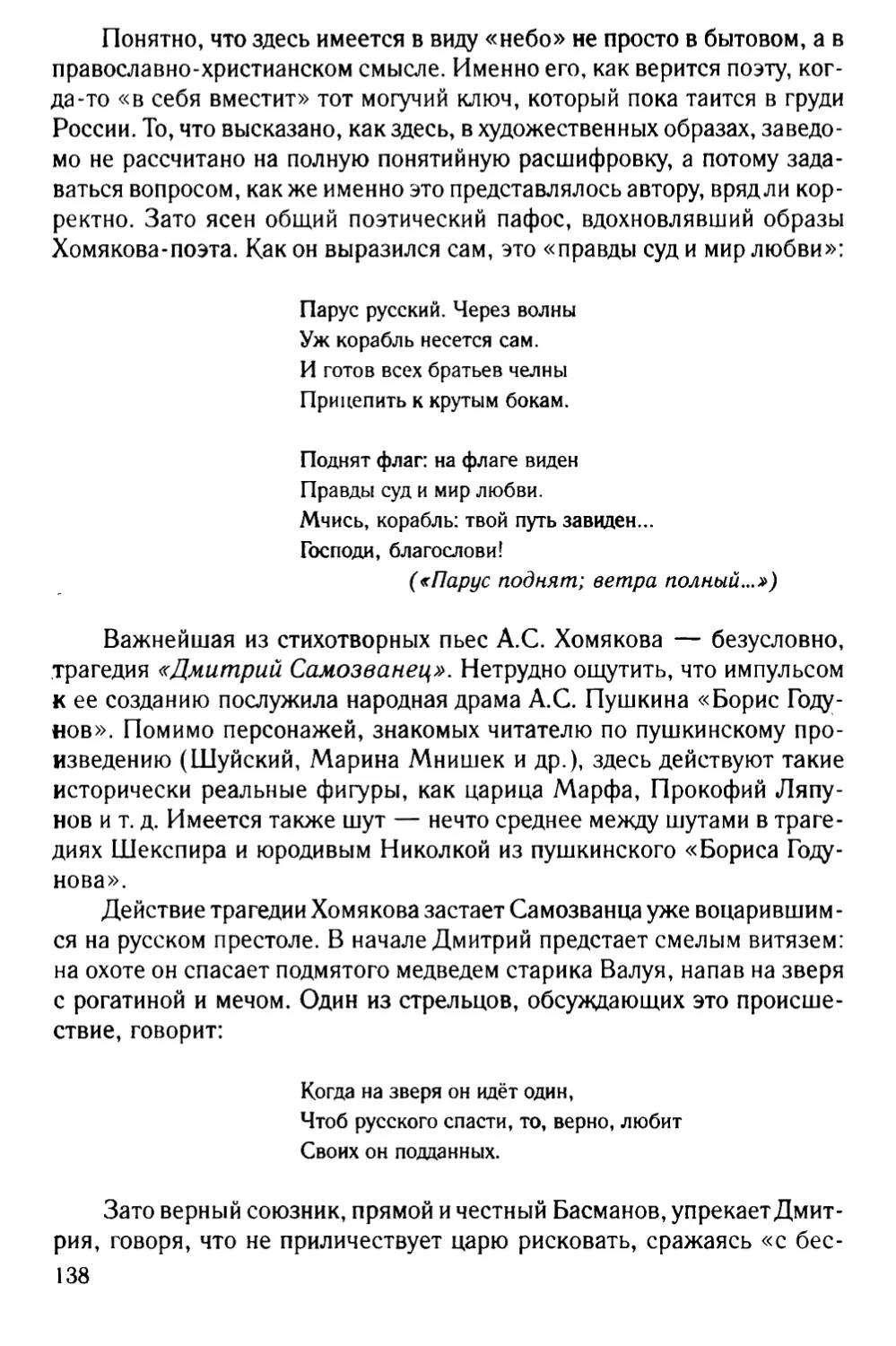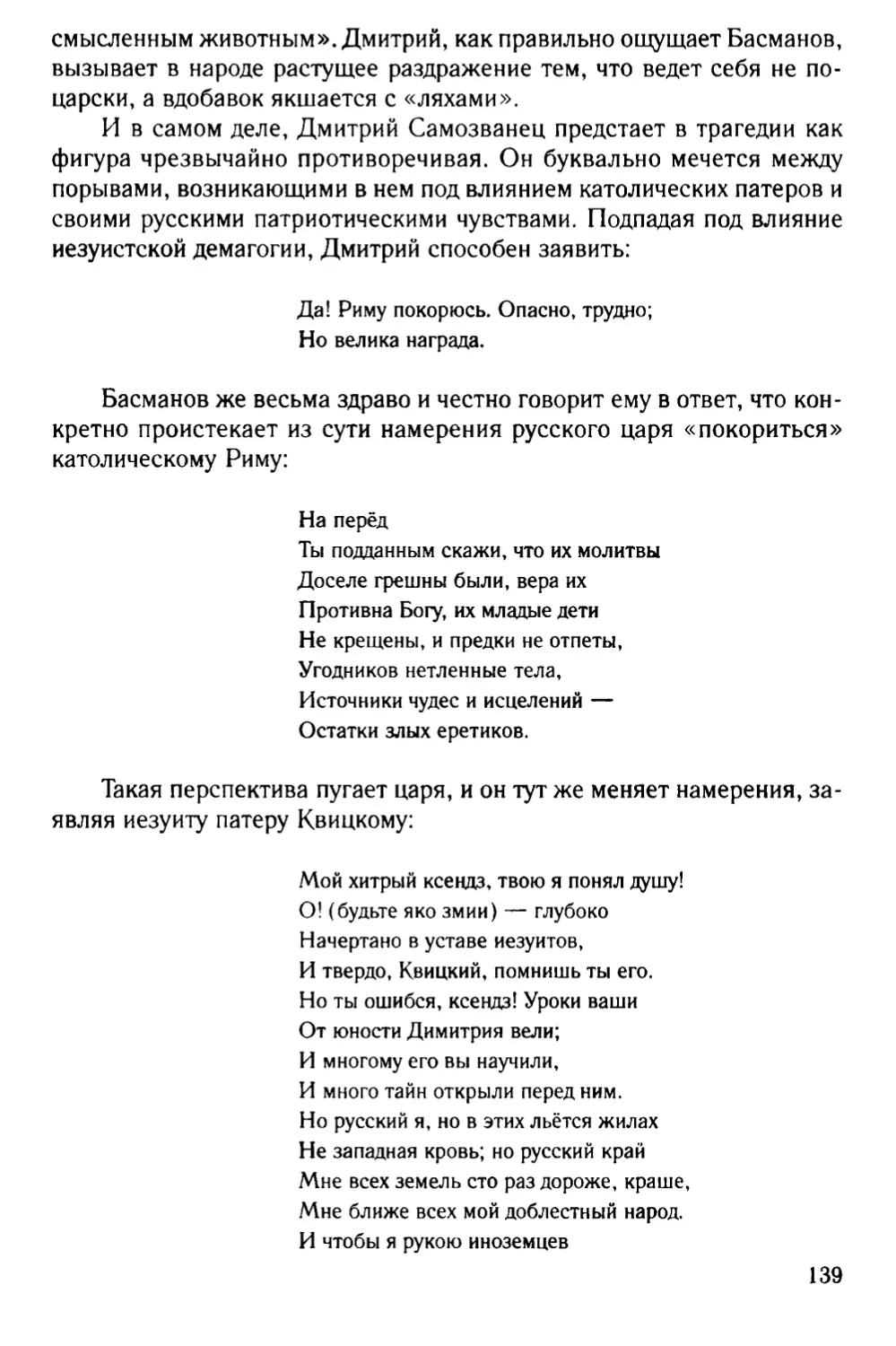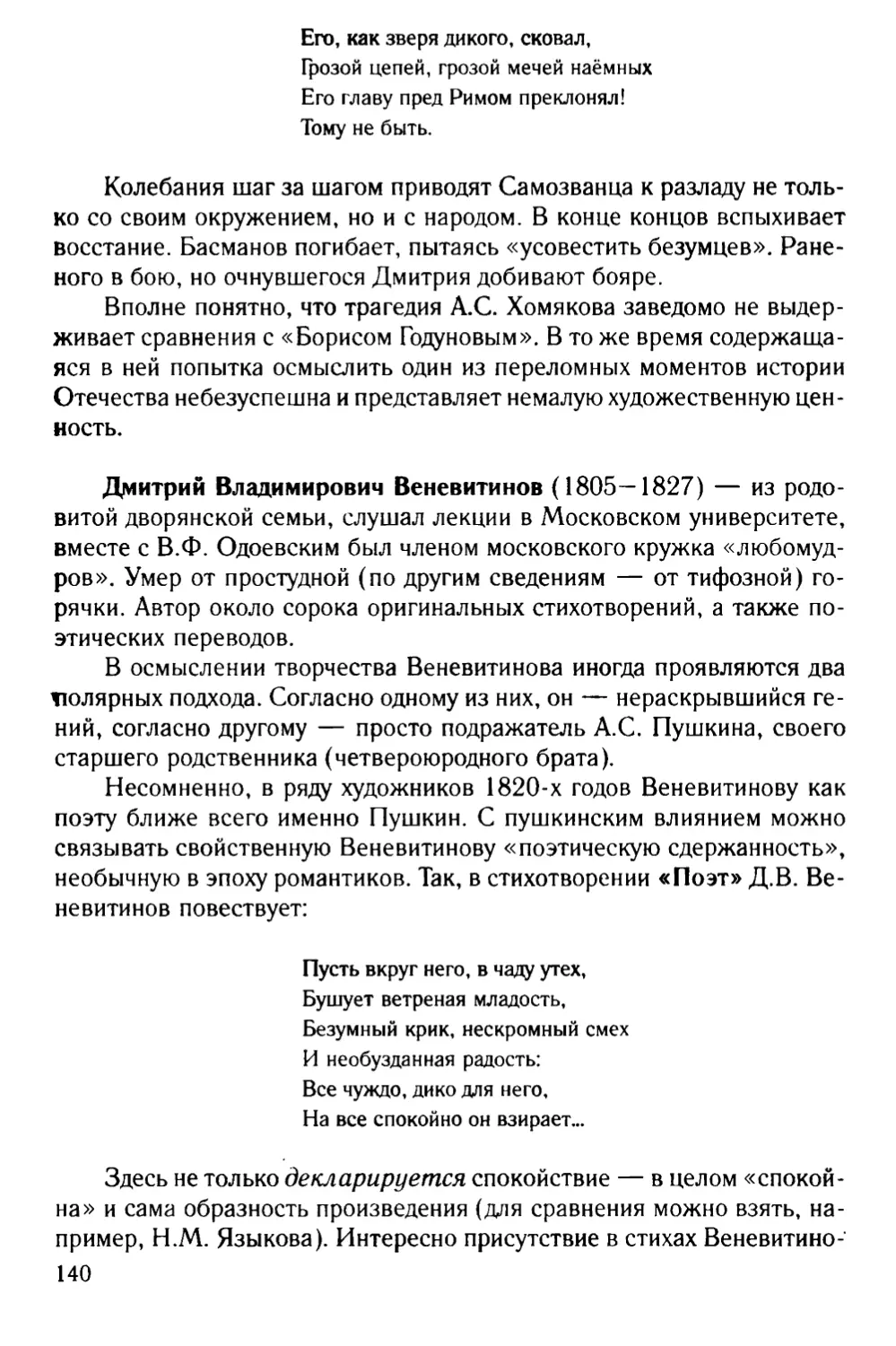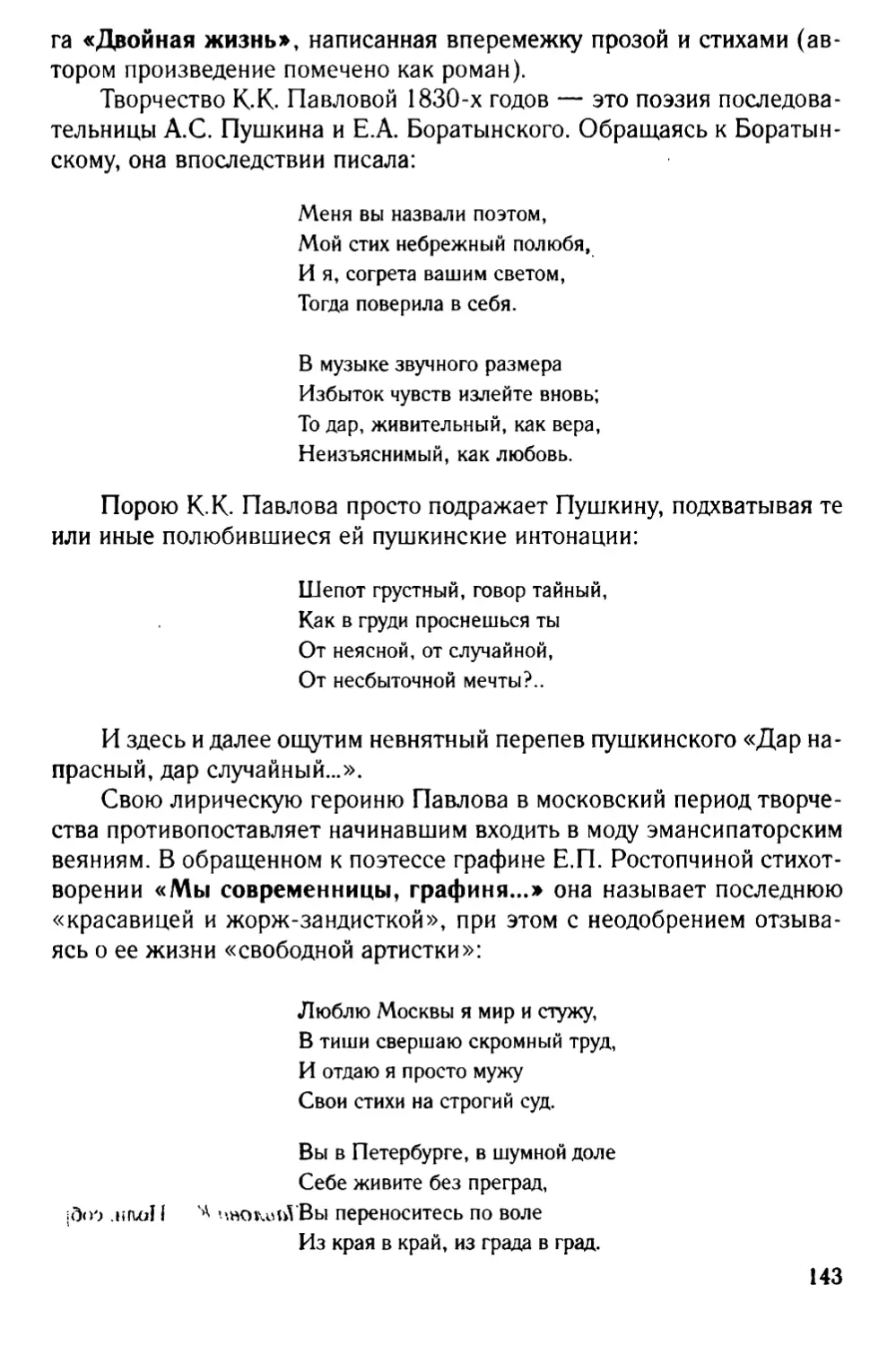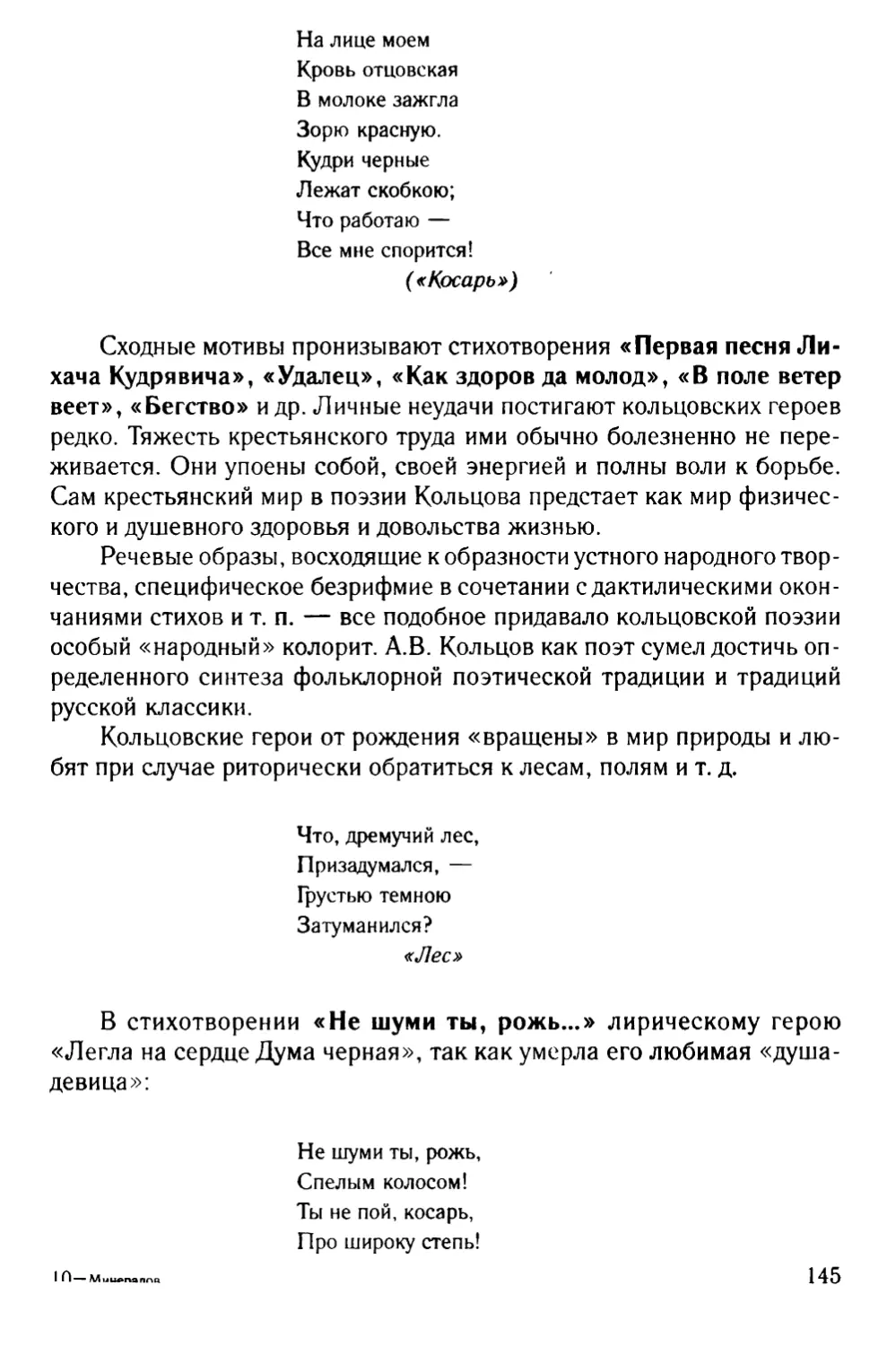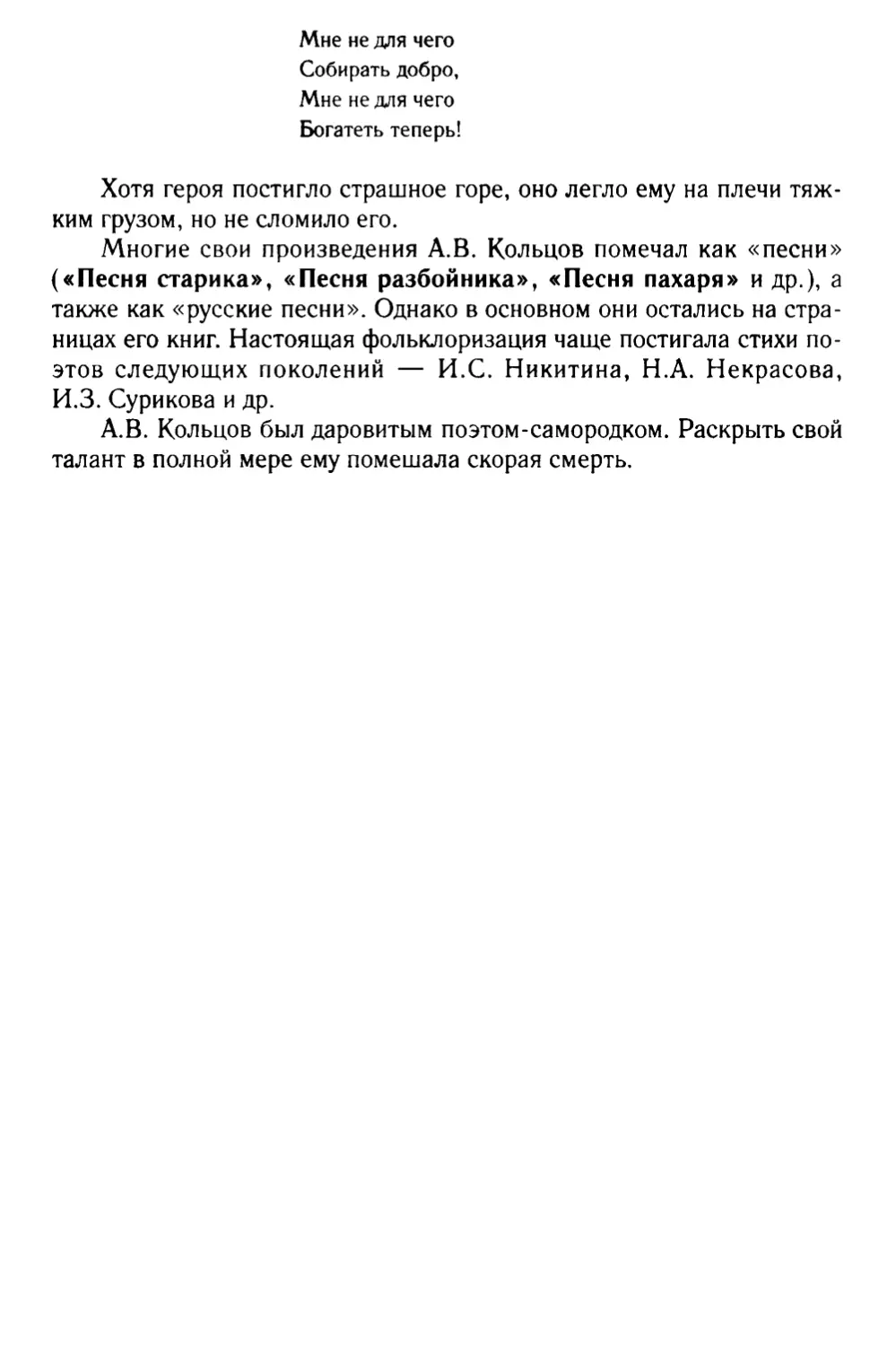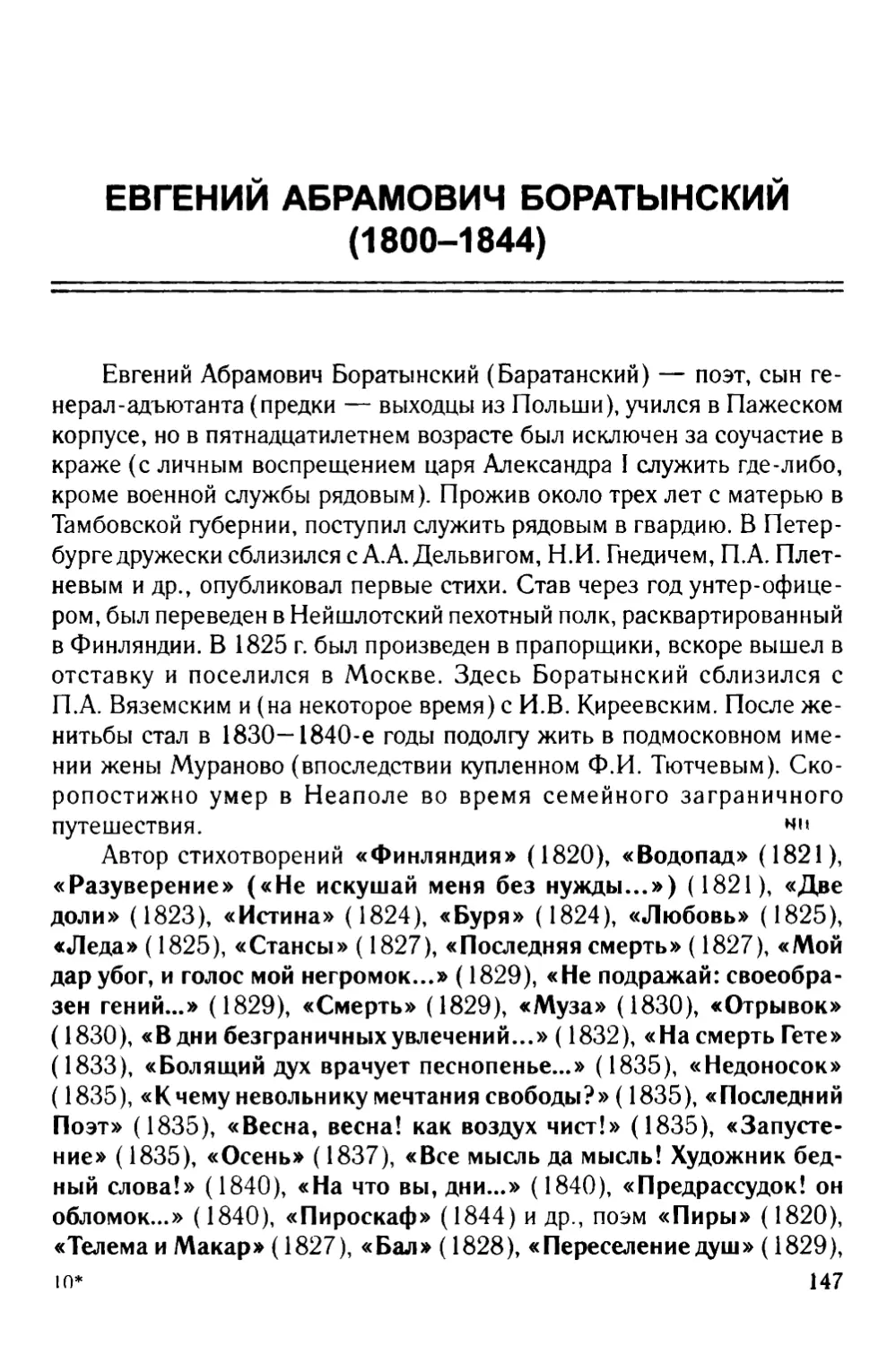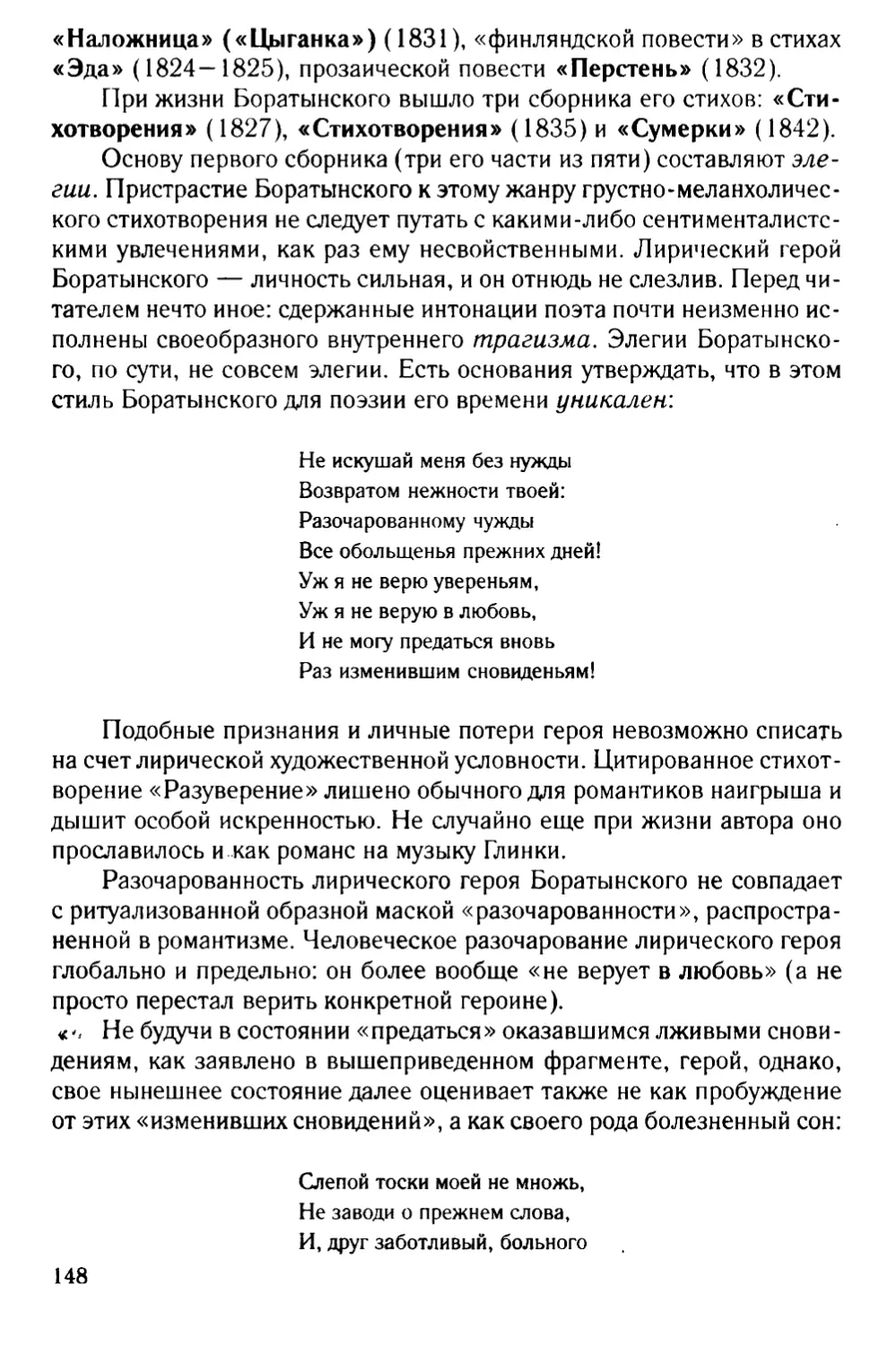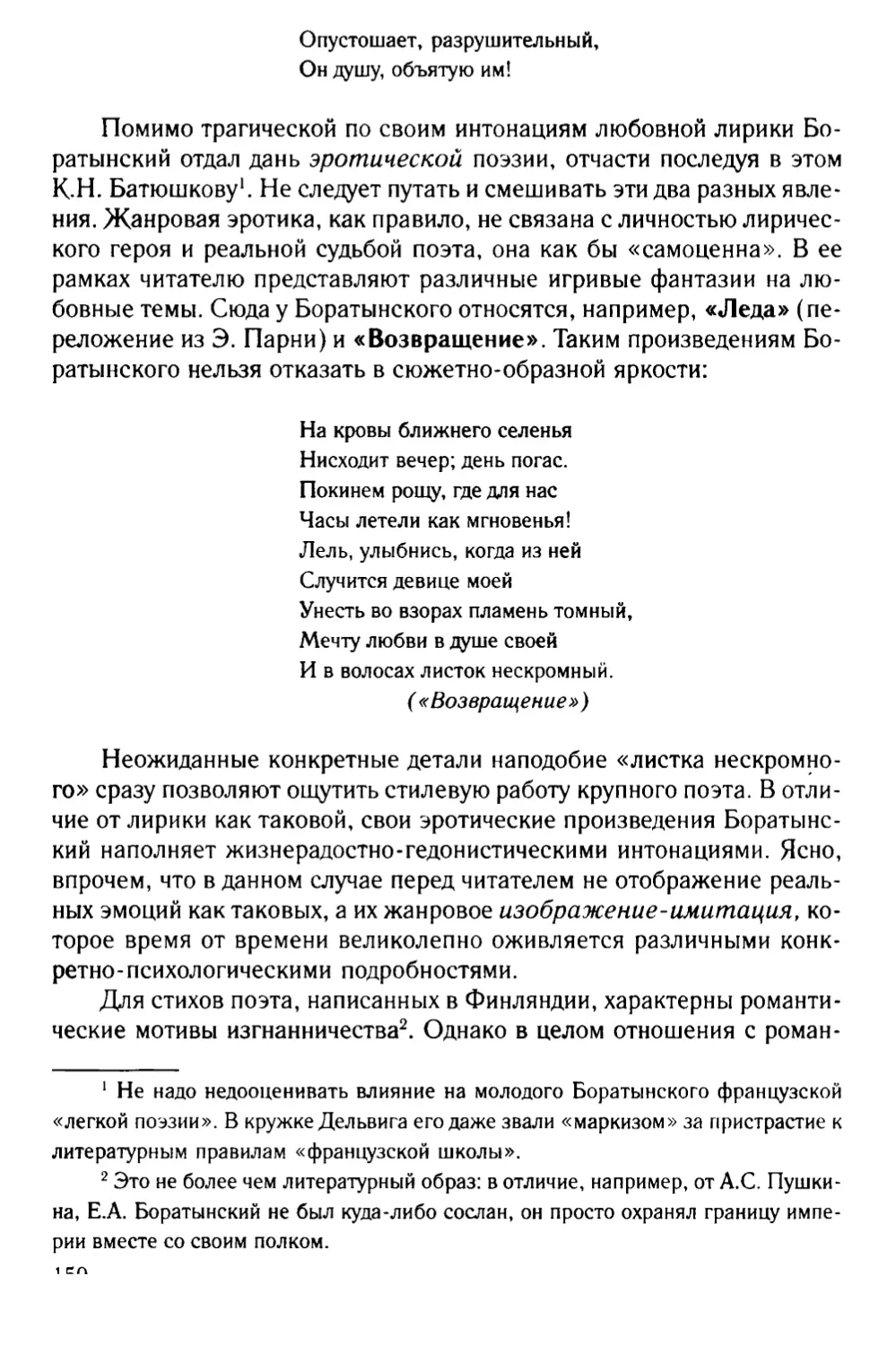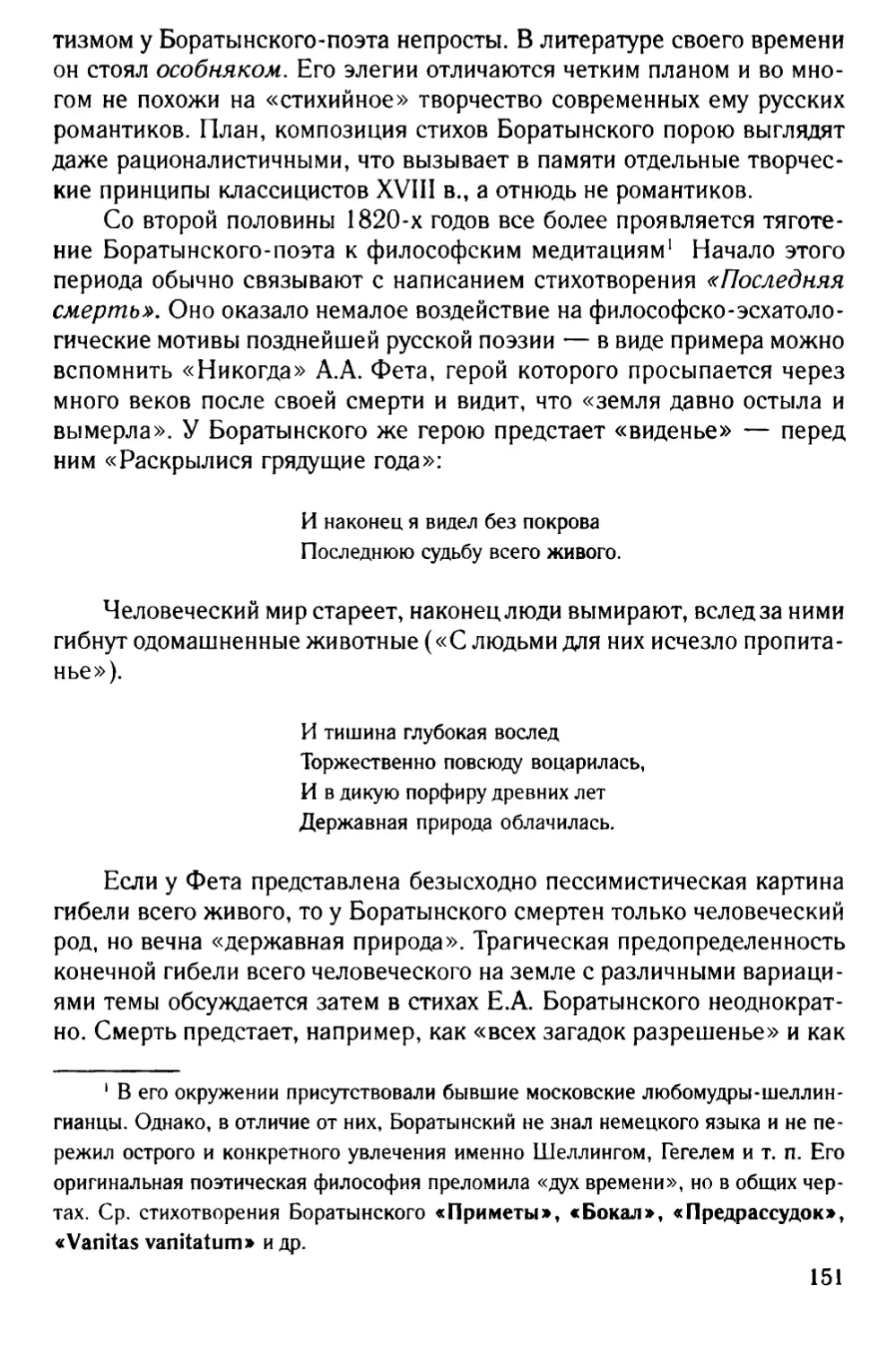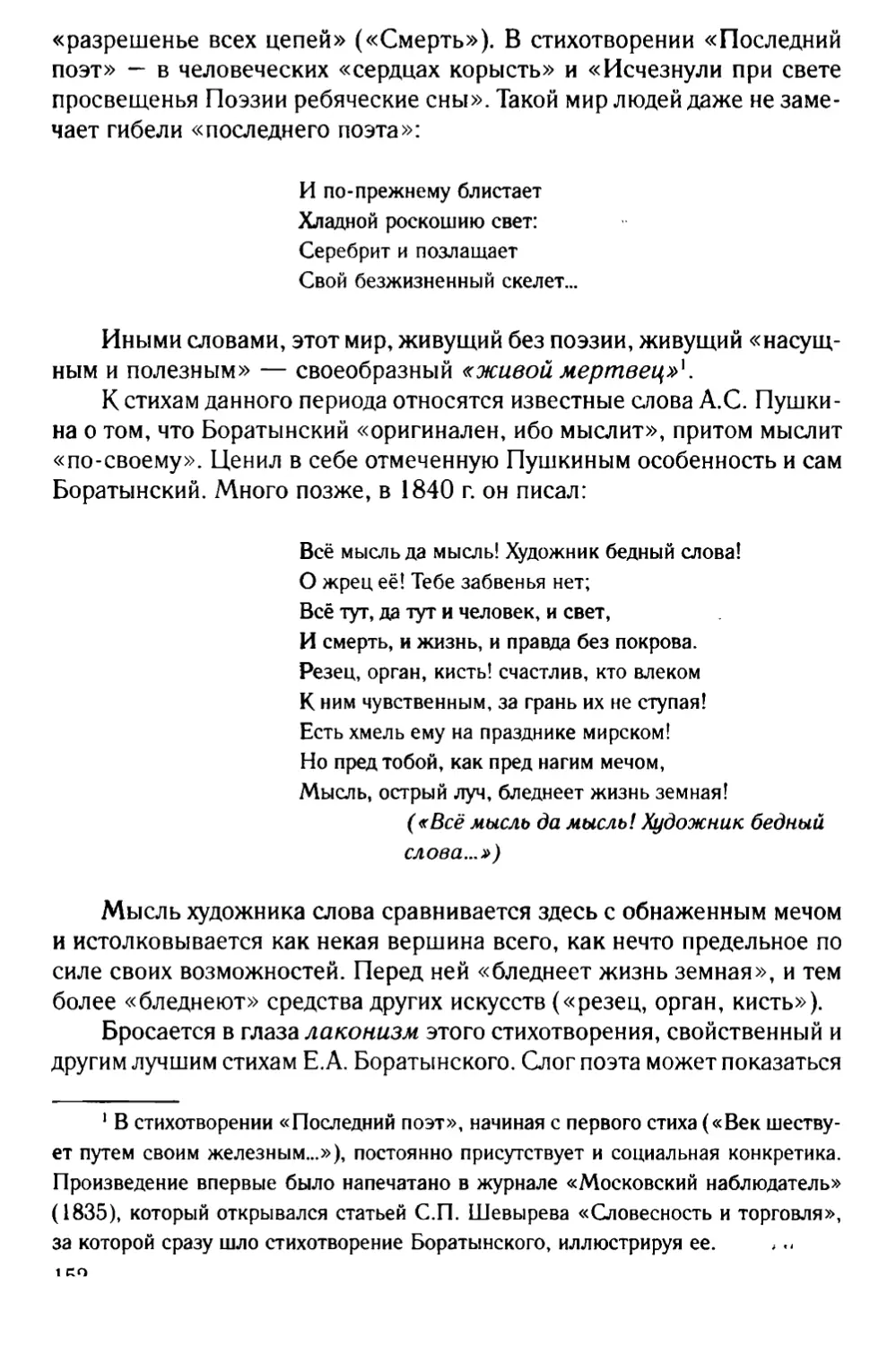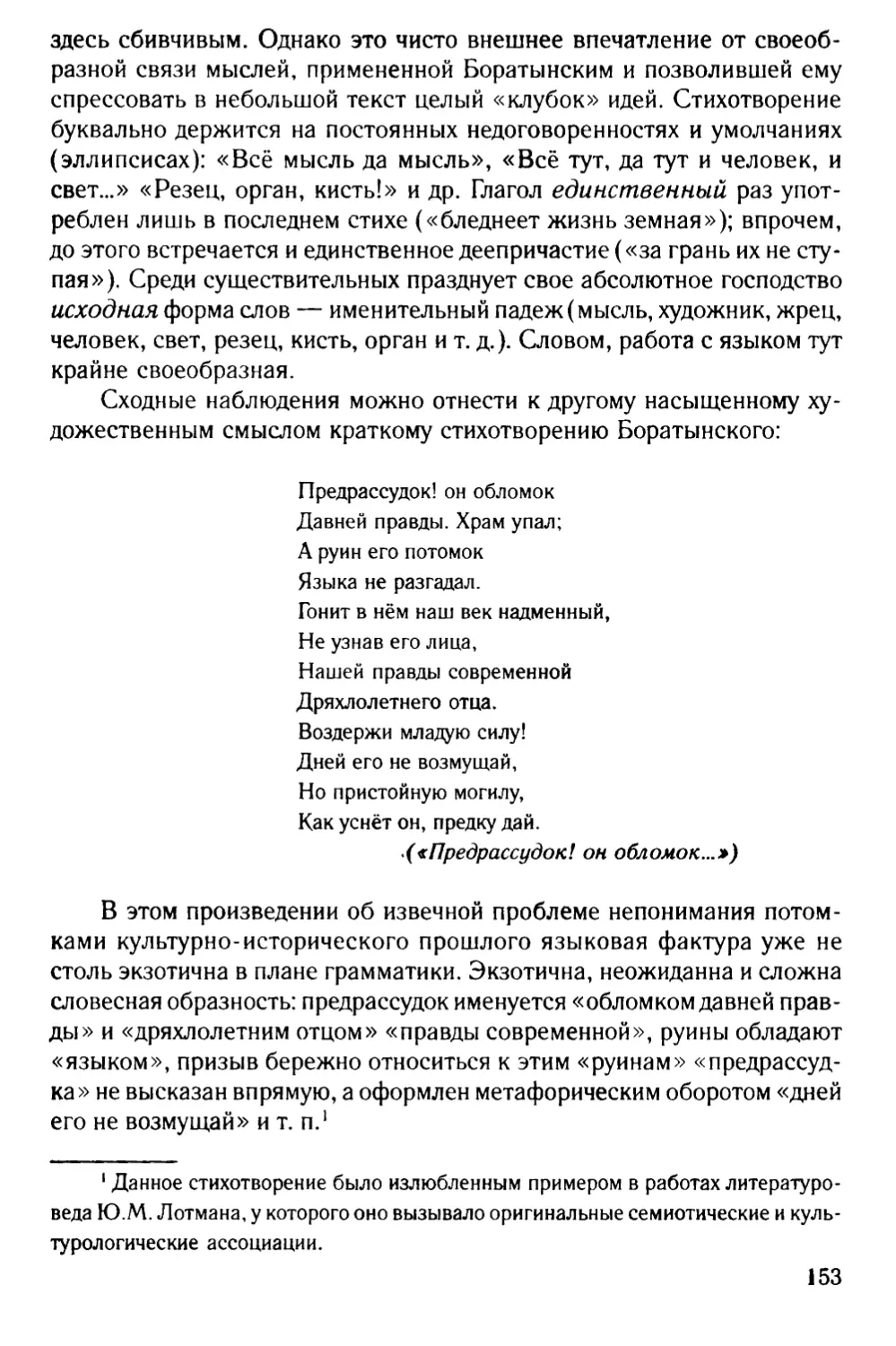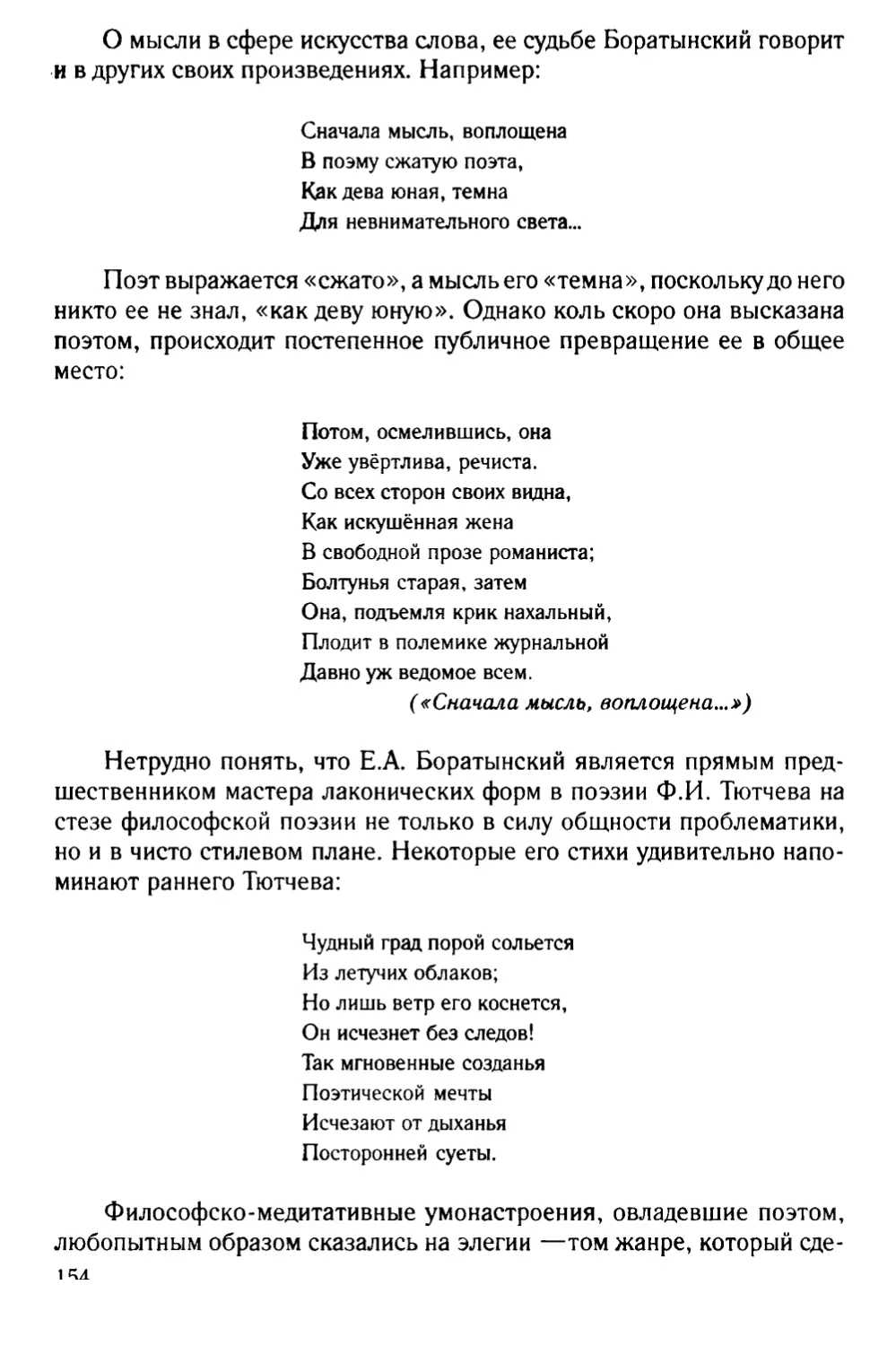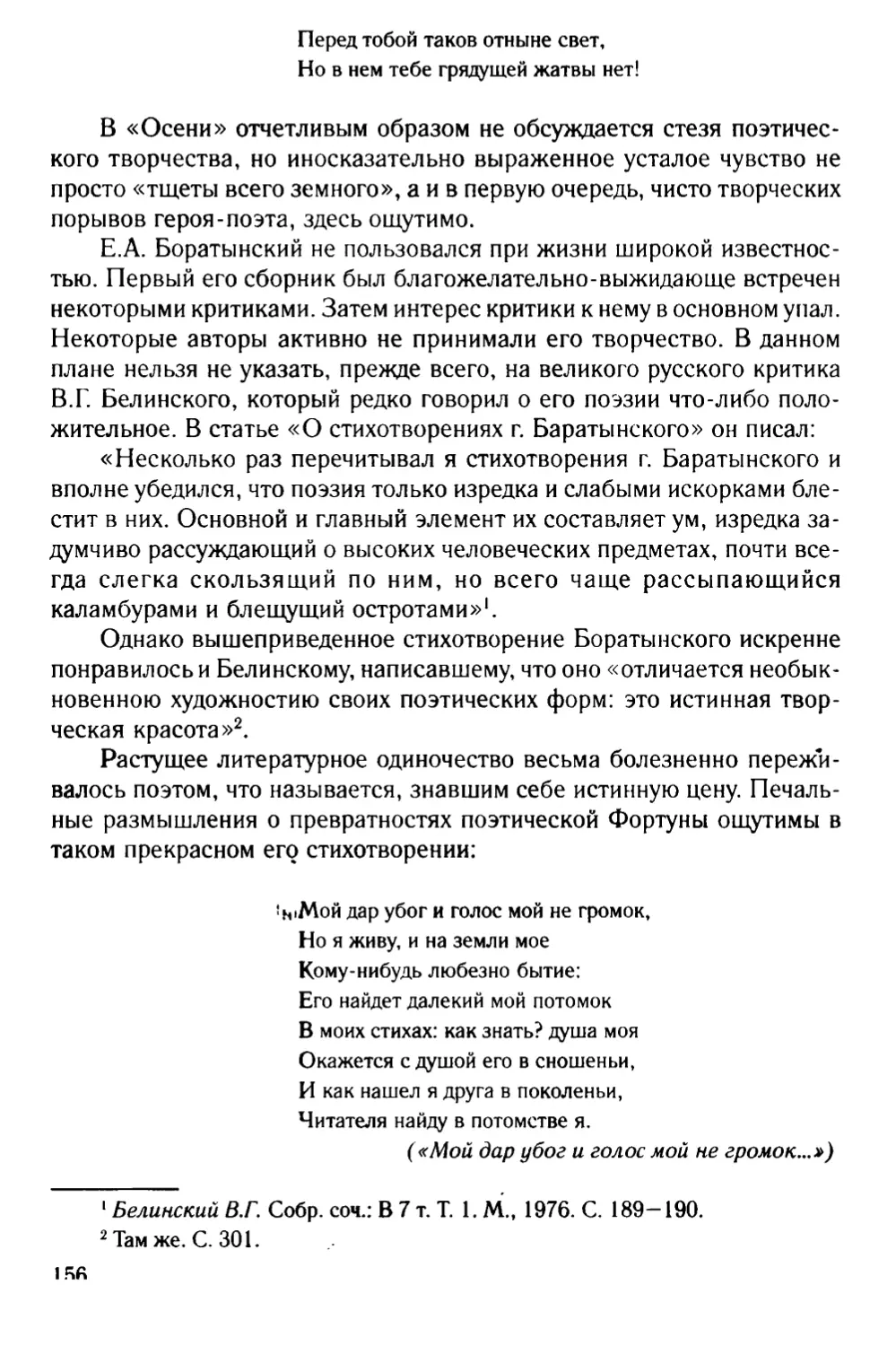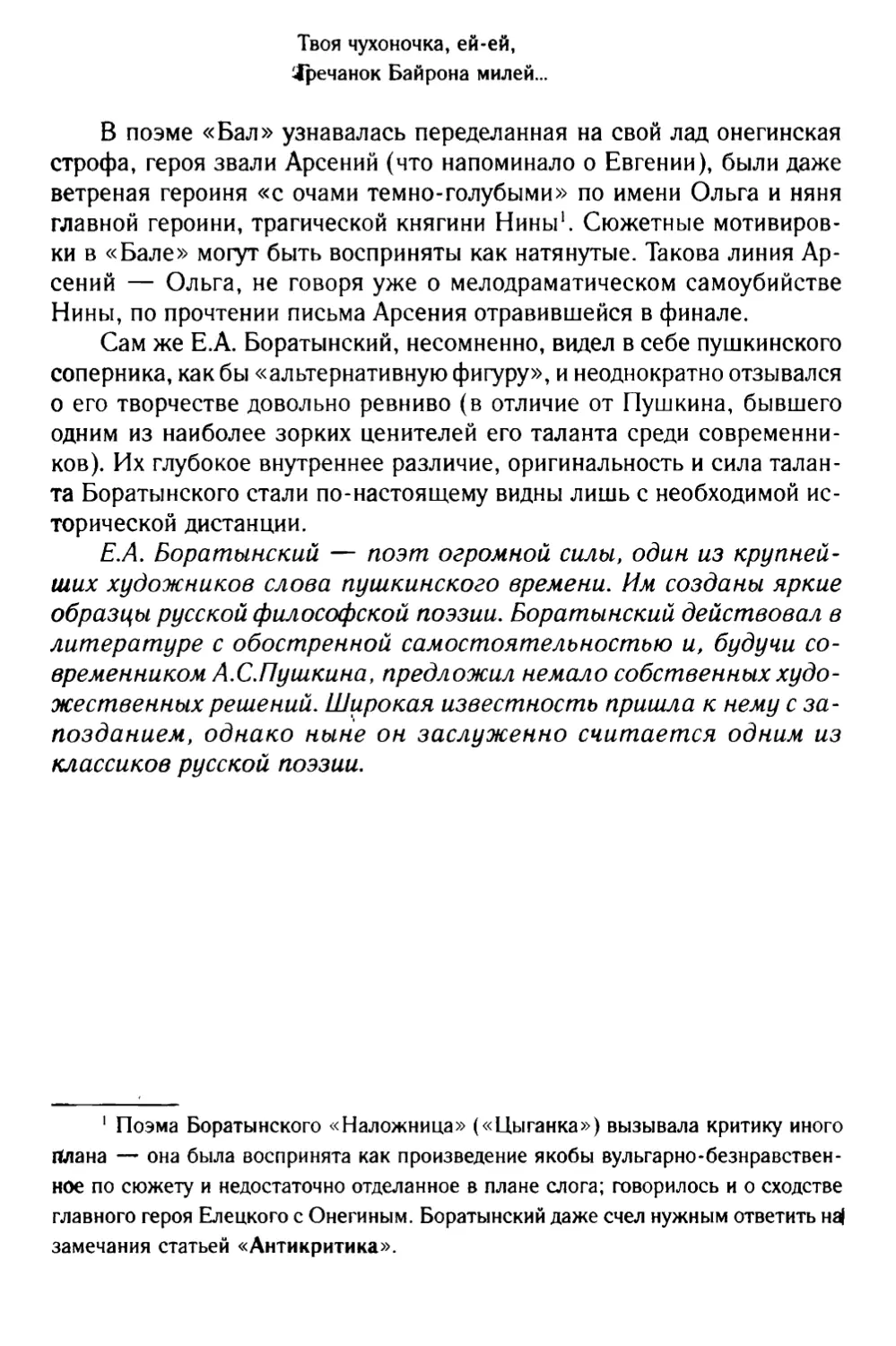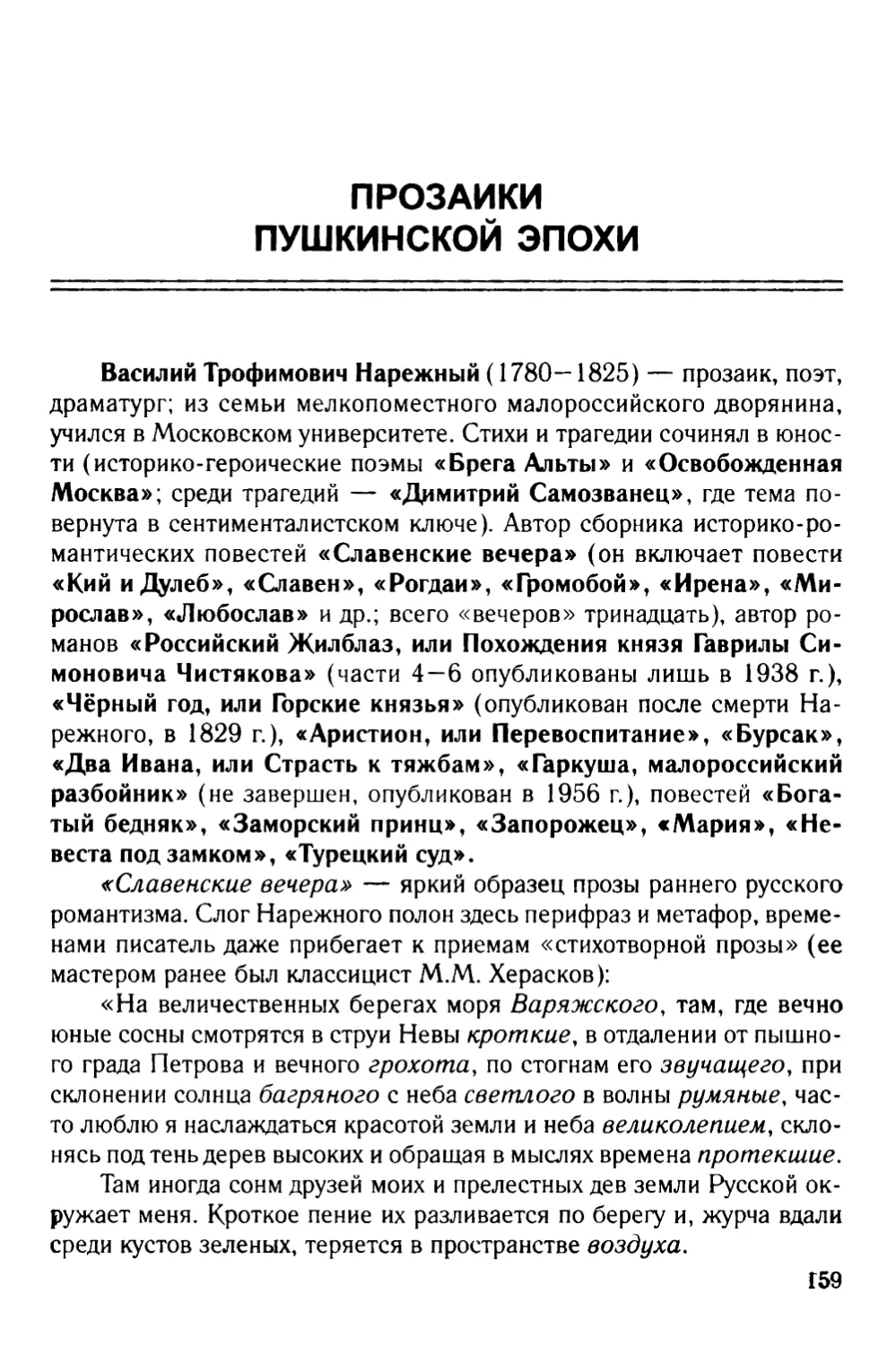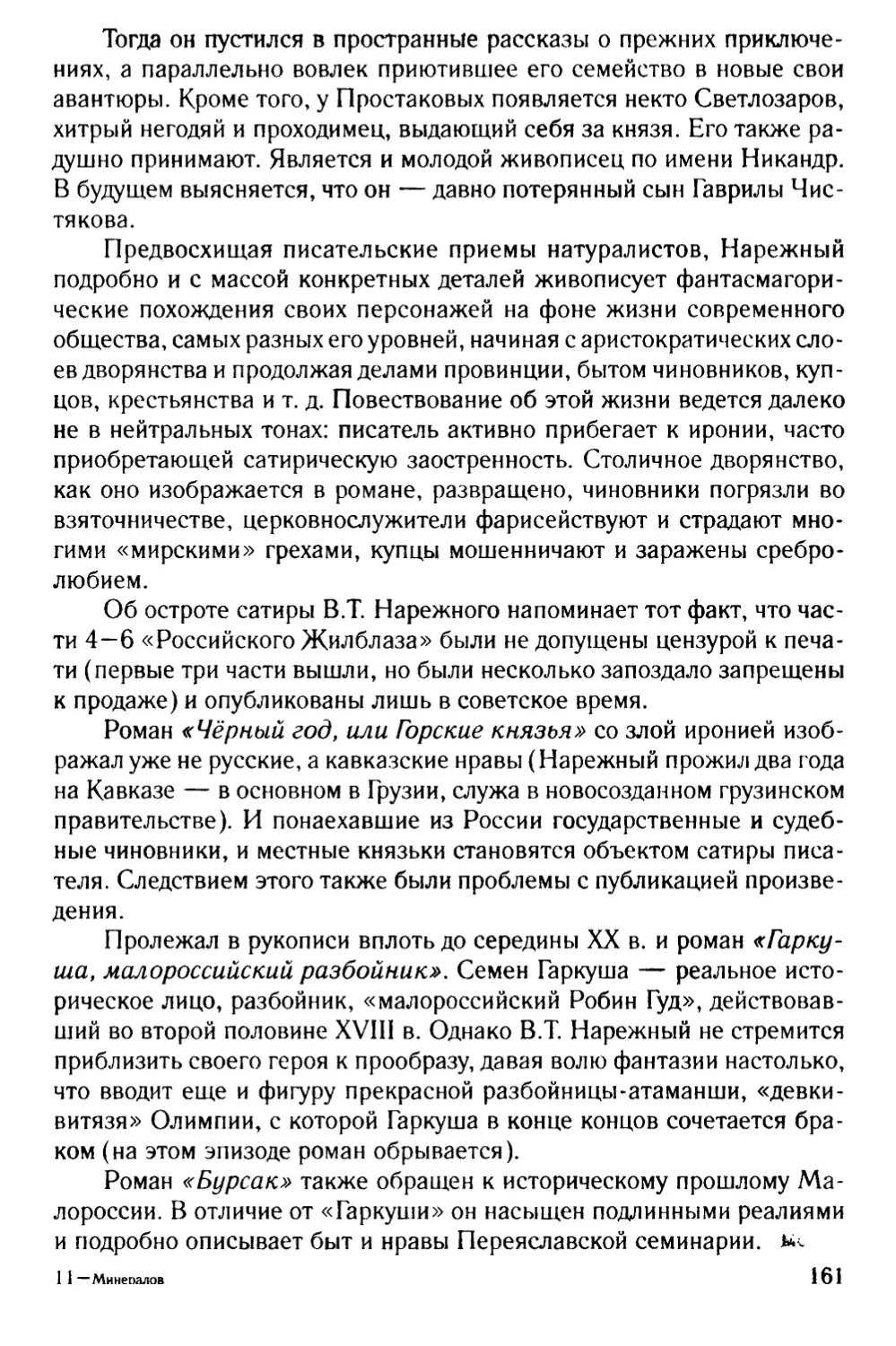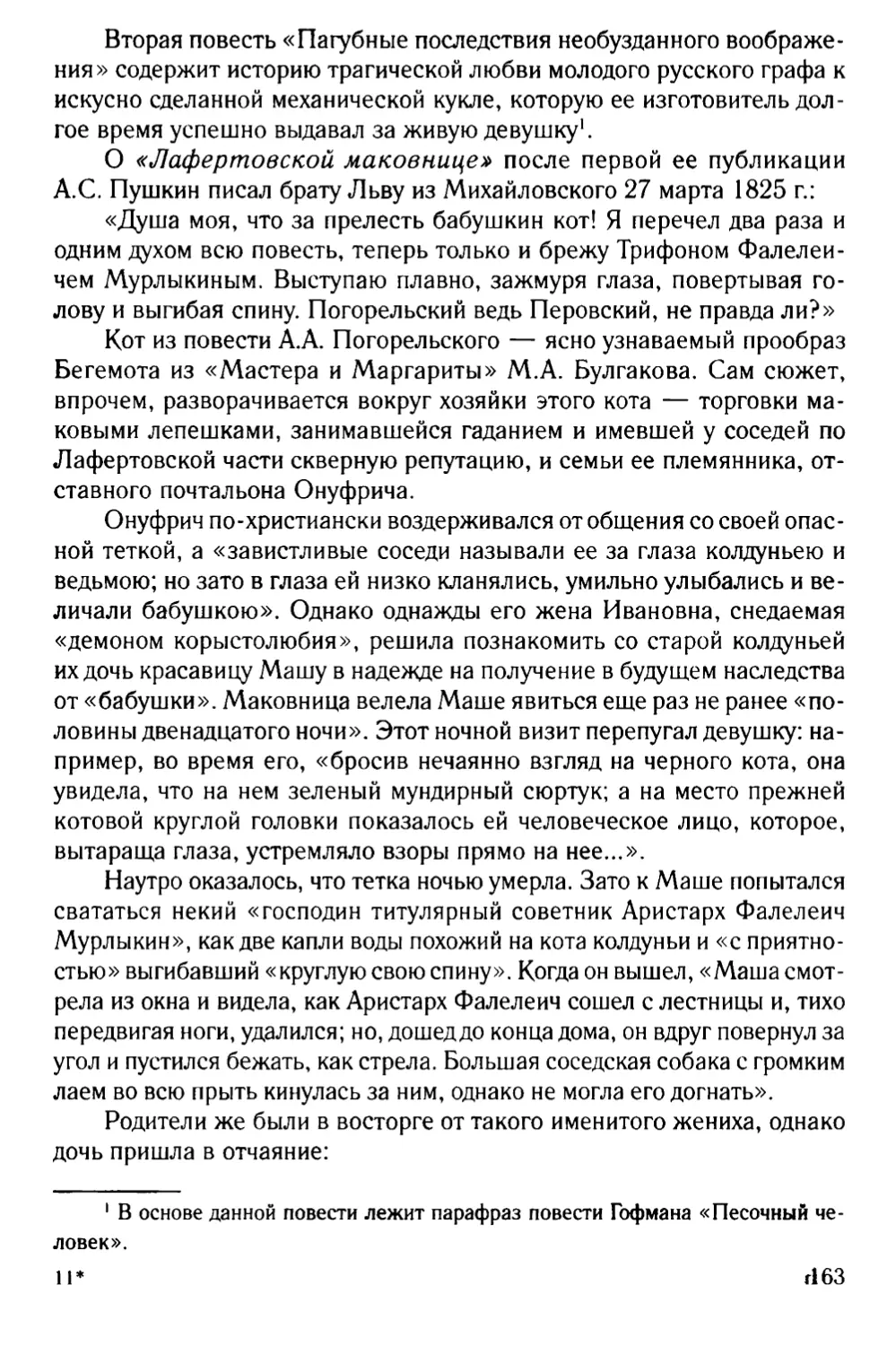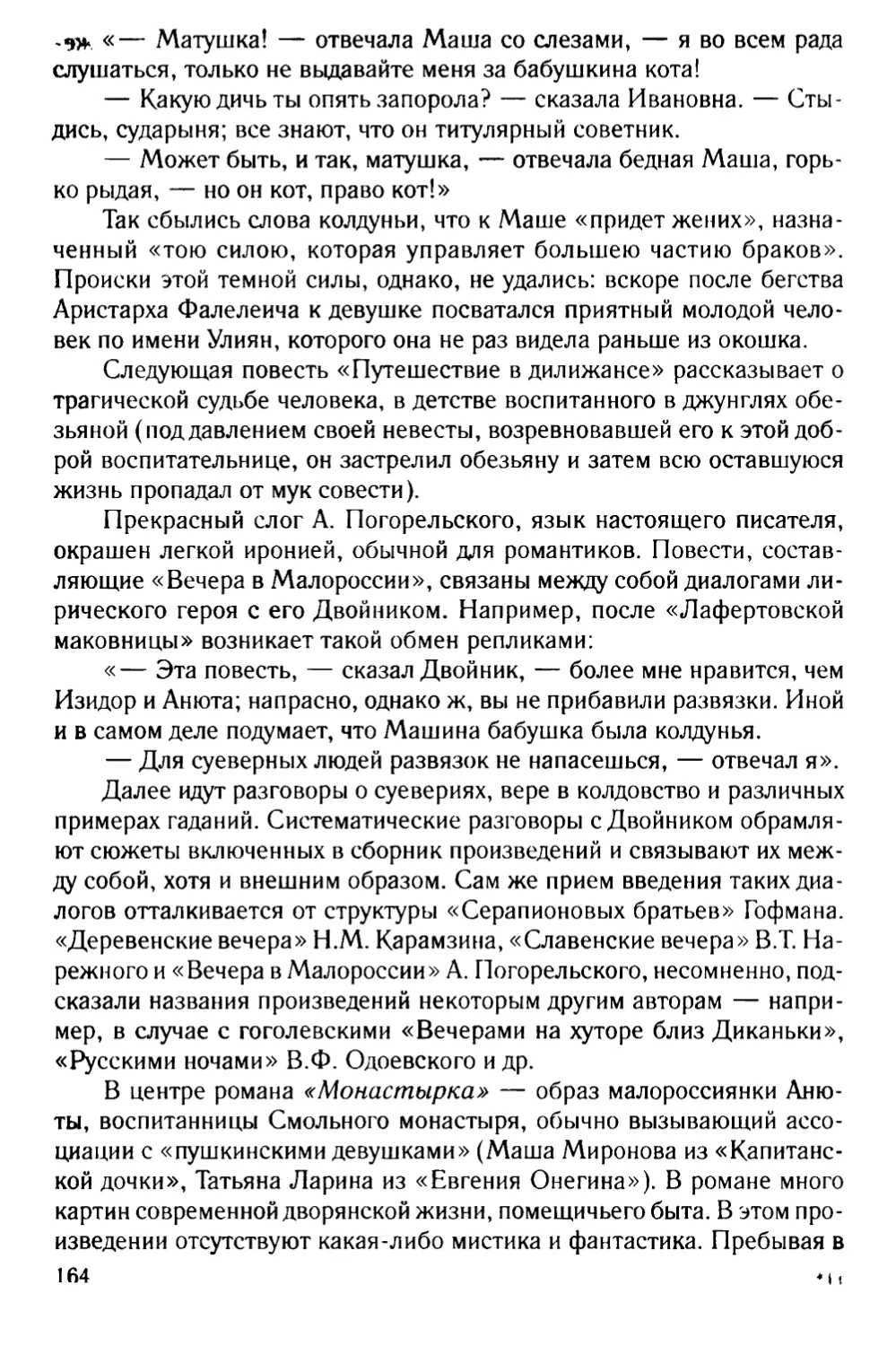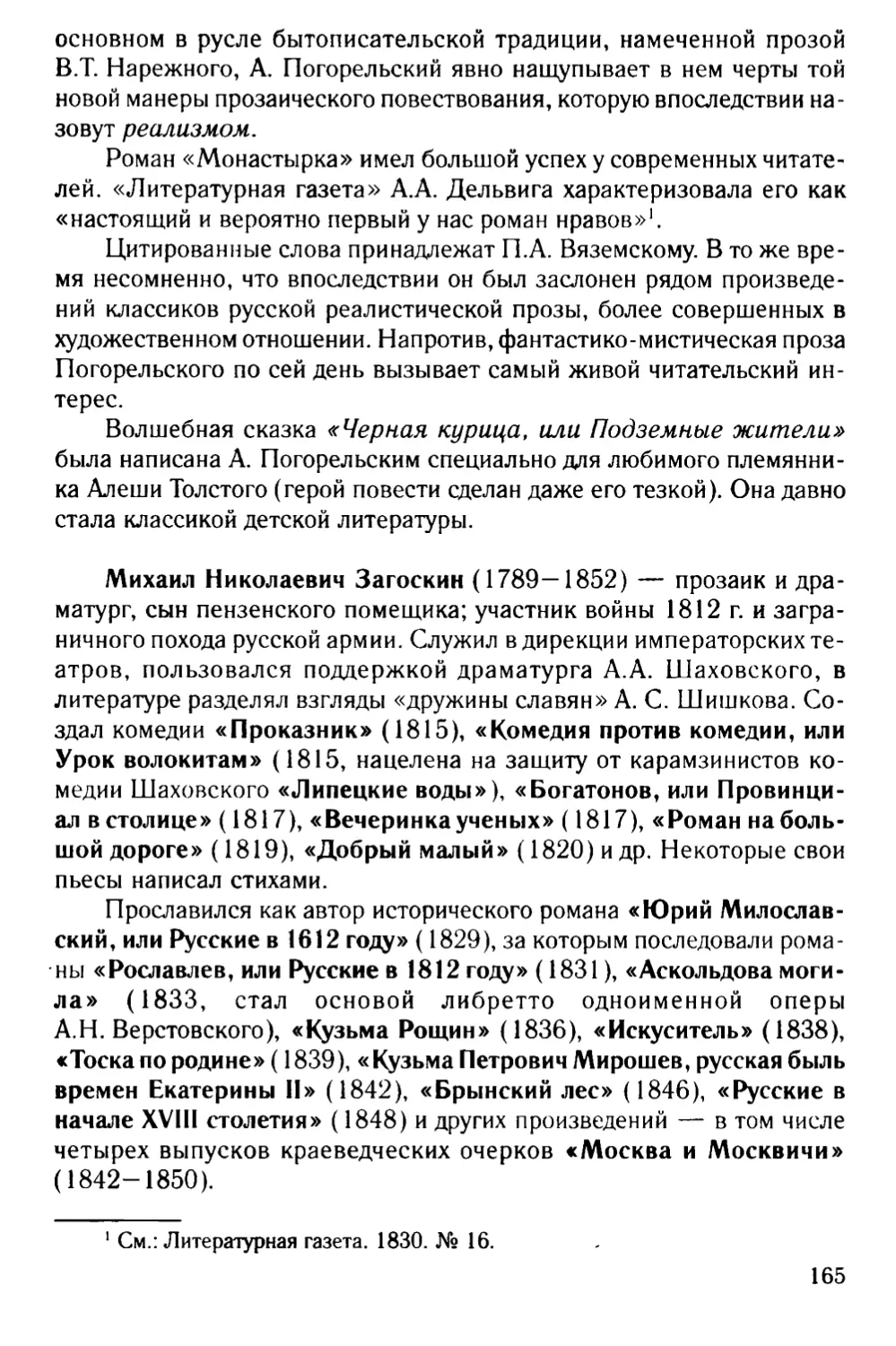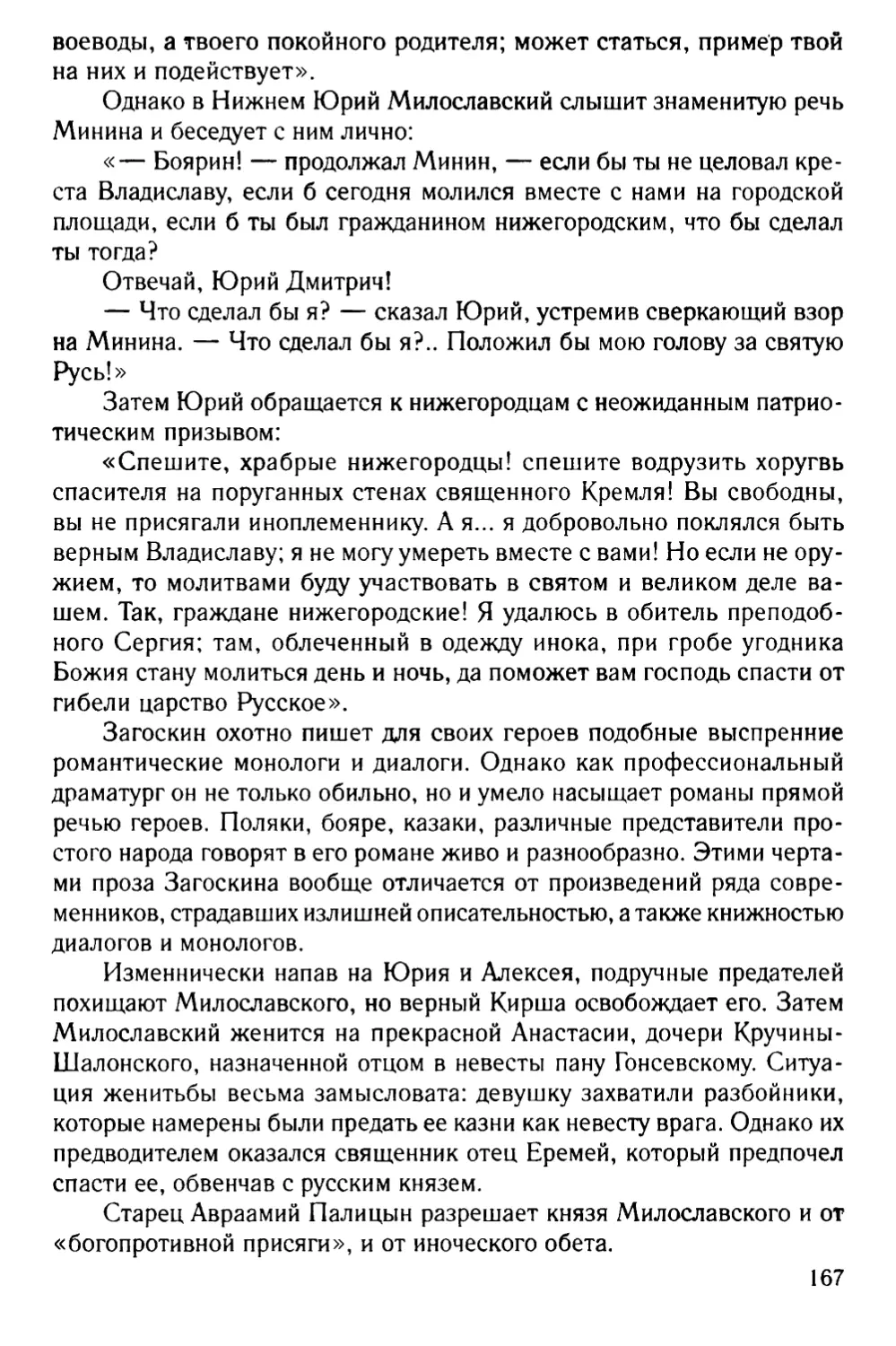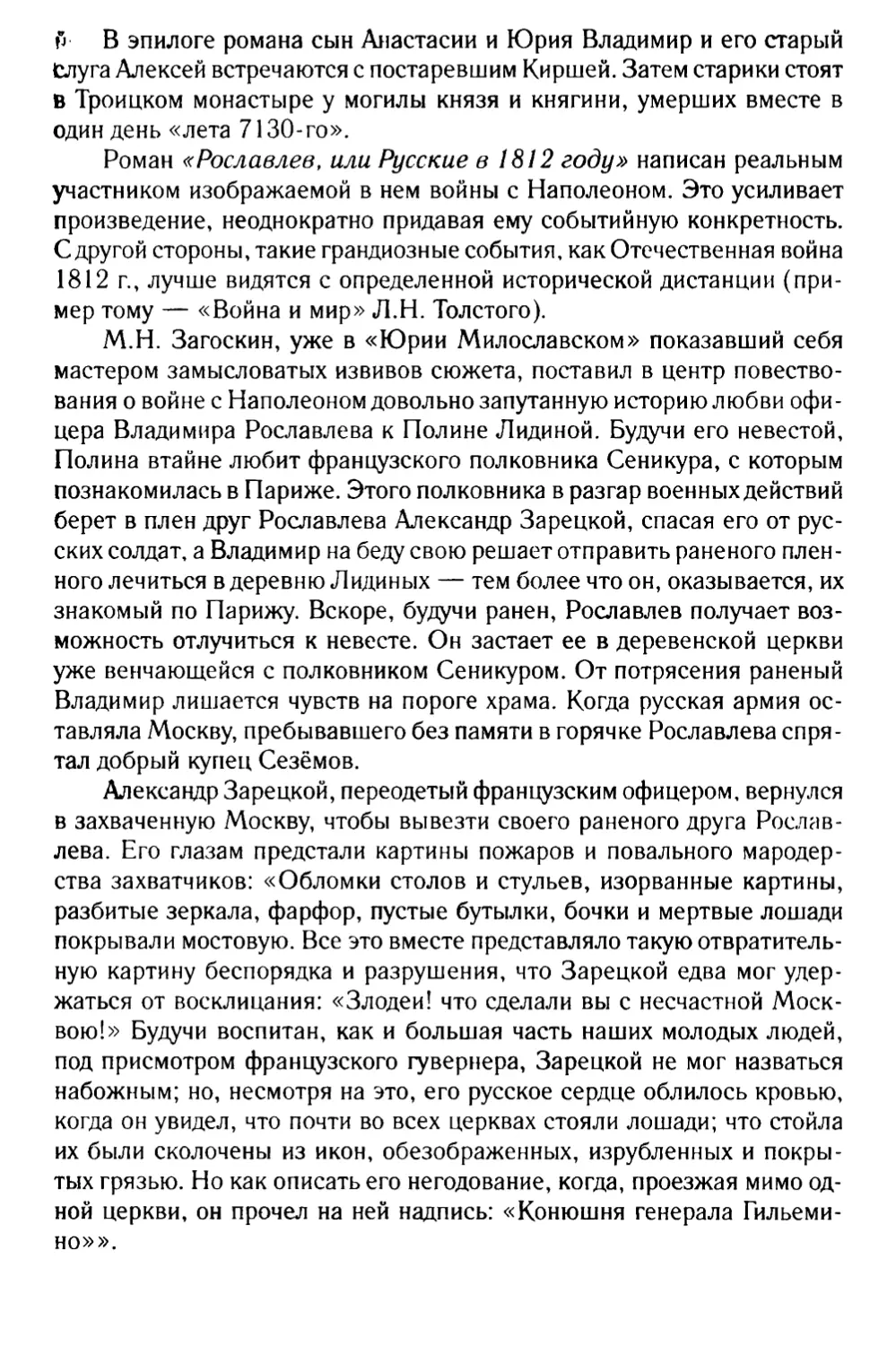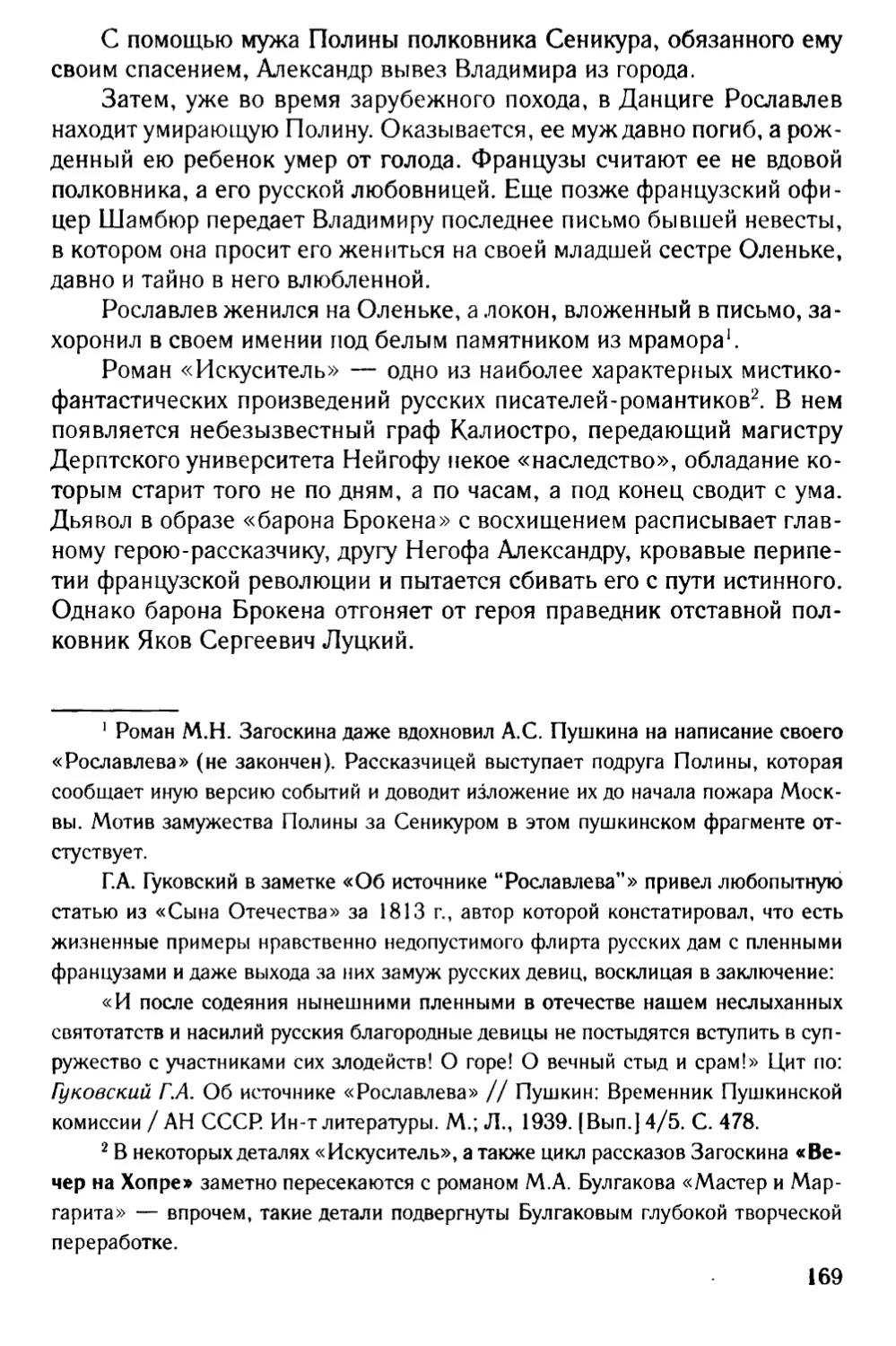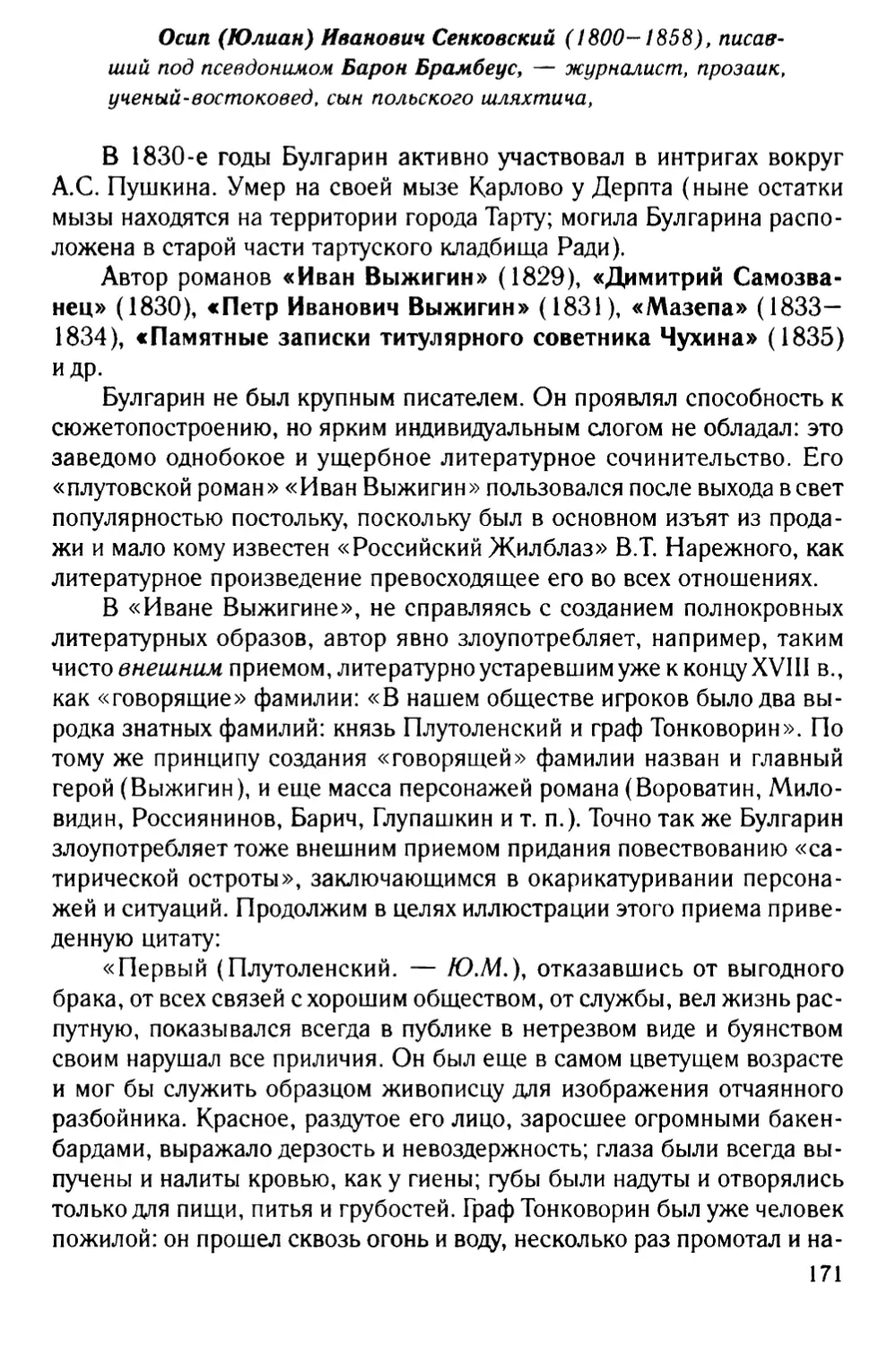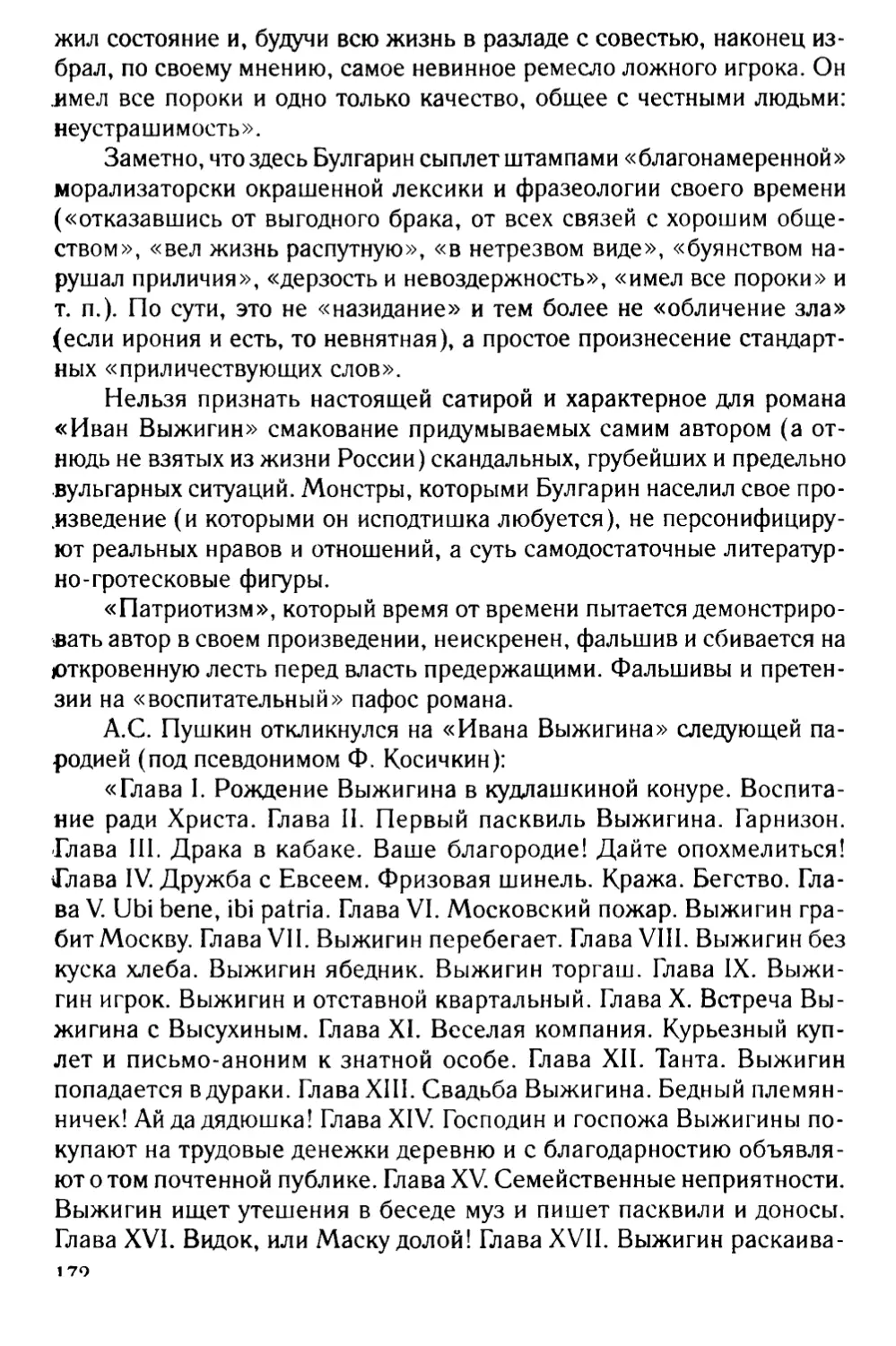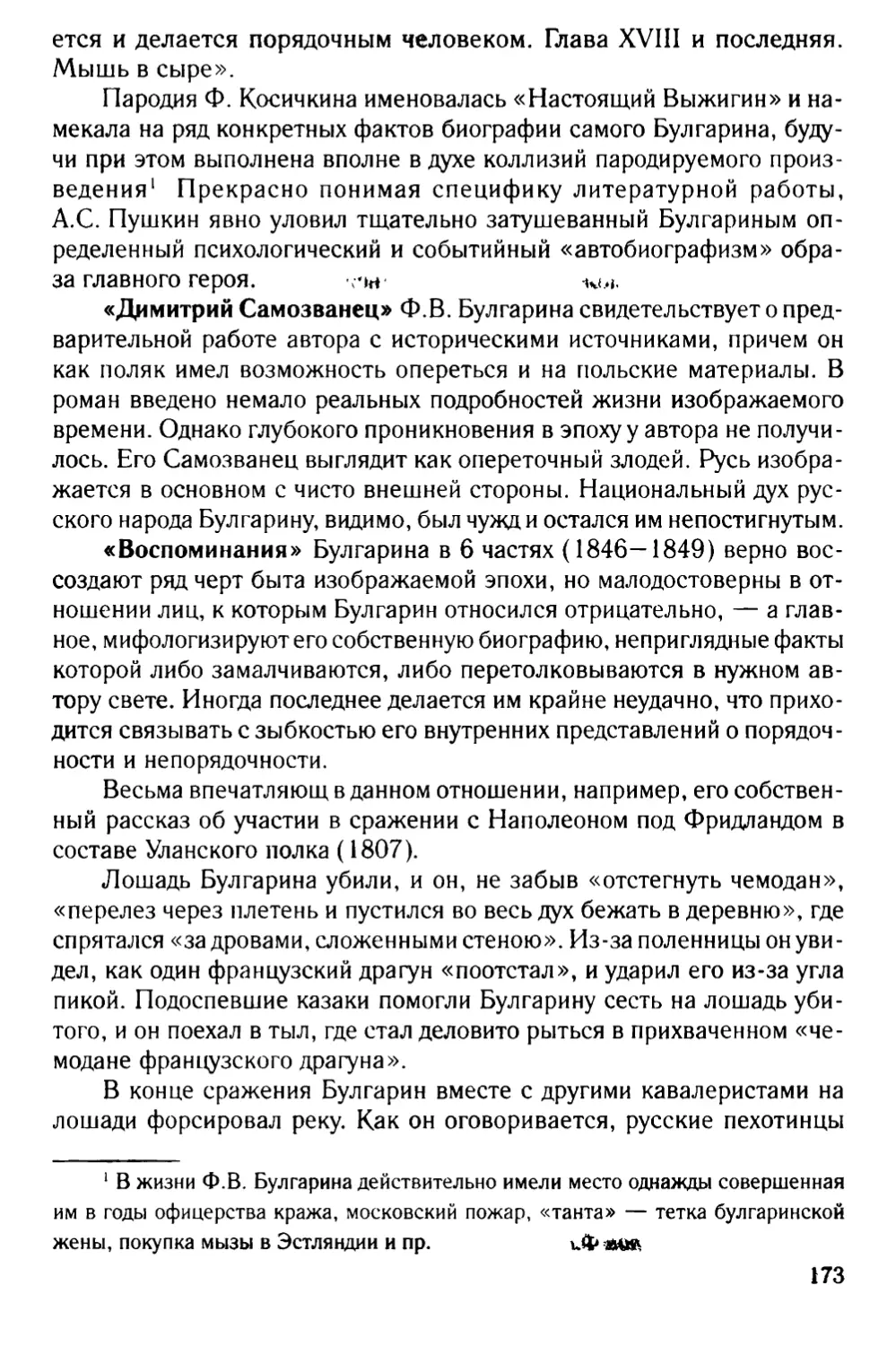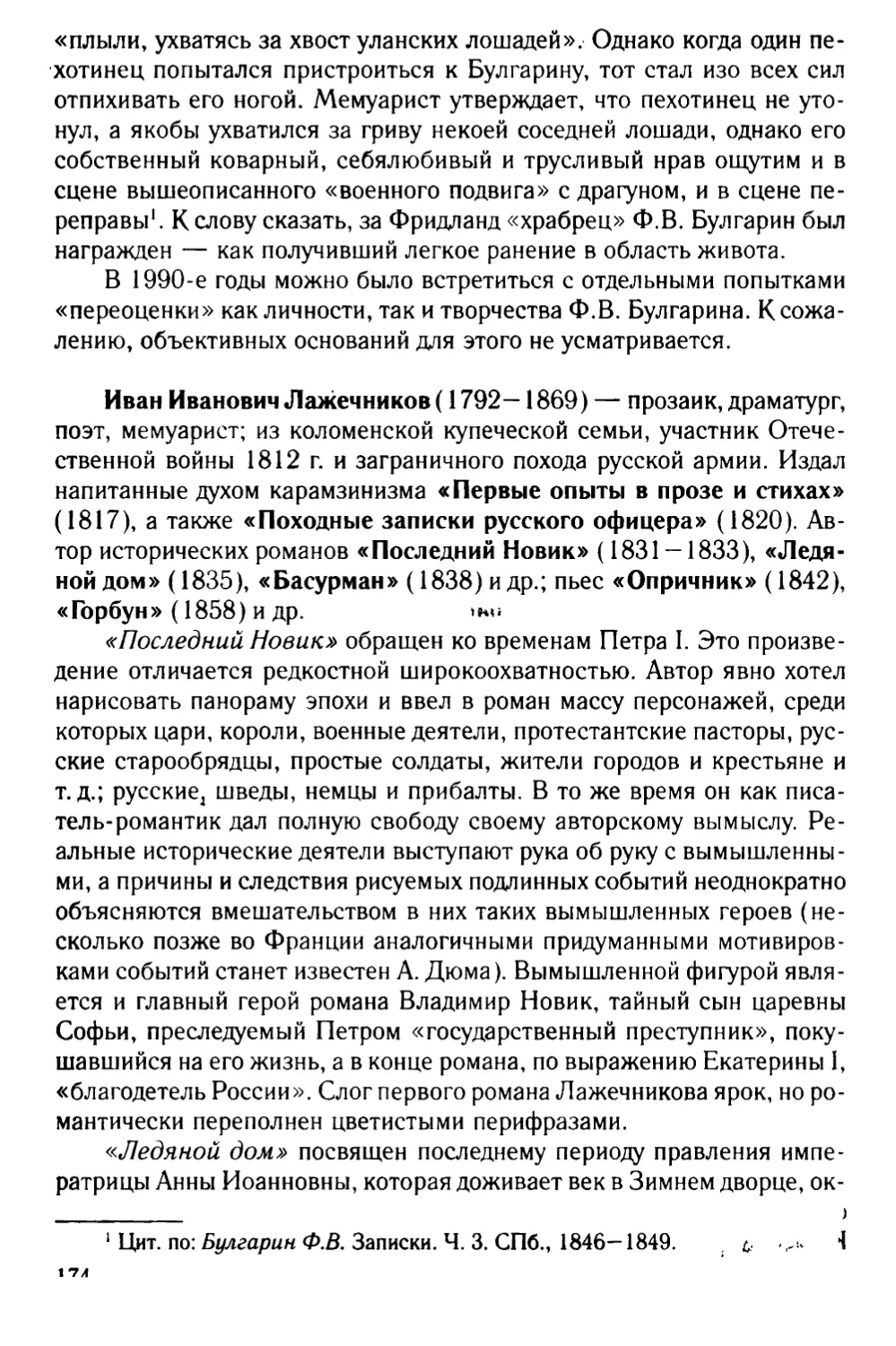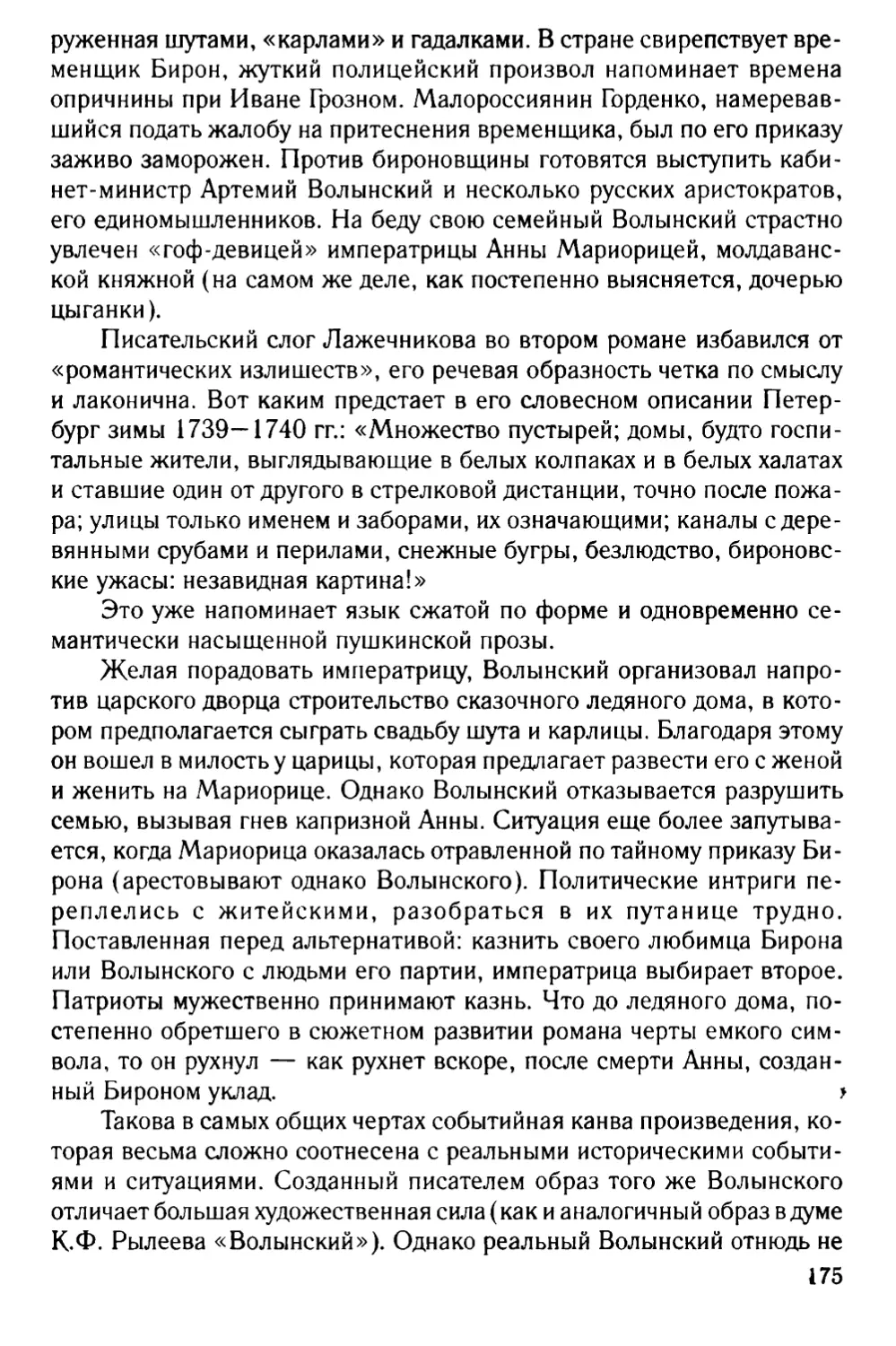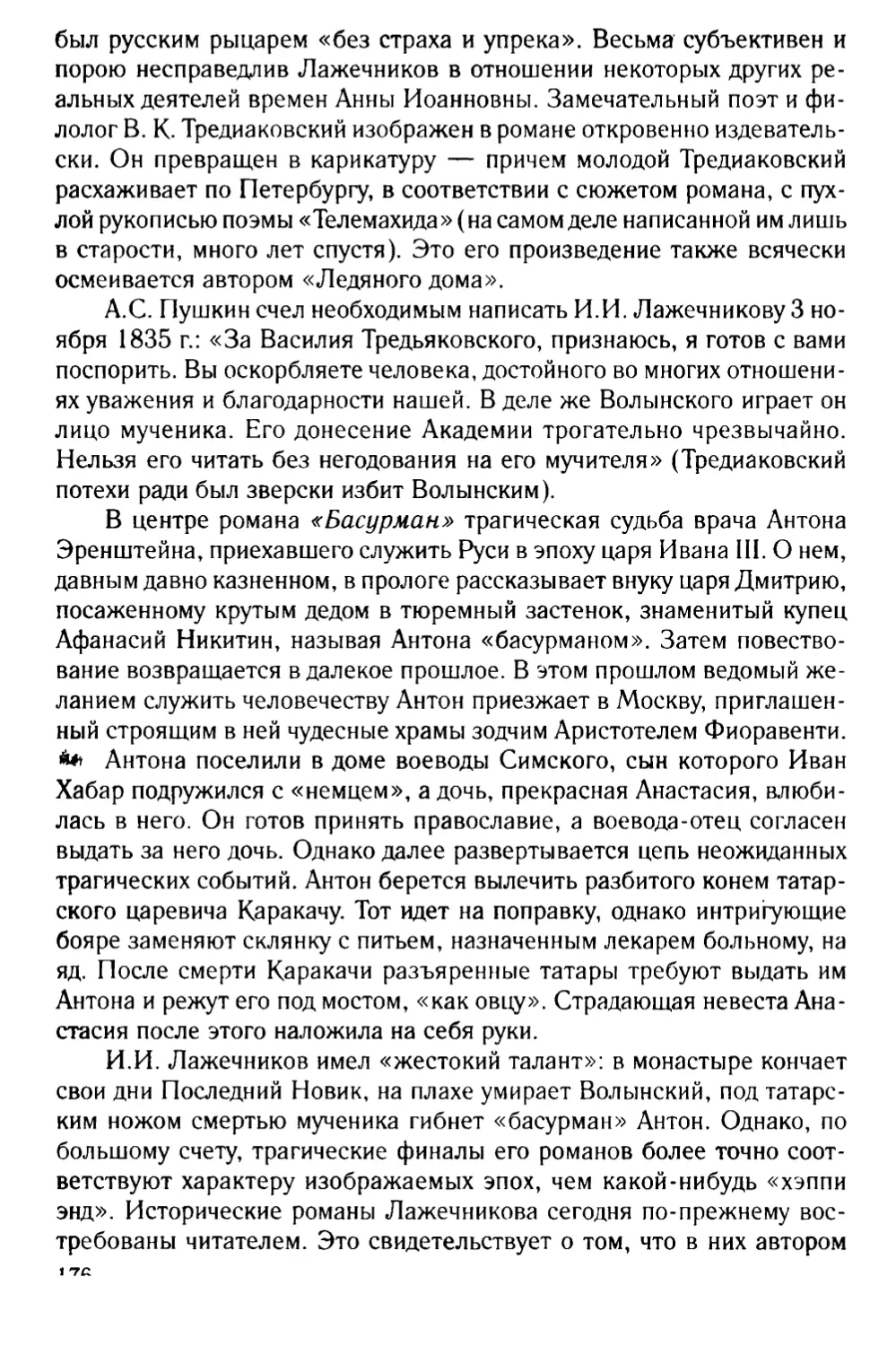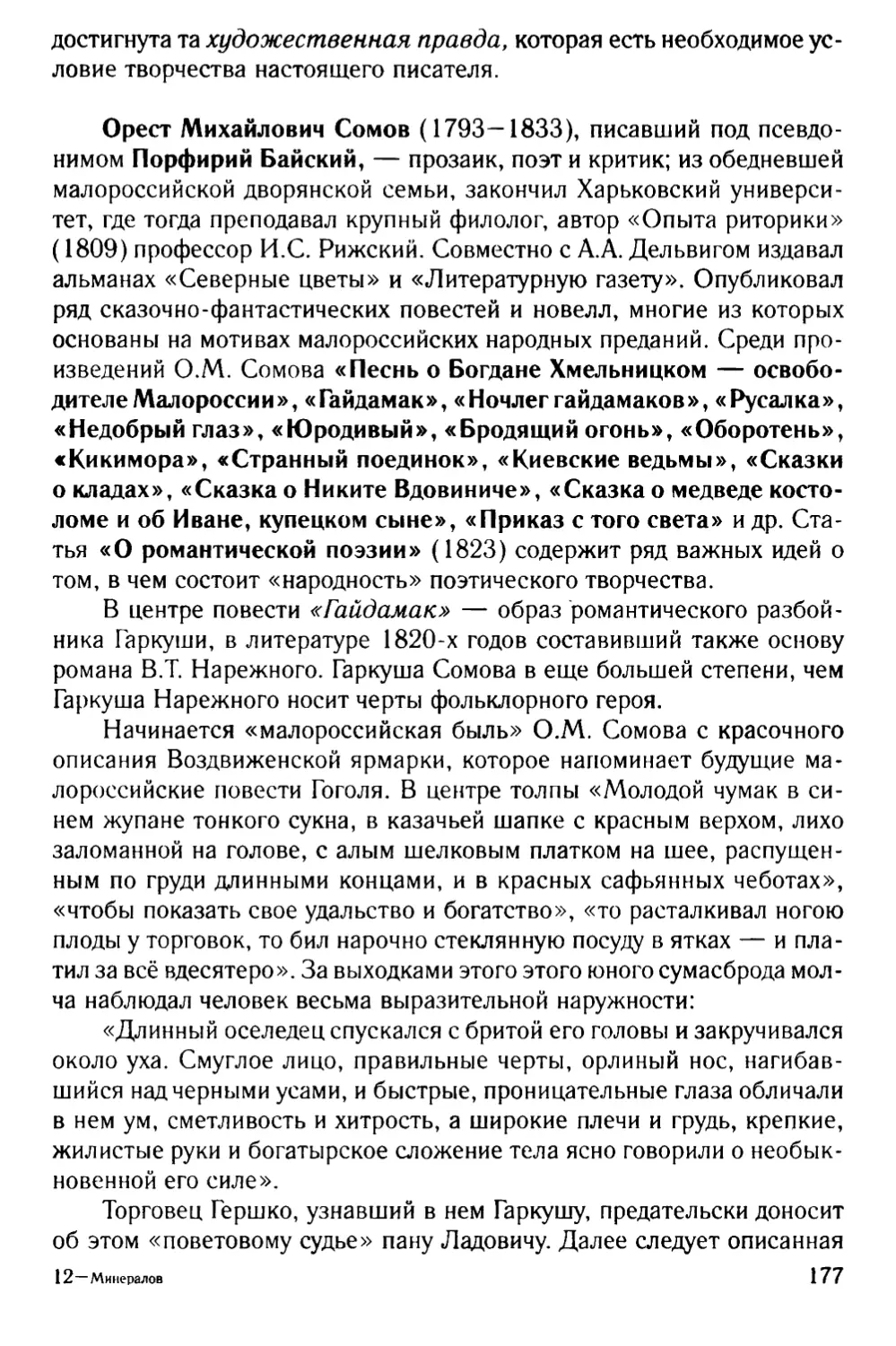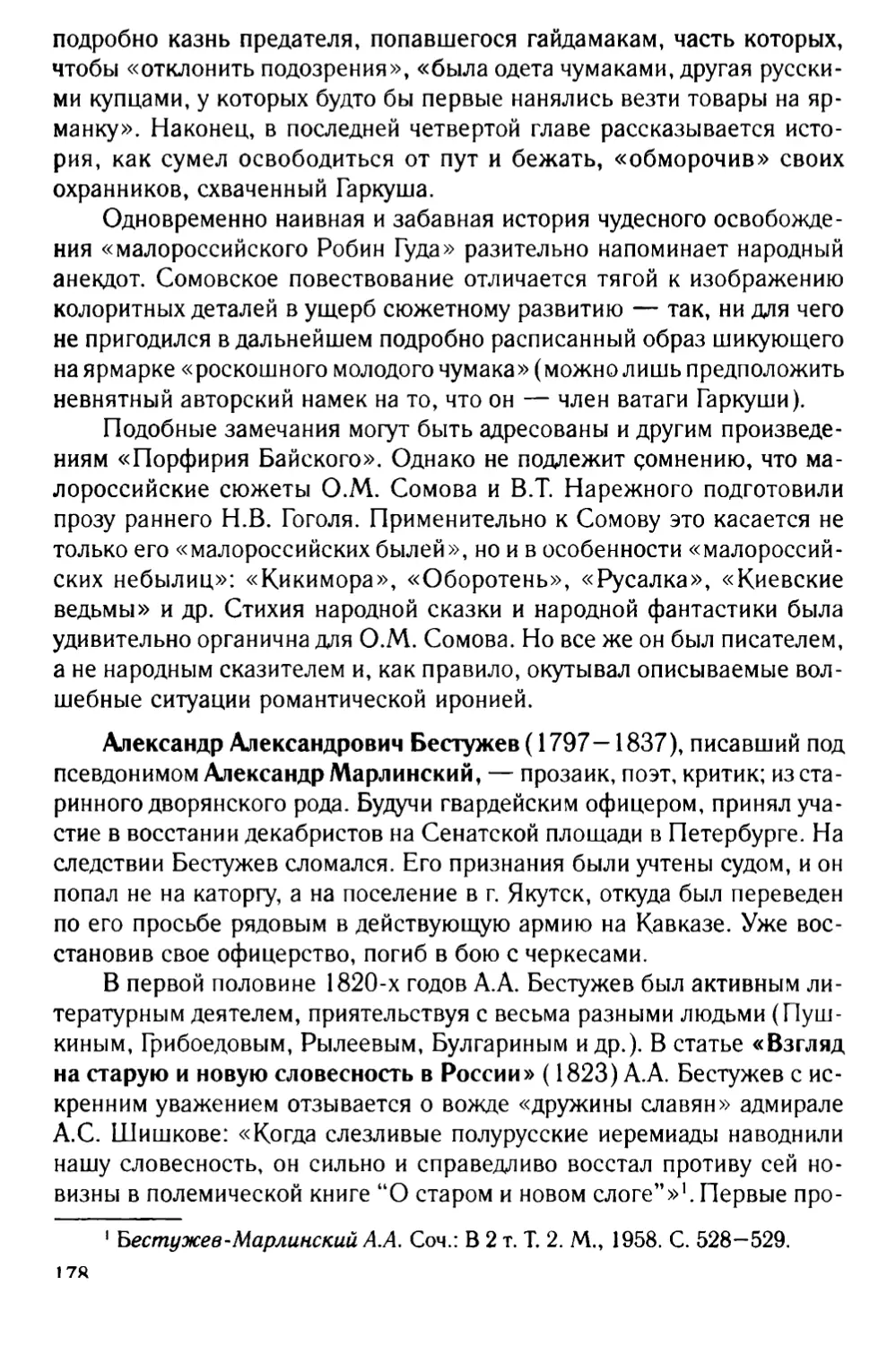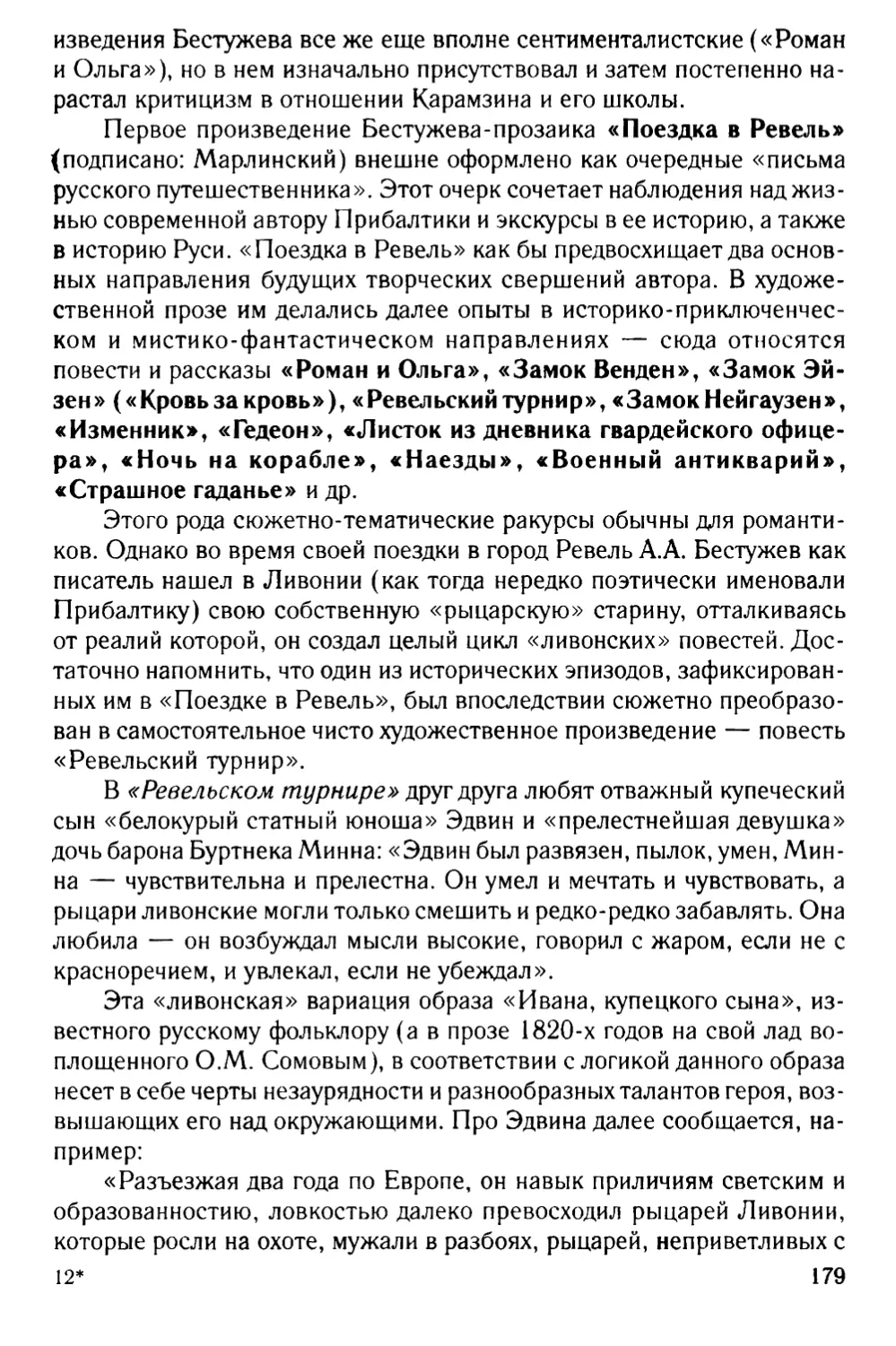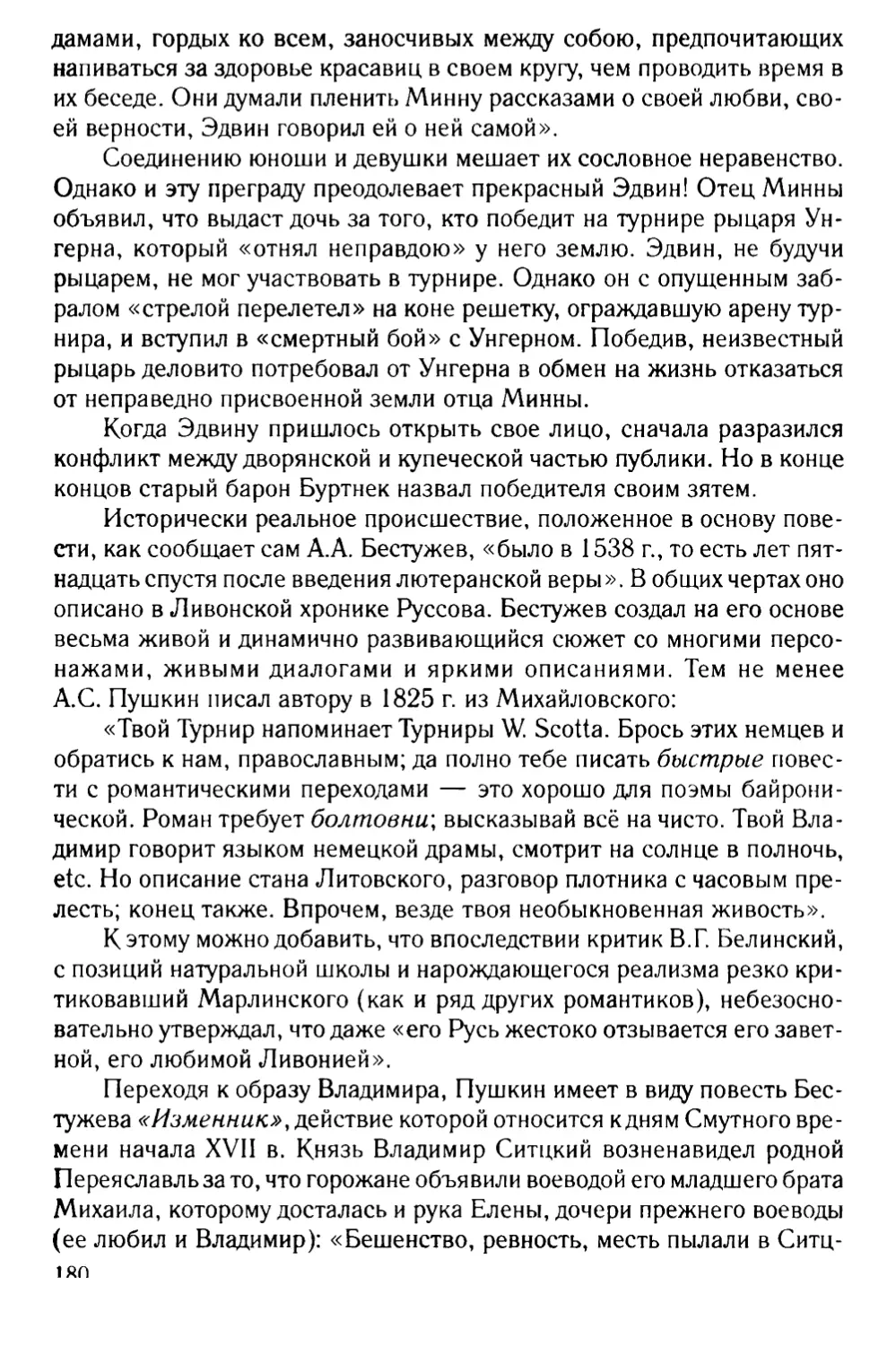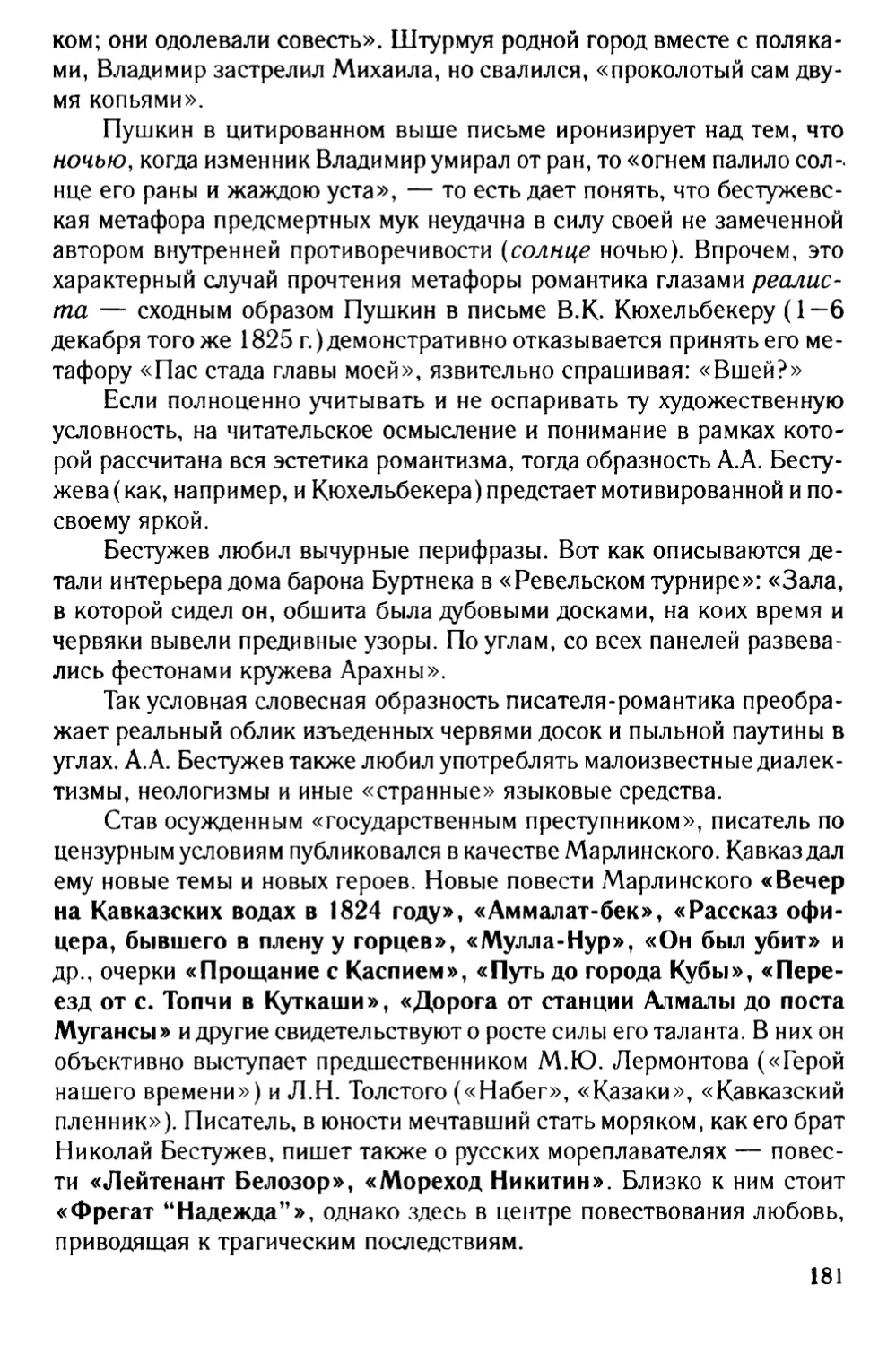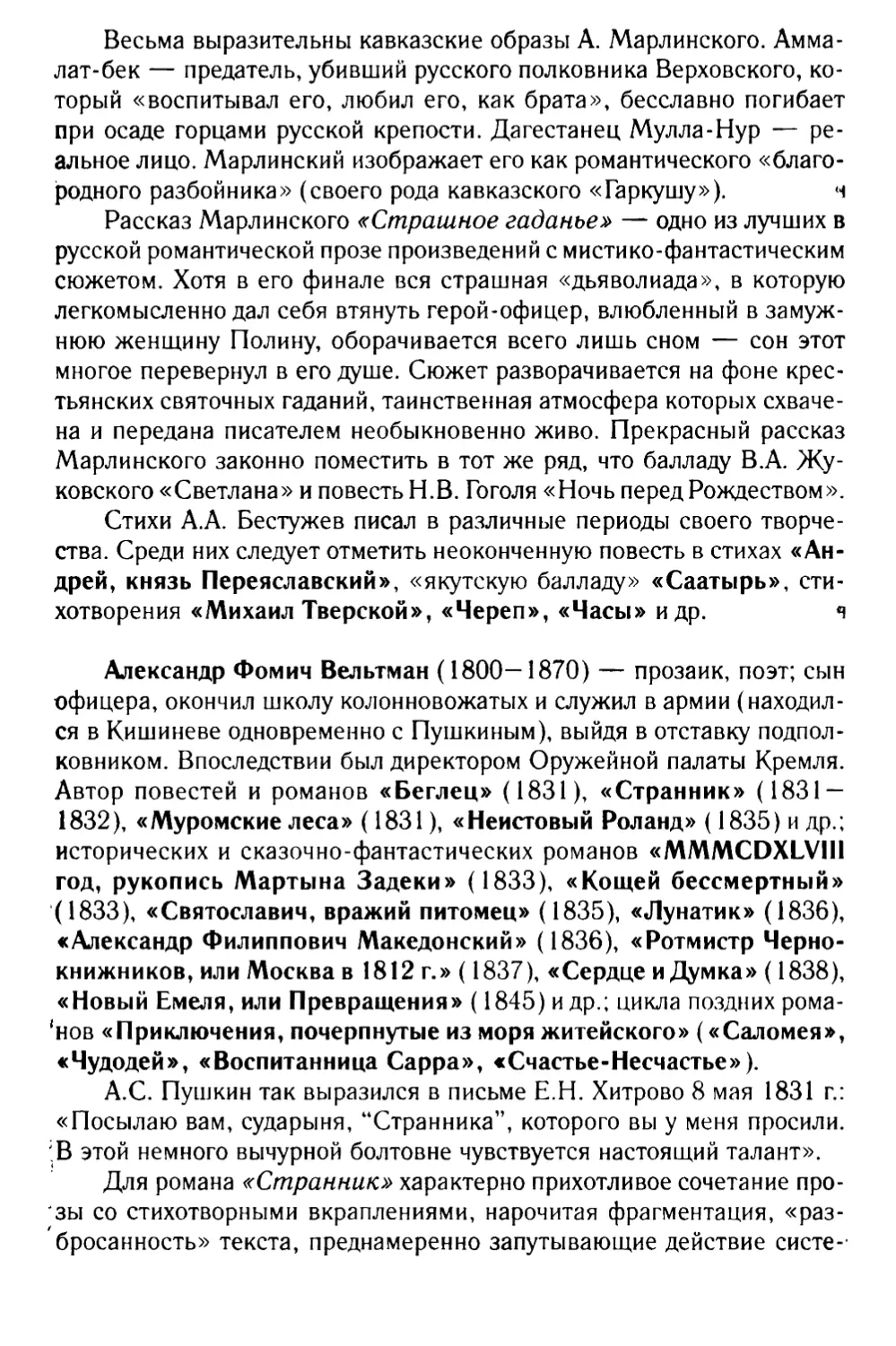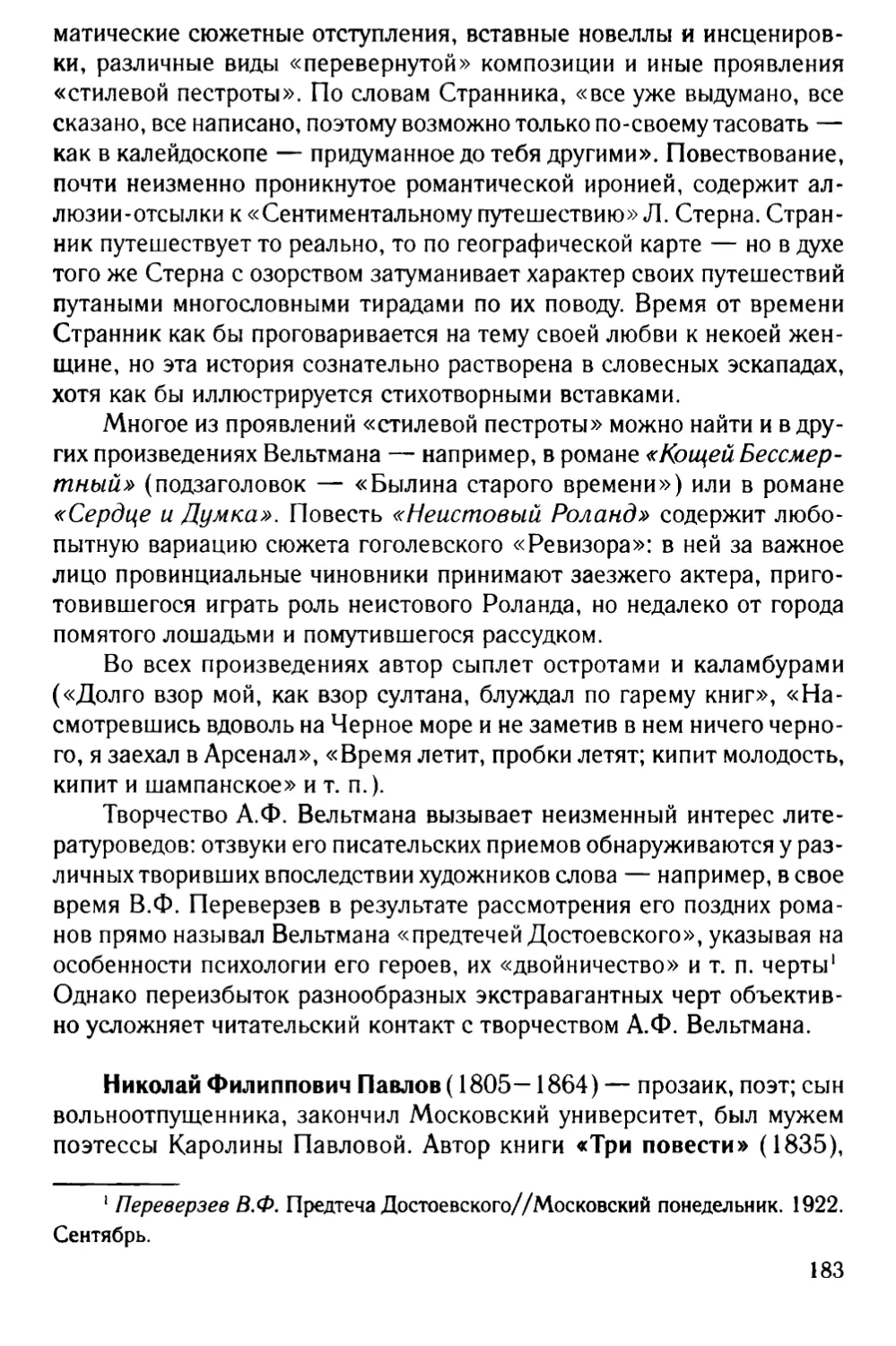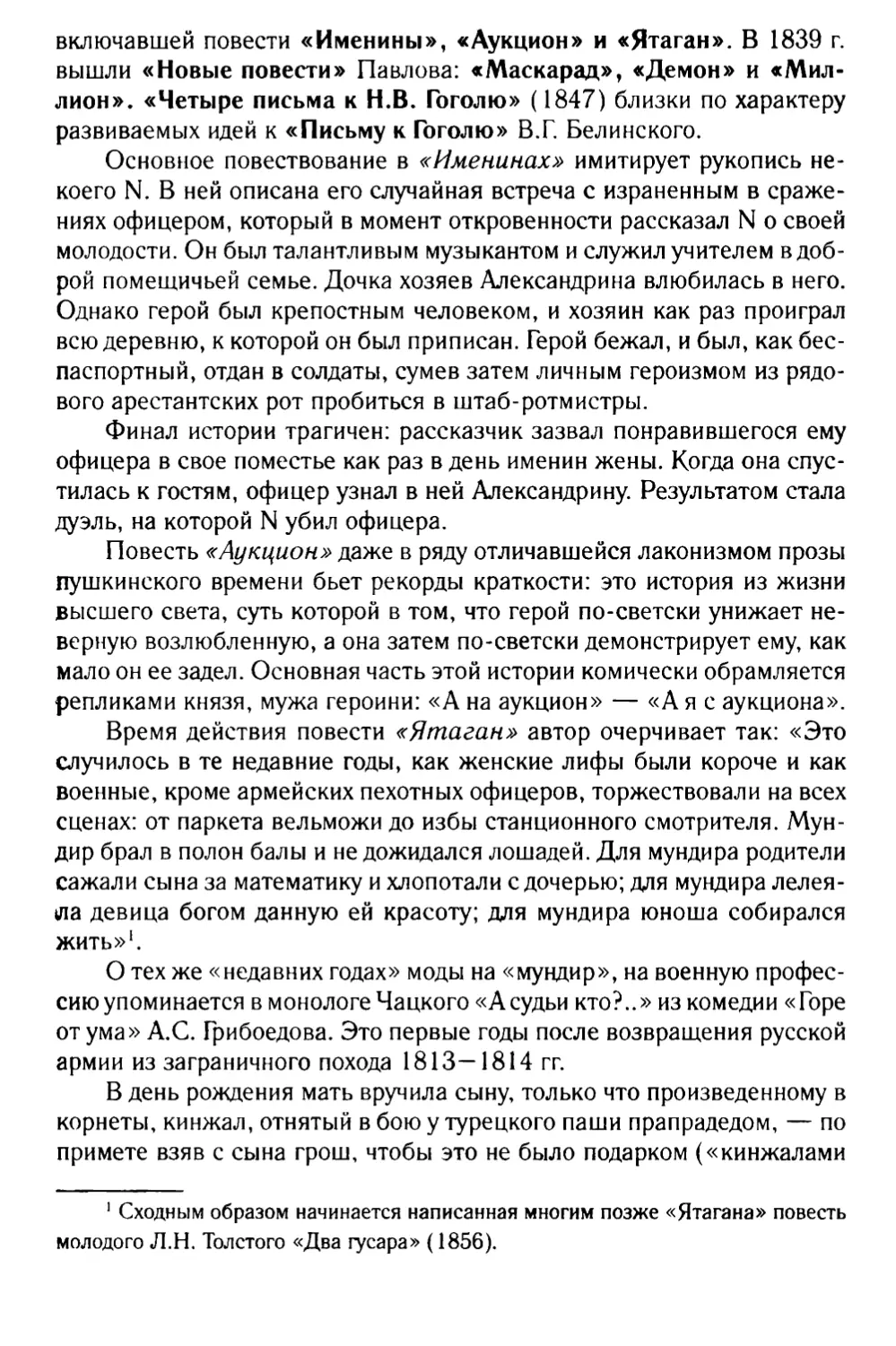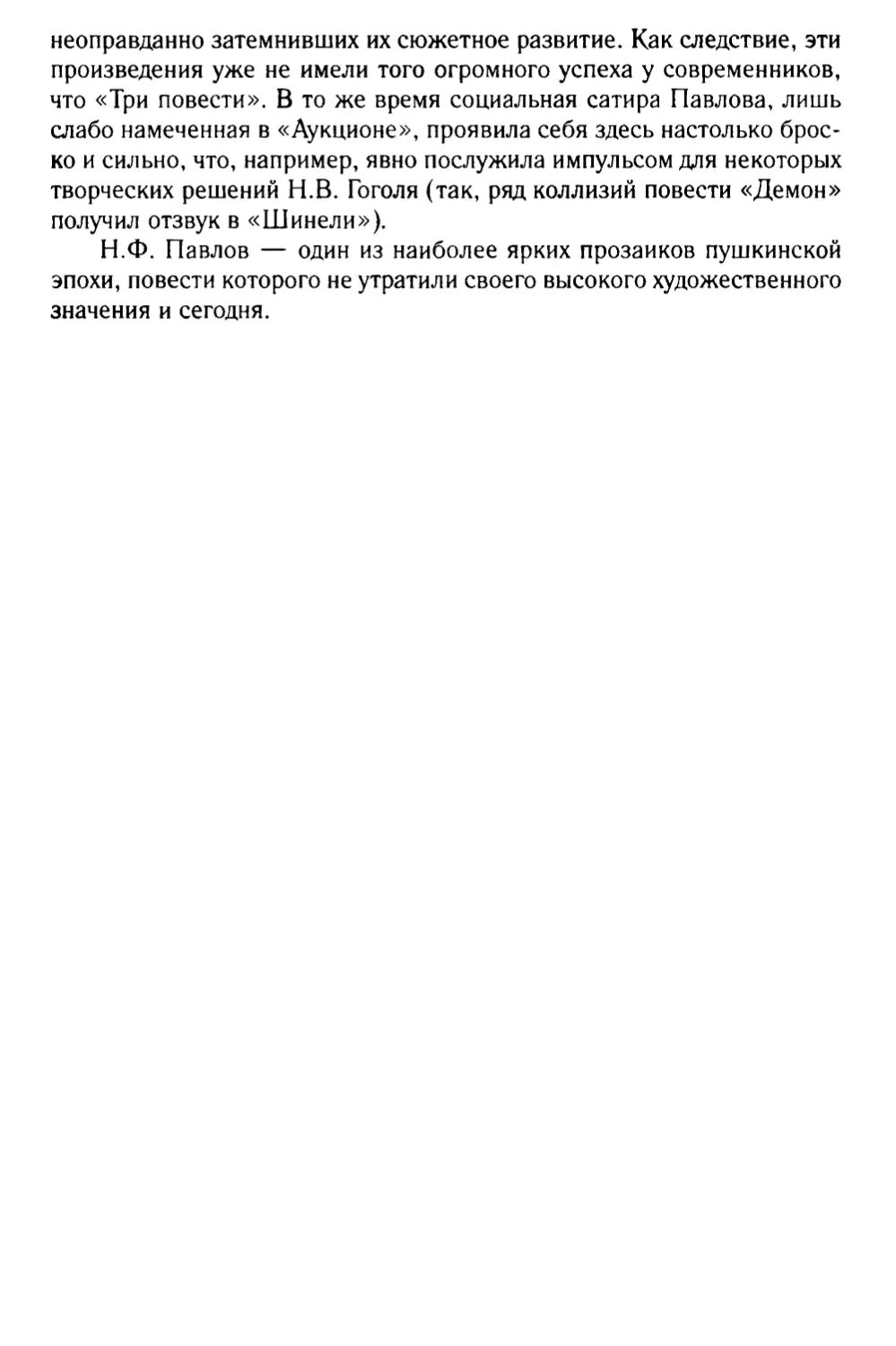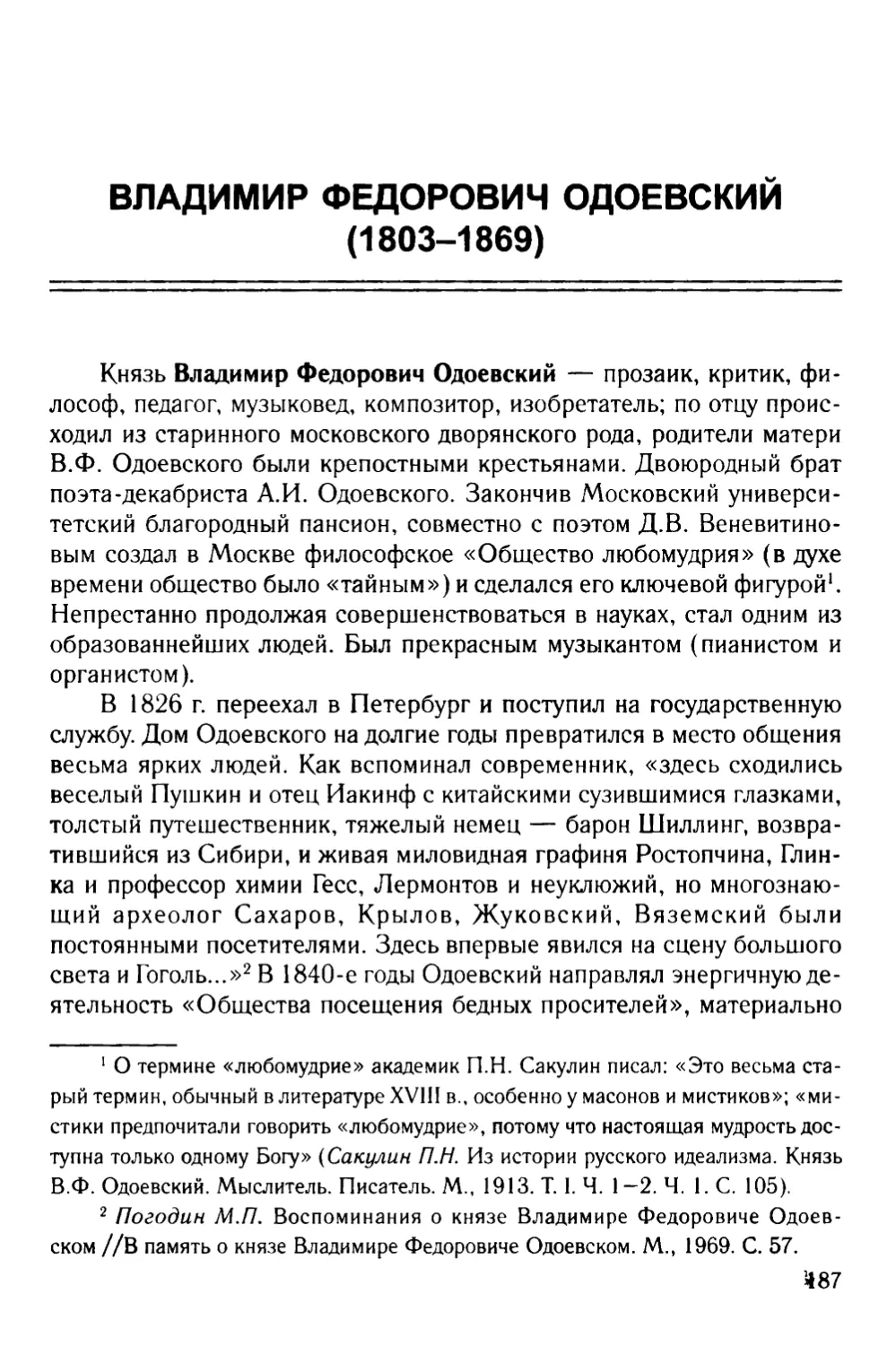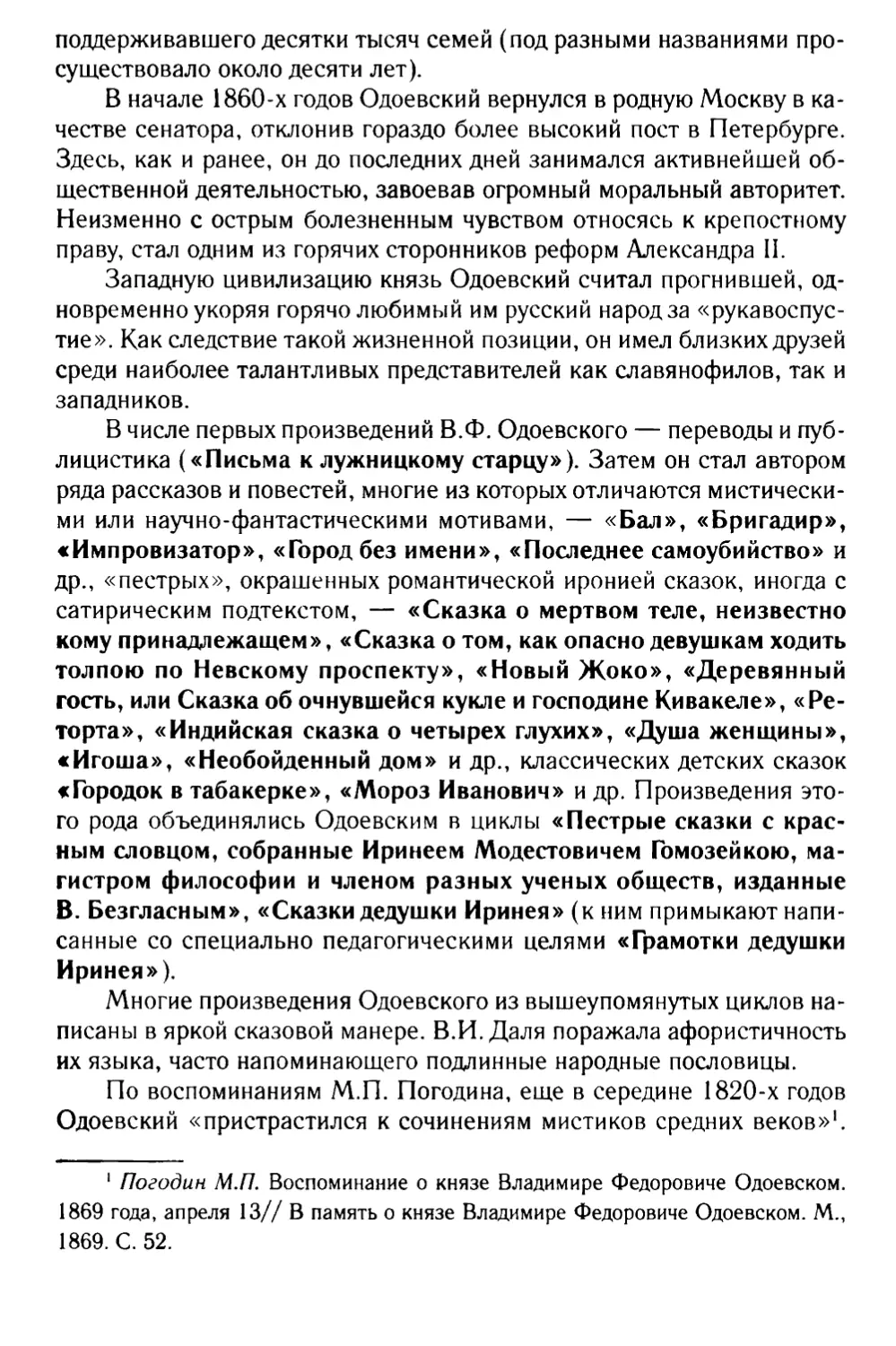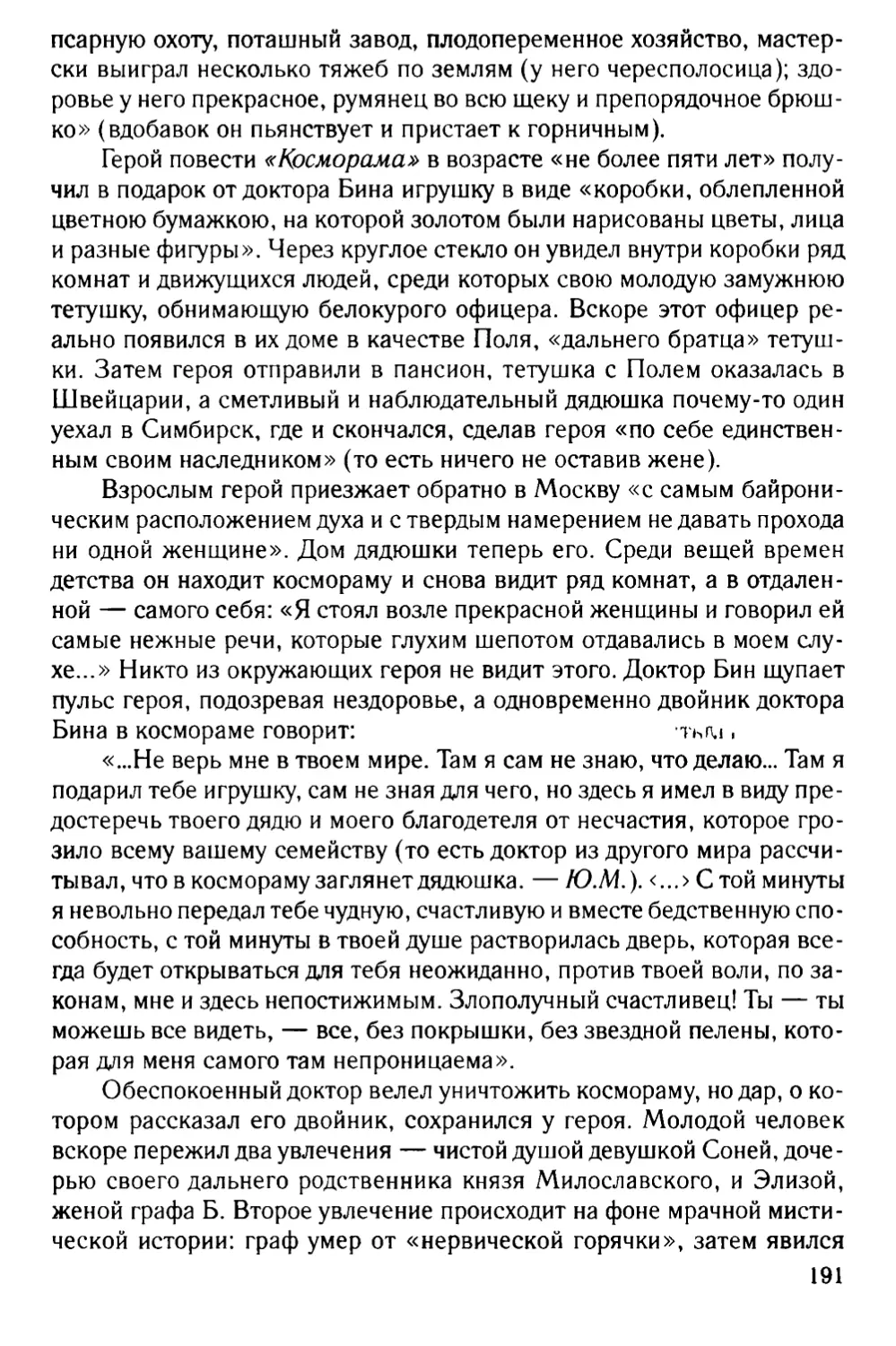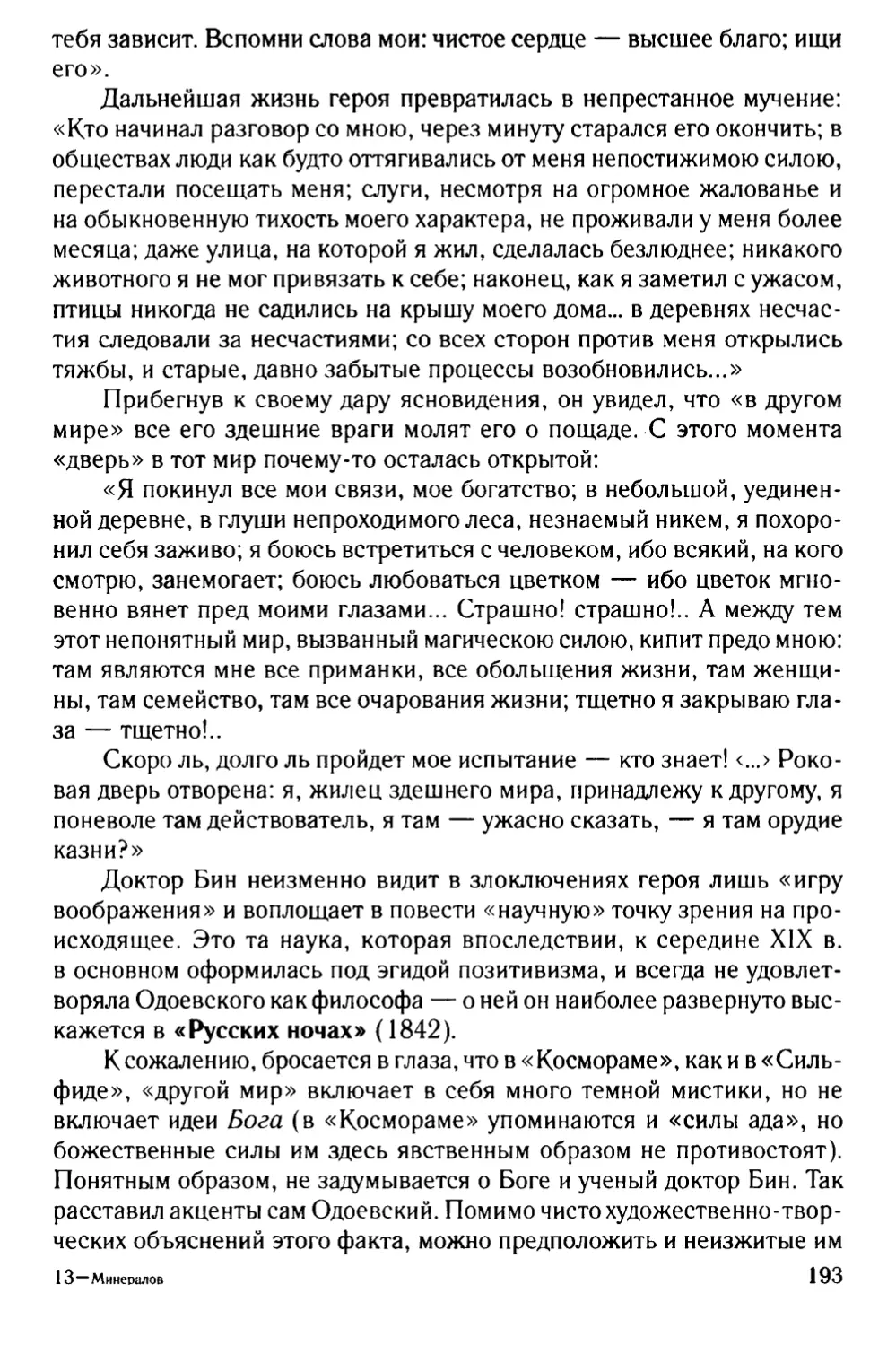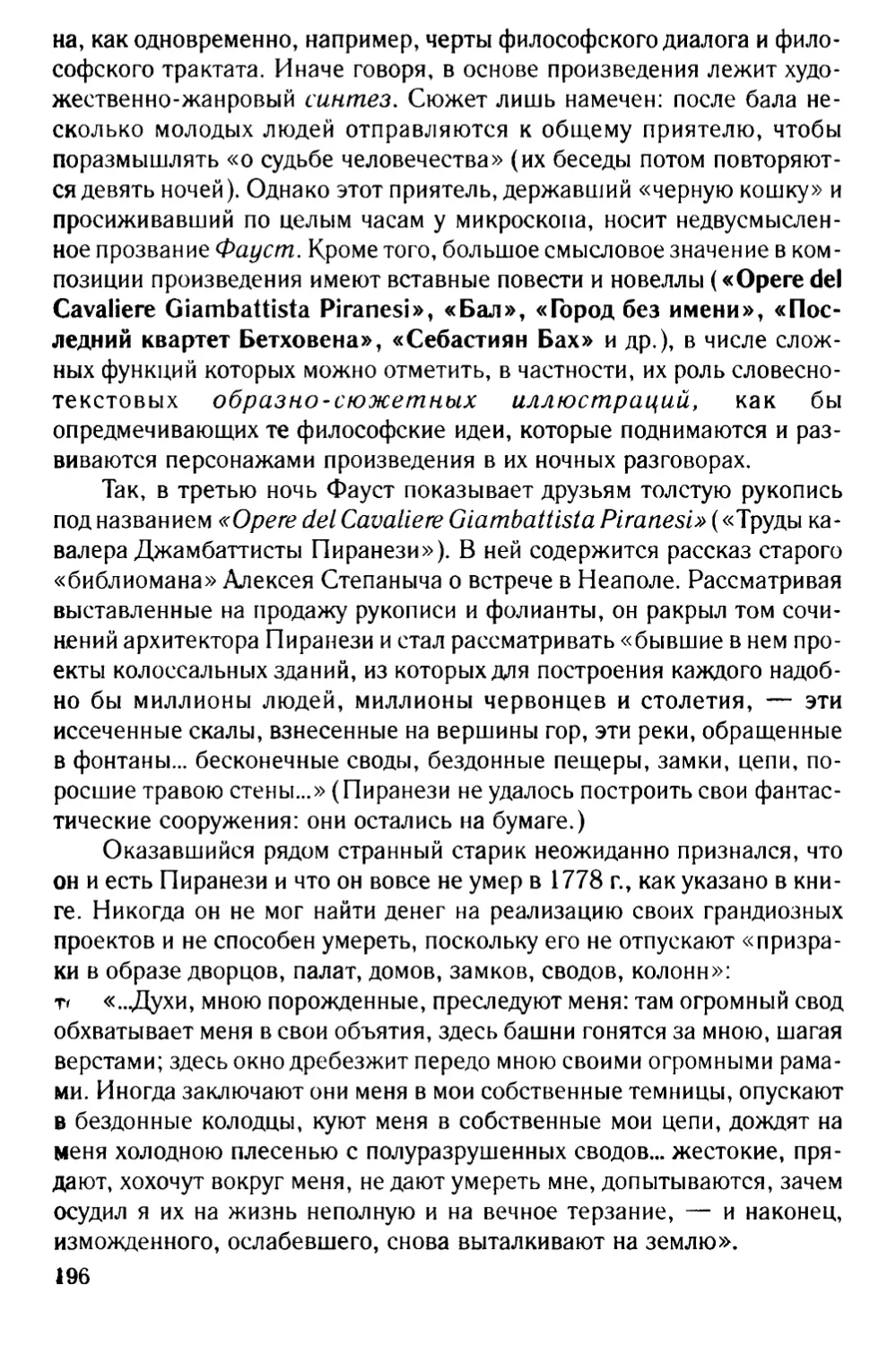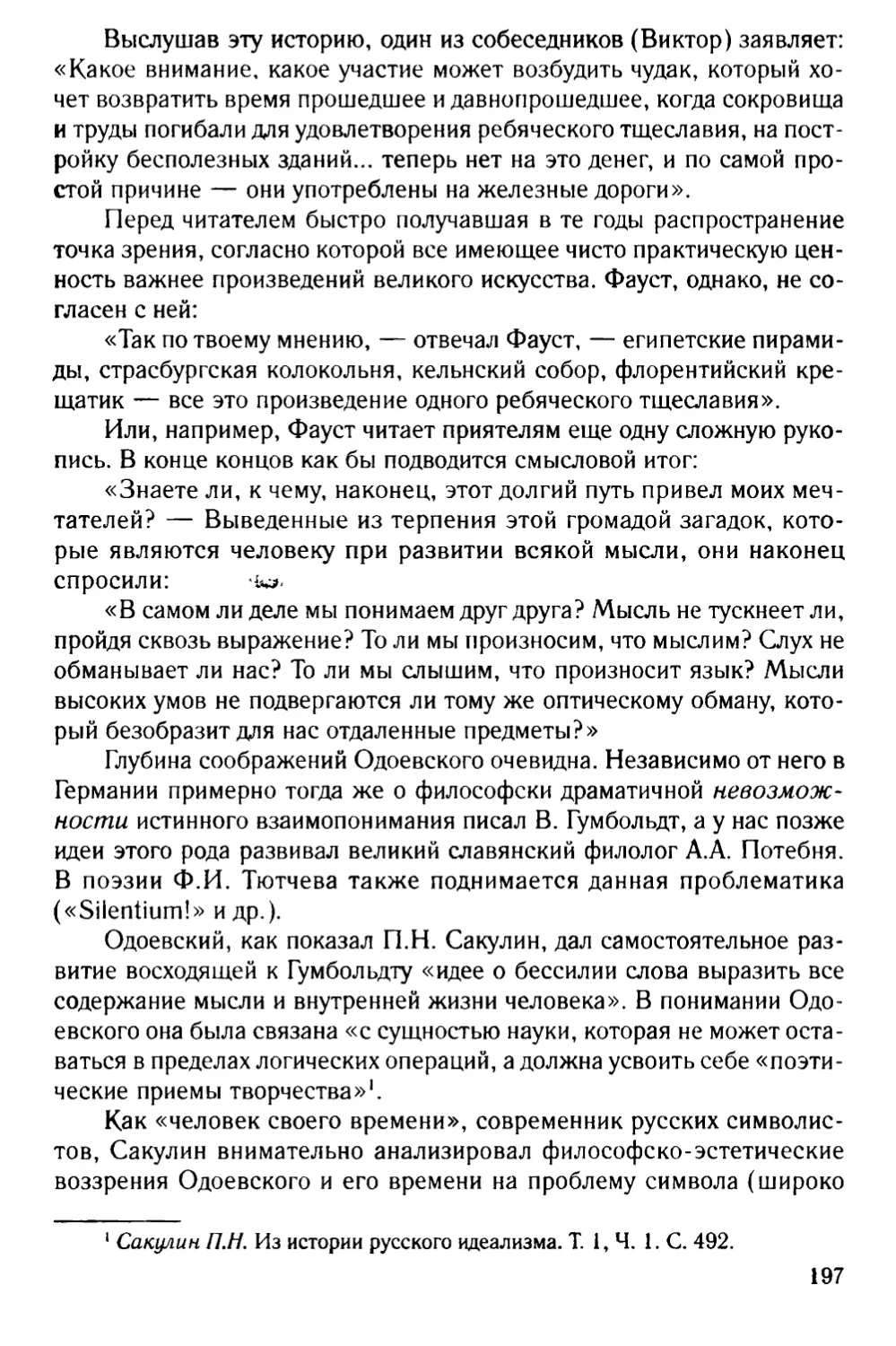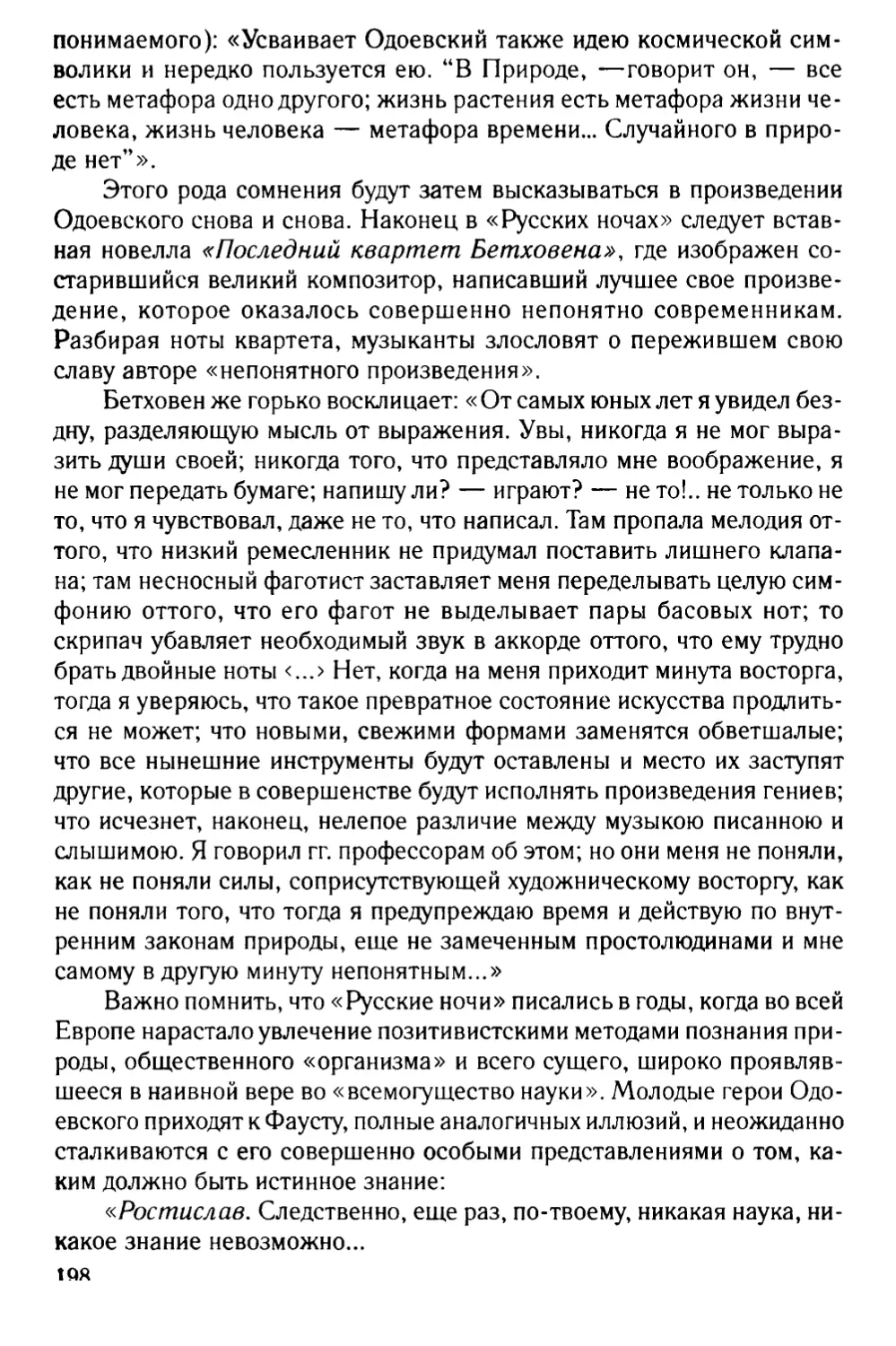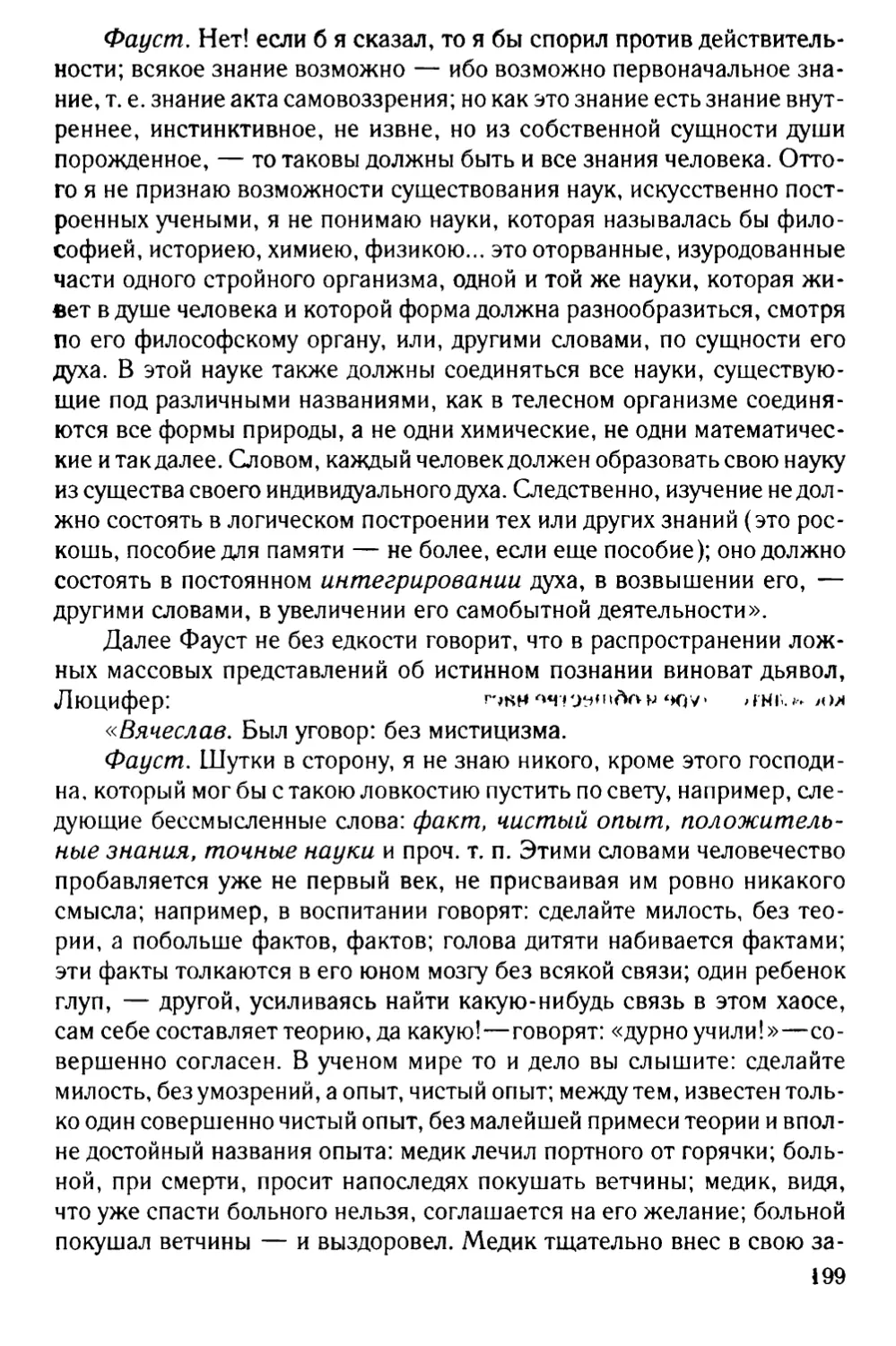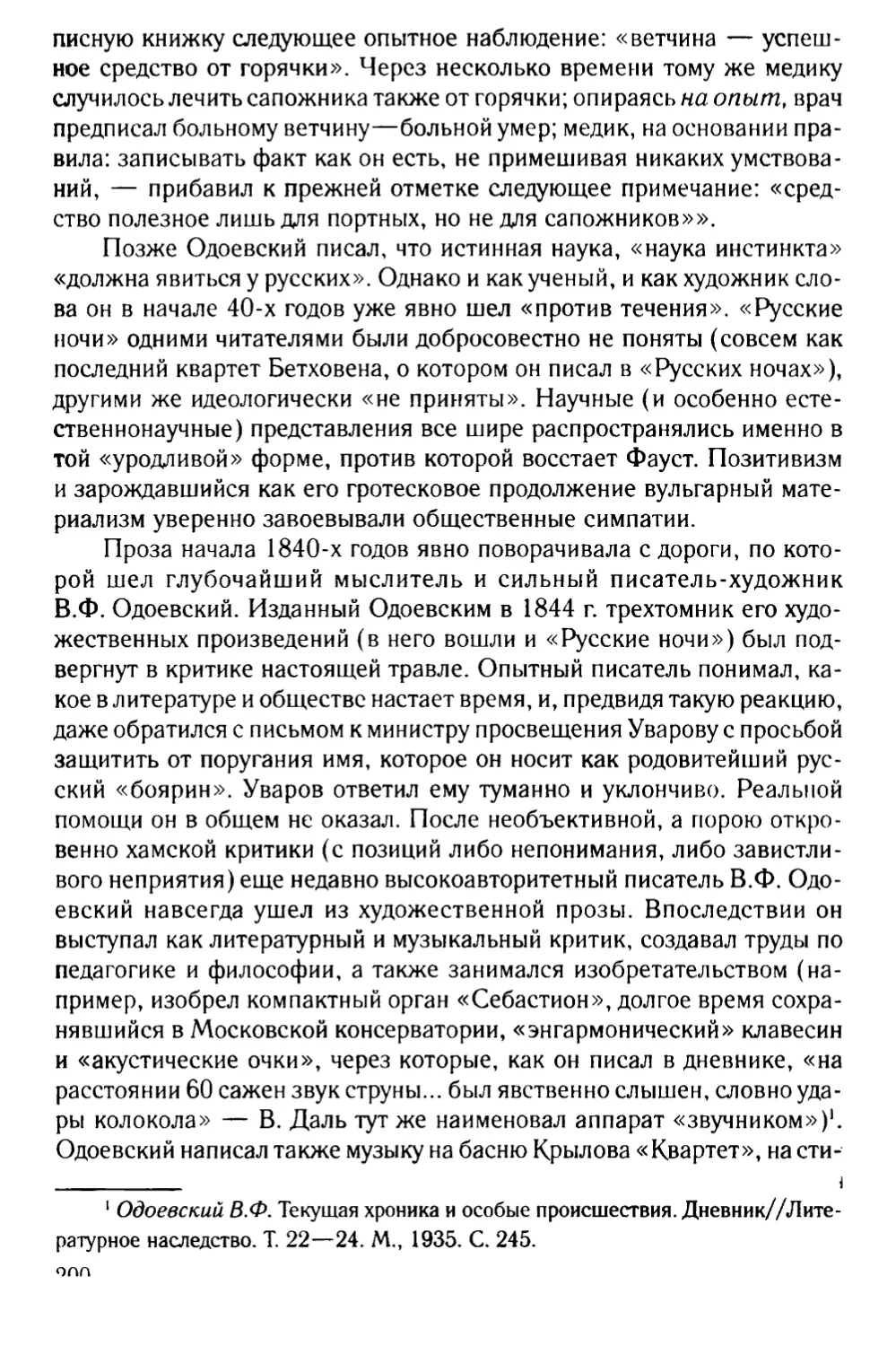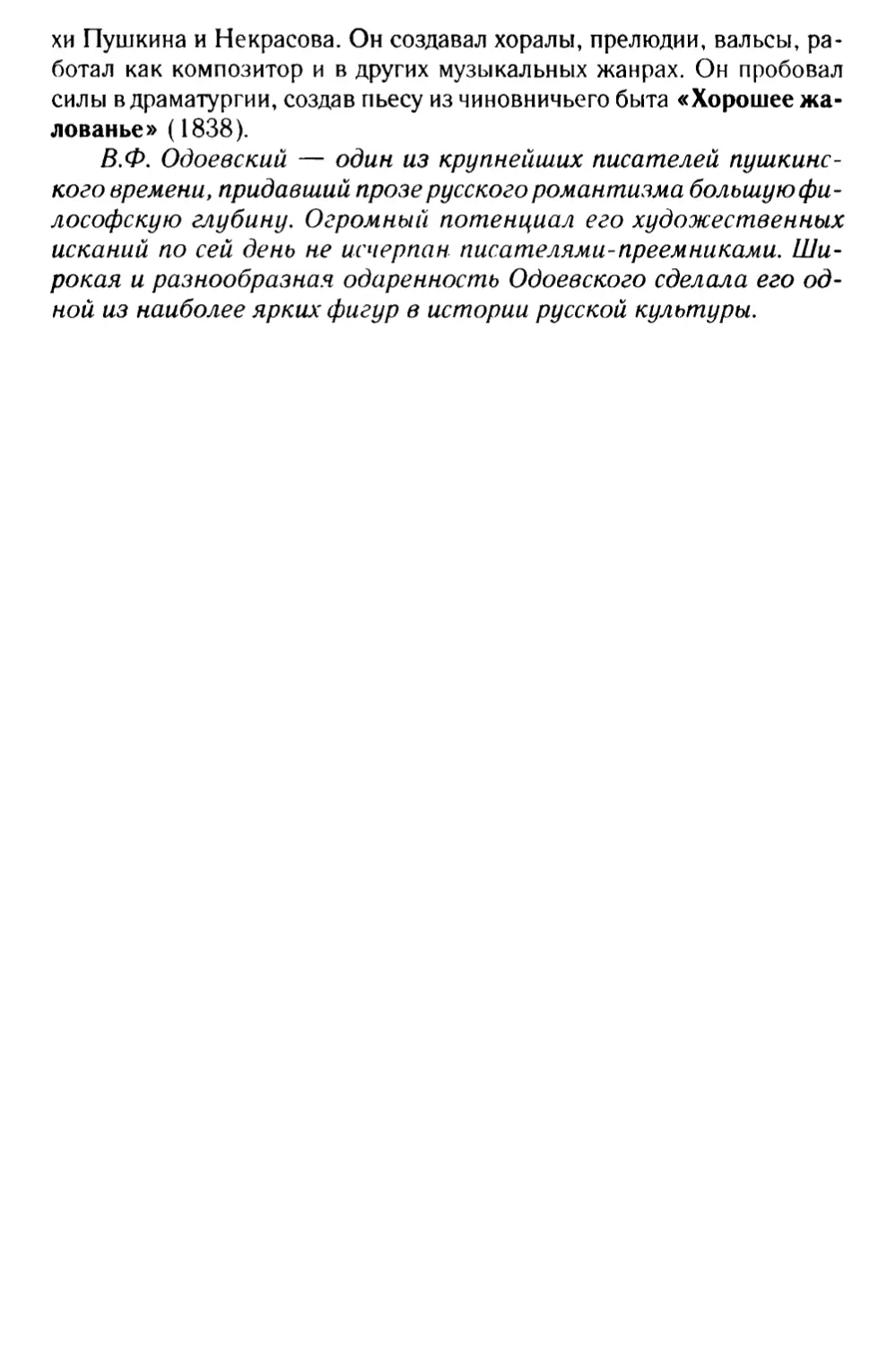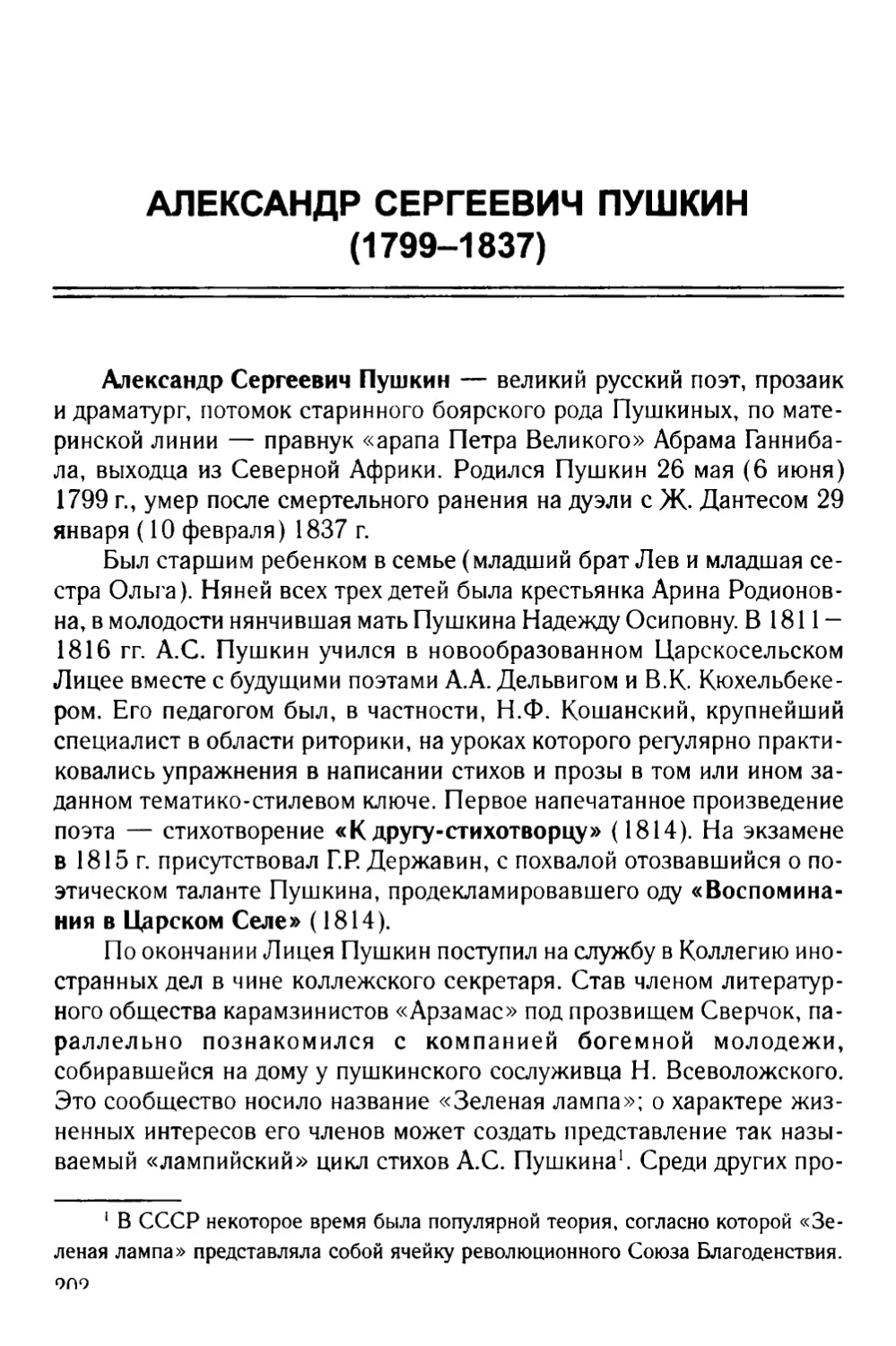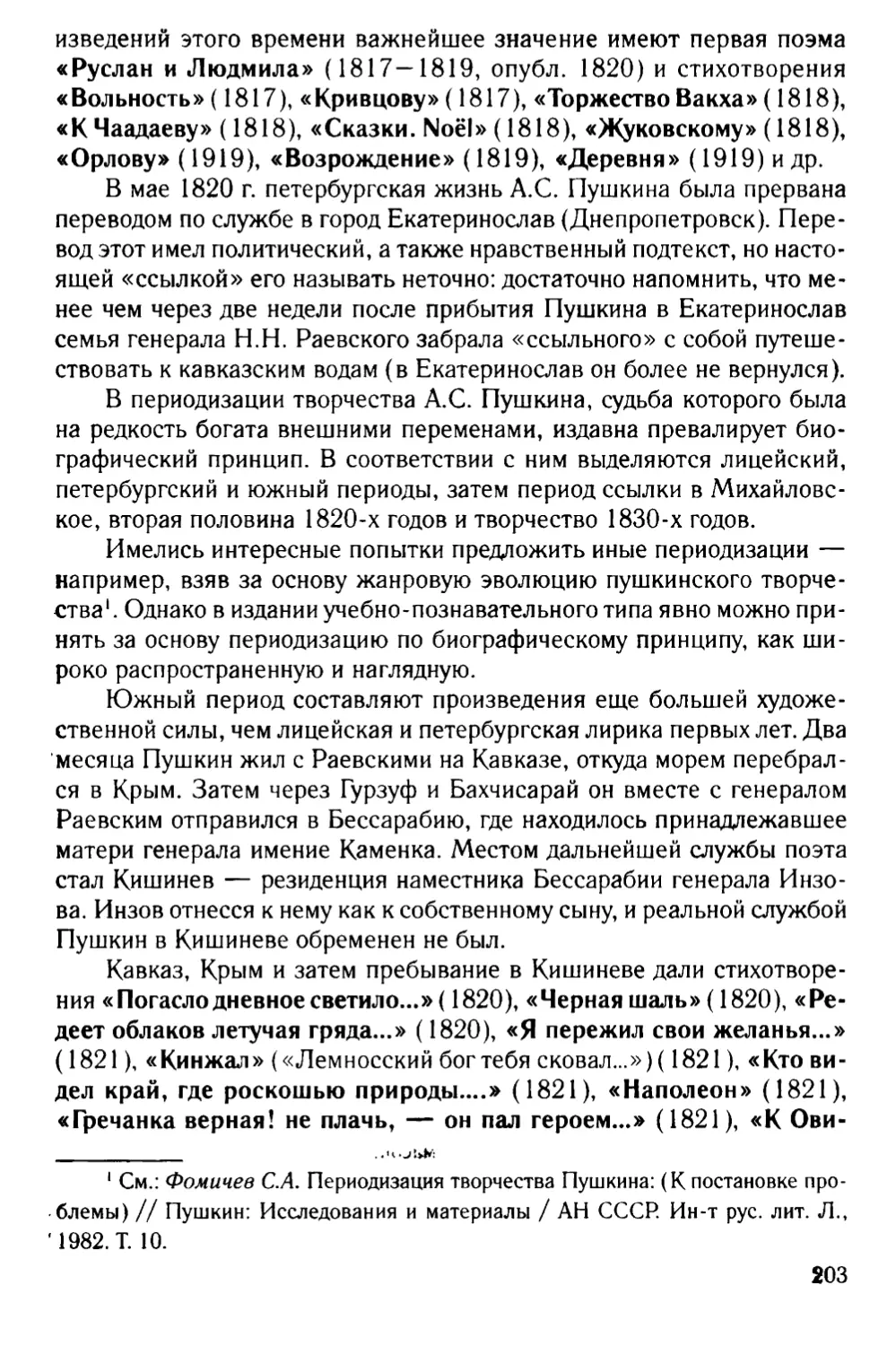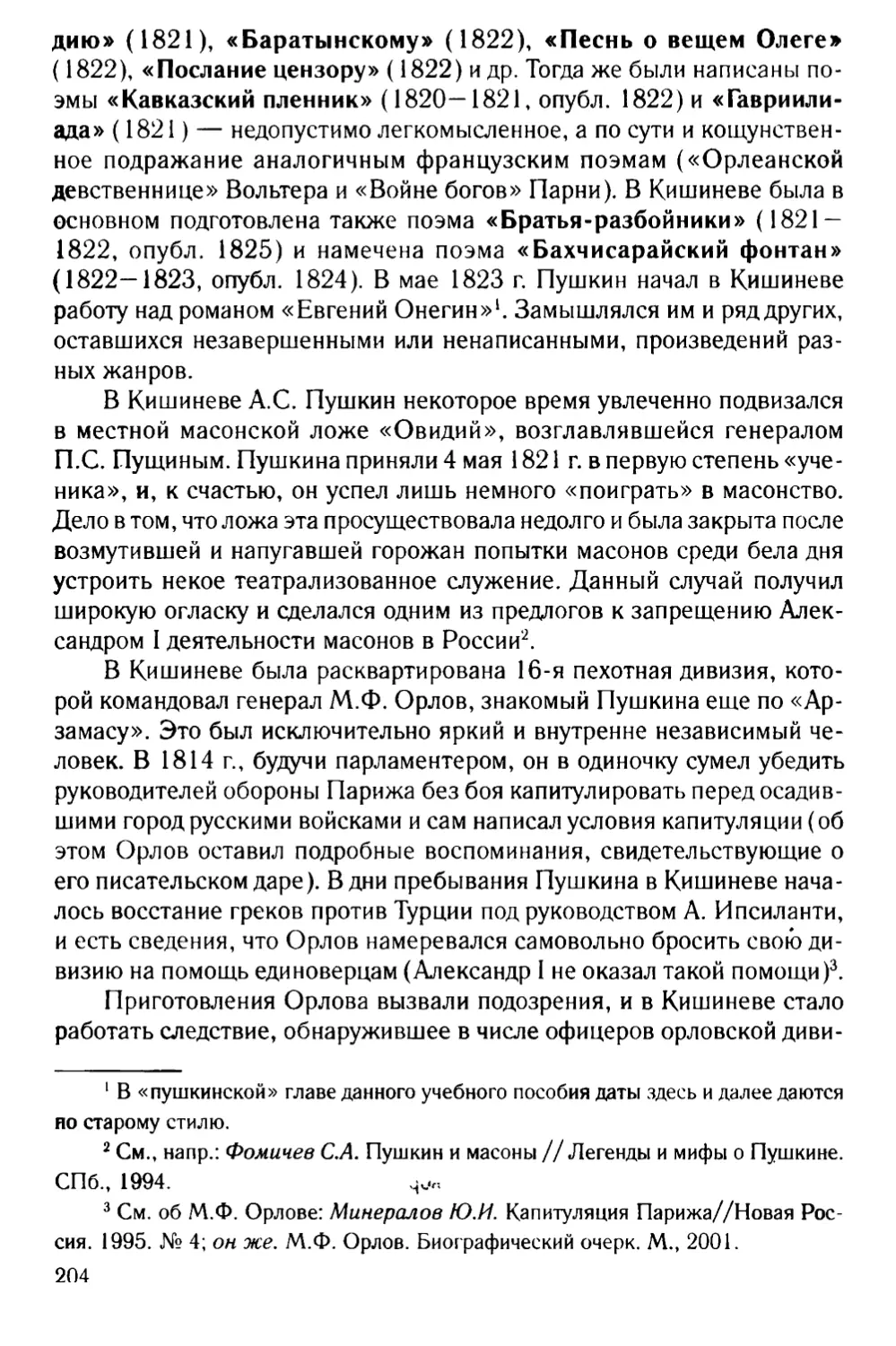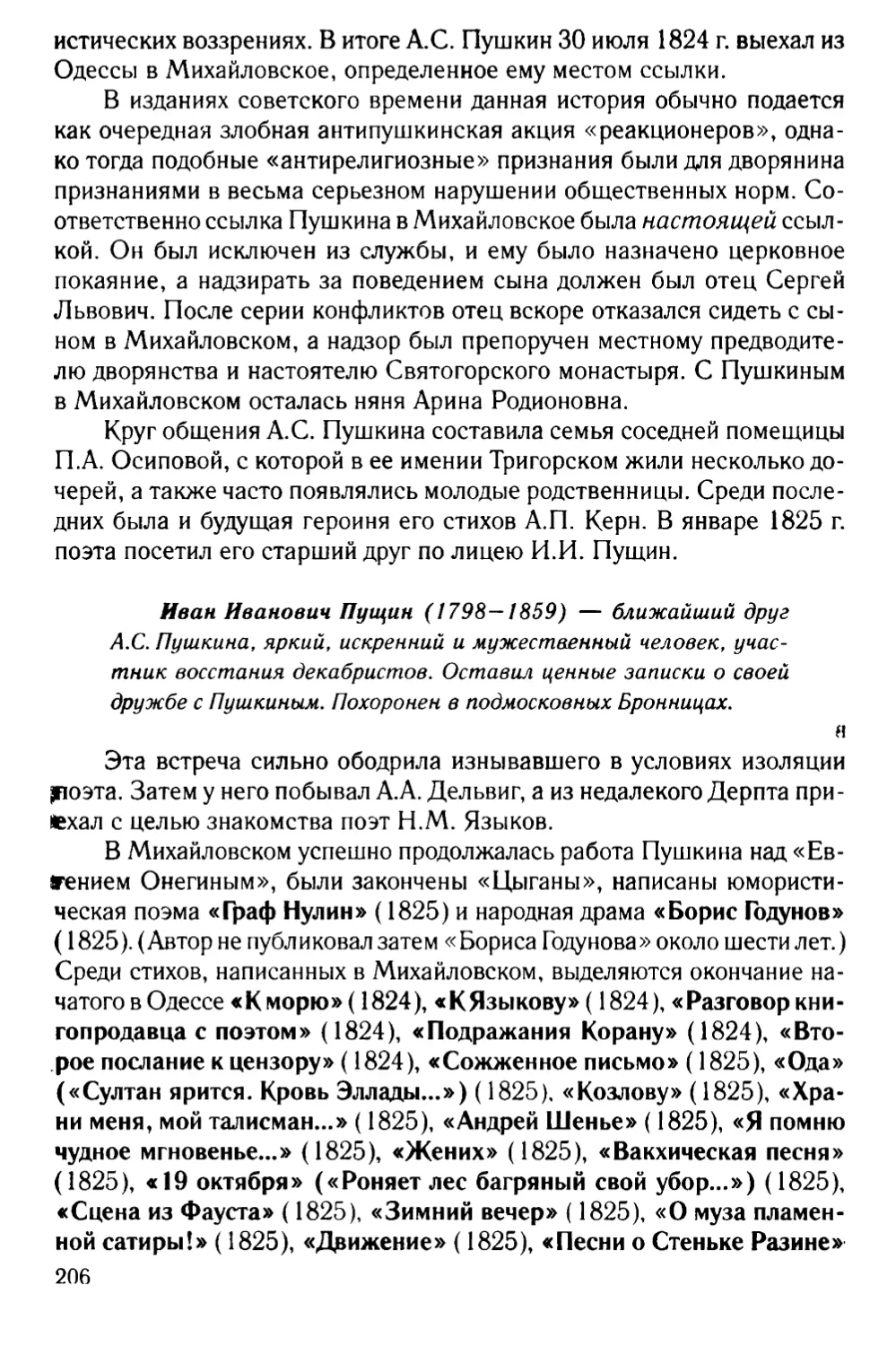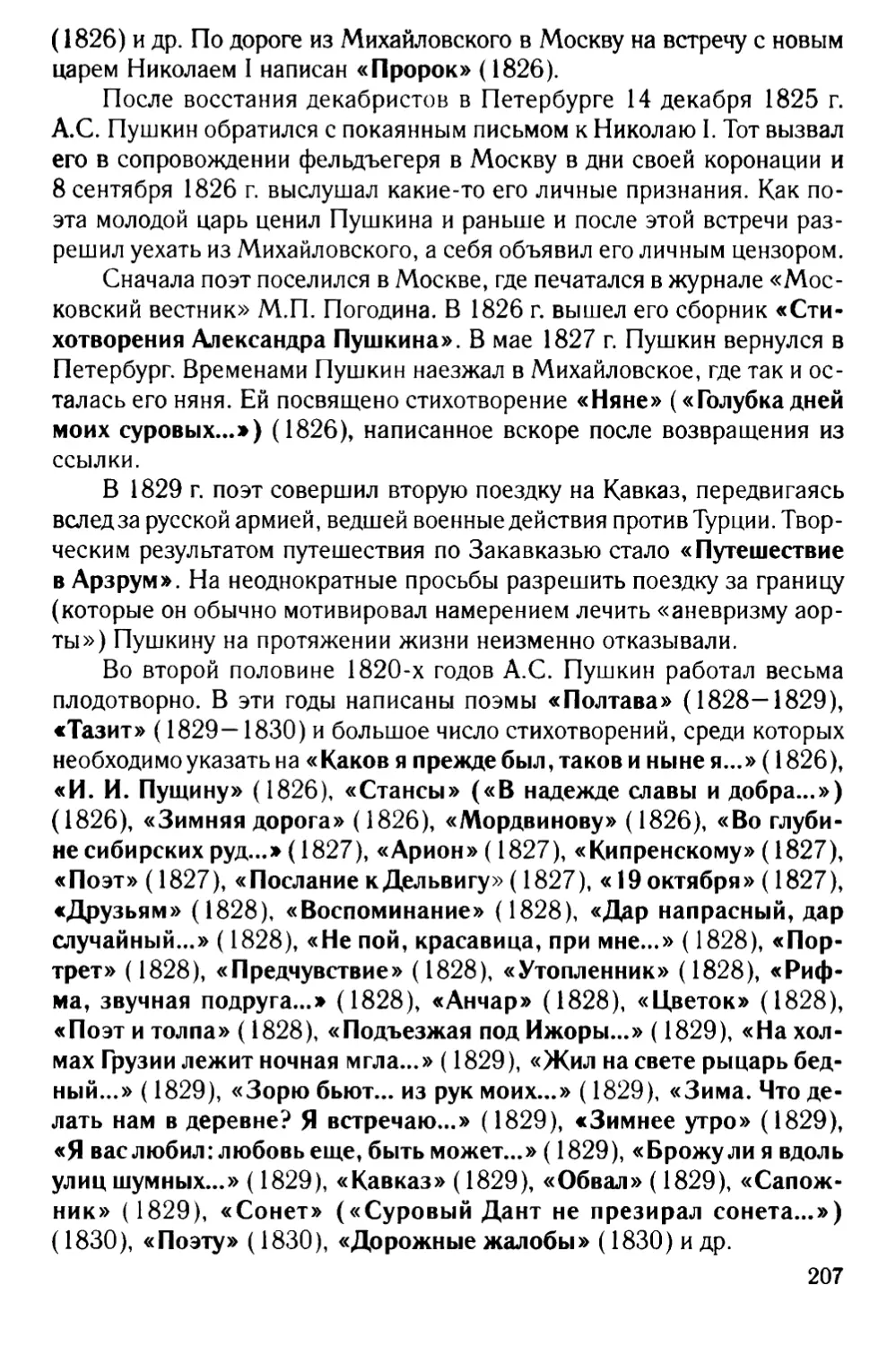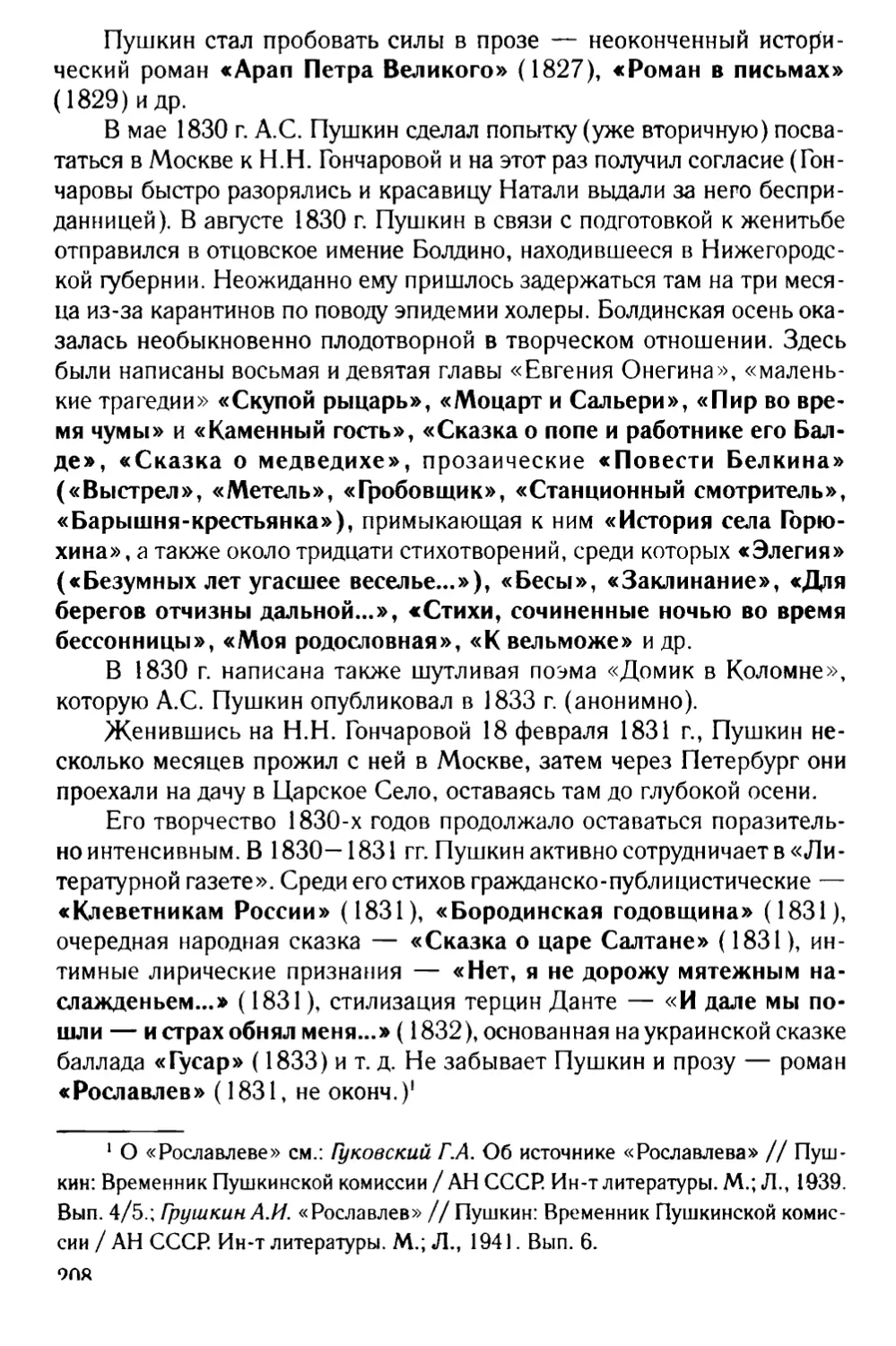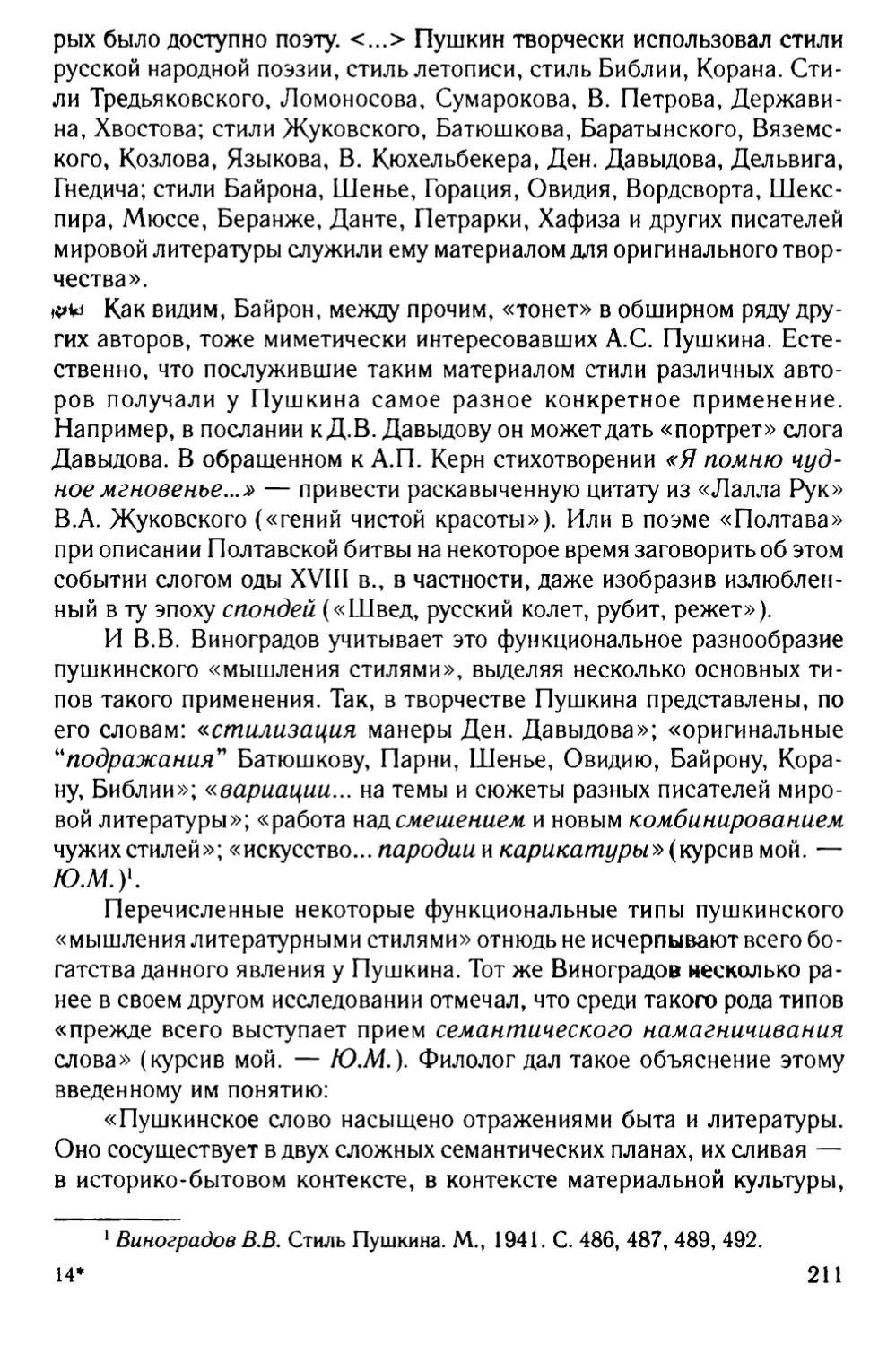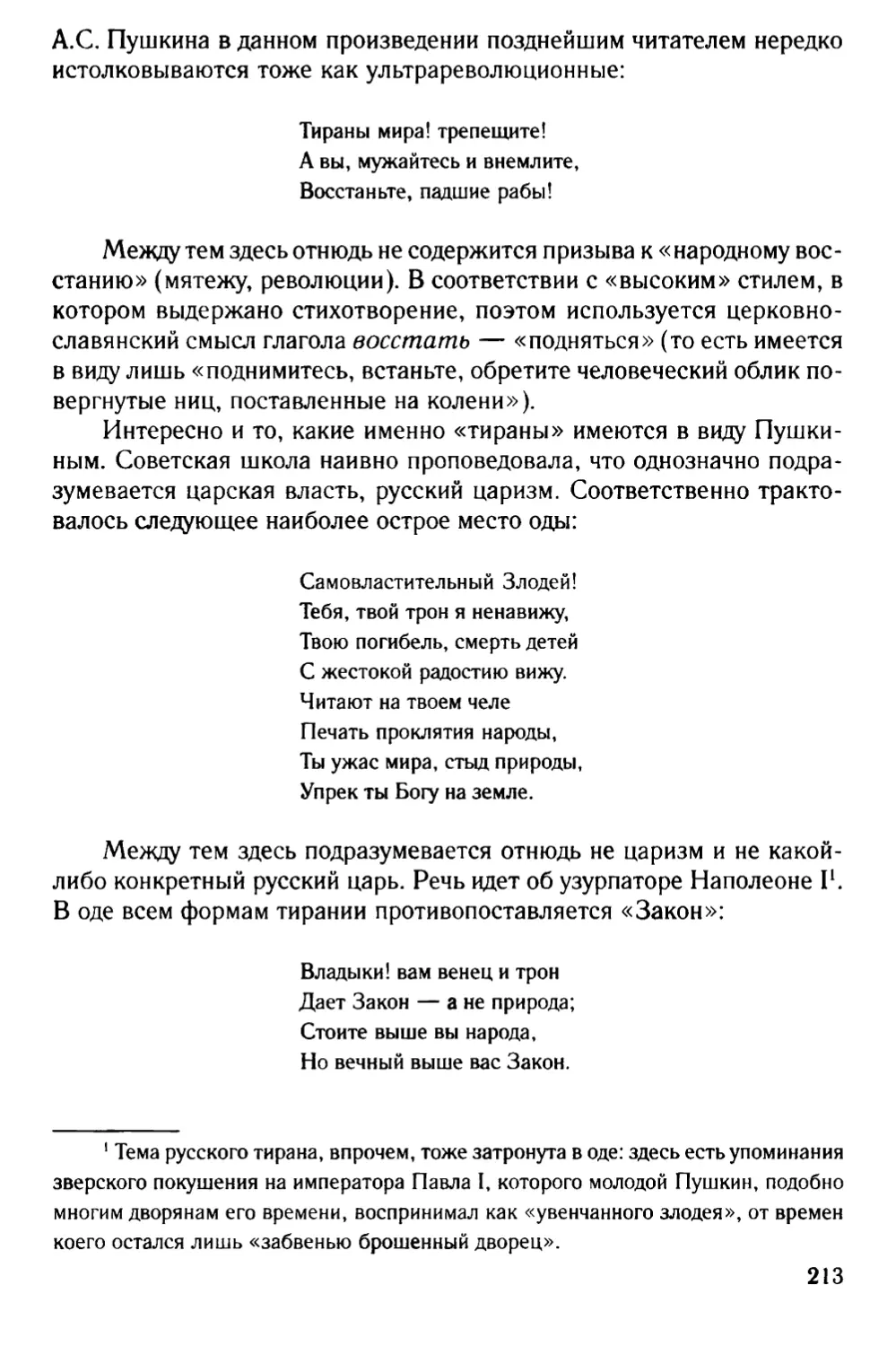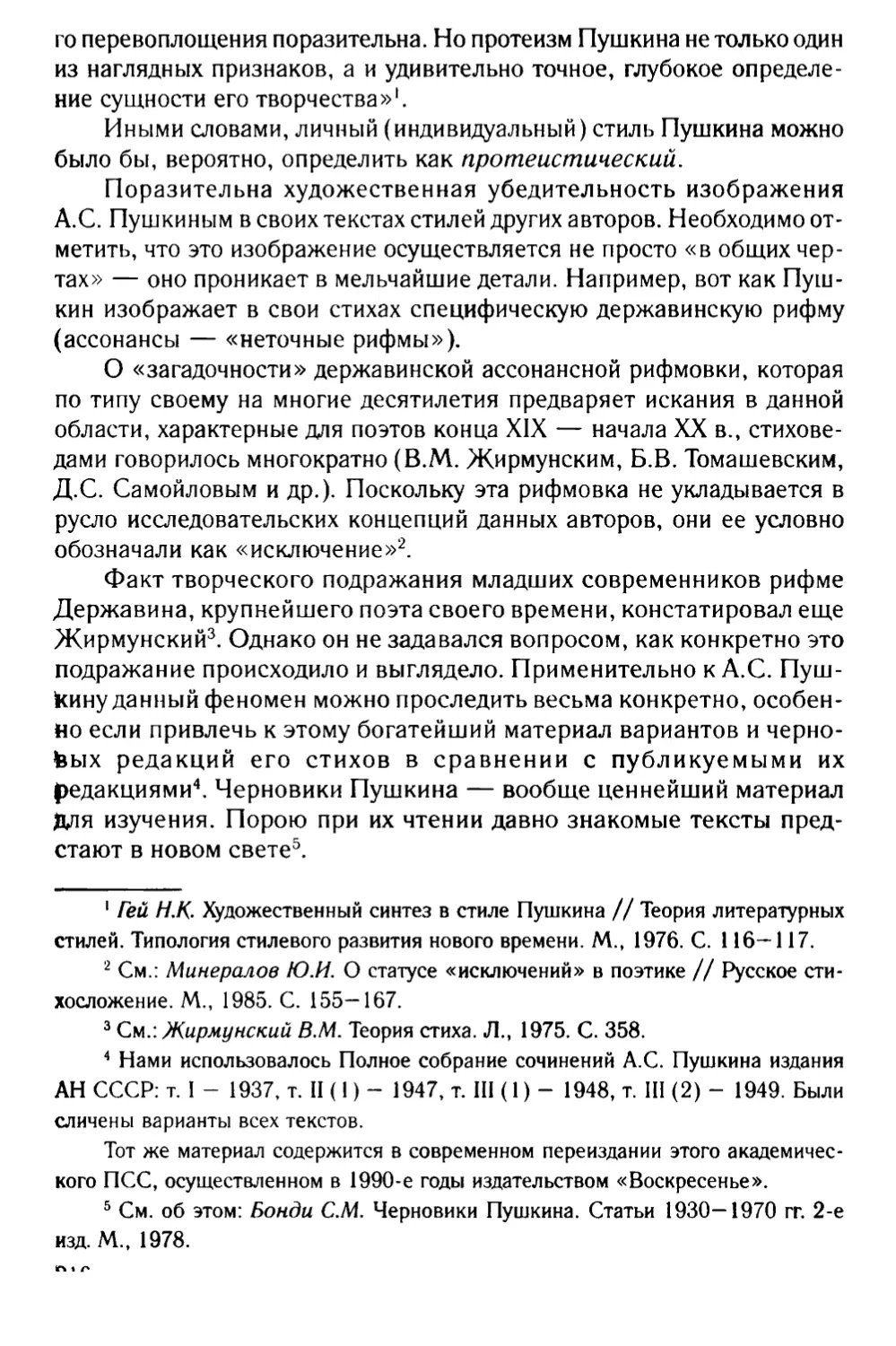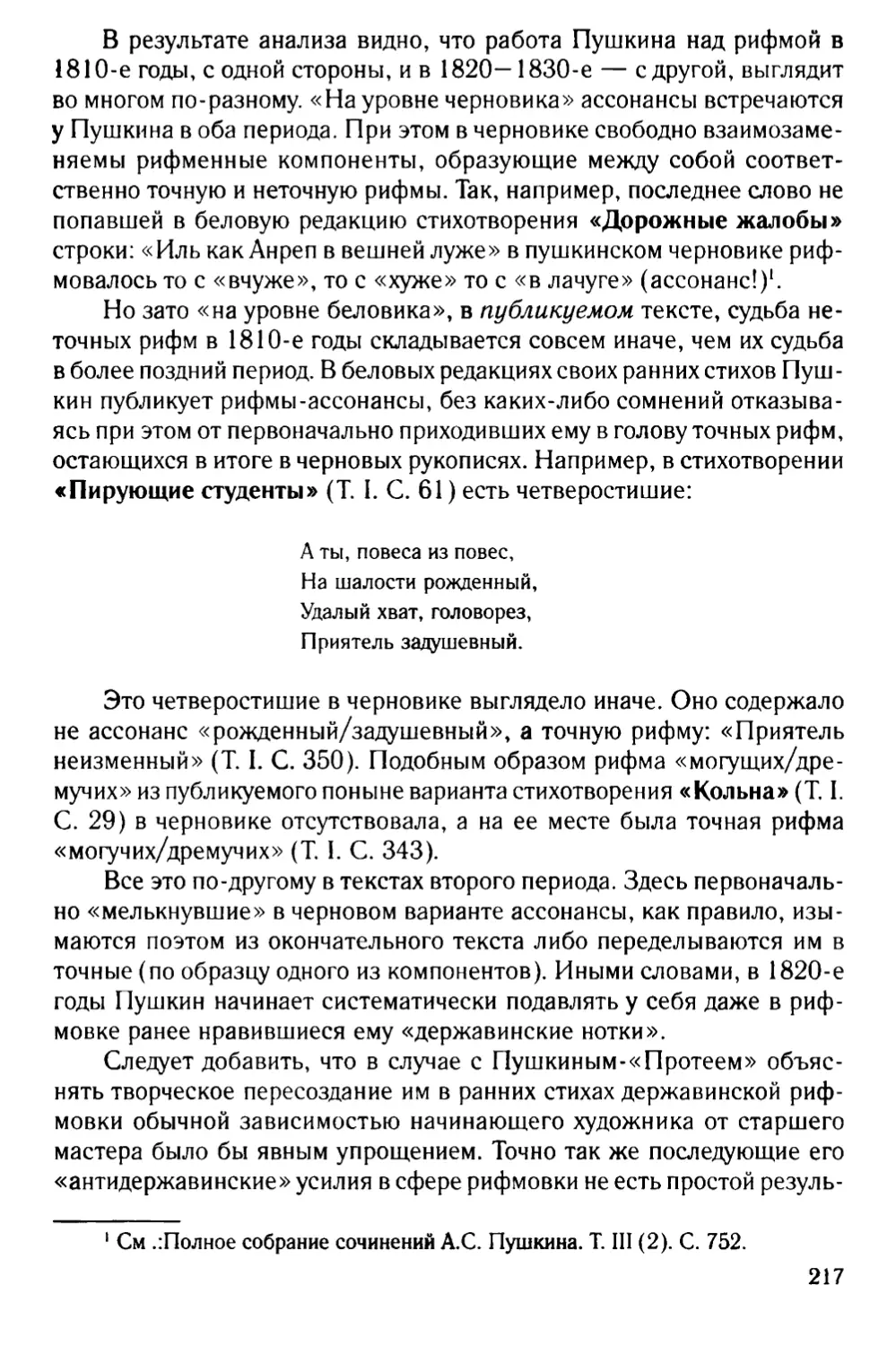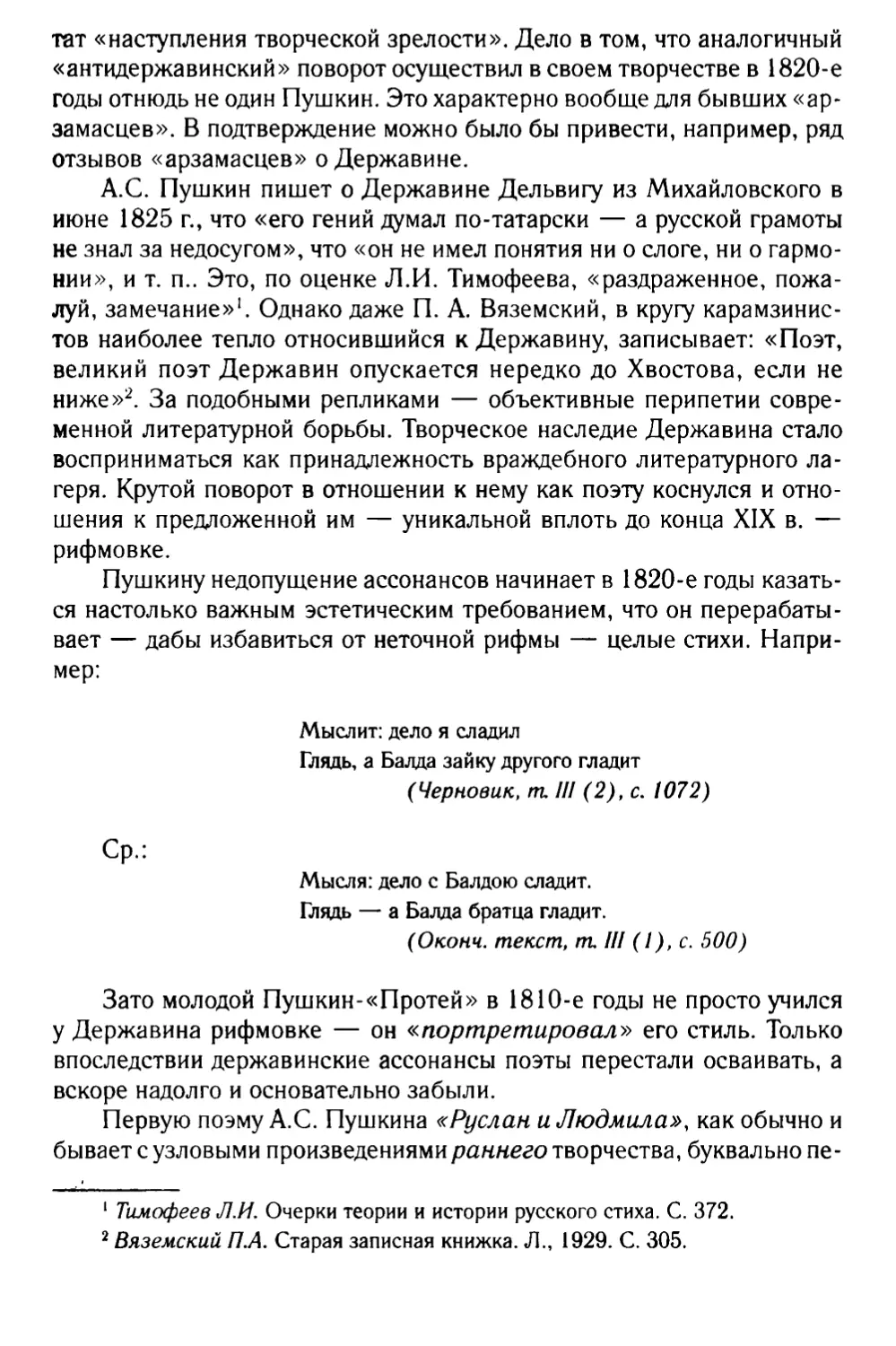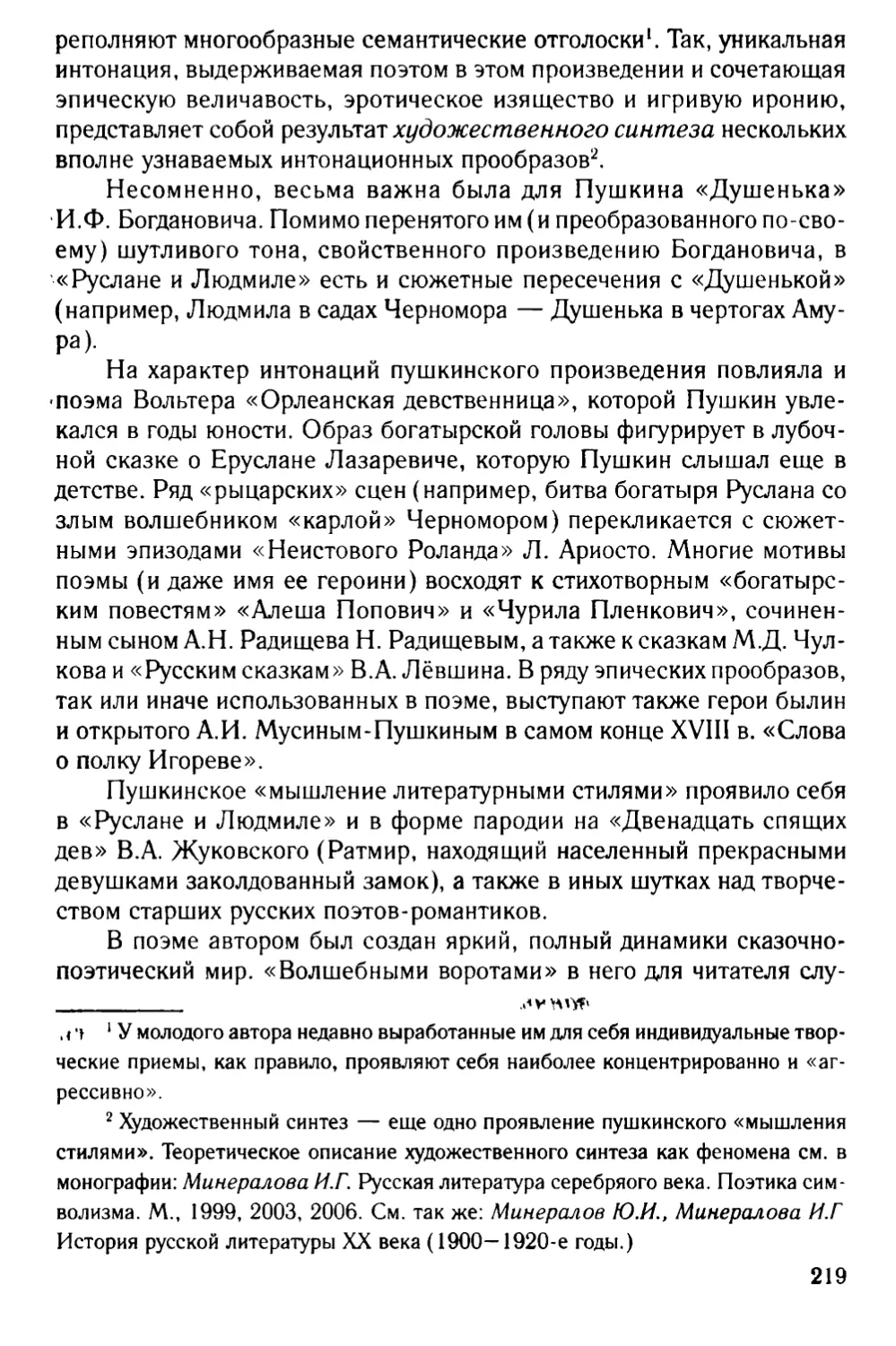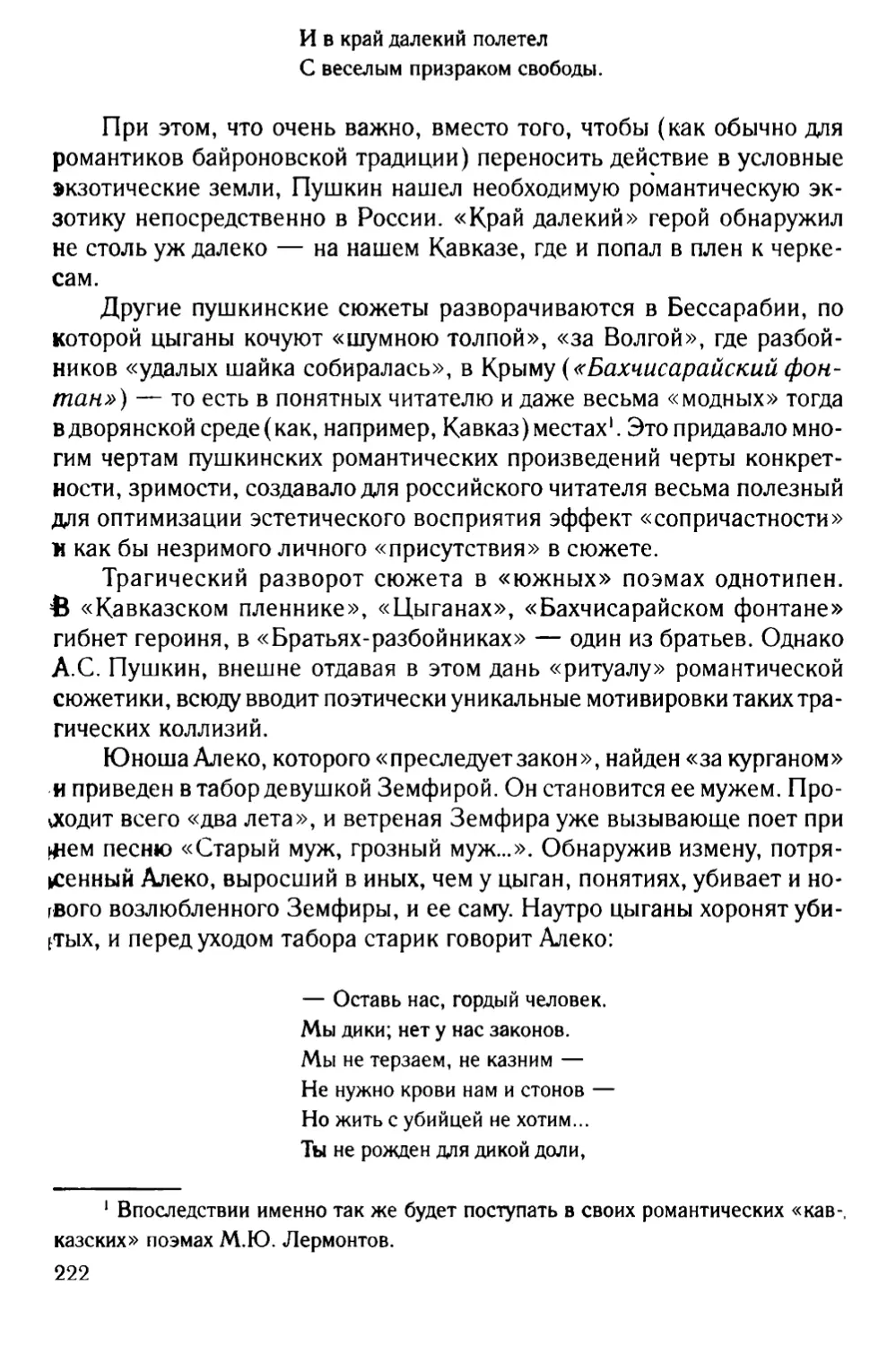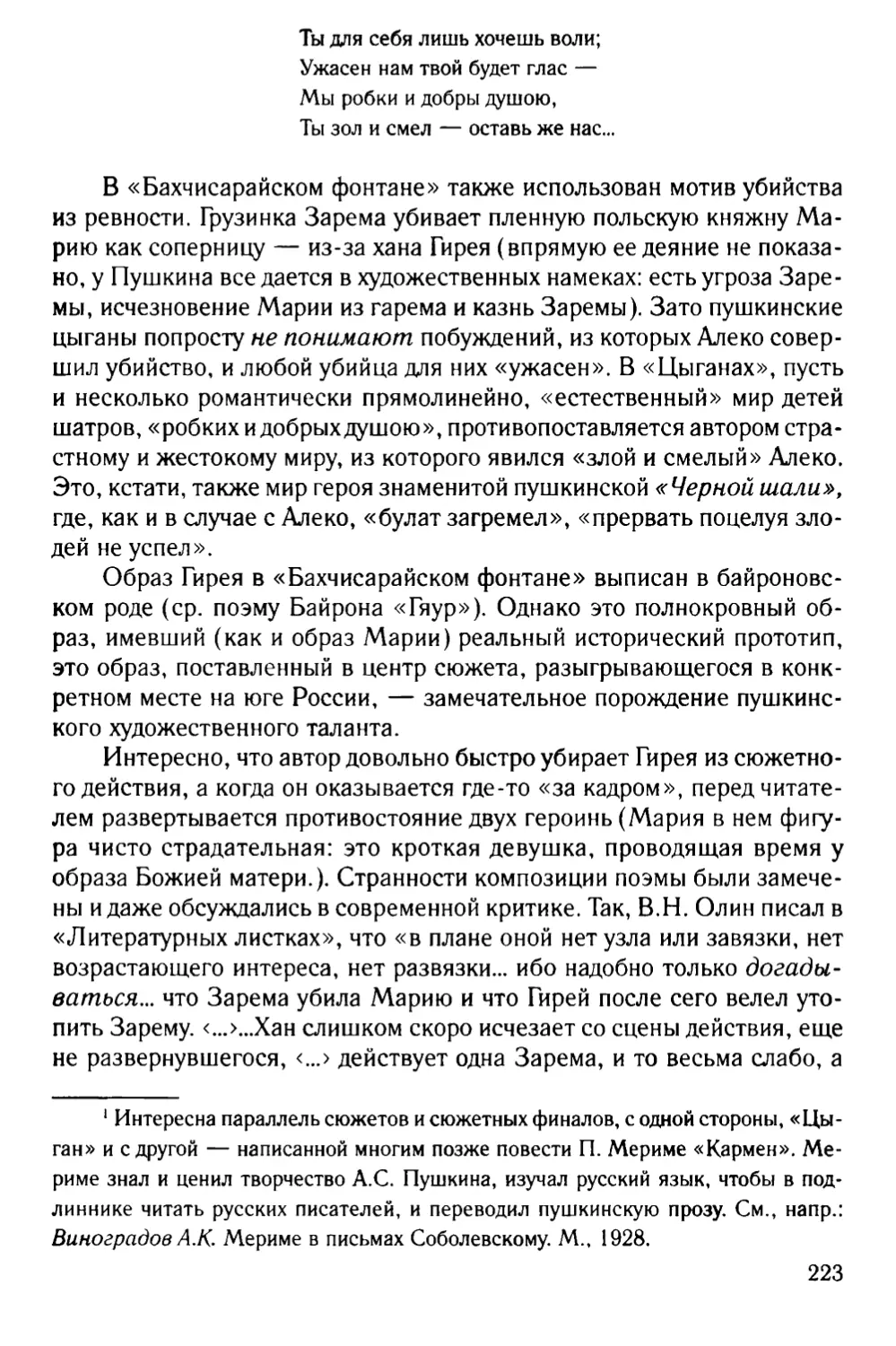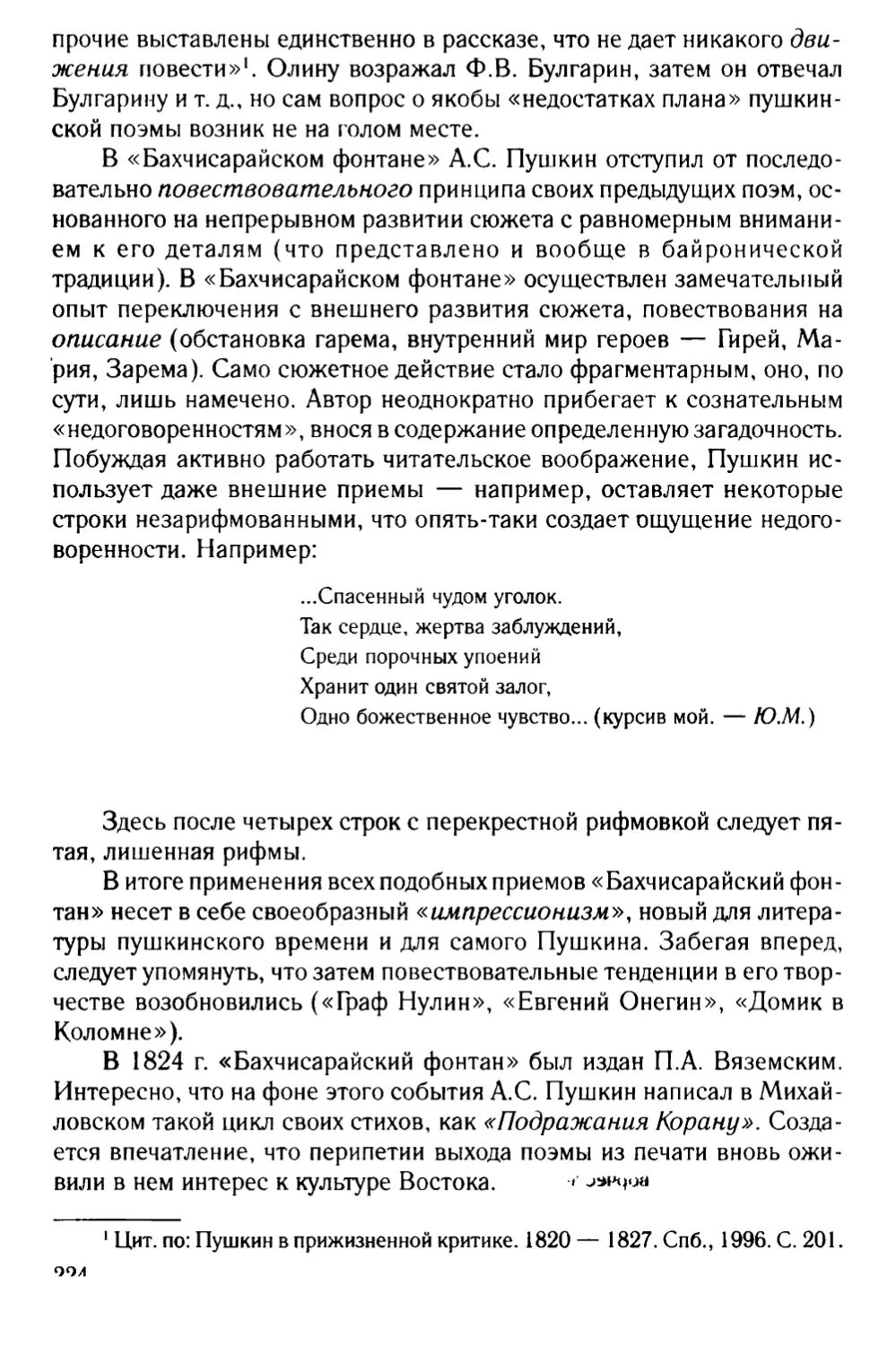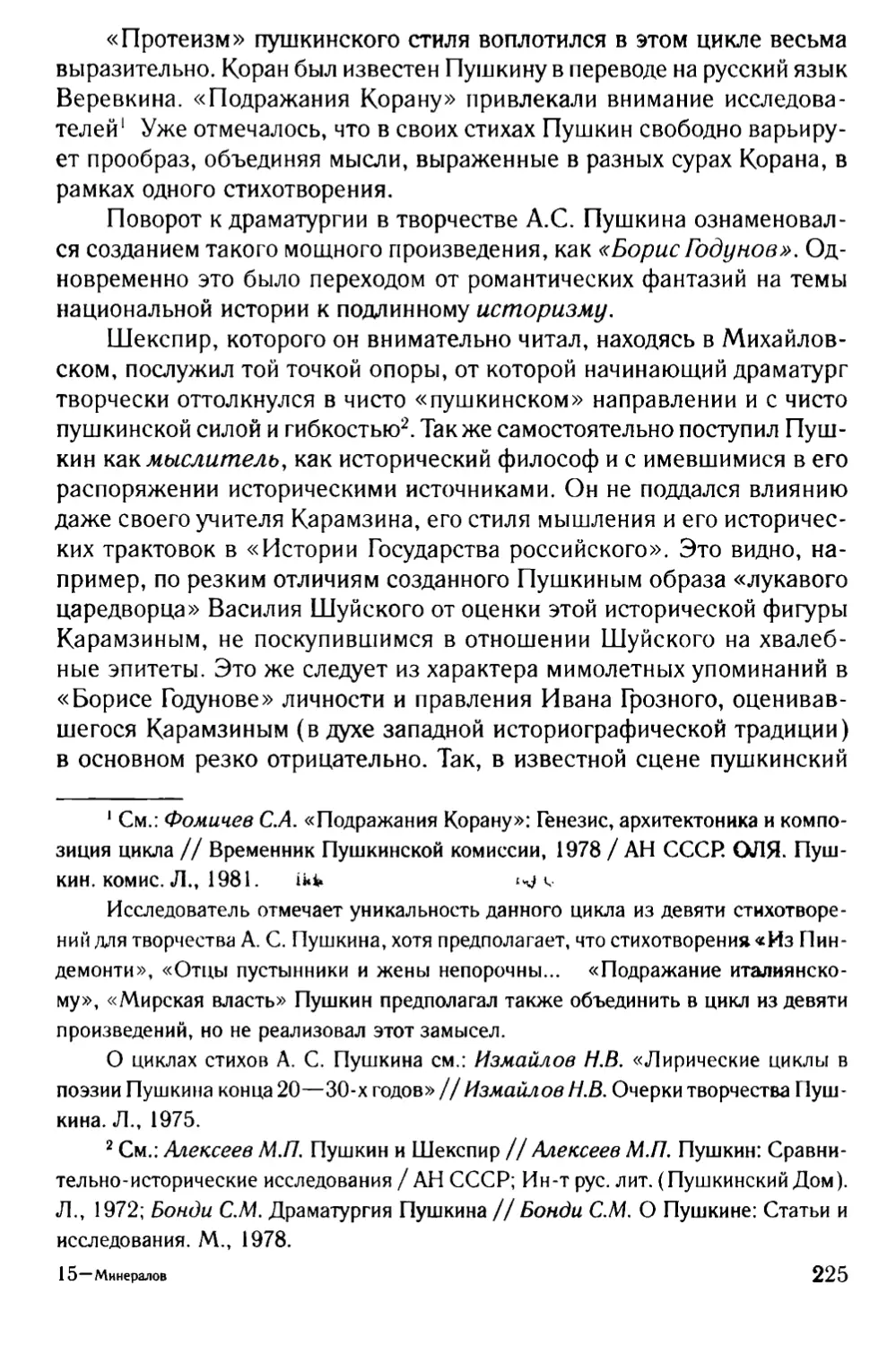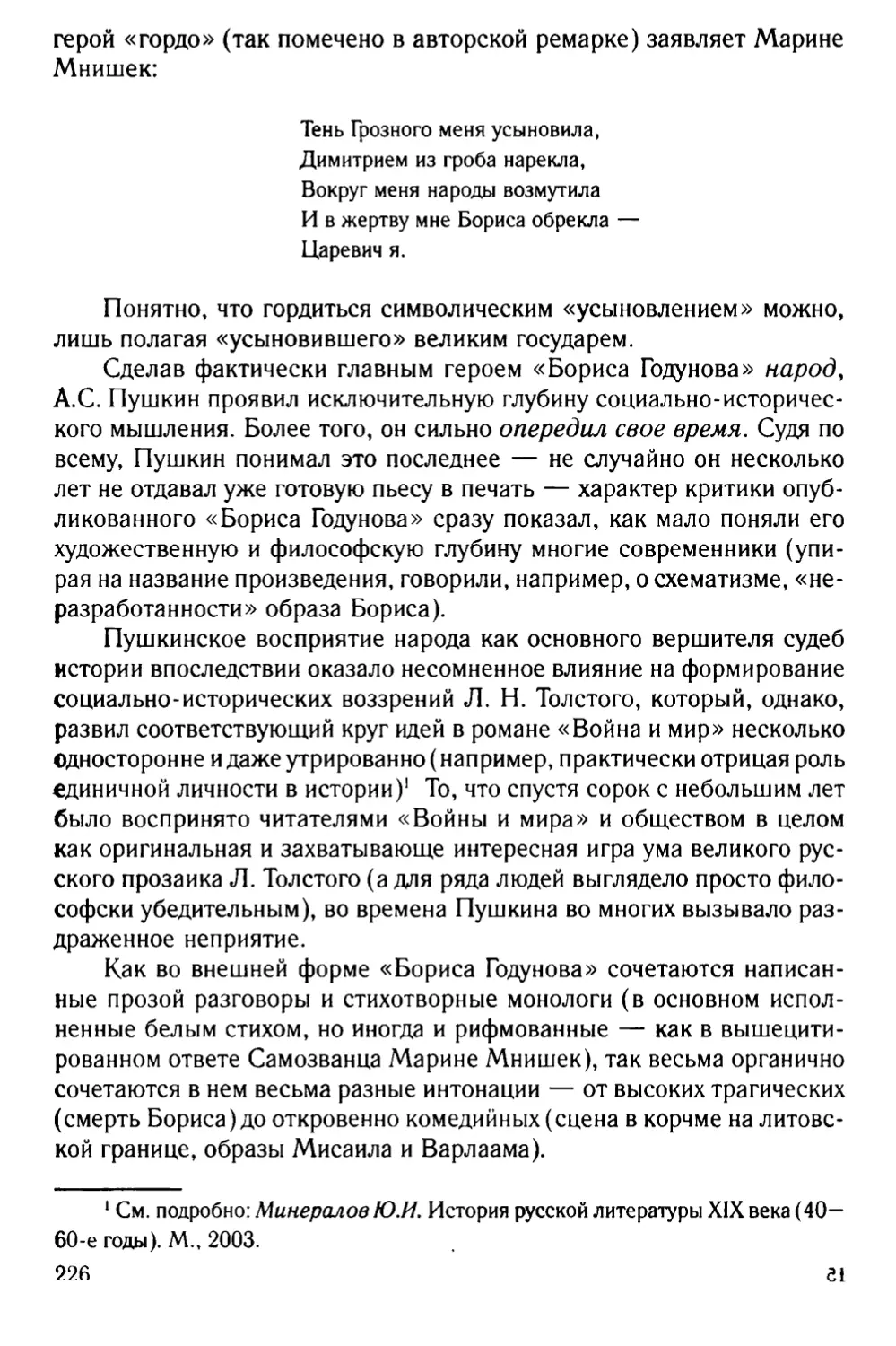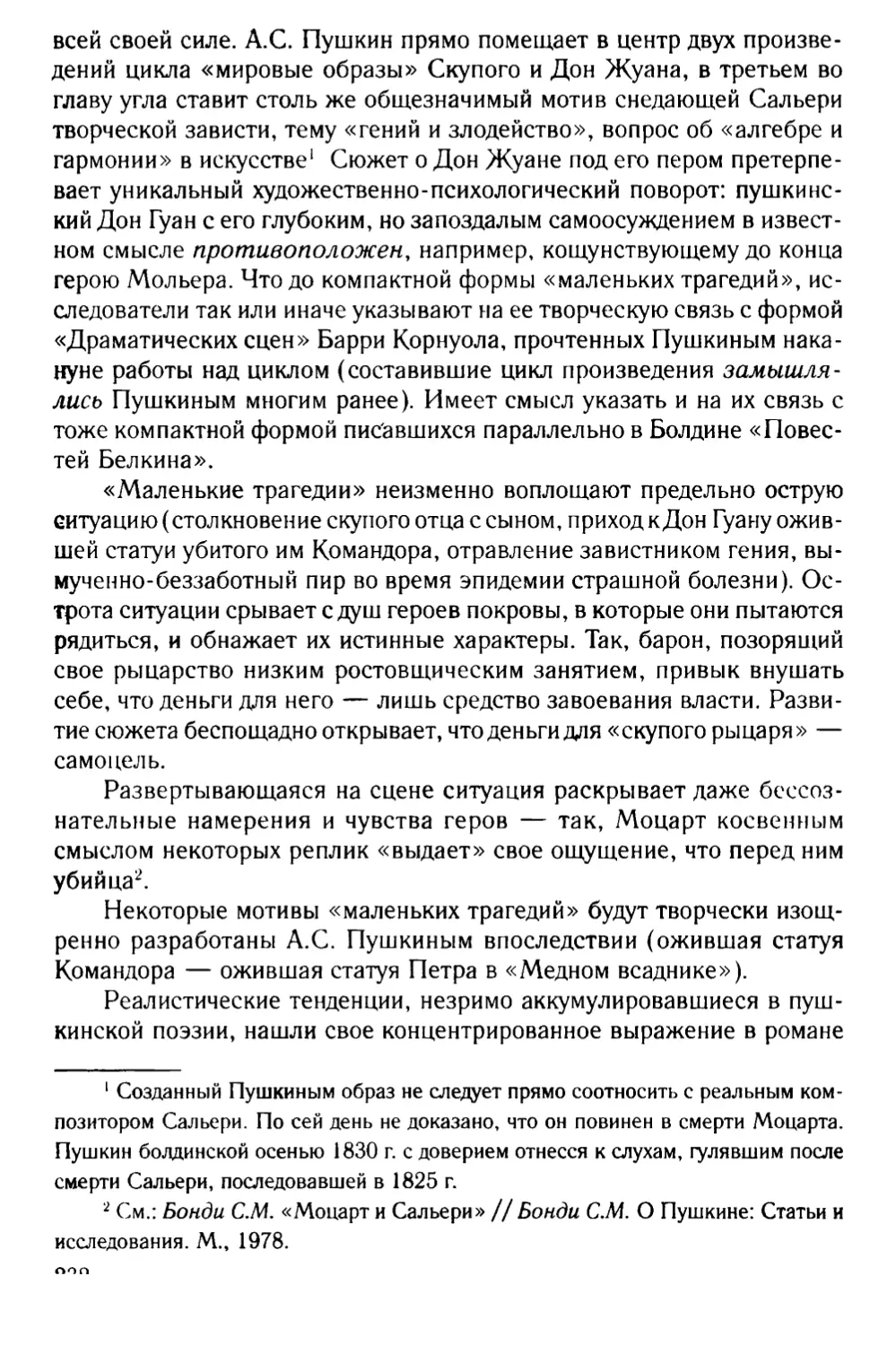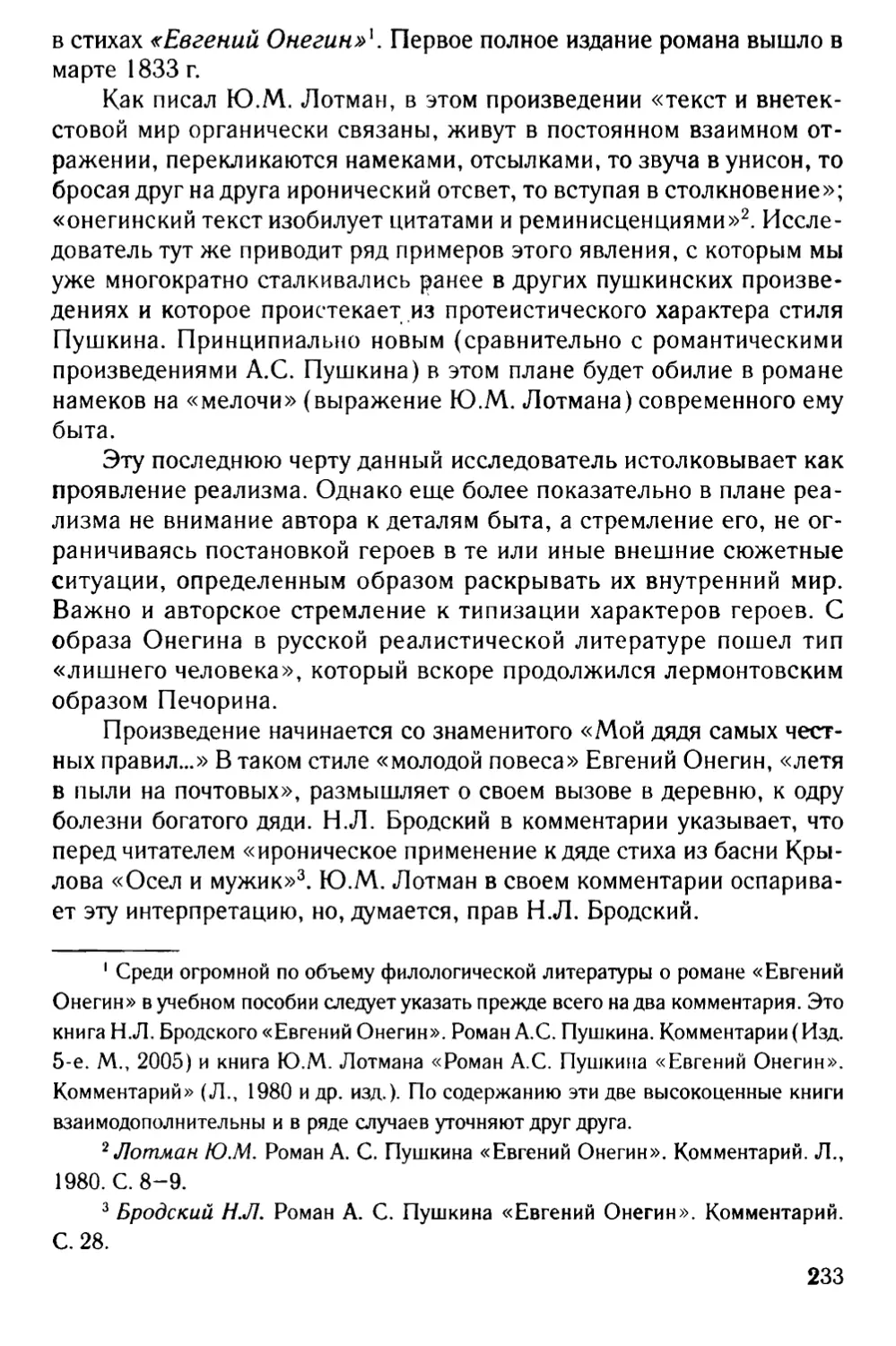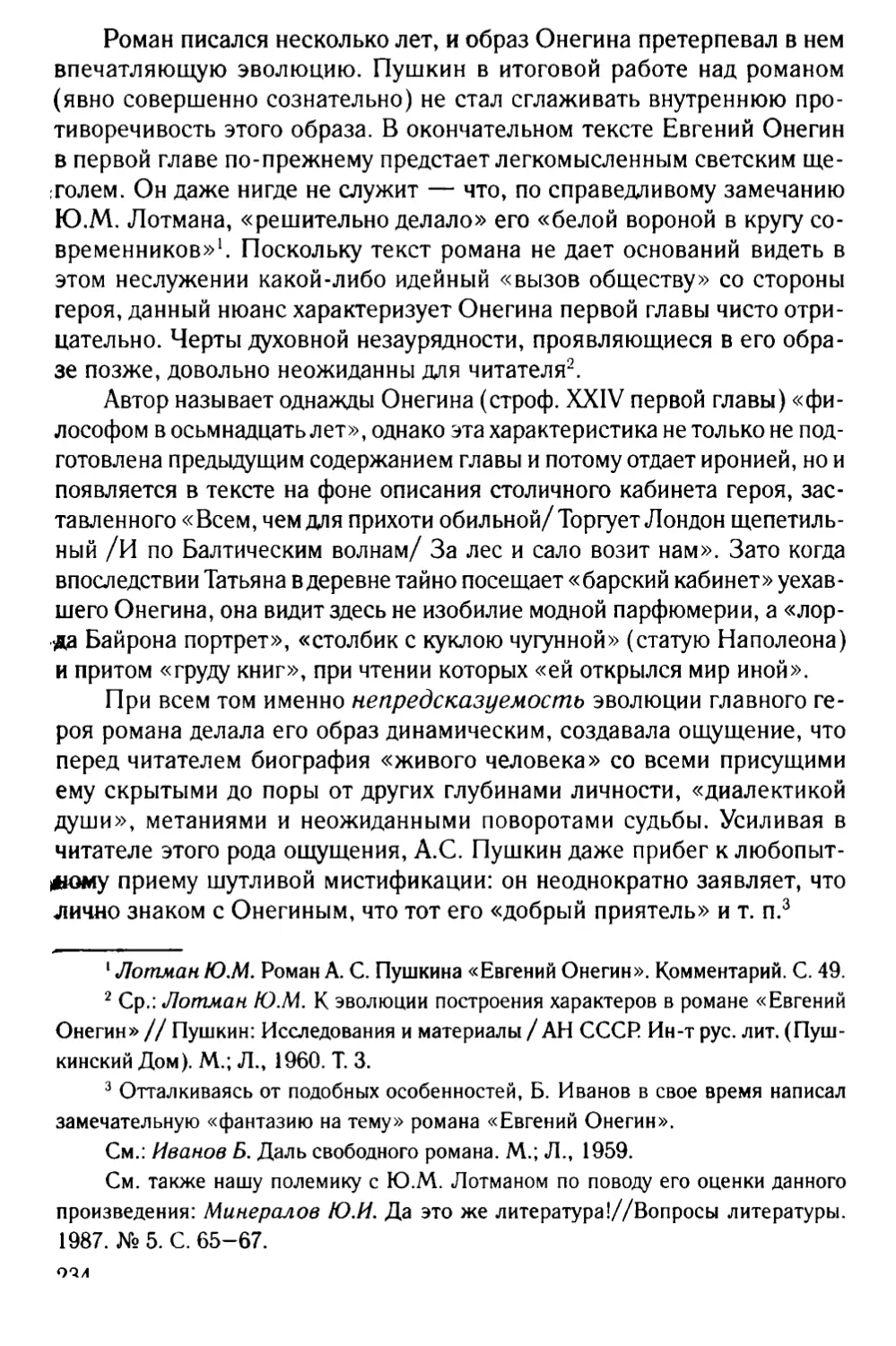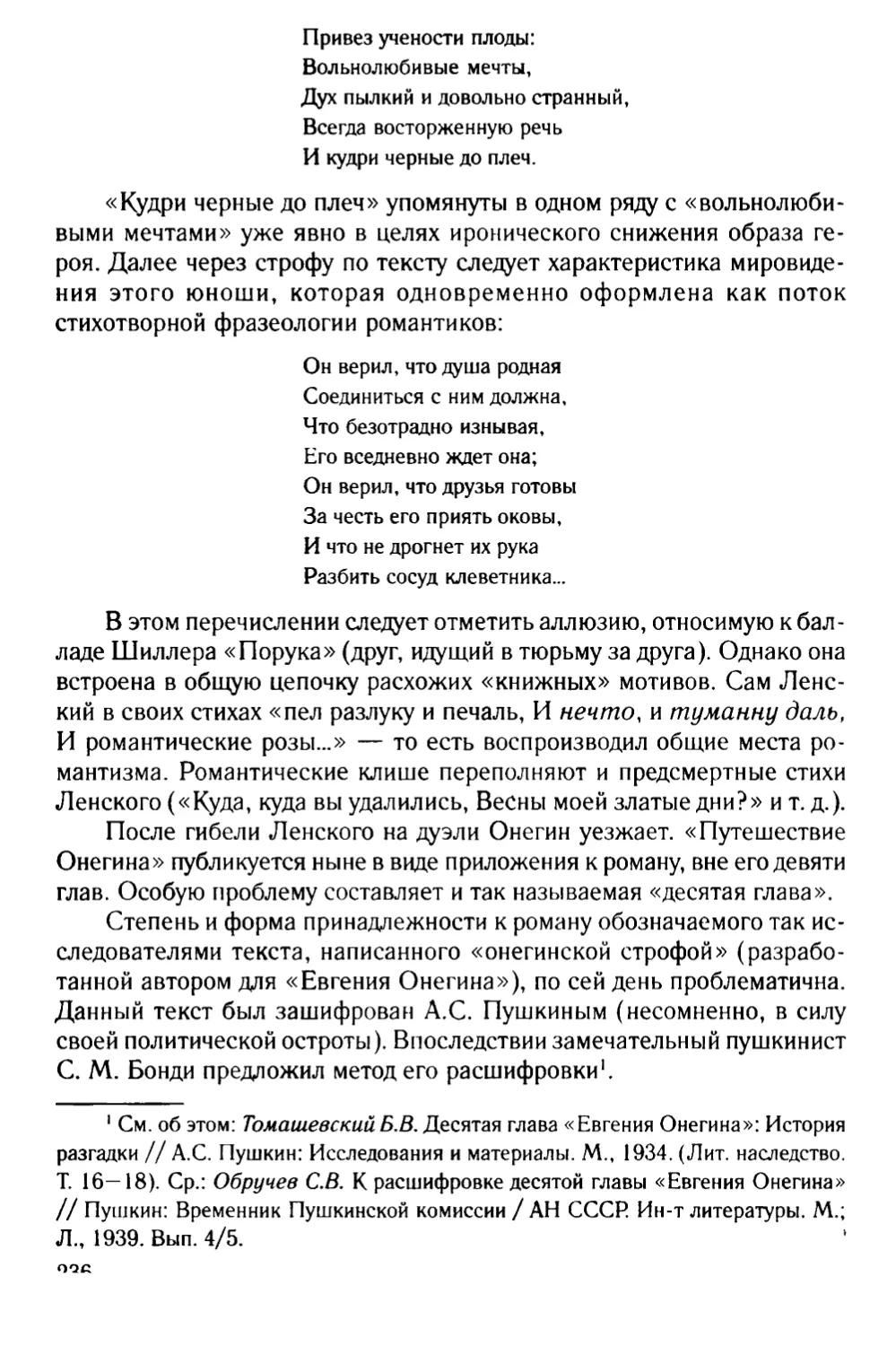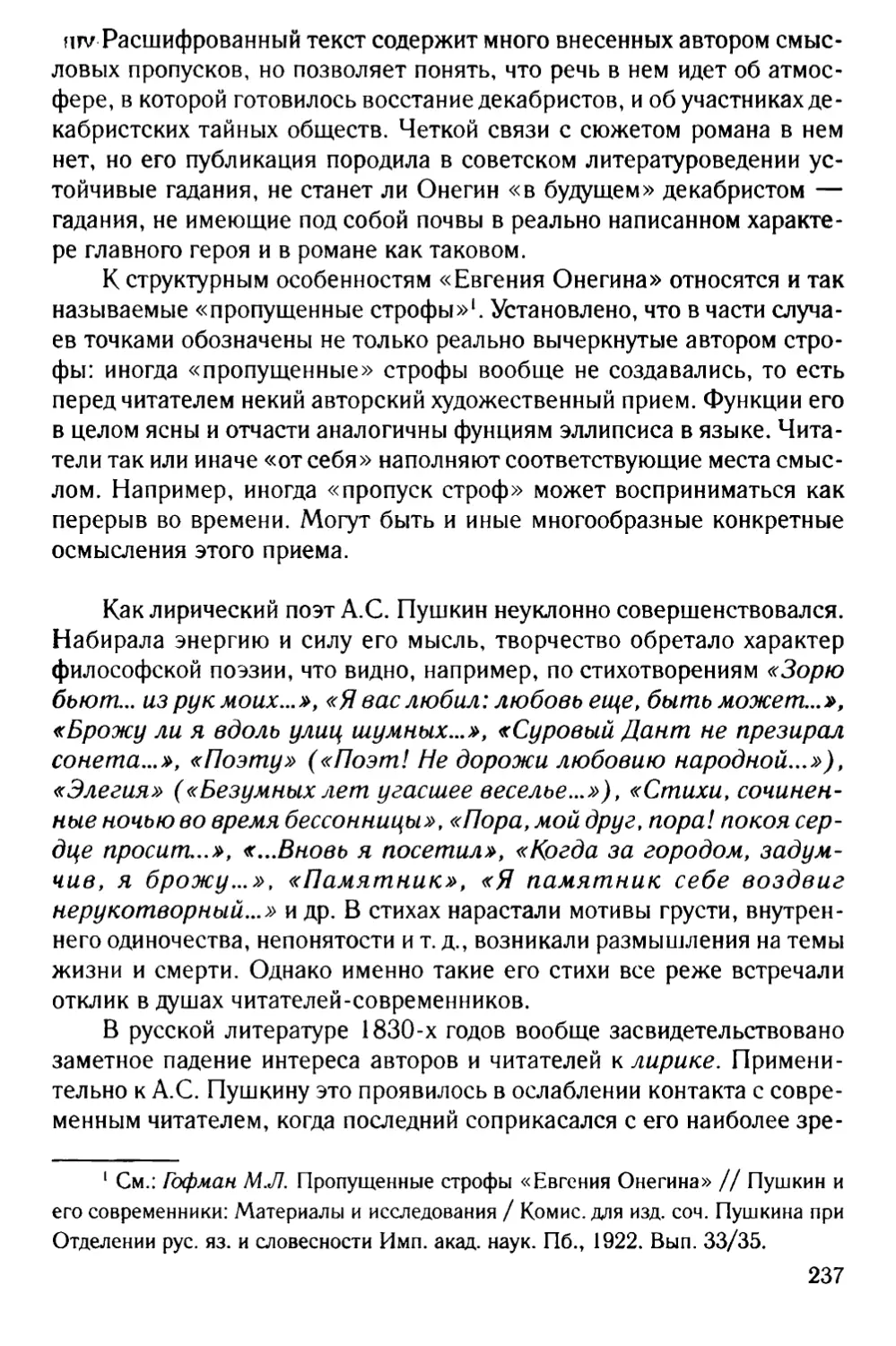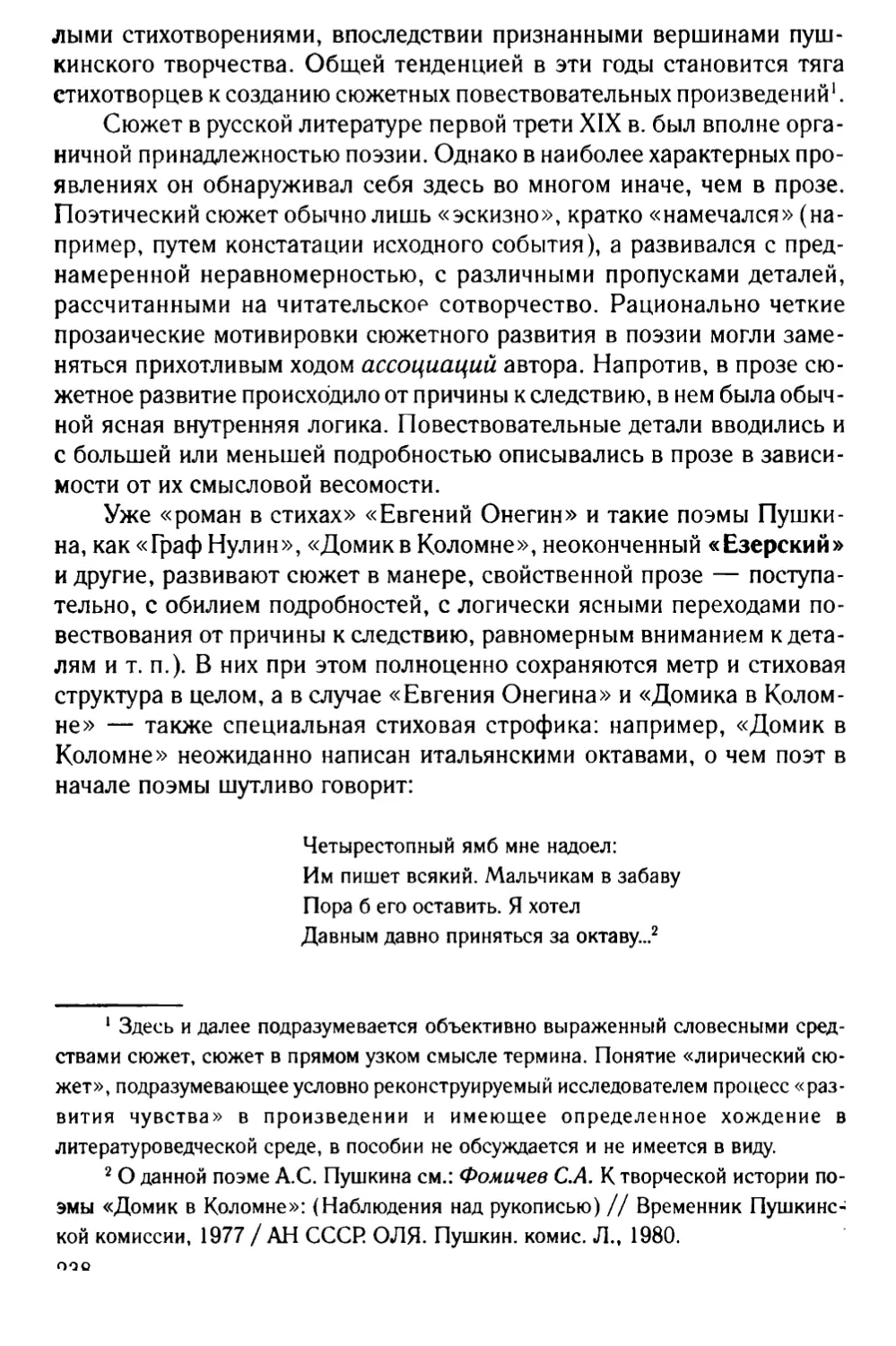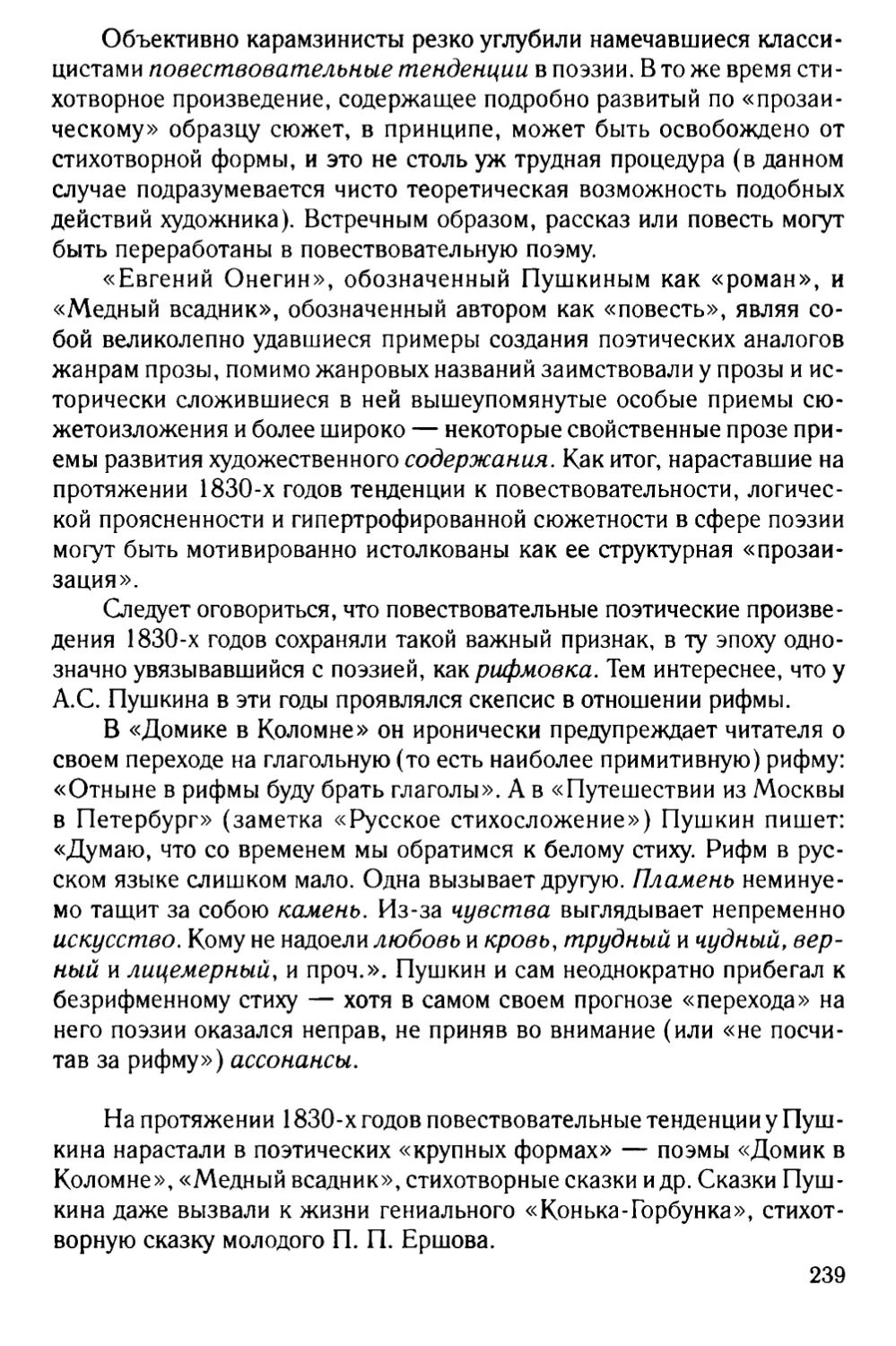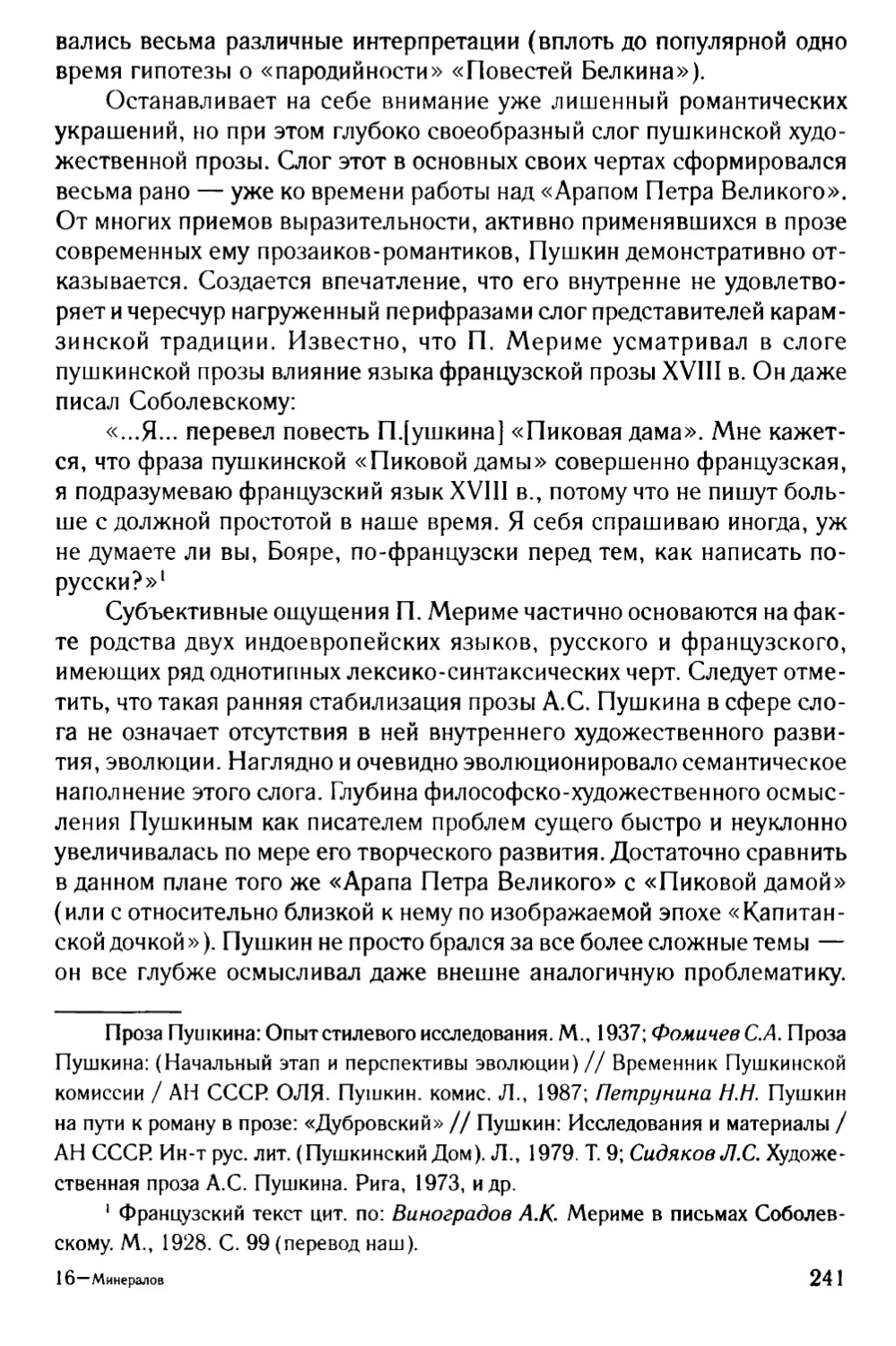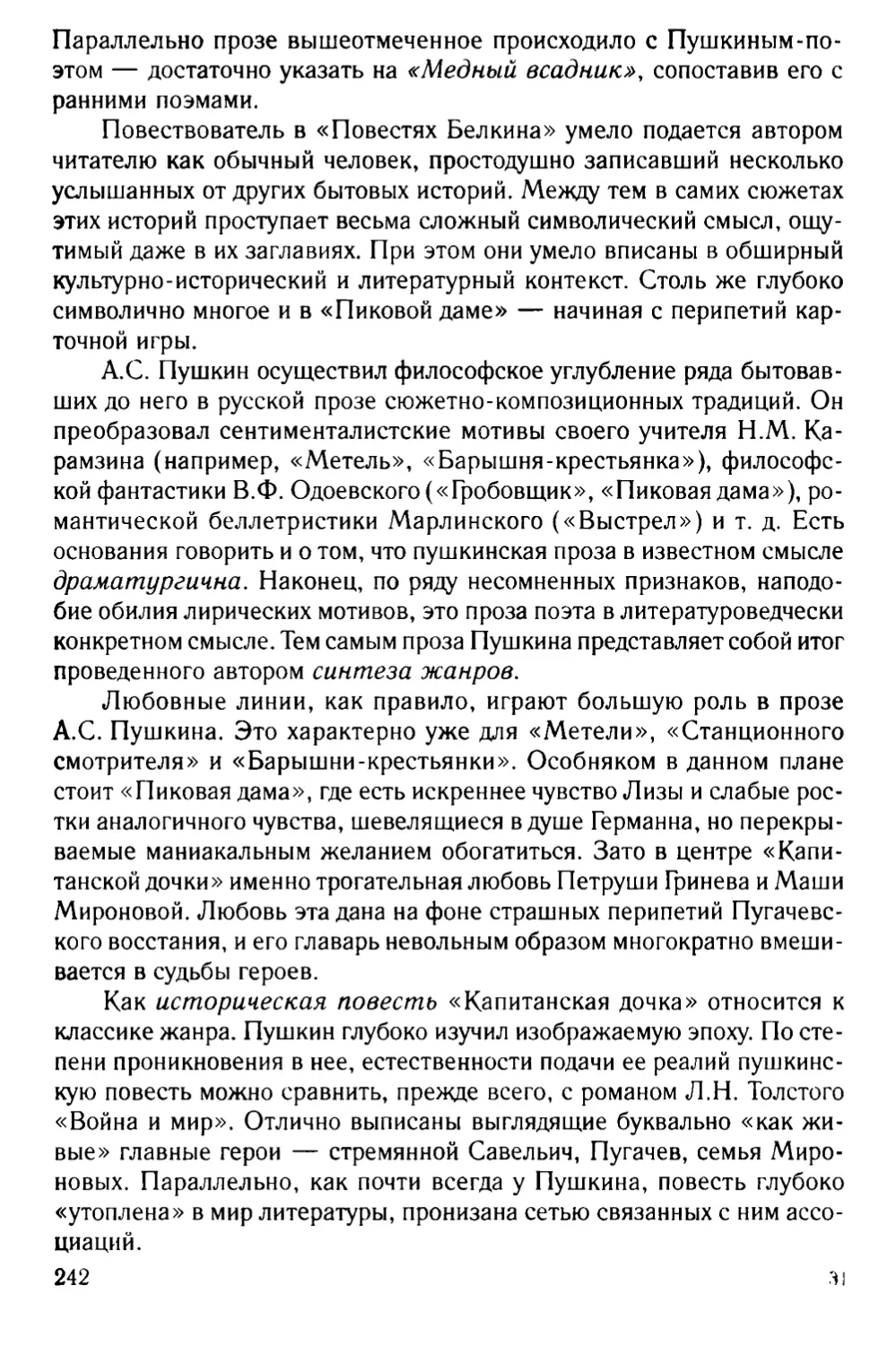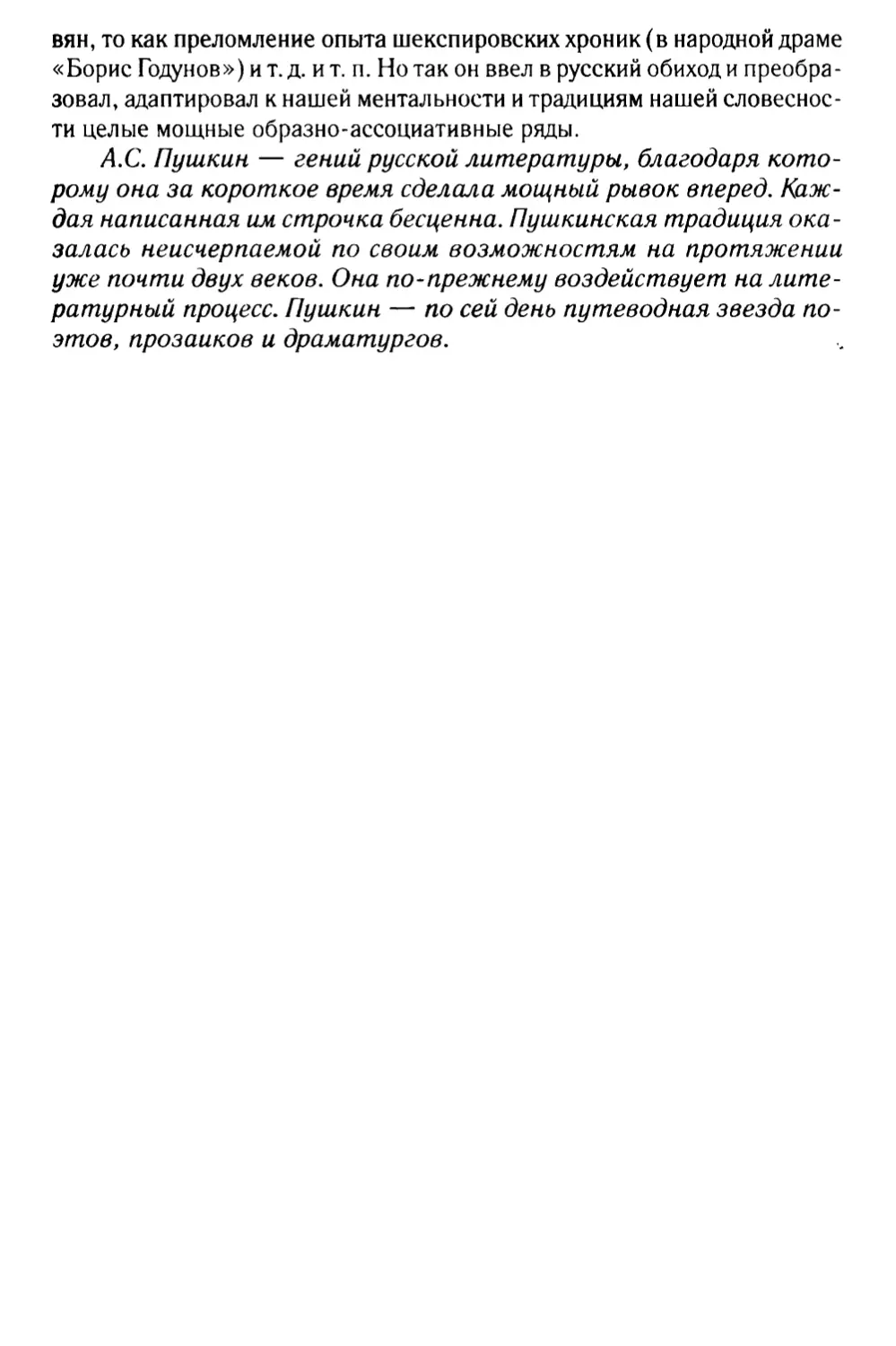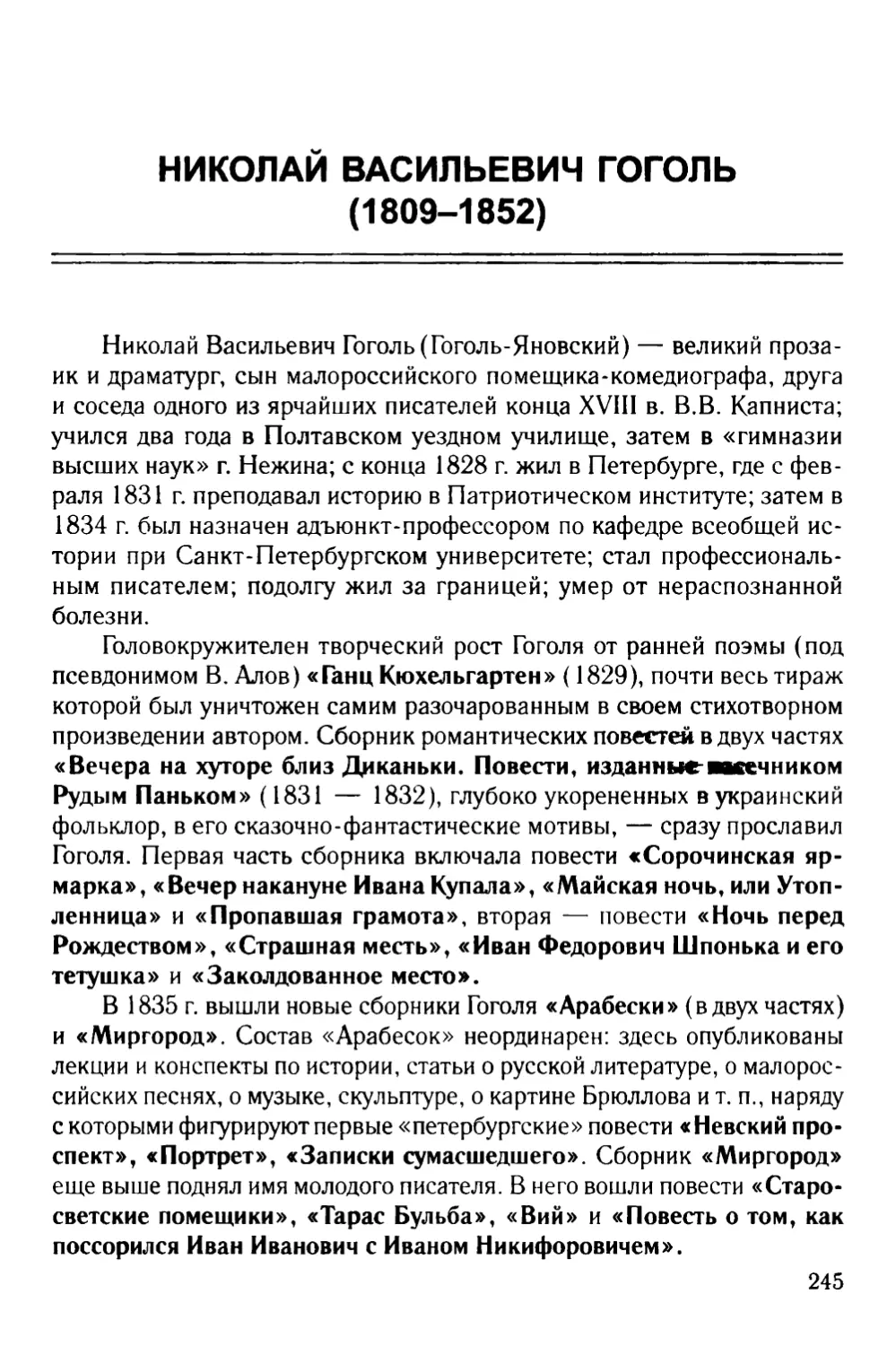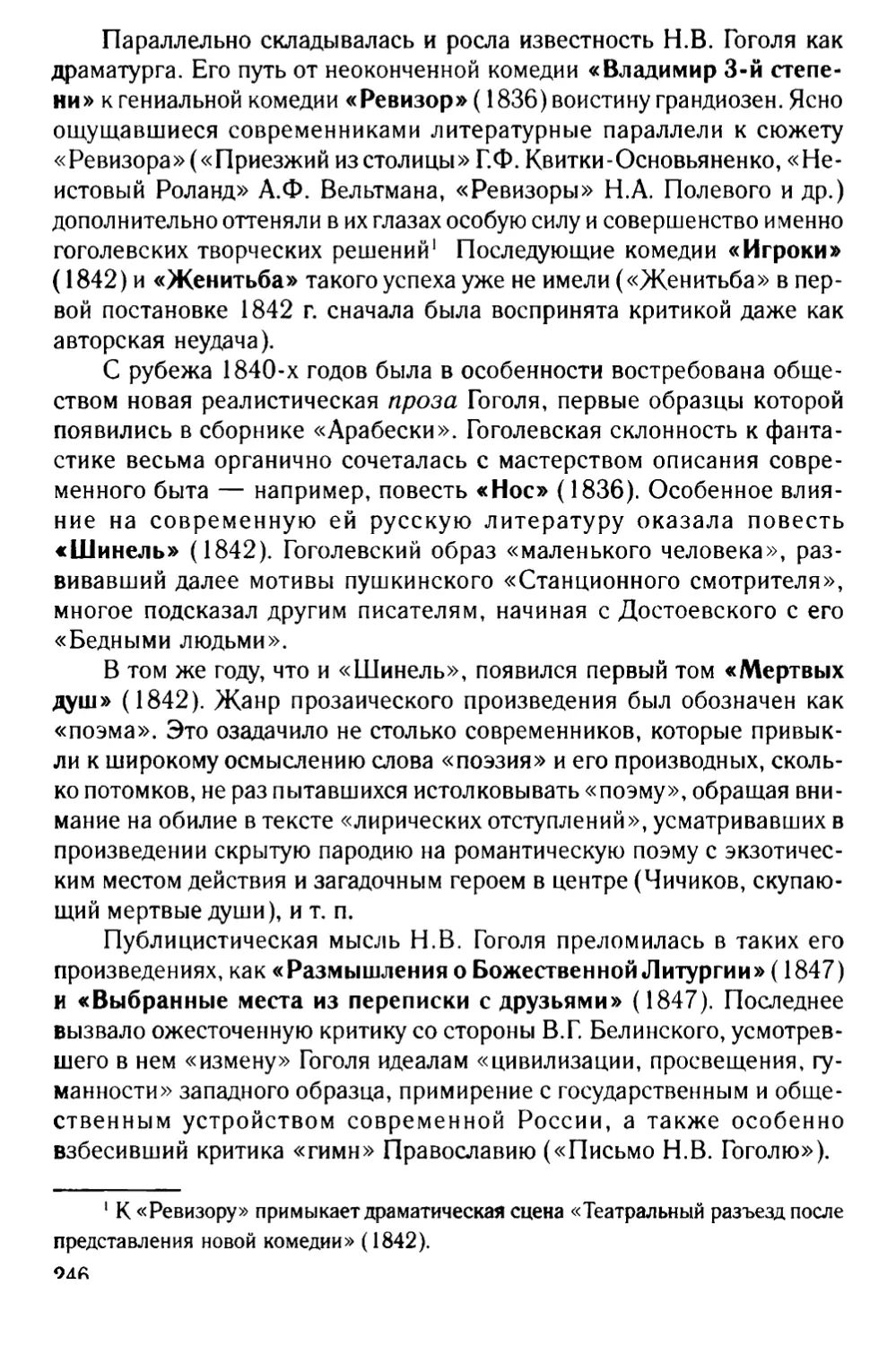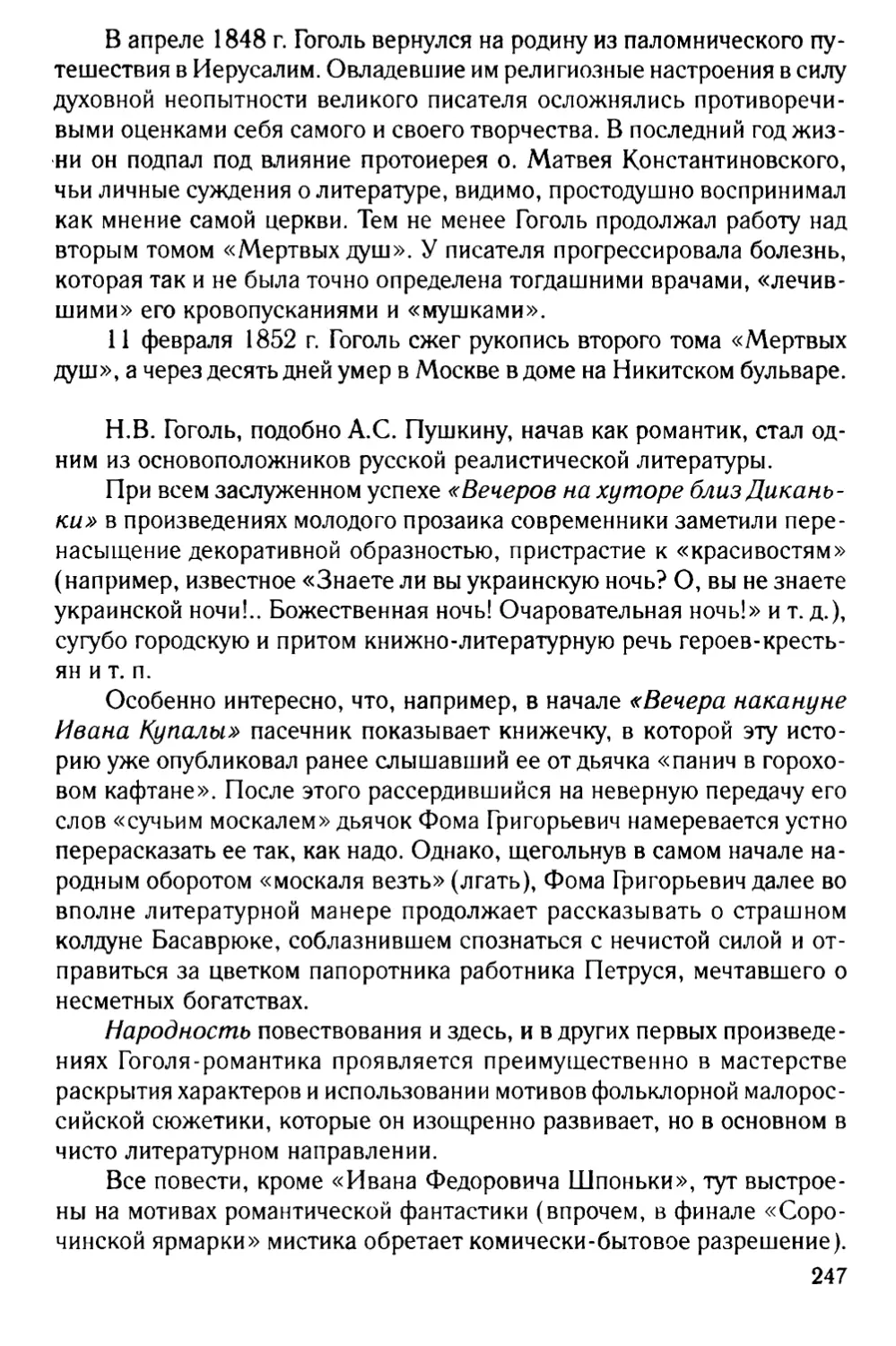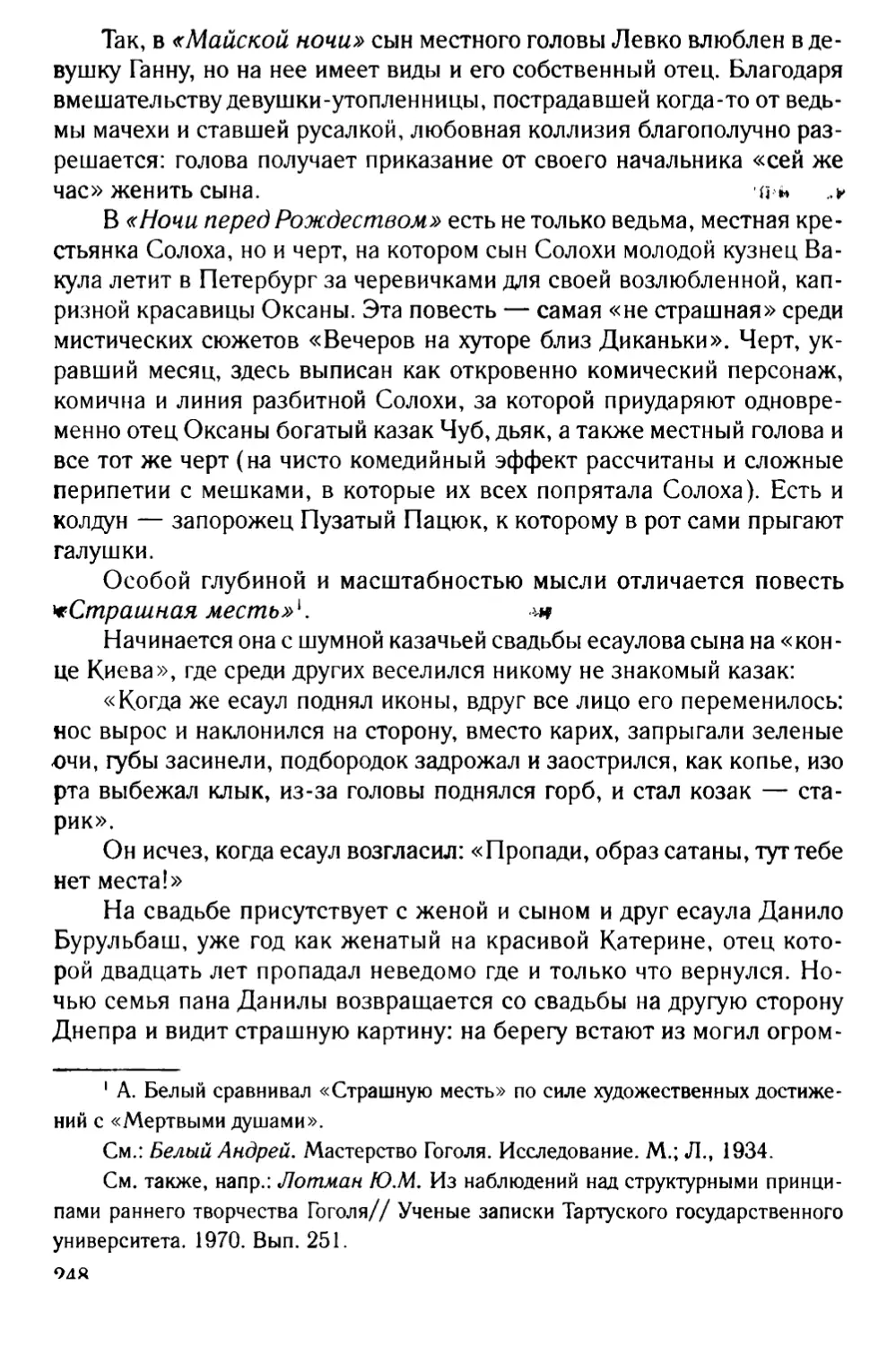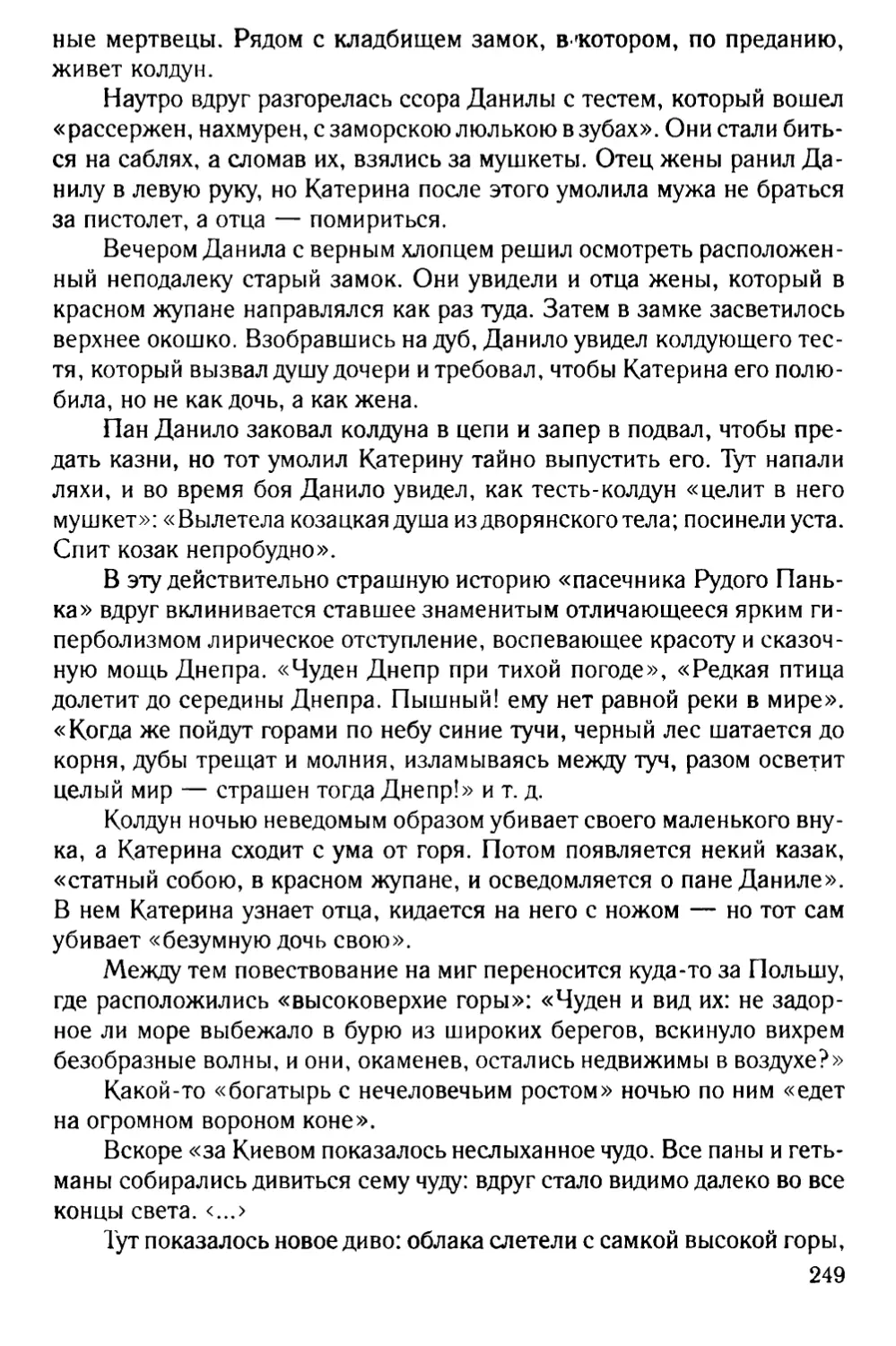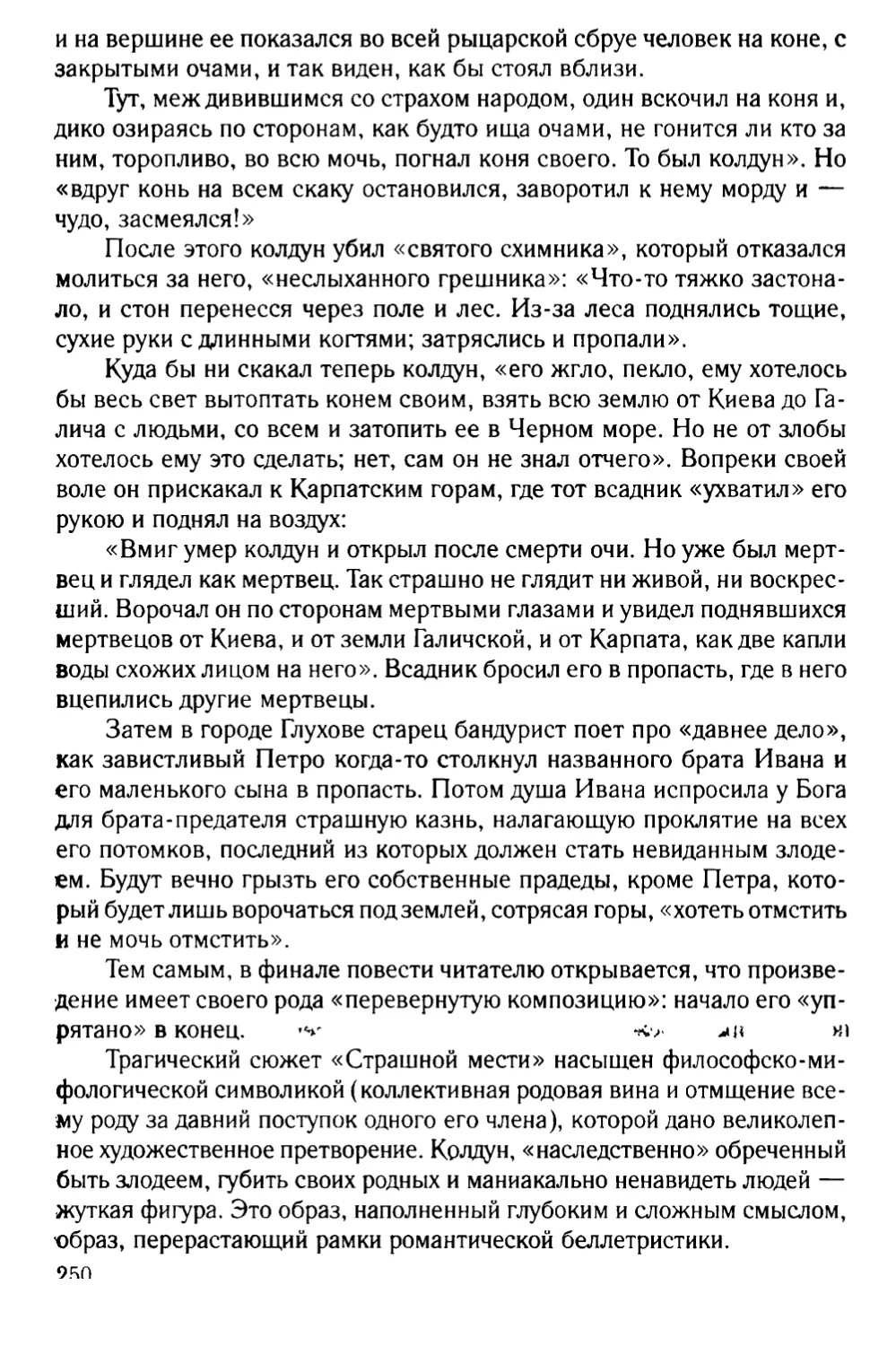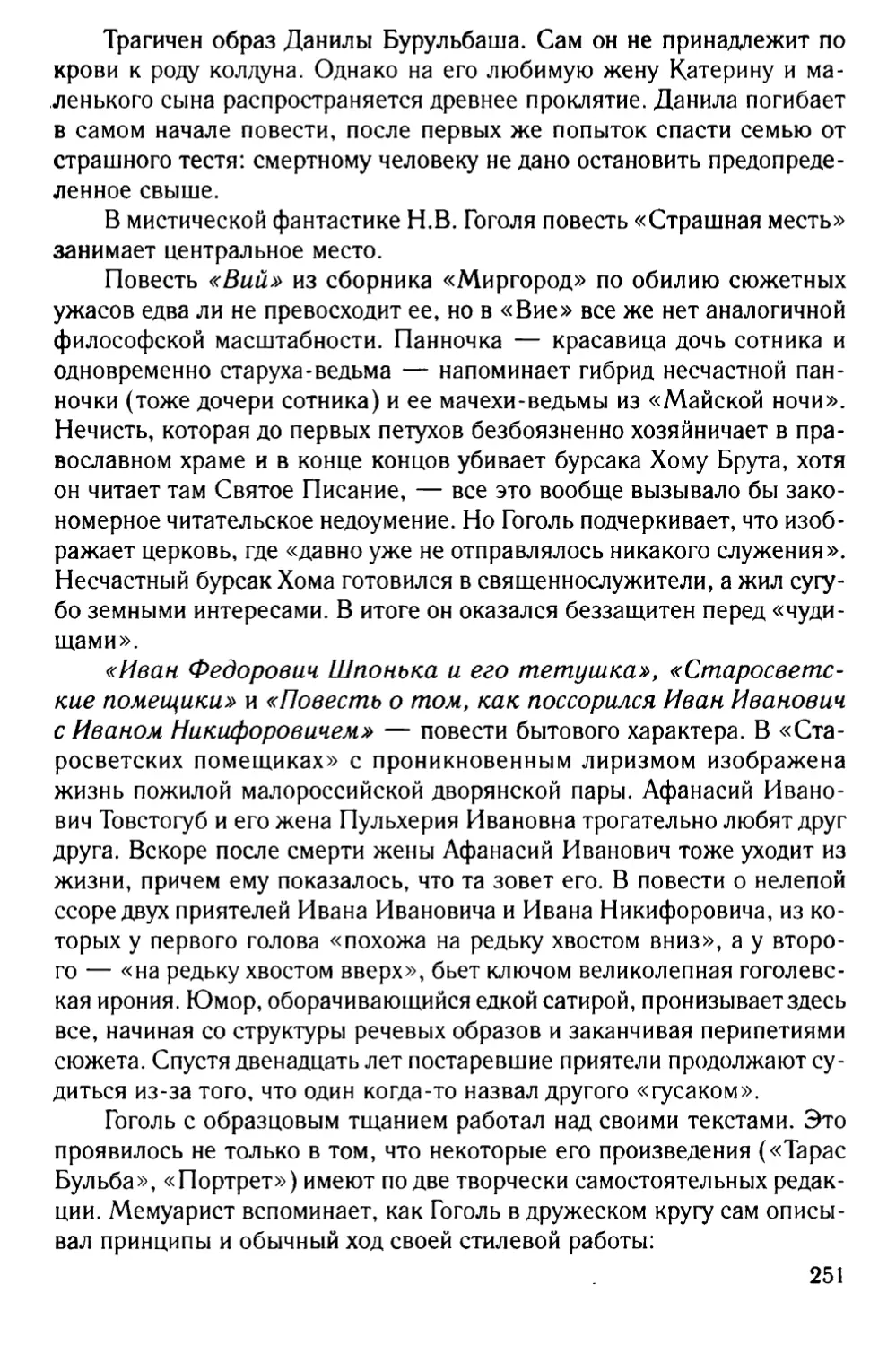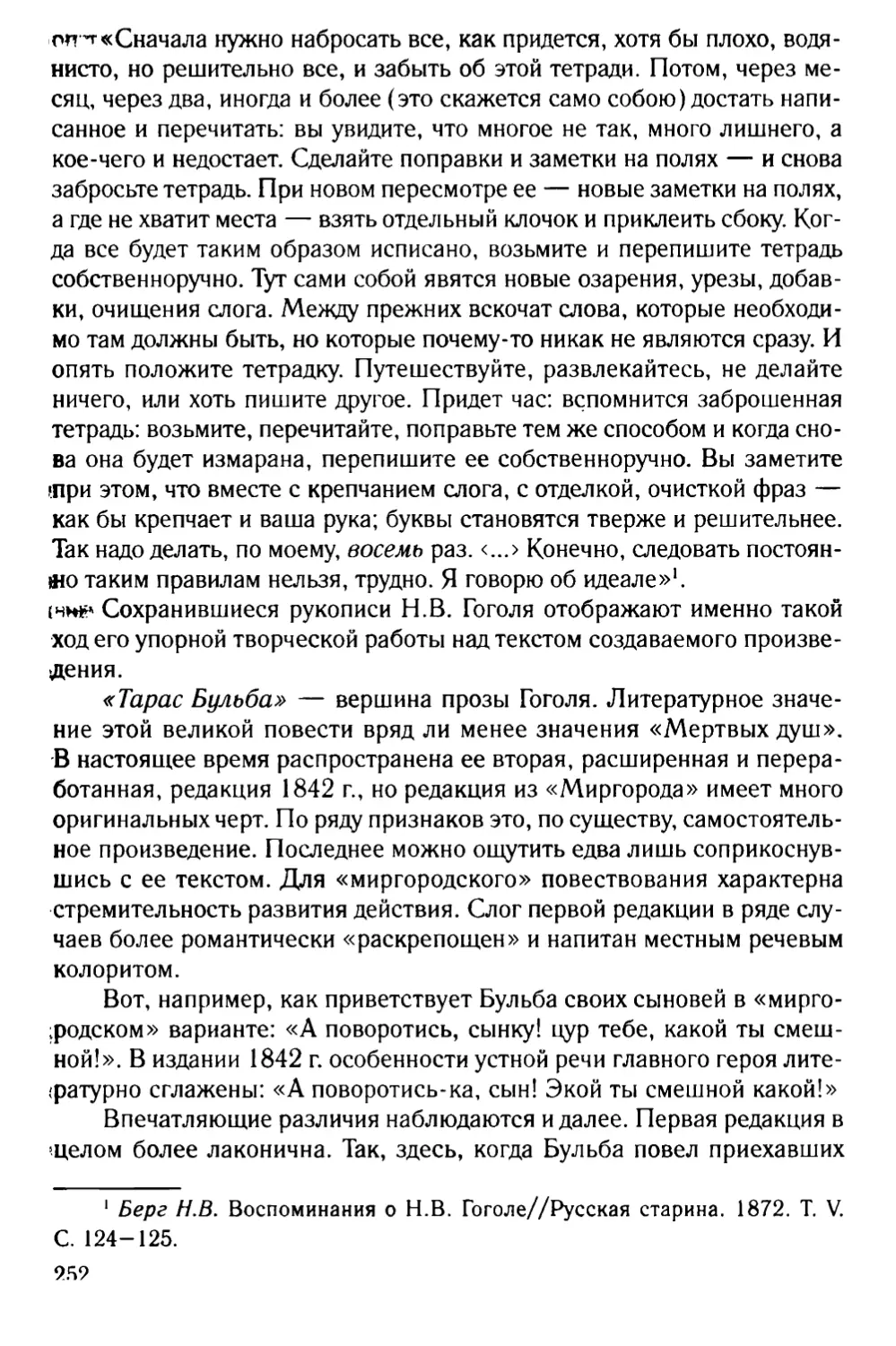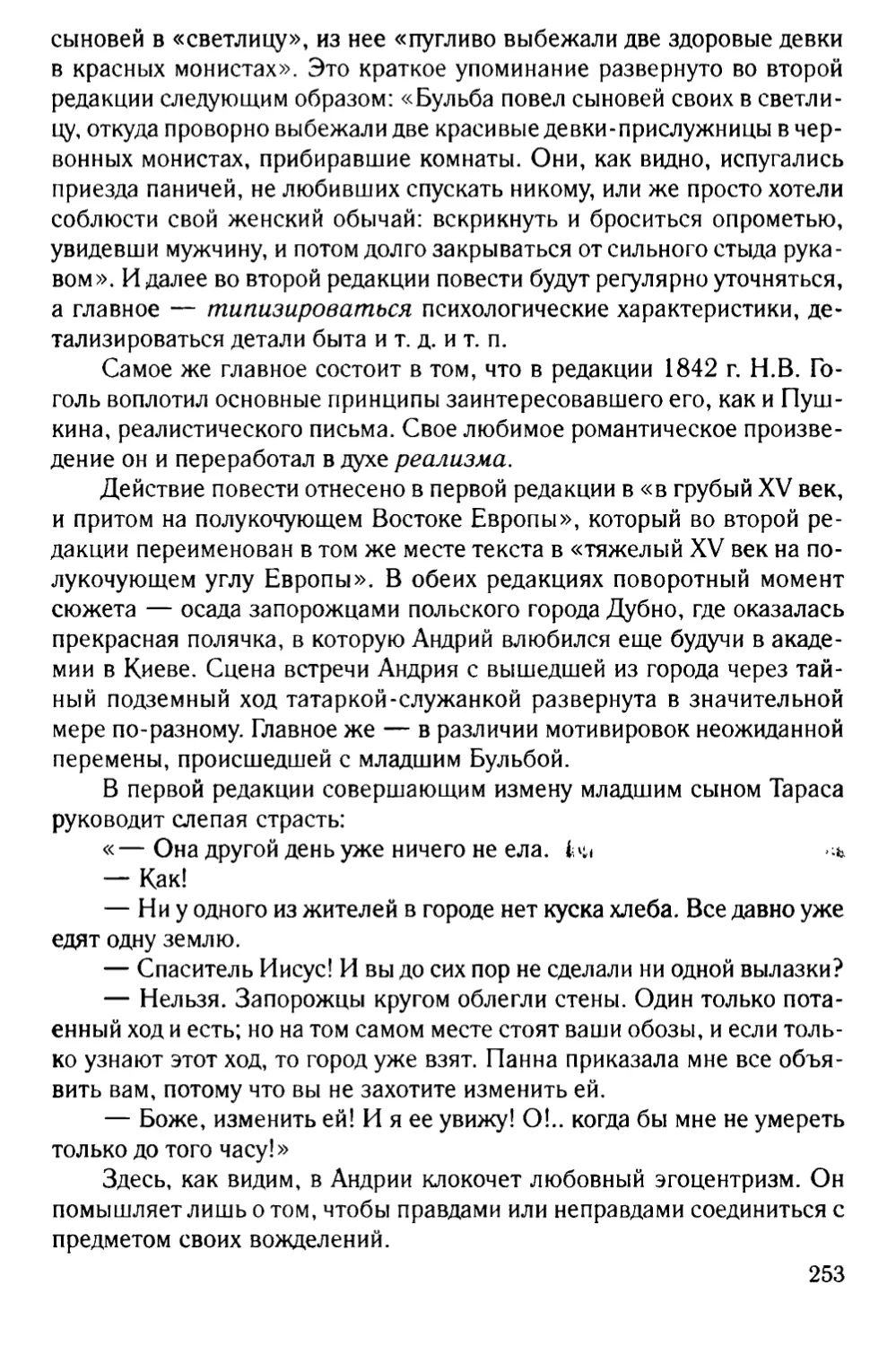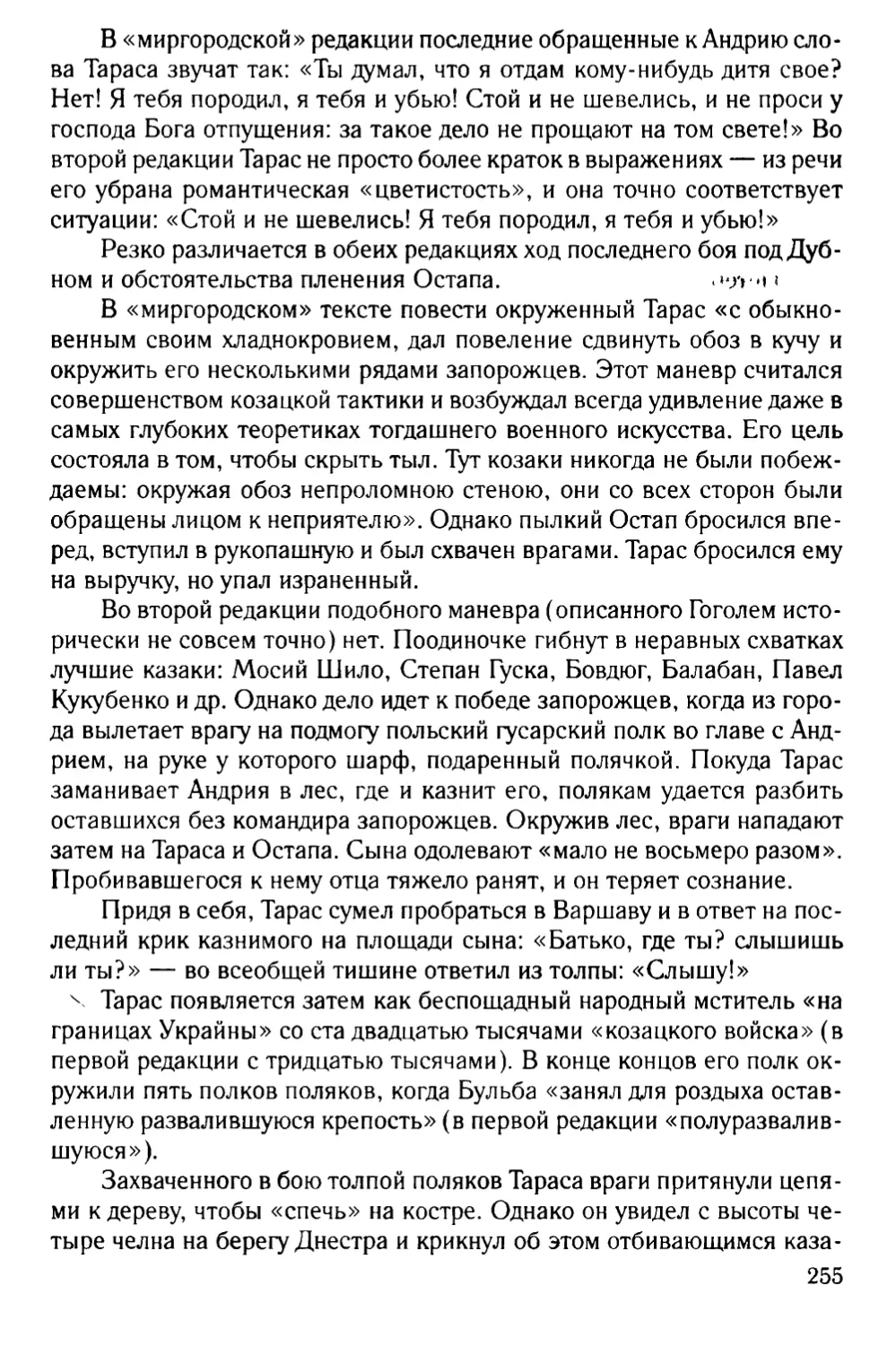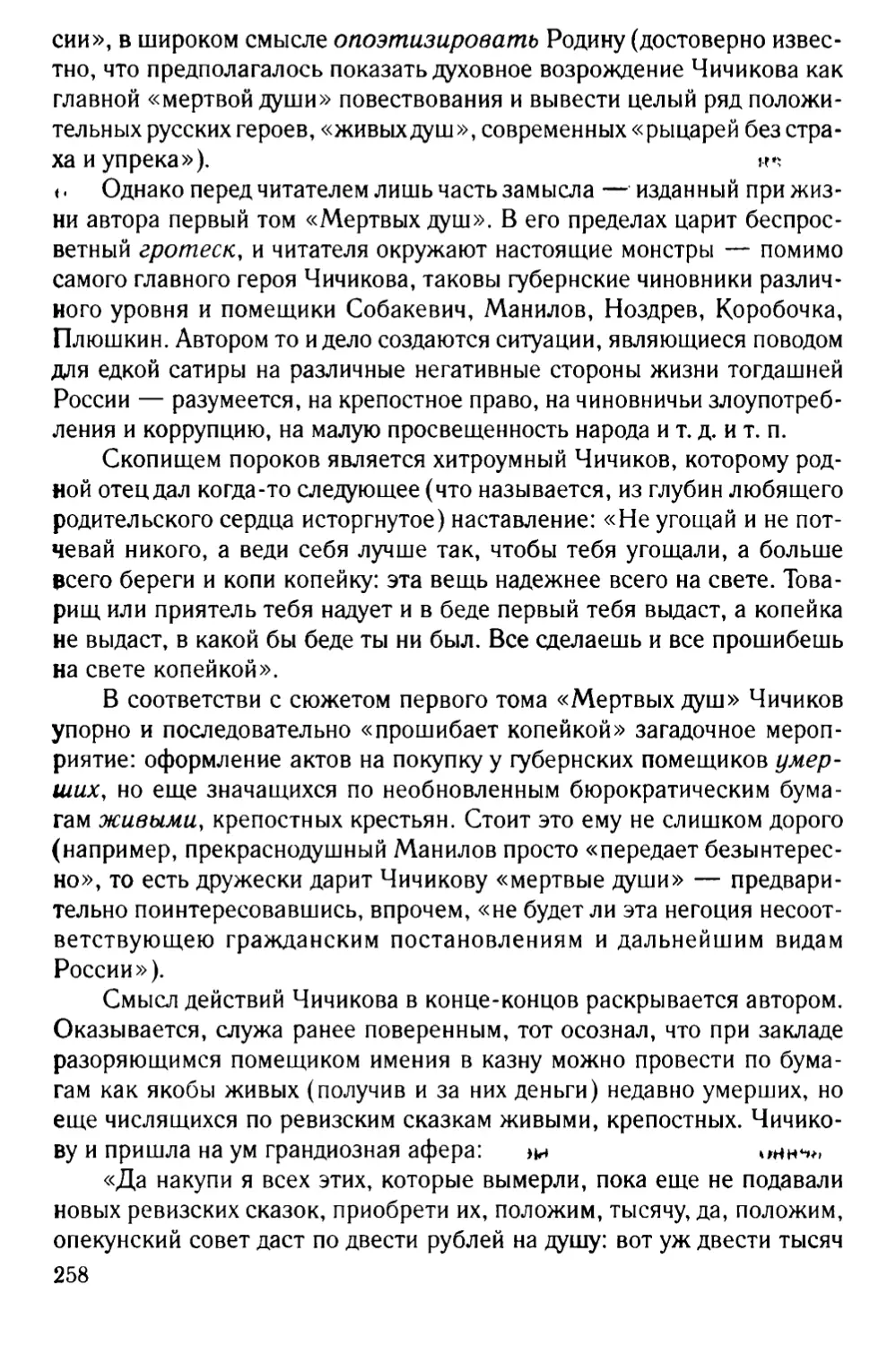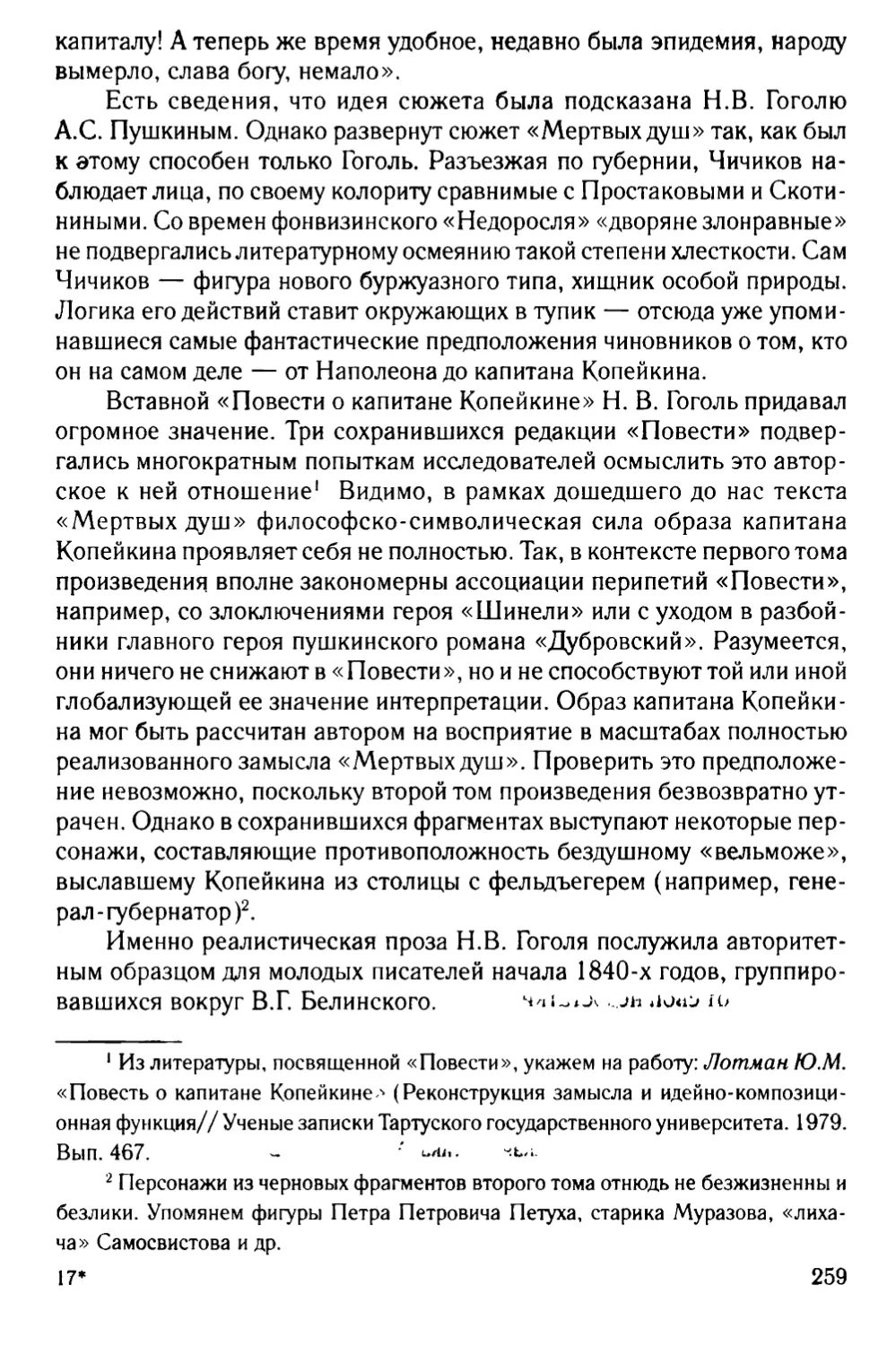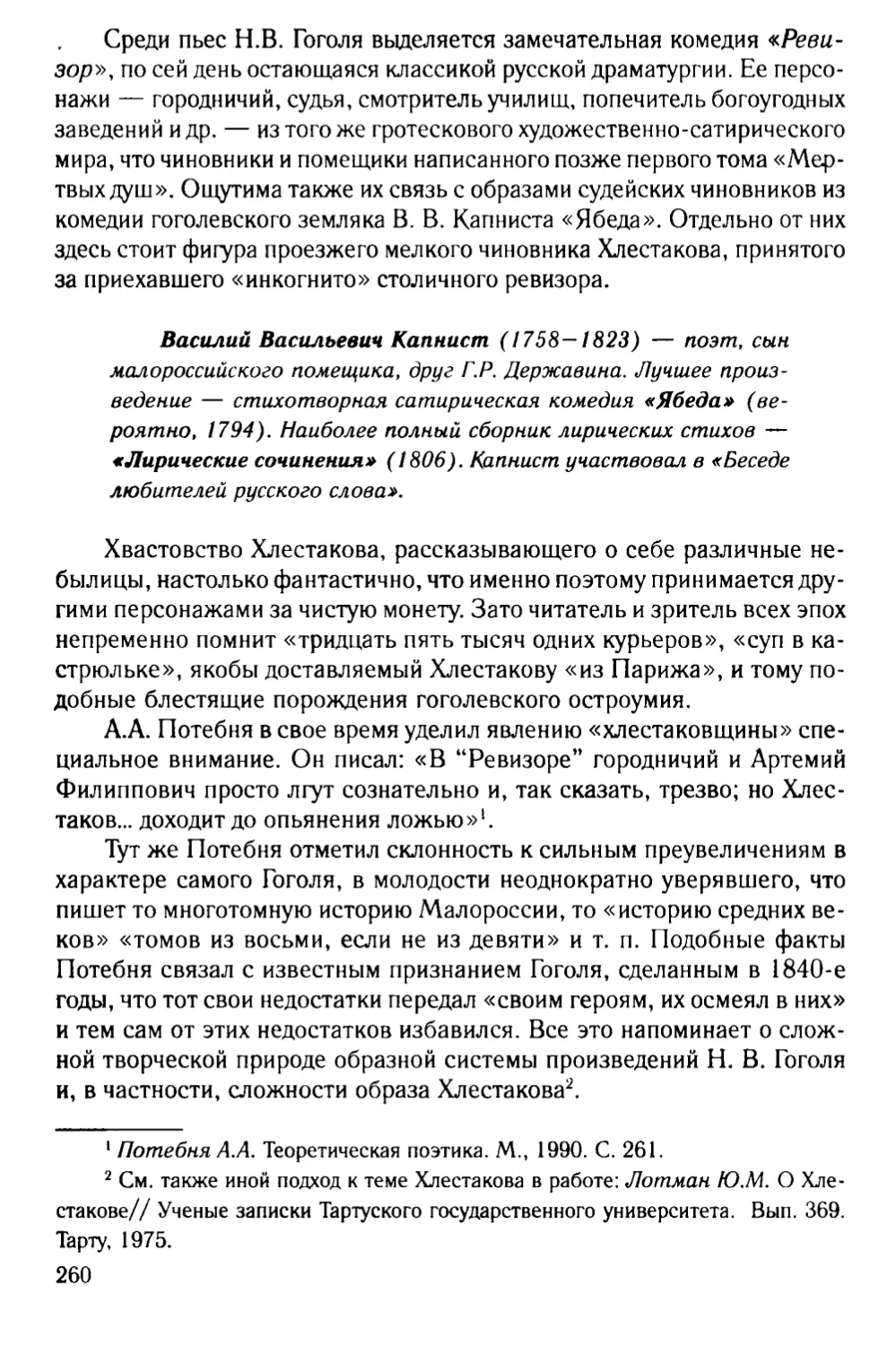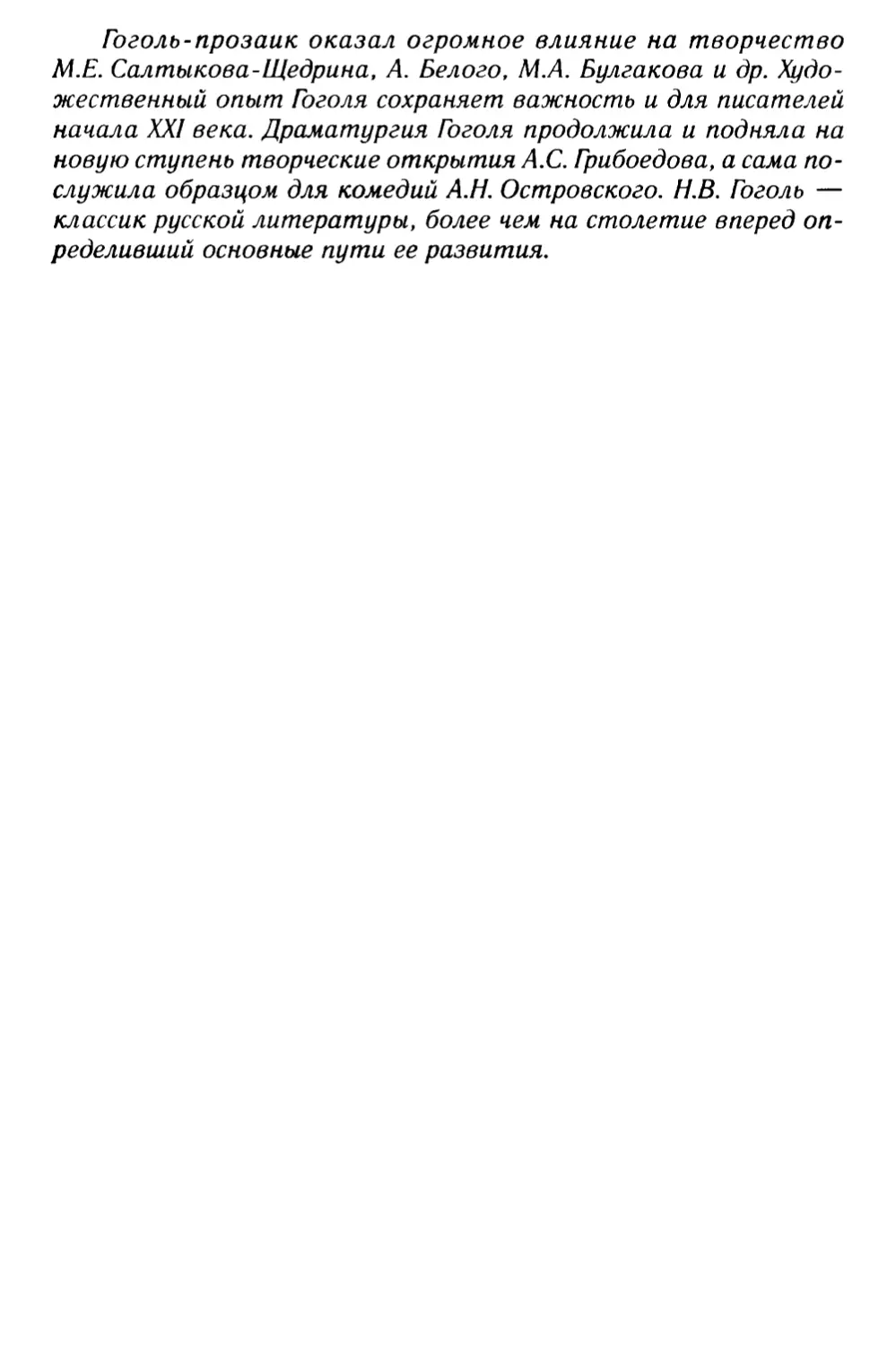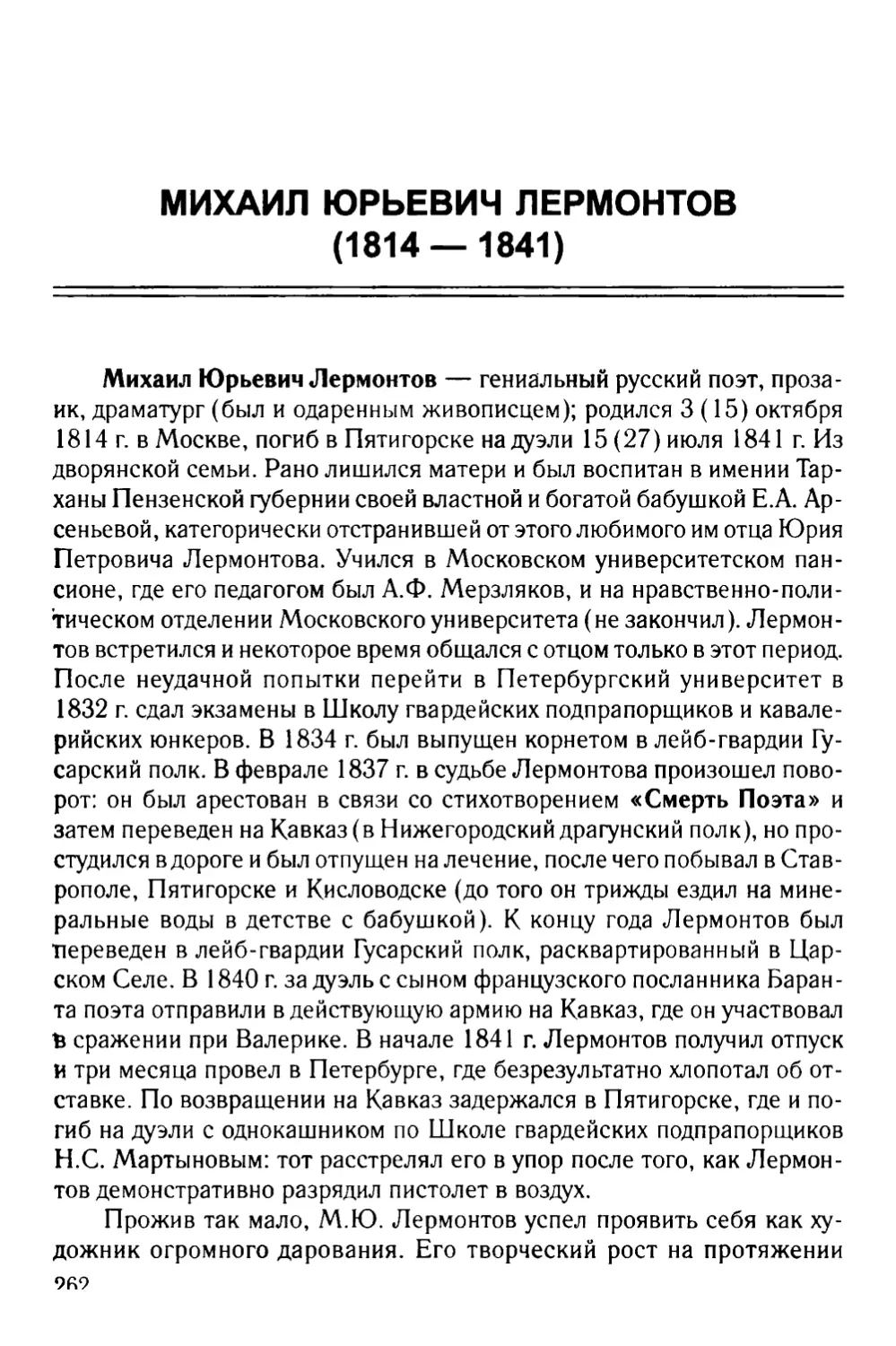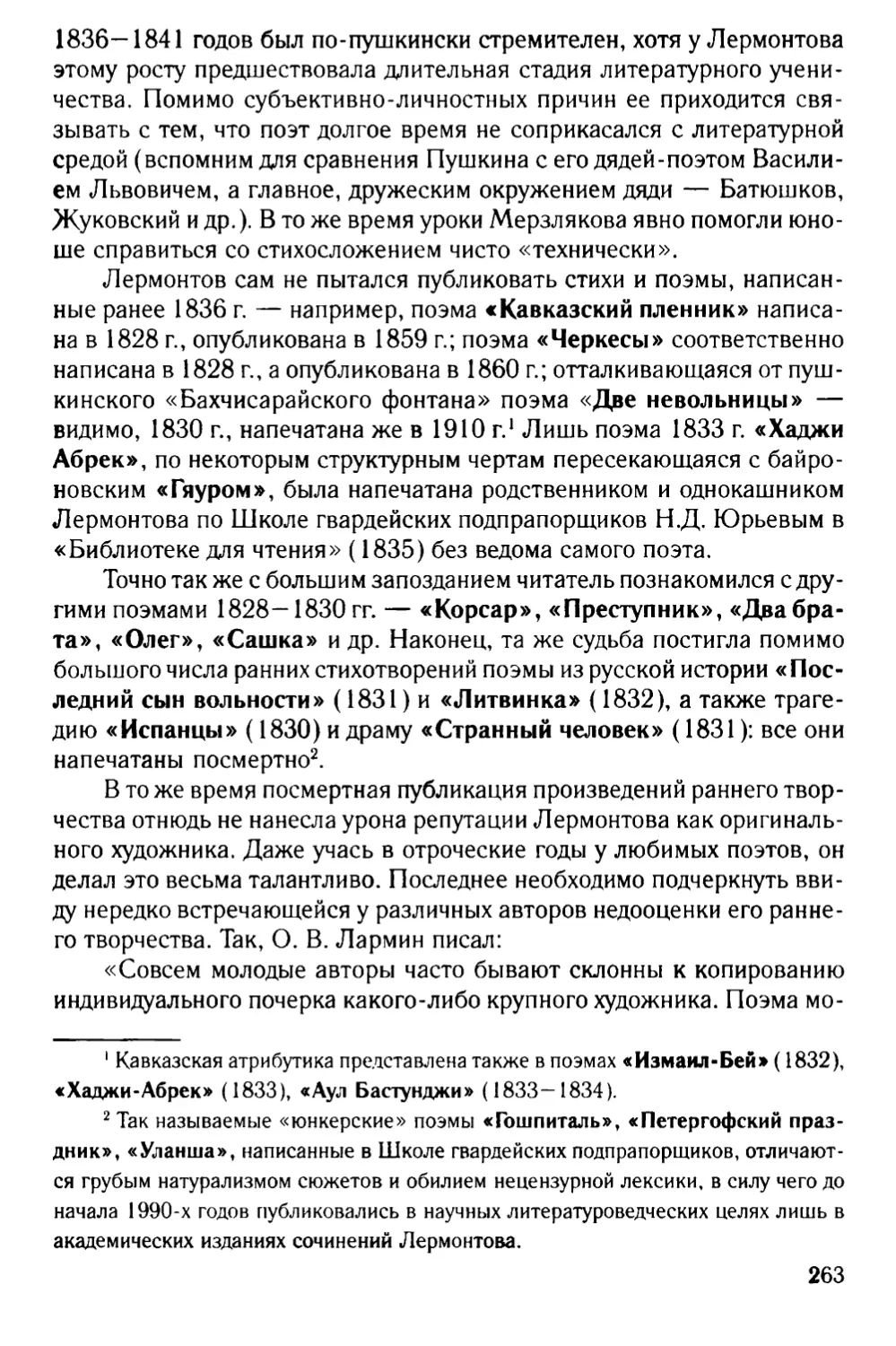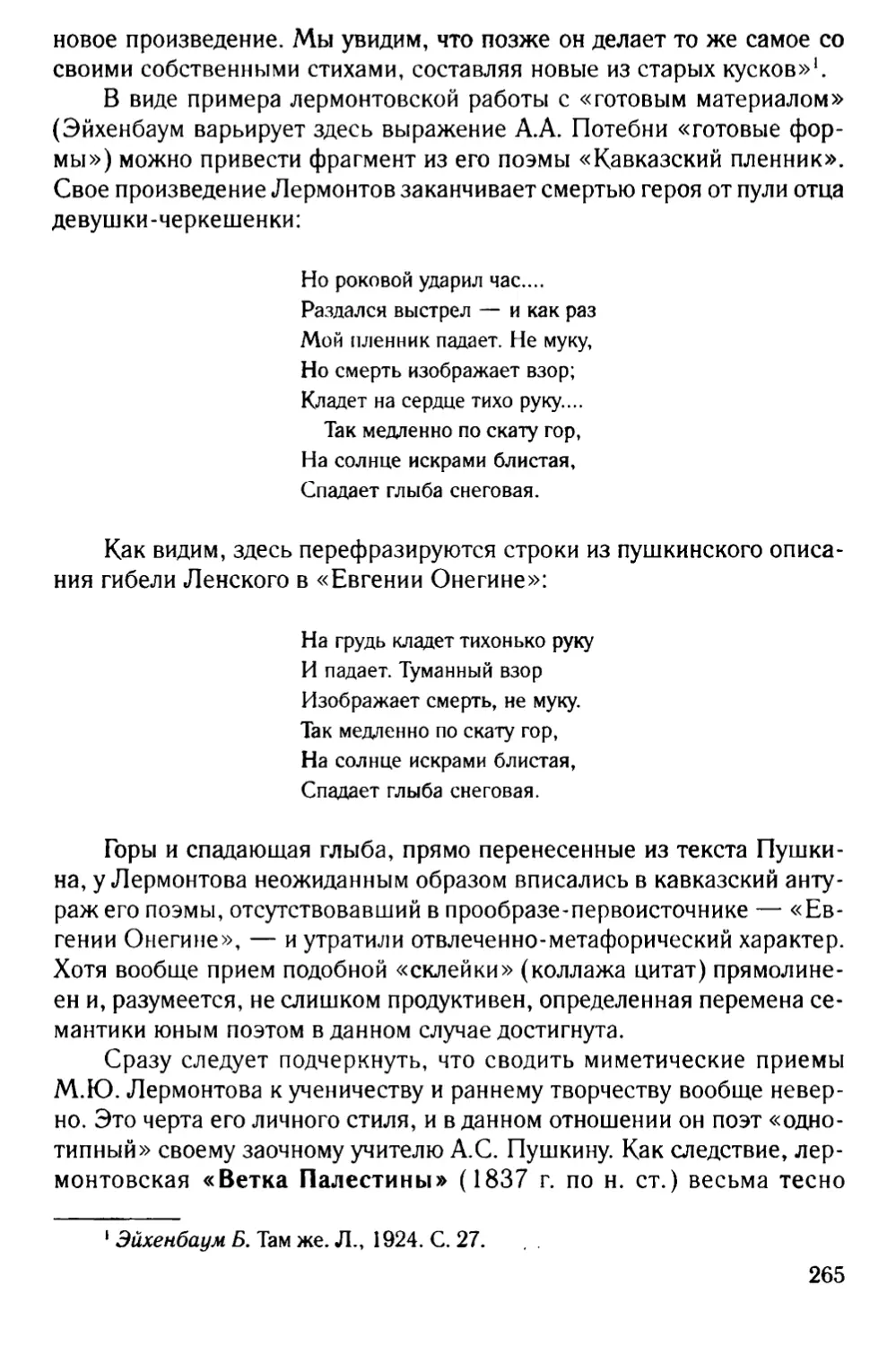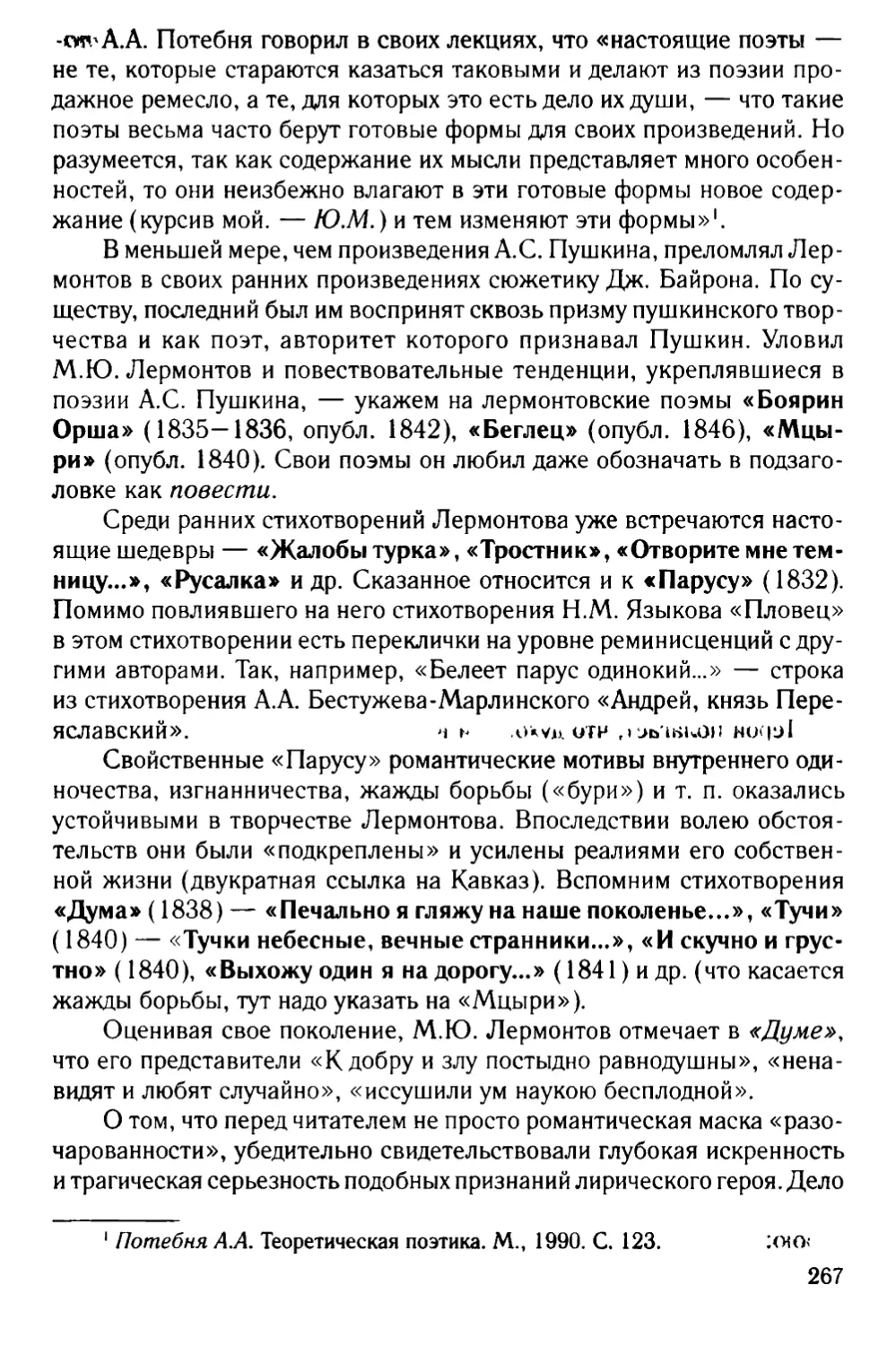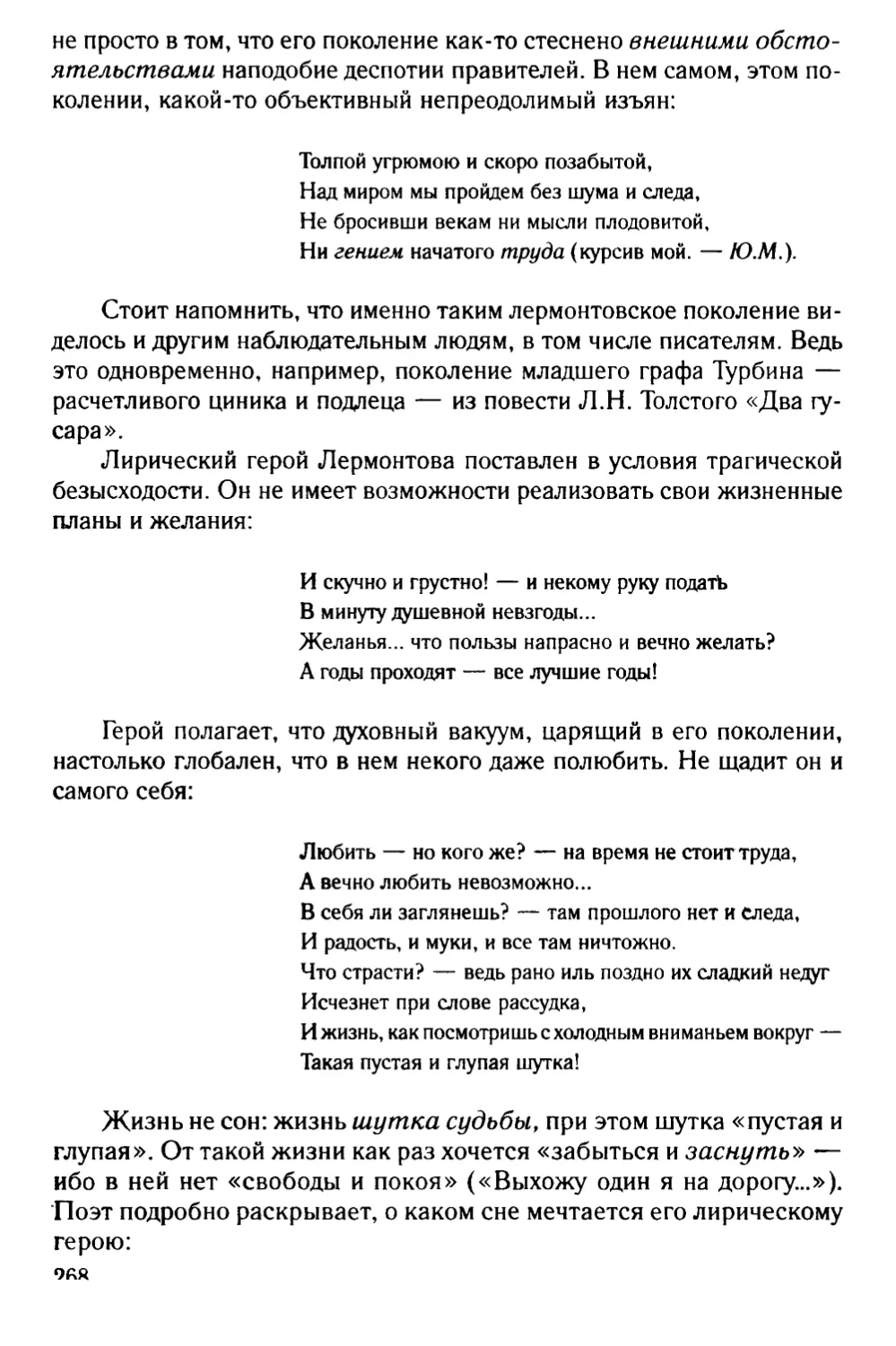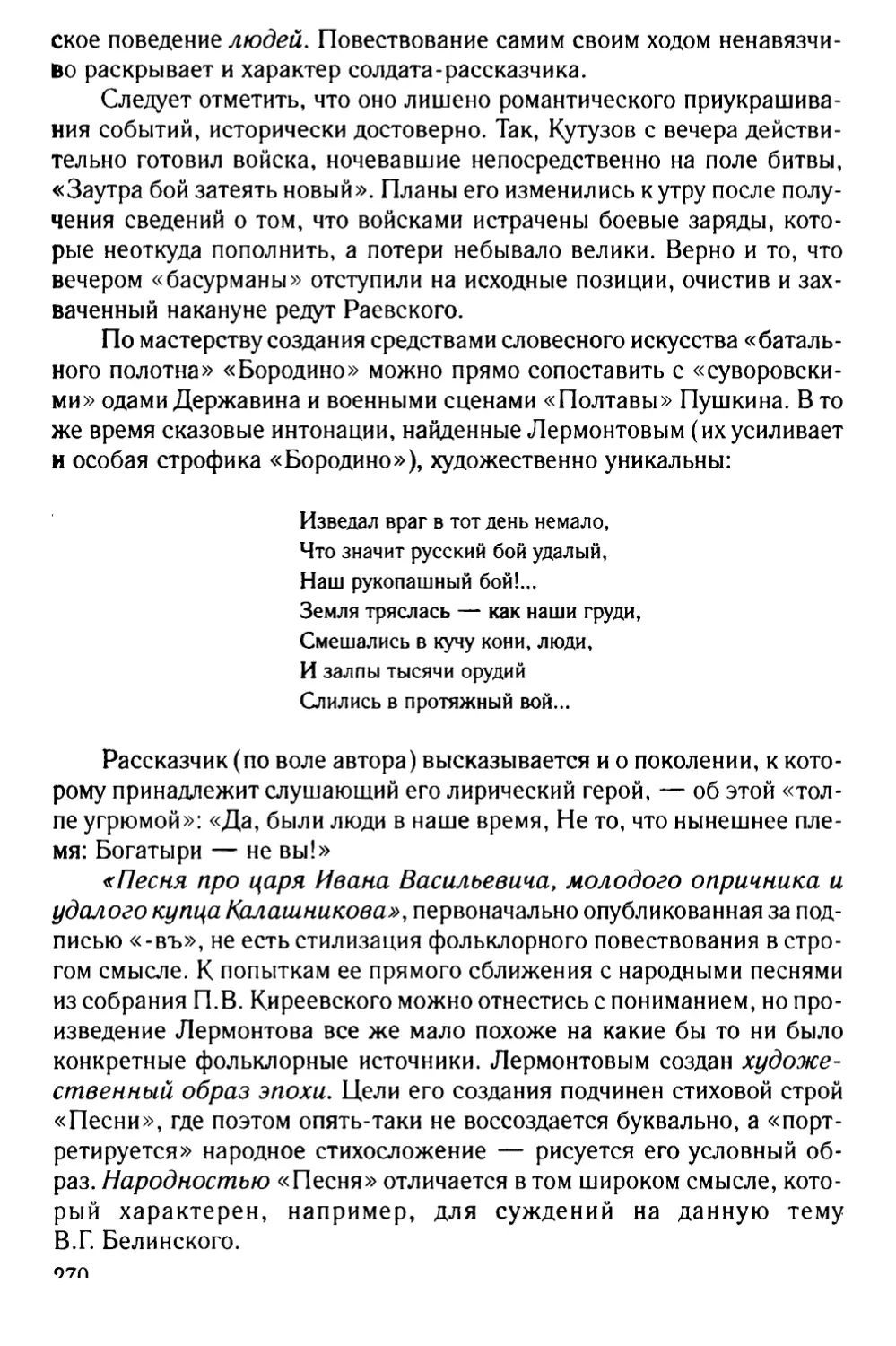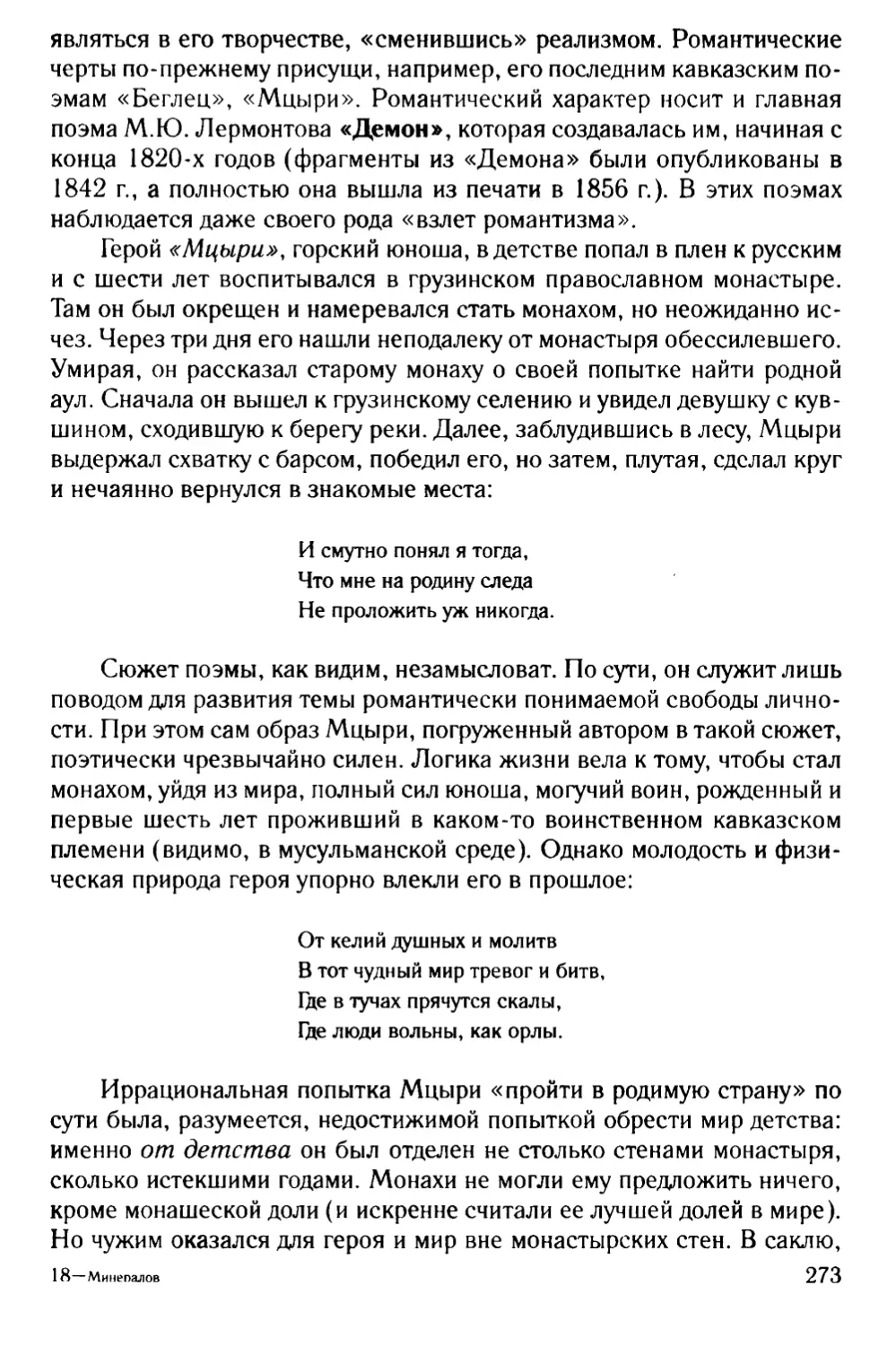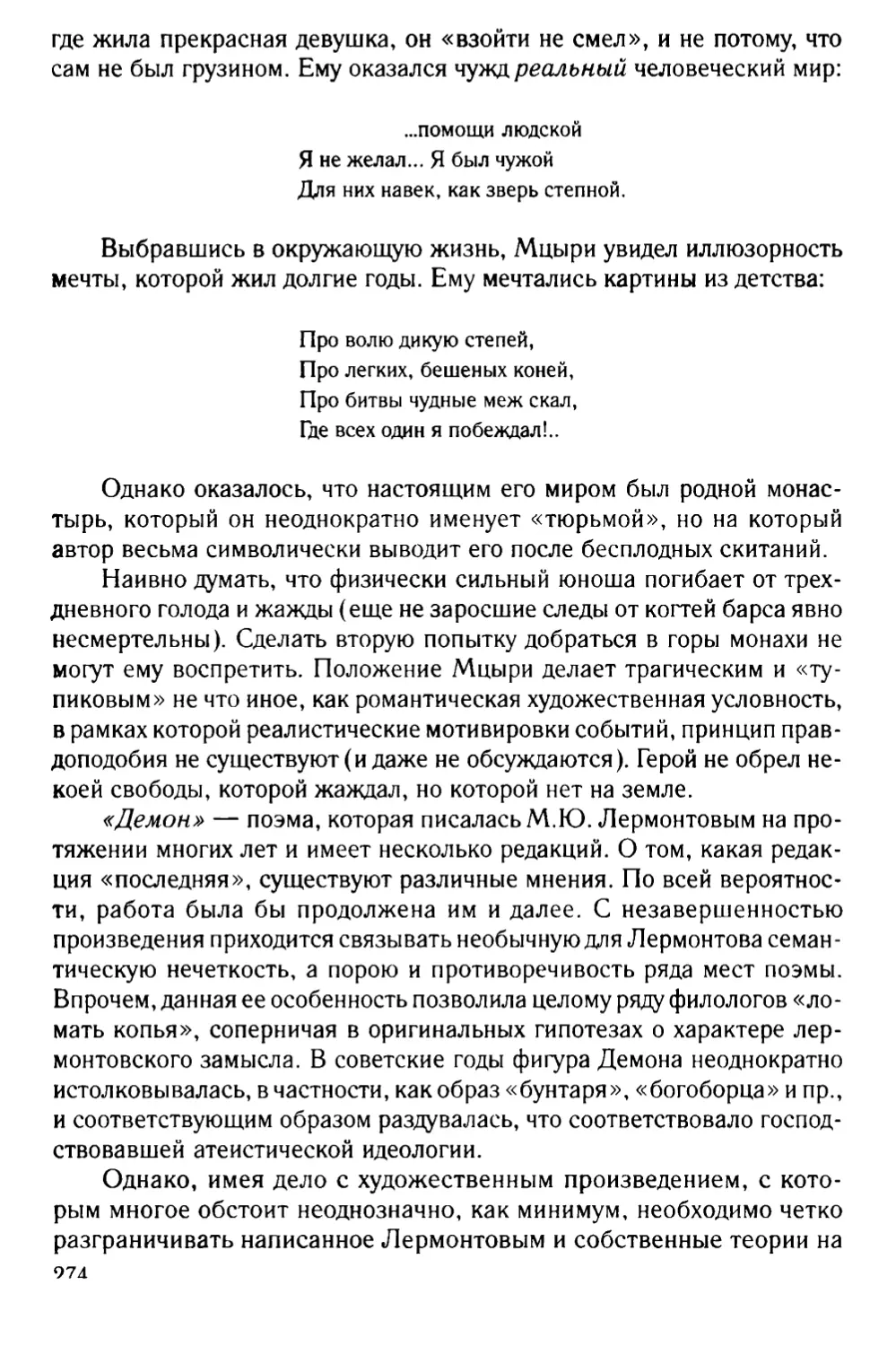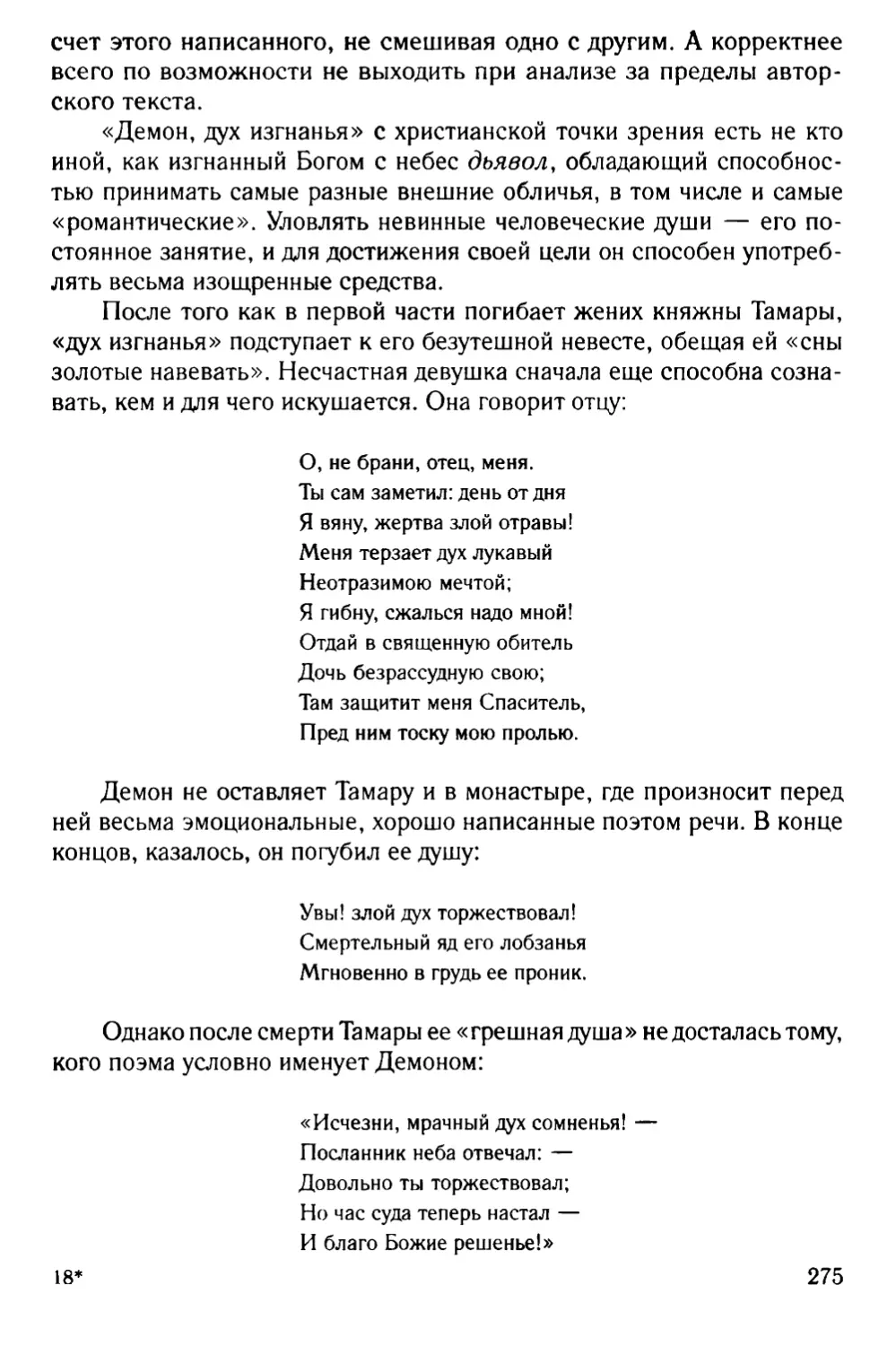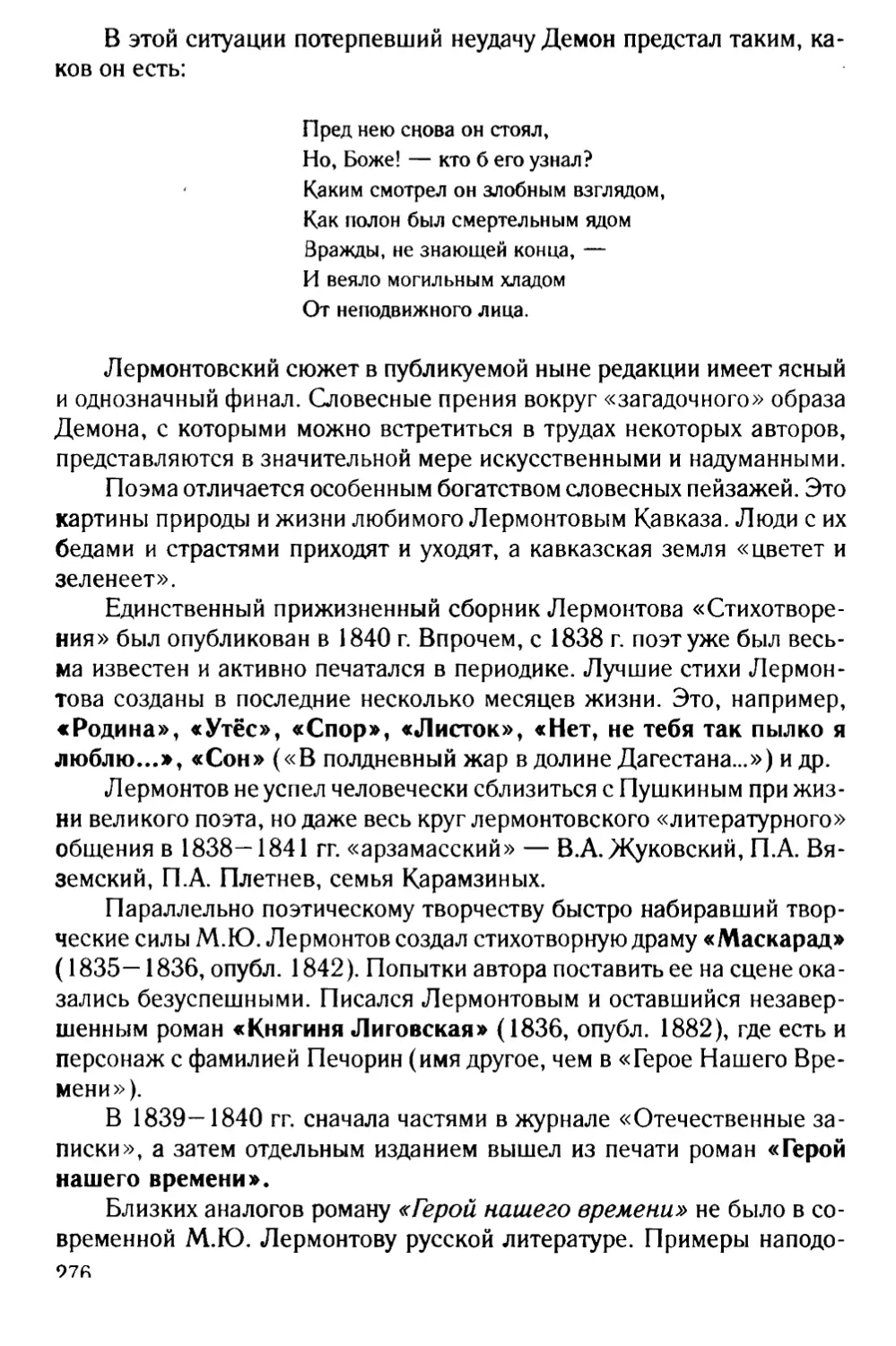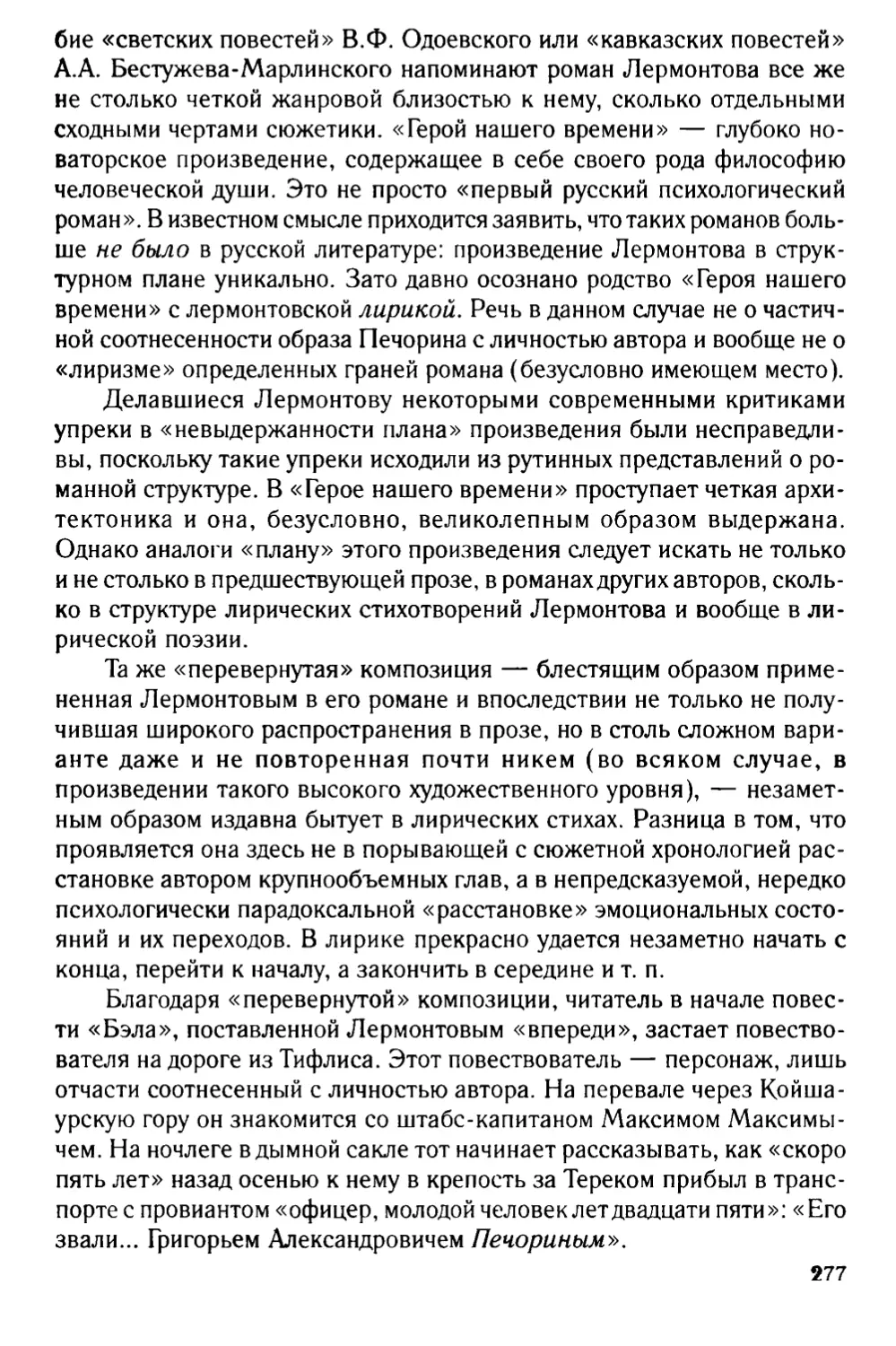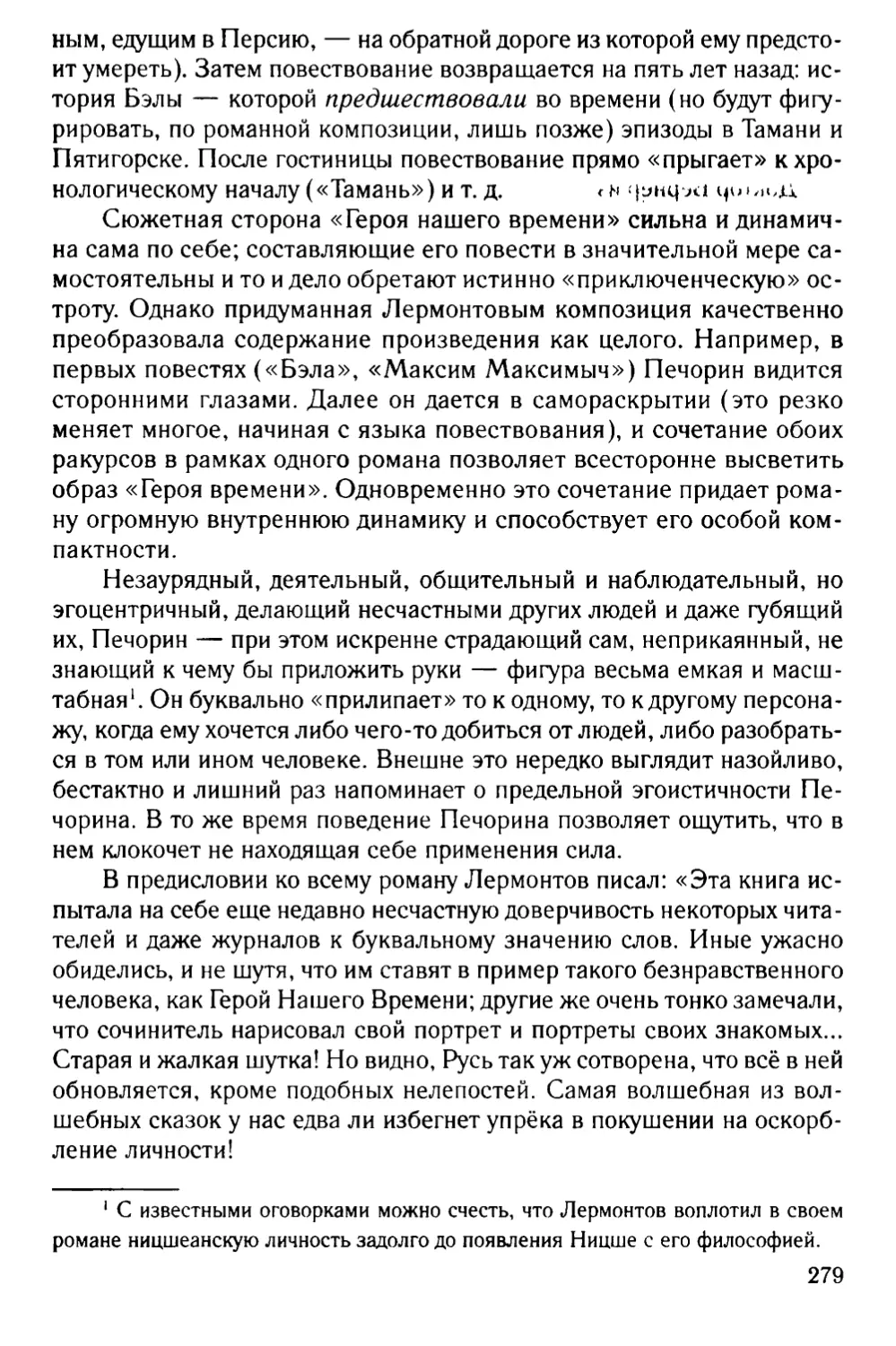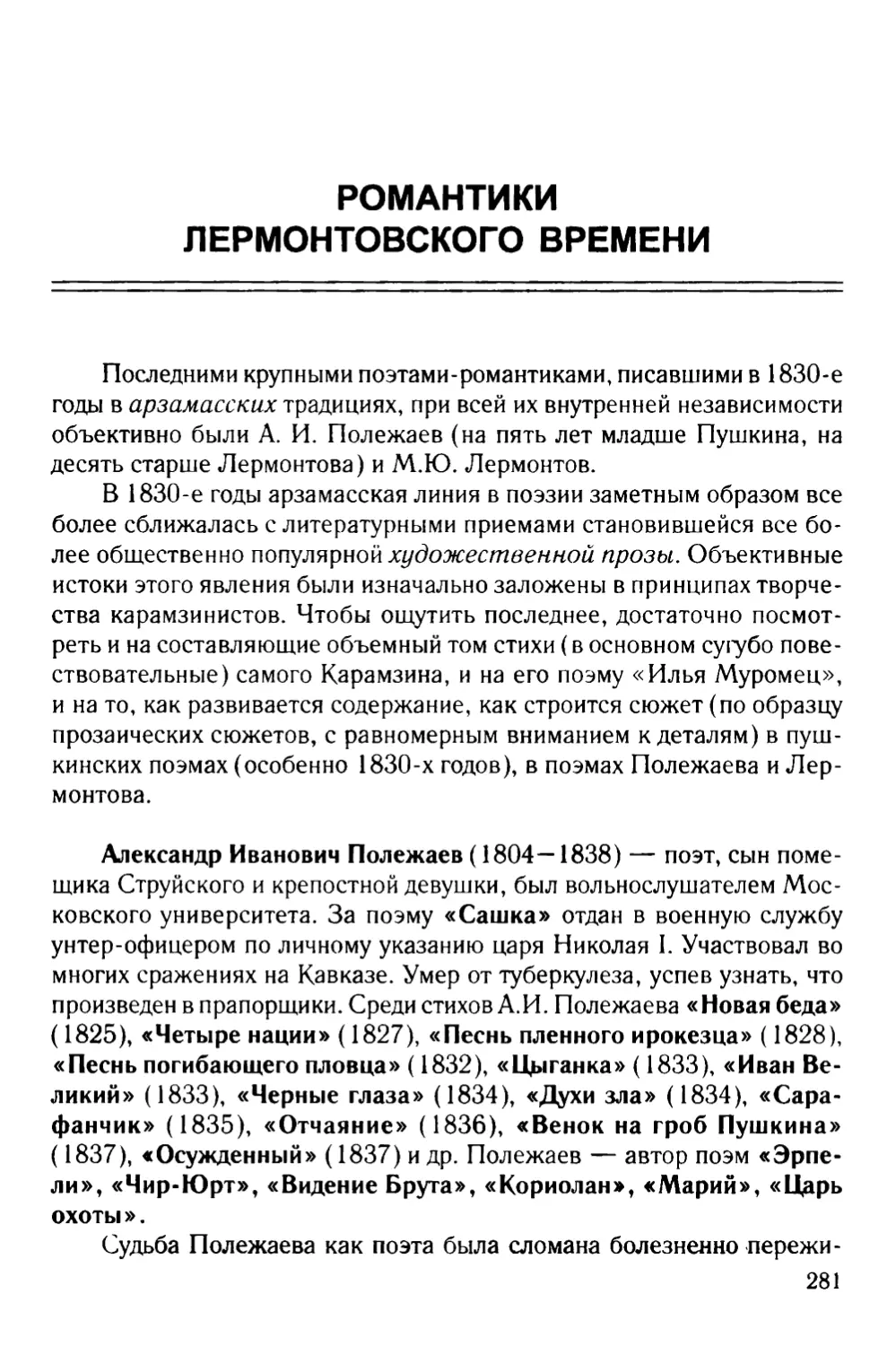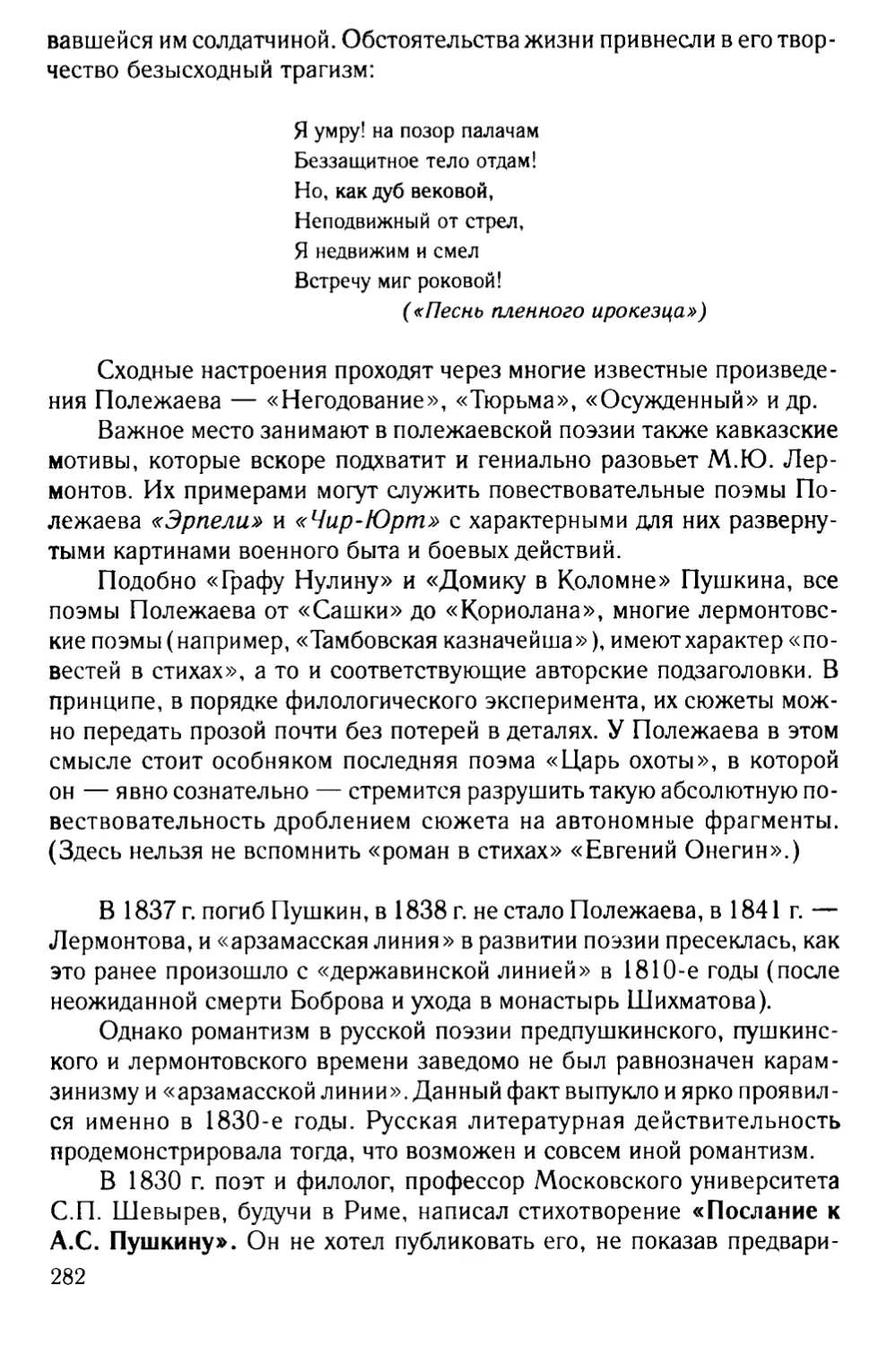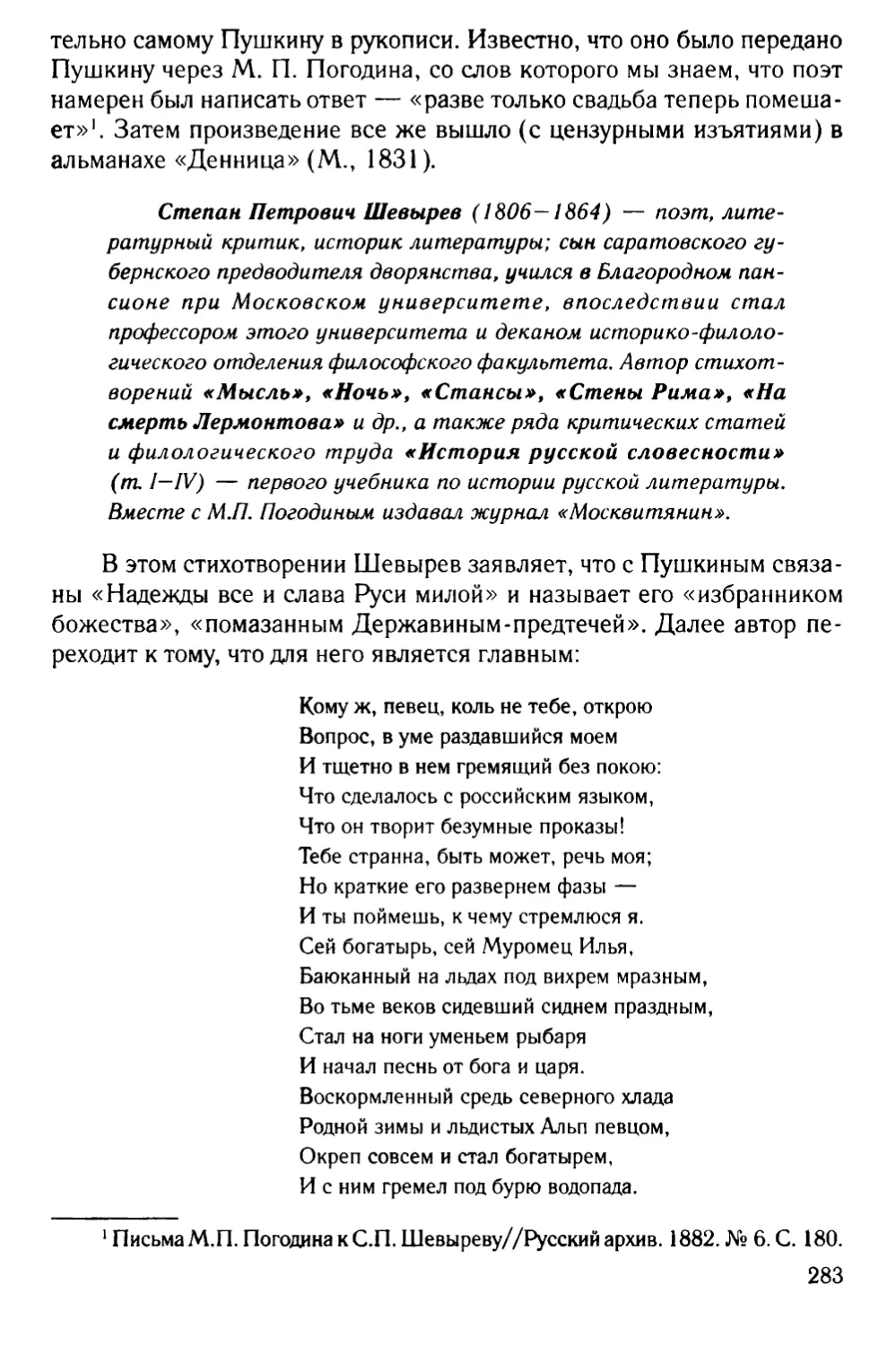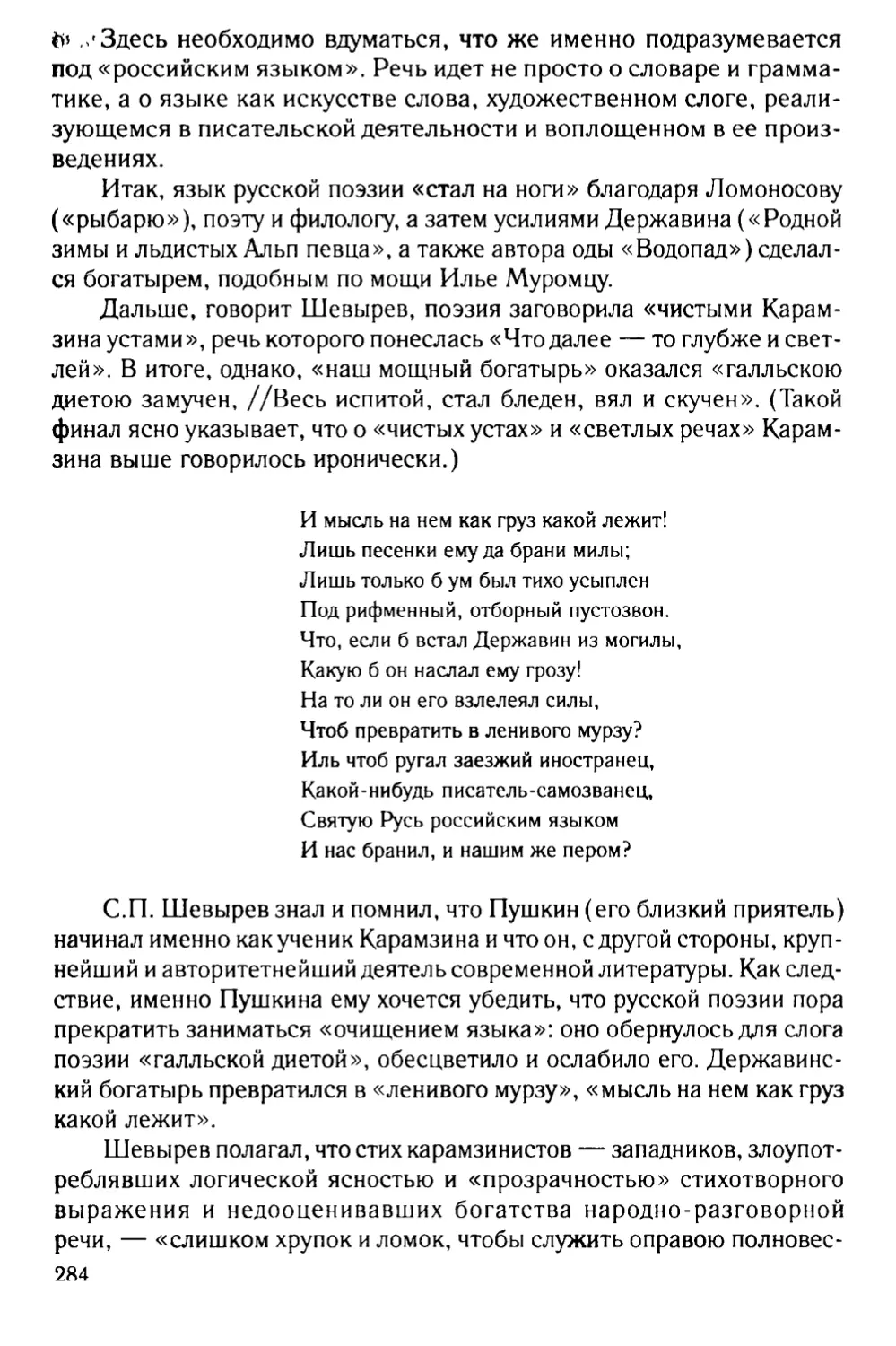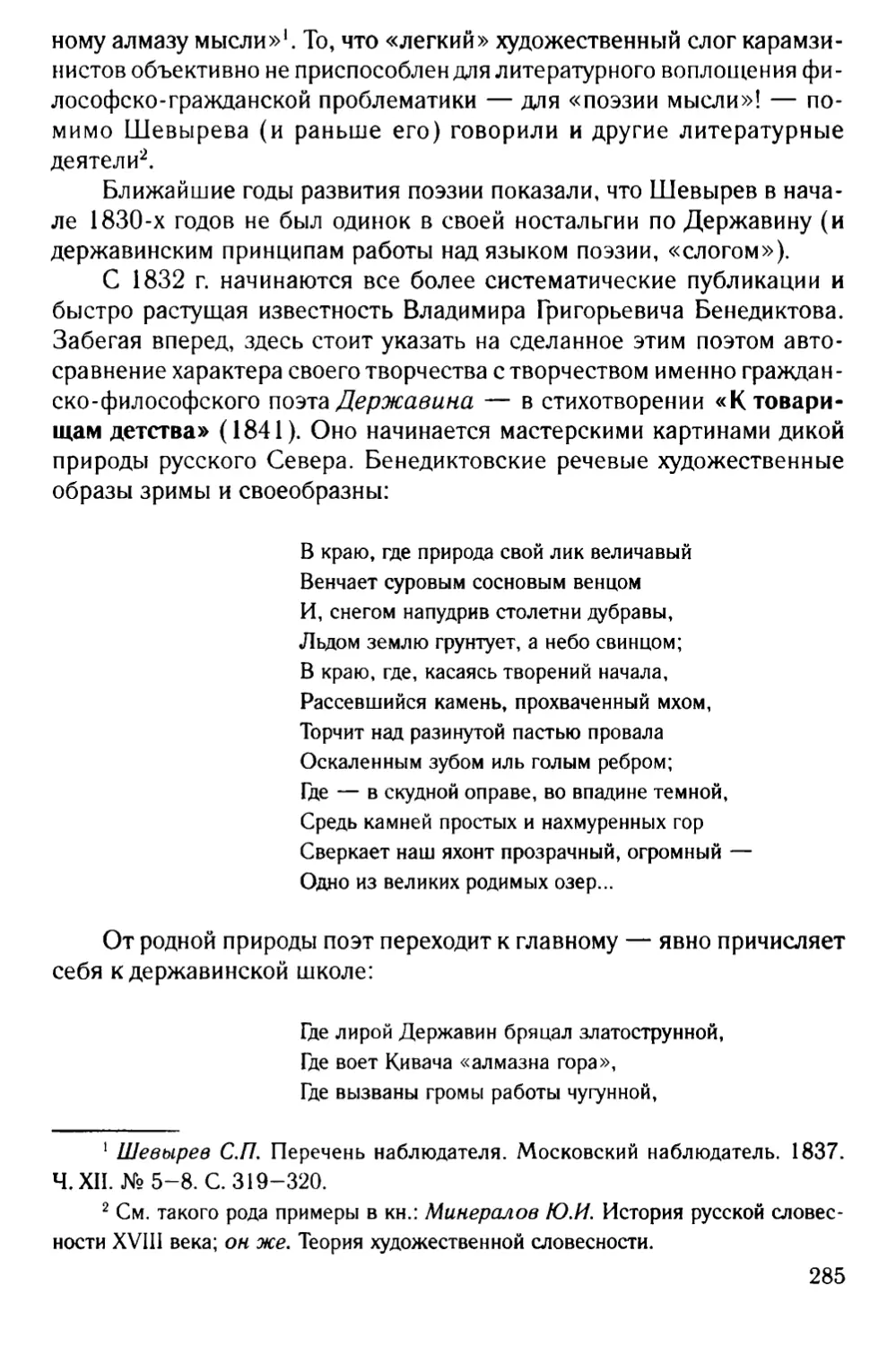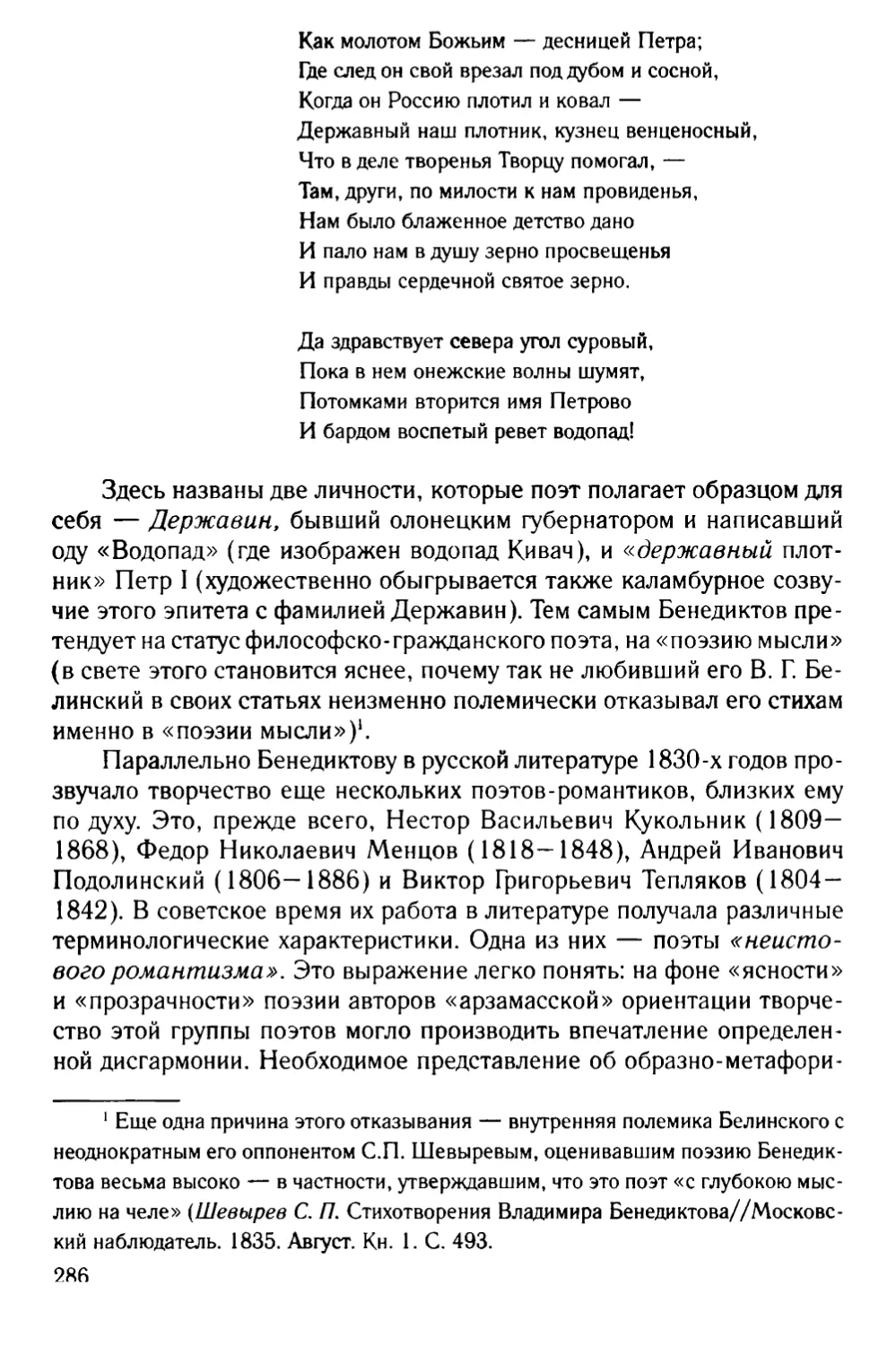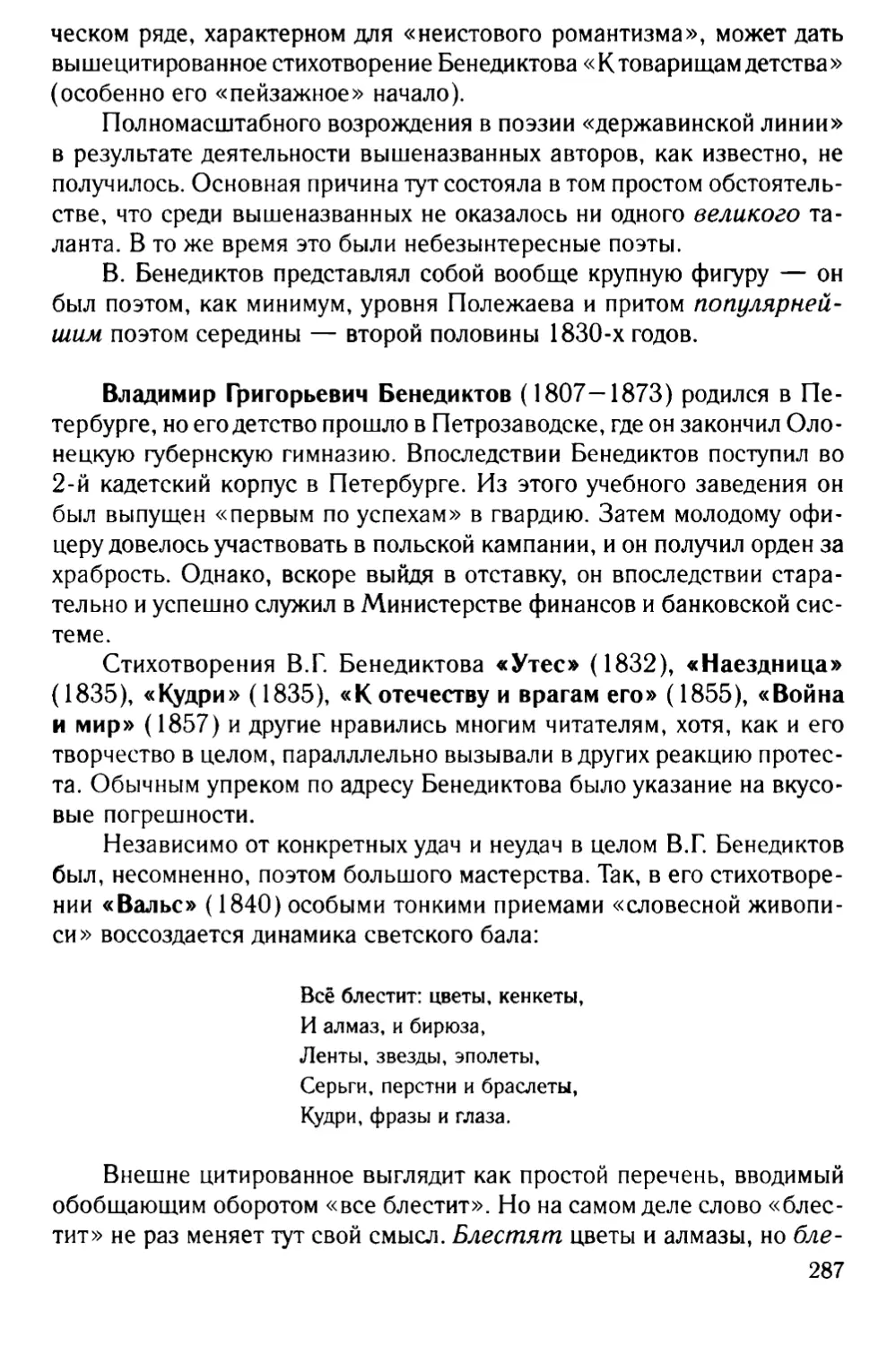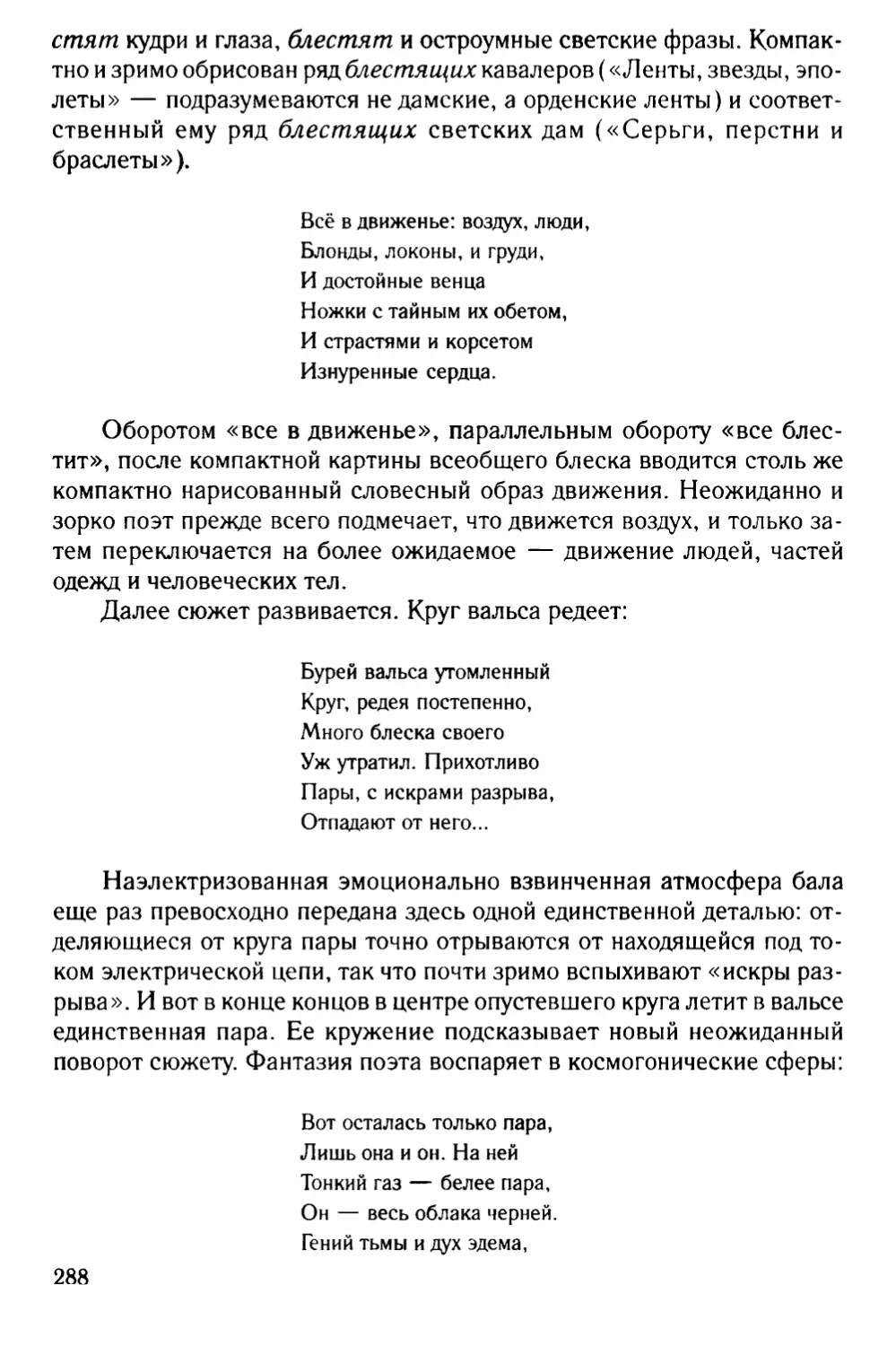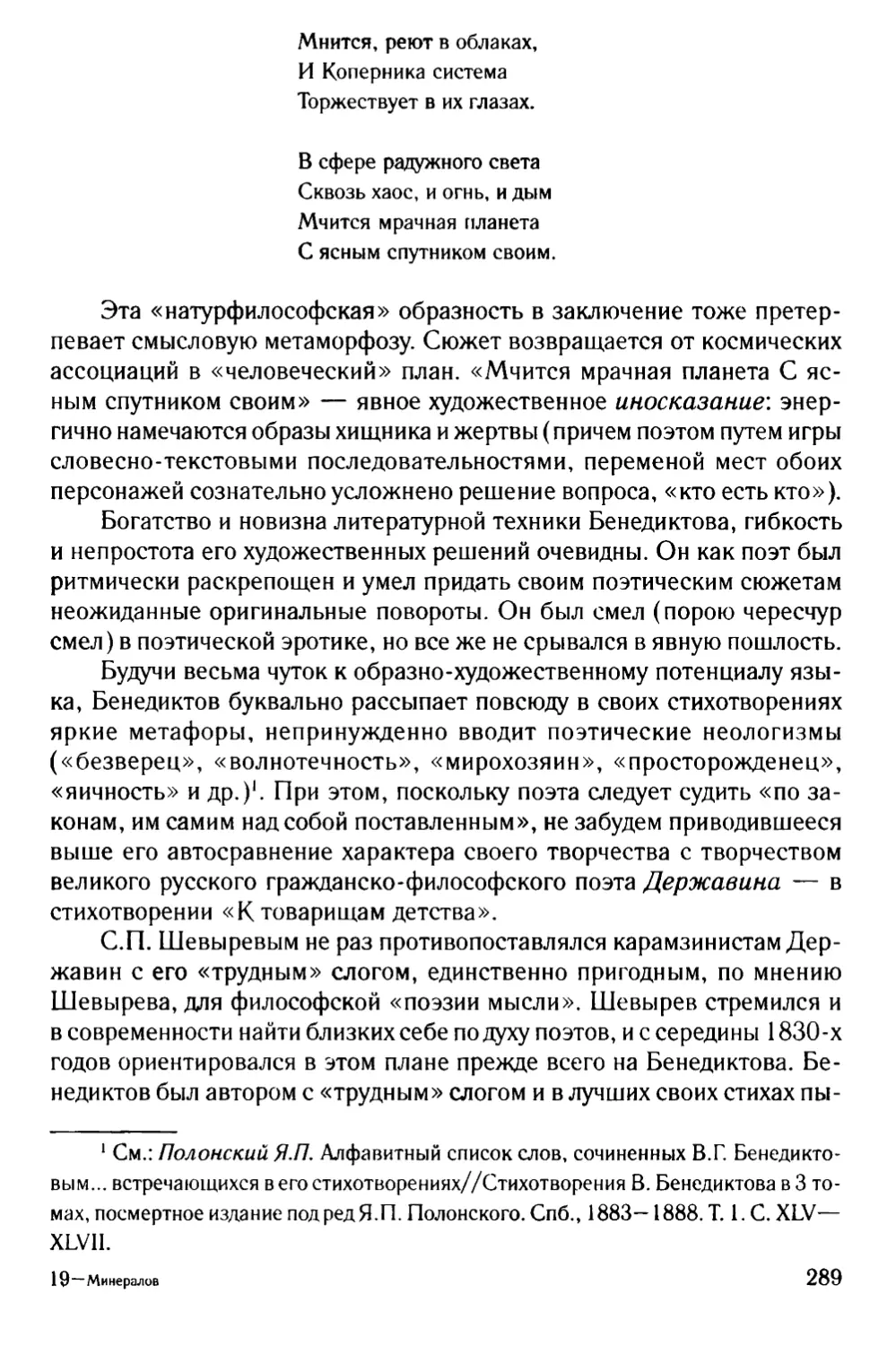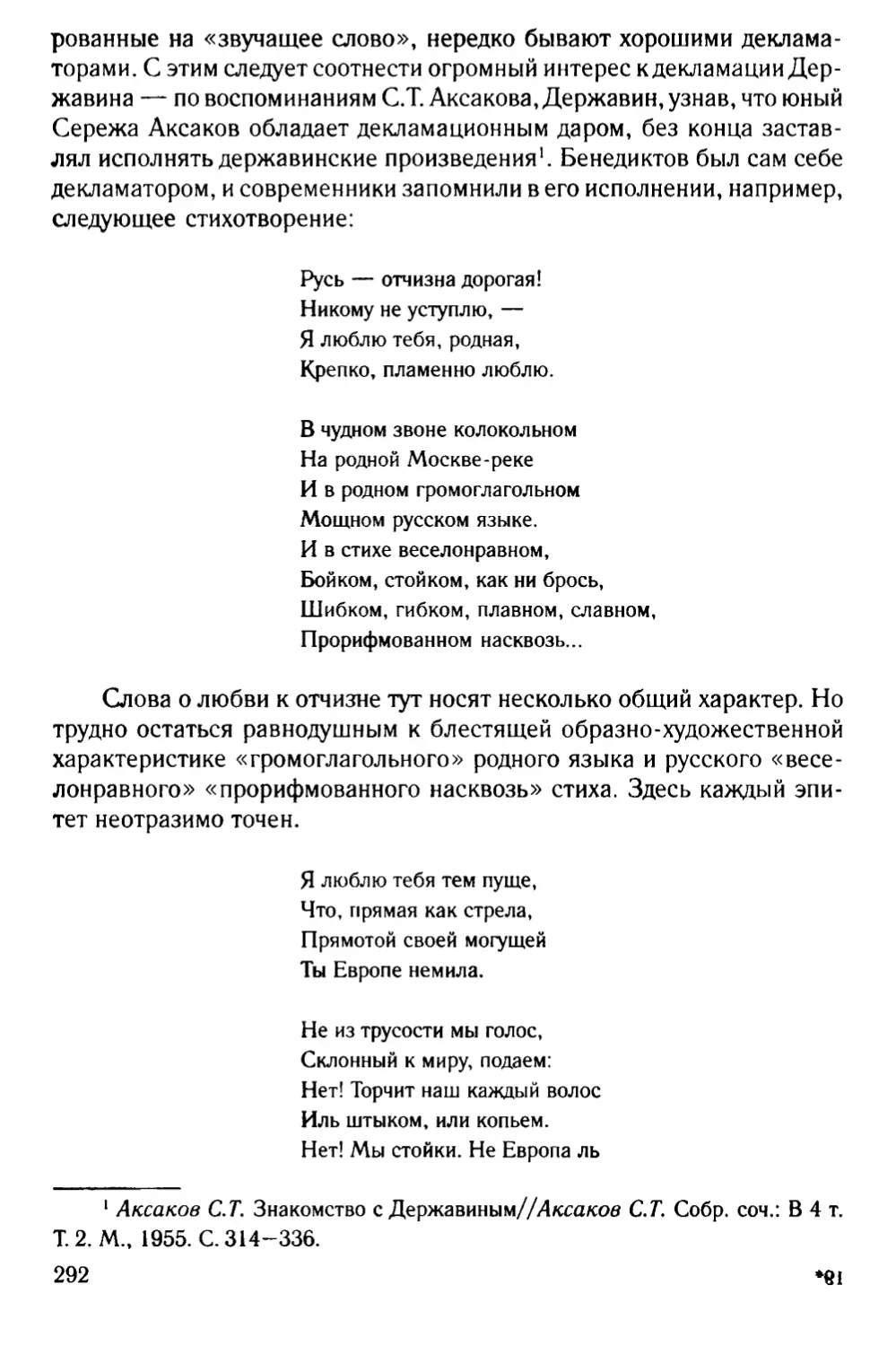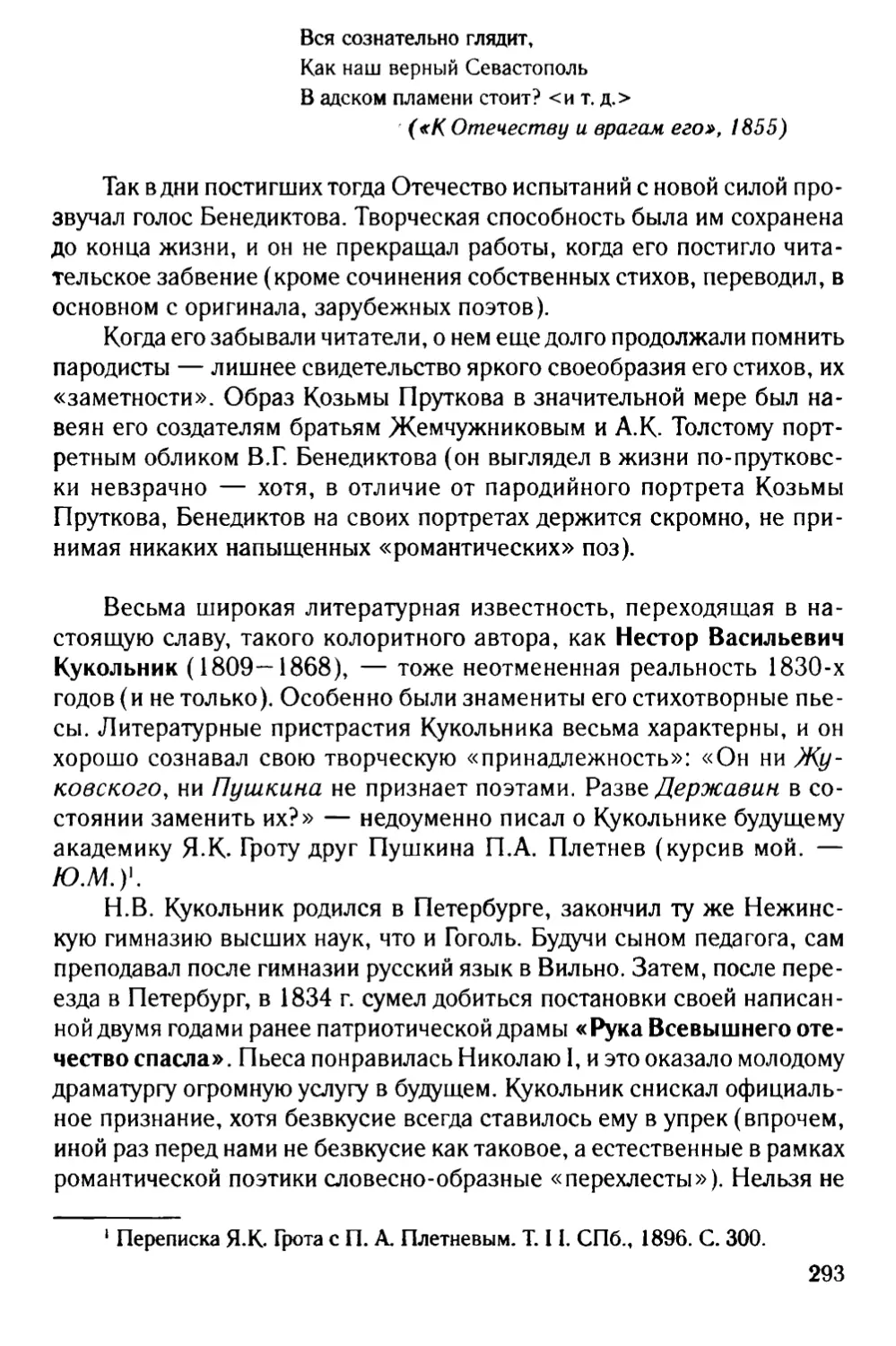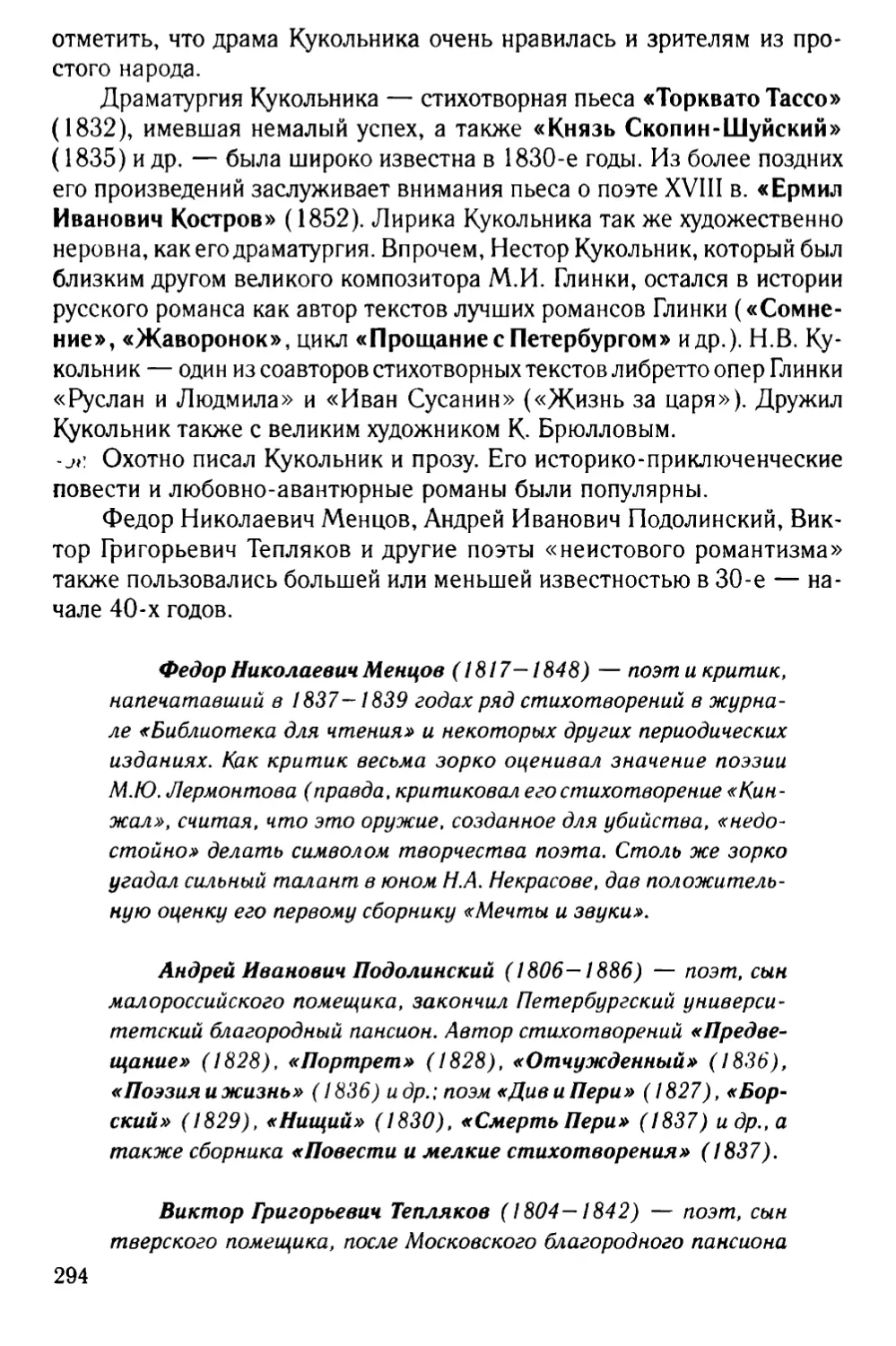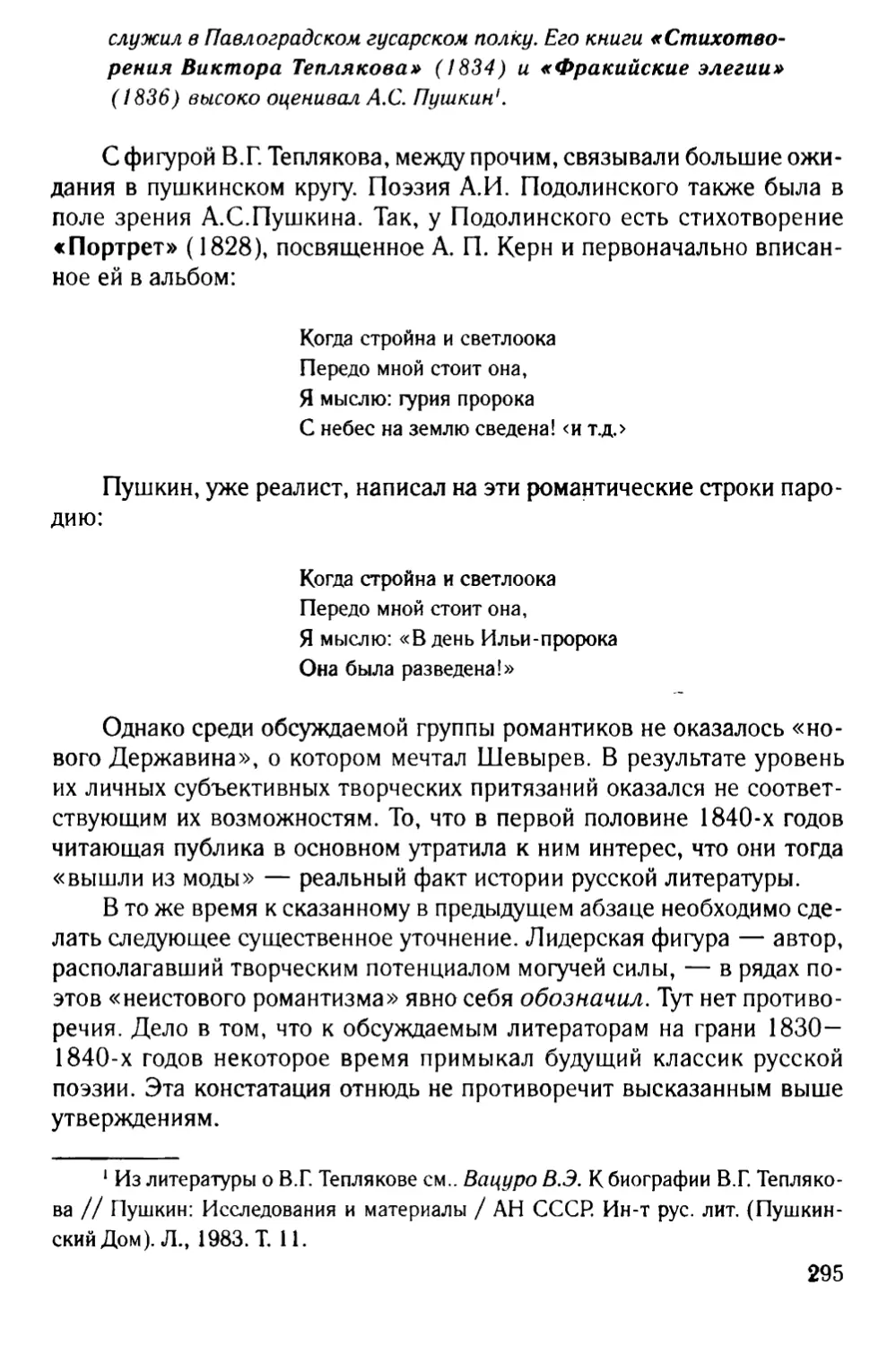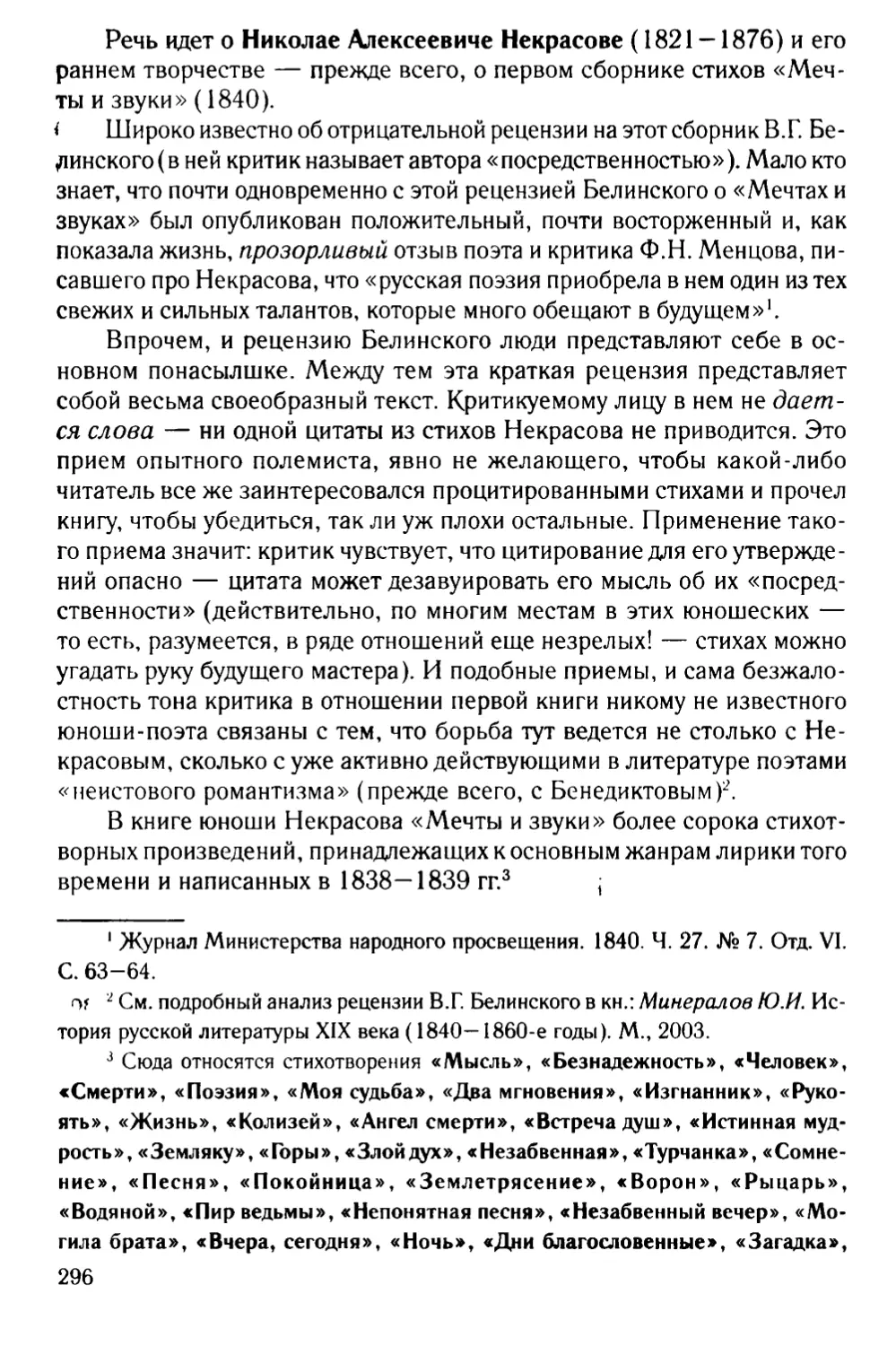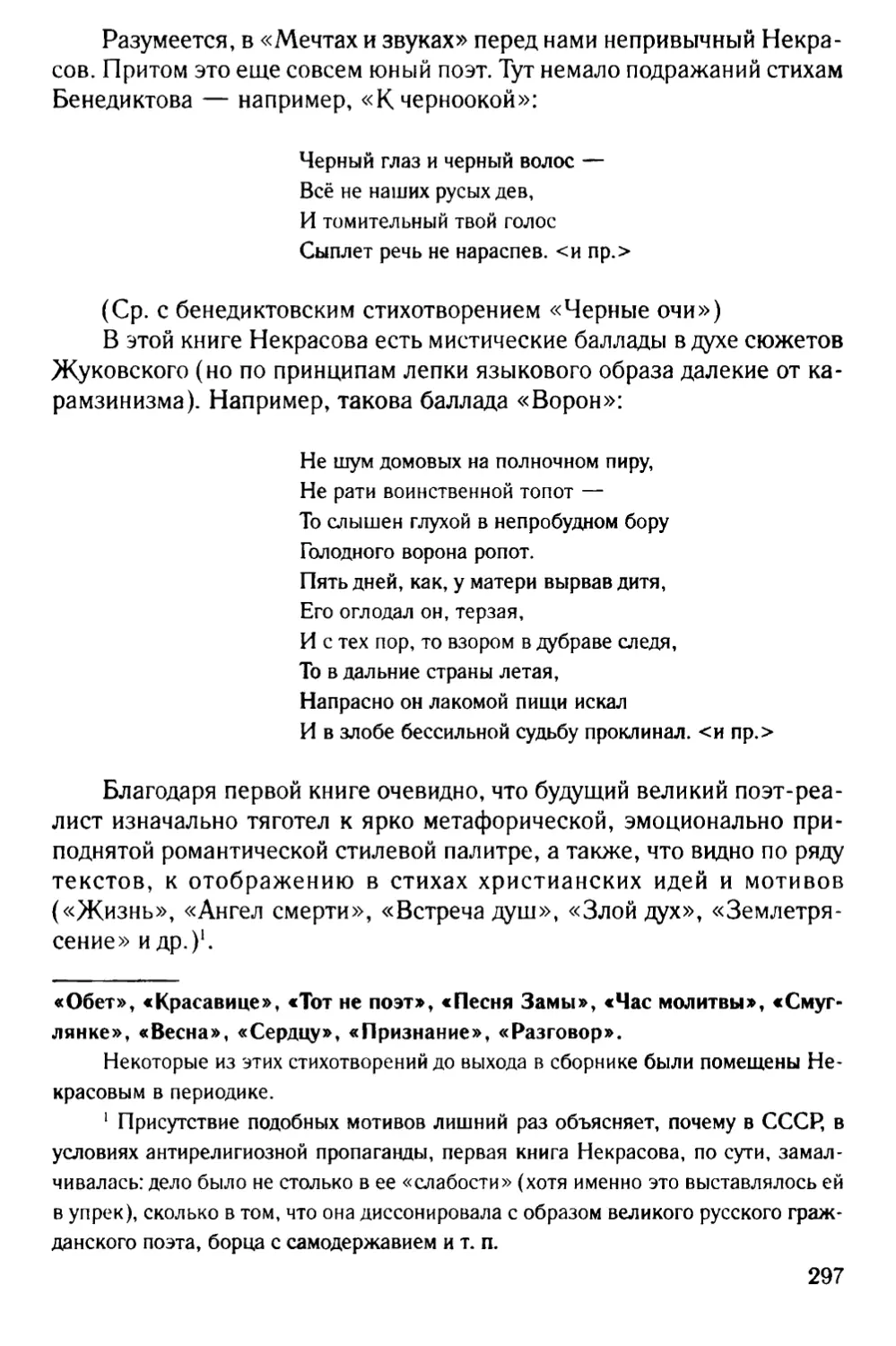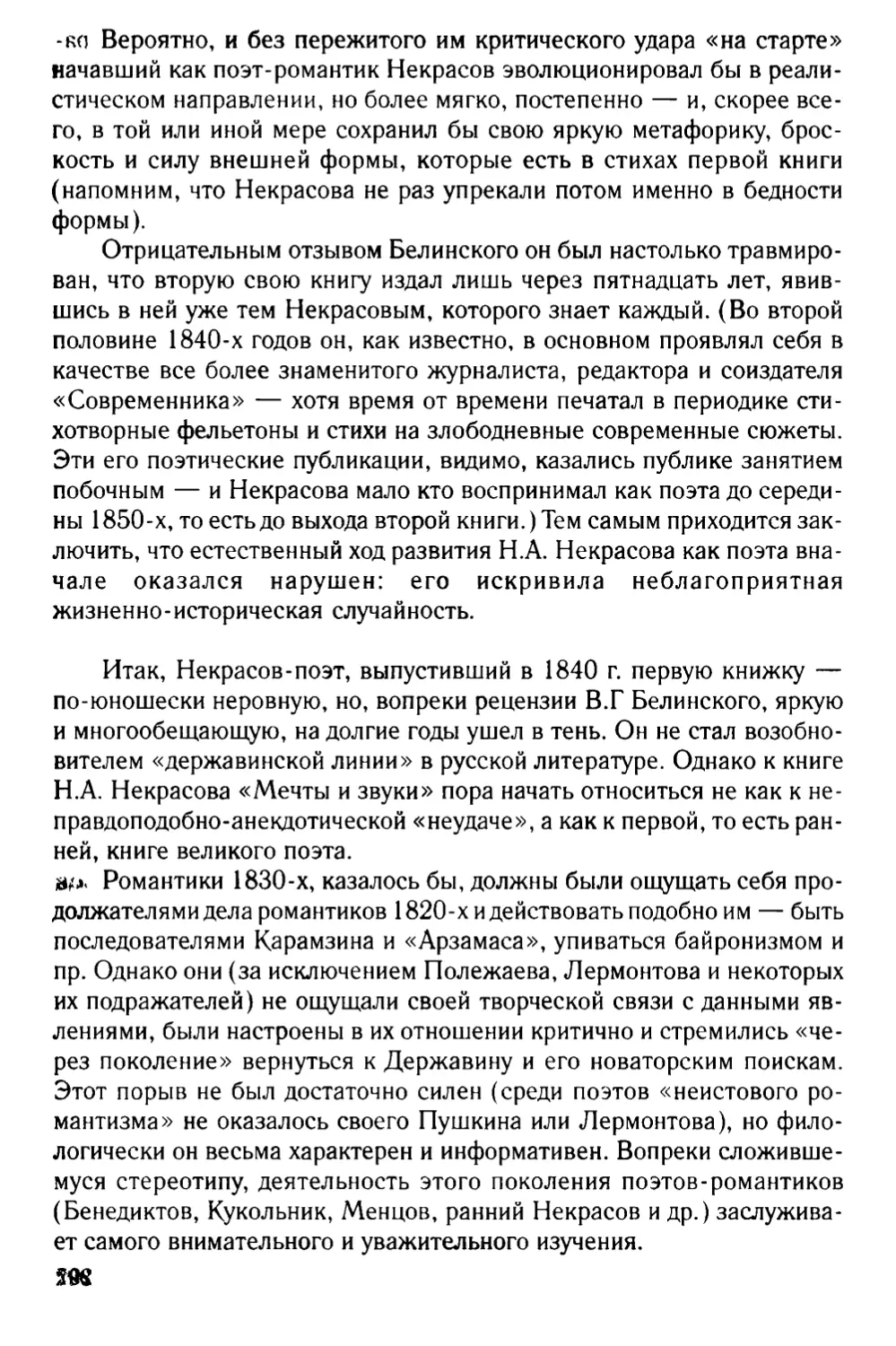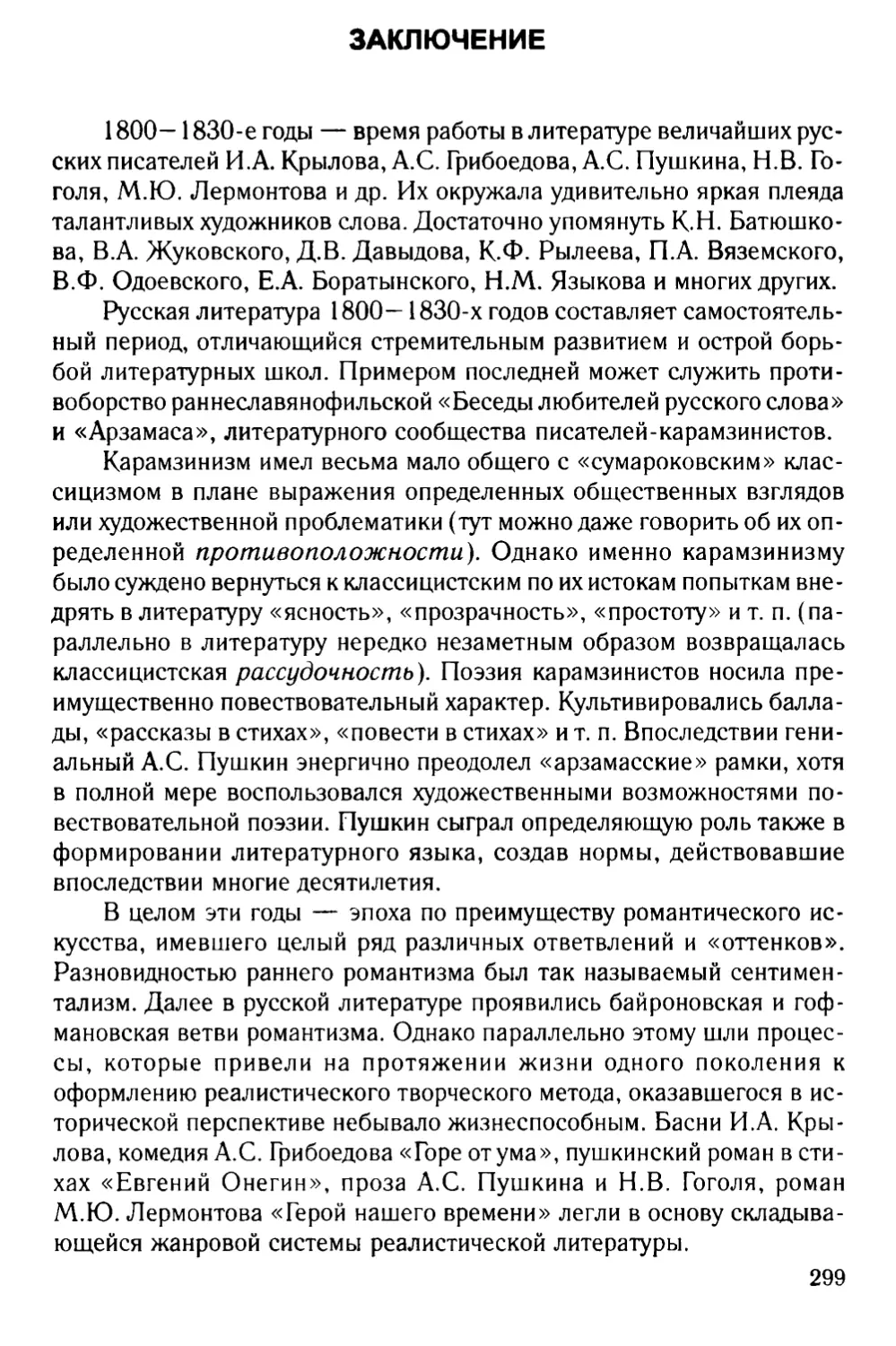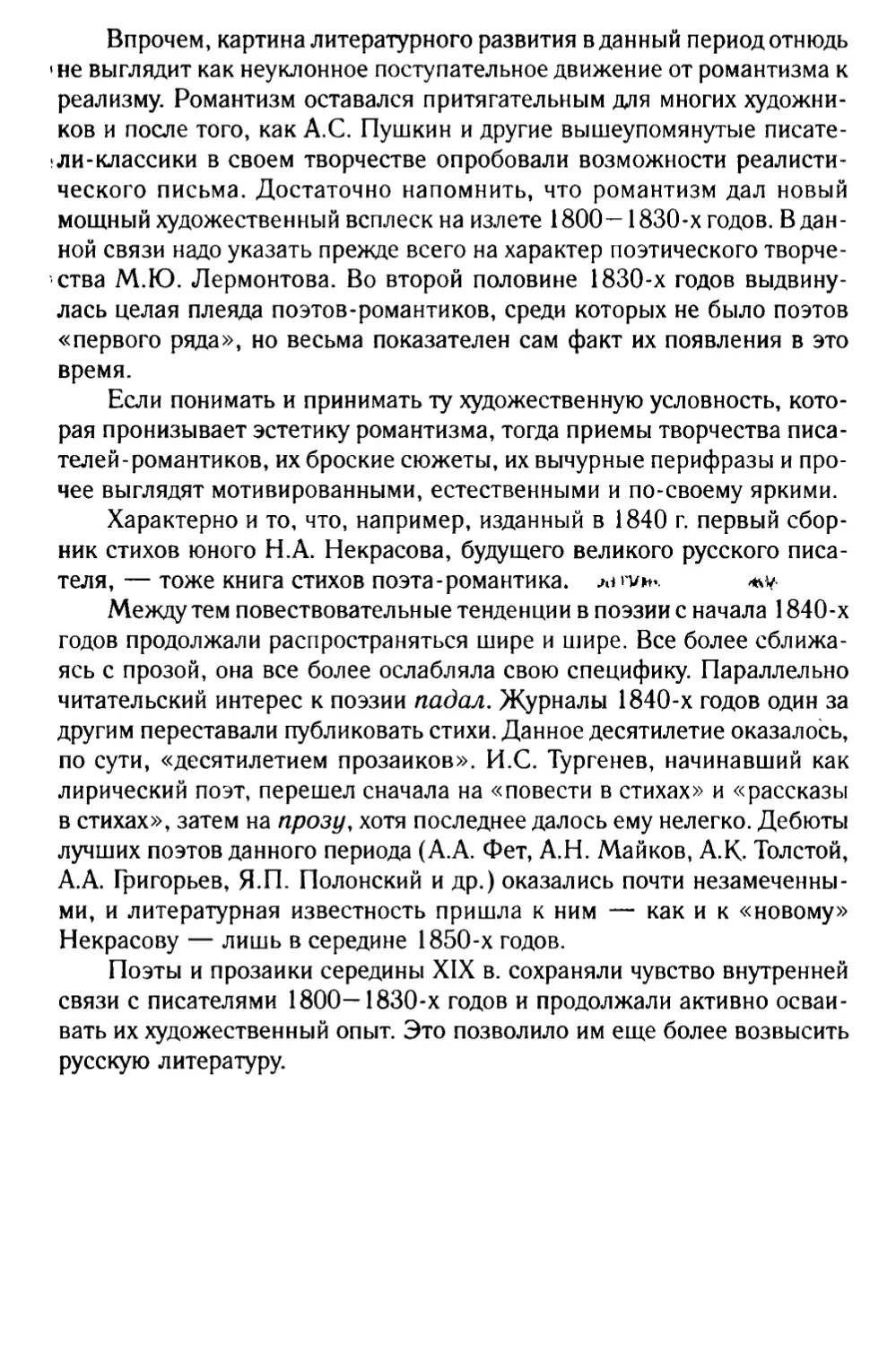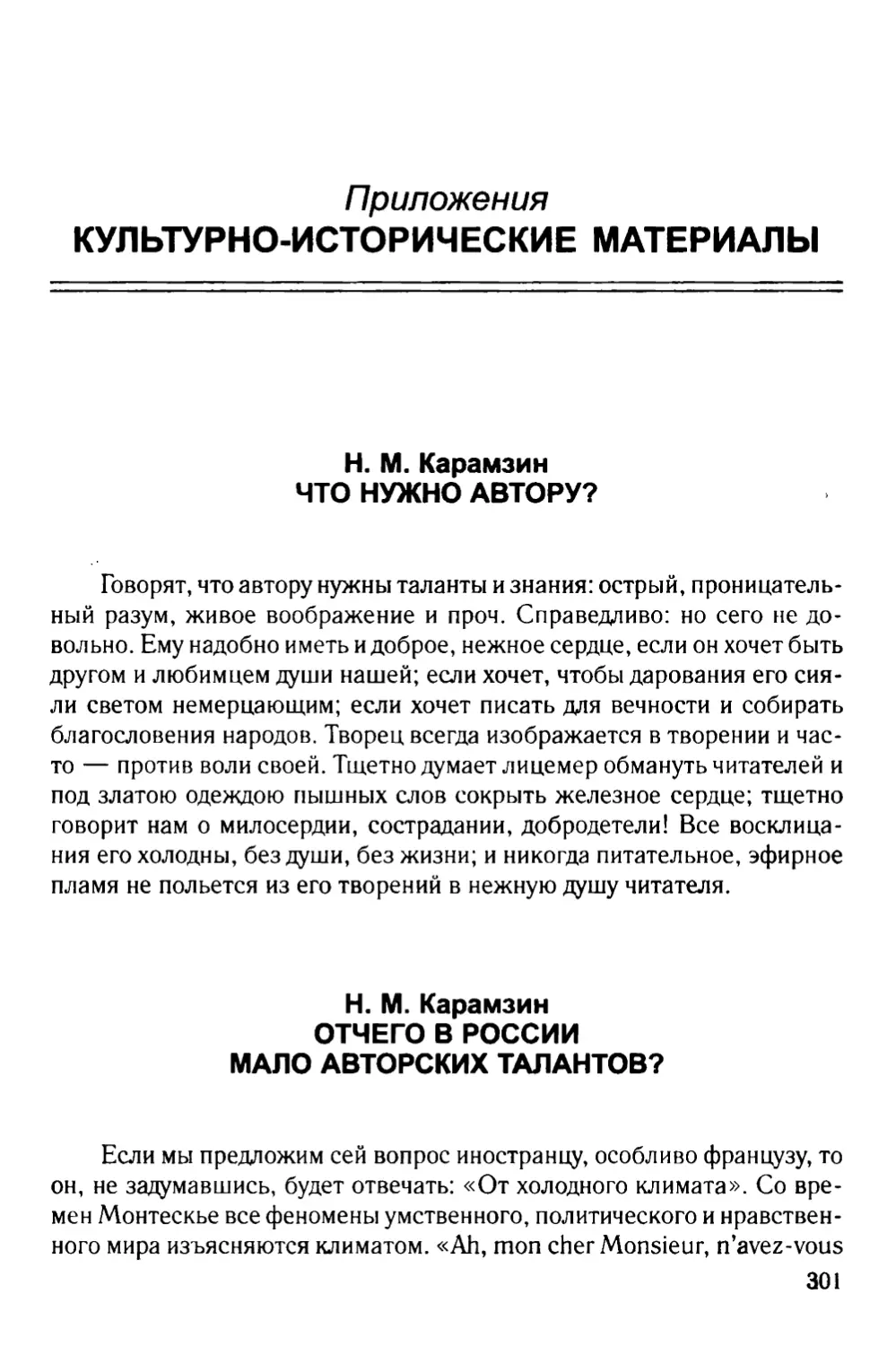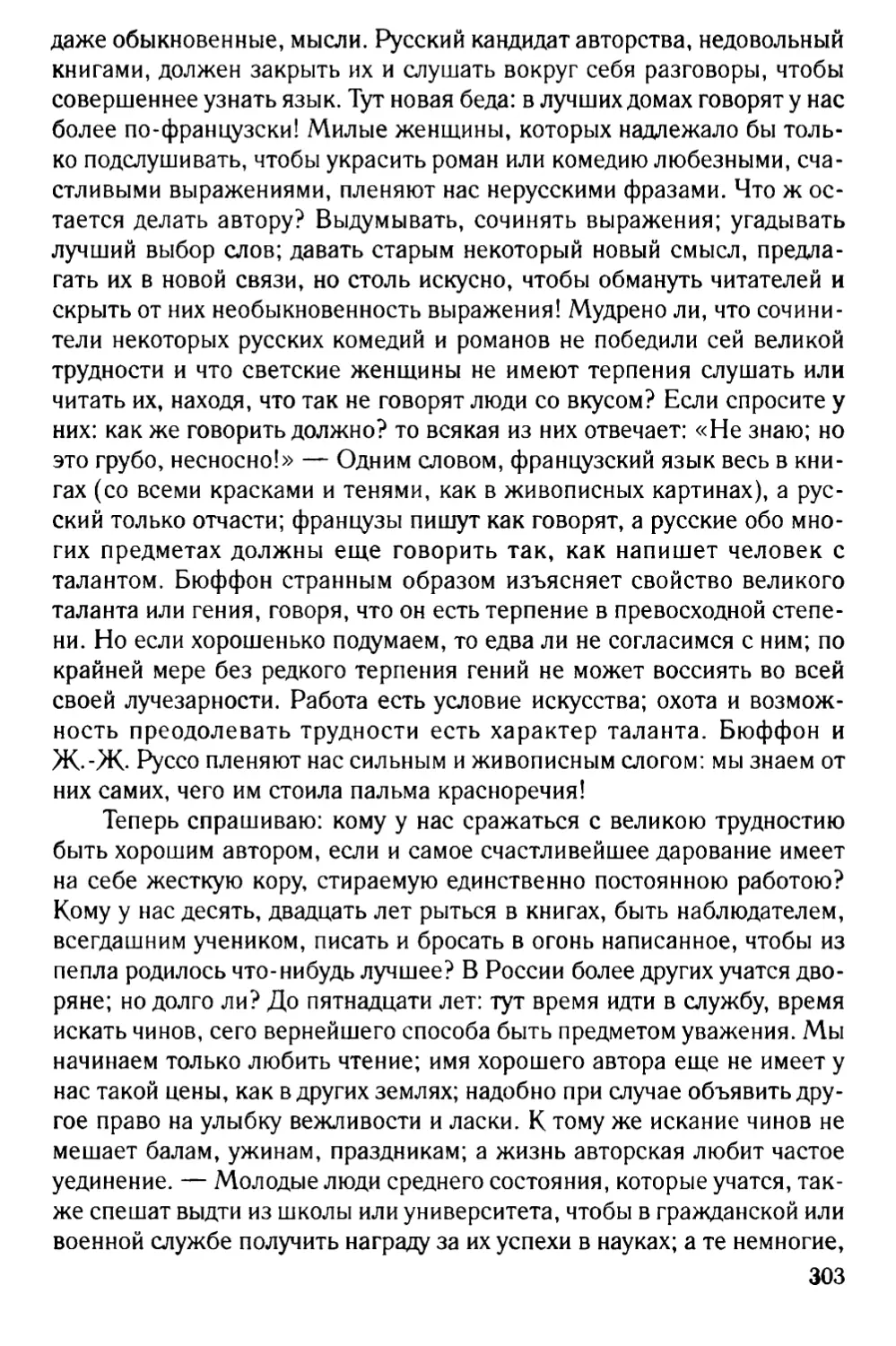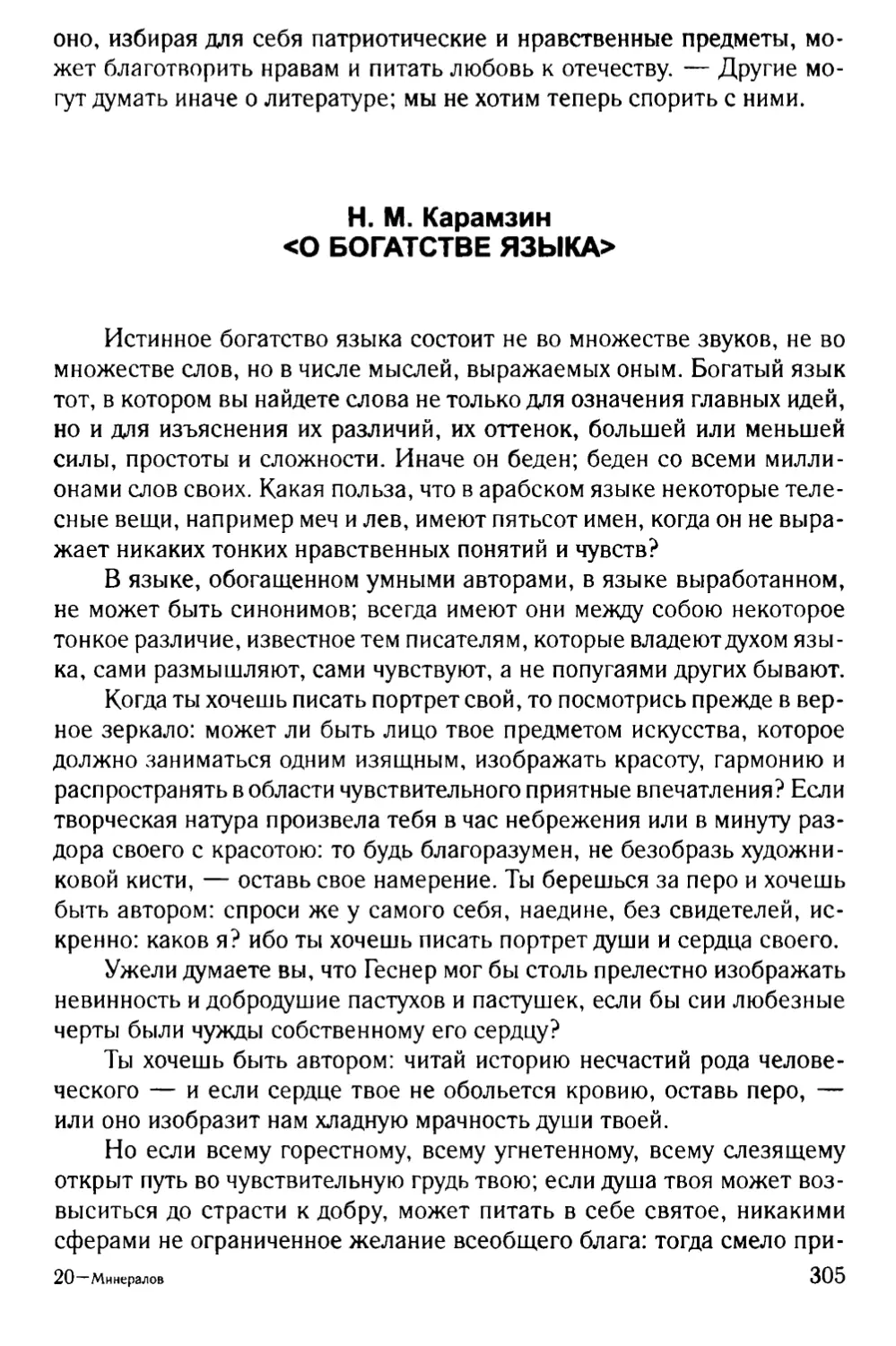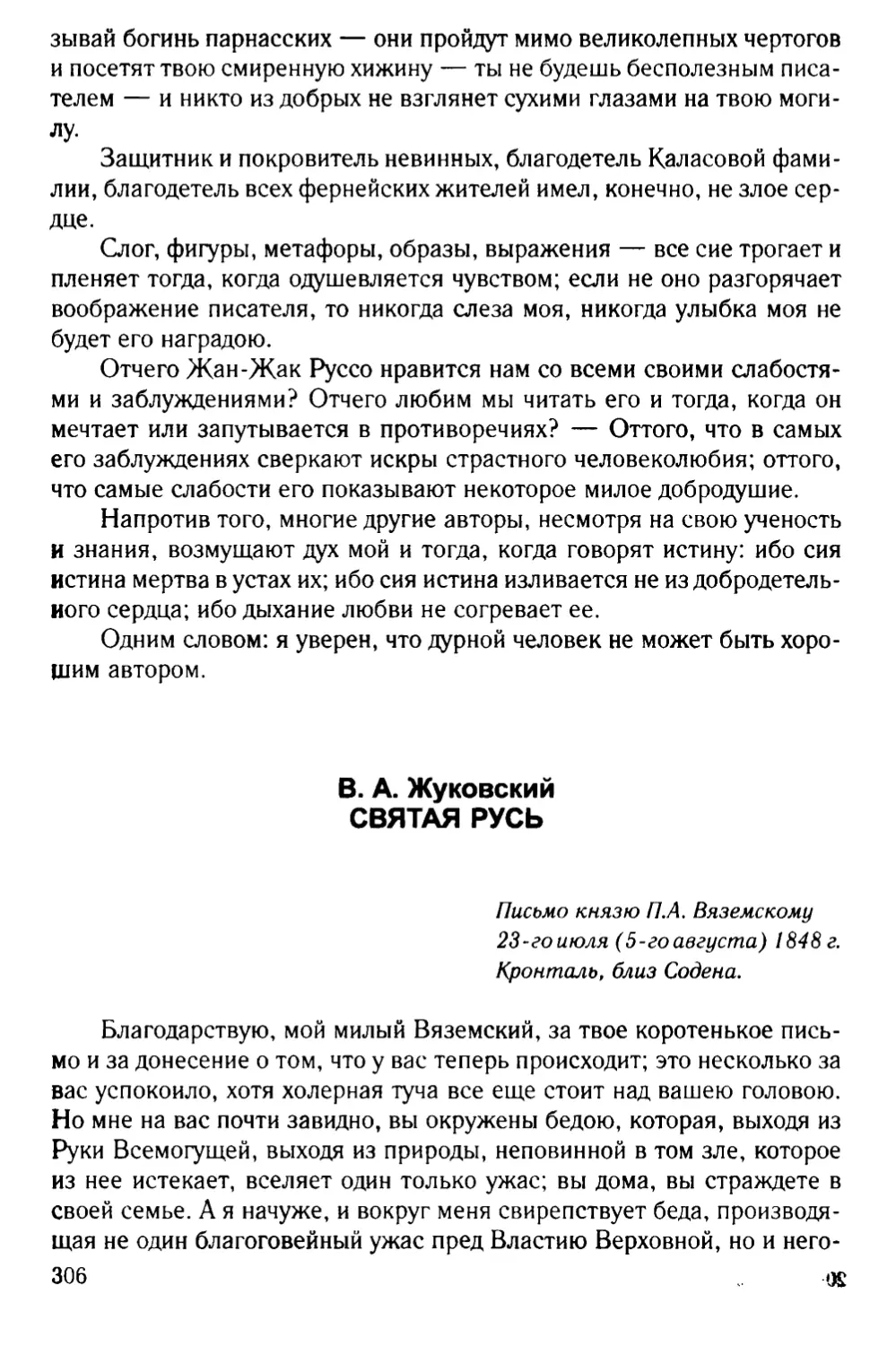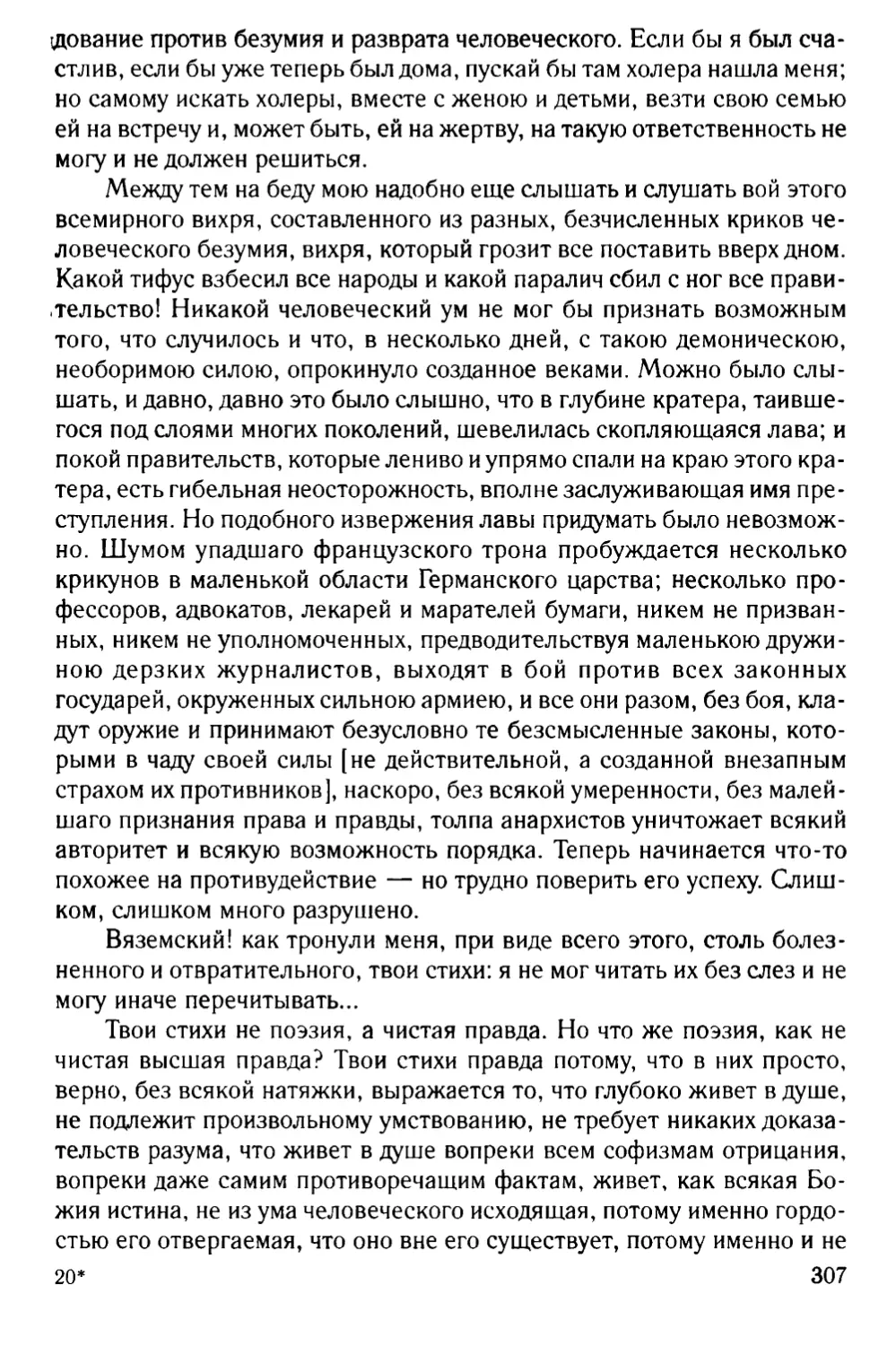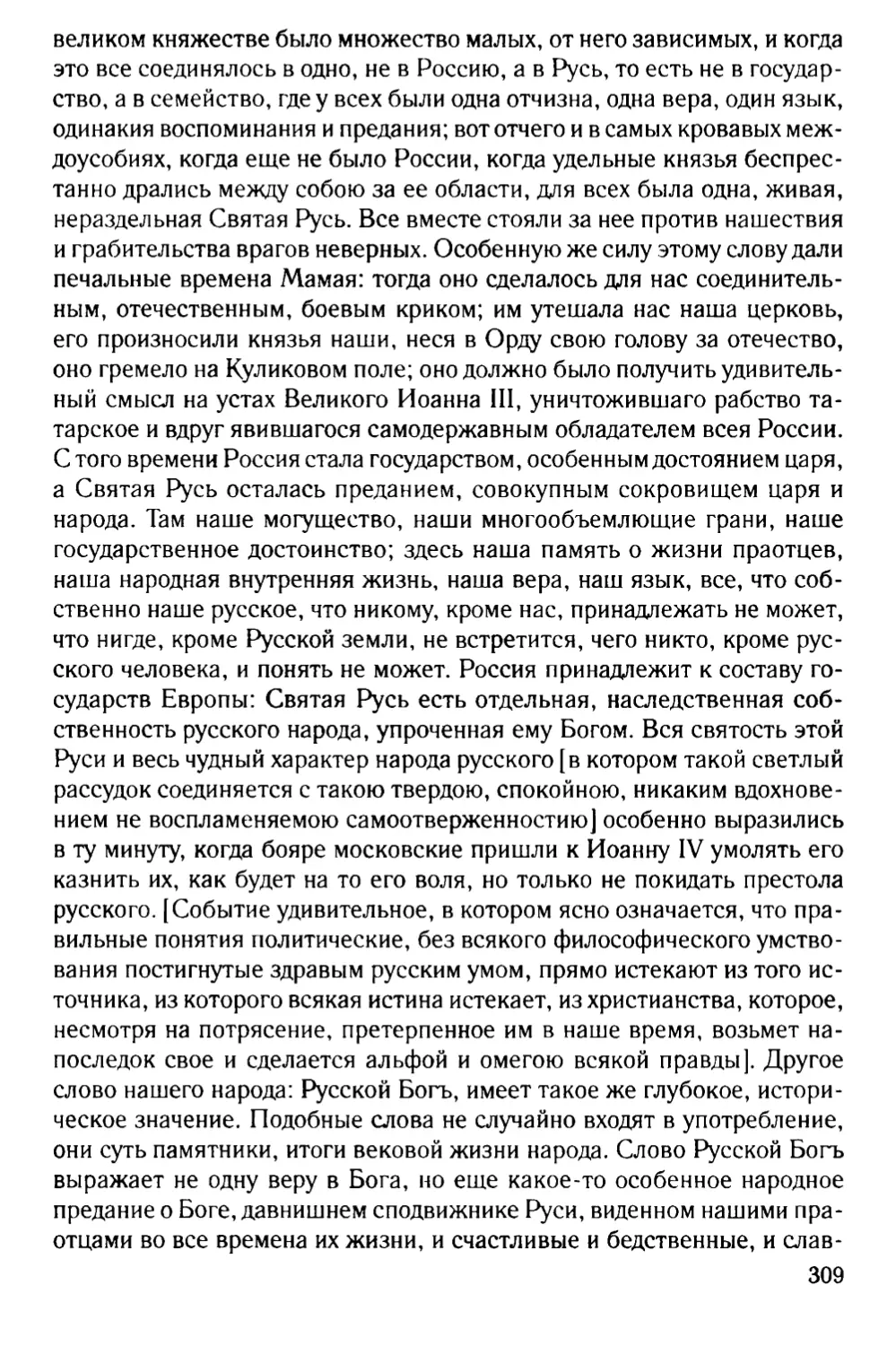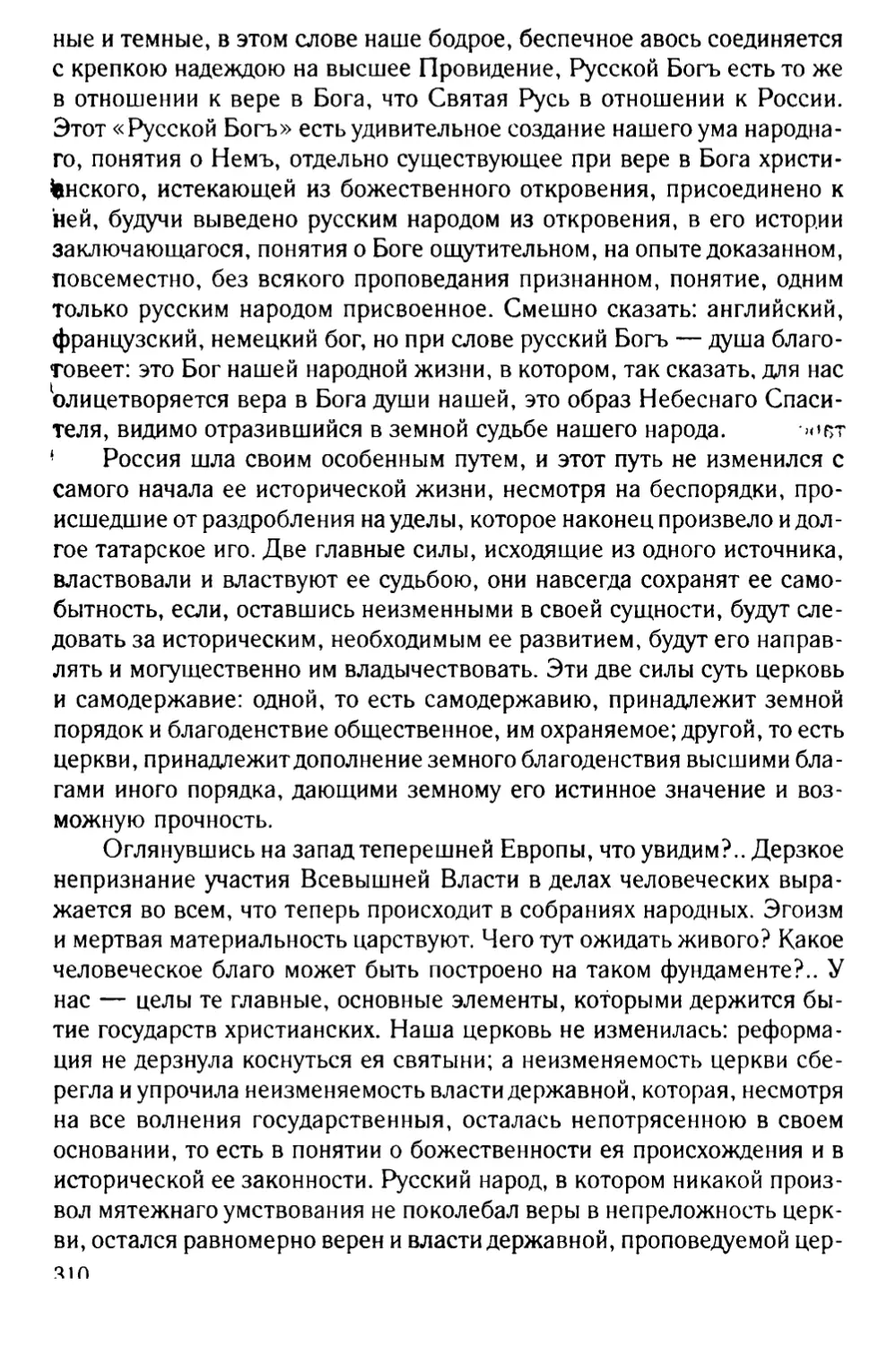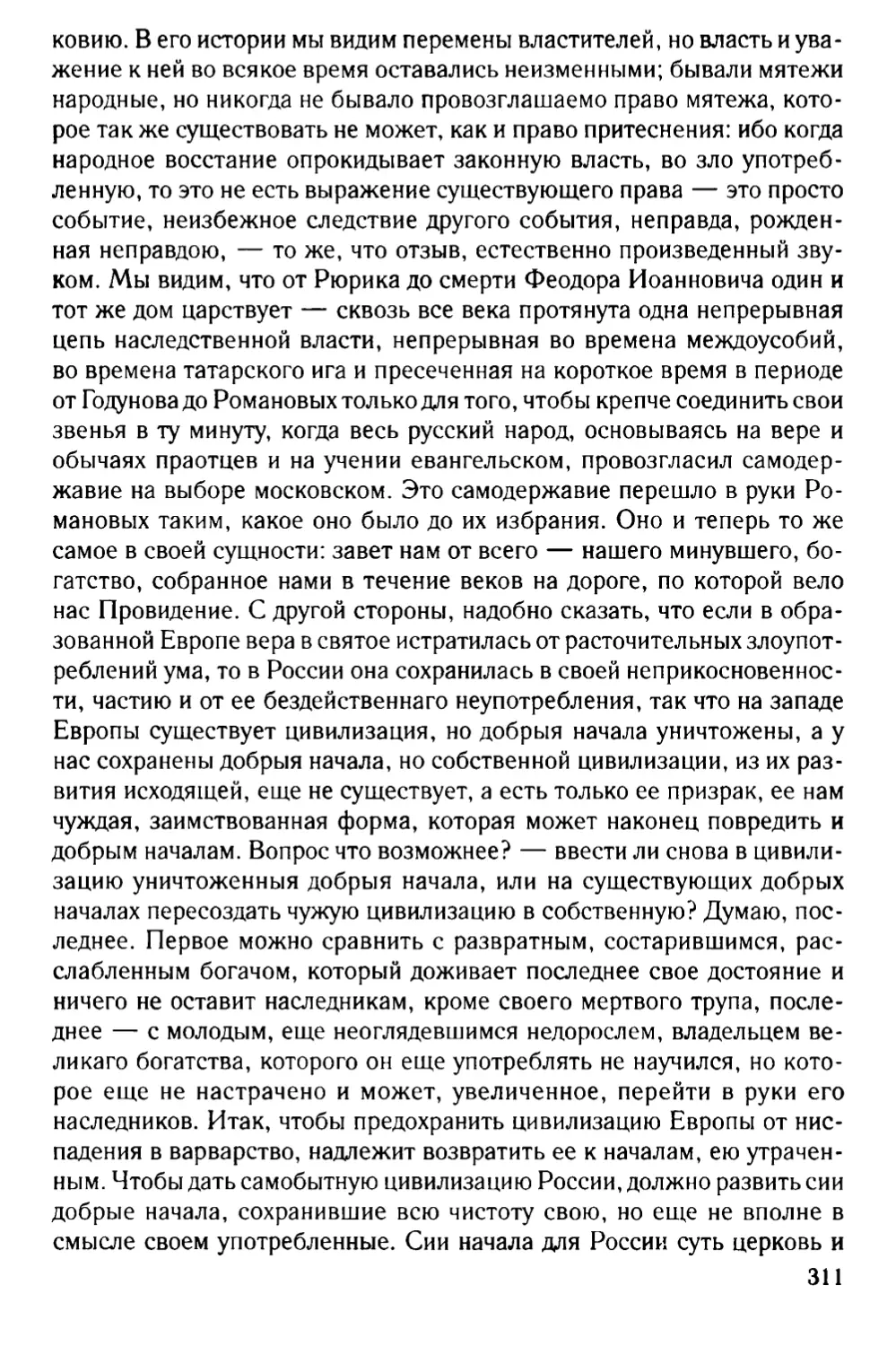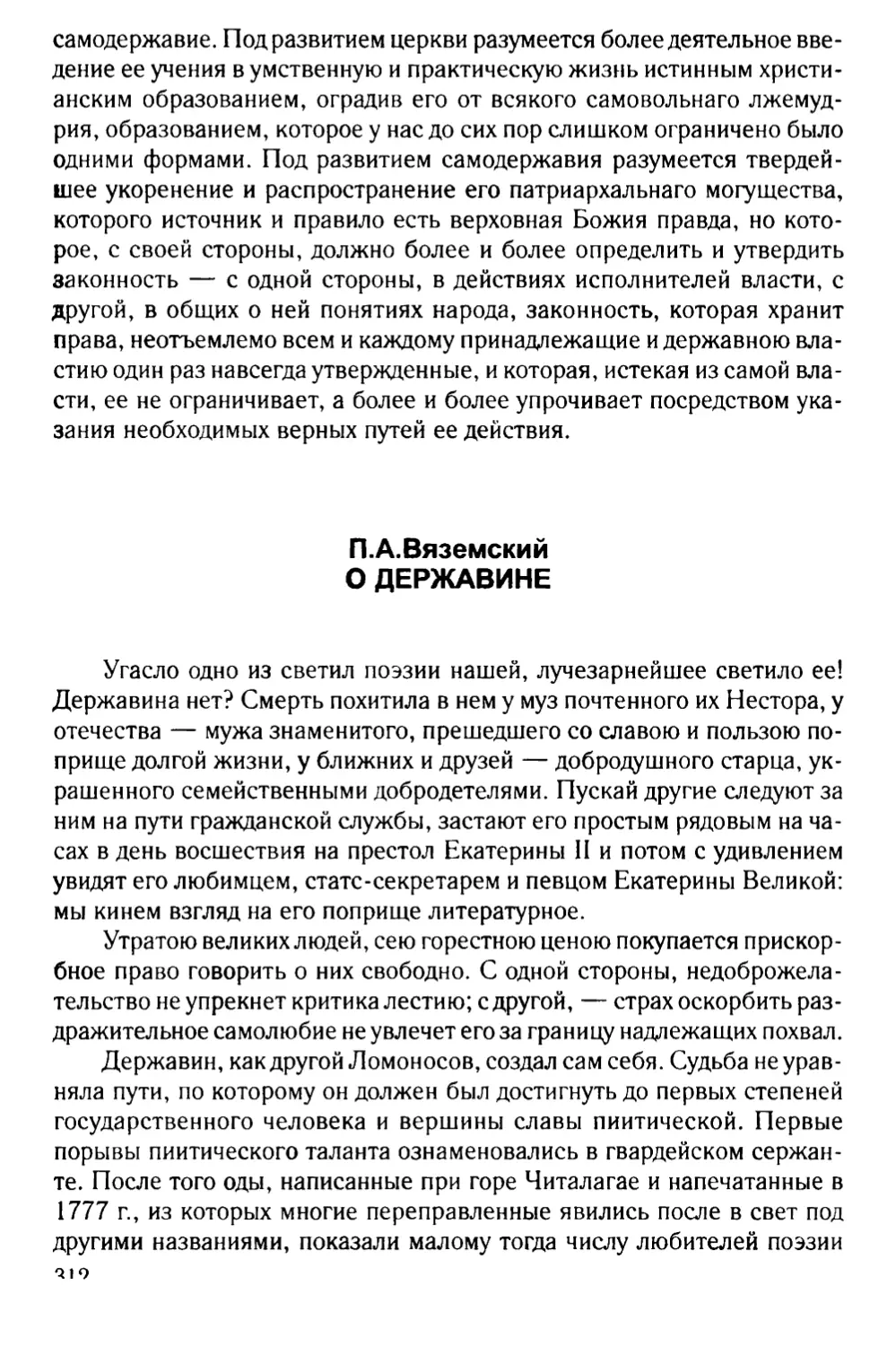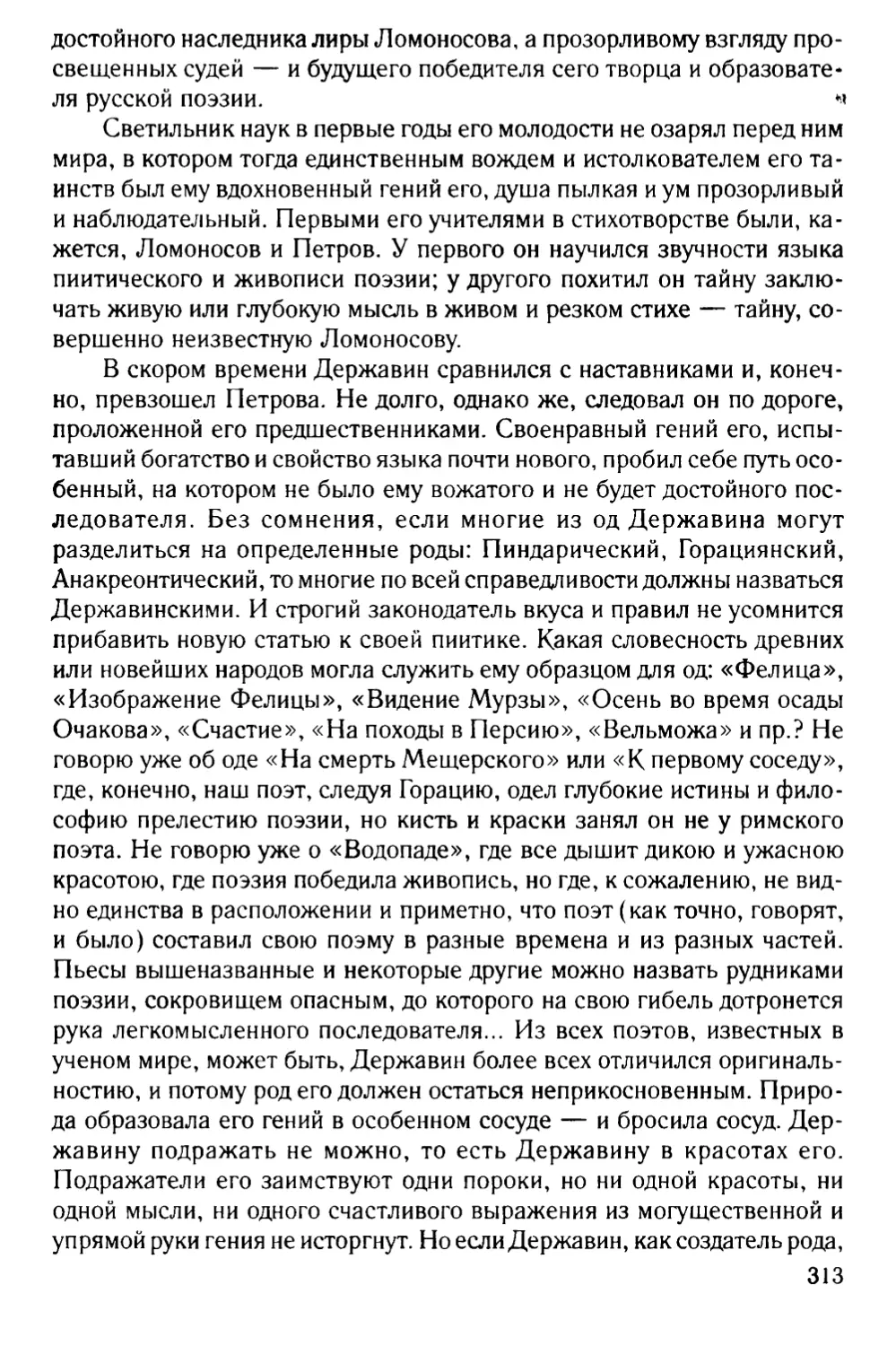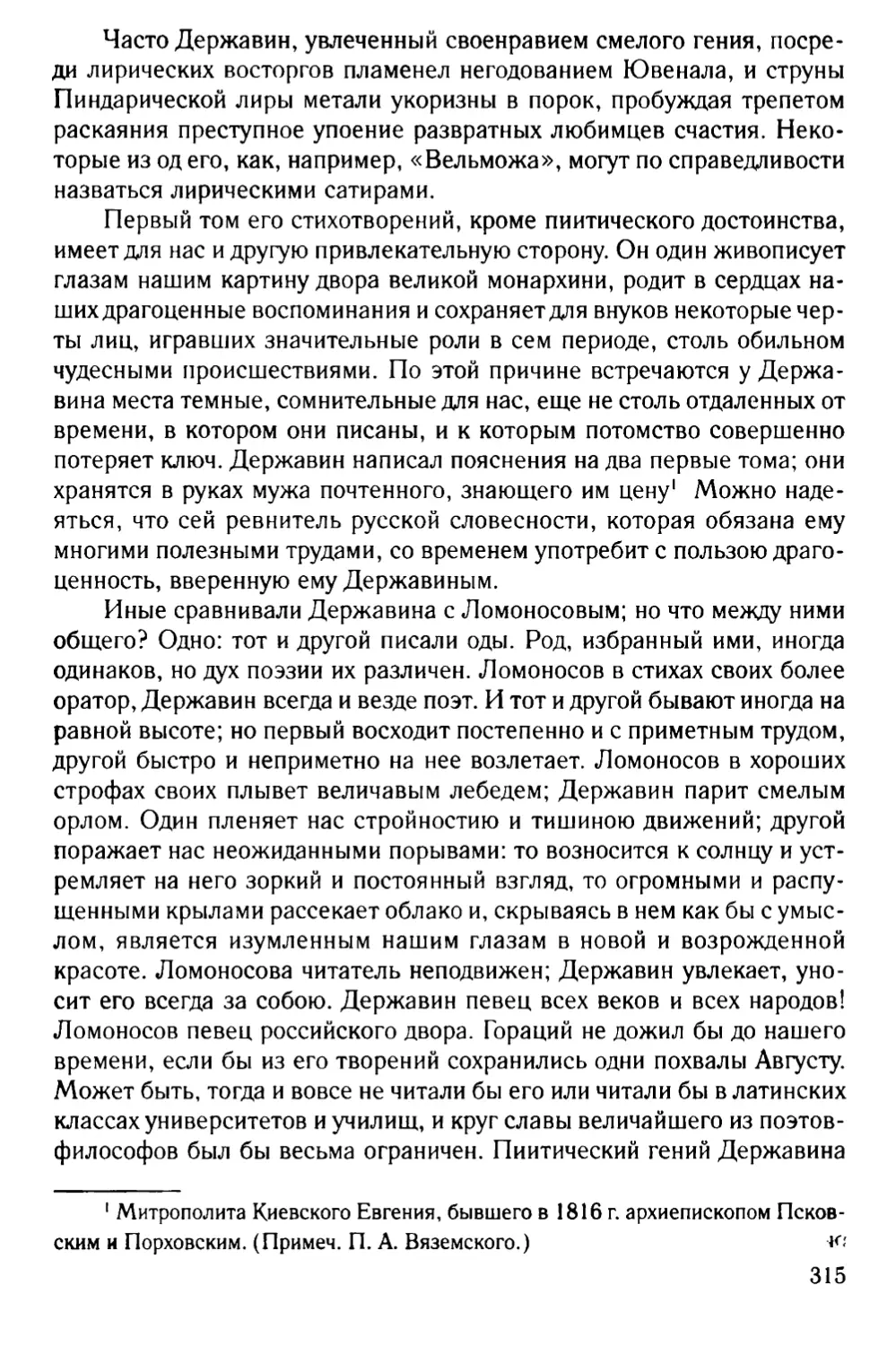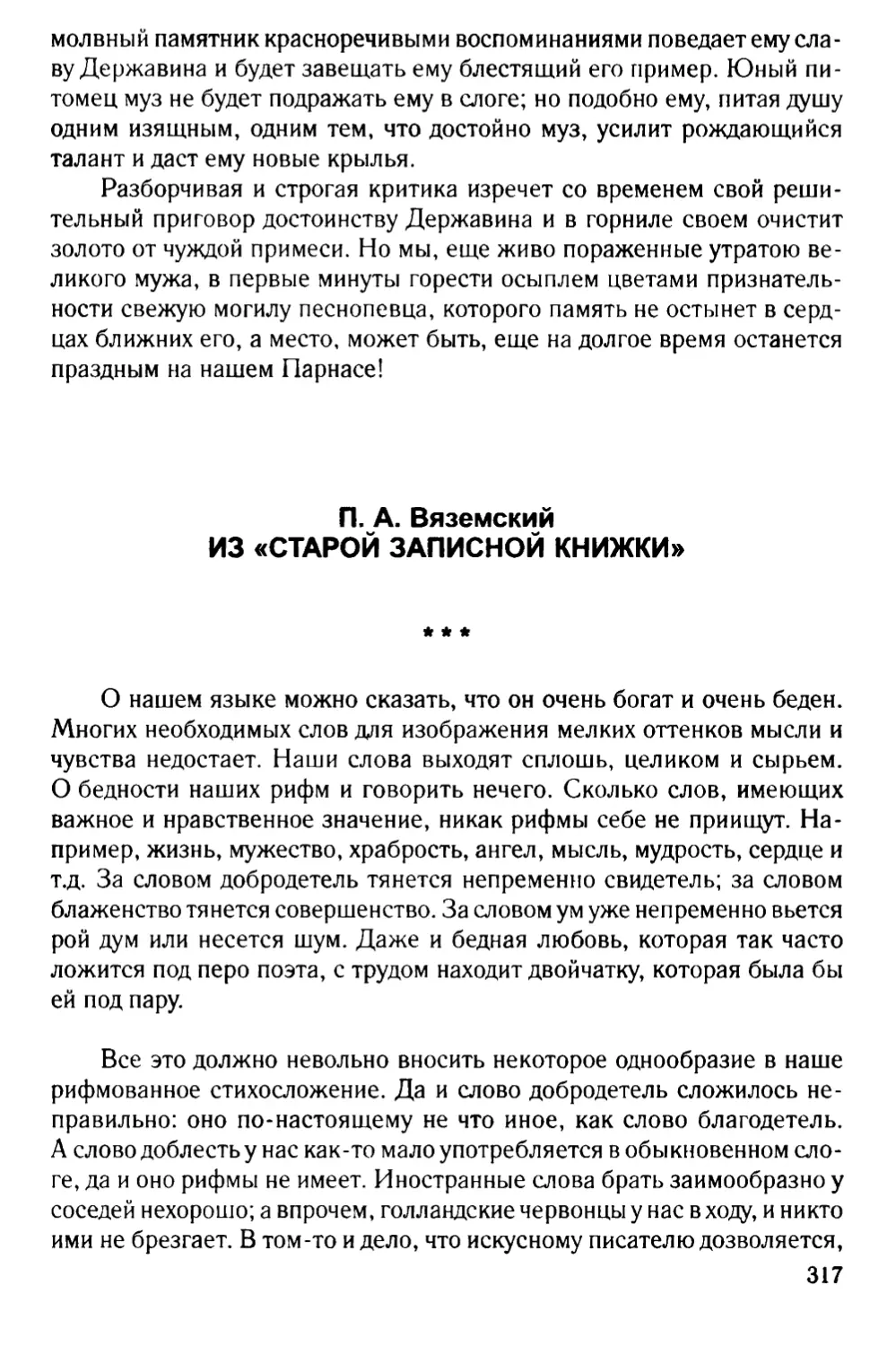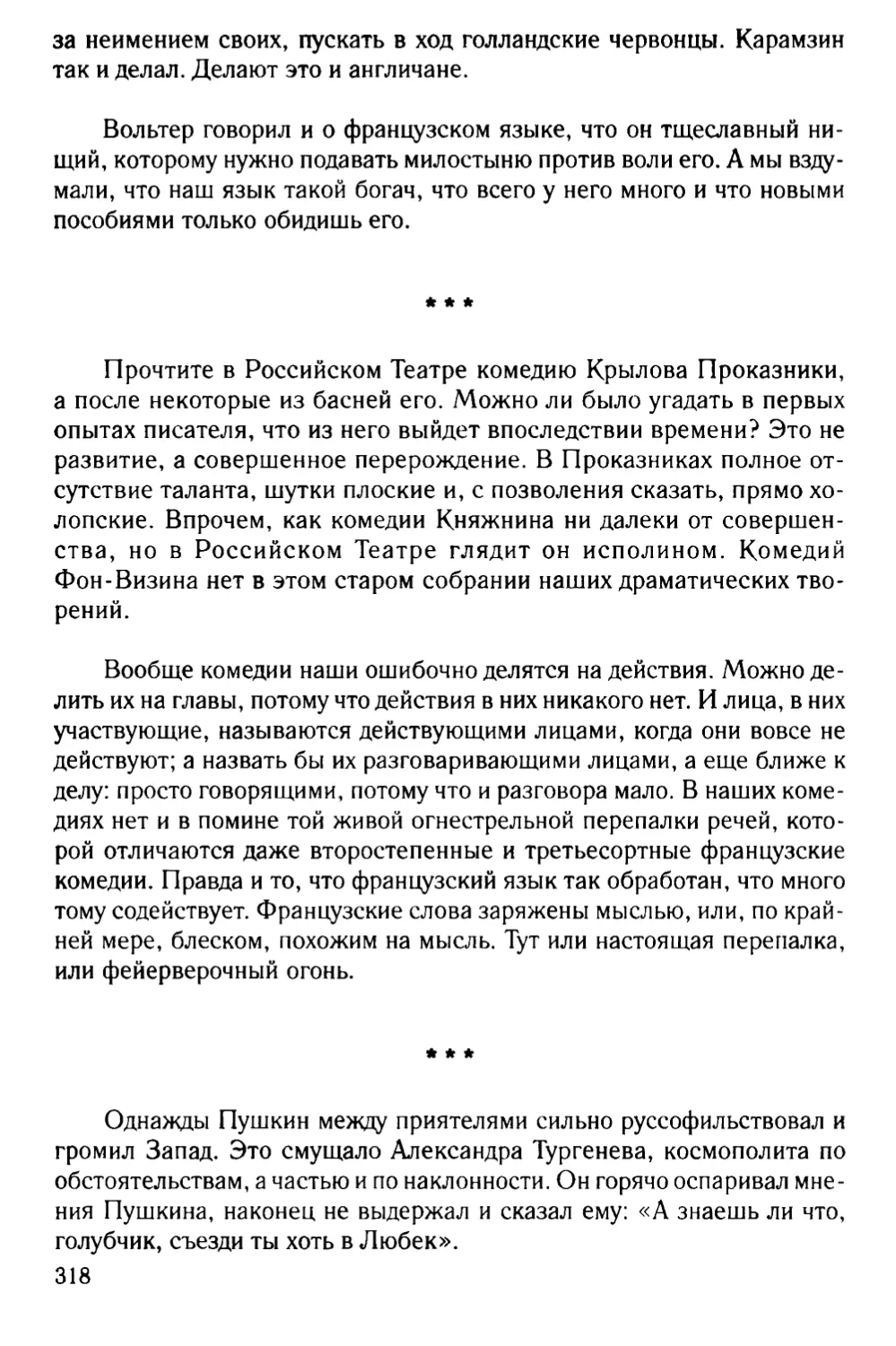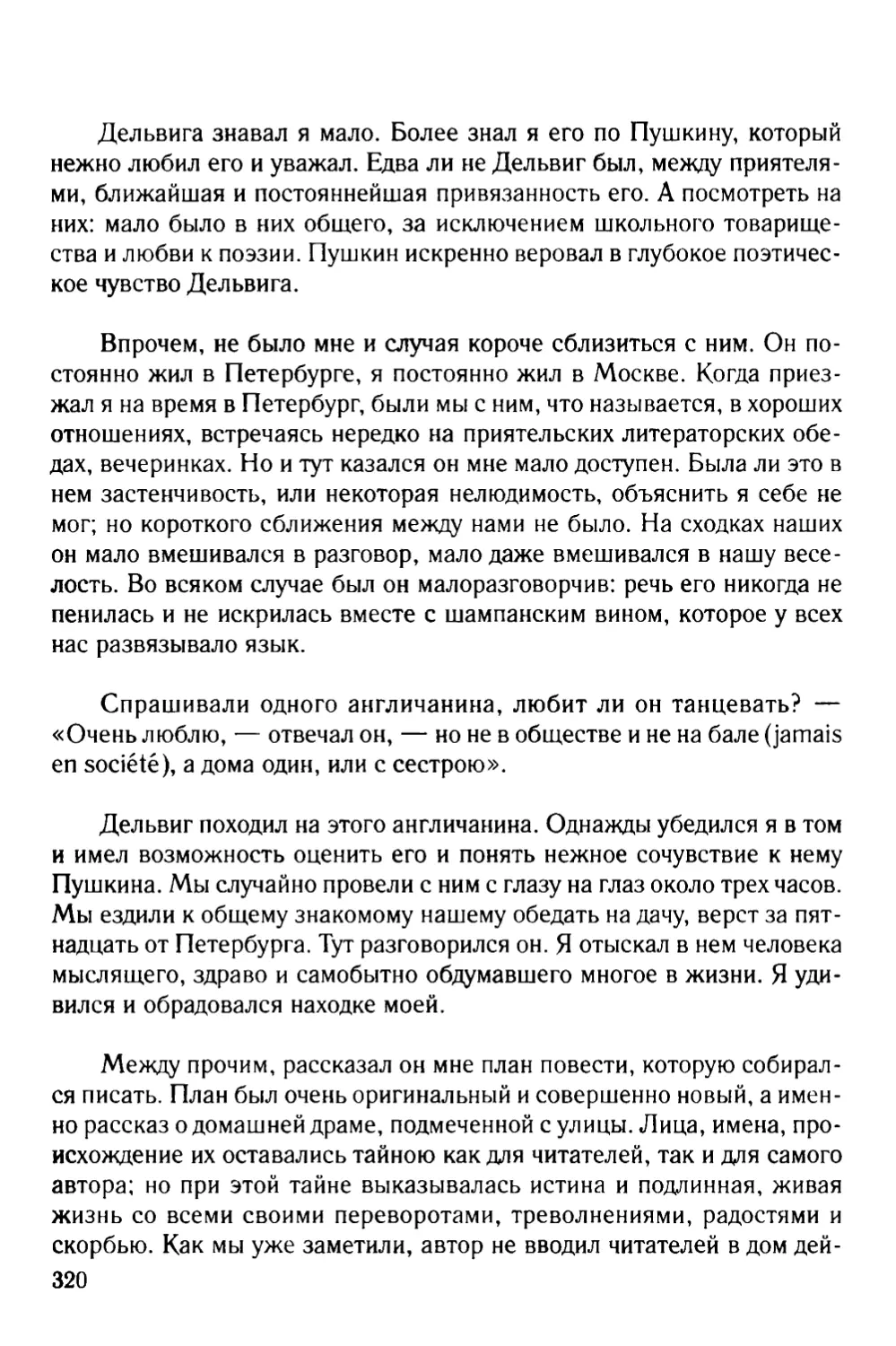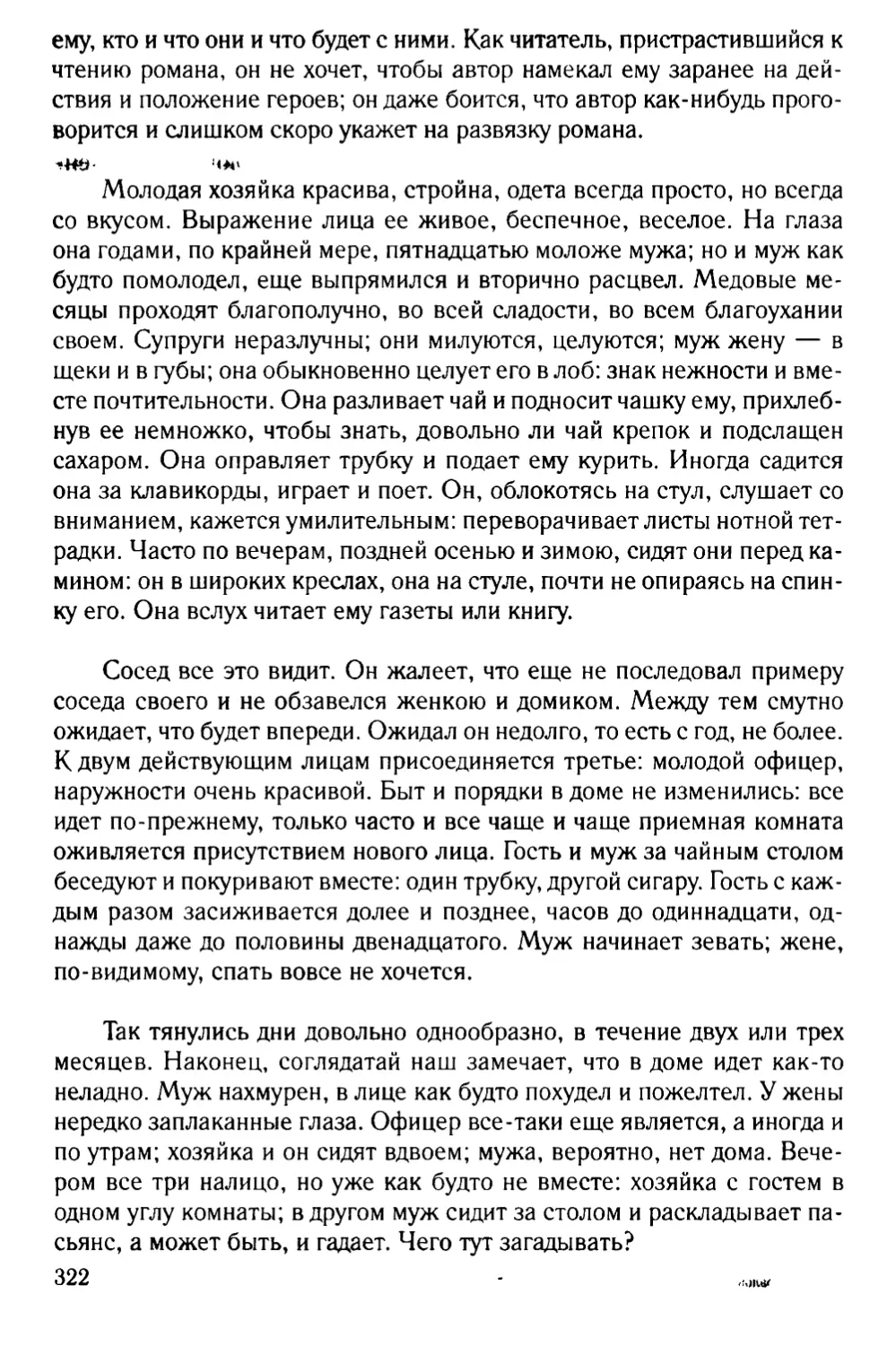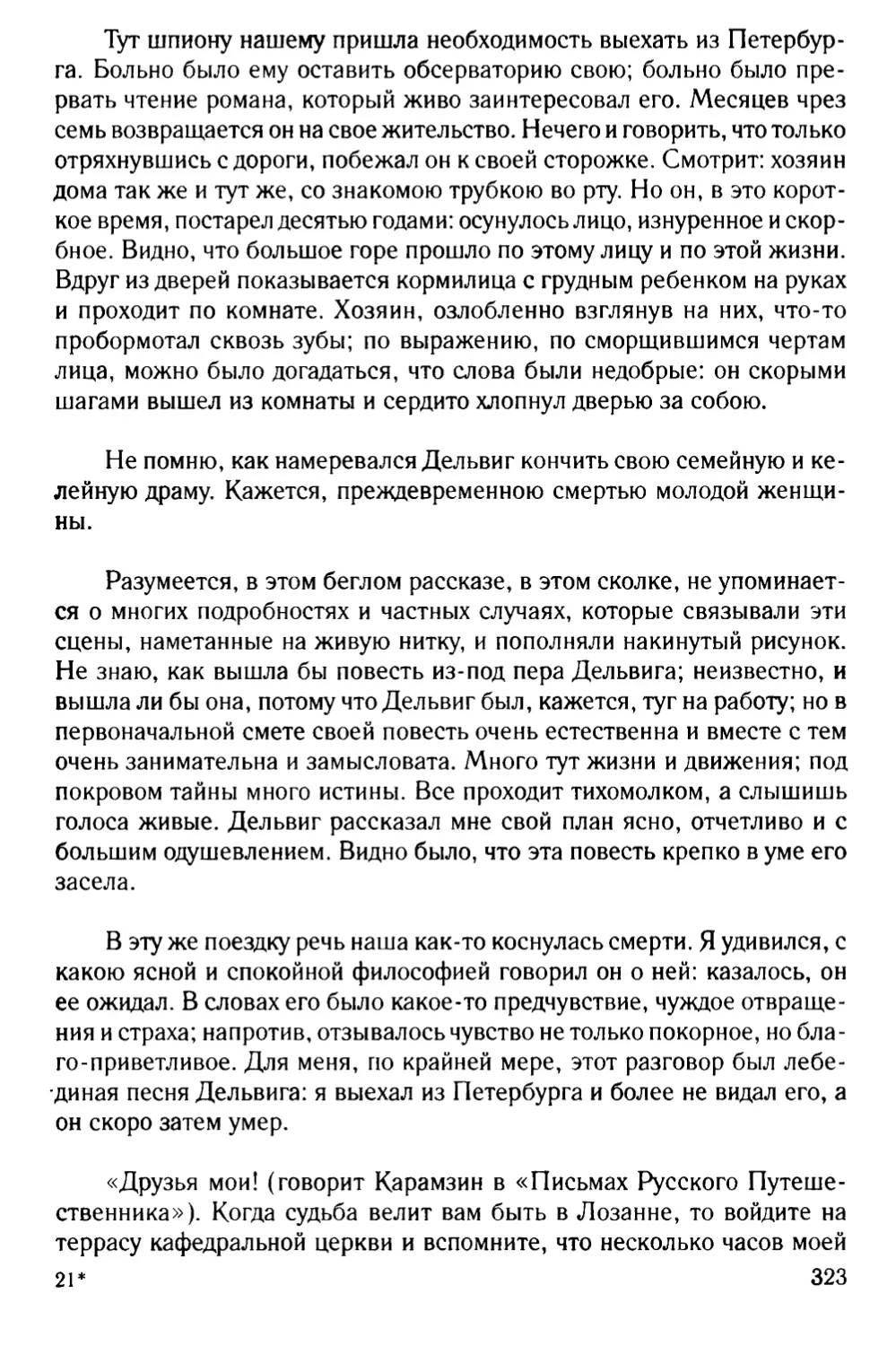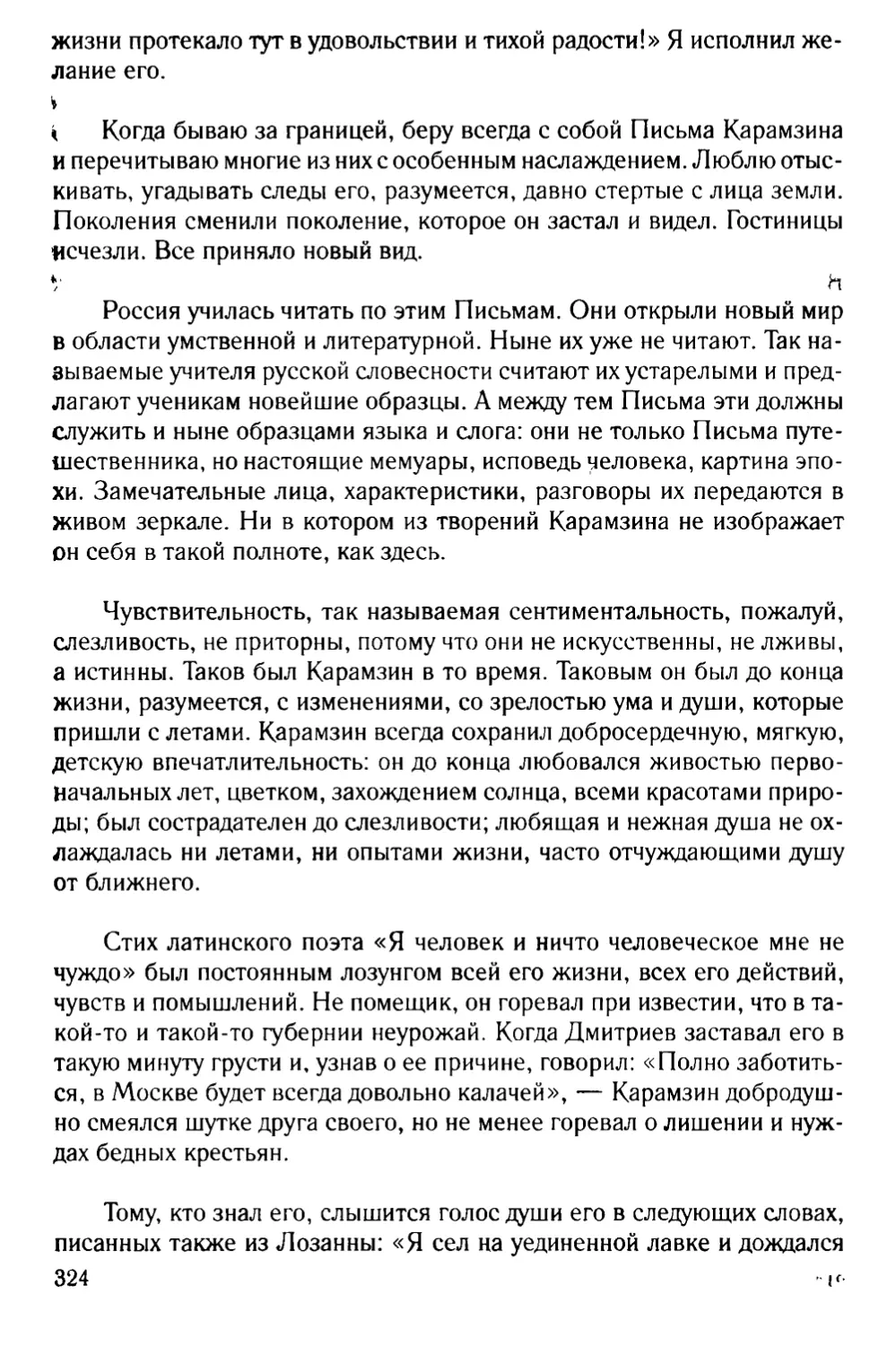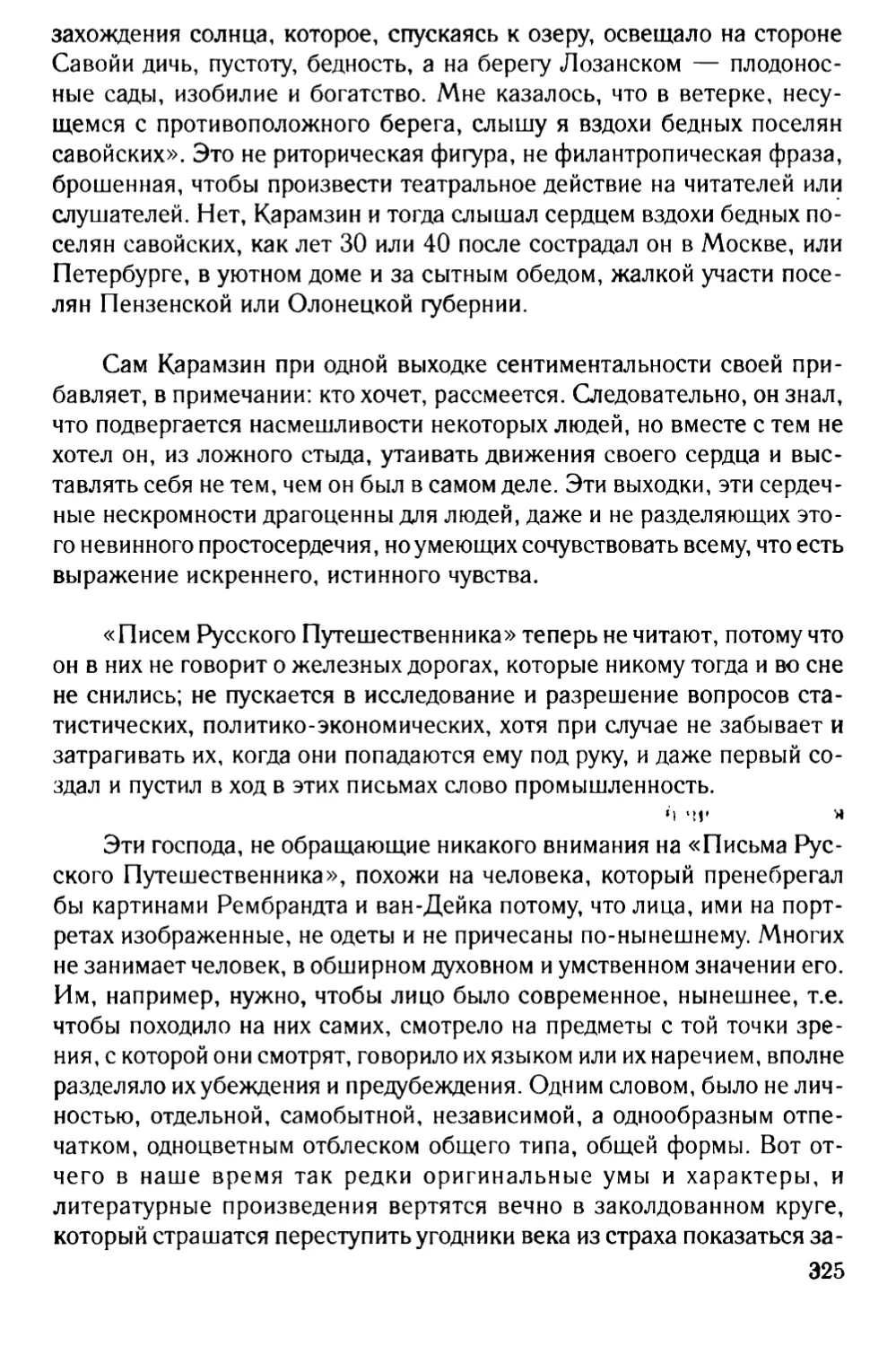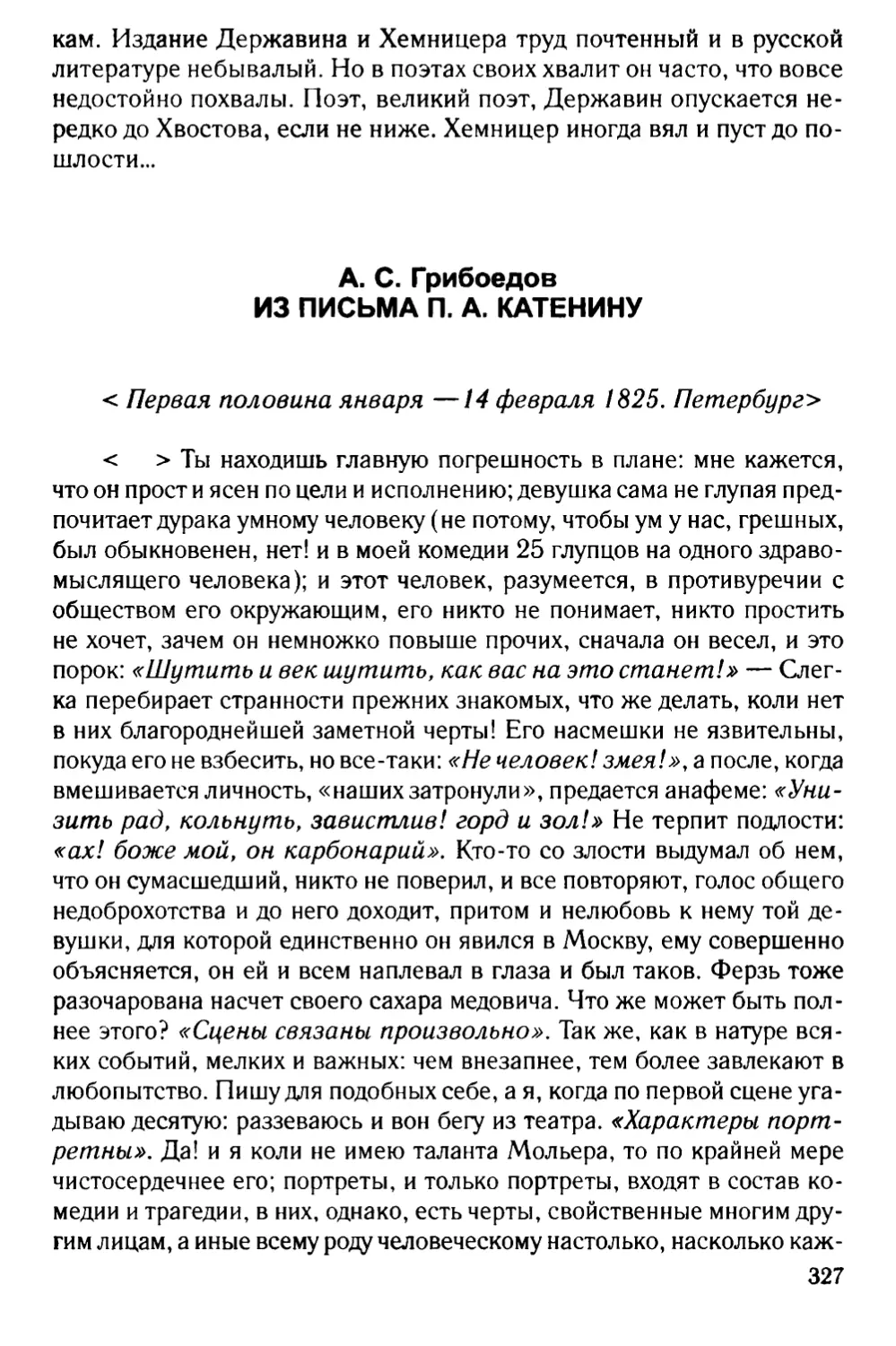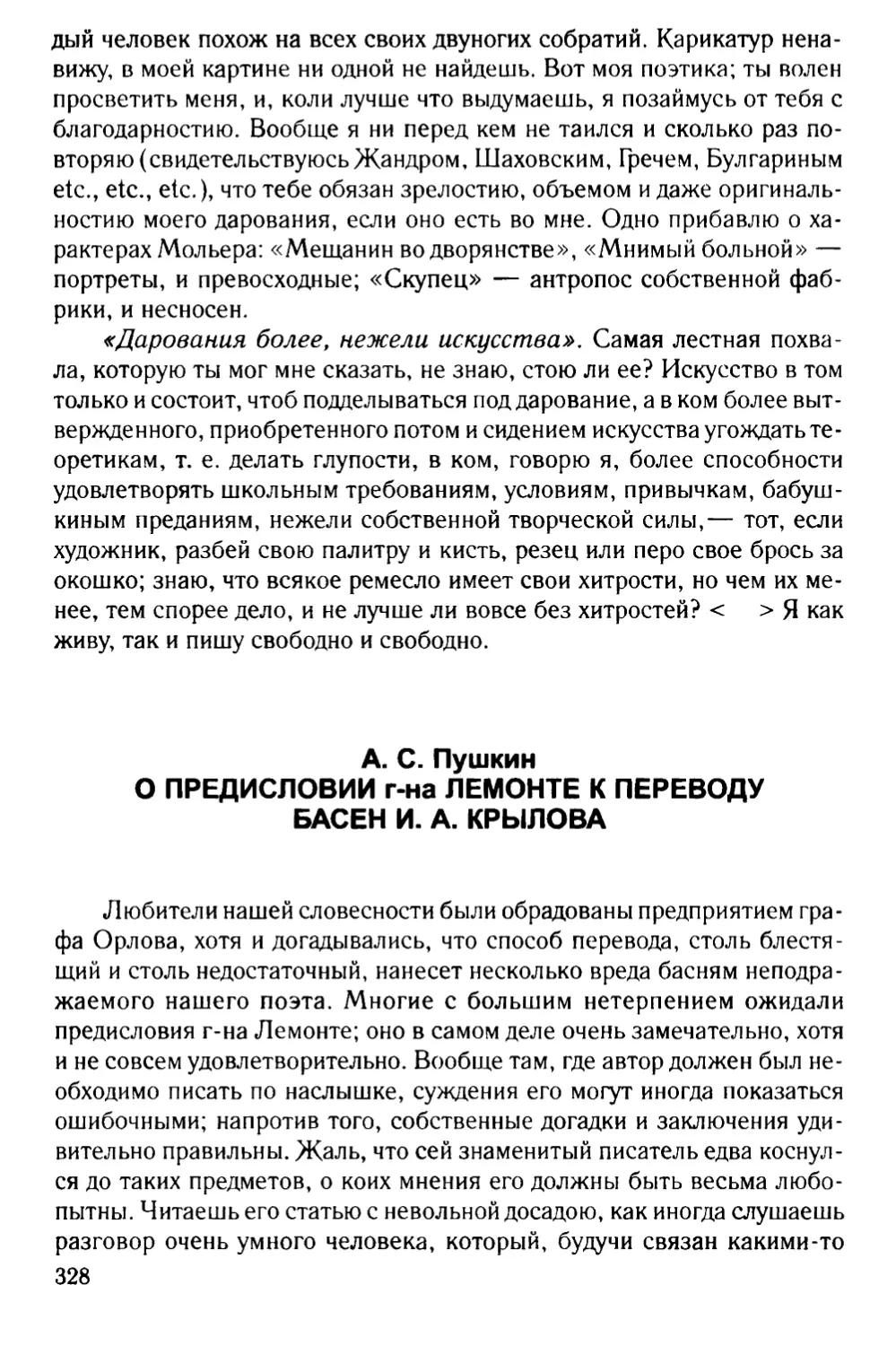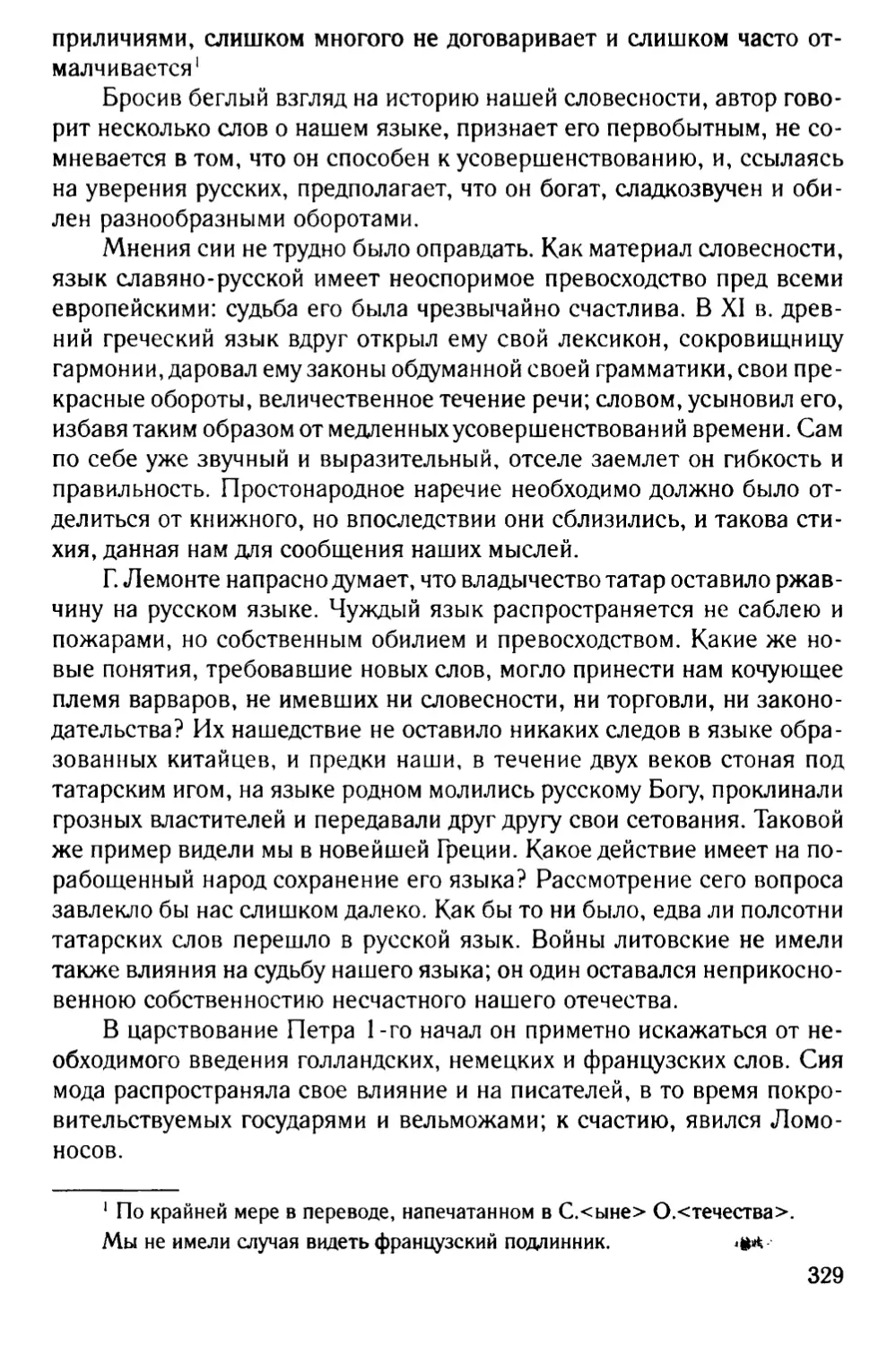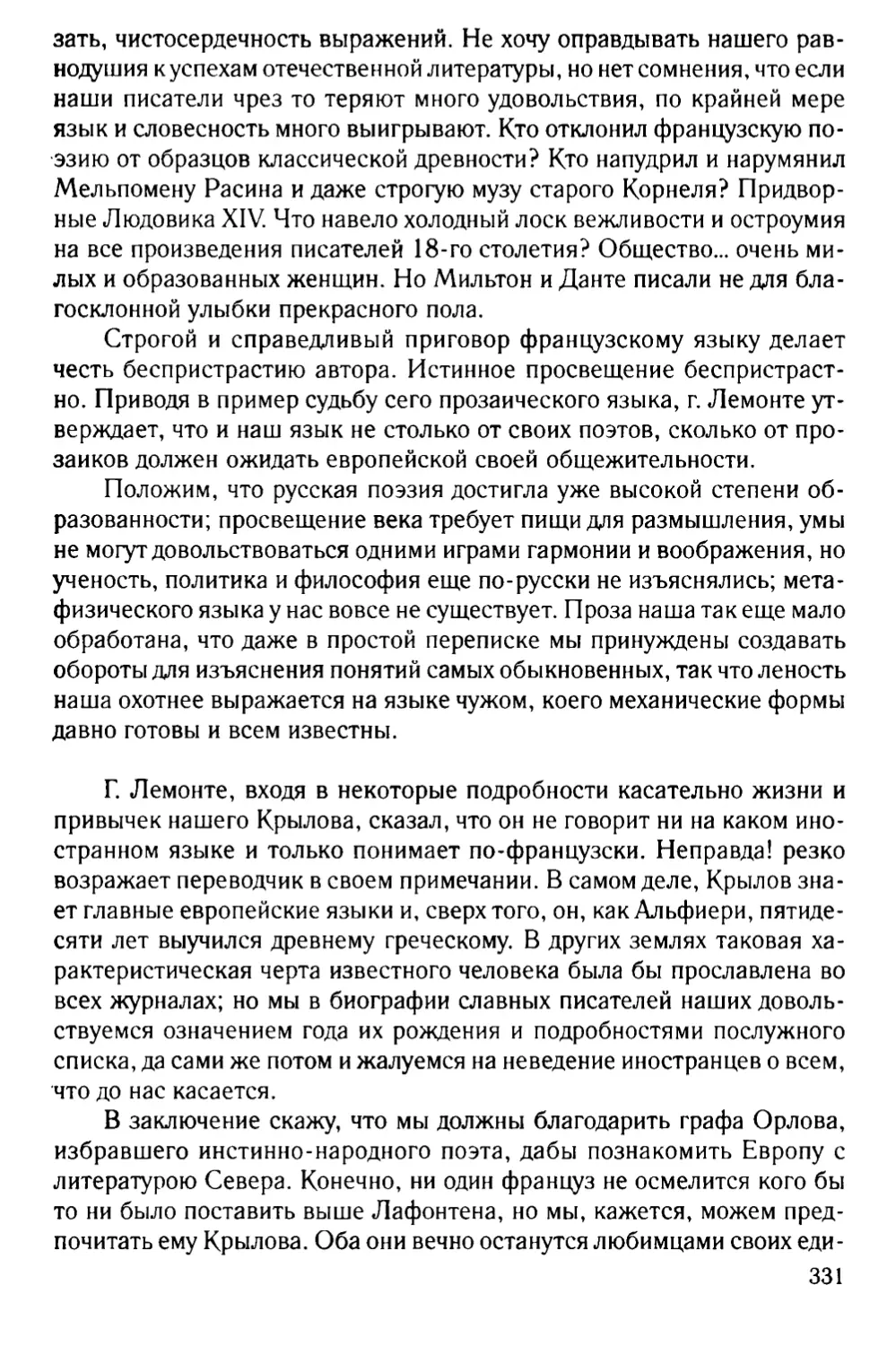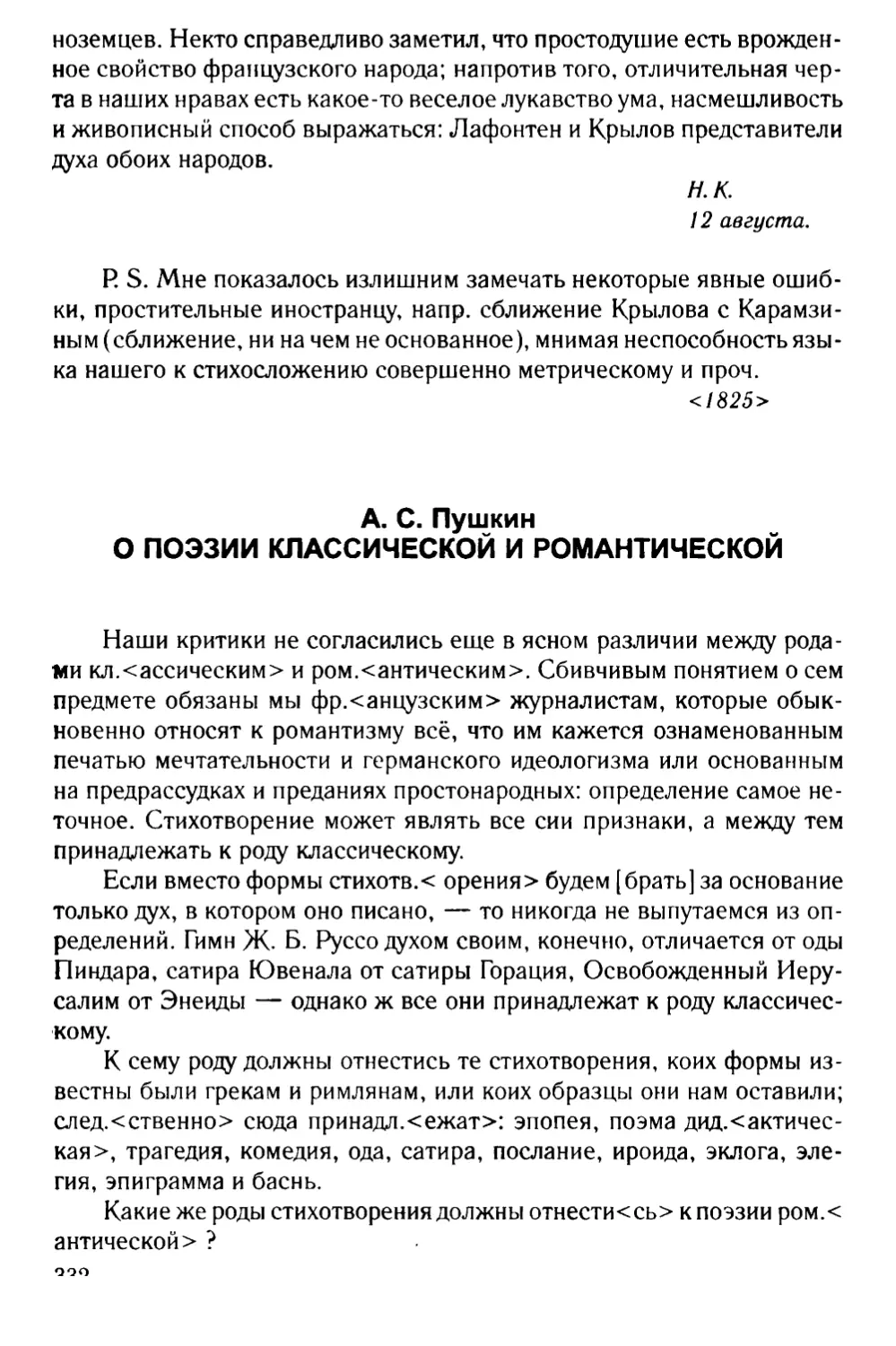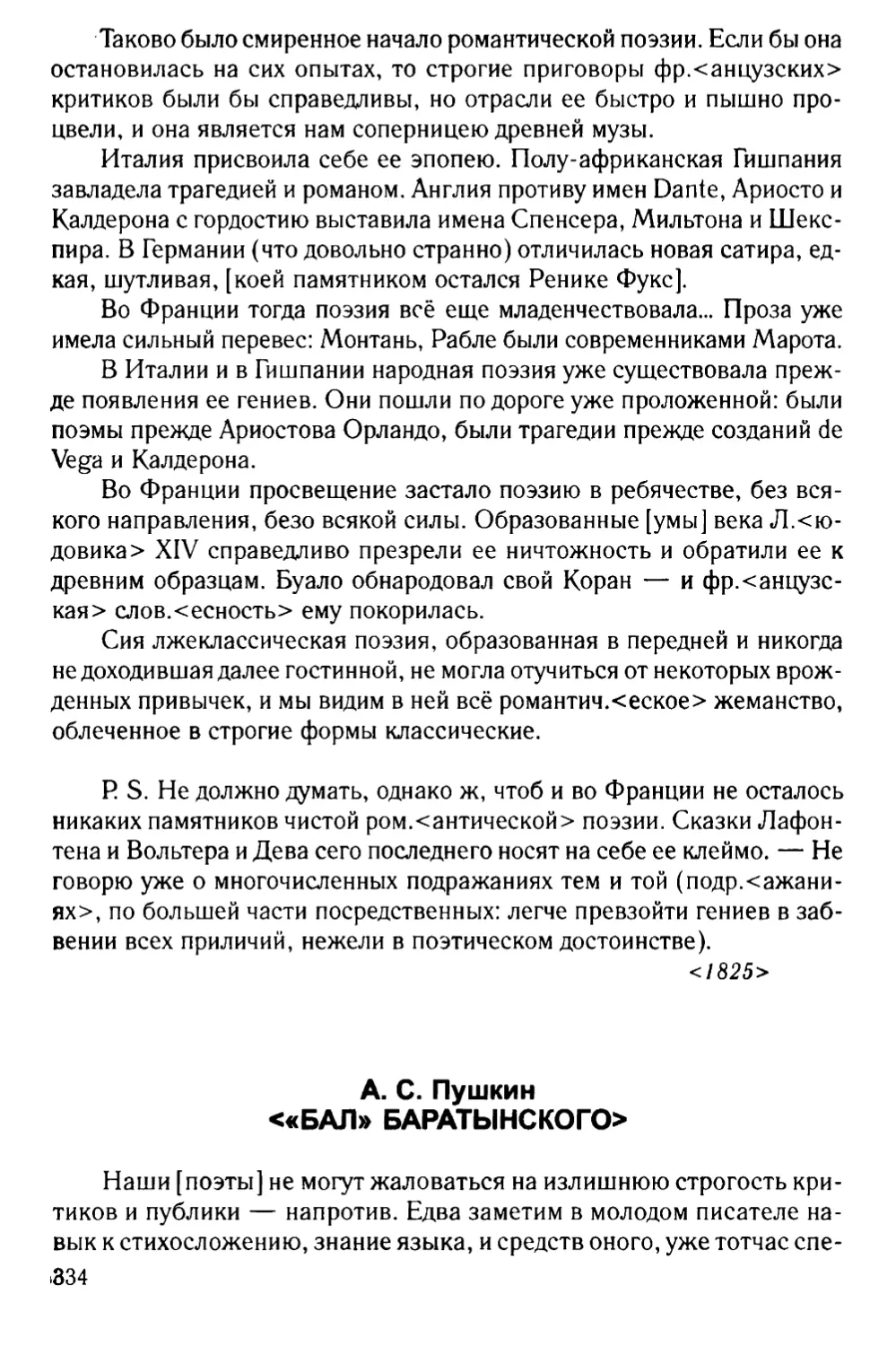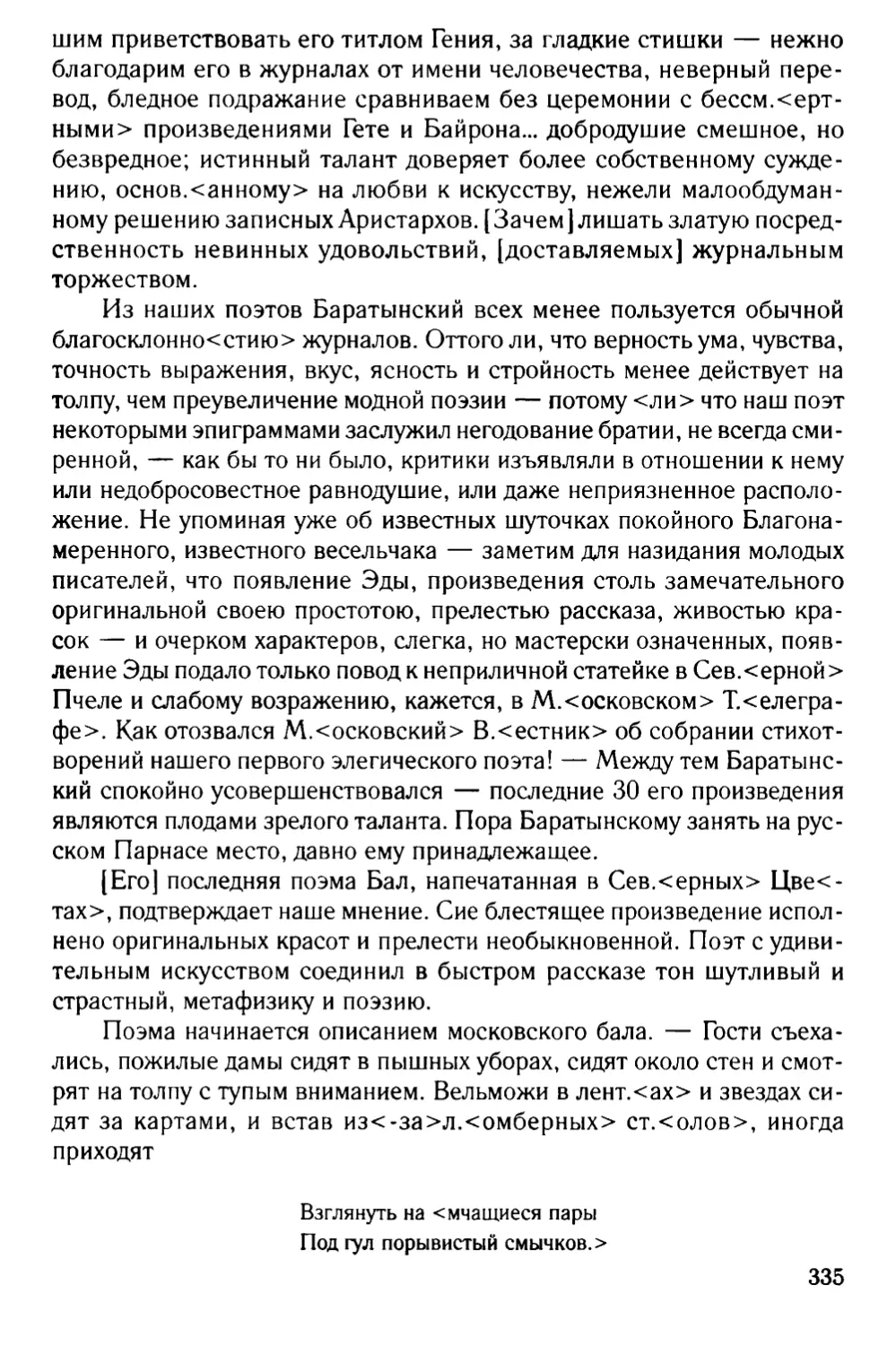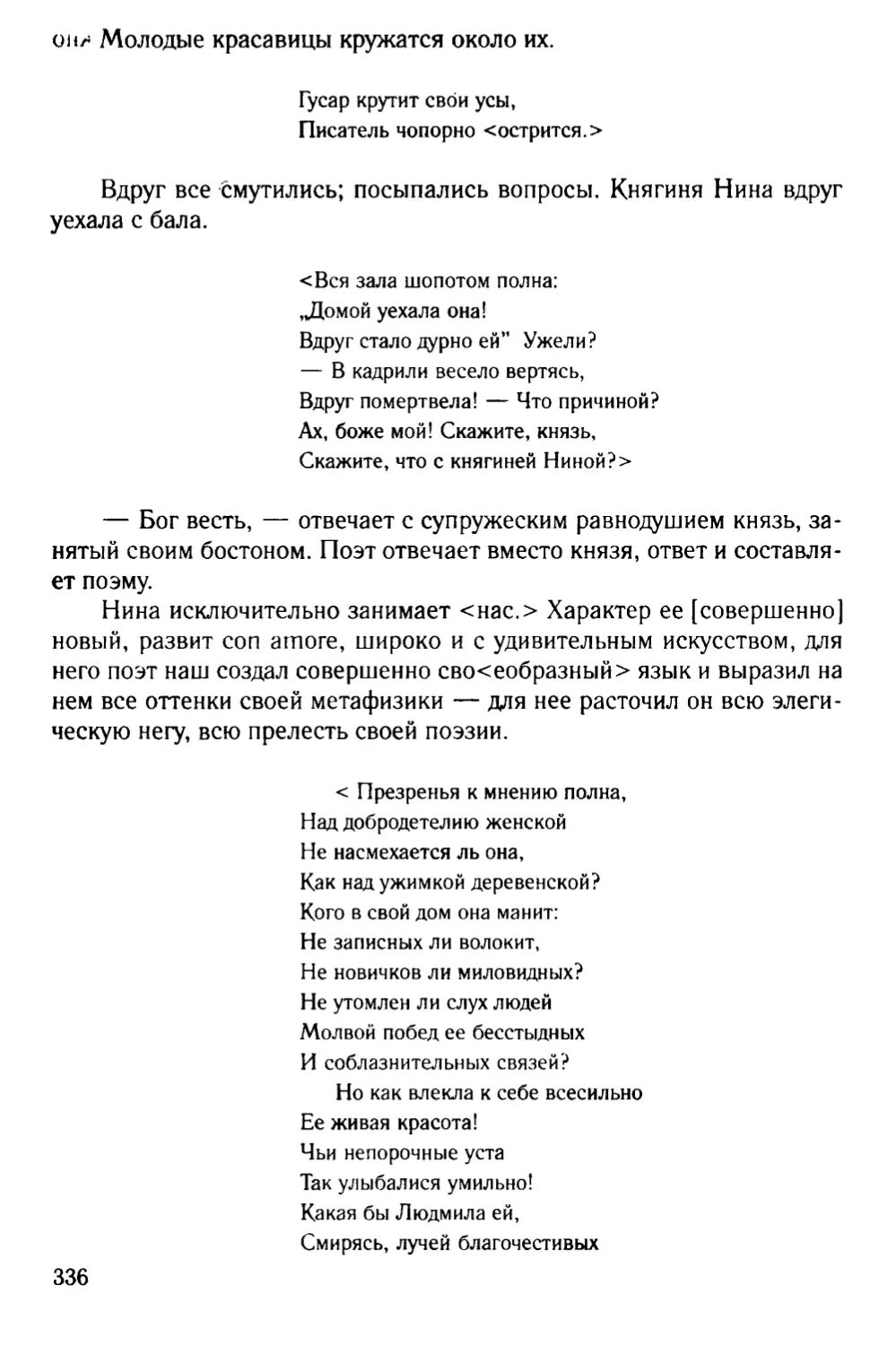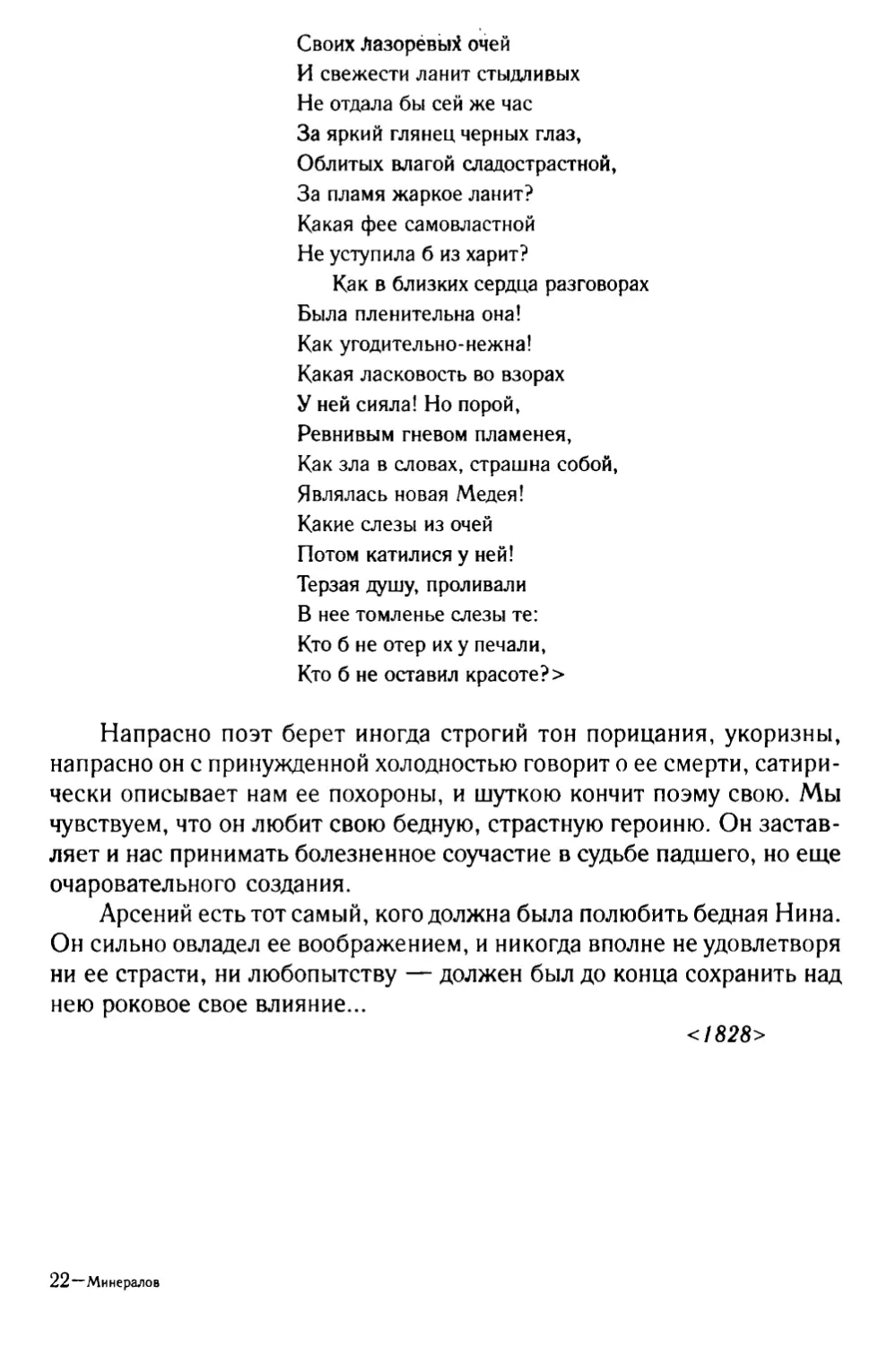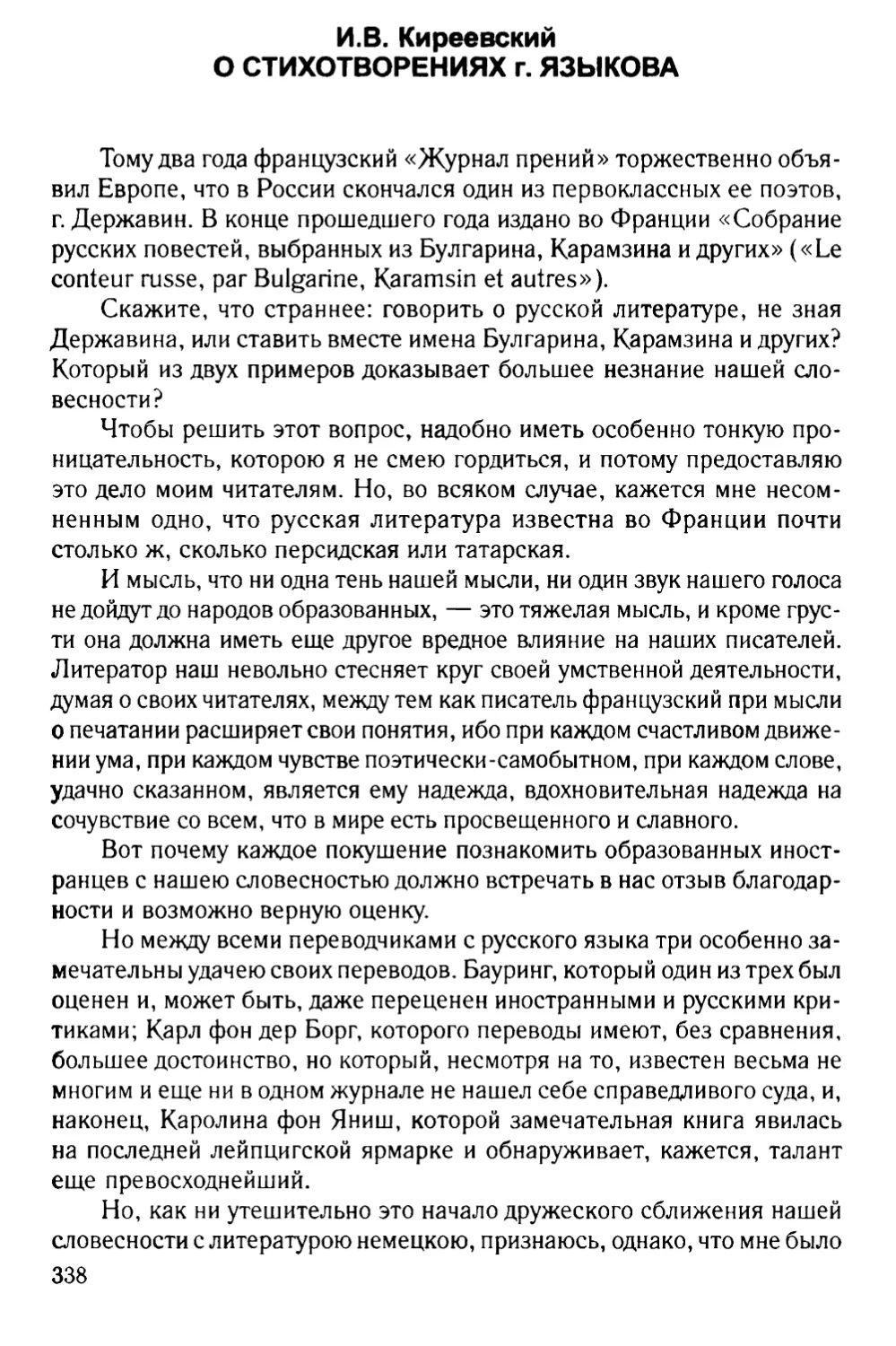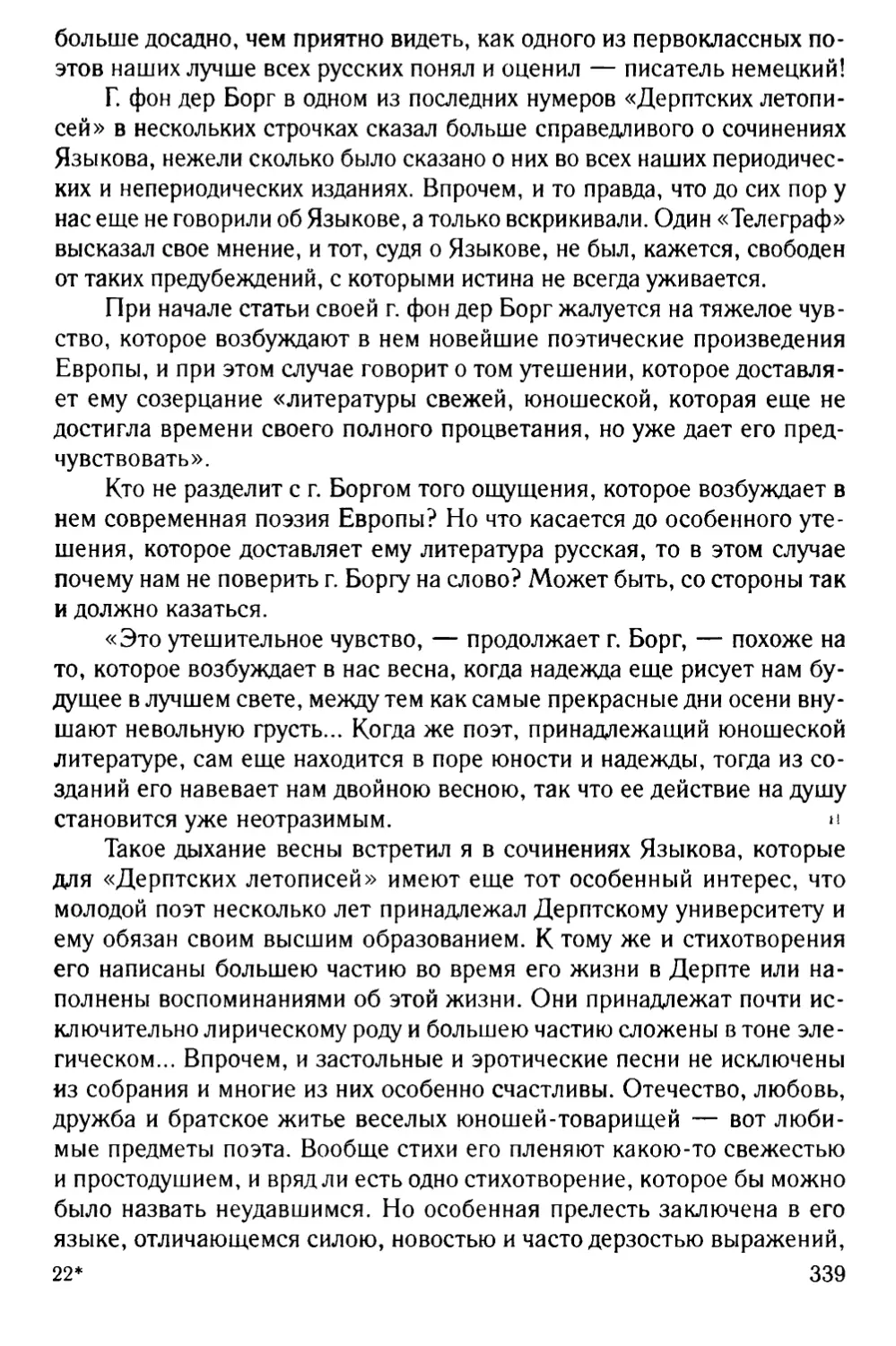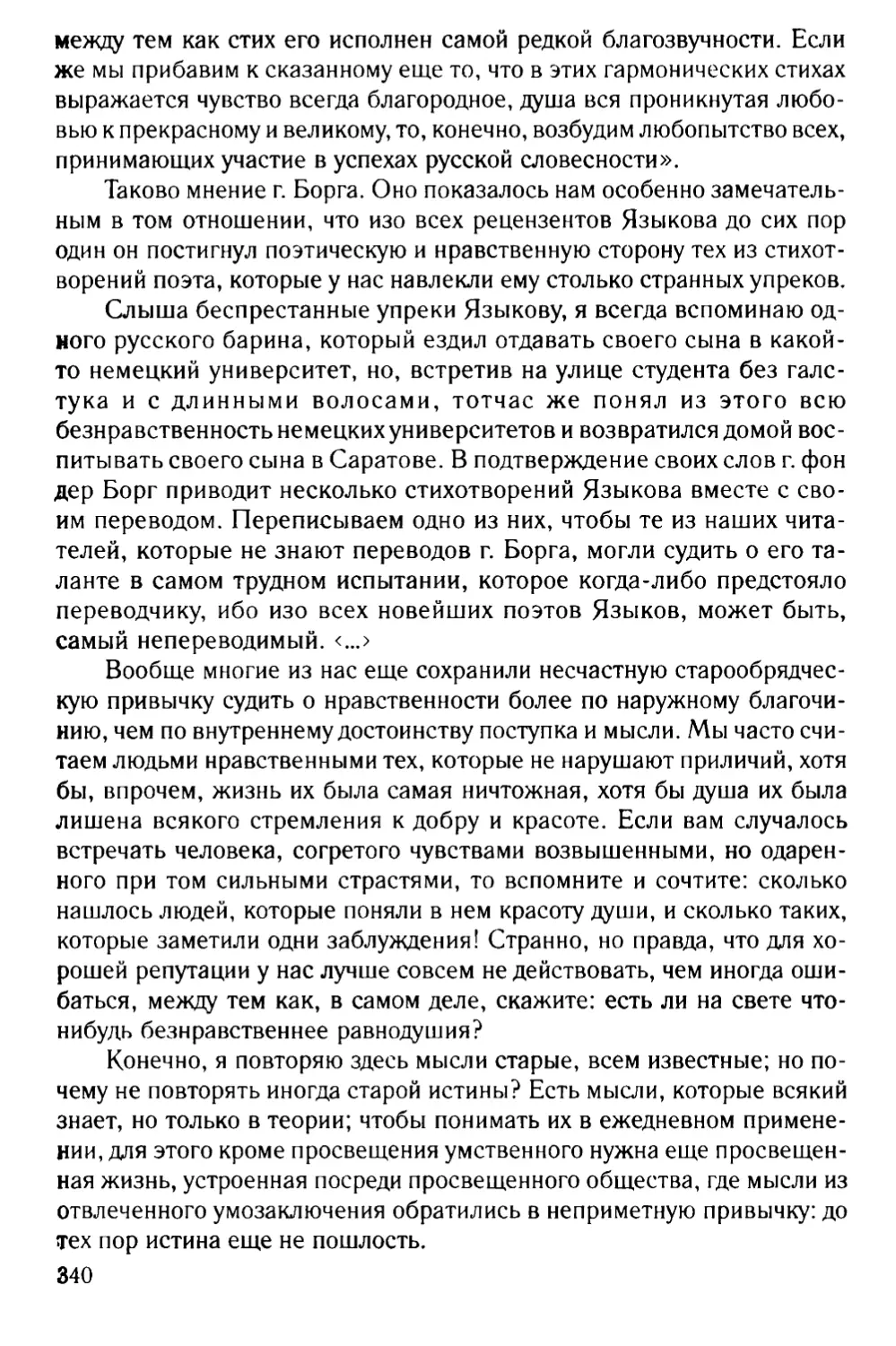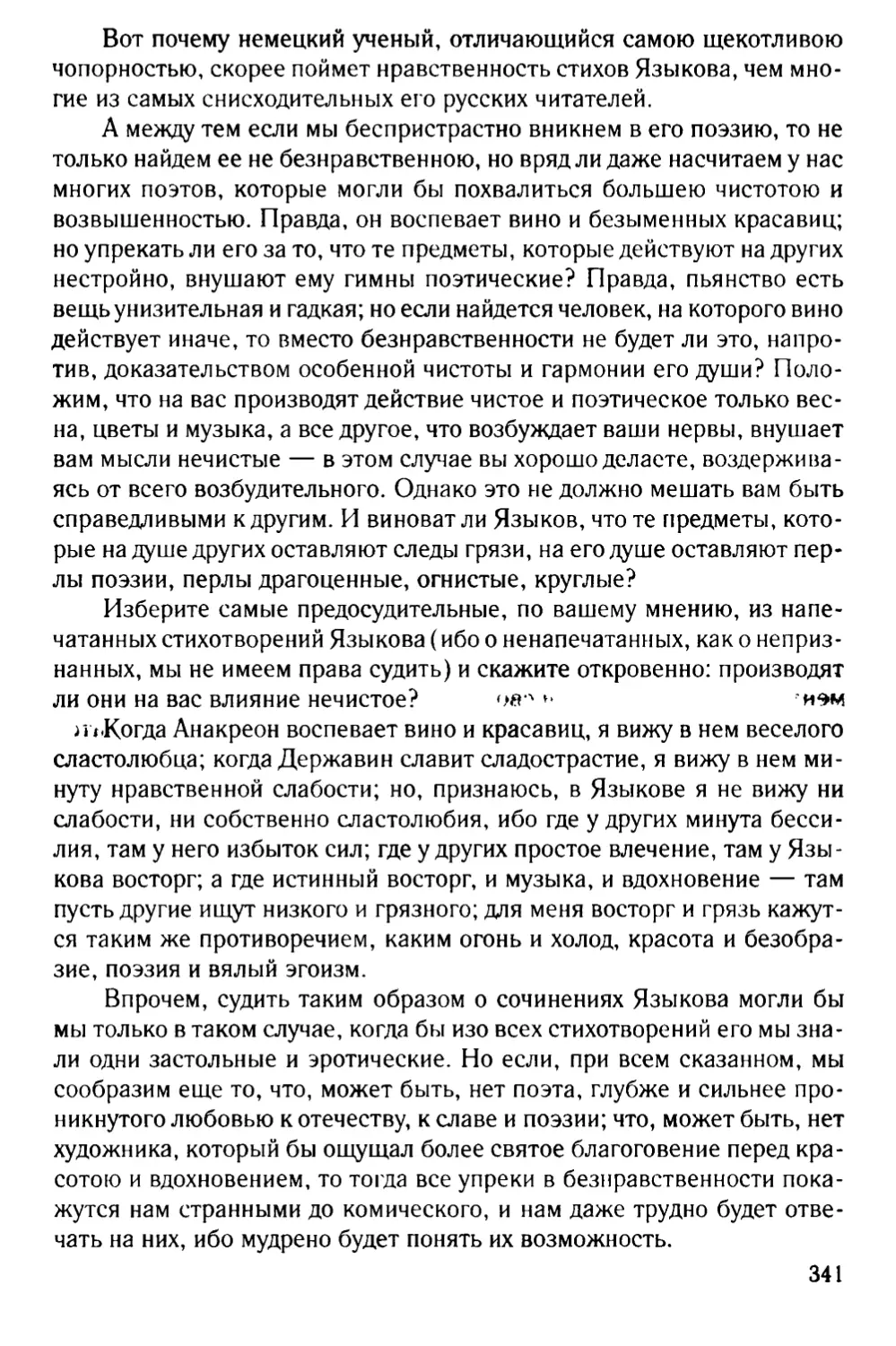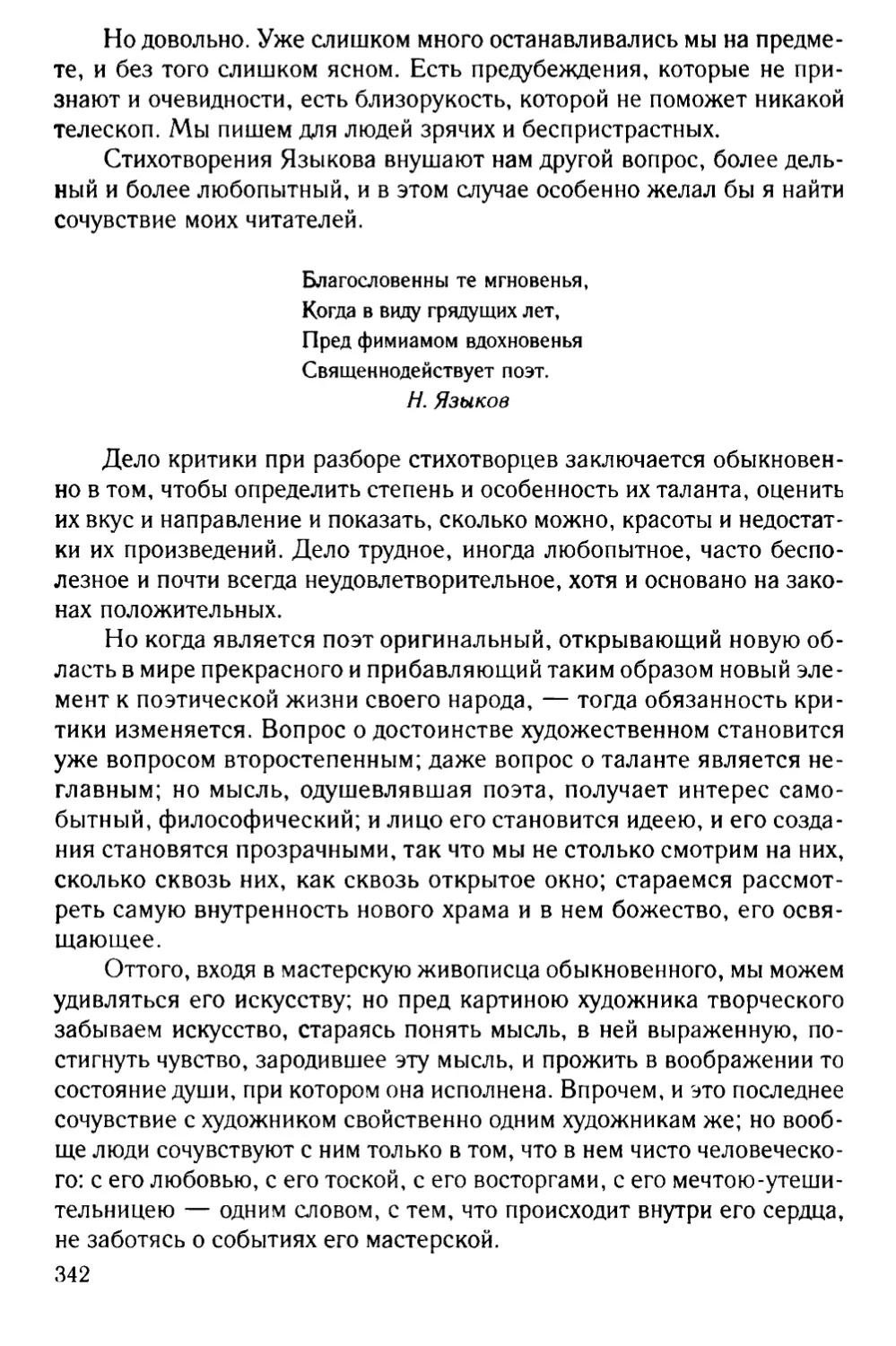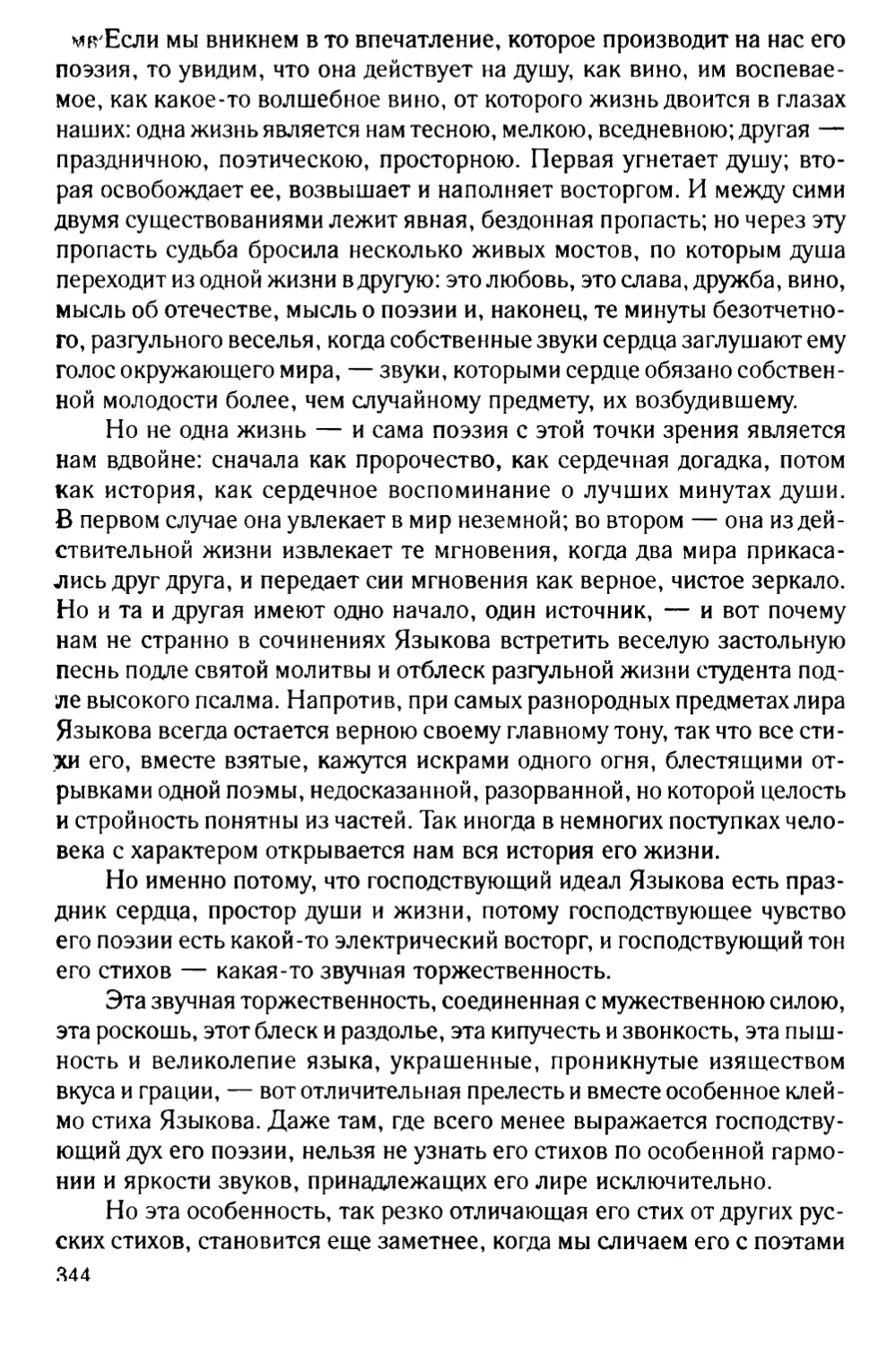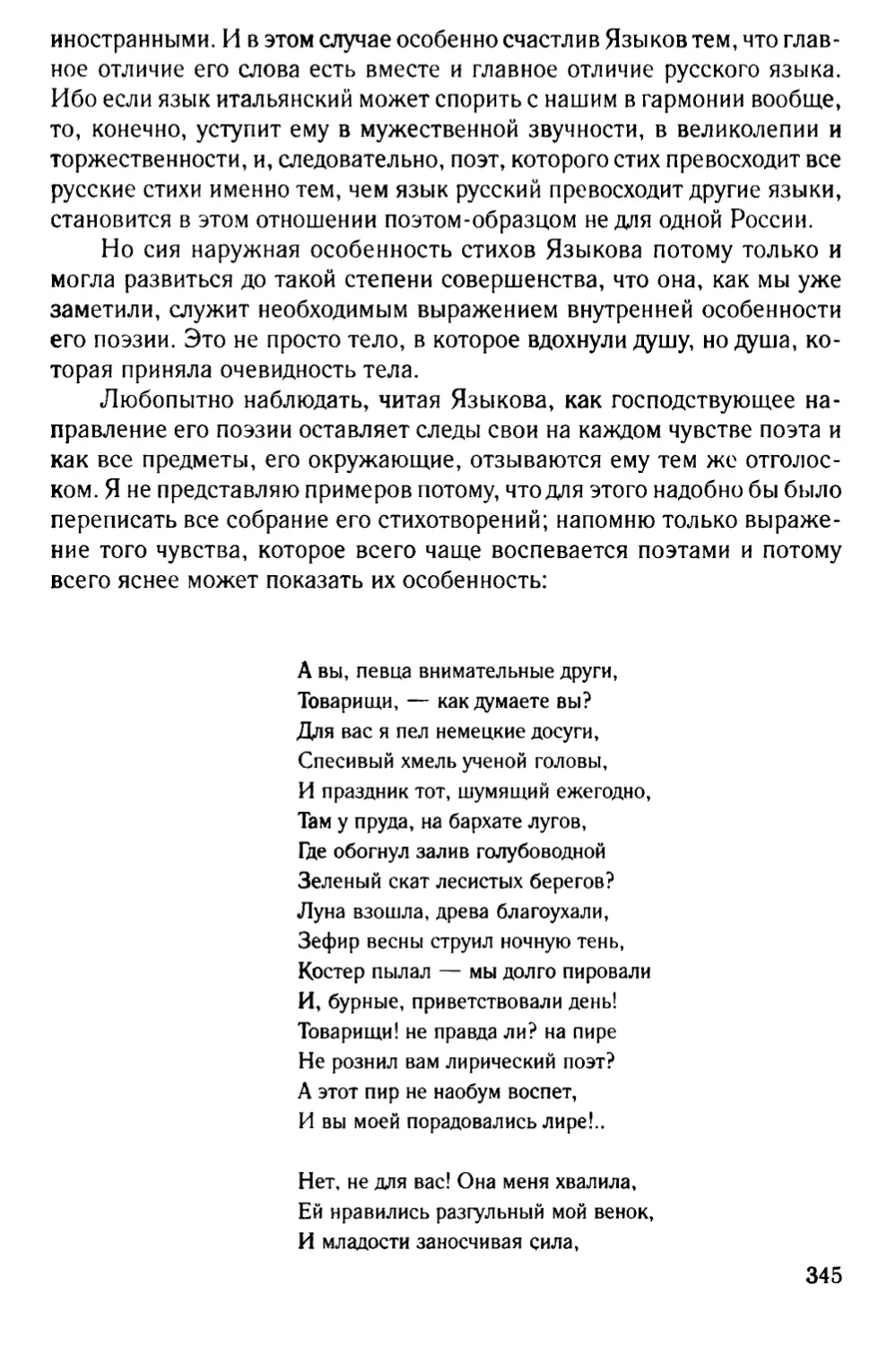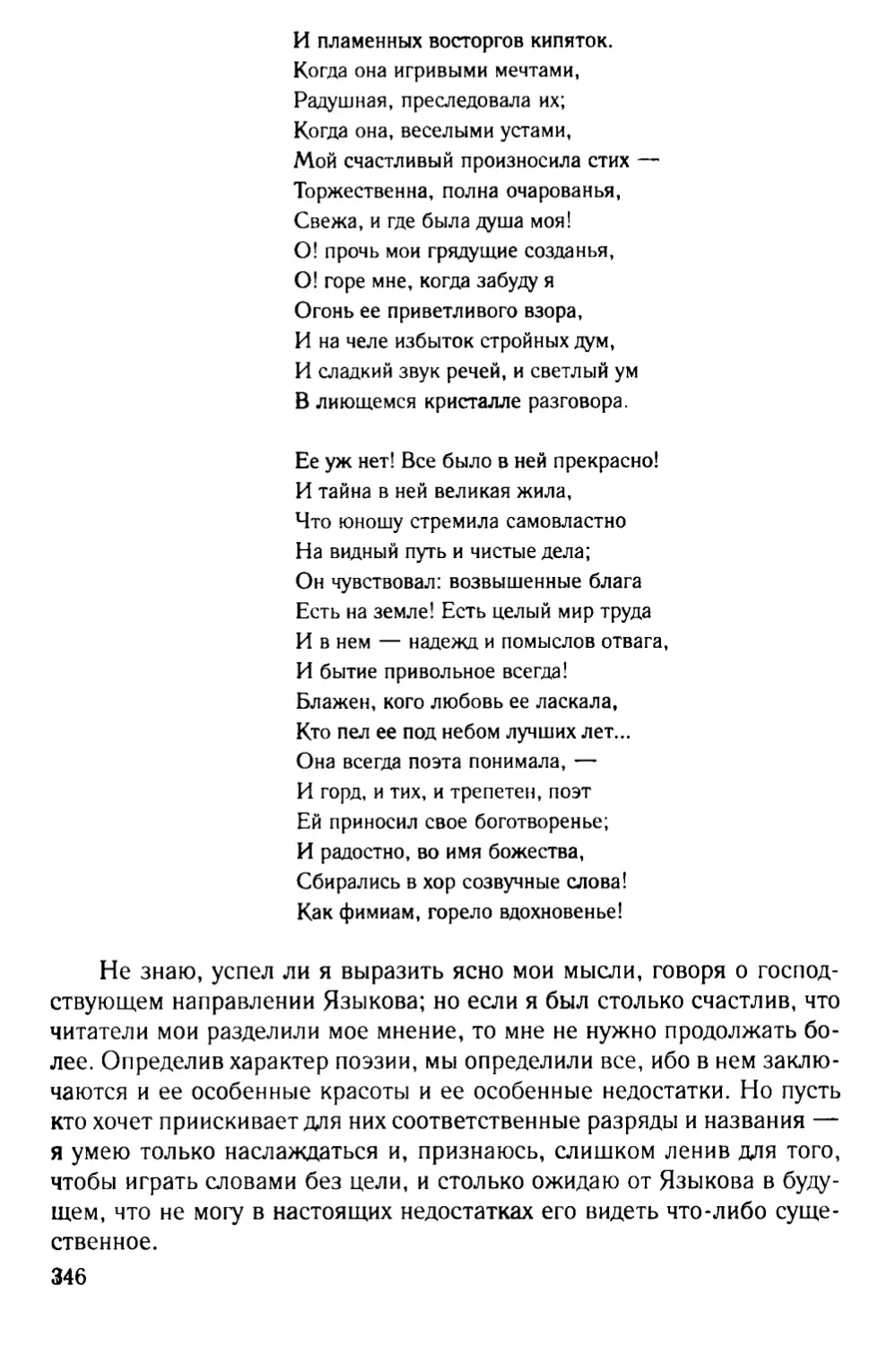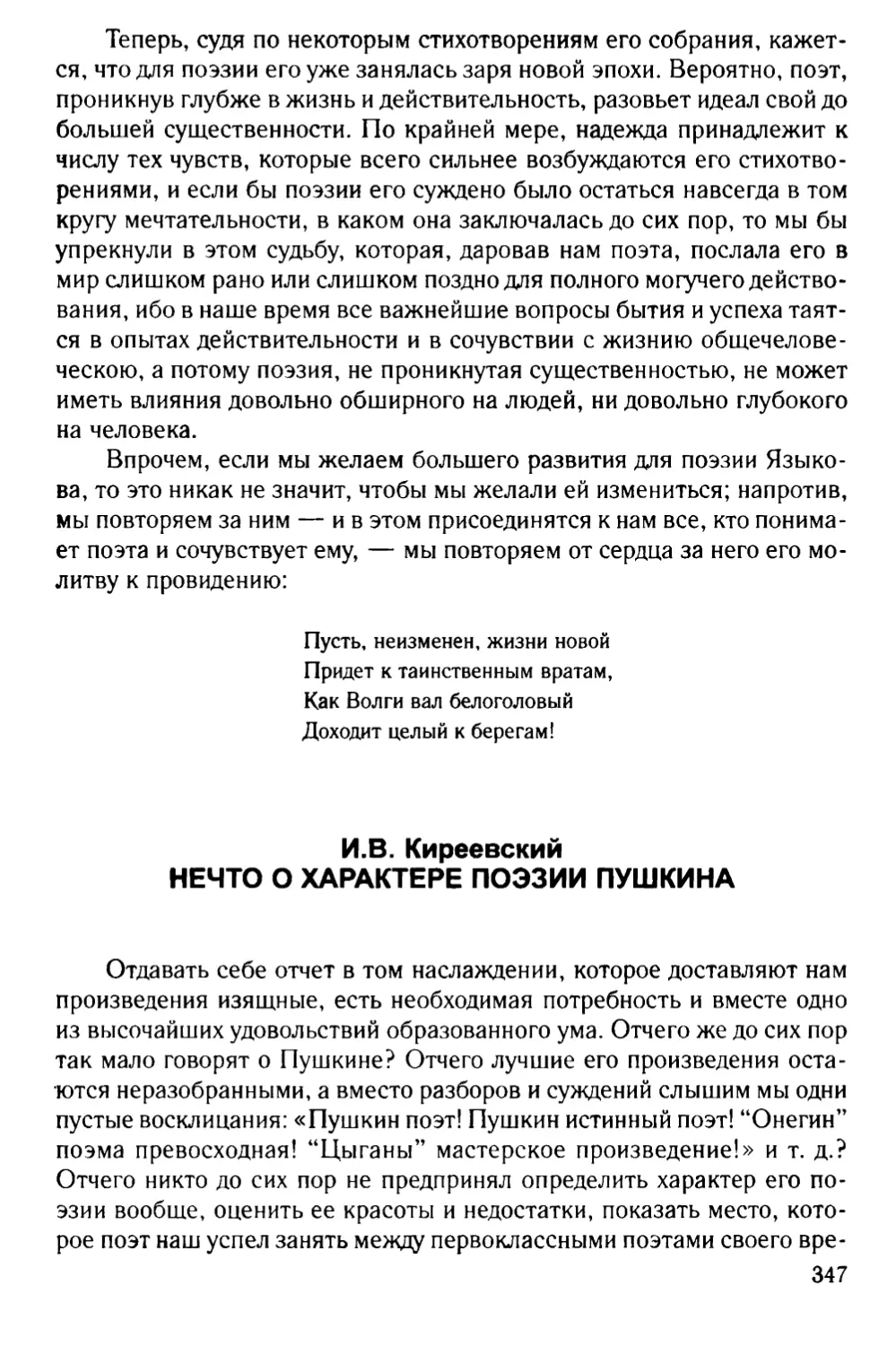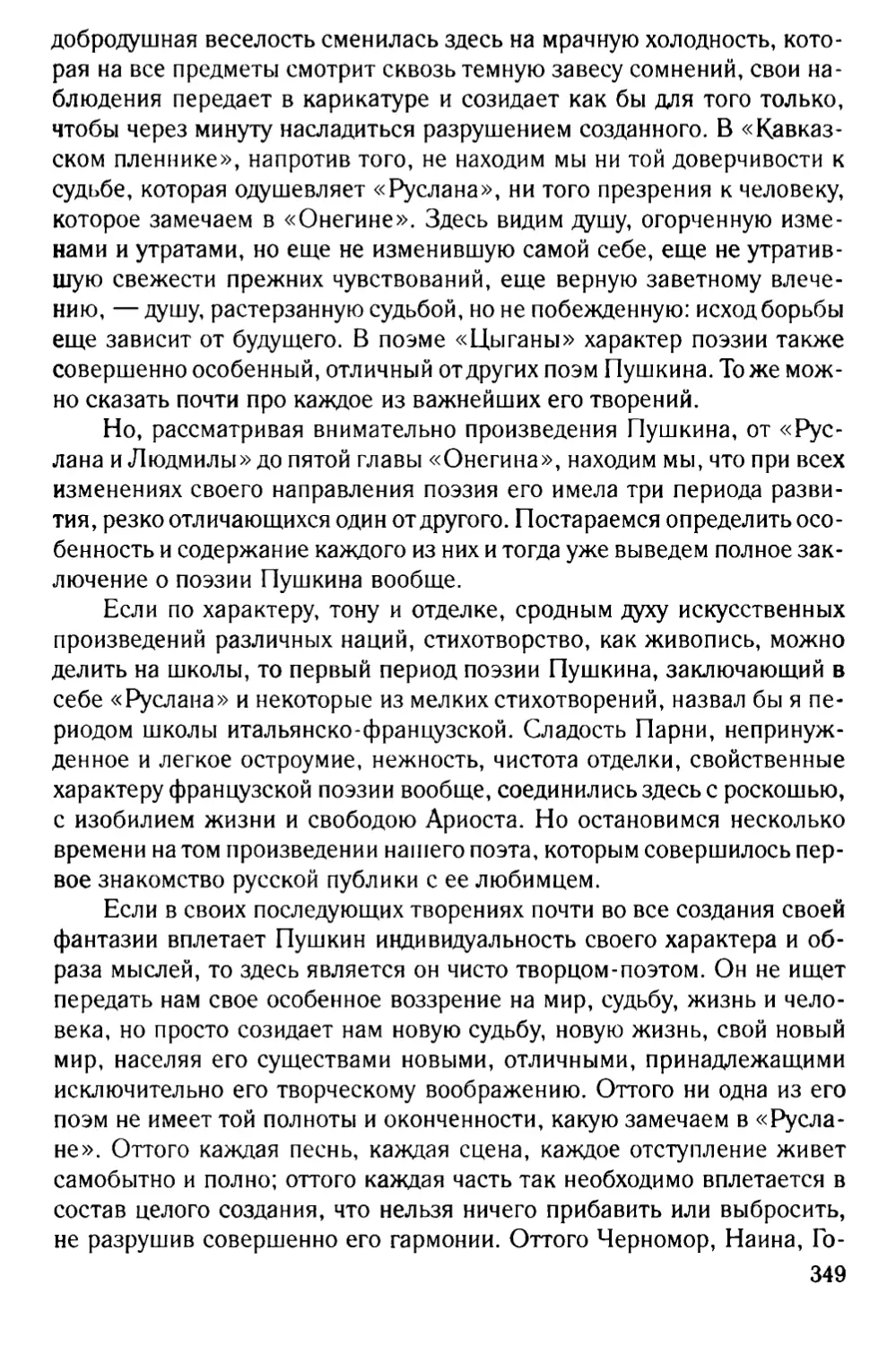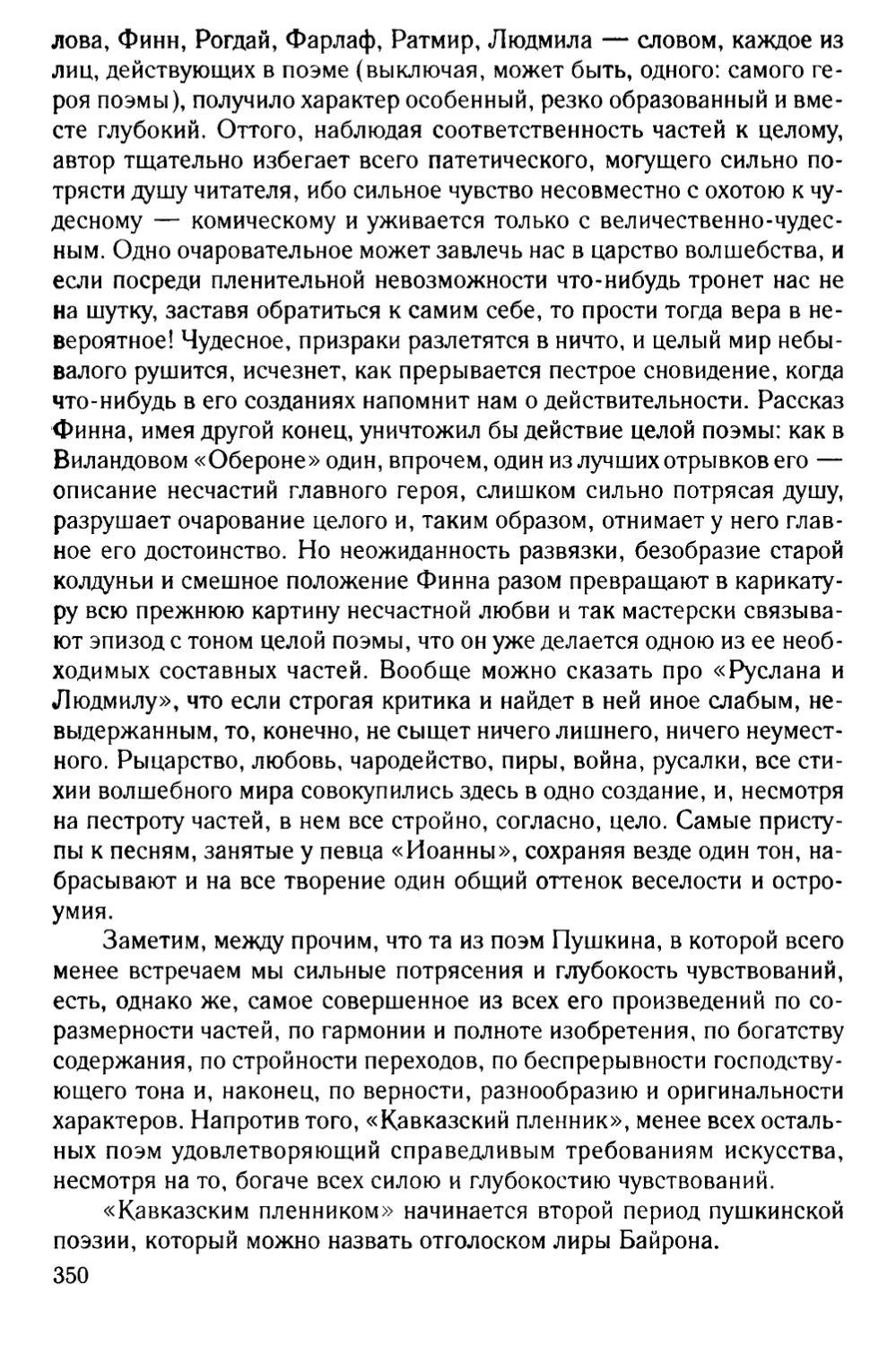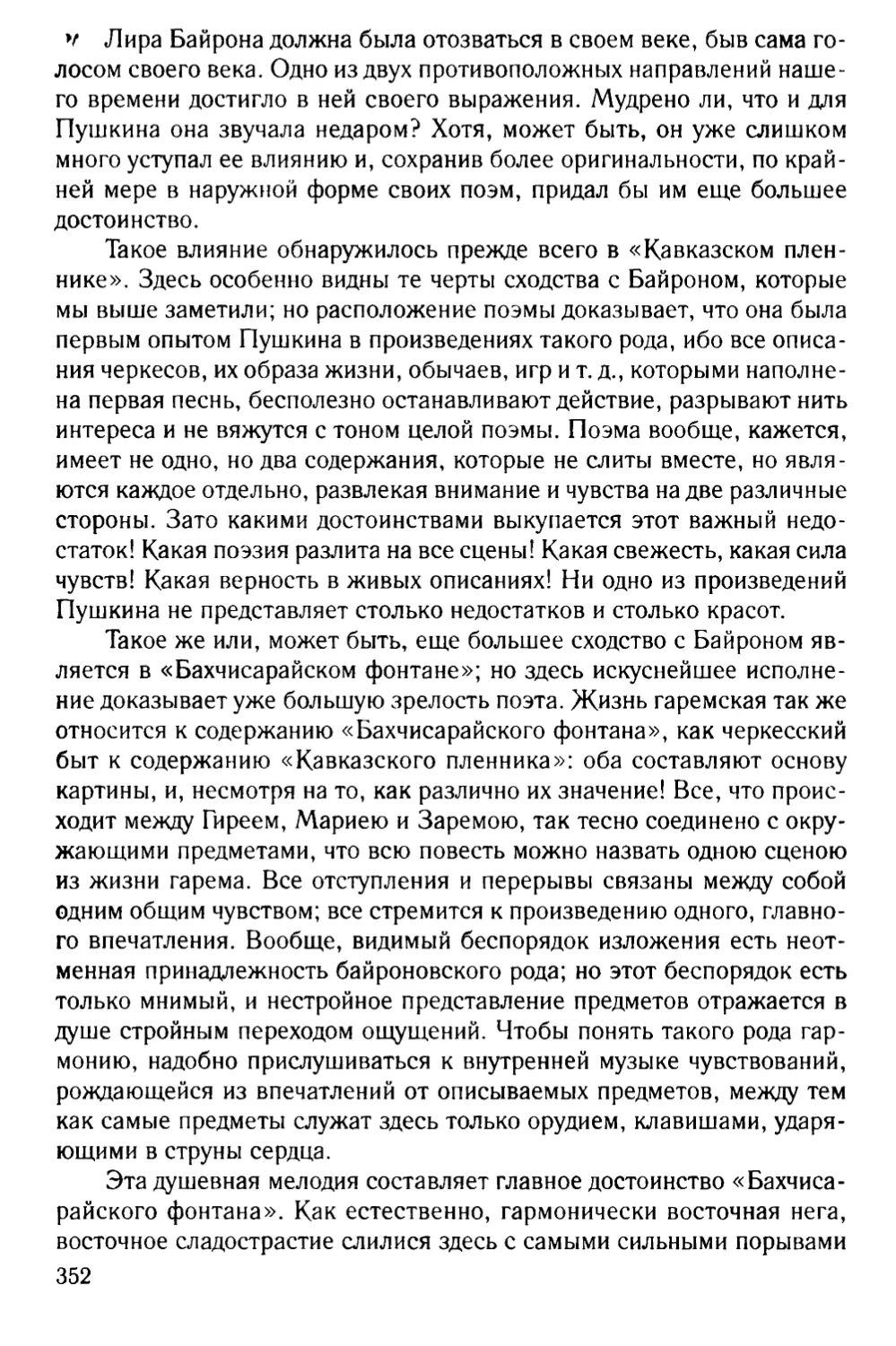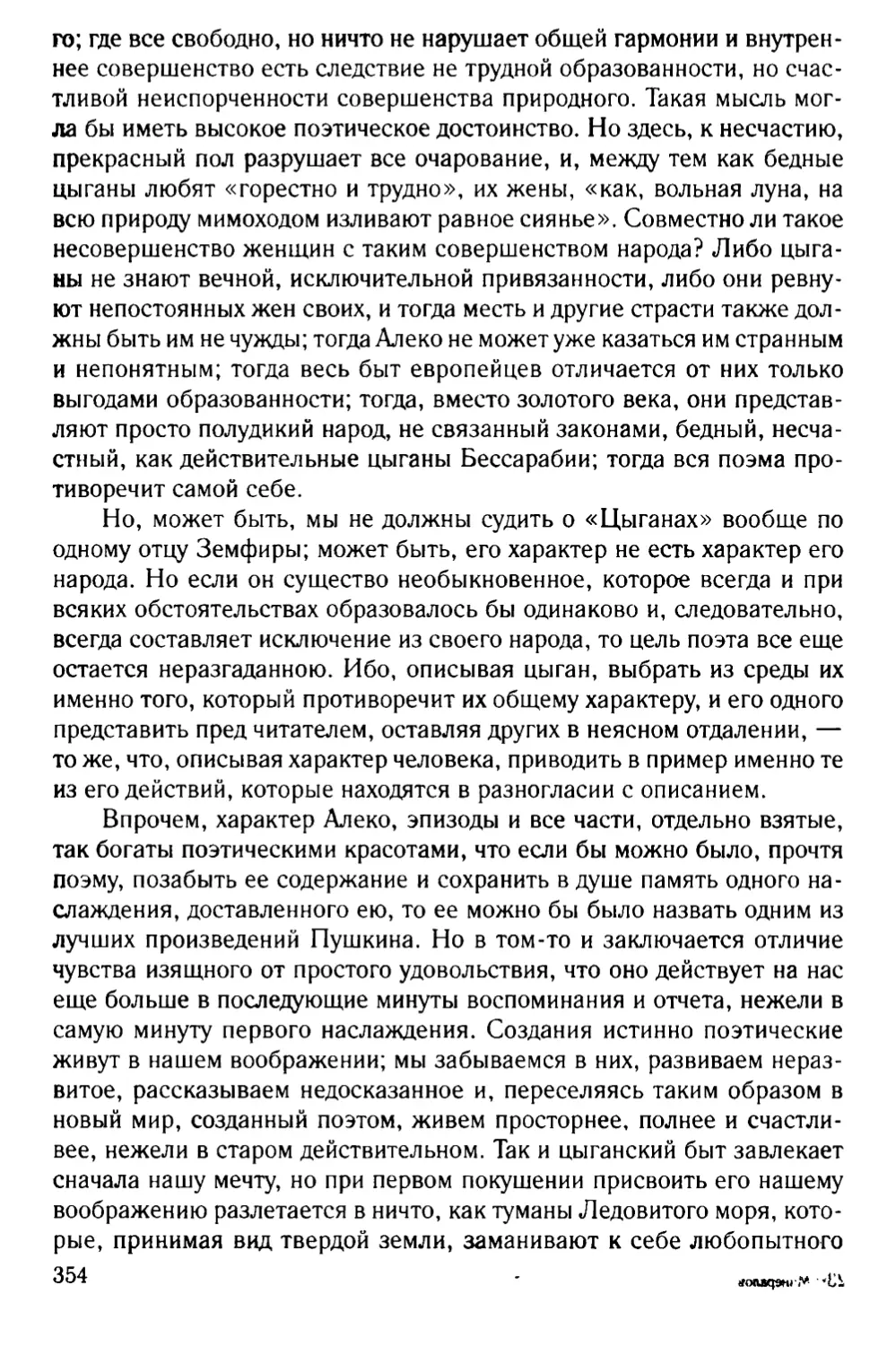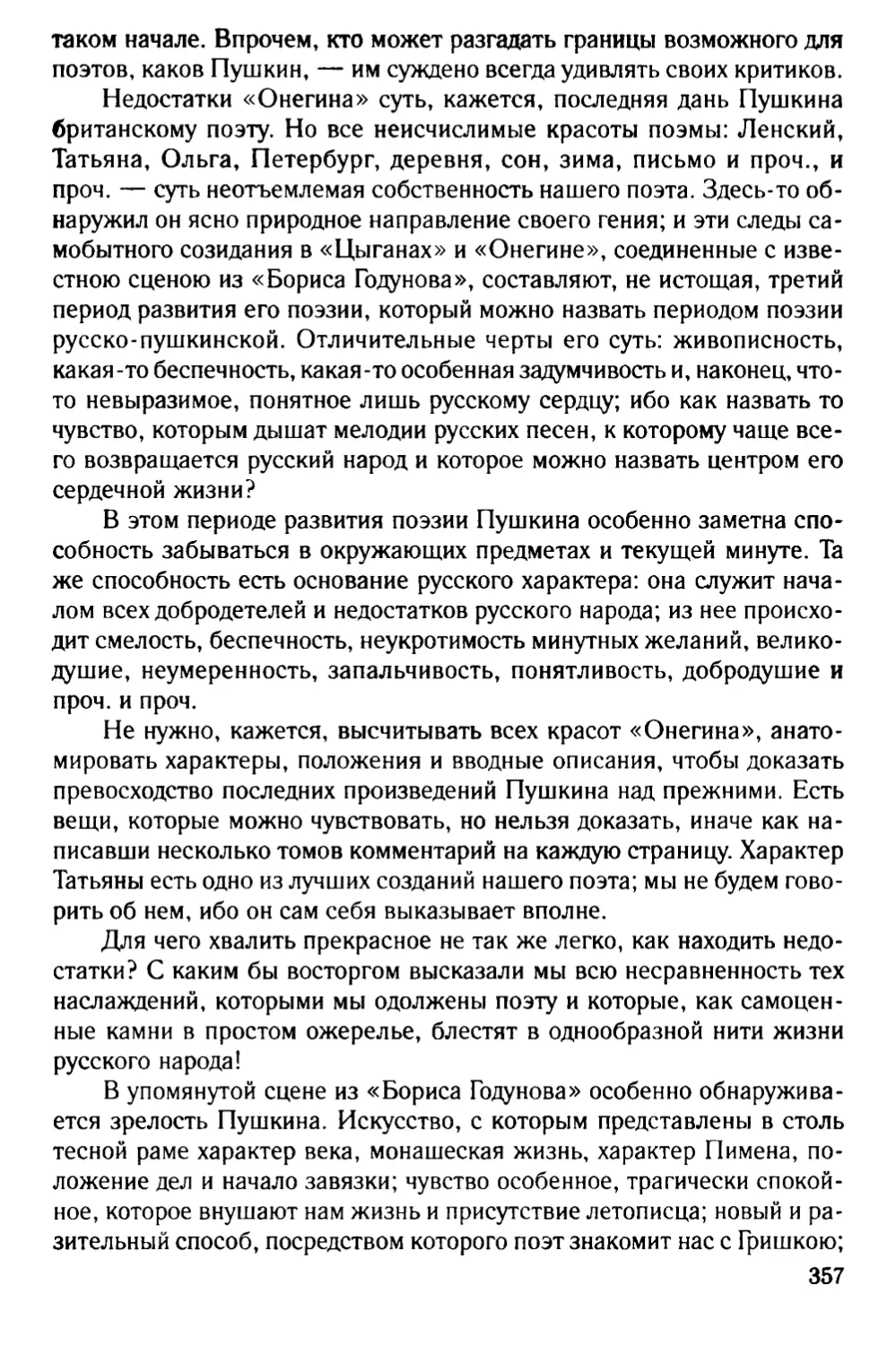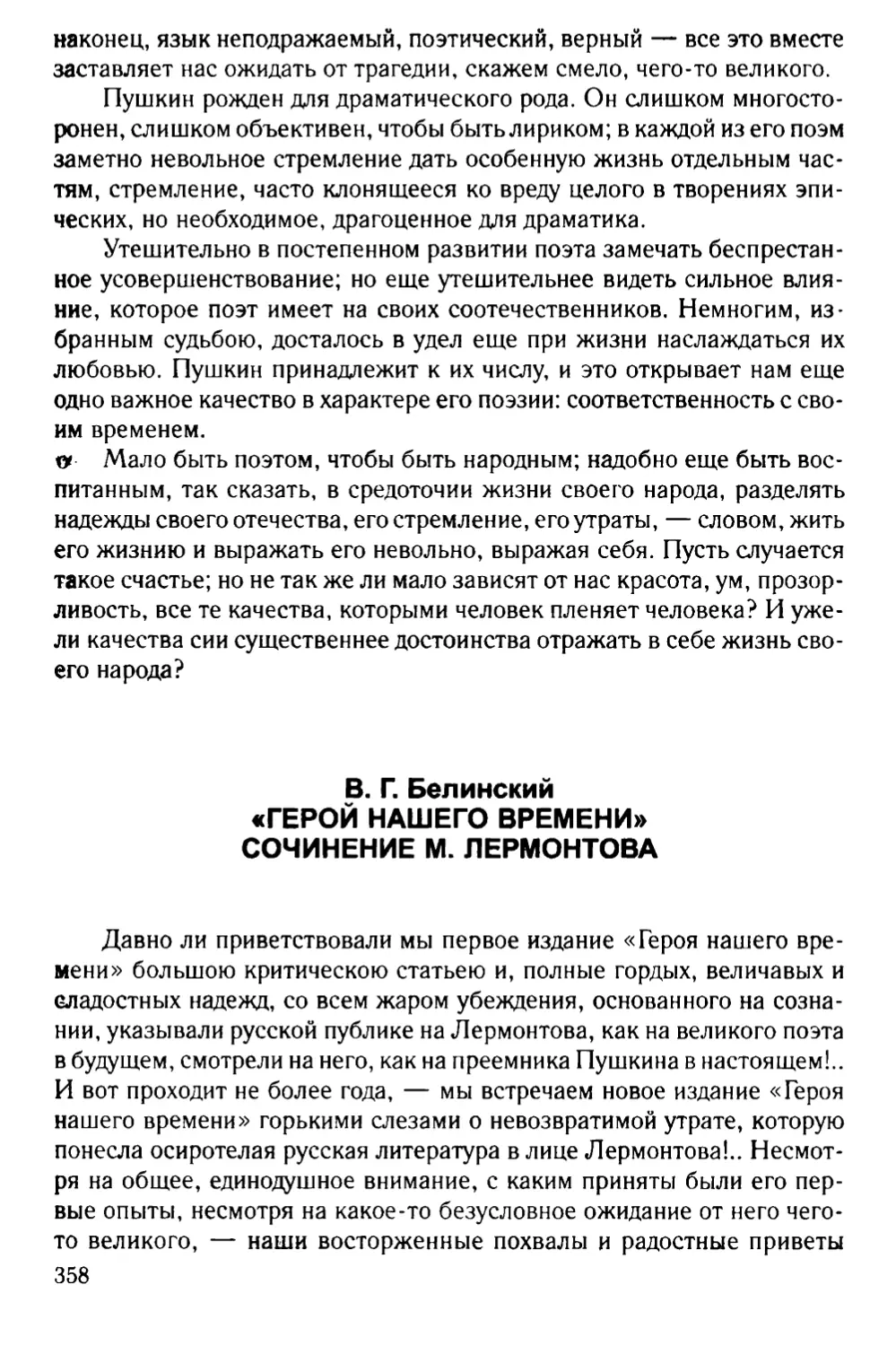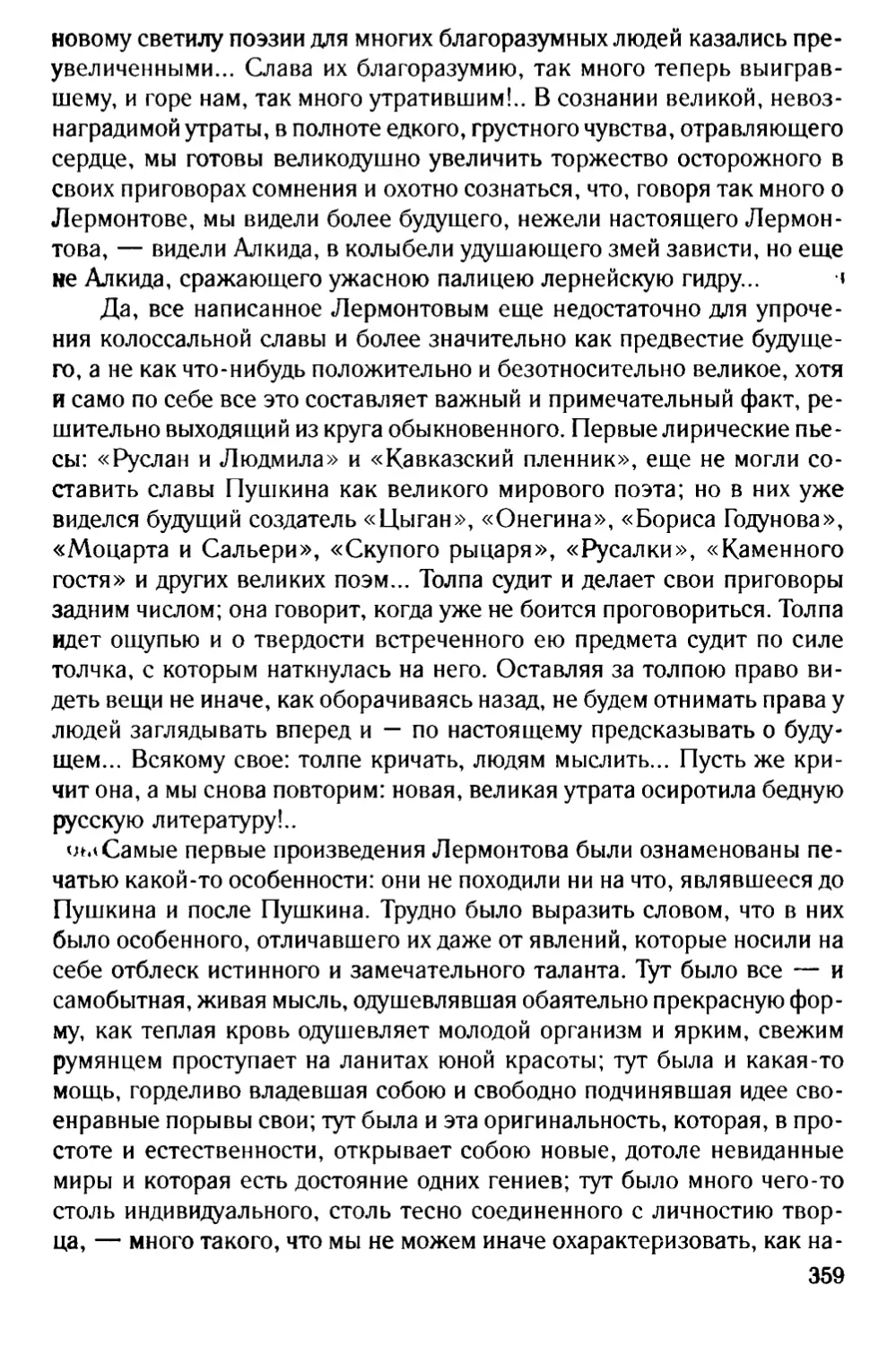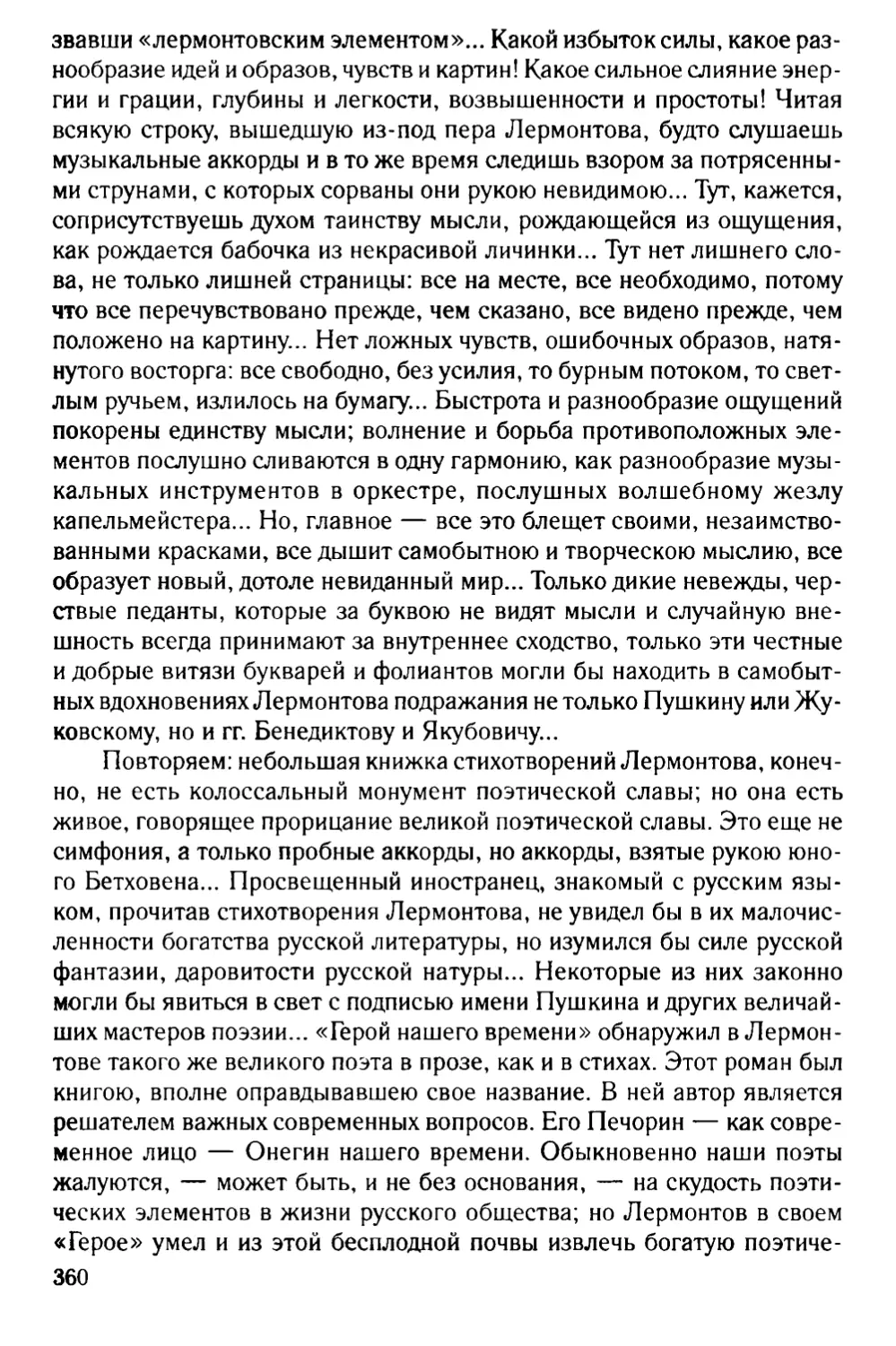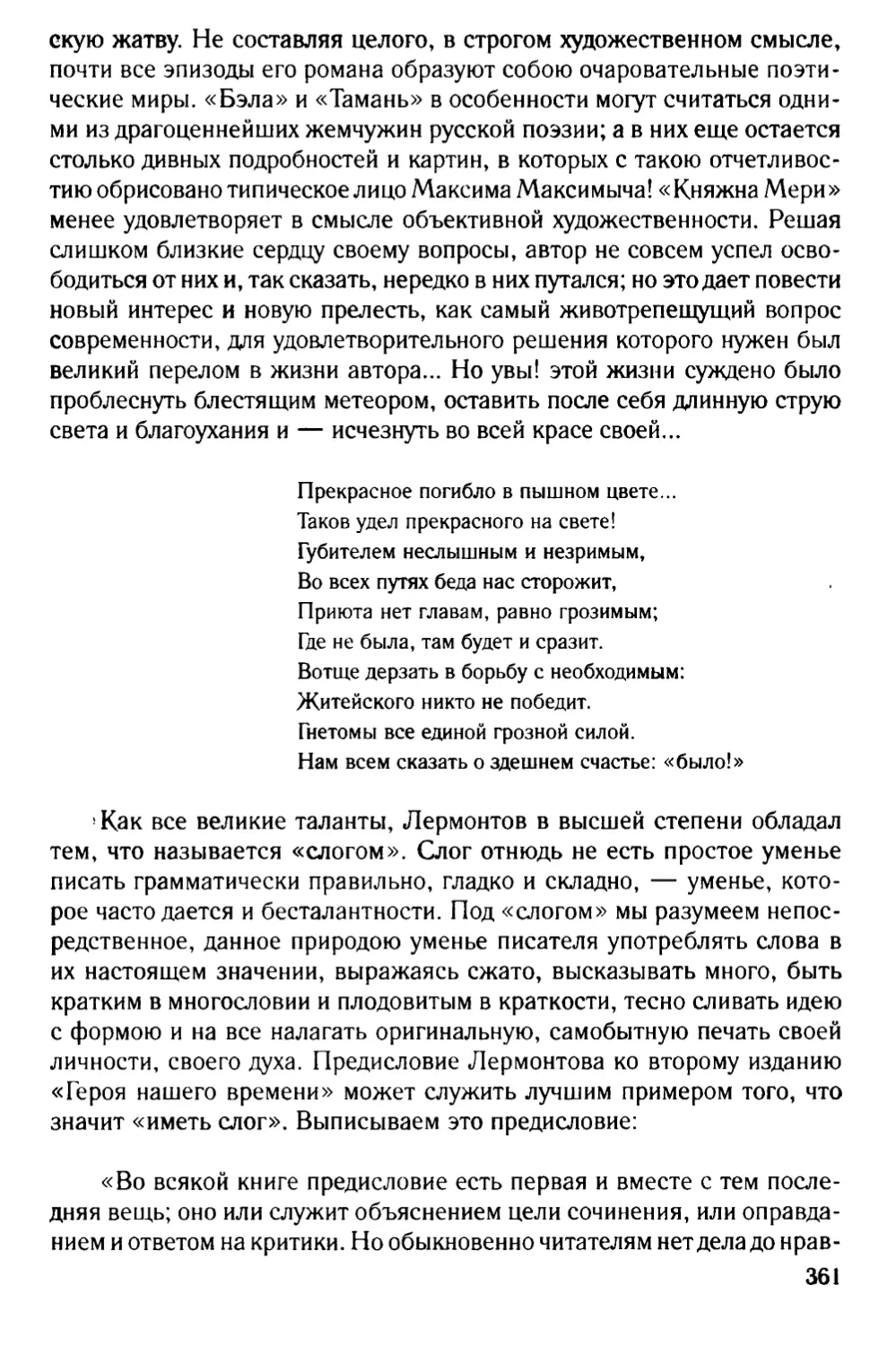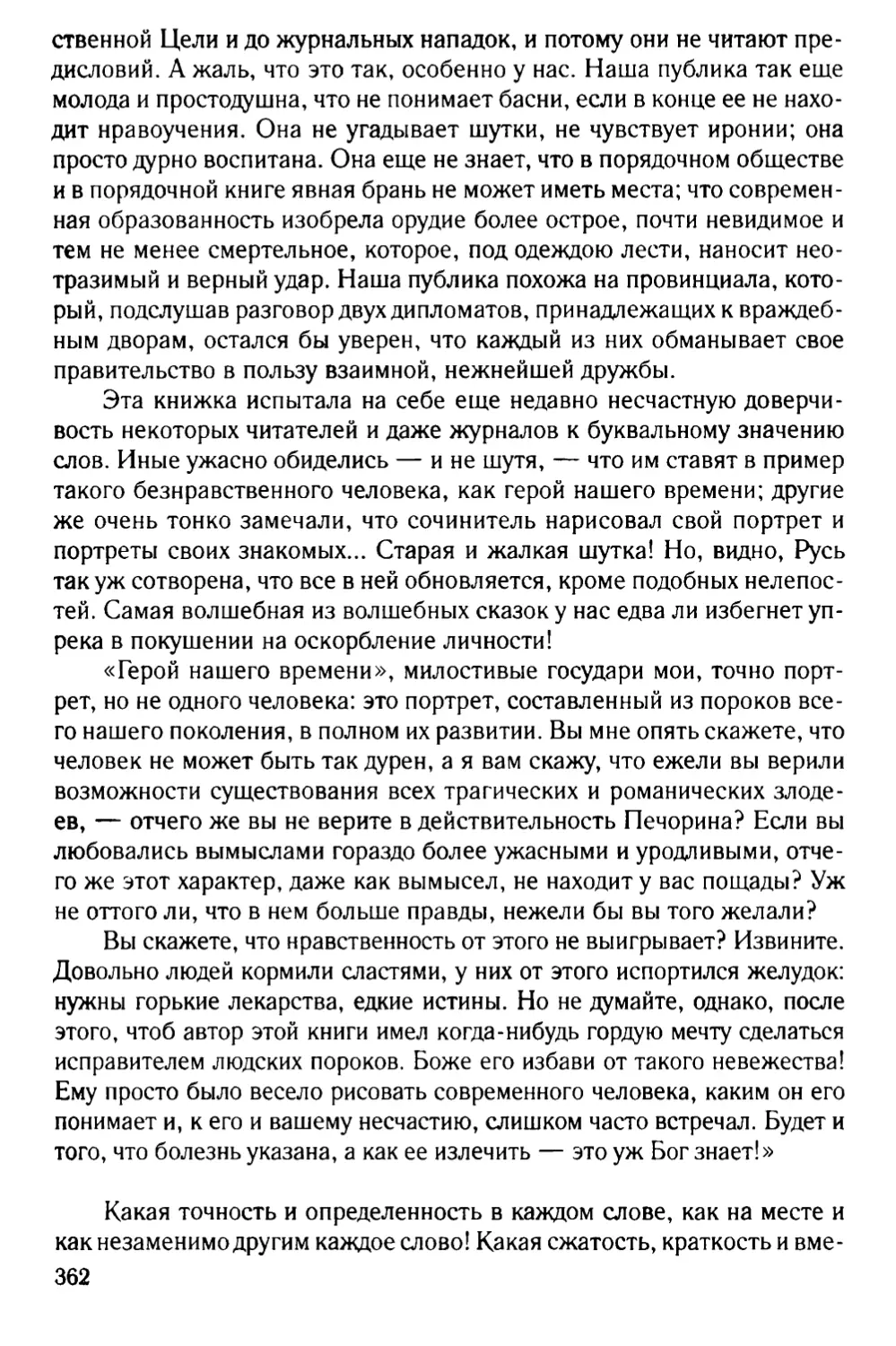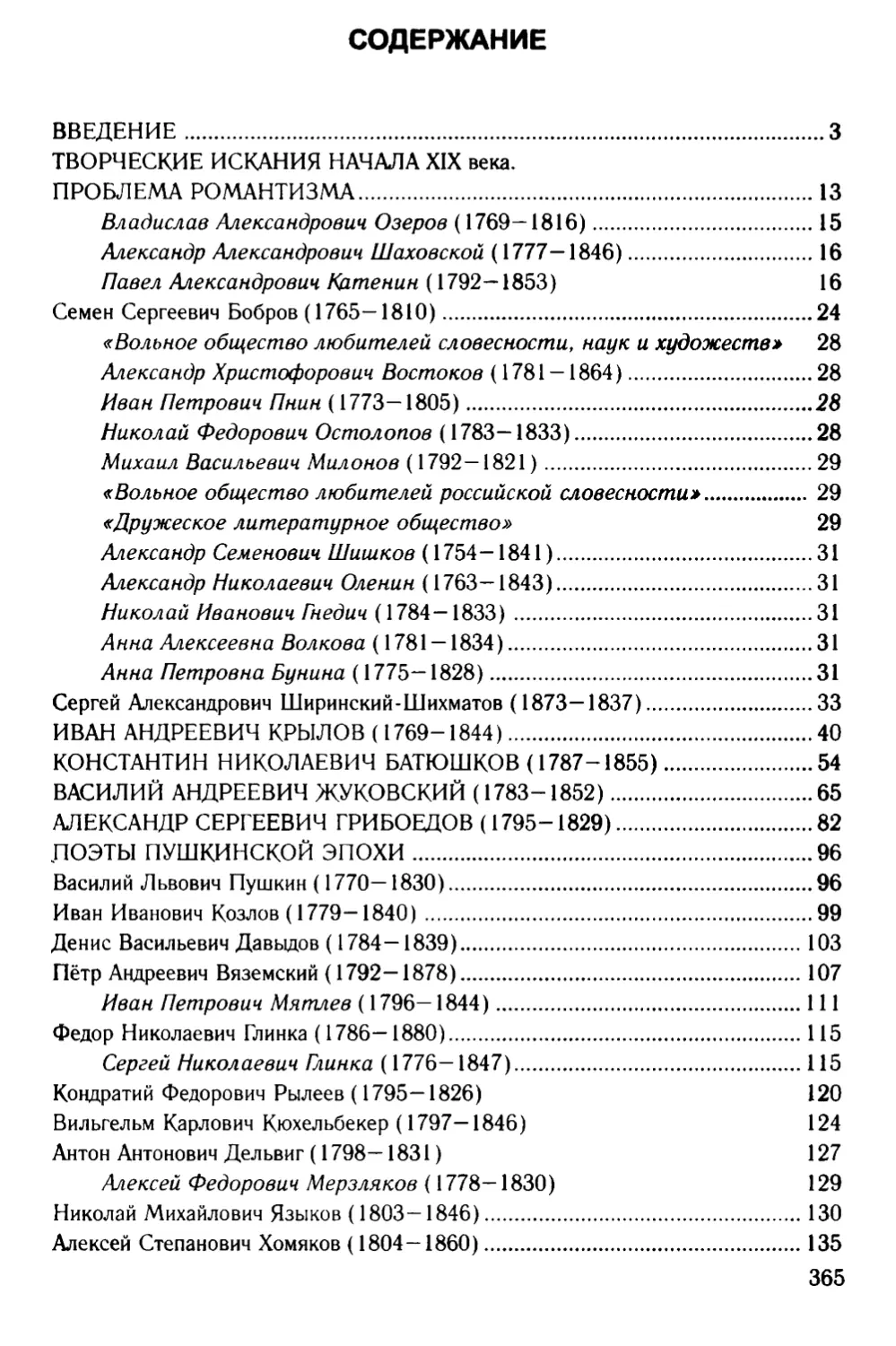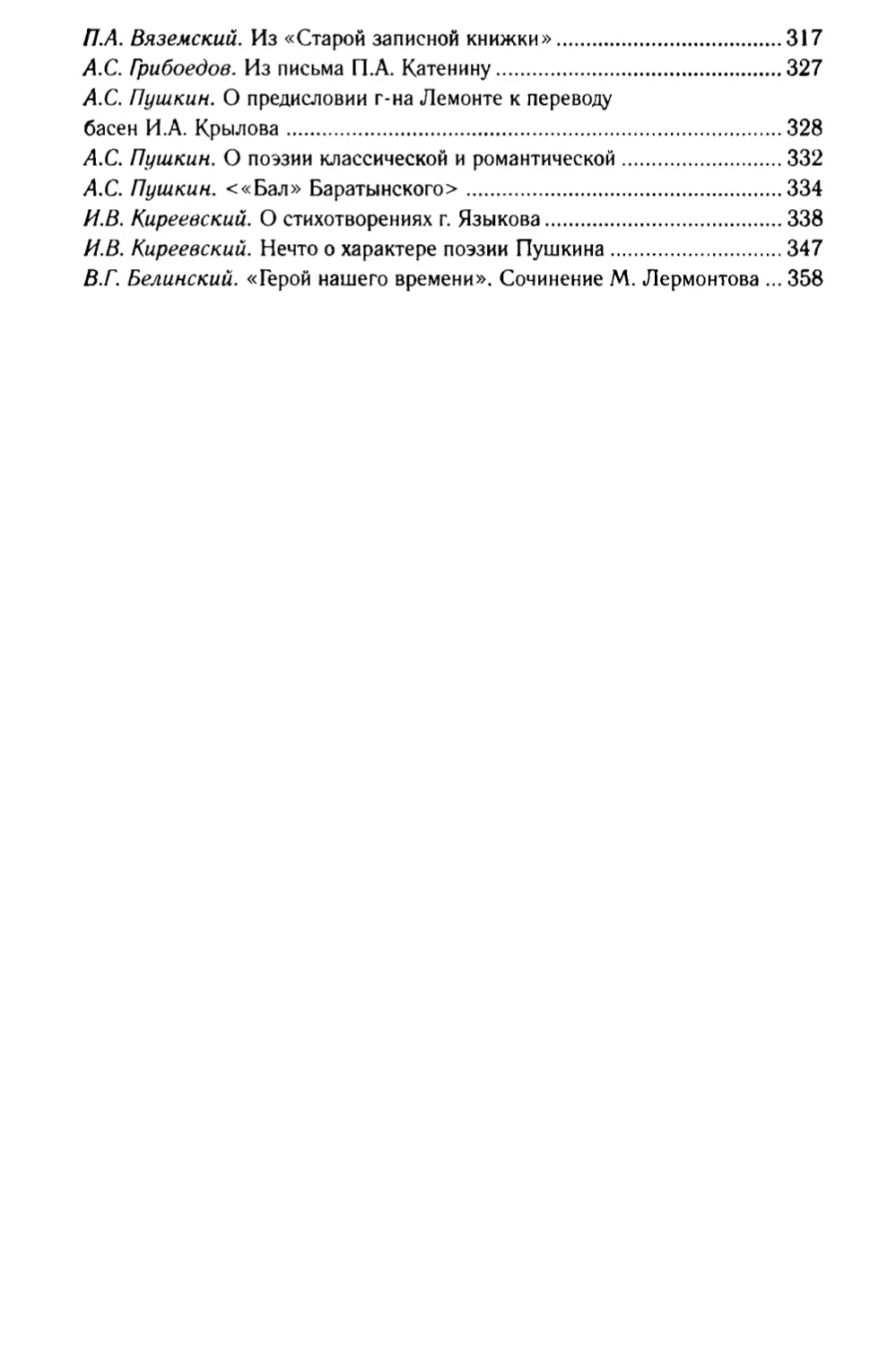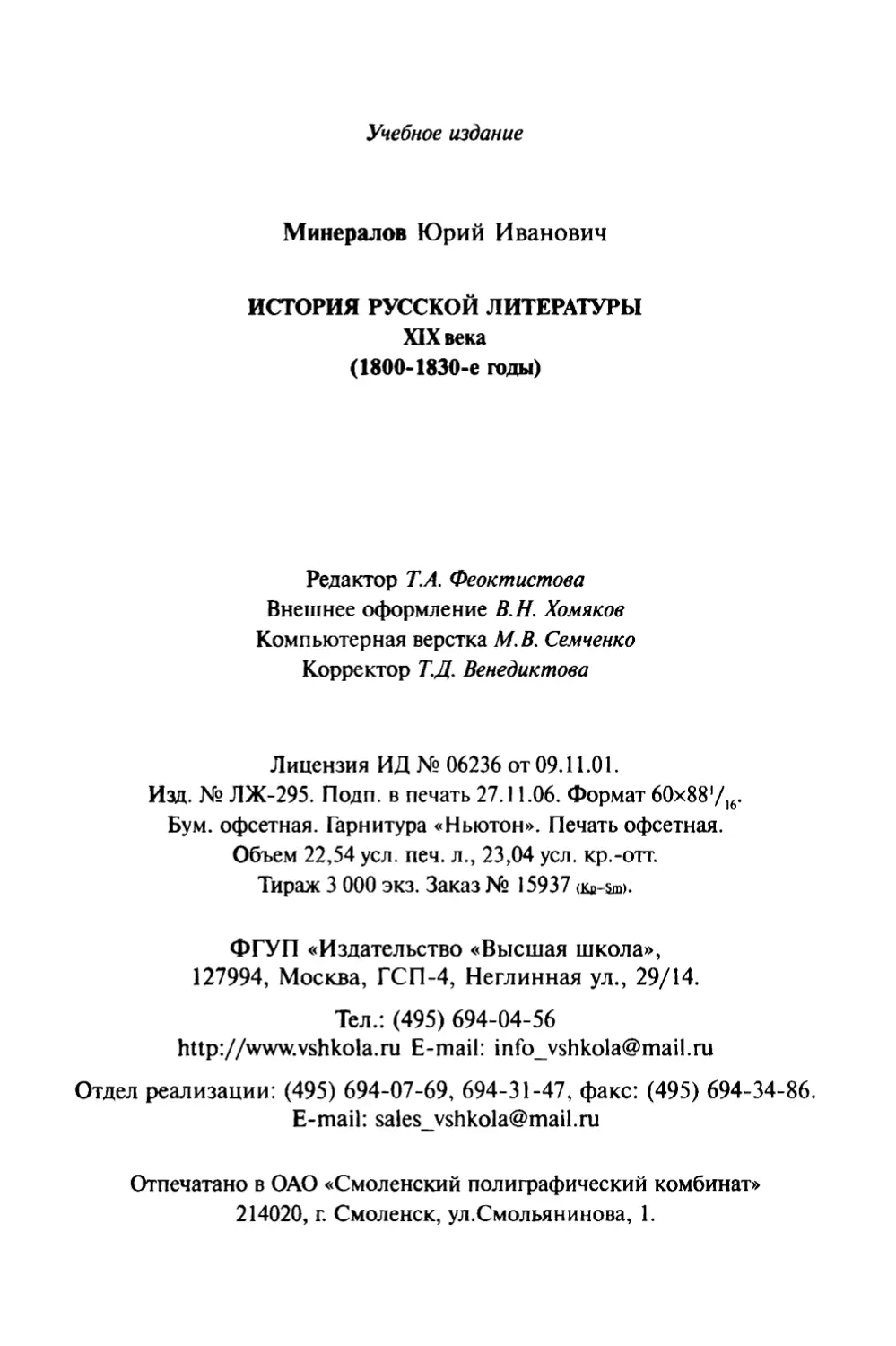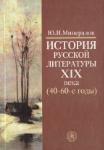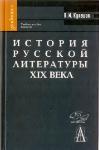Теги: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран учебное пособие история русской литературы
ISBN: 978-5-06-005701-0
Год: 2007
Текст
•• "vi;
3§.vei.
века
1800-1830
годы
Ю. И. Минералов
ИСТОРИЯ
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
XIX
века
1800-1830
годы
Допущено
Учебно-методическим объединением
высших учебных заведений Российской Федерации
по образованию в области литературного творчества
в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 052600
«Литературное творчество»
Москва
«Высшая школа» 2007
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос-Рус)
M 62
Во внешнем оформлении использованы фрагменты произведений
O.A. Кипренского «Портретлейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича
Давыдова» (1809) и К.П. Брюллова «Всадница» (1830)
Рецензенты:
кафедра литературы Сургутского государственного педагогического университета
(зав. кафедрой доц. НА. Дворяшина)\ академик РАН, проф. ПА. Николаев.
Минералов, Ю.И.
M 62 История русской литературы XIX века (1800—1830-е годы):
Учеб. пособие/Ю.И. Минералов. - М: Высш. шк., 2007. - 367 с.
ISBN 978-5-06-005701-0
Учебное пособие по курсу истории русской литературы XIX в. охватывает
творчество классиков: В.А.Жуковского, К.Н. Батюшкова, И.А. Крылова,
A.C. Грибоедова, A.C. Пушкина, В.Ф. Одоевского, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова,
Е.А. Боратынского. Подробно и интересно рассказывается о литературных
сообществах эпохи: «Беседе любителей русского слова» и «Арзамасе». Творчество
второстепенных писателей рассматривается в главах «Поэты пушкинской эпохи»,
«Прозаики пушкинской эпохи» и «Романтики лермонтовского времени».
Для студентов вузов, преподавателей средних школ и колледжей.
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2 Рос-Рус)1
ISBN 978-5-06-005701-0 © ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2007
Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства «Высшая
школа», и его репродуцирование (воспроизведение) без согласия издательства запрещено.
Введение
В 1800—1830-е годы сформировалась та великая литература, ко-
торая в следующий период была продолжена Л.Н. Толстым, И.С. Тур-
геневым, Ф.М. Достоевским и др., не просто выведшими ее на евро-
пейские просторы, но обеспечившими русской литературе тот статус
всемирного лидера, который затем в конце XIX в. был сохранен и упро-
чен благодаря творчеству А.П. Чехова, И.А. Бунина, A.M. Горького и
др., а в XX в. —^ также М.А. Шолохова, М.А. Булгакова и др.
О литературе 1800—1830-х годов написано чрезвычайно много.
Данный период, нередко именуемый «золотым веком» русской лите-
ратуры, связанный с деятельностью A.C. Грибоедова, A.C. Пушкина,
Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова и других классиков закономерно при-
влекал и привлекает внимание филологов.
В начале XIX в. Россия, уверенно развивавшаяся и набиравшая
государственную мощь на протяжении XVIII столетия (со времен по-
беды Петра I в Северной войне над шведами), вступила в полосу опас-
ных катаклизмов. В Европе впервые после разгромленного Петром
шведского короля Карла XII появился агрессор, энергично захватывав-
ший одну страну за другой. Им был первый консул революционной
Французской республики Наполеон Бонапарт, объявивший себя не
королем, а императором (по образцу «солдатских императоров» древ-
него Рима) и короновавшийся 2 декабря 1804 г. в соборе Нотр-Дам в
Париже.
Были годы первых раскопок Помпеи и большой моды во Франции
на все древнеримское, начавшейся еще во времена республики с под-
ражания Бруту, Катилине, братьям Гракхам и тому подобным римским
«революционерам». По всей Европе дворцы уставлялись вазами с вы-
тесненными по глине или алебастру рисунками на античные мифологи-
ческие темы, масляными лампами, треножниками и иными подобными
стилизованными под помпейские археологические находки предмета-
ми. Были сняты парики, носившиеся в XVIII в., и даже в России парик-
махеры завивали дворянские головы по образцу и подобию голов на
фресках и мозаиках, открытых в Помпее и Геркулануме.
Французскому народу наполеоновская пропаганда разъясняла, что
революция продолжается, и император Наполеон теперь неким обра-
зом персонифицирует ее в самом себе. Ранее, еще на заре французс-
кой революции, было громогласно заявлено, что она должна обойти
весь мир. Коронованный Наполеон энергично (и первоначально успеш-
но) продолжил мировую революционную экспансию. В его армии про-
!• 3
должали царить антихристианские и атеистические умонастроения, ох-
ватившие после революции Францию. Так, это была единственная в
Европе армия того времени, не имевшая в своем составе священников.
В 1805 г. армия Наполеона напала на Австрию. На помощь ей, в
соответствии с союзническими обязательствами, из России был послан
корпус под командованием М.И. Кутузова. Австрийские события с боль-
шой исторической точностью описаны в первом томе романа Л.Н. Тол-
стого «Война и мир»1 После того, как командование взял на себя при-
бывший к армии молодой и не имевший военного опыта царь
Александр I, русские и австрийские войска были неожиданно разбиты
Наполеоном под Аустерлицем (ныне г. Славков)2.
Это первое за десятки лет крупное военное поражение было весь-
ма болезненно воспринято российским общественным сознанием. Од-
нако аустерлицкая катастрофа заставила Россию сосредоточиться, про-
будила в армии и народе волю к победе, и когда в 1812 г. Наполеон
рискнул в ночь с 22 на 23 июня напасть на Россию, он был к концу
ноября, после ожесточенной борьбы, изгнан за пределы нашей Роди-
ны, а его «Великая армия» рассеяна и в основном уничтожена. 31 мар-
та 1814 г. русское командование приняло капитуляцию Парижа3. Вто-
рично русские войска вошли в Париж после «стадией» — начавшейся
1 марта 1815 г. попытки реванша со стороны Наполеона и его последу-
ющего разгрома при Ватерлоо.
Известно, что на обратном пути в Россию наши войска проходили
через триумфальные арки с многообещающей надписью: «Награда в
Отечестве!»
В форме народной благодарности награда действительно имела
впоследствии место. Награждения как таковые тоже коснулись ряда
военнослужащих — преимущественно офицеров (в особенности гене-
ралитета), но далеко не всех героев войны. Однако не подлежит сомне-
нию, что деятельность широко распространившихся вскоре тайных об-
ществ была спровоцирована не личными обидами их участников. За этим
усматривается сложная реакция части военной молодежи на события
1812-1814 гг.
Русские воины ликвидировали во Франции военную диктатуру Бо-
напарта и восстановили монархию. Восстановили они монархическое
1 См. подробно: Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40—
60-е годы). М., 2003.
is i 2 См.: Минералов Ю.И. Аустерлицкие туманы//Новая Россия. 1994, № 3—4.
3 См.: Минералов Ю.И. Генерал Мороз (о войне 1812 года)//Литературная
Россия. 2003. №37; он же. Капитуляция Парижа//Новая Россия. 1995. № 4.
4
правление и еще в нескольких европейских странах, захваченных Напо-
леоном. Но хотя они не наблюдали ни во Франции, ни в других освобож-
денных странах примеров существующего республиканского правле-
ния (республика давно была задавлена Наполеоном), конституционные
и республиканские умонастроения после возвращения из загранично-
го похода вспыхнули в гвардейской и армейской среде. В немалой мере
такого рода умонастроения провоцировались и подогревались в масон-
ских ложах, членами которых становилась изрядная часть офицерско-
го корпуса, привлекаемая атмосферой романтической таинственности,
сопутствовавшей деятельности лож. Так или иначе, данные умонастро-
ения разрешились в декабре 1825 г. знаменитым «восстанием декаб-
ристов» на Сенатской площади в Петербурге и восстанием Черни-
говского полка под руководством СИ. Муравьева-Апостола на юге
России (полк был расстрелян из пушек, когда в конце концов смело
пошел по открытому месту в лобовую атаку на окружившие его много-
численные верные правительству войска).
Декабристы, многие из которых были молодыми аристократа-
ми, наказаны молодым царем Николаем I с небывалой жестокостью:
пять декабристов казнены (среди них далекий от военных дел поэт
К.Ф. Рылеев), целый ряд участников движения оказались на бессроч-
ной каторге, другие были приговорены к различным срокам каторги в
Сибири. Разжалование в солдаты и ссылка в действующую армию на
Кавказ считались весьма мягким наказанием.
Дворянское общество было потрясено этими событиями и в массе
своей сочувствовало «страдальцам». Николай I учредил в 1827 г. кор-
пус жандармов и стал править жесткой рукой, наложив узду на все,
включая и литературу. Часть общества относилась к этому с понима-
нием, как к тяжелой необходимости — средству пресечения деструктив-
ных веяний, но в основном писатели яростно противились цензурным
ограничениям и иным формам резко усилившегося государственного
контроля за их деятельностью.
Эпоха романтизма в литературе и несловесных искусствах глубоко не
случайно хронологически совпала с вышеупомянутыми историческими
событиями. Романтизм соответствовал единому культурному стилю
эпохи и был его порождением1. Дух романтизма пронизывал всю совре-
менную культуру, так или иначе преломляясь и в искусстве, и в моде, и в
стиле мышления деятелей этого времени, и в бытовом поведении людей.
1 Понятие «культурного стиля» эпохи и социальной среды введено академи-
ком П.Н. Сакулиным. См., напр.: Сакулин П.Н. Филология и культурология/ Сост.
Ю.И. Минералов. М., 1990.
8
Wè Так, например, романтическая гусарская лирика Д.В. Давыдова не
содержала в изображаемых картинах особого литературного «наигры-
ша»: она вполне отражала тот дух молодечества, который реально был
широко распространен в тогдашней гусарской среде. Романтическая
мистика других писателей также не была чисто литературным явлени-
ем: в самом дворянском быту того времени были популярны мистичес-
кие веяния. Да и участники вышеупомянутого движения декабристов, с
другой стороны, находились в типично романтическом отрыве от дей-
ствительности — что и привело их к немедленному поражению при
первой попытке реализовать свои чаяния.
iftf С характером эпохи приходится связывать и широко распростра-
ненные среди молодежи того времени мечты повторить в своей соб-
ственной жизни и карьере небывалый взлет простого офицера Бона-
парта. Эти мечты не были изжиты в обществе и после того, как именно
русская военная молодежь, что называется, собственными руками раз-
давила Бонапарта как опасного и жестокого врага своей Родины, на
практике развенчав мифы о «гениальности» и «непобедимости» этого
удачливого военно-политического авантюриста.
Эпоха романтизма породила особый тип личности. Достаточно на-
помнить, что именно люди этого типа («могучее, лихое племя», по вы-
ражению М.Ю. Лермонтова) с поразительной храбростью сражались
и гибли в 1812 г. под Смоленском и Бородино. Умудренному годами
«реалисту» М.И. Кутузову не раз стоило большого труда удержать своих
горячих генералов от самых безрассудных намерений без должной под-
готовки дать «решительное сражение» превосходящим силам францу-
зов... В более позднюю эпоху трудновообразимы и напыщенно-патети-
ческие — эмоциональные, но довольно бессодержательные — речи,
которыми, однако, успешно «зажигал» своих солдат и офицеров перед
сражениями Наполеон. Сюда относится и повседневное театрализован-
ное поведение Бонапарта, ныне озадачивающее изучающего историю
человека своей откровенной фальшью.
Впоследствии вскормленный данной эпохой человеческий тип вы-
зывал неоднократные насмешки потомков-прагматиков, воспринимав-
ших его внеисторически:.деятелей эпохи романтизма искренне не по-
нимали уже люди 1840-х годов, а критики-шестидесятники, подобные
Д.И. Писареву и В.А. Зайцеву, откровенно над ними глумились. Но ро-
мантики 1800—1830-х годов до сих пор поражают чистотой и благо-
родством своих порывов, а также и беззаветностью личного героизма1.
1 Литературным примером этого человеческого типа может послужить стар-
ший граф Турбин в повести Л.Н. Толстого «Два гусара».
6
Для историка литературы 1800—1830-е годы представляют чрез-
вычайно ответственный период. Велика важность постижения общих
закономерностей, управлявших на его протяжении литературным раз-
витием. Но поистине огромное значение имеет объективный филоло-
гический анализ творчества тех великих или просто крупных писате-
лей, которые работали в эти годы.
С одной стороны, перед нами та художественная эпоха, в которой
основные писательские репутации давно и бесповоротно выяснены.
С другой стороны, здесь время от времени наблюдаются претендующие
на сенсацию попытки частичного «пересмотра» устоявшейся «систе-
мы ценностей»1. Вследствие этого приходится подчеркнуть, что при на-
писании истории литературы 1800— 1830-х годов необходима соразмер-
ность в подаче материала. Оригинальничать, «выпячивая» те или иные
имена и произведения (вопреки тому, что ранее выяснено в их отноше-
нии научной традицией), в высшей степени некорректно именно пото-
му, что перед нами «золотой век», эпоха классиков.
Неизученность тех или иных реальных фактов мешает пониманию
как литературного периода в целом, так и характера деятельности того
или иного принадлежавшего к нему художника. Не менее мешают вер-
ному осмыслению изучаемого случаи подмены некоторыми пишущими
о литературе авторами объективного знания различного рода «игрой
слов» и игрой понятий. Такие случаи в истории русской литературы
XIX в. наиболее широко распространены именно применительно к
1800—1830-м годам — очевидно, в силу особого богатства, особой
яркости (и, как следствие, огромной притягательности) данной куль-
турно-исторической эпохи.
В советские годы непомерно и искусственно раздувался, например,
вопрос о влиянии на литературу интересующего нас периода движения
декабристов. Не обсуждая здесь силы влияния данного движения на
политическую историю России, приходится, однако, напомнить, что
среди «поэтов-декабристов», помимо К.Ф. Рылеева, Ф.И. Глинки и
В.К. Кюхельбекера, не было выдающихся по уровню личного дарова-
ния художников слова (а внятные и типично «декабристские» граж-
данско-политические мотивы в поэзии характерны для Рылеева, но в
несравненно меньшей степени для Глинки и Кюхельбекера).
1 Например, в 1990-е годы можно было встретиться с призывами к некоему
«восстановлению справедливости» в отношении личности и творческого наследия
Ф.В. Булгарина, не нашедшими, впрочем, поддержки в филологической среде по
причине отстутствия каких-либо новых фактических данных о человеческом обли-
ке, а также об уровне творческих притязаний сего пушкинского современника.
7
Свойственный советскому литературоведению подход к литерату-
ре прежде всего как одной из форм общественного сознания (то есть
идеологии) имел своим следствием то, что ее нередко вообще превра-
щали просто в повод для рассуждений о революционных ситуациях,
классовой борьбе, крепостном праве и т. п., сопровождаемых приме-
рами из художественных произведений, делавшихся тем самым просты-
ми иллюстрациями к социологическим и публицистическим построе-
ниям. Специфика литературы как явления словесного искусства при
этом понятным и естественным образом отодвигалась куда-то на вто-
рой план1
Вряд ли глубже постигается эта специфика и тогда, когда литера-
тура 1800— 1830-х годов служит тем или иным авторам средством ил-
люстрирования (или, что тоже случается, сферой чисто механического
приложения) тех или иных концепций, не связанных с идеологией как
таковой, но тоже носящих нефилологический характер. Это могут быть
концепции маститых ученых, прославившихся в качестве философов,
историков, психологов и т. п. Однако при прямолинейном переносе в
сферу филологии их понятия и термины оказываются вырванными из
контекста, в котором употреблялись авторами, в результате чего не
только утрачивают свою действенность, но и, как правило, тем или иным
образом переосмысливаются2.
Кроме того, совершенно ясно, что по природе своей, будучи созда-
ны для других целей, они прямо не нацелены на постижение художе-
ственной стороны литературы.
Так обстоит дело, например, с литературными примерами, кото-
рые «подтверждают» те или иные излюбленные широковещательные
1 Наблюдение художественного произведения как некоего исторического или
политического текста, «документа эпохи», может быть, важно для социологов, пси-
хологов и т. п., но для филолога, для литературоведа важна художественная суть
произведения.
2 Слова, подобные «модальности», «дискурсу», «концепту», «нарративу»,
«нарратологии» и т. д. и т. п., употребляемые вне органичного для них контекста,
начинают звучать нечетко в смысловом отношении — но одновременно начинают
звучать с той ложной многозначительностью, которая иногда помогает уйти от ре-
ального филологического наблюдения словесного художественного текста.
Также несомненно малопродуктивны (и, если быть откровенным, часто по-
просту маскируют личное неумение филологически анализировать реальную струк-
туру словесного художественного текста) встречающиеся сегодня попытки удив-
лять читающую публику терминами из области психоанализа, философии
экзистенциализма и т. п.
8
идеи какого-либо исследователя, касающиеся типологии культур, се-
миотики и т. д. В результате может быть продемонстрирована широта
личных воззрений и эрудиции, но литература как искусство слова «вы-
валивается» из исследовательской «сети» уже именно в силу излиш-
ней широты ячеек этой «сети»1
Небесспорные результаты дает порою также перенесение на твор-
чество тех или иных писателей 1800—1830-х годов ярких филологи-
ческих концепций, созданных применительно к иным феноменам и не
рассчитывавшихся разработавшими их филологами на подобное пере-
несение. В виде примера можно указать на приложение отдельными
авторами к произведениям Н.В. Гоголя концептуального понятия
М.М. Бахтина «карнавал», характеризовавшего у самого Бахтина оп-
ределенные явления в творчестве Франсуа Рабле и народной культуре
средневековья и Ренессанса2.
Можно указать и еще на целый ряд случаев, когда творчество рус-
ских писателей 1800—1830-х годов служило «местом приложения»
различных систем взглядов, нередко умозрительных и не всегда изна-
чально имевших отношение именно к этому творчеству. В подобных
случаях литература как художественное явление не получает должного
научного описания, и наблюдается закономерное «сопротивление ма-
териала» прилагаемой к нему концепции.
Среди различных примеров обсуждаемого рода отдельно следует
указать и на имеющие сегодня характер настоящей моды попытки под
эгидой литературоведения судить о художественной литературе с рели-
гиозной точки зрения — обычно, по самоощущению авторов, «с пози-
ций Православия».
Речь не о наблюдениях литературоведов над художественными
функциями тех или иных образных и сюжетных построений писате-
лей, восходящих к Священному Писанию, житиям святых или свято-
отеческому наследию. Подразумеваются попытки пишущих о литера-
туре мирян уверенно умствовать, православный или «неправославный»
характер носит что-то в писательском творчестве, — с последующим
1 К отмеченным недостаткам подобных подходов следует прибавить потенци-
ально возможный субъективизм тех или иных внешне увлекательных «культуроло-
гических» идей — например, основанные на сильном преувеличении некоторых
реальных фактов существующие ныне теории «игрового поведения», якобы охва-
тившего русскую культуру 1800—1830-х годов.
2 «Карнавал» (в особенности в 1970—1980-е годы) некоторые подражатели
Бахтина усматривали в самых неожиданных местах. Было предпринято, например,
глубокомысленное «исследование» «Октябрьская революция как карнавал».
9
осуждением кого-то за что-то. Помимо того, что такой подход к лите-
ратуре носит явно не литературоведческий характер, его следовало бы
целиком адресовать компетенции священнослужителей (которые как
раз относятся к литературе с мудрой деликатностью и, помимо редких
конкретных случаев, избегают произносить «осуждающее слово»).
Как ни обидно для кого-то это может прозвучать, но вышеоха-
рактеризованные попытки находятся в явном родстве со стремлени-
ем литературоведов советского времени говорить о литературе «с мар-
ксистских позиций». Притом ракурс воззрения на писательское
творчество в обоих случаях заведомо нефилологический. Святооте-
ческие цитаты, бессознательно или осознанно используемые в спеку-
лятивных целях, по ряду понятных причин вызывают даже гораздо
более острое чувство протеста, чем использовавшиеся аналогичным
образом цитаты из политэкономических и философских трудов
К. Маркса и В.И. Ленина. Что до ученой плодотворности того и дру-
гого, она более чем сомнительна.
В центре внимания автора книги «История русской литературы
XIX в. (1800-1830-е годы)» художественно-эстетическая сторо-
на литературы. На ее постижение нацелен словесно-текстовой ана-
лиз литературных произведений и примененных в них писателями
конкретных приемов литературного мастерства. Эти приемы обуслов-
ливают взаимные отличия писательских стилей, личных творческих
решений при разработке разными авторами сюжетов (иногда внешне
похожих) и т. п., а в историко-литературной перспективе — взаимные
отличия литературных традиций. Первоочередное внимание к ним вы-
текает из задач литературоведения, составной части филологии — на-
уки о культуре в ее словесно-текстовом выражении.
Многогранный мир литературного произведения может привлекать
к себе социологов, психологов, философов и т. д. и т. п., ставящих пе-
ред собой какие-то свои задачи, для филолога либо нерелевантные, либо
прикладные. Филолога литература интересует как особое словесное
искусство, словесность.
Выражения «художественная словесность» и «художественная
литература» синонимичны. В 1800— 1830-е годы они оба широко упот-
реблялись (впоследствии «литература» в этом плане сильно потесни-
ла «словесность»). Однако термин русского национального происхож-
дения «словесность» содержит в себе ясный этимологический образ,
указывающий, что им подразумевается искусство художественного сло-
ва и словесного текста — как зафиксированного на бумаге, так и зву-
чащего устно. Заимствованный из западных языков термин «литерату-
10
pa» отталкивается от «литера» (буква) — то есть односторонне указы-
вает лишь на нечто книжное, бытующее на бумаге, неоправданно су-
жая тем самым круг ассоциаций.
Намерение вести систематический анализ реального словесно-
текстового построения произведений литературы обязывает регуляр-
но «предоставлять слово» изучаемому писателю-художнику. Его темы
и идеи «растворены» в произведении и от реального текста неотдели-
мы. Как следствие, текст анализируемого произведения как авторское
словесно-образное построение должен по мере необходимости приво-
диться и комментироваться. Когда в соответствии с методиками струк-
туралистов 1970-х годов текст условно расслаивался на кантовы анти-
номии (впрочем, переименованные в «оппозиции» и графически
отображаемые при помощи специальных двуострых стрелок), то он
лишался своей реальной художественной структуры, обезличивался,
утрачивая приданную ему художником индивидуально-стилевую специ-
фику1.
Огромная роль сюжета (особенно в прозе) никем не ставится под
сомнение. Однако, если судить строго, объектом литературоведческо-
го анализа должен быть не просто сюжет. Сюжет легко отделим от сло-
весного текста как такового (чем широко пользуется, например, кине-
матограф при экранизации литературных произведений ). Как следствие,
филологическому изучению подлежит не просто сюжет, но, в первую
очередь, его словесное воплощение.
Аналогично следует высказаться, например, о так называемом
«психологизме» внутреннего облика образов действующих в сюжете
героев (литературных персонажей). Непосредственный объект фило-
логического анализа — все же словесное воплощение психологичес-
кой характерности образов, а не психология личности как таковая (пос-
ледняя не имеет прямого отношения кусловному художественному миру
произведения литературы, да и описывается в рамках совсем другой
науки).
Велико также значение сопоставления (при наличии возможнос-
ти) вариантов текстов (с целью выявить направленность и основные
черты особого хода мысли, свойственного именно данному автору-ху-
дожнику как творческой личности).
Нет необходимости напоминать о различии подходов к анализу про-
изведений прозы и поэзии. Словом, текст всякий раз требует «индиви-
дуального подхода» в зависимости от своих уникальных особенностей.
1 Стиль здесь и далее понимается в соответствии с книгой: Минералов Ю.И.
Теория художественной словесности. М., 1999.
11
Помимо всего сказанного в издании учебного типа проводимый
анализ должен быть целенаправленным, ясным по ходу и наглядным по
результатам. «Рассыпаться в ученостях» перед младшим коллегой, ас-
пирантом, студентом, учащимся и т. д. отнюдь не значит что-то всерьез
литературоведчески углублять1
1 Книга «История русской литературы XIX века ( 1800—1830-е годы)» входит
в авторский цикл учебников и учебных пособий, в рамках которого уже опублико-
ваны и применяются в вузовской практике «Теория художественной словесности»,
«История русской словесности XVIII века», «История русской литературы XIX века
(40—60-е годы)» и «История русской литературы: 90-е годы XX века» Ю.И. Ми-
нералова, а также «История русской литературы XIX века (70—90-е годы)» и «Ис-
тория русской литературы XX века (1900 — 1920-е годы)» Ю.И. Минералова и
И.Г. Минераловой.
ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ НАЧАЛА XIX века.
ПРОБЛЕМА РОМАНТИЗМА
Реальная исторически-конкретная картина литературного разви-
тия, и то, что говорят о ней на своем условном языке литературоведы,
как известно, порой имеют немалые объективно обусловленные отли-
чия.
Есть примеры, когда сами писатели, писательские группировки
именуют себя определенным образом, и уже современные им читатели
воспринимают и осмысливают их творчество в духе таких наименова-
ний («романтизм», «реализм», «символизм», «футуризм» и т. п.).
В других случаях принятые ныне в литературоведении наименования
возникли намного позже, чем реально жили и действовали в литерату-
ре художники, к которым они относятся.
Так, деятели «барокко» и «классицизма» не имели понятия, что
они деятели барокко и классицисты. Термин барокко родился в конце
XIX в. (и первоначально применительно к стилю архитектуры). Термин
классицизм тоже возник лишь в XIX в. (в России впервые употреблен,
видимо, в 1823 г. в статье приятеля Пушкина критика О.М. Сомова
«О романтической поэзии»). В обоих случаях сменились многие поко-
ления, прежде чем деятелей литературы далекого прошлого стали име-
новать тем или другим вышеупомянутым образом1.
В XVIII в. писатели и читатели знали, что представляет собой твор-
чество Сумарокова как таковое, но не знали, что такое классицизм и,
соответственно, что Сумароков — классицист. И ученики Сумарокова
1 С подобными ситуациями можно встретиться не только в истории литерату-
ры, но и в истории человечества как таковой. Достаточно напомнить, что термин
«Византия» возник через много времени после гибели ныне именуемого так госу-
дарства (жители которого никак не предполагали, что века спустя родится и будет
принято в ученом мире некое слово «Византия»), и современники именовали их не
«византийцами», а «ромеями», то есть римлянами, поскольку государство в ре-
альности называлось Восточной Римской империей).
13
М.М. Херасков, В.И. Майков, A.A. Ржевский и другие еще восприни-
мались просто как его последователи, а не как группа «русских клас-
сицистов»1.
В первые годы XIX в. по-прежнему никто еще не имел понятия,
что такое классицизм. Но о внутреннем единстве, сплочавшем писате-
лей-су мароковцев в целостное сообщество и понятном каждому из них
самих, читатели спустя десятилетия знали и помнили уже достаточно
редко. А в чисто творческом плане читатели и театральные зрители на-
чала XIX в. могли ощущать это единство в той мере, в какой сумаро-
ковцы в своих произведениях преломили программу, изложенную их
учителем Сумароковым в двух известных стихотворных эпистолах
(о стихотворстве и о русском языке).
Широкое применение термина «классицизм» началось лишь в
1840-е годы у критиков поколения В.Г. Белинского. Это применение
быстро стало неопределенно-расширительным, то есть некорректным.
«Классицистами» без каких-либо ясных мотивировок назывались ра-
ботавший в литературе задолго до сумароковцев Кантемир, работав-
ший в ней намного позже Державин и так почти все писатели XVIII в.
(в том числе даже заклятые литературные враги Сумарокова и сумаро-
ковцев Тредиаковский и Ломоносов)2.
Это похоже на то, как тех или иных литераторов нашего XXI в. ста-
ли бы именовать «футуристами»3. Увлечение писателя позднейших вре-
мен творчеством и литературными приемами далеких предшественни-
ков, конечно, может иметь место, но при этом писатель останется
человеком другой эпохи, иного мировидения и пр., то есть превратить-
ся в «классициста» или «футуриста» заведомо неспособен. На самом
деле возможно лишь субъективное парафразирование (обычно в фор-
ме стилизации) разрозненных черт литературы прошлых времен4.
1 См. подробнее: Минералов Ю.И. История русской словесности XVIII века.
М., 2003.
2 Лишь в конце XVIII в., по этим представлениям, неведомо откуда возникали
«сентименталисты», которые уже признавались не классицистами. (Соответственно
о барокко и о державинской эпохе как особом периоде литературного развития речи
еще вообще не шло. )
3 Подобное, кстати, иногда делается в современной критике. Но, во-первых,
обычно так поступают в порядке сравнения, а во-вторых, при этом общепонятны
образный характер и условность таких наименований.
4 Последнее наблюдается, например, в деятельности современных отечествен-
ных постмодернистов (среди которых при этом пока не выявилось по-настоящему
крупных литературных дарований).
14
Классицизм, футуризм, символизм и др. были конкретно-исто-
рическими явлениями и ушли в прошлое вместе с временем, их поро-
дившим1
Рецидивами вышеупомянутого «безбрежного» понимания класси-
цизма приходится объяснять то, что в XX в. этот термин неоднократно
применялся рядом авторов к творчеству некоторых писателей времен
пушкинского детства и ранней юности, то есть к творчеству авторов,
живших и работавших в эпоху, когда настоящих классицистов уже дав-
но не было на свете — например, к творчеству драматургов и поэтов
ВА Озерова, A.A. Шаховского и ПА Катенина, поэта С.А. Ширин-
ского-Шихматова и других писателей (бывших современниками вели-
кого новатора Г.Р. Державина и русских сентименталистов Н.М. Ка-
рамзина и И.И. Дмитриева). Но если в начале XIX в. никакого
классицизма уже не было и быть не могло, то зато сентиментализм еще
реально существовал.
Сентиментализм — не нечто особое, а разновидность раннего
романтизма. Помимо чисто типологических оснований об этом свиде-
тельствует многое. На Западе данное обстоятельство проявлялось во
внутренней эволюции крупнейших романтиков: так, один из лидеров
немецкого романтизма Гёте начал с типично сентименталистских про-
изведений наподобие «Страданий юного Вертера». Заведомые, «эта-
лонные» русские романтики Батюшков и Жуковский — прямые пос-
ледователи, ученики сентименталиста Карамзина. Сами они проявили
чисто сентименталистские тенденции преимущественно в ранний пе-
риод творчества, далее найдя в рамках романтизма более соответство-
вавшие складу их дарования пути. Озеров, Шаховской, Катенин и др.
также были людьми своего времени, то есть никак не могли быть «клас-
сицистами».
Владислав Александрович Озеров (1769—1816) — драма-
тург, автор трагедий «Ярополк и Олег» (1798), «Эдип в Афи-
нах» (1804), «Фингал» (1805), «Димитрий Донской» (1807),
«Поликсена» (1809) и других произведений. В них автор высту-
пает как явный представитель русского романтизма, причем в
основном в его сентименталистском варианте. Однако как дра-
1 Так сложилось, что производные от слов «романтизм», «реализм» приобре-
ли распространение и упрощенное осмысление в быту (например, «он романтик»
или «он реалист» — как просто люди с определенным складом характера). Однако
со словом «классицизм» сходного положения не наблюдается, и оправдать анало-
гичным образом его расширительное применение все равно нельзя.
1К
матург, работавший в жанре трагедии, Озеров имел своими
объективными предшественниками, прежде всего, самого знаме-
нитого драматурга XV/// в. А.П. Сумарокова и его ученика Хераско-
ва (то есть классицистов). Художник не может успешно ра-
ботать вне традиции, развивает ли он ее как верный
последователь, оспаривает ли ее принципы или просто воспро-
изводит некоторые нравящиеся ему черты. Озеров ничего не знал
о слове «классицизм», но некоторые драматургические приемы
сумароковской школы (а также таких французских авторов, как
Корнель и Расин) явно сохраняли в его глазах привлекательность
и авторитет. Эти приемы, как, видимо, он верно считал, прида-
вали его трагедиям «патину старинности», вполне соответ-
ствовавшую их сюжетам. Отсюда и проистекают причины ас-
социирования творчества Озерова, жившего в эпоху романтизма,
с классицизмом.
Сценические постановки пьес Озерова породили в России на-
чала Х/Х в. целую актерскую школу (В. Каратыгин, Е. Семенова,
А. Яковлев и др.).
Князь Александр Александрович Шаховской (1777—
1846) — драматург, получивший известность в основном как ко-
медиограф; автор пьесы «Новый Стерн» (/805), осмеивавшей
слащавый сентиментализм, комедии нравов «Урок кокеткам,
или Липецкие воды» (1815), а также водевилей и пьес на исто-
рические сюжеты. С 1810 г. был действительным членом Акаде-
мии наук, а в /811 — 1815 гг. — членом «Беседы любителей рус-
ского слова». Влияние принципов драматургии Шаховского
ощутимо в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».
Павел Александрович Катенин (1792—/853) — поэт, ли-
тературный критик и театральный деятель, автор сюжетных
стихотворений «Певец», «Наташа», «Леший», «Убийца»,
«Ольга», «Инвалид Горев» и др., трагедии «Андромаха»
(1809— /8/9), написанной в соавторстве с A.C. Грибоедовым ко-
медии «Студент» (/8/7), а также переводов из Корнеля и Раси-
на. Участник боевых действий против Наполеона в 1812—
1814 гг.
Живя в эпоху романтизма, оспаривал его «модные» теории
и пропагандировал принципы старой драматургии, которыми ув-
лекся в результате своей переводческой деятельности. На прак-
тике стилизовал некоторые приемы классицистов.
16
Русский романтизм начала XIX в. был весьма разнообразным и
широкоохватным явлением. В советское время романтизм обычно раз-
деляли на «революционный» и «реакционный», или «консервативный»
(ранний Пушкин относился к первой, Жуковский со своими мистичес-
кими балладами попадал во вторую категорию). Это деление слишком
оценочно: в данном случае достаточно и правильно обозначать оба типа
романтизма по фигурам, сыгравшим роль общеевропейских лидеров,
как романтизм байроновский и гофмановский.
Однако если смотреть на русский романтизм еще и в плане генези-
са, то на раннем его этапе невозможно не вглядеться в такое современ-
ное сентиментализму (карамзинизму), но более раннее явление, какдер-
жавинская школа1. Державин, с 1783 г. быстро прославившийся
(вначале благодаря «Фелице»), на фазу опередил деятельность в лите-
ратуре Карамзина и карамзинистов. Соответственно новаторское об-
новление системы изобразительно-выразительных литературных
средств, обозначаемое обычно выражением «борьба с классицизмом»,
начал именно Державин. Этот мощный художник проторил для лите-
ратуры немало новых дорог, далеко не всеми из которых захотели или
сумели воспользоваться позднейшие русские романтики.
Если классицизм, реализм, натурализм и аналогичные им тече-
ния стремятся к воспроизведению действительности, то романтизм
сознательно и принципиально занимается совсем другим — ее пере-
созданием2. Такая творческая позиция естественно порождает самые
разнообразные литературные экстравагантности — необыкновенных
героев в необыкновенных обстоятельствах, сюжетные линии, разви-
вающиеся в вымышленных или экзотических землях, фантастику, гро-
теск и т. п.
Державин резко видоизменил и обогатил уже структуру самих сло-
весно-текстовых образов, составляющих базисную основу искусства
слова, — художественной словесности, литературы. «Смятенная» ре-
чевая образность Державина, присущая ему интонационная взвинчен-
ность в сочетании с лирической открытостью как нельзя лучше соот-
ветствовали принципам романтизма, который исповедовал внутреннюю
независимость личности, свободу и раскованность самовыражения,
культивировал всяческое проявление индивидуальности.
1 См. подробнее: Минералов ЮМ. История русской словесности XVIII века.
М., 2003.
2 Впрочем, классицизм не стремится к изображению внутреннего мира героев
и в этом смысле односторонен. Натурализм же избегает художественных обобще-
ний.
2—Минералов 17
н Отсюда понятно, почему Державина много раз пытались характе-
ризовать как предромантика (приставка «пред» при этом возникала
вследствие того, что по времени Державин в творчестве более чем на
поколение опережал фронтальное становление романтизма в русской
литературе). Но, если судить строго, художественная практика Держа-
вина не укладывается в прокрустово ложе однолинейных характерис-
тик типа «романтик» и «не романтик».
Поэт прихотливо сплавлял и мастерски перемешивал жанры и сти-
ли, в результате чего в его произведениях столь же небезосновательно,
как черты романтизма, находят, например, отголоски барокко. Иными
словами, творческую работу Державина отличало высокоразвитое
стремление к художественному синтезу, в котором он на столетие
опередил искания авторов Серебряного века. У Державина этот син-
тез не замыкается даже в рамках литературы, обретая характер син-
теза искусств, — о чем напоминает, например, его убеждение, пол-
ноценно реализовавшееся в собственной художественной практике, что
поэзия «по подражательной своей способности не что иное есть, как
говорящая живопись»1.
Сентименталистские тенденции в русском романтизме грани
XVIII—XIX вв. постепенно сменялись тягой романтиков к мистике либо
обрисовке экзотических образов в духе приобретшего огромную попу-
лярность на Западе Байрона2. Постепенно отходя от литературной сен-
тиментальности, русские романтики не переставали ощущать себя пре-
емниками Карамзина: их литературная группа «Арзамас» была именно
объединением карамзинистов.
Однако карамзинистам и их последователям была в высшей сте-
пени свойственна еще одна характерная тенденция, прямого отноше-
ния к романтизму не имеющая (до этого она проявилась у нас в середи-
не XVIII в. в творчестве классицистов-сумароковцев). Речь идет о
борьбе карамзинистов за «очищение языка» в литературе.
В филологии советского времени создание в начале XIX в. литера-
турного языка, послужившего образцом последующим русским писа-
1 Из книги Г. R Державина «Рассуждение о лирической поэзии, или Об оде»
(1811-1815).
Цит. по: Минералов Ю.И. История русской словесности XVIII века. С. 191.
О синтезе в Серебряный век см.: Минералова И,Г. Русская литература се-
ребряного века. Поэтика символизма. М., 1999.
<j; 2 Затем A.C. Пушкин занялся энергичной разработкой принципов реалисти-
ческого воспроизведения действительности (которое именовал, впрочем, «истин-
ным романтизмом»).
18
телям, как правило, однозначно связывалось с деятельностью A.C. Пуш-
кина. Тем интереснее, что современники и филологи XIX в. реформу
литературного языка связывали с именем его учителя Н.М. Карамзи-
на1. Исторически это было именно так. В то же время можно понять,
почему позже в сознании людей стала все более выдвигаться вперед
фигура Пушкина, а роль Карамзина сделалась как бы второплановой.
Русское общественное сознание по-своему закономерно ^переадресо-
вал л» Оушкушу языковые новгжвеления (даже заведомо карамзинские),
долгой простой гцжчине, что язык Пушкина оказался воплощен в более
художественно сильных текстовых образцах (произведениях)2.
Как бы оглядываясь назад и подводя итоги, В.К. Кюхельбекер пи-
сал в начале 1830-х годов:
«Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина, но, признаться,
мне бы не хотелось быть в числе его подражателей. <...> Мы, кажется,
шли с 1820 года совершенно различными путями, он всегда выдавал
себя (искренно или нет — это иное дело!) за приверженца школы так
называемых очистителей языка, — а я вот уже 12 лет служу в дружине
славян под знаменами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова»3.
Прежде чем перейти к вопросу о «дружине славян», вожди кото-
рой выше названы Кюхельбекером поименно, задержимся еще на «очи-
стителях языка», то есть карамзинистах.
Представления карамзинистов о языке (и в частности, о грамма-
тике) сформировались не без опоры на импортированную в Россию в
начале XIX в. и немедленно ставшую на некоторый момент модной ста-
рую французскую грамматику.
Специфической экстравагантностью русской филологической мыс-
ли было тогда увлечение «грамматикой Пор-Ройяля», на основе кото-
рой в начале 1810-х годов было издано (почти одновременно!) сразу
несколько учебных руководств (Л.Г. Якуба, И.Ф. Тимковского, Н.И. Яз-
вицкого и др.)4. Ф.И. Буслаев охарактеризовал позже предмет этого
увлечения как «ложное направление старинных, так называемых об-
1 См., напр.: Лавровский H.A. Карамзин и его литературная деятельность.
Харьков, 1866.
2 См. подробно: Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. М.,
1999.
3 Кюхельбекер В.К. Дневник// Русская старина. 1875. Т. 14. С. 83. W>t
-Hi- 4 См.: ЯкубЛ.Г. Курс философии: В 6 т. СПб., 1811 — 1814. Т. II. «Начертание
всеобщей грамматики»; Тимковский И.Ф. Опытный способ к философическому
познанию российского языка. Харьков, 1811; Язвицкий Н.И. Всеобщая филосо-
фическая грамматика. СПб., 1810.
2* 19
щих грамматик»1. Русская молодежь вынуждена была однако в 10-е
годы XIX в. прилежно изучать «старинную» (XVII в.) теорию.
Почему грамматика Пор-Ройяля «ожила» тогда в России (и в дру-
гих странах Европы)? Вряд ли это случайно: рецидивы увлечения фи-
лологов и философов ею случались позже на протяжении XIX столетия
еще не раз и продолжаются по сей день (напр., «чистая грамматика»
Э. Гуссерля, теория А. Марти, «порождающая грамматика» Н. Хомс-
кого и пр.). Видимо, определенные филологи разных времен вспомина-
ют про грамматику Пор-Ройяля в кризисные моменты — когда возни-
кает потребность в быстром качественном обновлении или радикальном
продвижении вперед существующей в их время теоретической грамма-
тики. Ведь «универсальная» («всеобщая», «философская») грамма-
тика Пор-Ройяля содержит в себе заманчивую попытку опереться на
«универсальные» для всех народов логические категории, «возвысив-
шись» над национальной спецификой языков как коммуникативных
систем. Возникнув во Франции XVII в., грамматика Пор-Ройяля орга-
нично вписалась в «культурный контекст» эпохи барокко — со свойст-
венным барокко как социально-историческому феномену научно-худо-
жественным складом теоретического мышления и сосредоточенностью
над поиском разного рода универсальных «ключиков» к явлениям при-
роды и человеческого мира2.
Универсалистские изыски филологов начала XIX столетия были
реакцией на реально обозначившийся теоретический тупик: несомнен-
но, имелась нужда в свежих грамматических идеях. Вряд ли случайна
синхронность моды на Пор-Ройяль и практически осуществлявшихся в
это время Карамзиным и его сторонниками опытов по обогащению лек-
сического (и частично синтаксического) строя русского языка за счет
«западных», импортируемых из французского и немецкого языков, лин-
гвистических ресурсов (в этом состояла часть их программы «очище-
ния» языка русской литературы).
Эти и иные опыты карамзинистов встретили оппозицию «дружи-
ны славян», как раз обостренно ощущавших национальную специфику
языка. Характер представлений тех и других о «языке и слоге» много-
1 Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959. С. 572.
2 См. подробнее: Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. М.,
1999.
Соответственно причину «воскрешения» грамматики Пор-Ройяля конкретно
в начале XIX в. естественно связывать со все тем же романтизмом: романтическо-
му мировидению тоже близки попытки близких к фантастике «универсальных»
решений.
20
кратно становился предметом анализа с самых разных точек зрения (ра-
боты H.A. Лавровского, Ю.Н. Тынянова, В.А. Десницкого, В.В. Ви-
ноградова и мн. др.). Из недавних исследователей данного вопроса
нельзя не отметить, прежде всего, А.И. Горшкова. Этот автор писал:
«Конечно, состояние русского литературного языка вообще и его син-
таксической системы в частности в "докарамзинскии" период отнюдь
не было столь плачевным, как стремились это изобразить "представи-
тели новой литературы" (т. е. Карамзин и его сторонники)»1. Присое-
диняясь к его наблюдению, мы хотим в данном случае заострить внима-
ние лишь на одном литературоведчески существенном моменте.
ь Когда писательские споры о «языке и слоге» разгорелись (если
условно датировать их начало выходом в 1803 г. в свет сочинения вож-
дя «дружины славян» A.C. Шишкова «Рассуждение о старом и новом
слоге российского языка»), то оказалось, что обе стороны не распола-
гают концептуально-теоретическим обоснованием по ряду обсуждае-
мых грамматических вопросов. Понимание «отношений русского язы-
ка к "славенскому" в обоих лагерях было весьма путаное и
сбивчивое»2.
Для успеха карамзинских «реформ языка и слога» большое значе-
ние имело то, что Карамзин действовал в основном не средствами тео-
рии, а собственным художественно-литературным примером. Как вы-
разился об этом Н.И. Греч: «Он не толковал, не доказывал, почему этот
слог не хорош, а сам начал писать как должно и примером своим увлек
современников и последователей»3.
Карамзинист П.И. Макаров, высоко оценивая роль своего учите-
ля, рассуждал: «Из наших старинных писателей ни один не может слу-
жить примером, ни сам Ломоносов, для сочинения прозою» (подразу-
мевается: но зато Карамзин может)4. Писатель А.Е. Измайлов
выразился афористической формулой: «Карамзин дал образцы, как
должно писать в прозе; Дмитриев дал образцы, как должно писать в
стихах»5.
Интересно и информативно с точки зрения сути законов лите-
ратурного развития то, что сходные усилия на полвека ранее роман-
1 Горшков А.И. Язык предпушкинской прозы. М., 1982. С. 44.
2 Там же. С. 227
3 Греч Н.И. Чтения о русском языке. Спб., 1840.1—II. С. 343—344.
4 Макаров П.И. Критика на книгу под названием: Рассуждение о старом и но-
вом слоге российского языка//Московский Меркурий. 1803. Декабрь. С. 84.
5 Измайлов А.Е. Извещение о 5 издании сочинений И. Дмитриева//Благона-
меренный. 1819. № 3. С. 124.
тиков-карамзинистов предпринимали классицисты-сумароковцы
(которые называли это не очисткой, а «вычисткой языка»)1. Однако
действия классицистов в данном направлении были принципиально
отвергнуты и творчески дезавуированы в конце XVIII в. Г.Р Держа-
виным и поэтами его школы (С.С. Бобров, С.А. Ширинский-Ших-
матов и др.)
Так называемая «органическая» синтаксически полная фраза клас-
сицистов, понятийно-логически ясная и провоцирующая сюжетно-по-
вествовательную структуру произведения, избегающая церковно-
славянизмов и сложных речевых образов, сменилась у Державина
сложными метафорическими построениями, которые нередко как бы
«оспаривали» падежную систему, свойственную русской письменной
речи, и были насыщены эллипсисами и инверсиями. Вполне можно
выразиться, что если классицизм в своих текстах тяготел к воспроиз-
ведению современного русского языка в его наиболее устоявшихся
письменных формах, то державинская школа занялась пересоздани-
ем языка2. я
В этом пересоздании державинская школа опиралась на факты его
исторического прошлого, а также на параллели с церковнославянским
языком, с одной стороны, и на практику современной устной речи —
с другой)3. •'\ Ч
Уже спустя несколько десятилетий память о литературной ситуа-
ции начала XIX в. ослабла, и ее вспоминали, осмысливая с явной абер-
рацией.
1 В результате язык художественных текстов русских классицистов порази-
тельно легок для восприятия, резко отличаясь от произведений современников и
многими чертами напоминая тексты именно живших на полвека позже писателей
пушкинской эпохи, прошедших в молодости через кружок Карамзина, либо в том
или ином отношении духовно близких карамзинистам (имеются в виду К.Н. Ба-
тюшков, В.А.Жуковский, В.Л. Пушкин, П.А. Вяземский,Д.В.Давыдов, И.И. Коз-
лов и др. в старшем поколении; Е.А. Боратынский, Н.М. Языков, A.A. Дельвиг и
др. в поколении младшем).
2 См. подробный анализ художественного слога Державина и его учеников в
кн.: Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. М., 1999.
Выше упоминалось о роли творческого пересоздания действительности в ро-
мантизме.
3 Церковнославянский язык в описываемое время благодаря Православию
присутствовал в сознании членов русского общества, но в сложном переплетении
с русским языком. Их границы вряд ли четко ощущались людьми, не имеющими
специального образования филологического типа. ,о*. .uuùhj\\>u
22
H.И. Греч писал: «Ломоносов не говорит о собственной русской
конструкции, т. е. о порядке и размещении слов, свойственных языку.
От этого упущения возникло странное и нелепое правило позднейших
грамотеев: ставь слова как хочешь»1. По мнению И.И. Дмитриева, с
этим и покончил Карамзин, установивший «естественный порядок в
словорасположении»2. Суть этого «естественного словорасположения»
разъясняется в «Общей реторике» Н.Ф. Кошанского, лицейского про-
фессора Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, так: «Первое правило:
слова и выражения должны следовать за идеями и представле-
ниями,., — то есть в каком порядке являются идеи и картины, так и
идут... слова и предложения»3.
Понятно, что именно подразумевается под «естественным слово-
расположением», но вряд ли правильно, что это — нововведение ка-
рамзинистов. Сумароковцы уже сделали все основное в данном направ-
лении еще в середине XVIII в., задолго до Карамзина.
«Не следует думать, — пишет А.И. Горшков, — что филологи вто-
рой половины XVIII века не постигли естественного словорасположе-
ния и строения русской фразы, а писатели "не справлялись" с поряд-
ком слов и построением периодов»4.
С этими словами приходится полностью согласиться — несмотря
на распространенность даже сегодня в литературоведении упоминае-
мых Горшковым представлений о «господстве в докарамзинской лите-
ратуре «пресловутых "сложных" и "запутанных"; "длительных", "лати-
но-немецких" и т. п. периодов». А.И. Горшков полностью прав и в том,
что такое представление иллюзорно, ибо «те или иные синтаксические
несообразности, которые выходили из-под пера плохих писателей, не-
правомерно обобщать как типичную черту литературного языка»5.
Каждый настоящий писатель как индивидуальный стилист ориен-
тировался — пусть с различной степенью «широты» и «глубины», де-
терминируемый и личной культурой, и уровнем своего дарования, — в
«естественном» для русского литературного языка синтаксисе. В на-
чале XIX в., как и в любое другое время, литература была представлена
рядом хороших, но при этом разных писателей. Одним был внутренне
близок так называемый «трудный», «шероховатый» слог, а другим —
«легкий» слог.
1 Греч Н.И. Чтения о русском языке. I. Спб., 1840. С. 110—111.
2 Дмитриев ИИ. Соч., Т. II. СПб., 1895. С. 61.
3 Кошанский Н.Ф. Общая реторика. СПб., 1830. С. 37.
4 Горшков А.И. Язык предпушкинекой прозы. С. 44.
5 Там же. С. 45—46.
23
Карамзинистам не довелось «бороться с классицизмом». Они от-
нюдь не имели перед собой сумароковскои литературной школы как
живого явления, с которым могли бороться и его побеждать: то и дру-
гое уже сделал Державин. Причем в том синтезе, который Державин
осуществил своим творчеством, помимо многого иного был объектив-
но заложен и своеобразный «эскиз» романтизма; романтическим прин-
ципам соответствовал, как выше отмечалось, уже сам язык его поэзии,
его «трудный слог».
И вот, что весьма интересно, именно с этим «трудным слогом» по-
бедившей державинской школы начали полемику и откровенную борь-
бу Карамзин и его последователи, утверждая себя как новую школу.
Одним из наиболее характерных наружных проявлений этого противо-
стояния как раз было провозглашенное карамзинистами «очищение
языка» (не случайно, как напоминает Кюхельбекер, одним из совре-
менных обозначений карамзинистов стало именно «школа очистите-
лей языка»).
«Возврат» карамзинистов — как бы через голову непосредствен-
ных исторических предшественников и притом старших современни-
ков, представителей державинской школы! — к «очищению языка»,
так напоминающему теорию и практику русского классицизма середи-
ны XVIII в., не удивляет: это обычный феномен историко-литератур-
ной диалектики. Развитие литературы идет как бы по спирали1 Однако
эта неожиданная близость романтиков-карамзинистов начала XIX в.
1<лассицистам середины XVIII в. весьма показательна.
Если не вдаваться в детали, то, по сути, началась борьба романти-
ков одного типа с романтиками другого типа2.
В своей борьбе с «трудным слогом» нападок непосредственно на
Державина карамзинисты по тактическим соображениям тщательно
избегали (а некоторые из них — например П.А. Вяземский — искрен-
не считали его великим поэтом). В отношении его, напротив, регуляр-
но делались «реверансы» в печати. Резкой критике подвергалось твор-
чество державинских последователей — прежде всего С.С. Боброва, а
также С.А. Ширинского-Шихматова.
Семен Сергеевич Бобров (1765 [или 1763]—1810), сын ярослав-
ского священника, искусственно забыт, но при жизни имел все основа-
ния рассчитывать на славу одного из наиболее известных русских по-
1 См. подробно в кн.: Минералов Ю.И. Поэтика. Стиль. Техника. М., 2002.
2 Державинская школа в силу своего синтетического характера в целом есть,
конечно, нечто более сложное, чем романтизм, но черты романтизма (помимо мно-
гих иных) в ней присутствуют.
этов (поэтов уровня В.П. Петрова, И.Ф. Богдановича, В.А. Жуковско-
го, К.Н. Батюшкова и др. — если не выше).
«Щастлива страна, которая имеет таких Поэтов!» — писал «Жур-
нал российской словесности» о Боброве в 1805 г. Аналогичных отзы-
вов было немало; особенно энергично говорил о том, что Бобров —
надежда русской поэзии, известный критик 1800-х годов. Иван Ивано-
вич Мартынов на страницах журнала «Северный вестник». Державин
«необыкновенно уважал Боброва»1
Среди сочинений Боброва должны быть названы философская по-
эма в двух частях «Древняя ночь вселенной», эпическая поэма «Тав-
рида», оды «Конец войны при Дунае», «Мир со шведами», «После-
дняя дань сердца графу Румянцеву-Задунайскому», «Всерадостное
сретение их Императорских величеств по торжественном их коро-
новании в Москве» и др., стихотворения «Плачущая Нимфа», «Мо-
гила Овидия», «Размышление о создании мира», «Обузданный Юпи-
тер, или Громовый отвод», «Вечеринка», «Стансы на учреждение
корабельных и штурманских училищ при Адмиралтействе 798 года»,
«Торжественный день столетия от основания града Св. Петра. Мая
16 дня 1803» и др.
Стихи Боброва были собраны им в четырехтомнике, имевшем, как
это тогда практиковалось, свое название: «Рассвет полночи, или Со-
зерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, бранонос-
ных и мирных гениев России» (1804). Среди них гражданско-фило-
софские и духовно-философские оды, многочисленные стихотворные
раздумья о тайнах природы и научных открытиях, стихи-отклики на зло-
бодневные темы и т. п.
Последователь Державина часто узнается в Боброве. Это помимо
перечисленных черт проблематики и сюжетики стихов еще и, напри-
мер, особенности речевой образности, ассонансная рифмовка, нако-
нец, особая манера строить звукообраз:
Лето паляще летит,
Молния в туче немеет;
1 Жихарев СП. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 561.
СП. Жихарев ( 1787/1788— 1860) — литератор и театрал, известный мемуа-
рист, которого судьба многократно сводила с крупнейшими писателями, государ-
ственными деятелями и т. п. В 1800-е годы он был близко знаком с Державиным и
присутствовал на первых собраниях членов будущей «Беседы русского слова», но
затем стал членом «Арзамаса».
ос
или:
Осень на буре висит;
Риза туманна сизеет.
(«Желание любителю Отечества»)
О естьли бы лреобратилось
В пернат перун перо сие!
О естьли б в молнию прилилось
Горяще чувствие мое!
(«Честь победителю за Дунаем при
Мачине кн. Н.В. Репнину»)
Такая тяга к «корнесловию» весьма характерна для Боброва в са-
мых разных его стихах. Ср. еще: «Минули те минуты мрачны» («Мир
со шведами»); « Печальна Вол га кровь давно крутя врагов, /Уже снесла
ее в Хвалынску зыбь валов» («Образ Зиждительного Духа»); «Опер-
шися на пень вязовый, / Зрит мрачный вид судов суровый» («Плачу-
щая Нимфа») и др. Футуристы начала XX в. (Маяковский, Хлебников
и др..) будут считать подобные приемы своим первооткрытием, заявляя
об этом в своих манифестах и не упоминая в качестве предшественни-
ков ни Державина, ни тем более Боброва.
Как и все русские поэты того времени, Бобров боготворил Петра I,
развивая его образ как просвещенного монарха-реформатора. Вот, на-
пример, что он говорит о домике Петра Великого:
Се храмина, чертог законов,
Отколе боголепный глас
Решил судьбину миллионов;
Отколе не единый раз
Пылал перун — сопутник славы,
Карал вражду и внутрь и вне;
Отколь престолам, царствам, — мне, —
Векам — твердил ися уставы.
(«Торжественный день столетия от
основания града Св. Петра»)
Ода «Конец войны при Дунае» вслед за Державиным повествует
о штурме Измаила Суворовым:
Нет тучи; — зрелище преходит;
Над бурным Бельтом гром молчит;
Сквозь тучи мир дугу выводит,
26
И дождь железный не шумит. —
Дождь не шумит, — а гром внимаю! —
Где ж гром? — подвигся он к Дунаю.
О естьли б я перуном мог
Изобразить перуны южны,
Шиты Срацинские недужны,
И раздробленный лунный рог! —
Расступишься ль, Дунай смущенный,
Чтоб Россы по твоим волнам
Прошли мечами ополченны,
Пожать мечами лавры там!
Се ружей ржуща роща мчится! —
Измаил дрогнет; твердь мрачится.
На огненных мечей столпах
Дрожащий свет перуна блещет,
И вторократно он трепещет,
Отсверкивая на стенах.
Бросается в глаза зримая яркая образность поэта. «Раздроблен-
ный лунный рог» обыгрывает исламскую религиозную символику. Ри-
нувшаяся на приступ, выставив штыки, русская пехота вызывает к жиз-
ни блестящий поэтический образ: «Се ружей ржуща роща мчится!»
Литературными врагами Боброва в 1800-е годы стали последова-
тели Н.М. Карамзина (К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский, В.Л. Пушкин
и др.). Разумеется, огульно-отрицательная оценка карамзинистами
творчества этого поэта была в какой-то мере спровоцирована и самим
Бобровым, который активно полемизировал с «очистителями языка»,
подобно многим современникам, считая их произведения источником
чужеродных западнических тенденций в русской словесности.
«Очистители языка» воплотились в его памфлете «Происшествие
в царстве теней, или Судьбина российского языка» в пародийно заост-
ренный собирательный образ Галлорусса»1. Насколько задело карамзи-
нистов это произведение, свидетельствует хотя бы поэма К.Н. Батюш-
кова «Видение на брегах Леты», в значительной мере представляющая
собой стихотворный ответ на прозаический памфлет Боброва. Бобров
выведен там в самом неприглядном виде (под именем пьяницы Бибри-
са), а его ярко метафорическая строка «Се ружей ржуща роща мчится»
из вышецитированной оды «Конец войны при Дунае» приведена в «Ви-
1 См. публикацию памфлета: Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 358. Тарту, 1975.
27
дении на брегах Леты» (в нарочито искаженном виде — «Где роща ржу-
ша ружий ржот» ) как образец пиитической «темноты» и просто бессмыс-
лицы — причем искаженная строка еще и снабжена ядовитым приме-
чанием Батюшкова: «Этот стих взят из сочинений Боброва, я ничего не
хочу присваивать» (см. «Видение на брегах Леты»).
Помимо Боброва, по сюжету поэмы Батюшкова в Лете топится
ряд писателей, имена которых принято ассоциировать с литературным
сообществом «Беседа любителей русского слова» (пощажен — за об-
щественные заслуги — лишь глава «Беседы» выдающийся деятель
1812 г. адмирал A.C. Шишков, выведенный в поэме под именем Славе-
нофила). (Кстати, на деле Бобров организационно входил не в «Бесе-
ду», а в так называемое «Вольное общество любителей словесности,
наук и художеств». Батюшков казнит в нем, так сказать, славянофила
по духу, единомышленника непосредственных сторонников Шишкова.)
«Вольное общество любителей словесности, наук и худо-
жесте» существовало в Петербурге с 1802 г. Деятельность его
неоднократно затухала, но затем возобновлялась. Основано оно
было литературной молодежью — журналистом А.Е. Измайло-
вым, поэтом и филологом А.Х. Востоковым и др. В обществе со-
стояли весьма разные люди: ИМ. Борн, ИЛ. Пнин, М.В. Милонов,
ОМ. Сомов, Н.Ф. Остолопов, И.И. Греч, В.Л. Пушкин, К.Н. Батюш-
ков, Н.Ф. Кошанский, Ф.Н. Глинка, A.A. Дельвиг, Е.А. Боратынский,
К.Ф. Рылеев, Ф.В. Булгарин и др. Общество в разное время выпус-
кало журналы «Периодическое издание», «Санкт-Петербургский
вестник» и др.
Александр Христофорович Востоков (1781 — 1864) — поэт
ифилолог, автор книг «Опыты лирические» (1805—1806), «Сти-
хотворения » (1821),« Опыт о русском стихосложении » (1812),
^Рассуждение о славянском языке, служащее введением к грам-
матике сего языка» (1820) и других филологических трудов.
Иван Петрович Пнин (1773—1805) — поэт, автор фило-
софско-публицистических од «Бог», «На правосудие», «Время»,
«Слава» и др. В оде «Человек» ощутима полемика с державинс-
кой одой «Бог». Развиваемые поэтом идеи в целом находятся в
русле концепций французских философов-просветителей XVIII в.
Николай Федорович Остолопов ( 1783 — 1833) — поэт, про-
заик и филолог, составитель яркого «Словаря древней и новой
28
поэзии» (1821) и «Ключа к сочинением Державина» (1822).Ав-
тор повести «Евгения, или нынешнее воспитание» (1803), а
также стихотворений, песен и романсов в народном стиле.
Михаил Васильевич Милонов ( 1792—1821 ) — поэт, автор
книг «Речь и стихи, читанные в собрании любителей отече-
ственной словесности при Благородном университетском пан-
сионе одним из его членов» (1808), «На истребление Наполео-
новых армий в России» (1813), «Сатиры, послания и другие
мелкие стихотворения» (1819), «Сочинения Милонова»
(1849). Оказал довольно широкое влияние на литературную мо-
лодежь своего времени (так, отзвуки стихов Милонова усмат-
риваются в «Евгении Онегине» в фактуре образа Ленского).
Перечисленные авторы входили в «Вольное общество люби-
телей словесности, наук и художеств».
Похожее по названию «Вольное общество любителей рос-
сийской словесности» собиралось также в Петербурге в 1816—
1825 гг. В 1818—1825 гг. обществом издавался журнал «Сорев-
нователь просвещения и благотворения». Среди членов общества
можно указать на В.К. Кюхельбекера, A.C. Грибоедова, ИМ. Гне-
дича, ОМ. Сомова, АЛ. Дельвига и др.1
Недолго просуществовавшее «Дружеское литературное
общество» возникло в Москве в 1801 г. (поэт и критик А. Ф. Воей-
ков, братья Андрей и Александр Тургеневы, В.А. Жуковский,
А.Ф. Мерзляков, братья Михаил и Андрей Кайсаровы). Оно так-
же объединяло молодых литераторов.
Журналы начала XIX в., что и естественно, отражали литератур-
ную атмосферу своего времени. Весьма авторитетным изданием
1800-х годов был «Северный вестник» И.И. Мартынова, стремив-
шийся судить о литературе с объективных позиций. Рецензируя про-
изведения, вошедшие в четырехтомник Боброва «Рассвет полночи»,
Мартынов писал: «Какая отважность в мыслях, в выражениях! какой
прибор слов! какая новость в изображении!» (по поводу его «Столет-
ней Песни»)2.
1 Не путать с «Обществом любителей российской словесности», которое с
1811 г. существовало при Московском университете. Позже оно неоднократно во-
зобновляло свою деятельность вплоть до начала 1930-х годов.
2 Северный вестник. 1804. Т. I—IV С. 36.
29
В 1802—1803 гг. Н.М. Карамзин издавал журнал «Вестник Евро-
пы», сам активно выступая на его страницах и придав ему четкое на-
правление в своем духе. Журнал не пользовался большой популярно-
стью: карамзинист Макаров в 1803 г. сетовал во втором номере своего
журнала «Московский Меркурий», что хотя «у нас никто прозою не
писал лучше и приятнее господина Карамзина: он сделал эпоху в исто-
рии русской литературы и может быть довел наш язык до последней
степени возможного совершенства, а однако ж едва ли есть на его жур-
нал полторы тысячи субскрибентов!!»1
Бросается в глаза, что на страницах своего издания Карамзин тща-
тельно избегал литературной полемики и критики в чей-либо адрес, то
£сть старался не делать себе врагов. В программном «Письме к изда-
телю» декларируется: «Пиши, кто умеет писать хорошо: вот лучшая
критика на дурные книги!»2
И карамзинский «Вестник Европы», и особенно макаровский
«Московский Меркурий», уделяли поразительно много места париж-
ским модам — что лишний раз напоминает об их «западнических» вку-
совых интересах.
Вскоре после неожиданной ранней смерти Боброва в 1810-е годы
разгорелась острая борьба «Беседы любителей русского слова» с карам-
зинским обществом «Арзамас». Обстоятельства этой борьбы разные пи-
савшие о ней советские авторы часто переводят в некий политический
план и изображают ее как противостояние «крепостников-реакционеров»
(«беседчики») и вольнодумцев-прогрессистов («арзамасцы»). На самом
деле в «Беседу» входили такие писатели, как И.А. Крылов, П.А. Катенин,
A.C. Грибоедов и В.К Кюхельбекер, коих не заподозришь в «реакционно-
сти». И споры между обеими литературными группировками отнюдь не
сводились к спорам «архаистов и новаторов» о старине и новизне в лите-
ратурном языке, а касались изобразительно-художественных возможно-
стей «трудного слога» и «легкого слога»3.
1 Московский Меркурий. 1803. Т. 2. Февраль. С. 72—73.
Субскрибенты — подписчики.
2 Вестник Европы. 1802. № 1. С. 7
-та* 3 Ср. мнение академика В.В. Виноградова: «Концепция Ю.Н. Тынянова об
архаистах и новаторах и о роли Пушкина в этой борьбе в силу своей узости и одно-
сторонности, а также в силу явных несоответствий реальным литературным фак-
там оказывается неоправданной. Ее значение очень невелико. Она на три четверти
может быть сдана в архив» (Виноградов В.В. И.А. Крылов и его значение в исто-
рии русской литературы и русского литературного языка//Русская речь. 1970. № 4.
С. 236).
£0
«Беседа» постепенно складывалась с 1806 г., но официально от-
крылась как общество с уставом в начале 1811 г. Возглавлял ее, как
уже подчеркивалось, A.C. Шишков. В общество входили вышеназван-
ные, а также С.А. Ширинский-Шихматов, A.A. Шаховской, А.Н. Оле-
нин, A.A. Волкова, В.В. Капнист, граф Д.И. Хвостов, А.П. Бунина и др.
Примыкал к «Беседе» Н.И. Гнедич. Общество издавало свои «Чтения»
(в них была опубликована, например, первая часть державинской кни-
ги «Рассуждение о лирической поэзии, или Об оде»).
Александр Семенович Шишков (1754—1841) — адмирал, в
1812—1814 гг. государственный секретарь и составитель боль-
шой части манифестов царя Александра I, член Государственного
совета, министр народного просвещения (1824—1828), писатель
и яркий филолог-самоучка, член академии Российской (1796; в
1813—1841 гг. — ее президент). С 1810 г. возглавлял литера-
турное общество сторонников «трудного слога» (которые од-
новременно считали себя славянофилами) «Беседа любителей рус-
ского слова». Автор книг «Рассуждение о старом и новом слоге
российского языка » (1803, 1813, 1818), «Разговоры о словес-
ности» (1811), «Прибавление к разговорам о словесности»
(1811), «Рассуждения о любви к Отечеству» (1811), а также
ряда од, переложений псалмов и других стихотворных произве-
дений. Писал и для детей.
Александр Николаевич Оленин (1763-1843) — писатель,
филолог, археолог-любитель и государственный деятель. Первым
сумел прочесть некоторые древнеславянские тексты.
Николай Иванович Гнедич (1784—1833) — поэт и перевод-
чик, автор перевода «Илиады» (1829), впервые сделанного им
русским гекзаметром, ранее разработанным В.К. Тредиаковским
(до Гнедича «Илиаду» дважды переводили на русский язык прозой
(как поныне делают на Западе), а поэт Е. Костров в 1787 г. пе-
ревел шесть ее песен александрийским стихом).
Анна Алексеевна Волкова (1781 — 1834) — поэтесса, член
«Беседы любителей русского слова». Издала собрание своих сти-
хотворений (1807).
Анна Петровна Бунина ( 1775—1828) — поэтесса и перевод-
чица, член «Беседы любителей русского слова». Родилась вундер-
31
киндом, рано занявшись творчеством. Автор книг стихов «Нео-
пытная муза» (1809, 1812), «Сельские вечера» (1811), «Собра-
ния стихотворений» (1819—1821), поэмы «О счастии» (1810).
Арзамасцы относились к факту присутствия в «Беседе»
женщин глумливо-издевательски.
Просуществовавший примерно два года, «Арзамас» был прямой
реакцией на деятельность «Беседы»: так, при вступлении в него пола-
галось дать пародийную клятву, содержавшую злые инвективы в адрес
«деда седого» A.C. Шишкова и некоторых других членов «Беседы лю-
бителей русского слова». Идея издавать арзамасский журнал, исходив-
шая от генерала М.Ф. Орлова, не была реализована.
Умерший несколько лет назад С.С. Бобров был одним из главных
объектов насмешек арзамасцев. При этом они неоднократно невольно
выдавали субъективность своего отрицательного к нему как поэту отно-
шения. Известна эпиграмма П.А. Вяземского «К портрету Бибриса»:
Нет спору, что Бибрис богов языком пел;
Из смертных бо никто его не разумел.
«Сделана» эпиграмма по расхожим литературным образцам произ-
ведений данного жанра: так можно осмеять кого угодно. Однако вот что
привлекает внимание. Первый стих содержит ответ тем современникам,
в том числе критикам, которые высоко ценили творчество Боброва —
утверждение, что поэт говорит «языком богов», на условном языке ли-
тературы того времени, есть высшая похвала. Вяземский ядовито оспа-
ривает такую похвалу в адрес литературного врага, якобы «подхваты-
вая» оценку («нет спору»), но тут же ее дезавуируя («смертным» никак
не уразуметь этот «язык богов» — то есть стихи Боброва). Понятна струк-
тура авторской иронии, ясны и ее жизненные истоки. Однако при всем
том сам иронист нечаянно напомнил, что ряд современных читателей от-
носились к Боброву совершенно иначе, чем карамзинисты.
Лицейский друг Пушкина Кюхельбекер записывал в дневнике уже
приводившиеся выше полной цитатой слова, что любит Пушкина, но
для себя избирает иную дорогу и сам «служит в дружине славян под
знаменами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова»1.
1 Прискорбно констатировать, что ни Бобров, ни Шихматов по сей день не
изданы хотя бы в пределах того, что они успели опубликовать при жизни. Впрочем,
даже великий Державин «удостаивается» лишь небольших однотомников, хотя
собрание его произведений, подготовленное и дважды изданное во второй полови-
не XIX в. академиком Я.К. Гротом, составило девять толстых книг.
32
Князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—
1837) как писатель неразрывно связан с «Беседой любителей русского
слова». Это едва ли не лучший поэт данного сообщества (постригшись
в монахи под именем Аникиты, он рано ушел из литературы). «Беседу»
одухотворяли колоритная личность и кипучая славянофильская деятель-
ность покровительствовавшего Шихматову Александра Семеновича
Шишкова. Державин участвовал в заседаниях «Беседы», публиковал-
ся в ее «Чтениях» и предоставлял для ее заседаний свой дом, но сохра-
нял по отношению к ней некоторую дистанцию.
Важнейшие произведения Шихматова — поэма «Пожарский,
Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» (1807) и эпическая поэма
«Петр Великий» ( 1810).
Поэт М.А. Дмитриев в своих воспоминаниях «Мелочи из запаса
моей памяти» говорит:
«Между поэтами Державинской беседы не должен быть забытым
кн. Сергей Александрович Шихматов, бывший потом иноком под име-
нем Аникиты. Его Песнь Сотворившему вся исполнена картин вели-
колепных, представленных языком звучным, ясным и соответствующим
высоте предмета. У нас многое хорошее или не пользовалось в свое
время известностию, потому что не подходило под общий тон своего
времени, под направление господствующего вкуса; или забыто теперь...
И потому я нахожу особенное удовольствие воздавать справедливость
всему, чему не была она воздана в свое время...
Князь Шихматов отличался, между прочим, богатыми рифмами и
тем, что избегал рифм на глаголы. А.Ф. Воейков говорил очень за-
бавно, что он "у кн. Шихматова крадет иногда рифмы; но что у такого
богача не грех и украсть"; а Батюшков в своей пародии "Певца" Жу-
ковского назвал его "Шихматов безглагольный" что значит про-
сто: не употребляющий рифм на глаголы. В приведенном мною выше
отрывке Батюшкова из "Видения на брегах Леты" стих "Они По-
жарского поют" и следующий за ним относятся тоже к поэме кн. Ших-
матова, которой заглавие я упомянул перед этим, исчисляя его сочи-
нения1».
Характерно, что осведомленный мемуарист называет здесь «Бесе-
ду любителей русского слова» державинской (а не шишковской):
М.А.Дмитриев знал, что Державин был ее идейной опорой, как играл
аналогичную роль в «Арзамасе» Карамзин, — хотя официально оба
они не занимали в обоих сообществах руководящих позиций.
СП. Жихарев оказался участником первых собраний того круга
1 Дмитриев М.А. Соч. С. 283.
О-Минералов 33
литераторов, из которого вскоре получилась «Беседа». В своем днев-
нике от 3 февраля 1807 г. он записал:
«A.C. Шишков приглашал князя Шихматова прочитать сочинен-
ную им недавно поэму в трех песнях "Пожарский, Минин и Гермоген";
но он не имел ее с собою, а наизусть не помнил, и потому положили
читать ее в будущую субботу у Гаврилы Романовича (Державина. —
ЮМ.). Моряк Шихматов необыкновенно благообразный молодой че-
ловек, ростом мал и вовсе не красавец, но имеет такую кроткую и свет-
лую физиономию, что, кажется, ни одно нечистое помышление никогда
не забиралось к нему в голову. Признаюсь в грехе, я ему позавидовал: в
эти годы снискать такое уважение и быть на пороге в академию... За
ужином, обильным и вкусным, A.C. Хвостов с Кикиным начали шутя
нападать на Шихматова за отвращение его от мифологии, доказывая,
что это непобедимое в нем отвращение происходит от одного только
упрямства, а что, верно, он сам чувствует и понимает, каким огромным
пособием могла бы служить ему мифология в его сочинениях. "Избави
меня Боже,— с жаром возразил Шихматов,— почитать пособием вашу
мифологию и пачкать вдохновение этой бесовщиной, в которой, кроме
постыдного заблуждения ума человеческого, я ничего не вижу. Пошлые
и бесстыдные бабьи сказки — вот и вся мифология. Да и самая-то древ-
няя история, до времен христианских — египетская, греческая и римс-
кая — сущие бредни, и я почитаю, что поэту-христианину неприлично
заимствовать из нее уподобления не только лиц, но и самых происше-
ствий, когда у нас есть история библейская, неоспоримо верная и сооб-
разная с здравым рассудком. Славные понятия имели эти греки и рим-
ляне о Божестве и человечестве, чтоб перенимать нелепые их
карикатуры на то и другое и усваивать их нашей словесности!"
Образ мыслей молодого поэта, может быть, и слишком односто-
ронен, однако ж в словах его есть много и правды1»,
В следующую субботу в доме Державина чтение поэмы состоя-
лось (декламировал ее не сам автор, а A.C. Шишков). Жихарев запи-
сал в дневнике:
«Развернув тетрадь, князь приготовился было читать ее, но
A.C. Шишков не дал ему разинуть рта, схватил тетрадь и сам начал чте-
ние. Стихи хороши, звучны, сильны и богатство в рифмах изумитель-
ное: автор вовсе не употребляет в них глаголов, и оттого стихи его сжа-
ты, может быть даже и слишком сжаты, но это их не портит. Не
постигаю, как мог он победить это затруднение, составляющее камень
претыкания для большей части стихотворцев. <...> Шишков читал тво-
1 Жихарев СП. Записки современника. С. 351—352.
34
-рение своего любимца внятно, правильно и с необыкновенным одушев-
лением. Я от души любовался седовласым старцем, который так живо
сочувствовал красоте стихов и передавал их с такою увлекательнос-
тью: судя по бледному лицу и серьезной его физиономии, нельзя было
предполагать в нем такого теплого сочувствия к поэзии. Я запомнил
множество прекрасных стихов...»1
С. Шихматов в этом своем произведении предстает как даровитый
продолжатель русской одической традиции XVIII в.:
Порвите все свои заклепы,
Развейте ужас, что я рек,
О ветры, волн цари свирепы!
Пожарский с россами притек,
И россы с ним непобедимы!
Уже там сильною рукой
Готовит помощь Трубецкой;
Отвсюду смертью обстоимы,
Враги еще возносят рог,
Надежны на свою твердыню;
Вещают их уста гордыню,
И сердце буйное: несть Бог.
Но се — как пруги ненасытны,
Скопившись тучею густой,
Летят на нивы беззащитны,
Пленяясь жатвою златой,
Пожрать надежду земледельцев —
Бегут сарматы без числа,
Из челюстей исхитить зла
Москвы погибельных владельцев,
Прибавить россам годы бед.
Примчались—разлились в долине,
О нашей хвалятся кончине
И строят знаменья побед.
Мечтающи полсвета вскоре
Послышать в узах под собой,
1 Жихарев СП. Записки современника. С. 358.
К слову сказать, «седовласому старцу» Шишкову на тот момент было всего
лишь 52 года.
3* 35
Столпившись, восшумев как море,
Идут начать с Пожарским бой.
О собственно литературно-эстетических взглядах Шихматова мож-
но получить представление из его стихотворения «Приглашение дру-
зей на вечернюю беседу» (1809):
Потом начнем судить, пристрастия отстав,
Как складным делать слог, — и примем за устав
Обычаю отнюдь не покоряться духом,
Но искушать слова и разумом и слухом;
Вернее в дни сии держаться старины;
Хоть можно иногда, без смертный вины,
Легохонько сметать пыль с древности языка.
Беды в ceto деле нет — да в том беда велика,
Что мы, сХКетая пыль, сдираем красоту
И любим без ума чужую нищету,
Презрев несметные отцов своих богатства.
Поэт не против новизны — он против того, чтобы под ее эгидой
внедрялась в культуру «чужая нищета», «сдирающая красоту» и «не-
сметные богатства» русского поэтического языка.
Державин, по воспоминаниям СП. Жихарева, возвращаясь после
вышеописанных чтений, «отозвался о князе Шихматове, что "он точно
имеет большое дарование, да уже не по летам больно умничает"»1.
А для A.C. Шишкова Шихматов был примерно тем же, чем для
Державина Семен Бобров, — главной поэтической «надеждой». По
воспоминаниям С. Т. Аксакова, Шишков находил в его произведениях
«такие красоты, каких немного у Державина, да и у Ломоносова»2.
Наконец, вспомним еще раз, что «Шихматов и Пушкин» казались
равновеликими фигурами такому опытному литературному критику и
яркому поэту, как В.К. Кюхельбекер3.
Острое противоборство «Беседы любителей русского слова» и
«Арзамаса», как и взаимные отличия собственного словесно-художе-
1 Жихарев СП. Записки современника. С. 353.
2 Аксаков СТ. Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове//Л/сса-
ков СТ. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1955. С 273.
3 Из недавних исследований творчества Шихматова см.: Воронин Т.Л. Твор-
чество С.А. Ширинского-Шихматова. Автореферат дисс. канд. филол. наук. М.,
2002.
36
ственного творчества его конкретных участников, напоминают, что раз-
личные индивидуальные стили — не просто средство выражения, а сред-
ство «преобразования» мысли; причем по своей способности к такому
преобразованию они заведомо неравны. Это обстоятельство отрази-
лось, например, во взаимных отличиях стилей представителей «труд-
ного слога» (держапинскяя школя) и представителей «легкого» слога
(карамзинистов). Первые ориентировались на особенности слога ху-
дожников, у которых ассоциативные связи резко доминируют над при-
чинно-следственными, логическими (прежде всего, сказанное касает-
ся Державина). «Ясность слога», за которую выступали вторые,
склонялась все же к чисто логической проясненности. Это ограничива-
ло семантические возможности индивидуальных художественных сти-
лей последователей Карамзина. Вышеупомянутое противоборство, как
мы уже оговаривались, несводимо к борьбе вокруг вопроса о «старом и
новом слоге».
Державинская школа ориентировалась не только и не столько на
старые слова и церковнославянизмы, сколько на особенности совре-
менной устно-разговорной речи со свойственным ей паратактическим
развертыванием содержания, с ее эллипсисами, анаколуфами, инвер-
сиями и т. п.; напротив, карамзинисты прививали русской поэзии «орга-
нический» синтаксис, характерный для книжно-письменной речи ин-
доевропейских языков (особенно для сферы аргументированного
рассуждения), отличающийся гипотактическим строем. Объективно
судя, карамзинисты возобновили основные сумароковские принципы
работы над художественным словом1
Устно-разговорная ориентация в развертывании содержания рез-
ко повышала ассоциативность художественного мышления; делала тек-
сты произведений семантически «сгущенными», затрудненными для
восприятия. Книжно-письменная ориентация приводила к логизации
художественного содержания; даже к сближению поэзии (в плане се-
мантической организации) с прозой, и не только художественной (эво-
люция Карамзина в ученого-историка).
При этом весьма интересно, что и современникамилсамиш пред-
ставителями «легкого слога» отмечался факт невыразимости сред-
ствами их стилистики определенны* тем 44 идей. Забегая вперед, отме-
1 Впрочем, если Сумароков, говоря о «вычистке языка», призывал опираться
на его национальные, русские ресурсы, то карамзинисты предполагали «очищать
язык» также путем импортирования слов и калькирования оборотов из западноев-
ропейских языков (галлицизмы, германизмы и т.п.). См.: Минералов Ю.И. Исто-
рия русской словесности XVIII века. М., 2003.
37
тим, что поэты, начинавшие свою деятельность как последователи Ка-
рамзина, действительно сталкивались с тем, что их «расслабленные» в
образно-метафорическом плане стихи, содержание которых плавно
развивается от причины к следствию, оказываются неприспособлен-
ными к развертыванию определенного рода проблематики.
Так, в этой неприспособленности был убежден ПА Вяземский,
писавший в автобиографических заметках: «Еще один мой недостаток:
не обращено внимания на то, что не все может и должно выражаться
поэтическим языком. Стих капризен и щекотлив: он не все выдержи-
вает,., (курсив мой. — Ю. М. ) Мысль может быть и правильная и даже
блестящая, но рифмою оседланная, она теряет цену свою, а поэзии цены
не придает»1.
В повествовательных стихах карамзинистов, неуклонно выдержи-
вающих причинно-следственные связи, прибавилось легкости, ясно-
сти и логики, но резко убавилось ассоциативной неожиданности, об-
разно-художественной многозначительности. Из них ушло не просто
буйство красок, ушла даже не «неожиданность» метафор — ушло,
прежде всего, то, что передается в словесном искусстве функцио-
нально плодотворно примененными сложными и простыми метафо-
рами и ассоциативными «поворотами» развития содержания: ушла
«планетарная» масштабность событий, военных и гражданских, фи-
лософско-художественная глубина их осмысления, ушла духовно-фи-
лософская проблематика (требующая не столько силы доводов, сколь-
ко внутренней убежденности, сердечного горения), ушла энергия,
сочетавшаяся с краткостью. Все это раньше было в поэзии великого
Державина.
Любопытные соображения высказал в начале XIX в. поэт и фило-
лог А.Ф. Мерзляков, писавший, что «самая гладкость и легкость суть
качества относительные, а не существенные. Стихотворец так же мо-
жет быть иногда и тяжелым, и шероховатым, как быстрым и легким, по
1 Вяземский ПА. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 264.
Поэт Сергей Никифорович Марин (1776—1813), который славился остро-
умием своих пародий и эпиграмм, ядовито писал, что сам Карамзин «список по-
служной поэмой называет». Эта стихотворная реплика явно намекает на некую
особенность карамзинского слога — не отсутствие таланта в авторе, но на чуж-
дость его стихотворных произведений поэзии как таковой. Послужной список,
если уж взяться анализировать маринское уподобление, предполагает сухость, «кан-
целярность», логизированность выражения. Нечто подобное литературные про-
тивники и усматривали в Карамзине. Надо признать, что кое-какие основания для
этого были.
38
собственному его намерению, и это есть дело его искусства, а не по-
грешность»1.
Споры представителей «трудного слога» и «легкого слога» пре-
кратила сама жизнь. Умер Бобров, постригся в монахи и ушел из лите-
ратуры Ширинский-Шихматов, умер и «старик Державин». Без них
«дружина славян» быстро заглохла. В «Арзамасе» же вызревал вели-
кий талант — принятый туда после окончания лицея под прозвищем
Сверчок (персонаж стихов Жуковского) юный A.C. Пушкин2. В резуль-
тате «арзамасская» линия надолго возобладала в литературе.
1 Мерзляков А.Ф. О вернейшем способе разбирать и судить сочинения, особ-
ливо стихотворные, по их существенным достоинствам// Литературная критика
1800-1820-х годов. М., 1980. С. 195.
- Все члены «Арзамаса» носили аналогичные прозвища по именам героев по-
эзии Жуковского (сам он был Светланой, Батюшков — Ахиллом, Орлов — Рей-
ном, Вяземский звался Асмодеем, а тоже входивший в это общество «свободомыс-
лящих личностей» малоприятный Ф.Ф. Вигель ■*— Ивиковым Журавлем и т. п.).
ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ
(1769-1844)
Иван Андреевич Крылов — поэт, прозаик, драматург; сын армей-
ского офицера, после смерти отца с десятилетнего возраста был кан-
целярским служащим, кормильцем матери и брата, получив основное
образование самоучкой (фактически самоучкой выучился также вир-
туозно играть на скрипке). В 1780-е годы стал пробовать силы в дра-
матургии, написав комическую оперу «Кофейница» (1783, опубли-
кована в 1868 г.), затем еще несколько произведений в этом жанре и
трагедию «Филомела». В 1789 г. в Петербурге издавал (совместно с
И.Г. Рахманиновым) сатирический журнал «Почта духов», затем жур-
налы «Зритель» и «Санкт-Петербургский Меркурий».
В 1802 г. «Почта духов» была переиздана. В ней в сатирических
целях имитируется переписка различных сверхъестественных су-
ществ — название издания отталкивалось от названия сатирического
журнала писателя Федора Эмина «Адская почта, или Переписки Хро-
моногого беса с Кривым» (1769). Крылов был автором многих из этих
«писем» (видимо, писем гномов).
Повесть «Каиб» (1792) частью развивает принципы традиции
«философских повестей» Вольтера и «Персидских писем» Монтес-
кье, частью пародирует их. В ней также есть элементы сатиры на дес-
потизм, сочетающиеся с пародией на сатиру — вернее, на сатиричес-
кие «штампы». В повести есть и позитивные идеи нравственного
характера, мастерски вплетаемые в сюжет о скучающем восточном
деспоте Каибе, который однажды спас от своего кота мышь, превра-
тившуюся затем «в прекрасную женщину» и отправившую Каиба в
тяжелые и опасные странствования, исполняя его неосознанное же-
лание.
Продолжая выступать как драматург, И.А. Крылов написал не-
сколько комедий, среди которых «Бешеная семья» (1786), «Сочини-
тель в прихожей» (1786—1788), «Проказники» (1786—1788), «Аме-
риканцы» (1788, совместно с А.И. Клушиным).
40
«Подщипа» («Трумф») (1798—1800) — одно из лучших про-
изведений Крылова и редкий для русской драматургии того времени
образец гротесково-буффонной пьесы. Жанр ее определен автором
как «шутотрагедия». Этот великолепный шарж временами, действи-
тельно, превращается автором в жанровую пародию на трагедии
(классицистского типа). Интонации произведения иногда возвыша-
ются до сатиры большой остроты, но в основном носят юмористи-
ческий характер. Шутливо используются мотивы русского фолькло-
ра (царство царя Вакулы, его дочь-красавица Подщипа, девка
Чернавка и пр.).
Трагедия сумароковского типа пародируется уже в первых эпизо-
дах, когда Чернавка вещает «высоким штилем» (неожиданно приме-
шивая к нему «низовые» интонации), а княжна Подщипа ответствует
ей комедийными репликами из амплуа простонародной девки.
Далее И.А. Крылов «убивает двух зайцев» сразу — вводит в дей-
ствие женихов Подщипы, один из которых трусливый щеголь князь
Слюняй, олицетворенная пародия на кокетливых галломанов-пети-
метров, и иностранный принц Трумф — фигура, намекающая на не-
мецкое засилье при Павле I, солдафон, говорящий с карикатурным
акцентом: «пахат» вместо богат, «путит дал» вместо будет дано
или я дам, «не тушь» вместо не тужи и т. д. и т. п. Сами коверкае-
мые Трумфом слова и фразовые конструкции превращены Крыло-
вым в инструмент комизма (то же достигается благодаря воспроиз-
ведению сюсюкающей речи Слюняя). Крылов целит стрелы сатиры
и в отечественное разгильдяйство, ротозейство и беззаботную ле-
ность, от которых недалеко до беды — Трумф захватил царство Ва-
кулы, когда царь и его министры предавались безделью. Чернавка с
пафосом декламирует:
Ах! сколько видела тогда я с нами бед?
У нас из-под носу сожрал он наш обед,
Повыбил окна все; из наших генералов
Поделал он себе конюших да капралов,
По бешеным домам министров рассадил,
Всем графам да князьям затылки подобрил,
И ах! — как не пришиб его святой Никола! —
Он бедного царя пинком спихнул с престола!
Царство Вакулы спасает от Трумфа местная цыганка, «вся шай-
ка» которой «рассыпалась» среди армии захватчиков, подложив им «во
щи» слабительного («пурганиу»). У немцев началась «беготня», вос-
41
пользовавшись которой «молодцы» Вакулы «ихтолько окружили, /Так
немцы, слышь ты, все и ружья положили»1.
Среди других пьес И.А. Крылова следует отметить комедии «Мод-
ная лавка» и «Урок дочкам» (1806—1807), которые внутренне объе-
диняет тема дворянской галломании.
В «Уроке дочкам» дочери помещика Велькарова Фекла и Луке-
рья оказались воспитаны в городе у своей тетки «на последний манер»
и накликали в дом разных «нерусей». В наказание отец увез их в дерев-
ню «на покаяние», назначив самое страшное наказание — запретив
им говорить по-франиузски ( а «чтоб и между собой не говорили они
иначе, как по-русски, то приставил к ним старую няню Василису, кото-
рая должна, ходя за ними по пятам, строго это наблюдать»). Девицы
кипят от раздражения на отца. Лукерья восклицает:
«...С нашим вкусом, с нашими дарованиями, зарыть нас живых в
деревне; нет, да на что ж мы так воспитаны? к чему потрачено это вре-
мя и деньги?»
Далее следует такой дифирамб городской жизни, как она видится
этой девице:
«Боже мой! когда вообразишь теперь молодую девушку в городе, —
какая райская жизнь! по утру, едва успеет сделать первый туалет, явят-
ся учители: танцевальный, рисовальный, гитарный, клавикордныи; от
них тотчас узнаешь тысячу прелестных вещей: тут любовное похожде-
ние, там от мужа жена ушла; те разводятся, другие мирятся; там свадь-
ба навертывается, другую свадьбу расстроили; тот волочится за той,
другая за тем, — ну, словом, ничто не ускользнет, даже до того, что
знаешь, кто себе фальшивый зуб вставит, и не увидишь, как время прой-
дет. Потом пустишься по модным лавкам...»
Из такого пустого времяпрепровождения и жизни, состоящей из
муссирования различных «пикантных» сплетен, властной рукой выр-
вал дочерей отец.
Разгневанный Велькаров бросает дочкам: «В чем ваше знание?
Как одеться или, лучше сказать, как раздеться, и над которой бровью
поманернее развесить волосы. Какие ваши дарования? Несколько пе-
сенок из модных опер, несколько рисунков учителевой работы и не-
утомимость прыгать и кружиться на балах; а самое-то главное ваше
достоинство то, что вы болтаете по-французски; да только уж что бол-
таете, того не приведи бог рассудительному человеку ни на каком языке
слышать!»
1 См. подробно о творчестве И.А. Крылова в XVIII веке: Минералов Ю.И.
История русской словесности XVIII века. М., 2003.
42
Эти слова проецируются не просто на конкретную ситуацию и на
двух выдуманных драматургом «дочек», а на широко распространен-
ный во времена Крылова стандарт дворянского девичьего «воспитания»
и «образования». Более чем семь десятилетий спустя сходное воспита-
ние княжон Щербацких стало предметом едкой иронии Л. Н. Толстого
з романе «Анна Каренина» — проблема, к сожалению, и тогда остава-
лась животрепещущей.
В имении Велькарова неожиданно появляется переодетый во «фра-
чок» слуга Семен, выдающий себя за ограбленного француза — «мар-
киза Глаголя». В заговоре с ним служанка Даша, на которой он обещал
жениться. Как «маркиз» и рассчитывал, гостеприимный Велькаров тут
же велит одеть его в свое платье и выдать двести рублей. Плут Семен
ликует: «Двести рублей уж тут, и комедия почти к концу; еще бы столько
же, или на столько же хоть выманить от красавиц, то к вечеру сложу
маркизство, с барином своим распрощаюсь чин чином и завтра ж ле-
тим в Москву!»
Дочки начинают виться вокруг «иностранца», всячески побуждая
его поговорить с ними по-французски, а «маркиз Глаголь», ни слова на
этом языке не знающий, разными способами комично уклоняется от
перехода на «родной язык», говоря, хотя и с акцентом, по-русски (од-
нако в минуты волнения утрачивая этот акцент).
Умный и наблюдательный Велькаров быстро разоблачает Семена,
но решает его не наказывать: «Господин маркиз Глаголь, ты бы стоил
доброго увещания, но я прощаю тебя за то, что сегодняшним примером
дал ты моим дочкам урок. Встань, возьми свою Дашу, и поезжайте с
ней куда хотите».
Для дочек (которые по ходу действия еще и имели глупость оттол-
кнуть от себя предложенных отцом русских женихов) отцом припасено
весьма суровое решение:
«А вы, сударыни! я вас научу грубить добрым людям, я выгоню из
вас желание сделаться маркизшами! Два года, три года, десять лет ос-
танусь здесь, в деревне, пока не бросите вы все вздоры, которыми на-
била вам голову ваша любезная мадам Григри; пока не отвыкнете вос-
хищаться всем, что только носит не русское имя, пока не научитесь
скромности, вежливости и кротости, о которых, видно, мадам Григри
вам совсем не толковала, и пока в глупом своем чванстве не переста-
нете морщиться от русского языка».
Крылов уже давно был весьма известным драматургом и прозаи-
ком, когда в начале нового XIX столетия он стал публиковать свои бас-
ни (первыми из них были «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста»).
В 1809 г. он издал сборник басен, включавших 23 произведения. Затем
ло
вплоть до 1843 г. новые басни Крылова постепенно издавались, и их
^собрание составило в конце концов девять частей.
Всего И.А. Крыловым сочинено около 200 басен, среди которых
«Волки и Овцы», «Мор зверей», «Рыбьи пляски», «Синица», «Кре-
стьянин и Работник», «Осел и Соловей», «Конь и Всадник», «Ко-
лос», «Крестьяне и Река», ««Листы и Корни», «Ворона и Лисица»,
«Волк и Ягненок», «Мартышка и очки», «Тришкин кафтан», «Зер-
кало и Обезьяна», «Квартет», «Лебедь, Шука и Рак», «Свинья под
дубом», «Ворона и Курица», «Волк на псарне», «Слон и Моська»,
«Стрекоза и Муравей», «Петух и жемчужное зерно», «Раздел»,
«Гуси», «Обезьяны», «Демьянова уха», «Две собаки», «Огородник
и Философ», «Шука», «Любопытный», «Лжец», «Ларчик», «Ме-
ханик», «Водолазы», «Сочинитель и Разбойник», «Кот и повар» и
др. Они принесли Крылову славу классика-баснописца.
К моменту, когда уже немолодой Крылов стал печатать в начале
'XIX в. свои первые басни, интерес русских поэтов к работе в данном
жанре сравнительно с XVIII в. шел на убыль. Чуть позже, в пушкинс-
кое время, басни стали писать еще реже. Лучшим баснописцем к мо-
менту появления басен Крылова читатели и критики называли друга
Н.М. Карамзина поэта-сентименталиста И.И.Дмитриева. Слава Кры-
лова как еще одного мастера этого жанра распространилась весьма
быстро, и современники вскоре стали считать его и Дмитриева равно-
великими фигурами. П.А. Вяземский писал, сравнивая их басни:
«Дмитриев и Крылов два живописца, два первостатейные мастера
двух различных школ. Один берет живостью и яркостью красок: они
всем кидаются в глаза и радуют их игривостью своею, рельефностью,
поразительною выпуклостью. Другой отличается более правильностью
рисунка, очерков, линий. Дмитриев, как писатель, как стилист, более
художник, чем Крылов, но уступает ему в живости речи. Дмитриев пи-
шет басни свои; Крылов их рассказывает. Тут может явиться разница
во вкусах: кто любит более читать, кто слушать. В чтении преимуще-
ство остается за Дмитриевым»1.
Далее рассуждения карамзиниста и арзамасца П.А. Вяземского
понемногу переходят в панегирик И.И. Дмитриеву:
JJ? «Басни Дмитриева всегда басни. Хорош или нет этот род, это за-
висит от вкусов, но он придерживался условий его. Басни Крылова —
нередко драматированные эпиграммы на такой-то случай, на такое-то
лицо. <...> Крылов сосредоточил все дарование свое, весь ум свой в из-
вестной и определенной раме. Вне этой рамы он никакой оригинально-
1 Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 356.
44
сти, смеем сказать, никакой ценности не имеет. Цену Дмитриева пой-
мешь и определишь, когда окинешь внимательным взглядом все раз-
нородные произведения его и взвесишь всю внутреннюю и внешнюю
ценность дарования его и искусства».
Отдельные басни на общие обоим поэтам сюжеты, пожалуй, луч-
ше удавались И.И. Дмитриеву. Не случайно В.Г. Белинский писал, что
«знаменитая в свое время, но довольно пошлая басня Лафонтена —
«Два Голубя» в переводе Дмитриева лучше, нежели в переводе Кры-
лова: Крылову никогда не удавалось быть сантиментальным!» (статья
«Иван Андреевич Крылов»).
Игривый, грациозный и одновременно несколько слезливый сю-
жет этой басни Лафонтена был весьма органичен для поэтического дара
сентименталиста Дмитриева, который дополнительно нюансировал его
ироническими интонациями (например, у него два голубя «поклева-
лись» — по образцу «поцеловались»)1.
И.А. Крылов, со своей стороны, или не умел, или, что точнее, за-
ведомо не хотел писать в сентименталистском духе. Его басня «Два Го-
лубя» утратила черты «легкой поэзии», приобретя взамен традицион-
ные для басенного жанра нравоучительные интонации, которых именно
Крылов в своем творчестве вообще-то избегал.
Так или иначе, со времен написания цитированных слов Вяземско-
го история литературы успела однозначно сопоставить масштабы об-
щепоэтического и «басенного»дарования И.И.Дмитриева и И.А. Кры-
лова: первый ныне читается редко, а второй еще в XIX в. стал
признанным лидером русской басни.
Уникальной чертой Крылова-баснописца является его умение до-
нести свое произведение во всем богатстве его смысла как до взрос-
лой, так и до детской аудитории. С лучшими его баснями читатель впер-
вые знакомится в школьном (а частью и дошкольном ) возрасте, но потом
не расстается с ними никогда. В этом плане талант И.А. Крылова по
характеру своему заслуживает сопоставления с талантом A.C. Пушки-
на, в одних и тех же произведениях которого также что-то находят для
себя люди самых разных возрастов и образовательных уровней.
A.A. Потебня писал: «Басня, судя по сотням примеров, есть ответ
на весьма сложные случаи, представляемые жизнью... басня служит
быстрым ответом на вопрос, предъявляемый нам известным сцепле-
нием явлений, известными событиями...»2
1 См. подробный разбор данной басни И.И.Дмитриева в кн.: Минералов Ю.И.
История русской словесности XVIII века.
2 Потебня АЛ. Теоретическая поэтика. М., 1989. С. 64—65. ^ фсГ>
45
î-fti И.А. Крылов создавал произведения в основном на собственные
оригинальные сюжеты. Но ряд его басен либо написан на «вечные сю-
жеты» басенного жанра, восходящие в глубокую древность (в основ-
ном к басням Эзопа), либо представляет собой прямой перевод басен
кого-либо из зарубежных предшественников ( Лафонтен, Лессинг и др. ).
Как на характерный пример первого можно указать на басню «Лисица
и виноград», как пример второго — на басню «Ворона и Лисица» (ру-
сифицированный перевод непосредственно из французского баснописца
Лафонтена).
Второй сюжет до Крылова привлекал внимание множества басно-
писцев, создававших различные его вариации. Обращает на себя вни-
мание, что у Эзопа, Лессинга, Сумарокова и Тредиаковского это басня
«Ворон и Лисица». У Лафонтена тоже ворон (по-французски un
corbeau), а не ворона (по-французски une corneille). Вдобавок по-фран-
цузски лиса мужского рода, то есть в басне Лафонтена представлены
ворон и лис (un renard).
У И.А. Крылова ворон превращен в ворону — именно эта птица в
русском фольклоре фигурирует как наивная разиня (ворон в русском
фольклоре, напротив, птица мрачная, но мудрая, «вещая»). Такое из-
менение образа персонажа мотивировано даже фонетически — хотя
биологически это разные птицы, но названия их по-русски близко со-
звучны. В результате крыловское произведение оказалось точно впи-
сано в ассоциативные представления русского читателя (чего нельзя
сказать о баснях Сумарокова и Тредиаковского, формально воспроиз-
ведших, следуя букве текстов иностранных предшественников, фигуру
ворона).
Далее, и лис под пером Крылова превращается в лису — в то са-
мое животное, которое фигурирует в русском фольклоре как плутовка
Лиса Патрикеевна и являет собой в нем тот же образец предприимчи-
вости и лукавства, что, например, Рейнеке-лис в немецком фольклоре.
Вышеотмеченное — примеры того, как конкретно, уже на уровне
текста, его деталей, проявляется в общей форме неизменно и справед-
ливо отмечаемая многими авторами народность выражения, достиг-
нутая И.А. Крыловым в жанровой сфере русской басни. Сюжет и пер-
сонажи крыловских басен являют это качество уже во внутренне
завершенной и зримой форме. >*<
Перевод Крылова по отношению к лафонтеновскому тексту носит
вольный характер. У Лафонтена «Почтенный Ворон, усевшись на де-
рево, держал в своем клюве сыр» — у Крылова «На ель Ворона взгро-
моздясь, Позавтракать было совсем уж собралась, Да позадумалась, а
сыр во рту держала» (во рту, а не в клюве, ибо перед читателем алле-
46
гория из мира людей). У Лафонтена «Почтенный Лис, привлеченный
запахом, говорит ему примерно такую речь» — у Крылова «На ту беду
Лиса близехонько бежала; Вдруг сырный дух Лису остановил». Текст
басни Крылова в целом заметно более краток, чем у Лафонтена, и при
этом заведомо еще более экспрессивен («взгромоздясь», а не усевшись;
«позадумалась», «близехонько»; «сырный дух», а не запах, и т. п.) и
насыщен конкретными деталями (не просто некое дерево, а «ель»).
У Крылова сюжету предпослана краткая моральная сентенция:
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Басня, именующаяся у Крылова «Стрекоза и Муравей», одним из
источников тоже имеет басню Лафонтена «Цикада и муравей» («La
Cigale et la Fourmi»). Тут «Стрекоза» подсказана русскому поэту вер-
ным художественным чувством: в России цикады водились лишь в юж-
ных губерниях и были большой части народа малоизвестны, а стрекоза
в нашем фольклорном сознании олицетворяет изящество и непоседли-
вость. Кроме того, Крылову была известна написанная в XVIII в. басня
И.И. Хемницера «Стрекоза». Что до муравья (по-французски, как и
цикада, это слово женского рода), то по-русски его образ обрел черты
образа хозяйственного мужичка, наставляющего на путь истины лег-
комысленную даму-плясунью (у Лафонтена представлен диалог двух
соседок — цикада пытается одолжить у муравьихи съестного до буду-
щего лета).
Общее у Крылова с Лафонтеном то, что они преодолели чисто мо-
рализаторский, поучительно-дидактический характер басенного жан-
ра, вместо краткой сентенции в духе Эзопа развертывая блещущее ис-
крами юмора сюжетное повестование и обычно перемещая центр
тяжести с «морали» на него. Многие басни Лафонтена, по сути, пред-
ставляют собой иносказательные иронические сценки из французской
жизни, а басни Крылова — аналогичные аллегорические сцены из рус-
ской жизни и быта. В виде примера достаточно вспомнить крыловские
басни «Тришкин кафтан», «Демьянова уха», «Лебедь, Щука и Рак»,
«Кот и Повар», «Гуси» и др.
Прохожий вопрошает Гусей (которых Мужик невежливо гнал хво-
ростиной, возбуждая их недовольство):
'«Вы сколько пользы принесли?» —
«Да наши предки Рим спасли!» —
47
«Все так, да вы что сделали такое?» —
«Мы? Ничего!» — «Так что ж и доброго в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».
«Гуси» осмеивают манеру русской аристократии кичиться древно-
стью и знатностью происхождения (по характеру сатирической направ-
ленности эта басня перекликается со второй сатирой АД. Кантемира
«На зависть и гордость дворян злонравных»).
Ряд басен Крылова посвящен теме увлечения высших классов об-
щества всем иностранным. Тут можно вспомнить басню «Обезьяны» и
особенно «Воспитание Льва». В последней басне Львенок, наследник
лесного престола, был отдан отцом на воспитание к царю пернатых
Орлу. В результате тот вернулся, назвал отца «папа» (с французским
ударением на последнем слоге) и сообщил, что выучился тому, «чего не
знает здесь никто», — и, став царем, намерен начать «зверей учить
вить гнезды».
Глубкомысленное нравоучение, которое многие авторы различных
стран и народов стремились произнести в рамках басни и при этом сде-
лать его смысловым центром произведения (эзоповская традиция), у
Крылова-баснописца во многих случаях сменилось где сатирой широ-
кого звучания, где великолепным народным юмором.
Бросается в глаза, что лучшие басни Крылова — словно миниатюр-
ные комедии( нередко с хорошо разработанным диалогом). (В этом пла-
не из предшественников особенно близок ему Лафонтен.) Тем самым,
накопленный ранее опыт драматурга-комедиографа неожиданно при-
годился Крылову для нового рода творчества.
Примером такой «басенной» драматургии Крылова помимо рас-
смотренной выше «Вороны и Лисицы» может послужить «Волк на
псарне». Это самая знаменитая из его басен на аллегорические сюже-
ты, связанные с темой Отечественной войны 1812 года (ср. еще «Во-
рона и курица»).
В начале басни четко очерчено «сценическое пространство» (псар-
ный двор).
Волк ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор.
Лочуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
48
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» —
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
«Огня! — кричат; — огня!» Пришли с огнем.
Зримая динамика предельно лаконически описываемого словами
действия в цитированном фрагменте стремительно нарастает: сперва
псарный двор только «поднялся», но вот уже «в минуту» только что
мирно спавшая псарня «стала адом» (для незваного гостя). На словах
«пришли с огнем» это бурное движение останавливается. Враг загнан
в угол. Хотя «Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть», Волк пуска-
ется «в переговоры».
На его хитрые речи Ловчий (в образе которого современники бе-
зошибочно опознавали М.И. Кутузова) дает вошедший в пословицы
ответ:
«Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой, ^<|отож>и А
Как снявши шкуру с них долой».
И.А. Крылов подобно своему младшему сотоварищу по «Беседе
любителей русского слова» A.C. Грибоедову активно преломлял в
своем поэтическом слоге специфические черты устной речи, при этом
нередко оформляя свою фразу как наполненный смысловыми нюан-
сами афоризм. В приведенных фрагментах басни к числу этих черт
принадлежат, например, эллипсисы: «И вмиг ворота <были закры-
ты псарями> на запор», «<Люди, псари> бегут: иной с дубьем, иной
с ружьем» и т. п. Ловчий, не вдаваясь в ответные «переговоры» про-
сто «припечатывает» Волка-лицемера каламбуром: «Ты сер, а я, при-
ятель, сед».
Вольный стих (стих со строками различной длины) в соответствии
с принципами басенной традиции охотно используется Крыловым, на-
пример:
К ней ластяся, как будто бы к родне,
Он, с умиленья чуть не плачет,
И под окном
4—Минералов 49
Визжит, вертит хвостом
И скачет.
(«Две Собаки»)
Есть интересные отступления от этой манеры — такие, как басня
Крылова «Стрекоза и Муравей», написанная четырехстопным хореем.
Проблематика басен И.А. Крылова чрезвычайно разнообразна. Он
может высмеять верхогляда, который рассмотрел в петербургской Кун-
сткамере множество «козявок, мушек, таракашек», но слона «и не при-
метил» («Любопытный»). Крылов может написать сатиру на судеб-
ную казуистику, когда хищную Щуку в порядке высшего наказания
решают приговорить к утоплению в реке («Щука»), а Овце торжествен-
но предоставляют законом право Волка «схватить за шиворот и в суд
тотчас представить» («Волки и Овцы»). Он смеется над хвастунами и
прожектерами в сюжете о Синице, которая «хвалилась, что хочет море
сжечь» («Синица»), Хвастовство и ложь он столь же остроумно пред-
ставляет «во всей их красе» в басне про «римский огурец», который,
по рассказам Лжеца, был «с гору» («Лжец»). Достается от него льсте-
цам, ходящим «на задних лапках» («Две Собаки»). Крылов тонко иро-
низирует над ложной ученой «мудростью» в сюжете о ларчике, кото-
рый «просто открывался» («Ларчик»).
К некоторым темам Крылов возвращался в своих баснях неоднок-
ратно, как бы высвечивая разные их стороны. Так, «Лебедь, Щука и
Рак» и «Квартет» на различном аллегорическом сюжетном матери-
але наглядно демонстрируют, к чему ведут некомпетентность и несог-
ласованность. «Волк и Журавль» и «Крестьянин и Работник» об-
личают человеческую неблагодарность. «Лисица и Осел» и «Лев
состарившийся» повествуют о «душах низких», оскорбляющих тех,
кто ослабел или состарился и перестал быть опасен1.
Вслед за Лафонтеном на французской почве русский поэт
И.А. Крылов блестящим образом видоизменил древний жанр басни.
Еще во второй половине XIX в. великий славянский филолог A.A. По-
тебня мог высказывать сомнения в плодотворности этой их жанровой
реформы, превратившей, по его мнению, басню как «сильное публи-
цистическое орудие» в «игрушку» в результате введения в нее «под-
робностей и живописных описаний»2. С тех пор прошло еще полтора
1 Жизненные прототипы образов и сюжетов Крылова подробно рассмотрены
в работе: Кеневич В.Ф. Библиографические и биографические примечания к бас-
ням Крылова. Спб., 1868.
2 Потебня A.A. Теоретическая поэтика. С. 66—67.
50 i*H*M-*
столетия, лишний раз высветивших ту несомненную истину, что в сфе-
ре искусства все определяется силой таланта, мастерством художника.
Если, по наблюдениям того же A.A. Потебни, многие архаические
басни в процессе функционирования способны «сжиматься в послови-
цу», то басни Крылова проявляют высокоразвитую способность, гово-
ря словами Потебни, «выделять из себя пословицу (что не все равно)»1.
Крылатых выражений из крыловских басен (по функции своей близких
к пословицам) существует чрезвычайно много («Воз и ныне там», «Ай,
Моська! знать она сильна, что лает на Слона!», «А Васька слушает, да
ест», «Желуди на мне растут», «А ларчик просто открывался», «Ты
виноват уж тем, что хочется мне кушать», «Демьянова уха», «А вы,
друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», «Слона-то я и
не приметил», «Сильнее кошки зверя нет» и др. нннляитэф <<mihi\.
Басня архаического («эзоповского») типа в силу сложных причин
культурно-исторического характера если и не вполне ушла из литера-
турного обихода, то со времен Крылова держится на его периферии
(хотя, конечно, нельзя исключить возрождение интереса к ней писате-
лей и читающей публики в будущем). Напротив, И.А. Крылов со свои-
ми баснями наряду с A.C. Пушкиным и A.C. Грибоедовым, работавши-
ми в других жанрах, — один из классиков русской поэзии начала XIX в.
и при этом так же, как и они, писатель, сделавший первые пробы в
направлении реалистического письма.
Но главное состоит, пожалуй, в том, что, своими баснями И.А. Кры-
лов не просто создал мощное направление в русской поэзии, творчес-
ким лидером которого остается по сей день. В своих баснях он создал
особый целостный мифопоэтический мир.
Этот крыловский структурно-семантический феномен некоторы-
ми чертами заметно напоминает мир русской сказки. Вполне естествен-
но и задано спецификой сказочного мира, например, что появляющий-
ся в различных фольклорно-сказочных сюжетах Волк воспринимается
как один и тот же мифологический персонаж (а не разные волки), и
своим присутствием он объединяет различные сказки по смыслу. Ана-
логично положение и с прочими основными антропоморфными и зоо-
морфными героями сказок: своими переходами из произведения в про-
изведение они обеспечивают внутреннюю целостность сказочной
семантики, создают «материальную основу» особого мира сказки2.
1 Потебня A.A. Теоретическая поэтика. С. 99.
2 Понятным образом есть и иные объективные «механизмы», создающие осо-
бый мир русской фольклорной сказки. Их отдельное рассмотрение просто не вхо-
дит в задачи данной книги.
4* 51
Аллегоризм (иносказательный характер) басни как жанра, разу-
меется, никуда не подевался у Крылова. Однако благодаря уникальной
образной живописности и конкретности его произведений читатель од-
новременно как бы «и помнит и не помнит» об этом аллегоризме, ув-
леченно пребывая в условном мире крыловской образности и сюжет-
ности.
Подобно сказкам, в баснях мыслят и говорят деревья и цветы, Па-
стухи беседуют с Овцами, Ловчий с Волком и т. д. и т. п. При этом каж-
дый из основных крыловских персонажей (Осел, Ягненок, Петух, Орел,
Лев, Соловей, Слон, Мышь, Змея; Мужик, Крестьянин, Разбойник и
др.) по образу и подобию сказки может закономерно осознаваться чи-
тателем как один и тот же персонаж, при переходе из басни в басню
лишь претерпевающий различные новые приключения и связанные с
ними метаморфозы. «Слон на воеводстве» (из одноименной басни) и
«Слон в случае», с одной стороны, и Слон, которого люди в городе «по
улицам... водили» («Слон и Моська») — с другой, казалось бы, непо-
хожи, но это несходство чисто ситуативное: в крыловском мире это как
бы один герой в различных обстоятельствах. Аналогично, например,
Обезьяна с зеркалом (из одноименной басни) — как бы одна из «пере-,
имчивых» Обезьян (из другой одноименной басни).
В удивительном крыловском мире само собой подразумевается
постоянное жизненное присутствие даже персонажей, появляющих-
ся лишь однократно, в том или ином произведении (Тришка с его не-
лепым кафтаном, Водолазы, Механик, разборчивая Невеста, нерасчет-
ливый Троеженец и пр.). Выступив в одном сюжете, они «за кадром»
по-прежнему остаются в этом мире.
Важно отметить, что при чтении басен Хемницера, Измайлова,
Дмитриева и других русских предшественников И.А. Крылова объек-
тивной основы для подобных структурно-семантических процессов не
обнаруживается. Уникальный мифопоэтический мир крыловских ба-
сен создан благодаря особенностям личного таланта автора1.
1 Сказочность и фантастичность образности и сюжетики сами по себе отнюдь
не есть основа для формирования писателем того или иного мифопоэтического мира.
Так, аналогичного крыловскому эффекта не достигает, например, в своих балладах
В.А. Жуковский: его мистические персонажи составляют традиционный для ро-
мантизма открытый ряд, но не образуют особого замкнутого «мира Жуковского».
Необходимой для последнего специфической структурно-семантической внутрен-
ней связи между произведениями Жуковского не обнаруживается (случаи исполь-
зования им одного сюжета дважды — баллады «Людмила» и «Светлана» — явле-
ние иного порядка).
52
ИЛ. Крылов, начавший свою деятельность в XVIII в. как про-
заик и драматург, в XIX в. стал классиком русской басни. Он усо-
вершенствовал и обновил басенный жанр, придал ему подлинную
народность. Басни Крылова отличают глубина мысли, художе-
ственная мощь и глубокая оригинальность. В них поэтом создан
особый художественно-мифопоэтический мир. В баснях Крылова
находят нечто «свое» читатели всех возврастов и поколений.
С другой стороны, особый мифопоэтический мир отдельным русским писате-
лям удавалось создать не на условно-сказочной, а на реально-бытовой основе. Та-
кой мир был создан, например, во второй половине XIX в. в дилогии П.И. Мельни-
кова-Печерского «В Лесах» и «На Горах». Хотя вообще дилогия своим
своеобразием изумила многих читателей-современников (по свежим следам неко-
торые критики наименовали ее особым образом: «эпопея»), писательские постро-
ения автора восприняли в основном по привычным схемам. Говорилось, например,
об «этнографически точном» отражении им реальности.
На самом деле в дилогии был дан сложный художественный образ реально-
сти, далеко с ней не совпадавший. В мире Мельникова-Печерского, например, ря-
дом существуют современные старообрядцы и... озеро Светлый Яр, на дне которо-
го живет сказочный град Китеж (и герои-старообрядцы посещают это место).
В дилогии «В Лесах» и «На Горах» вообще действует особая «художественно-ми-
фологическая» логика. (См. подробно: Минералов Ю.И., Минералова И.Г. Исто-
рия русской литературы XIX века (70—90-е годы). М., 2006.) Наконец, есть вели-
колепные примеры создания мифопоэтического мира в сфере лирической поэзии.
Не вдаваясь в подробности, укажем в данной связи на первую книгу A.A. Блока
«Стихи о Прекрасной Даме». (См. подробно: Минералов Ю.И., Минералова И.Г
История русской литературы XX века ( 1900— 1920-е годы). М., 2006.)
Ни у Крылова, ни у Мельникова-Печерского, ни у Блока не заметно рацио-
нально осознанного стремления создать то, что выше именовалось особым мифо-
поэтическими миром. К этому настоящий писатель приходит интуитивно. В каж-
дом конкретном случае «мифопоэтика» реализуется индивидуальным образом в
связи с конкретными целями и задачами художника.
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ
(1787 — 1855)
Константин Николаевич Батюшков — поэт, родился в Вологде,
происходил из старинного дворянского рода (двоюродный племянник
поэта М.Н. Муравьева, оказавшего на него большое влияние). Учился
в петербургских иностранных (иезуитских) пансионах, затем поступил
на службу в министерство народного просвещения. Живя в Петербур-
ге, стал печатать стихи и сблизился с кружком карамзинистов; позже
стал участником созданного ими общества «Арзамас» (1816).
Первая публикация — сатира «Послание к стихам моим» (1805).
Тяга к иронической и пародийной поэзии сохранилась у поэта и поз-
же — например, «Видение на берегах Леты» (1809). Но в целом то-
нальность произведений Батюшкова постепенно менялась от несколь-
ко наигранных жизнерадостных ноток «эпикуреического» раннего
творчества («Веселый час», «Мои пенаты», «Мой гений», «КЖу-
ковскому» и др.) до мрачных и трагических интонаций поздней лирики
(сРазлука», «Кдругу», «Пробуждение», «Мой гений», «Послушай,
что изрек...», «Таврида» и др.).
В 1807 г. Батюшков записался в народное ополчение, шедшее в со-
юзную Пруссию против Наполеона, и был тяжело ранен под Гейдельбер-
гом; участник заграничного похода русской армии против наполеоновс-
кой Франции в 1813—1814 годах (военные впечатления преломились в
стихотворениях «К Никите», «Пленный», «Переход русских войск че-
рез Неман 1 января 1813 года», «Переход через Рейн 1814» и др.).
В 1817 г. издал итоговую кн игу « Опыты в стихах и прозе ». В 1819 г. уехал
в Италию на дипломатическую службу, но в 1821 г. психически заболел
(имевшая наследственный характер мания преследования). Умер от тифа.
Сборник «Опыты в стихах и прозе» — основное прижизненное
издание сочинений Батюшкова.
Проза представлена здесь воспоминаниями, критическими статье
ями и очерками «Нечто о поэте и поэзии », «О характере Ломоносо-
54
ва», «Вечер у Кантемира», «Отрывок из писем русского офицера о
Финляндии», «Прогулка в Академию художеств», «Нечто о морали,
основанной на философии и религии», «Ариост и Тасс» и др. Среди
них сегодня естественно обратить внимание на те произведения, в ко-
торых преломились эстетические взгляды Батюшкова и его литератур-
ная позиция.
Сюда относится, например, «Речь о влиянии легкой поэзии на
язык, читанная при вступлении в «Общество любителей русской сло-
весности» в Москве» (1816). «Все роды хороши, кроме скучного», —
справедливо заявляет автор.
«Вечер у Кантемира» (1816) обрисовывает вымышленную бесе-
ду в Париже поэта А.Д. Кантемира ( 1708— 1744), служившего там рос-
сийским послом, с философом-просветителем Монтескье (они действи-
тельно были хорошо знакомы). Монтескье, пришедший к Кантемиру с
неким «аббатом В.», проявляет удивительное невежество во всем, что
касается России, русского языка и русской литературы. Кантемир же,
по воле Батюшкова, сообщает, что «первый осмелился писать так, как
говорят» и «первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские,
чужестранные, не свойственные языку русскому».
«Писать так, как говорят» — излюбленный тезис писателей-ка-
рамзинистов. Эту задачу они понимали, однако, как просто опору на
слова современного русского языка, стараясь избегать архаизмов и
церковнославянизмов. При этом о преломлении современного устно-
разговорного синтаксиса речь не только не шла — напротив, фраза
карамзинистов неизменно тяготеет к противоположной ей по структу-
ре, нередко явно логизированной, «органической» фразе письменно-
го типа (то есть на деле карамзинисты отнюдь не писали, «как гово-
рят»: напротив, так попытался писать — и притом успешно — в
комедии «Горе от ума» A.C. Грибоедов, как раз их противник)1.
Это не имеет ничего общего с поэтическим синтаксисом Кантеми-
ра, о котором еще К.С. Аксаков справедливо сказал в своей магистер-
ской диссертации, что в его стихах «русский язык, до сих пор еще жив-
ший в стихии разговора, не привыкший к письму, странно ложился на
бумагу... слова были русские, язык русский, но все чужда ему была бу-
мага, чужд синтаксис собственно...» (то есть чужд письменный, «орга-
нический» синтаксис. — ЮМ.)2.
1 См. подробно: Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. М., 1999.
2 Аксаков КС. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка//Акса-
ков КС. Поли. собр. соч. Т. II. Ч. 1. Сочинения филологические. М., 1875. С. 258.
См. также: МинераловЮ.И. История русской словесности XVIII века. М., 2003.
55
Следовательно, в данном произведении поэт-карамзинист Батюш-
ков превращает подлинного Кантемира в свой литературный персо-
наж, устами которого просто пропагандирует карамзинистские твор-
ческие принципы. Карамзинисты ставили своей задачей «очищение
языка» — и вот батюшковский Кантемир, поэт XVIII в., сообщает
Монтескье, что насчитывающий многие столетия своего развития рус-
ский язык... «в младенчестве». Это исторически неверно, зато вполне
согласуется со словами самого Батюшкова из предисловия к «Вечеру у
Кантемира», что «Кантемир писал русские стихи... когда язык наш
едва становился способным выражать мысли просвещенного челове-
ка» (он заставляет своего Кантемира даже сравнить русских со скифа-
ми). Впрочем, в уста Кантемира вкладываются и слова, что «со време-
нем» (то есть, видимо, в результате благотворной деятельности
карамзинистов) русский язык «будет точен и ясен, как язык остроум-
ного Фонтенеля и глубокомысленного Монтескье».
Не вошедший в «Опыты» очерк Батюшкова «Прогулка по Моск-
ве» — яркий предшественник «физиологических очерков» натураль-
ной школы 1840-х годов1.
Для понимания некоторых нюансов его содержания следует напом-
нить, что он написан уже после окончания борьбы России с Наполео-
ном, участником которой был поэт в качестве русского офицера. При
всей — общей карамзинистам — увлеченности французской цивили-
зацией Батюшков теперь на многое смотрит весьма трезво. Это чув-
ствуется, например, по описанию расположившихся в Москве иност-
ранных книжных лавок. По словам автора, «Книги дороги, хороших
мало, древних писателей почти вовсе нет, но зато есть мадам Жанлис и
мадам Севинье — два катехизиса молодых девушек — и целые груды
французских романов — достойное чтение тупого невежества, бессмыс-
лия и разврата» (фразу типа последней мог бы написать в своем памф-
лете «Происшествие в царстве теней» и сам Бобров!).
Вологжанин Батюшков, уроженецдругого старинного города, явно
любуясь, с пониманием наблюдает старинную Москву:
«Войдем теперь в Кремль. Направо, налево мы увидим величе-
ственные здания, с блестящими куполами, с высокими башнями, и все
это обнесено твердою стеною. Здесь все дышит древностью; все напо-
минает о царях, о патриархах, о важных происшествиях; здесь каждое
место ознаменовано печатию веков протекших. Здесь все противное
1 Об очерках натуральной школы см.: Минералов Ю.И. История русской ли-
тературы XIX века (40-60-е годы). М., 2003. *
56
тому, что мы видим на Кузнецком мосту, на Тверской, на булеваре и
проч. Там книжные французские лавки, модные магазины, которых урод-
ливые вывески заслоняют целые домы, часовые мастера, погреба, и,
словом, все снаряды моды и роскоши. В Кремле все тихо, все имеет
какой-то важный и спокойный вид...»
Впрочем, следует напомнить, что интерес к русской старине имен-
но к моменту написания очерка вспыхнул в карамзинистах в связи с
тем, что Н.М. Карамзин в 1816 г. издал первые восемь томов «Исто-
рии государства российского» (а о ходе работы над ней его последова-
тели были информированы еще до выхода издания).
Далее следует более привычное и ожидаемое в устах автора, при-
выкшего осознавать себя западником, негативное суждение о русской
словесности, то есть литературе ( подразумевается явно литература «до-
карамзинская»):
«Вот и целый ряд русских книжных лавок; иные весьма бедны. Кто
не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно
так, как рыбой, мехами, овощами и проч., без всяких сведений в сло-
весности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика жур-
налов и фабрика романов и что книжные торгаши покупают ученый
товар, то есть переводы и сочинения, на вес, приговаривая бедным ав-
торам: не качество, а количество! не слог, а число листов! Я боюсь заг-
лянуть в лавку, ибо, к стыду нашему, думаю, что ни у одного народа нет
и никогда не бывало столь безобразной словесности» (курсив мой. —
ЮМ.).
В целях вящей объективности следует напомнить, что представи-
телями этой якобы находящейся в столь удручающем состоянии сло-
весности до Н.М. Карамзина и К.Н. Батюшкова были, например,
М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев, ПР. Державин и др.
Как образец ранней лирики Батюшкова можно указать «Посла-
ние к Хлое» (1804 или 1805):
Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться
И в мирну хижину навек переселиться.
Веселий шумных мы забудем дым пустой:
Он скуку завсегда ведет лишь за собой.
За счастьем мы бежим, но редко достигаем,
Бежим за ним вослед — ив пропасть упадаем!
Своей «Хлое» лирический герой Батюшкова предлагает «из хи-
жины» бросить «взгляд на свет». Картины неприглядной светской жиз-
ни, рисуемые далее, и произносимые героем инвективы перекликают-
57
ся с аналогичными мотивами, возникавшими еще в сатирах Сумароко-
ва и державинской «Фелице», то есть уже составлявшими ко време-
нам Батюшкова для поэзии своего рода «жанровый ритуал».
В заключение следует едва ли не стандартный для поэтов-роман-
тиков призыв:
Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!
Бегство с любимой, носящей условное литературное имя, «в хи-
жину» от «веселий шумных» и иные мотивы стихотворения представ-
ляют собой легко узнаваемые «ритуальные» романтические атрибуты.
Среди ранних произведений Батюшкова нельзя не указать и на сти-
хотворение «Бог» ( 1804 или 1805). Оно объективно принадлежит той
же традиции духовной поэзии, что, например, ломоносовские «Вечер-
нее размышление о Божием величестве» и составляющее с ним еди-
ную композицию «Утреннее размышление», а также, разумеется, дер-
жавинская ода «Бог».
Начало и конец, средина всех вещей!
Во тьме ты ясно зришь и в глубине морей.
Хочу постичь тебя, хочу — не постигаю.
Хочу не знать тебя, хочу — и обретаю.
Только некий «безбожный лжемудрец», сидя в «в мрачной хижи-
не», смеет отвергать Бога. Но и он «в страхе скажет»: «Смиряюсь пред
Тобой!»
Написанное в те же ранние годы послание «К Филисе» — откро-
венное подражание поэзии Карамзина (оно даже написано в целом не
характерным для Батюшкова, но усиленно пропагандировавшимся Ка-
рамзиным белым стихом)1:
Что скажу тебе, прекрасная,
Что скажу в моем послании?
1 В карамзинском «Вестнике Европы» рифма была язвительно названа «пус-
тым трудом».
См.: Вестник Европы. 1802. Т. 4. С. 10.
Батюшков позже лишь крайне редко пробовал писать белым стихом — см.
как пример стихотворение «Радость*.
58
Ты велишь писать, Филиса, мне,
Как живу я в тихой хижине,
Как я строю замки в воздухе,
Как ловлю руками счастие. <и т. д.>
Ср. с этим начало поэмы Н.М. Карамзина «Илья Муромец»:
Не хочу с поэтом Греции
звучным гласом Каллиопиным
петь вражды Агамемноновой
с храбрым правнуком Юпитера;
или, следуя Виргилию,
плыть от Трои разоренныя
с хитрым сыном Афродитиным
к злачным берегам Италии. <и т. д.>
Важно, что обычная для романтика «хижина» в тексте Батюшкова
упоминается уже в одном ряду с построением «замков в воздухе» — то
есть слегка окрашивается иронией, тоже характерной для лучших ро-
мантиков в России и за рубежом1.
С тем же оттенком легкой иронии в стихотворении «Ответ Турге-
неву» (1812) Батюшков рисует такой образ поэта-романтика:
Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами:
С химерами живет,
Беседует с духами...
Одной любви послушен,
Он дышит только ей.
Одно твердит, поет:
Любовь, любовь зовет...
И рифмы лишь находит!
1 Что до построения воздушных замков, то в следующем литературном поко-
лении это занятие, как известно, уже будет названо устами критиков и читателей
«Мертвых душ» великого ирониста Н.В. Гоголя (начавшего свою деятельность в
рамках романтизма, но параллельно Пушкину перешедшего к реализму) «мани-
ловщиной».
69
«Беседы с духами» — занятие, для самого Батюшкова-поэта ма-
лохарактерное: тут намек на ту традицию в романтизме, которую у нас
упешно развивал друг Батюшкова В.А. Жуковский.
(Основные интонации «Ответа Тургеневу» были позже варьиро-
ваны поэтом в стихотворении «Мечта» ( 1817).)
0 пристрастии К.Н. Батюшкова, как и других романтиков, к экзо-
тической атрибутике, сюжетике и образности напоминают «Сон мо-
гольца» (1808), «Мадагаскарская песня» ( 1810), «Источник» ( 1810),
«Радость» (ок. 1810), «На развалинах замка в Швеции» (1814),
«Песнь Гаральда Смелого» (1816), цикл «Из греческой антологии»
(1817), цикл «Подражания древним» (1821).
Многие стихи К.Н. Батюшкова представляют собой переводы и
переложения из Тибулла, Ариосто, Торквато Тассо, Петрарки, Буало,
Лафонтена, Парни, Шиллера и др. Близко к этому лежат стилизации
античной поэзии и поэзии скальдов, то есть произведения, созданные
на основе парафрастических приемов1.
Стихотворение находящегося в действующей армии Батюшкова
«Разлука» (1812—1813), с одной стороны, развивает традиционные
для его лирики мотивы любви и измены, но, с другой — в него привне-
сены некоторые парафразированные (в данном случае — адаптирован-
ные к легкому и грациозному батюшковскому стилю) черты в духе гу-
сарской лирики Дениса Давыдова.
Еще более интересны результаты работы с «чужим словом» в од-
ном из наиболее значительных стихотворных произведений Батюшко-
ва — послании «К Никите Муравьеву» (1817). Начинается оно имен-
но так, как писались «легким слогом» стихотворные послания
поэтов-карамзинистов:
Как я люблю, товарищ мой,
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой
Веселых жаворонков пенье.
Впрочем, в следующем четверостишии делается быстрый и весьма
естественно осуществленный переход к теме, более характерной для
ломоносовско-державинских «батальных» од:
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые биваки
1 О литературных парафразисах см.: Минералов Ю.И. Теория художествен-
ной словесности. М., 1999.
60
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки.
Однако далее в послании «К Никите Муравьеву» К.Н. Батюшков,
обратившись к «одической» по своей природе батальной теме — опи-
санию атаки, столкнулся с тем, что написанное его «легким слогом»
карамзиниста, оно произведет впечатление расслабленного (в образ-
ном плане) если и не «послужного списка» (с которым сравнивал сти-
хи карамзинистов Марин), то просто «рассказа в рифму». В итоге он
написал следующее:
Колонны сдвинулись, как лес.
И вот... о зрелище прекрасно!
; Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... Ура! — и все сломили,
Рассеяли и разгромили:
Ура! Ура! — и где же враг?
Бежит, а мы в его домах...
Для осмысления структуры данного произведения Батюшкова су-
щественно то, что процитированный центральный смысловой фрагмент
представляет собой одну из разновидностей парафразиса, а именно —
своеобразную «конспективную» реминисценцию из оды Державина
«На взятие Измаила»1.
;?Причем восьми вышеприведенным строкам Батюшкова в этой оде
Державина соответствует картина из не менее сорока строк (или не
менее четырех строф): со слов «Как воды с гор весной в долину...» до
слов «Бегут, стеснясь, на огнь и дым»2.
Нет сомнения, что современниками Батюшкова цитированное опи-
сание атаки четко проецировалось на развернутое, картинное описа-
ние штурма Измаила у Г.Р. Державина. У Державина колонны «Идут в
молчании глубоком» (ср. батюшковское «Идут — безмолвие ужасно!»),
1 А «Колонны сдвинулись, как лес» (впечатление островерхих лесных деревь-
ев создают, как известно, оснащенные штыками ружья) перекликается по смыслу
образа с мчащейся «рощей ружей» литературного врага карамзинистов С.С. Боб-
рова.
2 Впрочем, реминисценция затрагивает и последующие строфы: ср. «О зре-
лище прекрасно!» у Батюшкова и «О! что за зрелище предстало!» у Державина
(пятая по счету строфа).
61
но также «Идут — как в тучах скрыты громы» и т. д., а над колоннами в
оде Державина, кроме того, «Идет огнистая заря». Рядом с этим мета-
форическим, сложным державинским пассажем батюшковское описа-
ние, разумеется, могло при поверхностном чтении восприниматься как
предел проясненности, образчик именно «легкого слога». Однако сно-
ва обратим внимание на его внутреннюю форму*. Перед нами, ока-
зывается, не просто логизированный карамзинистский «рассказ в риф-
му», но созданный Батюшковым образ державинских образов — как
бы беглая карандашная зарисовка, преломляющая основные контуры
многокрасочного державинского полотна.
Работая над батальной темой в послании «К Никите Муравьеву»,
Батюшков разом решил ряд сложных проблем оптимальной смысло-
передачи, «портретируя» стиль Державина, мастера военных кар-
тин. По иному говоря, Батюшков спроецировал свое послание на текст
другого автора — всем известную оду Державина «На взятие Измаи-
ла». Это позволило ему достигнуть особой компактности своего соб-
ственного текста: незримо присутствующее в его «виртуальном про-
странстве» державинское произведение резко обогащает батюшковское
послание в смысловом отношении, позволяя автору в немногих словах
передать многое.
Поэтическая деятельность К.Н. Батюшкова была прервана роко-
вой болезнью, когда этот еще молодой по возрасту автор явно набирал
творческие силы и был «на подъеме». О последнем свидетельствуют
его последние произведения — цикл «Подражания древним», стихо-
творения «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» (1819), «Есть
наслаждение и в дикости лесов...» (1819), «Ты знаешь, что изрек...»
(1821).
Бросается в глаза неожиданно достигнутое поэтом в этих произве-
дениях уникальное сочетание компактности со смысловой насыщенно-
стью. Оно было в общем не характерно для раннего Батюшкова (стихи
которого иногда могут показаться излишне многословными), но явно
напоминает о творческих принципах великого Ф.И. Тютчева:
Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
ьн ' О смысле активно применявшегося в поэтике A.A. Потебни термина «внут-
ренняя форма» см.: Минералов ЮМ. Теория художественной словесности. М., 1999.
62
'.' Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рьщал, терпел, исчез.
Впрочем, если иметь в виду не стилевую структуру произведения,
а сам выражаемый в приведенном стихотворении философский песси-
мизм, то он по характеру и смыслу своему напоминает скорее не поэти-
ческую философию Тютчева, а некоторые мотивы поэзии Державина —
выраженные, например, в одах «На смерть князя Мещерского», «Во-
допад», а также в его итоговом произведении «Река времен в своем
стремленье...»
В содержательном плане с философской поэзиией Тютчева зако-
номерно сблизить зато другое стихотворение Батюшкова последнего
периода творчества:
Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них, не знаю.
Одно из поздних стихотворений Тютчева, а именно «Певучесть есть
в морских волнах, Гармония в стихийных спорах...» (1865) представля-
ется отчасти навеянным этим батюшковским произведением.
Любопытна судьба следующего прекрасного стихотворения
К.Н. Батюшкова:
Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады.
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.
63
Байя — старинный итальянский город времен Римской империи,
развалины которого были полузатоплены морем, но появлялись в часы
отлива. Батюшков наблюдал их в 1819 г., когда, очевидно, и были на-
писаны приведенные строки. Но данный текст был впервые напечатан
в некрасовском «Современнике» в 1857 г. — на пике вспыхнувшего
тогда читательского интереса к поэзии1. Подавался он там как якобы
отрывок из неизвестного стихотворения Батюшкова, однако советс-
кие исследователи (прежде всего, Д.Д. Благой) фактически доказали,
что перед нами самостоятельное произведение2.
Яркая, хотя и недолгая творческая деятельность К.Н. Ба-
тюшкова — одна из лучших страниц поэзии русского романтиз-
ма. Им были намечены направления поэтического развития, пло-
дотворно разрабатывавшиеся далее художниками многих
следующих поколений. Батюшков был одним из поэтических учи-
телей A.C. Пушкина. Его проникновенная и гармоничная лирика
по сей день сохраняет свое значение классики русской поэзии.
1 См. подробно: Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40—
60-е годы).
2 Навсегда заболев, К.Н. Батюшков не прекратил творческих попыток. Изве-
стно его с Подражание Горацию» (1826). Это произведение довольно бессвязно и
несет на себе печать душевного нездоровья. Литературоведчески любопытны в нем
узнаваемые парафрастические вкрапления на основе державинского «Памятни-
ка» («В сердечной простоте беседовать о Боге И истину царям громами возгла-
сить», «Царицы царствуйте, и ты, императрица! Не царствуйте цари: я сам на Пинде
царь!» и т. п.). Особенно интересна своей «звукообразностью» финальная строка
«А кесарь мой — святой косарь». Подобное «корнесловие» стилю самого Батюш-
кова никогда ранее не было свойственно. Он лишь воспользовался сходным при-
емом однажды в юности, пародируя строку С.С. Боброва «Се ружей ржуща роща
мчится!» строкой «Где роща ржуща ружий ржот». Тем характернее появление «кор-
несловия» в «Подражании Горацию», напитанном отзвуками державинского сти-
ха, пусть и довольно хаотическими (в силу жизненных обстоятельств написания
текста). Здесь Батюшков как бы выдал, что во времена легкомысленных насмешек
над Бобровым внутренне сознавал, что имеет дело с плодотворным творческим
приемом поэта другой традиции (пусть и субъективно ему чуждой), — а не с некоей
нелепицей.
*,\t
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ
(1783 — 1852)
Василий Андреевич Жуковский — сын помещика из Тульской гу-
бернии А.И. Бунина и пленной турчанки Сальхи, поэт и переводчик;
учился в Благородном пансионе при Московском университете, в 1802 г.
напечатал в «Вестнике Европы» сентименталистскую элегию «Сельс-
кое кладбище» (вольный перевод из Т. Грея, английского поэта), поз-
же последовали выдержанные в сходной тональности «Идиллия»
(1806), «Вечер» ( 1806) и др. Увлекшись затем романтической мисти-
кой, Жуковский быстро приобрел известность благодаря балладам
«Людмила» (1808), «Кассандра» (1809), «Светлана» (1808-1812)
и др. Они, как и большинство его последующих произведений, так или
иначе отталкиваются от текстов различных иностранных писателей. На-
пример, «Людмила» и «Светлана» —два русифицированных и по-раз-
ному обработанных вольных перевода из Г. Бюргера.
В 1812 г. поэт вступил в ополчение и участвовал в Бородинском
сражении в составе так называемого Мамоновского полка1. В годы вой-
ны получили самое широкое распространение среди современников его
стихотворение «Певец во стане русских воинов» (1812) и послание
«Императору Александру» (1814). 1810-е годы вообще стали нача-
лом долгого периода плодотворного творчества Жуковского-поэта.
В этот основной период им были созданы такие баллады, как «Ивико-
вы журавли» (1813), «Эолова арфа» (1814), «Алина и Альсим»
(1814), «Теон и Эсхин» (1814), «Гаральд» (1816), «Вадим» (1817),
«Рыцарь Тогенбург» (1818), «Лесной царь» (1818), «Замок Смаль-
гольм, или Иванов вечер» (1822), «Суд Божий над епископом»
( 1831 ), «Жалоба Цереры» ( 1831 ) и др., а также «старинная повесть»
«Двенадцать спящих дев» (1817), «Сказка о царе Берендее» ( 1831 ),
сказки «Спящая царевна» (1831), «Мальчик с пальчик» (1851) и др.
1 См.: Минералов Ю.И. «Князь Мономах» цветастой русской фронды//Мос-
ковский вестник. 2001. № 4.
0~~ Минералов 65
На него возлагал большие надежды Г.Р.Державин, который однаж-
ды даже написал:
Тебе в наследие, Жуковский,
Я ветху лиру отдаю.
А я над бездной гроба скользкой
Уж, преклоня чело, стою.
В 1831 г. вышло итоговое издание написанных на тот момент про-
изведений Жуковского — «Баллады и повести». После этого поэт
продолжал плодотворно, хотя и менее интенсивно, работать в литера-
туре, создав баллады «Старый рыцарь» (1832), «Рыцарь Роллон»
(1832), «Уллин и его дочь» (1833) и др., вслед за Пушкиным написав
«Бородинскую годовщину» (1839).
Некоторое время Жуковский не оставлял и сентименталистские
мотивы, о чем свидетельствуют «Певец» (1811), «Узник к мотыльку,
влетевшему в его темницу» (1813), «К мимо пролетевшему знако-
мому Гению» (1819), «Таинственный посетитель» (1824) и др.
Специфическое ответвление творчества В.А. Жуковского пред-
ставляют собой произведения, которые он сам помечал как песни или
романсы. Подобные авторские пометы — всегда прямое свидетель-
ство того, что со стороны поэта имела место попытка, пусть и субъек-
тивная, каким-то образом придать стихотворному тексту «музыкаль-
ное» начало. Часть из таких произведений Жуковского реально стала
текстами песен, например, «Кольцо души девицы...» ( 1816), а стихо-
творение «Боже, Царя храни...» ( 1833) сделалось текстом гимна Рос-
сийской империи.
С 1815 г. Жуковский служил при дворе и с 1825 г. стал воспитате-
лем престолонаследника, будущего императора Александра II. Свое
придворное положение он активно использовал для различных добрых
дел (хлопотал о сосланном Пушкине, участвовал в выкупе из крепост-
ной неволи Тараса Шевченко и т д.).
На жизнь и на тональность творчества В.А. Жуковского наложила
явный отпечаток несчастная любовь к М.А. Протасовой1
В 1830-е годы поэт увлекся созданием переводов в строгом смыс-
ле. Результатом этой работы стало появление по-русски поэмы Байро-
на «Шильонский узник», баллады Шиллера «Кубок», древнегрече-
1 Жениться на М.А. Протасовой Жуковский не мог из-за близкого родства с
ней. Девушка была выдана замуж за дерптского хирурга Мойера и умерла от пер-
вых же родов.
66
ской «Войны мышей и лягушек», индийской повести «Наль и Дама-
янти» и ряда других произведений. Особо необходимо отметить пере-
вод великой эпической поэмы Гомера «Одиссея» (1849)1 Интересны
опыты Жуковского по переводу стихами прозаических произведений
западных романтиков — например, поэма «Ундина» (1836), представ-
ляющая из себя переложение в русские стихи повести немецкого про-
заика-романтика де ла Мотт Фуке. Аналогичным образом им была пе-
реложена в стихи, например, повесть французского романтика Шарля
Нодье «Иннес де Лас Сьеррас»2.
В 1841 г. Жуковский женился в Германии на юной дочери худож-
ника Рейтерна. В том же году он был избран академиком Петербург-
ской Академии наук.
Жуковский прибег в письме Гоголю от 6 февраля 1848 г. к следую-
щей любопытной самохарактеристике: «Мой ум — как огниво, кото-
рым надобно ударить о камень, чтоб из него выскочила искра. Это во-
обще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое,
или по поводу чужого — и все, однако, мое».
Последнее поэт, разумеется, имел полное право заявить не только
по отношению к своим балладам и сказкам (как правило, основанным
на переработке существовавших до Жуковского литературных сюже-
тов), но даже в отношении перевода «Илиады». Тем интереснее начать
анализ его творчества все же с полностью оригинальных произведе-
ний.
Романтическая элегия Жуковского «Море» (1822) написана бе-
лым стихом. Вначале море олицетворяется, объявляется живым су-
ществом:
Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Как видим, это созданное поэтической фантазией романтика «су-
щество» дышит, любит и о чем-то тревожно думает. Далее лирический
герой стихотворения начинает задавать обращенные к морю вопросы,
ставящие собой цель понять тайны моря:
1 Смерть прервала работу В.А. Жуковского над переводом «Илиады».
2 Здесь Жуковский шел как бы по стопам В.К. Тредиаковского, на склоне лет
превратившего роман Франсуа Фенелона «Похождения Телемака» в эпическую
поэму «Тилемахида».
5* 67
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Нем дышит твоя напряженная грудь?
Затем следует вопрос, уже содержащий в себе самом ответ:
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое светлое небо к себе?..
Тема незримой связи между морем и небом разворачивается в ряд
словесных картин:
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.
Однако время от времени вмешивается третья сила, мрачная по
самой своей природе, и нарушает эту описанную в стихах гармонию моря
и неба. Эта сила — «темные тучи», которые в стихотворении тоже оли-
цетворяются, «оживают», и которым поэтически приписывается со-
знательная целенаправленность действий и состояний:
Когда же сбираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
Итак, буря на море оказывается в разбираемом стихотворении его
реакцией на появление в небе враждебных туч. Они закрывают или звез-
дное, или голубое небо, и море пытается бороться с ними, рвать их и
терзать. В конце концов оно побеждает:
И мгла исчезает, и тучи уходят...
Но не таков мир романтического стихотворения, чтобы в нем мог-
ло раз и навсегда установиться конечное спокойствие. Море продол-
жает волноваться о небе, заботиться, чтобы их все-таки не разлучили:
68
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.
По ряду образно-смысловых и интонационных пересечений с ра-
зобранным стихотворением можно сблизить стихотворение 1815 г.
«Славянка» (Славянка в данном случае, по авторскому объяснению
Жуковского, — «река в Павловске»): Однако это второе произведе-
ние наполнено картинами русской природы и благодаря вносимой ими
образной конкретике заметно выигрывает сравнительно с «Морем».
Многословие же составляет общий им недостаток.
Своего рода «квинтэссенцию» баллад Жуковского можно усмот-
реть, например, в весьма коротком для него стихотворении «Мщение»
(1816):
Изменой слуга паладина убил:
Убийце завиден сан рыцаря был.
Свершилось убийство ночною порой —
И труп поглощен был глубокой рекой.
И шпоры и латы убийца надел
И в них на коня паладинова сел.
И мост на коне проскакать он спешит,
Но конь поднялся на дыбы и храпит.
Он шпоры вонзает в крутые бока —
Конь бешеный сбросил в реку седока.
Он выплыть из всех напрягается сил,
Но панцирь тяжелый его утопил.
Мотивы, подробно развиваемые поэтом в сюжетах больших бал-
лад, здесь изложены бегло. Мотив предательского убийства рыцаря
снова возникнет у Жуковского, например, через несколько лет в «Зам-
ке Смальгольм» и станет там сюжетообразующим (впрочем, там он
появится в соответствии с сюжетом английского первоисточника бал-
лады, автором которого является Вальтер Скотт).
Возмездие убийце-предателю в приведенном стихотворении пода-
ется как бы на грани реалистического и мистического. Поведение коня
необязательно понимать как его намеренную месть за хозяина — мож-
но счесть, что лошадь просто сбросила непривычного и притом неуме-
лого седока. Впрочем, и многозначительное название произведения
(«Мщение»), и то, что перед читателем текст из мира романтизма, сви-
детельствуют против такого однозачно реалистического прочтения.
Создавая по-русски «свой» вариант баллады Вальтера Скотта «За-
мок Смальгольм, или Иванов вечер», Жуковский, судя по всем при-
знакам, был именно в той творческой стихии, которая позволяла ему
максимально раскрыть свои силы. Текст великого шотландского писа-
теля сыграл роль «искры», о которой Жуковский так ярко и точно пи-
сал Гоголю. Свобода, непринужденность и энергия словесного разви-
тия этого произведения просто восхищают:
До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
Он коня, торопясь в Бротерстон.
Но в железной броне он сидит на коне;
Наточил он свой меч боевой;
И покрыт он щитом; и-топор за седлом
Укреплен двадцатифунтовой.
Можно понять, почему В.А. Жуковский был и остается живым, хотя
и недосягаемым образцом для позднейших переводчиков. Поэт здесь,
как и во множестве других случаев, создал не «переводе английского»,
а настоящее русское романтическое стихотворение. Впечатляет финал
его сюжета (сюжета, по ходу которого на сцене неоднократно появля-
ется привидение убитого бароном из ревности рыцаря Ричарда Коль-
дингама):
Есть монахиня в древних Драйбургских стенах:
И грустна и на свет не глядит;
Есть в Мельрозской обители мрачный монах:
И дичится людей и молчит.
Сей монах молчаливый и мрачный — кто он?
Та монахиня — кто же она?
70
То убийца, суровый Смальгольмский барон;
То его молодая жена.
Такой сюжет сегодня может быть прочитан и просто как очередная
романтическая «страшилка», но и как суровая притча на тему, что «Без-
законную небо карает любовь», и что, с другой стороны, убийство на-
казуется Богом, даже если то убийство любовника неверной жены1.
Однако в любом случае художественное воплощение этого сюжета
образно-ассоциативными средствами русской поэзии блестяще.
Изощренная стиховая форма произведения даже включает, напри-
мер, совсем не обязательную для жанра баллады (в силу своей сосредо-
точенности на сюжете обычно удовлетворяющейся максимально про-
стым стиховым строем) сеть так называемых внутренних рифм
(«И без отдыха гнал, меж утесов и скал...», «Но в железной броне он
сидит на коне...» и т. п.)2. Причем, что характерно, эта особая сеть до-
полнительных (относительно обычной рифмовки) созвучий пронизыва-
ет текст баллады Жуковского не абсолютно. Последние пять строф,
разъясняющих загадочную мистическую ситуацию, подводящих итоги и
однозначно трагедийных по содержанию, подобной «звуковой инстру-
ментовки» лишены, и совершенно ясно, что это следствие тонкого по-
этического замысла. Ведь неожиданное отсутствие инструментовки,
«внутренних рифм» (то есть читательски ощутимое упрощение формы)
в смысловом отношении как бы «выделяет курсивом» содержание этих
заключительных строф (две самых последних из них приведены выше).
Творческую самостоятельность В.А. Жуковского и гибкость его
художественных решений можно наглядно ощутить, сопоставив две его
ранних баллады — «Людмила» и «Светлана» (имеющих один и тот
же немецкий первоисточник).
В «Людмиле» героиня предается унынию, ожидая жениха домой
«С грозной ратию славян». Когда же милый не вернулся, она в отча-
янии говорит:
1 Так следует из сюжета, несмотря и на то что барон явно убил соперника в
бою, а не каким-либо обманным образом: когда он вернулся к жене, «...железный
шелом был иссечен на нем, Был изрублен и панцирь и щит».
2 Так обычно именуют созвучия вышеприведенного типа, хотя точнее их называть
рифмами внутренне-конечными (поскольку они включают концевое слово стиха).
См. подробно: Минералов Ю.И. Современная русская рифма, ее теория и
предыстория// Минералов Ю.И. Поэтика. Стиль. Техника. М., 2002.
В «Замке Смальгольм» есть также начально-внутренние рифмы (например,
«Воротись, удалися», — она говорит»).
71
«Расступись, моя могила;
Гроб, откройся; полно жить;
Дважды сердцу не любить».
Своей матери, перепуганной такими словами, героиня заявляет и
такое:
«Царь небесный нас забыл...
Мне ль он счастья не сулил?
Где ж обетов исполненье?
Где святое провиденье?
Нет, немилостив творец;
Всё прости, всему конец».
Мать пытается напомнить девушке, что «грех роптанье» (надо до-
бавить, по-христиански греховны также проявленные ею ранее уныние
и отчаяние), и что сама скорбь посылается Создателем. Однако дочь по-
мимо иного опрометчиво заявляет в ответ, что ей «с милым всюду рай»:
Так Людмила жизнь кляла,
Так творца на суд звала...
Вот уж солнце за горами;
Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол, и мрачен лес.
В полночь появляется верхом на коне жених и увозит невесту туда,
где теперь его «дом тесный»:
Что же, что в очах Людмилы?..
Ах, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Дом твой — гроб; жених — мертвец.
В заключение же баллады некий «страшный хор» усопших возгла-
шает:
«Смертных ропот безрассуден;
Царь всевышний правосуден;
Твой услышал стон творец;
Час твой бил, настал конец».
72
Баллада «Светлана», в противоположность «Людмиле», содержит
светлый лирический поворот немецкого сюжетного первоисточника.
Это едва ли не самое знаменитое произведение Жуковского начинает-
ся картинами святочного девичьего гадания:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курииу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
«Милая Светлана», которая в отличие от подруг почему-то груст-
на, отвечает на их попытки вовлечь ее в гадание:
«Как могу, подружки, петь?
Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит...
Иль не вспомнишь обо мне?
Где, в какой ты стороне?
Где твоя обитель?
Я молюсь и слезы лью!
Утоли печаль мою,
Ангел-утешитель».
Здесь героиня проявляет не уныние, а грусть — притом, что важ-
но, девушка в заключение приведенного монолога апеллирует, по воле
автора, к «Ангелу-утешителю».
73
тч Однако легкомысленные подруги все же вовлекают Светлану в свое
гадание (надо напомнить, что гадания не только не поощряются, но пря-
мо воспрещены в Православии как опрометчивая и недопустимая для
христианина игра с силами тьмы):
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой:
Стукнет в двери милый твой
Легкою рукою;
Упадет с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою».
В итоге ей является некто в образе «милого» и зовет с собой на
венчание:
«Едем! Поп уж в церкви ждет
С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
Храм блестит свечами».
Мчащиеся кони минуют затем некую церковь, в которой идут чьи-
то похороны, потом над ними вдобавок начинает виться «черный вран»,
каркая: «Печаль!» Наконец девушка оказывается совсем одна перед
какой-то избушкой и, войдя в нее, видит чей-то гроб, но также свечку и
«Спасов лик в ногах». Помолившись на икону, героиня
...С крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.
Как видим, в балладе «Светлана» героиня, в отличие от Людмилы,
в самых страшных ситуациях ведет себя по-христиански. В результате
происходит чудо:
Вот глядит: к ней в уголок
Белоснежный голубок
С светлыми глазами,
Тихо вея, прилетел...
74
Затем именно голубок спасает Светлану от пробудившегося мерт-
веца. Вдобавок все происходящее в конце концов оказывается простым
сном-предостережением (девушка уснула перед зеркалом во время га-
дания). На дворе утро, санки мчат как раз воротившегося жениха.
В заключение раздаются назидательные слова автора:
Вот баллады толк моей:
«Лучшей друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».
Таким образом, сюжет баллады Бюргера в «Светлане» разрабо-
тан Жуковским на православно-христианский лад. Далее, в более ран-
ней «Людмиле» национальный колорит проявлялся весьма условно и
был в основном лишь декларирован ( например, путем упоминания «рати
славян»). «Светлана» же поразила и умилила современников именно
своим «русским ликом».
Поэтом был безошибочно выбран в качестве сюжетной «рамы»
антураж крещенского вечера, когда по всей России девушки предава-
лись той самой языческой по своим корням, но влекущей забаве с
гаданием «на жениха», с которой начинается замечательная баллада.
Иначе говоря, автор вывел балладу из искусственного книжно-литера-
турного мира романтической поэзии в живую российскую реальность
своего времени. Это произвело великолепный художественный эффект.
Имя героини стало нарицательным, и позже его неоднократно упоми-
нали по разным поводам другие авторы.
О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана...
Будь, создатель, ей покров!
Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;
В ней душа — как ясный день;
Ах! да пронесется
Мимо — Бедствия рука;
Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь ее светла,
75
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.
Девушки того времени охотно представляли самих себя в образе
Светланы и относили на свой счет добрые пожелания» высказанные
Жуковским в этой заключительной строфе. По сути, образ Светланы
надолго стал самым ярким поэтическим образом русской девушки и был
им до самого рождения образа пушкинской Татьяны — но и Татьяна
при первом своем появлении в романе «Евгений Онегин» была, на-
помним, (по словам Ленского), «грустна и молчалива, как Светла-
на» (курсив мой. — ЮМ.).
Напротив, несмотря на сюжет, претендующий на отображение рус-
ской старины, вряд ли глубоко воплощает национальный дух «старин-
ная повесть в двух балладах» «Двенадцать спящих дев». Хотя здесь
Жуковскому, как всегда, не откажешь в богатстве поэтической фанта-
зии, все же это довольно громоздкое произведение.
В первой балладе неудачливый в жизни Громобой в отчаянии отда-
ет душу Асмодею (одно из имен дьявола), который взамен пообещал
ему «силу дать и честь и много злата»:
Тебе я терем пышный дам
И тьму людей на службу;
К боярам, витязям, князьям
Тебя введу я в дружбу;
Досель красавиц ты пугал —
Придут к тебе толпою;
И, словом, — вздумал, загадал,
И все перед тобою.
И вот в задаток кошелек:
В нем вечно будет злато.
Но десять лет — не боле — срок
Тебе так жить богато.
Разбогатевший Громобой быстро стал подлинным негодяем:
Двенадцать дев похитил он
Из отческой их сени;
Презрел невинных жалкий стон
И родственников пени;
И в год двенадцать дочерей
Имел от обольщенных;
76
И был уж чужд своих детей
И крови уз священных.
Когда ему пришел час отправляться в ад, Громобой отсрочил смерть,
отдав бесу души своих маленьких дочерей (он написал этот договор,
водя по бумаге их детскими руками). Позже нарастающий ужас перед
неизбежной смертью побудил его заниматься благотворительностью.
Громобой даже воздвигнул «Божий храм», а некий «славный мастер»
изобразил в нем икону, на которой «угодник святой» «взирал любви
очами» на молящихся Громобоя с дочерьми.
Почувствовав, что ему конец, Громобой потребовал от дочерей
молиться о помиловании. Девушки, не знавшие, что их души давно от-
даны бесу, все же стали молиться. Тогда из храма появился неизвест-
ный старец, оказавшийся тем самым изображенным на иконе «угодни-
ком святым», и погрузил дочерей Громобоя в сон на века:
...Из земли
Вкруг дома грозно встали
Гранитны стены — верх зубчат,
Бока одеты лесом, —
И, сгрянувшись, затворы врат
Задвинулись утесом.
Во второй балладе новгородский юноша Вадим видит во сне деву
под покрывалом с головой, покрытой венцом. Ведомый неизвестной
силой, он отправляется верхом на коне на юг, куда глаза глядят. До-
стигнув Днепра, он спасает от литовского великана дочь киевского
князя. Затем, подчинясь непонятному чувству, Вадим в ночной час
уходит с веселого княжеского пира и садится в какой-то челн, в ко-
тором «без гребца весло гребет». Челн приносит его к мрачным уте-
сам, покрытым заросшим лесом. На скале он видит древний храм, а
возле него могилу. Оттуда поднимается привидение и тщетно начи-
нает стучать в двери храма. Затем Вадим доходит до старинного зам-
ка и видит двух дев на его стене. Одна дева уходит, а другая внезапно
заметила Вадима:
Как облак, покрывало
Слетело с юного чела —
Их встретилися взоры;
И пала от ворот скала,
И раздались их створы.
77
И вот из терема к ним уже идут другие пробудившиеся девы:
О сладкий воскресенья час!
Им мнилось: мир рождался!
Вдруг... звучно благовеста глас
В тиши небес раздался.
Вместе с Вадимом девушки входят в открывшийся и чудесным об-
разом обновленный храм. Там чудеса продолжаются:
Молясь, с подругой стал Вадим
Пред царскими дверями,
И вдруг... святой налой пред ним;
Главы их под венцами;
В руках их свечи зажжены;
И кольца обручальны
На персты их возложены;
И слышен гимн венчальный...
Не забывает автор и злосчастного Громобоя: тихий голос вызыва-
ет дев из храма к некоей светлой могиле, на которой «обвивает свет-
лый крест прекрасная лилея». А вокруг «холм помолоделый», «бег реки
веселый»:
И воскрешенны древеса
С вершинами живыми,
И, как бессмертье, небеса
Спокойные над ними...
Словом, в конечном итоге все в основном сводится к сюжетной
линии, хорошо известной из восходящей к средневековой европейской
литературной традиции, — только «спящих красавиц» у Жуковского
не одна, а целых двенадцать. Помимо связанного со «спящей красави-
цей» можно уловить в произведении также обрывки других литератур-
ных мотивов.
Слито в единое целое это все вряд ли художественно безупречным
образом. Религиозная дидактика соединена с такими разнородными ху-
дожествеными элементами также довольно механистично. Например,
вполне очевидная банальность сюжетного начала о сделке с дьяволом
наложила отпечаток на многое в дальнейшем развитии произведения.
Не случайно юный Пушкин, вскоре написавший поэму «Руслан и Люд-
78
мила», в некоторых местах этой поэмы озорно пародирует «Двенад-
цать спящих дев». Последующая читательская судьба «Двенадцати спя-
щих дев» тоже косвенным образом показала, что данное произведение
»ряд ли принадлежит к числу вершин творчества Жуковского. В то же
время оно дает представление о широте разброса творческих исканий
этого крупного русского поэта.
Стихотворение «Ночной смотр» ( 1836) посвящено личности мно-
гократно вдохновлявшего поэтов того времени Наполеона. С музыкой
М.И. Глинки данное произведение стало одним из популярнейших клас-
сических романсов1.
Как обычно у Жуковского, в основе произведения иноязычный ис-
точник (стихотворение австрийского поэта И. Цейдлица). В наполео-
новской теме тоже нашлась так излюбленная Жуковским мистика:
В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
Ив темных могилах труба
Могучую конницу будит...
В конце концов вполне ожидаемо появляется и император — умер-
ший на острове Св. Елены в 1821 г. Наолеон I. Нельзя не отметить, что
образ его, вслед за текстом Цейдлица, не обладает какой-либо психо-
логической оригинальностью и глубиной, и притом даже составлен из
набора хрестоматийно известных черт:
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой...
В то же время для поэтики вокальных жанров последнее вполне
органично. Для семантики поющегося текста, рассчитанного на слухо-
вое восприятие, характерны сюжетная однолинейность, а также про-
стота и даже некоторая «старомодность образности»2.
1 О разнице между романсом бытовым и классическим, рассчитанным на про-
фессиональное исполнение, см. подробно: Минералов Ю.И. Так говорила держава
(XX век и русская песня). М., 1995.
2 Об этом феномене см.: Там же.
79
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту;
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.
«Ночным смотром» поэт как бы подвел итог тому кругу тем в сво-
ем творчестве, который был так или иначе связан для России с событи-
ями 1812 г. С мрачными интонациями этого произведения, повествую-
щего о фантастических посмертных построениях наполеоновского
войска, контрастируют ликующие интонации еще одного из наиболее
популярных у современников произведений Жуковского — «Певца во
стане русских воинов».
«Певец во стане русских воинов» построен весьма просто — как
открытый текст: потенциально можно если не до бесконечности,
то еще очень долго нанизывать все новые строфы, упоминая новые
имена столь многочисленных героев войны 1812 г.:
Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный...
Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!..
Хвала, наш Вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов! <и т. д.>
Однако и выглядящая безыскусно простой композиция может стать
основой любимого народом произведения. Более того, она приобрела
определенную популярность: например, К.Н. Батюшков использовал
ее в своей сатире «Певец в Беседе любителей русского слова», коми-
чески подставляя на места имен генералов 1812 г. имена членов враж-
дебного литературного сообщества.
Стало классикой детской поэзии и одно из стихотворений, сочи-
ненных В.А. Жуковским для своих детей Павла и Александры. Это сти-
хотворение «Котик и козлик» ( 1851 ) дети знают по сей день:
Там котик усатый
По садику бродит,
80
А козлик рогатый
За котиком ходит;
И лапочкой котик
Помадит свой ротик;
А козлик седою
Трясет бородою.
Из поздних произведений ВА Жуковского необходимо напомнить
еще стихи на смерть A.C. Пушкина «Он лежал без движенья, как буд-
то по тяжкой работе...» (1837). Как говорит в них автор об умершем
Пушкине: «Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что
видишь?» В Пушкине Жуковский потерял ученика и младшего друга.
Кроме того, он так глубоко, как далеко не все в России того времени,
сознавал величие пушкинского таланта и масштабы национальной по-
тери1.
В.А. Жуковский был фактическим главой русского поэтичес-
кого романтизма. Его поэзия олицетворяла это явление в глазах
современников. Кипучая фантазия Жуковского-поэта была не-
иссякаема. Благодаря его переводам и переложениям в русскую ли-
тературу за короткое время были «перекачаны» и творчески
преобразованы важнейшие мотивы западноевропейского роман-
тизма. Обогатив литературу своего времени, Жуковский оста-
ется одним из крупнейших русских поэтов, чье наследие живо по
сей день.
1 Из литературы о В.А. Жуковском см., напр.: Семенко И. Жизнь и поэзия
Жуковского. М., 1975; Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976; Бес-
сараб М. Жуковский. М., 1983; Афанасьев В. Жуковский. М., 1987.
() —Минералов
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ
(1795-1829)
Александр Сергеевич Грибоедов — поэт, драматург, композитор,
дипломат. Родился в дворянской семье. Отличаясь многообразными
способностями, окончил словесное, математическое и юридическое
отделения Московского университета; знал несколько иностранных
языков (английский, французский, итальянский, немецкий, латинский,
греческий, турецкий, арабский и персидский). Добровольцем отправил-
ся на Отечественную войну 1812 г. (служил в Московском гусарском
полку, бывшем в резерве). В 1816 г. вышел в отставку и служил в Пе-
тербурге в Коллегии иностранных дел. В 1818 г. стал секретарем рус-
ской миссии в Персии1. Прослужив три года в Персии, A.C. Грибоедов
был назначен «чиновником по дипломатической части» при наместни-
ке Кавказа генерале Ермолове. Впоследствии Грибоедов стал действи-
тельным статским советником и «министр-резидентом» русской мис-
сии в Тегеране (то есть послом), В 1828 г. он сыграл огромную роль в
заключении Туркманчайского мира России с Персией. Погиб вместе со
служащими миссии в Тегеране, защищая ее от толпы мусульманских
фанатиков, кем-то (видимо, работавшей против России английской
агентурой) натравленной на русское представительство2.
1 Это удаление Грибоедова из столицы нередко связывают с обстоятельствами
дуэли Шереметева и графа Завадовского из-за танцовщицы Истоминой (закончи-
лась гибелью Шереметева). Грибоедов и бретер Александр Якубович были секун-
дантами на этой дуэли.
2 Предлогом для нападения на русскую мисию было то, что Грибоедов начал
борьбу за вызволение из гарема двух армянок — подданных русского царя, похи-
щенных персами.
В своем «Путешествии в Арзрум» A.C. Пушкин сообщает, что встретил арбу,
везущую тело Грибоедова: «"Откуда вы? — спросил я. — "Из Тегерана" — "Что
везете?" — "Грибоеда"».
82
A.C. Грибоедов — автор стихотворений «Давид» (1823), «Теле-
шовой в балете "Руслан и Людмила", где она является обольщать
витязя» (1824), «Хищники на Чегеме» (1825), «Освобожденный»
( 1826), «А.И. Одоевскому» (1828) и др., а также двенадцати пьес, до-
стоинства большинства из которых скромны. Это, в частности, «Мо-
лодые супруги», переделка комедии французского драматурга Крезе
де Лессера «Le secret du menage» (1815), направленная против «арза-
масцев» комедия «Студент» (1817, совместно с П.А. Катениным) и
«Притворная неверность», переделка комедии Н.Т. Барта «Lesfausses
infidélités» (1818, совместно с A.A. Жандром), а также несколько нео-
конченных пьес, писавшихся после главного произведения Грибоедо-
ва, комедии «Горе от ума»: «1812 год», «Грузинская ночь», «Рода-
мист и Зенобия» и др.
Весьма важна статья Грибоедова «О разборе вольного перевода
Бюргеровой баллады "Ленора"», посвященная защите переводчес-
ких принципов П.А. Катенина от критики со стороны Н.И. Гнедича.
Стихотворение A.C. Грибоедова «Давид» является переложением
псалма 151 Давида, который по-церковнославянски начинается сло-
вами: «Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего, пасох овцы
отца моего. Руце мои сотвористе орган, и персты мои составиша псал-
тирь. И кто возвестит Господеви моему?»
В грибоедовском переложении этому началу псалма соответству-
ет следующая строфа:
Не славен в братии измлада,
Юнейший у отца я был,
Пастух родительского стада;
И се! внезапно Богу сил
Орган мои создали руки,
Псалтырь устроили персты.
О! кто до горней высоты
Ко Господу воскрилит звуки?..
Создавая стихотворную переработку церковнославянского тек-
ста, Грибоедов отказался от его полного перевоплощения в лексику и
обороты современного русского языка. Сделано это Грибоедовым с яс-
ной внутренней мотивировкой: стихотворение как художественное про-
изведение должно сохранить ту «патину старинности», которую прида-
ет псалму церковнославянский язык. Сам же церковнославянский
современники Грибоедова прекрасно понимали, с рождения соприка-
саясь с ним в православной церкви и, как правило, обучаясь грамоте
ь* 83
при самой активной роли в процессе обучения написанных на нем книг
религиозного характера. Последнее напоминает, кстати, что классици-
сты-сумароковцы в XVIII в. и карамзинисты в начале XIX в. заостряли
в негативном плане вопросы, связанные с его употреблением в литера-
туре, достаточно искусственно.
Даже A.C. Пушкин, начинавший свою творческую деятельность как
ученик Карамзина, создавая стихотворение «Пророк» ( 1826), подобно
Грибоедову в случае с «Давидом», ошутил внутреннюю потребность
опереться на церковнославянскую лексику и идиоматику. wnh»
Заметно, что церковнославянизмы помогают Грибоедову в «Дави-
де» решать самые разные художественные задачи. Помимо вышеупо-
мянутого создания семантической «окраски» произведения, в цитиро-
ванном фрагменте можно указать, например, на «звуковую метафору»
«Псалтырь устроили персты». В этом стихе через все слова проходит
повтор звукового комплекса -рст- (с варьирующимся порядком зву-
ков). Помимо такой «инструментовки» целиком перекликаются по
принципу «паронимического» звукового подобия слова «псалтырь» и
«персты» (конкретно повторяется, с вариацией в порядке, комплекс
звуков -прсты- ), чего просто не было бы, употреби автор вместо цер-
ковнославянских «перстов» русское слово «пальцы». Подобные зву-
кообразы были излюбленным приемом Г.Р.Державина и С.С. Бобро-
ва, тем самым находясь в «светлом поле сознания» поэтов «Беседы
любителей русского слова», к которой принадлежал и Грибоедов.
A.C. Грибоедов как поэт обладал поразительным «чувством язы-
ка», которое особенно разносторонне проявилось в его главном про-
изведении, комедии «Горе от ума».
Над «Горем отума» A.C. Грибоедов начал работать, видимо, в 1822 г.,
когда состоял на Кавказе секретарем по иностранной части при генерале
Ермолове. Известно, что готовые сцены он читал тогда сослуживцу по-
эту В.К. Кюхельбекеру. Летом 1824 г. Грибоедов подарил своему другу
С.Н. Бегичеву законченную рукопись комедии (хранится в Государствен-
ном Историческом музее в Москве). Приехав в Петербург, поэт читал
комедию многим лицам, дорабатывал ее в частностях и в итоге подарил
другому своему другу A.A. Жандру так называемую «жандровскую» ру-
копись комедии с дополнениями. В 1828 г., возвращаясь в Персию из
очередной поездки в Петербург, A.C. Грибоедов оставил у Ф.В. Булгари-
на (ранее сумевшего опубликовать большие фрагменты «Горя отума» в
альманахе «Русская Талия на 1825 год») список комедии с некоторыми
новыми изменениями (так называемая «Булгаринская рукопись»).
В силу различных причин, среди которых не последнюю роль игра-
ла моральная репутация Булгарина, эта последняя прижизненная гри-
84
боедовская рукопись впоследствии долгое время мало использовалась
при публикациях «Горя от ума». aäuwk > « л\
На русской сцене отрывки из комедии были впервые поставлены
через год после смерти A.C. Грибоедова. Текст ее впервые был опубли-
кован в 1831 г. в Ревеле в переводе на немецкий язык. В том же году от
петербургского цензора Сенковского поступило витиеватое представ-
ление в Главное управление цензуры, в котором говорилось, что Сен-
ковский «вполне одобрил бы» сам комедию к печати, но утруждает
Комитет, поскольку «лично был дружен с покойным сочинителем». На
эту попытку переложить с себя ответственность на чужие плечи Коми-
тет ответил туманно, и издание сорвалось. Комедия, как и при жизни
Грибоедова, активно распространялась по России в списках.
На русском языке комедия была опубликована в 1833 г. Пре-
тензии к ней нового цензора Цветаева не имели отношения к поли-
тике: он писал, что «в 1-м и 2-м явлениях первого действия пред-
ставляется благородная девушка, проведшая с холостым мущиною
(София с Молчал иным. — ЮМ.) целую ночь в своей спальне и вы-
ходящая из оной с ним вместе без всякого стыда, а в 11-ми 12-м
явлениях четвертого действия та же девушка присылает после полу-
ночи горничную свою звать того же мущину к себе на ночь и сама
выходит его встречать». «Горе от ума» было издано после личного
разрешения Николая I печатать, «как играется» (театральные цен-
зоры к тому времени сделали в тексте комедии ряд своих изъятий). В
1839 г. вышло второе ее издание.
Только в 1862 г. была сделана попытка опубликовать полный текст
комедии с опорой на «жандровскую рукопись». Параллельно этому
выходили издания, отразившие в публикуемом тексте сложную «твор-
ческую историю» грибоедовского произведения, долгие годы гулявше-
го по стране в списках. Много оставшихся неизвестными читателей
внесли в текст таких списков собственные добавления. Некоторые из
них художественно довольно интересны (например, так называемый
«пролог»), но это не Грибоедов.
Научное издание текста комедии «Горе от ума» (преимуществен-
но по жандровскому и булгаринскому спискам с учетом рукописи
из Исторического музея) было осуществлено лишь в советское
время1.
1 См., напр.: Грибоедов A.C. Горе от ума. М., 1988 («Литературные памятники»).
Большую роль в подготовке подлинного текста комедии «Горе от ума» сыграл
литературовед Н.К. Пиксанов, которому принадлежит и подробное описание ее
«творческой истории».
Возмутившее цензора Цветаева начало комедии «Горе от ума»,
несомненно, и в самом деле могло поразить заранее не подготовленно-
го дворянского зрителя начала XIX в. (со свойственной этому времени
строгой регламентацией отношений полов).
т< Гостиная в московском доме Фамусовых. Несмотря на раннее утро,
из-за двери спальни юной дочери хозяина Софии раздаются звуки фор-
тепиано и флейты. Служанка Лиза просыпается на креслах в центре
комнаты и стучится к хозяйке:
Господа,
Эй! Софья Павловна, беда.
Зашла беседа ваша за ночь.
Вы глухи? — Алексей Степаныч!
Сударыня!..— И страх их не берет!
(Отходит от дверей)
Ну, гость неприглашенный,
Быть может батюшка войдет!
Прошу служить у барышни влюбленной!
Однако далее сия «безнравственная» коллизия обретает в коме-
дии любопытный поворот. Поскольку хозяйка все не выходит, Лиза
подводит часы, чтобы они начали бить, побуждая запершуюся в комна-
те парочку расстаться. За этим занятием ее застает сам хозяин, Фаму-
сов, немедленно начинающий развязно приставать к своей крепостной
служанке. Как видим, его поползновения нисколько не возмутили цен-
зора, что косвенным образом напоминает, какую устоявшуюся систему
являли собой в начале XIX в. крепостнические дикости (и соответствен-
но какую остроту имела для умов современников пронизывающая «Горе
от ума» антикрепостническая сатира Грибоедова).
София подает из комнаты голос, и ветреник-отец исчезает. Лиза
же произносит ставшее знаменитым резюме:
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.
Вскоре из слов Софии выясняется, что девушка и ее возлюблен-
ный, переехавший из Твери отцовский секретарь Молчалин (который
живет в доме Фамусовых), просто «забылись музыкой, и время шло
так плавно...». Софию умиляет, как нежно ухаживает за ней Молчалин:
86
Возьмет он ру"ку, к сердцу жк*ет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит.
София намерена женить на себе столь покорного молодого чело-
века. Но при всем уме Софии (и сопутствующей ему хитрости) она —
всего лишь неопытная девушка, совершенно не понимающая, что име-
ет дело с циничным лицемером, осторожно пробивающимся к почти
недостижимой (в силу их сословного неравенства) цели — женитьбе
по расчету на дочери хозяина. Софию Молчалин вовсе не любит — что
выясняется, когда незадолго до финала пьесы он уже не в первый раз
пытается приставать к красавице Лизе, заявляя ей по поводу Софии:
Мой ангельчик, желал бы вполовину
К ней то же чувствовать, что чувствую к тебе.
При этом Молчалин Софию вдобавок называет «плачевной кра-
лей» и намекает Лизе, что женитьба на ней якобы не входит в его наме-
рения. София скрыто подслушивает этот их разговор, восклицая «в сто-
рону»: «Какие низости!» Его случайно слышит из-за колонны и Чацкий,
коротко резюмирующий: «Подлец!».
Так разрешатся все эти «амурные» коллизии в финале комедии.
Пока же Молчалин, тихонько ускользая из спальни Софии через гос-
тиную, сталкивается с вернувшимся Фамусовым и наспех лжет ему, что
идет «с прогулки». На это неглупый хозяин отвечает:
Нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок?
Впрочем, далее подозрений дело не идет. После ухода мужчин пе-
револновавшаяся Лиза начинает укорять свою барышню. Разговор
переходит на интересующегося Софией молодого полковника Скало-
зуба, который, по словам Лизы, «и золотой мешок, и метит в генера-
лы» — впрочем, София отвечает:
Он слова умного не выговорил сроду, —
Мне все равно, что за него, что в воду.
Лиза не отстает и напоминает хозяйке об Александре Андреиче
Чацком, который был влюблен в Софию (они с детства росли вместе)
и, расставаясь с ней три года назад, «слезами обливался». Немного сму-
87
щенная София резко обрывает служанку, признавая, однако, что по-
ступила с Чацким «ветрено». Впрочем, и ей есть в чем упрекнуть его:
Остер, умен, красноречив,
В друзьях особенно счастлив.
Вот об себе задумал он высоко...
Охота странствовать напала на него,
Ах! если любит кто кого,
Зачем ума искать, и ездить так далёко?
Неожиданно со словами «Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног»
появляется вернувшийся в Москву Чацкий. Начинает развиваться со-
ставляющая внутреннюю суть комедийного сюжета Грибоедова печаль-
ная история о любви умного и благородного, но ослепленного своим
чувством юноши к властной, капризной (и, как быстро выясняется, спо-
собной на изрядное коварство) девушке.
о»«Горе от ума» многие авторы разного времени воспринимали как,
прежде всего, социальную сатиру и сатиру на нравы (среди немного-
численных исключений можно указать на знаменитую статью И.А. Гон-
чарова «Мильон терзаний», написанную в 1871 г.). Образы Скалозу-
ба, Фамусова, Загорецкого, Репетилова и т. п., разумеется, и сегодня
упоительно смешны. Но обличение крепостного права в страстном мо-
нологе Чацкого «А судьи кто?» и его непрерывные инвективы по адре-
су московского дворянского общества, взятые сами по себе, для совре-
менного читателя, несомненно, уже звучали бы абстрактно.
Художественную значимость свою они сохраняют благодаря общему
контексту «Горя от ума», благодаря главной теме пьесы. А любовная
тема, с которой читатель и зритель сталкиваются в пьесе, из разряда
так называемых «вечных».
Умом Чацкий осознал свою беду довольно быстро — уже при пер-
вом появлении на сцене Скалозуба он говорит себе:
Ах! тот скажи любви конец,
Кто на три года вдаль уедет.
Однако, убедившись вскоре, что перед ним глупец (как глуп и от
души презираемый им Молчалин), Чацкий не способен принять все-
рьез ни того ни другого в качестве соперников себе. София, как он по-
лагает, слишком незаурядна, чтобы увлечься одним из них. В финале
пьесы ему предстоит узнать как о сложностях девичьих любовных пред-
почтений, так и о том, что именно София, мстя за его презрение к Мол-
88
чалину, распустила между отцовскими гостями сплетню о сумасшествии
Чацкого1.
Другая тема «Горя от ума» тоже из разряда «вечных» и, соответ-
ственно, тоже по сей день сохраняет свою живость и актуальность. Ее
можно условно обозначить как тему «отцов и детей». Фамусов в мо-
нологе «Вот то-то все вы гордецы!» советует Чацкому учиться, «на стар-
ших глядя». Предполагая привести молодому человеку авторитетные
примеры должного поведения, он пускается сначала в воспоминания о
«покойнике дяде» Максиме Петровиче, который не раз заслуживал
благоволение «государыни Екатерины», нарочито ведя себя, как шут
гороховый. Затем, после появления на сцене Скалозуба, следует дру-
гой «нравоучительный монолог» Фамусова: «Вкус, батюшка, отмен-
ная манера...»
Не выдержав его похвал московским старичкам, которые «Пря-
мые канцлеры в отставке — по уму», и дамам-сплетницам, которые
«Судьи всему, везде, над ними нет судей», а также снисходительно-по-
ощрительных реплик в свой адрес, Чацкий в конце концов разражает-
ся знаменитым монологом «А судьи кто?» Собственно, помимо глухих
и безадресных намеков на некое распространенное в московской дво-
рянской среде «грабительство», в монологе упоминается лишь два кон-
кретных злодея из числа «отцов» — «Нестор негодяев знатных», вы-
менявший на верных слуг «борзые три собаки», и некто, из-за долгов
безжалостно распродавший «поодиночке» «амуров и зефиров» из сво-
его крепостного театра. (Впрочем, немного достается и Фамусову, к ко-
торому Чацкого «еще с пелён, для замыслов каких-то непонятных, ди-
тёй возили на поклон».)
По мнению Чацкого, «те, которые дожили до седин», не вправе
осуждать молодежь, когда она, «не требуя ни мест, ни повышенья в
чин», вперяет в науки «ум, алчущий познаний», или, также не думая о
карьере, обращается «к искусствам творческим, высоким и прекрас-
ным».
Собственно, в комедии сам Чацкий — единственный представи-
тель такой мыслящей молодежи; читателю и зрителю остается предпо-
лагать ее наличие где-то за пределами сцены. Таковы, по-видимому,
оставивший службу и карьеру и читающий книги в деревне двоюрод-
ный брат Скалозуба, а также князь Федор, увлекшийся химией и бота-
1 За два с небольшим десятилетия до Грибоедова ситуацию любви властной
девушки к презренному ничтожеству обыграл в своей «шутотрагедии» «Подщи-
па» Крылов (решительная Подщипа у него любит трусливого Слюняя; есть у Кры-
лова и аналог Скалозуба — солдафон немецкий принц Трумф).
89
никой. Репетилов, появляющийся у Фамусова в конце званого вече-
ра, — лишь емкая пародия на подражателей подобной молодежи, вне-
шним образом имитирующих и вульгаризующих ее занятия и интере-
сы. Другие молодые по годам персонажи «Горя от ума» (София,
Молчалин, Скалозуб) — из числа тех «московских», на которых, по
словам Фамусова, «есть особый отпечаток» и которые «в пятнадцать
лет учителей научат»; даже прежний друг Чацкого Платон Михайло-
вич Горич, став семьянином, быстро превращается в безликого «мужа-
слугу», во всем покорно слушающегося свою жену (дворянская семья
в комедии вообще изображена критически: она портит и детей и взрос-
лых — не случайно благородный Чацкий сирота).
Главная в «Горе от ума», несомненно, вышеупомянутая любовная
линия. Именно она проведена через всю пьесу и в финале (в сенях пос-
ле разъезда фамусовских гостей) окончательно высвечивает характе-
ры основных героев. «Притворщицу» Софию (выражение Чацкого)
характеризует ситуация, ее в сердцах характеризует и появившийся
отец:
Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать, ни взять она,
Как мать ее, покойница жена.
Бывало я с дражайшей половиной
Чуть врознь:— уж где-нибудь с мужчиной!
Молчалин, на беду свою, в предшествующей этому сцене с Лизой
«засветился» и словом и делом, но тут же вовремя спрятался в своей
комнате, и вся ярость появившегося в сенях Фамусова обращается на
Чацкого. Впрочем, из странных речей последнего (Чацкий заявляет
Софии: «Довольно!., с вами я горжусь моим разрывом», — а отцу выс-
казывает пожелание «дремать в неведеньи счастливом») неглупый Фа-
мусов быстро смекает, что перед ним вряд ли любовник дочери, и в ито-
ге не знает, что уж подумать. После этого Чацкий удаляется со ставшими
знаменитыми словами:
Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок! —
Карету мне, карету!
Растерянному Фамусову остается ломать голову, кто же есть упо-
мянутый Чацким на прощание «низкопоклонник и делец», «будущему
90
тестю равный» (он пока не понимает, что подразумевался Молчалин, с
которым София, по убеждению Чацкого, рано или поздно поладит).
Рядовой современный читатель и зритель принимал комедию «Горе
от ума», как правило, с восторгом. Однако уже ряд современных кри-
тиков упрекнул ее в «отсутствии действия». В конце XIX в. другой дра-
матург, А.П. Чехов, также столкнулся с упреками в том, что в его пье-
сах «ничего не происходит». Предшественником его был, таким
образом, A.C. Грибоедов. и* \г*мтг> нг <кп
И.А. Гончаров попытался в статье «Мильон терзаний» защитить
грибоедовскую комедию от подобной критики, утверждая, что в ней
присутствует «живое, непрерывное» движение до последних слов Чац-
кого: «Карету мне, карету!», а также «гениальная рисовка», колорит,
«поэтические силы», «прелесть языка» и т. п. Тем не менее действия в
том узком смысле, который подразумевался критикующими лицами, в
комедии Грибоедова действительно нет (как его снова нет в написан-
ных через десятки лет пьесах Чехова).
Эта общая обоим авторам особенность не есть некий художествен-
ный недостаток — она проистекает из того факта, что мы имеем дело с
двумя великими драматургами-новаторами.
Вначале на сцене «Горя от ума» Лиза, затем прибавляется Фаму-
сов, выходят из спальни София и Молчалин, врывается переполненный
своим чувством Чацкий, является Скалозуб, ближе к вечеру начинают
приезжать гости — молодая вдова Наталья Дмитриевна, княжеское
семейство Тугоуховских, бабушка и внучка графини Хрюмины, Загорец-
кий, Хлестова, и, как сказано автором в ремарке, «множество других
гостей». По разъяснению Софии, съезжаются «домашние друзья, по-
танцовать под фортопияно, мы в трауре, так балу дать нельзя». **
Комедия A.C. Грибоедова (подобно романам И.А. Гончарова и
Ф.М. Достоевского, а также пьесам А.П. Чехова ) состоит из непрерыв-
ных монологов, диалогов и групповых обменов репликами этих действу-
ющих лиц, круг которых постепенно расширяется. Именно слова, а не
двигающие действие вперед события, обеспечивают семантическое
развитие произведения. При всей непривычности, такой способ его
смыслового развития реализован Грибоедовым весьма успешно.
В словах автором неоднократно передано столкновение жизнен-
ных позиций (Чацкий и Молчалин, Чацкий и Скалозуб), противобор-
ство убеждений (Чацкий и София, Чацкий и Фамусов). Характеры ге-
роев комедии обрисовываются путем их постепенного словесного
раскрытия другими персонажами и самораскрытия.
Известны слова A.C. Пушкина о Чацком (из письма к A.A. Бесту-
жеву-Марлинскому из Михайловского, относящегося к январю 1825 г. ):
91
«Все, что говорит он, — очень умно. Но кому говорит он все это? Фа-
мусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это
непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгля-
ду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и
тому подоб.»
Здесь великому поэту нельзя не возразить, что Чацкий говорит не
просто перед вышеперечисленными условными героями комедии — он
говорит uepejxpyccKUMu читателями и зрителями. Речи Чацкого, сам
образ Чацкого рассчитаны Грибоедовым именно на их ум и понимание.
Имеет смысл напомнить о некоторых чертах поведения той моло-
дежи, любящей науки и искусства, к которой в пьесе неоднократно при-
числяет себя Чацкий. Историк культуры и литературовед Ю.М. Лот-
ман справедливо писал: «Трудно назвать эпоху русской жизни, в которую
устная речь: разговоры, дружеские речи, беседы, проповеди, гневные
филиппики — играла бы такую роль»1.
Речи Чацкого, фактически обращенные в зал, имели и по сей день
имеют в русской публике безошибочного и благодарного адресата.
1 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. М., 1997, с. 334.
К сожалению, эта особенность довольно искусственно подтягивается иссле-
дователем (цитируемые слова написаны в конце 1970-х годов) к модной тогда теме
предполагаемой принадлежности Чацкого к декабристам — как модно было вда-
ваться в предположения, что и Евгений Онегин «в будущем» (то есть за рамками
текста пушкинского романа в стихах) якобы «станет декабристом».
(Среди чисто литературных источников сложного образа Чацкого справедли-
во называют Альцеста из комедии Мольера «Мизантроп».)
Как следствие, речам Чацкого исследователь Ю.М. Лотман дает излишне уз-
кую и прямолинейную интерпретацию — он усматривает в них отображение «бы-
тового поведения декабриста». Между тем так вел себя не просто некий узкий круг
политических заговорщиков — такова была, действительно, особенность поведе-
ния целого поколения прогресссивной дворянской молодежи. Резкость и прямота
молодежи не были непременно резкостью и прямотой «декабристов» — в этом
проявлялся, прежде всего, обычный и естественный молодежный максимализм, а
также «стиль эпохи».
Сам Грибоедов не имел прямого отношения к декабристам, хотя, подобно Пуш-
кину, приятельствовал с некоторыми из них. Будучи, как и ряд других людей, тща-
тельно допрошен следствием, он был затем отпущен с «очистительным аттеста-
том». Приписываемая ему скептическая фраза по поводу заговорщиков: «Сто
прапорщиков хотят перевернуть Россию!» — точно отражает отношение Грибое-
дова к заговору и восстанию. Однако в советское время подобные реальные факты
либо игнорировались, либо перетолковывались весьма субъективно.
92
Комедия поразительна и по тому, что можно условно назвать ее
«языковой фактурой». В ней то и дело звучит не просто условно-сце-
ническая речь, а речь, максимально приближенная к устно-разговор-
ной. В драматургии, и не только того времени, это случай уникальный.
Например, вот как Лиза комментирует доведшее Софию до обморока
падение Молчалина с лошади:
Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя
А лошадь на дыбы,
Он об землю и прямо в темя.
Здесь, как видим, сплошные эллипсисы («опущения»), вносящие
в рассказываемое бурную экспрессию и психологически соответству-
ющие взволнованному состоянию Лизы. Грамматически «полная» фраза
предполагала бы примерно такое строение: «Молчалин на лошадь са-
дился, <но когда он только поставил> ногу в стремя, лошадь «внезапно
взвилась» на дыбы, вследствие чего> он <ударился> об землю, и <этот
удар пришелся) прямо в темя».
В такой же «устно-разговорной манере» Грибоедовым написана
речь Фамусова и Скалозуба; Софии он вдобавок придал ряд галлициз-
мов, отражающих «французский» характер полученного ею воспита-
ния. Чацкий в основных монологах, по наблюдению Фамусова, «гово-
рит, как пишет». Однако в ситуации разговора и он изъясняется в
соответствии с нормами настоящей устной речи. Вот его советы Пла-
тону Михайловичу:
Движенья более. В деревню, в теплый край.
Будь чаще на коне. Деревня летом рай.
Здесь энергично-отрывистая речь опять-таки основана на эллип-
сисах (с точки зрения грамматики письменной речи предполагалось бы:
«<Тебе нужно> движенья более. <Поезжай-ка> в деревню...» и т. д.)1.
Созданию эффекта «разговорности» способствует и вольный стих,
имевший до «Горя от ума» широкое хождение преимущественно в бас-
нях (он не прижился в русской драматургии и впоследствии, хотя по-
пытки подражать Грибоедову имели место).
Нельзя умолчать о том, что карамзинистская критика не приняла
многие особенности языка комедии.
1 О подобных писательских приемах см. подробно: Минералов Ю.И. Теория
художественной словесности.
»3
v Полемизируя с карамзинистами, В.К. Кюхельбекер занес в днев-
ник следующее суждение: «Но что такое неправильности слога Грибое-
дова? (Кроме некоторых и то очень редких исключений.) С одной сто-
роны, опущения союзов, сокращения, подразумевания, с другой —
плеоназмы, — словом, именно то, чем разговорный язык отличается
от книжного. Ни Дмитриеву, ни Писареву, ни Шаховскому и Хмель-
ницкому (за их хорошо написанные сцены), но автору 1-й главы Онеги-
на Грибоедов мог бы сказать также, что какому-то философу, давнему
переселенцу, но все же не афинянину, сказала афинская торговка: «Вы
иностранцы». — «А почему»? — «Вы говорите слишком правильно; у
чвас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без
которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых
молчат ваши грамматики и риторики»1.
Кюхельбекер защищает здесь стилевые приемы Грибоедова, отве-
чая его критикам. «Вы иностранцы» (множественное число) — здесь
понять нетрудно: намекается не только на молодого Пушкина, ассоци-
ирующегося в сознании Кюхельбекера с карамзинизмом вообще. Ка-
рамзинисты, «очистители языка», мыслятся в данном случае Кюхель-
бекером как антипод Грибоедова. К цитированному отрывку в дневнике
Кюхельбекера имеется такое его подстрочное примечание: «Впослед-
ствии Пушкин хорошо понял тайну языка Грибоедова и ею воспользо-
вался»2.
Грамматики и риторики, известные Кюхельбекеру, действительно,
«молчали» о том, что «разговорный язык» не может обойтись без
неких «мнимых неправильностей». В.И. Даль даже обратился к автору
одной из наиболее авторитетных грамматик этого времени, Н.И. Гречу,
с письмом, где полемически заявил, что современная грамматика со-
держит «не правила, а одни изъятия»3.
Немного позже один из крупнейших русских филологов XIX в. ака-
демик Ф.И. Буслаев писал: «...Грамматика Ломоносова должна была
уступить место руководствам, принявшим за образец речь карамзинс-
кую; но дальнейшие успехи нашего языка в сочинениях Грибоедова,
Крылова, Пушкина уже не нашли себе оправдания в этих руководствах;
вследствие чего, первый художник и знаток русского слова, Пушкин
увидел себя в странном противоречии со многими параграфами приня-
той в его время грамматики»4.
1 Кюхельбекер В.К. Дневник//Русская старина. 1875. Т. 14. С. 85.
2 Там же. С. 85.
гДаль В.И. Письмо Н.И. Гречу//Древняя и новая Россия. Т. 1. 1876. С. 98.
4 Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959. С. 566.
94
Называя карамзинистов «иностранцами», Кюхельбекер подразу-
мевал не только их идейное западничество. Ощущение, что хорошо будто
бы знающие русский язык иностранцы говорят как-то «слишком пра-
вильно», чересчур книжно, известно, надо полагать, очень многим лю-
дям. Иностранец — человек, изучавший наш язык в искусственных ус-
ловиях, по учебникам и пособиям. Вполне понятно, что в устном
общении он говорит по правилам письменной речи, искусственно фор-
мулируя и произнося «полные» фразы, и что со стороны это выглядит
довольно неестественно — у устно-разговорной речи есть свои яркие
особенности. Карамзинисты с их повествовательными тенденциями и,
как следствие, убежденной ориентацией на синтаксис письменной речи,
в известном смысле, действительно, становились иногда похожи на та-
ких «иностранцев», если им, например, оказывалось необходимо изоб-
разить в своих произведениях живой разговор. Напротив, писатели с
обостренным «чувством языка», подобные A.C. Грибоедову, интуитив-
но улавливали и использовали в своем творчестве те скрытые грамма-
тические резервы, мимо которых близоруко проходили современные им
грамматисты.
Комедия «Горе от ума» открыла собой эпоху русской реалистичес-
кой драматургии. В ней столь многое было по-новому, что разобраться
в сути этой новизны поначалу удалось далеко не всем. Чацкий имел у
Грибоедова, казалось бы, основные черты бросающего вызов обществу
романтического героя — но представлено это было не в романти-
ческой поэме, а в комедии. Сюжет был преднамеренно многопланов, а
это могло показаться отсутствием сюжетного единства и результа-
том недостаточного авторского мастерства. Реалистическая типиза-
ция образов также была новинкой, и Грибоедову пришлось так объяс-
няться в этой связи со своим приятелем П.А. Катениным, обвинившим
его в том, что в комедии «характеры портретны»:
«...Портреты, и только портреты, входят в состав комедии и траге-
дии, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а
иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек
похож на всех своих двуногих собратий» (письмо П.А. Катенину, напи-
санное в начале 1825 г.).
A.C. Грибоедов — великий русский поэт и драматург, нова-
тор, чей пример был притягателен для писателей многих следу-
ющих поколений. Его комедия «Горе от ума» принадлежит к чис-
лу лучших пьес русского театра. Она многое подсказала
драматургам будущего. Язык комедии необыкновенно афористи-
чен, и многие цитаты из нее обрели характер крылатых выра-
жений.
поэты
ПУШКИНСКОЙ эпохи
Василий Львович Пушкин ( 1770— 1830) — поэт и переводчик, дядя
A.C. Пушкина, поклонник творчества Н.М. Карамзина сентименталис-
тского периода, староста «Арзамаса», член петербургского Вольного
общества любителей словесности, наук и художеств, а также один из
учредителей Общества любителей российской словесности в Москве.
Первая публикация — в 1793 г. в журнале И.А. Крылова «Санкт-Пе-
тербургский Меркурий». Автор написанной в 1811г. «ироикомической»
поэмы «Опасный сосед» (помимо фривольно-бурлескных мотивов со-
державшей критику «Беседы любителей русского слова»), стихотвор-
ных посланий — втом числе посланий «К В.А. Жуковскому» (1810) и
«КД.В. Дашкову» (1811 ), излагавших литературные принципы карам-
зинизма, — пародий и басен, подражаний Горацию, Тибулу, Катуллу,
Парни и др., переводов из Лафонтена, Буассара, Флориана и др., по-
эмы «Капитан Храброе» (1828-1830). Наиболее полное прижизнен-
ное издание — «Стихотворения Василия Пушкина» (1822).
В структуре посланий «К В.А. Жуковскому» и «КД.В. Дашкову»
jB.Jl. Пушкин заметно подражает написанным в середине XVIII в. «эпи-
столам» Сумарокова «О русском языке» и «О стихотворстве». В не-
которых местах и мысли схожи, например:
Стихомарателей здесь скопище упрямо.
Не ставлю я нигде ни «семо», ни «овамо».
Тут закономерно вспоминается сумароковское:
Коль «аще», «точию» обычай истребил,
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?
*0 русском языке»
Оригинальна здесь, прежде всего, убежденная проповедь литера-
турного карамзинизма, понятого весьма интересно. Автор сообщает в
уже цитированном послании «К В. А. Жуковскому»:
Я, признаюсь, люблю Карамзина читать
И в слоге Дмитреву стараюсь подражать.
Но вот какие прелюбопытные вещи в качестве наиважнейших
В.Л. Пушкин тут же рассказывает о себе как поэте: «Кондильяка я и
Дюмарсе читаю», «... Логике учусь и ясным быть желаю» (курсив
мой. — ЮМ.). Кондильяк — французский логик, Дюмарсе — фран-
цузский грамматист, чьи воззрения сформировались на основе упо-
минавшейся выше грамматики Пор-Ройяля. Итак, навыки ясного ло-
гического мышления с профессиональными целями старается
вырабатывать в себе русский поэт\ «Безграмотные славяне» (лите-
ратурные противники карамзинизма), которых он ругает в обоих по-
сланиях, как раз этого и не делают.
Выше уже напоминалось, что (действительно характерная для сти-
хов карамзинистов) ясность, понимавшаяся и реализовывавшаяся ими
как логическая проясненность, имела немало чисто поэтических отри-
цательных следствий. Дорога, которую вслед за литературными едино-
мышленниками пытается указывать здесь русской поэзии В.Л. Пуш-
кин, на деле все-таки не была ни лучшей, ни единственной.
Чтение Кондильяка и Дюмарсе могло положительно сказаться на
повествовательных стихах с упрощенной формой, но последовательно
и равномерно излагаемым сюжетом. Такова, например, «ироикомичес-
кая» поэма В.Л. Пушкина «Опасный сосед», написанная александрий-
ским стихом с парной рифмовкой.
Неоспоримо влияние на нее аналогичной по жанру поэмы класси-
циста-су мароковца В.И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх»,
которую обожал A.C. Пушкин. Главный герой В.Л. Пушкина унаследо-
вал основные черты буяна Елисея и даже носит фамилию Буянов (впро-
чем, Елисей Майкова был петербургским ямщиком, а Буянов — поме-
щик, «имение свое проживший в восемь лет»). Буянов появляется у
повествователя в облике, который много позже будет характерен для
гоголевского Ноздрева:
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком,
Пришел, — и понесло повсюду кабаком.
«Опасный сосед» соблазняет повествователя отправиться вместе
с ним в публичный дом, где и устраивает по пустяковому поводу побои-
7—Минералов 97
ще, аналогичное учиненному Елисеем в питейном доме «Звезда». Май-
ков не упускает случая уколоть в «Елисее» собратьев по перу (в питей-
ный дом валят среди других лиц и «зараженные собою рифмачи»). Не
забывает ввести сходный мотив и автор «Опасного соседа»: вступив во
всеобщую драку, проститутки начинают бросать в клиентов ««Несчас-
тный Никанор», чувствительный роман», книжки «Русалка», «Дева
солнца» и другое литературное чтиво тех лет. «Славянофилы» также
неоднократно уязвляются в этой поэме по самым разным поводам1.
В.Л. Пушкин принадлежал к разряду поэтов-дилентантов. Однако
его беззаветная любовь к литературе от всей души подкупает. Напри-
мер, сохранилась его обширная и интересная переписка с П.А. Вязем-
ским, которая велась на протяжении 1812—1830 годов. Именно лите-
ратура — основная интересующая собеседников тема, и как ярки при
всем их частом субъективизме суждения В.Л. Пушкина!
Поэт навсегда остался сторонником сентиментального романтиз-
ма, расцвет которого совпал со временами его молодости. Интересно,
что при всей дружбе с тем же В.А. Жуковским он отнюдь не был в вос-
торге от многого в принципах романтической поэзии 1820-х годов. Об
этом свидетельствует во многом пародийная поэма «Капитан Храбров»,
изобилующая иронически-примененными автором шаблонами такой
поэзии — разбойники, таинственные герои и героини и даже сны с при-
видениями. О последних В.Л. Пушкин, откровенно потешаясь, гово-
рит:
Я, право, обойтись не мог,
Чтоб не представить сновиденья;
Романтики такого мненья,
Что тот поэт не удалец,
Кому не видится мертвец.
Его собственные вкусы по-прежнему вращались в сфере карамзи-
нистских принципов, а также литературы французского классицизма.
В одном из последних писем Вяземскому ( 11 июня 1829 г.) он, напри-
мер, говорит: «Полевые пишут непрестанно нелепости насчет фран-
цузской литературы, с презрением говорят о Гомере, называют Анак-
1 Недавно опубликована книга, автор которой в свободной манере рассужда-
ет о В.Л. Пушкине (и не только о нем), отправляясь от поэмы «Опасный сосед».
См.: Михайлова И. Поэма Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед»: Очерки
о дяде и племяннике, Буянове и Онегине, «Арзамасе» и «Беседе» et cetera. M.,
2005.
98
реона пьяницею, а Горация шалуном, восхищаются Фальстафом и урод-
ливыми творениями Шекспира. Это происходит оттого, что они фран-
цузской литературы не понимают, да и в Шекспире любят только то,
чего любить не должно» (речь о статьях братьев Полевых в «Московс-
ком телеграфе»)1.
Нельзя не отметить решающую роль, которую однажды сыграл
В.Л. Пушкин в судьбе своего племянника: именно он поместил Сашу
Пушкина в привилегированный Царскосельский лицей, используя свои
связи при дворе.
Иван Иванович Козлов (1779—1840) — поэт, переводчик; родо-
витый дворянин, сын статс-секретаря Екатерины II. Обладал редчай-
шей по силе памятью: знал наизусть Евангелие и множество произве-
дений художественной литературы, отечественной и зарубежной.
В 1818 г. был парализован и затем постепенно ослеп. С детства владел
французским и итальянским языками; ослепнув, изучил также англий-
ский, немецкий и польский. Став калекой, в возрасте 42 лет написал
первые стихи.
Автор стихотворений «К Светлане» (1821), «Киев* (1824), «Бей-
рон» (1824), «На погребение английского генерала сира Джона
Мура» (1825), «Венецианская ночь» (1825), «Вечерний звон» ( 1827),
«Кморю» ( 1828), «Разбитый корабль» ( 1832), «ГимнОрфея» ( 1839)
и др., поэм «Чернец» (1824), «Княгиня Наталия Борисовна Долго-
рукая» (1828), «Безумная» (1830), переводов из Ариосто, Тассо, Бай-
рона, Бернса, Ламартина, Мицкевича и др. Переложил стихами «Плач
Ярославны» из «Слова о полку Игореве». Автор книги «Стихотворе-
ния» (1828).
Подобно своему другу В.А. Жуковскому, поэт-романтик Козлов от-
лично работал в жанре вольного русифицированного перевода. Даже
ставшее символом его творчества знаменитое стихотворение «Вечер-
ний звон» представляет собой такого рода переложение из Томаса Мура:
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
»Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
*Там слушал звон в последний раз! <и т. д.>
1 В своем пристрастном отношении к Шекспиру В.Л. Пушкин имел предше-
ственника опять-таки в лице А.П. Сумарокова.
7* 99
Мерные двустишия, которыми написано это краткое стихотворе-
ние (три строфы, первая из них приведена), формально представляют
собой обычный четырехстопный ямб с парной мужской рифмовкой —
лишний пример того, что художественно-смысловое воздействие рит-
мизованного текста непосредственно зависит от семантики самого этого
текста. Здесь слово «звон» явно подразумевает бой церковного коло-
кола, зовущего к вечерней службе. Сознание русского читателя, само
собой, при этом представляет вечер именно где-то в России и именно
православный храм1.
Проходящие через все стихотворение рифмы типа звон/он, род-
ном/дом, сон/звон, он/звон явно рассчитаны на звуковую имитацию
боя колокола. Но эта «инструментовка» лишь дополняет и нюансирует
тот глобальный по смыслу образ, который не случайно стал даже на-
званием стихотворения. «Вечерний звон», звук православного церков-
ного колокола настолько емок, что, действительно, для чуткого сердца
содержит в себе все — воспоминания о юности, родине, об ушедших из
жизни близких и друзьях и многое иное:
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
Именно образ церковного звона позволил поэту дать столь силь-
ное художественное воплощение разлитой в стихотворении носталь-
гии, окрашенной религиозным чувством.
Мотив, на который ныне поется «Вечерний звон», основан на му-
зыке Алябьева в обработке Свешникова. Из других стихотворений Коз-
лова, положенных на музыку, необходимо упомянуть «Венецианскую
ночь» (музыка М.И. Глинки).
О тонкости работы И.И. Козлова со звуком и ритмом напоминает
и другое известное стихотворение — «На погребение английского ге-
нерала сира Джона Мура»:
Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили.
Прости же, товарищ! Здесь нет ничего
1 Развернутый живописный образ такого рода содержит известная картина
И.Левитана «Вечерний звон».
100
На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.
Это перевод стихотворения ирландского поэта Ч. Вольфа. Однако
русский поэт столь естественно вписал его в образно-ассоциативные
традиции родной литературы, что стихотворение стало одним из ше-
девров поэзии пушкинского времени. Тот факт, что впоследствии оно
породило множество подражаний, свидетельствует о силе найденных
И.И. Козловым художественных интонаций.
Среди поэм И.И. Козлова выделяется «киевская повесть» «Чер-
нец», имевшая огромный литературный успех. Об этой поэме Козлова
A.C. Пушкин писал брату Льву в мае 1825 г.: «Повесть его прелесть»1.
В ней, исповедуясь игумену, умирающий молодой монах рассказы-
вает разворачивающуюся по все канонам романтизма историю своей
трагической любви к девушке, которая так же сильно любила его. Под-
лый соперник, некий польский хорунжий, пытался им мешать, но они
тайно поженились. Однако когда у них появился сын, «Злодей несчаст-
ную убил: Я мать с младенцем схоронил».
Через семь лет все еще не помнящий себя от горя герой пришел на
могилу жены и ребенка и затем случайно встретил злодея:
Но вдруг... я вижу пред собою,
При блеске трепетном луны,
Убийцу сына и жены.
Потерявший близких человек сделал именно то, что сделал бы на
его месте почти всякий:
Он робко смотрит, он дивится,
Он саблю обнажить стремится;
1 Именно под впечатлением прочтения поэмы «Чернец» Пушкин создал свое
послание И.И. Козлову:
Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
1П1
>Увы! со мною был кинжал...
И он в крови с коня упал.
Однако это свое воздаяние убийце жены и сына чернец по-христи-
ански воспринимает как великое преступление и перед смертью искрен-
не кается. Хотя в поэме, несомненно, можно усматривать присутствие
одного из варинатов темы «преступления и наказания», все же это и
поэма о великой любви. О ней говорил И.И. Козлов и в других своих
произведениях (например, в поэме «Безумная»).
Творчество И.И. Козлова лишний раз напоминает об относитель-
ности литературоведческих подразделений романтизма на различные
типы. Например, оно закономерно провоцирует ассоциации с его «бай-
роническим» типом (именно Козлов был одним из первых переводчи-
ков Байрона). Однако и в «Чернеце», в в поэзии Козлова в целом не-
сомненно также присутствие стихии сентиментального романтизма.
Причем, что важно, обе тенденции уживаются в одной поэтической
личности весьма органично, что дает в произведениях как таковых весь-
ма интересный художественный синтез.
В.А. Жуковский писал об И.И. Козлове, что «Божий Промысл,
пославший ему тяжкое испытание, даровал ему в то же время и вели-
кую отраду» — «разнообразный и неизменчивый мир поэзии, озарен-
ный верой, очищенный страданием». В «Обзоре русской литературы
за 1823 год» Жуковский говорит, что «поэзия спасает его от отчаяния,
она оживляет для него настоящее, а чувство религии, сильное в сердце
его, хранит надежду на будущее и даже его украшает»1
Все сказанное о роли несокрушимой веры И.И. Козлова в его судьбе
вполне подтверждается характером его поэзии. В ней нельзя не отме-
тить отличающиеся предельной искренностью молитвенные мотивы.
Вот одно из последних произведений поэта:
;Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.
Не страшны мне мои страданья:
Они залог любви святой;
Но дай, чтоб пламенной душой
$ мог лить слёзы покаянья.
Взгляни на сердца нищету,
1 Жуковский В.Л. Эстетика и критика. М., 1985. С 313.
102
Дай Магдалины жар священный,
Дай Иоанна чистоту;
Дай мне донесть венец мой тленный
Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.
(«Молитва», 1839)
В небольшом по объему творчестве И.И. Козлова поэтические
молитвы составляют самостоятельный пласт творчества. Поскольку
как художественное явление они находятся на уровне лучших его про-
изведений, этот (пока наименее исследованный) пласт требует при-
стального и бережного внимания современных литературоведов.
Денис Васильевич Давыдов (1784—1839) — поэт, военный писа-
тель, герой Отечественной войны 1812 г., генерал-лейтенант. В 1803—
1805 годах приобрел известность благодаря своим басням и сатирам,
ходившим в рукописях («Голова и Ноги», «Орлица, Турухтан и Тете-
рев», «Сон», «Река и зеркало» и др.). Далее в его творчестве упрочи-
лись мотивы так называемой «гусарской лирики» («Бурцову», «Бур-
цеву. Призывание на пунш», «Гусарский пир», «Песня старого
гусара», «Гусар», «Полусолдат», «Гусарская исповедь» и др.). Зна-
чительный интерес представляют элегический цикл стихов Д.В. Давы-
дова ( «Элегии» I—IX, элегия «Бородинское поле» ), его стихотворения,
обозначенные автором как «Романс», блестящая сатира «Современ-
ная песня», хлесткие эпиграммы и др. Военно-публицистическая про-
за Давыдова («Дневник партизанских действий 1812», «Опыт тео-
рии партизанского действия» и др.)» ег0 автобиография и его
воспоминания о полководцах А. Суворове, Н. Раевском, М. Каменском
также отличаются непреходящей ценностью не только в историко-куль-
турном, но и в литературном отношении.
Смелое озорство первых стихов Д.В. Давыдова неоднократно обрета-
ло политическую остроту. Современники отлично понимали его намеки:
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить.
(«Голова и Ноги», 1803)
Надо напомнить, что цитированная басня написана во времена так
называемого «Дней Александровых прекрасного начала» (слова
103
A.C. Пушкина). «Вольнодумец» Давыдов, отличавшийся большой по-
литической интуицией, уже в эти приснопамятные дни не питал рас-
пространенных в тогдашнем обществе иллюзий относительно молодо-
го царя. Впрочем, его произведение — не просто некий «актуальный»
фельетон. Как всякая басня, оно рассчитано на смысловую общезна-
чимость.
«Гусарские» мотивы в творчестве этого глубокого и внутренне не-
зависимого человека претерпели впечатляющую эволюцию. Ранние
произведения данного ряда полны бравады, эффектной рисовки и бес-
шабашного молодого самоупоения. Таковы, например, послания к при-
ятелю юных лет Бурцову:
Бурцов, ты — гусар гусаров!
Ты на ухарском коне
Жесточайший из угаров
И наездник на войне!
(«Бурцову», I804)1
Как видим, даже конь у Бурцова «ухарский». Неизменные атрибу-
та «гусарской» лирики — не только подвиги на поле брани, но и раз-
нообразное лихое молодечество, пиры и хмельная гульба. Герои — бес-
страшные рыцари без страха и упрека, прямодушные и благородные:
Ради Бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами!
Чтобы хором здесь гремел
Эскадрон гусар летучих,
Чтоб до неба возлетел
Я на их руках могучих...
(«Гусарский пир», 1804)
В реальности жизненный путь Д.В. Давыдова не был усеян роза-
ми. У него, действительно, всегда имелись верные друзья. Однако дос-
таточно напомнить хотя бы тот факт, что даже присвоенного после Оте-
чественной войны с Наполеоном генеральского звания его на некоторое
время оскорбительно лишили по туманной бюрократической причине.
1 Офицер-герой Алексей Петрович Бурцов умер в 1812 г. от тяжелых ран,
полученных на войне с Наполеоном.
Впрочем, он никогда не выражал какого-либо уныния в стихах. Позже
постаревший поэт будет неоднократно вспоминать картины, питавшие
его раннее творчество:
Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?
Конь кипит под седоком,
Сабля свищет, враг валится.
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.
Однако перед читателем не просто наивная ностальгия. Д.В. Да-
выдову довелось своими глазами увидеть то быстрое и резкое измель-
чание дорогой его сердцу гусарской среды, которое много позже ото-
бразил Л.Н. Толстой в своей повести «Два гусара»:
А теперь что вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!
Говорят, умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!
•4*wJft** («Песня старого гусара», 1817У
Гусары нового поколения перестают быть настоящими мужчина-
ми-воинами, превращаются в паркетных шаркунов. Прежний дух бое-
вого братства иссякает. Такими мотивами проникнута поздняя «гусар-
ская» лирика Д.В. Давыдова. Новые времена вообще вызывают у него
едкую иронию:
1 О повести Толстого «Два гусара» см. подробно: Минералов Ю.И. История
русской литературы XIX века (40-60-е годы).
Жомини — модный в то время французский военный теоретик и историк, зна-
комство с трудами которого (особенно после его перехода на русскую службу) счи-
талось среди части военных признаком «хорошего тона».
105
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.
(«Современная песня», 1836)
Д.В. Давыдов прекрасно уловил расчетливое лицемерие, разлитое
в поколении, порождавшем «мошек да букашек». «Народолюбцы» на
словах зачастую оказываются сущими негодяями на деле: «А глядишь:
наш Мирабо/ Старого Гаврило/ За измятое жабо/ Хлещет в ус да в
рыло».
Давыдова, одного из спасителей Отечества в 1812 г., не мог не воз-
мущать и антипатриотизм либералов-западников, излюбленным заня-
тием которых уже тогда были разнообразная клевета на Россию и злоб-
ное предвкушение ее гибели:
И весь размежеван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!
Иронические стихи Давыдова, подобные «Современной песне», по
своему ракурсу и тематическому строю напоминают созданные позже
сатиры А.К. Толстого.
Главным жизненным событием для Д.В. Давыдова, как и многих
его современников, была и осталась Отечественная война 1812 г.
К ней он неоднократно возвращался мыслями в своей военной публи-
цистике, анализируя ее различные перипетии. Как участник и очеви-
дец, Давыдов, например, откровенно смеялся над теорией «истребив-
шего» французов «генерала Мороза». Он писал в статье «Мороз ли
истребил французскую армию в 1812 году?»:.
«Как же подумать, чтобы стодесятитысячная армия могла ли-
шиться шестидесяти пяти тысяч человек единственно от трех- или
пятисуточных морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы в
1795 г. в Голландии, в 1807 г. во время Эйлавской кампании, продол-
жавшиеся около двух месяцев, и в 1808 г. в Испании среди Кастиль-
106
ских гор, в течение всей зимней кампании, скользили, так сказать, по
поверхности французской армии, не проникая в средину ее, и отстали
от ней, не разрушив ни ее единства, ни устройства?»
Автобиография «Некоторые черты из жизни Дениса Васильеви-
ча Давыдова» написана автором в подражание «Запискам» Г.Р. Дер-
жавина от третьего лица:
«Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в за-
думчивости, не сидит в углу в безмолвии. Голос его тонок, речь жива и
огненна... Его благословил великий Суворов; благословение это рину-
ло его в боевые случайности на полное тридцатилетие; но, кочуя и сра-
жаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя исключительно во-
енному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в
словесности между людьми, посвятившими себя исключительно сло-
весности».
Фактически по своей литературной силе это жизнеописание пред-
ставляет собой образец яркой русской художественной прозы первой
половины XIX в.
Князь Петр Андреевич Вяземский (1792-1878) — поэт, литера-
турный критик; происходя из старинного рода, рано одного за другим
потерял родителей, оставшись богатым наследником; с 1807 г. воспита-
телем Вяземского стал Карамзин. В «Арзамасе» именовался Асмодеем
и был настолько карамзинистом, что с годами стал олицетворять едва ли
не любую критику Карамзина с антигосударственной деятельностью (док-
лад 1836 г. министру народного просвещения С.С. Уварову).
Основные вехи жизни: участие в Отечественной войне 1812 г. (при
Бородино находился в составе Мамоновского полка), служба в Варша-
ве ( 1819—1821 ), затем государственная служба во все более высоких
рангах (товарищ министра народного просвещения, глава Цензурного
комитета, сенатор, член Государственного совета). Особого времени
для литературы эти занятия, казалось бы, не оставляли, однако Вязем-
ский — плодовитый поэт.
Стихи долго публиковал в периодике и альманахах; несколько не-
больших стихотворных сборников выпустил в 1850-е годы. Многое
подытоживает сборник «В дороге и дома» (1862). Автор критико-био-
графических книг «Фон-Визин» ( 1848) и «Юрий Александрович Не-
лединский-Мелецкий» (1848). Писал также о Н.М. Карамзине,
И.И.Дмитриеве, A.C. Пушкине, Н.В. Гоголе, Н.М. Языкове, Е.А. Бо-
ратынском, П.А. Плетневе и др. Оставил интереснейшие «Записные
книжки», частично опубликованные. Публиковался и его сохранивший-
ся в родовом поместье «Остафьевский архив».
U-07
w* Недостатки некоторых стихов Вяземского суть как бы продолже-
ние достоинств карамзинизма в литературе. Присущее им обилие рас-
суждений и повествовательных элементов структуры в ряде случаев
рождает неоправданные длинноты. Как пример можно привести «воль-
нолюбивое» стихотворение «Негодование» (1820), где долго, а при-
том довольно абстрактно и монотонно обсуждается тема деспотизма.
Определенные слабости своей поэзии ощущал сам П.А. Вяземский,
обладавший высокоразвитой способностью к самокритике. Он даже
сетовал: «Где-то сказал я:
Язык богов, язык святого вдохновенья,
В стихах моих язык сухого поученья»1.
В связи с этим красноречивым признанием невольно вспоминает-
ся эпиграмма Вяземского на Боброва («Нет спору, что Бибрис богов
.языком пел...»). Бобров, как утверждает он там, непонятен «смертным»
(но все же поет на «языке богов»!). А вот у самого Вяземского иная
проблема: «язык богов» (то есть язык истинной поэзии) у него порою
превращается в «язык сухого поученья», то есть поэтически обесцени-
вается. Разумеется, такой вывод невозможно распространить на все
творчество П.А. Вяземского. Однако тенденция есть, и он сам честно
признал ее наличие. Впрочем, такая тенденция — общая карамзинис-
там (по причинам, рассматривавшимся выше в связи с их полемикой
против державинской школы).
Лучшим и весьма эффективным средством против излишней ди-
дактичное™ Вяземскому с блеском служила его искрометная ирония.
Это была не обычная ирония романтика. П.А. Вяземский отличался
^весьма язвительным складом ума и большим природным остроумием.
'Эти качества плодотворно преломились в его поэзии. В подтверждение
можно вспомнить произведения самого разного времени: «Отъезд
^Вздыхалова» (1811), «Первый отдых Вздыхалова» (1811), «Да, как
бы не так» ( 1822), «Семь пятниц на неделе» ( 1826), «Русский бог»
1 Вяземский ПА. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 264.
Процитированы строки из послания «К Огаревой» (1816). Более широкий
жонтекст:
Ты требуешь стихов моих,
Но что достойного себя увидишь в них ?
Язык богов, язык святого вдохновенья —
В стихах моих язык сухого поученья.
108
(1827), «Станция» (1828), «Старое поколение» (1841), «Проезд че-
рез Францию в 1851 году» ( 1851 ), «Матросская песня» ( 1855) и др.
Ирония Вяземского способна достигать большой сатирической силы:
« Патриотический предатель,
Расстрига, самозванец сей —
Уже не воин, а писатель,
Уж русский, к сраму наших дней.
(«Булгарин — вот поляк примерный...»)
Привычно меняя личины, «поляк примерный» и «патриотический
предатель» Булгарин в итоге самозванно именует себя «русским» —
что, по Вяземскому, лишь срамит наш народ. Будучи российским офи-
цером, Булгарин в 1812 г. воевал на стороне Наполеона — на что на-
мекается словами «предатель», «расстрига» и «воин». Выразитель-
ный и неотразимо точный портрет создан уже в четырех приведенных
строчках.
В другом известном стихотворении «Русский бог» иронически
обыгрывается соответствующая идиома. Поскольку «русский бог» —
это не какое-либо православное религиозное понятие, а лишь бытовое
выражение мирян, Вяземский не стесняется в применениях его к са-
мым неожиданным явлениям тогдашней русской жизни:
К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он, русский бог.
Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.
Перечислив ряд нелепых и отрицательных сторон жизни русского
общества и связав их именно с осмеиваемым понятием, Вяземский в
итоге так его использует, что смысл выражения даже меняется на пря-
мо противоположный («русский бог» — это «Бог бродяжных инозем-
цев... Бог в особенности немцев»).
В стихотворном фельетоне «Проезд через Францию в 1851 году»
поэт поднимает тему, в 1920-е годы еще раз блестящим образом воп-
лощенную в «Стихах о советском паспорте» В.В. Маяковского. Сопо-
109
ставление обоих текстов не входит в наши задачи, однако нельзя не кон-
статировать, что знакомство Маяковского со стихотворением Вяземс-
кого достаточно очевидно.
Вначале Вяземский сообщает, что «от родного рубежа» он «дос-
тиг местечка Парижа» (вместо географически нейтрального слова «ме-
сто» употреблено, как видим, уничижительное «местечко», в XIX в.
влекшее вдобавок ассоциации со специфической обстановкой малорос-
сийских и западнорусских «местечек»).
Как и позже в стихах Маяковского, в определенный момент появ-
ляется проверяющий у путешественников паспорта жандарм. Русский
вызывает особую реакцию:
Я цель всеобщего вопроса:
Что за урод тут, что за черт?
Жандарм пришел, глядит он косо
И строго требует паспорт.
Он весь встревожен: не везу ли
В карете пушки я тайком?
Не адский ли снаряд? и пули
В нем не набиты ли битком?
Вяземский подмечает, что жандарм даже глядит на него «пугливы-
ми глазами». Далее следуют комический перечень жалоб путешествен-
ника на разные дорожные неурядицы и конечный вывод:
Измучился Улисс несчастный;
Да и теперь, как вспомню я
О вашей «Франции прекрасной»,
Коробит и тошнит меня.
Для адекватного понимания разобранного стихотворения следует
напомнить, что отношения России с Францией в начале 1850-х годов
по ряду причин все более ухудшались. В середине 1850-х это нарастав-
шее напряжение разрешилось Крымской войной. В «Матросской пес-
не» Вяземского речь как раз идет о неудавшихся попытках французс-
ких союзников, англичан, высадить в период этой войны десант у
Петербурга:
Англичане, вы,
Сгоряча, Невы
ПО
Поклялись испить,
Нас взялись избить.
Море ждет напасть,
Сжечь грозит синица,
А на Русь напасть
Лондонская птица.
Второе из цитированных четверостиший в 1964 г. отдельно от все-
го стихотворения приводилось Ю.М. Лотманом в его книге «Лекции
по структуральной поэтике» как пример употребления омонимической
рифмы (напасть/напасть). Добавим, что в «Матросской песне»
Вяземский блеснул мастерством рифмовки: в цитированном фрагмен-
те есть также составная рифма (англичане, вы/Невы) и рифма паро-
нимического характера (испить/избить). Далее в стихотворении
можно отметить созвучия матросам/мат россам, зажгут/за жгут,
о рать/орать, вам пир/вампир, хмель/эх, мель! и т. п. От подобных
рифм явно «не отказался бы» и вождь русского футуризма вышеупо-
мянутый В. Маяковский.
В какой-то мере можно сблизить с ироническими стихами Вяземско-
го произведения И.П. Мятлева, который тоже был русским аристократом
(как и Вяземский имел придворный чин камергера) и тоже иногда дости-
гал народности выражения своих художественных порывов (хотя, разуме-
ется, по уровню дарования Мятлеву весьма далеко до Вяземского).
Иван Петрович Мятлев (1796—1844) — поэт, автор ли-
рических и шуточных стихов, юмористической поэмы «Сенсации
и замечания г-жи Курдюковой за границей, дан л'Этранже».
Стихотворение «Фонарики-сударики» фолькяоризовалось, став
народной песней. Стихотворение «Розы» («Как хороши, как све-
жи были розы.,,») получило большую литературную известность.
Душа П.А. Вяземского чутко отзывалась на самые разные аспекты
жизни родной страны. Этот талантливый человек воплотил в своей по-
эзии прежде всего многогранное чувство любви к России. В стихотво-
рении «Памяти живописца Орловского» он красноречиво писал:
Русь былую, удалую ' ' I
Ты потомству передашь: Л
Ты схватил ее живую •* -тО
Под народный карандаш.
111
Народное, причем простонародное начало в Руси было любимо
и понимаемо этим князем-аристократом. Оттого ему так нравился ху-
дожник Орловский (предшественник передвижников). Оттого одно из
его стихотворений вскоре после написания было принято народной сре-
дой и фольклоризовалось в качестве песни. Речь идет о стихотворении
«Еще тройка» (в этом названии намекается на стихотворение «Трой-
ка» поэта Федора Глинки):
Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет,
И хохочет, и визжит. <и т. д.>
Как обычно происходит в процессе фольклоризации, авторский
текст Вяземского для песни частично переделан народной аудиторией,
добавившей и припев: «Еду, еду, еду к ней, Еду к любушке своей».
Среди других стихов П.А. Вяземского следует отметить цикл по-
сланий к Д.В. Давыдову — например, два послания «К партизану-по-
эту» («Анакреон под дул Оманом...» и «Давыдов, баловень счастли-
вый...»). Как правило, это стихи, стилистически оформленные в духе
давыдовской «гусарской» лирики и «портретирующие» тот образ, ко-
торый Денис Давыдов создавал в своих стихах, например:
Анакреон под доломаном,
Поэт, рубака, весельчак!
Ты с лирой, саблей иль стаканом
Равно не попадешь впросак.
Вслед за Пушкиным Вяземский охотно воспевал русскую зиму —
«Первый снег (в 1817 году)», «Царскосельский сад зимою» и др. Од-
нако пейзажные стихотворения (которые он, несомненно, любил пи-
сать) отличаются некоторой созерцательностью, затянутостью изложе-
ния и при всей образной яркости дидактической суховатостью. Ранние
«словесные пейзажи» при большей сжатости внешней формы иногда
обнаруживают излишнюю «привязку» к шаблонам романтической по-
эзии — как, например, в этом стихотворении 1815г.:
Разлитое струями злато
Волнуется на теме гор;
Садов богини верный двор,
Зефиров легких рой крылатый
112
Летит на сотканый ковёр
Рукою Флоры тароватой!
(«Весеннее утро»)
Проживший на редкость долгую жизнь, П.А. Вяземский в старо-
сти во многом резко разошелся с мировоззрением новых литературных
поколений и, обретя репутацию «ретрограда», небезосновательно про-
тивопоставлял представителям этих поколений ряд могучих имен эпо-
хи, к которой сам по праву принадлежал:
Дельвиг, Пушкин, Боратынский,
Русской музы близнецы,
С бородою бородинской
Завербованный в певцы,
Ты, наездник, ты, гуляка,
А подчас и Жомини,
Сочетавший песнь бивака
С песнью нежною Парни!
(«Поминки», 1864)
Здесь бросается в глаза прежде всего высокая оценка написавше-
го относительно немного и мало жившего пушкинского однокашника
по Лицею A.A. Дельвига: он поставлен в краткий ряд из трех имен «рус-
ской музы близнецов» вместе с великим Пушкиным и таким крупным
поэтом, как Е.А. Боратынский. Перифрастически подан далее образ
Дениса Давыдова. «Борода бородинская» намекает на партизанскую
деятельность поэта-гусара в 1812 г., отряд которого был наряжен в
крестьянскую одежду и носил мужицкие бороды. «Жомини» — намек
на сочинения Давыдова по военной истории и теории.
В качестве пятого друга-поэта называется затем Н.М. Языков:
Ты, Языков простодушный,
Наш заволжский соловей,
Безыскусственно послушный
Тайной прихоти своей!
Ваши дружеские тени
Часто вьются надо мной,
Ваших звучных песнопений
Слышен мне напев родной.
8—Минералов I 10
Как критик и исследователь русской литературы П.А. Вяземский
оставил немало наблюдений, по сей день непреходящих и поражающих
своей зоркостью. Уже упоминались его книги о Фонвизине и Неледин-
ском-Мелецком. Живя в эпоху, быстро утрачивавшую ощущение ху-
дожественной ценности русской литературы XVIII в., он неоднократно
высказывал независимые и трезвые суждения о высоком значении по-
эзии М.В. Ломоносова, В.П. Петрова и Г.Р. Державина. Например,
Вяземский писал:
«Ломоносов, Петров, Державин были бардами народа, почти все-
гда стоявшего под ружьем... Сию поэзию, так сказать, официальную,
должно приписывать не столько характеру их, сколько характеру эпох,
в которые они жили»1.
Расхожие мнения быстро формировали о поэзии Петрова, которо-
го в XIX в. практически не переиздавали, абстрактно-отрицательное
представление. Вяземский же писал поэту И.И.Дмитриеву: «У нас его
(Петрова-лирика. — ЮМ.) совсем не знают. Я его теперь перечиты-
вал и объедался его сочными выражениями и особенно жирными риф-
мами. Много в стихотворениях его темного: надобно и к ним ключ как к
державинским...»2
На смерть Державина П.А. Вяземский откликнулся яркой и весь-
ма содержательной статьей, где, в частности, говорил:
«Первыми его учителями в стихотворстве были, кажется, Ломо-
носов и Петров. У первого он научился звучности языка пиитического
и живописи поэзии; у другого похитил он тайну заключать живую или
глубокую мысль в живом и резком стихе — тайну, совершенно неизве-
стную Ломоносову».
Помимо выражения преклонения перед талантом Державина здесь
даны краткие, но по сей день литературоведчески интересные харак-
теристики особенностей поэзии Ломоносова и Петрова. Сравнение
Державина с Ломоносовым Вяземский тут же продолжил в статье, от-
метив:
«Державин смотрел на природу быстрым и светозарным взором
поэта-живописца; Ломоносов медленным взглядом наблюдателя. Пи-
итическая природа Державина есть природа живая, тот же в ней пла-
мень, те же краски, то же движение. В Ломоносове видны следы труда
и тщательная отделка холодного искусства».
Дар незаурядного исследователя литературы был дан П.А. Вязем-
скому вместе с даром яркого поэта.
1 Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 191.
2 См.: Русский архив. 1868. С. 650.
114
Федор Николаевич Глинка (1786—1880) — поэт, публицист, во-
енный историк; из дворян Смоленской губернии; вслед за старшим бра-
том Сергеем закончил кадетский корпус, участвовал в войнах с Напо-
леоном. Автор «Писем русского офицера» (1815—1816). По
подозрению в причастности к восстанию декабристов был выслан (слу-
жебным переводом) в Петрозаводск. Служил там советником губернс-
кого правления и написал поэму «Карелия, или Заточение Марфы
Ивановны Романовой» (1830). Автор стихотворений «Партизан Да-
выдов» (1812), «Смерть Фигнера» (после 1812), «К Пушкину»
( 1819), «Тройка» (1824), «Песнь узника» (1826), «Москва» ( 1840),
«Тайны души» (1841) и др.
Ф.Н. Глинка оставил имеющие большое значение образцы духов-
ной поэзи: книги «Опыты священной поэзии» (1826), «Духовные сти-
хотворения» ( 1869), повествование «Иов, свободное подражание свя-
щенной книге Иова» (после 1826), поэма «Таинственная Капля.
Народное предание» ( 1861 ) и др.
Сергей Николаевич Глинка (1776—1847) — поэт, прозаик,
драматург, основатель журнала патриотического направления
«Русский вестник». Автор повестей в стихах «Пожарский и Ми-
нин, или Пожертвования россиян» (1807), «Царица Наталья
Кирилловна» (1809), пьес «Наталья, боярская дочь» (1806),
«Михаил князь Черниговский» (1808), «Боян» (1808), «Осада
Полтавы» (1810) и др. Книги «Записки о 1812 годе» (1836),
«Записки о Москве» (1837) и др.
Федор Глинка создал несколько стихотворений, слова которых под-
хватил народ, сделав его стихи своими песнями. По сей день именно в
качестве «народной песни» широко известна «Тройка» Ф.Н. Глинки.
В истории русской литературы это сразу обретшее большую популяр-
ность произведение оказалось своего рода «эталоном», с оглядкой на
который позже создавались «Тройки» других поэтов (например, «Еще
тройка» П.А. Вяземского).
Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.
Ямщик лихой — он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши —
8* il 15
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души... <и т. д.>
Глинка буквально «навязал» последующим авторам как непремен-
ные атрибуты упоминание колокольчика, лихость скачки, образ «уда-
лого» ямщика, а также того или иного рода любовный поворот в сю-
жете.
У самого Глинки ямщик далее запевает и рассказывает в песне,
как «люди злые» «разрознили сердца» некоего молодца и «девицы-
души». Получается «песня в песне». При этом не совсем понятно, свя-
зана ли вставная песня непосредственно с судьбой самого поющего (хотя
и заканчивается она строкой «от первого лица»: «Теперь я бедный си-
ротина!..»).
У позднейших авторов аналогичный момент выглядит по-разному,
как по-разному трактуется и любовная линия. Например, в «Ямщике»
Л.Н. Трефолева герой не поет, а рассказывает собеседникам о траги-
ческой гибели «под снегом» своей любимой (стихотворение Трефоле-
ва и было оформлено автором как повествование в стихах, баллада, а
песней его сделал народ). Однако именно «Тройка» Глинки стоит у ис-
токов всей жанрово-сюжетной традиции.
Долгое время была широко распространена в народной среде и
песня на стихи Ф.Н. Глинки «Песнь узника» ( 1826):
Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна! <и т. д.>
(Поющийся текст бытовал в ряде заметно отличающихся друг от
друга вариантов.)
Это стихотворение на весьма типичный для романтиков сюжет, в
ряде черт перекликающийся с написанным на четыре года ранее «Уз-
ником» A.C. Пушкина и написанным гораздо позднее «Пленным ры-
царем» М.Ю. Лермонтова. Однако если у Пушкина тема решена весь-
ма кратко и без привязки к каким -либо конкретным реалиям, то у Глинки
юноша-узник прямо взывает к русскому царю:
«О русской царь! в твоей короне
Есть без цены драгой алмаз.
Он значит — милость! Будь на троне
И, наш отец, помилуй нас!
116 -8
А мы с молитвой крепкой к Богу
Падем все ниц к твоим стопам;
Велишь — и мы пробьем дорогу
Твоим победным знаменам».
Бросается в глаза, что узник просит не за себя одного («Падем все
ниц к твоим стопам»). Как это, так и время написания, совпадающее со
временем следствия над декабристами, позволяет и конкретизировать
смысл стихотворения, и уловить его автобиографический подтекст1.
В духовной поэзии Ф.Н. Глинка имел своими предшественниками
А.Д. Кантемира, А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова, ГР Державина
и других крупных авторов. Его стихи уверенно легли в русло созданной
ими традиции. «Опыты священной поэзии» содержат стихотворные пе-
реложения Псалтири, создававшиеся ранее теми же Кантемиром и Су-
мароковым. Однако Глинка не просто повторял на свой лад сделанное
ранее другими. Он внес сюда как свои особые интонации и темы, так и
свое личное искреннее религиозное чувство. Его «Иов» основан на той
же книге Библии, что «Ода, избранная из Иова» Ломоносова. Однако
ода Ломоносова есть стихотворное переложение лишь фрагментов книги
(Иов 38 и 39). Глинка избрал несравненно более сложную задачу —
переложить стихами всю книгу Иова. Вот пример его текста:
Как раб, боящийся лозы,
Влача свой плуг под ярким зноем,
Всё рвется, чтоб укрыться в тень,
Всё смотрит — скоро ль долгий день
Завечереет, скоро ль отдых?
Так дни и месяцы текут
Моей многострадальной жизни!..
1 Ф.Н. Глинка был допрошен лично царем Николаем I, который отпустил его
со словами «ты чист». Однако впоследствии он был все же арестован в связи с тем,
что о его причастности к декабристам упорно свидетельствовал Григорий Перетц,
сын банкира-миллионера (Перетц настолько упорствовал в своих показаниях, что
даже в пылу ажиотажа предлагал... подвергнуться пытке — с условием, чтобы ря-
дом пытали Глинку!). См. об этом подробно: Базанов ВТ. Вольное общество лю-
бителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.
В результате Глинка попал под некое сильное подозрение, хотя объективны-
ми доказательствами против него следствие не располагало. Это подозрение и по-
служило причиной его служебного перевода в Петрозаводск.
В Библии этому соответствует следующее место:
«Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы сво-
,ей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены
мне. Когда ложусь, то говорю: «когда-то встану?», а вечер длится, и я
ворочаюсь досыта до самого рассвета» (Иов 7).
Как видим, у Ф.Н. Глинки, действительно, читателю представлено
«свободное подражание», что и обозначил сам автор в полном назва-
нии произведения. Здесь нет стремления буквально воспроизвести сло-
весную основу библейского текста: передается сердечное чувство, сне-
дающее Иова, — как понимает его Глинка. С желанием достичь
наибольшей непосредственности в этой передаче чувства связана, по
всей видимости, и внешняя безыскусность текста (например, «Иов»
Ф.Н. Глинки, в отличие от ломоносовского, написан в основном белым
стихом с вкраплениями рифмованных строчек, как и в приведенном при-
мере). По поводу «Иова» один из критиков писал в 1859 г. в «Москов-
ском вестнике»: «Белые стихи г. Глинки не растягивают и не ослабля-
ют мысли, что так легко случается при отсутствии определяемых
рифмою границ; они читаются легко и притом не теряя своей силы»1.
«Таинственная Капля» — поэма Глинки, основанная на новоза-
ветном апокрифе о животворящей капле млека Богородицы, спасшей
жизнь умирающему ребенку жены разбойника. Впоследствии, соглас-
но апокрифу, этот выросший младенец сам стал разбойником и был рас-
пят справа от Христа («разбойник благоразумный»).
Поэт-офицер Глинка начал в годы юности с «военно-бивуачных»
мотивов, отчасти близких поэзии Д.В. Давыдова (про которого в сти-
хотворении «Партизан Давыдов» писал, что он «Умом, пером остер он,
как француз, Но саблею французам страшен» ). Однако затем в его твор-
честве быстро проявились «народность выражения», имевшая след-
ствием создание прекрасных народных песен, и особая высокая духов-
ность, позволившая Ф.Н. Глинке написать «Иова», «Карелию»,
«Таинственную Каплю» и другие произведения, имеющие не только
чисто художественное, но и религиозно-нравственное значение.
«Письма русского офицера» и другие образцы документально-ху-
дожественной прозы Ф.Н. Глинки позволяют ощутить, что его яркий
талант простирался шире пределов поэзии. Вот, например, письмо, в
котором рисуются картины сражения за Смоленск в 1812 г.:
»к .«Я видел ужаснейшую картину — я был свидетелем гибели Смо-
ленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. 4 числа непри-
1 Цит. по книге: Зверев В.П. Федор Глинка — русский духовный писатель. М.,
2002. С. 412.
118
ятель устремился к Смоленску и встречен, под стенами его, горстью
неустрашимых Россиян».
«Погубление Лиссабона» (намек на разрушившее этот город
страшное землетрясение) сравнивается с тем, что творили с русским
городом захватчики. Чуткость автора к словесному тексту проступает
уже в этой короткой цитате: так, вместо «неприятель устремился» и
«был встречен» Глинка говорит, динамизируя и актуализуя описывае-
мое, просто «встречен». Далее он повествует:
«5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов продолжа-
лось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Рус-
ские не уступали ни на шаг места; дрались как львы. Французы, или,
лучше сказать, поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломи-
лись в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились
около города по ту сторону Днепра». ну» <**>'
Язвительное «французы, или, лучше сказать, поляки» напоминает
о многочисленных польских соединениях, перешедших на сторону На-
полеона (в их рядах был, например, и небезызвестный Ф.В. Булгарин).
Современник Глинка подмечает и стремление этих поляков всячески
демонстрировать французским «хозяевам» свое усердное рвение (об
этом же рассказал позже Л.Н. Толстой в известном эпизоде из «Войны
и мира», когда польские уланы без необходимости бросились форсиро-
вать пред ликом Наполеона реку и бессмысленно тонули на его глазах).
Как прозаик Ф.Н. Глинка обладал картинно-сюжетным мышлени-
ем впечатляющей силы. Вот в немногих словесных образах он набра-
сывает панораму гибнущего в пожаре древнего города:
«Наконец, утомленный противоборствием наших, Наполеон при-
казал жечь город, которого никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас
исполнили приказ изверга (Глинка даже выделил курсивом оба слова,
четко характеризующие «исполнителей» и «заказчика» осуществляе-
мого преступления против человечности. — ЮМ.). Тучи бомб, гранат
и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома,
церкви и башни обнялись пламенем — и все, что может гореть, — за-
пылало!.. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, баг-
ровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная
пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый на-
род, падающий на колени с воздетыми к небу руками: вот что представ-
лялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Тол-
пы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь (курсив
мой. — ЮМ.)\ одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву».
И поэзия и проза Федора Глинки — по сей день непомеркшие стра-
ницы истории русской литературы.
119
Кондратий Федорович Рылеев (1795—1826) — поэт, выпускник
Петербургского кадетского корпуса, участник заграничного похода рус-
ской армии в 1814—1815 гг. Перейдя на государственную службу, стал
членом тайного Северного общества декабристов. После восстания на
Сенатской площади был приговорен к смертной казни и повешен вме-
сте с Пестелем, Каховским, Бестужевым-Рюминым и С. Муравьевым-
Апостолом 13 июля 1826 г.
Ф.Н. Глинка вспоминал:
*? «Рылеев, как жаль, как и многие тогда, сам на себя наклепывал!
<...> Эта тогдашняя черта водилась и за Пушкиным: придет, бывало, в
собрание, в общество и расшатывается. «Что вы, Александр Серге-
евич!» — «Да вот выпил 12-ть стаканов пуншу!» А все вздор, и од-
ного не допил! А все это для того, чтоб выдвинуться из томящей мо-
нотонии и глухой обыденности и хоть чем-нибудь да проявить свое
существование. Хотели воли, поля для деятельности. Но Рылееву эта
привычка нахватывать на себя дорого обошлась! Мне сказывали, что
он и пред тайным судом будто выговаривал: «От меня все зависело!
Я один все мог остановить и всему дать ход!» А мне и теперь кажет-
ся, что этого не было: не заметно было его особенного влияния ни-
какого!»1 •*-*
Как поэт К-Ф. Рылеев успел весьма достойно раскрыться несмот-
ря на свою короткую жизнь. Современников восхищала дерзновенная
смелость его стихотворения «К временщику», в котором угадывался
намек на всесильного тогда приближенного Александра I графа
A.A. Аракчеева. В послании «А. П. Ермолову» он призвал героя Оте-
чественной войны 1812 г. прийти на помощь грекам, восставшим про-
тив турок, и «спасать сынов Эллады». В стихотворении «На смерть
Бейрона» неустрашимый Рылеев упомянул про отказ Александра I ока-
зать восставшим грекам-единоверцам помощь и в итоге заявил, что «ти-
раны и рабы» рады внезапной смерти поэта.
В поэзии Рылеева выделяется, прежде всего, цикл так называе-
мых «дум»: «Олег Вещий», «Святослав», «Боян», «Мстислав Уда-
лый», «Михаил Тверской», «Димитрий Донской», «Курбский»,
«Смерть Ермака», «Димитрий Самозванец», «Иван Сусанин»,
«Петр Великий в Острогожске», «Державин» и др. Думы писались в
1821 — 1823 годах и были изданы отдельной книгой в 1825 г.
ЛШ ' Глинка Ф.Н. К.Ф. Рылеев// Русская старина, 1871. Т. IV. С. 245.
Судя по этим воспоминаниям, с Рылеевым случилась трагедия, однотипная
обстоятельствам трагической гибели поэта Н. Гумилева, также любившего созда-
вать себе небезопасный имидж «заговорщика».
120
В центре цикла образы национальных героев России, хотя некото-
рые думы содержат образы противоположного звучания. Впрочем,
Курбского, олицетворяющего «позор и славу русских стран» («сла-
ва» — напоминание о его удачных действиях в качестве воеводы Ива-
на Грозного), поэт стремится изобразить не просто как предателя Ро-
дины, а как раздираемую внутренними противоречиями «трагическую
фигуру». По словам Рылеева, его «неистовый тиран/Бежать отечества
заставил» (в трактовке личности Ивана Грозного поэт опирался на кон-
цепцию Карамзина). Еще менее удачна дума «Димитрий Самозванец»,
герой которой изображен внеисторически и напоминает опереточного
злодея (в данном случае можно предположить опосредованное влия-
ние одноименной трагедии А.П. Сумарокова). Видимо, именно подоб-
ные конкретные произведения вызвали в свое время критику дум
A.C. Пушкиным, писавшим, например, В.А. Жуковскому, что они «и
целят, а все невпопад»1.
Эту критику было бы совершенно неосновательно распространять
на думы «Димитрий Донской», «Смерть Ермака», «Иван Сусанин» и
др. В большинстве дум Рылеев весьма живо и энергично создает яркий
по образности и неординарный по смысловому ракурсу словесный сю-
жет. Его лучшие думы можно явно признать предшественницами исто-
рических баллад А.К. Толстого.
Развернувшись как поэт в основном в первой половине 1820-х го-
дов (то есть в период, когда в литературе уже однозначно победил ка-
рамзинизм и она шла его дорогой), Рылеев проявлял заметные усилия
уйти на какую-то свою особую «тропку». В нем чувствуется симпатия к
державинской линии, тогда совсем недавно угасшей. Образность дум
Рылеева неоднократно побуждает вспомнить о высокой одической тра-
диции XVIII в. Но речь идет о сходстве относительном: в основном о
сходстве образного строя, а отнюдь не принципов развития содержа-
ния:
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали,
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...
Ко славе страстию дыша,
1 О сложном и внимательном отношении A.C. Пушкина к творчеству К.Ф. Ры-
леева в целом см.: Сиповский В.В. Пушкин и Рылеев // Пушкин и его современни-
ки: Материалы и исследования / Комис. для изд. соч. Пушкина при Отд-нии рус.
яз. и словесности Имп. акад. наук. СПб., 1905. Вып. 3.
I Ol
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.
Дума «Смерть Ермака» впоследствии превратилась в одну из са-
мых сильных русских народных песен. Текст ее при пении обычно не-
сколько сокращается, что и естественно в силу специфики вокально-
поэтических жанров (песня избегает быть слишком затянутой и
длинной). Это «жанровое переопределение» произведения из так на-
зываемой «думы» именно в песню весьма показательно. Как точно пи-
сал ПР. Державин, «песня держится всегда одного прямого направле-
ния, а ода извивчиво удаляется к околичным и побочным идеям. Песня
изъясняет одну какую-либо страсть, а ода перелетает и к другим »'.Думы
как раз «держатся одного направления», не «перелетая к другим». А
вот в одах XVIII в. (Ломоносов, Петров, Державин) мысль по мере на-
добности именно «извивчиво удалялась» к самым различным побоч-
ным темам.
\щ> Интересно, что думу «Державин» К.Ф. Рылеев начинает с нагне-
тания образных картин явно в духе именно державинской поэзии:
С дерев валится желтый лист,
Не слышно птиц в лесу угрюмом,
В полях осенних ветров свист,
И плещут волны в берег с шумом.
Как иная личность, как другой индивидуальный стилист — нако-
нец, как человек уже другой литературной эпохи! — Рылеев, конечно,
не владел державинской словесной палитрой. Он по мере сил лишь
субъективно изображает («портретирует») державинский слог (с
этим следует сопоставить то, что говорилось выше об аналогичных уси-
лиях К.Н. Батюшкова в послании «К Никите»).
В стихотворении «Гражданин» (1824) Рылеев даже прямо заяв-
ляет, что как личность не удовлетворен временем, в которое живет:
Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян? ■**.
1 Из книги Державина «Рассуждение о лирической поэзии, или Об оде»
(1811-1815).
122
Далее он утверждает, что нынешние юноши «не готовятся для бу-
дущей борьбы За угнетенную свободу человека» и что среди них не найти
«ни Брута, ни Риеги». Однако помимо этих «древнеримских» (Брут) и
испанских (Риега) гражданских ассоциаций Рылеев чуть раньше в вы-
шеприведенной оде определенно указал как на свой идеал поэта-граж-
данина, «певца народных благ», «гонимых оборону» и «зла неприми-
римого врага» на смелого и прямодушного ПР. Державина. Как на
образец русского государственного деятеля он так же определенно ука-
зывал в оде «Гражданское мужество» ( 1823) на екатерининского ад-
мирала Н.С. Мордвинова (в этой оде опять «портретируется» одичес-
кий стиль Державина), и»!*- г
Иными словами, подспудные личные тяготения Рылеева объектив-
но разобщали его с «очистителями языка»-карамзинистами и их «лег-
кой поэзией». Приятельствуя в литературном мире первой половины
1820-х годов с весьма разными людьми (A.A. Бестужевым-Марлинс-
ким, Ф.В. Булгариным и др.), как поэт Рылеев был внутренне довольно
одинок (Державин уже умер, «дружина славян» Шишкова и Шихмато-
ва распалась). С этим последним естественно связывать его челове-
ческие метания, между прочим, к сожалению, приведшие его, подобно
толстовскому Пьеру Безухову, в масонскую ложу.
Поэмы К-Ф. Рылеева «Войнаровский» (1825) и «Наливайко»
(1825) обращены к образам деятелей из малороссийской истории.
Реальный Войнаровский, племянник небезызвестного гетмана
Мазепы, за предательство государственных интересов России сослан-
ный Петром I в Сибирь, имеет мало общего с героем романтической
поэмы Рылеева. A.C. Пушкин высоко оценивал поэму как образец «ис-
тинно повествовательного» стихотворного произведения, «чего у нас
почти еще нет» (в письме A.A. Бестужеву от 12 января 1824 г.). Похва-
ла эта особенно понятна в свете дальнейшего творчества самого Пуш-
кина, создавшего не только несколько повествовательных поэм, но и
целый роман в стихах «Евгений Онегин». Что до романтической трак-
товки образов Мазепы и его присных, Пушкин впоследствии дал свое-
образный «ответ» Рылееву, написав «Полтаву».
Осталась незавершенной замечательная поэма Рылеева «Нали-
вайко», в центре который совсем иной образ — образ гетмана Нали-
вайко, возглавившего в конце XVI в. борьбу украинского казачества
против панской Речи Посполитой за национальную независимость.
В замыслах у Рылеева были также поэма «Гайдамак» (сохранился
отрывок) и драма в стихах «Богдан Хмельницкий» (сохранился про-
лог). Арест и последующая казнь навсегда пресекли творчество одного
из наиболее талантливых русских поэтов XIX в.
1О0
•/ft Совместно с A.A. Бестужевым (Марлинским) К. Ф. Рылеев изда-
вал альманах «Полярная звезда».
Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846) — поэт, критик,
друг Пушкина по Лицею. Вместе с В. Ф. Одоевским издавал альманах
«Мнемозина»1. Подобно Рылееву, он был сторонником прежде всего
гражданской поэзии. Судьбу Кюхельбекера сломало участие в декабрь-
ском восстании на Сенатской площади, во время которого он в рево-
люционном пылу пытался произвести пистолетный выстрел в велико-
го князя Михаила, за что был приговорен к смертной казни, замененной
десятью годами одиночного заключения в крепости и затем поселением
в Сибири (первоначально в Баргузине). Накануне смерти Кюхельбе-
кер писал В.А. Жуковскому (11 июня 1846 г.): «Говорю с поэтом, и
сверх того полу-умирающий приобретает право говорить без больших
церемоний: я чувствую, знаю, я убежден совершенно, точно так же, как
убежден в своем существовании, что Россия не десятками может про-
тивопоставить Европейцам писателей, равных мне по воображению,
по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите
меня, добрейший мой наставник и первый руководитель на поприще
Поэзии, эту мою гордую выходку!» Умер в г. Тобольске от туберкулеза.
Автор большого числа стихотворений, поэм «Кассандра», «Да-
вид», «Зоровавель», «Сирота», «Юрий и Ксения», «Агасвер» и др.,
опытов стихотворной драматургии «Шекспировы духи», «Аргивяне»,
«Ижорский», «Прокофий Ляпунов», «Иван, купецкий сын», рома-
на в прозе «Последний Колонна» и др. Многие произведения Кюхель-
бекера впервые изданы в советское время.
До ареста Кюхельбекер весьма активно участвовал в литератур-
ных спорах своего времени, выступая, как он сам выражался, «под зна-
менами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова». Свои художе-
ственные предпочтения он недвусмысленно выражал и в стихах:
Отец великих, Ломоносов,
Огонь средь холода и льдин,
Полночных стран роскошный сын!
Но ты — единственный философ,
Державин, дивный исполин...
(«Поэты», 1820)
1 В 1824 г. Кюхельбекер напечатал в этом альманахе имеющую программный
характер статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в после-
днее десятилетие».
124
Став другом A.C. Грибоедова, Кюхельбекер перенял у него некото-
рые приемы построения фразы по образу и подобию устной речи. На-
пример, в «саге» «Святополк» (1823) Кюхельбекер вводит эллипсис:
Светило дня ликует в полдень ясный;
Но вечер: вдруг исчез
В грозе ревущей лик его прекрасный,
Шатнулся свод небес.
*V Полная конструкция фразы предполагала бы: «Но вот насту-
пил вечер». А вот яркое и картинное описание водопада в финале «Свя-
тополка»:
В ту бездну, всю окрестность оглашая,
С раската на раскат,
Горы валит, огромная, седая,
Кипящий водопад;
Извергнув труп, волнами сокрушенный,
Он ощущает гнев,
Заклокотал, испуган,раздраженный ( курсив мой. — ЮМ. ),
И утрояет рев.
Здесь через запятую, как перечислительный ряд, употреблены
грамматически «неравносильные» (выражение A.A. Потебни) слово-
формы, что опять-таки характерно для устной речи, принципы которой
так глубоко постиг и воплотил в в своей комедии «Горе от ума» Грибо-
едов.
Лицейский товарищ Кюхельбекера, поэт A.A. Дельвиг, стал, как и
молодой Пушкин, в ряды карамзинистов и сокрушенно писал: «Ах,
Кюхельбекер! сколько перемен с тобою в два-три года. <...> Так и быть!
Грибоедов соблазнил тебя, на его душе грех! Напиши ему и Шихматову
проклятие, но прежними стихами, а не новыми. Плюнь и дунь, и вытре-
буй от Плетнева старую тетрадь своих стихов, читай ее внимательнее
и, по лучшим местам, учись слогу и обработке»1.
Литературная полемика вокруг слога проступает в этом «призы-
ве» весьма выразительно. Характерно упоминание С.А. Ширинского-
Шихматова. Кюхельбекер отнюдь не «проклял» этого тесно связанно-
го с Шишковым поэта. Высокая оценка творчества Шихматова — не
редкость в среде оппонентов карамзинизма. Совету Дельвига сам он не
1 Русская старина. 1875. Т. 13. С, 360.
125
внял и в своей верности «мнимым неправильностям» остался непоко-
лебим.
В то же время, если взяться судить В.К. Кюхельбекера «по зако-
нам, им самим над собой поставленным», нельзя не признать, что сти-
хи его нередко изобилуют длиннотами, не обоснованными ясным худо-
жественным заданием, а по силе своей все же не дотягивают до уровня
дарования авторов, которых он считал для себя образцом.
Особое значение в своем творчестве В.К. Кюхельбекер придавал
«мистерии» «Ижорский», в которой помимо главного героя дворяни-
на Льва Ижорского, его жены Лидии, князя Пронского и других дей-
ствуют Бука, Кикимора, русалки, лешие, домовые, гномы, саламандры
и т. п. Первые две ее части были изданы благодаря дружеским хлопо-
там A.C. Пушкина в 1835 г. В предисловии Кюхельбекер, в частности,
писал:
«В старинных мистериях, равно как и в произведениях живописи
XIII и XIV вв., нередко случается, что глазам зрителей на одном и том
же плане представляется двоякая или даже троякая сцена, например,
небо, земля и ад. <...> И мы подобную вольность позволили себе... При-
знаемся, мы тем хотели несколько озадачить гг. защитников трех
единств...»
Мистерия — один из жанров духовной поэзии, и Кюхельбекер
стремился воплотить в своем произведении религиозное содержание.
Применительно к литературе он сам проводил аналогии своего про-
изведения с некоторыми пьесами Шекспира. Кроме того, ощутимо
влияние на него гетевского «Фауста». При всем том «Ижорский» пе-
регружен символикой, его мистические образы нередко сбиваются в
чисто «сказочный» план, а сюжет мистерии имеет довольно рыхлый
характер. Однако несомненно искреннее желание поэта по-христи-
ански сердцем вникнуть в сокровенные вопросы, непостижимые для
человеческого ума. О нем свидетельствуют его многочисленные и при-
том высокохудожественные духовные стихи, среди которых «Упова-
ние на Бога» («На Бога возложу надежду...»), «К Богу» («Воздвигся
на мою главу...»), «Брату» («Повсюду вижу Бога моего...»), «Рож-
дество» («Сей малый мир пред оными мирами...»), «Магдалина у
гроба Господня» («Мария, в тяжкой горести слепая...»), «Вознесе-
ние» («Божественный на Божием престоле...»), «Молитва» («При-
бегну к Господу с мольбою...»), «На воскресение Христа» («Душа
моя, ликуй и пой...») и др.
В этом смысле представляется чрезвычайно важным одно из пос-
ледних стихотворений В.К. Кюхельбекера, обращенное к св. Димит-
рию Ростовскому, которого он глубоко чтил:
126
Угодник Господа! Какая связь, скажи,
Между тобою, муж, увенчанный звездами,
И мною, узником грехов и зол, и лжи,
Вдрожь перепуганным своими же делами.
К тебе влекуся, но — и ты влеком ко мне...
Ужели родственны и впрямь-то души наши
И ты скорбишь в своей надзвездной вышине,
Что я, твой брат, пью жизнь из отравленной чаши?
Поэзия В.К. Кюхельбекера до сих пор изучена лишь относительно,
что связано, помимо иного, с утратой в XX в. значительной части его
архива.
Барон Антон Антонович Дельвиг ( 1798-1831 ) — поэт, критик,
журналист, лицейский друг A.C. Пушкина. По отцу — прибалтийский
немец. Издатель по сей день имеющих огромную историко-культурную
ценность альманахов «Северные цветы» (1825-1829) и «Подснеж-
ник» ( 1829), а также «Литературной газеты» (1830), где публикова-
лись крупнейшие писатели пушкинского времени и сам Пушкин. Автор
книги «Стихотворения барона Дельвига» (1829).
Логика индивидуального творческого развития рано развела по-
этов-лицеистов в разные лагеря: Кюхельбекер стал в ряды «дружины
славян», а Пушкин и Дельвиг влились в ряды западников-карамзини-
стов.
Интересно, что Дельвиг, будучи карамзинистом, тем не менее про-
являл неотступный интерес к творчеству в народно-подражательном
жанре «русской песни»: славянофильство лицейского друга В.К. Кю-
хельбекера было ему, по всей видимости, чуждо не столько мировоз-
зренчески, сколько «стилистически». Одновременно «легкий слог»
карамзинистов был им в совершенстве освоен и применялся в различ-
ных произведениях так называемой «антологической» лирики — в
основном, творческих стилизациях жанровых и сюжетных мотивов ан-
тичной поэзии (идиллии, элегии), например, «Лилете», «Друзья», «Це-
физ», «Купальницы», «Некогда Титир и Зоя под тенью двух юных
платанов...» и др.
Оба направления представлены в относительно небольшом по
объему поэтическом наследии A.A. Дельвига яркими и талантливыми
произведениями.
Внутренне близок Дельвигу был в основном романтизм сентимен-
талистского типа. «Русские песни», наиболее непосредственные по
107
форме выражения лирического чувства, демонстрируют этот факт наи-
более наглядно, например:
Не осенний частый дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман:
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.
(«Не осенний частый дождичек...»)
Именно в рамках сентиментализма «слезы горькие» начали про-
ливать не только девушки, но и литературные «молодцы». В стихах
A.A. Дельвига неоднократно проходят мотивы наподобие: «Ах! убили
пташечку Злые вьюги; Погубили молодца Злые толки!» ( «Русская пес-
ня»), «На то ли мне послали боги нежность, Чтоб изнемог я в раннем
цвете лет?» («Сонет») и т. п. Чувствительным героям соответствуют
.чувствительные героини: «Скучно, девушки, весною жить одной: Не с
$кем сладко побеседовать младой» («Русская песня»), «И я выйду ль
»на крылечко, На крылечко погулять, И я стану у колечка О любезном
горевать» («Русская песня») и др. и
«Русская песня» Дельвига «Ах ты, ночь ли, ноченька!..» была
положена на музыку М.И. Глинкой, который вспоминал в своих запис-
ках:
«Летом того же 1828 г. Михаил Лукьянович Яковлев, композитор
известных русских романсов и хорошо певший баритоном, познакомил
меня с бароном Дельвигом, известным нашим поэтом. Я нередко наве-
щал его... Барон Дельвиг переделал для моей музыки песню: «Ах, ты
ночь ли, ноченька», и тогда же я написал музыку на его слова: «Дедуш-
ка, — девицы раз мне говорили». Эту песню весьма ловко певал
М.Л.Яковлев»1. х
М.Л. Яковлев (1798—1868) был однокашником Дельвига и Пуш-
кина по Лицею. Он также написал семь песен и романсов на стихи Дель-
вига: «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Роза» («Роза льты,
розочка...»), «Наяву и в сладком сне», «Сиротинушка, девушка»,
«Куплеты к Диону» («Сядем, любезный Дион...»), «Пела, пела пта-
шечка» и «Жалоба» («Воспламенить вас труд напрасный...»).
Впрочем, наиболее известное вокальное произведение на стихи
A.A. Дельвига создал композитор A.A. Алябьев ( 1787—1851 ). Это «рус-
ская песня» «Соловей» ( 1825): ù
1 Глинка М.И. Записки. М., 1988. С. 35.
128
Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?
Щ vit*
Образ соловья издавна превратился в русской поэзии в отточен-
ный символ. Он здесь неизменно поет для влюбленных и «инструмен-
тует» ночные пейзажи. В случае с «Соловьем» блестяще осуществлен
художественный синтез текста Дельвига и мелодии Алябьева, по сей
день обеспечивающий успех произведения у аудитории.
Замечательный исследователь H.H. Трубицын писал о «русских
песнях» поэтов пушкинской эпохи, что тогда сложилось две «группы
представителей этого репертуара, т. е. группа Мерзлякова — Дельви-
га с их подражателями вроде Шевырева, Ф. Глинки, Ф. Львова, Обо-
довского, М. Яковлева, Н. Бушмакина, Головина и многих других, во-
обще забытых — по крайней мере, в этом отношении — историей
литературы, и группа наших «самоучек», вроде Слепушкина, Сухано-
ва, Алипанова, Рябинина, Борисова, Бубнова и также многих других, и
также забытых...»1 -*о
Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) — поэт и фи-
лолог, профессор Московского университета. Некоторые из сти-
хов Мерзлякова стали текстами песен, фольклоризовались и бы-
туют в качестве «народных»: «Я не думала ни о чем в свете
тужить», «Чернобровой, черноглазой молодец удалой»,
«Ожиданье», «Одиночество» («Среди долины ровныя...»).
«Среди долины ровныя» — давно фольклоризовавшееся про-
изведение Мерзлякова, но музыку на него написал композитор
Степан Давыдов2,
1 Трубицын H.H. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе
первой трети XIX века. СПб., 1912. С. 5.
2 Это знаменитое ныне произведение первоначально было фрагментом дивер-
тисмента Давыдова «Первое мая, или Гулянье в Сокольниках» (1816). Мелодия
была рассчитана на профессиональное исполнение и гибко варьировалась от стро-
фы к строфе текста. «Подхватив» песню, народ распространил на весь текст Мер-
злякова тот общеизвестный ныне мотив, на который первоначально у Давыдова
пелись только первые две строфы.
См. подробно: Минералов Ю.И. Так говорила держава (XX век и русская пес-
ня). М., 1995.
9—Минералов 129
Ранняя смерть A.A. Дельвига была для русского общества полной
неожиданностью (следствие простуды) и лишила литературу явно не
раскрывшегося в полной мере поэта.
Николай Михайлович Языков (1803-1846) — поэт. Родился в
семье помещика Симбирской губернии, учился в Дерпте, крошечном
городке в Эстляндии, населенном почти поголовно немцами (эстонцы
допускались в эстляндские города лишь в качестве обслуги). В Дерпте
в 1802 г. Александр I открыл небольшой университет, устав которого
допускал зачисление в студенты даже лиц, не принимавшихся в другие
университеты России за различные провинности (в результате чего,
например, на протяжении XIX в. там училось немало будущих револю-
ционных деятелей).
В стихах дерптского периода Языков как романтик неустанно вос-
певает «вольные» студенческие пирушки — несколько «Песен», сти-
хотворения «Мы любим шумные пиры...», «Счастлив, кому судьбою
дан Неиссякаемый стакан...», «Налей и мне, товарищ мой, И я, как
ты, студент лихой...», «Гимн» («Боже! вина, вина! Трезвому жизнь
скучна...»), и др. Эти произведения юноши Языкова (в реальности по-
рою буквально задыхавшегося в затхлой мещанской атмосфере немец-
кого Дерпта, что явствует из некоторых его писем) полны мальчишес-
кой бравады:
От сердца дружные с вином,
Мы вольно, весело живем:
Указов царских не читаем,
Права студентские поем,
Права людские твердо знаем;
И жадны радости земной —
Мы ей — и телом и душой...
Мотивы вольного житья «без царя в голове» варьируются в дерп-
тских стихах неоднократно. Например, в послании «Н. Д. Киселеву»
(«В стране, где я забыл мирские наслажденья...») Языков утверждает,
что его лирический герой наслаждается в Дерпте «вольностью» и тем,
что здесь «поп и государь не оковали муз». А в стихотворении «Дерпт»
(«Моя любимая страна...») выражаются «восторги удалые» по поводу
того, что «Здесь гений жаться не обязан» и не привязан «к самодер-
жавному столбу». Учитывая, что Языков к тому времени просто-на-
просто не успел еще в собственной жизни столкнуться с какими-либо
проблемами цензурного или полицейского характера, понимать подоб-
но
ные декларации приходится в основном как «ритуальное» выраже-
ние юным поэтом определенных расхожих мотивов романтического
«свободомыслия»1.
В Эстляндии поэт видел вокруг немало «вальтерскоттовской» ста-
рины, подобной тому, что примерно в то же время воспевал в своих
балладах В.А. Жуковский, а в своей прозе A.A. Бестужев-Марлинс-
кий. Однако характерно, что окружавшие Дерпт средневековые города
и разбросанные среди живописной природы замки немецких баронов
(подобные атрибуты частично сохранились на территории Прибалтики
даже к началу XXI в.) почти не нашли художественного отражения в
стихах Языкова. Его «ливонская повесть» «Ала», стихотворения «Ли-
вония», «Меченосец Аран» бедны конкретными реалиями и, напро-
тив, переполнены условной романтической образностью. Языков во-
обще, как правило, поэтически игнорирует свой реальный быт —
впрочем, однажды в духе романтической иронии описывает эстляндс-
кие корчмы ( «Чувствительное путешествие в Ревель» ). Среди его сту-
денческих стихов неожиданно и свежо звучит полное тоски по родине
стихотворение «Островок» («Далеко, далеко Красив, одинок, На Волге
широкой Лежит островок...»). Оно интересно и тем, что в нем (в проти-
воположность вышеотмеченному) как раз много конкретных примет
описываемых мест.
Уже в дерптских стихах можно отметить и попытки поэта фило-
софски осмысливать судьбы Отечества:
Еще молчит гроза народа,
Еще окован русский ум,
И угнетенная свобода
Таит порывы смелых дум.
О! долго цепи вековые
С рамен отчизны не спадут,
Столетья грозно протекут, —
И не пробудится Россия!
(«Элегия»)
Это краткое произведение может даже вызвать ассоциации с твор-
чеством Ф.И. Тютчева. Впрочем, достигнутая молодым Языковым ком-
пактность не удержалась в его творчестве и не стала конкретной чер-
1 Зато именно начальство Дерптского университета иногда заключало преда-
ющихся излишним вольностям студентов в карцеры, располагавшиеся в чердачной
части университетского здания.
9* 131
той стиля, а воплощенная в языковских образах мысль вряд ли может
сравниваться по глубине с тютчевскими поэтическими мыслями1.
Как итог, в Дерпте поэт прожил более семи лет, «Любя немецкие
науки, И немцев вовсе не любя...» («Н.Д. Киселеву»). Университета
он так и не закончил, и в стихотворении «Отъезд» писал об оставляе-
мых местах:
Прощай, краса чужого края,
Прощайте, немцы и друзья...
Пожалуй, наиболее ярким эпизодом дерптского периода жизни
Н.М. Языкова была поездка летом 1826 г. в Тригорское, возле которо-
го в Михайловском отбывал свою ссылку A.C. Пушкин. Знакомство с
ним было для Языкова поистине бесценным подарком и тогда же на-
шло отражение в стихотворениях «А. С. Пушкину», «Тригорское»,
«К няне А. С. Пушкина» и др.
В «А. С. Пушкину» Н.М. Языков говорит об обстоятельствах зна-
комства с опальным поэтом в образно-романтической манере. Из ре-
ально-конкретных деталей встречи всплывают разве лишь неизмен-
ное в студенческих стихах Языкова вино («могущественный ром») и
«стаканы-исполины» (впрочем, это уже поэтическая гипербола реаль-
ности ). Языков броско обобщает:
Огнем стихов ознаменую
Те достохвальные края
И ту годину золотую,
Где и когда мы: ты да я,
Два первенца полночных муз,
Постановили своенравно
Наш поэтический союз.
Здесь бросается в глаза высота самооценки: автор явно ставит себя
наравне с Пушкиным («Два первенца полночных муз»). Впоследствии
Н.М. Языков на протяжении жизни неоднократно высказывал весьма
независимые суждения критического характера о некоторых произве-
дениях Пушкина, характер пафоса коих легко понять, учитывая эту
«презумпцию равенства» с ним.
1 Как еще одну поэтическую пробу, связанную с поисками Языковым спосо-
бов «по-тютчевски» сочетать внешнюю краткость со смысловой емкостью, можно
воспринимать, например, его «Молитву» («Молю святое провиденье...»).
132
Со своей стороны A.C. Пушкин считал Языкова одним из наибо-
лее талантливых современных поэтов. Однако трудно не заметить в
некоторых излюбленных языковских мотивах, в «огне» его стихов не-
которой искусственности, наигранности, даже позы. Что до конкрет-
ных поэтических контактов с музой Пушкина, любопытна баллада
Н.М. Языкова «Олег». В балладе повествуется, как на пышные похо-
роны Олега «из киевских врат» стекаются «Князь Игорь, его воеводы,
Дружина, свои и чужие народы»:
Где князь бездыханный, в доспехах златых,
Лежал средь зеленого луга;
И бурный товарищ трудов боевых —
Конь белый — стоял изукрашен и тих
У ног своего господина и друга.
Перед читателем своеобразный отклик на написанную тремя года-
ми ранее пушкинскую «Песнь о вещем Олеге». Языков описывает ри-
туал «потешной драки» на могиле Олега, выступление гусляра, поюще-
го об Олеговых подвигах... Это произведение, в котором автор сам пошел
непосредственно по стопам Пушкина, особенно наглядно проявляет
разницу масштабов дарования обоих поэтов и истинный характер их
творческих контактов.
Довольно рано Н.М. Языков изменил отношение как к своему об-
разу жизни юных времен, воспетому в дерптских стихах, так и к обуре-
вавшим его тогда «вольнолюбивым» умонастроениям. Одной из «пер-
вых ласточек» в этом смысле является стихотворение «Ау!» (1831),
где лирический герой покаянно признается: «Пестро, неправедно я
жил!», «И пил да пел... я долго пил!», а затем предается настоящему
взрыву национально-патриотических чувств, любуясь Москвой. А в
одном из последних своих стихотворений «К не нашим» Языков смело
нападает на западников:
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас.
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русской вы народ!
133
К числу лучших произведений Н.М. Языкова, безусловно, принад-
лежит стихотворение «Пловец», оказавшее прямое воздействие на зна-
менитый «Парус» М.Ю. Лермонтова («Белеет парус одинокий...»):
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.
Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!
Это произведение, в котором сам автор текста даже обозначил гиб-
кий, варьирующийся от куплета к куплету припев-рефрен, удивитель-
но легко и быстро (уже в 1830-е годы) фольклоризовалось в качестве
песни «Моряки». Для такого поворота условно-романтической кол-
лизии языковского стихотворения в его тексте оказалось немало объек-
тивно выраженных черт («Будет буря: мы поспорим И помужествуем с
ней», «Смело, братья! Туча грянет, Закипит громада вод, Выше вал
сердитый встанет, Глубже бездна упадет!» и т. п.)
Если иметь в виду параллели с «Парусом» Лермонтова, то уже у
Языкова упомянута и «страна далекая» («Там, за далью непогоды, Есть
блаженная страна...»). Однако его произведение решено не в меланхо-
лически-мечтательном ключе: оно исполнено кипучей энергии и муже-
ства, зовет к борьбе:
Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.
По смысловым интонациям к этому апофеозу человеческой отваги
у Языкова близко небольшое стихотворение «Корабль» (хотя решено
оно совсем в ином ритмическом ключе):
Люблю смотреть на сине море,
В тот час, как с края в край на волновом просторе,
Гроза грохочет и ревет;
А победитель волн, громов и непогод,
ia4
И смел и горд своею славой,
Корабль в даль бурных вод уходит величаво!
Перу Н.М. Языкова принадлежит еще немало художественно силь-
ных стихов, среди которых «На смерть няни A.C. Пушкина», «Конь»,
«Кубок», «Поэт», «Поэту», «Молитва», «Морская тоня» и др. Он
также автор поэм «Сержант Сурмин», «Липы», драматических сцен
и сказок «Жар-птица», «Сказка о пастухе и диком вепре» и др. Со-
брания стихотворений Языкова издавались в 1833, 1844 и 1845 гг.
Н.М. Языков проявил себя и как собиратель русского фольклора: он
оказал неоценимую помощь своему другу П.В. Киреевскому при подго-
товке обширного собрания русских песен1
Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — поэт, драматург,
православный философ и публицист, один из лидеров славянофильства.
Из старинного дворянского рода, после окончания Московского уни-
верситета был на военной службе, участвовал в в русско-турецкой войне
1828—1829 гг. Выйдя в отставку, выступал в периодике со статьями, в
которых выражал веру в великое будущее России, противопоставляя
ее гибнущему Западу. Данные мотивы занимают существенное место и
в поэзии Хомякова. Важнейшие его стихотворения: «В альбом сест-
ре» (1826), «Ода» («Внимайте голос истребленья!» (1830), «Орел»
(1832), «Мечта» (1835), «Ключ» (1835), «России» (1839), «Киев»
(1839), «К детям» (1839), «Не гордись перед Белградом...» (1847),
«Раскаявшейся России» (1854), «По прочтении псалма» (1856),
«Широка, необозрима...» (1858), «Парус поднят; ветра полный...»
(1858) и др. Хомяков писал и драматургические произведения: им со-
зданы неоконченная драма «Вадим» (1822), трагедии «Ермак» (1826)
и «Дмитрий Самозванец» (1832), неоконченная драма «Прокофий
Ляпунов» ( 1834). Среди трудов A.C. Хомякова как мыслителя выделя-
ются писавшееся многие годы историософское сочинение «Семира-
мида», статьи «Церковь одна» (1838), «Несколько слов православ-
ного христианина о западных вероисповеданиях» (1853), «О
современных влияниях в области философии» ( 1859) и др.
А. Григорьев в статье «Стихотворения A.C. Хомякова» вслед за
В.Г. Белинским (относившимся к поэзии Хомякова резко критически)
утверждал, что Хомяков — поэт «головной» (хотя отдавал ему долж-
ное как оригинальному мыслителю). Это явно несправедливо. Стихи
A.C. Хомякова служили органическим продолжением его философских
1 См.: Зуева LB., Кирдан Б.П. Русский фольклор. М., 1998. С. 22.
135
воззрений, афористически переформулируя и образно преломляя его
излюбленные идеи:
Но горе! век прошел, и мертвенным покровом
Задернут Запад весь.Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,
Проснися, дремлющий Восток!
(«Мечта»)
Иногда они могут рассматриваться не просто как образно-художе-
ственные вариации философских максимов, но и как способ эмоцио-
нального убеждения читателя втех вопросах, которые Хомякову-мыс-
лителю не удавалось доказать строгим образом или которые по
сверхсложной природе своей не допускали подобного доказательства
(например, вопросы, относящиеся к темам веры, религии), «илжьин
Глубокий личный патриотизм побуждал A.C. Хомякова призна-
вать особую роль на историческом пути человечества России как го-
сударства — не только на протяжении истекших столетий, но и в
будущем:
«Гордись! — тебе льстецы сказали. —
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом!
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озеры...
Однако православное чувство корректировало мысли автора.
Чрезвычайно опасен, как справедливо подчеркивает поэт, дух горды-
ни, который пытаются разжечь в русских сердцах различные досужие
«льстецы»:
Не верь, не слушай, не гордись!
Бесплоден всякой дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка,
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука!
(«России»)
136
Главное, по Хомякову, вообще не сохранение государственной мощи
(«Неверно злато, сталь хрупка»), но сохранение православной веры,
которая и составляет истинную силу России.
Поэт и в других произведениях взывает к славянскому миру, пре-
достерегая его от разъединяющего и мертвящего духа гордыни:
Не гордись перед Белградом,
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом,
Златоверхая Москва!
Вспомним: мы родные братья,
Дети матери одной,
Братьям братские объятья,
К груди грудь, рука с рукой!
(«Не гордись перед Белградом...»)
Весьма интересна образная разработка темы России в другом пре-
красном стихотворении A.C. Хомякова:
В твоей груди, моя Россия,
Есть также тихий, светлый ключ;
Он также воды льет живые,
Сокрыт, безвестен, но могуч.
Этот символический «ключ», как верит поэт, не всегда останется
«сокрытым» и «безвестным»:
Но водоема в тесной чаше
Не вечно будет заключен.
Нет, с каждым днем живей и краше
И глубже будет литься он.
Далее символ оборачивается совершенно неожиданными гранями.
Ключ не просто разольется рекой — он обретет поистине вселенскую
широту:
И верю я: тот час настанет,
Река свой край перебежит,
На небо голубое взглянет
И небо все в себя вместит.
(«Ключ»)
Ш
Понятно, что здесь имеется в виду «небо» не просто в бытовом, а в
православно-христианском смысле. Именно его, как верится поэту, ког-
да-то «в себя вместит» тот могучий ключ, который пока таится в груди
России. То, что высказано, как здесь, в художественных образах, заведо-
мо не рассчитано на полную понятийную расшифровку, а потому зада-
ваться вопросом, как же именно это представлялось автору, вряд ли кор-
ректно. Зато ясен общий поэтический пафос, вдохновлявший образы
Хомякова-поэта. Как он выразился сам, это «правды суд и мир любви»:
Парус русский. Через волны
Уж корабль несется сам.
И готов всех братьев челны
Прицепить к крутым бокам.
Поднят флаг: на флаге виден
Правды суд и мир любви.
Мчись, корабль: твой путь завиден...
Господи, благослови!
(«Парус поднят; ветра полный...»)
Важнейшая из стихотворных пьес A.C. Хомякова — безусловно,
трагедия «Дмитрий Самозванец». Нетрудно ощутить, что импульсом
к ее созданию послужила народная драма A.C. Пушкина «Борис Году-
нов». Помимо персонажей, знакомых читателю по пушкинскому про-
изведению (Шуйский, Марина Мнишек и др.), здесь действуют такие
исторически реальные фигуры, как царица Марфа, Прокофий Ляпу-
нов и т. д. Имеется также шут — нечто среднее между шутами в траге-
диях Шекспира и юродивым Никол кой из пушкинского «Бориса Году-
нова».
Действие трагедии Хомякова застает Самозванца уже воцарившим-
ся на русском престоле. В начале Дмитрий предстает смелым витязем:
на охоте он спасает подмятого медведем старика Валуя, напав на зверя
с рогатиной и мечом. Один из стрельцов, обсуждающих это происше-
ствие, говорит:
Когда на зверя он идёт один,
Чтоб русского спасти, то, верно, любит
Своих он подданных.
Зато верный союзник, прямой и честный Басманов, упрекает Дмит-
рия, говоря, что не приличествует царю рисковать, сражаясь «с бес-
138
смысленным животным». Дмитрий, как правильно ощущает Басманов,
вызывает в народе растущее раздражение тем, что ведет себя не по-
царски, а вдобавок якшается с «ляхами».
И в самом деле, Дмитрий Самозванец предстает в трагедии как
фигура чрезвычайно противоречивая. Он буквально мечется между
порывами, возникающими в нем под влиянием католических патеров и
своими русскими патриотическими чувствами. Подпадая под влияние
иезуистской демагогии, Дмитрий способен заявить:
Да! Риму покорюсь. Опасно, трудно;
Но велика награда.
Басманов же весьма здраво и честно говорит ему в ответ, что кон-
кретно проистекает из сути намерения русского царя «покориться»
католическому Риму:
На перёд
Ты подданным скажи, что их молитвы
Доселе грешны были, вера их
Противна Богу, их младые дети
Не крещены, и предки не отпеты,
Угодников нетленные тела,
Источники чудес и исцелений —
Остатки злых еретиков.
Такая перспектива пугает царя, и он тут же меняет намерения, за-
являя иезуиту патеру Квицкому:
Мой хитрый ксендз, твою я понял душу!
О! (будьте я ко змии) — глубоко
Начертано в уставе иезуитов,
И твердо, Квицкий, помнишь ты его.
Но ты ошибся, ксендз! Уроки ваши
От юности Димитрия вели;
И многому его вы научили,
И много тайн открыли перед ним.
Но русский я, но в этих льётся жилах
Не западная кровь; но русский край
Мне всех земель сто раз дороже, краше,
Мне ближе всех мой доблестный народ.
И чтобы я рукою иноземцев
139
Его, как зверя дикого, сковал,
Грозой цепей, грозой мечей наёмных
Его главу пред Римом преклонял!
Тому не быть.
Колебания шаг за шагом приводят Самозванца к разладу не толь-
ко со своим окружением, но и с народом. В конце концов вспыхивает
восстание. Басманов погибает, пытаясь «усовестить безумцев». Ране-
ного в бою, но очнувшегося Дмитрия добивают бояре.
Вполне понятно, что трагедия A.C. Хомякова заведомо не выдер-
живает сравнения с «Борисом Годуновым». В то же время содержаща-
яся в ней попытка осмыслить один из переломных моментов истории
Отечества небезуспешна и представляет немалую художественную цен-
ность.
Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827) — из родо-
витой дворянской семьи, слушал лекции в Московском университете,
вместе с В.Ф. Одоевским был членом московского кружка «любомуд-
ров». Умер от простудной (по другим сведениям — от тифозной) го-
рячки. Автор около сорока оригинальных стихотворений, а также по-
этических переводов.
В осмыслении творчества Веневитинова иногда проявляются два
молярных подхода. Согласно одному из них, он — нераскрывшийся ге-
ний, согласно другому — просто подражатель A.C. Пушкина, своего
старшего родственника (четвероюродного брата).
Несомненно, в ряду художников 1820-х годов Веневитинову как
поэту ближе всего именно Пушкин. С пушкинским влиянием можно
связывать свойственную Веневитинову «поэтическую сдержанность»,
необычную в эпоху романтиков. Так, в стихотворении «Поэт» Д.В. Ве-
невитинов повествует:
Пусть вкруг него, в чаду утех,
Бушует ветреная младость,
Безумный крик, нескромный смех
И необузданная радость:
Все чуждо, дико для него,
На все спокойно он взирает...
Здесь не только декларируется спокойствие — в целом «спокой-
на» и сама образность произведения (для сравнения можно взять, на-
пример, Н.М. Языкова). Интересно присутствие в стихах Веневитино-
140
ва как излюбленных пушкинских словечек и оборотов, так и образов,
созданных по их подобию. Здесь можно указать, например, на ту же
«ветреную младость». В стихотворении «КПушкину» («Известно мне:
доступен гений...») таких вкраплений особенно много (что, возможно,
спровоцировано сутью жанра послания — в данном случае, к другому
поэту). В целом же они явно недостаточно часто встречаются и недо-
статочно ярко выражены, чтобы можно было усматривать в факте их
введения сознательные парафрастические приемы. Скорее перед нами
невольное и непредумышленное проявление следования автора в фар-
ватере пушкинской поэзии, литературное ученичество.
В программном стихотворении «Я чувствую, во мне горит...» ли-
рический герой Д.В. Веневитинова говорит, что ощущает в себе «Свя-
тое пламя вдохновенья», но цель, стоящая передним, ему самому «тем-
на»:
Я вижу, жизнь передо мной
Кипит, как океан безбрежной...
Найду ли я утес надежный,
Где твердой обопрусь ногой?
Иль, вечного сомненья полный,
Я буду горестно глядеть
На переменчивые волны,
Не зная, что любить, что петь?
Далее «тайный голос» предлагает поэту всмотреться в природу и
смирить в себе «гордое желанье» «весь мир обнять в единый миг». Как
итог, поэт научился (в стихотворении Веневитинова) «беглым мыслям
простодушно вверяться в пламени стихов» — такова найденная им
«твердая опора».
Склонность пофилософствовать в стихах у молодого поэта, разу-
меется, шла от сути его натуры. Но одновременно ее имеет смысл свя-
зывать с годами вышеупомянутого присутствия автора в кружке моло-
дых философов — «любомудров». Намерение «открыть глаза на
природу» представляется отзвуком впечатлений от концепции одного
из любимейших у «любомудров» мыслителя — Ф. Шеллинга1. Моло-
дой философ вообще неоднократно ощущается в стихах Веневитинова,
для достаточно мотивированных аналогий с которыми уместно вспом-
нить не только A.C. Пушкина, но и Е.А. Боратынского. А оказавшееся
1 См. о «любомудрах»: Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь
В.Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. Т. 1.4. 1-2. Мм 1913.
141
последним стихотворение Д.В. Веневитинова напоминает стихи еще
никому тогда не известного молодого мюнхенского дипломата Ф.И. Тют-
чева (в годы учебы в Московском университете соприкасавшегося с
примерно теми же кругами, что чуть позже Веневитинов).
Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Не много истинных пророков
С печатью власти на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.
Мысль, здесь выраженная, несомненно художественно глубока и
верна, притом она согласуется с тем, чему учит в связи с темой «силы
слова» (глагола) Православие. «Кто в каком слове упражняется, — на
заре христианства писал св. Петр Дамаскин, — тот получает свойство
того слова, хотя этого и не видят неопытные, как видят имеющие ду-
ховную опытность»1. А современник Веневитинова и Пушкина св. Иг-
натий Брянчанинов указывал: «Если же ты позволил исписать и исчер-
кать скрижали души разнообразными понятиями и впечатлениями, не
разбирая благоразумно и осторожно — кто писатель, что он пишет: то
вычисти написанное писателями чуждыми, вычисти покаянием и от-
вержением всего богопротивного»2.
Д.В. Веневитинов ушел из жизни в 22 года, написав совсем мало. Од-
нако в ряду поэтов пушкинской эпохи ему принадлежит заметное место.
Каролина Карловна Павлова, урожденная Яниш ( 1807— 1893), —
поэтесса и переводчица, из семьи немца-профессора, в юности побы-
вала невестой А. Мицкевича, но стала второй женой писателя Н.Ф. Па-
влова. С мужем скандально развелась по экономическим мотивам, при-
чем сдала его в долговую тюрьму. Придя в разлад с общественным
мнением (сочувствовавшим Павлову), переселилась из Москвы в
Дерпт, затем жила в основном за границей.
Кроме стихов и поэм «Разговор в Трианоне», «Кадриль», «Фан-
тасмагории» и «Разговор в Кремле» К.К. Павловой принадлежит кни-
1 Пер. св. Игнатия Брянчанинова. В другом переводе см.: Дамаскин Петр.
Творения. М., 2001.С. 132.
2 Брянчанинов Игнатий. Соч.: В 6 т. Спб., 1886. Т. 1. С. 113.
142
га «Двойная жизнь», написанная вперемежку прозой и стихами (ав-
тором произведение помечено как роман).
Творчество К.К. Павловой 1830-х годов — это поэзия последова-
тельницы A.C. Пушкина и Е.А. Боратынского. Обращаясь к Боратын-
скому, она впоследствии писала:
Меня вы назвали поэтом,
Мой стих небрежный полюбя,
И я, согрета вашим светом,
Тогда поверила в себя.
В музыке звучного размера
Избыток чувств излейте вновь;
То дар, живительный, как вера,
Неизъяснимый, как любовь.
Порою К.К. Павлова просто подражает Пушкину, подхватывая те
или иные полюбившиеся ей пушкинские интонации:
Шепот грустный, говор тайный,
Как в груди проснешься ты
От неясной, от случайной,
От несбыточной мечты?..
И здесь и далее ощутим невнятный перепев пушкинского «Дар на-
прасный, дар случайный...».
Свою лирическую героиню Павлова в московский период творче-
ства противопоставляет начинавшим входить в моду эмансипаторским
веяниям. В обращенном к поэтессе графине Е.П. Ростопчиной стихот-
ворении «Мы современницы, графиня...» она называет последнюю
«красавицей и жорж-зандисткой», при этом с неодобрением отзыва-
ясь о ее жизни «свободной артистки»:
Люблю Москвы я мир и стужу,
В тиши свершаю скромный труд,
И отдаю я просто мужу
Свои стихи на строгий суд.
Вы в Петербурге, в шумной доле
Себе живите без преград,
sono .нгшП Ч '.\н<жо1Л*Вы переноситесь по воле
Из края в край, из града в град.
143
К сожалению, вскоре судьба побудила КК- Павлову избрать жиз-
ненный путь, в некоторых чертах аналогичный ростопчинскому, и в ее
стихи стали проникать иные мотивы.
Графиня Евдокия Петровна Ростопчина (в девичестве Суш-
кова) (78/1 — 1858) — поэтесса, содержала в Петербурге лите-
ратурный салон, посещавшийся крупнейшими писателями (в том
числе Пушкиным и Лермонтовым). Автор поэм «Монахиня»
(1842), «Версальские ночи» (1847) и др., а также большого чис-
ла стихотворений, среди которых пользовались известностью
политически окрашенные «Насильный брак» (аллегория на тему
присоединения Польши к России) и «Поклонникам Наполеона,..»,
С годами К.К. Павлова стала пытаться экспериментировать (хотя
тоже довольно невнятно) с ритмикой, строфикой и рифмовкой. Совре-
менники считали ее рифмы типа Колумб/румб, щедро / Сааведра, гор-
до/Стратфорда и т. п. звучащими необычно и экзотически1. Она одна
из первых в русской поэзии опробовала неравносложную рифму: на-
ций/эмансипации. Будучи немкой, поэтесса, по-видимому, обострен-
но, как бы «со стороны», воспринимала звуковую фактуру русского
языка, и это помогало ей в подобных исканиях.
Алексей Васильевич Кольцов ( 1809— 1842) — поэт, сын воронеж-
ского прасола (торговца скотом и мясом). Грамоту постигал дома и за-
тем некоторое время продолжал образование в уездном училище, но
был взят оттуда отцом еще во втором классе для помощи ему в работе.
Впоследствии русская писательская среда немало помогала Кольцову
на его пути в литературу. В 1833 г. с помощью критика Н.В. Станкеви-
ча им был издан первый сборник стихов.
Поэзия этого неудачливого в жизни, слабого и постоянно болев-
шего человека (его рано погубил туберкулез) поражает обилием свет-
лых красок, яркостью и оптимизмом. Герои Кольцова, как правило, на-
родные удальцы, бахвалящиеся молодой силушкой:
У меня ль плечо —
Шире дедова,
Грудь высокая —
Моей матушки.
1 См. подробно: Громов ПЛ. Каролина Павлова //Павлова КК Поли. собр.
стихотворений. М.; Л., 1964.
144
На лице моем
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.
Кудри черные
Лежат скобкою;
Что работаю —
Все мне спорится!
(«Косарь»)
Сходные мотивы пронизывают стихотворения «Первая песня Ли-
хача Кудрявича», «Удалец», «Как здоров да молод», «В поле ветер
веет», «Бегство» и др. Личные неудачи постигают кольцовских героев
редко. Тяжесть крестьянского труда ими обычно болезненно не пере-
живается. Они упоены собой, своей энергией и полны воли к борьбе.
Сам крестьянский мир в поэзии Кольцова предстает как мир физичес-
кого и душевного здоровья и довольства жизнью.
Речевые образы, восходящие к образности устного народного твор-
чества, специфическое безрифмие в сочетании с дактилическими окон-
чаниями стихов и т. п. — все подобное придавало кольцовской поэзии
особый «народный» колорит. A.B. Кольцов как поэт сумел достичь оп-
ределенного синтеза фольклорной поэтической традиции и традиций
русской классики.
Кольцовские герои от рождения «вращены» в мир природы и лю-
бят при случае риторически обратиться к лесам, полям и т. д.
Что, дремучий лес,
Призадумался, —
Грустью темною
Затуманился?
«Лес»
В стихотворении «Не шуми ты, рожь...» лирическому герою
«Легла на сердце Дума черная», так как умерла его любимая «душа-
девица»:
Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом!
Ты не пой, косарь,
Про широку степь!
1П— Мииопяппа 145
Мне не для чего
Собирать добро,
Мне не для чего
Богатеть теперь!
Хотя героя постигло страшное горе, оно легло ему на плечи тяж-
ким грузом, но не сломило его.
Многие свои произведения A.B. Кольцов помечал как «песни»
(«Песня старика», «Песня разбойника», «Песня пахаря» и др.), а
также как «русские песни». Однако в основном они остались на стра-
ницах его книг. Настоящая фольклоризация чаще постигала стихи по-
этов следующих поколений — И.С. Никитина, H.A. Некрасова,
И.З. Сурикова и др.
A.B. Кольцов был даровитым поэтом-самородком. Раскрыть свой
талант в полной мере ему помешала скорая смерть.
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БОРАТЫНСКИЙ
(1800-1844)
Евгений Абрамович Боратынский (Баратанский) — поэт, сын ге-
нерал-адъютанта (предки — выходцы из Польши), учился в Пажеском
корпусе, но в пятнадцатилетнем возрасте был исключен за соучастие в
краже (с личным воспрещением царя Александра I служить где-либо,
кроме военной службы рядовым). Прожив около трех лет с матерью в
Тамбовской губернии, поступил служить рядовым в гвардию. В Петер-
бурге дружески сблизился с A.A. Дельвигом, Н.И. Гнедичем, П.А. Плет-
невым и др., опубликовал первые стихи. Став через год унтер-офице-
ром, был переведен в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный
в Финляндии. В 1825 г. был произведен в прапорщики, вскоре вышел в
отставку и поселился в Москве. Здесь Боратынский сблизился с
П.А. Вяземским и (на некоторое время) с И.В. Киреевским. После же-
нитьбы стал в 1830—1840-е годы подолгу жить в подмосковном име-
нии жены Мураново (впоследствии купленном Ф.И. Тютчевым). Ско-
ропостижно умер в Неаполе во время семейного заграничного
путешествия. им
Автор стихотворений «Финляндия» (1820), «Водопад» (1821),
«Разуверение» («Не искушай меня без нужды...») (1821), «Две
доли» (1823), «Истина» (1824), «Буря» (1824), «Любовь» (1825),
«Леда» (1825), «Стансы» ( 1827), «Последняя смерть» ( 1827), «Мой
дар убог, и голос мой негромок...» (1829), «Не подражай: своеобра-
зен гений...» (1829), «Смерть» (1829), «Муза» (1830), «Отрывок»
(1830), «В дни безграничных увлечений...» ( 1832), «На смерть Гете»
(1833), «Болящий дух врачует песнопенье...» (1835), «Недоносок»
(1835), «Кчему невольнику мечтания свободы?» (1835), «Последний
Поэт» (1835), «Весна, весна! как воздух чист!» (1835), «Запусте-
ние» ( 1835), «Осень» (1837), «Все мысль да мысль! Художник бед-
ный слова!» (1840), «На что вы, дни...» (1840), «Предрассудок! он
обломок...» (1840), «Пироскаф» (1844) и др., поэм «Пиры» (1820),
«Телемаи Макар» (1827), «Бал» (1828), «Переселение душ» (1829),
m* 147
«Наложница» («Цыганка») (1831), «финляндской повести» в стихах
«Эда» (1824—1825), прозаической повести «Перстень» (1832).
При жизни Боратынского вышло три сборника его стихов: «Сти-
хотворения» (1827), «Стихотворения» (1835) и «Сумерки» (1842).
Основу первого сборника (три его части из пяти) составляют эле-
гии. Пристрастие Боратынского к этому жанру грустно-меланхоличес-
кого стихотворения не следует путать с какими-либо сентименталисте -
кими увлечениями, как раз ему несвойственными. Лирический герой
Боратынского — личность сильная, и он отнюдь не слезлив. Перед чи-
тателем нечто иное: сдержанные интонации поэта почти неизменно ис-
полнены своеобразного внутреннего трагизма. Элегии Боратынско-
го, по сути, не совсем элегии. Есть основания утверждать, что в этом
стиль Боратынского для поэзии его времени уникален:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все оболыденья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Подобные признания и личные потери героя невозможно списать
на счет лирической художественной условности. Цитированное стихот-
ворение «Разуверение» лишено обычного для романтиков наигрыша и
дышит особой искренностью. Не случайно еще при жизни автора оно
прославилось и как романс на музыку Глинки.
Разочарованность лирического героя Боратынского не совпадает
с ритуализованной образной маской «разочарованности», распростра-
ненной в романтизме. Человеческое разочарование лирического героя
глобально и предельно: он более вообще «не верует в любовь» (а не
просто перестал верить конкретной героине).
«', Не будучи в состоянии «предаться» оказавшимся лживыми снови-
дениям, как заявлено в вышеприведенном фрагменте, герой, однако,
свое нынешнее состояние далее оценивает также не как пробуждение
от этих «изменивших сновидений», а как своего рода болезненный сон:
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
148
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
Логику этих (внешне противоречащих друг другу) заявлений, да и
саму степень адекватности, с которой герой Е А Боратынского реаги-
рует на жизненные злоключения, обсувдать нет смысла: даже если по
человеческим меркам он порою делает «из мухи слона», это поэзия,
перед читателем всякий раз просто состоявшийся художественный факт,
общая совокупность которых и формирует характерный для лирики Бо-
ратынского интонационный настрой, который критики не раз называли
«мрачным». В противоположность A.C. Пушкину Боратынский отли-
чается также стремлением максимально закрыть от читателя реальные
бытовые, ситуационные и «человеческие» проообразы своих стихов.
Иной вариантлюбовного разочарования представлен в кое-где гре-
шащей длиннотами и риторической рассудочностью элегии «Призна-
ние», где герой предается своеобразному самоанализу1. На сей раз «ох-
ладел» он, а не героиня, и путем цепи медитативных умозаключений
лирический герой приходит к выводу, что в этом проявляется победа
непреодолимой человеком «судьбины»: «Невластны мы в самих себе».
В другом известном стихотворении любовь предстает даже не как
бессильное перед силой судьбы чувство, а как «отрава»:
Мы пьем в любви отраву сладкую;
Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
(«Любовь»)
Впрочем, в этом можно усмотреть использование романтического
клише, тем более что в следующем четверостишии любовь уже не «от-
рава», а «разрушительный огонь» (явный клишированный образ ро-
мантической поэзии):
Огонь любви, огонь живительный!
Все говорят: но что мы зрим?
1 Некоторые исследователи усматривали в этой элегии черты сокращенного
«аналитического романа».
149
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им!
Помимо трагической по своим интонациям любовной лирики Бо-
ратынский отдал дань эротической поэзии, отчасти последуя в этом
К.Н. Батюшкову1. Не следует путать и смешивать эти два разных явле-
ния. Жанровая эротика, как правило, не связана с личностью лиричес-
кого героя и реальной судьбой поэта, она как бы «самоценна». В ее
рамках читателю представляют различные игривые фантазии на лю-
бовные темы. Сюда у Боратынского относятся, например, «Леда» (пе-
реложение из Э. Парни) и «Возвращение». Таким произведениям Бо-
ратынского нельзя отказать в сюжетно-образной яркости:
На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер; день погас.
Покинем рошу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.
(«Возвращение»)
Неожиданные конкретные детали наподобие «листка нескромно-
го» сразу позволяют ошутить стилевую работу крупного поэта. В отли-
чие от лирики как таковой, свои эротические произведения Боратынс-
кий наполняет жизнерадостно-гедонистическими интонациями. Ясно,
впрочем, что в данном случае перед читателем не отображение реаль-
ных эмоций как таковых, а их жанровое изображение-имитация, ко-
торое время от времени великолепно оживляется различными конк-
ретно-психологическими подробностями.
Для стихов поэта, написанных в Финляндии, характерны романти-
ческие мотивы изгнанничества2. Однако в целом отношения с роман-
1 Не надо недооценивать влияние на молодого Боратынского французской
«легкой поэзии». В кружке Дельвига его даже звали «маркизом» за пристрастие к
литературным правилам «французской школы».
2 Это не более чем литературный образ: в отличие, например, от A.C. Пушки-
на, Е.А. Боратынский не был куда-либо сослан, он просто охранял границу импе-
рии вместе со своим полком.
1 ел
тизмом у Боратынского-поэта непросты. В литературе своего времени
он стоял особняком. Его элегии отличаются четким планом и во мно-
гом не похожи на «стихийное» творчество современных ему русских
романтиков. План, композиция стихов Боратынского порою выглядят
даже рационалистичными, что вызывает в памяти отдельные творчес-
кие принципы классицистов XVIII в., а отнюдь не романтиков.
Со второй половины 1820-х годов все более проявляется тяготе-
ние Боратынского-поэта к философским медитациям1 Начало этого
периода обычно связывают с написанием стихотворения «Последняя
смерть». Оно оказало немалое воздействие на философско-эсхатоло-
гические мотивы позднейшей русской поэзии — в виде примера можно
вспомнить «Никогда» A.A. Фета, герой которого просыпается через
много веков после своей смерти и видит, что «земля давно остыла и
вымерла». У Боратынского же герою предстает «виденье» — перед
ним «Раскрылися грядущие года»:
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.
Человеческий мир стареет, наконецлюди вымирают, вслед за ними
гибнут одомашненные животные («С людьми для них исчезло пропита-
нье»).
И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Если у Фета представлена безысходно пессимистическая картина
гибели всего живого, то у Боратынского смертен только человеческий
род, но вечна «державная природа». Трагическая предопределенность
конечной гибели всего человеческого на земле с различными вариаци-
ями темы обсуждается затем в стихах Е.А. Боратынского неоднократ-
но. Смерть предстает, например, как «всех загадок разрешенье» и как
1 В его окружении присутствовали бывшие московские любомудры-шеллин-
гианцы. Однако, в отличие от них, Боратынский не знал немецкого языка и не пе-
режил острого и конкретного увлечения именно Шеллингом, Гегелем и т. п. Его
оригинальная поэтическая философия преломила «дух времени», но в общих чер-
тах. Ср. стихотворения Боратынского «Приметы», «Бокал», «Предрассудок»,
«Vanitas vanitatum» и др.
151
«разрешенье всех цепей» («Смерть»). В стихотворении «Последний
поэт» — в человеческих «сердцах корысть» и «Исчезнули при свете
просвещенья Поэзии ребяческие сны». Такой мир людей даже не заме-
чает гибели «последнего поэта»:
И по-прежнему блистает
Хладной роскошию свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет...
Иными словами, этот мир, живущий без поэзии, живущий «насущ-
ным и полезным» — своеобразный «живой мертвец»].
К стихам данного периода относятся известные слова A.C. Пушки-
на о том, что Боратынский «оригинален, ибо мыслит», притом мыслит
«по-своему». Ценил в себе отмеченную Пушкиным особенность и сам
Боратынский. Много позже, в 1840 г. он писал:
Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец её! Тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!
(«Всё мысль да мысль! Художник бедный
слова...»)
Мысль художника слова сравнивается здесь с обнаженным мечом
и истолковывается как некая вершина всего, как нечто предельное по
силе своих возможностей. Перед ней «бледнеет жизнь земная», и тем
более «бледнеют» средства других искусств («резец, орган, кисть»).
Бросается в глаза лаконизм этого стихотворения, свойственный и
другим лучшим стихам Е.А. Боратынского. Слог поэта может показаться
1 В стихотворении «Последний поэт», начиная с первого стиха («Век шеству-
ет путем своим железным...»), постоянно присутствует и социальная конкретика.
Произведение впервые было напечатано в журнале «Московский наблюдатель»
(1835), который открывался статьей СП. Шевырева «Словесность и торговля»,
за которой сразу шло стихотворение Боратынского, иллюстрируя ее.
1 со
здесь сбивчивым. Однако это чисто внешнее впечатление от своеоб-
разной связи мыслей, примененной Боратынским и позволившей ему
спрессовать в небольшой текст целый «клубок» идей. Стихотворение
буквально держится на постоянных недоговоренностях и умолчаниях
(эллипсисах): «Всё мысль да мысль», «Всё тут, да тут и человек, и
свет...» «Резец, орган, кисть!» и др. Глагол единственный раз упот-
реблен лишь в последнем стихе («бледнеет жизнь земная»); впрочем,
до этого встречается и единственное деепричастие («за грань их не сту-
пая»). Среди существительных празднует свое абсолютное господство
исходная форма слов — именительный падеж (мысль, художник, жрец,
человек, свет, резец, кисть, орган и т. д.). Словом, работа с языком тут
крайне своеобразная.
Сходные наблюдения можно отнести к другому насыщенному ху-
дожественным смыслом краткому стихотворению Боратынского:
Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.
Гонит в нём наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.
Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай,
Но пристойную могилу,
Как уснёт он, предку дай.
(«Предрассудок! он обломок...»)
В этом произведении об извечной проблеме непонимания потом-
ками культурно-исторического прошлого языковая фактура уже не
столь экзотична в плане грамматики. Экзотична, неожиданна и сложна
словесная образность: предрассудок именуется «обломком давней прав-
ды» и «дряхлолетним отцом» «правды современной», руины обладают
«языком», призыв бережно относиться к этим «руинам» «предрассуд-
ка» не высказан впрямую, а оформлен метафорическим оборотом «дней
его не возмущай» и т. п.1
1 Данное стихотворение было излюбленным примером в работах литературо-
веда Ю.М. Лотмана, у которого оно вызывало оригинальные семиотические и куль-
турологические ассоциации.
153
О мысли в сфере искусства слова, ее судьбе Боратынский говорит
и в других своих произведениях. Например:
Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света...
Поэт выражается «сжато», а мысль его «темна», поскольку до него
никто ее не знал, «как деву юную». Однако коль скоро она высказана
поэтом, происходит постепенное публичное превращение ее в общее
место:
Потом, осмелившись, она
Уже увёртлива, речиста.
Со всех сторон своих видна,
Как искушённая жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.
(«Сначала мысль, воплощена...»)
Нетрудно понять, что Е.А. Боратынский является прямым пред-
шественником мастера лаконических форм в поэзии Ф.И. Тютчева на
стезе философской поэзии не только в силу общности проблематики,
но и в чисто стилевом плане. Некоторые его стихи удивительно напо-
минают раннего Тютчева:
Чудный град порой сольется
Из летучих облаков;
Но лишь ветр его коснется,
Он исчезнет без следов!
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.
Философско-медитативные умонастроения, овладевшие поэтом,
любопытным образом сказались на элегии —том жанре, который еде-
лал его имя известным на заре творчества. Незавершенная элегия
«Осень» растянута наподобие поэмы и внешне напоминает элегии по-
этов предшествующих поколений. Однако глубина и оригинальность
размышлений поэта несомненны. Сентябрь и его красно-золотые крас-
ки символизируют у поэта закат бурной летней жизни природы, «вечер
года». Весьма ярки и словесные пейзажные описания:
И вот сентябрь! замедпя свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!
После картин реальной осени, сельской уборочной страды поэт
переходит (начиная с шестой строфы) к лирической теме: герой, мета-
форически названный «Оратаем жизненного поля», вступает «в осень
дней». Герой переживает тяжелую внутреннюю драму:
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней заглушён.
Мотив этого внутреннего одиночества героя прямо или косвенно
неоднократно возобновляется и далее:
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!
Приближается зима жизни героя:
Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой, —
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей:
*Ш5
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!
В «Осени» отчетливым образом не обсуждается стезя поэтичес-
кого творчества, но иносказательно выраженное усталое чувство не
просто «тщеты всего земного», айв первую очередь, чисто творческих
порывов героя-поэта, здесь ощутимо.
Е.А. Боратынский не пользовался при жизни широкой известнос-
тью. Первый его сборник был благожелательно-выжидающе встречен
некоторыми критиками. Затем интерес критики к нему в основном упал.
Некоторые авторы активно не принимали его творчество. В данном
плане нельзя не указать, прежде всего, на великого русского критика
В.Г. Белинского, который редко говорил о его поэзии что-либо поло-
жительное. В статье «О стихотворениях г. Баратынского» он писал:
«Несколько раз перечитывал я стихотворения г. Баратынского и
вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми искорками бле-
стит в них. Основной и главный элемент их составляет ум, изредка за-
думчиво рассуждающий о высоких человеческих предметах, почти все-
гда слегка скользящий по ним, но всего чаще рассыпающийся
каламбурами и блещущий остротами»1.
Однако вышеприведенное стихотворение Боратынского искренне
понравилось и Белинскому, написавшему, что оно «отличается необык-
новенною художностию своих поэтических форм: это истинная твор-
ческая красота»2.
Растущее литературное одиночество весьма болезненно пережи-
валось поэтом, что называется, знавшим себе истинную цену. Печаль-
ные размышления о превратностях поэтической Фортуны ощутимы в
таком прекрасном его стихотворении:
'н»Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах: как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
(«Мой дар убог и голос мой не громок,..»)
1 Белинский В.Г. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М., 1976. С. 189-190.
2 Там же. С. 301.
В некоторых его стихах усматривали сходство с произведениями
Пушкина, и тогда раздавались речи о «подражательности» музы Бора-
тынского.
В годы жизни обоих поэтов мимесис — творческое подражание,
подражание-соперничество — был широко распространенным явле-
нием. Сам A.C. Пушкин в 1836 г. писал (в рецензии на «Фракийские
элегии» поэта-романтика В.Г. Теплякова): «Талант неволен, и его под-
ражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудос-
ти, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда отыс-
кать новые миры, стремясь по следам гения». В своем личном
творчестве Пушкин неоднократно следовал этому принципу («байро-
нические» южные поэмы, «Подражания Корану», «Песни западных
славян» и др.).
Е.А. Боратынский убежденно проповедовал нечто противополож-
ное:
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений...
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!
(«Не подражай: своеобразен гений...»)
Остроту обсуждаемой в стихотворении проблемы для самого Бо-
ратынского можно ощутить, если не забывать, что «малым двойником»
Пушкина в глазах многих современных читателей был именно он.
В поэмах Боратынского ряду современников виделись некоторые
черты пушкинских поэм (и даже романа «Евгений Онегин»).
В так называемой «финляндской повести» «Эда» поэт стремил-
ся пойти, как он сам писал, «новою собственною дорогою», но в ней
узнавали своеобразную «северную вариацию» пушкинских южных
поэм: Боратынский многое постарался сделать «наоборот», но —
наоборот по отношению к образам и сюжетам Пушкина. Кроме того,
в образе Эды, соблазненной неким гусаром, как и во всей сюжетной
линии поэмы, немало романтических клише (в частности, расхожих
мотивов сентиментального романтизма). Тот же Пушкин в эпиграм-
ме «К Баратынскому» намекал на подражание «Эды» поэзии Бай-
рона:
157
Твоя чухоночка, ей-ей,
4речанок Байрона милей...
В поэме «Бал» узнавалась переделанная на свой лад онегинская
строфа, героя звали Арсений (что напоминало о Евгении), были даже
ветреная героиня «с очами темно-голубыми» по имени Ольга и няня
главной героини, трагической княгини Нины1. Сюжетные мотивиров-
ки в «Бале» могут быть восприняты как натянутые. Такова линия Ар-
сений — Ольга, не говоря уже о мелодраматическом самоубийстве
Нины, по прочтении письма Арсения отравившейся в финале.
Сам же Е.А. Боратынский, несомненно, видел в себе пушкинского
соперника, как бы «альтернативную фигуру», и неоднократно отзывался
о его творчестве довольно ревниво (в отличие от Пушкина, бывшего
одним из наиболее зорких ценителей его таланта среди современни-
ков). Их глубокое внутреннее различие, оригинальность и сила талан-
та Боратынского стали по-настоящему видны лишь с необходимой ис-
торической дистанции.
ЕЛ. Боратынский — поэт огромной силы, один из крупней-
ших художников слова пушкинского времени. Им созданы яркие
образцы русской философской поэзии. Боратынский действовал в
литературе с обостренной самостоятельностью и, будучи со-
временником А.С.Пушкина, предложил немало собственных худо-
жественных решений. Широкая известность пришла к нему с за-
позданием, однако ныне он заслуженно считается одним из
классиков русской поэзии.
1 Поэма Боратынского «Наложница» («Цыганка») вызывала критику иного
Плана — она была воспринята как произведение якобы вульгарно-безнравствен-
ное по сюжету и недостаточно отделанное в плане слога; говорилось и о сходстве
главного героя Елецкого с Онегиным. Боратынский даже счел нужным ответить на|
замечания статьей «Антикритика».
ПРОЗАИКИ
ПУШКИНСКОЙ эпохи
Василий Трофимович Нарежный (1780—1825) — прозаик, поэт,
драматург; из семьи мелкопоместного малороссийского дворянина,
учился в Московском университете. Стихи и трагедии сочинял в юнос-
ти (историко-героические поэмы «Брега Альты» и «Освобожденная
Москва»; среди трагедий — «Димитрий Самозванец», где тема по-
вернута в сентименталистском ключе). Автор сборника историко-ро-
мантических повестей «Славенские вечера» (он включает повести
«Кий и Дулеб», «Славен», «Рогдаи», «Громобой», «Ирена», «Ми-
рослав», «Любослав» и др.; всего «вечеров» тринадцать), автор ро-
манов «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Си-
моновича Чистякова» (части 4—6 опубликованы лишь в 1938 г.),
«Чёрный год, или Горские князья» (опубликован после смерти На-
режного, в 1829 г.), «Аристион, или Перевоспитание», «Бурсак»,
«Два Ивана, или Страсть к тяжбам», «Гаркуша, малороссийский
разбойник» (не завершен, опубликован в 1956 г.), повестей «Бога-
тый бедняк», «Заморский принц», «Запорожец», «Мария», «Не-
веста под замком», «Турецкий суд».
«Славенские вечера» — яркий образец прозы раннего русского
романтизма. Слог Нарежного полон здесь перифраз и метафор, време-
нами писатель даже прибегает к приемам «стихотворной прозы» (ее
мастером ранее был классицист М.М. Херасков):
«На величественных берегах моря Варяжского, там, где вечно
юные сосны смотрятся в струи Невы кроткие, в отдалении от пышно-
го града Петрова и вечного грохота, по стогнам его звучащего, при
склонении солнца багряного с неба светлого в волны румяные, час-
то люблю я наслаждаться красотой земли и неба великолепием, скло-
нясь под тень дерев высоких и обращая в мыслях времена протекшие.
Там иногда сонм друзей моих и прелестных дев земли Русской ок-
ружает меня. Кроткое пение их разливается по берегу и, журча вдали
среди кустов зеленых, теряется в пространстве воздуха.
Г59
Иногда берут они звонкие орудия и светлыми звуками их прослав-
ляют величие добродетели и верных друзей ее» (курсив мой. —
ЮМ).
Здесь у Нарежного каждая из приведенных фраз имеет дактили-
ческое окончание (протекшие/воздуха/друзей ее). Такие ритмически
однородные окончания постепенно создают ощущение ритмичности
обширных текстовых фрагментов «Вечеров». Ритмизации текста спо-
собствуют также инверсии внутри фраз, акцентирующие опять-таки
слова с дактилическим окончанием (в примере выделены курсивом).
Переходя в «Славенских вечерах» от описаний, подобным выше-
приведенному, к повествованию, к продвижению вперед сюжета, На-
режный как чуткий стилист обычно отказывается от подобной ритми-
зации, которая могла бы отвлечь читателя от сюжета и его динамики.
Настоящего историзма в его повестях нет, да романтики к нему и не
стремились. Нарежный создает поэтический образ древней славянс-
кой истории и такие же образы ее деятелей, реальных и вымышленных.
Роман «Российский Жилбла?» — самое известное и, пожалуй,
центральное произведение В.Т. Нарежного. Оно выдержано уже в со-
вершенно ином ключе, чем «Вечера». Начиная с названия, этот роман
Нарежного откровенно спроецирован на весьма популярный тогда у
русской публики «плутовской» роман французского писателя Лесажа
«Похождения Жилблаза де Сантиланы»1. В то же время многообраз-
ные авантюрные похождения «князя Гаврилы Симоновича княж Чис-
тякова» развернуты автором на фоне ярких картин русского быта.
? « При первом появлении на страницах романа тертому жизнью Гав-
риле Чистякову уже под пятьдесят. Он появляется в добродушном дво-
рянском семействе Простаковых, словно некое привидение: «Волосы
его всклокочены и наполнены грязью, которая также залепляла лицо и
руки, оцарапанные до крови; платье все в лохмотьях; одна нога босая,
другая в лапте; оно дрожало от холоду, глаза были томны и унылы».
«Привидение» тут же обращается к хозяевам с прочувствованным
монологом: «Я страдаю голодом и жаждою; целые сутки ни одна кроха
не бывала во рту моем; я дерзнул искать у вас милосердия и убежища
на эту ночь». Затем прошел месяц, а Гаврила Чистяков все продолжал
непринужденно пользоваться «милосердием и убежищем» у Проста-
ковых, так что «казалось всем, что он взрос здесь и состарился».
1 «Плутовской роман» имеет богатую многовековую традицию. В русской ли-
тературе в ее русле написаны, например, такие блестящие произведения, как «По-
весть о Фроле Скобееве» неустановленного автора (конец XVII в.) и «Пригожая
повариха» М.Д. Чулкова (1770).
Тогда он пустился в пространные рассказы о прежних приключе-
ниях, а параллельно вовлек приютившее его семейство в новые свои
авантюры. Кроме того, у Простаковых появляется некто Светлозаров,
хитрый негодяй и проходимец, выдающий себя за князя. Его также ра-
душно принимают. Является и молодой живописец по имени Никандр.
В будущем выясняется, что он — давно потерянный сын Гаврилы Чис-
тякова.
Предвосхищая писательские приемы натуралистов, Нарежный
подробно и с массой конкретных деталей живописует фантасмагори-
ческие похождения своих персонажей на фоне жизни современного
общества, самых разных его уровней, начиная с аристократических сло-
ев дворянства и продолжая делами провинции, бытом чиновников, куп-
цов, крестьянства и т. д. Повествование об этой жизни ведется далеко
не в нейтральных тонах: писатель активно прибегает к иронии, часто
приобретающей сатирическую заостренность. Столичное дворянство,
как оно изображается в романе, развращено, чиновники погрязли во
взяточничестве, церковнослужители фарисействуют и страдают мно-
гими «мирскими» грехами, купцы мошенничают и заражены сребро-
любием.
Об остроте сатиры В.Т. Нарежного напоминает тот факт, что час-
ти 4—6 «Российского Жилблаза» были не допущены цензурой к печа-
ти (первые три части вышли, но были несколько запоздало запрещены
к продаже) и опубликованы лишь в советское время.
Роман «Чёрный год, или Горские князья» со злой иронией изоб-
ражал уже не русские, а кавказские нравы (Нарежный прожил два года
на Кавказе — в основном в Грузии, служа в новосозданном грузинском
правительстве). И понаехавшие из России государственные и судеб-
ные чиновники, и местные князьки становятся объектом сатиры писа-
теля. Следствием этого также были проблемы с публикацией произве-
дения.
Пролежал в рукописи вплоть до середины XX в. и роман «Гарку-
ша, малороссийский разбойник». Семен Гаркуша — реальное исто-
рическое лицо, разбойник, «малороссийский Робин Гуд», действовав-
ший во второй половине XVIII в. Однако В.Т. Нарежный не стремится
приблизить своего героя к прообразу, давая волю фантазии настолько,
что вводит еще и фигуру прекрасной разбойницы-атаманши, «девки-
витязя» Олимпии, с которой Гаркуша в конце концов сочетается бра-
ком (на этом эпизоде роман обрывается).
Роман «Бурсак» также обращен к историческому прошлому Ма-
лороссии. В отличие от «Гаркуши» он насыщен подлинными реалиями
и подробно описывает быт и нравы Переяславской семинарии. Mv
1 1 —Мннепалов 1 ОI
-9' Роман «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» разрабатывает кол-
лизию, отзвуки которой усматриваются в написанной позже гоголевс-
кой «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем» — оба произведения пересекаются и чисто интонационно,
по характеру свойственной им иронии.
Из законченных и опубликованных при жизни Нарежного произ-
ведений следует указать еще на «дидактико-педагогический» роман
«Аристион, или Перевоспитание», где автор критикует систему «дур-
ного» дворянского воспитания, пытаясь противополагать ей педагоги-
ческие действия, основанные на руссоистских теориях.
В.Т. Нарежный умер довольно рано при невыясненных обстоятель-
ствах. Однако в литературе первой трети XIX в. он сыграл весомую роль.
В исторической перспективе он со своими «нравоописательными» кол-
лизиями и умением словесно обрисовывать живую конкретную деталь
быта оказался одним из прямых предшественников натуральной шко-
лы 1840-х годов.
Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836), писавший под
псевдонимом Антоний Погорельский, — прозаик и поэт-романтик,
внебрачный сын графа А.К. Разумовского, дядя А.К. Толстого и его вос-
питатель. Закончив Московский университет, сблизился с карамзини-
стами. Участвовал в Отечественной войне 1812 г. с Наполеоном. В
1814—1816 гг. с лейб-гвардии Уланским полком находился в Дрездене,
где хорошо узнал творчество Э.Т.А. Гофмана. Автор сборника романти-
ческих повестей, окрашенных мистическими мотивами, «Двойник, или
Мои вечера в Малороссии» ( 1828), — в него вошли ранее публико-
вавшаяся повесть «Лафертовская маковница», а также повести «Изи-
дор и Анюта», «Пагубные последствия необузданного воображения»
и «Путешествие в дилижансе». Также автор детской сказочной повес-
ти «Черная курица, или Подземные жители» (1829) и нравоописа-
тельного романа «Монастырка» (1830—1833). Роман «Магнетизер»
(1830) остался незавершенным.
Первая из включенных в «Вечера в Малороссии» повестей «Изи-
дор и Анюта» сочетает черты карамзинистского сентиментализма и
мистики. Героиня-москвичка накануне захвата города Наполеоном дала
обещание жениху, офицеру, уходящему с армией, что убьет себя кин-
жалом, если французы на нее посягнут. После освобождения города
Изидор сначала нашел обгоревшие развалины дома, затем стал гово-
рить с призраком Анюты (невидимым другим офицерам). В конце кон-
цов товарищи нашли его мертвым под кленом, где он ранее разговари-
вал с призраком невесты. В руке его был «заржавленный кинжал»,
рядом — человеческий череп.
162 - _. г.
Вторая повесть «Пагубные последствия необузданного воображе-
ния» содержит историю трагической любви молодого русского графа к
искусно сделанной механической кукле, которую ее изготовитель дол-
гое время успешно выдавал за живую девушку1.
О «Лафертовской маковнице» после первой ее публикации
A.C. Пушкин писал брату Льву из Михайловского 27 марта 1825 г.:
«Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и
одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалелеи-
чем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая го-
лову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?»
Кот из повести A.A. Погорельского — ясно узнаваемый прообраз
Бегемота из «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова. Сам сюжет,
впрочем, разворачивается вокруг хозяйки этого кота — торговки ма-
ковыми лепешками, занимавшейся гаданием и имевшей у соседей по
Лафертовской части скверную репутацию, и семьи ее племянника, от-
ставного почтальона Онуфрича.
Онуфрич по-христиански воздерживался от общения со своей опас-
ной теткой, а «завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и
ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и ве-
личали бабушкою». Однако однажды его жена Ивановна, снедаемая
«демоном корыстолюбия», решила познакомить со старой колдуньей
их дочь красавицу Машу в надежде на получение в будущем наследства
от «бабушки». Маковница велела Маше явиться еще раз не ранее «по-
ловины двенадцатого ночи». Этот ночной визит перепугал девушку: на-
пример, во время его, «бросив нечаянно взгляд на черного кота, она
увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на место прежней
котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое,
вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее...».
Наутро оказалось, что тетка ночью умерла. Зато к Маше попытался
свататься некий «господин титулярный советник Аристарх Фалелеич
Мурлыкин», как две капли воды похожий на кота колдуньи и «с приятно-
стью» выгибавший «круглую свою спину». Когда он вышел, «Маша смот-
рела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо
передвигая ноги, удалился; но, дошеддо конца дома, он вдруг повернул за
угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким
лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать».
Родители же были в восторге от такого именитого жениха, однако
дочь пришла в отчаяние:
1 В основе данной повести лежит парафраз повести Гофмана «Песочный че-
ловек».
11* г163
-«и* «— Матушка! — отвечала Маша со слезами, — я во всем рада
слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!
— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна. — Сты-
дись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.
— Может быть, и так, матушка, — отвечала бедная Маша, горь-
ко рыдая, — но он кот, право кот!»
Так сбылись слова колдуньи, что к Маше «придет жених», назна-
ченный «тою силою, которая управляет большею частию браков».
Происки этой темной силы, однако, не удались: вскоре после бегства
Аристарха Фалелеича к девушке посватался приятный молодой чело-
век по имени Улиян, которого она не раз видела раньше из окошка.
Следующая повесть «Путешествие в дилижансе» рассказывает о
трагической судьбе человека, в детстве воспитанного в джунглях обе-
зьяной (под давлением своей невесты, возревновавшей его к этой доб-
рой воспитательнице, он застрелил обезьяну и затем всю оставшуюся
жизнь пропадал от мук совести).
Прекрасный слог А. Погорельского, язык настоящего писателя,
окрашен легкой иронией, обычной для романтиков. Повести, состав-
ляющие «Вечера в Малороссии», связаны между собой диалогами ли-
рического героя с его Двойником. Например, после «Лафертовской
маковницы» возникает такой обмен репликами:
«— Эта повесть, — сказал Двойник, — более мне нравится, чем
Изидор и Анюта; напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки. Иной
и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья.
— Для суеверных людей развязок не напасешься, — отвечал я».
Далее идут разговоры о суевериях, вере в колдовство и различных
примерах гаданий. Систематические разговоры с Двойником обрамля-
ют сюжеты включенных в сборник произведений и связывают их меж-
ду собой, хотя и внешним образом. Сам же прием введения таких диа-
логов отталкивается от структуры «Серапионовых братьев» Гофмана.
«Деревенские вечера» Н.М. Карамзина, «Славенские вечера» В.Т. На-
режного и «Вечера в Малороссии» А. Погорельского, несомненно, под-
сказали названия произведений некоторым другим авторам — напри-
мер, в случае с гоголевскими «Вечерами на хуторе близ Диканьки»,
«Русскими ночами» В.Ф. Одоевского и др.
В центре романа «Монастырка» — образ малороссиянки Аню-
ты, воспитанницы Смольного монастыря, обычно вызывающий ассо-
циации с «пушкинскими девушками» (Маша Миронова из «Капитанс-
кой дочки», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина»). В романе много
картин современной дворянской жизни, помещичьего быта. В этом про-
изведении отсутствуют какая-либо мистика и фантастика. Пребывая в
164 «н
основном в русле бытописательской традиции, намеченной прозой
В.Т. Нарежного, А. Погорельский явно нащупывает в нем черты той
новой манеры прозаического повествования, которую впоследствии на-
зовут реализмом.
Роман «Монастырка» имел большой успех у современных читате-
лей. «Литературная газета» A.A. Дельвига характеризовала его как
«настоящий и вероятно первый у нас роман нравов»1.
Цитированные слова принадлежат П.А. Вяземскому. В то же вре-
мя несомненно, что впоследствии он был заслонен рядом произведе-
ний классиков русской реалистической прозы, более совершенных в
художественном отношении. Напротив, фантастико-мистическая проза
Погорельского по сей день вызывает самый живой читательский ин-
терес.
Волшебная сказка «Черная курица, или Подземные жители»
была написана А. Погорельским специально для любимого племянни-
ка Алеши Толстого (герой повести сделан даже его тезкой). Она давно
стала классикой детской литературы.
Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) — прозаик и дра-
матург, сын пензенского помещика; участник войны 1812 г. и загра-
ничного похода русской армии. Служил в дирекции императорских те-
атров, пользовался поддержкой драматурга A.A. Шаховского, в
литературе разделял взгляды «дружины славян» А. С. Шишкова. Со-
здал комедии «Проказник» (1815), «Комедия против комедии, или
Урок волокитам» (1815, нацелена на защиту от карамзинистов ко-
медии Шаховского «Липецкие воды»), «Богатонов, или Провинци-
ал встолице» (1817), «Вечеринка ученых» ( 1817), «Роман на боль-
шой дороге» (1819), «Добрый малый» (1820) и др. Некоторые свои
пьесы написал стихами.
Прославился как автор исторического романа «Юрий Милослав-
ский, или Русские в 1612 году» ( 1829), за которым последовали рома-
ны «Рославлев, или Русские в 1812 году» ( 1831 ), «Аскольдова моги-
ла» (1833, стал основой либретто одноименной оперы
А.Н. Верстовского), «Кузьма Рощин» (1836), «Искуситель» (1838),
«Тоска по родине» ( 1839), «Кузьма Петрович Мирошев, русская быль
времен Екатерины И» (1842), «Брынский лес» (1846), «Русские в
начале XVIII столетия» (1848) и других произведений — в том числе
четырех выпусков краеведческих очерков «Москва и Москвичи»
(1842-1850).
'См.: Литературная газета. 1830. № 16.
165
«Юрий Милославский» принес автору славу, был переведен на
ряд языков и, между прочим, нравился Вальтеру Скотту. Пушкин писал
о нем в статье «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (впер-
вые опубликована в «Литературной газете»): «Добрый наш народ, бо-
яре, козаки, монахи, буйные шиши — все это угадано, все это действу-
ет, чувствует как должно было действовать, чувствовать в смутные
времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны
сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной весе-
лости в изображении характеров Кирши, Алексея Бурнаша, Федьки Хо-
мяка, пана Копычинского, батьки Еремея!»1 *«и
В разгар метели боярин Юрий Милославский и его слуга Алексей
спасают на подмосковной дороге полузамерзшего запорожца Киршу,
который станет с этого момента их верным союзником.
Драматизм судьбы Юрия состоит в том, что он присягнул в Моск-
ве польскому королевичу Владиславу, поскольку тот «обещал сохра-
нить землю русскую в прежней ее славе и могуществе». Как результат,
его длительное время раздирают внутренние противоречия (вообще-то
тема этой роковой присяги в романе изрядно раздута и неоднократно
выглядит надуманной). Про поляков Милославский говорит: «Придет
время, вспомнят и они, что в их жилах течет кровь наших предков сла-
вян; быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев, и
два сильнейшие поколения древних владык всего севера сольются в один
великий и непобедимый народ!» Впрочем, даже собственный слуга
Алексей отказывается понимать такие рассуждения и надежды: «Не
прогневайся, боярин, ты, живя с этими ляхами, чересчур мудрен стал и
говоришь так красно, что я ни словечка не понимаю. Но, воля твоя, что
будет вперед, то Бог весть; а теперь куда бы хорошо, если б эти незва-
ные гости убрались восвояси».
Милославский, переживая в дороге ряд приключений, едет в
Нижний Новгород с незавидной миссией попытаться склонить нов-
городцев тоже присягнуть Владиславу. Как следствие присяги
польскому королевичу, ему некоторое время поневоле приходится
быть в одной компании с откровенными предателями и ненавистни-
ками Отечества боярином Кручиной-Шалонским и нижегородским
боярином Истомой-Турениным. Последний не без цинизма говорит
Юрию: «Все нижегородские жители чтят память бывшего своего
1 Относительно упомянутых Пушкиным «шишей» сам Загоскин разъясняет в
одном из примечаний к роману: «Так прозвали поляки буйные толпы не подчинен-
ных никакому порядку русских партизанов, или охотников, которых можно уподо-
бить испанским гверилласам».
воеводы, а твоего покойного родителя; может статься, пример твой
на них и подействует».
Однако в Нижнем Юрий Милославский слышит знаменитую речь
Минина и беседует с ним лично:
«— Боярин! — продолжал Минин, — если бы ты не целовал кре-
ста Владиславу, если б сегодня молился вместе с нами на городской
площади, если б ты был гражданином нижегородским, что бы сделал
ты тогда?
Отвечай, Юрий Дмитрич!
— Что сделал бы я? — сказал Юрий, устремив сверкающий взор
на Минина. — Что сделал бы я?.. Положил бы мою голову за святую
Русь!»
Затем Юрий обращается к нижегородцам с неожиданным патрио-
тическим призывом:
«Спешите, храбрые нижегородцы! спешите водрузить хоругвь
спасителя на поруганных стенах священного Кремля! Вы свободны,
вы не присягали иноплеменнику. А я... я добровольно поклялся быть
верным Владиславу; я не могу умереть вместе с вами! Но если не ору-
жием, то молитвами буду участвовать в святом и великом деле ва-
шем. Так, граждане нижегородские! Я удалюсь в обитель преподоб-
ного Сергия; там, облеченный в одежду инока, при гробе угодника
Божия стану молиться день и ночь, да поможет вам господь спасти от
гибели царство Русское».
Загоскин охотно пишет для своих героев подобные выспренние
романтические монологи и диалоги. Однако как профессиональный
драматург он не только обильно, но и умело насыщает романы прямой
речью героев. Поляки, бояре, казаки, различные представители про-
стого народа говорят в его романе живо и разнообразно. Этими черта-
ми проза Загоскина вообще отличается от произведений ряда совре-
менников, страдавших излишней описательностью, а также книжностью
диалогов и монологов.
Изменнически напав на Юрия и Алексея, подручные предателей
похищают Милославского, но верный Кирша освобождает его. Затем
Милославский женится на прекрасной Анастасии, дочери Кручины-
Шалонского, назначенной отцом в невесты пану Гонсевскому. Ситуа-
ция женитьбы весьма замысловата: девушку захватили разбойники,
которые намерены были предать ее казни как невесту врага. Однако их
предводителем оказался священник отец Еремей, который предпочел
спасти ее, обвенчав с русским князем.
Старец Авраамий Палицын разрешает князя Милославского и от
«богопротивной присяги», и от иноческого обета.
167
fj В эпилоге романа сын Анастасии и Юрия Владимир и его старый
Слуга Алексей встречаются с постаревшим Киршей. Затем старики стоят
в Троицком монастыре у могилы князя и княгини, умерших вместе в
один день «лета 7130-го».
Роман «Рославлев, или Русские в 1812 году» написан реальным
участником изображаемой в нем войны с Наполеоном. Это усиливает
произведение, неоднократно придавая ему событийную конкретность.
С другой стороны, такие грандиозные события, как Отечественная война
1812 г., лучше видятся с определенной исторической дистанции (при-
мер тому — «Война и мир» Л.Н. Толстого).
М.Н. Загоскин, уже в «Юрии Милославском» показавший себя
мастером замысловатых извивов сюжета, поставил в центр повество-
вания о войне с Наполеоном довольно запутанную историю любви офи-
цера Владимира Рославлева к Полине Лидиной. Будучи его невестой,
Полина втайне любит французского полковника Сеникура, с которым
познакомилась в Париже. Этого полковника в разгар военных действий
берет в плен друг Рославлева Александр Зарецкой, спасая его от рус-
ских солдат, а Владимир на беду свою решает отправить раненого плен-
ного лечиться в деревню Лидиных — тем более что он, оказывается, их
знакомый по Парижу. Вскоре, будучи ранен, Рославлев получает воз-
можность отлучиться к невесте. Он застает ее в деревенской церкви
уже венчающейся с полковником Сеникуром. От потрясения раненый
Владимир лишается чувств на пороге храма. Когда русская армия ос-
тавляла Москву, пребывавшего без памяти в горячке Рославлева спря-
тал добрый купец Сезёмов.
Александр Зарецкой, переодетый французским офицером, вернулся
в захваченную Москву, чтобы вывезти своего раненого друга Рослав-
лева. Его глазам предстали картины пожаров и повального мародер-
ства захватчиков: «Обломки столов и стульев, изорванные картины,
разбитые зеркала, фарфор, пустые бутылки, бочки и мертвые лошади
покрывали мостовую. Все это вместе представляло такую отвратитель-
ную картину беспорядка и разрушения, что Зарецкой едва мог удер-
жаться от восклицания: «Злодеи! что сделали вы с несчастной Моск-
вою!» Будучи воспитан, как и большая часть наших молодых людей,
под присмотром французского гувернера, Зарецкой не мог назваться
набожным; но, несмотря на это, его русское сердце облилось кровью,
когда он увидел, что почти во всех церквах стояли лошади; что стойла
их были сколочены из икон, обезображенных, изрубленных и покры-
тых грязью. Но как описать его негодование, когда, проезжая мимо од-
ной церкви, он прочел на ней надпись: «Конюшня генерала Гильеми-
но»».
С помощью мужа Полины полковника Сеникура, обязанного ему
своим спасением, Александр вывез Владимира из города.
Затем, уже во время зарубежного похода, в Данциге Рославлев
находит умирающую Полину. Оказывается, ее муж давно погиб, а рож-
денный ею ребенок умер от голода. Французы считают ее не вдовой
полковника, а его русской любовницей. Еще позже французский офи-
цер Шамбюр передает Владимиру последнее письмо бывшей невесты,
в котором она просит его жениться на своей младшей сестре Оленьке,
давно и тайно в него влюбленной.
Рославлев женился на Оленьке, а локон, вложенный в письмо, за-
хоронил в своем имении под белым памятником из мрамора1.
Роман «Искуситель» — одно из наиболее характерных мистико-
фантастических произведений русских писателей-романтиков2. В нем
появляется небезызвестный граф Калиостро, передающий магистру
Дерптского университета Нейгофу некое «наследство», обладание ко-
торым старит того не по дням, а по часам, а под конец сводит с ума.
Дьявол в образе «барона Брокена» с восхищением расписывает глав-
ному герою-рассказчику, другу Негофа Александру, кровавые перипе-
тии французской революции и пытается сбивать его с пути истинного.
Однако барона Брокена отгоняет от героя праведник отставной пол-
ковник Яков Сергеевич Луцкий.
1 Роман М.Н. Загоскина даже вдохновил A.C. Пушкина на написание своего
«Рославлева» (не закончен). Рассказчицей выступает подруга Полины, которая
сообщает иную версию событий и доводит изложение их до начала пожара Моск-
вы. Мотив замужества Полины за Сеникуром в этом пушкинском фрагменте от-
стуствует.
ГА. Гуковский в заметке «Об источнике "Рославлева"» привел любопытную
статью из «Сына Отечества» за 1813 г., автор которой констатировал, что есть
жизненные примеры нравственно недопустимого флирта русских дам с пленными
французами и даже выхода за них замуж русских девиц, восклицая в заключение:
«И после содеяния нынешними пленными в отечестве нашем неслыханных
святотатств и насилий русския благородные девицы не постыдятся вступить в суп-
ружество с участниками сих злодейств! О горе! О вечный стыд и срам!» Цит по:
Гуковский ГЛ. Об источнике «Рославлева» // Пушкин: Временник Пушкинской
комиссии /АН СССР Ин-т литературы. М.; Л., 1939. [Вып.] 4/5. С. 478.
2 В некоторых деталях «Искуситель», а также цикл рассказов Загоскина «Ве-
чер на Хопре» заметно пересекаются с романом М.А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» — впрочем, такие детали подвергнуты Булгаковым глубокой творческой
переработке.
169
Мистические мотивы окутывают и рассказы Загоскина из цикла
«Вечер наХопре», куда входят произведения «Пан Твардовский», «Бе-
лое привидение», «Нежданные гости», «Концерт бесов», «Две не-
вестки», «Ночной поезд».
М.Н. Загоскин — писатель, творчество которого ныне не только
не забыто, а, напротив, все более привлекает современных читателей.
Фаддей Венедиктович (Тадеуш Бенедиктович) Булгарин (1789—
1859) — прозаик, журналист; сын польского шляхтича, за уголовное
преступление (убийство генерала Воронова) сосланного в Сибирь. За-
кончил в Петербурге кадетский корпус, служил в лейб-гвардии Уланс-
ком полку, участвовал в войне с Наполеоном в 1806-1807 годах.
В 1811 г. был уволен из гвардии с худой аттестацией, исчез из России и
обнаружился в армии Наполеона в составе польского легиона. В 1814 г.
сдался в плен, вернулся в Польшу, но вскоре добился разрешения по-
дселиться в Петербурге, где занялся литературой и приобрел обширные
знакомства в самых разных кругах общества. Свойственные ему бес-
принципность и цинизм умело камуфлировал, так что с ним определен-
ное время дружески общались весьма достойные люди (A.C. Грибое-
дов, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, A.A. Бестужев и др.). После
восстания декабристов, среди которых имел близких приятелей, дал на
них показания. С 1825 г. выпускал газету «Северная пчела». Активно
сотрудничал с шефом жандармов АХ Бенкендорфом, делая полити-
ческие доносы, и, помимо «презрительного покровительства» со сто-
роны шефа тайной полиции, неоднократно получал за службу брилли-
антовые перстни от самого Николая I (под благим предлогом
подношения царю своих сочинений). «Северная пчела», «Сын Отече-
ства» Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча и «Библиотека для чтения»
О.И. Сенковского воспринимались рядом современников как коалиция
идейно однородных изданий.
Николай Иванович Греч (1787-1867) — писатель, журна-
лист, выдающийся филолог. Автор ценных воспоминаний «Запис-
ки о моей жизни», филологических трудов «Опыт краткой ис-
тории русской литературы», «Чтения о русском языке»,
«Пространная грамматика русского языка» и др. В своих грам-
матических руководствах тяготел к принципам «всеобщей»
грамматики, иногда искусственно логизируя реальные отноше-
ния языковых единиц. Грамматика Греча оказывала влияние на умы
филологов на протяжении многих десятилетий, а позже ряд ее
принципов долго сохранялся в школьной грамматике.
1 7П
Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800-1858), писав-
ший под псевдонимом Барон Брамбеус, — журналист, прозаик,
ученый-востоковед, сын польского шляхтича,
В 1830-е годы Булгарин активно участвовал в интригах вокруг
A.C. Пушкина. Умер на своей мызе Карлово у Дерпта (ныне остатки
мызы находятся на территории города Тарту; могила Булгарина распо-
ложена в старой части тартуского кладбища Ради).
Автор романов «Иван Выжигин» (1829), «Димитрий Самозва-
нец» (1830), «Петр Иванович Выжигин» (1831), «Мазепа» (1833—
1834), «Памятные записки титулярного советника Чухина» (1835)
и др.
Булгарин не был крупным писателем. Он проявлял способность к
сюжетопостроению, но ярким индивидуальным слогом не обладал: это
заведомо однобокое и ущербное литературное сочинительство. Его
«плутовской роман» «Иван Выжигин» пользовался после выхода в свет
популярностью постольку, поскольку был в основном изъят из прода-
жи и мало кому известен «Российский Жилблаз» В.Т. Нарежного, как
литературное произведение превосходящее его во всех отношениях.
В «Иване Выжигине», не справляясь с созданием полнокровных
литературных образов, автор явно злоупотребляет, например, таким
чисто внешним приемом, литературно устаревшим уже к концу XVIII в.,
как «говорящие» фамилии: «В нашем обществе игроков было два вы-
родка знатных фамилий: князь Плутоленский и граф Тонковорин». По
тому же принципу создания «говорящей» фамилии назван и главный
герой (Выжигин), и еще масса персонажей романа (Вороватин, Мило-
видин, Россиянинов, Барич, Глупашкин и т. п.). Точно также Булгарин
злоупотребляет тоже внешним приемом придания повествованию «са-
тирической остроты», заключающимся в окарикатуривании персона-
жей и ситуаций. Продолжим в целях иллюстрации этого приема приве-
денную цитату:
«Первый (Плутоленский. — ЮМ.), отказавшись от выгодного
брака, от всех связей с хорошим обществом, от службы, вел жизнь рас-
путную, показывался всегда в публике в нетрезвом виде и буянством
своим нарушал все приличия. Он был еще в самом цветущем возрасте
и мог бы служить образцом живописцу для изображения отчаянного
разбойника. Красное, раздутое его лицо, заросшее огромными бакен-
бардами, выражало дерзость и невоздержность; глаза были всегда вы-
пучены и налиты кровью, как у гиены; губы были надуты и отворялись
только для пищи, питья и грубостей. Граф Тонковорин был уже человек
пожилой: он прошел сквозь огонь и воду, несколько раз промотал и на-
171
жил состояние и, будучи всю жизнь в разладе с совестью, наконец из-
брал, по своему мнению, самое невинное ремесло ложного игрока. Он
имел все пороки и одно только качество, общее с честными людьми:
неустрашимость».
Заметно, что здесь Булгарин сыплет штампами «благонамеренной»
морализаторски окрашенной лексики и фразеологии своего времени
(«отказавшись от выгодного брака, от всех связей с хорошим обще-
ством», «вел жизнь распутную», «в нетрезвом виде», «буянством на-
рушал приличия», «дерзость и невоздержность», «имел все пороки» и
т. п.). По сути, это не «назидание» и тем более не «обличение зла»
(если ирония и есть, то невнятная), а простое произнесение стандарт-
ных «приличествующих слов».
Нельзя признать настоящей сатирой и характерное для романа
«Иван Выжигин» смакование придумываемых самим автором (а от-
нюдь не взятых из жизни России) скандальных, грубейших и предельно
вульгарных ситуаций. Монстры, которыми Булгарин населил свое про-
изведение (и которыми он исподтишка любуется), не персонифициру-
ют реальных нравов и отношений, а суть самодостаточные литератур-
но-гротесковые фигуры.
«Патриотизм», который время от времени пытается демонстриро-
вать автор в своем произведении, неискренен, фальшив и сбивается на
откровенную лесть перед власть предержащими. Фальшивы и претен-
зии на «воспитательный» пафос романа.
A.C. Пушкин откликнулся на «Ивана Выжигина» следующей па-
родией (под псевдонимом Ф. Косичкин):
«Глава I. Рождение Выжигина в кудлашкиной конуре. Воспита-
ние ради Христа. Глава II. Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон.
Глава III. Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться!
Глава IV. Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. Гла-
ва V. Ubi bene, ibi patria. Глава VI. Московский пожар. Выжигин гра-
бит Москву. Глава VII. Выжигин перебегает. Глава VIII. Выжигин без
куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш. Глава IX. Выжи-
гин игрок. Выжигин и отставной квартальный. Глава X. Встреча Вы-
жигина с Высухиным. Глава XI. Веселая компания. Курьезный куп-
лет и письмо-аноним к знатной особе. Глава XII. Танта. Выжигин
попадается в дураки. Глава XIII. Свадьба Выжигина. Бедный племян-
ничек! Айда дядюшка! Глава XIV Господин и госпожа Выжигины по-
купают на трудовые денежки деревню и с благодарностию объявля-
ют о том почтенной публике. Глава XV Семейственные неприятности.
Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы.
Глава XVL Видок, или Маску долой! Глава XVII. Выжигин раскаива-
170
ется и делается порядочным человеком. Глава XVIII и последняя.
Мышь в сыре».
Пародия Ф. Косичкина именовалась «Настоящий Выжигин» и на-
мекала на ряд конкретных фактов биографии самого Булгарина, буду-
чи при этом выполнена вполне в духе коллизий пародируемого произ-
ведения1 Прекрасно понимая специфику литературной работы,
A.C. Пушкин явно уловил тщательно затушеванный Булгариным оп-
ределенный психологический и событийный «автобиографизм» обра-
за главного героя. гм -кы-.
«Димитрий Самозванец» Ф.В. Булгарина свидетельствует о пред-
варительной работе автора с историческими источниками, причем он
как поляк имел возможность опереться и на польские материалы. В
роман введено немало реальных подробностей жизни изображаемого
времени. Однако глубокого проникновения в эпоху у автора не получи-
лось. Его Самозванец выглядит как опереточный злодей. Русь изобра-
жается в основном с чисто внешней стороны. Национальный дух рус-
ского народа Бул гарину, видимо, был чужд и остался им непостигнутым.
«Воспоминания» Булгарина в 6 частях (1846—1849) верно вос-
создают ряд черт быта изображаемой эпохи, но малодостоверны в от-
ношении лиц, к которым Булгарин относился отрицательно, — а глав-
ное, мифологизируют его собственную биографию, неприглядные факты
которой либо замалчиваются, либо перетолковываются в нужном ав-
тору свете. Иногда последнее делается им крайне неудачно, что прихо-
дится связывать с зыбкостью его внутренних представлений о порядоч-
ности и непорядочности.
Весьма впечатляющ в данном отношении, например, его собствен-
ный рассказ об участии в сражении с Наполеоном под Фридландом в
составе Уланского полка ( 1807).
Лошадь Булгарина убили, и он, не забыв «отстегнуть чемодан»,
«перелез через плетень и пустился во весь дух бежать в деревню», где
спрятался «за дровами, сложенными стеною». Из-за поленницы он уви-
дел, как один французский драгун «поотстал», и ударил его из-за угла
пикой. Подоспевшие казаки помогли Булгарину сесть на лошадь уби-
того, и он поехал в тыл, где стал деловито рыться в прихваченном «че-
модане французского драгуна».
В конце сражения Булгарин вместе с другими кавалеристами на
лошади форсировал реку. Как он оговоривается, русские пехотинцы
1 В жизни Ф.В. Булгарина действительно имели место однажды совершенная
им в годы офицерства кража, московский пожар, «танта» — тетка булгаринской
жены, покупка мызы в Эстляндии и пр. иФамж
173
«плыли, ухватясь за хвост уланских лошадей». Однако когда один пе-
хотинец попытался пристроиться к Булгарину, тот стал изо всех сил
отпихивать его ногой. Мемуарист утверждает, что пехотинец не уто-
нул, а якобы ухватился за гриву некоей соседней лошади, однако его
собственный коварный, себялюбивый и трусливый нрав ощутим и в
сцене вышеописанного «военного подвига» с драгуном, и в сцене пе-
реправы1. К слову сказать, за Фридланд «храбрец» Ф.В. Булгарин был
награжден — как получивший легкое ранение в область живота.
В 1990-е годы можно было встретиться с отдельными попытками
«переоценки» как личности, так и творчества Ф.В. Булгарина. Ксожа-
лению, объективных оснований для этого не усматривается.
Иван Иванович Лажечников ( 1792-1869) — прозаик, драматург,
поэт, мемуарист; из коломенской купеческой семьи, участник Отече-
ственной войны 1812 г. и заграничного похода русской армии. Издал
напитанные духом карамзинизма «Первые опыты в прозе и стихах»
(1817), а также «Походные записки русского офицера» (1820). Ав-
тор исторических романов «Последний Новик» (1831-1833), «Ледя-
ной дом» (1835), «Басурман» (1838) и др.; пьес «Опричник» (1842),
«Горбун» (1858) и др. *м«;
«Последний Новик» обращен ко временам Петра I. Это произве-
дение отличается редкостной широкоохватностью. Автор явно хотел
нарисовать панораму эпохи и ввел в роман массу персонажей, среди
которых цари, короли, военные деятели, протестантские пасторы, рус-
ские старообрядцы, простые солдаты, жители городов и крестьяне и
т.д.; русские, шведы, немцы и прибалты. В то же время он как писа-
тель-романтик дал полную свободу своему авторскому вымыслу. Ре-
альные исторические деятели выступают рука об руку с вымышленны-
ми, а причины и следствия рисуемых подлинных событий неоднократно
объясняются вмешательством в них таких вымышленных героев (не-
сколько позже во Франции аналогичными придуманными мотивиров-
ками событий станет известен А. Дюма). Вымышленной фигурой явля-
ется и главный герой романа Владимир Новик, тайный сын царевны
Софьи, преследуемый Петром «государственный преступник», поку-
шавшийся на его жизнь, а в конце романа, по выражению Екатерины I,
«благодетель России». Слог первого романа Лажечникова ярок, но ро-
мантически переполнен цветистыми перифразами.
«Ледяной дом» посвящен последнему периоду правления импе-
ратрицы Анны Иоанновны, которая доживает век в Зимнем дворце, ок-
1 Цит. по: Булгарин Ф.В. Записки. Ч. 3. СПб., 1846-1849. ; * - ^ \
17/1
руженная шутами, «карлами» и гадалками. В стране свирепствует вре-
менщик Бирон, жуткий полицейский произвол напоминает времена
опричнины при Иване Грозном. Малороссиянин Горденко, намеревав-
шийся подать жалобу на притеснения временщика, был по его приказу
заживо заморожен. Против бироновщины готовятся выступить каби-
нет-министр Артемий Волынский и несколько русских аристократов,
его единомышленников. На беду свою семейный Волынский страстно
увлечен «гоф-девицей» императрицы Анны Мариорицей, молдаванс-
кой княжной (на самом же деле, как постепенно выясняется, дочерью
цыганки).
Писательский слог Лажечникова во втором романе избавился от
«романтических излишеств», его речевая образность четка по смыслу
и лаконична. Вот каким предстает в его словесном описании Петер-
бург зимы 1739—1740 гг.: «Множество пустырей; домы, будто госпи-
тальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах
и ставшие один от другого в стрелковой дистанции, точно после пожа-
ра; улицы только именем и заборами, их означающими; каналы с дере-
вянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бироновс-
кие ужасы: незавидная картина!»
Это уже напоминает язык сжатой по форме и одновременно се-
мантически насыщенной пушкинской прозы.
Желая порадовать императрицу, Волынский организовал напро-
тив царского дворца строительство сказочного ледяного дома, в кото-
ром предполагается сыграть свадьбу шута и карлицы. Благодаря этому
он вошел в милость у царицы, которая предлагает развести его с женой
и женить на Мариорице. Однако Волынский отказывается разрушить
семью, вызывая гнев капризной Анны. Ситуация еще более запутыва-
ется, когда Мариорица оказалась отравленной по тайному приказу Би-
рона (арестовывают однако Волынского). Политические интриги пе-
реплелись с житейскими, разобраться в их путанице трудно.
Поставленная перед альтернативой: казнить своего любимца Бирона
или Волынского с людьми его партии, императрица выбирает второе.
Патриоты мужественно принимают казнь. Что до ледяного дома, по-
степенно обретшего в сюжетном развитии романа черты емкого сим-
вола, то он рухнул — как рухнет вскоре, после смерти Анны, создан-
ный Бироном уклад. >
Такова в самых общих чертах событийная канва произведения, ко-
торая весьма сложно соотнесена с реальными историческими событи-
ями и ситуациями. Созданный писателем образ того же Волынского
отличает большая художественная сила (как и аналогичный образ в думе
К.Ф. Рылеева «Волынский»). Однако реальный Волынский отнюдь не
175
был русским рыцарем «без страха и упрека». Весьма субъективен и
порою несправедлив Лажечников в отношении некоторых других ре-
альных деятелей времен Анны Иоанновны. Замечательный поэт и фи-
лолог В. К. Тредиаковский изображен в романе откровенно издеватель-
ски. Он превращен в карикатуру — причем молодой Тредиаковский
расхаживает по Петербургу, в соответствии с сюжетом романа, с пух-
лой рукописью поэмы «Телемахида» (на самом деле написанной им лишь
в старости, много лет спустя). Это его произведение также всячески
осмеивается автором «Ледяного дома».
A.C. Пушкин счел необходимым написать И.И. Лажечникову 3 но-
ября 1835 г.: «За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами
поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношени-
ях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он
лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно.
Нельзя его читать без негодования на его мучителя» (Тредиаковский
потехи ради был зверски избит Волынским).
В центре романа «Басурман» трагическая судьба врача Антона
Эренштейна, приехавшего служить Руси в эпоху царя Ивана III. О нем,
давным давно казненном, в прологе рассказывает внуку царя Дмитрию,
посаженному крутым дедом в тюремный застенок, знаменитый купец
Афанасий Никитин, называя Антона «басурманом». Затем повество-
вание возвращается в далекое прошлое. В этом прошлом ведомый же-
ланием служить человечеству Антон приезжает в Москву, приглашен-
ный строящим в ней чудесные храмы зодчим Аристотелем Фиоравенти.
** Антона поселили в доме воеводы Симского, сын которого Иван
Хабар подружился с «немцем», а дочь, прекрасная Анастасия, влюби-
лась в него. Он готов принять православие, а воевода-отец согласен
выдать за него дочь. Однако далее развертывается цепь неожиданных
трагических событий. Антон берется вылечить разбитого конем татар-
ского царевича Каракачу. Тот идет на поправку, однако интригующие
бояре заменяют склянку с питьем, назначенным лекарем больному, на
яд. После смерти Каракачи разъяренные татары требуют выдать им
Антона и режут его под мостом, «как овну». Страдающая невеста Ана-
стасия после этого наложила на себя руки.
И.И. Лажечников имел «жестокий талант»: в монастыре кончает
свои дни Последний Новик, на плахе умирает Волынский, под татарс-
ким ножом смертью мученика гибнет «басурман» Антон. Однако, по
большому счету, трагические финалы его романов более точно соот-
ветствуют характеру изображаемых эпох, чем какой-нибудь «хэппи
энд». Исторические романы Лажечникова сегодня по-прежнему вос-
требованы читателем. Это свидетельствует о том, что в них автором
1 та
достигнута та художественная правда, которая есть необходимое ус-
ловие творчества настоящего писателя.
Орест Михайлович Сомов (1793—1833), писавший под псевдо-
нимом Порфирий Байский, — прозаик, поэт и критик; из обедневшей
малороссийской дворянской семьи, закончил Харьковский универси-
тет, где тогда преподавал крупный филолог, автор «Опыта риторики»
(1809) профессор И.С. Рижский. Совместно с A.A. Дельвигом издавал
альманах «Северные цветы» и «Литературную газету». Опубликовал
ряд сказочно-фантастических повестей и новелл, многие из которых
основаны на мотивах малороссийских народных преданий. Среди про-
изведений О.М. Сомова «Песнь о Богдане Хмельницком — освобо-
дителе Малороссии», «Гайдамак», «Ночлеггайдамаков», «Русалка»,
«Недобрый глаз», «Юродивый», «Бродящий огонь», «Оборотень»,
«Кикимора», «Странный поединок», «Киевские ведьмы», «Сказки
о кладах», «Сказка о Никите Вдовиниче», «Сказка о медведе косто-
ломе и об Иване, купецком сыне», «Приказ с того света» и др. Ста-
тья «О романтической поэзии» (1823) содержит ряд важных идей о
том, в чем состоит «народность» поэтического творчества.
В центре повести «Гайдамак» — образ романтического разбой-
ника Гаркуши, в литературе 1820-х годов составивший также основу
романа В.Т. Нарежного. Гаркуша Сомова в еще большей степени, чем
Гаркуша Нарежного носит черты фольклорного героя.
Начинается «малороссийская быль» О.М. Сомова с красочного
описания Воздвиженской ярмарки, которое напоминает будущие ма-
лороссийские повести Гоголя. В центре толпы «Молодой чумак в си-
нем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо
заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущен-
ным по груди длинными концами, и в красных сафьянных чеботах»,
«чтобы показать свое удальство и богатство», «то расталкивал ногою
плоды у торговок, то бил нарочно стеклянную посуду в ятках — и пла-
тил за всё вдесятеро». За выходками этого этого юного сумасброда мол-
ча наблюдал человек весьма выразительной наружности:
«Длинный оселедец спускался с бритой его головы и закручивался
около уха. Смуглое лицо, правильные черты, орлиный нос, нагибав-
шийся над черными усами, и быстрые, проницательные глаза обличали
в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие,
жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорили о необык-
новенной его силе».
Торговец Гершко, узнавший в нем Гаркушу, предательски доносит
об этом «поветовому судье» пану Ладовичу. Далее следует описанная
12~ Минералов 177
подробно казнь предателя, попавшегося гайдамакам, часть которых,
чтобы «отклонить подозрения», «была одета чумаками, другая русски-
ми купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на яр-
манку». Наконец, в последней четвертой главе рассказывается исто-
рия, как сумел освободиться от пут и бежать, «обморочив» своих
охранников, схваченный Гаркуша.
Одновременно наивная и забавная история чудесного освобожде-
ния «малороссийского Робин Гуда» разительно напоминает народный
анекдот. Сомовское повествование отличается тягой к изображению
колоритных деталей в ущерб сюжетному развитию — так, ни для чего
не пригодился в дальнейшем подробно расписанный образ шикующего
на ярмарке «роскошного молодого чумака» (можно лишь предположить
невнятный авторский намек на то, что он — член ватаги Гаркуши).
Подобные замечания могут быть адресованы и другим произведе-
ниям «Порфирия Байского». Однако не подлежит сомнению, что ма-
лороссийские сюжеты О.М. Сомова и В.Т. Нарежного подготовили
прозу раннего Н.В. Гоголя. Применительно к Сомову это касается не
только его «малороссийскихбылей», но и в особенности «малороссий-
ских небылиц»: «Кикимора», «Оборотень», «Русалка», «Киевские
ведьмы» и др. Стихия народной сказки и народной фантастики была
удивительно органична для О.М. Сомова. Но все же он был писателем,
а не народным сказителем и, как правило, окутывал описываемые вол-
шебные ситуации романтической иронией.
Александр Александрович Бестужев (1797—1837), писавший под
псевдонимом Александр Марлинский, — прозаик, поэт, критик; из ста-
ринного дворянского рода. Будучи гвардейским офицером, принял уча-
стие в восстании декабристов на Сенатской площади в Петербурге. На
следствии Бестужев сломался. Его признания были учтены судом, и он
попал не на каторгу, а на поселение в г. Якутск, откуда был переведен
по его просьбе рядовым в действующую армию на Кавказе. Уже вос-
становив свое офицерство, погиб в бою с черкесами.
В первой половине 1820-х годов A.A. Бестужев был активным ли-
тературным деятелем, приятельствуя с весьма разными людьми (Пуш-
киным, Грибоедовым, Рылеевым, Булгариным и др.). В статье «Взгляд
на старую и новую словесность в России» ( 1823) A.A. Бестужев с ис-
кренним уважением отзывается о вожде «дружины славян» адмирале
A.C. Шишкове: «Когда слезливые полурусские иеремиады наводнили
нашу словесность, он сильно и справедливо восстал противу сей но-
визны в полемической книге "О старом и новом слоге"»1. Первые про-
1 Ъестужев-МарлинскийАЛ. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1958. С. 528-529.
17Ä
изведения Бестужева все же еще вполне сентименталистские («Роман
и Ольга»), но в нем изначально присутствовал и затем постепенно на-
растал критицизм в отношении Карамзина и его школы.
Первое произведение Бестужева-прозаика «Поездка в Ревель»
(подписано: Марлинский) внешне оформлено как очередные «письма
русского путешественника». Этот очерк сочетает наблюдения над жиз-
нью современной автору Прибалтики и экскурсы в ее историю, а также
в историю Руси. «Поездка в Ревель» как бы предвосхищает два основ-
ных направления будущих творческих свершений автора. В художе-
ственной прозе им делались далее опыты в историко-приключенчес-
ком и мистико-фантастическом направлениях — сюда относятся
повести и рассказы «Роман и Ольга», «Замок Венден», «Замок Эй-
зен» («Кровь за кровь»), « Ревел ьский турнир», «Замок Ней гаузен»,
«Изменник», «Гедеон», ««Листок из дневника гвардейского офице-
ра», «Ночь на корабле», «Наезды», «Военный антикварий»,
«Страшное гаданье» и др.
Этого рода сюжетно-тематические ракурсы обычны для романти-
ков. Однако во время своей поездки в город Ревель A.A. Бестужев как
писатель нашел в Ливонии (как тогда нередко поэтически именовали
Прибалтику) свою собственную «рыцарскую» старину, отталкиваясь
от реалий которой, он создал целый цикл «ливонских» повестей. Дос-
таточно напомнить, что один из исторических эпизодов, зафиксирован-
ных им в «Поездке в Ревель», был впоследствии сюжетно преобразо-
ван в самостоятельное чисто художественное произведение — повесть
«Ревельский турнир».
В «Ревельском турнире» друг друга любят отважный купеческий
сын «белокурый статный юноша» Эдвин и «прелестнейшая девушка»
дочь барона Буртнека Минна: «Эдвин был развязен, пылок, умен, Мин-
на — чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать и чувствовать, а
рыцари ливонские могли только смешить и редко-редко забавлять. Она
любила — он возбуждал мысли высокие, говорил с жаром, если не с
красноречием, и увлекал, если не убеждал».
Эта «ливонская» вариация образа «Ивана, купецкого сына», из-
вестного русскому фольклору (а в прозе 1820-х годов на свой лад во-
площенного О.М. Сомовым), в соответствии с логикой данного образа
несет в себе черты незаурядности и разнообразных талантов героя, воз-
вышающих его над окружающими. Про Эдвина далее сообщается, на-
пример:
«Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским и
образованностию, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии,
которые росли на охоте, мужали в разбоях, рыцарей, неприветливых с
12* 179
дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих
напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в
их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, сво-
ей верности, Эдвин говорил ей о ней самой».
Соединению юноши и девушки мешает их сословное неравенство.
Однако и эту преграду преодолевает прекрасный Эдвин! Отец Минны
объявил, что выдаст дочь за того, кто победит на турнире рыцаря Ун-
герна, который «отнял неправдою» у него землю. Эдвин, не будучи
рыцарем, не мог участвовать в турнире. Однако он с опущенным заб-
ралом «стрелой перелетел» на коне решетку, ограждавшую арену тур-
нира, и вступил в «смертный бой» с Унгерном. Победив, неизвестный
рыцарь деловито потребовал от Унгерна в обмен на жизнь отказаться
от неправедно присвоенной земли отца Минны.
Когда Эдвину пришлось открыть свое лицо, сначала разразился
конфликт между дворянской и купеческой частью публики. Но в конце
концов старый барон Буртнек назвал победителя своим зятем.
Исторически реальное происшествие, положенное в основу пове-
сти, как сообщает сам A.A. Бестужев, «было в 1538 г., то есть лет пят-
надцать спустя после введения лютеранской веры». В общих чертах оно
описано в Ливонской хронике Руссова. Бестужев создал на его основе
весьма живой и динамично развивающийся сюжет со многими персо-
нажами, живыми диалогами и яркими описаниями. Тем не менее
A.C. Пушкин писал автору в 1825 г. из Михайловского:
«Твой Турнир напоминает Турниры W. Scotta. Брось этих немцев и
обратись к нам, православным; да полно тебе писать быстрые повес-
ти с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байрони-
ческой. Роман требует болтовни; высказывай всё на чисто. Твой Вла-
димир говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь,
etc. Но описание стана Литовского, разговор плотника с часовым пре-
лесть; конец также. Впрочем, везде твоя необыкновенная живость».
К этому можно добавить, что впоследствии критик В.Г Белинский,
с позиций натуральной школы и нарождающегося реализма резко кри-
тиковавший Марлинского (как и ряд других романтиков), небезосно-
вательно утверждал, что даже «его Русь жестоко отзывается его завет-
ной, его любимой Ливонией».
Переходя к образу Владимира, Пушкин имеет в виду повесть Бес-
тужева «Изменник», действие которой относится к дням Смутного вре-
мени начала XVII в. Князь Владимир Ситцкий возненавидел родной
Переяславльза то, что горожане объявили воеводой его младшего брата
Михаила, которому досталась и рука Елены, дочери прежнего воеводы
(ее любил и Владимир): «Бешенство, ревность, месть пылали в Ситц-
1АП
ком; они одолевали совесть». Штурмуя родной город вместе с поляка-
ми, Владимир застрелил Михаила, но свалился, «проколотый сам дву-
мя копьями».
Пушкин в цитированном выше письме иронизирует над тем, что
ночью, когда изменник Владимир умирал от ран, то «огнем палило сол-
нце его раны и жаждою уста», — то есть дает понять, что бестужевс-
кая метафора предсмертных мук неудачна в силу своей не замеченной
автором внутренней противоречивости (солнце ночью). Впрочем, это
характерный случай прочтения метафоры романтика глазами реалис-
та — сходным образом Пушкин в письме В.К. Кюхельбекеру (1—6
декабря того же 1825 г.) демонстративно отказывается принять его ме-
тафору «Пас стада главы моей», язвительно спрашивая: «Вшей?»
Если полноценно учитывать и не оспаривать ту художественную
условность, на читательское осмысление и понимание в рамках кото-
рой рассчитана вся эстетика романтизма, тогда образность A.A. Бесту-
жева (как, например, и Кюхельбекера) предстает мотивированной и по-
своему яркой.
Бестужев любил вычурные перифразы. Вот как описываются де-
тали интерьера дома барона Буртнека в «Ревельском турнире»: «Зала,
в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и
червяки вывели предивные узоры. По углам, со всех панелей развева-
лись фестонами кружева Арахны».
Так условная словесная образность писателя-романтика преобра-
жает реальный облик изъеденных червями досок и пыльной паутины в
углах. A.A. Бестужев также любил употреблять малоизвестные диалек-
тизмы, неологизмы и иные «странные» языковые средства.
Став осужденным «государственным преступником», писатель по
цензурным условиям публиковался в качестве Марлинского. Кавказ дал
ему новые темы и новых героев. Новые повести Марлинского «Вечер
на Кавказских водах в 1824 году», «Аммалат-бек», «Рассказ офи-
цера, бывшего в плену у горцев», «Мулла-Hyp», «Он был убит» и
др., очерки «Прощание с Каспием», «Путь до города Кубы», «Пере-
езд от с. Топчи в Куткаши», «Дорога от станции Алмалы до поста
Мугансы» и другие свидетельствуют о росте силы его таланта. В них он
объективно выступает предшественником М.Ю. Лермонтова («Герой
нашего времени») и Л.Н. Толстого («Набег», «Казаки», «Кавказский
пленник»). Писатель, в юности мечтавший стать моряком, как его брат
Николай Бестужев, пишет также о русских мореплавателях — повес-
ти «Лейтенант Белозор», «Мореход Никитин». Близко к ним стоит
«Фрегат "Надежда"», однако здесь в центре повествования любовь,
приводящая к трагическим последствиям.
181
Весьма выразительны кавказские образы А. Марлинского. Амма-
лат-бек — предатель, убивший русского полковника Верховского, ко-
торый «воспитывал его, любил его, как брата», бесславно погибает
при осаде горцами русской крепости. Дагестанец Мулла-Hyp — ре-
альное лицо. Марлинский изображает его как романтического «благо-
родного разбойника» (своего рода кавказского «Гаркушу»). ч
Рассказ Марлинского «Страшное гаданье» — одно из лучших в
русской романтической прозе произведений с мистико-фантастическим
сюжетом. Хотя в его финале вся страшная «дьяволиада», в которую
легкомысленно дал себя втянуть герой-офицер, влюбленный в замуж-
нюю женщину Полину, оборачивается всего лишь сном — сон этот
многое перевернул в его душе. Сюжет разворачивается на фоне крес-
тьянских святочных гаданий, таинственная атмосфера которых схваче-
на и передана писателем необыкновенно живо. Прекрасный рассказ
Марлинского законно поместить в тот же ряд, что балладу В.А. Жу-
ковского «Светлана» и повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Стихи A.A. Бестужев писал в различные периоды своего творче-
ства. Среди них следует отметить неоконченную повесть в стихах «Ан-
дрей, князь Переяславский», «якутскую балладу» «Саатырь», сти-
хотворения «Михаил Тверской», «Череп», «Часы» и др. q
Александр Фомич Вельтман (1800—1870) — прозаик, поэт; сын
офицера, окончил школу колонновожатых и служил в армии (находил-
ся в Кишиневе одновременно с Пушкиным), выйдя в отставку подпол-
ковником. Впоследствии был директором Оружейной палаты Кремля.
Автор повестей и романов «Беглец» (1831), «Странник» (1831 —
1832), «Муромские леса» ( 1831 ), «Неистовый Роланд» ( 1835) и др.;
исторических и сказочно-фантастических романов «MMMCDXLVI1I
год, рукопись Мартына Задеки» (1833), «Кощей бессмертный»
(1833), «Святославич, вражий питомец» (1835), «Лунатик» (1836),
«Александр Филиппович Македонский» (1836), «Ротмистр Черно-
книжников, или Москва в 1812 г.» ( 1837), «Сердце и Думка» ( 1838),
«Новый Емеля, или Превращения» (1845) и др.; цикла поздних рома-
'нов «Приключения, почерпнутые из моря житейского» («Саломея»,
«Чудодей», «Воспитанница Сарра», «Счастье-Несчастье»).
A.C. Пушкин так выразился в письме E.H. Хитрово 8 мая 1831 г.:
«Посылаю вам, сударыня, "Странника", которого вы у меня просили.
;В этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант».
Для романа «Странник» характерно прихотливое сочетание про-
зы со стихотворными вкраплениями, нарочитая фрагментация, «раз-
бросанность» текста, преднамеренно запутывающие действие систе-
матические сюжетные отступления, вставные новеллы и инсцениров-
ки, различные виды «перевернутой» композиции и иные проявления
«стилевой пестроты». По словам Странника, «все уже выдумано, все
сказано, все написано, поэтому возможно только по-своему тасовать —
как в калейдоскопе — придуманное до тебя другими». Повествование,
почти неизменно проникнутое романтической иронией, содержит ал-
люзии-отсылки к «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна. Стран-
ник путешествует то реально, то по географической карте — но в духе
того же Стерна с озорством затуманивает характер своих путешествий
путаными многословными тирадами по их поводу. Время от времени
Странник как бы проговаривается на тему своей любви к некоей жен-
щине, но эта история сознательно растворена в словесных эскападах,
хотя как бы иллюстрируется стихотворными вставками.
Многое из проявлений «стилевой пестроты» можно найти и в дру-
гих произведениях Вельтмана — например, в романе «Кощей Бессмер-
тный» (подзаголовок — «Былина старого времени») или в романе
«Сердце и Думка». Повесть «Неистовый Роланд» содержит любо-
пытную вариацию сюжета гоголевского «Ревизора»: в ней за важное
лицо провинциальные чиновники принимают заезжего актера, приго-
товившегося играть роль неистового Роланда, но недалеко от города
помятого лошадьми и помутившегося рассудком.
Во всех произведениях автор сыплет остротами и каламбурами
(«Долго взор мой, как взор султана, блуждал по гарему книг», «На-
смотревшись вдоволь на Черное море и не заметив в нем ничего черно-
го, я заехал в Арсенал», «Время летит, пробки летят; кипит молодость,
кипит и шампанское» и т. п.).
Творчество А.Ф. Вельтмана вызывает неизменный интерес лите-
ратуроведов: отзвуки его писательских приемов обнаруживаются у раз-
личных творивших впоследствии художников слова — например, в свое
время В.Ф. Переверзев в результате рассмотрения его поздних рома-
нов прямо называл Вельтмана «предтечей Достоевского», указывая на
особенности психологии его героев, их «двойничество» и т. п. черты1
Однако переизбыток разнообразных экстравагантных черт объектив-
но усложняет читательский контакт с творчеством А.Ф. Вельтмана.
Николай Филиппович Павлов (1805—1864) — прозаик, поэт; сын
вольноотпущенника, закончил Московский университет, был мужем
поэтессы Каролины Павловой. Автор книги «Три повести» (1835),
1 Переверзев В.Ф. Предтеча Достоевского//Московский понедельник. 1922.
Сентябрь.
183
включавшей повести «Именины», «Аукцион» и «Ятаган». В 1839 г.
вышли «Новые повести» Павлова: «Маскарад», «Демон» и «Мил-
лион». «Четыре письма к Н.В. Гоголю» ( 1847) близки по характеру
развиваемых идей к «Письму к Гоголю» В.Г. Белинского.
Основное повествование в «Именинах» имитирует рукопись не-
коего N. В ней описана его случайная встреча с израненным в сраже-
ниях офицером, который в момент откровенности рассказал N о своей
молодости. Он был талантливым музыкантом и служил учителем в доб-
рой помещичьей семье. Дочка хозяев Александрина влюбилась в него.
Однако герой был крепостным человеком, и хозяин как раз проиграл
всю деревню, к которой он был приписан. Герой бежал, и был, как бес-
паспортный, отдан в солдаты, сумев затем личным героизмом из рядо-
вого арестантских рот пробиться в штаб-ротмистры.
Финал истории трагичен: рассказчик зазвал понравившегося ему
офицера в свое поместье как раз в день именин жены. Когда она спус-
тилась к гостям, офицер узнал в ней Александрину. Результатом стала
дуэль, на которой N убил офицера.
Повесть «Аукцион» даже в ряду отличавшейся лаконизмом прозы
пушкинского времени бьет рекорды краткости: это история из жизни
высшего света, суть которой в том, что герой по-светски унижает не-
верную возлюбленную, а она затем по-светски демонстрирует ему, как
мало он ее задел. Основная часть этой истории комически обрамляется
репликами князя, мужа героини: «А на аукцион» — «А я с аукциона».
Время действия повести «Ятаган» автор очерчивает так: «Это
случилось в те недавние годы, как женские лифы были короче и как
военные, кроме армейских пехотных офицеров, торжествовали на всех
сценах: от паркета вельможи до избы станционного смотрителя. Мун-
дир брал в полон балы и не дожидался лошадей. Для мундира родители
сажали сына за математику и хлопотали с дочерью; для мундира лелея-
ла девица богом данную ей красоту; для мундира юноша собирался
жить»1.
О тех же «недавних годах» моды на «мундир», на военную профес-
сию упоминается в монологе Чацкого «Асудьи кто?..» из комедии «Горе
от ума» A.C. Грибоедова. Это первые годы после возвращения русской
армии из заграничного похода 1813—1814 гг.
В день рождения мать вручила сыну, только что произведенному в
корнеты, кинжал, отнятый в бою у турецкого паши прапрадедом, — по
примете взяв с сына грош, чтобы это не было подарком («кинжалами
1 Сходным образом начинается написанная многим позже «Ятагана» повесть
молодого Л.Н. Толстого «Два гусара» ( 1856).
не дарят»). Кинжал (турецкий ятаган) — ключевой для сюжета повес-
ти предмет, и автор специально задерживает на нем внимание:
«Ножны кинжала, покрытые облинялым бархатом, были перехва-
чены в двух местах золотыми бляхами. У слоновой рукоятки, раздвоен-
ной сверху, обложенной дорогими камнями неискусной грани, осыпан-
ной жемчугом, недоставало нескольких украшений: камни повыпадали,
жемчуг затерся, но на прихотливом оружии все еще уцелело клеймо
роскоши и азиатской красоты».
Достоинства этого кинжала обсуждает в княжеском имении ком-
пания, в которой трое мужчин влюблены в красавицу княжну, а она все
более явно интересуется юным корнетом. Остальные двое — адъю-
тант и полковник — каждый на свой лад скрывают ревность. Потом
происходит дуэль корнета с адъютантом, за убийство на которой юный
обладатель ятагана оказывается разжалован в солдаты: больше «не
было ни корнета, ни адъютанта». Бывший корнет Бронин попадает в
подчинение к другому своему сопернику — полковнику.
Офицерская среда того времени с сочувствием относилась к раз-
жалованным; их положение старались максимально облегчить и помо-
гали при первой возможности вернуть эполеты. Полковник встретил
бывшего корнета со словами:
«— Здравствуйте! Мы с вашей матушкой вдали вас давно. Мне
очень жалко, что с вами так случилось, да мы не заставим вас служить
по-нашему. — Тут полковник обернулся к адъютанту:
— Держать его в штабе.
— Благодарю вас за ваше снисхождение, — сказал солдат».
В душе полковник учитывал при этом: «Судьба закинула корнета
далеко от княжны, солдат не может быть соперником».
Однако в красавице княжне не угасла любовь к бывшему корнету:
«В нем видела она не грубого солдата под серой шинелью: для нее
это был солдат романсов, солдат сцены, солдат, который при свете ме-
сяца стоит на часах и поет, посылая песню на свою родину, к своей ми-
лой».
Полковник стал мстительно преследовать солдата Бронина и од-
нажды, взбешенный, отдал приказ о его телесном наказании. Устыдив-
шись, он отменил его в самом начале экзекуции, после первых ударов.
Однако вскоре после этого, встретив полковника в толпе возле церк-
ви, оскорбленный Бронин пронзил обидчика ятаганом.
Полковника похоронили с воинскими почестями, а солдата забили
шпицрутенами, пропустив сквозь строй.
В «Новые повести» автор привнес немало романтической «зыб-
кости» и туманных намеков, уже выходивших из литературной моды и
185
неоправданно затемнивших их сюжетное развитие. Как следствие, эти
произведения уже не имели того огромного успеха у современников,
что «Три повести». В то же время социальная сатира Павлова, лишь
слабо намеченная в «Аукционе», проявила себя здесь настолько брос-
ко и сильно, что, например, явно послужила импульсом для некоторых
творческих решений Н.В. Гоголя (так, ряд коллизий повести «Демон»
получил отзвук в «Шинели»).
Н.Ф. Павлов — один из наиболее ярких прозаиков пушкинской
эпохи, повести которого не утратили своего высокого художественного
значения и сегодня.
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ
(1803-1869)
Князь Владимир Федорович Одоевский — прозаик, критик, фи-
лософ, педагог, музыковед, композитор, изобретатель; по отцу проис-
ходил из старинного московского дворянского рода, родители матери
В.Ф. Одоевского были крепостными крестьянами. Двоюродный брат
поэта-декабриста А.И. Одоевского. Закончив Московский универси-
тетский благородный пансион, совместно с поэтом Д.В. Веневитино-
вым создал в Москве философское «Общество любомудрия» (в духе
времени общество было «тайным») и сделался его ключевой фигурой1.
Непрестанно продолжая совершенствоваться в науках, стал одним из
образованнейших людей. Был прекрасным музыкантом (пианистом и
органистом).
В 1826 г. переехал в Петербург и поступил на государственную
службу. Дом Одоевского на долгие годы превратился в место общения
весьма ярких людей. Как вспоминал современник, «здесь сходились
веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими сузившимися глазками,
толстый путешественник, тяжелый немец — барон Шиллинг, возвра-
тившийся из Сибири, и живая миловидная графиня Ростопчина, Глин-
ка и профессор химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознаю-
щий археолог Сахаров, Крылов, Жуковский, Вяземский были
постоянными посетителями. Здесь впервые явился на сцену большого
света и Гоголь...»2 В 1840-е годы Одоевский направлял энергичную де-
ятельность «Общества посещения бедных просителей», материально
1 О термине «любомудрие» академик П.Н. Сакулин писал: «Это весьма ста-
рый термин, обычный в литературе XVIII в., особенно у масонов и мистиков»; «ми-
стики предпочитали говорить «любомудрие», потому что настоящая мудрость дос-
тупна только одному Богу» (Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Князь
В.Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913. Т. I. Ч. 1-2. Ч. 1. С. 105).
2 Погодин М.П. Воспоминания о князе Владимире Федоровиче Одоев-
ском //В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. М., 1969. С. 57.
»87
поддерживавшего десятки тысяч семей (под разными названиями про-
существовало около десяти лет).
В начале 1860-х годов Одоевский вернулся в родную Москву в ка-
честве сенатора, отклонив гораздо более высокий пост в Петербурге.
Здесь, как и ранее, он до последних дней занимался активнейшей об-
щественной деятельностью, завоевав огромный моральный авторитет.
Неизменно с острым болезненным чувством относясь к крепостному
праву, стал одним из горячих сторонников реформ Александра II.
Западную цивилизацию князь Одоевский считал прогнившей, од-
новременно укоряя горячо любимый им русский народ за «рукавоспус-
тие». Как следствие такой жизненной позиции, он имел близких друзей
среди наиболее талантливых представителей как славянофилов, так и
западников.
В числе первых произведений В.Ф. Одоевского — переводы и пуб-
лицистика («Письма к лужницкому старцу»). Затем он стал автором
ряда рассказов и повестей, многие из которых отличаются мистически-
ми или научно-фантастическими мотивами, — «Бал», «Бригадир»,
«Импровизатор», «Город без имени», «Последнее самоубийство» и
др., «пестрых», окрашенных романтической иронией сказок, иногда с
сатирическим подтекстом, — «Сказка о мертвом теле, неизвестно
кому принадлежащем», «Сказка о том, как опасно девушкам ходить
толпою по Невскому проспекту», «Новый Жоко», «Деревянный
гость, или Сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле», «Ре-
торта», «Индийская сказка о четырех глухих», «Душа женщины»,
«Игоша», «Необойденный дом» и др., классических детских сказок
«Городок в табакерке», «Мороз Иванович» и др. Произведения это-
го рода объединялись Одоевским в циклы «Пестрые сказки с крас-
ным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, ма-
гистром философии и членом разных ученых обществ, изданные
В. Безгласным», «Сказки дедушки Иринея» (к ним примыкают напи-
санные со специально педагогическими целями «Грамотки дедушки
Иринея»).
Многие произведения Одоевского из вышеупомянутых циклов на-
писаны в яркой сказовой манере. В.И.Даля поражала афористичность
их языка, часто напоминающего подлинные народные пословицы.
По воспоминаниям МП. Погодина, еще в середине 1820-х годов
Одоевский «пристрастился к сочинениям мистиков средних веков»1.
1 Погодин МЛ. Воспоминание о князе Владимире Федоровиче Одоевском.
1869 года, апреля 13// В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. М.,
1869. С. 52.
Это дало чисто творческие следствия — как прозаика его не раз назы-
вали «русским Гофманом». Мистическая фантастика и сказки Одоевс-
кого отличались от внешне похожих по жанру произведений А. Пого-
рельского или О. Сомова наличием мощного социального разворота.
Таковы были ярко своеобразные «Пестрые сказки» Одоевского ( 1834).
«Пестрые сказки» творчески отозвались в интонациях фантастическо-
го гоголевского «Носа», а также повестей «Портрет» и «Невский про-
спект». (Аналогичным образом сюжет «Бригадира» через много лет
немало подскажет Л.Н. Толстому в период работы над «Смертью Ива-
на Ильича»)
Автор важнейшей монографии о В.Ф. Одоевском академик
П.Н. Сакулин, анализируя текст «Пестрых сказок», отмечал: «Здесь
важны два момента: во-первых, признание первостепенной важности
поэтических стихий вместе с убеждением, что славянин неизмеримо бо-
гаче ими, чем француз, англичанин и даже немец»1.
Смысл этой реплики глубок. Еще в XIX в. В. Гумбольдт сделал вы-
вод, что разные национальные культуры не в равной степени предрас-
положены к развитию в литературе прозаического и поэтического на-
чал, подчеркнув, что «каждому языку легко и естественно удаются лишь
определенные роды стилей»2. При этом проза и поэзия (у Сакулина —
«поэтические стихии») понимались Гумбольдтом не как два формаль-
но-структурных феномена, а как две различных семантических систе-
мы, обладающие глубокими качественными различиями в присущих им
способах развития мысли. Позже идеи этого рода развивал у нас в сво-
их трудах A.A. Потебня3.
Написанные во второй половине 1830-х годов повести «Саламан-
дра», «Сильфида» и «Косморама» в жанровом плане выглядели как
совершенно новое для русской литературы явление (мотивы из «Силь-
фиды» впоследствии преломились в мистической повести И. С. Турге-
нева «Призраки»). Мистическая фантастика утратила здесь самоцен-
но-беллетристический характер, став, по сути, инструментом развития
сложных философских идей. *t*f*
Герой «Сильфиды» Платон Михайлович, унаследовав имение сво-
его дядюшки, нашел в запечатанных шкафах «на мезонине» целую биб-
лиотеку книг «Парацельсия, графа Габалиса, Арнольда Виллановы,
1 Сакулин П.И. Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыс-
литель. Писатель.Т. I. Ч. 2. С. 31.
2 См.: Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 178.
3 См. подробнее: Минералов Ю.И. Теория художественной словесности.
М., 1999.
189
Раймонда Луллия и других алхимиков и кабалистов» и, подобно само-
му Одоевскому, пристрастился к чтению «о первой материи, о всеоб-
щем электре, о душе солнца, о северной влажности, о звездных духах и
о прочем тому подобном». В письме в город другу этот герой, носящий
имя древнегреческого философа, говорит: «Мы, гордые промышлен-
ники XIX века, мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не
хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих младен-
чество физики, я нашел много мыслей глубоких; многие их этих мыс-
лей могли казаться ложными в XVIII веке, но теперь большая часть из
них находит себе подтверждение в новых открытиях». *
* Параллельно Платон Михайлович переживает увлечение дочерью
соседа Катенькой и даже делает ей предложение. Но тут он начинает
наблюдать, как бирюзовый перстень, брошенный им в вазу с водой по
древнему кабалистическому рецепту, сначала рассыпается на голубые
и золотые искры, затем превращается на дне сосуда в «пышную розу»,
и, наконец, в чашечке цветка является лежащая крошечная женщина.
Тогда он сообщает другу, что «прерывает сношения с людьми», так как
«предназначен к великому в этой жизни» и отныне намерен «исследо-
вать до конца все таинства природы».
-*-"<*Вскоре друг получает также письмо от отца Катеньки, считающе-
го, что жених заболел, и, захватив знакомого доктора, едет в деревню.
Они сажают больного в некую «бульонную ванну», затем, несмотря на
его протесты, поят микстурой, и тот идет на поправку, все более охотно
предаваясь с другом воспоминаниям о бурной юности.
« Друг же читает чем дальше, тем все более фантастические записи
из его «журнала», посвященного общению с женщиной из цветка. За-
писи все более отрывочны: в конце следуют бессвязные слова «лю-
бовь... растение — электричество... человек... дух...», а самые «после-
дние строки были написаны какими-то странными неизвестными мне
буквами и прерывались на каждой странице».
Платона Михайловича привели в чувство и женили на Катеньке.
Однако, посетив его через несколько месяцев, друг неожиданно услы-
шал от него целую отповедь:
m* «Ты очень рад, что ты, как говоришь, меня вылечил, то есть загру-
бил мои чувства, покрыл их какою-то непроницаемою покрышкою, сде-
лал их неприступными для всякого другого мира... А может быть, я ху-
дожник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть
ни поэзия, ни музыка, ни живопись, — искусство, которое я должен
был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков».
Впрочем, роняет друг, «это был его последний припадок», затем
Платон Михайлович стал «совершенно порядочным человеком: завел
МОП
псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство, мастер-
ски выиграл несколько тяжеб по землям (у него чересполосица); здо-
ровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и препорядочное брюш-
ко» (вдобавок он пьянствует и пристает к горничным).
Герой повести «Косморама» в возрасте «не более пяти лет» полу-
чил в подарок от доктора Бина игрушку в виде «коробки, облепленной
цветною бумажкою, на которой золотом были нарисованы цветы, лица
и разные фигуры». Через круглое стекло он увидел внутри коробки ряд
комнат и движущихся людей, среди которых свою молодую замужнюю
тетушку, обнимающую белокурого офицера. Вскоре этот офицер ре-
ально появился в их доме в качестве Поля, «дальнего братца» тетуш-
ки. Затем героя отправили в пансион, тетушка с Полем оказалась в
Швейцарии, а сметливый и наблюдательный дядюшка почему-то один
уехал в Симбирск, где и скончался, сделав героя «по себе единствен-
ным своим наследником» (то есть ничего не оставив жене).
Взрослым герой приезжает обратно в Москву «с самым байрони-
ческим расположением духа и с твердым намерением не давать прохода
ни одной женщине». Дом дядюшки теперь его. Среди вещей времен
детства он находит космораму и снова видит ряд комнат, а в отдален-
ной — самого себя: «Я стоял возле прекрасной женщины и говорил ей
самые нежные речи, которые глухим шепотом отдавались в моем слу-
хе...» Никто из окружающих героя не видит этого. Доктор Бин щупает
пульс героя, подозревая нездоровье, а одновременно двойник доктора
Бина в космораме говорит: n>ru ,
«...Не верь мне в твоем мире. Там я сам не знаю, что делаю... Там я
подарил тебе игрушку, сам не зная для чего, но здесь я имел в виду пре-
достеречь твоего дядю и моего благодетеля от несчастия, которое гро-
зило всему вашему семейству (то есть доктор из другого мира рассчи-
тывал, что в космораму заглянет дядюшка. — ЮМ.). <...> С той минуты
я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную спо-
собность, с той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая все-
гда будет открываться для тебя неожиданно, против твоей воли, по за-
конам, мне и здесь непостижимым. Злополучный счастливец! Ты — ты
можешь все видеть, — все, без покрышки, без звездной пелены, кото-
рая для меня самого там непроницаема».
Обеспокоенный доктор велел уничтожить космораму, но дар, о ко-
тором рассказал его двойник, сохранился у героя. Молодой человек
вскоре пережил два увлечения — чистой душой девушкой Соней, доче-
рью своего дальнего родственника князя Милославского, и Элизой,
женой графа Б. Второе увлечение происходит на фоне мрачной мисти-
ческой истории: граф умер от «нервической горячки», затем явился
191
жене во сне и заявил, что не даст ей найти новое счастье, скоро вернет-
ся на землю, а с ним «весь ад» двинется на ее «преступную голову».
Ценой увлечения Элизы героем повести будет гибель ее самой и их де-
тей.
Начинается буря, и граф действительно появляется. По словам
героя: «Я видел, как толпа частию вела, частью несла его; я видел его
бледное лицо; я видел его впалые глаза, с которых еще не сбежал сон
смертный... Я слышал крики радости, изумления, ужаса окружающих...
Я слышал прерывистые рассказы о том, как ожил граф, как он поднял-
ся из гроба, как встретил в дверях ключаря, как доктор помогал ему...
Итак, это было не видение, но действительность! Мертвый возвращался
нарушить счастье живых...»
Вдобавок данный герою дар ясновидения позволяет ему заглянуть
в прошлое графа и рассмотреть, «как над изголовьем его матери, в ми-
нуту его рождения, вились безобразные чудовища и с дикою радостью
встречали новорожденного» и как он впоследствии творил разные гнус-
ности, орудием которых сделал и Элизу.
Герой запасся книгами о магнетизме: с его стола «не сходили»
«Пьюсепор, Делез, Вольфарт, Кизер» — то есть мыслители из того
же ряда, что в «Сильфиде» (в реальности их книги штудировал в уче-
ных целях сам автор, В.Ф. Одоевский). Однажды герой едет к Элизе,
но в разгар откровенных признаний, когда она описывает герою свою
ужасную жизнь после воскресения мужа, сквозь запертую дверь вхо-
дит граф. Платье на Элизе вспыхивает, начинается страшный пожар:
«"Дети! дети!" — вскричала Элиза отчаянным голосом. иИ он с
нами!" — отвечал мертвец с громким хохотом».
В дыму и пламени промелькивает лицо грустно улыбающейся Со-
фьи: «Я невольно следовал за нею... Где пролетало видение, там пламя
отгибалось, и свежий душистый воздух оживлял мое дыхание... Я все
далее, далее...»
Затем герой приходит в себя дома на постели. Знакомый сообща-
ет, что в доме графа «все сгорело: он сам, жена, дети, дом — как не
бывали; полиция делала чудеса, но все тщетно: не спасено ни нитки;
пожарные говорили, что отрода им еще не случалось видеть такого по-
жара: уверяли, что даже камни горели. В самом деле, дом весь рассы-
пался, даже трубы не торчат...»
Придя в себя после потрясения, герой узнает, что за время его бо-
лезни умерла и Софья, на теле которой обнаружились как бы следы
страшных ожогов. Герою она велела передать листок из своей запис-
ной книжки, на котором было написано: «Высшая любовь страдать за
другого...» Далее девушка писала: «Твой путь еще долог, и его конец от
1 ГкГ»
тебя зависит. Вспомни слова мои: чистое сердце — высшее благо; ищи
его».
Дальнейшая жизнь героя превратилась в непрестанное мучение:
«Кто начинал разговор со мною, через минуту старался его окончить; в
обществах люди как будто оттягивались от меня непостижимою силою,
перестали посещать меня; слуги, несмотря на огромное жалованье и
на обыкновенную тихость моего характера, не проживали у меня более
месяца; даже улица, на которой я жил, сделалась безлюднее; никакого
животного я не мог привязать к себе; наконец, как я заметил с ужасом,
птицы никогда не садились на крышу моего дома... в деревнях несчас-
тия следовали за несчастиями; со всех сторон против меня открылись
тяжбы, и старые, давно забытые процессы возобновились...»
Прибегнув к своему дару ясновидения, он увидел, что «в другом
мире» все его здешние враги молят его о пощаде. С этого момента
«дверь» в тот мир почему-то осталась открытой:
«Я покинул все мои связи, мое богатство; в небольшой, уединен-
ной деревне, в глуши непроходимого леса, незнаемый никем, я похоро-
нил себя заживо; я боюсь встретиться с человеком, ибо всякий, на кого
смотрю, занемогает; боюсь любоваться цветком — ибо цветок мгно-
венно вянет пред моими глазами... Страшно! страшно!.. А между тем
этот непонятный мир, вызванный магическою силою, кипит предо мною:
там являются мне все приманки, все обольщения жизни, там женщи-
ны, там семейство, там все очарования жизни; тщетно я закрываю гла-
за — тщетно!..
Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание — кто знает! <...> Роко-
вая дверь отворена: я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я
поневоле там действователь, я там — ужасно сказать, — я там орудие
казни?»
Доктор Бин неизменно видит в злоключениях героя лишь «игру
воображения» и воплощает в повести «научную» точку зрения на про-
исходящее. Это та наука, которая впоследствии, к середине XIX в.
в основном оформилась под эгидой позитивизма, и всегда не удовлет-
воряла Одоевского как философа — о ней он наиболее развернуто выс-
кажется в «Русских ночах» (1842).
К сожалению, бросается в глаза, что в «Космораме», как и в «Силь-
фиде», «другой мир» включает в себя много темной мистики, но не
включает идеи Бога (в «Космораме» упоминаются и «силы ада», но
божественные силы им здесь явственным образом не противостоят).
Понятным образом, не задумывается о Боге и ученый доктор Бин. Так
расставил акценты сам Одоевский. Помимо чисто художественно-твор-
ческих объяснений этого факта, можно предположить и неизжитые им
1«3 — Минералов 193
ко времени написания «Косморамы», как и «Сильфиды», воззрения,
свойственные юношам-любомудрам.
Суть любомудрия П.Н. Сакулин усматривал в волюнтаристской по-
пытке «из философии сделать религию» — опираясь в этом понимании,
например, на воспоминания любомудра А. Кошелева, что «Христианс-
кое учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для
нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу и его творения
мы считали много выше Евангелия и других священных писаний»1.
Реалистические «светские повести» Одоевского «Княжна Мими»
(1834) и «Княжна Зизи» (1839) параллельно явили читателю Одоев-
ского как мастера современной темы, как прозаика более обычного
склада, поставив его в один ряде Пушкиным-прозаиком. В.Г. Белинс-
кий оценивал эти произведения Одоевского весьма высоко.
Как говорит повествователь, для девушки из света «всякая жен-
щина делается личным врагом, а первым качеством в мужчине — удо-
боженимость».
Обозленная личными неудачами героиня повести «Княжна
Мими», которой уже «гораздо за тридцать» (то есть старая дева), яв-
ляется душой сообщества светских сплетниц. Ее сообщество «ничего
не боится — ни законов, ни правды, ни совести». Княжна издавна за-
видует молодой баронессе Дауерталь, верной жене пожилого мужа.
Барон безмерно доверяет жене, и подступиться к ней со сплетнями
сложно. Но вот княжна Мими замечает однажды, как баронесса про-
танцевала с вернувшимся из-за границы молодым человеком Габриэ-
лем Границким (у того тайный роман с совсем другой замужней женщи-
ной по имени Лидия ). Распускается сплетня, в результате чего младший
брат старого барона решает вызвать на дуэль своего друга Границкого.
Хотя после объяснения друзья понимают, что оказались перед незри-
мыми клеветниками, они решают действовать в соответствии со светс-
кими условностями: выйти на дуэль и легко оцарапать друг друга:
«Они стали к барьеру. Раз, два, три! — пуля Границкого оцарапа-
ла руку барона; Границкий упал мертвый».
Потом умерла потрясенная баронесса. Когда некий молодой чело-
век имел дерзость заявить в светской гостиной, что «очень искусно ее
убили до смерти» «здешние дамы», княжна Мими преспокойно отве-
тила, закрывая карточную взятку, что «убивают не люди, а беззакон-
ные страсти».
В центре повести «Княжна Зизи» самоотверженная по характе-
ру девушка, которой умирающая мать поручила заботиться о легко-
1 Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Т. 1.4. 1. С. 105—106.
194 (мАЛ-£1
мысленной старшей сестре Лидии и ее детях. Зизи послушно взяла на
себя все домашнее хозяйство семьи Лидии. Между тем она втайне
влюблена в мужа сестры Владимира Городкова. Идут годы, Зизи как
мать следит за воспитанием своей подрастающей племянницы Па-
шеньки.
Однажды в Зизи влюбился приехавший из Казани молодой чело-
век по фамилии Радецкий. Вскоре Городков отказал ему от дома, но
влюбленный сумел сказать Зизи о своих чувствах в церкви. Он получил
согласие, но затем расчетливый Городков, воздействуя на Зизи высп-
ренней демагогией, сорвал их помолвку.
После выкидыша Лидия умирает, и тогда Зизи приходится всту-
пить в борьбу с Городковым, который вознамерился хитростью овла-
деть как частью наследственного имения сестер, принадлежащего его
собственной дочери, так и частью, принадлежащей самой Зизи. Княж-
ну Зизи этот негодяй, переворачивая ситуацию с ног на голову, успеш-
но выставляет в глазах света интриганкой. Судебная тяжба, в которую
ввязывается княжна, для нее бесперспективна. Однако неожиданно
Городков погибает, когда его лошади понесли и разбили хозяина. Зизи
продолжает растить осиротевшую племянницу, отдавая ей все свои
силы.
Имена «княжна Мими» и «княжна Зизи» В.Ф. Одоевский поза-
имствовал из комедии A.C. Грибоедова «Горе от ума», где так зовутся
эпизодические персонажи, характеры которых драматургом никак не
конкретизированы. Одоевским же создано два нравственно-психоло-
гически полярно противоположных образа «старых дев» — злобная и
беспощадная Мими и бесконечно преданная долгу благородная Зизи1.
«Светские повести» Одоевского по смыслу своему несводимы к узко
понимаемой «сатире» на высшее общество, но это изображение ре-
альной изнанки жизни данного общества, увиденной глазами одного из
людей, принадлежавших к нему по праву рождения.
Однако талант писателя развивался в особом направлении. Вер-
шиной его творчества оказались «Русские ночи».
Жанр этого произведения, которое нередко упрощенно именуют
романом, на самом деле уникален. В «Русских ночах» есть черты рома-
1 Не лишено интереса, что в качестве прототипа княжны Зизи различные ав-
торы пытались называть старшую сестру Натальи Николаевны Пушкиной Алек-
сандрину. Современные возражения на эту точку зрения см. в работе: Седова ГМ.
Повесть В.Ф. Одоевского «Княжна Зизи» и один из устойчивых мифов о семье
Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы / РАН. Ин-т рус. лит-ры. (Пуш-
кинский Дом). СПб., 2004. T. XVI/XVII.
13* 195
на, как одновременно, например, черты философского диалога и фило-
софского трактата. Иначе говоря, в основе произведения лежит худо-
жественно-жанровый синтез. Сюжет лишь намечен: после бала не-
сколько молодых людей отправляются к общему приятелю, чтобы
поразмышлять «о судьбе человечества» (их беседы потом повторяют-
ся девять ночей). Однако этот приятель, державший «черную кошку» и
просиживавший по целым часам у микроскопа, носит недвусмыслен-
ное прозвание Фауст. Кроме того, большое смысловое значение в ком-
позиции произведения имеют вставные повести и новеллы («Ореге del
Cavalière Giambattista Piranesi», «Бал», «Город без имени», «Пос-
ледний квартет Бетховена», «Себастиян Бах» и др.), в числе слож-
ных функций которых можно отметить, в частности, их роль словесно-
текстовых образно-сюжетных иллюстраций, как бы
опредмечивающих те философские идеи, которые поднимаются и раз-
виваются персонажами произведения в их ночных разговорах.
Так, в третью ночь Фауст показывает друзьям толстую рукопись
под названием «Opere del Cavalière Giambattista Piranesi» ( «Труды ка-
валера Джамбаттисты Пиранези»). В ней содержится рассказ старого
«библиомана» Алексея Степаныча о встрече в Неаполе. Рассматривая
выставленные на продажу рукописи и фолианты, он ракрыл том сочи-
нений архитектора Пиранези и стал рассматривать «бывшие в нем про-
екты колоссальных зданий, из которых для построения кавдого надоб-
но бы миллионы людей, миллионы червонцев и столетия, — эти
иссеченные скалы, взнесенные на вершины гор, эти реки, обращенные
в фонтаны... бесконечные своды, бездонные пещеры, замки, цепи, по-
росшие травою стены...» (Пиранези не удалось построить свои фантас-
тические сооружения: они остались на бумаге.)
Оказавшийся рядом странный старик неожиданно признался, что
он и есть Пиранези и что он вовсе не умер в 1778 г., как указано в кни-
ге. Никогда он не мог найти денег на реализацию своих грандиозных
проектов и не способен умереть, поскольку его не отпускают «призра-
ки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн»:
Т' «..Духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод
обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая
верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рама-
ми. Иногда заключают они меня в мои собственные темницы, опускают
в бездонные колодцы, куют меня в собственные мои цепи, дождят на
меня холодною плесенью с полуразрушенных сводов... жестокие, пря-
дают, хохочут вокруг меня, не дают умереть мне, допытываются, зачем
осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание, — и наконец,
изможденного, ослабевшего, снова выталкивают на землю».
196
Выслушав эту историю, один из собеседников (Виктор) заявляет:
«Какое внимание, какое участие может возбудить чудак, который хо-
чет возвратить время прошедшее и давнопрошедшее, когда сокровища
и труды погибали для удовлетворения ребяческого тщеславия, на пост-
ройку бесполезных зданий... теперь нет на это денег, и по самой про-
стой причине — они употреблены на железные дороги».
Перед читателем быстро получавшая в те годы распространение
точка зрения, согласно которой все имеющее чисто практическую цен-
ность важнее произведений великого искусства. Фауст, однако, не со-
гласен с ней:
«Так по твоему мнению, — отвечал Фауст, — египетские пирами-
ды, страсбургская колокольня, кельнский собор, флорентийский кре-
щатик — все это произведение одного ребяческого тщеславия».
Или, например, Фауст читает приятелям еще одну сложную руко-
пись. В конце концов как бы подводится смысловой итог:
«Знаете ли, к чему, наконец, этот долгий путь привел моих меч-
тателей? — Выведенные из терпения этой громадой загадок, кото-
рые являются человеку при развитии всякой мысли, они наконец
спросили: 'to.;
«В самом ли деле мы понимаем друг друга? Мысль не тускнеет ли,
пройдя сквозь выражение? То ли мы произносим, что мыслим? Слух не
обманывает ли нас? То ли мы слышим, что произносит язык? Мысли
высоких умов не подвергаются ли тому же оптическому обману, кото-
рый безобразит для нас отдаленные предметы?»
Глубина соображений Одоевского очевидна. Независимо от него в
Германии примерно тогда же о философски драматичной невозмож-
ности истинного взаимопонимания писал В. Гумбольдт, а у нас позже
идеи этого рода развивал великий славянский филолог A.A. Потебня.
В поэзии Ф.И. Тютчева также поднимается данная проблематика
(«Silentium!» и др.).
Одоевский, как показал П.Н. Сакулин, дал самостоятельное раз-
витие восходящей к Гумбольдту «идее о бессилии слова выразить все
содержание мысли и внутренней жизни человека». В понимании Одо-
евского она была связана «с сущностью науки, которая не может оста-
ваться в пределах логических операций, а должна усвоить себе «поэти-
ческие приемы творчества»1.
Как «человек своего времени», современник русских символис-
тов, Сакулин внимательно анализировал философско-эстетические
воззрения Одоевского и его времени на проблему символа (широко
1 Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Т. 1,4. 1. С. 492.
197
понимаемого): «Усваивает Одоевский также идею космической сим-
волики и нередко пользуется ею. "В Природе, —говорит он, — все
есть метафора одно другого; жизнь растения есть метафора жизни че-
ловека, жизнь человека — метафора времени... Случайного в приро-
де нет"».
Этого рода сомнения будут затем высказываться в произведении
Одоевского снова и снова. Наконец в «Русских ночах» следует встав-
ная новелла «Последний квартет Бетховена», где изображен со-
старившийся великий композитор, написавший лучшее свое произве-
дение, которое оказалось совершенно непонятно современникам.
Разбирая ноты квартета, музыканты злословят о пережившем свою
славу авторе «непонятного произведения».
Бетховен же горько восклицает: « От самых юных лет я увидел без-
дну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выра-
зить души своей; никогда того, что представляло мне воображение, я
не мог передать бумаге; напишу ли? — играют? — не то!., не только не
то, что я чувствовал, даже не то, что написал. Там пропала мелодия от-
того, что низкий ремесленник не придумал поставить лишнего клапа-
на; там несносный фаготист заставляет меня переделывать целую сим-
фонию оттого, что его фагот не выделывает пары басовых нот; то
скрипач убавляет необходимый звук в аккорде оттого, что ему трудно
брать двойные ноты <...> Нет, когда на меня приходит минута восторга,
тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлить-
ся не может; что новыми, свежими формами заменятся обветшалые;
что все нынешние инструменты будут оставлены и место их заступят
другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев;
что исчезнет, наконец, нелепое различие между музыкою писанною и
слышимою. Я говорил гг. профессорам об этом; но они меня не поняли,
как не поняли силы, соприсутствующей художническому восторгу, как
не поняли того, что тогда я предупреждаю время и действую по внут-
ренним законам природы, еще не замеченным простолюдинами и мне
самому в другую минуту непонятным...»
Важно помнить, что «Русские ночи» писались в годы, когда во всей
Европе нарастало увлечение позитивистскими методами познания при-
роды, общественного «организма» и всего сущего, широко проявляв-
шееся в наивной вере во «всемогущество науки». Молодые герои Одо-
евского приходят к Фаусту, полные аналогичных иллюзий, и неожиданно
сталкиваются с его совершенно особыми представлениями о том, ка-
ким должно быть истинное знание:
«Ростислав. Следственно, еще раз, по-твоему, никакая наука, ни-
какое знание невозможно...
Фауст. Нет! если б я сказал, то я бы спорил против действитель-
ности; всякое знание возможно — ибо возможно первоначальное зна-
ние, т. е. знание акта самовоззрения; но как это знание есть знание внут-
реннее, инстинктивное, не извне, но из собственной сущности души
порожденное, — то таковы должны быть и все знания человека. Отто-
го я не признаю возможности существования наук, искусственно пост-
роенных учеными, я не понимаю науки, которая называлась бы фило-
софией, историею, химиею, физикою... это оторванные, изуродованные
части одного стройного организма, одной и той же науки, которая жи-
вет в душе человека и которой форма должна разнообразиться, смотря
по его философскому органу, или, другими словами, по сущности его
духа. В этой науке также должны соединяться все науки, существую-
щие под различными названиями, как в телесном организме соединя-
ются все формы природы, а не одни химические, не одни математичес-
кие и так далее. Словом, каждый человек должен образовать свою науку
из существа своего индивидуального духа. Следственно, изучение не дол-
жно состоять в логическом построении тех или других знаний (это рос-
кошь, пособие для памяти — не более, если еще пособие); оно должно
состоять в постоянном интегрировании духа, в возвышении его, —
другими словами, в увеличении его самобытной деятельности».
Далее Фауст не без едкости говорит, что в распространении лож-
ных массовых представлений об истинном познании виноват дьявол,
Люцифер: гжн ^ju^ndrv м *юу ; ж г. *- /<м
«Вячеслав. Был уговор: без мистицизма.
Фауст. Шутки в сторону, я не знаю никого, кроме этого господи-
на, который мог бы с такою ловкостию пустить по свету, например, сле-
дующие бессмысленные слова: факт, чистый опыт, положитель-
ные знания, точные науки и проч. т. п. Этими словами человечество
пробавляется уже не первый век, не присваивая им ровно никакого
смысла; например, в воспитании говорят: сделайте милость, без тео-
рии, а побольше фактов, фактов; голова дитяти набивается фактами;
эти факты толкаются в его юном мозгу без всякой связи; один ребенок
глуп, — другой, усиливаясь найти какую-нибудь связь в этом хаосе,
сам себе составляет теорию, да какую!—говорят: «дурно учили!»—со-
вершенно согласен. В ученом мире то и дело вы слышите: сделайте
милость, без умозрений, а опыт, чистый опыт; между тем, известен толь-
ко один совершенно чистый опыт, без малейшей примеси теории и впол-
не достойный названия опыта: медик лечил портного от горячки; боль-
ной, при смерти, просит напоследях покушать ветчины; медик, видя,
что уже спасти больного нельзя, соглашается на его желание; больной
покушал ветчины — и выздоровел. Медик тщательно внес в свою за-
199
писную книжку следующее опытное наблюдение: «ветчина — успеш-
ное средство от горячки». Через несколько времени тому же медику
случилось лечить сапожника также от горячки; опираясь на опыт, врач
предписал больному ветчину—больной умер; медик, на основании пра-
вила: записывать факт как он есть, не примешивая никаких умствова-
ний, — прибавил к прежней отметке следующее примечание: «сред-
ство полезное лишь для портных, но не для сапожников»».
Позже Одоевский писал, что истинная наука, «наука инстинкта»
«должна явиться у русских». Однако и как ученый, и как художник сло-
ва он в начале 40-х годов уже явно шел «против течения». «Русские
ночи» одними читателями были добросовестно не поняты (совсем как
последний квартет Бетховена, о котором он писал в «Русских ночах»),
другими же идеологически «не приняты». Научные (и особенно есте-
ственнонаучные) представления все шире распространялись именно в
той «уродливой» форме, против которой восстает Фауст. Позитивизм
и зарождавшийся как его гротесковое продолжение вульгарный мате-
риализм уверенно завоевывали общественные симпатии.
Проза начала 1840-х годов явно поворачивала с дороги, по кото-
рой шел глубочайший мыслитель и сильный писатель-художник
В.Ф. Одоевский. Изданный Одоевским в 1844 г. трехтомник его худо-
жественных произведений (в него вошли и «Русские ночи») был под-
вергнут в критике настоящей травле. Опытный писатель понимал, ка-
кое в литературе и обществе настает время, и, предвидя такую реакцию,
даже обратился с письмом к министру просвещения Уварову с просьбой
защитить от поругания имя, которое он носит как родовитейший рус-
ский «боярин». Уваров ответил ему туманно и уклончиво. Реальной
помощи он в общем не оказал. После необъективной, а порою откро-
венно хамской критики (с позиций либо непонимания, либо завистли-
вого неприятия) еще недавно высокоавторитетный писатель В.Ф. Одо-
евский навсегда ушел из художественной прозы. Впоследствии он
выступал как литературный и музыкальный критик, создавал труды по
педагогике и философии, а также занимался изобретательством (на-
пример, изобрел компактный орган «Себастион», долгое время сохра-
нявшийся в Московской консерватории, «энгармонический» клавесин
и «акустические очки», через которые, как он писал в дневнике, «на
расстоянии 60 сажен звук струны... был явственно слышен, словно уда-
ры колокола» — В. Даль тут же наименовал аппарат «звучником»)1.
Одоевский написал также музыку на басню Крылова «Квартет», на сти-
i
1 Одоевский В.Ф. Текущая хроника и особые происшествия. Дневник//Лите-
ратурное наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 245.
опп
хи Пушкина и Некрасова. Он создавал хоралы, прелюдии, вальсы, ра-
ботал как композитор и в других музыкальных жанрах. Он пробовал
силы в драматургии, создав пьесу из чиновничьего быта «Хорошее жа-
лованье» ( 1838).
В.Ф. Одоевский — один из крупнейших писателей пушкинс-
кого времени, придавший прозе русского романтизма большую фи-
лософскую глубину. Огромный потенциал его художественных
исканий по сей день не исчерпан писателями-преемниками. Ши-
рокая и разнообразная одаренность Одоевского сделала его од-
ной из наиболее ярких фигур в истории русской культуры.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
(1799-1837)
Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт, прозаик
и драматург, потомок старинного боярского рода Пушкиных, по мате-
ринской линии — правнук «арапа Петра Великого» Абрама Ганниба-
ла, выходца из Северной Африки. Родился Пушкин 26 мая (6 июня)
1799 г., умер после смертельного ранения на дуэли с Ж. Дантесом 29
января (10 февраля) 1837 г.
Был старшим ребенком в семье (младший брат Лев и младшая се-
стра Ольга). Няней всех трех детей была крестьянка Арина Родионов-
на, в молодости нянчившая мать Пушкина Надежду Осиповну. В 1811 —
1816 гг. A.C. Пушкин учился в новообразованном Царскосельском
Лицее вместе с будущими поэтами А.А.Дельвигом и В.К. Кюхельбеке-
ром. Его педагогом был, в частности, Н.Ф. Кошанский, крупнейший
специалист в области риторики, на уроках которого регулярно практи-
ковались упражнения в написании стихов и прозы в том или ином за-
данном тематико-стилевом ключе. Первое напечатанное произведение
поэта — стихотворение «К другу-стихотворцу» (1814). На экзамене
в 1815 г. присутствовал ПР. Державин, с похвалой отозвавшийся о по-
этическом таланте Пушкина, продекламировавшего оду «Воспомина-
ния в Царском Селе» (1814).
По окончании Лицея Пушкин поступил на службу в Коллегию ино-
странных дел в чине коллежского секретаря. Став членом литератур-
ного общества карамзинистов «Арзамас» под прозвищем Сверчок, па-
раллельно познакомился с компанией богемной молодежи,
собиравшейся на дому у пушкинского сослуживца Н. Всеволожского.
Это сообщество носило название «Зеленая лампа»; о характере жиз-
ненных интересов его членов может создать представление так назы-
ваемый «лампийский» цикл стихов A.C. Пушкина1. Среди других про-
1 В СССР некоторое время была популярной теория, согласно которой «Зе-
леная лампа» представляла собой ячейку революционного Союза Благоденствия.
9П9
изведений этого времени важнейшее значение имеют первая поэма
«Руслан и Людмила» (1817—1819, опубл. 1820) и стихотворения
«Вольность» ( 1817), «Кривцову» (1817), «Торжество Вакха» (1818),
«КЧаадаеву»(1818), «Сказки. Noël» (1818), «Жуковскому» (1818),
«Орлову» (1919), «Возрождение» (1819), «Деревня» (1919) и др.
В мае 1820 г. петербургская жизнь A.C. Пушкина была прервана
переводом по службе в город Екатеринослав (Днепропетровск). Пере-
вод этот имел политический, а также нравственный подтекст, но насто-
ящей «ссылкой» его называть неточно: достаточно напомнить, что ме-
нее чем через две недели после прибытия Пушкина в Екатеринослав
семья генерала H.H. Раевского забрала «ссыльного» с собой путеше-
ствовать к кавказским водам (в Екатеринослав он более не вернулся).
В периодизации творчества A.C. Пушкина, судьба которого была
на редкость богата внешними переменами, издавна превалирует био-
графический принцип. В соответствии с ним выделяются лицейский,
петербургский и южный периоды, затем период ссылки в Михайловс-
кое, вторая половина 1820-х годов и творчество 1830-х годов.
Имелись интересные попытки предложить иные периодизации —
например, взяв за основу жанровую эволюцию пушкинского творче-
ства1. Однако в издании учебно-познавательного типа явно можно при-
нять за основу периодизацию по биографическому принципу, как ши-
роко распространенную и наглядную.
Южный период составляют произведения еще большей художе-
ственной силы, чем лицейская и петербургская лирика первых лет. Два
месяца Пушкин жил с Раевскими на Кавказе, откуда морем перебрал-
ся в Крым. Затем через Гурзуф и Бахчисарай он вместе с генералом
Раевским отправился в Бессарабию, где находилось принадлежавшее
матери генерала имение Каменка. Местом дальнейшей службы поэта
стал Кишинев — резиденция наместника Бессарабии генерала Инзо-
ва. Инзов отнесся к нему как к собственному сыну, и реальной службой
Пушкин в Кишиневе обременен не был.
Кавказ, Крым и затем пребывание в Кишиневе дали стихотворе-
ния «Погасло дневное светило...» ( 1820), «Черная шаль» (1820), «Ре-
деет облаков летучая гряда...» ( 1820), «Я пережил свои желанья...»
(1821 ), «Кинжал» («Лемносский бог тебя сковал...» )( 1821 ), «Кто ви-
дел край, где роскошью природы....» (1821), «Наполеон» (1821),
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем...» (1821), «К Ови-
.>Н.О!>К:
' См.: Фомичев CA. Периодизация творчества Пушкина: (К постановке про-
блемы) // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.,
'1982. Т. 10.
203
дию» (1821), «Баратынскому» (1822), «Песнь о вещем Олеге»
( 1822), «Послание цензору» ( 1822) и др. Тогда же были написаны по-
эмы «Кавказский пленник» (1820—1821, опубл. 1822) и «Гавриили-
ада» ( 1821 ) — недопустимо легкомысленное, а по сути и кощунствен-
ное подражание аналогичным французским поэмам («Орлеанской
девственнице» Вольтера и «Войне богов» Парни). В Кишиневе была в
основном подготовлена также поэма «Братья-разбойники» (1821 —
1822, опубл. 1825) и намечена поэма «Бахчисарайский фонтан»
(1822-1823, опубл. 1824). В мае 1823 г. Пушкин начал в Кишиневе
работу над романом «Евгений Онегин»1. Замышлялся им и ряд других,
оставшихся незавершенными или ненаписанными, произведений раз-
ных жанров.
В Кишиневе A.C. Пушкин некоторое время увлеченно подвизался
в местной масонской ложе «Овидий», возглавлявшейся генералом
П.С. Пущиным. Пушкина приняли 4 мая 1821 г. в первую степень «уче-
ника», и, к счастью, он успел лишь немного «поиграть» в масонство.
Дело в том, что ложа эта просуществовала недолго и была закрыта после
возмутившей и напугавшей горожан попытки масонов среди бела дня
устроить некое театрализованное служение. Данный случай получил
широкую огласку и сделался одним из предлогов к запрещению Алек-
сандром I деятельности масонов в России2.
В Кишиневе была расквартирована 16-я пехотная дивизия, кото-
рой командовал генерал М.Ф. Орлов, знакомый Пушкина еще по «Ар-
замасу». Это был исключительно яркий и внутренне независимый че-
ловек. В 1814 г., будучи парламентером, он в одиночку сумел убедить
руководителей обороны Парижа без боя капитулировать передосадив-
шими город русскими войсками и сам написал условия капитуляции (об
этом Орлов оставил подробные воспоминания, свидетельствующие о
его писательском даре). В дни пребывания Пушкина в Кишиневе нача-
лось восстание греков против Турции под руководством А. Ипсиланти,
и есть сведения, что Орлов намеревался самовольно бросить свою ди-
визию на помощь единоверцам (Александр I не оказал такой помощи)3.
Приготовления Орлова вызвали подозрения, и в Кишиневе стало
работать следствие, обнаружившее в числе офицеров орловской диви-
1 В «пушкинской» главе данного учебного пособия даты здесь и далее даются
но старому стилю.
2 См., напр.: Фомичев С.А. Пушкин и масоны //Легенды и мифы о Пушкине.
СПб., 1994. 4*i
3 См. об М.Ф. Орлове: Минералов Ю.И. Капитуляция Парижа//Новая Рос-
сия. 1995. № 4; он же. М.Ф. Орлов. Биографический очерк. М., 2001.
204
зии членов тайного общества, ведущих пропаганду среди солдат. Был
арестован приятель Пушкина майор В.Ф. Раевский. Орлова отстрани-
ли от командования дивизией.
лил
Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872) — майор,
поэт, так называемый «декабрист без декабря» — участник
тайного общества «Союз благоденствия», арестованный задол-
го до восстания декабристов. На следствии держался подчерк- л
л нуто независимо и стойко, не назвал никаких сообщников и ло-
кализовал все подозрения (оставшиеся недоказанными) на одном
себе. После шести лет заключения в Тираспольской крепости был
сослан в Сибирь.
В небольшом по объему поэтическом наследии Раевского ч
можно выделить стихотворения «Глас правды», «Путь к счас-
тью», «Кдрузьям в Кишинев», «Певец в темнице», «Предсмер- \
тная дума» и др., а также ценные литературные воспоминания
«Вечер в Кишиневе», где обсуждается стиль Пушкина-поэта.
s
Затосковавший в этой обстановке A.C. Пушкин в августе 1823 г.
сумел добиться перевода в Одессу. Наместник М.С. Воронцов перво-
начально принял Пушкина «очень ласково» (из письма брату Льву от
25 августа 1823 г.), однако тот через несколько месяцев завел роман с
его женой, и Воронцов его возненавидел. Кроме того, здесь начальство
воспринимало Пушкина чисто бюрократически и, не обращая внима-
ния на его поэтические порывы, требовало реально служить и подчи-
няться в соответствии с должностной иерархией (примером может слу-
жить знаменитая командировка «на саранчу»)1. Тяжелые человеческие
условия Пушкин компенсировал еще более глубоким погружением в
творчество — работой над «Цыганами» и «Евгением Онегиным», ря-
дом стихотворений, среди которых выделяются «Демон» ( 1823), «Про-
стишь ли мне ревнивые мечты...» ( 1823), «Свободы сеятель пустын-
ный...» (1823), «Все кончено: меж нами связи нет...» ( 1824) и др. Поэт
интенсивно занимался и самообразованием (изучал английский и ита-
льянский языки, много читал и т. п.).
По существовавшей практике выборочной проверки корреспон-
денции поднадзорных лиц одно из пушкинских писем было вскрыто в
«черном кабинете» на почте. В нем поэт распространялся о своих ате-
1 Сербский ГЛ. Дело «О саранче»: (Из разысканий в области одесского пе-
риода биографии Пушкина) // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН
СССР. Ин-т литературы. М.; Л., 1936. Вып. 2.
205
истических воззрениях. В итоге A.C. Пушкин 30 июля 1824 г. выехал из
Одессы в Михайловское, определенное ему местом ссылки.
В изданиях советского времени данная история обычно подается
как очередная злобная антипушкинская акция «реакционеров», одна-
ко тогда подобные «антирелигиозные» признания были для дворянина
признаниями в весьма серьезном нарушении общественных норм. Со-
ответственно ссылка Пушкина в Михайловское была настоящей ссыл-
кой. Он был исключен из службы, и ему было назначено церковное
покаяние, а надзирать за поведением сына должен был отец Сергей
Львович. После серии конфликтов отец вскоре отказался сидеть с сы-
ном в Михайловском, а надзор был препоручен местному предводите-
лю дворянства и настоятелю Святогорского монастыря. С Пушкиным
в Михайловском осталась няня Арина Родионовна.
Круг общения A.C. Пушкина составила семья соседней помещицы
П.А. Осиповой, с которой в ее имении Тригорском жили несколько до-
черей, а также часто появлялись молодые родственницы. Среди после-
дних была и будущая героиня его стихов А.П. Керн. В январе 1825 г.
поэта посетил его старший друг по лицею И.И. Пущин.
Иван Иванович Пущин (1798—1859) — ближайший друг
A.C. Пушкина, яркий, искренний и мужественный человек, учас-
тник восстания декабристов. Оставил ценные записки о своей
дружбе с Пушкиным. Похоронен в подмосковных Бронницах.
я
Эта встреча сильно ободрила изнывавшего в условиях изоляции
Зпоэта. Затем у него побывал A.A. Дельвиг, а из недалекого Дерпта при-
пехал с целью знакомства поэт Н.М. Языков.
В Михайловском успешно продолжалась работа Пушкина над «Ев-
гением Онегиным», были закончены «Цыганы», написаны юмористи-
ческая поэма «Граф Нулин» ( 1825) и народная драма «Борис Годунов»
( 1825). (Автор не публиковал затем «Бориса Годунова» около шести лет.)
Среди стихов, написанных в Михайловском, выделяются окончание на-
чатого в Одессе «К морю» ( 1824), «КЯзыкову» ( 1824), «Разговор кни-
гопродавца с поэтом» (1824), «Подражания Корану» (1824), «Вто-
рое послание к цензору» ( 1824), «Сожженное письмо» (1825), «Ода»
(«Султан ярится. Кровь Эллады...») (1825), «Козлову» (1825), «Хра-
ни меня, мой талисман...» ( 1825), «Андрей Шенье» ( 1825), «Я помню
чудное мгновенье...» (1825), «Жених» (1825), «Вакхическая песня»
(1825), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...») (1825),
«Сцена из Фауста» ( 1825), «Зимний вечер» ( 1825), «О муза пламен-
ной сатиры!» ( 1825), «Движение» ( 1825), «Песни о Стеньке Разине»
206
(1826) и др. По дороге из Михайловского в Москву на встречу с новым
царем Николаем I написан «Пророк» (1826).
После восстания декабристов в Петербурге 14 декабря 1825 г.
A.C. Пушкин обратился с покаянным письмом к Николаю I. Тот вызвал
его в сопровождении фельдъегеря в Москву в дни своей коронации и
8 сентября 1826 г. выслушал какие-то его личные признания. Как по-
эта молодой царь ценил Пушкина и раньше и после этой встречи раз-
решил уехать из Михайловского, а себя объявил его личным цензором.
Сначала поэт поселился в Москве, где печатался в журнале «Мос-
ковский вестник» М.П. Погодина. В 1826 г. вышел его сборник «Сти-
хотворения Александра Пушкина». В мае 1827 г. Пушкин вернулся в
Петербург. Временами Пушкин наезжал в Михайловское, где так и ос-
талась его няня. Ей посвящено стихотворение «Няне» ( «Голубка дней
моих суровых...») (1826), написанное вскоре после возвращения из
ссылки.
В 1829 г. поэт совершил вторую поездку на Кавказ, передвигаясь
вслед за русской армией, ведшей военные действия против Турции. Твор-
ческим результатом путешествия по Закавказью стало «Путешествие
в Арзрум». На неоднократные просьбы разрешить поездку за границу
(которые он обычно мотивировал намерением лечить «аневризму аор-
ты») Пушкину на протяжении жизни неизменно отказывали.
Во второй половине 1820-х годов A.C. Пушкин работал весьма
плодотворно. В эти годы написаны поэмы «Полтава» (1828—1829),
«Тазит» (1829-1830) и большое число стихотворений, среди которых
необходимо указать на «Каков я прежде был, таков и ныне я...» (1826),
«И. И. Пущину» (1826), «Стансы» («В надежде славы и добра...»)
(1826), «Зимняя дорога» (1826), «Мордвинову» (1826), «Во глуби-
не сибирских руд...» (1827), «Арион» ( 1827), «Кипренскому» (1827),
«Поэт» (1827), «Послание кДельвигу»( 1827), «19 октября» (1827),
«Друзьям» (1828), «Воспоминание» (1828), «Дар напрасный, дар
случайный...» ( 1828), «Не пой, красавица, при мне...» ( 1828), «Пор-
трет» (1828), «Предчувствие» (1828), «Утопленник» (1828), «Риф-
ма, звучная подруга...» (1828), «Анчар» (1828), «Цветок» (1828),
«Поэт и толпа» ( 1828), «Подъезжая под Ижоры...» ( 1829), «На хол-
мах Грузии лежит ночная мгла...» ( 1829), «Жил на свете рыцарь бед-
ный...» ( 1829), «Зорю бьют... из рук моих...» ( 1829), «Зима. Что де-
лать нам в деревне? Я встречаю...» (1829), «Зимнее утро» (1829),
«Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829), «Брожу ли я вдоль
улиц шумных...» ( 1829), «Кавказ» (1829), «Обвал» ( 1829), «Сапож-
ник» (1829), «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета...»)
( 1830), «Поэту» (1830), «Дорожные жалобы» ( 1830) и др.
207
Пушкин стал пробовать силы в прозе — неоконченный истори-
ческий роман «Арап Петра Великого» (1827), «Роман в письмах»
(1829) и др.
В мае 1830 г. A.C. Пушкин сделал попытку (уже вторичную) посва-
таться в Москве к H.H. Гончаровой и на этот раз получил согласие (Гон-
чаровы быстро разорялись и красавицу Натали выдали за него беспри-
данницей). В августе 1830 г. Пушкин в связи с подготовкой к женитьбе
отправился в отцовское имение Болдино, находившееся в Нижегородс-
кой губернии. Неожиданно ему пришлось задержаться там на три меся-
ца из-за карантинов по поводу эпидемии холеры. Болдинская осень ока-
залась необыкновенно плодотворной в творческом отношении. Здесь
были написаны восьмая и девятая главы «Евгения Онегина», «малень-
кие трагедии» «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во вре-
мя чумы» и «Каменный гость», «Сказка о попе и работнике его Бал-
де», «Сказка о медведихе», прозаические «Повести Белкина»
(«Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель»,
«Барышня-крестьянка»), примыкающая к ним «История села Горю-
хина», а также около тридцати стихотворений, среди которых «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Бесы», «Заклинание», «Для
берегов отчизны дальной...», «Стихи, сочиненные ночью во время
бессонницы», «Моя родословная», «К вельможе» и др.
В 1830 г. написана также шутливая поэма «Домик в Коломне»,
которую A.C. Пушкин опубликовал в 1833 г. (анонимно).
Женившись на H.H. Гончаровой 18 февраля 1831 г., Пушкин не-
сколько месяцев прожил с ней в Москве, затем через Петербург они
проехали на дачу в Царское Село, оставаясь там до глубокой осени.
Его творчество 1830-х годов продолжало оставаться поразитель-
но интенсивным. В 1830—1831 гг. Пушкин активно сотрудничает в «Ли-
тературной газете». Среди его стихов гражданско-публицистические —
«Клеветникам России» (1831), «Бородинская годовщина» (1831),
очередная народная сказка — «Сказка о царе Салтане» (1831), ин-
тимные лирические признания — «Нет, я не дорожу мятежным на-
слажденьем...» ( 1831 ), стилизация терцин Данте — «И дале мы по-
шли — и страх обнял меня...» ( 1832), основанная на украинской сказке
баллада «Гусар» ( 1833) и т. д. Не забывает Пушкин и прозу — роман
«Рославлев» (1831, неоконч.)1
1 О «Рославлеве» см.: Гуковский ГЛ. Об источнике «Рославлева» // Пуш-
кин: Временник Пушкинской комиссии /АН СССР Ин-тлитературы. М.; Л., 1939.
Вып. 4/5.; ГрушкинА.И. «Рославлев» // Пушкин: Временник Пушкинской комис-
сии / АН СССР. Ин-т литературы. М.; Л., 1941. Вып. 6.
9ПЯ
Летом 1833 г. A.C. Пушкин совершил поездку в Оренбуржье, где
собирал материалы о крестьянском восстании во времена Екатерины
II под началом Е.И. Пугачева.
Так называемая «вторая болдинская осень» (полуторамесячное пре-
бывание в Болдине в 1833 г.) принесла поэму «Анжело», «Сказку о
рыбаке и рыбке» и «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»,
часть «Песен западных славян», а главное — поэму «Медный всад-
ник» и повесть «Пиковая дама». Тогда же закончена «История Пугаче-
ва» («История Пугачевского бунта»). Среди болдинских стихотворе-
ний — «Осень», «Не дай мне Бог сойти сума...», переводы с польского
(из Адама Мицкевича) «Воевода», «Будрыс и его сыновья» и др.
На исходе 1833 г. A.C. Пушкин запоздало получил придворный чин
камер-юнкера. С другой стороны, он был принят на службу в Колле-
гию иностранных дел с жалованием в 5000 руб. и правом работать во
всех архивах и библиотеках России с целью написания «Истории Пет-
ра Великого и его наследников до Петра III». «История Петра» не за-
вершена Пушкиным1. Хотя и придворные обязанности и архивные изыс-
кания отвлекали его от художественного творчества, в последние годы
жизни Пушкин написал пьесу «Русалка» (1828—1833), «Сказку о
Золотом петушке» (1834), драматические «Сцены из рыцарских вре-
мен» ( 1835), роман «Дубровский» (1832—1833, опубл. 1844), повесть
«Капитанская дочка» (оконч. 1836)2. Из неоконченного отметим «Пу-
тешествие из Москвы в Петербург» (1833—1835, опубл. посмертно).
В 1836 г. Пушкин начал издавать журнал «Современник».
Из стихов этого заключительного этапа пушкинского творчества вы-
деляются «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834), цикл
«Песни западных славян» (законч. 1835) «Полководец» (1835), «Стран-
ник» ( 1835), «ИзПиндемонти»(1835), «...Вновь я посетил» (1835), «Пир
Петра Великого» ( 1835) «Когда за городом, задумчив, я брожу...» ( 1836),
«Памятник» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...») ( 1836).
Люди, разбиравшие бумаги A.C. Пушкина после его гибели на ду-
эли, были поражены и объемом хранимого им в рукописях неопубли-
Пушкин по-иному выстраивает образ героини одноименного романа Загос-
кина, в написанном тексте снимая мотив ее любовной связи с врагом — француз-
ским полковником.
1 О характере этого произведения см.: Попов П. Пушкин в работе над истори-
ей Петра I // A.C. Пушкин: Исследования и материалы / М., 1934. С. 467—512.
(Лит. наследство; Т. 16—18).
2 См.: Гиллельсон М.И., My шина И.Б. Повесть A.C. Пушкина «Капитанская
дочка»: Комментарий. Пособие для учителя. Л., 1977.
1 4 — Минепялоп 209
кованного наследия, и творческой энергией, бушевавшей в нем в годы,
оказавшиеся для него последними1.
Уже тот факт, что творчество A.C. Пушкина распадается на не-
сколько рассмотренных выше периодов, свидетельствует, что оно пре-
терпело на протяжении жизни великого писателя сложную эволюцию.
Начав как сильнейший русский писатель-романтик, он удивитель-
но быстро пришел к той литературной манере, которую сам обозначал
как «истинный романтизм» и которая, будучи подхвачена и разработа-
на далее другими авторами, легла в основу того, что ныне именуется
реализмом.
Первые ростки «истинного романтизма» естественно усматривать
в начатом на юге романе в стихах «Евгений Онегин». Причем эта «проба
пера» появилась на фоне таких вершинных для Пушкина-романтика
произведений, как поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойни-
ки» и «Бахчисарайский фонтан», «Песнь о вещем Олеге», стихотво-
рения «Черная шаль», «Наполеон», «Кинжал» и т, п. При всем пони-
мании того, что на данном этапе Онегин еще мог внутренне
представляться самому автору как очередной байронический персонаж
в духе Чайлад-Гарольда или Дон Жуана (или же как пародия на Чайльд-
Гарольда), такое соседство вершинного романтизма с «будущим реа-
лизмом» неординарно.
Байронизм A.C. Пушкина — явление в целом хорошо изученное2.
Так называемое «подражание Байрону» у A.C. Пушкина есть подража-
ние-соперничество — то, что в древнегреческой поэтике обозначалось
словом мимесис: творческое подражание, предполагающее глубокую
переработку проообраза по-своему, создание новой внутренней фор-
мы3.
В свое время В.В. Виноградов в ходе скрупулезной работы с худо-
жественными произведениями Пушкина выявил в них много проявле-
ний контакта с «чужим, словом», в частности, массу раскавыченных
цитат, точных и частично видоизмененных реминисценций, много при-
меров стилизации, вариации и т. д. и т. п. В итоге Виноградов пишет:
«Художественное мышление Пушкина — это мышление лите-
ратурными стилями (курсив мой. — ЮМ.\ все многообразие кото-
1 См. подробную биографию Пушкина: Лотман ЮМ. Александр Сергеевич
Пушкин: Биография писателя//ЛотманЮ.M. Пушкин: Биография писателя; Ста-
тьи и заметки, 1960—1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995.
2 См. напр.: Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.
3 Об этого рода творческих действиях, о внутренней форме как образе опре-
деленного прообраза см.: Минералов Ю.И. Теория художественной словесности.
от
рых было доступно поэту. <...> Пушкин творчески использовал стили
русской народной поэзии, стиль летописи, стиль Библии, Корана. Сти-
ли Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Держави-
на, Хвостова; стили Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Вяземс-
кого, Козлова, Языкова, В. Кюхельбекера, Ден. Давыдова, Дельвига,
Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Вордсворта, Шекс-
пира, Мюссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и других писателей
мировой литературы служили ему материалом для оригинального твор-
чества».
а** Как видим, Байрон, между прочим, «тонет» в обширном ряду дру-
гих авторов, тоже миметически интересовавших A.C. Пушкина. Есте-
ственно, что послужившие таким материалом стили различных авто-
ров получали у Пушкина самое разное конкретное применение.
Например, в послании к Д.В. Давыдову он может дать «портрет» слога
Давыдова. В обращенном к А.П. Керн стихотворении «г# помню чуд-
ное мгновенье...» — привести раскавыченную цитату из «Лалла Рук»
В.А. Жуковского («гений чистой красоты»). Или в поэме «Полтава»
при описании Полтавской битвы на некоторое время заговорить об этом
событии слогом оды XVIII в., в частности, даже изобразив излюблен-
ный в ту эпоху спондей («Швед, русский колет, рубит, режет»).
И В.В. Виноградов учитывает это функциональное разнообразие
пушкинского «мышления стилями», выделяя несколько основных ти-
пов такого применения. Так, в творчестве Пушкина представлены, по
его словам: «стилизация манеры Ден. Давыдова»; «оригинальные
"подражания" Батюшкову, Парни, Шенье, Овидию, Байрону, Кора-
ну, Библии»; «вариации... на темы и сюжеты разных писателей миро-
вой литературы»; «работа над смешением и новым комбинированием
чужих стилей»; «искусство... пародии и карикатуры» (курсив мой. —
ю.м.у.
Перечисленные некоторые функциональные типы пушкинского
«мышления литературными стилями» отнюдь не исчерпывают всего бо-
гатства данного явления у Пушкина. Тот же Виноградов несколько ра-
нее в своем другом исследовании отмечал, что среди такого рода типов
«прежде всего выступает прием семантического намагничивания
слова» (курсив мой. — ЮМ.). Филолог дал такое объяснение этому
введенному им понятию:
«Пушкинское слово насыщено отражениями быта и литературы.
Оно сосуществует в двух сложных семантических планах, их сливая —
в историко-бытовом контексте, в контексте материальной культуры,
1 Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 486, 487, 489, 492.
14* 211
ее вещей и форм их понимания,— и в контексте литературы, ее симво-
лики, ее сюжетов и ее словесной культуры. Быт, современная действи-
тельность облекали пушкинское слово прихотливой паутиной намеков,
«применений» (allusions). <...> Аспект двойного понимания литератур-
ного слова был задан дворянскому обществу той эпохи как норма худо-
жественного восприятия. За словом, фразой предполагались скрытые
мысли, символические намеки на современность. Своеобразная калам-
бурность возводилась в принцип литературного выражения. ...>
Вокруг слова сгущалась атмосфера литературных намеков. Сло-
во не только притягивало к себе, как магнит, близкие литературные
образы и символы, но и отражало их в себе, как система зеркал. Пуш-
кинское слово было окружено атмосферой литературных тем и сю-
жетов»1.
В своем ярком исследовании В.В. Виноградов говорит также: «Кро-
ме приема эстетического намагничивания слова... характерен для пуш-
кинского стиля принцип семантических отражений, принцип варьиро-
вания одного образа, одной темы в структуре литературного
произведения. Одни и те же слова, фразы, символы, темы, двигаясь
через разную преломляющую среду в композиции литературного про-
изведения, образуют сложную систему взаимоотражений, намеков, со-
ответствий и совпадений»2.
Иллюстрируя эту мысль, автор указывает, что «все сюжетное со-
держание "Метели" как бы проектируется на символику «Светланы»3.
Сказанное напоминает, что даже современные Пушкину читатели,
находившиеся по складу образования и воспитания за пределами куль-
туры «дворянского общества», не ощущали многие из разнообразных
его аллюзий, воспринимая содержание его творчества упрощенно, обед-
ненно, а порою и прямо искаженно. Тем более это относится к читате-
лям позднейших эпох (среди которых наша — пока самая далекая и,
соответственно, пожалуй, наиболее подверженная семантической абер-
рации). Тем важнее читателю-филологу вникать в семантические ню-
ансы пушкинских текстов.
Ода «Вольность», в которой поэт выражает желание «воспеть
Свободу миру, на тронах поразить порок», — одно из важнейших про-
изведений раннего Пушкина. Она одноименна «тираноборческой» оде
А.Н. Радищева. В этом одна из причин, что поэтические заявления
1 Виноградов В. О стиле Пушкина // A.C. Пушкин: Исследования и матери-
алы. М., 1934. Лит. наследство; Т. 16—18. С. 134, 138. üa^uiu -ju i
2 Там же. С. 171.
3Там же. С. 172. ■•*; .м-, J/ ,;^,-
212
A.C. Пушкина в данном произведении позднейшим читателем нередко
истолковываются тоже как ультрареволюционные:
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Между тем здесь отнюдь не содержится призыва к «народному вос-
станию» (мятежу, революции). В соответствии с «высоким» стилем, в
котором выдержано стихотворение, поэтом используется церковно-
славянский смысл глагола восстать — «подняться» (то есть имеется
в виду лишь «поднимитесь, встаньте, обретите человеческий облик по-
вергнутые ниц, поставленные на колени»).
Интересно и то, какие именно «тираны» имеются в виду Пушки-
ным. Советская школа наивно проповедовала, что однозначно подра-
зумевается царская власть, русский царизм. Соответственно тракто-
валось следующее наиболее острое место оды:
Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.
Между тем здесь подразумевается отнюдь не царизм и не какой-
либо конкретный русский царь. Речь идет об узурпаторе Наполеоне I1.
В оде всем формам тирании противопоставляется «Закон»:
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
1 Тема русского тирана, впрочем, тоже затронута в оде: здесь есть упоминания
зверского покушения на императора Павла I, которого молодой Пушкин, подобно
многим дворянам его времени, воспринимал как «увенчанного злодея», от времен
коего остался лишь «забвенью брошенный дворец».
213
«Деревня», другое политически окрашенное пушкинское стихот-
ворение данного периода творчества, содержит ставшие традиционны-
ми уже в литературе XVIII в. душераздирающие картины крепостного
«рабства» (противопоставленные красотам природы и поэтически изоб-
раженному сельскому быту). Однако в итоге следует верноподданни-
ческий призыв, обращенный к царю, по своему «манию» уничтожить
крепостное право:
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?
Этого рода призывы и надоеды — вполне в духе либерального дво-
рянства того времени. Известно, что стихотворение было показано в
рукописи Александру I, и тот поблагодарил поэта за снедающие его
«добрые чувства». Вопреки такого рода фактам «Деревня» также не-
редко воспринималась позднейшим читателем как «революционное»
произведение.
Как еще один пример того, насколько однобоко нередко осознает-
ся читателями семантика произведений A.C. Пушкина, можно указать
на написанный значительно позже «Анчар». Это стихотворение разоб-
рано В.В. Виноградовым, вскрывшим в нем проекцию на песню грека
из «Старой были» П.А. Катенина. По словам иссследователя, «в этой
песне изображение царского самодержавия, его могущества и его ат-
рибутов... вбирает в себя символику неувядающего древа, "древа жиз-
%ш" как образа "милосердия царева"»1 Этому «древу жизни» Катени-
на (ни разу не упомянутому у Пушкина прямо) Пушкин поэтически
противопоставляет древо смерти анчар:
В пустыне чахлой и скупой
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
1 Виноградов В. О стиле Пушкина. С. 144.
0\А
Как пишет В.В. Виноградов, «губительная, всесокрушающая сила
анчара, несущая смерть и разрушение человечеству, драматически кон-
центрируется к концу стихотворения в трагической смерти раба и в
смертоносных стрелах князя. Только тут, в самой последней строфе,
открывается социальное имя и положение человека с властным взгля-
дом (или по одному из черновиков — "с властным словом"). Это «не-
победимый владыка» и точнее — "царь" <...>
Таким образом символический смысл "Анчара" скрытые в нем
намеки разгадываются лишь тогда, когда за этим стихотворением от-
крывается другой, отрицаемый им семантический план катенинской
"Старой были"»1.
О способности Пушкина к стилевому «перевоплощению» уже в
XIX в. писалось немало. Общеизвестны отличающиеся особой ярко-
стью и философским проникновением в сущность этой способности
суждения о ней Ф. М. Достоевского2. И уже при жизни Пушкина его
стали именовать «Протеем». Вероятно, произошло это с легкой руки
Н.И. Гнедича, написавшего в своем послании «А. С. Пушкину по про-
чтении сказки его о царе Салтане и проч.» (1832):
Пушкин, Протей >>•'*■•
Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!
Уши закрой от похвал и сравнений...
Одним из ярчайших примеров данной особенности Пушкина-ху-
дожника может послужить его цикл «Песни западных славян». П. Ме-
риме опубликовал на французском языке ряд стихотворных текстов, в
основном навеянных славянским балканским фольклором. Пушкин
создал «русский вариант» этого цикла, гибко варьируя Мериме и нео-
днократно «дорисовывая» по-русски то, что на французском языке было
выражено бегло либо вообще отсутствовало (две «песни славян» —
«О Георгии Черном» и «Воевода Милош» — просто сочинены Пуш-
киным, а еще две переведены им из другого источника).
Н.К. Гей весьма точно пишет: «Широчайший диапазон поэтики и
стиля у Пушкина не препятствует глубочайшему стилевому монизму»3.
Ниже данный исследователь подчеркивает: «Способность поэтическо-
1 Виноградов В. О стиле Пушкина. С. 147—148.
2 См.: Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк)// Достоевский Ф.М. Поли. собр.
соч.: В 30 т. Т. XXVI. Л., 1984. С. 136-149.
3 Гей Н.К. Художественный синтез в стиле Пушкина // Теория литературных
стилей. Типология стилевого развития нового времени. М., 1976. С. 115.
215
го перевоплощения поразительна. Но протеизм Пушкина не только один
из наглядных признаков, а и удивительно точное, глубокое определе-
ние сущности его творчества»1.
Иными словами, личный (индивидуальный) стиль Пушкина можно
было бы, вероятно, определить как протеистический.
Поразительна художественная убедительность изображения
A.C. Пушкиным в своих текстах стилей других авторов. Необходимо от-
метить, что это изображение осуществляется не просто «в общих чер-
тах» — оно проникает в мельчайшие детали. Например, вот как Пуш-
кин изображает в свои стихах специфическую державинскую рифму
(ассонансы — «неточные рифмы»).
О «загадочности» державинской ассонансной рифмовки, которая
по типу своему на многие десятилетия предваряет искания в данной
области, характерные для поэтов конца XIX — начала XX в., стихове-
дами говорилось многократно (В.М. Жирмунским, Б.В. Томашевским,
Д.С. Самойловым и др.). Поскольку эта рифмовка не укладывается в
русло исследовательских концепций данных авторов, они ее условно
обозначали как «исключение»2.
Факт творческого подражания младших современников рифме
Державина, крупнейшего поэта своего времени, констатировал еще
Жирмунский3. Однако он не задавался вопросом, как конкретно это
подражание происходило и выглядело. Применительно к A.C. Пуш-
кину данный феномен можно проследить весьма конкретно, особен-
но если привлечь к этому богатейший материал вариантов и черно-
вых редакций его стихов в сравнении с публикуемыми их
редакциями4. Черновики Пушкина — вообще ценнейший материал
Лдя изучения. Порою при их чтении давно знакомые тексты пред-
стают в новом свете5.
1 Гей Н.К Художественный синтез в стиле Пушкина // Теория литературных
стилей. Типология стилевого развития нового времени. М., 1976. С. 116—117.
2 См.: Минералов Ю.И. О статусе «исключений» в поэтике // Русское сти-
хосложение. М., 1985. С. 155-167.
3 См.: Жирмунский ВМ. Теория стиха. Л., 1975. С. 358.
4 Нами использовалось Полное собрание сочинений A.C. Пушкина издания
АН СССР: т. 1 - 1937, т. II ( 1 ) - 1947, т. III ( 1 ) - 1948, т. III (2) - 1949. Были
сличены варианты всех текстов.
Тот же материал содержится в современном переиздании этого академичес-
кого ПСС, осуществленном в 1990-е годы издательством «Воскресенье».
5 См. об этом: Бонды СМ. Черновики Пушкина. Статьи 1930—1970 гг. 2-е
изд. М., 1978.
В результате анализа видно, что работа Пушкина над рифмой в
1810-е годы, с одной стороны, и в 1820— 1830-е — с другой, выглядит
во многом по-разному. «На уровне черновика» ассонансы встречаются
у Пушкина в оба периода. При этом в черновике свободно взаимозаме-
няемы рифменные компоненты, образующие между собой соответ-
ственно точную и неточную рифмы. Так, например, последнее слово не
попавшей в беловую редакцию стихотворения «Дорожные жалобы»
строки: «Иль как Анреп в вешней луже» в пушкинском черновике риф-
мовалось то с «вчуже», то с «хуже» то с «в лачуге» (ассонанс!)1.
Но зато «на уровне беловика», в публикуемом тексте, судьба не-
точных рифм в 1810-е годы складывается совсем иначе, чем их судьба
в более поздний период. В беловых редакциях своих ранних стихов Пуш-
кин публикует рифмы-ассонансы, без каких-либо сомнений отказыва-
ясь при этом от первоначально приходивших ему в голову точных рифм,
остающихся в итоге в черновых рукописях. Например, в стихотворении
«Пирующие студенты» (Т. I. С. 61 ) есть четверостишие:
А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель задушевный.
Это четверостишие в черновике выглядело иначе. Оно содержало
не ассонанс «рожденный/задушевный», а точную рифму: «Приятель
неизменный» (Т. I. С. 350). Подобным образом рифма «могущих/дре-
мучих» из публикуемого поныне варианта стихотворения «Кольна» (Т, I.
С. 29) в черновике отсутствовала, а на ее месте была точная рифма
«могучих/дремучих» (Т. I. С. 343).
Все это по-другому в текстах второго периода. Здесь первоначаль-
но «мелькнувшие» в черновом варианте ассонансы, как правило, изы-
маются поэтом из окончательного текста либо переделываются им в
точные (по образцу одного из компонентов). Иными словами, в 1820-е
годы Пушкин начинает систематически подавлять у себя даже в риф-
мовке ранее нравившиеся ему «державинские нотки».
Следует добавить, что в случае с Пушкиным-«Протеем» объяс-
нять творческое пересоздание им в ранних стихах державинской риф-
мовки обычной зависимостью начинающего художника от старшего
мастера было бы явным упрощением. Точно так же последующие его
«антидержавинские» усилия в сфере рифмовки не есть простой резуль-
1 См .:Полное собрание сочинений A.C. Пушкина. Т. III (2). С. 752.
217
тат «наступления творческой зрелости». Дело в том, что аналогичный
«антидержавинский» поворот осуществил в своем творчестве в 1820-е
годы отнюдь не один Пушкин. Это характерно вообще для бывших «ар-
замасцев». В подтверждение можно было бы привести, например, ряд
отзывов «арзамасцев» о Державине.
A.C. Пушкин пишет о Державине Дельвигу из Михайловского в
июне 1825 г., что «его гений думал по-татарски — а русской грамоты
не знал за недосугом», что «он не имел понятия ни о слоге, ни о гармо-
нии», и т. п.. Это, по оценке Л.И. Тимофеева, «раздраженное, пожа-
луй, замечание»1. Однако даже П. А. Вяземский, в кругу карамзинис-
тов наиболее тепло относившийся к Державину, записывает: «Поэт,
великий поэт Державин опускается нередко до Хвостова, если не
ниже»2. За подобными репликами — объективные перипетии совре-
менной литературной борьбы. Творческое наследие Державина стало
восприниматься как принадлежность враждебного литературного ла-
геря. Крутой поворот в отношении к нему как поэту коснулся и отно-
шения к предложенной им — уникальной вплоть до конца XIX в. —
рифмовке.
Пушкину недопущение ассонансов начинает в 1820-е годы казать-
ся настолько важным эстетическим требованием, что он перерабаты-
вает — дабы избавиться от неточной рифмы — целые стихи. Напри-
мер:
Мыслит: дело я сладил
Глядь, а Балда зайку другого гладит
(Черновик, m III (2), с. 1072)
Ср.:
Мысля: дело с Балдою сладит.
Гладь — а Балда братца гладит.
(Оконч. текст, m /II (1), с. 500)
Зато молодой Пушкин-«Протей» в 1810-е годы не просто учился
у Державина рифмовке — он «портретировал» его стиль. Только
впоследствии державинские ассонансы поэты перестали осваивать, а
вскоре надолго и основательно забыли.
Первую поэму A.C. Пушкина «Руслан и Людмила», как обычно и
бывает с узловыми произведениями раннего творчества, буквально пе-
1 Тимофеев Л.И. Очерки теории и истории русского стиха. С. 372.
2 Вяземский ПА. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 305.
реполняют многообразные семантические отголоски1. Так, уникальная
интонация, выдерживаемая поэтом в этом произведении и сочетающая
эпическую величавость, эротическое изящество и игривую иронию,
представляет собой результат художественного синтеза нескольких
вполне узнаваемых интонационных прообразов2.
Несомненно, весьма важна была для Пушкина «Душенька»
И.Ф. Богдановича. Помимо перенятого им (и преобразованного по-сво-
ему) шутливого тона, свойственного произведению Богдановича, в
«Руслане и Людмиле» есть и сюжетные пересечения с «Душенькой»
(например, Людмила в садах Черномора — Душенька в чертогах Аму-
ра).
На характер интонаций пушкинского произведения повлияла и
поэма Вольтера «Орлеанская девственница», которой Пушкин увле-
кался в годы юности. Образ богатырской головы фигурирует в лубоч-
ной сказке о Еруслане Лазаревиче, которую Пушкин слышал еще в
детстве. Ряд «рыцарских» сцен (например, битва богатыря Руслана со
злым волшебником «карлой» Черномором) перекликается с сюжет-
ными эпизодами «Неистового Роланда» Л. Ариосто. Многие мотивы
поэмы (и даже имя ее героини) восходят к стихотворным «богатырс-
ким повестям» «Алеша Попович» и «Чурила Пленкович», сочинен-
ным сыном А.Н. Радищева Н. Радищевым, а также к сказкам М.Д. Чул-
кова и «Русским сказкам» В.А. Лёвшина. В ряду эпических прообразов,
так или иначе использованных в поэме, выступают также герои былин
и открытого А.И. Мусиным-Пушкиным в самом конце XVIII в. «Слова
о полку Игореве».
Пушкинское «мышление литературными стилями» проявило себя
в «Руслане и Людмиле» и в форме пародии на «Двенадцать спящих
дев» В.А. Жуковского (Ратмир, находящий населенный прекрасными
девушками заколдованный замок), а также в иных шутках над творче-
ством старших русских поэтов-романтиков.
В поэме автором был создан яркий, полный динамики сказочно-
поэтический мир. «Волшебными воротами» в него для читателя слу-
-.il V Ш«
{•I *} 1 У молодого автора недавно выработанные им для себя индивидуальные твор-
ческие приемы, как правило, проявляют себя наиболее концентрированно и «аг-
рессивно».
2 Художественный синтез — еще одно проявление пушкинского «мышления
стилями». Теоретическое описание художественного синтеза как феномена см. в
монографии: Минералова И.Г. Русская литература серебряого века. Поэтика сим-
волизма. М., 1999, 2003, 2006. См. так же: Минералов Ю.И., Минералова И.Г
История русской литературы XX века (1900—1920-е годы.)
219
жило вступление, расположенное перед песнью первой («У Лукомо-
рья дуб зеленый...»), кратко обрисовывавшее основные черты этого
мира:
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей... <и т. д.>'
Далее помимо многих иных сказочно-фантастических атрибутов
возникает даже мотив из еще не написанной «Сказки о царе Салтане»:
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской...
Сказка о Руслане и Людмиле, согласно вступлению, — одна из
сказок, услышанных повествователем от «кота ученого».
Разнородные художественные прообразы, подобные вышеперечис-
ленным, не просто послужили A.C. Пушкину неким «строительным
материалом» для создания этой сказки. Все гораздо сложнее: в созна-
нии образованного читателя-современника от поэмы «Руслан и Люд-
мила» к ним протягивались незримые смысловые нити, и образовыва-
лась сложная сетка аллюзий. Текст поэмы был вплетен в сложные
внешние связи, и это входило в пушкинский замысел. Он был «литера-
турно активен» — возбуждал в памяти читателей сложные и при этом
объективно мотивированные ассоциации с целым рядом отечествен-
ных и западноевропейских произведений. Эти ассоциации усложняли и
частично перестраивали в восприятии современного дворянского чи-
тателя художественную семантику самого текста.
1 Это замечательное вступление еще отсутствовало в первом издании поэмы.
A.C. Пушкин сочинил его для второго издания (1828), в котором в значительной
мере переработал текст (первоначальные варианты приводятся в академическом
собрании сочинений Пушкина).
09П
Поэма «Руслан и Людмила» была первым крупнообъемным про-
изведением A.C. Пушкина, которое он с присущим ему мастерством
сумел влючить в такой широкий семантический контекст. Не слу-
чайно она навсегда стала символом его творчества: так, в романе «Ев-
гений Онегин» он сам обращается к своим читателям, называя их
«Друзья Людмилы и Руслана». Пушкин позже усматривал в этом
своем раннем произведении присутствие версификационной «холод-
ности», но уже ничего не мог «поделать» с его огромной популярно-
стью.
Естественно, впоследствии содержание поэмы в полном его объе-
ме перестало ощущаться читателями. Отзвуки голосов Богдановича,
Ариосто, Вольтера и т. п. для них стали неслышны, и эффект устроен-
ной Пушкиным сложной литературной «игры» был утрачен. Текст по-
эмы замкнулся на самом себе. Как следствие, поэма «Руслан и Людми-
ла» весьма непринужденно перешла в круг чтения для подростков в
качестве увлекательной волшебной сказки с сюжетом, основанным на
мотивах национальной истории и культуры, а параллельно обнаружи-
лось, что многие ее фрагменты прекрасно воспринимаются и детьми
более младшего возраста (вступление, бой Руслана с головой, сраже-
ние Руслана с Черномором и т. п.).
«Песнь о вещем Олеге» стала впоследствии еще одной гениаль-
ной «фантазией на тему» национальной истории, хотя и выполненной в
совершенно ином ключе (здесь A.C. Пушкин не допускает чего-либо
сказочного и основывается на летописном предании об обстоятельствах
гибели князя Олега)1.
«Южные» поэмы A.C. Пушкина «Кавказский пленник», «Бра-
тья-разбойники», «Цыганы» с загадочным героем-изгоем в центре
повествования ввели в русскую литературу целый пласт романтичес-
кой образности и сюжетики, на Западе ранее порожденный Дж. Бай-
роном. Наибольший успех ожидал у современников поэму «Кавказс-
кий пленник».
Пушкинский пленник хранит в «увядшем сердце» некое «лучших
дней воспоминанье», изведал «людей и свет», испытал измену друзей,
клевету и «неприязнь двуязычную»:
1 У «Песни о вещем Олеге» имеются связи с думой К.Ф. Рылеева «Олег ве-
щий». Эти связи проявляются даже в неоднократных чисто текстуальных переклич-
ках наподобие: «Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам...
(Пушкин) — «Горят деревни, села пышут...» (Рылеев); «Твой щит на вратах Ца-
реграда» (Пушкин) — «Прибил свой щит с гербом России К Царь-градским воро-
там» (Рылеев) и т. п.
«21
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
При этом, что очень важно, вместо того, чтобы (как обычно для
романтиков байроновской традиции) переносить действие в условные
экзотические земли, Пушкин нашел необходимую романтическую эк-
зотику непосредственно в России. «Край далекий» герой обнаружил
не столь уж далеко — на нашем Кавказе, где и попал в плен к черке-
сам.
Другие пушкинские сюжеты разворачиваются в Бессарабии, по
которой цыганы кочуют «шумною толпой», «за Волгой», где разбой-
ников «удалых шайка собиралась», в Крыму («Бахчисарайский фон-
тан») — то есть в понятных читателю и даже весьма «модных» тогда
в дворянской среде (как, например, Кавказ) местах1. Это придавало мно-
гим чертам пушкинских романтических произведений черты конкрет-
ности, зримости, создавало для российского читателя весьма полезный
для оптимизации эстетического восприятия эффект «сопричастности»
и как бы незримого личного «присутствия» в сюжете.
Трагический разворот сюжета в «южных» поэмах однотипен.
4$ «Кавказском пленнике», «Цыганах», «Бахчисарайском фонтане»
гибнет героиня, в «Братьях-разбойниках» — один из братьев. Однако
A.C. Пушкин, внешне отдавая в этом дань «ритуалу» романтической
сюжетики, всюду вводит поэтически уникальные мотивировки таких тра-
гических коллизий.
Юноша Алеко, которого «преследуетзакон», найден «за курганом»
и приведен в табор девушкой Земфирой. Он становится ее мужем. Про-
водит всего «два лета», и ветреная Земфира уже вызывающе поет при
#ем песню «Старый муж, грозный муж...». Обнаружив измену, потря-
сенный Алеко, выросший в иных, чем у цыган, понятиях, убивает и но-
гвого возлюбленного Земфиры, и ее саму. Наутро цыганы хоронят уби-
тых, и перед уходом табора старик говорит Алеко:
— Оставь нас, гордый человек.
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
1 Впоследствии именно так же будет поступать в своих романтических «кав-,
казских» поэмах М.Ю. Лермонтов.
222
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас —
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас...
В «Бахчисарайском фонтане» также использован мотив убийства
из ревности. Грузинка Зарема убивает пленную польскую княжну Ма-
рию как соперницу — из-за хана Гирея (впрямую ее деяние не показа-
но, у Пушкина все дается в художественных намеках: есть угроза Заре-
мы, исчезновение Марии из гарема и казнь Заремы). Зато пушкинские
цыганы попросту не понимают побуждений, из которых Алеко совер-
шил убийство, и любой убийца для них «ужасен». В «Цыганах», пусть
и несколько романтически прямолинейно, «естественный» мир детей
шатров, «робких и добрых душою», противопоставляется автором стра-
стному и жестокому миру, из которого явился «злой и смелый» Алеко.
Это, кстати, также мир героя знаменитой пушкинской «Черной шали»,
где, как и в случае с Алеко, «булат загремел», «прервать поцелуя зло-
дей не успел».
Образ Гирея в «Бахчисарайском фонтане» выписан в байроновс-
ком роде (ср. поэму Байрона «Гяур»). Однако это полнокровный об-
раз, имевший (как и образ Марии) реальный исторический прототип,
это образ, поставленный в центр сюжета, разыгрывающегося в конк-
ретном месте на юге России, — замечательное порождение пушкинс-
кого художественного таланта.
Интересно, что автор довольно быстро убирает Гирея из сюжетно-
го действия, а когда он оказывается где-то «за кадром», перед читате-
лем развертывается противостояние двух героинь (Мария в нем фигу-
ра чисто страдательная: это кроткая девушка, проводящая время у
образа Божией матери.). Странности композиции поэмы были замече-
ны и даже обсуждались в современной критике. Так, В.Н. Олин писал в
«Литературных листках», что «в плане оной нет узла или завязки, нет
возрастающего интереса, нет развязки... ибо надобно только догады-
ваться... что Зарема убила Марию и что Гирей после сего велел уто-
пить Зарему. <...>...Хан слишком скоро исчезает со сцены действия, еще
не развернувшегося, <...> действует одна Зарема, и то весьма слабо, а
1 Интересна параллель сюжетов и сюжетных финалов, с одной стороны, «Цы-
ган» и с другой — написанной многим позже повести П. Мериме «Кармен». Ме-
риме знал и ценил творчество A.C. Пушкина, изучал русский язык, чтобы в под-
линнике читать русских писателей, и переводил пушкинскую прозу. См., напр.:
Виноградов А.К Мериме в письмах Соболевскому. М., 1928.
223
прочие выставлены единственно в рассказе, что не дает никакого дви-
жения повести»1. Олину возражал Ф.В. Булгарин, затем он отвечал
Булгарину и т. д., но сам вопрос о якобы «недостатках плана» пушкин-
ской поэмы возник не на голом месте.
В «Бахчисарайском фонтане» A.C. Пушкин отступил от последо-
вательно повествовательного принципа своих предыдущих поэм, ос-
нованного на непрерывном развитии сюжета с равномерным внимани-
ем к его деталям (что представлено и вообще в байронической
традиции). В «Бахчисарайском фонтане» осуществлен замечательный
опыт переключения с внешнего развития сюжета, повествования на
описание (обстановка гарема, внутренний мир героев — Гирей, Ма-
рия, Зарема). Само сюжетное действие стало фрагментарным, оно, по
сути, лишь намечено. Автор неоднократно прибегает к сознательным
«недоговоренностям», внося в содержание определенную загадочность.
Побуждая активно работать читательское воображение, Пушкин ис-
пользует даже внешние приемы — например, оставляет некоторые
строки незарифмованными, что опять-таки создает ощущение недого-
воренности. Например:
...Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство... (курсив мой. — ЮМ.)
Здесь после четырех строк с перекрестной рифмовкой следует пя-
тая, лишенная рифмы.
В итоге применения всех подобных приемов «Бахчисарайский фон-
тан» несет в себе своеобразный «импрессионизм», новый для литера-
туры пушкинского времени и для самого Пушкина. Забегая вперед,
следует упомянуть, что затем повествовательные тенденции в его твор-
честве возобновились («Граф Нулин», «Евгений Онегин», «Домик в
Коломне»).
В 1824 г. «Бахчисарайский фонтан» был издан П.А. Вяземским.
Интересно, что на фоне этого события A.C. Пушкин написал в Михай-
ловском такой цикл своих стихов, как «Подражания Корану». Созда-
ется впечатление, что перипетии выхода поэмы из печати вновь ожи-
вили в нем интерес к культуре Востока. ' j**^
1 Цит. по: Пушкин в прижизненной критике. 1820 — 1827. Спб., 1996. С. 201.
«Протеизм» пушкинского стиля воплотился в этом цикле весьма
выразительно. Коран был известен Пушкину в переводе на русский язык
Веревкина. «Подражания Корану» привлекали внимание исследова-
телей1 Уже отмечалось, что в своих стихах Пушкин свободно варьиру-
ет прообраз, объединяя мысли, выраженные в разных сурах Корана, в
рамках одного стихотворения.
Поворот к драматургии в творчестве A.C. Пушкина ознаменовал-
ся созданием такого мощного произведения, как «Борис Годунов». Од-
новременно это было переходом от романтических фантазий на темы
национальной истории к подлинному историзму.
Шекспир, которого он внимательно читал, находясь в Михайлов-
ском, послужил той точкой опоры, от которой начинающий драматург
творчески оттолкнулся в чисто «пушкинском» направлении и с чисто
пушкинской силой и гибкостью2. Также самостоятельно поступил Пуш-
кин как мыслитель, как исторический философ и с имевшимися в его
распоряжении историческими источниками. Он не поддался влиянию
даже своего учителя Карамзина, его стиля мышления и его историчес-
ких трактовок в «Истории Государства российского». Это видно, на-
пример, по резким отличиям созданного Пушкиным образа «лукавого
царедворца» Василия Шуйского от оценки этой исторической фигуры
Карамзиным, не поскупившимся в отношении Шуйского на хвалеб-
ные эпитеты. Это же следует из характера мимолетных упоминаний в
«Борисе Годунове» личности и правления Ивана Грозного, оценивав-
шегося Карамзиным (в духе западной историографической традиции)
в основном резко отрицательно. Так, в известной сцене пушкинский
1 См.: Фомачев CA. «Подражания Корану»: Генезис, архитектоника и компо-
зиция цикла // Временник Пушкинской комиссии, 1978 /АН СССР. ОЛЯ. Пуш-
кин, комис. Л., 1981. iki» t^ v..
Исследователь отмечает уникальность данного цикла из девяти стихотворе-
ний для творчества А. С. Пушкина, хотя предполагает, что стихотворения «Из Пин-
демонти», «Отцы пустынники и жены непорочны... «Подражание италиянско-
му», «Мирская власть» Пушкин предполагал также объединить в цикл из девяти
произведений, но не реализовал этот замысел.
О циклах стихов А. С. Пушкина см.: Измайлов Н.В. «Лирические циклы в
поэзии Пушкина конца 20—30-х годов» //Измайлов Н.В. Очерки творчества Пуш-
кина. Л., 1975.
2 См.: Алексеев МЛ. Пушкин и Шекспир //Алексеев МЛ. Пушкин: Сравни-
тельно-исторические исследования/АН СССР; Ин-трус. лит.(Пушкинский Дом).
Л., 1972; Бонда СМ. Драматургия Пушкина //Бонда СМ. О Пушкине: Статьи и
исследования. М., 1978.
15—Минералов 225
герой «гордо» (так помечено в авторской ремарке) заявляет Марине
Мнишек:
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —
Царевич я.
Понятно, что гордиться символическим «усыновлением» можно,
лишь полагая «усыновившего» великим государем.
Сделав фактически главным героем «Бориса Годунова» народу
A.C. Пушкин проявил исключительную глубину социально-историчес-
кого мышления. Более того, он сильно опередил свое время. Судя по
всему, Пушкин понимал это последнее — не случайно он несколько
лет не отдавал уже готовую пьесу в печать — характер критики опуб-
ликованного «Бориса Годунова» сразу показал, как мало поняли его
художественную и философскую глубину многие современники (упи-
рая на название произведения, говорили, например, о схематизме, «не-
разработанности» образа Бориса).
Пушкинское восприятие народа как основного вершителя судеб
истории впоследствии оказало несомненное влияние на формирование
социально-исторических воззрений Л. Н. Толстого, который, однако,
развил соответствующий круг идей в романе «Война и мир» несколько
односторонне и даже утрированно (например, практически отрицая роль
единичной личности в истории)1 То, что спустя сорок с небольшим лет
было воспринято читателями «Войны и мира» и обществом в целом
как оригинальная и захватывающе интересная игра ума великого рус-
ского прозаика Л. Толстого (а для ряда людей выглядело просто фило-
софски убедительным), во времена Пушкина во многих вызывало раз-
драженное неприятие.
Как во внешней форме «Бориса Годунова» сочетаются написан-
ные прозой разговоры и стихотворные монологи (в основном испол-
ненные белым стихом, но иногда и рифмованные — как в вышецити-
рованном ответе Самозванца Марине Мнишек), так весьма органично
сочетаются в нем весьма разные интонации — от высоких трагических
(смерть Бориса) до откровенно комедийных (сцена в корчме на литовс-
кой границе, образы Мисаила и Варлаама).
1 См. подробно: Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40—
60-е годы). М., 2003.
22fi 81
Образ Самозванца потрясает своей силой. Беглый монах Гришка
Отрепьев обманом выдал себя за якобы спасшегося от убийц царевича
Димитрия. Вначале он выглядит как вороватый монах-расстрига, у ко-
торого «на щеке бородавка, на лбу другая», и который бежал из мос-
ковского Чудова монастыря, объявив, как безумец или наглый аван-
тюрист: «Буду царем на Москве!» Однако оказывается, что в Отрепьеве
дремала незаурядная личность. Взяв на себя ответственную и сложную
социальную роль «царевича Димитрия», он затем буквально на глазах
читателя превращается в того, за кого он имел дерзость себя выдать.
Вот к нему в Краков начинают стекаться добровольные сторонники.
Среди них Гаврила Пушкин, сын опального воеводы Ивана Грозного
Курбский, «шляхтич вольный» Собаньский, «гонимые холопья» из
Москвы, донской казак Карела, некий поэт и т. д. Каждому из них Са-
мозванец говорит проникновенные, дышащие умом слова. Например,
вот сцена с поэтом:
Поэт (подает ему бумагу).
Примите благосклонно
Сей бедный плод усердного труда.
Самозванец.
Что вижу я? Латинские стихи!
Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом полунощным,
Но мне знаком латинской Музы голос,
И я люблю парнасские цветы. <и т. д.>
Затем Самозванец жалует поэту перстень. В итоге сцена приема
завершается общим возгласом сторонников, восхищенных обаянием
«царевича»:
В поход, в поход! Да здравствует Димитрий,
Да здравствует великий князь московский!
В знаменитой сцене с Мариной у фонтана сам Пушкин в драматур-
гических ремарках в определенном месте перестает ставить слово «Са-
мозванец» и именует своего героя Димитрий. Это происходит именно
на частично приведенном выше монологе «Тень Грозного меня усыно-
15* 227
вила...». Бывший беглый монах Отрепьев перевоплотился в того, за кого
он себя выдавал.
При переходе с полками русской границы Самозванец «едет тихо с
поникшей головой» и объясняет свое состояние Курбскому:
Кровь русская, о Курбский, потечет —
Вы за царя подъяли меч, вы чисты.
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!...
Но пусть мой грех падет не на меня —
А на тебя, Борис-цареубийца! —
Вперед!
Народ как коллективный герой «Бориса Годунова» по ходу разви-
тия сюжета долгое время не обнаруживает своей силы. Это характерно
и для сцены на Красной площади в начале произведения (когда Один
ищет луку, чтобы вызвать слезы, а Другой мажет глаза слюной), и для
одной из центральных в «Борисе Годунове» сцен — на площади перед
собором в Москве, когда юродивый Николка неожиданно отказывает
царю Борису в молитве за него:
«Юродивый.
Борис, Борис! Николку дети обижают.
Царь.
Подать ему милостыню. О чем он плачет?
Юродивый.
Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как
зарезал ты маленького царевича.
Бояре.
09ft
Поди прочь, дурак! схватите дурака!
Царь.
Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка.
(Уходит)
Юродивый (ему вслед).
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица
не велит».
Народ, однако, проявляет себя как в сцене у Лобного места, так и
в красноречивой заключительной сцене произведения. Уже умер Году-
нов, Самозванец победил, и угодливые бояре организуют убийство сына
Годунова — царевича Феодора. Боярин Мосальский объявляет народу
наглую ложь об этом деянии:
«Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы
видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчи-
те? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!
Народ безмолвствует».
В этом зловещем молчании народа уже обозначен исторически
сбывшийся скорый финал правления Лжедимитрия, пришедшего к вла-
сти на волне народной симпатии к «спасшемуся от убийц» маленькому
царевичу, но сброшенного волной народного гнева после того, как люди,
действовавшие ему в угоду, сами обагрили руки невинной кровью1.
Интерес к отечественной истории впоследствии не оставлял A.C. Пуш-
кина. Он реализовал его как поэт, создав «Полтаву», как прозаик — на-
писав «Капитанскую дочку», как исследователь — опубликовав «Исто-
рию Пугачева» и работая над незавершенной «Историей Петра».
Поэма «Полтава» — сложно выстроенное произведение2. Если
судить чисто внешне, в центре поэмы страшная история о любовной
связи девушки Марии, дочери «богатого и славного Кочубея», с соб-
ственным крестным отцом, всевластным гетманом Мазепой. Мазепа в
конце концов казнил после долгих пыток отца Марии, попытавшегося
с ним бороться (Мария после этого сошла с ума). Затем он изменил
1 См.: Алексеев МЛ. Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует» // Алексе-
ев МЛ. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования /АН СССР; Ин-т рус.
лит. (Пушкинский Дом). Л., 1972.
2 См.: Измайлов Н.В. Пушкин в работе над «Полтавой» // Измайлов Н.В.
Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975.
229
России, вступив в тайный сговор с воевавшим против нее шведским
королем Карлом XII, и во время Полтавского боя оказался в одних ря-
дах со шведами.
Но при этом структура «Полтавы» имеет некоторое сходство со
структурой «Бахчисарайского фонтана». Создается впечатление, что
автор не стремится к последовательной повествовательности и к сю-
жетному единству в обычном смысле слова, опять «фрагментируя» про-
изведение и внося в его содержание импрессионистические черты. От-
дельные фрагменты оформлены даже как драматургические диалоги.
Описание долго доминирует над повествованием. Событие с большой
буквы происходит ближе к концу поэмы — это словесно воссозданный
с могучей силой знаменитый Полтавский бой.
Сцены Полтавского боя, образ Петра I — компоненты произведе-
ния, в которых сквозь романтическую атрибутику, еще весьма богато пред-
ставленную в «Полтаве», как бы прорастает новое реалистическое пи-
сательское мировидение Пушкина. Как и в «Борисе Годунове», он
поразительно глубоко осмыслил здесь значение описываемого историчес-
кого события и роль Петра I как победителя в войне с агрессивной Шве-
цией, к моменту Полтавского боя уже захватившей ряд стран Европы.
В финале поэмы «Полтава» автор недвусмысленно заявляет:
Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
1 Их поколенье миновалось —
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе (курсив мой. — ЮМ.)
Обвинения, выдвигавшиеся впоследствии в отношении Петра I и
представителями либеральной интеллигенции, и славянофилами, были
весьма различны по своему характеру (тиран, сбил страну с естествен-
ного пути развития и пр.). Для A.C. Пушкина все подобное перевеши-
вается победой Петра под Полтавой. Здесь он разгромил армию свире-
пого завоевателя, ведшего себя в завоеванных странах как жестокий
оккупант. Победа России в Северной войне спасла ряд народов от ис-
тинного порабощения. Полтава обеспечила самой России почти столе-
тие мирного культурно-исторического развития. На ее независимость
впоследствии долгие десятилетия никто даже не смел посягнуть. В юно-
сти Пушкин своими глазами видел, что попытка другого завоевателя,
Наполеона, сокрушить в 1812 г. российскую имперскую государствен-
ность, основы которой были когда-то заложены Петром I, окончилась
полным крахом.
Именно в силу такой объективной обусловленности пушкинское
отношение к Петру вряд ли могло принципиально измениться впослед-
ствии, хотя некоторые авторы пробовали говорить об этом — в основ-
ном, ссылаясь на свои личные истолкования сложной по смыслу поэмы
«Медный всадник».
Царь построил «на берегу пустынных волн», в месте, малопригод-
ном и даже опасном для человеческого обитания, столицу империи,
одновременно — ее военный форпост. Впоследствии страшное навод-
нение 1824 г. затопило город, и вода погубила возлюбленную героя,
молодого чиновника. Обезумевший от горя юноша винит во всем Пет-
ра. Словом, в этой поэме, не пропущенной цензурой при жизни Пуш-
кина, представлено столкновение интересов единичной личности с го-
сударственной волей, олицетворенной в статуе Петра I.
Отрицательное отношение A.C. Пушкина к другому историческо-
му деятелю, Мазепе, преломившееся в созданном им образе, основано
на исторически реальных фактах как морального, так и политического
порядка:
Забыт Мазепа с давних пор!
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор.
Вполне очевидна художественно-смысловая перекличка образа
Мазепы в «Полтаве» и центрального образа написанной ранее поэмы
К.Ф. Рылеева «Мазепа»1.
К историческому прошлому обращены и пьесы из «болдинского»
цикла «Маленькие трагедии» — «Скупой рыцарь», «Каменный
гость», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы». СМ. Бонди
видел в них своего рода драматургические этюды, «лабораторию дра-
матурга»2. «Мышление литературными стилями» здесь проявляется во
1 Информацию исторического характера об этом деятеле Пушкин почерпнул,
как отмечалось исследователями, из «Жизнеописания Мазепы» А.О. Корниловича.
2 См.: Бонди СМ. Драматургия Пушкина // Бонди СМ. О Пушкине: Статьи и
исследования. М., 1978.
231
всей своей силе. A.C. Пушкин прямо помещает в центр двух произве-
дений цикла «мировые образы» Скупого и Дон Жуана, в третьем во
главу угла ставит столь же общезначимый мотив снедающей Сальери
творческой зависти, тему «гений и злодейство», вопрос об «алгебре и
гармонии» в искусстве1 Сюжет о Дон Жуане под его пером претерпе-
вает уникальный художественно-психологический поворот: пушкинс-
кий Дон Гуан с его глубоким, но запоздалым самоосуждением в извест-
ном смысле противоположен, например, кощунствующему до конца
герою Мольера. Что до компактной формы «маленьких трагедий», ис-
следователи так или иначе указывают на ее творческую связь с формой
«Драматических сцен» Барри Корнуола, прочтенных Пушкиным нака-
нуне работы над циклом (составившие цикл произведения замышля-
лись Пушкиным многим ранее). Имеет смысл указать и на их связь с
тоже компактной формой писавшихся параллельно в Болдине «Повес-
тей Белкина».
«Маленькие трагедии» неизменно воплощают предельно острую
ситуацию (столкновение скупого отца с сыном, приход кДон Гуану ожив-
шей статуи убитого им Командора, отравление завистником гения, вы-
мучен но-беззаботный пир во время эпидемии страшной болезни). Ос-
трота ситуации срывает с душ героев покровы, в которые они пытаются
рядиться, и обнажает их истинные характеры. Так, барон, позорящий
свое рыцарство низким ростовщическим занятием, привык внушать
себе, что деньги для него — лишь средство завоевания власти. Разви-
тие сюжета беспощадно открывает, что деньги для «скупого рыцаря» —
самоцель.
Развертывающаяся на сцене ситуация раскрывает даже бессоз-
нательные намерения и чувства геров — так, Моцарт косвенным
смыслом некоторых реплик «выдает» свое ощущение, что перед ним
убийца2.
Некоторые мотивы «маленьких трагедий» будут творчески изощ-
ренно разработаны A.C. Пушкиным впоследствии (ожившая статуя
Командора — ожившая статуя Петра в «Медном всаднике»).
Реалистические тенденции, незримо аккумулировавшиеся в пуш-
кинской поэзии, нашли свое концентрированное выражение в романе
1 Созданный Пушкиным образ не следует прямо соотносить с реальным ком-
позитором Сальери. По сей день не доказано, что он повинен в смерти Моцарта.
Пушкин болдинской осенью 1830 г. с доверием отнесся к слухам, гулявшим после
смерти Сальери, последовавшей в 1825 г.
2 См.: Боной СМ. «Моцарт и Сальери» II Боной СМ. О Пушкине: Статьи и
исследования. М., 1978.
ООП
в стихах «Евгений Онегин»1. Первое полное издание романа вышло в
марте 1833 г.
Как писал Ю.М. Лотман, в этом произведении «текст и внетек-
стовой мир органически связаны, живут в постоянном взаимном от-
ражении, перекликаются намеками, отсылками, то звуча в унисон, то
бросая друг на друга иронический отсвет, то вступая в столкновение»;
«онегинский текст изобилует цитатами и реминисценциями»2. Иссле-
дователь тут же приводит ряд примеров этого явления, с которым мы
уже многократно сталкивались ранее в других пушкинских произве-
дениях и которое проистекает из протеистического характера стиля
Пушкина. Принципиально новым (сравнительно с романтическими
произведениями A.C. Пушкина) в этом плане будет обилие в романе
намеков на «мелочи» (выражение Ю.М. Лотмана) современного ему
быта.
Эту последнюю черту данный исследователь истолковывает как
проявление реализма. Однако еще более показательно в плане реа-
лизма не внимание автора к деталям быта, а стремление его, не ог-
раничиваясь постановкой героев в те или иные внешние сюжетные
ситуации, определенным образом раскрывать их внутренний мир.
Важно и авторское стремление к типизации характеров героев. С
образа Онегина в русской реалистической литературе пошел тип
«лишнего человека», который вскоре продолжился лермонтовским
образом Печорина.
Произведение начинается со знаменитого «Мой дядя самых чест-
ных правил...» В таком стиле «молодой повеса» Евгений Онегин, «летя
в пыли на почтовых», размышляет о своем вызове в деревню, к одру
болезни богатого дяди. Н.Л. Бродский в комментарии указывает, что
перед читателем «ироническое применение к дяде стиха из басни Кры-
лова «Осел и мужик»3. Ю.М. Лотман в своем комментарии оспарива-
ет эту интерпретацию, но, думается, прав Н.Л. Бродский.
1 Среди огромной по объему филологической литературы о романе «Евгений
Онегин» в учебном пособии следует указать прежде всего на два комментария. Это
книга Н.Л. Бродского «Евгений Онегин». Роман A.C. Пушкина. Комментарии (Изд.
5-е. М., 2005) и книга Ю.М. Лотмана «Роман A.C. Пушкина «Евгений Онегин».
Комментарий» (Л., 1980 и др. изд.). По содержанию эти две высокоценные книги
взаимодополнительны и в ряде случаев уточняют друг друга.
2 Лотман ЮМ. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.,
1980. С. 8-9.
3 Бродский H.JÎ. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий.
С. 28.
233
Роман писался несколько лет, и образ Онегина претерпевал в нем
впечатляющую эволюцию. Пушкин в итоговой работе над романом
(явно совершенно сознательно) не стал сглаживать внутреннюю про-
тиворечивость этого образа. В окончательном тексте Евгений Онегин
в первой главе по-прежнему предстает легкомысленным светским ще-
толем. Он даже нигде не служит — что, по справедливому замечанию
Ю.М. Лотмана, «решительно делало» его «белой вороной в кругу со-
временников»1. Поскольку текст романа не дает оснований видеть в
этом неслужении какой-либо идейный «вызов обществу» со стороны
героя, данный нюанс характеризует Онегина первой главы чисто отри-
цательно. Черты духовной незаурядности, проявляющиеся в его обра-
зе позже, довольно неожиданны для читателя2.
Автор называет однажды Онегина (строф. XXIV первой главы) «фи-
лософом в осьмнадцать лет», однако эта характеристика не только не под-
готовлена предыдущим содержанием главы и потому отдает иронией, но и
появляется в тексте на фоне описания столичного кабинета героя, зас-
тавленного «Всем, чем для прихоти обильной/ Торгует Лондон щепетиль-
ный /И по Балтическим волнам/ За лес и сало возит нам». Зато когда
впоследствии Татьяна в деревне тайно посещает «барский кабинет» уехав-
шего Онегина, она видит здесь не изобилие модной парфюмерии, а «лор-
да Байрона портрет», «столбик с куклою чугунной» (статую Наполеона)
и притом «груду книг», при чтении которых «ей открылся мир иной».
При всем том именно непредсказуемость эволюции главного ге-
роя романа делала его образ динамическим, создавала ощущение, что
перед читателем биография «живого человека» со всеми присущими
ему скрытыми до поры от других глубинами личности, «диалектикой
души», метаниями и неожиданными поворотами судьбы. Усиливая в
читателе этого рода ощущения, A.C. Пушкин даже прибег к любопыт-
*юму приему шутливой мистификации: он неоднократно заявляет, что
лично знаком с Онегиным, что тот его «добрый приятель» и т. п.3
1 Лотман ЮМ. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 49.
2 Ср.: Лотман ЮМ. К эволюции построения характеров в романе «Евгений
Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы /АН СССР Ин-т рус. лит. (Пуш-
кинский Дом). М.; Л., 1960. Т. 3.
3 Отталкиваясь от подобных особенностей, Б. Иванов в свое время написал
замечательную «фантазию на тему» романа «Евгений Онегин».
См.: Иванов Б. Даль свободного романа. М.; Л., 1959.
См. также нашу полемику с Ю.М. Лотманом по поводу его оценки данного
произведения: Минералов Ю.И. Да это же литература!//Вопросы литературы.
1987. №5. С. 65-67.
OQ/1
Татьяна Ларина сразу является в романе как умная от природы,
начитанная девушка. В ряду сверстниц она выглядит странной: в отли-
чие от сестры Ольги, не любила участвовать в играх других детей («она
в горелки не играла»), повзрослев, не интересуется женским рукоде-
лием («Узором шелковым она Не оживляла полотна») и ощущает внут-
реннее одиночество. Она хорошо владеет французским, что может быть
понято как ее высокая личная способность к иностранным языкам (в
романе нет упоминаний о каких-либо ее учителях или гувернантке). Од-
новременно Татьяна предельно искрения и при этом житейски неопыт-
на, что в сочетании и создает ситуацию с ее письмом к Онегину, в кото-
рого она так безоглядно влюбилась. Случилось это не столько под
влиянием прочитанных романов — хотя Пушкин упоминает, как Тать-
яна «одна с опасной книгой бродит», «Воображаясь героиней Своих
возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной...»1. Она ощу-
тила в Онегине и сходное внутреннее одиночество, и некоторую духов-
ную близость себе.
Характер Татьяны противоположен онегинскому своей внутренней
цельностью, ясностью принципов. В финальном объяснении она имеет
твердость заявить Онегину:
«...Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».
Чистота сердца помогает Татьяне верно чувствовать то, чего она
не может однозначно осмыслить. Люди того самого дворянского «выс-
шего света», из которого явился в деревню дяди Онегин, становятся до
предела ясны ей уже по первым впечатлениям от московской жизни:
Всё в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно...
В известном смысле особняком стоит фигура Владимира Ленско-
го, обрисованная со скрытой иронией над особенностями облика и бы-
тового поведения «романтических юношей»:
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
1 Героини произведений Ричардсона, Руссо и Ж. де Сталь.
235
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
«Кудри черные до плеч» упомянуты в одном ряду с «вольнолюби-
выми мечтами» уже явно в целях иронического снижения образа ге-
роя. Далее через строфу по тексту следует характеристика мировиде-
ния этого юноши, которая одновременно оформлена как поток
стихотворной фразеологии романтиков:
Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника...
В этом перечислении следует отметить аллюзию, относимую к бал-
ладе Шиллера «Порука» (друг, идущий в тюрьму за друга). Однако она
встроена в общую цепочку расхожих «книжных» мотивов. Сам Ленс-
кий в своих стихах «пел разлуку и печаль, И нечто, и туманну даль,
И романтические розы...» — то есть воспроизводил общие места ро-
мантизма. Романтические клише переполняют и предсмертные стихи
Ленского («Куда, куда вы удалились, Весны моей златые дни?» и т. д.).
После гибели Ленского на дуэли Онегин уезжает. «Путешествие
Онегина» публикуется ныне в виде приложения к роману, вне его девяти
глав. Особую проблему составляет и так называемая «десятая глава».
Степень и форма принадлежности к роману обозначаемого так ис-
следователями текста, написанного «онегинской строфой» (разрабо-
танной автором для «Евгения Онегина»), по сей день проблематична.
Данный текст был зашифрован A.C. Пушкиным (несомненно, в силу
своей политической остроты). Впоследствии замечательный пушкинист
С. М. Бонди предложил метод его расшифровки1.
1 См. об этом: Томашевский Б.В. Десятая глава «Евгения Онегина»: История
разгадки // A.C. Пушкин: Исследования и материалы. М., 1934. (Лит. наследство.
Т. 16—18). Ср.: Обручев СВ. К расшифровке десятой главы «Евгения Онегина»
// Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.;
Л., 1939. Вып. 4/5.
fifv Расшифрованный текст содержит много внесенных автором смыс-
ловых пропусков, но позволяет понять, что речь в нем идет об атмос-
фере, в которой готовилось восстание декабристов, и об участниках де-
кабристских тайных обществ. Четкой связи с сюжетом романа в нем
нет, но его публикация породила в советском литературоведении ус-
тойчивые гадания, не станет ли Онегин «в будущем» декабристом —
гадания, не имеющие под собой почвы в реально написанном характе-
ре главного героя и в романе как таковом.
К структурным особенностям «Евгения Онегина» относятся и так
называемые «пропущенные строфы»1. Установлено, что в части случа-
ев точками обозначены не только реально вычеркнутые автором стро-
фы: иногда «пропущенные» строфы вообще не создавались, то есть
перед читателем некий авторский художественный прием. Функции его
в целом ясны и отчасти аналогичны фунциям эллипсиса в языке. Чита-
тели так или иначе «от себя» наполняют соответствующие места смыс-
лом. Например, иногда «пропуск строф» может восприниматься как
перерыв во времени. Могут быть и иные многообразные конкретные
осмысления этого приема.
Как лирический поэт A.C. Пушкин неуклонно совершенствовался.
Набирала энергию и силу его мысль, творчество обретало характер
философской поэзии, что видно, например, по стихотворениям «Зорю
бьют... из рук моих...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...»,
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Суровый Дант не презирая
сонета...», «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной...»),
«Элегия» («Безумныхлет угасшее веселье...»), «Стихи, сочинен-
ные ночью во время бессонницы», «Пора, мой друг, пора! покоя сер-
дце просит...», «...Вновь я посетил», «Когда за городом, задум-
чив, я брожу...», «Памятник», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...» и др. В стихах нарастали мотивы грусти, внутрен-
него одиночества, непонятости и т. д., возникали размышления на темы
жизни и смерти. Однако именно такие его стихи все реже встречали
отклик в душах читателей-современников.
В русской литературе 1830-х годов вообще засвидетельствовано
заметное падение интереса авторов и читателей к лирике. Примени-
тельно к A.C. Пушкину это проявилось в ослаблении контакта с совре-
менным читателем, когда последний соприкасался с его наиболее зре-
1 См.: Гофман М.Л. Пропущенные строфы «Евгения Онегина» // Пушкин и
его современники: Материалы и исследования / Комис. для изд. соч. Пушкина при
Отделении рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. Пб., 1922. Вып. 33/35.
237
лыми стихотворениями, впоследствии признанными вершинами пуш-
кинского творчества. Общей тенденцией в эти годы становится тяга
стихотворцев к созданию сюжетных повествовательных произведений1.
Сюжет в русской литературе первой трети XIX в. был вполне орга-
ничной принадлежностью поэзии. Однако в наиболее характерных про-
явлениях он обнаруживал себя здесь во многом иначе, чем в прозе.
Поэтический сюжет обычно лишь «эскизно», кратко «намечался» (на-
пример, путем констатации исходного события), а развивался с пред-
намеренной неравномерностью, с различными пропусками деталей,
рассчитанными на читательское сотворчество. Рационально четкие
прозаические мотивировки сюжетного развития в поэзии могли заме-
няться прихотливым ходом ассоциаций автора. Напротив, в прозе сю-
жетное развитие происходило от причины к следствию, в нем была обыч-
ной ясная внутренняя логика. Повествовательные детали вводились и
с большей или меньшей подробностью описывались в прозе в зависи-
мости от их смысловой весомости.
Уже «роман в стихах» «Евгений Онегин» и такие поэмы Пушки-
на, как «Граф Нулин», «Домик в Коломне», неоконченный «Езерский»
и другие, развивают сюжет в манере, свойственной прозе — поступа-
тельно, с обилием подробностей, с логически ясными переходами по-
вествования от причины к следствию, равномерным вниманием к дета-
лям и т. п.). В них при этом полноценно сохраняются метр и стиховая
структура в целом, а в случае «Евгения Онегина» и «Домика в Колом-
не» — также специальная стиховая строфика: например, «Домик в
Коломне» неожиданно написан итальянскими октавами, о чем поэт в
начале поэмы шутливо говорит:
Четырестопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным давно приняться за октаву...2
1 Здесь и далее подразумевается объективно выраженный словесными сред-
ствами сюжет, сюжет в прямом узком смысле термина. Понятие «лирический сю-
жет», подразумевающее условно реконструируемый исследователем процесс «раз-
вития чувства» в произведении и имеющее определенное хождение в
литературоведческой среде, в пособии не обсуждается и не имеется в виду.
2 О данной поэме A.C. Пушкина см.: Фомичев CA. К творческой истории по-
эмы «Домик в Коломне»: (Наблюдения над рукописью) // Временник Пушкине-1
кой комиссии, 1977 / АН СССР ОЛЯ. Пушкин, комис. Л., 1980.
Объективно карамзинисты резко углубили намечавшиеся класси-
цистами повествовательные тенденции в поэзии. В то же время сти-
хотворное произведение, содержащее подробно развитый по «прозаи-
ческому» образцу сюжет, в принципе, может быть освобождено от
стихотворной формы, и это не столь уж трудная процедура (в данном
случае подразумевается чисто теоретическая возможность подобных
действий художника). Встречным образом, рассказ или повесть могут
быть переработаны в повествовательную поэму.
«Евгений Онегин», обозначенный Пушкиным как «роман», и
«Медный всадник», обозначенный автором как «повесть», являя со-
бой великолепно удавшиеся примеры создания поэтических аналогов
жанрам прозы, помимо жанровых названий заимствовали у прозы и ис-
торически сложившиеся в ней вышеупомянутые особые приемы сю-
жетоизложения и более широко — некоторые свойственные прозе при-
емы развития художественного содержания. Как итог, нараставшие на
протяжении 1830-х годов тенденции к повествовательности, логичес-
кой проясненности и гипертрофированной сюжетности в сфере поэзии
могут быть мотивированно истолкованы как ее структурная «прозаи-
зация».
Следует оговориться, что повествовательные поэтические произве-
дения 1830-х годов сохраняли такой важный признак, в ту эпоху одно-
значно увязывавшийся с поэзией, как рифмовка. Тем интереснее, что у
A.C. Пушкина в эти годы проявлялся скепсис в отношении рифмы.
В «Домике в Коломне» он иронически предупреждает читателя о
своем переходе на глагольную (то есть наиболее примитивную) рифму:
«Отныне в рифмы буду брать глаголы». А в «Путешествии из Москвы
в Петербург» (заметка «Русское стихосложение») Пушкин пишет:
«Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в рус-
ском языке слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуе-
мо тащит за собою камень. Из-за чувства выглядывает непременно
искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, вер-
ный и лицемерный, и проч.». Пушкин и сам неоднократно прибегал к
безрифменному стиху — хотя в самом своем прогнозе «перехода» на
него поэзии оказался неправ, не приняв во внимание (или «не посчи-
тав за рифму») ассонансы.
На протяжении 1830-х годов повествовательные тенденции у Пуш-
кина нарастали в поэтических «крупных формах» — поэмы «Домик в
Коломне», «Медный всадник», стихотворные сказки и др. Сказки Пуш-
кина даже вызвали к жизни гениального «Конька-Горбунка», стихот-
ворную сказку молодого П. П. Ершова.
239
Петр Павлович Ершов (1815—1869) — поэт-сибиряк, ро-
дился в Ишимском уезде Тобольской губернии в семье чиновника,
закончил философско-юридическое отделение Петербургского
университета. В студенческие годы опубликовал сказку «Конек-
Горбунок» (1834). Писал лирические стихи, рассказы, сочинил
пьесу «Суворов и станционный смотритель» (1835). После
окончания университета вернулся на родину, где добросовестно
служил учителем, затем директором Тобольской гимназии и от-
далился от литературной жизни.
Параллельно Пушкин развернул успешную работу в жанрах, по-
вествовательных по самой своей природе — прозаических («Повести
Белкина», роман «Дубровский», повести «Пиковая дама», «Капитан-
ская дочка» и др.). Не случайно на фоне повествовательных поэм Пуш-
кин пишет свою лаконичную по форме прозу. Между такой поэзией и
такой прозой есть чисто структурная близость1.
Найденная Пушкиным форма сжатой лаконической прозы впос-
ледствии оказала влияние на И. С. Тургенева, да и для стиля А. П. Че-
хова при его формировании была весьма небезразлична2. Подобно тому
же Тургеневу, начинавшему как поэт, Пушкин не без труда освоил про-
заическое творчество. «Повести Белкина» («Выстрел», «Метель»,
«Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»)
были первыми художественными прозаическими произведениями, за-
конченными А. С. Пушкиным — примыкающая к ним «История села
Горюхина» была тоже начата в Болдине, но осталась недописанной)3.
Прозе Пушкина исследователи уделяли немало внимания4. Ей да-
1 Любопытно «совместное бытование» прозы и сюжетной поэзии в рамках
неоконченных пушкинских «Египетских ночей».
2 См.: Минералов ЮМ. История русской литературы XIX века (40^60-е годы);
Минералов Ю.И., Минералова И.Г. История русской литературы XIX века (70—
90-е годы).
3 Разумеется, работа в сфере литературной критики, публицистики, как и твор-
чество в иных прикладных для литературы жанрах, успешно практиковались Пуш-
киным как ранее, так и позже «Повестей Белкина». Ср. такие его произведения,
как «Путешествие в Арзрум», «Вольтер», «Записки бригадира Моро-де-Бразе»,
«Джон Теннер», «Путешествие из Москвы в Петербург» и т. п. («Джона Теннера»
некоторые исследователи склонны относить к разряду художественных произведе-
ний).
4 См., напр.: Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы» // Пушкин: Временник
Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.; Л., 1936; Лежнев А.
ОАП
вались весьма различные интерпретации (вплоть до популярной одно
время гипотезы о «пародийности» «Повестей Белкина»).
Останавливает на себе внимание уже лишенный романтических
украшений, но при этом глубоко своеобразный слог пушкинской худо-
жественной прозы. Слог этот в основных своих чертах сформировался
весьма рано — уже ко времени работы над «Арапом Петра Великого».
От многих приемов выразительности, активно применявшихся в прозе
современных ему прозаиков-романтиков, Пушкин демонстративно от-
казывается. Создается впечатление, что его внутренне не удовлетво-
ряет и чересчур нагруженный перифразами слог представителей карам-
зинской традиции. Известно, что П. Мериме усматривал в слоге
пушкинской прозы влияние языка французской прозы XVIII в. Он даже
писал Соболевскому:
«...Я... перевел повесть Щушкина] «Пиковая дама». Мне кажет-
ся, что фраза пушкинской «Пиковой дамы» совершенно французская,
я подразумеваю французский язык XVIII в., потому что не пишут боль-
ше с должной простотой в наше время. Я себя спрашиваю иногда, уж
не думаете ли вы, Бояре, по-французски перед тем, как написать по-
русски?»1
Субъективные ощущения П. Мериме частично основаются на фак-
те родства двух индоевропейских языков, русского и французского,
имеющих ряд однотипных лексико-синтаксических черт. Следует отме-
тить, что такая ранняя стабилизация прозы A.C. Пушкина в сфере сло-
га не означает отсутствия в ней внутреннего художественного разви-
тия, эволюции. Наглядно и очевидно эволюционировало семантическое
наполнение этого слога. Глубина философско-художественного осмыс-
ления Пушкиным как писателем проблем сущего быстро и неуклонно
увеличивалась по мере его творческого развития. Достаточно сравнить
в данном плане того же «Арапа Петра Великого» с «Пиковой дамой»
(или с относительно близкой к нему по изображаемой эпохе «Капитан-
ской дочкой » ). Пушкин не просто брался за все более сложные темы —
он все глубже осмысливал даже внешне аналогичную проблематику.
Проза Пушкина: Опыт стилевого исследования. М., 1937; Фомичев CA. Проза
Пушкина: (Начальный этап и перспективы эволюции)// Временник Пушкинской
комиссии / АН СССР ОЛЯ. Пушкин, комис. Л., 1987; Петрунина H.H. Пушкин
на пути к роману в прозе: «Дубровский» // Пушкин: Исследования и материалы /
АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Л., 1979. Т. 9; СидяковЛ.С. Художе-
ственная проза A.C. Пушкина. Рига, 1973, и др.
1 Французский текст цит. по: Виноградов А/С Мериме в письмах Соболев-
скому. М., 1928. С. 99 (перевод наш).
16—Минералов 241
Параллельно прозе вышеотмеченное происходило с Пушкиным-по-
этом — достаточно указать на «Медный всадник», сопоставив его с
ранними поэмами.
Повествователь в «Повестях Белкина» умело подается автором
читателю как обычный человек, простодушно записавший несколько
услышанных от других бытовых историй. Между тем в самих сюжетах
этих историй проступает весьма сложный символический смысл, ощу-
тимый даже в их заглавиях. При этом они умело вписаны в обширный
культурно-исторический и литературный контекст. Столь же глубоко
символично многое и в «Пиковой даме» — начиная с перипетий кар-
точной игры.
A.C. Пушкин осуществил философское углубление ряда бытовав-
ших до него в русской прозе сюжетно-композиционных традиций. Он
преобразовал сентименталистские мотивы своего учителя Н.М. Ка-
рамзина (например, «Метель», «Барышня-крестьянка»), философс-
кой фантастики В.Ф. Одоевского («Гробовщик», «Пиковая дама»), ро-
мантической беллетристики Марлинского («Выстрел») и т. д. Есть
основания говорить и о том, что пушкинская проза в известном смысле
драматургична. Наконец, по ряду несомненных признаков, наподо-
бие обилия лирических мотивов, это проза поэта в литературоведчески
конкретном смысле. Тем самым проза Пушкина представляет собой итог
проведенного автором синтеза жанров.
Любовные линии, как правило, играют большую роль в прозе
A.C. Пушкина. Это характерно уже для «Метели», «Станционного
смотрителя» и «Барышни-крестьянки». Особняком в данном плане
стоит «Пиковая дама», где есть искреннее чувство Лизы и слабые рос-
тки аналогичного чувства, шевелящиеся в душе Германна, но перекры-
ваемые маниакальным желанием обогатиться. Зато в центре «Капи-
танской дочки» именно трогательная любовь Петруши Гринева и Маши
Мироновой. Любовь эта дана на фоне страшных перипетий Пугачевс-
кого восстания, и его главарь невольным образом многократно вмеши-
вается в судьбы героев.
Как историческая повесть «Капитанская дочка» относится к
классике жанра. Пушкин глубоко изучил изображаемую эпоху. По сте-
пени проникновения в нее, естественности подачи ее реалий пушкинс-
кую повесть можно сравнить, прежде всего, с романом Л.Н. Толстого
«Война и мир». Отлично выписаны выглядящие буквально «как жи-
вые» главные герои — стремянной Савельич, Пугачев, семья Миро-
новых. Параллельно, как почти всегда у Пушкина, повесть глубоко
«утоплена» в мир литературы, пронизана сетью связанных с ним ассо-
циаций.
242 Д|
«Мышление литературными стилями» внутренне осложняет и обо-
гащает художественный мир пушкинской прозы1. Более живо, чем мы,
это ощущали современники, а современные писатели в меру личных
сил учились пушкинскому умению синтезировать многообразные голо-
са, доносящиеся из культурно-исторического прошлого, вписывать со-
здаваемое произведение в современный культурный контекст.
Художественной самобытности и в литературе и в несловесных ис-
кусствах талантливые авторы достигают отнюдь не самоцельным вы-
думыванием чего-то небывалого, абсолютно нового. Образы, сюжеты,
сюжетные мотивы и т. п., ранее кем-то созданные и давно присутству-
ющие в литературном процессе, незаменимы такой выдумкой, сколь
бы «свежа» и «оригинальна» она ни была. Дело здесь в специфичес-
ких свойствах художественной семантики. Смысловая насыщенность
той или иной новинки не может идти ни в какое сравнение с теми ог-
ромными смысловыми наслоениями, которыми «обросли» так называ-
емые «вечные» или просто долго живущие в литературе образы и сю-
жеты. Помимо всего прочего такие традиционные сюжеты и образы
«опутаны» сложнейшими ассоциативными связями с многочисленны-
ми явлениями искусства и жизни. Если писателю удается применить
все это по-своему, создав, например, собственный образ «вечного»
образа или «повернутый» по-своему образ традиционного сюжета, ав-
тор получает в создаваемом произведении своего рода конденсат худо-
жественного смысла. Но именно потому, что это не просто некий «кир-
пичик», где-то взятый и уложенный в новую постройку, а нечто активно
воздействующее на содержание произведения «изнутри» и притом воз-
действующее в самых непредсказуемых направлениях, таким конден-
сатом надо уметь пользоваться. И, по всей видимости, такое умение
жестко обусловливается силой самобытного дара, яркостью творчес-
кой личности художника.
Пушкин в своем личном творчестве как бы заставил родную словес-
ность на огромной скорости промчать то расстояние, которое западные
литературы естественным порядком проходили на протяжении веков. Он
создал «национальные варианты» основных имеющих международное
хождение образов и сюжетов и содержательно переосмыслил их. Внешне
эти его действия выглядели то как увлечение греческой антологией или
Байроном, то как подражания Корану или песням южных и западных сла-
1 Как еще один пример этого, сравните примеры, разбираемые в работе: То-
машевский Б.В. Пушкин и романы французских романтиков: (К рисункам Пушки-
на) // A.C. Пушкин: Исследования и материалы. М., 1934. (Лит. наследство;
Т. 16—18).
16* 243
вян, то как преломление опыта шекспировских хроник (в народной драме
«Борис Годунов») и т. д. и т. п. Но так он ввел в русский обиход и преобра-
зовал, адаптировал к нашей ментальности и традициям нашей словеснос-
ти целые мощные образно-ассоциативные ряды.
A.C. Пушкин — гений русской литературы, благодаря кото-
рому она за короткое время сделала мощный рывок вперед. Каж-
дая написанная им строчка бесценна. Пушкинская традиция ока-
залась неисчерпаемой по своим возможностям на протяжении
уже почти двух веков. Она по-прежнему воздействует на лите-
ратурный процесс. Пушкин — по сей день путеводная звезда по-
этов, прозаиков и драматургов.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ
(1809-1852)
Николай Васильевич Гоголь (Гоголь-Яновский) — великий проза-
ик и драматург, сын малороссийского помещика-комедиографа, друга
и соседа одного из ярчайших писателей конца XVIII в. В.В. Капниста;
учился два года в Полтавском уездном училище, затем в «гимназии
высших наук» г. Нежина; с конца 1828 г. жил в Петербурге, где с фев-
раля 1831 г. преподавал историю в Патриотическом институте; затем в
1834 г. был назначен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей ис-
тории при Санкт-Петербургском университете; стал профессиональ-
ным писателем; подолгу жил за границей; умер от нераспознанной
болезни.
Головокружителен творческий рост Гоголя от ранней поэмы (под
псевдонимом В. Алов) «Ганц Кюхельгартен» ( 1829), почти весь тираж
которой был уничтожен самим разочарованным в своем стихотворном
произведении автором. Сборник романтических повестей в двух частях
«Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные■авечником
Рудым Паныюм» ( 1831 — 1832), глубоко укорененных в украинский
фольклор, в его сказочно-фантастические мотивы, — сразу прославил
Гоголя. Первая часть сборника включала повести «Сорочинская яр-
марка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утоп-
ленница» и «Пропавшая грамота», вторая — повести «Ночь перед
Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его
тетушка» и «Заколдованное место».
В 1835 г. вышли новые сборники Гоголя «Арабески» (в двух частях)
и «Миргород». Состав «Арабесок» неординарен: здесь опубликованы
лекции и конспекты по истории, статьи о русской литературе, о малорос-
сийских песнях, о музыке, скульптуре, о картине Брюллова и т. п., наряду
с которыми фигурируют первые «петербургские» повести «Невский про-
спект», «Портрет», «Записки сумасшедшего». Сборник «Миргород»
еще выше поднял имя молодого писателя. В него вошли повести «Старо-
светские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
245
Параллельно складывалась и росла известность Н.В. Гоголя как
драматурга. Его путь от неоконченной комедии «Владимир 3-й степе-
ни» к гениальной комедии «Ревизор» ( 1836) воистину грандиозен. Ясно
ощущавшиеся современниками литературные параллели к сюжету
«Ревизора» («Приезжий из столицы» ГФ. Квитки-Основьяненко, «Не-
истовый Роланд» А.Ф. Вельтмана, «Ревизоры» H.A. Полевого и др.)
дополнительно оттеняли в их глазах особую силу и совершенство именно
гоголевских творческих решений1 Последующие комедии «Игроки»
(1842) и «Женитьба» такого успеха уже не имели («Женитьба» в пер-
вой постановке 1842 г. сначала была воспринята критикой даже как
авторская неудача).
С рубежа 1840-х годов была в особенности востребована обще-
ством новая реалистическая проза Гоголя, первые образцы которой
появились в сборнике «Арабески». Гоголевская склонность к фанта-
стике весьма органично сочеталась с мастерством описания совре-
менного быта — например, повесть «Нос» (1836). Особенное влия-
ние на современную ей русскую литературу оказала повесть
«Шинель» (1842). Гоголевский образ «маленького человека», раз-
вивавший далее мотивы пушкинского «Станционного смотрителя»,
многое подсказал другим писателям, начиная с Достоевского с его
«Бедными людьми».
В том же году, что и «Шинель», появился первый том «Мертвых
душ» (1842). Жанр прозаического произведения был обозначен как
«поэма». Это озадачило не столько современников, которые привык-
ли к широкому осмыслению слова «поэзия» и его производных, сколь-
ко потомков, не раз пытавшихся истолковывать «поэму», обращая вни-
мание на обилие в тексте «лирических отступлений», усматривавших в
произведении скрытую пародию на романтическую поэму с экзотичес-
ким местом действия и загадочным героем в центре (Чичиков, скупаю-
щий мертвые души), и т. п.
Публицистическая мысль Н.В. Гоголя преломилась в таких его
произведениях, как «Размышления о Божественной Литургии» (1847)
и «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Последнее
вызвало ожесточенную критику со стороны В.Г. Белинского, усмотрев-
шего в нем «измену» Гоголя идеалам «цивилизации, просвещения, гу-
манности» западного образца, примирение с государственным и обще-
ственным устройством современной России, а также особенно
взбесивший критика «гимн» Православию («Письмо Н.В. Гоголю»).
1 К «Ревизору» примыкает драматическая сцена «Театральный разъезд после
представления новой комедии» (1842).
В апреле 1848 г. Гоголь вернулся на родину из паломнического пу-
тешествия в Иерусалим. Овладевшие им религиозные настроения в силу
духовной неопытности великого писателя осложнялись противоречи-
выми оценками себя самого и своего творчества. В последний год жиз-
ни он подпал под влияние протоиерея о. Матвея Константиновского,
чьи личные суждения о литературе, видимо, простодушно воспринимал
как мнение самой церкви. Тем не менее Гоголь продолжал работу над
вторым томом «Мертвых душ». У писателя прогрессировала болезнь,
которая так и не была точно определена тогдашними врачами, «лечив-
шими» его кровопусканиями и «мушками».
11 февраля 1852 г. Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых
душ», а через десять дней умер в Москве в доме на Никитском бульваре.
Н.В. Гоголь, подобно A.C. Пушкину, начав как романтик, стал од-
ним из основоположников русской реалистической литературы.
При всем заслуженном успехе «Вечеров на хуторе близДикань-
ки» в произведениях молодого прозаика современники заметили пере-
насыщение декоративной образностью, пристрастие к «красивостям»
(например, известное «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете
украинской ночи!.. Божественная ночь! Очаровательная ночь!» и т. д.),
сугубо городскую и притом книжно-литературную речь героев-кресть-
ян и т. п.
Особенно интересно, что, например, в начале «Вечера накануне
Ивана Купали» пасечник показывает книжечку, в которой эту исто-
рию уже опубликовал ранее слышавший ее от дьячка «панич в горохо-
вом кафтане». После этого рассердившийся на неверную передачу его
слов «сучьим москалем» дьячок Фома Григорьевич намеревается устно
перерасказать ее так, как надо. Однако, щегольнув в самом начале на-
родным оборотом «москаля везть» (лгать), Фома Григорьевич далее во
вполне литературной манере продолжает рассказывать о страшном
колдуне Басаврюке, соблазнившем спознаться с нечистой силой и от-
правиться за цветком папоротника работника Петруся, мечтавшего о
несметных богатствах.
Народность повествования и здесь, и в других первых произведе-
ниях Гоголя-романтика проявляется преимущественно в мастерстве
раскрытия характеров и использовании мотивов фольклорной малорос-
сийской сюжетики, которые он изощренно развивает, но в основном в
чисто литературном направлении.
Все повести, кроме «Ивана Федоровича Шпоньки», тут выстрое-
ны на мотивах романтической фантастики (впрочем, в финале «Соро-
чинской ярмарки» мистика обретает комически-бытовое разрешение).
247
Так, в «Майской ночи» сын местного головы Левко влюблен в де-
вушку Ганну, но на нее имеет виды и его собственный отец. Благодаря
вмешательству девушки-утопленницы, пострадавшей когда-то от ведь-
мы мачехи и ставшей русалкой, любовная коллизия благополучно раз-
решается: голова получает приказание от своего начальника «сей же
час» женить сына. пй ,>
В «Ночи перед Рождеством» есть не только ведьма, местная кре-
стьянка Солоха, но и черт, на котором сын Солохи молодой кузнец Ва-
кула летит в Петербург за черевичками для своей возлюбленной, кап-
ризной красавицы Оксаны. Эта повесть — самая «не страшная» среди
мистических сюжетов «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Черт, ук-
равший месяц, здесь выписан как откровенно комический персонаж,
комична и линия разбитной Солохи, за которой приударяют одновре-
менно отец Оксаны богатый казак Чуб, дьяк, а также местный голова и
все тот же черт (на чисто комедийный эффект рассчитаны и сложные
перипетии с мешками, в которые их всех попрятала Солоха). Есть и
колдун — запорожец Пузатый Пацюк, к которому в рот сами прыгают
галушки.
Особой глубиной и масштабностью мысли отличается повесть
^Страшная месть»!. *щ
Начинается она с шумной казачьей свадьбы есаулова сына на «кон-
це Киева», где среди других веселился никому не знакомый казак:
«Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось:
нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые
очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо
рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — ста-
рик».
Он исчез, когда есаул возгласил: «Пропади, образ сатаны, тут тебе
нет места!»
На свадьбе присутствует с женой и сыном и друг есаула Данило
Бурульбаш, уже год как женатый на красивой Катерине, отец кото-
рой двадцать лет пропадал неведомо где и только что вернулся. Но-
чью семья пана Данилы возвращается со свадьбы на другую сторону
Днепра и видит страшную картину: на берегу встают из могил огром-
1 А. Белый сравнивал «Страшную месть» по силе художественных достиже-
ний с «Мертвыми душами».
См.: Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л., 1934.
См. также, напр.: Лотман ЮМ. Из наблюдений над структурными принци-
пами раннего творчества Гоголя// Ученые записки Тартуского государственного
университета. 1970. Вып. 251.
94Ä
ные мертвецы. Рядом с кладбищем замок, в'котором, по преданию,
живет колдун.
Наутро вдруг разгорелась ссора Данилы с тестем, который вошел
«рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах». Они стали бить-
ся на саблях, а сломав их, взялись за мушкеты. Отец жены ранил Да-
нилу в левую руку, но Катерина после этого умолила мужа не браться
за пистолет, а отца — помириться.
Вечером Данила с верным хлопцем решил осмотреть расположен-
ный неподалеку старый замок. Они увидели и отца жены, который в
красном жупане направлялся как раз туда. Затем в замке засветилось
верхнее окошко. Взобравшись на дуб, Данило увидел колдующего тес-
тя, который вызвал душу дочери и требовал, чтобы Катерина его полю-
била, но не как дочь, а как жена.
Пан Данило заковал колдуна в цепи и запер в подвал, чтобы пре-
дать казни, но тот умолил Катерину тайно выпустить его. Тут напали
ляхи, и во время боя Данило увидел, как тесть-колдун «целит в него
мушкет»: «Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста.
Спит козак непробудно».
В эту действительно страшную историю «пасечника Рудого Пань-
ка» вдруг вклинивается ставшее знаменитым отличающееся ярким ги-
перболизмом лирическое отступление, воспевающее красоту и сказоч-
ную мощь Днепра. «Чуден Днепр при тихой погоде», «Редкая птица
долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире».
«Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до
корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит
целый мир — страшен тогда Днепр!» и т. д.
Колдун ночью неведомым образом убивает своего маленького вну-
ка, а Катерина сходит с ума от горя. Потом появляется некий казак,
«статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле».
В нем Катерина узнает отца, кидается на него с ножом — но тот сам
убивает «безумную дочь свою».
Между тем повествование на миг переносится куда-то за Польшу,
где расположились «высоковерхие горы»: «Чуден и вид их: не задор-
ное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем
безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе?»
Какой-то «богатырь с нечеловечьим ростом» ночью по ним «едет
на огромном вороном коне».
Вскоре «за Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и геть-
маны собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все
концы света. <...>
Тут показалось новое диво: облака слетели с самкой высокой горы,
249
и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с
закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.
Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и,
дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за
ним, торопливо, во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун». Но
«вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и —
чудо, засмеялся!»
После этого колдун убил «святого схимника», который отказался
молиться за него, «неслыханного грешника»: «Что-то тяжко застона-
ло, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие,
сухие руки с длинными когтями; затряслись и пропали».
Куда бы ни скакал теперь колдун, «его жгло, пекло, ему хотелось
бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Га-
лича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы
хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего». Вопреки своей
воле он прискакал к Карпатским горам, где тот всадник «ухватил» его
рукою и поднял на воздух:
«Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мерт-
вец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскрес-
ший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся
мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли
воды схожих лицом на него». Всадник бросил его в пропасть, где в него
вцепились другие мертвецы.
Затем в городе Глухове старец бандурист поет про «давнее дело»,
как завистливый Петро когда-то столкнул названного брата Ивана и
его маленького сына в пропасть. Потом душа Ивана испросила у Бога
для брата-предателя страшную казнь, налагающую проклятие на всех
его потомков, последний из которых должен стать невиданным злоде-
ем. Будут вечно грызть его собственные прадеды, кроме Петра, кото-
рый будет лишь ворочаться подземлей, сотрясая горы, «хотеть отмстить
и не мочь отмстить».
Тем самым, в финале повести читателю открывается, что произве-
дение имеет своего рода «перевернутую композицию»: начало его «уп-
рятано» в конец. *ч-' •**> ли ул
Трагический сюжет «Страшной мести» насыщен философско-ми-
фологической символикой (коллективная родовая вина и отмщение все-
му роду за давний поступок одного его члена), которой дано великолеп-
ное художественное претворение. Колдун, «наследственно» обреченный
быть злодеем, губить своих родных и маниакально ненавидеть людей —
жуткая фигура. Это образ, наполненный глубоким и сложным смыслом,
образ, перерастающий рамки романтической беллетристики.
9RO
Трагичен образ Данилы Бурульбаша. Сам он не принадлежит по
крови к роду колдуна. Однако на его любимую жену Катерину и ма-
ленького сына распространяется древнее проклятие. Данила погибает
в самом начале повести, после первых же попыток спасти семью от
страшного тестя: смертному человеку не дано остановить предопреде-
ленное свыше.
В мистической фантастике Н.В. Гоголя повесть «Страшная месть»
занимает центральное место.
Повесть «Вий» из сборника «Миргород» по обилию сюжетных
ужасов едва ли не превосходит ее, но в «Вие» все же нет аналогичной
философской масштабности. Панночка — красавица дочь сотника и
одновременно старуха-ведьма — напоминает гибрид несчастной пан-
ночки (тоже дочери сотника) и ее мачехи-ведьмы из «Майской ночи».
Нечисть, которая до первых петухов безбоязненно хозяйничает в пра-
вославном храме и в конце концов убивает бурсака Хому Брута, хотя
он читает там Святое Писание, — все это вообще вызывало бы зако-
номерное читательское недоумение. Но Гоголь подчеркивает, что изоб-
ражает церковь, где «давно уже не отправлялось никакого служения».
Несчастный бурсак Хома готовился в священнослужители, а жил сугу-
бо земными интересами. В итоге он оказался беззащитен перед «чуди-
щами».
«Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Старосветс-
кие помещики» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем» — повести бытового характера. В «Ста-
росветских помещиках» с проникновенным лиризмом изображена
жизнь пожилой малороссийской дворянской пары. Афанасий Ивано-
вич Товстогуб и его жена Пульхерия Ивановна трогательно любят друг
друга. Вскоре после смерти жены Афанасий Иванович тоже уходит из
жизни, причем ему показалось, что та зовет его. В повести о нелепой
ссоре двух приятелей Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, из ко-
торых у первого голова «похожа на редьку хвостом вниз», а у второ-
го — «на редьку хвостом вверх», бьет ключом великолепная гоголевс-
кая ирония. Юмор, оборачивающийся едкой сатирой, пронизывает здесь
все, начиная со структуры речевых образов и заканчивая перипетиями
сюжета. Спустя двенадцать лет постаревшие приятели продолжают су-
диться из-за того, что один когда-то назвал другого «гусаком».
Гоголь с образцовым тщанием работал над своими текстами. Это
проявилось не только в том, что некоторые его произведения («Тарас
Бульба», «Портрет») имеют по две творчески самостоятельных редак-
ции. Мемуарист вспоминает, как Гоголь в дружеском кругу сам описы-
вал принципы и обычный ход своей стилевой работы:
251
от?^«Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водя-
нисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом, через ме-
сяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать напи-
санное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а
кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова
забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее — новые заметки на полях,
а где не хватит места — взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Ког-
да все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь
собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добав-
ки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходи-
мо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И
опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте
ничего, или хоть пишите другое. Придет час: вспомнится заброшенная
тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и когда сно-
ва она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите
?при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз —
как бы крепчает и ваша рука; буквы становятся тверже и решительнее.
Так надо делать, по моему, восемь раз. <...> Конечно, следовать постоян-
но таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале»1.
1нн# Сохранившиеся рукописи Н.В. Гоголя отображают именно такой
ход его упорной творческой работы над текстом создаваемого произве-
дения.
«Тарас Бульба» — вершина прозы Гоголя. Литературное значе-
ние этой великой повести вряд ли менее значения «Мертвых душ».
В настоящее время распространена ее вторая, расширенная и перера-
ботанная, редакция 1842 г., но редакция из «Миргорода» имеет много
оригинальных черт. По ряду признаков это, по существу, самостоятель-
ное произведение. Последнее можно ощутить едва лишь соприкоснув-
шись с ее текстом. Для «миргородского» повествования характерна
стремительность развития действия. Слог первой редакции в ряде слу-
чаев более романтически «раскрепощен» и напитан местным речевым
колоритом.
Вот, например, как приветствует Бульба своих сыновей в «мирго-
родском» варианте: «А поворотись, сынку! цур тебе, какой ты смеш-
ной!». В издании 1842 г. особенности устной речи главного героя лите-
ратурно сглажены: «А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой!»
Впечатляющие различия наблюдаются и далее. Первая редакция в
'целом более лаконична. Так, здесь, когда Бульба повел приехавших
1 Берг Н.В. Воспоминания о Н.В. Гоголе//Русская старина. 1872. Т. V.
С. 124-125.
9Я9
сыновей в «светлииу», из нее «пугливо выбежали две здоровые девки
в красных монистах». Это краткое упоминание развернуто во второй
редакции следующим образом: «Бульба повел сыновей своих в светли-
цу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в чер-
вонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались
приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели
соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью,
увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рука-
вом». И далее во второй редакции повести будут регулярно уточняться,
а главное — типизироваться психологические характеристики, де-
тализироваться детали быта и т. д. и т. п.
Самое же главное состоит в том, что в редакции 1842 г. Н.В. Го-
голь воплотил основные принципы заинтересовавшего его, как и Пуш-
кина, реалистического письма. Свое любимое романтическое произве-
дение он и переработал в духе реализма.
Действие повести отнесено в первой редакции в «в грубый XV век,
и притом на полукочующем Востоке Европы», который во второй ре-
дакции переименован в том же месте текста в «тяжелый XV век на по-
лукочующем углу Европы». В обеих редакциях поворотный момент
сюжета — осада запорожцами польского города Дубно, где оказалась
прекрасная полячка, в которую Андрий влюбился еще будучи в акаде-
мии в Киеве. Сцена встречи Андрия с вышедшей из города через тай-
ный подземный ход татаркой-служанкой развернута в значительной
мере по-разному. Главное же — в различии мотивировок неожиданной
перемены, происшедшей с младшим Бульбой.
В первой редакции совершающим измену младшим сыном Тараса
руководит слепая страсть:
« — Она другой день уже ничего не ела. Hi >ъ
— Как!
— Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже
едат одну землю.
— Спаситель Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки?
— Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только пота-
енный ход и есть; но на том самом месте стоят ваши обозы, и если толь-
ко узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне все объя-
вить вам, потому что вы не захотите изменить ей.
— Боже, изменить ей! И я ее увижу! О!., когда бы мне не умереть
только до того часу!»
Здесь, как видим, в Андрий клокочет любовный эгоцентризм. Он
помышляет лишь о том, чтобы правдами или неправдами соединиться с
предметом своих вожделений.
253
и/tfl Во втором варианте повести татарка коварно апеллирует к сынов-
ним чувствам Андрия:
«— Она другой день ничего не ела.
— Как?..
— Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба, все
давно едят одну землю. ю*ык. mi:
Андрий остолбенел.
— Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожца-
ми. Она сказала мне: «Ступай скажи рыцарю: если он помнит меня,
чтобы пришел ко мне; а не помнит — чтобы дал тебе кусок хлеба для
старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет
мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за
колени и ноги. У него также есть старая мать, — чтоб ради ее дал хле-
ба!»
Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди
козака».
Во второй редакции появились также увиденные глазами Андрия
страшные картины реалистически описанного голода в осажденном го-
роде, его встреча с полячкой и т. п. Если в «миргородском» тексте по-
лячка была в значительной мере условной романтической фигурой, то
здесь Гоголь обрисовывает ее внутренний мир, создает ее характер.
Прибавились и речи обезумевшего от любовной страсти Андрия перед
полячкой:
«Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны?
Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчиз-
на моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем,
понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из Ко-
заков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за
такую отчизну!» *д»
В первом издании Андрий изъяснялся проще: «Нет, моя панна, нет,
моя прекрасная! Я не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни
есть на земле, — все отдаю за тебя, все прощай! я теперь ваш! я твой!
чего еще хочешь?»
>*** В первом варианте повести Андрий, перейдя к полякам, неожи-
данно повел себя как «подлый трус», а это противоречит всему, что
читатель успел узнать о данном персонаже повести. Во второй редак-
ции он сражается со своими, как храбрый «витязь всех бойчее, всех
красивее», но перед глазами у него одно: кудри прекрасной полячки.
Характер его на сей раз реалистически выдержан автором до конца. Он
мужественный воин, однако любовь к женщине из вражеского стана
пересилила в нем любовь к родине.
В «миргородской» редакции последние обращенные к Андрию сло-
ва Тараса звучат так: «Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое?
Нет! Я тебя породил, я тебя и убью! Стой и не шевелись, и не проси у
господа Бога отпущения: за такое дело не прощают на том свете!» Во
второй редакции Тарас не просто более краток в выражениях — из речи
его убрана романтическая «цветистость», и она точно соответствует
ситуации: «Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью!»
Резко различается в обеих редакциях ход последнего боя под Дуб-
ном и обстоятельства пленения Остапа. .»-л и ?
В «миргородском» тексте повести окруженный Тарас «с обыкно-
венным своим хладнокровием, дал повеление сдвинуть обоз в кучу и
окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался
совершенством козацкой тактики и возбуждал всегда удивление даже в
самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель
состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут козаки никогда не были побеж-
даемы: окружая обоз непроломною стеною, они со всех сторон были
обращены лицом к неприятелю». Однако пылкий Остап бросился впе-
ред, вступил в рукопашную и был схвачен врагами. Тарас бросился ему
на выручку, но упал израненный.
Во второй редакции подобного маневра (описанного Гоголем исто-
рически не совсем точно) нет. Поодиночке гибнут в неравных схватках
лучшие казаки: Мосий Шило, Степан Гуска, Бовдюг, Балабан, Павел
Кукубенко и др. Однако дело идет к победе запорожцев, когда из горо-
да вылетает врагу на подмогу польский гусарский полк во главе с Анд-
рием, на руке у которого шарф, подаренный полячкой. Покуда Тарас
заманивает Андрия в лес, где и казнит его, полякам удается разбить
оставшихся без командира запорожцев. Окружив лес, враги нападают
затем на Тараса и Остапа. Сына одолевают «мало не восьмеро разом».
Пробивавшегося к нему отца тяжело ранят, и он теряет сознание.
Придя в себя, Тарас сумел пробраться в Варшаву и в ответ на пос-
ледний крик казнимого на площади сына: «Батько, где ты? слышишь
ли ты?» — во всеобщей тишине ответил из толпы: «Слышу!»
4 Тарас появляется затем как беспощадный народный мститель «на
границах Украины» со ста двадцатью тысячами «козацкого войска» (в
первой редакции с тридцатью тысячами). В конце концов его полк ок-
ружили пять полков поляков, когда Бульба «занял для роздыха остав-
ленную развалившуюся крепость» (в первой редакции «полуразвалив-
шуюся»).
Захваченного в бою толпой поляков Тараса враги притянули цепя-
ми к дереву, чтобы «спечь» на костре. Однако он увидел с высоты че-
тыре челна на берегу Днестра и крикнул об этом отбивающимся каза-
255
кам, чем спас своих товарищей. Гибель могучего казака предстает пе-
ред читателем как подлинная «оптимистическая трагедия»:
«А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разо-
стлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни,
муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»
«Тарас Бульба», где повествуется о народе и его врагах, о непобе-
димой силе народного патриотизма, не принадлежит к числу произве-
дений Гоголя, внимательно изученных литературоведением1
«Петербургские» повести «Портрет», «Запаски сумасшедше-
го», «Нос», «Шинель» и другие знаменуют блестящий успех Гоголя в
создании произведений реалистической прозы, основоположником ко-
торой он стал наряду с Пушкиным. Фантастика здесь как бы переме-
щается из центра художественного построения, делаясь средством уси-
ления и обрамления социальной и психологической проблематики.
Власть золота доводит до гибели талантливого художника Чартко-
ва («Портрет»). В раме таинственного портрета ростовщика с про-
низывающим взглядом обнаружились золотые монеты, которые помог-
ли ему в первый момент. Однако затем он стал внутренне меняться, как
живописец все более потакая вкусам публики. Постепенно «все чув-
ства и порывы его обратились к золоту». Уже будучи академиком жи-
вописи, он увидел присланную из Италии великолепную картину рус-
ского художника. Попробовал написать что-то подобное сам и понял,
что талант его выродился. Чартков обезумел от зависти и стал скупать
лучшие картины, с наслаждением уничтожая их дома:
о. «Наконецжизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, по-
рыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от
огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких
произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли
ужасное их употребление». ок <« * iot
Вторую часть «Портрета» составляет не менее страшная история,
как заказал когда-то талантливому художнику этот портрет ростовщик,
уверявший, что если работа будет закончена, «жизнь его сверхъесте-
ственною силою удержится в портрете». Живописцу было все более
страшно работать над портретом. Когда он наотрез отказался его за-
кончить несмотря на уговоры ростовщика, ему сообщили, что тот умер
и его собираются хоронить «по обрядам его религии». Портрет же на-
чал свой путь от владельца к владельцу, сея беду и несчастье.
■■- НЬ'
1 Так, в книге Ю.В. Манна «Поэтика Гоголя» (М., 1978, 1988), ценной в ряде
отношений, в связи с этим произведением вводятся лишь «проходные» наблюде-
ния, а раздела, специально ему посвященного, нет.
9KR
В повести «Шинель» читатель знакомится с бедным и смешным
немолодым чиновником «с лысинкой на лбу» Акакием Акакиевичем
Башмачкиным, однотипность фигуры которого образу «маленького че-
ловека» Семена Вырина из «Станционного смотрителя» была конста-
тирована еще при жизни Гоголя.
В его кротком: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — было
«что-то такое преклоняющее на жалость». В этой фразе, как показа-
лось одному не лишенному совести молодому чиновнику, «звенели дру-
гие слова: "Я брат твой"».
Служил Акакий Акакиевич ревностно и даже «с любовью». Тече-
ние жизни его пресеклось, когда грабители сняли с него новую шинель,
которую он пошил у портного Петровича, экономя на всем. Когда по-
лиция ничем ему не помогла, он попробовал пожаловаться некоему
«значительному лицу», которое лишь распекло его: «Знаетели вы, кому
это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами?» После корот-
кой болезни потрясенный Акакий Акакиевич умер, но затем в качестве
страшного призрака явился «бедному значительному лицу» и ухватил
его за воротник шинели, причем начальник от страха сам чуть не умер.
Обличительные мотивы, намеченные в произведениях, подобных
«Портрету» и «Шинели», были подхвачены в 1840-е годы авторами
натуральной школы («гоголевским направлением») в русской литера-
туре.
В особенности же вдохновляла деятелей натуральной школы гого-
левская поэма в прозе «Мертвые души». Это произведение блестя-
щим образом ответило на современные общественные запросы.
На тему, почему Гоголь обозначил жанр «Мертвых душ» как по-
эму, существует много гипотез. Можно отметить мнение, согласно ко-
торому это связано с обилием в произведении так называемых лири-
ческих отступлений. Другая точка зрения исходит из предположения,
что ироничный Гоголь намеревался последовательно спародировать
внешние атрибуты романтической поэмы. У романтиков предполагал-
ся таинственный герой — и вот вам Чичиков: в гаданиях о том, кто же
он, провинциальные чиновники доходят до абсурда (Наполеон, капи-
тан Копейкин и пр.). Романтическая поэма предполагала стихотвор-
ный строй, действие переносила в экзотические земли — здесь же
«обманутое читательское ожидание»: деловитое прозаическое пове-
ствование, развертывающееся в российской «глубинке». Соответ-
ственно название «Мертвые души» тогда пародирует романтическую
мистику.
Скорее всего, слово «поэма» было рассчитано на целостную ре-
ализацию замысла, и автор намеревался в итоге написать «поэму о Рос-
17—Минералов а5/
сии», в широком смысле опоэтизировать Родину (достоверно извес-
тно, что предполагалось показать духовное возрождение Чичикова как
главной «мертвой души» повествования и вывести целый ряд положи-
тельных русских героев, «живыхдуш», современных «рыцарей без стра-
ха и упрека»), «*
<. Однако перед читателем лишь часть замысла — изданный при жиз-
ни автора первый том «Мертвых душ». В его пределах царит беспрос-
ветный гротеск, и читателя окружают настоящие монстры — помимо
самого главного героя Чичикова, таковы губернские чиновники различ-
ного уровня и помещики Собакевич, Манилов, Ноздрев, Коробочка,
Плюшкин. Автором то и дело создаются ситуации, являющиеся поводом
для едкой сатиры на различные негативные стороны жизни тогдашней
России — разумеется, на крепостное право, на чиновничьи злоупотреб-
ления и коррупцию, на малую просвещенность народа и т. д. и т. п.
Скопищем пороков является хитроумный Чичиков, которому род-
ной отец дал когда-то следующее (что называется, из глубин любящего
родительского сердца исторгнутое) наставление: «Не угощай и не пот-
чевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше
рсего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Това-
рищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка
не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь
на свете копейкой».
В соответстви с сюжетом первого тома «Мертвых душ» Чичиков
упорно и последовательно «прошибает копейкой» загадочное мероп-
риятие: оформление актов на покупку у губернских помещиков умер-
ших, но еще значащихся по необновленным бюрократическим бума-
гам живыми, крепостных крестьян. Стоит это ему не слишком дорого
(например, прекраснодушный Манилов просто «передает безынтерес-
но», то есть дружески дарит Чичикову «мертвые души» — предвари-
тельно поинтересовавшись, впрочем, «не будет ли эта негоция несоот-
ветствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам
России»).
Смысл действий Чичикова в конце-концов раскрывается автором.
Оказывается, служа ранее поверенным, тот осознал, что при закладе
разоряющимся помещиком имения в казну можно провести по бума-
гам как якобы живых (получив и за них деньги) недавно умерших, но
еще числящихся по ревизским сказкам живыми, крепостных. Чичико-
ву и пришла на ум грандиозная афера: >и *мн^»
«Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали
новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим,
опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч
258
капиталу! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу
вымерло, слава богу, немало».
Есть сведения, что идея сюжета была подсказана Н.В. Гоголю
A.C. Пушкиным. Однако развернут сюжет «Мертвых душ» так, как был
к этому способен только Гоголь. Разъезжая по губернии, Чичиков на-
блюдает лица, по своему колориту сравнимые с Простаковыми и Скоти-
ниными. Со времен фонвизинского «Недоросля» «дворяне злонравные»
не подвергались литературному осмеянию такой степени хлесткости. Сам
Чичиков — фигура нового буржуазного типа, хищник особой природы.
Логика его действий ставит окружающих в тупик — отсюда уже упоми-
навшиеся самые фантастические предположения чиновников о том, кто
он на самом деле — от Наполеона до капитана Копейкина.
Вставной «Повести о капитане Копейкине» Н. В. Гоголь придавал
огромное значение. Три сохранившихся редакции «Повести» подвер-
гались многократным попыткам исследователей осмыслить это автор-
ское к ней отношение1 Видимо, в рамках дошедшего до нас текста
«Мертвых душ» философско-символическая сила образа капитана
Копейкина проявляет себя не полностью. Так, в контексте первого тома
произведения вполне закономерны ассоциации перипетий «Повести»,
например, со злоключениями героя «Шинели» или с уходом в разбой-
ники главного героя пушкинского романа «Дубровский». Разумеется,
они ничего не снижают в «Повести», но и не способствуют той или иной
глобализующей ее значение интерпретации. Образ капитана Копейки-
на мог быть рассчитан автором на восприятие в масштабах полностью
реализованного замысла «Мертвых душ». Проверить это предположе-
ние невозможно, поскольку второй том произведения безвозвратно ут-
рачен. Однако в сохранившихся фрагментах выступают некоторые пер-
сонажи, составляющие противоположность бездушному «вельможе»,
выславшему Копейкина из столицы с фельдъегерем (например, гене-
рал-губернатор)2.
Именно реалистическая проза Н.В. Гоголя послужила авторитет-
ным образцом для молодых писателей начала 1840-х годов, группиро-
вавшихся вокруг В.Г. Белинского. чп'^и^ ...jh ло<и и>
1 Из литературы, посвященной «Повести», укажем на работу: Лотман ЮМ.
«Повесть о капитане Копейкине > (Реконструкция замысла и идейно-композици-
онная функция// Ученые записки Тартуского государственного университета. 1979.
Вып. 467. - ■ wü.. *ь-
2 Персонажи из черновых фрагментов второго тома отнюдь не безжизненны и
безлики. Упомянем фигуры Петра Петровича Петуха, старика Муразова, «лиха-
ча» Самосвистова и др.
17* 259
Среди пьес H.В. Гоголя выделяется замечательная комедия «Реви-
зор», по сей день остающаяся классикой русской драматургии. Ее персо-
нажи — городничий, судья, смотритель училищ, попечитель богоугодных
заведений и др. — из того же гротескового художественно-сатирического
мира, что чиновники и помещики написанного позже первого тома «Мер-
твых душ». Ощутима также их связь с образами судейских чиновников из
комедии гоголевского земляка В. В. Капниста «Ябеда». Отдельно от них
здесь стоит фигура проезжего мелкого чиновника Хлестакова, принятого
за приехавшего «инкогнито» столичного ревизора.
Василий Васильевич Капнист (1758-1823) — поэт, сын
малороссийского помещика, друг Г.Р. Державина. Лучшее произ-
ведение — стихотворная сатирическая комедия «Ябеда» (ве-
роятно, 1794). Наиболее полный сборник лирических стихов —
«Лирические сочинения» (1806). Капнист участвовал в «Беседе
любителей русского слова».
Хвастовство Хлестакова, рассказывающего о себе различные не-
былицы, настолько фантастично, что именно поэтому принимается дру-
гими персонажами за чистую монету. Зато читатель и зритель всех эпох
непременно помнит «тридцать пять тысяч одних курьеров», «суп в ка-
стрюльке», якобы доставляемый Хлестакову «из Парижа», и тому по-
добные блестящие порождения гоголевского остроумия.
A.A. Потебня в свое время уделил явлению «хлестаковщины» спе-
циальное внимание. Он писал: «В "Ревизоре" городничий и Артемий
Филиппович просто лгут сознательно и, так сказать, трезво; но Хлес-
таков... доходит до опьянения ложью»1.
Тут же Потебня отметил склонность к сильным преувеличениям в
характере самого Гоголя, в молодости неоднократно уверявшего, что
пишет то многотомную историю Малороссии, то «историю средних ве-
ков» «томов из восьми, если не из девяти» и т. п. Подобные факты
Потебня связал с известным признанием Гоголя, сделанным в 1840-е
годы, что тот свои недостатки передал «своим героям, их осмеял в них»
и тем сам от этих недостатков избавился. Все это напоминает о слож-
ной творческой природе образной системы произведений Н. В. Гоголя
и, в частности, сложности образа Хлестакова2.
1 Потебня A.A. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 261.
2 См. также иной подход к теме Хлестакова в работе: Лотман ЮМ. О Хле-
стакове// Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 369.
Тарту, 1975.
260
Гоголь-прозаик оказал огромное влияние на творчество
М.Е. Салтыкова-Щедрина, А. Белого, М.А. Булгакова и др. Худо-
жественный опыт Гоголя сохраняет важность и для писателей
начала XXI века. Драматургия Гоголя продолжила и подняла на
новую ступень творческие открытия A.C. Грибоедова, а сама по-
служила образцом для комедий А.Н. Островского. Н.В. Гоголь —
классик русской литературы, более чем на столетие вперед оп-
ределивший основные пути ее развития.
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
(1814 — 1841)
Михаил Юрьевич Лермонтов — гениальный русский поэт, проза-
ик, драматург (был и одаренным живописцем); родился 3(15) октября
1814 г. в Москве, погиб в Пятигорске на дуэли 15 (27) июля 1841 г. Из
дворянской семьи. Рано лишился матери и был воспитан в имении Тар-
ханы Пензенской губернии своей властной и богатой бабушкой Е.А. Ар-
сеньевой, категорически отстранившей от этого любимого им отца Юрия
Петровича Лермонтова. Учился в Московском университетском пан-
сионе, где его педагогом был А.Ф. Мерзляков, и на нравственно-поли-
тическом отделении Московского университета (не закончил). Лермон-
тов встретился и некоторое время общался с отцом только в этот период.
После неудачной попытки перейти в Петербургский университет в
1832 г. сдал экзамены в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавале-
рийских юнкеров. В 1834 г. был выпущен корнетом в лейб-гвардии Гу-
сарский полк. В феврале 1837 г. в судьбе Лермонтова произошел пово-
рот: он был арестован в связи со стихотворением «Смерть Поэта» и
затем переведен на Кавказ (в Нижегородский драгунский полк), но про-
студился в дороге и был отпущен на лечение, после чего побывал в Став-
рополе, Пятигорске и Кисловодске (до того он трижды ездил на мине-
ральные воды в детстве с бабушкой). К концу года Лермонтов был
переведен в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Цар-
ском Селе. В 1840 г. за дуэль с сыном французского посланника Баран-
та поэта отправили в действующую армию на Кавказ, где он участвовал
te сражении при Валерике. В начале 1841 г. Лермонтов получил отпуск
и три месяца провел в Петербурге, где безрезультатно хлопотал об от-
ставке. По возвращении на Кавказ задержался в Пятигорске, где и по-
гиб на дуэли с однокашником по Школе гвардейских подпрапорщиков
Н.С. Мартыновым: тот расстрелял его в упор после того, как Лермон-
тов демонстративно разрядил пистолет в воздух.
Прожив так мало, М.Ю. Лермонтов успел проявить себя как ху-
дожник огромного дарования. Его творческий рост на протяжении
9R9
1836—1841 годов был по-пушкински стремителен, хотя у Лермонтова
этому росту предшествовала длительная стадия литературного учени-
чества. Помимо субъективно-личностных причин ее приходится свя-
зывать с тем, что поэт долгое время не соприкасался с литературной
средой (вспомним для сравнения Пушкина с его дядей-поэтом Васили-
ем Львовичем, а главное, дружеским окружением дяди — Батюшков,
Жуковский и др.). В то же время уроки Мерзлякова явно помогли юно-
ше справиться со стихосложением чисто «технически».
Лермонтов сам не пытался публиковать стихи и поэмы, написан-
ные ранее 1836 г. — например, поэма «Кавказский пленник» написа-
на в 1828 г., опубликована в 1859 г.; поэма «Черкесы» соответственно
написана в 1828 г., а опубликована в 1860 г.; отталкивающаяся от пуш-
кинского «Бахчисарайского фонтана» поэма «Две невольницы» —
видимо, 1830 г., напечатана же в 1910г.1 Лишь поэма 1833 г. «Хаджи
Абрек», по некоторым структурным чертам пересекающаяся с байро-
новским «Гяуром», была напечатана родственником и однокашником
Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков Н.Д. Юрьевым в
«Библиотеке для чтения» (1835) без ведома самого поэта.
Точно так же с большим запозданием читатель познакомился с дру-
гими поэмами 1828—1830 гг. — «Корсар», «Преступник», «Двабра-
та», «Олег», «Сашка» и др. Наконец, та же судьба постигла помимо
большого числа ранних стихотворений поэмы из русской истории «Пос-
ледний сын вольности» ( 1831 ) и «Литвинка» ( 1832), а также траге-
дию «Испанцы» (1830) и драму «Странный человек» (1831 ): все они
напечатаны посмертно2.
В то же время посмертная публикация произведений раннего твор-
чества отнюдь не нанесла урона репутации Лермонтова как оригиналь-
ного художника. Даже учась в отроческие годы у любимых поэтов, он
делал это весьма талантливо. Последнее необходимо подчеркнуть вви-
ду нередко встречающейся у различных авторов недооценки его ранне-
го творчества. Так, О. В. Лармин писал:
«Совсем молодые авторы часто бывают склонны к копированию
индивидуального почерка какого-либо крупного художника. Поэма мо-
1 Кавказская атрибутика представлена также в поэмах «Измаил-Бей» ( 1832),
«Хаджи-Абрек» (1833), «Аул Бастунджи» (1833—1834).
2 Так называемые «юнкерские» поэмы «Гошпиталь», «Петергофский праз-
дник», «Уланша», написанные в Школе гвардейских подпрапорщиков, отличают-
ся грубым натурализмом сюжетов и обилием нецензурной лексики, в силу чего до
начала 1990-х годов публиковались в научных литературоведческих целях лишь в
академических изданиях сочинений Лермонтова.
263
лодого Лермонтова «Кавказский пленник», написанная им в 1828 г.,
то есть четырнадцати лет от роду, — очень характерный пример такого
прямого подражания. Он заимствует здесь из одноименной поэмы Пуш-
кина не только тему, сюжет, композицию, характеры главных героев,
но переносит всецело большинство эпизодов, описаний быта горцев,
пейзажных картин, просто перефразируя строфы Пушкина. Он часто
сохраняет те же рифмы, а иногда прямо заимствует отдельные строки и
понравившиеся ему метафоры».
Далее упомянутый автор относит поэму Лермонтова к разряду «дет-
ских творений» и безапелляционно заявляет о его поэмах данного пе-
риода, что «самостоятельными произведениями они не являются»1.
«Копирование» чужого стиля, то есть хода мысли другой творчес-
кой личности в искусстве — дело заведомо невозможное2. Б.М. Эй-
хенбаум высказывался о произведениях юноши Лермонтова заметно
более филологически корректно, чем вышецитированный автор: а
«Здесь в примитивной форме обнаруживается тот «протеизм» или
«эклектизм» Лермонтова, о котором говорили Шевырев и Кюхельбе-
кер. Поэмы эти являются своеобразным упражнением в склеивании
готовых кусков. Лермонтов берет стихи Дмитриева, Батюшкова, Жу-
ковского, Козлова, Марлинского, Пушкина, даже Ломоносова, и со-
здает из них некий сплав. Так, в «Черкесах» строки 16—23 взяты из
Дмитриева («Причудница»), строки 103—112 из Козлова («Наталья
Долгорукая»), строки 132—138 оттуда же, вся IX строфа из Дмитриева
(«Освобожденная Москва»), строфа X составлена из сочетания Батюш-
кова («Сон воинов») с Дмитриевым («Ермак»); в промежутках мель-
кают строки из Жуковского и Пушкина)»3.
Тем самым Лермонтов, рассмотревший в текстах любимого им Пуш-
кина свойственное тому «мышление литературными стилями», делал
попытки в том же направлении — небезуспешные, поскольку в итоге
все же создавался «сплав», подчиненный его собственным целям и за-
дачам. Творческие действия раннего Лермонтова интерпретировались
Б. М. Эйхенбаумом с пониманием их сознательного характера:
«В этих юношеских упражнениях Лермонтова сказывается его на-
клонность к использованию готового материала. Он не просто подра-
жает избранному "любимому" поэту, как это обычно бывает в школь-
ные годы, а берет с разных сторон готовые отрывки и образует из них
1 Лармин О.В. Художественный метод и стиль. М., 1964. С. 238. *-tm*r.
2 См. подробнее: Минералов ЮМ. Теория художественной словесности. М.,
1999.
* Эйхенбаум Б. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924. С. 24.
9К4
новое произведение. Мы увидим, что позже он делает то же самое со
своими собственными стихами, составляя новые из старых кусков»1.
В виде примера лермонтовской работы с «готовым материалом»
(Эйхенбаум варьирует здесь выражение A.A. Потебни «готовые фор-
мы») можно привести фрагмент из его поэмы «Кавказский пленник».
Свое произведение Лермонтов заканчивает смертью героя от пули отца
девушки-черкешенки:
Но роковой ударил час...
Раздался выстрел — и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
Кладет на сердце тихо руку....
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Как видим, здесь перефразируются строки из пушкинского описа-
ния гибели Ленского в «Евгении Онегине»:
На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Горы и спадающая глыба, прямо перенесенные из текста Пушки-
на, у Лермонтова неожиданным образом вписались в кавказский анту-
раж его поэмы, отсутствовавший в прообразе-первоисточнике — «Ев-
гении Онегине», — и утратили отвлеченно-метафорический характер.
Хотя вообще прием подобной «склейки» (коллажа цитат) прямолине-
ен и, разумеется, не слишком продуктивен, определенная перемена се-
мантики юным поэтом в данном случае достигнута.
Сразу следует подчеркнуть, что сводить миметические приемы
М.Ю. Лермонтова к ученичеству и раннему творчеству вообще невер-
но. Это черта его личного стиля, и в данном отношении он поэт «одно-
типный» своему заочному учителю A.C. Пушкину. Как следствие, лер-
монтовская «Ветка Палестины» (1837 г. по н. ст.) весьма тесно
1 Эйхенбаум Б. Там же. Л., 1924. С. 27.
265
перекликается по тексту с пушкинским «Цветком» («Цветок засохший,
безуханный...»), лермонтовский «Пленный рыцарь» (1840 г. по
н. ст.) — с пушкинским «Узником», лермонтовские «Три пальмы»
(1839) — с пушкинским стихотворением из цикла «Подражания Кора-
ну» («И путник усталый на Бога роптал...»), лермонтовский «Пророк»
(1841) — с пушкинским «Пророком» и т. д. Эти произведения принад-
лежат к числу лучших стихотворений М.Ю. Лермонтова. Те же «Три
пальмы» были в числе его стихов, побудивших В.Г. Белинского заявить
в письме В.П. Боткину, что «на Руси явилось новое могучее дарование».
Вот начало стихотворения A.C. Пушкина «Узник»:
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пишу клюет под окном.
А вот начало стихотворения М.Ю. Лермонтова «Пленный ры-
царь»:
Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют все вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.
Здесь перекликаются тема, сюжет, композиция, характеры лири-
ческих героев, а также перефразированы как тексты в целом (ср. их
дальнейшее продолжение), так и конкретные строфы, и, кроме того,
Лермонтовым по-своему использованы понравившиеся пушкинские
метафоры.
Можно привести и пример, где даже лермонтовская ритмика пред-
ставляет собой парафразис пушкинской. В стихотворении Лермонтова
«Родина» после ритмического «слома» во второй половине — там
шестистопный ямб преображается в четырехстопный, — со слов «Люб-
лю дымок спаленной жнивы...» начинается отчетливая и намеренная
перекличка со строфой из «Отрывков из путешествия Евгения Онеги-
на» («Иные нужны мне картины: /Люблю песчаный косогор...» и т. д.).
Однако во всех приведенных случаях перед читателем, захотевшим про-
вести сравнение, всякий раз предстает пара совершенно разных про-
изведений двух поэтов, поскольку у Лермонтова все перечисленное
образует иную смысловую структуру, чем была у пушкинского прооб-
раза.
266
-cw-A.A. Потебня говорил в своих лекциях, что «настоящие поэты —
не те, которые стараются казаться таковыми и делают из поэзии про-
дажное ремесло, а те, для которых это есть дело их души, — что такие
поэты весьма часто берут готовые формы для своих произведений. Но
разумеется, так как содержание их мысли представляет много особен-
ностей, то они неизбежно влагают в эти готовые формы новое содер-
жание (курсив мой. — ЮМ.) и тем изменяют эти формы»1.
В меньшей мере, чем произведения A.C. Пушкина, преломлял Лер-
монтов в своих ранних произведениях сюжетику Дж. Байрона. По су-
ществу, последний был им воспринят сквозь призму пушкинского твор-
чества и как поэт, авторитет которого признавал Пушкин. Уловил
М.Ю. Лермонтов и повествовательные тенденции, укреплявшиеся в
поэзии A.C. Пушкина, — укажем на лермонтовские поэмы «Боярин
Орша» (1835—1836, опубл. 1842), «Беглец» (опубл. 1846), «Мцы-
ри» (опубл. 1840). Свои поэмы он любил даже обозначать в подзаго-
ловке как повести.
Среди ранних стихотворений Лермонтова уже встречаются насто-
ящие шедевры — «Жалобы турка», «Тростник», «Отворите мне тем-
ницу... », «Русалка» и др. Сказанное относится и к «Парусу» (1832).
Помимо повлиявшего на него стихотворения Н.М. Языкова «Пловец»
в этом стихотворении есть переклички на уровне реминисценций с дру-
гими авторами. Так, например, «Белеет парус одинокий...» — строка
из стихотворения A.A. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Пере-
яславский». >\ h iOKvii. отн frjbiisuo)J но<Ы
Свойственные «Парусу» романтические мотивы внутреннего оди-
ночества, изгнанничества, жажды борьбы («бури») и т. п. оказались
устойчивыми в творчестве Лермонтова. Впоследствии волею обстоя-
тельств они были «подкреплены» и усилены реалиями его собствен-
ной жизни (двукратная ссылка на Кавказ). Вспомним стихотворения
«Дума» (1838) — «Печально я гляжу на наше поколенье...», «Тучи»
(1840) — «Тучки небесные, вечные странники...», «И скучно и грус-
тно» ( 1840), «Выхожу один я на дорогу...» ( 1841 ) и др. (что касается
жажды борьбы, тут надо указать на «Мцыри»),
Оценивая свое поколение, М.Ю. Лермонтов отмечает в «Думе»,
что его представители «К добру и злу постыдно равнодушны», «нена-
видят и любят случайно», «иссушили ум наукою бесплодной».
О том, что перед читателем не просто романтическая маска «разо-
чарованности», убедительно свидетельствовали глубокая искренность
и трагическая серьезность подобных признаний лирического героя. Дело
1 Потебня A.A. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 123. :от<
267
не просто в том, что его поколение как-то стеснено внешними обсто-
ятельствами наподобие деспотии правителей. В нем самом, этом по-
колении, какой-то объективный непреодолимый изъян:
Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда (курсив мой. — ЮМ.).
Стоит напомнить, что именно таким лермонтовское поколение ви-
делось и другим наблюдательным людям, в том числе писателям. Ведь
это одновременно, например, поколение младшего графа Турбина —
расчетливого циника и подлеца — из повести Л.Н. Толстого «Два гу-
сара».
Лирический герой Лермонтова поставлен в условия трагической
безысходости. Он не имеет возможности реализовать свои жизненные
планы и желания:
И скучно и грустно! — и некому руку податЪ
В минуту душевной невзгоды...
Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят — все лучшие годы!
Герой полагает, что духовный вакуум, царящий в его поколении,
настолько глобален, что в нем некого даже полюбить. Не щадит он и
самого себя:
Любить — но кого же? — на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно...
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа,
И радость, и муки, и все там ничтожно.
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг —
Такая пустая и глупая шутка!
Жизнь не сон: жизнь шутка судьбы, при этом шутка «пустая и
глупая». От такой жизни как раз хочется «забыться и заснуть» -—
ибо в ней нет «свободы и покоя» («Выхожу один я на дорогу...»).
Поэт подробно раскрывает, о каком сне мечтается его лирическому
герою:
9£Я
Но не тем холодным сном могилы....
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.
Невозможно не заметить, что Лермонтов начал как поэт-роман-
тик, когда Пушкин был уже поэтом-реалистом. Это поучительный
факт, напоминающий о закономерности в ходе литературно-историчес-
кого процесса частичных «возвратов к прошлому».
Развитие литературы в основном идет как бы по спирали, с систе-
матическим возвратом на прежние «вертикали», но всякий раз на но-
вом уровне, с новыми качественными чертами (это можно уподобить
также качанию маятника, если он при возвратном движении всякий раз
несколько отклоняется от прежней позиции)1.
К тому же в данном случае вообще неудивительно, что юному по-
эту оказался столь близок юношеский период творчества другого по-
эта (сравните южные поэмы Лермонтова, начиная с «Кавказского плен-
ника» и «Черкесов», с южными поэмами Пушкина — начиная со все
того же «Кавказского пленника»).
0 том, как все более обогащалось новыми гранями лермонтовское
творчество, могут послужить свидетельством его блестящие произве-
дения на темы национальной истории — стихотворение «Бородино»
( 1837), историческая поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова» (опубл. в 1838 г.
без имени автора).
«Бородино» — первое произведение, опубликованное с ведома и
согласия Лермонтова в «Современнике» (после гибели A.C. Пушки-
на ). По нему видно, что автор уже сумел овладеть тем творческим прин-
ципом, который Пушкин назвал для себя «истинным романтизмом» (то
есть, по современной терминологии, реалистическим методом). Имен-
но в реалистической манере словесно воссоздан в рассказе старого сол-
дата, защищавшего редут Раевского, Бородинский бой. При этом здесь
дано не просто изложение события — здесь надо всем довлеет герой-
1 См. о процессах такого рода подробно в кн.: Минералов Ю.И. Поэтика. Стиль.
Техника. М., 2002.
269
ское поведение людей. Повествование самим своим ходом ненавязчи-
во раскрывает и характер солдата-рассказчика.
Следует отметить, что оно лишено романтического приукрашива-
ния событий, исторически достоверно. Так, Кутузов с вечера действи-
тельно готовил войска, ночевавшие непосредственно на поле битвы,
«Заутра бой затеять новый». Планы его изменились к утру после полу-
чения сведений о том, что войсками истрачены боевые заряды, кото-
рые неоткуда пополнить, а потери небывало велики. Верно и то, что
вечером «басурманы» отступили на исходные позиции, очистив и зах-
ваченный накануне редут Раевского.
По мастерству создания средствами словесного искусства «баталь-
ного полотна» «Бородино» можно прямо сопоставить с «суворовски-
ми» одами Державина и военными сценами «Полтавы» Пушкина. В то
же время сказовые интонации, найденные Лермонтовым (ихусиливает
и особая строфика «Бородино»), художественно уникальны:
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!...
Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
Рассказчик (по воле автора) высказывается и о поколении, к кото-
рому принадлежит слушающий его лирический герой, — об этой «тол-
пе угрюмой»: «Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее пле-
мя: Богатыри — не вы!»
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова», первоначально опубликованная за под-
писью «-въ», не есть стилизация фольклорного повествования в стро-
гом смысле. К попыткам ее прямого сближения с народными песнями
из собрания П.В. Киреевского можно отнестись с пониманием, но про-
изведение Лермонтова все же мало похоже на какие бы то ни было
конкретные фольклорные источники. Лермонтовым создан художе-
ственный образ эпохи. Цели его создания подчинен стиховой строй
«Песни», где поэтом опять-таки не воссоздается буквально, а «порт-
ретируется» народное стихосложение — рисуется его условный об-
раз. Народностью «Песня» отличается в том широком смысле, кото-
рый характерен, например, для суждений на данную тему
В.Г. Белинского.
07П
Опричник Кирибеевич, «бусурманский сын», по каким-то причи-
нам «вскормлен», как об этом упоминает царь Иван Васильевич, се-
мьей Малюты Скуратова. Но такое «восточное» прозвание Малюти-
ного воспитанника свидетельствует о глубокой фактической
осведомленности Лермонтова. В среде опричников было немало людей
из семей знатных татар, выведенных Иваном Грозным из Казани и пе-
рекрещенных из ислама в Православие, а также из числа перекрещен-
ных в Православие кавказцев, переселившихся на Русь со второй же-
ной царя — дочерью кабардинского князя Кученей (Марией)
Темрюковной1.
С наглостью, в происхождении которой можно усматривать и эго-
истическое своеволие литературного «романтического персонажа», и
нечто более конкретное («бусурманское»), опричник Кирибееич при
всем честном народе стал обнимать и «цаловать» жену купца Степана
Парамоновича Калашникова Алену Дмитриевну, когда она вечером шла
из церкви «вдоль по улице одинешенька». Потрясенная женщина дома
рассказала об этом мужу:
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную —
И что скажут злые соседушки
И кому на глаза покажусь теперь?
Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
1 Есть сведения, что именно Темрюковна навела мужа на мысль создать лич-
ную охрану из перекрещенных мусульман, послужившую ядром опричнины.
Опричнина на некоторое время уничтожалась Иваном Грозным, но затем была
восстановлена в 1575 г. в измененном виде. При этом татарский царевич Симеон
Бекбулатович, ранее правивший в городе Касимове, был даже провозглашен «ве-
ликим князем всея Руси», и «грозный царь Иван Васильевич» слал ему выдержан-
ные в тоне самоуничижения челобитные. «Ерничал» царь, как нередко утвержда-
ют, или просто стал заложником собственного окружения и, опасаясь за свою жизнь,
пытался таким манером с этим окружением поладить, ныне сказать трудно.
Тюркского происхождения была и фамилия зятя Малюты Скуратова оприч-
ника Бориса Годунова (впоследствии русского царя). Godun — «глупый, безрас-
судный человек».
Впрочем, чаще «выкресты» получали вполне русские имена и фамилии. В итоге
какой-нибудь Абдулла Садыков мог превратиться в опричника Ивана Анкудинова
и т. п.
271
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
Решив назавтра вызвать опричника на кулачный бой «На Москве-
реке при самом царе», Калашников просит двух своих «меньших бра-
тьев», поскольку затронута честь семьи, продолжить бой, если он сам
будет убит. Братья отвечают ему решительной и, по воле автора, выст-
роенной в духе фольклорного иносказания речью:
«Куда ветер дует в поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя родного не выдадим».
Выйдя на место «охотницкого боя», Калашников ведет себя прямо
противоположно хвастливому и глумливому Кирибеевичу:
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Кирибеевич ранее поклонился лишь царю, игнорируя и церкви, и,
само собой, «народ русский».
Убив опричника первым же ударом «в левый висок со всего пле-
ча», Калашников сказал царю, что «убил его вольной волею», но сооб-
щил, что скажет «только Богу единому», «за что про что» убил. Затем
Степан Парамонович, отстоявший в бою честь семьи, мужественно
принимает казнь.
В «Песни» М.Ю. Лермонтов, как и в «Бородино», по всем основ-
ным параметрам отказался от романтического развития темы (хотя со-
ответствующий потенциал в ней объективно присутствовал). Повество-
вание его исторически конкретно. Поэтом мастерски созданы характеры
персонажей, раскрывающиеся в их словах и поступках. Для развития
реалистических тенденций в лермонтовской поэзии данное произведе-
ние было этапным.
Неверно было бы думать, что для М.Ю. Лермонтова поэтический
романтизм с какого-то момента стал непривлекателен и перестал про-
272
являться в его творчестве, «сменившись» реализмом. Романтические
черты по-прежнему присущи, например, его последним кавказским по-
эмам «Беглец», «Мцыри». Романтический характер носит и главная
поэма М.Ю. Лермонтова «Демон», которая создавалась им, начиная с
конца 1820-х годов (фрагменты из «Демона» были опубликованы в
1842 г., а полностью она вышла из печати в 1856 г.). В этих поэмах
наблюдается даже своего рода «взлет романтизма».
Герой «Мцыри», горский юноша, в детстве попал в плен к русским
и с шести лет воспитывался в грузинском православном монастыре.
Там он был окрещен и намеревался стать монахом, но неожиданно ис-
чез. Через три дня его нашли неподалеку от монастыря обессилевшего.
Умирая, он рассказал старому монаху о своей попытке найти родной
аул. Сначала он вышел к грузинскому селению и увидел девушку с кув-
шином, сходившую к берегу реки. Далее, заблудившись в лесу, Мцыри
выдержал схватку с барсом, победил его, но затем, плутая, сделал круг
и нечаянно вернулся в знакомые места:
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.
Сюжет поэмы, как видим, незамысловат. По сути, он служит лишь
поводом для развития темы романтически понимаемой свободы лично-
сти. При этом сам образ Мцыри, погруженный автором в такой сюжет,
поэтически чрезвычайно силен. Логика жизни вела к тому, чтобы стал
монахом, уйдя из мира, полный сил юноша, могучий воин, рожденный и
первые шесть лет проживший в каком-то воинственном кавказском
племени (видимо, в мусульманской среде). Однако молодость и физи-
ческая природа героя упорно влекли его в прошлое:
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Иррациональная попытка Мцыри «пройти в родимую страну» по
сути была, разумеется, недостижимой попыткой обрести мир детства:
именно от детства он был отделен не столько стенами монастыря,
сколько истекшими годами. Монахи не могли ему предложить ничего,
кроме монашеской доли (и искренне считали ее лучшей долей в мире).
Но чужим оказался для героя и мир вне монастырских стен. В саклю,
18—Минепалов 273
где жила прекрасная девушка, он «взойти не смел», и не потому, что
сам не был грузином. Ему оказался чужд реальный человеческий мир:
...помощи людской
Я не желал... Я был чужой
Для них навек, как зверь степной.
Выбравшись в окружающую жизнь, Мцыри увидел иллюзорность
мечты, которой жил долгие годы. Ему мечтались картины из детства:
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
1де всех один я побеждал!..
Однако оказалось, что настоящим его миром был родной монас-
тырь, который он неоднократно именует «тюрьмой», но на который
автор весьма символически выводит его после бесплодных скитаний.
Наивно думать, что физически сильный юноша погибает от трех-
дневного голода и жажды (еще не заросшие следы от когтей барса явно
несмертельны). Сделать вторую попытку добраться в горы монахи не
могут ему воспретить. Положение Мцыри делает трагическим и «ту-
пиковым» не что иное, как романтическая художественная условность,
в рамках которой реалистические мотивировки событий, принцип прав-
доподобия не существуют (и даже не обсуждаются). Герой не обрел не-
коей свободы, которой жаждал, но которой нет на земле.
«Демон» — поэма, которая писалась М.Ю. Лермонтовым на про-
тяжении многих лет и имеет несколько редакций. О том, какая редак-
ция «последняя», существуют различные мнения. По всей вероятнос-
ти, работа была бы продолжена им и далее. С незавершенностью
произведения приходится связывать необычную для Лермонтова семан-
тическую нечеткость, а порою и противоречивость ряда мест поэмы.
Впрочем, данная ее особенность позволила целому ряду филологов «ло-
мать копья», соперничая в оригинальных гипотезах о характере лер-
монтовского замысла. В советские годы фигура Демона неоднократно
истолковывалась, в частности, как образ «бунтаря», «богоборца» и пр.,
и соответствующим образом раздувалась, что соответствовало господ-
ствовавшей атеистической идеологии.
Однако, имея дело с художественным произведением, с кото-
рым многое обстоит неоднозначно, как минимум, необходимо четко
разграничивать написанное Лермонтовым и собственные теории на
974
счет этого написанного, не смешивая одно с другим. А корректнее
всего по возможности не выходить при анализе за пределы автор-
ского текста.
«Демон, дух изгнанья» с христианской точки зрения есть не кто
иной, как изгнанный Богом с небес дьявол, обладающий способнос-
тью принимать самые разные внешние обличья, в том числе и самые
«романтические». Уловлять невинные человеческие души — его по-
стоянное занятие, и для достижения своей цели он способен употреб-
лять весьма изощренные средства.
После того как в первой части погибает жених княжны Тамары,
«дух изгнанья» подступает к его безутешной невесте, обещая ей «сны
золотые навевать». Несчастная девушка сначала еще способна созна-
вать, кем и для чего искушается. Она говорит отцу:
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
Демон не оставляет Тамару и в монастыре, где произносит перед
ней весьма эмоциональные, хорошо написанные поэтом речи. В конце
концов, казалось, он погубил ее душу:
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Однако после смерти Тамары ее «грешная душа» не досталась тому,
кого поэма условно именует Демоном:
«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал: —
Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал —
И благо Божие решенье!»
18* 275
В этой ситуации потерпевший неудачу Демон предстал таким, ка-
ков он есть:
Пред нею снова он стоял,
Но, Боже! — кто 6 его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.
Лермонтовский сюжет в публикуемой ныне редакции имеет ясный
и однозначный финал. Словесные прения вокруг «загадочного» образа
Демона, с которыми можно встретиться в трудах некоторых авторов,
представляются в значительной мере искусственными и надуманными.
Поэма отличается особенным богатством словесных пейзажей. Это
картины природы и жизни любимого Лермонтовым Кавказа. Люди с их
бедами и страстями приходят и уходят, а кавказская земля «цветет и
зеленеет».
Единственный прижизненный сборник Лермонтова «Стихотворе-
ния» был опубликован в 1840 г. Впрочем, с 1838 г. поэт уже был весь-
ма известен и активно печатался в периодике. Лучшие стихи Лермон-
това созданы в последние несколько месяцев жизни. Это, например,
«Родина», «Утёс», «Спор», «Листок», «Нет, не тебя так пылко я
люблю...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...») и др.
Лермонтов не успел человечески сблизиться с Пушкиным при жиз-
ни великого поэта, но даже весь круг лермонтовского «литературного»
общения в 1838—1841 гг. «арзамасский» — В.А. Жуковский, П.А. Вя-
земский, П.А. Плетнев, семья Карамзиных.
Параллельно поэтическому творчеству быстро набиравший твор-
ческие силы М.Ю. Лермонтов создал стихотворную драму «Маскарад»
(1835—1836, опубл. 1842). Попытки автора поставить ее на сцене ока-
зались безуспешными. Писался Лермонтовым и оставшийся незавер-
шенным роман «Княгиня Лиговская» (1836, опубл. 1882), где есть и
персонаж с фамилией Печорин (имя другое, чем в «Герое Нашего Вре-
мени»).
В 1839—1840 гг. сначала частями в журнале «Отечественные за-
писки», а затем отдельным изданием вышел из печати роман «Герой
нашего времени».
Близких аналогов роману «Герой нашего времени» не было в со-
временной М.Ю. Лермонтову русской литературе. Примеры наподо-
97R
бие «светских повестей» В.Ф. Одоевского или «кавказских повестей»
A.A. Бестужева-Марлинского напоминают роман Лермонтова все же
не столько четкой жанровой близостью к нему, сколько отдельными
сходными чертами сюжетики. «Герой нашего времени» — глубоко но-
ваторское произведение, содержащее в себе своего рода философию
человеческой души. Это не просто «первый русский психологический
роман». В известном смысле приходится заявить, что таких романов боль-
ше не было в русской литературе: произведение Лермонтова в струк-
турном плане уникально. Зато давно осознано родство «Героя нашего
времени» с лермонтовской лирикой. Речь в данном случае не о частич-
ной соотнесенности образа Печорина с личностью автора и вообще не о
«лиризме» определенных граней романа (безусловно имеющем место).
Делавшиеся Лермонтову некоторыми современными критиками
упреки в «невыдержанности плана» произведения были несправедли-
вы, поскольку такие упреки исходили из рутинных представлений о ро-
манной структуре. В «Герое нашего времени» проступает четкая архи-
тектоника и она, безусловно, великолепным образом выдержана.
Однако аналоги «плану» этого произведения следует искать не только
и не столько в предшествующей прозе, в романах других авторов, сколь-
ко в структуре лирических стихотворений Лермонтова и вообще в ли-
рической поэзии.
Та же «перевернутая» композиция — блестящим образом приме-
ненная Лермонтовым в его романе и впоследствии не только не полу-
чившая широкого распространения в прозе, но в столь сложном вари-
анте даже и не повторенная почти никем (во всяком случае, в
произведении такого высокого художественного уровня), — незамет-
ным образом издавна бытует в лирических стихах. Разница в том, что
проявляется она здесь не в порывающей с сюжетной хронологией рас-
становке автором крупнообъемных глав, а в непредсказуемой, нередко
психологически парадоксальной «расстановке» эмоциональных состо-
яний и их переходов. В лирике прекрасно удается незаметно начать с
конца, перейти к началу, а закончить в середине и т. п.
Благодаря «перевернутой» композиции, читатель в начале повес-
ти «Бэла», поставленной Лермонтовым «впереди», застает повество-
вателя на дороге из Тифлиса. Этот повествователь — персонаж, лишь
отчасти соотнесенный с личностью автора. На перевале через Койша-
урскую гору он знакомится со штабс-капитаном Максимом Максимы-
чем. На ночлеге в дымной сакле тот начинает рассказывать, как «скоро
пять лет» назад осенью к нему в крепость за Тереком прибыл в транс-
порте с провиантом «офицер, молодой человек лет двадцати пяти»: «Его
звали... Григорьем Александровичем Печориным».
277
Прожил прапорщик Печорин в крепости «с год». Здесь он увлекся
черкешенкой Бэлой, дочерью «мирного» князя, похитил ее у родите-
лей с помощью ее же брата пятнадцатилетнего Азамата, которому дал
за это возможность украсть коня Карагёза у абрека Казбича (также
влюбленного в Бэлу). После этого Азамат с конем навсегда исчез, а
Казбич убил отца Бэлы.
На другом ночлеге штабс-капитан досказал повествователю ис-
торию Бэлы. Бэла скоро наскучила Печорину, и тот даже заявил Мак-
симу Максимычу, что «любовь дикарки немногим лучше любви знат-
ной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают,
как и кокетство другой». Кончилось тем, что Казбич похитил Бэлу воз-
ле крепости, а когда Печорин и штабс-капитан стали его догонять,
смертельно ранил ее в спину кинжалом. Вскоре Печорин навсегда по-
кинул крепость.
Расставшись со штабс-капитаном, повествователь поехал во Вла-
дикавказ, где в гостинице опять встретил Максима Максимыча (повесть
«Максим Максимыч»). Они сидели за бутылкой кахетинского, когда
неожиданно подъехала щегольская коляска Печорина. Сам он, оказы-
вается, с дороги отправился к полковнику Н., и собеседникам удалось
увидеть его лишь наутро. Обдав штабс-капитана своим неожиданным
холодным равнодушием, он тут же уехал, сообщив, что отправляется в
Персию. Тетради, оставленные им, потрясенный Максим Максимыч
отдал повествователю.
Далее следует «Журнал Печорина», в предисловии к которому
повествователь сообщает, что «Печорин, возвращаясь из Персии,
умер». Эта персидская смерть Печорина — прием демонстративно пря-
молинейный, предельно условный. Однако при всей «механистичнос-
ти» подобного обрыва судьбы главного героя прием этот вполне эф-
фективно срабатывает, и читатель, тут же забывая об уже состоявшейся
смерти Печорина, начинает напряженно следить за сюжетным разви-
тием, в котором он жив и молод.
Публикуемая далее «Тамань» из печоринского «журнала» по хро-
нологии событий «самая первая» повесть: Печорин едет на Кавказ,
история с Бэлой еще впереди. После Тамани он добирается в Пяти-
горск (повесть «Княжна Мери»). Попав затем за дуэль с Грушницким
в крепость к Максиму Максимычу, Печорин однажды разоружает пья-
ного казака, убившего офицера Вулича («Фаталист»). На «Фаталис-
те» заканчивается роман.
Таким образом, благодаря «перевернутой» композиции роман на-
чинается близко от хронологического конца (накануне мимолетного
знакомства повествователя во владикавказской гостинице с Печори-
ным, едущим в Персию, — на обратной дороге из которой ему предсто-
ит умереть). Затем повествование возвращается на пять лет назад: ис-
тория Бэлы — которой предшествовали во времени (но будут фигу-
рировать, по романной композиции, лишь позже) эпизоды в Тамани и
Пятигорске. После гостиницы повествование прямо «прыгает» к хро-
нологическому началу («Тамань») и т. д. гн -^унц^а ци^^д.
Сюжетная сторона «Героя нашего времени» сильна и динамич-
на сама по себе; составляющие его повести в значительной мере са-
мостоятельны и то и дело обретают истинно «приключенческую» ос-
троту. Однако придуманная Лермонтовым композиция качественно
преобразовала содержание произведения как целого. Например, в
первых повестях («Бэла», «Максим Максимыч») Печорин видится
сторонними глазами. Далее он дается в самораскрытии (это резко
меняет многое, начиная с языка повествования), и сочетание обоих
ракурсов в рамках одного романа позволяет всесторонне высветить
образ «Героя времени». Одновременно это сочетание придает рома-
ну огромную внутреннюю динамику и способствует его особой ком-
пактности.
Незаурядный, деятельный, общительный и наблюдательный, но
эгоцентричный, делающий несчастными других людей и даже губящий
их, Печорин — при этом искренне страдающий сам, неприкаянный, не
знающий к чему бы приложить руки — фигура весьма емкая и масш-
табная1. Он буквально «прилипает» то к одному, то к другому персона-
жу, когда ему хочется либо чего-то добиться от людей, либо разобрать-
ся в том или ином человеке. Внешне это нередко выглядит назойливо,
бестактно и лишний раз напоминает о предельной эгоистичности Пе-
чорина. В то же время поведение Печорина позволяет ощутить, что в
нем клокочет не находящая себе применения сила.
В предисловии ко всему роману Лермонтов писал: «Эта книга ис-
пытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых чита-
телей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно
обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного
человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали,
что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых...
Старая и жалкая шутка! Но видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней
обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрёка в покушении на оскорб-
ление личности!
1 С известными оговорками можно счесть, что Лермонтов воплотил в своем
романе ницшеанскую личность задолго до появления Ницше с его философией.
279
Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет,
но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего на-
шего поколения, в полном их развитии».
Другие герои романа представляют собой самостоятельные и яр-
кие образы.
Доктор Вернер из «Княжны Мери», которого одного Печорин по-
читает в чем-то сродни себе, очерчен бегло, именно теми немногими
штрихами, которыми опытный художник способен написать вырази-
тельный портрет. Максим Максимыч олицетворяет собой целый на-
бор прекрасных человеческих качеств, которых недостает Печорину. Он
внутренне порядочен, добр, честен, хотя при этом наивен и довольно
пассивен. Грушницкий с его театральным поведением, хвастливыми
претензиями, плохо скрываемой трусостью и злобной завистью (Печо-
рин тщетно пытается пробудить в нем «искру великодушия») — не про-
сто удачно написанный реалистический характер, но и своего рода «ско-
лок» с того реального окружения, в котором вынужден был пребывать
в последний период жизни сам М.Ю. Лермонтов.
Мастерски обрисованы женские образы романа — Бэла, Вера,
Мери. В судьбе каждой из них Печорин сыграл злую роль. Каждая из
героинь, по сути, внутренне побеждает его своим благородством ( в слу-
чае с Бэлой и Верой к этому прибавляется самоотвержение).
Образ Печорина являл собой гениальное творческое развитие и
художественное углубление того литературного типа, который открыл
A.C. Пушкин в романе «Евгений Онегин». Их внутреннюю связь уло-
вили уже современники.
>«1 М.Ю. Лермонтов — литературный преемник A.C. Пушкина,
создавший бесценные поэтические произведения. Он вдохнул но-
вую жизнь в русский литературный романтизм. Его реалисти-
ческий роман «Герой нашего времени» — по сей день никем не пре-
взойденный шедевр русской прозы, открывший в литературе
новые изобразительно-художественные возможности.
РОМАНТИКИ
ЛЕРМОНТОВСКОГО ВРЕМЕНИ
Последними крупными поэтами-романтиками, писавшими в 1830-е
годы в арзамасских традициях, при всей их внутренней независимости
объективно были А. И. Полежаев (на пять лет младше Пушкина, на
десять старше Лермонтова) и М.Ю. Лермонтов.
В 1830-е годы арзамасская линия в поэзии заметным образом все
более сближалась с литературными приемами становившейся все бо-
лее общественно популярной художественной прозы. Объективные
истоки этого явления были изначально заложены в принципах творче-
ства карамзинистов. Чтобы ощутить последнее, достаточно посмот-
реть и на составляющие объемный том стихи (в основном сугубо пове-
ствовательные) самого Карамзина, и на его поэму «Илья Муромец»,
и на то, как развивается содержание, как строится сюжет (по образцу
прозаических сюжетов, с равномерным вниманием к деталям) в пуш-
кинских поэмах (особенно 1830-х годов), в поэмах Полежаева и Лер-
монтова.
Александр Иванович Полежаев (1804—1838) — поэт, сын поме-
щика Струйского и крепостной девушки, был вольнослушателем Мос-
ковского университета. За поэму «Сашка» отдан в военную службу
унтер-офицером по личному указанию царя Николая I. Участвовал во
многих сражениях на Кавказе. Умер от туберкулеза, успев узнать, что
произведен в прапорщики. Среди стихов А.И. Полежаева «Новая беда»
( 1825), «Четыре нации» (1827), «Песнь пленного ирокезца» ( 1828),
«Песнь погибающего пловца» ( 1832), «Цыганка» (1833), «Иван Ве-
ликий» (1833), «Черные глаза» (1834), «Духи зла» (1834), «Сара-
фанчик» (1835), «Отчаяние» (1836), «Венок на гроб Пушкина»
( 1837), «Осужденный» ( 1837) и др. Полежаев — автор поэм «Эрпе-
ли», «Чир-Юрт», «Видение Брута», «Кориолан», «Марий», «Царь
охоты ».
Судьба Полежаева как поэта была сломана болезненно пережи-
281
вавшейся им солдатчиной. Обстоятельства жизни привнесли в его твор-
чество безысходный трагизм:
Я умру! на позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я недвижим и смел
Встречу миг роковой!
(«Песнь пленного ирокезца»)
Сходные настроения проходят через многие известные произведе-
ния Полежаева — «Негодование», «Тюрьма», «Осужденный» и др.
Важное место занимают в Полежаевской поэзии также кавказские
мотивы, которые вскоре подхватит и гениально разовьет М.Ю. Лер-
монтов. Их примерами могут служить повествовательные поэмы По-
лежаева «Эрпели» и «Чир-Юрт» с характерными для них разверну-
тыми картинами военного быта и боевых действий.
Подобно «Графу Нулину» и «Домику в Коломне» Пушкина, все
поэмы Полежаева от «Сашки» до «Кориолана», многие лермонтовс-
кие поэмы (например, «Тамбовская казначейша»), имеют характер «по-
вестей в стихах», а то и соответствующие авторские подзаголовки. В
принципе, в порядке филологического эксперимента, их сюжеты мож-
но передать прозой почти без потерей в деталях. У Полежаева в этом
смысле стоит особняком последняя поэма «Царь охоты», в которой
он — явно сознательно — стремится разрушить такую абсолютную по-
вествовательность дроблением сюжета на автономные фрагменты.
(Здесь нельзя не вспомнить «роман в стихах» «Евгений Онегин».)
В 1837 г. погиб Пушкин, в 1838 г. не стало Полежаева, в 1841 г. —
Лермонтова, и «арзамасская линия» в развитии поэзии пресеклась, как
это ранее произошло с «державинской линией» в 1810-е годы (после
неожиданной смерти Боброва и ухода в монастырь Шихматова).
Однако романтизм в русской поэзии предпушкинского, пушкинс-
кого и лермонтовского времени заведомо не был равнозначен карам-
зинизму и «арзамасской линии». Данный факт выпукло и ярко проявил-
ся именно в 1830-е годы. Русская литературная действительность
продемонстрировала тогда, что возможен и совсем иной романтизм.
В 1830 г. поэт и филолог, профессор Московского университета
СП. Шевырев, будучи в Риме, написал стихотворение «Послание к
A.C. Пушкину». Он не хотел публиковать его, не показав предвари-
282
тельно самому Пушкину в рукописи. Известно, что оно было передано
Пушкину через М. П. Погодина, со слов которого мы знаем, что поэт
намерен был написать ответ — «разве только свадьба теперь помеша-
ет»1. Затем произведение все же вышло (с цензурными изъятиями) в
альманахе «Денница» (М., 1831).
Степан Петрович Шевырев (1806-1864) — поэт, лите-
ратурный критик, историк литературы; сын саратовского гу-
бернского предводителя дворянства, учился в Благородном пан-
сионе при Московском университете, впоследствии стал
профессором этого университета и деканом историко-филоло-
гического отделения философского факультета. Автор стихот-
ворений «Мысль», «Ночь», «Стансы», «Стены Рима», «На
смерть Лермонтова» и др., а также ряда критических статей
и филологического труда «История русской словесности»
(т. I—IV) — первого учебника по истории русской литературы.
Вместе с МЛ. Погодиным издавал журнал «Москвитянин».
В этом стихотворении Шевырев заявляет, что с Пушкиным связа-
ны «Надежды все и слава Руси милой» и называет его «избранником
божества», «помазанным Державиным-предтечей». Далее автор пе-
реходит к тому, что для него является главным:
Кому ж, певец, коль не тебе, открою
Вопрос, в уме раздавшийся моем
И тщетно в нем гремящий без покою:
Что сделалось с российским языком,
Что он творит безумные проказы!
Тебе странна, быть может, речь моя;
Но краткие его развернем фазы —
И ты поймешь, к чему стремлюся я.
Сей богатырь, сей Муромец Илья,
Баюканный на льдах под вихрем мразным,
Во тьме веков сидевший сиднем праздным,
Стал на ноги уменьем рыбаря
И начал песнь от бога и царя.
Воскормленный средь северного хлада
Родной зимы и льдистых Альп певцом,
Окреп совсем и стал богатырем,
И с ним гремел под бурю водопада.
1 Письма М.П. Погодина к СП. Шевыреву//Русский архив. 1882. № 6. С. 180.
283
ft* ;,r Здесь необходимо вдуматься, что же именно подразумевается
под «российским языком». Речь идет не просто о словаре и грамма-
тике, а о языке как искусстве слова, художественном слоге, реали-
зующемся в писательской деятельности и воплощенном в ее произ-
ведениях.
Итак, язык русской поэзии «стал на ноги» благодаря Ломоносову
(«рыбарю»), поэту и филологу, а затем усилиями Державина («Родной
зимы и льдистых Альп певца», а также автора оды «Водопад») сделал-
ся богатырем, подобным по мощи Илье Муромцу.
Дальше, говорит Шевырев, поэзия заговорила «чистыми Карам-
зина устами», речь которого понеслась «Что далее — то глубже и свет-
лей». В итоге, однако, «наш мощный богатырь» оказался «галльскою
диетою замучен, //Весь испитой, стал бледен, вял и скучен». (Такой
финал ясно указывает, что о «чистых устах» и «светлых речах» Карам-
зина выше говорилось иронически.)
И мысль на нем как груз какой лежит!
Лишь песенки ему да брани милы;
Лишь только б ум был тихо усыплен
Под рифменный, отборный пустозвон.
Что, если б встал Державин из могилы,
Какую б он наслал ему грозу!
На то ли он его взлелеял силы,
Чтоб превратить в ленивого мурзу?
Иль чтоб ругал заезжий иностранец,
Какой-нибудь писатель-самозванец,
Святую Русь российским языком
И нас бранил, и нашим же пером?
СП. Шевырев знал и помнил, что Пушкин (его близкий приятель)
начинал именно как ученик Карамзина и что он, с другой стороны, круп-
нейший и авторитетнейший деятель современной литературы. Как след-
ствие, именно Пушкина ему хочется убедить, что русской поэзии пора
прекратить заниматься «очищением языка»: оно обернулось для слога
поэзии «галльской диетой», обесцветило и ослабило его. Державинс-
кий богатырь превратился в «ленивого мурзу», «мысль на нем как груз
какой лежит».
Шевырев полагал, что стих карамзинистов — западников, злоупот-
реблявших логической ясностью и «прозрачностью» стихотворного
выражения и недооценивавших богатства народно-разговорной
речи, — «слишком хрупок и ломок, чтобы служить оправою полновес-
284
ному алмазу мысли»1. То, что «легкий» художественный слог карамзи-
нистов объективно не приспособлен для литературного воплощения фи-
лософско-гражданской проблематики — для «поэзии мысли»! — по-
мимо Шевырева (и раньше его) говорили и другие литературные
деятели2.
Ближайшие годы развития поэзии показали, что Шевырев в нача-
ле 1830-х годов не был одинок в своей ностальгии по Державину (и
державинским принципам работы над языком поэзии, «слогом»).
С 1832 г. начинаются все более систематические публикации и
быстро растущая известность Владимира Григорьевича Бенедиктова.
Забегая вперед, здесь стоит указать на сделанное этим поэтом авто-
сравнение характера своего творчества с творчеством именно граждан-
ско-философского поэта Державина — в стихотворении «К товари-
щам детства» (1841). Оно начинается мастерскими картинами дикой
природы русского Севера. Бенедиктовские речевые художественные
образы зримы и своеобразны:
В краю, где природа свой лик величавый
Венчает суровым сосновым венцом
И, снегом напудрив столетни дубравы,
Льдом землю грунтует, а небо свинцом;
В краю, где, касаясь творений начала,
Рассевшийся камень, прохваченный мхом,
Торчит над разинутой пастью провала
Оскаленным зубом иль голым ребром;
Где — в скудной оправе, во впадине темной,
Средь камней простых и нахмуренных гор
Сверкает наш яхонт прозрачный, огромный —
Одно из великих родимых озер...
От родной природы поэт переходит к главному — явно причисляет
себя кдержавинской школе:
Где лирой Державин бряцал златострунной,
Где воет Кивача «алмазна гора»,
Где вызваны громы работы чугунной,
1 Шевырев СП. Перечень наблюдателя. Московский наблюдатель. 1837.
Ч.ХН. №5-8. С. 319-320.
2 См. такого рода примеры в кн.: Минералов Ю.И. История русской словес-
ности XVIII века; он же. Теория художественной словесности.
285
Как молотом Божьим — десницей Петра;
Где след он свой врезал под дубом и сосной,
Когда он Россию плотил и ковал —
Державный наш плотник, кузнец венценосный,
Что в деле творенья Творцу помогал, —
Там, други, по милости к нам провиденья,
Нам было блаженное детство дано
И пало нам в душу зерно просвещенья
И правды сердечной святое зерно.
Да здравствует севера угол суровый,
Пока в нем онежские волны шумят,
Потомками вторится имя Петрово
И бардом воспетый ревет водопад!
Здесь названы две личности, которые поэт полагает образцом для
себя — Державин, бывший олонецким губернатором и написавший
оду «Водопад» (где изображен водопад Кивач), и «державный плот-
ник» Петр I (художественно обыгрывается также каламбурное созву-
чие этого эпитета с фамилией Державин). Тем самым Бенедиктов пре-
тендует на статус философско-гражданского поэта, на «поэзию мысли»
(в свете этого становится яснее, почему так не любивший его В. Г. Бе-
линский в своих статьях неизменно полемически отказывал его стихам
именно в «поэзии мысли»)1.
Параллельно Бенедиктову в русской литературе 1830-х годов про-
звучало творчество еще нескольких поэтов-романтиков, близких ему
по духу. Это, прежде всего, Нестор Васильевич Кукольник ( 1809—
1868), Федор Николаевич Менцов (1818—1848), Андрей Иванович
Подолинский (1806—1886) и Виктор Григорьевич Тепляков ( 1804 —
1842). В советское время их работа в литературе получала различные
терминологические характеристики. Одна из них — поэты «неисто-
вого романтизма». Это выражение легко понять: на фоне «ясности»
и «прозрачности» поэзии авторов «арзамасской» ориентации творче-
ство этой группы поэтов могло производить впечатление определен-
ной дисгармонии. Необходимое представление об образно-метафори-
1 Еще одна причина этого отказывания — внутренняя полемика Белинского с
неоднократным его оппонентом СП. Шевыревым, оценивавшим поэзию Бенедик-
това весьма высоко — в частности, утверждавшим, что это поэт «с глубокою мыс-
лию на челе» (Шевырев С. П. Стихотворения Владимира Бенедиктова//Московс-
кий наблюдатель. 1835. Август. Кн. 1. С. 493.
2ftfi
ческом ряде, характерном для «неистового романтизма», может дать
вышецитированное стихотворение Бенедиктова «Ктоварищам детства»
(особенно его «пейзажное» начало).
Полномасштабного возрождения в поэзии «державинской линии»
в результате деятельности вышеназванных авторов, как известно, не
получилось. Основная причина тут состояла в том простом обстоятель-
стве, что среди вышеназванных не оказалось ни одного великого та-
ланта. В то же время это были небезынтересные поэты.
В. Бенедиктов представлял собой вообще крупную фигуру — он
был поэтом, как минимум, уровня Полежаева и притом популярней-
шим поэтом середины — второй половины 1830-х годов.
Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873) родился в Пе-
тербурге, но его детство прошло в Петрозаводске, где он закончил Оло-
нецкую губернскую гимназию. Впоследствии Бенедиктов поступил во
2-й кадетский корпус в Петербурге. Из этого учебного заведения он
был выпущен «первым по успехам» в гвардию. Затем молодому офи-
церу довелось участвовать в польской кампании, и он получил орден за
храбрость. Однако, вскоре выйдя в отставку, он впоследствии стара-
тельно и успешно служил в Министерстве финансов и банковской сис-
теме.
Стихотворения В.Г. Бенедиктова «Утес» (1832), «Наездница»
(1835), «Кудри» (1835), «К отечеству и врагам его» (1855), «Война
и мир» (1857) и другие нравились многим читателям, хотя, как и его
творчество в целом, паралллельно вызывали в других реакцию протес-
та. Обычным упреком по адресу Бенедиктова было указание на вкусо-
вые погрешности.
Независимо от конкретных удач и неудач в целом В.Г. Бенедиктов
был, несомненно, поэтом большого мастерства. Так, в его стихотворе-
нии «Вальс» (1840) особыми тонкими приемами «словесной живопи-
си» воссоздается динамика светского бала:
Всё блестит: цветы, кенкеты,
И алмаз, и бирюза,
Ленты, звезды, эполеты,
Серьги, перстни и браслеты,
Кудри, фразы и глаза.
Внешне цитированное выглядит как простой перечень, вводимый
обобщающим оборотом «все блестит». Но на самом деле слово «блес-
тит» не раз меняет тут свой смысл. Блестят цветы и алмазы, но бле-
287
стят кудри и глаза, блестят и остроумные светские фразы. Компак-
тно и зримо обрисован ряд блестящих кавалеров ( «Ленты, звезды, эпо-
леты» — подразумеваются не дамские, а орденские ленты) и соответ-
ственный ему ряд блестящих светских дам («Серьги, перстни и
браслеты»).
Всё в движенье: воздух, люди,
Блонды, локоны, и груди,
И достойные венца
Ножки с тайным их обетом,
И страстями и корсетом
Изнуренные сердца.
Оборотом «все в движенье», параллельным обороту «все блес-
тит», после компактной картины всеобщего блеска вводится столь же
компактно нарисованный словесный образ движения. Неожиданно и
зорко поэт прежде всего подмечает, что движется воздух, и только за-
тем переключается на более ожидаемое — движение людей, частей
одежд и человеческих тел.
Далее сюжет развивается. Круг вальса редеет:
Бурей вальса утомленный
Круг, редея постепенно,
Много блеска своего
Уж утратил. Прихотливо
Пары, с искрами разрыва,
Отпадают от него...
Наэлектризованная эмоционально взвинченная атмосфера бала
еще раз превосходно передана здесь одной единственной деталью: от-
деляющиеся от круга пары точно отрываются от находящейся под то-
ком электрической цепи, так что почти зримо вспыхивают «искры раз-
рыва». И вот в конце концов в центре опустевшего круга летит в вальсе
единственная пара. Ее кружение подсказывает новый неожиданный
поворот сюжету. Фантазия поэта воспаряет в космогонические сферы:
Вот осталась только пара,
Лишь она и он. На ней
Тонкий газ — белее пара,
Он — весь облака черней.
Гений тьмы и дух эдема,
288
Мнится, реют в облаках,
И Коперника система
Торжествует в их глазах.
В сфере ра,пужного света
Сквозь хаос, и огнь, и дым
Мчится мрачная планета
С ясным спутником своим.
Эта «натурфилософская» образность в заключение тоже претер-
певает смысловую метаморфозу. Сюжет возвращается от космических
ассоциаций в «человеческий» план. «Мчится мрачная планета С яс-
ным спутником своим» — явное художественное иносказание: энер-
гично намечаются образы хищника и жертвы (причем поэтом путем игры
словесно-текстовыми последовательностями, переменой мест обоих
персонажей сознательно усложнено решение вопроса, «кто есть кто»).
Богатство и новизна литературной техники Бенедиктова, гибкость
и непростота его художественных решений очевидны. Он как поэт был
ритмически раскрепощен и умел придать своим поэтическим сюжетам
неожиданные оригинальные повороты. Он был смел (порою чересчур
смел ) в поэтической эротике, но все же не срывался в явную пошлость.
Будучи весьма чуток к образно-художественному потенциалу язы-
ка, Бенедиктов буквально рассыпает повсюду в своих стихотворениях
яркие метафоры, непринужденно вводит поэтические неологизмы
(«безверец», «волнотечность», «мирохозяин», «просторожденец»,
«личность» и др.)1. При этом, поскольку поэта следует судить «по за-
конам, им самим над собой поставленным», не забудем приводившееся
выше его автосравнение характера своего творчества с творчеством
великого русского гражданско-философского поэта Державина — в
стихотворении «К товарищам детства».
СП. Шевыревым не раз противопоставлялся карамзинистам Дер-
жавин с его «трудным» слогом, единственно пригодным, по мнению
Шевырева, для философской «поэзии мысли». Шевырев стремился и
в современности найти близких себе по духу поэтов, и с середины 1830-х
годов ориентировался в этом плане прежде всего на Бенедиктова. Бе-
недиктов был автором с «трудным» слогом и в лучших своих стихах пы-
1 См.: Полонский ЯЛ. Алфавитный список слов, сочиненных В.Г. Бенедикто-
вым... встречающихся в его стихотворениях//Стихотворения В. Бенедиктова в 3 то-
мах, посмертное издание под редЯ.П. Полонского. Спб., 1883—1888. Т. 1. С. XLV—
XLV1I.
19 ~ Минералов Zö9
тался обретать гражданско-ораторские интонации, пиитически «па-
рить» по-державински — что и проявилось в стихотворении «К това-
рищам детства».
Резко отрицательно относился к творчеству Бенедиктова В.Г. Бе-
линский. Поистине уничтожающий его отзыв был приурочен к выходу
«второго издания первой части» сочинений поэта и назывался «Сти-
хотворения Владимира Бенедиктова» (1842). Критик здесь пишет бук-
вально следующее:
«О достоинстве и значении поэзии г. Бенедиктова спор уже кон-
чен; самые почитатели его согласятся, что он то же самое в стихах, что
Марлинский в прозе. Подражать тому и другому невозможно: оба они,
и г. Бенедиктов и Марлинский, оригинальны и самобытны даже в са-
мых недостатках своих. Точно так же, как гениальные, великие поэты
выражают своими творениями крайность какой-нибудь действи-
тельной стороны искусства или жизни,— так они гениально вырази-
ли, один в стихах, другой в прозе, крайность внешнего блеска и кажу-
щейся силы искусства, чуждой действительного содержания, а
следовательно, и действительной жизненности».
Надо признать, что даже A.A. Бестужев-Марлинский (осужденный
декабрист, то есть революционер) воспринимался в советском литера-
туроведении как автор несколько настороженно. Основной причиной
этого было именно неприятие его творчества Белинским. Произведе-
ния этого крупного писателя-романтика издавались редко. *] .»>*
Заметно, что в процитированной статье Белинский вынужден, как
бы отвечая поклонникам творчества Марлинского и Бенедиктова (в то
время весьма многочисленным), признать за обоими некую «гениаль-
ность» — которую он тут же, снижая смысл слова, с профессиональ-
ным мастерством подает как «внешний блеск» и «кажущуюся силу».
Далее критик дает такое неожиданное ироническое объяснение чита-
тельской популярности и «авторитетности» обоих писателей:
«Вообще, должно заметить, что поэты, подобные Марлинскому и
гг. Бенедиктову, Языкову, Хомякову, очень полезны для эстетического
развития общества. Эстетическое чувство развивается чрез сравнение
и требует образцов даже уклонения искусства от настоящего пути, об-
разцов ложного вкуса и, разумеется, образцов отличных. Поэты, кото-
рым суждено выражать эту сторону искусства, тщетно стали бы пы-
таться отличиться в другой какой-нибудь стороне искусства; особенно
для них недостижима целомудренная и возвышенная простота. Вот по-
чему они держатся однажды принятого направления. И хорошо дела-
ют: будучи верны ему, они всегда будут блестеть, всегда будут иметь
свою толпу почитателей, и как теория, так и история искусства всегда
290 w^**M-ei
будет, в нужных случаях, ссылаться на них как на авторитеты в извест-
ных вопросах науки изящного,— тогда как ни та, ни другая и знать не
хочет обыкновенных талантов в сфере истинного искусства».
Начав творчество со стихотворной эротики, Бенедиктов рано об-
наружил, что ему свойственны и интонации крупного гражданского по-
эта. Второй взлет его популярности пришелся на середину 1850-х го-
дов. Тогда он выступил с циклом гражданских стихов на гребне
обуревавших русское общество патриотических настроений, связанных
с Крымской войной и героической обороной Севастополя.
Как гражданский поэт Бенедиктов развернулся в середине 1850-х
годов, то есть когда Белинского уже не было в живых. Трудно упрек-
нуть его стихи данного периода в «отсутствии мысли» (разве лишь в
проявляющейся время от времени некоторой ее декларативности, впро-
чем, отчасти компенсируемой неподдельной искренностью). Будучи
прекрасным декламатором, Бенедиктов в период Крымской войны ре-
гулярно выступал с публичным чтением своих стихов. Поэт Я.П. По-
лонский вспоминал о Бенедиктове в этой роли: «Читал стихи (свои. —
ЮМ. ) Бенедиктов превосходно, и все, что он читал, казалось хорошим
и увлекательным»1
Хорошо известно, что передача произведений некоторых поэтов
(Ломоносов, Державин, Маяковский и др.) опытным чтецом-деклама-
тором позволяет аудитории лучше и глубже их понять, вникнуть в ню-
ансы, ускользающие при чтении. Этот смысловой эффект связан с тем,
что данные авторы активно используют устно-разговорные средства
и интонации. Существующая орфографическая символика рассчитана
на передачу книжно-письменной речи — то есть в силу объективных
причин никак не приспособлена для задач письменного воспроизведе-
ния смысловых нюансов устной речи.
Записанные на бумаге стихи, в которых были интенсивно приме-
нены устно-разговорные средства, отчасти уподобляются нотам. Для
одних, специально подготовленных людей, эти поэтические «ноты» и
на бумаге «звучат», для других же они становятся «музыкой», обрета-
ют художественное звучание, лишь когда подключается исполнитель
(в данном случае не музыкант, а декламатор). Он восстанавливает все
необходимые интонационные средства и паузы, а также весьма важ-
ные для передачи деталей содержания паралингвистические факторы
(мимика, жесты, позы и т. п.). Не случайно поэты, творчески сориенти-
1 Полонский ЯЛ. Владимир Григорьевич Бенедиктов//Стихотворения Бене-
диктова. Т. I. Спб., 1883. С. XXVI.
19* 291
рованные на «звучащее слово», нередко бывают хорошими деклама-
торами. С этим следует соотнести огромный интерес к декламации Дер-
жавина — по воспоминаниям СТ. Аксакова, Державин, узнав, что юный
Сережа Аксаков обладает декламационным даром, без конца застав-
лял исполнять державинские произведения1. Бенедиктов был сам себе
декламатором, и современники запомнили в его исполнении, например,
следующее стихотворение:
Русь — отчизна дорогая!
Никому не уступлю, —
Я люблю тебя, родная,
Крепко, пламенно люблю.
В чудном звоне колокольном
На родной Москве-реке
И в родном громоглагольном
Мощном русском языке.
И в стихе веселонравном,
Бойком, стойком, как ни брось,
Шибком, гибком, плавном, славном,
Прорифмованном насквозь...
Слова о любви к отчизне тут носят несколько общий характер. Но
трудно остаться равнодушным к блестящей образно-художественной
характеристике «громоглагольного» родного языка и русского «весе-
лонравного» «прорифмованного насквозь» стиха. Здесь каждый эпи-
тет неотразимо точен.
Я люблю тебя тем пуще,
Что, прямая как стрела,
Прямотой своей могущей
Ты Европе немила.
Не из трусости мы голос,
Склонный к миру, подаем:
Нет! Торчит наш каждый волос
Иль штыком, или копьем.
Нет! Мы стойки. Не Европа ль
1 Аксаков СТ. Знакомство с Державиным//Лкш/соя СТ. Собр. соч.: В 4 т.
Т.2.М., 1955. С. 314-336.
292 *81
Вся сознательно глядит,
Как наш верный Севастополь
В адском пламени стоит? <и т. д.>
(«К Отечеству и врагам его», 1855)
Так в дни постигших тогда Отечество испытаний с новой силой про-
звучал голос Бенедиктова. Творческая способность была им сохранена
до конца жизни, и он не прекращал работы, когда его постигло чита-
тельское забвение (кроме сочинения собственных стихов, переводил, в
основном с оригинала, зарубежных поэтов).
Когда его забывали читатели, о нем еще долго продолжали помнить
пародисты — лишнее свидетельство яркого своеобразия его стихов, их
«заметности». Образ Козьмы Пруткова в значительной мере был на-
веян его создателям братьям Жемчужниковым и А.К. Толстому порт-
ретным обликом В.Г. Бенедиктова (он выглядел в жизни по-прутковс-
ки невзрачно — хотя, в отличие от пародийного портрета Козьмы
Пруткова, Бенедиктов на своих портретах держится скромно, не при-
нимая никаких напыщенных «романтических» поз).
Весьма широкая литературная известность, переходящая в на-
стоящую славу, такого колоритного автора, как Нестор Васильевич
Кукольник (1809—1868), — тоже неотмененная реальность 1830-х
годов (и не только). Особенно были знамениты его стихотворные пье-
сы. Литературные пристрастия Кукольника весьма характерны, и он
хорошо сознавал свою творческую «принадлежность»: «Он ни Жу-
ковского, ни Пушкина не признает поэтами. Разве Державин в со-
стоянии заменить их?» — недоуменно писал о Кукольнике будущему
академику Я.К. Гроту друг Пушкина П.А. Плетнев (курсив мой. —
ю.м.у.
Н.В. Кукольник родился в Петербурге, закончил ту же Нежинс-
кую гимназию высших наук, что и Гоголь. Будучи сыном педагога, сам
преподавал после гимназии русский язык в Вильно. Затем, после пере-
езда в Петербург, в 1834 г. сумел добиться постановки своей написан-
ной двумя годами ранее патриотической драмы «Рука Всевышнего оте-
чество спасла». Пьеса понравилась Николаю I, и это оказало молодому
драматургу огромную услугу в будущем. Кукольник снискал официаль-
ное признание, хотя безвкусие всегда ставилось ему в упрек (впрочем,
иной раз перед нами не безвкусие как таковое, а естественные в рамках
романтической поэтики словесно-образные «перехлесты»). Нельзя не
1 Переписка ЯХ Грота с П. А. Плетневым. Т. 11. СПб., 1896. С. 300.
293
отметить, что драма Кукольника очень нравилась и зрителям из про-
стого народа.
Драматургия Кукольника — стихотворная пьеса «ТоркватоТассо»
(1832), имевшая немалый успех, а также «Князь Скопин-Шуйский»
(1835) и др. — была широко известна в 1830-е годы. Из более поздних
его произведений заслуживает внимания пьеса о поэте XVIII в. «Ермил
Иванович Костров» (1852). Лирика Кукольника так же художественно
неровна, как его драматургия. Впрочем, Нестор Кукольник, который был
близким другом великого композитора М.И. Глинки, остался в истории
русского романса как автор текстов лучших романсов Глинки («Сомне-
ние», «Жаворонок», цикл «Прощание с Петербургом» и др.). Н.В. Ку-
кольник — один из соавторов стихотворных текстов либретто опер Глинки
«Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). Дружил
Кукольник также с великим художником К. Брюлловым.
-J*! Охотно писал Кукольник и прозу. Его историко-приключенческие
повести и любовно-авантюрные романы были популярны.
Федор Николаевич Менцов, Андрей Иванович Подолинский, Вик-
тор Григорьевич Тепляков и другие поэты «неистового романтизма»
также пользовались большей или меньшей известностью в 30-е — на-
чале 40-х годов.
Федор Николаевич Менцов (1817— J 848) — поэт и критик,
напечатавший в 1837-1839 годах ряд стихотворений в журна-
ле «Библиотека для чтения» и некоторых других периодических
изданиях. Как критик весьма зорко оценивал значение поэзии
М.Ю. Лермонтова (правда, критиковал его стихотворение «Кин-
жал», считая, что это оружие, созданное для убийства, «недо-
стойно» делать символом творчества поэта. Столь же зорко
угадал сильный талант в юном H.A. Некрасове, дав положитель-
ную оценку его первому сборнику «Мечты и звуки»,
Андрей Иванович Подолинский (1806—1886) — поэт, сын
малороссийского помещика, закончил Петербургский универси-
тетский благородный пансион. Автор стихотворений «Предве-
щание» (1828), «Портрет» (1828), «Отчужденный» (1836),
«Поэзия и жизнь» ( 1836) и др. ; поэм «Див и Пери» ( 1827), «Бор-
ский» (1829), «Нищий» (1830), «СмертьПери» (1837) идр., а
также сборника «Повести и мелкие стихотворения» (1837).
Виктор Григорьевич Тепляков (1804—1842) — поэт, сын
тверского помещика, после Московского благородного пансиона
294
служил в Павлоградском гусарском полку. Его книги «Стихотво-
рения Виктора Теплякова» (1834) и «Фракийские элегии»
(1836) высоко оценивал A.C. Пушкин1.
С фигурой В.Г. Теплякова, между прочим, связывали большие ожи-
дания в пушкинском кругу. Поэзия А.И. Подолинского также была в
поле зрения А.С.Пушкина. Так, у Подолинского есть стихотворение
«Портрет» (1828), посвященное А. П. Керн и первоначально вписан-
ное ей в альбом:
Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: гурия пророка
С небес на землю сведена! <и т.д.>
Пушкин, уже реалист, написал на эти романтические строки паро-
дию:
Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: «Вдень Ильи-пророка
Она была разведена!»
Однако среди обсуждаемой группы романтиков не оказалось «но-
вого Державина», о котором мечтал Шевырев. В результате уровень
их личных субъективных творческих притязаний оказался не соответ-
ствующим их возможностям. То, что в первой половине 1840-х годов
читающая публика в основном утратила к ним интерес, что они тогда
«вышли из моды» — реальный факт истории русской литературы.
В то же время к сказанному в предыдущем абзаце необходимо сде-
лать следующее существенное уточнение. Лидерская фигура — автор,
располагавший творческим потенциалом могучей силы, — в рядах по-
этов «неистового романтизма» явно себя обозначил. Тут нет противо-
речия. Дело в том, что к обсуждаемым литераторам на грани 1830-
1840-х годов некоторое время примыкал будущий классик русской
поэзии. Эта констатация отнюдь не противоречит высказанным выше
утверждениям.
1 Из литературы о В.Г. Теплякове см.. Вацуро В.Э. К биографии В.Г. Тепляко-
ва // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин-
ский Дом). Л., 1983. Т. 11.
295
Речь идет о Николае Алексеевиче Некрасове (1821-1876) и его
раннем творчестве — прежде всего, о первом сборнике стихов «Меч-
ты и звуки» (1840).
i Широко известно об отрицательной рецензии на этот сборник В.Г Бе-
линского (в ней критик называет автора «посредственностью»). Мало кто
знает, что почти одновременно с этой рецензией Белинского о «Мечтах и
звуках» был опубликован положительный, почти восторженный и, как
показала жизнь, прозорливый отзыв поэта и критика Ф.Н. Менцова, пи-
савшего про Некрасова, что «русская поэзия приобрела в нем один из тех
свежих и сильных талантов, которые много обещают в будущем»1.
Впрочем, и рецензию Белинского люди представляют себе в ос-
новном понасылшке. Между тем эта краткая рецензия представляет
собой весьма своеобразный текст. Критикуемому лицу в нем не дает-
ся слова — ни одной цитаты из стихов Некрасова не приводится. Это
прием опытного полемиста, явно не желающего, чтобы какой-либо
читатель все же заинтересовался процитированными стихами и прочел
книгу, чтобы убедиться, так ли уж плохи остальные. Применение тако-
го приема значит: критик чувствует, что цитирование для его утвержде-
ний опасно — цитата может дезавуировать его мысль об их «посред-
ственности» (действительно, по многим местам в этих юношеских —
то есть, разумеется, в ряде отношений еще незрелых! — стихах можно
угадать руку будущего мастера). И подобные приемы, и сама безжало-
стность тона критика в отношении первой книги никому не известного
юноши-поэта связаны с тем, что борьба тут ведется не столько с Не-
красовым, сколько с уже активно действующими в литературе поэтами
«неистового романтизма» (прежде всего, с Бенедиктовым)2.
В книге юноши Некрасова «Мечты и звуки» более сорока стихот-
ворных произведений, принадлежащих к основным жанрам лирики того
времени и написанных в 1838—1839 гг.3 ;
1 Журнал Министерства народного просвещения. 1840. Ч. 27. № 7. Отд. VI.
С. 63-64.
of 2 См. подробный анализ рецензии В.Г Белинского в кн.: Минералов Ю.И. Ис-
тория русской литературы XIX века ( 1840— 1860-е годы). М., 2003.
3 Сюда относятся стихотворения «Мысль», «Безнадежность», «Человек»,
«Смерти», «Поэзия», «Моя судьба», «Два мгновения», «Изгнанник», «Руко-
ять», «Жизнь», «Колизей», «Ангел смерти», «Встреча душ», «Истинная муд-
рость», «Земляку», «Горы», «Злойдух», «Незабвенная», «Турчанка», «Сомне-
ние», «Песня», «Покойница», «Землетрясение», «Ворон», «Рыцарь»,
«Водяной», «Пир ведьмы», «Непонятная песня», «Незабвенный вечер», «Мо-
гила брата», «Вчера, сегодня», «Ночь», «Дни благословенные», «Загадка»,
296
Разумеется, в «Мечтах и звуках» перед нами непривычный Некра-
сов. Притом это еще совсем юный поэт. Тут немало подражаний стихам
Бенедиктова — например, «К черноокой»:
Черный глаз и черный волос —
Всё не наших русых дев,
И томительный твой голос
Сыплет речь не нараспев. <и пр.>
(Ср. с бенедиктовским стихотворением «Черные очи»)
В этой книге Некрасова есть мистические баллады в духе сюжетов
Жуковского (но по принципам лепки языкового образа далекие от ка-
рамзинизма). Например, такова баллада «Ворон»:
Не шум домовых на полночном пиру,
Не рати воинственной топот —
То слышен глухой в непробудном бору
Голодного ворона ропот.
Пять дней, как, у матери вырвав дитя,
Его оглодал он, терзая,
И с тех пор, то взором в дубраве следя,
То в дальние страны летая,
Напрасно он лакомой пищи искал
И в злобе бессильной судьбу проклинал. <и пр.>
Благодаря первой книге очевидно, что будущий великий поэт-реа-
лист изначально тяготел к ярко метафорической, эмоционально при-
поднятой романтической стилевой палитре, а также, что видно по ряду
текстов, к отображению в стихах христианских идей и мотивов
(«Жизнь», «Ангел смерти», «Встреча душ», «Злой дух», «Землетря-
сение» и др.)1.
«Обет», «Красавице», «Тот не поэт», «Песня Замы», «Час молитвы», «Смуг-
лянке», «Весна», «Сердцу», «Признание», «Разговор».
Некоторые из этих стихотворений до выхода в сборнике были помещены Не-
красовым в периодике.
1 Присутствие подобных мотивов лишний раз объясняет, почему в СССР, в
условиях антирелигиозной пропаганды, первая книга Некрасова, по сути, замал-
чивалась: дело было не столько в ее «слабости» (хотя именно это выставлялось ей
в упрек), сколько в том, что она диссонировала с образом великого русского граж-
данского поэта, борца с самодержавием и т. п.
297
-ко Вероятно, и без пережитого им критического удара «на старте»
начавший как поэт-романтик Некрасов эволюционировал бы в реали-
стическом направлении, но более мягко, постепенно — и, скорее все-
го, в той или иной мере сохранил бы свою яркую метафорику, брос-
кость и силу внешней формы, которые есть в стихах первой книги
(напомним, что Некрасова не раз упрекали потом именно в бедности
формы).
Отрицательным отзывом Белинского он был настолько травмиро-
ван, что вторую свою книгу издал лишь через пятнадцать лет, явив-
шись в ней уже тем Некрасовым, которого знает каждый. (Во второй
половине 1840-х годов он, как известно, в основном проявлял себя в
качестве все более знаменитого журналиста, редактора и соиздателя
«Современника» — хотя время от времени печатал в периодике сти-
хотворные фельетоны и стихи на злободневные современные сюжеты.
Эти его поэтические публикации, видимо, казались публике занятием
побочным — и Некрасова мало кто воспринимал как поэта до середи-
ны 1850-х, то есть до выхода второй книги.) Тем самым приходится зак-
лючить, что естественный ход развития H.A. Некрасова как поэта вна-
чале оказался нарушен: его искривила неблагоприятная
жизненно-историческая случайность.
Итак, Некрасов-поэт, выпустивший в 1840 г. первую книжку —
по-юношески неровную, но, вопреки рецензии В.Г Белинского, яркую
и многообещающую, на долгие годы ушел в тень. Он не стал возобно-
вителем «державинской линии» в русской литературе. Однако к книге
H.A. Некрасова «Мечты и звуки» пора начать относиться не как к не-
правдоподобно-анекдотической «неудаче», а как к первой, то есть ран-
ней, книге великого поэта.
од Романтики 1830-х, казалось бы, должны были ощущать себя про-
должателями дела романтиков 1820-х и действовать подобно им — быть
последователями Карамзина и «Арзамаса», упиваться байронизмом и
пр. Однако они (за исключением Полежаева, Лермонтова и некоторых
их подражателей) не ощущали своей творческой связи с данными яв-
лениями, были настроены в их отношении критично и стремились «че-
рез поколение» вернуться к Державину и его новаторским поискам.
Этот порыв не был достаточно силен (среди поэтов «неистового ро-
мантизма» не оказалось своего Пушкина или Лермонтова), но фило-
логически он весьма характерен и информативен. Вопреки сложивше-
муся стереотипу, деятельность этого поколения поэтов-романтиков
(Бенедиктов, Кукольник, Менцов, ранний Некрасов и др.) заслужива-
ет самого внимательного и уважительного изучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1800-1830-е годы — время работы в литературе величайших рус-
ских писателей И.А. Крылова, A.C. Грибоедова, A.C. Пушкина, Н.В. Го-
голя, М.Ю. Лермонтова и др. Их окружала удивительно яркая плеяда
талантливых художников слова. Достаточно упомянуть К.Н. Батюшко-
ва, В.А. Жуковского, Д.В. Давыдова, К.Ф. Рылеева, П.А. Вяземского,
В.Ф. Одоевского, Е.А. Боратынского, Н.М. Языкова и многих других.
Русская литература 1800— 1830-х годов составляет самостоятель-
ный период, отличающийся стремительным развитием и острой борь-
бой литературных школ. Примером последней может служить проти-
воборство раннеславянофильской «Беседы любителей русского слова»
и «Арзамаса», литературного сообщества писателей-карамзинистов.
Карамзинизм имел весьма мало общего с «сумароковским» клас-
сицизмом в плане выражения определенных общественных взглядов
или художественной проблематики (тут можно даже говорить об их оп-
ределенной противоположности). Однако именно карамзинизму
было суждено вернуться к классицистским по их истокам попыткам вне-
дрять в литературу «ясность», «прозрачность», «простоту» и т. п. (па-
раллельно в литературу нередко незаметным образом возвращалась
классицистская рассудочность). Поэзия карамзинистов носила пре-
имущественно повествовательный характер. Культивировались балла-
ды, «рассказы в стихах», «повести в стихах» и т. п. Впоследствии гени-
альный A.C. Пушкин энергично преодолел «арзамасские» рамки, хотя
в полной мере воспользовался художественными возможностями по-
вествовательной поэзии. Пушкин сыграл определяющую роль также в
формировании литературного языка, создав нормы, действовавшие
впоследствии многие десятилетия.
В целом эти годы — эпоха по преимуществу романтического ис-
кусства, имевшего целый ряд различных ответвлений и «оттенков».
Разновидностью раннего романтизма был так называемый сентимен-
тализм. Далее в русской литературе проявились байроновская и гоф-
мановская ветви романтизма. Однако параллельно этому шли процес-
сы, которые привели на протяжении жизни одного поколения к
оформлению реалистического творческого метода, оказавшегося в ис-
торической перспективе небывало жизнеспособным. Басни И.А. Кры-
лова, комедия A.C. Грибоедова «Горе от ума», пушкинский роман в сти-
хах «Евгений Онегин», проза A.C. Пушкина и Н.В. Гоголя, роман
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» легли в основу складыва-
ющейся жанровой системы реалистической литературы.
299
Впрочем, картина литературного развития в данный период отнюдь
»не выглядит как неуклонное поступательное движение от романтизма к
реализму. Романтизм оставался притягательным для многих художни-
ков и после того, как A.C. Пушкин и другие вышеупомянутые писате-
ли-классики в своем творчестве опробовали возможности реалисти-
ческого письма. Достаточно напомнить, что романтизм дал новый
мощный художественный всплеск на излете 1800— 1830-х годов. В дан-
ной связи надо указать прежде всего на характер поэтического творче-
ства М.Ю. Лермонтова. Во второй половине 1830-х годов выдвину-
лась целая плеяда поэтов-романтиков, среди которых не было поэтов
«первого ряда», но весьма показателен сам факт их появления в это
время.
Если понимать и принимать ту художественную условность, кото-
рая пронизывает эстетику романтизма, тогда приемы творчества писа-
телей-романтиков, их броские сюжеты, их вычурные перифразы и про-
чее выглядят мотивированными, естественными и по-своему яркими.
Характерно и то, что, например, изданный в 1840 г. первый сбор-
ник стихов юного H.A. Некрасова, будущего великого русского писа-
теля, — тоже книга стихов поэта-романтика, лит/*.. *чу>
Между тем повествовательные тенденции в поэзии с начала 1840-х
годов продолжали распространяться шире и шире. Все более сближа-
ясь с прозой, она все более ослабляла свою специфику. Параллельно
читательский интерес к поэзии падал. Журналы 1840-х годов один за
другим переставали публиковать стихи. Данное десятилетие оказалось,
по сути, «десятилетием прозаиков». И.С. Тургенев, начинавший как
лирический поэт, перешел сначала на «повести в стихах» и «рассказы
в стихах», затем на прозу, хотя последнее далось ему нелегко. Дебюты
лучших поэтов данного периода (A.A. Фет, А.Н. Майков, А.К. Толстой,
A.A. Григорьев, Я.П. Полонский и др.) оказались почти незамеченны-
ми, и литературная известность пришла к ним — как и к «новому»
Некрасову — лишь в середине 1850-х годов.
Поэты и прозаики середины XIX в. сохраняли чувство внутренней
связи с писателями 1800— 1830-х годов и продолжали активно осваи-
вать их художественный опыт. Это позволило им еще более возвысить
русскую литературу.
Приложения
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
H. М. Карамзин
ЧТО НУЖНО АВТОРУ?
Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, проницатель-
ный разум, живое воображение и проч. Справедливо: но сего не до-
вольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть
другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сия-
ли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать
благословения народов. Творец всегда изображается в творении и час-
то — против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и
под златою одеждою пышных слов сокрыть железное сердце; тщетно
говорит нам о милосердии, сострадании, добродетели! Все восклица-
ния его холодны, без души, без жизни; и никогда питательное, эфирное
пламя не польется из его творений в нежную душу читателя.
H. М. Карамзин
ОТЧЕГО В РОССИИ
МАЛО АВТОРСКИХ ТАЛАНТОВ?
Если мы предложим сей вопрос иностранцу, особливо французу, то
он, не задумавшись, будет отвечать: «От холодного климата». Со вре-
мен Монтескье все феномены умственного, политического и нравствен-
ного мира изъясняются климатом. «Ah, mon cher Monsieur, n'avez-vous
301
pas le nez gelé?»1 — сказал Дидерот в Петербурге одному земляку сво-
ему, который жаловался, что в России не чувствуют великого ума его, и
который в самом деле за несколько дней перед тем ознобил себе нос.
Но Москва не Камчатка, не Лапландия; здесь солнце так же луче-
зарно, как и в других землях; так же есть весна и лето, цветы и зелень.
Правда, что у нас холод продолжительнее; но может ли действие его на
человека, столь умеренное в России придуманными способами защи-
ты, вредить дарованиям? И вопрос кажется смешным! Скорее жар,
расслабляя нервы (сей непосредственный орган души), уменьшит ту
силу мыслей и воображения, которая составляет талант. Давно извес-
тно медикам-наблюдателям, что жители севера долговечнее жителей
юга: климат, благоприятный для физического сложения, без сомнения,
не гибелен и для действий души, которая в здешнем мире столь тесно
соединена с телом. — Если бы жаркий климат производил таланты ума,
то в Архипелаге всегда бы курился чистый фимиам музам, а в Италии
пели Виргилии и Тассы; но в Архипелаге курят... табак, а в Италии
поют... кастраты.
У нас, конечно, менее авторских талантов, нежели у других евро-
пейских народов; но мы имели, имеем их, и, следственно, природа не
осудила нас удивляться им только в чужих землях. Не в климате, но в
обстоятельствах гражданской жизни россиян надобно искать ответа на
вопрос: «Для чего у нас редки хорошие писатели?»
Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно рас-
крыться ученьем и созреть в постоянных упражнениях. Автору надобно
иметь не только собственно так называемое дарование, — то есть ка-
кую-то особенную деятельность душевных способностей, — но и мно-
гие исторические сведения, ум, образованный логикою, тонкий вкус и
знание света. Сколько времени потребно единственно на то, чтобы со-
вершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал справедливо,
что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю
жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более
труда, нежели другим. Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, 5 или 6
авторов века Лудовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля,
может совершенно узнать язык свой во всех формах; но мы, прочитав
множество церковных и светских книг, соберем только материальное
или словесное богатство языка, которое ожидает души и красот от ху-
дожника. Истинных писателей было у нас еще так мало, что они не ус-
пели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тон-
кими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые,
1 Ах, дорогой мой, вы, кажется, отморозили нос? (франц.). и öqHM oiOH
302
даже обыкновенные, мысли. Русский кандидат авторства, недовольный
книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы
совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас
более по-французски! Милые женщины, которых надлежало бы толь-
ко подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, сча-
стливыми выражениями, пленяют нас нерусскими фразами. Что ж ос-
тается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать
лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предла-
гать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и
скрыть от них необыкновенность выражения! Мудрено ли, что сочини-
тели некоторых русских комедий и романов не победили сей великой
трудности и что светские женщины не имеют терпения слушать или
читать их, находя, что так не говорят люди со вкусом? Если спросите у
них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: «Не знаю; но
это грубо, несносно!» — Одним словом, французский язык весь в кни-
гах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а рус-
ский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо мно-
гих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с
талантом. Бюффон странным образом изъясняет свойство великого
таланта или гения, говоря, что он есть терпение в превосходной степе-
ни. Но если хорошенько подумаем, то едва ли не согласимся с ним; по
крайней мере без редкого терпения гений не может воссиять во всей
своей лучезарности. Работа есть условие искусства; охота и возмож-
ность преодолевать трудности есть характер таланта. Бюффон и
Ж.-Ж. Руссо пленяют нас сильным и живописным слогом: мы знаем от
них самих, чего им стоила пальма красноречия!
Теперь спрашиваю: кому у нас сражаться с великою трудностию
быть хорошим автором, если и самое счастливейшее дарование имеет
на себе жесткую кору, стираемую единственно постоянною работою?
Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах, быть наблюдателем,
всегдашним учеником, писать и бросать в огонь написанное, чтобы из
пепла родилось что-нибудь лучшее? В России более других учатся дво-
ряне; но долго ли? До пятнадцати лет: тут время идти в службу, время
искать чинов, сего вернейшего способа быть предметом уважения. Мы
начинаем только любить чтение; имя хорошего автора еще не имеет у
нас такой цены, как в других землях; надобно при случае объявить дру-
гое право на улыбку вежливости и ласки. К тому же искание чинов не
мешает балам, ужинам, праздникам; а жизнь авторская любит частое
уединение. — Молодые люди среднего состояния, которые учатся, так-
же спешат выдти из школы или университета, чтобы в гражданской или
военной службе получить награду за их успехи в науках; а те немногие,
303
которые остаются в ученом состоянии, редко имеют случай узнать
свет — без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен
ни был. Все французские писатели, служащие образцом тонкости и при-
ятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою реторику
в свете, наблюдая, что ему нравится и почему. Правда, что он, будучи
школою для авторов, может быть и гробом дарования: дает вкус, но
отнимает трудолюбие, необходимое для великих и надежных успехов.
Счастлив, кто, слушая сирен, перенимает их волшебные мелодии, но
может удалиться, когда захочет! Иначе мы останемся при одних купле-
тах и мадригалах. Надобно заглядывать в общество — непременно, по
крайней мере в некоторые лета, — но жить в кабинете.
Со временем будет, конечно, более хороших авторов в России —
тогда, как увидим между светскими людьми более ученых или между
учеными — более светских людей. Теперь талант образуется у нас слу-
чайно. Натура и характер противятся иногда силе обстоятельств и ста-
вят человека на путь, которого бы не надлежало ему избирать по рас-
четам обыкновенной пользы или от которого судьба удаляла его: так,
Ломоносов родился крестьянином и сделался славным поэтом. Склон-
ность к литературе, к наукам, к искусствам — есть, без сомнения, при-
родная, ибо всегда рано открывается, прежде, нежели ум может соеди-
нять с нею виды корысти. Сей младенец, который на всех стенах чертит
углем головы, еще не думает о том, что живописное искусство достав-
ляет человеку выгоды в жизни. Другой, услышав в первый раз стихи,
бросает игрушку и хочет говорить рифмами. Какой хороший автор в
детстве своем не сочинял уже сатир, песен, романов? Но обстоятель-
ства не всегда уступают природе; если они не благоприятствуют ей, то
ее дарования по большей части гаснут. Чему быть трудно, то бывает
редко — однако ж бывает, — и чувствительное сердце, живость мыс-
лей, деятельность воображения, вопреки другим явнейшим или бли-
жайшим выгодам, привязывают иногда человека к тихому кабинету и
заставляют его находить неизъяснимую прелесть в трудах ума, в разви-
тии понятий, в живописи чувств, в украшении языка. Он думает —
желая дать цену своим упражнениям для самого себя, — думает, гово-
рю, что труд его не бесполезен для отечества; что авторы помогают со-
гражданам лучше мыслить и говорить; что все великие народы любили
и любят таланты; что греки, римляне, французы, англичане, немцы не
славились бы умом своим, если бы они не славились талантами; что
достоинство народа оскорбляется бессмыслием и косноязычием худых
писателей; что варварский вкус их есть сатира на вкус народа; что об-
разцы благородного русского красноречия едва ли не полезнее самых
классов латинской элоквенции, где толкуют Цицерона и Виргилия; что
304
оно, избирая для себя патриотические и нравственные предметы, мо-
жет благотворить нравам и питать любовь к отечеству. — Другие мо-
гут думать иначе о литературе; мы не хотим теперь спорить с ними.
H. М. Карамзин
<0 БОГАТСТВЕ ЯЗЫКА>
Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во
множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. Богатый язык
тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей,
но и для изъяснения их различий, их оттенок, большей или меньшей
силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми милли-
онами слов своих. Какая польза, что в арабском языке некоторые теле-
сные вещи, например меч и лев, имеют пятьсот имен, когда он не выра-
жает никаких тонких нравственных понятий и чувств?
В языке, обогащенном умными авторами, в языке выработанном,
не может быть синонимов; всегда имеют они между собою некоторое
тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом язы-
ка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают.
Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись прежде в вер-
ное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, которое
должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и
распространять в области чувствительного приятные впечатления? Если
творческая натура произвела тебя в час небрежения или в минуту раз-
дора своего с красотою: то будь благоразумен, не безобразь художни-
ковой кисти, — оставь свое намерение. Ты берешься за перо и хочешь
быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, ис-
кренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего.
Ужели думаете вы, что Геснер мог бы столь прелестно изображать
невинность и добродушие пастухов и пастушек, если бы сии любезные
черты были чужды собственному его сердцу?
Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода челове-
ческого — и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, —
или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей.
Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему
открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа твоя может воз-
выситься до страсти к добру, может питать в себе святое, никакими
сферами не ограниченное желание всеобщего блага: тогда смело при-
20~Мннералов OVO
зывай богинь парнасских — они пройдут мимо великолепных чертогов
и посетят твою смиренную хижину — ты не будешь бесполезным писа-
телем — и никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою моги-
лу.
Защитник и покровитель невинных, благодетель Каласовой фами-
лии, благодетель всех фернейских жителей имел, конечно, не злое сер-
дце.
Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения — все сие трогает и
пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает
воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не
будет его наградою.
Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостя-
ми и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, когда он
мечтает или запутывается в противоречиях? — Оттого, что в самых
его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия; оттого,
что самые слабости его показывают некоторое милое добродушие.
Напротив того, многие другие авторы, несмотря на свою ученость
и знания, возмущают дух мой и тогда, когда говорят истину: ибо сия
истина мертва в устах их; ибо сия истина изливается не из добродетель-
ного сердца; ибо дыхание любви не согревает ее.
Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хоро-
шим автором.
В. А. Жуковский
СВЯТАЯ РУСЬ
Письмо князю П.Л. Вяземскому
23-гоиюля (5-го августа) 1848 г.
Кронталь, близ Содена.
Благодарствую, мой милый Вяземский, за твое коротенькое пись-
мо и за донесение о том, что у вас теперь происходит; это несколько за
вас успокоило, хотя холерная туча все еще стоит над вашею головою.
Но мне на вас почти завидно, вы окружены бедою, которая, выходя из
Руки Всемогущей, выходя из природы, неповинной в том зле, которое
из нее истекает, вселяет один только ужас; вы дома, вы страждете в
своей семье. А я начуже, и вокруг меня свирепствует беда, производя-
щая не один благоговейный ужас пред Властию Верховной, но и него-
306 -ок
дование против безумия и разврата человеческого. Если бы я был сча-
стлив, если бы уже теперь был дома, пускай бы там холера нашла меня;
но самому искать холеры, вместе с женою и детьми, везти свою семью
ей на встречу и, может быть, ей на жертву, на такую ответственность не
могу и не должен решиться.
Между тем на беду мою надобно еще слышать и слушать вой этого
всемирного вихря, составленного из разных, безчисленных криков че-
ловеческого безумия, вихря, который грозит все поставить вверх дном.
Какой тифус взбесил все народы и какой паралич сбил с ног все прави-
тельство! Никакой человеческий ум не мог бы признать возможным
того, что случилось и что, в несколько дней, с такою демоническою,
необоримою силою, опрокинуло созданное веками. Можно было слы-
шать, и давно, давно это было слышно, что в глубине кратера, таивше-
гося подслоями многих поколений, шевелилась скопляющаяся лава; и
покой правительств, которые лениво и упрямо спали на краю этого кра-
тера, есть гибельная неосторожность, вполне заслуживающая имя пре-
ступления. Но подобного извержения лавы придумать было невозмож-
но. Шумом упадшаго французского трона пробуждается несколько
крикунов в маленькой области Германского царства; несколько про-
фессоров, адвокатов, лекарей и марателей бумаги, никем не призван-
ных, никем неуполномоченных, предводительствуя маленькою дружи-
ною дерзких журналистов, выходят в бой против всех законных
государей, окруженных сильною армиею, и все они разом, без боя, кла-
дут оружие и принимают безусловно те безсмысленные законы, кото-
рыми в чаду своей силы [не действительной, а созданной внезапным
страхом их противников], наскоро, без всякой умеренности, без малей-
шаго признания права и правды, толпа анархистов уничтожает всякий
авторитет и всякую возможность порядка. Теперь начинается что-то
похожее на противудействие — но трудно поверить его успеху. Слиш-
ком, слишком много разрушено.
Вяземский! как тронули меня, при виде всего этого, столь болез-
ненного и отвратительного, твои стихи: я не мог читать их без слез и не
могу иначе перечитывать...
Твои стихи не поэзия, а чистая правда. Но что же поэзия, как не
чистая высшая правда? Твои стихи правда потому, что в них просто,
верно, без всякой натяжки, выражается то, что глубоко живет в душе,
не подлежит произвольному умствованию, не требует никаких доказа-
тельств разума, что живет в душе вопреки всем софизмам отрицания,
вопреки даже самим противоречащим фактам, живет, как всякая Бо-
жия истина, не из ума человеческого исходящая, потому именно гордо-
стью его отвергаемая, что оно вне его существует, потому именно и не
20* 307
отрицаемая что не принадлежит к области очевидности и не подвласт-
на механической силе логических доказательств. Твои стихи, поэтичес-
кий крик души, производят очаровательное действие в присутствии чу-
довищных происшествий нашего времени. Святая Русь! — Какое
глубокое получается это слово теперь, когда видим, как все кругом нас
валится, единственно от того, что оторвался от него этот общий знаме-
натель, к которому нельзя уже теперь привести этих мелких, разнород-
ных дробей, ничего целого не составляющих. Святое утрачено; креп-
кий цемент, соединивший так твердо камни векового здания, по плану
Промысла построеннаго, исчез мало-помалу, уничтоженный едкою де-
ятельностью ума человеческого. Что воздвигнется и может ли что воз-
двигнуться на этой груде развалин — мы знать и предвидеть не можем.
Между тем наша звезда, Святая Русь, сияет высоко, сияет в стороне!
Да сохранит ее Бог от затмения собственнаго и от насильственнаго ув-
лечения в вихре соседних звезд, готовых разрушиться. Святая Русь —
это слово ровесник христианской России. Оно дано ей, как говорят твои
стихи, при ее крестинах, и никогда не потеряет своего глубокого смыс-
ла, хотя и вошло в разряд обыкновенностей (lieux communs). Скажу
мимоходом, что я выше всего ставлю эти так называемые обыкновен-
ности: они в языке и в жизни то же, что воздух, невидимо нас окружаю-
щий, без которого ни дышать, ни жить невозможно. То, что вошло в
обыкновенность, принято всеми, для всех неотрицаемо; оно потеряло
свою новость от своей давности, но по тому самому и есть всеобщая
необходимая истина. Оно приобретает вдруг характер какого-то откро-
вения, чудно выражающаго истину верховную — когда ему противопо-
ложная нечто, эту верховную истину отрицающее. Так и здесь: Святая
Русь — как часто и давно это слово повторяется, как мы к нему при-
выкли, как многие употребляют его даже в ироническом смысле — но
сказаное теперь [в противоположность тому, что в наших глазах повсе-
местно творится], не изумляет ли оно своею новостию и своею исти-
ною? Не выражает ли оно для нас с новою убедительностию, одним зву-
ком всего, что в течение веков сделалось нашею верою, любовию и
надеждою? Не яснее ли означается в нем этот особенный союз наш с
Богом, вследствие которого от наших праотцев перешло к нам и чудное
имя его Русской Богъ [не Российский Богь, как оканчивает своего Ди-
митрия Донского Озеров]. Русской Богъ, — Святая Русь, подобных
наименований Бога и отечества, кажется, ни один европейский народ
Не имеет. В выражении Святая Русь — отзывается вся наша особен-
ная история; это имя Россия ведет от Крещатика; но свое глубокое зна-
чение оно приобрело со времен раздробления на уделы, когда над раз-
ными подчиненными князьями был один главный, великий, когда при
308
великом княжестве было множество малых, от него зависимых, и когда
это все соединялось в одно, не в Россию, а в Русь, то есть не в государ-
ство, а в семейство, где у всех были одна отчизна, одна вера, один язык,
одинакия воспоминания и предания; вот отчего и в самых кровавых меж-
доусобиях, когда еще не было России, когда удельные князья беспрес-
танно дрались между собою за ее области, для всех была одна, живая,
нераздельная Святая Русь. Все вместе стояли за нее против нашествия
и грабительства врагов неверных. Особенную же силу этому слову дали
печальные времена Мамая: тогда оно сделалось для нас соединитель-
ным, отечественным, боевым криком; им утешала нас наша церковь,
его произносили князья наши, неся в Орду свою голову за отечество,
оно гремело на Куликовом поле; оно должно было получить удивитель-
ный смысл на устах Великого Иоанна III, уничтожившаго рабство та-
тарское и вдруг явившагося самодержавным обладателем всея России.
С того времени Россия стала государством, особенным достоянием царя,
а Святая Русь осталась преданием, совокупным сокровищем царя и
народа. Там наше могущество, наши многообъемлющие грани, наше
государственное достоинство; здесь наша память о жизни праотцев,
наша народная внутренняя жизнь, наша вера, наш язык, все, что соб-
ственно наше русское, что никому, кроме нас, принадлежать не может,
что нигде, кроме Русской земли, не встретится, чего никто, кроме рус-
ского человека, и понять не может. Россия принадлежит к составу го-
сударств Европы: Святая Русь есть отдельная, наследственная соб-
ственность русского народа, упроченная ему Богом. Вся святость этой
Руси и весь чудный характер народа русского [в котором такой светлый
рассудок соединяется с такою твердою, спокойною, никаким вдохнове-
нием не воспламеняемою самоотверженностию] особенно выразились
в ту минуту, когда бояре московские пришли к Иоанну IV умолять его
казнить их, как будет на то его воля, но только не покидать престола
русского. [Событие удивительное, в котором ясно означается, что пра-
вильные понятия политические, без всякого философического умство-
вания постигнутые здравым русским умом, прямо истекают из того ис-
точника, из которого всякая истина истекает, из христианства, которое,
несмотря на потрясение, претерпенное им в наше время, возьмет на-
последок свое и сделается альфой и омегою всякой правды]. Другое
слово нашего народа: Русской Богъ, имеет такое же глубокое, истори-
ческое значение. Подобные слова не случайно входят в употребление,
они суть памятники, итоги вековой жизни народа. Слово Русской Богъ
выражает не одну веру в Бога, но еще какое-то особенное народное
предание о Боге, давнишнем сподвижнике Руси, виденном нашими пра-
отцами во все времена их жизни, и счастливые и бедственные, и слав-
309
ные и темные, в этом слове наше бодрое, беспечное авось соединяется
с крепкою надеждою на высшее Провидение, Русской Богъ есть то же
в отношении к вере в Бога, что Святая Русь в отношении к России.
Этот «Русской Богъ» есть удивительное создание нашего ума народна-
го, понятия о Немъ, отдельно существующее при вере в Бога христи-
анского, истекающей из божественного откровения, присоединено к
ней, будучи выведено русским народом из откровения, в его истории
заключающегося, понятия о Боге ощутительном, на опыте доказанном,
повсеместно, без всякого проповедания признанном, понятие, одним
только русским народом присвоенное. Смешно сказать: английский,
французский, немецкий бог, но при слове русский Богъ — душа благо-
товеет: это Бог нашей народной жизни, в котором, так сказать, для нас
олицетворяется вера в Бога души нашей, это образ Небеснаго Спаси-
теля, видимо отразившийся в земной судьбе нашего народа. -><»бт
♦ Россия шла своим особенным путем, и этот путь не изменился с
самого начала ее исторической жизни, несмотря на беспорядки, про-
исшедшие от раздробления на уделы, которое наконец произвело и дол-
гое татарское иго. Две главные силы, исходящие из одного источника,
властвовали и властвуют ее судьбою, они навсегда сохранят ее само-
бытность, если, оставшись неизменными в своей сущности, будут сле-
довать за историческим, необходимым ее развитием, будут его направ-
лять и могущественно им владычествовать. Эти две силы суть церковь
и самодержавие: одной, то есть самодержавию, принадлежит земной
порядок и благоденствие общественное, им охраняемое; другой, то есть
церкви, принадлежит дополнение земного благоденствия высшими бла-
гами иного порядка, дающими земному его истинное значение и воз-
можную прочность.
Оглянувшись на запад теперешней Европы, что увидим?.. Дерзкое
непризнание участия Всевышней Власти в делах человеческих выра-
жается во всем, что теперь происходит в собраниях народных. Эгоизм
и мертвая материальность царствуют. Чего тут ожидать живого? Какое
человеческое благо может быть построено на таком фундаменте?.. У
нас — целы те главные, основные элементы, которыми держится бы-
тие государств христианских. Наша церковь не изменилась: реформа-
ция не дерзнула коснуться ея святыни; а неизменяемость церкви сбе-
регла и упрочила неизменяемость власти державной, которая, несмотря
на все волнения государственныя, осталась непотрясенною в своем
основании, то есть в понятии о божественности ея происхождения и в
исторической ее законности. Русский народ, в котором никакой произ-
вол мятежнаго умствования не поколебал веры в непреложность церк-
ви, остался равномерно верен и власти державной, проповедуемой цер-
31П
ковию. В его истории мы видим перемены властителей, но власть и ува-
жение к ней во всякое время оставались неизменными; бывали мятежи
народные, но никогда не бывало провозглашаемо право мятежа, кото-
рое так же существовать не может, как и право притеснения: ибо когда
народное восстание опрокидывает законную власть, во зло употреб-
ленную, то это не есть выражение существующего права — это просто
событие, неизбежное следствие другого события, неправда, рожден-
ная неправдою, — то же, что отзыв, естественно произведенный зву-
ком. Мы видим, что от Рюрика до смерти Феодора Иоанновича один и
тот же дом царствует — сквозь все века протянута одна непрерывная
цепь наследственной власти, непрерывная во времена междоусобий,
во времена татарского ига и пресеченная на короткое время в периоде
от Годунова до Романовых только для того, чтобы крепче соединить свои
звенья в ту минуту, когда весь русский народ, основываясь на вере и
обычаях праотцев и на учении евангельском, провозгласил самодер-
жавие на выборе московском. Это самодержавие перешло в руки Ро-
мановых таким, какое оно было до их избрания. Оно и теперь то же
самое в своей сущности: завет нам от всего — нашего минувшего, бо-
гатство, собранное нами в течение веков на дороге, по которой вело
нас Провидение. С другой стороны, надобно сказать, что если в обра-
зованной Европе вера в святое истратилась от расточительных злоупот-
реблений ума, то в России она сохранилась в своей неприкосновеннос-
ти, частию и от ее бездейственнаго неупотребления, так что на западе
Европы существует цивилизация, но добрыя начала уничтожены, а у
нас сохранены добрыя начала, но собственной цивилизации, из их раз-
вития исходящей, еще не существует, а есть только ее призрак, ее нам
чуждая, заимствованная форма, которая может наконец повредить и
добрым началам. Вопрос что возможнее? — ввести ли снова в цивили-
зацию уничтоженныя добрыя начала, или на существующих добрых
началах пересоздать чужую цивилизацию в собственную? Думаю, пос-
леднее. Первое можно сравнить с развратным, состарившимся, рас-
слабленным богачом, который доживает последнее свое достояние и
ничего не оставит наследникам, кроме своего мертвого трупа, после-
днее — с молодым, еще неоглядевшимся недорослем, владельцем ве-
ликаго богатства, которого он еще употреблять не научился, но кото-
рое еще не настрачено и может, увеличенное, перейти в руки его
наследников. Итак, чтобы предохранить цивилизацию Европы от нис-
падения в варварство, надлежит возвратить ее к началам, ею утрачен-
ным. Чтобы дать самобытную цивилизацию России, должно развить сии
добрые начала, сохранившие всю чистоту свою, но еще не вполне в
смысле своем употребленные. Сии начала для России суть церковь и
311
самодержавие. Под развитием церкви разумеется более деятельное вве-
дение ее учения в умственную и практическую жизнь истинным христи-
анским образованием, оградив его от всякого самовольнаго лжемуд-
рия, образованием, которое у нас до сих пор слишком ограничено было
одними формами. Под развитием самодержавия разумеется твердей-
шее укоренение и распространение его патриархальнаго могущества,
которого источник и правило есть верховная Божия правда, но кото-
рое, с своей стороны, должно более и более определить и утвердить
законность — с одной стороны, в действиях исполнителей власти, с
другой, в общих о ней понятиях народа, законность, которая хранит
права, неотъемлемо всем и каждому принадлежащие и державною вла-
стию один раз навсегда утвержденные, и которая, истекая из самой вла-
сти, ее не ограничивает, а более и более упрочивает посредством ука-
зания необходимых верных путей ее действия.
П.А.Вяземский
О ДЕРЖАВИНЕ
Угасло одно из светил поэзии нашей, лучезарнейшее светило ее!
Державина нет? Смерть похитила в нем у муз почтенного их Нестора, у
отечества — мужа знаменитого, прешедшего со славою и пользою по-
прище долгой жизни, у ближних и друзей — добродушного старца, ук-
рашенного семейственными добродетелями. Пускай другие следуют за
ним на пути гражданской службы, застают его простым рядовым на ча-
сах в день восшествия на престол Екатерины II и потом с удивлением
увидят его любимцем, статс-секретарем и певцом Екатерины Великой:
мы кинем взгляд на его поприще литературное.
Утратою великих людей, сею горестною ценою покупается прискор-
бное право говорить о них свободно. С одной стороны, недоброжела-
тельство не упрекнет критика лестию; с другой, — страх оскорбить раз-
дражительное самолюбие не увлечет его за границу надлежащих похвал.
Державин, как другой Ломоносов, создал сам себя. Судьба не урав-
няла пути, по которому он должен был достигнуть до первых степеней
государственного человека и вершины славы пиитической. Первые
порывы пиитического таланта ознаменовались в гвардейском сержан-
те. После того оды, написанные при горе Читалагае и напечатанные в
1777 г., из которых многие переправленные явились после в свет под
другими названиями, показали малому тогда числу любителей поэзии
Q19
достойного наследника лиры Ломоносова, а прозорливому взгляду про-
свещенных судей — и будущего победителя сего творца и образовате*
ля русской поэзии. •■■**
Светильник наук в первые годы его молодости не озарял перед ним
мира, в котором тогда единственным вождем и истолкователем его та-
инств был ему вдохновенный гений его, душа пылкая и ум прозорливый
и наблюдательный. Первыми его учителями в стихотворстве были, ка-
жется, Ломоносов и Петров. У первого он научился звучности языка
пиитического и живописи поэзии; у другого похитил он тайну заклю-
чать живую или глубокую мысль в живом и резком стихе — тайну, со-
вершенно неизвестную Ломоносову.
В скором времени Державин сравнился с наставниками и, конеч-
но, превзошел Петрова. Не долго, однако же, следовал он по дороге,
проложенной его предшественниками. Своенравный гений его, испы-
тавший богатство и свойство языка почти нового, пробил себе путь осо-
бенный, на котором не было ему вожатого и не будет достойного пос-
ледователя. Без сомнения, если многие из од Державина могут
разделиться на определенные роды: Пиндарический, Горациянский,
Анакреонтический, то многие по всей справедливости должны назваться
Державинскими. И строгий законодатель вкуса и правил не усомнится
прибавить новую статью к своей пиитике. Какая словесность древних
или новейших народов могла служить ему образцом для од: «Фелица»,
«Изображение Фелицы», «Видение Мурзы», «Осень во время осады
Очакова», «Счастие», «На походы в Персию», «Вельможа» и пр.? Не
говорю уже об оде «На смерть Мещерского» или «К первому соседу»,
где, конечно, наш поэт, следуя Горацию, одел глубокие истины и фило-
софию прелестию поэзии, но кисть и краски занял он не у римского
поэта. Не говорю уже о «Водопаде», где все дышит дикою и ужасною
красотою, где поэзия победила живопись, но где, к сожалению, не вид-
но единства в расположении и приметно, что поэт (как точно, говорят,
и было) составил свою поэму в разные времена и из разных частей.
Пьесы вышеназванные и некоторые другие можно назвать рудниками
поэзии, сокровищем опасным, до которого на свою гибель дотронется
рука легкомысленного последователя... Из всех поэтов, известных в
ученом мире, может быть, Державин более всех отличился оригиналь-
ностию, и потому род его должен остаться неприкосновенным. Приро-
да образовала его гений в особенном сосуде — и бросила сосуд. Дер-
жавину подражать не можно, то есть Державину в красотах его.
Подражатели его заимствуют одни пороки, но ни одной красоты, ни
одной мысли, ни одного счастливого выражения из могущественной и
упрямой руки гения не исторгнут. Но если Державин, как создатель рода,
313
до него неизвестного, сорвал вечнозеленую пальму поэзии, то и по твор-
ческим подражаниям он может занять место наряду с величайшими
поэтами. Сомневаюсь, чтоб Анакреон превзошел нашего певца в пре-
лести и простоте стихотворений, освященных его именем; разве, мо-
жет быть, по достоинству слога, о котором одни современники его мог-
ли судить безошибочно, но, конечно, не по прелести живописи,
затейливой игривости и свежести воображения. Я забываю Анакрео-
на, читая «Хариты», «Русскую пляску»; вижу перед собою Держави-
на, сего единственного певца, возлелеявшего среди печальных снегов
Севера огненные розы поэзии, — розы, соперницы цветов, некогда бла-
гоухавших под счастливым небом Аттики. В самом подражании его нет
ничего рабского, заимственного. Читая Державина и Анакреона, вы ска-
жете, конечно: их души были сродны. Державин при дворе роскошного
Иппарха говорил бы языком мудреца Феоского; если б Анакреон ро-
дился на берегах Невы, то употребил бы все краски Державина для
составления сих малых, но бесценных картин, дышащих сладострасти-
ем и негою. Гораций, перенесенный судьбою из влажного Тибура или
от роскошных вод Байи, Гораций, желая поразить мыслию о смерти
кипящее радостию и всегда легковерное в счастии сердце, не сказал ли
бы, как наш Поэт:
Где стол был яств, там гроб стоит,
1де пиршеств раздавались клики,
Надгробные там воют лики,
И бледна смерть на всех глядит...
И счастливец содрогнулся бы при сих словах, подобно как от тех
стихов, в которых Гораций напоминает роскошному римлянину, что из
всех растений, украшающих его сад, последует за ним один печальный
кипарис в печальную обитель теней.
В течение трех царствований раздавались песни Державина. Но
блестящий век Екатерины, сей пиитический век славы России (кото-
рого Державин, казалось, был посреди нас живым и красноречивым
памятником), был лучшею эпохою и его славы. Он застал его в пол-
ном цвете мужества и силы. Настоящие дни, обильные грозными бу-
рями и величайшими подвигами народного мужества, были свидете-
лями заката его гения, удрученного летами. Но подвиги сынов
Суворова часто пробуждали от сна его, извлекали из лиры, уже охла-
девшей, звуки, достойные минувших дней. Две или три из пиес, напи-
санных Державиным в последние три года, можно назвать прощаль-
ною песнию умирающего лебедя.
314
Часто Державин, увлеченный своенравием смелого гения, посре-
ди лирических восторгов пламенел негодованием Ювенала, и струны
Пиндарической лиры метали укоризны в порок, пробуждая трепетом
раскаяния преступное упоение развратных любимцев счастия. Неко-
торые из од его, как, например, «Вельможа», могут по справедливости
назваться лирическими сатирами.
Первый том его стихотворений, кроме пиитического достоинства,
имеет для нас и другую привлекательную сторону. Он один живописует
глазам нашим картину двора великой монархини, родит в сердцах на-
ших драгоценные воспоминания и сохраняет для внуков некоторые чер-
ты лиц, игравших значительные роли в сем периоде, столь обильном
чудесными происшествиями. По этой причине встречаются у Держа-
вина места темные, сомнительные для нас, еще не столь отдаленных от
времени, в котором они писаны, и к которым потомство совершенно
потеряет ключ. Державин написал пояснения на два первые тома; они
хранятся в руках мужа почтенного, знающего им цену1 Можно наде-
яться, что сей ревнитель русской словесности, которая обязана ему
многими полезными трудами, со временем употребит с пользою драго-
ценность, вверенную ему Державиным.
Иные сравнивали Державина с Ломоносовым; но что между ними
общего? Одно: тот и другой писали оды. Род, избранный ими, иногда
одинаков, но дух поэзии их различен. Ломоносов в стихах своих более
оратор, Державин всегда и везде поэт. И тот и другой бывают иногда на
равной высоте; но первый восходит постепенно и с приметным трудом,
другой быстро и неприметно на нее возлетает. Ломоносов в хороших
строфах своих плывет величавым лебедем; Державин парит смелым
орлом. Один пленяет нас стройностию и тишиною движений; другой
поражает нас неожиданными порывами: то возносится к солнцу и уст-
ремляет на него зоркий и постоянный взгляд, то огромными и распу-
щенными крылами рассекает облако и, скрываясь в нем как бы с умыс-
лом, является изумленным нашим глазам в новой и возрожденной
красоте. Ломоносова читатель неподвижен; Державин увлекает, уно-
сит его всегда за собою. Державин певец всех веков и всех народов!
Ломоносов певец российского двора. Гораций не дожил бы до нашего
времени, если бы из его творений сохранились одни похвалы Августу.
Может быть, тогда и вовсе не читали бы его или читали бы в латинских
классах университетов и училищ, и круг славы величайшего из поэтов-
философов был бы весьма ограничен. Пиитический гений Державина
1 Митрополита Киевского Евгения, бывшего в 1816 г. архиепископом Псков-
ским и Порховским. (Примеч. П. А. Вяземского.) \<<
315
возлагает дани на всю природу — и вся природа ему покорна. Гений
Ломоносова довольствовался некоторыми данями, и мы негодуем на
его умеренность. Вся природа говорит сердцу и воображению творца
«Водопада» пиитическим и таинственным языком, и мы слышим отго-
лоски сего языка. Ломоносов был, кажется, невнимателен к ее вдохно-
вениям. Державин смотрел на природу быстрым и светозарным взором
поэта-живописца; Ломоносов медленным взглядом наблюдателя. Пи-
итическая природа Державина есть природа живая, тот же в ней пла-
мень, те же краски, то же движение. В Ломоносове видны следы труда
и тщательная отделка холодного искусства. Одним словом, все, что че-
ловечество имеет священнейшего, что человек имеет благороднейше-
го, — доблесть сердечная, сострадание, праведное негодование и пре-
зрение к пороку, глубокие мысли о бессмертии и создателе, печальные
чувства при виде слабости и страданий человечества, сердечные вос-
поминания юности, родины, великих деяний предков и современников,
все сокровища души, ума и сердца обогатили воображение величайше-
го из поэтов — Державина.
Будем справедливы и признаемся, что достоинство его, как поэта,
многим превышает достоинство его предшественника, но что не менее
того труды и подвиги Ломоносова — труды и подвиги исполинские. Если
Державин обязан природе своим гением, мы обязаны Ломоносову тем,
что гений Державина, не имея нужды бороться с предлежащими труд-
ностями языка, мог явиться на поприще его достойном. Будем дивить-
ся красоте изваяния Петра Великого, искусству художника; но будем
благоговеть и пред трудами, победившими самую природу и вызвавши-
ми из недр земли огромное подножие, служащее статуе достойною под-
порою и украшением.
Желательно, чтобы искусная рука, водимая вкусом и беспристра-
стием, собрала избранные творения Державина. С сею книжкою мог-
ли бы мы смело предстать пред славнейшими лириками всех веков, всех
народов, не опасаясь победителя.
Образ Державина, сей образ, озаренный пламенником гения, со-
хранен нам знаменитым живописцем Тончи. Живописец-поэт изловил
и, если смею сказать, приковал к холсту божественные искры вдохно-
вения, сияющие на пиитическом лице северного барда. Гений живописца
прозорливым, вдохновенным взглядом постиг печать гения поэзии, тем-
ную для слепой толпы. Картина, изображающая Державина в царстве
зимы, останется навсегда драгоценным памятником как для искусства,
так и для ближних, оплакивающих великого и добродушного старца.
Молодой поэт, постигший пламенною душою красоты знаменитого ли-
рика, будет хранить образ его в уединенном своем святилище. Сей без-
316
молвный памятник красноречивыми воспоминаниями поведает ему сла-
ву Державина и будет завещать ему блестящий его пример. Юный пи-
томец муз не будет подражать ему в слоге; но подобно ему, питая душу
одним изящным, одним тем, что достойно муз, усилит рождающийся
талант и даст ему новые крылья.
Разборчивая и строгая критика изречет со временем свой реши-
тельный приговор достоинству Державина и в горниле своем очистит
золото от чуждой примеси. Но мы, еще живо пораженные утратою ве-
ликого мужа, в первые минуты горести осыплем цветами признатель-
ности свежую могилу песнопевца, которого память не остынет в серд-
цах ближних его, а место, может быть, еще на долгое время останется
праздным на нашем Парнасе!
П А Вяземский
ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
* * *
О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден.
Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и
чувства недостает. Наши слова выходят сплошь, целиком и сырьем.
О бедности наших рифм и говорить нечего. Сколько слов, имеющих
важное и нравственное значение, никак рифмы себе не приищут. На-
пример, жизнь, мужество, храбрость, ангел, мысль, мудрость, сердце и
т.д. За словом добродетель тянется непременно свидетель; за словом
блаженство тянется совершенство. За словом ум уже непременно вьется
рой дум или несется шум. Даже и бедная любовь, которая так часто
ложится под перо поэта, с трудом находит двойчатку, которая была бы
ей под пару.
Все это должно невольно вносить некоторое однообразие в наше
рифмованное стихосложение. Да и слово добродетель сложилось не-
правильно: оно по-настоящему не что иное, как слово благодетель.
А слово доблесть у нас как-то мало употребляется в обыкновенном сло-
ге, да и оно рифмы не имеет. Иностранные слова брать заимообразно у
соседей нехорошо; а впрочем, голландские червонцы у нас входу, и никто
ими не брезгает. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется,
317
за неимением своих, пускать в ход голландские червонцы. Карамзин
так и делал. Делают это и англичане.
Вольтер говорил и о французском языке, что он тщеславный ни-
щий, которому нужно подавать милостыню против воли его. А мы взду-
мали, что наш язык такой богач, что всего у него много и что новыми
пособиями только обидишь его.
* * *
Прочтите в Российском Театре комедию Крылова Проказники,
а после некоторые из басней его. Можно ли было угадать в первых
опытах писателя, что из него выйдет впоследствии времени? Это не
развитие, а совершенное перерождение. В Проказниках полное от-
сутствие таланта, шутки плоские и, с позволения сказать, прямо хо-
лопские. Впрочем, как комедии Княжнина ни далеки от совершен-
ства, но в Российском Театре глядит он исполином. Комедий
Фон-Визина нет в этом старом собрании наших драматических тво-
рений.
Вообще комедии наши ошибочно делятся на действия. Можно де-
лить их на главы, потому что действия в них никакого нет. И лица, в них
участвующие, называются действующими лицами, когда они вовсе не
действуют; а назвать бы их разговаривающими лицами, а еще ближе к
делу: просто говорящими, потому что и разговора мало. В наших коме-
диях нет и в помине той живой огнестрельной перепалки речей, кото-
рой отличаются даже второстепенные и третьесортные французские
комедии. Правда и то, что французский язык так обработан, что много
тому содействует. Французские слова заряжены мыслью, или, по край-
ней мере, блеском, похожим на мысль. Тут или настоящая перепалка,
или фейерверочный огонь.
* * *
Однажды Пушкин между приятелями сильно руссофильствовал и
громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по
обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мне-
ния Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что,
голубчик, съезди ты хоть в Любек».
318
Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.
Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за гра-
ницей, что в то время русские путешественники отправлялись обыкно-
венно с Любскими пароходами и что Любек был первый иностранный
город, ими посещаемый.
* * *
На приятельских и военных попойках Денис Давыдов, встречаясь
с графом Шуваловым, предлагал ему всегда тост в память Ломоносова
и с бокалом в руке говорил:
Не право о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов.
Он же рассказывал, что у него был приятель и сослуживец, боль-
шой охотник до чтения, но книг особенного рода. Бывало, зайдет он к
нему и просит, нет ли чего почитать. Давыдов даст ему первую книжку,
которая попадется под руку. — «А что, это запрещенная книга?» —
спросит он. «Нет, я купил ее здесь в книжной лавке». — «Ну, так луч-
ше я обожду, когда получишь запрещенную».
Однажды приходит он с взволнованным и торжественным лицом.
«Что за книгу прочел я теперь, — говорит он, — просто чудо!» — «А
какое название?» — «Мудреное, не упомню». — «Имя автора?» —
«Также забыл». — «Да о чем она толкует?» — «Обо всем, так напо-
вал все и всех ругает. Превосходная книга!»
Из-за этого потребителя бесцензурного товара так и выглядывает
толпа читателей. Кто не встречал их? Хороша ли, дурна ли контрабан-
да, им до того дела нет. Главное обольщение их — контрабанда сама по
себе.
Одна зрелая дама из русских немок также принадлежала к разряду
исключительных читателей. Она все требовала книг, где есть про лю-
бовь. Приходит она однажды к знакомой и застает ее за чтением. «Что
вычитаете?» — «Древнюю историю». — «А тут есть про любовь?» —
«Есть, но только в последнем томе, а их всего двадцать». — «Все рав-
но, дайте мне, я на досуге их прочту».
319
Дельвига знавал я мало. Более знал я его по Пушкину, который
нежно любил его и уважал. Едва ли не Дельвиг был, между приятеля-
ми, ближайшая и постояннейшая привязанность его. А посмотреть на
них: мало было в них общего, за исключением школьного товарище-
ства и любви к поэзии. Пушкин искренно веровал в глубокое поэтичес-
кое чувство Дельвига.
Впрочем, не было мне и случая короче сблизиться с ним. Он по-
стоянно жил в Петербурге, я постоянно жил в Москве. Когда приез-
жал я на время в Петербург, были мы с ним, что называется, в хороших
отношениях, встречаясь нередко на приятельских литераторских обе-
дах, вечеринках. Но и тут казался он мне мало доступен. Была ли это в
нем застенчивость, или некоторая нелюдимость, объяснить я себе не
мог; но короткого сближения между нами не было. На сходках наших
он мало вмешивался в разговор, мало даже вмешивался в нашу весе-
лость. Во всяком случае был он малоразговорчив: речь его никогда не
пенилась и не искрилась вместе с шампанским вином, которое у всех
нас развязывало язык.
Спрашивали одного англичанина, любит ли он танцевать? —
«Очень люблю, — отвечал он, — но не в обществе и не на бале (jamais
en société), а дома один, или с сестрою».
Дельвиг походил на этого англичанина. Однажды убедился я в том
и имел возможность оценить его и понять нежное сочувствие к нему
Пушкина. Мы случайно провели с ним с глазу на глаз около трех часов.
Мы ездили к общему знакомому нашему обедать на дачу, верст за пят-
надцать от Петербурга. Тут разговорился он. Я отыскал в нем человека
мыслящего, здраво и самобытно обдумавшего многое в жизни. Я уди-
вился и обрадовался находке моей.
Между прочим, рассказал он мне план повести, которую собирал-
ся писать. План был очень оригинальный и совершенно новый, а имен-
но рассказ о домашней драме, подмеченной с улицы. Лица, имена, про-
исхождение их оставались тайною как для читателей, так и для самого
автора; но при этой тайне выказывалась истина и подлинная, живая
жизнь со всеми своими переворотами, треволнениями, радостями и
скорбью. Как мы уже заметили, автор не вводил читателей в дом дей-
320
ствующих лиц, и сам не входил в него, но все сквозь окна подсмотрел с
улицы, и вышел полный рассказ, создалась полная повесть.
Вот как это было. Кто-то, пожалуй сам автор, нанял себе две-три
комнаты в доме на Петербургской стороне. Он был человек, озабочен-
ный разными занятиями, часто должен был выходить из дому и домой
возвращаться. Куда бы он ни шел, он должен был проходить мимо од-
ноэтажного низенького домика с садиком. Домик не имел ничего заме-
чательного, но как-то обратил на себя внимание соседа. Каждый раз,
что он проходил мимо, а это случалось часто, он заглядывал в окна; а
как окна были низки, он мог читать в комнатах и в том, что в них дела-
ется, как в открытой книге.
Жилец домика должен был быть и хозяин его, холостой, одинокой.
Судя по первым впечатлениям, по усам его, по архалуку, по чапраку,
прибитому к стене, и по сабле, на нем повешенной, вообще по ухват-
кам его, можно было заключить достоверно, что он отставной кавале-
рийский офицер, может быть, бывший кавказец. Казался он уже не
молод, но и не стар: походка бодрая, движения свободные, развязные;
лицо светлое, еще довольно свежее и выражающее много простоты и
добродушия.
Сосед задал себе как будто задачу изучить его. Каждый раз, что
проходил мимо, он пристально вглядывался в окошко. Замечает он, что
незнакомый хозяин начал как-то опрятнее и щеголеватее одеваться.
Спустя несколько дней заметил он большое движение в домике: его
обчищают снаружи и внутри, обивают стены новыми светлыми бумаж-
ками, изукрашенными яркими гирляндами и какими-то фигурочками,
чуть ли не амурчиками с крыльями и со стрелами. Из Гостиного Двора
приносятся коврики, столовые часы, приносятся маленькие клавикор-
ды, различная мебель, и, между прочим, большая, красного дерева дву-
спальная кровать. Загадка начинает разгадываться.
Недели чрез две в домике справляется свадебный пир. Сосед наш
еще медленнее, чем прежде, проходит мимо домика, еще с большим лю-
бопытством, даже с нескромностью, проникает глазами во внутренность
комнат. Никакой добросовестный и хорошо оплаченный шпион не мог
бы так следить за лицом, на которое указало ему начальство, как он сто-
рожит, допытывает этот домик и совершенно неизвестных ему жильцов
его. Да он и не хочет знать, кто они; а с каким-то темным предугадывани-
ем ожидает удобного случая, чтобы сами события, сама жизнь открыли
21— Минералов 321
ему, кто и что они и что будет с ними. Как читатель, пристрастившийся к
чтению романа, он не хочет, чтобы автор намекал ему заранее на дей-
ствия и положение героев; он даже боится, что автор как-нибудь прого-
ворится и слишком скоро укажет на развязку романа.
Молодая хозяйка красива, стройна, одета всегда просто, но всегда
со вкусом. Выражение лица ее живое, беспечное, веселое. На глаза
она годами, по крайней мере, пятнадцатью моложе мужа; но и муж как
будто помолодел, еще выпрямился и вторично расцвел. Медовые ме-
сяцы проходят благополучно, во всей сладости, во всем благоухании
своем. Супруги неразлучны; они милуются, целуются; муж жену — в
щеки и в губы; она обыкновенно целует его в лоб: знак нежности и вме-
сте почтительности. Она разливает чай и подносит чашку ему, прихлеб-
нув ее немножко, чтобы знать, довольно ли чай крепок и подслащен
сахаром. Она оправляет трубку и подает ему курить. Иногда садится
она за клавикорды, играет и поет. Он, облокотясь на стул, слушает со
вниманием, кажется умилительным: переворачивает листы нотной тет-
радки. Часто по вечерам, поздней осенью и зимою, сидят они перед ка-
мином: он в широких креслах, она на стуле, почти не опираясь на спин-
ку его. Она вслух читает ему газеты или книгу.
Сосед все это видит. Он жалеет, что еще не последовал примеру
соседа своего и не обзавелся женкою и домиком. Между тем смутно
ожидает, что будет впереди. Ожидал он недолго, то есть с год, не более.
К двум действующим лицам присоединяется третье: молодой офицер,
наружности очень красивой. Быт и порядки в доме не изменились: все
идет по-прежнему, только часто и все чаще и чаще приемная комната
оживляется присутствием нового лица. Гость и муж за чайным столом
беседуют и покуривают вместе: один трубку, другой сигару Гость с каж-
дым разом засиживается долее и позднее, часов до одиннадцати, од-
нажды даже до половины двенадцатого. Муж начинает зевать; жене,
по-видимому, спать вовсе не хочется.
Так тянулись дни довольно однообразно, в течение двух или трех
месяцев. Наконец, соглядатай наш замечает, что в доме идет как-то
неладно. Муж нахмурен, в лице как будто похудел и пожелтел. У жены
нередко заплаканные глаза. Офицер все-таки еще является, а иногда и
по утрам; хозяйка и он сидят вдвоем; мужа, вероятно, нет дома. Вече-
ром все три налицо, но уже как будто не вместе: хозяйка с гостем в
одном углу комнаты; в другом муж сидит за столом и раскладывает па-
сьянс, а может быть, и гадает. Чего тут загадывать?
Тут шпиону нашему пришла необходимость выехать из Петербур-
га. Больно было ему оставить обсерваторию свою; больно было пре-
рвать чтение романа, который живо заинтересовал его. Месяцев чрез
семь возвращается он на свое жительство. Нечего и говорить, что только
отряхнувшись с дороги, побежал он к своей сторожке. Смотрит: хозяин
дома так же и тут же, со знакомою трубкою во рту. Но он, в это корот-
кое время, постарел десятью годами: осунулось лицо, изнуренное и скор-
бное. Видно, что большое горе прошло по этому лицу и по этой жизни.
Вдруг из дверей показывается кормилица с грудным ребенком на руках
и проходит по комнате. Хозяин, озлобленно взглянув на них, что-то
пробормотал сквозь зубы; по выражению, по сморщившимся чертам
лица, можно было догадаться, что слова были недобрые: он скорыми
шагами вышел из комнаты и сердито хлопнул дверью за собою.
Не помню, как намеревался Дельвиг кончить свою семейную и ке-
лейную драму. Кажется, преждевременною смертью молодой женщи-
ны.
Разумеется, в этом беглом рассказе, в этом сколке, не упоминает-
ся о многих подробностях и частных случаях, которые связывали эти
сцены, наметанные на живую нитку, и пополняли накинутый рисунок.
Не знаю, как вышла бы повесть из-под пера Дельвига; неизвестно, и
вышла ли бы она, потому что Дельвиг был, кажется, туг на работу; но в
первоначальной смете своей повесть очень естественна и вместе с тем
очень занимательна и замысловата. Много тут жизни и движения; под
покровом тайны много истины. Все проходит тихомолком, а слышишь
голоса живые. Дельвиг рассказал мне свой план ясно, отчетливо и с
большим одушевлением. Видно было, что эта повесть крепко в уме его
засела.
В эту же поездку речь наша как-то коснулась смерти. Я удивился, с
какою ясной и спокойной философией говорил он о ней: казалось, он
ее ожидал. В словах его было какое-то предчувствие, чуждое отвраще-
ния и страха; напротив, отзывалось чувство не только покорное, но бла-
го-приветливое. Для меня, по крайней мере, этот разговор был лебе-
диная песня Дельвига: я выехал из Петербурга и более не видал его, а
он скоро затем умер.
«Друзья мои! (говорит Карамзин в «Письмах Русского Путеше-
ственника»). Когда судьба велит вам быть в Лозанне, то войдите на
террасу кафедральной церкви и вспомните, что несколько часов моей
21* 323
жизни протекало тут в удовольствии и тихой радости!» Я исполнил же-
лание его.
i
к. Когда бываю за границей, беру всегда с собой Письма Карамзина
и перечитываю многие из них с особенным наслаждением. Люблю отыс-
кивать, угадывать следы его, разумеется, давно стертые с лица земли.
Поколения сменили поколение, которое он застал и видел. Гостиницы
•исчезли. Все приняло новый вид.
*/ h
Россия училась читать по этим Письмам. Они открыли новый мир
в области умственной и литературной. Ныне их уже не читают. Так на-
зываемые учителя русской словесности считают их устарелыми и пред-
лагают ученикам новейшие образцы. А между тем Письма эти должны
служить и ныне образцами языка и слога: они не только Письма путе-
шественника, но настоящие мемуары, исповедь человека, картина эпо-
хи. Замечательные лица, характеристики, разговоры их передаются в
живом зеркале. Ни в котором из творений Карамзина не изображает
он себя в такой полноте, как здесь.
Чувствительность, так называемая сентиментальность, пожалуй,
слезливость, не приторны, потому что они не искусственны, не лживы,
а истинны. Таков был Карамзин в то время. Таковым он был до конца
жизни, разумеется, с изменениями, со зрелостью ума и души, которые
пришли с летами. Карамзин всегда сохранил добросердечную, мягкую,
детскую впечатлительность: он до конца любовался живостью перво-
начальных лет, цветком, захождением солнца, всеми красотами приро-
ды; был сострадателен до слезливости; любящая и нежная душа не ох-
лаждалась ни летами, ни опытами жизни, часто отчуждающими душу
от ближнего.
Стих латинского поэта «Я человек и ничто человеческое мне не
чуждо» был постоянным лозунгом всей его жизни, всех его действий,
чувств и помышлений. Не помещик, он горевал при известии, что в та-
кой-то и такой-то губернии неурожай. Когда Дмитриев заставал его в
такую минуту грусти и, узнав о ее причине, говорил: «Полно заботить-
ся, в Москве будет всегда довольно калачей», — Карамзин добродуш-
но смеялся шутке друга своего, но не менее горевал о лишении и нуж-
дах бедных крестьян.
Тому, кто знал его, слышится голос души его в следующих словах,
писанных также из Лозанны: «Я сел на уединенной лавке и дождался
324 -к
захо>кдения солнца, которое, спускаясь к озеру, освещало на стороне
Савойи дичь, пустоту, бедность, а на берегу Лозанском — плодонос-
ные сады, изобилие и богатство. Мне казалось, что в ветерке, несу-
щемся с противоположного берега, слышу я вздохи бедных поселян
савойских». Это не риторическая фигура, не филантропическая фраза,
брошенная, чтобы произвести театральное действие на читателей или
слушателей. Нет, Карамзин и тогда слышал сердцем вздохи бедных по-
селян савойских, как лет 30 или 40 после сострадал он в Москве, или
Петербурге, в уютном доме и за сытным обедом, жалкой участи посе-
лян Пензенской или Олонецкой губернии.
Сам Карамзин при одной выходке сентиментальности своей при-
бавляет, в примечании: кто хочет, рассмеется. Следовательно, он знал,
что подвергается насмешливости некоторых людей, но вместе с тем не
хотел он, из ложного стыда, утаивать движения своего сердца и выс-
тавлять себя не тем, чем он был в самом деле. Эти выходки, эти сердеч-
ные нескромности драгоценны для людей, даже и не разделяющих это-
го невинного простосердечия, но умеющих сочувствовать всему, что есть
выражение искреннего, истинного чувства.
«Писем Русского Путешественника» теперь не читают, потому что
он в них не говорит о железных дорогах, которые никому тогда и во сне
не снились; не пускается в исследование и разрешение вопросов ста-
тистических, политико-экономических, хотя при случае не забывает и
затрагивать их, когда они попадаются ему под руку, и даже первый со-
здал и пустил в ход в этих письмах слово промышленность.
й «il? *
Эти господа, не обращающие никакого внимания на «Письма Рус-
ского Путешественника», похожи на человека, который пренебрегал
бы картинами Рембрандта и ван-Дейка потому, что лица, ими на порт-
ретах изображенные, не одеты и не причесаны по-нынешнему. Многих
не занимает человек, в обширном духовном и умственном значении его.
Им, например, нужно, чтобы лицо было современное, нынешнее, т.е.
чтобы походило на них самих, смотрело на предметы с той точки зре-
ния, с которой они смотрят, говорило их языком или их наречием, вполне
разделяло их убеждения и предубеждения. Одним словом, было не лич-
ностью, отдельной, самобытной, независимой, а однообразным отпе-
чатком, одноцветным отблеском общего типа, общей формы. Вот от-
чего в наше время так редки оригинальные умы и характеры, и
литературные произведения вертятся вечно в заколдованном круге,
который страшатся переступить угодники века из страха показаться за-
Э25
поздалыми, отсталыми и не имеющими достаточно силы, чтобы достиг-
нуть высоты настоящего и общим аршином определенного уровня.
Знакомства Карамзина с знаменитыми современностями. Он яв-
ляется перед ними выборным человеком возникающего русского про-
свещения и в этом звании оценивается ими, возбуждает все их сочув-
ствие, всю их любовь и в лице его сочувствие и любовь к России. Заслуга
неоцененная, которой можем мы гордиться и которую не следовало бы
нам забывать. Добро бы еще светским читателям, жадным потребите-
лям всякой новизны, но нам, нашей пишущей братии, непростительно
отрекаться в равнодушном забвении отдел и подвигов предка нашего,
который указал нам дорогу, по которой все мы идем, с меньшим или
большим успехом, который отлил и отчеканил орудие, которым дей-
ствуем; который не только на родной почве высоко поднял хоругвь рус-
ского просвещения, но с честью явил его и, глазам образованнейших
мужей того времени; обратил их сочувственное внимание к новым, им
дотоле неизвестным союзникам, к новым сподвижникам на стезе обра-
зованности и в трудах умственного и духовного преуспевания.
В каком русском писателе найдете вы более глубокого, верного
понимания природы, таких живых и красноречивых изображений ее
разнообразных и изумительных красот? Сколько разносторонних све-
дений, сколько любознательности. Какие верные характеристики пи-
сателей, в то время едва по одному имени известных России, характе-
ристик, и ныне не утративших свежести и верности своей. Под
легкостью, непринужденностью письменной болтовни сколько глубо-
ких наблюдений, чуждых всякого систематического педантства и сухо-
сти нравоучения. Какая теплая, неограниченная любовь к человечеству,
вера в Провидение и благодарность к нему. Какое искусство, какая про-
стота в рассказах современных событий, дорожных приключений, в ис-
торических воспоминаниях. В некоторых местах можно уже угадывать
будущего романического повествователя и будущего историка. Лица,
им упоминаемые, живы, встают, движутся, говорят перед нами. Читая
эти письма, читателю сдается, что он был знаком с Лафатером, с Боне-
том, что он сидел в их кабинетах, беседовал с ними.
г*о № '^Г * * jHi^ajfOHjio .мох«
Стихи Хемницера с одноглагольными рифмами своими можно
иногда сравнить с подмоченным порохом. Стих осекается. Воспри-
емный Грот слишком снисходителен и пристрастен к своим крестни-
326
кам. Издание Державина и Хемницера труд почтенный и в русской
литературе небывалый. Но в поэтах своих хвалит он часто, что вовсе
недостойно похвалы. Поэт, великий поэт, Державин опускается не-
редко до Хвостова, если не ниже. Хемницер иногда вял и пуст до по-
шлости...
А. С. Грибоедов
ИЗ ПИСЬМА П. А. КАТЕНИНУ
< Первая половина января —14 февраля 1825. Петербург>
< > Ты находишь главную погрешность в плане: мне кажется,
что он прост и ясен по цели и исполнению; девушка сама не глупая пред-
почитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас, грешных,
был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здраво-
мыслящего человека); и этот человек, разумеется, в противуречии с
обществом его окружающим, его никто не понимает, никто простить
не хочет, зачем он немножко повыше прочих, сначала он весел, и это
порок: «Шутить и век шутить, как вас на это станет!» — Слег-
ка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли нет
в них благороднейшей заметной черты! Его насмешки не язвительны,
покуда его не взбесить, но все-таки: «Не человек! змея!», а после, когда
вмешивается личность, «нашихзатронули», предается анафеме: «Уни-
зить рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!» Не терпит подлости:
«ах! боже мой, он карбонарий». Кто-то со злости выдумал об нем,
что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют, голос общего
недоброхотства и до него доходит, притом и нелюбовь к нему той де-
вушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно
объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже
разочарована насчет своего сахара медовича. Что же может быть пол-
нее этого? «Сцены связаны произвольно». Так же, как в натуре вся-
ких событий, мелких и важных: чем внезапнее, тем более завлекают в
любопытство. Пишу для подобных себе, а я, когда по первой сцене уга-
дываю десятую: раззеваюсь и вон бегу из театра. «Характеры порт-
ретны». Да! и я коли не имею таланта Мольера, то по крайней мере
чистосердечнее его; портреты, и только портреты, входят в состав ко-
медии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим дру-
гим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каж-
327
дый человек похож на всех своих двуногих собратий. Карикатур нена-
вижу, в моей картине ни одной не найдешь. Вот моя поэтика; ты волен
просветить меня, и, коли лучше что выдумаешь, я позаймусь от тебя с
благодарностию. Вообще я ни перед кем не таился и сколько раз по-
вторяю (свидетельствуюсь Жандром, Шаховским, Гречем, Булгариным
etc., etc., etc.), что тебе обязан зрелостию, объемом и даже оригиналь-
ностию моего дарования, если оно есть во мне. Одно прибавлю о ха-
рактерах Мольера: «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной» —
портреты, и превосходные; «Скупец» — антропос собственной фаб-
рики, и несносен.
«Дарования более, нежели искусства». Самая лестная похва-
ла, которую ты мог мне сказать, не знаю, стою ли ее? Искусство в том
только и состоит, чтоб подделываться под дарование, а в ком более выт-
вержденного, приобретенного потом и сидением искусства угождать те-
оретикам, т. е. делать глупости, в ком, говорю я, более способности
удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабуш-
киным преданиям, нежели собственной творческой силы,— тот, если
художник, разбей свою палитру и кисть, резец или перо свое брось за
окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их ме-
нее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? < > Я как
живу, так и пишу свободно и свободно.
А. С. Пушкин
О ПРЕДИСЛОВИИ г-на ЛЕМОНТЕ К ПЕРЕВОДУ
БАСЕН И. А. КРЫЛОВА
Любители нашей словесности были обрадованы предприятием гра-
фа Орлова, хотя и догадывались, что способ перевода, столь блестя-
щий и столь недостаточный, нанесет несколько вреда басням неподра-
жаемого нашего поэта. Многие с большим нетерпением ожидали
предисловия г-на Лемонте; оно в самом деле очень замечательно, хотя
и не совсем удовлетворительно. Вообще там, где автор должен был не-
обходимо писать по наслышке, суждения его могут иногда показаться
ошибочными; напротив того, собственные догадки и заключения уди-
вительно правильны. Жаль, что сей знаменитый писатель едва коснул-
ся до таких предметов, о коих мнения его должны быть весьма любо-
пытны. Читаешь его статью с невольной досадою, как иногда слушаешь
разговор очень умного человека, который, будучи связан какими-то
328
приличиями, слишком многого не договаривает и слишком часто от-
малчивается1
Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор гово-
рит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не со-
мневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь
на уверения русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и оби-
лен разнообразными оборотами.
Мнения сии не трудно было оправдать. Как материал словесности,
язык славяно-русской имеет неоспоримое превосходство пред всеми
европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI в. древ-
ний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу
гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои пре-
красные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его,
избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам
по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и
правильность. Простонародное наречие необходимо должно было от-
делиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова сти-
хия, данная нам для сообщения наших мыслей.
Г. Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржав-
чину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и
пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же но-
вые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее
племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законо-
дательства? Их нашедствие не оставило никаких следов в языке обра-
зованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под
татарским игом, на языке родном молились русскому Богу, проклинали
грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой
же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на по-
рабощенный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса
завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни
татарских слов перешло в русской язык. Войны литовские не имели
также влияния на судьбу нашего языка; он один оставался неприкосно-
венною собственностию несчастного нашего отечества.
В царствование Петра 1-го начал он приметно искажаться от не-
обходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия
мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покро-
вительствуемых государями и вельможами; к счастию, явился Ломо-
носов.
1 По крайней мере в переводе, напечатанном в С.<ыне> 0.<течества>.
Мы не имели случая видеть французский подлинник. *щ&'
329
Г. Лемонте в одном замечании говорит о всеобъемлющем гении
Ломоносова; но он взглянул не с настоящей точки на великого спод-
вижника великого Петра.
Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою
понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки
была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк,
ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё ис-
пытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверж-
дает правила общественного языка его, дает законы и образцы класси-
ческого красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия
Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художе-
ства мозаическими произведениями и наконец открывает нам истин-
ные источники нашего поэтического языка.
w Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся
поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все
впечатления их жизни: но если мы станем исследовать жизнь Ломоно-
сова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его
занятием, стихотворство же — иногда забавою, но чаще должностным
упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пла-
менных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий
и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книж-
ного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком про-
стонародным. Вот почему преложения псалмов и другие сильные и близ-
кие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие
произведения1.
Они останутся вечными памятниками русской словесности; по ним
долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему;
но странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и
требовать, чтоб человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне
любимцем публики. Как будто нужны для славы великого Ломоносова
мелочные почести модного писателя!
Упомянув об исключительном употреблении французского языка
в образованном кругу наших обществ, г. Л.<емонте> столь же остро-
умно, как и справедливо, замечает, что русский язык чрез то должен
был непременно сохранить драгоценную свежесть, простоту и, так ска-
1 Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над славянщизна-
ми Ломоносова, как важно советует он ему перенимать легкость и щеголеватость
речений изрядной компании! Но удивительно, что Сумароков с большою точнос-
тию определил в одном полустишии истинное достоинство Ломоносова-поэта:
Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен!
330
зать, чистосердечность выражений. Не хочу оправдывать нашего рав-
нодушия к успехам отечественной литературы, но нет сомнения, что если
наши писатели чрез то теряют много удовольствия, по крайней мере
язык и словесность много выигрывают. Кто отклонил французскую по-
эзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил
Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придвор-
ные Людовика XIV Что навело холодный лоск вежливости и остроумия
на все произведения писателей 18-го столетия? Общество... очень ми-
лых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали не для бла-
госклонной улыбки прекрасного пола.
Строгой и справедливый приговор французскому языку делает
честь беспристрастию автора. Истинное просвещение беспристраст-
но. Приводя в пример судьбу сего прозаического языка, г. Лемонте ут-
верждает, что и наш язык не столько от своих поэтов, сколько от про-
заиков должен ожидать европейской своей общежительности.
Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени об-
разованности; просвещение века требует пищи для размышления, умы
не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но
ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; мета-
физического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало
обработана, что даже в простой переписке мы прину>вдены создавать
обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность
наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы
давно готовы и всем известны.
Г. Лемонте, входя в некоторые подробности касательно жизни и
привычек нашего Крылова, сказал, что он не говорит ни на каком ино-
странном языке и только понимает по-французски. Неправда! резко
возражает переводчик в своем примечании. В самом деле, Крылов зна-
ет главные европейские языки и, сверх того, он, как Альфиери, пятиде-
сяти лет выучился древнему греческому. В других землях таковая ха-
рактеристическая черта известного человека была бы прославлена во
всех журналах; но мы в биографии славных писателей наших доволь-
ствуемся означением года их рождения и подробностями послужного
списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем,
что до нас касается.
В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова,
избравшего инстинно-народного поэта, дабы познакомить Европу с
литературою Севера. Конечно, ни один француз не осмелится кого бы
то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем пред-
почитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих еди-
331
ноземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие есть врожден-
ное свойство французского народа; напротив того, отличительная чер-
та в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость
и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители
духа обоих народов.
Н.К.
12 августа.
P. S. Мне показалось излишним замечать некоторые явные ошиб-
ки, простительные иностранцу, напр. сближение Крылова с Карамзи-
ным (сближение, ни на чем не основанное), мнимая неспособность язы-
ка нашего к стихосложению совершенно метрическому и проч.
<1825>
А. С. Пушкин
О ПОЭЗИИ КЛАССИЧЕСКОЙ И РОМАНТИЧЕСКОЙ
Наши критики не согласились еще в ясном различии между рода-
ми кл.<ассическим> и ром.<антическим>. Сбивчивым понятием о сем
предмете обязаны мы фр.<анцузским> журналистам, которые обык-
новенно относят к романтизму всё, что им кажется ознаменованным
печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным
на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое не-
точное. Стихотворение может являть все сии признаки, а между тем
принадлежать к роду классическому.
Если вместо формы стихотв.< орения> будем [брать] за основание
только дух, в котором оно писано, — то никогда не выпутаемся из оп-
ределений. Гимн Ж. Б. Руссо духом своим, конечно, отличается от оды
Пиндара, сатира Ювенала от сатиры Горация, Освобожденный Иеру-
салим от Энеиды — однако ж все они принадлежат к роду классичес-
кому.
К сему роду должны отнестись те стихотворения, коих формы из-
вестны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили;
след.<ственно> сюда принадл.<ежат>: эпопея, поэма дид.<актичес-
кая>, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, эле-
гия, эпиграмма и баснь.
Какие же роды стихотворения должны отнести<сь> к поэзии ром.<
антической> ?
ооо
Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние фор-
мы изменились или заменены другими.
Не считаю за нужное говорить о поэзии гр.<еков> и римл.<-
ян> — каждый образованный европеец должен иметь достаточное
понятие о бессмертных созданиях величавой древности. Взглянем на
происхождение и на постепенное развитие поэзии нов.<ейших> на-
родов.
3.<ападная> И.<мперия> клонилась быстро к падению, а с нею
науки, словесность и художества. Наконец, она пала; просвещение по-
гасло. Невежество омрачило окровавленную Европу. Едва спаслась
латинская грамота; в пыли книгохранилищ монастырских монахи со-
скобляли с пергамента стихи Лукреция и Виргилия и вместо их писали
на нем свои хроники и легенды.
Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма ото-
звалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгля-
да столь мало значущее, имело важное влияние на словесность новей-
ших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков —
побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие — любить
размеренность, соответственность свойственно уму человеческому. Тру-
бадуры играли рифмою, изобретали для нее все возможные изменения
стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились... балла-
да, рондо, сонет и проч. н
От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое-то
жеманство, вовсе неизвестное древним; мелочное остроумие заменило
чувство, которое не может выражаться триолетами. Мы находим не-
счастные сии следы в величайших гениях новейших времен.
Но ум не может довольствоваться одними игрушками гармонии,
воображение требует картин и рассказов. Трубадуры обратились к но-
вым источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили на-
родные предания, — родился ле, роман и фаблио.
Темные понятия о древней трагедии и церковные празднества по-
дали повод к сочинению таинств (mystère). [Они] почти все писаны на
один образец и подходят под одно уложенье, но к несчастию в то время
не было Аристотеля для установления непреложных законов мистичес-
кой драматургии.
Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейс-
кой поэзии: нашествие мавров и крестовые походы.
Мавры внушили ей исступление и нежность любви, привержен-
ность к чудесному и роскошное красноречие востока; рыцари сообщи-
ли свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и воль-
ность нравов походных станов Годфреда и Ричарда, и/коюохкю * #*
S33
Таково было смиренное начало романтической поэзии. Если бы она
остановилась на сих опытах, то строгие приговоры фр.<анцузских>
критиков были бы справедливы, но отрасли ее быстро и пышно про-
цвели, и она является нам соперницею древней музы.
Италия присвоила себе ее эпопею. Полу-африканская Гишпания
завладела трагедией и романом, Англия противу имен Dante, Ариосто и
Калдерона с гордостию выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекс-
пира. В Германии (что довольно странно) отличилась новая сатира, ед-
кая, шутливая, [коей памятником остался Ренике Фукс].
Во Франции тогда поэзия всё еще младенчествовала... Проза уже
имела сильный перевес: Монтань, Рабле были современниками Марота.
В Италии и в Гишпании народная поэзия уже существовала преж-
де появления ее гениев. Они пошли по дороге уже проложенной: были
поэмы прежде Ариостова Орландо, были трагедии прежде созданий de
Vega и Калдерона.
Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве, без вся-
кого направления, безо всякой силы. Образованные [умы] века Л.<ю-
довика> XIV справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к
древним образцам. Буало обнародовал свой Коран — и фр.<анцузс-
кая> слов.<есность> ему покорилась.
Сия лжеклассическая поэзия, образованная в передней и никогда
не доходившая далее гостинной, не могла отучиться от некоторых врож-
денных привычек, и мы видим в ней всё романтич.<еское> жеманство,
облеченное в строгие формы классические.
R S. Не должно думать, однако ж, чтоб и во Франции не осталось
никаких памятников чистой ром.<антической> поэзии. Сказки Лафон-
тена и Вольтера и Дева сего последнего носят на себе ее клеймо. — Не
говорю уже о многочисленных подражаниях тем и той (подр.ожани-
ях>, по большей части посредственных: легче превзойти гениев в заб-
вении всех приличий, нежели в поэтическом достоинстве).
<1825>
А. С. Пушкин
«сБАЛ» БАРАТЫНСКОГО>
Наши [поэты] не могут жаловаться на излишнюю строгость кри-
тиков и публики — напротив. Едва заметим в молодом писателе на-
вык к стихосложению, знание языка, и средств оного, уже тотчас спе-
1334
шим приветствовать его титлом Гения, за гладкие стишки — нежно
благодарим его в журналах от имени человечества, неверный пере-
вод, бледное подражание сравниваем без церемонии с бессм.<ерт-
ными> произведениями Гете и Байрона... добродушие смешное, но
безвредное; истинный талант доверяет более собственному сужде-
нию, основ.<анному> на любви к искусству, нежели малообдуман-
ному решению записных Аристархов. [ Зачем ] лишать златую посред-
ственность невинных удовольствий, [доставляемых] журнальным
торжеством.
Из наших поэтов Баратынский всех менее пользуется обычной
благосклонно<стию> журналов. Оттого ли, что верность ума, чувства,
точность выражения, вкус, ясность и стройность менее действует на
толпу, чем преувеличение модной поэзии — потому <ли> что наш поэт
некоторыми эпиграммами заслужил негодование братии, не всегда сми-
ренной, — как бы то ни было, критики изъявляли в отношении к нему
или недобросовестное равнодушие, или даже неприязненное располо-
жение. Не упоминая уже об известных шуточках покойного Благона-
меренного, известного весельчака — заметим для назидания молодых
писателей, что появление Эды, произведения столь замечательного
оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью кра-
сок — и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных, появ-
ление Эды подало только повод к неприличной статейке в Сев.<ерной>
Пчеле и слабому возражению, кажется, в М.<осковском> Т.<елегра-
фе>. Как отозвался М.<осковский> В.<естник> об собрании стихот-
ворений нашего первого элегического поэта! — Между тем Баратынс-
кий спокойно усовершенствовался — последние 30 его произведения
являются плодами зрелого таланта. Пора Баратынскому занять на рус-
ском Парнасе место, давно ему принадлежащее.
[Его] последняя поэма Бал, напечатанная в Сев.<ерных> Цве<-
тах>, подтверждает наше мнение. Сие блестящее произведение испол-
нено оригинальных красот и прелести необыкновенной. Поэт с удиви-
тельным искусством соединил в быстром рассказе тон шутливый и
страстный, метафизику и поэзию.
Поэма начинается описанием московского бала. — Гости съеха-
лись, пожилые дамы сидят в пышных уборах, сидят около стен и смот-
рят на толпу с тупым вниманием. Вельможи в лент.<ах> и звездах си-
дят за картами, и встав из<-за>л.<омберных> ст.<олов>, иногда
приходят
Взглянуть на < мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков. >
335
our Молодые красавицы кружатся около их.
Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно <острится.>
Вдруг все Смутились; посыпались вопросы. Княгиня Нина вдруг
уехала с бала.
<Вся зала шопотом полна:
,Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей" Ужели?
— В кадрили весело вертясь,
Вдруг помертвела! — Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной?>
— Бог весть, — отвечает с супружеским равнодушием князь, за-
нятый своим бостоном. Поэт отвечает вместо князя, ответ и составля-
ет поэму.
Нина исключительно занимает <нас> Характер ее [совершенно]
новый, развит con агтюге, широко и с удивительным искусством, для
него поэт наш создал совершенно своеобразный > язык и выразил на
нем все оттенки своей метафизики — для нее расточил он всю элеги-
ческую негу, всю прелесть своей поэзии.
< Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит:
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?
Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
336
Своих Лазоревы* очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?
Как в близких сердца разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те:
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте? >
Напрасно поэт берет иногда строгий тон порицания, укоризны,
напрасно он с принужденной холодностью говорит о ее смерти, сатири-
чески описывает нам ее похороны, и шуткою кончит поэму свою. Мы
чувствуем, что он любит свою бедную, страстную героиню. Он застав-
ляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе падшего, но еще
очаровательного создания.
Арсений есть тот самый, кого должна была полюбить бедная Нина.
Он сильно овладел ее воображением, и никогда вполне не удовлетворя
ни ее страсти, ни любопытству — должен был до конца сохранить над
нею роковое свое влияние...
<1828>
22-Минералов
И.В. Киреевский
О СТИХОТВОРЕНИЯХ г. ЯЗЫКОВА
Тому два года французский «Журнал прений» торжественно объя-
вил Европе, что в России скончался один из первоклассных ее поэтов,
г. Державин. В конце прошедшего года издано во Франции «Собрание
русских повестей, выбранных из Булгарина, Карамзина и других» («Le
conteur russe, par Bulgarine, Karamsin et autres»).
Скажите, что страннее: говорить о русской литературе, не зная
Державина, или ставить вместе имена Булгарина, Карамзина и других?
Который из двух примеров доказывает большее незнание нашей сло-
весности?
Чтобы решить этот вопрос, надобно иметь особенно тонкую про-
ницательность, которою я не смею гордиться, и потому предоставляю
это дело моим читателям. Но, во всяком случае, кажется мне несом-
ненным одно, что русская литература известна во Франции почти
столько ж, сколько персидская или татарская.
И мысль, что ни одна тень нашей мысли, ни один звук нашего голоса
не дойдут до народов образованных, — это тяжелая мысль, и кроме грус-
ти она должна иметь еще другое вредное влияние на наших писателей.
Литератор наш невольно стесняет круг своей умственной деятельности,
думая о своих читателях, между тем как писатель французский при мысли
о печатании расширяет свои понятия, ибо при каждом счастливом движе-
нии ума, при каждом чувстве поэтически-самобытном, при каждом слове,
удачно сказанном, является ему надежда, вдохновительная надежда на
сочувствие со всем, что в мире есть просвещенного и славного.
Вот почему каждое покушение познакомить образованных иност-
ранцев с нашею словесностью должно встречать в нас отзыв благодар-
ности и возможно верную оценку.
Но между всеми переводчиками с русского языка три особенно за-
мечательны удачею своих переводов. Бауринг, который один из трех был
оценен и, может быть, даже переценен иностранными и русскими кри-
тиками; Карл фон дер Борг, которого переводы имеют, без сравнения,
большее достоинство, но который, несмотря на то, известен весьма не
многим и еще ни в одном журнале не нашел себе справедливого суда, и,
наконец, Каролина фон Яниш, которой замечательная книга явилась
на последней лейпцигской ярмарке и обнаруживает, кажется, талант
еще превосходнейший.
Но, как ни утешительно это начало дружеского сближения нашей
словесности с литературою немецкою, признаюсь, однако, что мне было
338
больше досадно, чем приятно видеть, как одного из первоклассных по-
этов наших лучше всех русских понял и оценил — писатель немецкий!
Г. фон дер Борг в одном из последних нумеров «Дерптских летопи-
сей» в нескольких строчках сказал больше справедливого о сочинениях
Языкова, нежели сколько было сказано о них во всех наших периодичес-
ких и непериодических изданиях. Впрочем, и то правда, что до сих пор у
нас еще не говорили об Языкове, а только вскрикивали. Один «Телеграф»
высказал свое мнение, и тот, судя о Языкове, не был, кажется, свободен
от таких предубеждений, с которыми истина не всегда уживается.
При начале статьи своей г. фон дер Борг жалуется на тяжелое чув-
ство, которое возбуждают в нем новейшие поэтические произведения
Европы, и при этом случае говорит о том утешении, которое доставля-
ет ему созерцание «литературы свежей, юношеской, которая еще не
достигла времени своего полного процветания, но уже дает его пред-
чувствовать».
Кто не разделит с г. Боргом того ощущения, которое возбуждает в
нем современная поэзия Европы? Но что касается до особенного уте-
шения, которое доставляет ему литература русская, то в этом случае
почему нам не поверить г. Боргу на слово? Может быть, со стороны так
и должно казаться.
«Это утешительное чувство, — продолжает г. Борг, — похоже на
то, которое возбуждает в нас весна, когда надежда еще рисует нам бу-
дущее в лучшем свете, между тем как самые прекрасные дни осени вну-
шают невольную грусть... Когда же поэт, принадлежащий юношеской
литературе, сам еще находится в поре юности и надежды, тогда из со-
зданий его навевает нам двойною весною, так что ее действие на душу
становится уже неотразимым. и
Такое дыхание весны встретил я в сочинениях Языкова, которые
для «Дерптских летописей» имеют еще тот особенный интерес, что
молодой поэт несколько лет принадлежал Дерптскому университету и
ему обязан своим высшим образованием. К тому же и стихотворения
его написаны большею частию во время его жизни в Дерпте или на-
полнены воспоминаниями об этой жизни. Они принадлежат почти ис-
ключительно лирическому роду и большею частию сложены в тоне эле-
гическом... Впрочем, и застольные и эротические песни не исключены
из собрания и многие из них особенно счастливы. Отечество, любовь,
дружба и братское житье веселых юношей-товарищей — вот люби-
мые предметы поэта. Вообще стихи его пленяют какою-то свежестью
и простодушием, и вряд ли есть одно стихотворение, которое бы можно
было назвать неудавшимся. Но особенная прелесть заключена в его
языке, отличающемся силою, новостью и часто дерзостью выражений,
22* 339
между тем как стих его исполнен самой редкой благозвучности. Если
же мы прибавим к сказанному еще то, что в этих гармонических стихах
выражается чувство всегда благородное, душа вся проникнутая любо-
вью к прекрасному и великому, то, конечно, возбудим любопытство всех,
принимающих участие в успехах русской словесности».
Таково мнение г. Борга. Оно показалось нам особенно замечатель-
ным в том отношении, что изо всех рецензентов Языкова до сих пор
один он постигнул поэтическую и нравственную сторону тех из стихот-
ворений поэта, которые у нас навлекли ему столько странных упреков.
Слыша беспрестанные упреки Языкову, я всегда вспоминаю од-
ного русского барина, который ездил отдавать своего сына в какой-
то немецкий университет, но, встретив на улице студента без галс-
тука и с длинными волосами, тотчас же понял из этого всю
безнравственность немецких университетов и возвратился домой вос-
питывать своего сына в Саратове. В подтверждение своих слов г. фон
дер Борг приводит несколько стихотворений Языкова вместе с сво-
им переводом. Переписываем одно из них, чтобы те из наших чита-
телей, которые не знают переводов г. Борга, могли судить о его та-
ланте в самом трудном испытании, которое когда-либо предстояло
переводчику, ибо изо всех новейших поэтов Языков, может быть,
самый непереводимый. <...>
Вообще многие из нас еще сохранили несчастную старообрядчес-
кую привычку судить о нравственности более по наружному благочи-
нию, чем по внутреннему достоинству поступка и мысли. Мы часто счи-
таем людьми нравственными тех, которые не нарушают приличий, хотя
бы, впрочем, жизнь их была самая ничтожная, хотя бы душа их была
лишена всякого стремления к добру и красоте. Если вам случалось
встречать человека, согретого чувствами возвышенными, но одарен-
ного при том сильными страстями, то вспомните и сочтите: сколько
нашлось людей, которые поняли в нем красоту души, и сколько таких,
которые заметили одни заблуждения! Странно, но правда, что для хо-
рошей репутации у нас лучше совсем не действовать, чем иногда оши-
баться, между тем как, в самом деле, скажите: есть ли на свете что-
нибудь безнравственнее равнодушия?
Конечно, я повторяю здесь мысли старые, всем известные; но по-
чему не повторять иногда старой истины? Есть мысли, которые всякий
знает, но только в теории; чтобы понимать их в ежедневном примене-
нии, для этого кроме просвещения умственного нужна еще просвещен-
ная жизнь, устроенная посреди просвещенного общества, где мысли из
отвлеченного умозаключения обратились в неприметную привычку: до
тех пор истина еще не пошлость.
340
Вот почему немецкий ученый, отличающийся самою щекотливою
чопорностью, скорее поймет нравственность стихов Языкова, чем мно-
гие из самых снисходительных его русских читателей.
А между тем если мы беспристрастно вникнем в его поэзию, то не
только найдем ее не безнравственною, но вряд ли даже насчитаем у нас
многих поэтов, которые могли бы похвалиться большею чистотою и
возвышенностью. Правда, он воспевает вино и безыменных красавиц;
но упрекать ли его за то, что те предметы, которые действуют на других
нестройно, внушают ему гимны поэтические? Правда, пьянство есть
вещь унизительная и гадкая; но если найдется человек, на которого вино
действует иначе, то вместо безнравственности не будет ли это, напро-
тив, доказательством особенной чистоты и гармонии его души? Поло-
жим, что на вас производят действие чистое и поэтическое только вес-
на, цветы и музыка, а все другое, что возбуждает ваши нервы, внушает
вам мысли нечистые — в этом случае вы хорошо делаете, воздержива-
ясь от всего возбудительного. Однако это не должно мешать вам быть
справедливыми к другим. И виноват ли Языков, что те предметы, кото-
рые на душе других оставляют следы грязи, на его луше оставляют пер-
лы поэзии, перлы драгоценные, огнистые, круглые?
Изберите самые предосудительные, по вашему мнению, из напе-
чатанных стихотворений Языкова (ибо о ненапечатанных, как о неприз-
нанных, мы не имеем права судить) и скажите откровенно: производят
ли они на вас влияние нечистое? <>в*% *> иэм
ггьКогда Анакреон воспевает вино и красавиц, я вижу в нем веселого
сластолюбца; когда Державин славит сладострастие, я вижу в нем ми-
нуту нравственной слабости; но, признаюсь, в Языкове я не вижу ни
слабости, ни собственно сластолюбия, ибо где у других минута бесси-
лия, там у него избыток сил; где у других простое влечение, там у Язы-
кова восторг; а где истинный восторг, и музыка, и вдохновение — там
пусть другие ищут низкого и грязного; для меня восторг и грязь кажут-
ся таким же противоречием, каким огонь и холод, красота и безобра-
зие, поэзия и вялый эгоизм.
Впрочем, судить таким образом о сочинениях Языкова могли бы
мы только в таком случае, когда бы изо всех стихотворений его мы зна-
ли одни застольные и эротические. Но если, при всем сказанном, мы
сообразим еще то, что, может быть, нет поэта, глубже и сильнее про-
никнутого любовью к отечеству, к славе и поэзии; что, может быть, нет
художника, который бы ощущал более святое благоговение перед кра-
сотою и вдохновением, то тогда все упреки в безнравственности пока-
жутся нам странными до комического, и нам даже трудно будет отве-
чать на них, ибо мудрено будет понять их возможность.
341
Но довольно. Уже слишком много останавливались мы на предме-
те, и без того слишком ясном. Есть предубеждения, которые не при-
знают и очевидности, есть близорукость, которой не поможет никакой
телескоп. Мы пишем для людей зрячих и беспристрастных.
Стихотворения Языкова внушают нам другой вопрос, более дель-
ный и более любопытный, и в этом случае особенно желал бы я найти
сочувствие моих читателей.
Благословенны те мгновенья,
Когда в виду грядущих лет,
Пред фимиамом вдохновенья
Священнодействует поэт.
Н. Языков
Дело критики при разборе стихотворцев заключается обыкновен-
но в том, чтобы определить степень и особенность их таланта, оценить
их вкус и направление и показать, сколько можно, красоты и недостат-
ки их произведений. Дело трудное, иногда любопытное, часто беспо-
лезное и почти всегда неудовлетворительное, хотя и основано на зако-
нах положительных.
Но когда является поэт оригинальный, открывающий новую об-
ласть в мире прекрасного и прибавляющий таким образом новый эле-
мент к поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность кри-
тики изменяется. Вопрос о достоинстве художественном становится
уже вопросом второстепенным; даже вопрос о таланте является не-
главным; но мысль, одушевлявшая поэта, получает интерес само-
бытный, философический; и лицо его становится идеею, и его созда-
ния становятся прозрачными, так что мы не столько смотрим на них,
сколько сквозь них, как сквозь открытое окно; стараемся рассмот-
реть самую внутренность нового храма и в нем божество, его освя-
щающее.
Оттого, входя в мастерскую живописца обыкновенного, мы можем
удивляться его искусству; но пред картиною художника творческого
забываем искусство, стараясь понять мысль, в ней выраженную, по-
стигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить в воображении то
состояние души, при котором она исполнена. Впрочем, и это последнее
сочувствие с художником свойственно одним художникам же; но вооб-
ще люди сочувствуют с ним только в том, что в нем чисто человеческо-
го: с его любовью, с его тоской, с его восторгами, с его мечтою-утеши-
тельницею — одним словом, с тем, что происходит внутри его сердца,
не заботясь о событиях его мастерской.
342
Таким образом, на некоторой степени совершенства искусство само
себя уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу.
Но эта душа изящных созданий — душа нежная, музыкальная, ко-
торая трепещет в звуках и дышит в красках, — неуловима для разума.
Понять ее может только другая душа, ею проникнутая. Вот почему кри-
тика произведений образцовых должна быть не столько судом, сколько
простым свидетельством, ибо зависит от личности и потому может быть
произвольною и основана на сочувствии и потому должна быть при-
страстною. \9 «о чтк он
имЧто же делать критикам систематическим, которые хотят доказы-
вать красоту и заставляют вас наслаждаться по правилам, указывая на
то, что хорошо, и на то, что дурно? Им в утешение остаются произведе-
ния обыкновенные, для которых есть законы положительные, ясные,
не подлежащие произвольному толкованию, — и надобно признаться,
что это утешение огромное, ибо в литературе каждого народа встреча-
ете вы немногих поэтов-двигателей, тогда как все другие только следу-
ют данному ими направлению, подлежа критике одним искусством ис-
полнения, но не душою создания.
^Несколько светильников, окруженных тысячью разбитых зеркаль-
ных кусков, где тысячу раз повторяется одно и то же, — вот образ ли-
тературы самых просвещенных народов. Сколько же приятных заня-
тий для того, кто захочет исчислять все углы отражений света на этих
зеркальных обломках! м* <*♦■ ^г^тоюжг^н-**.
Но если вообще то, что мы называем душою искусства, не может
быть доказано посредством математических доводов, но должно быть
прямо понято сердцем либо просто принято на веру, то еще менее мож-
но требовать доказательств строго математических там, где дело идет о
поэте молодом, которого произведения хотя и носят на себе признаки
поэзии оригинальной, но далеко еще не представляют ее полного раз-
вития.
Вот почему, стараясь разрешить вопрос о том, что составляет ха-
рактер поэзии Языкова, мне особенно необходимо сочувствие моих чи-
тателей, ибо оно одно может служить оправданием для мыслей, осно-
ванных единственно на внушениях сердца и частиюдаже на его догадках.
Мне кажется, — и я повторяю, что мое мнение происходит из од-
ного индивидуального впечатления, — мне кажется, что средоточием
поэзии Языкова служит то чувство, которое я не умею определить ина-
че, как назвав его стремлением к душевному простору. Это стремление
заметно почти во всех мечтах поэта, отражается почти на всех его чув-
ствах, и может быть даже, что из него могут быть выведены все особен-
ности и пристрастия его поэтических вдохновений.
343
мегЕсли мы вникнем в то впечатление, которое производит на нас его
поэзия, то увидим, что она действует на душу, как вино, им воспевае-
мое, как какое-то волшебное вино, от которого жизнь двоится в глазах
наших: одна жизнь является нам тесною, мелкою, вседневною; другая —
праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетает душу; вто-
рая освобождает ее, возвышает и наполняет восторгом. И между сими
двумя существованиями лежит явная, бездонная пропасть; но через эту
пропасть судьба бросила несколько живых мостов, по которым душа
переходит из одной жизни в другую: это любовь, это слава, дружба, вино,
мысль об отечестве, мысль о поэзии и, наконец, те минуты безотчетно-
го, разгульного веселья, когда собственные звуки сердца заглушают ему
голос окружающего мира, — звуки, которыми сердце обязано собствен-
ной молодости более, чем случайному предмету, их возбудившему.
Но не одна жизнь — и сама поэзия с этой точки зрения является
нам вдвойне: сначала как пророчество, как сердечная догадка, потом
как история, как сердечное воспоминание о лучших минутах души.
В первом случае она увлекает в мир неземной; во втором — она из дей-
ствительной жизни извлекает те мгновения, когда два мира прикаса-
лись друг друга, и передает сии мгновения как верное, чистое зеркало.
Но и та и другая имеют одно начало, один источник, — и вот почему
нам не странно в сочинениях Языкова встретить веселую застольную
песнь подле святой молитвы и отблеск разгульной жизни студента под-
ле высокого псалма. Напротив, при самых разнородных предметах лира
Языкова всегда остается верною своему главному тону, так что все сти-
хи его, вместе взятые, кажутся искрами одного огня, блестящими от-
рывками одной поэмы, недосказанной, разорванной, но которой целость
и стройность понятны из частей. Так иногда в немногих поступках чело-
века с характером открывается нам вся история его жизни.
Но именно потому, что господствующий идеал Языкова есть праз-
дник сердца, простор души и жизни, потому господствующее чувство
его поэзии есть какой-то электрический восторг, и господствующий тон
его стихов — какая-то звучная торжественность.
Эта звучная торжественность, соединенная с мужественною силою,
эта роскошь, этот блеск и раздолье, эта кипучесть и звонкость, эта пыш-
ность и великолепие языка, украшенные, проникнутые изяществом
вкуса и грации, — вот отличительная прелесть и вместе особенное клей-
мо стиха Языкова. Даже там, где всего менее выражается господству-
ющий дух его поэзии, нельзя не узнать его стихов по особенной гармо-
нии и яркости звуков, принадлежащих его лире исключительно.
Но эта особенность, так резко отличающая его стих от других рус-
ских стихов, становится еще заметнее, когда мы сличаем его с поэтами
344
иностранными. И в этом случае особенно счастлив Языков тем, что глав-
ное отличие его слова есть вместе и главное отличие русского языка.
Ибо если язык итальянский может спорить с нашим в гармонии вообще,
то, конечно, уступит ему в мужественной звучности, в великолепии и
торжественности, и, следовательно, поэт, которого стих превосходит все
русские стихи именно тем, чем язык русский превосходит другие языки,
становится в этом отношении поэтом-образцом не для одной России.
Но сия наружная особенность стихов Языкова потому только и
могла развиться до такой степени совершенства, что она, как мы уже
заметили, служит необходимым выражением внутренней особенности
его поэзии. Это не просто тело, в которое вдохнули душу, но душа, ко-
торая приняла очевидность тела.
Любопытно наблюдать, читая Языкова, как господствующее на-
правление его поэзии оставляет следы свои на каждом чувстве поэта и
как все предметы, его окружающие, отзываются ему тем же отголос-
ком. Я не представляю примеров потому, что для этого надобно бы было
переписать все собрание его стихотворений; напомню только выраже-
ние того чувства, которое всего чаще воспевается поэтами и потому
всего яснее может показать их особенность:
А вы, певца внимательные други,
Товарищи, — как думаете вы?
Для вас я пел немецкие досуги,
Спесивый хмель ученой головы,
И праздник тот, шумящий ежегодно,
Там у пруда, на бархате лугов,
Где обогнул залив голубоводной
Зеленый скат лесистых берегов?
Луна взошла, древа благоухали,
Зефир весны струил ночную тень,
Костер пылал — мы долго пировали
И, бурные, приветствовали день!
Товарищи! не правда ли? на пире
Не рознил вам лирический поэт?
А этот пир не наобум воспет,
И вы моей порадовались лире!..
Нет, не для вас! Она меня хвалила,
Ей нравились разгульный мой венок,
И младости заносчивая сила,
345
И пламенных восторгов кипяток.
Когда она игривыми мечтами,
Радушная, преследовала их;
Когда она, веселыми устами,
Мой счастливый произносила стих —
Торжественна, полна очарованья,
Свежа, и где была душа моя!
О! прочь мои грядущие созданья,
О! горе мне, когда забуду я
Огонь ее приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В лиющемся кристалле разговора.
Ее уж нет! Все было в ней прекрасно!
И тайна в ней великая жила,
Что юношу стремила самовластно
На видный путь и чистые дела;
Он чувствовал: возвышенные блага
Есть на земле! Есть целый мир труда
И в нем — надежд и помыслов отвага,
И бытие привольное всегда!
Блажен, кого любовь ее ласкала,
Кто пел ее под небом лучших лет...
Она всегда поэта понимала, —
И горд, и тих, и трепетен, поэт
Ей приносил свое боготворенье;
И радостно, во имя божества,
Сбирались в хор созвучные слова!
Как фимиам, горело вдохновенье!
Не знаю, успел ли я выразить ясно мои мысли, говоря о господ-
ствующем направлении Языкова; но если я был столько счастлив, что
читатели мои разделили мое мнение, то мне не нужно продолжать бо-
лее. Определив характер поэзии, мы определили все, ибо в нем заклю-
чаются и ее особенные красоты и ее особенные недостатки. Но пусть
кто хочет приискивает для них соответственные разряды и названия —
я умею только наслаждаться и, признаюсь, слишком ленив для того,
чтобы играть словами без цели, и столько ожидаю от Языкова в буду-
щем, что не могу в настоящих недостатках его видеть что-либо суще-
ственное.
346
Теперь, судя по некоторым стихотворениям его собрания, кажет-
ся, что для поэзии его уже занялась заря новой эпохи. Вероятно, поэт,
проникнув глубже в жизнь и действительность, разовьет идеал свой до
большей существенности. По крайней мере, надежда принадлежит к
числу тех чувств, которые всего сильнее возбуждаются его стихотво-
рениями, и если бы поэзии его суждено было остаться навсегда в том
кругу мечтательности, в каком она заключалась до сих пор, то мы бы
упрекнули в этом судьбу, которая, даровав нам поэта, послала его в
мир слишком рано или слишком поздно для полного могучего действо-
вания, ибо в наше время все важнейшие вопросы бытия и успеха таят-
ся в опытах действительности и в сочувствии с жизнию общечелове-
ческою, а потому поэзия, не проникнутая существенностью, не может
иметь влияния довольно обширного на людей, ни довольно глубокого
на человека.
Впрочем, если мы желаем большего развития для поэзии Языко-
ва, то это никак не значит, чтобы мы желали ей измениться; напротив,
мы повторяем за ним — ив этом присоединятся к нам все, кто понима-
ет поэта и сочувствует ему, — мы повторяем от сердца за него его мо-
литву к провидению:
Пусть, неизменен, жизни новой
Придет к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!
И.В. Киреевский
НЕЧТО О ХАРАКТЕРЕ ПОЭЗИИ ПУШКИНА
Отдавать себе отчет в том наслаждении, которое доставляют нам
произведения изящные, есть необходимая потребность и вместе одно
из высочайших удовольствий образованного ума. Отчего же до сих пор
так мало говорят о Пушкине? Отчего лучшие его произведения оста-
ются неразобранными, а вместо разборов и суждений слышим мы одни
пустые восклицания: «Пушкин поэт! Пушкин истинный поэт! "Онегин"
поэма превосходная! "Цыганы" мастерское произведение!» и т. д.?
Отчего никто до сих пор не предпринял определить характер его по-
эзии вообще, оценить ее красоты и недостатки, показать место, кото-
рое поэт наш успел занять между первоклассными поэтами своего вре-
347
мени? Такое молчание тем непонятнее, что здесь публику всего менее
можно упрекнуть в равнодушии. Но, скажут мне, может быть, кто-то
имеет право говорить о Пушкине?
Все, что в «Сыне отечества», «Дамском журнале», «Вестнике Ев-
ропы» и «Московском телеграфе» было сказано до сих пор о «Руслане
и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и
«Онегине», ограничивалось простым извещением о выходе упомяну-
тых поэм или имело главным предметом своим что-либо постороннее,
как, например, романтическую поэзию и т. п.; но собственно разборов
поэм Пушкина мы еще не имеем.
Там, где просвещенная публика нашла себе законных представи-
телей в литературе, там немногие, законодательствуя общим мнением,
имеют власть произносить окончательные приговоры необыкновенным
явлениям словесного мира. Но у нас ничей голос не лишний. Мнение
каждого, если оно составлено по совести и основано на чистом убе>кде-
нии, имеет право на всеобщее внимание. Скажу более: в наше время
каждый мыслящий человек не только может, но еще обязан выражать
свой образ мыслей перед лицом публики, если, впрочем, не препят-
ствуют тому посторонние обстоятельства, ибо только общим содействи-
ем может у нас составиться то, чего так давно желают все люди благо-
мыслящие, чего до сих пор, однако же, мы еще не имеем, что, быв
результатом, служит вместе и условием народной образованности, а сле-
довательно, и народного благосостояния: я говорю об общем мнении.
К тому же все сказанное перед публикой полезно уже потому, что ска-
зано: справедливое — как справедливое; несправедливое — как вы-
зов на возражения.
Но, говоря о Пушкине, трудно высказать свое мнение решитель-
но; трудно привесть к единству все разнообразие его произведений и
приискать общее выражение для характера его поэзии, принимавшей
столько различных видов. Ибо, выключая красоту и оригинальность
стихотворного языка, какие следы общего происхождения находим мы
в «Руслане и Людмиле», в «Кавказском пленнике», в «Онегине», в
«Цыганах» и т. д.? Не только каждая из сих поэм отличается особенно-
стью хода и образа изложения (la manière); но еще некоторые из них
различествуют и самым характером поэзии, отражая различное воз-
зрение поэта на вещи, так что в переводе их легко можно бы было по-
честь произведениями не одного, но многих авторов. Эта легкая шутка,
дитя веселости и остроумия, которая в «Руслане и Людмиле» одевает
'все предметы в краски блестящие и светлые, уже не встречается боль-
ше в других произведениях нашего поэта; ее место в «Онегине» засту-
пила уничтожающая насмешка, отголосок сердечного скептицизма, и
348
добродушная веселость сменилась здесь на мрачную холодность, кото-
рая на все предметы смотрит сквозь темную завесу сомнений, свои на-
блюдения передает в карикатуре и созидает как бы для того только,
чтобы через минуту насладиться разрушением созданного. В «Кавказ-
ском пленнике», напротив того, не находим мы ни той доверчивости к
судьбе, которая одушевляет «Руслана», ни того презрения к человеку,
которое замечаем в «Онегине». Здесь видим душу, огорченную изме-
нами и утратами, но еще не изменившую самой себе, еще не утратив-
шую свежести прежних чувствований, еще верную заветному влече-
нию, — душу, растерзанную судьбой, но не побежденную: исход борьбы
еще зависит от будущего. В поэме «Цыганы» характер поэзии также
совершенно особенный, отличный от других поэм Пушкина. Тоже мож-
но сказать почти про каждое из важнейших его творений.
Но, рассматривая внимательно произведения Пушкина, от «Рус-
лана и Людмилы» до пятой главы «Онегина», находим мы, что при всех
изменениях своего направления поэзия его имела три периода разви-
тия, резко отличающихся один от другого. Постараемся определить осо-
бенность и содержание каждого из них и тогда уже выведем полное зак-
лючение о поэзии Пушкина вообще.
Если по характеру, тону и отделке, сродным духу искусственных
произведений различных наций, стихотворство, как живопись, можно
делить на школы, то первый период поэзии Пушкина, заключающий в
себе «Руслана» и некоторые из мелких стихотворений, назвал бы я пе-
риодом школы итальянско-французской. Сладость Парни, непринуж-
денное и легкое остроумие, нежность, чистота отделки, свойственные
характеру французской поэзии вообще, соединились здесь с роскошью,
с изобилием жизни и свободою Ариоста. Но остановимся несколько
времени на том произведении нашего поэта, которым совершилось пер-
вое знакомство русской публики с ее любимцем.
Если в своих последующих творениях почти во все создания своей
фантазии вплетает Пушкин индивидуальность своего характера и об-
раза мыслей, то здесь является он чисто творцом-поэтом. Он не ищет
передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и чело-
века, но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой новый
мир, населяя его существами новыми, отличными, принадлежащими
исключительно его творческому воображению. Оттого ни одна из его
поэм не имеет той полноты и оконченности, какую замечаем в «Русла-
не». Оттого каждая песнь, каждая сцена, каждое отступление живет
самобытно и полно; оттого каждая часть так необходимо вплетается в
состав целого создания, что нельзя ничего прибавить или выбросить,
не разрушив совершенно его гармонии. Оттого Черномор, Наина, Го-
349
лова, Финн, Рогдай, Фарлаф, Ратмир, Людмила — словом, каждое из
лиц, действующих в поэме (выключая, может быть, одного: самого ге-
роя поэмы), получило характер особенный, резко образованный и вме-
сте глубокий. Оттого, наблюдая соответственность частей к целому,
автор тщательно избегает всего патетического, могущего сильно по-
трясти душу читателя, ибо сильное чувство несовместно с охотою к чу-
десному — комическому и уживается только с величественно-чудес-
ным. Одно очаровательное может завлечь нас в царство волшебства, и
если посреди пленительной невозможности что-нибудь тронет нас не
на шутку, заставя обратиться к самим себе, то прости тогда вера в не-
вероятное! Чудесное, призраки разлетятся в ничто, и целый мир небы-
валого рушится, исчезнет, как прерывается пестрое сновидение, когда
что-нибудь в его созданиях напомнит нам о действительности. Рассказ
Финна, имея другой конец, уничтожил бы действие целой поэмы: как в
Виландовом «Обероне» один, впрочем, один из лучших отрывков его —
описание несчастий главного героя, слишком сильно потрясая душу,
разрушает очарование целого и, таким образом, отнимает у него глав-
ное его достоинство. Но неожиданность развязки, безобразие старой
колдуньи и смешное положение Финна разом превращают в карикату-
ру всю прежнюю картину несчастной любви и так мастерски связыва-
ют эпизод с тоном целой поэмы, что он уже делается одною из ее необ-
ходимых составных частей. Вообще можно сказать про «Руслана и
Людмилу», что если строгая критика и найдет в ней иное слабым, не-
выдержанным, то, конечно, не сыщет ничего лишнего, ничего неумест-
ного. Рыцарство, любовь, чародейство, пиры, война, русалки, все сти-
хии волшебного мира совокупились здесь в одно создание, и, несмотря
на пестроту частей, в нем все стройно, согласно, цело. Самые присту-
пы к песням, занятые у певца «Иоанны», сохраняя везде один тон, на-
брасывают и на все творение один общий оттенок веселости и остро-
умия.
Заметим, между прочим, что та из поэм Пушкина, в которой всего
менее встречаем мы сильные потрясения и глубокость чувствований,
есть, однако же, самое совершенное из всех его произведений по со-
размерности частей, по гармонии и полноте изобретения, по богатству
содержания, по стройности переходов, по беспрерывности господству-
ющего тона и, наконец, по верности, разнообразию и оригинальности
характеров. Напротив того, «Кавказский пленник», менее всех осталь-
ных поэм удовлетворяющий справедливым требованиям искусства,
несмотря на то, богаче всех силою и глубокостию чувствований.
«Кавказским пленником» начинается второй период пушкинской
поэзии, который можно назвать отголоском лиры Байрона.
350
Если в «Руслане и Людмиле» Пушкин был исключительно поэтом,
передавая верно и чисто внушения своей фантазии, то теперь является
он поэтом-философом, который в самой поэзии хочет выразить сомне-
ния своего разума, который всем предметам дает общие краски своего
особенного воззрения и часто отвлекается от предметов, чтобы жить в
области мышления. Уже не волшебников с их чудесами, не героев не-
победимых, не очарованные сады представляет он в «Кавказском плен-
нике», «Онегине» и проч. — жизнь действительная и человек нашего
времени с их пустотою, ничтожностию и прозою делаются предметом
его песен. Но он не ищет, подобно Гёте, возвысить предмет свой, от-
крывая поэзию в жизни обыкновенной, а в человеке нашего времени —
полный отзыв всего человечества; а, подобно Байрону, он в целом мире
видит одно противоречие, одну обманутую надежду, и почти каждому из
его героев можно придать название разочарованного.
Не только своим воззрением на жизнь и человека совпадается Пуш-
кин с певцом «Гяура»; он сходствует с ним и в остальных частях своей
поэзии: тот же способ изложения, тот же тон, та же форма поэм, такая
же неопределенность в целом и подробная отчетливость в частях, та-
кое же расположение, и даже характеры лиц по большей части столь
сходные, что с первого взгляда их почтешь за чужеземцев-эмигрантов,
переселившихся из Байронова мира в творения Пушкина.
Однако же, несмотря на такое сходство с британским поэтом,
мы находим в «Онегине», в «Цыганах», в «Кавказском пленнике» и
проч. столько красот самобытных, принадлежащих исключительно
нашему поэту, такую неподдельную свежесть чувств, такую верность
описаний, такую тонкость в замечаниях и естественность в ходе, та-
кую оригинальность в языке и, наконец, столько национального, чи-
сто русского, что даже в этом периоде его поэзии нельзя назвать его
простым подражателем. Нельзя, однако же, допустить и того, что
Пушкин случайно совпадается с Байроном; что, воспитанные одним
веком и, может быть, одинакими обстоятельствами, они должны были
сойтись и в образе мыслей и в духе поэзии, а следовательно, и в са-
мых формах ее, ибо у истинных поэтов формы произведений не бы-
вают случайными, но так же слиты с духом целого, как тело с душою
в произведениях Творца. Нельзя, говорю я, допустить сего мнения
потому, что Пушкин там даже, где он всего более приближается к
Байрону, все еще сохраняет столько своего особенного, обнаружи-
вающего природное его направление, что для вникавших в дух обоих
поэтов очевидно, что Пушкин не случайно встретился с Байроном,
но заимствовал у него или, лучше сказать, невольно подчинялся его
влиянию. ;«Ла <*
351
v Лира Байрона должна была отозваться в своем веке, быв сама го-
лосом своего века. Одно из двух противоположных направлений наше-
го времени достигло в ней своего выражения. Мудрено ли, что и для
Пушкина она звучала недаром? Хотя, может быть, он уже слишком
много уступал ее влиянию и, сохранив более оригинальности, по край-
ней мере в наружной форме своих поэм, придал бы им еще большее
достоинство.
Такое влияние обнаружилось прежде всего в «Кавказском плен-
нике». Здесь особенно видны те черты сходства с Байроном, которые
мы выше заметили; но расположение поэмы доказывает, что она была
первым опытом Пушкина в произведениях такого рода, ибо все описа-
ния черкесов, их образа жизни, обычаев, игр и т. д., которыми наполне-
на первая песнь, бесполезно останавливают действие, разрывают нить
интереса и не вяжутся с тоном целой поэмы. Поэма вообще, кажется,
имеет не одно, но два содержания, которые не слиты вместе, но явля-
ются каждое отдельно, развлекая внимание и чувства на две различные
стороны. Зато какими достоинствами выкупается этот важный недо-
статок! Какая поэзия разлита на все сцены! Какая свежесть, какая сила
чувств! Какая верность в живых описаниях! Ни одно из произведений
Пушкина не представляет столько недостатков и столько красот.
Такое же или, может быть, еще большее сходство с Байроном яв-
ляется в «Бахчисарайском фонтане»; но здесь искуснейшее исполне-
ние доказывает уже большую зрелость поэта. Жизнь гаремская так же
относится к содержанию «Бахчисарайского фонтана», как черкесский
быт к содержанию «Кавказского пленника»: оба составляют основу
картины, и, несмотря на то, как различно их значение! Все, что проис-
ходит между Гиреем, Мариею и Заремою, так тесно соединено с окру-
жающими предметами, что всю повесть можно назвать одною сценою
из жизни гарема. Все отступления и перерывы связаны между собой
одним общим чувством; все стремится к произведению одного, главно-
го впечатления. Вообще, видимый беспорядок изложения есть неот-
менная принадлежность байроновского рода; но этот беспорядок есть
только мнимый, и нестройное представление предметов отражается в
душе стройным переходом ощущений. Чтобы понять такого рода гар-
монию, надобно прислушиваться к внутренней музыке чувствований,
рождающейся из впечатлений от описываемых предметов, между тем
как самые предметы служат здесь только орудием, клавишами, ударя-
ющими в струны сердца.
Эта душевная мелодия составляет главное достоинство «Бахчиса-
райского фонтана». Как естественно, гармонически восточная нега,
восточное сладострастие слилися здесь с самыми сильными порывами
352
южных страстей! В противоположности роскошного описания гарема
с мрачностью главного происшествия виден творец «Руслана», из бес-
смертного мира очарований спустившийся на землю, где среди разно-
гласия страстей и несчастий он еще не позабыл чувства упоительного
сладострастия. Его поэзию в «Бахчисарайском фонтане» можно срав-
нить с восточною Пери, которая, утратив рай, еще сохранила красоту
неземную; ее вид задумчив и мрачен; сквозь притворную холодность
заметно сильное волнение души; она быстро и неслышно, как дух, как
Зарема, пролетает мимо нас, одетая густым облаком, и мы пленяемся
тем, что видели, а еще более тем, чем настроенное воображение не-
вольно дополняет незримое. Тон всей поэмы более всех других прибли-
жается к байроновскому.
Зато далее всех отстоит от Байрона поэма «Разбойники», несмот-
ря на то, что содержание, сцены, описания, все в ней можно назвать
сколком с «Шильонского узника». Она больше карикатура Байрона,
нежели подражание ему. Боннивар страдает ;ут того, чтобы
Спасти души своей любовь,
и как ни жестоки его мучения, но в них есть какая-то поэзия, кото-
рая принуждает нас кучастию, между тем как подробное описание стра-
даний пойманных разбойников поселяет в душе одно отвращение, чув-
ство, подобное тому, какое произвел бы вид мучения преступника,
осужденного к заслуженной казни. Можно решительно сказать, что в
этой поэме нет ничего поэтического, выключая вступления и красоту
стихов, везде и всегда свойственную Пушкину.
Сия красота стихов всего более видна в «Цыганах», где мастер-
ство стихосложения достигло высшей степени своего совершенства и
где искусство приняло вид свободной небрежности. Здесь каждый звук,
кажется, непринужденно вылился из души и, несмотря на то, каждый
стих получил последнюю отработку, за исключением, может быть, двух
или трех из целой поэмы: все чисто, округлено и вольно.
Но соответствует ли содержание поэмы достоинству ее отделки?
Мы видим народ кочующий, полудикий, который не знает законов, пре-
зирает роскошь и просвещение и любит свободу более всего; но народ
сей знаком с чувствами, свойственными самому утонченному общежи-
тию: воспоминание прежней любви и тоска по изменившей Мариуле
наполняют всю жизнь старого цыгана. Но, зная любовь исключитель-
ную, вечную, цыгане не знают ревности; им непонятны чувства Алеко.
Подумаешь, автор хотел представить золотой век, где люди справедли-
вы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из границ должно-
93-мыирпя,,™ 353
го; где все свободно, но ничто не нарушает общей гармонии и внутрен-
нее совершенство есть следствие не трудной образованности, но счас-
тливой неиспорченности совершенства природного. Такая мысль мог-
ла бы иметь высокое поэтическое достоинство. Но здесь, к несчастию,
прекрасный пол разрушает все очарование, и, между тем как бедные
цыганы любят «горестно и трудно», их жены, «как, вольная луна, на
всю природу мимоходом изливают равное сиянье». Совместно ли такое
несовершенство женщин с таким совершенством народа? Либо цыга-
ны не знают вечной, исключительной привязанности, либо они ревну-
ют непостоянных жен своих, и тогда месть и другие страсти также дол-
жны быть им не чужды; тогда Алеко не может уже казаться им странным
и непонятным; тогда весь быт европейцев отличается от них только
выгодами образованности; тогда, вместо золотого века, они представ-
ляют просто полудикий народ, не связанный законами, бедный, несча-
стный, как действительные цыганы Бессарабии; тогда вся поэма про-
тиворечит самой себе.
Но, может быть, мы не должны судить о «Цыганах» вообще по
одному отцу Земфиры; может быть, его характер не есть характер его
народа. Но если он существо необыкновенное, которое всегда и при
всяких обстоятельствах образовалось бы одинаково и, следовательно,
всегда составляет исключение из своего народа, то цель поэта все еще
остается неразгаданною. Ибо, описывая цыган, выбрать из среды их
именно того, который противоречит их общему характеру, и его одного
представить пред читателем, оставляя других в неясном отдалении, —
то же, что, описывая характер человека, приводить в пример именно те
из его действий, которые находятся в разногласии с описанием.
Впрочем, характер Алеко, эпизоды и все части, отдельно взятые,
так богаты поэтическими красотами, что если бы можно было, прочтя
поэму, позабыть ее содержание и сохранить в душе память одного на-
слаждения, доставленного ею, то ее можно бы было назвать одним из
лучших произведений Пушкина. Но в том-то и заключается отличие
чувства изящного от простого удовольствия, что оно действует на нас
еще больше в последующие минуты воспоминания и отчета, нежели в
самую минуту первого наслаждения. Создания истинно поэтические
живут в нашем воображении; мы забываемся в них, развиваем нераз-
витое, рассказываем недосказанное и, переселяясь таким образом в
новый мир, созданный поэтом, живем просторнее, полнее и счастли-
вее, нежели в старом действительном. Так и цыганский быт завлекает
сначала нашу мечту, но при первом покушении присвоить его нашему
воображению разлетается в ничто, как туманы Ледовитого моря, кото-
рые, принимая вид твердой земли, заманивают к себе любопытного
354 - tfoaeqdhJ ,v. <Ci
путешественника и при его же глазах, разогретые лучами солнца, уле-
тают на небеса.
Но есть качество в «Цыганах», которое вознаграждает нас неко-
торым образом за нестройность содержания. Качество сие есть боль-
шая самобытность поэта. Справедливо сказал автор «Обозрения сло-
весности за 1827 год», что в сей поэме заметна какая-то борьба между
идеальностью Байрона и живописною народностью поэта русского.
В самом деле: возьмите описания цыганской жизни отдельно; смотри-
те на отца Земфиры не как на цыгана, но просто как на старика, не
заботясь о том, к какому народу он принадлежит; вникните в эпизод об
Овидии — и полнота созданий, развитая до подробностей, одушевлен-
ная поэзиею оригинальною, докажет вам, что Пушкин уже почувство-
вал силу дарования самостоятельного, свободного от посторонних вли-
яний.
Все недостатки в «Цыганах» зависят от противоречия двух разно-
гласных стремлений: одного самобытного, другого байронического;
посему самое несовершенство поэмы есть для нас залог усовершен-
ствования поэта. >*»<>,
Еще более стремление к самобытному роду поэзии обнаруживает-
ся в «Онегине», хотя не в первых главах его, где влияние Байрона оче-
видно; не в образе изложения, который принадлежит «Дон-Жуану» и
«Беппо», и не в характере самого Онегина, однородном с характером
Чильд-Гарольда. Но чем более поэт отдаляется от главного героя и за-
бывается в посторонних описаниях, тем он самобытнее и национальнее.
Время Чильд-Гарольдов, слава богу, еще не настало для нашего
отечества: молодая Россия не участвовала в жизни западных государств,
и народ, как человек, не стареется чужими опытами. Блестящее по-
прище открыто еще для русской деятельности; все роды искусств, все
отрасли познаний еще остаются неусвоенными нашему отечеству; нам
дано еще надеяться — что же делать у нас разочарованному Чильд-
Гарольду? и'
Посмотрим, какие качества сохранил и утратил цвет Британии, быв
пересажен на русскую почву.
Любимая мечта британского поэта есть существо необыкновен-
ное, высокое. Не бедность, но преизбыток внутренних сил делает его
холодным к окружающему миру. Бессмертная мысль живет в его сер-
дце и день и ночь, поглощает в себя все бытие его и отравляет все
наслаждения. Но в каком бы виде она ни являлась: как гордое пре-
зрение к человечеству, или как мучительное раскаяние, или как мрач-
ная безнадежность, или как неутолимая жажда забвения — эта
Мысль; всеобъемлющая, вечная, что она, если не невольное, посто-
23* 355
янное стремление к лучшему, тоска по недосягаемом совершенстве?
Нет ничего общего между Чильд-Гарольдом и толпою людей обык-
новенных: его страдания, его мечты, его наслаждения непонятны для
других; только высокие горы да голые утесы говорят ему ответные
тайны, ему одному слышные. Но потому именно, что он отличен от
обыкновенных людей, может он отражать в себе дух своего времени
и служить границею с будущим; ибо только разногласие связует два
различные созвучия. Напротив того, Онегин есть существо совер-
шенно обыкновенное и ничтожное. Он также равнодушен ко всему
окружающему; но не ожесточение, а неспособность любить сделали
его холодным. Его молодость также прошла в вихре забав и рассея-
ния; но он не завлечен был кипением страстной, ненасытной души,
но на паркете провел пустую, холодную жизнь модного франта. Он
также бросил свет и людей; но не для того, чтобы в уединении найти
простор взволнованным думам, но для того, что ему было равно скучно
везде,
...что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.
Он не живет внутри себя жизнью особенною, отменною от жизни
других людей, и презирает человечество потому только, что не умеет
уважать его. Нет ничего обыкновеннее такого рода людей, и всего мень-
ше поэзии в таком характере.
Вот Чильд-Гарольд в нашем отечестве, и честь это поэту, что он
представил нам не настоящего; ибо, как мы уже сказали, это время еще
не пришло для России, и дай Бог, чтобы никогда не приходило.
Ь. Сам Пушкин, кажется, чувствовал пустоту своего героя и потому
нигде не старался коротко познакомить с ним своих читателей. Он не
дал ему определенной физиономии, и не одного человека, но целый класс
людей представил он в его портрете: тысяче различных характеров мо-
жет принадлежать описание Онегина.
Эта пустота главного героя была, может быть, одною из причин
пустоты содержания первых пяти глав романа; но форма повествова-
ния, вероятно, также к тому содействовала. Те, которые оправдывают
ее, ссылаясь на Байрона, забывают, в каком отношении находится фор-
ма «Беппо» и «Дон Жуана» к их содержанию и характерам главных
героев.
Что касается до поэмы «Онегин» вообще, то мы не имеем права
судить по началу о сюжете дела, хотя с трудом можем представить себе
возможность чего-либо стройного, полного и богатого в замысле при
356
таком начале. Впрочем, кто может разгадать границы возможного для
поэтов, каков Пушкин, — им суждено всегда удивлять своих критиков.
Недостатки «Онегина» суть, кажется, последняя дань Пушкина
британскому поэту. Но все неисчислимые красоты поэмы: Ленский,
Татьяна, Ольга, Петербург, деревня, сон, зима, письмо и проч., и
проч. — суть неотъемлемая собственность нашего поэта. Здесь-то об-
наружил он ясно природное направление своего гения; и эти следы са-
мобытного созидания в «Цыганах» и «Онегине», соединенные с изве-
стною сценою из «Бориса Годунова», составляют, не истощая, третий
период развития его поэзии, который можно назвать периодом поэзии
русско-пушкинской. Отличительные черты его суть: живописность,
какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-
то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу; ибо как назвать то
чувство, которым дышат мелодии русских песен, к которому чаще все-
го возвращается русский народ и которое можно назвать центром его
сердечной жизни?
В этом периоде развития поэзии Пушкина особенно заметна спо-
собность забываться в окружающих предметах и текущей минуте. Та
же способность есть основание русского характера: она служит нача-
лом всех добродетелей и недостатков русского народа; из нее происхо-
дит смелость, беспечность, неукротимость минутных желаний, велико-
душие, неумеренность, запальчивость, понятливость, добродушие и
проч. и проч.
Не нужно, кажется, высчитывать всех красот «Онегина», анато-
мировать характеры, положения и вводные описания, чтобы доказать
превосходство последних произведений Пушкина над прежними. Есть
вещи, которые можно чувствовать, но нельзя доказать, иначе как на-
писавши несколько томов комментарий на каждую страницу. Характер
Татьяны есть одно из лучших созданий нашего поэта; мы не будем гово-
рить об нем, ибо он сам себя выказывает вполне.
Для чего хвалить прекрасное не так же легко, как находить недо-
статки? С каким бы восторгом высказали мы всю несравненность тех
наслаждений, которыми мы одолжены поэту и которые, как самоцен-
ные камни в простом ожерелье, блестят в однообразной нити жизни
русского народа!
В упомянутой сцене из «Бориса Годунова» особенно обнаружива-
ется зрелость Пушкина. Искусство, с которым представлены в столь
тесной раме характер века, монашеская жизнь, характер Пимена, по-
ложение дел и начало завязки; чувство особенное, трагически спокой-
ное, которое внушают нам жизнь и присутствие летописца; новый и ра-
зительный способ, посредством которого поэт знакомит нас с Гришкою;
357
наконец, язык неподражаемый, поэтический, верный — все это вместе
заставляет нас ожидать от трагедии, скажем смело, чего-то великого.
Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосто-
ронен, слишком объективен, чтобы быть лириком; в каждой из его поэм
заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным час-
тям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в творениях эпи-
ческих, но необходимое, драгоценное для драматика.
Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспрестан-
ное усовершенствование; но еще утешительнее видеть сильное влия-
ние, которое поэт имеет на своих соотечественников. Немногим, из-
бранным судьбою, досталось в удел еще при жизни наслаждаться их
любовью. Пушкин принадлежит к их числу, и это открывает нам еще
одно важное качество в характере его поэзии: соответственность с сво-
им временем.
& Мало быть поэтом, чтобы быть народным; надобно еще быть вос-
питанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять
надежды своего отечества, его стремление, его утраты, — словом, жить
его жизнию и выражать его невольно, выражая себя. Пусть случается
такое счастье; но не так же ли мало зависят от нас красота, ум, прозор-
ливость, все те качества, которыми человек пленяет человека? И уже-
ли качества сии существеннее достоинства отражать в себе жизнь сво-
его народа?
В. Г. Белинский
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
СОЧИНЕНИЕ М. ЛЕРМОНТОВА
Давно ли приветствовали мы первое издание «Героя нашего вре-
мени» большою критическою статьею и, полные гордых, величавых и
сладостных надежд, со всем жаром убеждения, основанного на созна-
нии, указывали русской публике на Лермонтова, как на великого поэта
в будущем, смотрели на него, как на преемника Пушкина в настоящем!..
И вот проходит не более года, — мы встречаем новое издание «Героя
нашего времени» горькими слезами о невозвратимой утрате, которую
понесла осиротелая русская литература в лице Лермонтова!.. Несмот-
ря на общее, единодушное внимание, с каким приняты были его пер-
вые опыты, несмотря на какое-то безусловное ожидание от него чего-
то великого, — наши восторженные похвалы и радостные приветы
358
новому светилу поэзии для многих благоразумных людей казались пре-
увеличенными... Слава их благоразумию, так много теперь выиграв-
шему, и горе нам, так много утратившим!.. В сознании великой, невоз-
наградимой утраты, в полноте едкого, грустного чувства, отравляющего
сердце, мы готовы великодушно увеличить торжество осторожного в
своих приговорах сомнения и охотно сознаться, что, говоря так много о
Лермонтове, мы видели более будущего, нежели настоящего Лермон-
това, — видели Алкида, в колыбели удушающего змей зависти, но еще
не Алкида, сражающего ужасною палицею лернейскую гидру... •«
Да, все написанное Лермонтовым еще недостаточно для упроче-
ния колоссальной славы и более значительно как предвестие будуще-
го, а не как что-нибудь положительно и безотносительно великое, хотя
и само по себе все это составляет важный и примечательный факт, ре-
шительно выходящий из круга обыкновенного. Первые лирические пье-
сы: «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник», еще не могли со-
ставить славы Пушкина как великого мирового поэта; но в них уже
виделся будущий создатель «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова»,
«Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря», «Русалки», «Каменного
гостя» и других великих поэм... Толпа судит и делает свои приговоры
задним числом; она говорит, когда уже не боится проговориться. Толпа
идет ощупью и о твердости встреченного ею предмета судит по силе
толчка, с которым наткнулась на него. Оставляя за толпою право ви-
деть вещи не иначе, как оборачиваясь назад, не будем отнимать права у
людей заглядывать вперед и — по настоящему предсказывать о буду-
щем... Всякому свое: толпе кричать, людям мыслить... Пусть же кри-
чит она, а мы снова повторим: новая, великая утрата осиротила бедную
русскую литературу!..
ом Самые первые произведения Лермонтова были ознаменованы пе-
чатью какой-то особенности: они не походили ни на что, являвшееся до
Пушкина и после Пушкина. Трудно было выразить словом, что в них
было особенного, отличавшего их даже от явлений, которые носили на
себе отблеск истинного и замечательного таланта. Тут было все — и
самобытная, живая мысль, одушевлявшая обаятельно прекрасную фор-
му, как теплая кровь одушевляет молодой организм и ярким, свежим
румянцем проступает на ланитах юной красоты; тут была и какая-то
мощь, горделиво владевшая собою и свободно подчинявшая идее сво-
енравные порывы свои; тут была и эта оригинальность, которая, в про-
стоте и естественности, открывает собою новые, дотоле невиданные
миры и которая есть достояние одних гениев; тут было много чего-то
столь индивидуального, столь тесно соединенного с личностию твор-
ца, — много такого, что мы не можем иначе охарактеризовать, как на-
359
звавши «лермонтовским элементом»... Какой избыток силы, какое раз-
нообразие идей и образов, чувств и картин! Какое сильное слияние энер-
гии и грации, глубины и легкости, возвышенности и простоты! Читая
всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь
музыкальные аккорды и в то же время следишь взором за потрясенны-
ми струнами, с которых сорваны они рукою невидимою... Тут, кажется,
соприсутствуешь духом таинству мысли, рождающейся из ощущения,
как рождается бабочка из некрасивой личинки... Тут нет лишнего сло-
ва, не только лишней страницы: все на месте, все необходимо, потому
что все перечувствовано прежде, чем сказано, все видено прежде, чем
положено на картину... Нет ложных чувств, ошибочных образов, натя-
нутого восторга: все свободно, без усилия, то бурным потоком, то свет-
лым ручьем, излилось на бумагу... Быстрота и разнообразие ощущений
покорены единству мысли; волнение и борьба противоположных эле-
ментов послушно сливаются в одну гармонию, как разнообразие музы-
кальных инструментов в оркестре, послушных волшебному жезлу
капельмейстера... Но, главное — все это блещет своими, незаимство-
ванными красками, все дышит самобытною и творческою мыслию, все
образует новый, дотоле невиданный мир... Только дикие невежды, чер-
ствые педанты, которые за буквою не видят мысли и случайную вне-
шность всегда принимают за внутреннее сходство, только эти честные
и добрые витязи букварей и фолиантов могли бы находить в самобыт-
ных вдохновениях Лермонтова подражания не только Пушкину или Жу-
ковскому, но и гг. Бенедиктову и Якубовичу...
Повторяем: небольшая книжка стихотворений Лермонтова, конеч-
но, не есть колоссальный монумент поэтической славы; но она есть
живое, говорящее прорицание великой поэтической славы. Это еще не
симфония, а только пробные аккорды, но аккорды, взятые рукою юно-
го Бетховена... Просвещенный иностранец, знакомый с русским язы-
ком, прочитав стихотворения Лермонтова, не увидел бы в их малочис-
ленности богатства русской литературы, но изумился бы силе русской
фантазии, даровитости русской натуры... Некоторые из них законно
могли бы явиться в свет с подписью имени Пушкина и других величай-
ших мастеров поэзии... «Герой нашего времени» обнаружил в Лермон-
тове такого же великого поэта в прозе, как и в стихах. Этот роман был
книгою, вполне оправдывавшею свое название. В ней автор является
решателем важных современных вопросов. Его Печорин — как совре-
менное лицо — Онегин нашего времени. Обыкновенно наши поэты
жалуются, — может быть, и не без основания, — на скудость поэти-
ческих элементов в жизни русского общества; но Лермонтов в своем
«Герое» умел и из этой бесплодной почвы извлечь богатую поэтиче-
360
скую жатву. Не составляя целого, в строгом художественном смысле,
почти все эпизоды его романа образуют собою очаровательные поэти-
ческие миры. «Бэла» и «Тамань» в особенности могут считаться одни-
ми из драгоценнейших жемчужин русской поэзии; а в них еще остается
столько дивных подробностей и картин, в которых с такою отчетливос-
тию обрисовано типическое лицо Максима Максимыча! «Княжна Мери»
менее удовлетворяет в смысле объективной художественности. Решая
слишком близкие сердцу своему вопросы, автор не совсем успел осво-
бодиться от них и, так сказать, нередко в них путался; но это дает повести
новый интерес и новую прелесть, как самый животрепещущий вопрос
современности, для удовлетворительного решения которого нужен был
великий перелом в жизни автора... Но увы! этой жизни суждено было
проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю
света и благоухания и — исчезнуть во всей красе своей...
Прекрасное погибло в пышном цвете...
Таков удел прекрасного на свете!
Губителем неслышным и незримым,
Во всех путях беда нас сторожит,
Приюта нет главам, равно грозимым;
Где не была, там будет и сразит.
Вотще дерзать в борьбу с необходимым:
Житейского никто не победит.
Гнетомы все единой грозной силой.
Нам всем сказать о здешнем счастье: «было!»
Как все великие таланты, Лермонтов в высшей степени обладал
тем, что называется «слогом». Слог отнюдь не есть простое уменье
писать грамматически правильно, гладко и складно, — уменье, кото-
рое часто дается и бесталантности. Под «слогом» мы разумеем непос-
редственное, данное природою уменье писателя употреблять слова в
их настоящем значении, выражаясь сжато, высказывать много, быть
кратким в многословии и плодовитым в краткости, тесно сливать идею
с формою и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей
личности, своего духа. Предисловие Лермонтова ко второму изданию
«Героя нашего времени» может служить лучшим примером того, что
значит «иметь слог». Выписываем это предисловие:
«Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем после-
дняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправда-
нием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям нет дела до нрав-
361
ственной Цели и до журнальных нападок, и потому они не читают пре-
дисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще
молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не нахо-
дит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она
просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе
и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современ-
ная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и
тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит нео-
тразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, кото-
рый, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждеб-
ным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое
правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.
Эта книжка испытала на себе еще недавно несчастную доверчи-
вость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению
слов. Иные ужасно обиделись — и не шутя, — что им ставят в пример
такого безнравственного человека, как герой нашего времени; другие
же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и
портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь
так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепос-
тей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет уп-
река в покушении на оскорбление личности!
«Герой нашего времени», милостивые государи мои, точно порт-
рет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков все-
го нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что
человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили
возможности существования всех трагических и романических злоде-
ев, — отчего же вы не верите в действительность Печорина? Если вы
любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отче-
го же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж
не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?
Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините.
Довольно людей кормили сластями, у них от этого испортился желудок:
нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после
этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться
исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества!
Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его
понимает и, к его и вашему несчастию, слишком часто встречал. Будет и
того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!»
Какая точность и определенность в каждом слове, как на месте и
как незаменимо другим каждое слово! Какая сжатость, краткость и вме-
362
сте с тем многозначительность! Читая строки, читаешь и между стро-
ками; понимая ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего
он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым. Как образны и ори-
гинальны его фразы: каждая из них годится быть эпиграфом к большо-
му сочинению. Конечно, это «слог», или мы не знаем, что такое «слог»...
Немного стихотворений осталось после Лермонтова. Найдется пьес
десяток первых его опытов, кроме большой его поэмы — «Демон»;
пьес пять новых, которые подарил он редактору «Отечественных запи-
сок» перед отъездом своим на Кавказ... Наследие не огромное, но дра-
гоценное! «Отечественные записки» почтут священным долгом скоро
поделиться ими с своими читателями. Лермонтов немного написал —
бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант.
Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия,
самый род жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от
уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его
начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности,
а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже зате-
вал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам гово-
рил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа
из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра
I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое един-
ство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним
из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пио-
нерами» и оканчивающейся «Степями»... как вдруг —
Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!..
Нельзя без печального содрогания сердца читать эти строки, кото-
рыми оканчивается в 63 № «Одесского вестника» статья г. Андреевс-
кого «Пятигорск»: «15 июля, около 5-ти часов вечера, разразилась
ужасная буря с молниею и громом: в это самое время, между горами
Машукою и Бештау, скончался — лечившийся в Пятигорске М.Ю. Лер-
монтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное
тело поэта»...
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
363
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой?
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится глас времен —
Благословения племен!
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ НАЧАЛА XIX века.
ПРОБЛЕМА РОМАНТИЗМА 13
Владислав Александрович Озеров (1769—1816) 15
Александр Александрович Шаховской (1777—1846) 16
Павел Александрович Катенин (1792—1853) 16
Семен Сергеевич Бобров (1765-1810) 24
«Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» 28
Александр Христофорович Востоков (1781-1864) 28
Иван Петрович Пнин (1773-1805) 28
Николай Федорович Остолопов (1783—1833) 28
Михаил Васильевич Милонов ( 1792—1821) 29
«Вольное общество любителей российской словесности» 29
«Дружеское литературное общество» 29
Александр Семенович Шишков (1754—1841) 31
Александр Николаевич Оленин (1763—1843) 31
Николай Иванович Гнедич (1784-1833) 31
Анна Алексеевна Волкова ( 1781 — 1834) 31
Анна Петровна Бунина ( 1775—1828) 31
Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1873—1837) 33
ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (1769-1844) 40
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ ( 1787-1855) 54
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783-1852) 65
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ (1795-1829) 82
ДОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ 96
Василий Львович Пушкин ( 1770—1830) 96
Иван Иванович Козлов ( 1779-1840) 99
Денис Васильевич Давыдов ( 1784—1839) 103
Пётр Андреевич Вяземский (1792—1878) 107
Иван Петрович Мятлев (1796—1844) 111
Федор Николаевич Глинка (1786-1880) 115
Сергей Николаевич Глинка (1776-1847) 115
Кондратий Федорович Рылеев ( 1795—1826) 120
Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846) 124
Антон Антонович Дельвиг ( 1798— 1831 ) 127
Алексей Федорович Мерзляков ( 1778-1830) 129
Николай Михайлович Языков ( 1803—1846) 130
Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) 135
365
Дмитрий Владимирович Веневитинов (1<005—НЙ7) 140
Каролина Карловна Павлова (1807—1893) 142
Евдокия Петровна Ростопчина (1811 — 1858) 144
Алексей Васильевич Кольцов ( 1809-1842) 144
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БОРАТЫНСКИЙ (1800-1844) 147
ПРОЗАИКИ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ 159
Василий Трофимович Нарежный (1780—1825) 159
Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836) 162
Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852) 165
Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859) 170
Николай Иванович Греч (1787-1867) 170
Осип (Юлиан) Иванович Сенковский (1800—1858) 171
Иван Иванович Лажечников (1792-1869) 174
Орест Михайлович Сомов (1793-1833) 177
Александр Александрович Бестужев (1797—1837) 178
Александр Фомич Вельтман ( 1800-1870) 182
Николай Филиппович Павлов (1805-1864) 183
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ОДОЕВСКИЙ ( 1803-1869) 187
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799-1837) 202
Владимир Федосеевич Раевский ( 1795—1872) 205
Иван Иванович Пущин (1798-1859) 206
Петр Павлович Ершов (1815—1869) 240
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1809-1852) 245
Василий Васильевич Капнист (1758-1823) 260
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841) 262
РОМАНТИКИ ЛЕРМОНТОВСКОГО ВРЕМЕНИ 281
Александр Иванович Полежаев (1804—1838) 281
Степан Петрович Шевырев (1806—1864) 283
Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873) 287
Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) 293
Федор Николаевич Менцов ( 1818-1848) 294
Андрей Иванович Подолинский (1806-1886) 294
Виктор Григорьевич Тепляков (1804-1842) 294
Николай Алексеевич Некрасов (1821 — 1876) 296
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 299
Приложения. Культурно-исторические материалы 301
ИМ. Карамзин. Что нужно автору? 301
НМ. Карамзин. Отчего в России мало авторских талантов? 301
НМ. Карамзин. <0 богатстве языка> 305
В.А. Жуковский. Святая Русь 306
П.А. Вяземский. О Державине 312
366
П.А. Вяземский. Из «Старой записной книжки» 317
A.C. Грибоедов. Из письма П.А. Катенину 327
A.C. Пушкин. О предисловии г-на Лемонте к переводу
басен И.А. Крылова 328
A.C. Пушкин. О поэзии классической и романтической 332
A.C. Пушкин. <«Бал» Баратынской» 334
И.В. Киреевский. О стихотворениях г. Языкова 338
И.В. Киреевский. Нечто о характере поэзии Пушкина 347
В.Г. Белинский. «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова ... 358
Учебное издание
Минералов Юрий Иванович
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XIX века
(1800-1830-е годы)
Редактор ТА. Феоктистова
Внешнее оформление В.Н. Хомяков
Компьютерная верстка М.В. Семненко
Корректор Т.Д. Бенедиктова
Лицензия ИД № 06236 от 09.11.01.
Изд. № ЛЖ-295. Подп. в печать 27.11.06. Формат 60х88'/|6.
Бум. офсетная. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Объем 22,54 усл. печ. л., 23,04 усл. кр.-отт.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 15937 (Кв-5т>.
ФГУП «Издательство «Высшая школа»,
127994, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., 29/14.
Тел.: (495) 694-04-56
http://www.vshkola.ru E-mail: info_vshkola@mail.ru
Отдел реализации: (495) 694-07-69, 694-31-47, факс: (495) 694-34-86.
E-mail: sales_vshkola@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Смоленский полиграфический комбинат»
214020, г. Смоленск, ул.Смольянинова, 1.
ИСТОРИЯ
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
XIX
века
1800-1830
годы