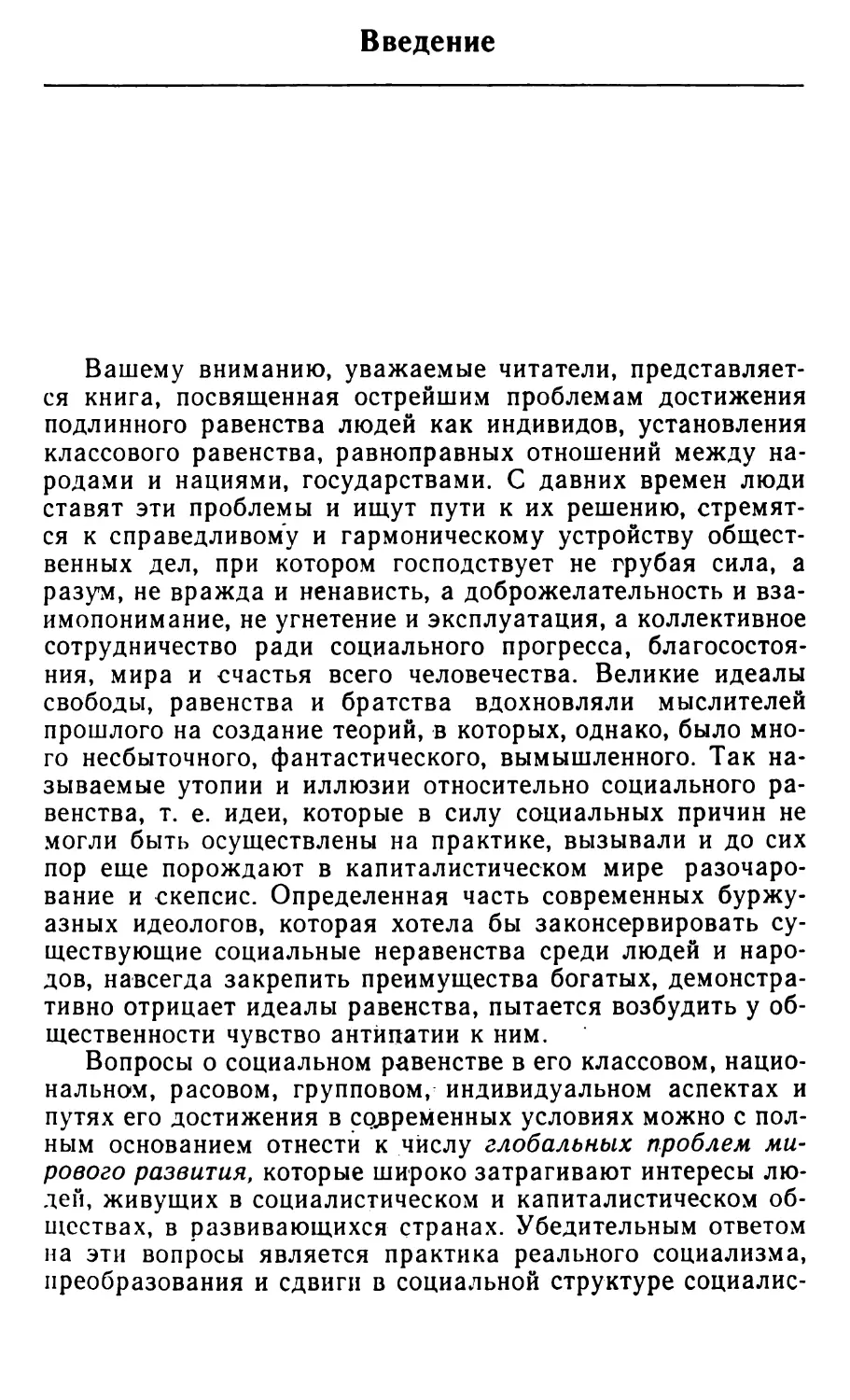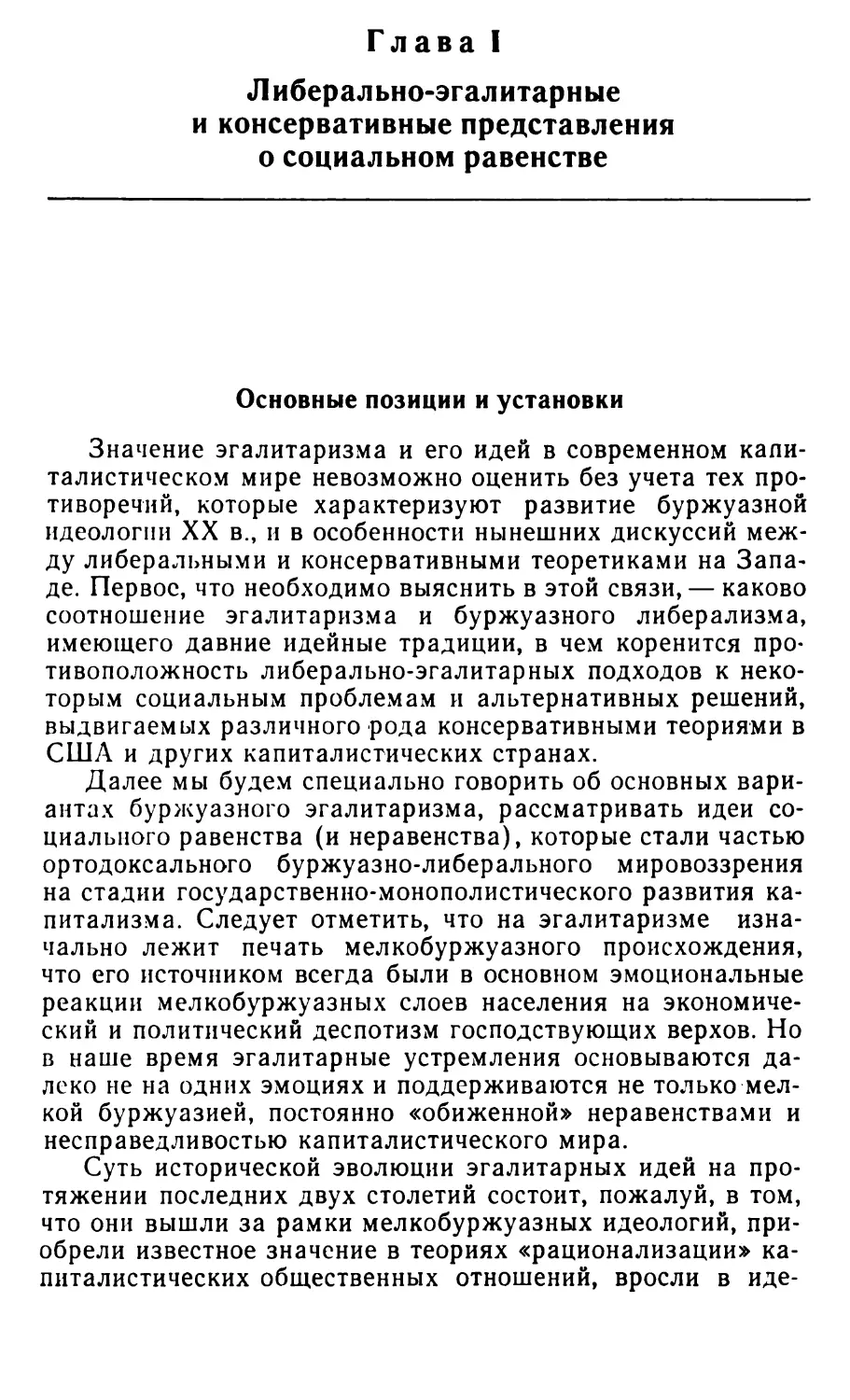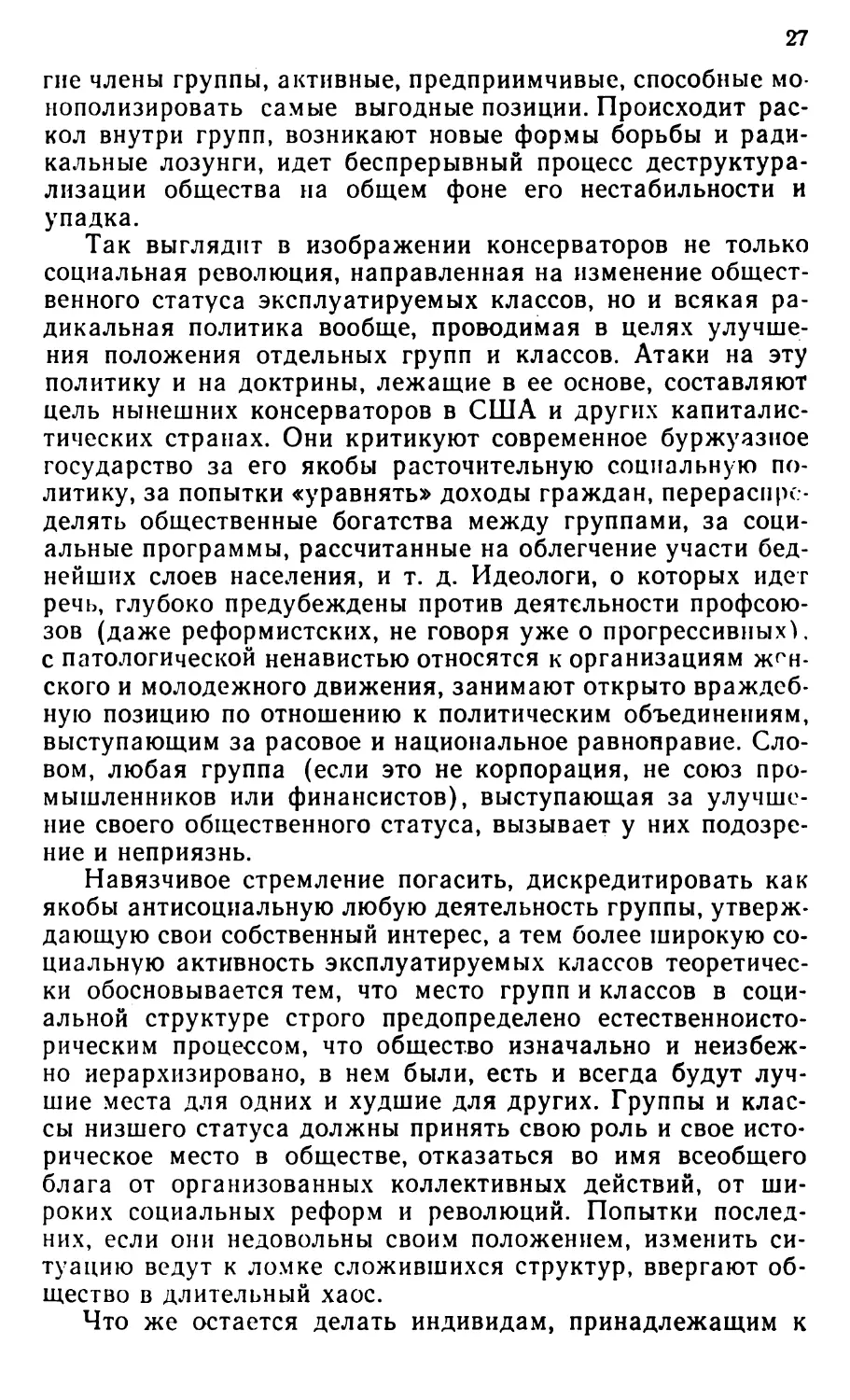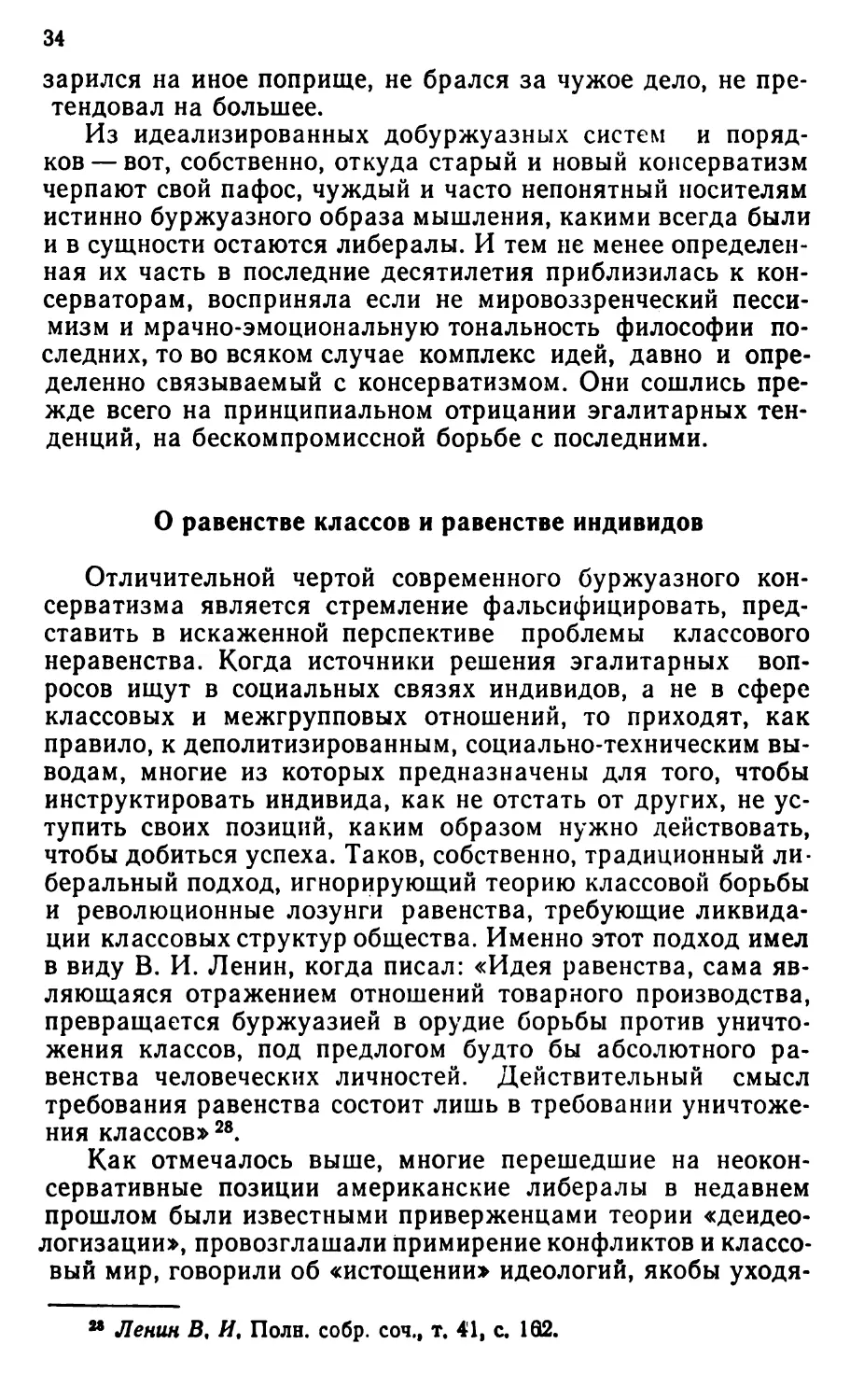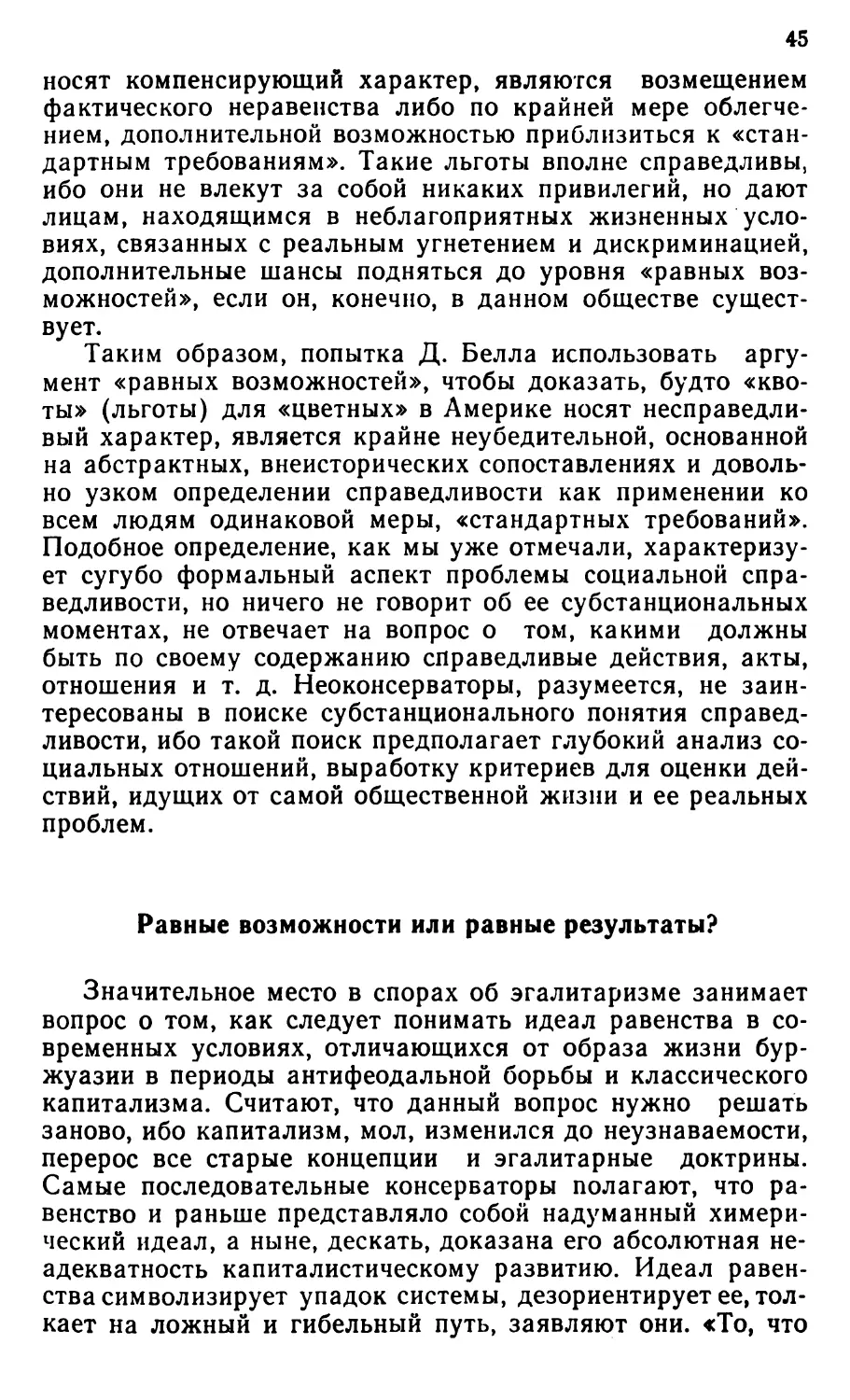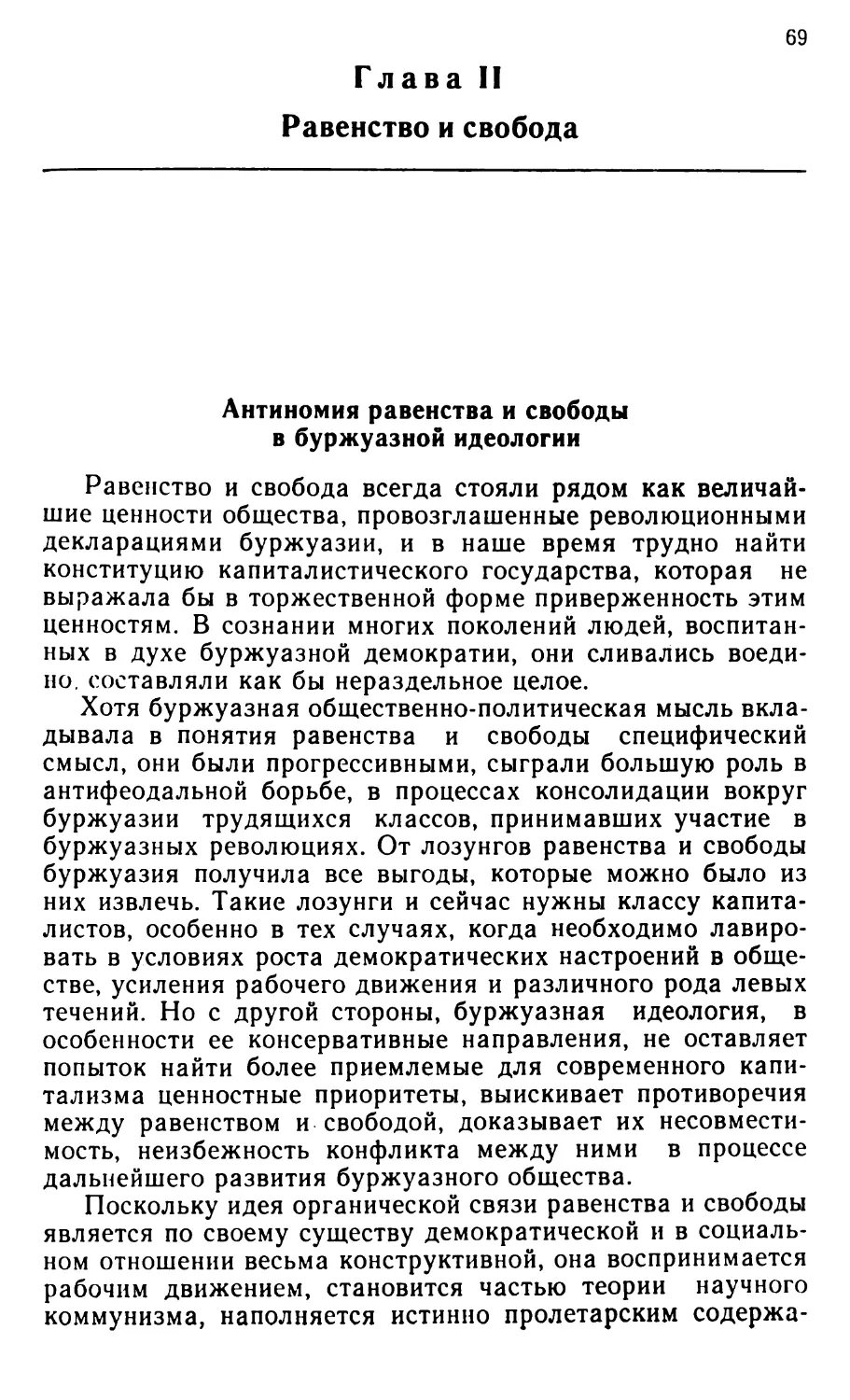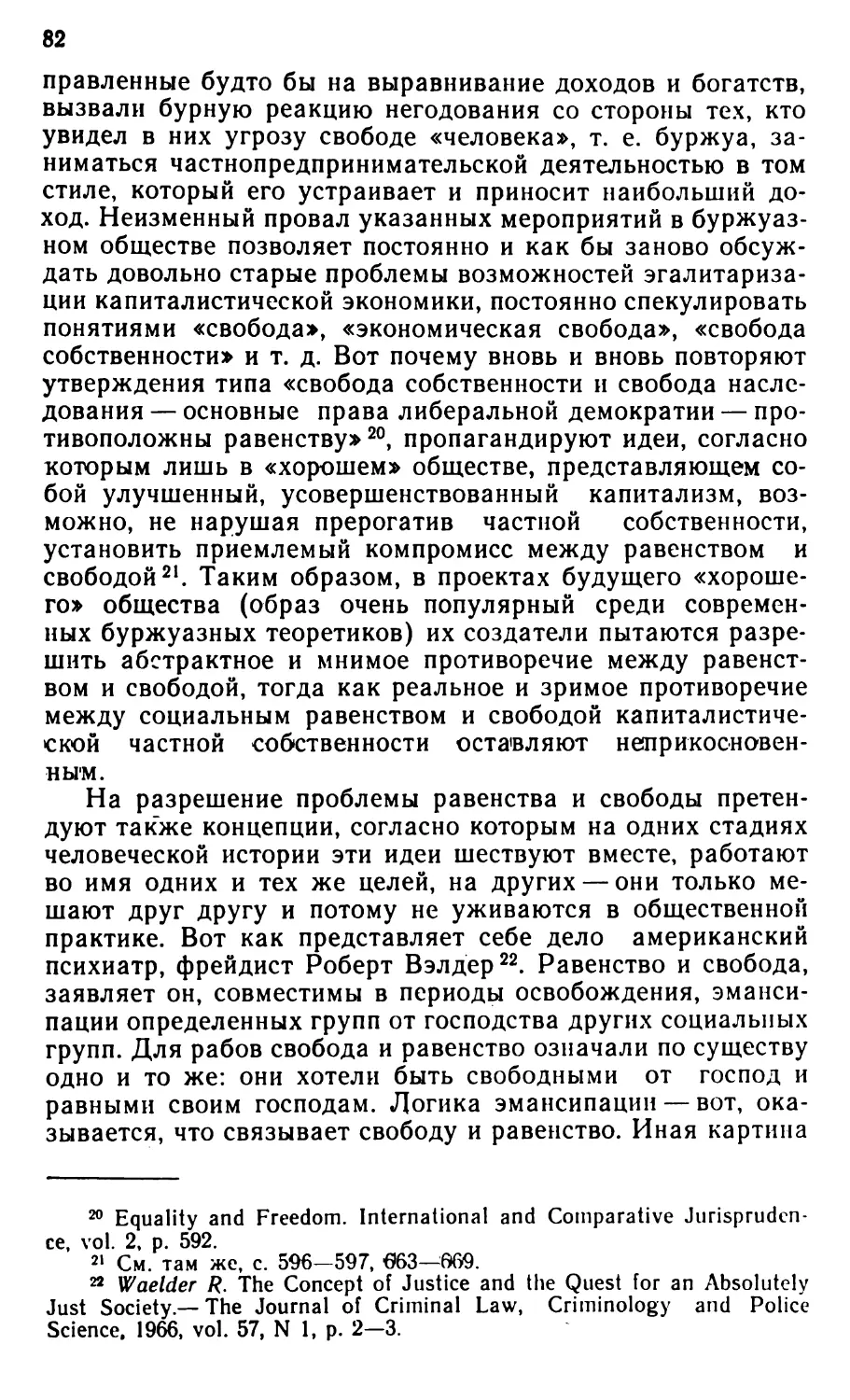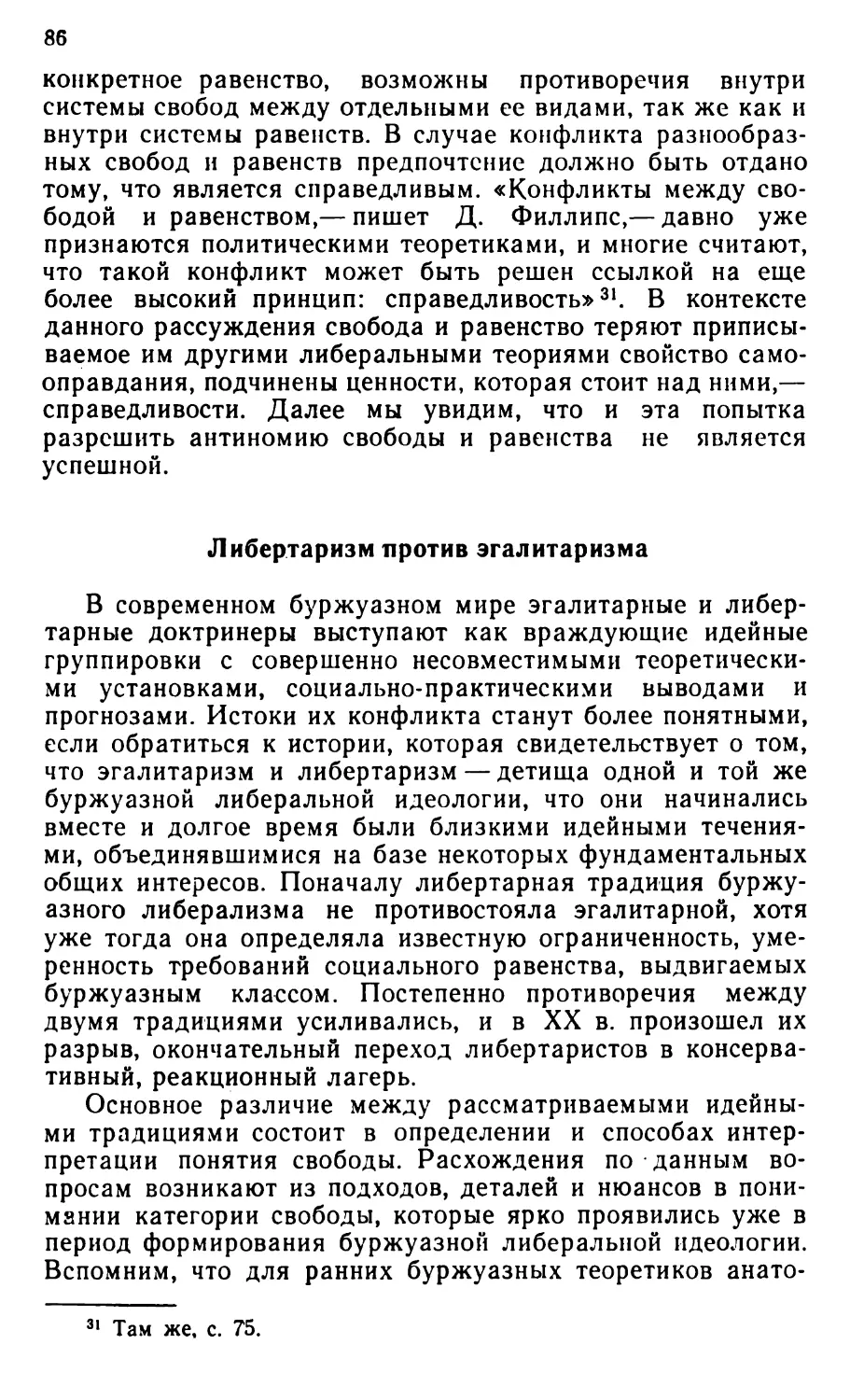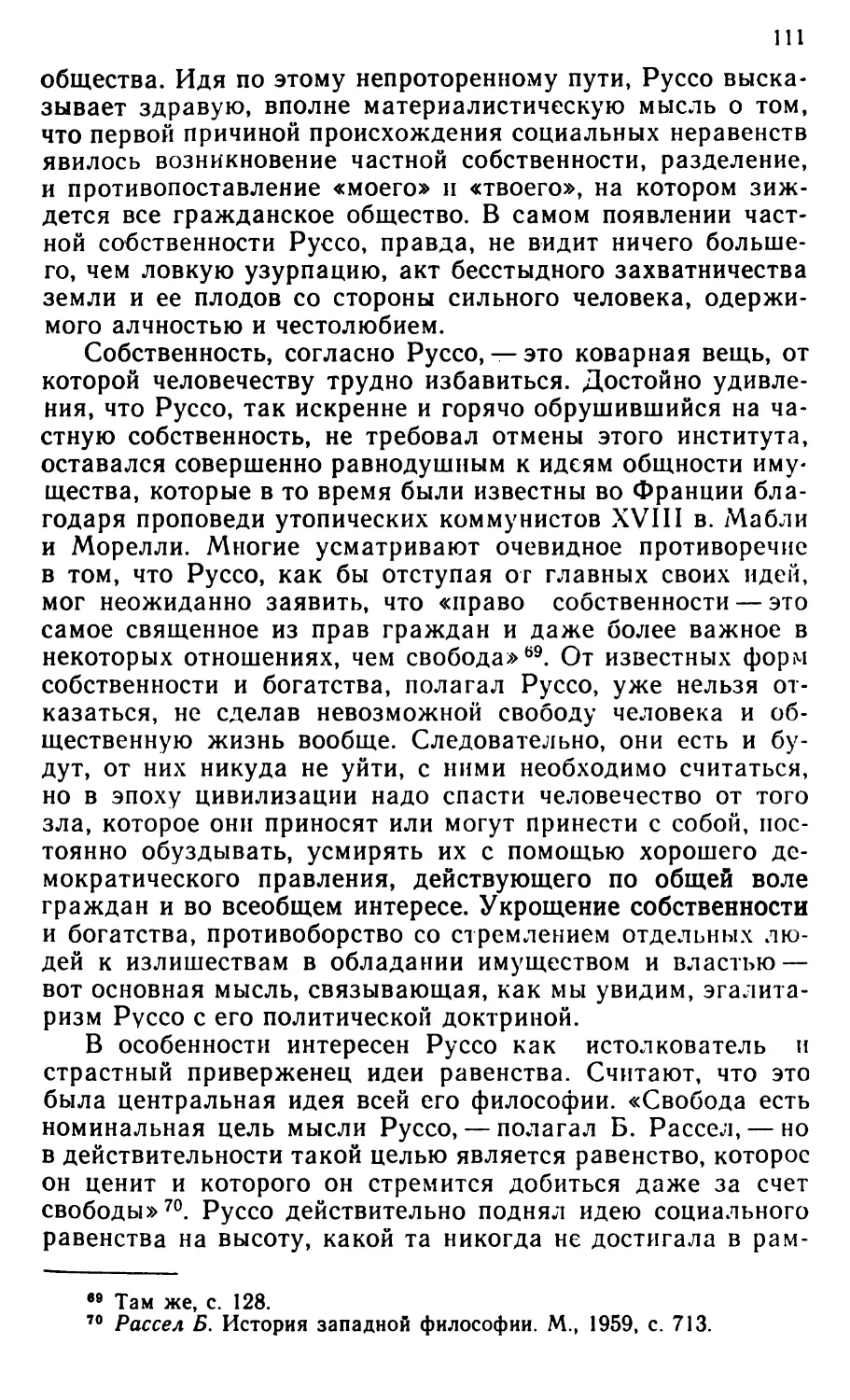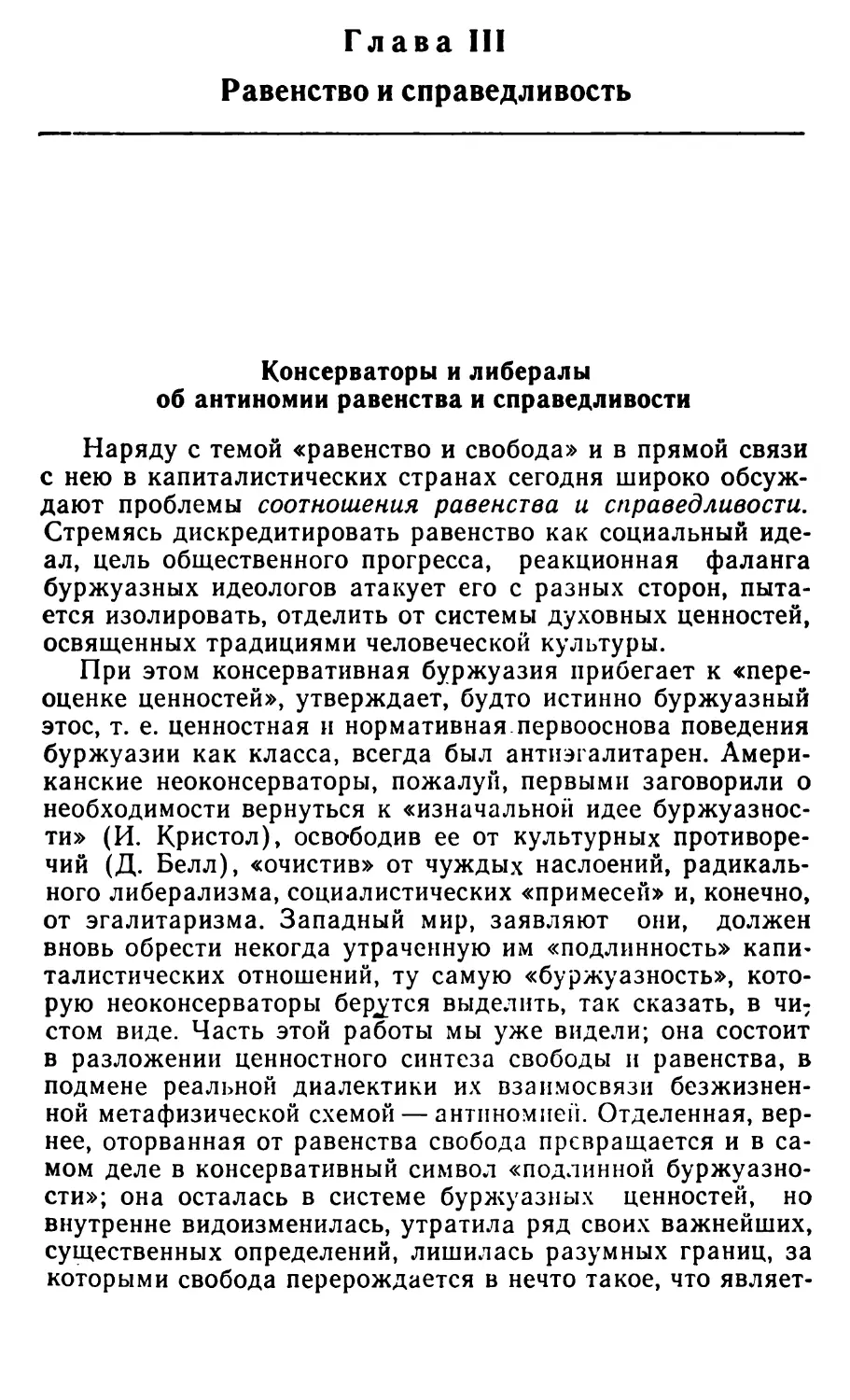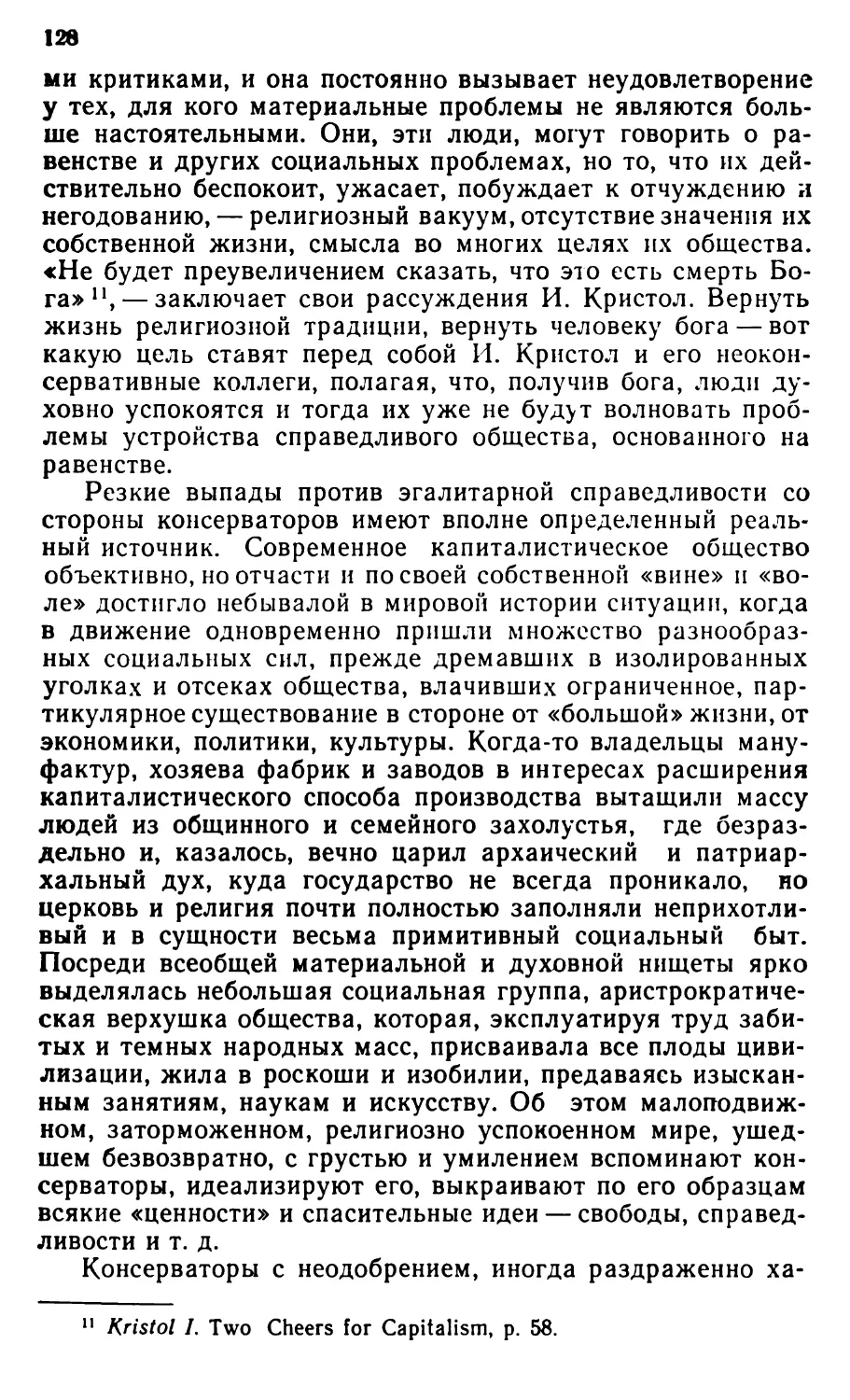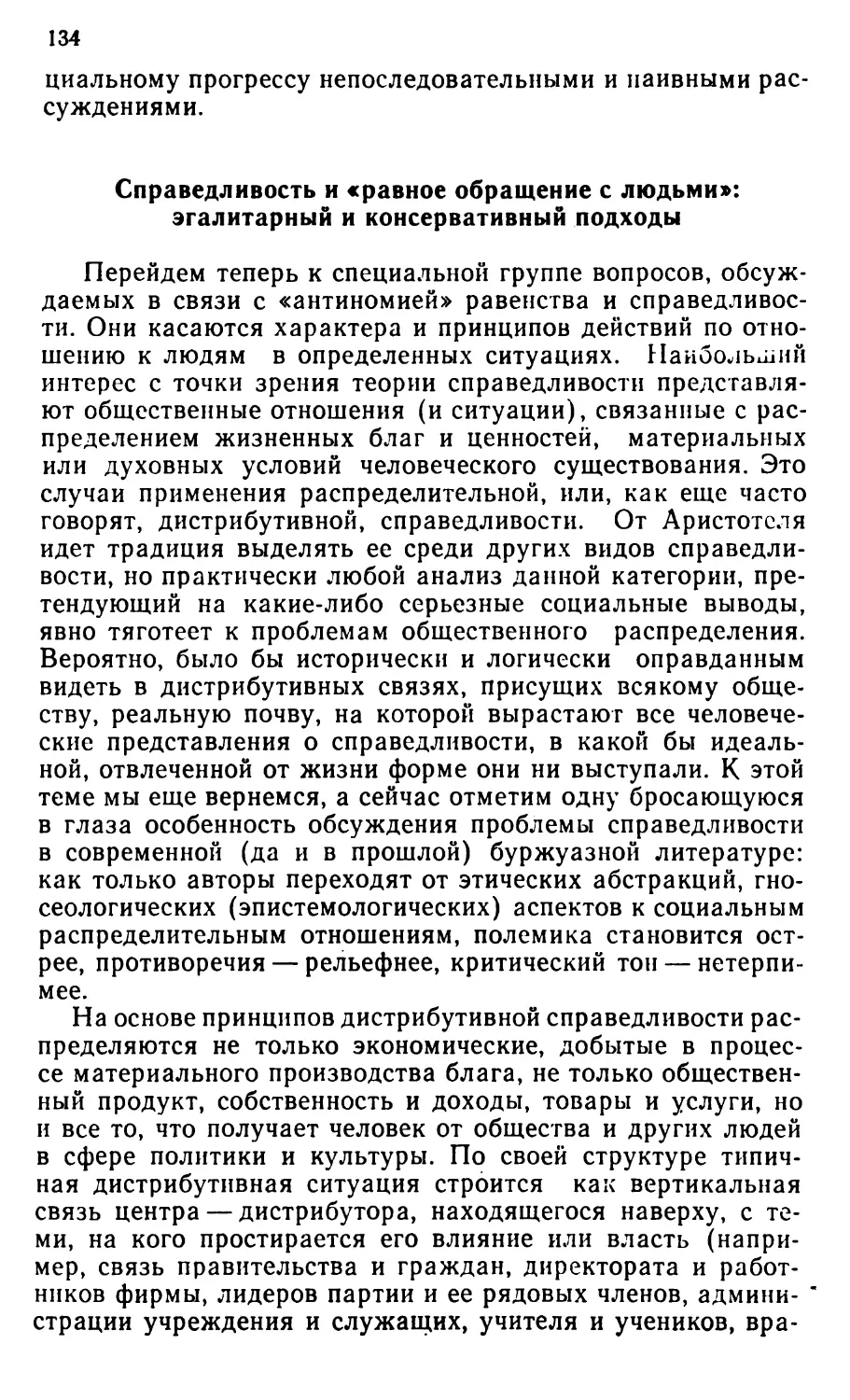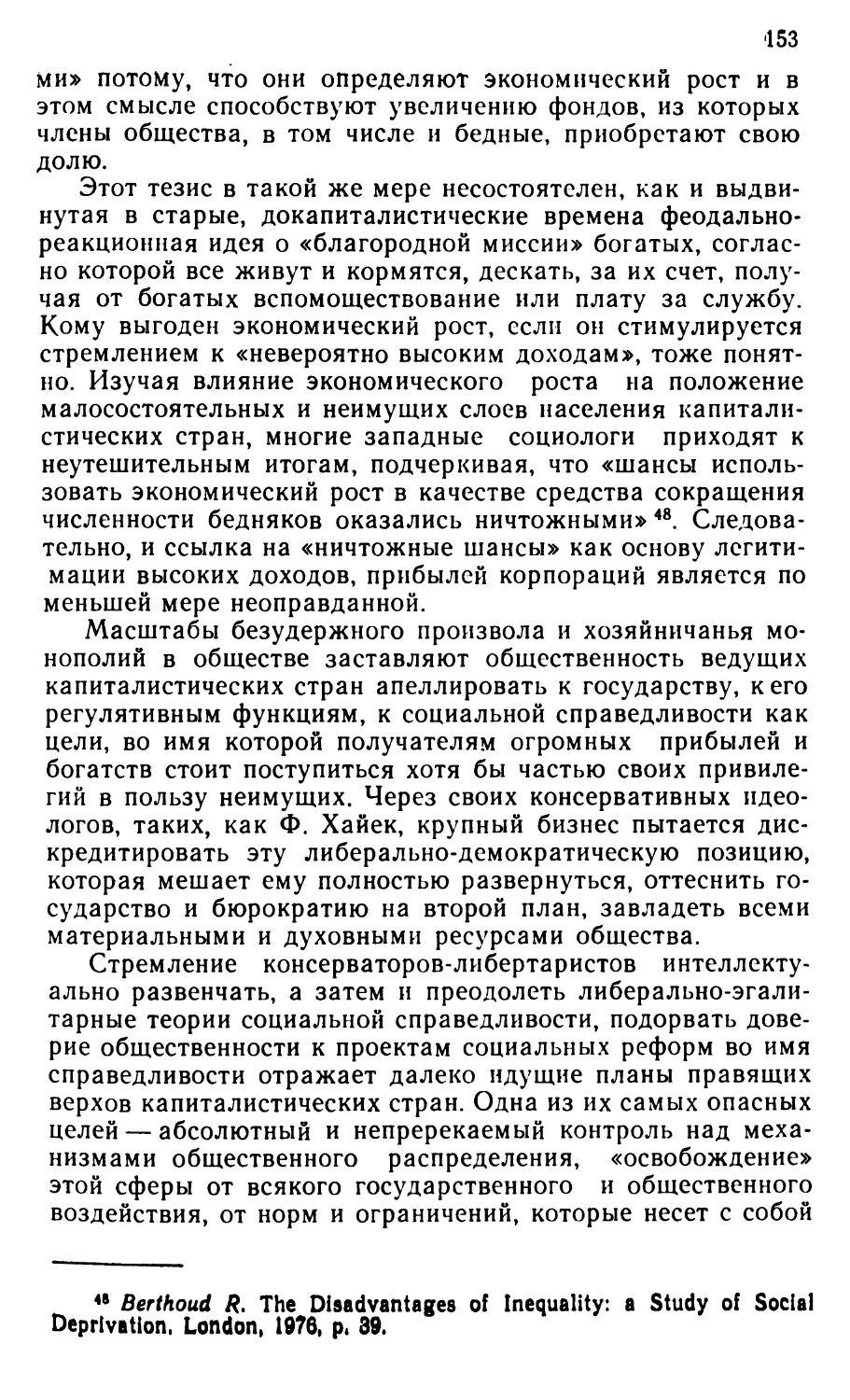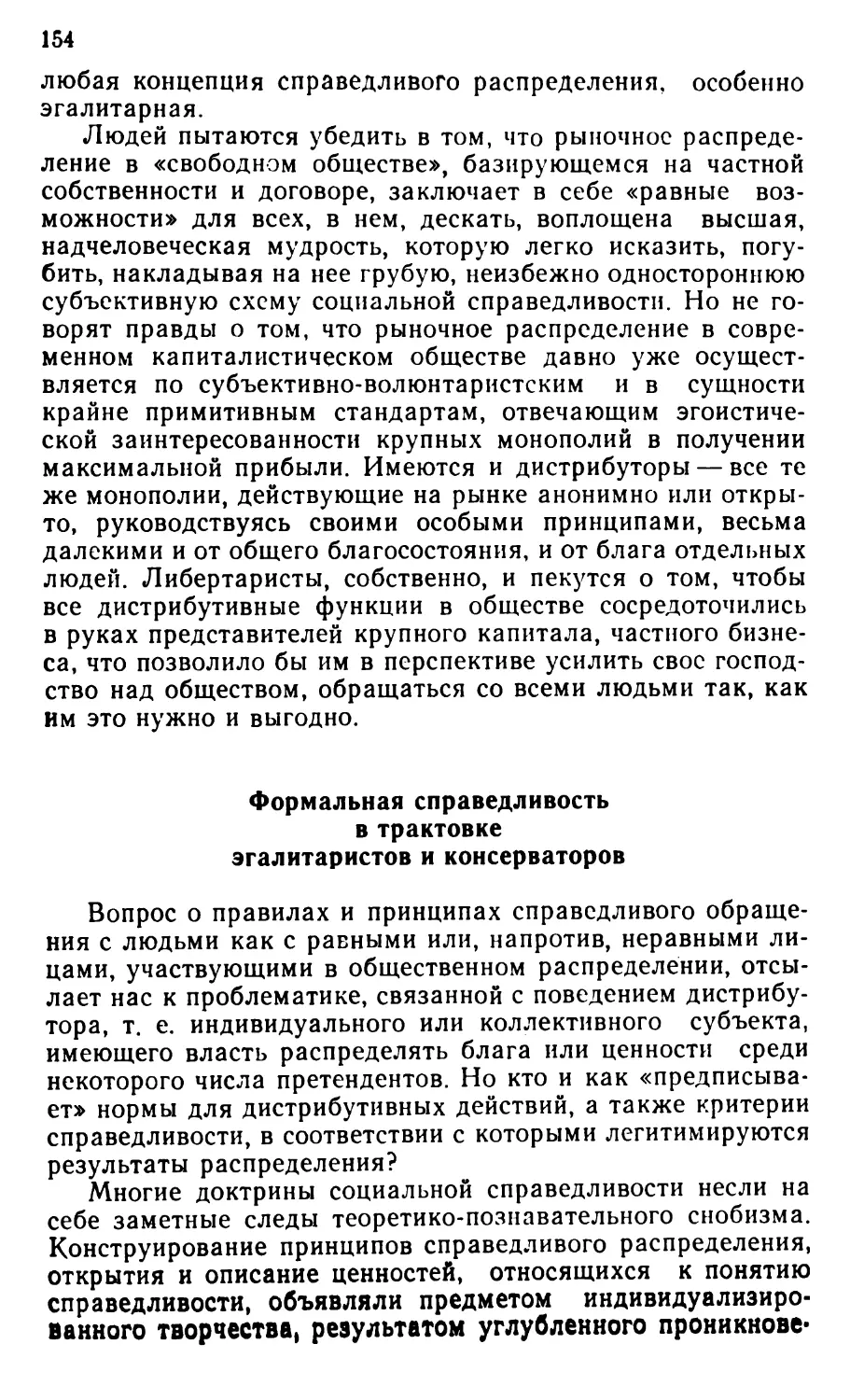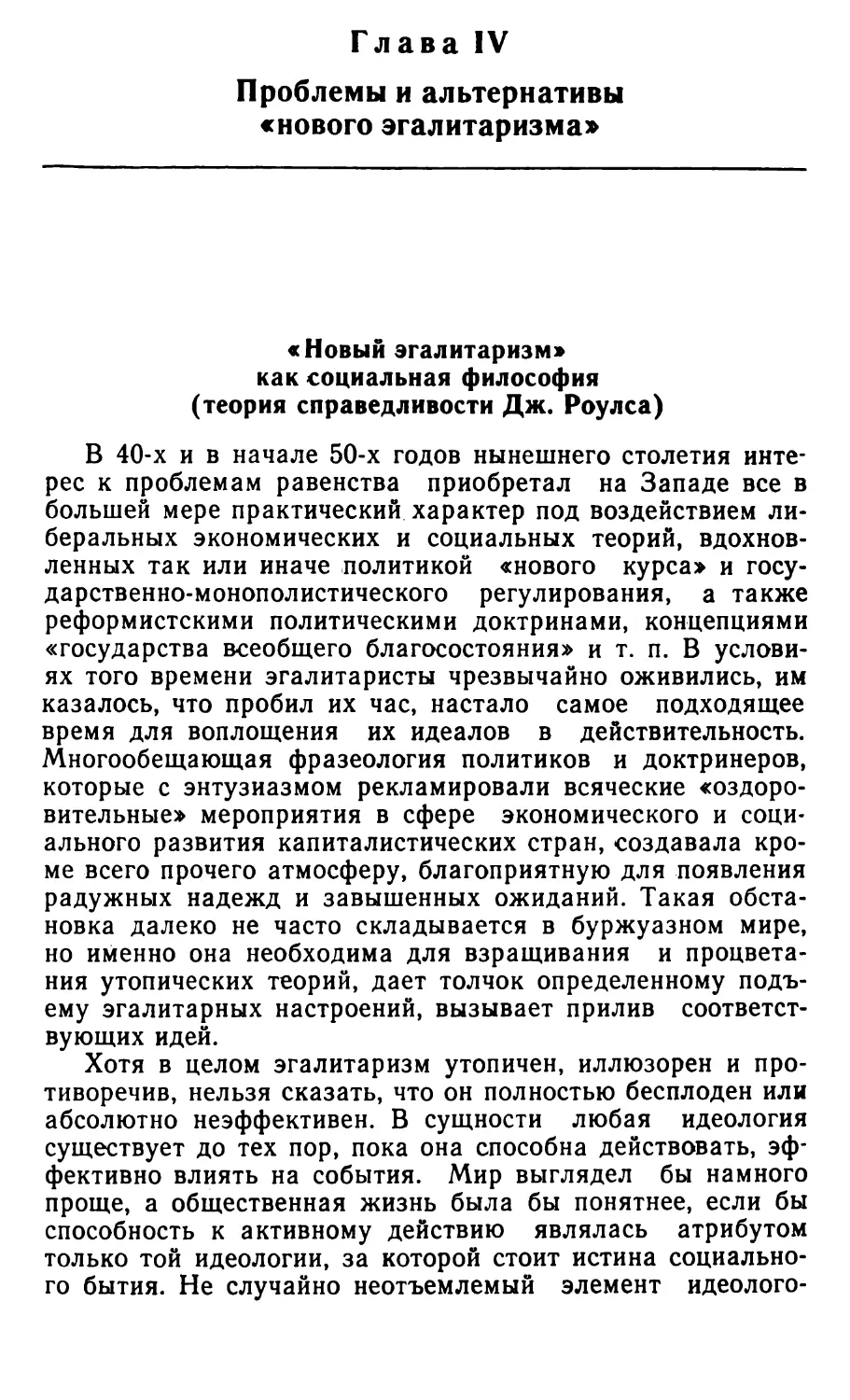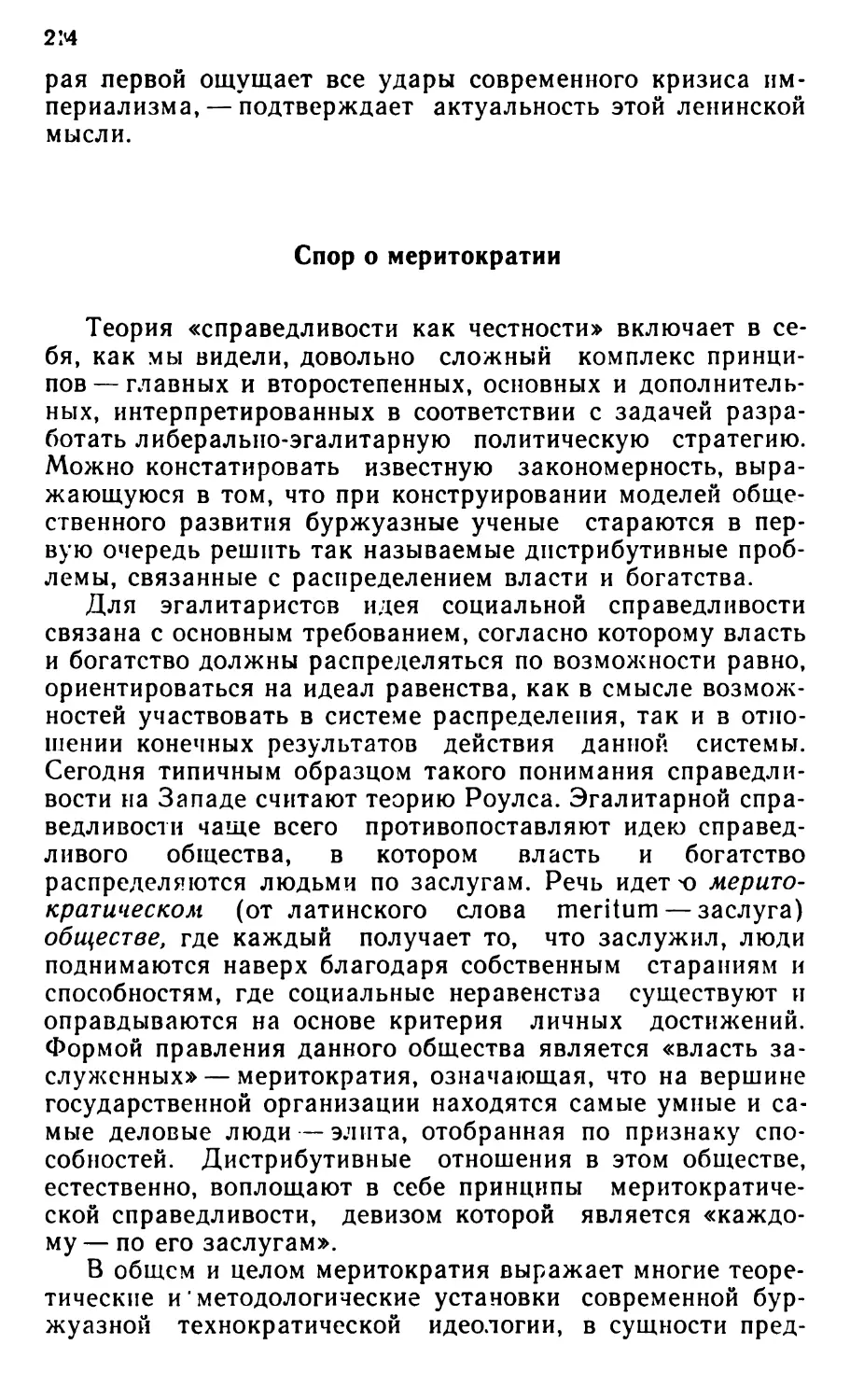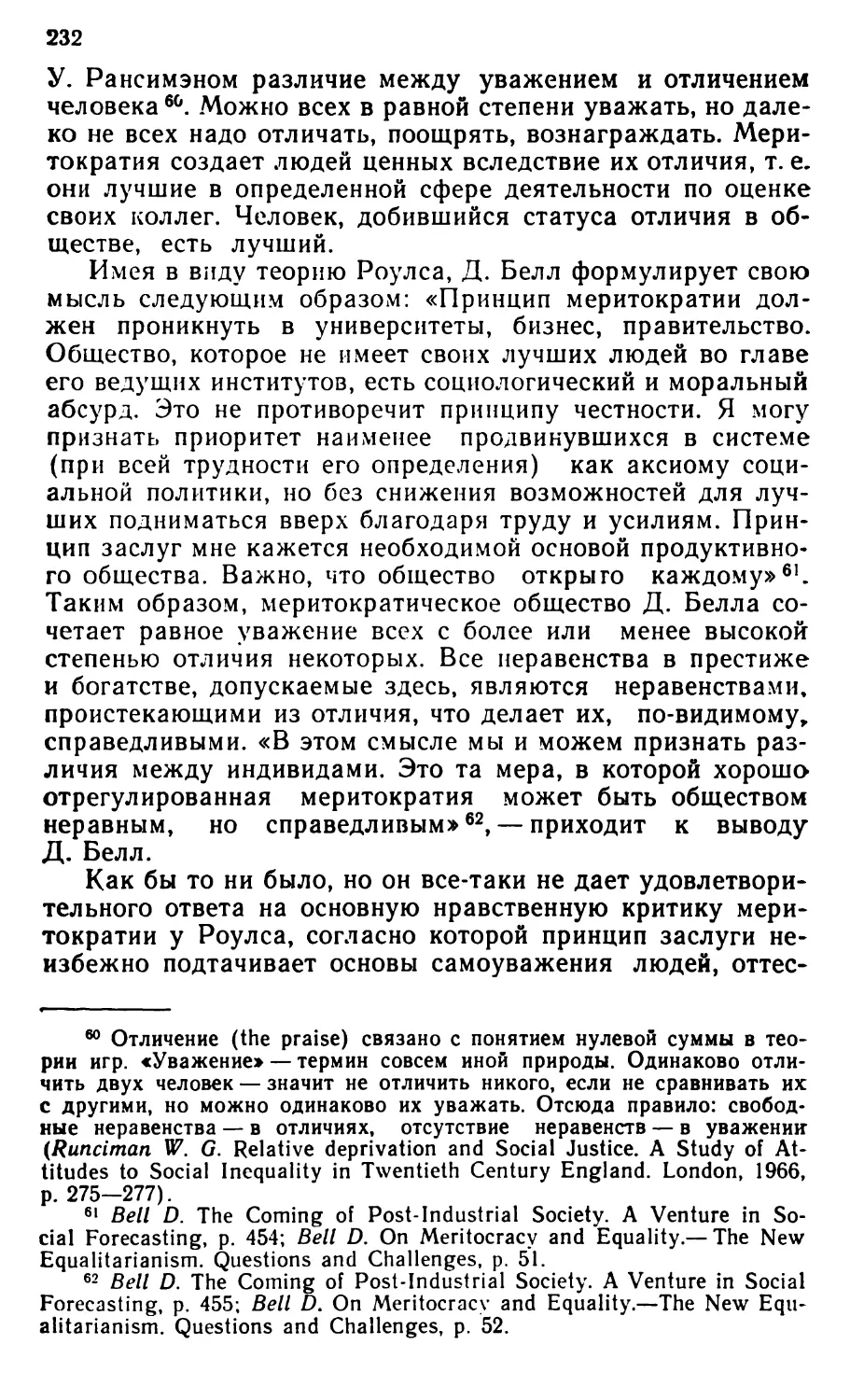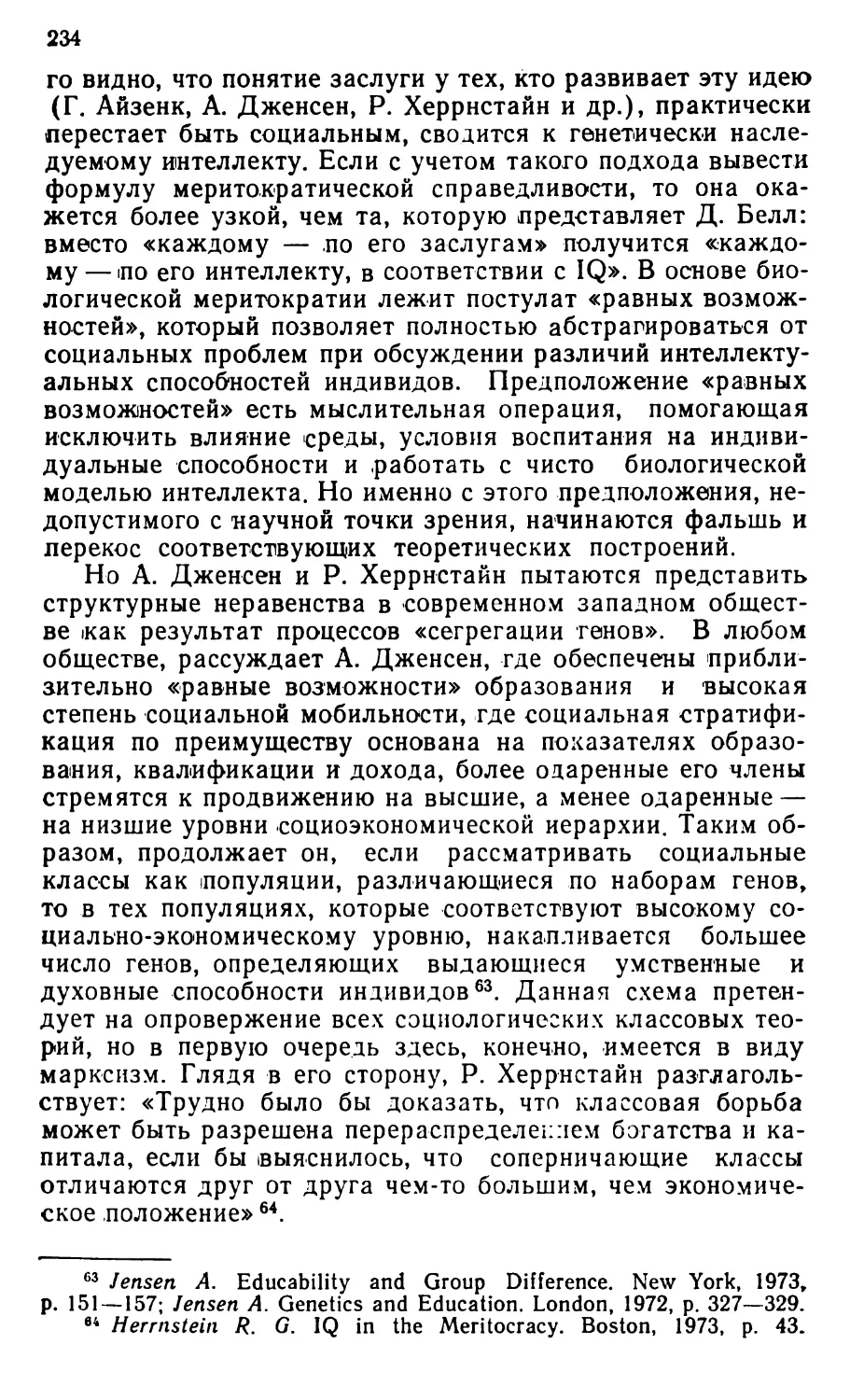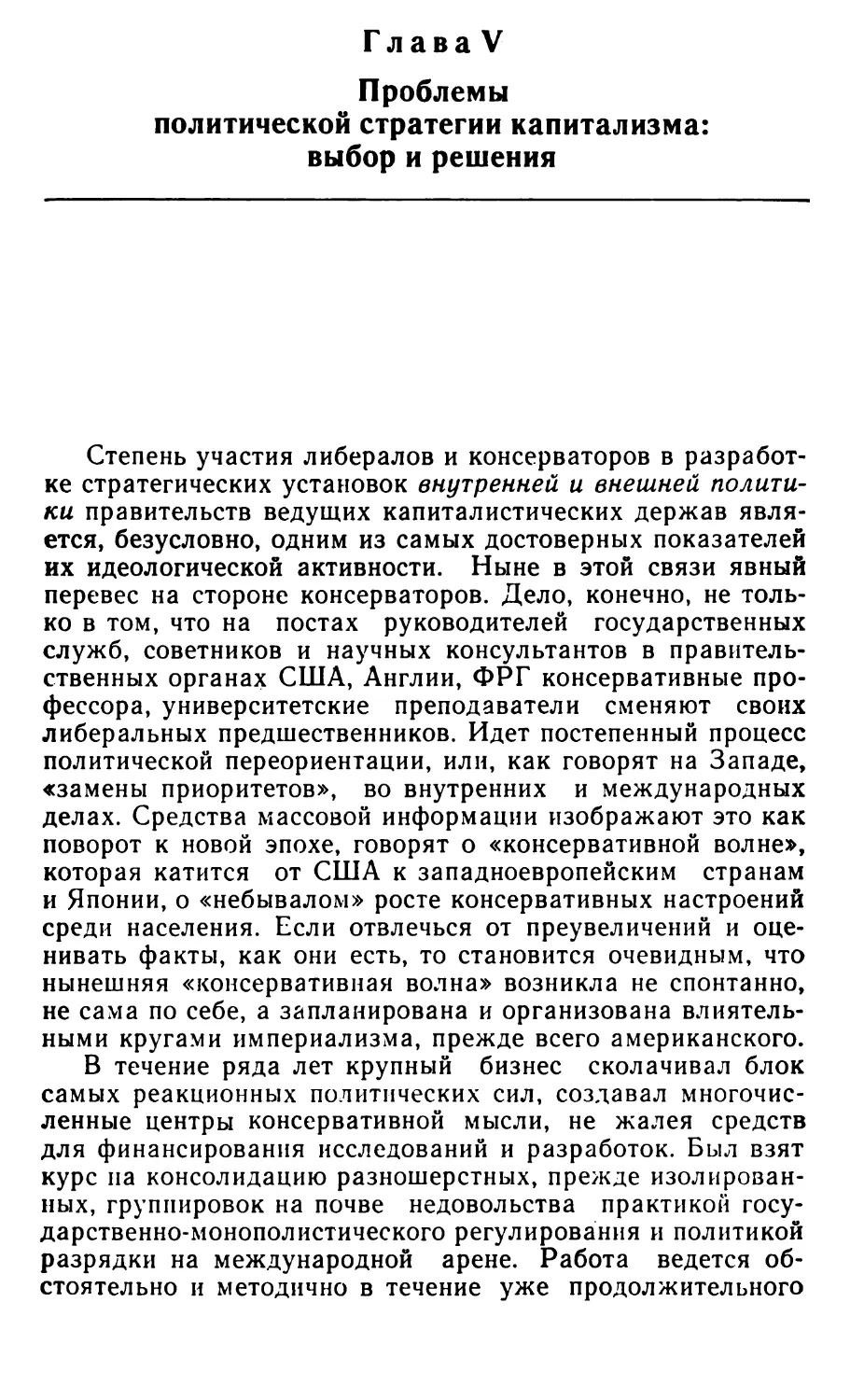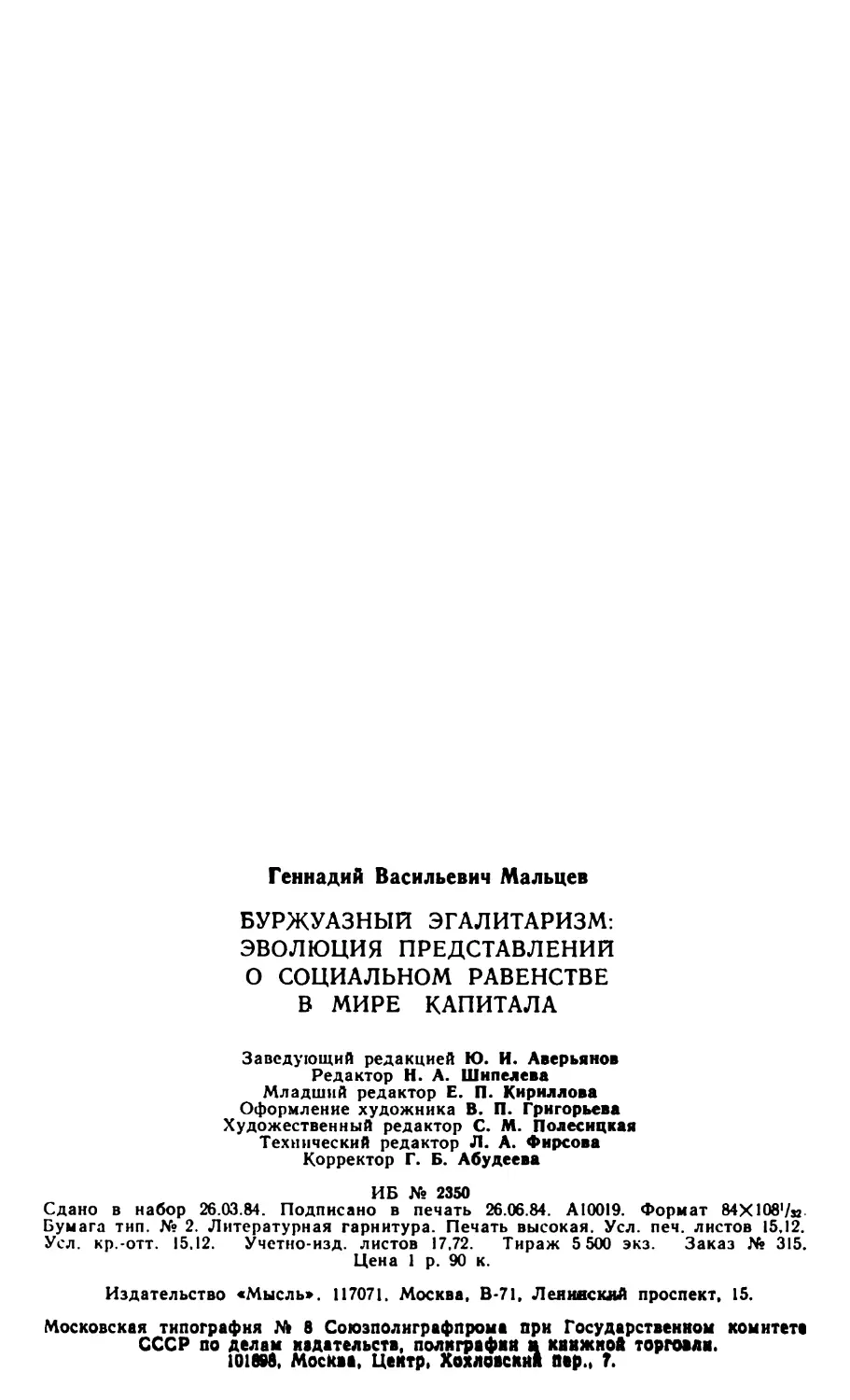Текст
КРИТИКА БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ И РЕВИЗИОНИЗМА
Г В.Мальцев
буржуазный эгалитаризм:
эволюция представлений
о социальном равенстве
в мире капитала
Москва сМысль»
1984
Введение
Вашему вниманию, уважаемые читатели,
представляется книга, посвященная острейшим проблемам достижения
подлинного равенства людей как индивидов, установления
классового равенства, равноправных отношений между
народами и нациями, государствами. С давних времен люди
ставят эти проблемы и ищут пути к их решению,
стремятся к справедливому и гармоническому устройству
общественных дел, при котором господствует не грубая сила, а
разум, не вражда и ненависть, а доброжелательность и
взаимопонимание, не угнетение и эксплуатация, а коллективное
сотрудничество ради социального прогресса,
благосостояния, мира и счастья всего человечества. Великие идеалы
свободы, равенства и братства вдохновляли мыслителей
прошлого на создание теорий, в которых, однако, было
много несбыточного, фантастического, вымышленного. Так
называемые утопии и иллюзии относительно социального
равенства, т. е. идеи, которые в силу социальных причин не
могли быть осуществлены на практике, вызывали и до сих
пор еще порождают в капиталистическом мире
разочарование и скепсис. Определенная часть современных
буржуазных идеологов, которая хотела бы законсервировать
существующие социальные неравенства среди людей и
народов, навсегда закрепить преимущества богатых,
демонстративно отрицает идеалы равенства, пытается возбудить у
общественности чувство антипатии к ним.
Вопросы о социальном равенстве в его классовом,
национальном, расовом, групповом, индивидуальном аспектах и
путях его достижения в современных условиях можно с
полным основанием отнести к числу глобальных проблем ми-
рового развития, которые широко затрагивают интересы
людей, живущих в социалистическом и капиталистическом
обществах, в развивающихся странах. Убедительным ответом
на эти вопросы является практика реального социализма,
преобразования и сдвиги в социальной структуре социалис-
-ББК 66.019
М21
РЕДАКЦИИ
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Рецензенты: доктор философских наук,
профессор 3. А. Бербешкина,
кандидат юридических наук,
доцент В. А. Савин
© Издательство «Мысль». 19*84
4
тического общества: постепенная ликвидация существенных
различий между классами и социальными группами,
сближение наций, усиление процессов, ведущих к социальной
однородности общества. При социализме установлено
равное отношение людей к средствам производства, ушло в
небытие самое тяжелое, одиозное и, казалось, извечное
неравенство, разъединявшее людей, — неравенство граждан в
их отношении к средствам производства. Это дало
возможность утвердить и успешно развивать начала равенства в
политике и социальной сфере, в культуре и быту, заложить
основы для создания социально однородных структур
практически во всех сферах жизни.
Марксисты-ленинцы никогда не тешили себя иллюзиями,
будто равенство есть легко достижимая цель, а
возникающие в ходе ее реализации проблемы можно решать с
молниеносной быстротой, посредством натиска, решительных
акций и одного лишь энтузиазма. К. Маркс, Ф. Энгельс и
В. И. Ленин, предвосхищая пути социалистического и
коммунистического строительства, не раз подчеркивали, что
предстоит упорная, кропотливая работа, что крайне
осмотрительная, осторожная политика должна устранять всякую
возможность появления, с одной стороны, привилегий и эли-
тизма, а с другой — нивелировки социального положения
граждан, грубой уравнительности. Социалистическая
программа достижения социального равенства рассчитана на
длительный срок, в рамках которого общество, опираясь на
объективные, прежде всего экономические, закономерности
социализма, поднимается на высокий уровень развития,
делающий возможным равенство людей в
марксистско-ленинском его понимании.
Какими бы значительными ни были достигнутые
результаты, обнадеживающими — перспективы, пока еще ни одна
из социалистических стран, включая СССР, не пришла к
полному социальному равенству, о котором говорили
классики марксизма-ленинизма. И дело здесь, конечно, не в
расхождении идеала с действительностью, как кое-кто
утверждает сегодня на Западе. Сложный и безусловно не
лишенный внутренних противоречий процесс претворения в жизнь
коммунистического идеала равенства идет полным ходом, но
еще многое надо сделать, обеспечить, создать, построить и
т. д. «У нас все имеют равные права и равные обязанности
перед обществом, — говорилось на июньском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС. — Полное же равенство в смысле
одинакового пользования материальными благами будет
возможно лишь при коммунизме. Но до этого еще предстоит
пройти долгий путь. Тут требуется гораздо более высокий
5
уровень и экономики, и сознания людей»1. Исключительно
важной и ответственной задачей является воспитание
нового человека, способного достичь вершин совершенства,
расцвета собственной индивидуальности в социально
однородной среде будущего. То, к чему стремятся марксисты-
ленинцы, есть равенство всесторонне развитых людей,
духовно богатых личностей, каждая из которых свободно и
сознательно творит себя на свой образец.
Иногда по невежеству, но чаще со злым умыслом
коммунистам приписывают стремление построить общество,
которое в соответствии с идеалами социального, равенства
«штампует» одинаковых, единообразных людей, низводит
человека до бессодержательной частицы социального
целого. Все это, конечно, очень далеко от истины. Главное, что
характеризует коммунистический идеал равенства, — это
освобождение человека от рамок и ограничений, связанных с
существованием классов, обособленных общественных
групп, наций, предоставление за счет этого самого
широкого простора индивидуальному совершенствованию личности.
Социальное равенство для коммунистов — это прежде всего
равенство классов, полное и решительное преодоление
классовых различий, негативных последствий для индивида
деления общества на классы. А так как коммунистическое
общество— коллективистское, то возможности свободно
развивать все стороны своей индивидуальности будут
одинаковыми для всех, принадлежать в полной мере всем вместе
и каждому в отдельности, в чем и состоит высокий
освободительный смысл коммунистического равенства.
От фальсификации коммунистического идеала
равенства буржуазная пропаганда прямым путем идет к
извращению средств и результатов политики социалистических
государств, направленной на практическую реализацию
указанного идеала. Тот факт, что социализм достиг
значительно большей степени социального равенства между людьми,
чем, согласно «смелым» эгалитарным теориям, это
возможно при капитализме, служит основанием для утверждения,
будто социалистические страны, особенно Советский Союз,
пришли к некоему типу общества, в котором все усреднено
и обезличено. Одна часть буржуазных идеологов «ругает»
социализм за то, что он ввел «слишком много равенства»,
указывает на него как на пример «губительного» действия
всякого рода «уравнительных доктрин». Другая, наоборот,
доказывает, что в социалистических государствах нет ни-
1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14—15 июня
1983 года. М, 1983, с. 12.
6
какого равенства. Спекулируя на известных фактах, на
том, например, что в СССР работники получают
неодинаковую заработную плату и имеют неодинаковые доходы, по-
разному участвуют в общественных делах и т. д., они
делают далеко идущие выводы о нарождении «нового
правящего класса», формировании социальной иерархии при
социализме и т. п. Независимо от того, «много» или «мало»
равенства усматривают буржуазные идеологи в
социалистических странах, они во всех случаях раздраженно и
нетерпимо обрушиваются на теорию и практику реального
социализма. Это лишний раз подчеркивает тенденциозность
антикоммунизма, его предвзятость, полную оторванность
соответствующих оценок от действительного положения дел
в социалистическом мире. Непредубежденному человеку на
Западе порой трудно бывает разобраться в путанице
противоречивых, часто взаимоисключающих утверждений,
нагромождений, подтасовок, искаженных фактов,
выдаваемых буржуазной идеологией и пропагандой за
объективную информацию о социализме.
Заметным фактором, оказывающим влияние на
идеологическую борьбу между социализмом и капитализмом, на
духовную жизнь и социально-политические структуры
буржуазного общества, в последние годы становится конфликт
между эгалитаристами, исповедующими в той или иной
форме веру в социальное равенство при капитализме, и
консерваторами — принципиальными противниками
эгалитарных идей. И тот и другой лагерь западных идеологов
отражает, каждый по-своему, непоследовательность и
противоречивость отношения класса капиталистов к равенству,
которое некогда было начертано на знамени буржуазных
революций. Остро обсуждая вопросы о социальном
равенстве, равноправии, свободе, справедливости, правах
человека, о государстве и т. д., эгалитаристы и консерваторы
спорят не только между собой. Нынешние нападки на
эгалитаризм и в целом либеральную идеологию, которую
В. И. Ленин много раз характеризовал как нерешительную,
половинчатую идеологию колеблющихся слоев буржуазии,
ведутся с дальним прицелом и направлены в конечном
счете против социалистических идей, социализма.
В воображении современного консерватора чуть ли не за
каждой эгалитарной конструкцией, за эгалитаризмом как
идейным течением на Западе встает «роковой» для него
образ социализма, марксизма. В консервативной печати
дело нередко доходит до полного отождествления
социалистических и эгалитарных идей. Утверждают, например, что
марксизм-ленинизм представляет собой не что иное, как
типичную эгалитарную доктрину, проникнутую ярко
выраженным пафосом уравнительности; в идеологическом
обороте находятся такие выражения, как «марксистский» или
«советский» эгалитаризм. Достаточно какому-нибудь
американскому или западноевропейскому автору выдвинуть
проекты эгалитаризации отдельных сфер
капиталистических общественных отношений, высказаться за социальное
равенство как цель правительственных реформ, чтобы он
прослыл сторонником социализма, навлек на себя
подозрения в симпатиях к марксизму. Так или иначе, но сегодня
актуализируется вопрос о том, существует ли какая-либо
действительная связь между марксизмом-ленинизмом, с
одной стороны, и эгалитаризмом — с другой, есть ли у них
что-либо общее.
Эгалитарной является всякая идея, направленная на
утверждение равенства между отдельными людьми и
социальными группами, т. е. идея, несущая в себе позитивный
уравнительный смысл, а не просто сведенная к отрицанию
существующих общественных неравенств. Буржуазный
позитивный идеал равенства исторически складывался в
процессе формирования и развития либеральных идеологий,
поэтому эгалитаризм (от французского слова egalite —
равенство) можно считать одним из крупных идейных течений
внутри либерализма, специфической разновидностью
последнего. Все эгалитарные идеи — добуржуазные
(например, христианские), мелкобуржуазные и собственно
буржуазные— несут на себе отпечаток стремления идеологов
мобилизовать «духовную мощь» общества и его волю
против нищеты и богатства, произвести «переворот в сознании»
в пользу равенства всех людей. Отсюда очевидно, что
равенство, отраженное в таких идеях, не могло иметь никакого
иного, кроме как идеалистического и утопического облика,
было предметом скорее мечты и верования, чем истинно
научной рефлексии. Опыт учит, что эгалитарные идеи сплошь
и рядом оборачиваются иллюзиями, периоды увлечения
которыми неизбежно сменяются временами горьких
разочарований в некогда безмерно превозносимых идеалах. В этой
связи можно сказать, что эгалитарный образ мышления в
эксплуататорских обществах влечет за собой, стимулирует
и идейно питает консервативный антиэгалитаризм.
Эгалитаризм представляет собой направление
буржуазно-либеральной мысли, которое разрабатывает утопические
проекты достижения социального равенства в
капиталистическом обществе с помощью реформ экономического и
политического характера при сохранении основ
капиталистического способа производства, частной собственности на
8
средства производства и капитал. Современный
эгалитаризм (в том виде, в каком он складывался и развивался на
протяжении долгого времени) есть феномен
капиталистического общества, мелкобуржуазной и буржуазной идеологии,
и в качестре такового он не может быть отождествлен с
марксизмом. Укажем на основные причины их
несовместимости.
Ведущим принципом эгалитарных доктрин является
индивидуализм, в соответствии с которым социальное
равенство рассматривают как проблему личностную по
преимуществу. Своей главной заботой эгалитаристы считают
выравнивание социальных статусов отдельных лиц. При этом
они исходят из предположения, что равенство
общественных групп и классов может быть обеспечено автоматически,
"если будет достигнуто состояние равенства среди индивидов.
Марксистско-ленинская, социалистическая концепция,
напротив, акцентирует проблемы классового равенства, видит
в ликвидации классовых противоположностей и
существенных различий путь к установлению справедливых
отношений в обществе, совершенствованию личности как носителя
подлинно коллективистских ценностей и черт. Попытки
решать проблемы социального равенства отдельно для
каждого человека являются внутренне противоречивыми и
обреченными на неудачу. Лозунги социального равенства
только тогда практически чего-нибудь стоят, если они обращены
к классам, большим общественным группам и рассчитаны
на силы, реальные возможности данных групп.
Социалистическое понимание перспектив установления
социального равенства в обществе неотделимо от
марксистско-ленинского, классового подхода к общественному
развитию. Что касается эгалитаристов, то они предпочитают
обсуждать указанные перспективы в
абстрактно-социологическом духе. Вот почему эгалитарная мысль скользит по
поверхности, не способна разобраться в причинах
общественных неравенств и, следовательно, выработать программу
достижения равенства. Упорное нежелание считаться с
ролью частной собственности на средства производства в
формировании классовых неравенств ставит эгалитаризм
на грань утопии.
Для эгалитарного мышления свойственно
абсолютизировать идею равенства, вычленять ее из общей системы
социальных ценностей и целей, превращать в самодовлеющую
проблему елмманентной логикой и особым значением.
Марксизм-ленинизм относится к социальному равенству
как к одной из ведущих, определяющих черт социализма и
будущего коммунистического общества. Равенство с точки
9
зрения марксизма-ленинизма может быть достигнуто
вместе z решепгем всех других проблем социалистического и
коммунистического строительства, в результате
согласованного развития экономики, политики, культуры,
развертывания объективных процессов усиления социальной
однородности общества.
Как правило, эгалитаристы пытаются иметь дело с
«вечными истинами» о равенстве, заняты поиском спасительных
рецептов преодоления социальных неравенств. Каждое свое
«открытие» они считают действительным и применимым во
все времена и во всех случаях. Как отмечал Ф. Энгельс,
«представление о равенстве, как в буржуазной, так и в
пролетарской своей форме, само есть продукт исторического
развития; для создания этого представления необходимы
были определенные исторические условия, предполагающие,
в свою очередь, долгую предшествующую историю. Такое
представление о равенстве есть, следовательно, все что
угодно, только не вечная истина»2.
Равенство в его эгалитарной интерпретации есть продукт
рационализации существующих общественных структур,
торжество человеческого благоразумия, плод субъективных
усилий, улучшений. Эгалитаризм на Западе исторически
сросся с буржуазным реформизмом и в принципе глубоко
антиреволюционен. В этом отношении очевидна абсолютная
несовместимость эгалитарных идей с
марксизмом-ленинизмом, самой революционной наукой и идеологией в
современном мире. Неразрешимое внутреннее противоречие
буржуазного эгалитаризма состоит в том, что он признает
социальное равенство как цель общества, но отвергает
адекватные данной цели революционные средства. Эта тема
получит развитие в нашей книге.
Итак, внеклассовость, идеализм, утопизм, внеисторич-
ность, волюнтаризм, реформизм — вот те черты
эгалитарного образа мышления на Западе, которые исключают
возможность говорить о какой-либо близости его к
социалистическим представлениям о равенстве. Марксизм-ленинизм
«не эгалитарен», так же как в современном буржуазном
эгалитаризме было бы тщетно искать прямое сходство с
марксизмом.
Тем не менее марксистам-ленинцам судьба
эгалитаризма на Западе далеко не безразлична. В ведущих
капиталистических странах сегодня много говорят и пишут о
столкновении либерально-реформистских, эгалитарных доктрин,
оказавшихся на деле малоэффективными, во многом не-
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 108—109.
10
жизнеспособными, с неоконсерватизмом, поднимающейся
новой идеологией правящих верхов, которые в нынешних
условиях предпочитают укреплять свое политическое
господство не демагогическими фразами и обещаниями реформ,
а прямым насилием, опираясь на диктаторские методы,
современную технику физического и духовного подавления
людей. С углублением кризиса капиталистического
общества империалистические силы становятся все более
реакционными и агрессивными, и эту тенденцию в полной мере
выражает консерватизм. Растущему буржуазному
антиэгалитаризму, реакции против идеологий и движений за
социальное равенство и равноправие очень важно на
международной арене противопоставить твердую убежденность
мировой общественности, четкое и ясное сознание того, что
равенство людей, классов, народов, наций, рас возможно и
достижимо, что наша эпоха — эпоха революционных
преобразований и научно-технического прогресса — создает для
этого предпосылки и средства, которыми человеческое
общество никогда раньше не располагало. Одна из основных
идей данной книги состоит в том, что установление
равноправных отношений и равенства между людьми и народами
есть реальная и животрепещущая проблема современности.
Очевидно и то, что она не может быть решена без учета
глобальных факторов, связанных с существованием в мире
двух противоположных социальных систем — социализма и
капитализма, противоборством между ними.
Глава I
Либерально-эгалитарные
и консервативные представления
о социальном равенстве
Основные позиции и установки
Значение эгалитаризма и его идей в современном
капиталистическом мире невозможно оценить без учета тех
противоречий, которые характеризуют развитие буржуазной
идеологии XX в., и в особенности нынешних дискуссий
между либеральными и консервативными теоретиками на
Западе. Первое, что необходимо выяснить в этой связи, — каково
соотношение эгалитаризма и буржуазного либерализма,
имеющего давние идейные традиции, в чем коренится
противоположность либерально-эгалитарных подходов к
некоторым социальным проблемам и альтернативных решений,
выдвигаемых различного рода консервативными теориями в
США и других капиталистических странах.
Далее мы будем специально говорить об основных
вариантах буржуазного эгалитаризма, рассматривать идеи
социального равенства (и неравенства), которые стали частью
ортодоксального буржуазно-либерального мировоззрения
на стадии государственно-монополистического развития
капитализма. Следует отметить, что на эгалитаризме
изначально лежит печать мелкобуржуазного происхождения,
что его источником всегда были в основном эмоциональные
реакции мелкобуржуазных слоев населения на
экономический и политический деспотизм господствующих верхов. Но
в наше время эгалитарные устремления основываются
далеко не на одних эмоциях и поддерживаются не только
мелкой буржуазией, постоянно «обиженной» неравенствами и
несправедливостью капиталистического мира.
Суть исторической эволюции эгалитарных идей на
протяжении последних двух столетий состоит, пожалуй, в том,
что они вышли за рамки мелкобуржуазных идеологий,
приобрели известное значение в теориях «рационализации»
капиталистических общественных отношений, вросли в иде-
12
ологию и тактику буржуазного реформизма, оказались
инкорпорированными не только в либеральные модели
развития общества, но и в некоторые социальные программы,
принятые официально на правительственном уровне
(например, программа «великого общества» и «войны с бедностью»
в США, «народного капитализма» и «формирования
собственности» в ФРГ и т. д.). Основываясь на опыте
капиталистического развития в текущем столетии, мы можем
сказать, что эгалитаризм уже не есть чисто мелкобуржуазная
установка. Сегодня это феномен буржуазной идеологии,
совокупность инструментальных социально-политических и
иных идей, часто используемых в политической практике
капитализма в целях сохранения буржуазного общественного
строя и обеспечения его «лучших» перспектив.
Не все либеральные идеологии являются эгалитарными,
но вес разновидности буржуазного эгалитаризма
базируются на либеральном мировоззрении и противостоят
консерватизму. Либерализм и консерватизм никогда не
представляли собой четко оформленных идеологических течений
внутри буржуазного общества. Это скорее всего особые
пути развития буржуазного самосознания, системы
мировоззрения, из которых следуют теоретические и практические
установки, идентифицируемые обычно как либеральные или
консервативные. Они представляют две противоположные
системы измерения политики, к которым может обращаться
правящая элита в зависимости от конкретных исторических
условий. «...Буржуазия во всех странах, — писал В. И.
Ленин,— неизбежно вырабатывает две системы управления,
два метода борьбы за свои интересы и отстаивания своего
господства... Это, во-первых, метод насилия, метод отказа
от всяких уступок рабочему движению, метод поддержки
всех старых и отживших учреждений... Второй метод —
метод «либерализма», шагов в сторону развития
политических прав, в сторону реформ, уступок и т. д.»1.
Консервативный и либеральный методы, как мы видим, контрастны
и как будто бы исключают друг друга, но служат они
одной цели — сохранению классовых структур буржуазного
общества и господства капитала.
Как идеологическое течение буржуазного типа
либерализм всеми своими корнями уходит в эпоху Просвещения и
антифеодальной борьбы. Либерализм в качестве доктрины
и политического движения (либеральные партии), считают
некоторые западные авторы, возник в Англии во время
гражданской войны 1640-х годов из попыток заставить ко-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 67.
13
ролевскую власть и церковь уважать личность буржуа, его
индивидуальные права и свободу, оградить частную
собственность от ограничивающего воздействия государства2. В
XVIII — начале XIX в. в основном сформировались
ведущие теоретические постулаты либерализма применительно
к условиям экономической жизни и политики.
Классический либерализм, ключевыми фигурами которого были
Д. Локк в Англии и Вольтер во Франции, выступал за
ограничение государственного вмешательства в
частнохозяйственную сферу, конституционные гарантии свободы
совести, за политическую и религиозную терпимость, отстаивал
идею «господства права», понимаемую в широком смысле
как безусловную доминацию правового начала на
капиталистическом рынке и в области государственного
управления.
Несколько иначе были расставлены акценты в
социальных требованиях либерализма «laissez-faire», который
настаивал на полном отделении экономики от политики и
политического влияния, исходящего от государств и
правительств. Рынок, полагали представители данного
либерального течения, должен быть предоставлен самому себе и
развиваться на базе саморегуляции в соответствии с
законом спроса и предложения. Индивиду необходимо
обеспечить свободу вступать в соглашения с другими субъектами
на равных основаниях без всяких внешних, в том числе и
правительственных, ограничений. Поэтому истинная цель
и назначение государства — быть «ночным сторожем»,
охранять частнокапиталистические отношения, систему
свободной рыночной конкуренции, обеспечивать силу и
надежность договоров, заключаемых частными лицами, и, наконец,
гарантировать личную безопасность граждан. Политическая
система общества в таком случае сводилась к весьма
скромному, «полицейскому» государству, функции
которого должны скорее сокращаться, чем увеличиваться.
Данную версию либерализма часто определяют как
самую аполитичную и даже антиполитичную3, и она
действительно культивирует недоверие ко всякой власти,
является полуанархичной, а иногда выражается и как
совершенная анархия. С ней связана одна из самых живучих
традиций буржуазного либерализма. «Под либералом,—
2 Hanson D. What is Living and What is Dead in Liberalism. —
American Political Quarterly, January 1972, vol. 2, N 1, p. 3—5;
Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political Economy. Chicago,
1981, p. 4—5.
3 Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political
Economy, p. 6.
14
4 Popper К. Conjectures ?.nd Refutations. The Growth of Scientific
Knowledge. London, 1963, p. VIII.
писал известный английский философ К. Поппер, — я
понимаю не того, кто симпатизирует определенной
политической партии, но лросто человека, который ценит свободу
и живо чувствует опасности, присущие всем формам власти
и авторитета»4. От старых либералов полуанархический
пафос «laissez-faire» переходит сегодня в консервативные
теории, возрождается в доктринах так называемых либер-
таристов, о которых мы будем говорить особо.
История либерализма связана с именами А. Смита,
Г. Спенсера, Д. Милля, других более или менее крупных
мыслителей, каждый из которых представлял
определенную разновидность данного течения. В XX в. преобладают
формы либерализма, утвердившиеся на основе
критического преодоления доктрины «laissez-faire» и ее главной
идеи — невмешательства государства в экономическую
жизнь общества. Либеральные идеологи государственно-
монополистического капитализма в условиях общего
кризиса системы и углубления ее противоречий вынуждены
были отвергнуть постулат саморегулирующегося рынка
как экономически неэффективный, ответственный за
социальную несправедливость и неравенства в огромных
масштабах. Было признано необходимым, выражаясь языком
либералов, ограничить в законодательном порядке свободу
некоторых, чтобы обеспечить и защитить свободу всех.
Хотя осуществить столь заманчивую цель и не удалось,
либеральные доктрины, главным объектом внимания
которых стали «государство всеобщего благосостояния», его
экономическая и социальная политика, впитали в себя
значительную часть эгалитарных настроений и идей,
приобрели известный предостерегающий опыт и получили уроки,
связанные с их реализацией.
Все либеральные учения, как бы ни отличались они
друг от друга, имеют некоторые общие черты,
профилирующие качества, например, такие, как индивидуализм,
предрасположенность к гуманитарной терминологии
(свобода, равенство, демократия, права человека и т. д.),
социальный и политический реформизм. Последнее качество
приобретает особое значение в эпоху общего кризиса
капитализма, существования социалистической общественной
системы, закономерный переход к которой предполагает
социальную революцию, т. е. нечто прямо
противоположное реформистским программам изменения общества.
15
Вообще говоря, реформистский либерализм точно
выражает подлинную суть буржуазии как класса, который
даже в лучшие свои времена не был по-настоящему
революционным. История антифеодальной борьбы полна
примеров нерешительности, дряблости, безынициативности
буржуазии при подготовке революционных событий.
Отношение буржуазного класса к революции было явно
меркантильным, расчетливым, основывалось на постоянной
политической калькуляции. Такой «деловой» подход сплошь
и рядом оборачивался колебаниями буржуазии, вызывал
зигзаги и повороты в ее политике, склонность к
компромиссам с правящей феодальной верхушкой, к улаживанию
своих дел в тайне от народных масс, к предательству и
авантюрным действиям за спиной трудящихся. Исторический
парадокс состоит в том, что революции, которые мы
называем буржуазными, в действительности начинались
восстаниями крестьянства и выступлениями городского
пролетариата. Последние несли на себе всю тяжесть борьбы с
феодальной реакцией. Ф. Энгельс, анализируя
революционные события 1789 г. во Франции, писал, что «буржуа на
этот раз, как и всегда, были слишком трусливы, чтобы
отстаивать свои собственные интересы... начиная с
Бастилии, плебс должен был выполнять за них всю работу...»5.
Вместе с тем и революционные требования буржуазии
подвергались воздействию, в котором отражались
настроения и интересы народных масс. Вот почему, отмечал Ф.
Энгельс, на революционных декларациях буржуазии лежит
отпечаток «плебейского» понимания свободы, равенства и
братства, вот откуда на знамени буржуазной революции
появились радикальные лозунги равенства, от которых
буржуазия потом долгое время избавлялась.
В тех случаях, когда буржуазия, неспособная
собственными силами достичь политического господства, не могла
или не хотела идти на союз с народом, не сумела опереться
на массы, она удовлетворялась мизерными политическими
уступками, покорно благодарила за них абсолютистскую
монархию, вынуждена была долгое время сосуществовать
с феодальной аристократией, быть в тени последней. На
такую судьбу была обречена буржуазия многих
европейских стран. Медленно, осторожно, чтобы не рассердить
монархию, буквально по кусочкам и по крохам добывала
она свои экономические и политические позиции, искала
подходящий момент выпросить у властей какую-либо
очередную «свободу». Буржуазный класс имеет большие тра-
5 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 126.
диции реформизма, ибо все его прошлое — это
непрерывное ожидание реформ и «полезных улучшений», неспешно
осуществляемых правительством. Его отличает также
глубокое отвращение к массовым движениям и революциям,
которых он боится.
Трусость и непоследовательность либеральной
буржуазии, нерешительность в отстаивании собственных лозунгов,
буржуазно-демократических свобод порождают «исконные
грехи всякого буржуазного либерализма», о которых писал
В. И. Ленин: непомерное развитие фразы, расхождение
между словом и делом, чисто филистерская доверчивость
к правительству и т. д.6 Буржуазный реформизм,
неотделимый от либеральных доктрин, находится в перманентной
спячке, когда в капиталистическом обществе царит
относительное спокойствие, но выходит на политическую
авансцену всякий раз, когда революционный порыв масс
угрожает основам буржуазного строя. Реформы выдвигаются
как консервативная альтернатива революции, и в этом
смысле можно говорить о консерватизме либералов,
орудие которых — «реформы против революции»7. Произнося
демагогические фразы в пользу реформ, либералы берут
на себя роль активной контрреволюционной
идеологической силы. Об этом писали К. Маркс и Ф. Энгельс, а
В. И. Ленин определял либеральный реформизм в эпоху
революционных схваток как «измену народной свободе»,
отмечая, что он порожден «классовыми интересами
буржуазии и части помещиков, боящихся народа и, особенно,
рабочего класса»8.
Хотя политическим кредо либерализма считается
буржуазная демократия и свобода, его история полна
отступлений от того и другого. В наши дни не утратило своего
значения следующее предостережение В.И.Ленина: «Надо
отличать программы буржуазных партий, банкетные и
парламентские речи либеральных карьеристов от их
действительного участия в действительной народной борьбе. На
словах все и всякие буржуазные политиканы, во всех
парламентских странах, всегда распинались за демократию, в
то же время предавая демократию»9. Постоянно
колеблющийся между утопией и действительностью, либерализм
лишь поверхностно усвоил многие старые прогрессивные
идеи, не дав им надежного обеспечения. В настоящее вре-
6 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 95.
7 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 305.
8 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 258—259; Ленин В. И.
Полн. собр. соч., т. 15, с. 210.
9 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 463—464.
17
мя идет интенсивный процесс утраты либерализмом
многих демократических ценностей, отказ от лозунгов, которые
были начертаны когда-то на знамени буржуазных
революций. Требование социального равенства является в этом
смысле ярким примером.
Последнее десятилетие показывает примеры широкого
отступничества многих либералов от идеи равенства,
неприязни к общественным движениям за расовое и
национальное равноправие, за равенство женщин с мужчинами
и т. д. Очередная измена значительной части либеральных
теоретиков своим идеалам является красноречивым
симптомом нынешнего кризиса либерализма, вызванного
глубоким разладом между прокламируемыми им принципами и
социальной действительностью. Многие крупные
социально-политические и юридические реформы,
инспирированные влиятельными либеральными доктринами, привели к
обескураживающим результатам и по существу
провалились. Разочарование вызвали «антикризисная политика»
буржуазных государств,
государственно-монополистическое регулирование и другие формы вмешательства
государства в экономику, неудачные попытки создать
«всеобщее благосостояние», наладить механизм более
равномерного, чем раньше, распределения собственности и доходов.
Хотя истинные причины всех этих «срывов» лежат в
объективной природе и условиях развития современного
капитализма, всю ответственность за создавшееся положение
идеологи консервативного толка пытаются возложить на
либералов. «Главная причина возрождения консерватизма
состоит в том, что либерализм привел страну на грань
катастрофы» 10,— пишет американский автор М. Эванс,
характеризуя идеологическую ситуацию в США. На
демагогической критике либеральных реформ, которые но сути
дела и не могли быть успешными, спекулирует сегодня
консерватизм.
Нынешнее усиление консерватизма на Западе стало
возможным вследствие притока в него теоретиков и идей,
которые еще совсем недавно считались либеральными. По
ряду признаков, являющихся в определенных отношениях
существенными, можно выделить в рамках современного
американского консервативного движения три основных
направления: неоконсерватизм, либертаризм и традиционный
консерватизм. О каждом из них нам придется говорить
подробно в связи ^:отдельнымщщоблемами,
рассматриваемыми в данной книге^ цопср^}^<й хотелось бы подчерк-
10 Evans М. Conserpaftm^$tyW$ifi\Qp\mon, June 19757 f. 43.
20
неоконсервативные, либертаристские и иные реакционные
идеи в США.
При всем разнообразии установок и теоретическом
несходстве консервативные направления в Америке стараются
действовать заодно. Критикуя курс политики «государства
всеобщего благосостояния», они едины в отстаивании
определенных реакционных позиций, выражающих интересы
крупного монополистического капитала,
военно-промышленного комплекса США. В политической области
происходит консолидация консервативных сил вокруг нынешней
республиканской администрации США, возглавляемой
Р. Рейганом, сложилась коалиция «новых правых», в
которую вошли довольно разношерстные группы, но которая
тем не менее оказывает заметное воздействие на
внутриполитический курс и внешнюю политику американского
правительства. Усиление консервативных черт отдельных
разновидностей либерализма, объединение консерваторов
старого толка с консервативно мыслящими либералами, чьи
позиции окончательно утратили прогрессивный характер,
сомкнулись с реакцией, породили в Америке разговоры о
том, что либерализм как идеология умер, что границы
между ним и консерватизмом практически стираются или во
всяком случае становятся все менее ясными.
Это обстоятельство часто обсуждают и анализируют в
западных странах, особенно в США, где либерализм и
консерватизм как направления буржуазной идеологии стали
как бы сообщающимися сосудами, где уже часто
затрудняются сказать, кем является тот или иной идеолог:
либералом или консерватором. Данное явление поспешили
представить как консервативное преодоление либерализма,
в результате которого окончательно исчезли противоречия
между либерализмом и консерватизмом, наступило
«смешение умов». В середине 70-х годов Дж. Киркпатрик, ныне
член администрации' Р. Рейгана, а тогда профессор
политических наук Джорджтаунского университета, объявила
устаревшими прежние идеологические классификации,
подчеркнув, что «термины «либерал» и «консерватор»,
«левый» и «правый» дезориентируют нас в политике и
осложняют защиту человеческой свободы» м. Но она приняла
желаемое за действительное, возвещая «конвергенцию»
либеральной и консервативной идеологии, явно недооценила
живучесть либерализма, за которым стоит огромный опыт
14 What is Liberal — Who is a Conservative?— Commentary, September
1976, vol. 62, N 3, p. 74; Anglo-American Liberalism. Readings in
Normative Political Economy, p. 297.
18 /
11 Der Neo-Konservatismus in den Vereinigtcn Staaten und seine
Auswirkungen auf Atlantische Allianz. Melle, 1982, S. 50.
12 Liedman S. Neoliberalismus und Neokonservatismus.— Das
Argument 134, 1982, Juli-August, S. 497.
нуть, что из этих трех ^правлений два первых
сформировались за счет «ресурсов» старого либерализма.
Наиболее многочисленную и шумную группу
составляют так называемые неоконсерваторы, среди которых
выделяются влиятельные либералы конца 50-х — начала 60-х
годов (Д. Белл, С. Липсет, Э. Шиле, И. Кристол, Д. Мой-
нихэн, А. Вилдавски, С. Хантингтон, Н. Глейзер, Н. Под-
горец, Р. Нисбет, Э. Бэнфилд и др.). Многие из них в свое
время принадлежали к числу теоретиков, возвестивших
«конец идеологии», прекращение классовой борьбы и
социальных конфликтов, выдвинувших тезис «о рассеивании
неравенств» и появлении новых форм общественной жизни,
основанных на солидарности людей и классовом мире.
Сегодня эти теоретики отстаивают свободу частного
бизнеса от государственного вмешательства, требуют
ограничения государственного регулирования в экономике и
социальной сфере, восстановления старых политических и
иных традиций, возвышения религии и национализма.
Неоконсерватизм — воинствующая антиэгалитарная
идеология, которая постоянно подчеркивает свое крайне
враждебное отношение к идее социального равенства.
В сущности ядро этой идеологии составляют либеральные
идеи индивидуальной свободы и минимума внешних
ограничений для личности, поэтому неоконсерватизм иногда
называют «правым либерализмом»11. Выдвигают нечто
вроде формулы, согласно которой «неоконсерватизм =
ценности свободного либерально-капиталистического
общества^-религия-f национализм» 12. Возможно, что термин
«правый либерализм» был бы более точным обозначением
данного идеологического направления, чем термин
«неоконсерватизм», но дело, конечно, не в названии. Представители
неоконсерватизма резко противопоставляют себя
реформистскому либерализму времен «государства всеобщего
благосостояния», выступают против сознательного
политического, юридического и иного регулирования
экономических и социальных процессов. В этом отношении они
безусловно консервативны.
Либертаризм — консервативное возрождение старой
либеральной доктрины «laissez-faire», приспособленной к
условиям современного капиталистического развития.
Идеологи либертаристского направления в американском кон-
19
серватизме (Ф. Хайек, М. Фридман и монетаристы, Р. Но-
зик и др.) озабочены в основном экономическими
проблемами, поэтому все их социальные предложения и
программы формулируются через понятия свободной рыночной
системы. Сторонники абсолютного невмешательства в дела
частного бизнеса, либертаристы последовательно отвергают
все политические, моральные, религиозные и иные
ценности, которые могли бы ограничивать свободу
индивидуального поведения на рынке. В США считают, что
либертаристы, особенно монетаристы, оказали наибольшее влияние
на экономическую политику президента Р. Рейгана в части
стимулирования капиталовложений, сокращения налогов,
ограничения правительственных регулирований и т. д.
Разделяя с неоконсерватизмом многие позиции и установки,
либертаризм также представляет собой последовательную
и бескомпромиссную антиэгалитарную доктрину.
Пожалуй, только традиционный, или «органический»,
консерватизм (Л. Страус, Э. Фогелин, Дж. Харт и др.)
имеет «чистую» консервативную основу, но о нем трудно
сказать что-нибудь больше того, что здесь нет
заимствованных у либералов, перелицованных идей. В отличие от
«новых» традиционные консерваторы полагаются в
основном на аргументацию «из прошлого», выступают
убежденными противниками всяческих новаций, идеализируют
старые аграрные и другие доиндустриальные порядки. Их
основные теоретические интересы лежат не столько в
экономике и политике, сколько в духовной сфере и затрагивают
культуру, религию, нравственность, «право и порядок».
Традиционный консерватизм является ревностным
хранителем «допотопного», окаменелого антиэгалитаризма, не
изменившегося с докапиталистических времен,
воплотившего реакционную мысль самых давних эпох.
Американские неоконсерваторы, например, открещиваются от
«органического» консерватизма, видя в нем чуждое и далекое
«американскому духу» явление. Один из них пишет так:
«Это есть чужая идеология, имеющая корни в европейском
феодализме, в эпохе, которую Америка никогда не
переживала, идеология, которую, за исключением короткого
периода на американском юге, Америка сознательно
отвергла» 13. Тем не менее традиционное направление в
американском консерватизме существует и участвует в создании
духовного мировоззренческого контекста, усиливающего
13 Saeger R. American Government and Politics. A Neoconservative
Approach. Dallas — London, 1982, p. 27.
21
социального маневрирования буржуазии, лицемерная,
демагогическая, но в то же время тонкая и расчетливая
стратегия классовой политики, во многом отличающейся
от вульгарной прямолинейности консерватизма.
Либерализм, конечно, жив, и сегодня он существует в различных
формах, в том числе и в виде современных эгалитарных
доктрин.
Отношения между либералами и консерваторами
всегда были осложнены конфликтами, драматическими
столкновениями, нескончаемыми спорами по вопросам, которые
касались стратегии и перспектив капиталистического
развития. Вольно или невольно в этих спорах обнажаются
слабые стороны капитализма, вскрываются его
органические пороки, обнаруживается неадекватность как
либеральных, так и консервативных рецептов излечения
болезней капитализма. Но с другой стороны, как это часто
бывает в условиях анархии, непредсказуемого действия
многих факторов капиталистического развития, крайности
иногда сходятся, либеральные и консервативные традиции
переплетаются, образуют неожиданные и странные
сочетания. В целом же история взаимоотношений либерализма и
консерватизма с чередующимися фазами их отталкивания
и притяжения весьма поучительна, она дает яркий
материал для выводов относительно природы и перспектив
буржуазной общественной системы.
Определенные, четко видимые различия между
рассматриваемыми идеологическими и социальными течениями
лежат в сфере философской антропологии и связаны с
противоположными позициями соответствующих идеологов по
вопросам сущности, места и роли человека в универсуме.
Со времен Просвещения либеральные доктрины
развивались в русле абстрактного буржуазного гуманизма, как
правило, идеалистических представлений об отношении
человека к миру. Хотя тво2ческое универсальное начало в
указанных доктринах ассоциировалось не с действительной
сущностью общественного человека, а с неким выделенным
из него и гипостазированным разумом или с отвлеченной,
метафизически трактуемой природой человека,
существенной тут была мысль о том, что человеческому сознанию
принадлежит право на свободное и активное бытие в мире,
право воздействовать на жизнь. Человек (или его разум)
находится на самом верху мироздания, он суверенен как
мыслящее существо и как таковой свободен.
Просвещенческий гуманизм, которым в сущности пропитаны многие
либеральные доктрины, был весьма оптимистичным в
оценке способностей человечества к прогрессу и проникнут
22
своеобразной верой в прогресс на основе разума, науки и
знаний.
Мировое развитие, с точки зрения консерваторов,
направляется глубоко скрытой от людей, непостижимой,
имманентной логикой; все предписано и предопределено
высшим творческим началом — божественной волей или
какой-либо иной столь же авторитетной инстанцией.
Человек— малая и скромная частичка мира, его природа
постоянно пребывает такой, какой создана изначально, т. е.
ограниченной, несовершенной, раздваивающейся между
добром и злом, отягощенной бесконечными
противоречиями и пороками. Господствует в универсуме не разум
человека, а провидение; мир открывается людям не
посредством знаний и науки, а через откровение, интуицию, которой
творец наделяет лишь немногих избранных лиц. Сами
консерваторы, отличающиеся, как правило, невероятно
высокомерным тоном и пренебрежительным отношением к
социальным проблемам, полагают, что говорят от имени
высшего творческого начала, отстаивают жизнь такой,
какой она всегда была, есть и будет. Сознание человека
должно подчиняться вечным императивам, принять
абсолютные ценности, господствующие в мире, — таковы условия,
характеризующие консервативное решение проблем
свободы личности.
Все эти черты консервативного мышления особенно
четко и последовательно выражены в отмеченных выше
«традиционных», или «органических», теориях, суть которых в
американской литературе, например, характеризуется
следующим образом: «Органический консерватизм является
одновременно пессимистичным и фаталистическим в
отношении человека, взятого индивидуально и в коллективе.
Люди рождаются с талантами, интересами и свойствами,
унаследованными в неравной мере. Они иррациональны,
эгоистичны, предназначены к непродуктивной борьбе друг
с другом. В действительности они привержены
первородному греху. Только твердое руководство хорошо
продуманными принципами может создать порядок и условия
цивилизации, в рамках которых люди могут достигать
некоторого счастья и самореализации» 15.
Как несовершенное, вечно сбивающееся с истинного
пути существо, человек нуждается в руководящем авторитете
и управлении сверху; он — ничто без этого авторитарного
15 Dolbeare К. and Dolbeare P. American Ideologies. The Competing
Political Beliefs of the 1970's. Chicago, 1971, p. 216.
23
руководства, смысл которого — удержать человечество в
его «естественных» границах, избежать саморазрушения
личности, предоставленной самой себе, собственному
неблагоразумию.
Философско-антропологические взгляды консерваторов
пессимистичны не только потому, что они настаивают на
вечной зависимости человека от чуждого, непонятного ему
и никогда не познаваемого, загадочного мира, но и
вследствие мрачных пророчеств, согласно которым человек и
человечество, одержимые интеллектуальной гордыней,
возомнившие себя творцами жизни, разрушают авторитеты и
традиции, растрачивают жизненную энергию, а в конечном
счете приближают закат мира, общественного и
индивидуального бытия. Идея социального прогресса решительно
отвергается, а суетные стремления людей улучшить
общественные структуры за счет кардинальных перемен и
новаций объявляются бессмысленными и опасными. Лучшее
осталось в прошлом, а впереди ждет лишь худшее.
Противоположность основных мировоззренческих
позиций либералов и консерваторов выражается далее в
рационализме, сциентизме первых и в иррациональном, подчас
мистическом, характере консервативных построений.
Разум, знания, наука, техника, рационализация — это слова
из лексикона либералов, употребляемые довольно часто и
в различных контекстах. Известно, что отношение
либеральных идеологов к рациональному познанию мира
переросло в настоящий культ разума, веру в его могущество и
всекомпетентность. Пожалуй, лишь в наш век начинает
пробуждаться сознание того, что наука и техника не могут
и не должны разрешать абсолютно все человеческие
проблемы, как это казалось буржуазным идеологам
либерального толка в течение очень долгого времени и как это
представляется многим из них и поныне. Консерваторы не
замедлили воспользоваться этим преувеличением, чтобы
поднять «бунт» против «деспотии разума»,
«интеллектуального угнетения человечества», «всевластия
рационального мышления» и т. п.
Вспышки антиинтеллектуализма отмечаются на
протяжении всей истории консервативной мысли, но особенно
сильными стали они сейчас. «Новые правые» философы во
Франции провозгласили лозунг: «Разум — вот настоящий
тоталитаризм» (Б. Леви). На месте ниспровергаемого
рационализма консерваторы хотели бы утвердить
иррациональные методы постижения мира, означающие, вообще
говоря, полнейшую неясность, неопределенность во
взаимоотношениях субъекта и объекта познания. «Поскольку
24
человек не есть чисто рациональное существо, —
утверждает западногерманский консерватор Г. Манн, — он
нуждается помимо научных еще и в иррациональных устоях, о
рациональной основе которых не следует говорить» 16.
Мистический, религиозный опыт, по мнению Г. Кальтенбруннера,
должен лечь в основу духовного самосознания
человечества, вытеснив из него материализм и волю к социальному
прогрессу. «Влечение к выяснению внутренней сущности
бытия и тяга к интегральному единству, — пишет он, —
являются наиболее предпочтительными моментами мистики...
Невозмутимость, внутреннее спокойствие, эмансипация от
всех фетишей и идолов — вот в социальном смысле ее
исключительно полезные плоды»17. Современные
консерваторы оправдывают и защищают иррационализм, потому
что их собственное мышление является иррациональным,
противоречащим логике мирового развития и требованиям
общественного прогресса. Это видно уже из того, что
многие из них занимают крайне негативные позиции в
отношении науки (антисциентизм), отрицают конструктивное
значение технического прогресса (антитехницизм),
демонстрируют недоверие ко всякого рода систематизированным
знаниям, теориям, идеологиям.
Иррациональное в консервативном мышлении играет
весьма многозначную роль и выступает, можно сказать,
исходным пунктом при построении всей социальной
философии консерватизма. Если люди уяснят, что научные
методы не способны дать им верное понимание самих себя и
всего, что их окружает, то наступит прозрение
человечества, ослепленного рационализмом. Оно оставит, наконец,
привычку переделывать все и вся и будет бережно хранить
то, что было и есть в этом мире. Иррационализм, короче
говоря, служит своего рода обоснованием широко
понимаемой, тотальной контрреформации как универсального
принципа, отрицающего значение перемен, революционных
и даже эволюционных изменений в обществе, радикальных
и ординарных реформ. Не меняйте того, что есть, иначе
будет хуже — таков, собственно, смысл откровений,
которыми консерваторы запугивают общественность западных
стран. Сознательно культивируются страх и ксенофобия,
т. е. отрицание всего непривычного, нового, неизведанного,
боязнь крутых поворотов и скачков в общественном раз-
16 Mann G. Konservative Politik und konservative Charakterc— Der
Monat, June 1962, Heft 165, S. 50.
17 Kaltenbrunner G.-K. Ein anderes Gericht in uns. Der neue Aufbruch
des religiosen Geistes im Zeichnen der Mystik.—Welt, 24—25. XII. 1976,
S. 15.
25
витии, желание уберечь себя от встрясок и внешних
воздействий.
Невольно возникает вопрос: что же консерваторы видят
в капиталистической действительности такое, что достойно
оставаться вечным и неизменным, быть недосягаемым для
всякого рода реформ? Здесь мы подходим к центральной
идее консервативных доктрин — идее элитарной, иерархи-
зированной структуры общества. В иррациональном мире
лишь немногие люди наделены способностью проникать в
суть вещей, они постигают ее благодаря редкой интуиции,
феноменально развитым инстинктам, бесценному дару
провидеть события, полученному от творца. В них, по мнению
консерваторов, изначально заложено абсолютное
превосходство над всеми другими членами общества. Эти
«лучшие» люди, самые совершенные, отмеченные знаком
«божьей милости» или природной исключительности,
естественным образом подняты на самый верх общества,
составляют его «прирожденную аристократию», высшую
элиту. Иерархический порядок в обществе, прирожденное
«право» элиты властвовать и есть то главное, что хотели
бы застраховать консерваторы от социальных изменений,
революций и реформ. К указанной цели устремлена вся
мистическая философия консерваторов, их
разглагольствования об «иррациональном», «оккультном»,
«сверхъестественной творческой силе» и т. д., во имя этого отрицают они
возможности, заложенные в человеческом разуме. Все
беды, все общественные неурядицы упорно связывают они с
нарушением якобы неизменного по своей природе порядка
вещей.
В огличие от консерватора классический либерал не
считает социальную иерархию естественной, раз и навсегда
данной. Он склонен подчеркивать динамическую природу
иерархизированного буржуазного общества либо
утверждает открытый характер элит, куда доступ свободен для
всех членов общества на основе принципа равных
возможностей. Широкое использование либералами
буржуазно-демократических лозунгов выгодно отличало их от
консерваторов. «В конечном счете, — писал американский
социолог Р. Миллс, — в идейном багаже консерватора
классического направления остается один-единственный
принцип: принцип радостного и благодарного подчинения
руководству некоей группы людей, которую он считает
освященной традицией элитой» 18.
18 Миллс Р. Властвующая элита. М., 1969. с. 437.
26
Либералы могли предложить большее: принципы
свободной конкуренции, частнопредпринимательской
инициативы, свободу многих сфер «частной» жизни от контроля
и вмешательства со стороны государства (руководимого
элитой), четкое отделение частной сферы жизни от
публичной. Свобода, понимаемая чаще всего как категория
индивидуалистического общества, является осью
либеральной политической программы в духе буржуазного
демократизма и реформизма. Она содержит в себе такие
широко известные пункты, как формы правления на основе
представительства всех классов и слоев населения,
парламентская республика, всеобщие выборы, разделение
властей, свободная игра политических сил, политический
плюрализм, буржуазно-демократические права и свободы,
связанность государства и правительства законом (идеи
«господства права», «правового государства» и т. д.),
политическое и юридическое равноправие граждан и многое
другое. Такая программа кажется богатой и
многообещающей на фоне аскетичной, безрадостной картины
политической жизни общества в изображении консервативных
идеологов. Пытаясь исправить положение, современные
консерваторы, как мы видим, бесцеремонно заимствуют
либеральные идеи, приспосабливая их к своим целям.
Политическая платформа консерватизма всегда была и
остается глубоко и безысходно антидемократической.
Власть принадлежит элитам, и только им. В любом
обществе, утверждают консерваторы, как бы оно себя ни называло
и к каким бы целям ни стремилось, маленькая группа людей
фактически держит в своих руках непомерную власть,
диктуя свою волю большинству. Нынешнее оживление
консервативных настроений на Западе связано с ростом
антидемократических призывов отбросить лозунги политического
равноправия и отстранить массы от участия в политике.
Классы и большие социальные группы, по мнению
консерваторов, в принципе не должны изменять свое
социальное положение, т. е. системно обусловленное место в данной
структуре общества. Радикальные изменения статуса групп
и классов в процессе революции и реформ могут иметь
далеко идущие негативные последствия, равносильные
тотальному общественному кризису. Кроме того, утверждают
консерваторы, от перемены места групп или классов в
структуре общества выигрыш получают далеко не все
принадлежащие к ним индивиды. Чем более высокого положения в
результате революции или реформ может достичь та или иная
группа, чем выгоднее и лучше ее новый статус, тем
вероятнее, что плодами общего успеха воспользуются лишь немно-
27
гие члены группы, активные, предприимчивые, способные
монополизировать самые выгодные позиции. Происходит
раскол внутри групп, возникают новые формы борьбы и
радикальные лозунги, идет беспрерывный процесс деструктура-
лизации общества на общем фоне его нестабильности и
упадка.
Так выглядит в изображении консерваторов не только
социальная революция, направленная на изменение
общественного статуса эксплуатируемых классов, но и всякая
радикальная политика вообще, проводимая в целях
улучшения положения отдельных групп и классов. Атаки на эту
политику и на доктрины, лежащие в ее основе, составляют
цель нынешних консерваторов в США и других
капиталистических странах. Они критикуют современное буржуазное
государство за его якобы расточительную социальную
политику, за попытки «уравнять» доходы граждан,
перераспределять общественные богатства между группами, за
социальные программы, рассчитанные на облегчение участи
беднейших слоев населения, и т. д. Идеологи, о которых идет
речь, глубоко предубеждены против деятельности
профсоюзов (даже реформистских, не говоря уже о прогрессивных),
с патологической ненавистью относятся к организациям
женского и молодежного движения, занимают открыто
враждебную позицию по отношению к политическим объединениям,
выступающим за расовое и национальное равноправие.
Словом, любая группа (если это не корпорация, не союз
промышленников или финансистов), выступающая за
улучшение своего общественного статуса, вызывает у них
подозрение и неприязнь.
Навязчивое стремление погасить, дискредитировать как
якобы антисоциальную любую деятельность группы,
утверждающую свои собственный интерес, а тем более широкую
социальную активность эксплуатируемых классов
теоретически обосновывается тем, что место групп и классов в
социальной структуре строго предопределено естественноисто-
рическим процессом, что общество изначально и
неизбежно иерархизировано, в нем были, есть и всегда будут
лучшие места для одних и худшие для других. Группы и
классы низшего статуса должны принять свою роль и свое
историческое место в обществе, отказаться во имя всеобщего
блага от организованных коллективных действий, от
широких социальных реформ и революций. Попытки
последних, если они недовольны своим положением, изменить
ситуацию ведут к ломке сложившихся структур, ввергают
общество в длительный хаос.
Что же остается делать индивидам, принадлежащим к
28
низшим группам и эксплуатируемым классам, — смириться
с тем, что есть, и тоже принять свое место в обществе,
группе? Консерваторы не решаются отказать индивиду в
перспективе улучшить свое положение. Однако добиться
изменения общественного статуса, считают они, можно не на
основе групповых или классовых действий, а путем сугубо
индивидуальной деятельности и усилий, поднимающих
того или иного человека из низших в более высокие группы
или классы. Важными факторами продвижения личности в
общественной системе уже теперь якобы выступают
незаурядные индивидуальные качества, высокий интеллект,
талант, способности к свершениям, личные заслуги, причем
эти факторы работают сами по себе, они вполне
независимы от групповой и классовой принадлежности
человека.
Чисто индивидуальный путь к жизненному успеху, к
высоким позициям в обществе указывает меритократическая
теория, которую проводит неоконсерватор Д. Белл. К ней
мы еще вернемся, а сейчас отметим характерную черту
подобного рода теорий — приоритет индивидуального начала
над групповым, коллективным с целью подменить
сознательные социально-групповые действия, организованную
деятельность классов активностью отдельного субъекта на
сугубо индивидуалистической основе. Социальные позиции,
определяющие место групп и классов в структуре общества,
представлены, вообще говоря, метафизически как
застывшие, неподвижные уровни, как ступени лестницы, по которой
может подниматься или опускаться индивид. Оппозиция к
групповым, коллективным формам проявления
общественной жизни приводит неоконсерваторов к подчеркнуто
статической модели общества, нереальной и оторванной от
социальной действительности.
Трудно представить себе более разительный контраст,
чем тот, который существует между бурлящей, доведенной
до точки кипения, переполненной всякого рода
конфликтными ситуациями нынешней общественной жизнью в
капиталистических странах, с одной стороны, и консервативным
идеалом статичных, спокойных, в какой-то мере
бесконфликтных и как бы навечно уже окаменевших социальных
структур — с другой. Двадцатый век тем и отличается от
предшествующих времен, что он стал эпохой новых
конфликтов, нарастающих масштабов классовой борьбы,
массовых общественных движений и действий.
Поскольку в сознании консерваторов общественная
иерархия с аристократией на самом верху, с изначально
присущим ей неравенством классов, групп, индивидов отождест-
29
вляется с «истинным порядком», уравновешенным
состоянием общества, нормальным положением его частей и
элементов, постольку динамические факторы и социальная
мобильность классов и групп, стратификационные изменения и
сдвиги представляются этому сознанию как признаки упадочной
культуры, вырождения и слабости общественного духа, а в
конечном счете как свидетельство того, что общество сошло
с рельсов и стремительно несется навстречу собственной
неминуемой гибели. Мрачное мироощущение и безысходный
пессимизм глубоко проникли в консервативную социальную
философию, которая пророчествует о «конце мира» и в эга-
литаризации общества, расшатывании и разрушении
исконного иерархического порядка видит признаки того, что
человечество движется к финалу, предсказанному
Апокалипсисом. Здесь мы сталкиваемся, пожалуй, с вечной темой
консерватизма, которая появляется у него всякий раз, когда
в обществе назревают существенные изменения, на
исторической сцене появляются новые силы, способные создавать
новые формы общественной жизни. Буржуазный
консерватизм, отвергая равенство и эгалитарную идеологию, ведет
себя так же, как в эпоху становления буржуазных
общественных отношений вела себя феодальная реакция, т. е.
консерватизм аристократического или дворянского толка.
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим две антиэгалитарные
консервативные теории старого и нового образца.
Всемирное смешение и упрощение жизненных форм,
разрушение и смерть государств и культуры — вот как
характеризовал процессы обуржуазивания общественных отношений
русский реакционный мыслитель XIX в. К. Н. Леонтьев,
нападающий не только на идеи равенства и демократии, но
и на «святыни» буржуазных либералов — свободу, права
человека, общее благо, науку, разум и т. д. В своей
критике эгалитаризма К.Н.Леонтьев исходил из особых,
«открытых» им законов органической и общественной жизни 19.
Все существующее в мире — от растения до государства —
проходит в своем развитии три стадии, заявлял он. Вначале
всякое явление предстает в своей первичной простоте,
затем оно усложняется, обособляется от сходных и
родственных явлений, накапливает элементы различия, становится
оригинальным, уникальным. Это означает, что явление
вступило в период цветущей сложности, при котором все его
элементы связаны жестким, деспотическим внутренним
единством. В данной точке явление достигает самого высокого
19 См.: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. М., 1$76, с. 68—78;
его же. Собр. соч., т. 6. Восток, Россия и славянство. М., 1912, с. 65—67.
30
развития, когда ярко выражены его морфологические
особенности, сильное единое, организующее начало.
Применительно к государству и обществу, утверждал
далее К. Н. Леонтьев, высшее развитие выражается в
совершенно неограниченной власти, абсолютистской монархии,
разделенности общества на резко отличающиеся друг от
друга сословия и т. д. Но проходит расцвет, единство
ослабляется, и наступает последняя стадия — стадия вторичного
упрощения, смешения и упадка. Разрушается деспотически
организованное целое, все его структуры и особенности
сглаживаются, утрачивают прежние строгие
морфологические очертания. Всякое своеобразие затухает, исчезает в
«неорганической нирване».
Не трудно заметить, какую роль отводит эта теория
свободе, равенству, демократии. Они здесь абсолютные
показатели общественного упадка, развития вспять, при котором
смешиваются, утрачивают себя сословия и классы,
шатаются власти, принижается религия, а человек усредняется,
теряет свое оригинальное лицо, вместо уникальности обретает
заурядность. Находясь под впечатлением интенсивной
капитализации Европы XIX в. и выражая аристократическое
презрение к «среднему человеку», т. е. буржуа, К. Н. Леонтьев
с большой страстью нападал на буржуазные лозунги
свободы и равенства, называл эгалитарно-либеральное
движение «холерным процессом», уподоблял его медленному
гниению общества. Главной заботой этого реакционера было
уберечь Россию, точнее, российскую
самодержавно-крепостническую систему от гибельного и «тлетворного» капита-
листического пути.
Перейдем теперь к современной консервативной
доктрине, созданной в условиях западноевропейского общества.
Немецкий социолог Г. Шельски пытается внушить людям
страх перед будущим западного мира. На протяжении
жизни двух последних поколений людей, утверждает он,
общество в ФРГ характеризовалось чрезвычайно высокой
социальной мобильностью. Процессы повышения и снижения
общественного статуса носили как индивидуальный, так и
коллективный характер. Рабочим, техническим и
управленческим служащим удалось, как считает Г. Шельски,
значительно подняться по ступенькам общественной лестницы, в
то время как некоторые бывшие высокопоставленные слои
имущей и образованной буржуазии, напротив, опустились
вниз. Все эти процессы тяготеют к некоторой «жизненной
середине», располагающейся где-то ниже среднего уровня
старой социальной иерархии. Г. Шельски обозначает эту
середину как «мелкобуржуазно-среднесословную». Наиболее зна-
32
альной иерархии, нивелирование структур и статусов
означают в сущности не что иное, как потерю нормальной,
«изначальной структурообразующей схемы» общественного
устройства, переход к аморфному, беспрерывно меняющемуся,
текучему состоянию социальных процессов. В широкой эга-
литаризации общества Г. Шельски, подобно К- Н.
Леонтьеву, видит перспективу всеобщего смешения и хаоса. В
сведенном к абстрактной середине, выравненном обществе,
полагают консерваторы, реформы играют все меньшую роль,
ибо здесь «все стремления, которые направлены на то,
чтобы изменить общественное состояние... приходят к
известному завершению»23. Но сознание того, что реформы
являются излишними, возникает вовсе не потому, что все в
этом обществе отлично устроено и не нуждается в
совершенствовании, а скорее потому, что они бессмысленны там, где
утрачена разумная жизненная основа, потеряны формы и
цели жизни; они бесполезны так же, как меры излечения
безнадежно больного, обреченного на смерть человека.
Теория «общества средних слоев» окрашена у Шельски
в крайне пессимистические тона. Это общество, считает он,
есть «порождение индустриально-бюрократической эпохи»,
человек в нем теряет былую самоопределенность,
становится несамостоятельным, манипулируемым, опекаемым.
Старый средний слой — мелкие ремесленники, торговцы,
владельцы промыслов и крестьяне — включал людей, крепко
стоявших на собственных ногах. Они сами себя
обеспечивали и строили свою судьбу по самостоятельно определенному
жизненному плану, для осуществления которого была
необходима лишь институциональная помощь со стороны
государства. Новый средний слой — служащие, техники,
инженеры, управленческая бюрократия и т. д. — постоянно зависит
от организованной поддержки и государственной помощи24.
Извращенно, по мнению Г. Шельски, складываются в
«обществе средних слоев» отношения между государством
и личностью. «Государство благосостояния», призванное
защищать социально слабых, неожиданно и очень скоро
становится планово-государственным, бюрократическим
учреждением опеки над людьми и навсегда остается таковым.
Возникает и расширяется система господства
функционеров-попечителей, которая политически выражается в
различных формах: «диктатура благосостояния», «диктатура
23 Forsthoff Е. Der Staat der Industriegesellschaft. Munchen, 1971,
S. 31.
14 Schelsky #. Der Selbstandige und der betreute Mensch. Stuttgart,
1976, S. 131-132.
31
чительным итогом всеобщего «усреднения» он считает тот
факт, что западное общество уже будто бы утратило
классовый характер, перестало быть классовым в Марксовом
смысле.
«Существуют ли ныне классы с противоположными
интересами, определяет ли борьба между ними современную
общественную жизнь на Западе? — ставит вопросы Г. Шель-
ски и отвечает: — В этом смысле мы уже сегодня не
классовое общество. Почему? Со времен Маркса произошли
различные социальные процессы, которые выравнивали и
уменьшали пропасть и одновременно создавали новые структуры
и закономерности, которые намного больше, чем остатки
классовых противоречий, доминируют и направляют
развитие структур современного общества»20. Чрезвычайно
усилившаяся социальная мобильность внутри общества с
тенденцией повышения перспектив рабочих и служащих, а
также снижения шансов для бывших собственников и
образованных граждан, сглаживание социальных неравенств,
нивелирование социального и экономического статуса групп
и индивидов приводят, согласно Г. Шельски, к снижению
роли общественной стратификации. Становясь универсальной,
социальная мобильность утрачивает противоречия,
вытекающие из наличия социальных страт, общественных слоев,
и приобретает другие, чисто динамические качества. Со
своей стороны вмешательство государства в социальную и
экономическую жизнь общества, прогрессивное
налогообложение также способствуют свертыванию классовых
противоречий, уменьшению дифференциации старых, но постоянно
выраженных профессиональных групп, интегрированию их
в относительно единый общественный слой, «который
является так же мало пролетарским, как и буржуазным, т. е.
характеризуется утратой классового напряжения и
социальной иерархии»21.
Все эти процессы, созидающие «общество средних
слоев», или, как его называют другие авторы, «эгалитарное
общество»22, сточки зрения старых либеральных движений
является в высшей степени позитивными и желательными,
поскольку они ведут к установлению «социального мира»,
устранению конфликтов и раздоров, повышению уровня
согласия между членами общества. Иначе относятся к этим
процессам консерваторы, для которых утрата обществом соци-
20 Schelsky И. Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsatze.
Dusseldorf — Koln, 1965, S. 339.
21 Там же, с. 332.
12 Topltsch £. Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft.
Neuwied-Berlin. 1971. S. 7.
2-315
ЭЗ
образования», «манипуляция мнениями» и т. д.25 Хуже
всего то, что люди, ставшие объектом попечительства, быстро
привыкают к новой ситуации, начинают через
организованные группы и коллективные действия влиять на государство
с целью получения от него все большей материальной и
иной поддержки. Так как подобных групп много и
государственная помощь среди них распределяется приблизительно
равно, процветают бюрократические формы эгалитаризации
общества, которые сводят на нет самостоятельность,
свободную инициативу, независимость и индивидуальную авто-
номию личности.
Но и само государство, согласно Г. Шельски, утрачивает
в этой ситуации свою подлинную идею. Возникает
противоречие между ростом экономики и усиливающимися
требованиями социального благосостояния, обращенными к
государству. Последнее оказалось на распутье: оно
должно или повышать производство, или совершенствовать
справедливое распределение, но ни на то, ни на другое
«государство благосостояния» не способно26. Получается, что все
основные компоненты общественной системы в условиях
всеобщего усреднения и нивелировки медленно деградируют,
общество в сущности деструктурализируется, а его
неестественная мобильность — это не здоровый активизм, а
болезненные конвульсии, беспокойство, предчувствие
трагических последствий всего того, что происходит в современном
мире.
Снова и снова появляется идея «упадка человеческой
культуры», которую консерваторы недвусмысленно
связывают с тенденциями эгалитаризации общественной жизни27.
Не более и не менее как деградацией культуры, по их
мнению, человечество должно расплатиться за отказ от схемы
иерархического общественного устройства с ее пропорциями
и дистанциями, со строго определенным положением
классов и групп в социальной системе, с извечным и естественно-
историческим правом высших слоев господствовать над
низшими, привилегиями богатых, властью эксплуататоров и
т. д. Консервативное мышление буквально проникнуто
тоской, в полном смысле ностальгией по далеким временам,
когда крепко держались патриархальные, кастово-сослов-
ные предрассудки, структура общества казалась простой и
четкой, каждая группа знала в ней свое место, никто не
25 См. там же, с. 18, 176—177.
26 См. там же, с. 160.
27 Lederer R. Neokonservative Theorie und Gesellschaftsanalyse,
Frankfurt am Main, Bern, Las Vegas, 1979, S. 53—54.
34
зарился на иное поприще, не брался за чужое дело, не
претендовал на большее.
Из идеализированных добуржуазных систем и
порядков — вот, собственно, откуда старый и новый консерватизм
черпают свой пафос, чуждый и часто непонятный носителям
истинно буржуазного образа мышления, какими всегда были
и в сущности остаются либералы. И тем не менее
определенная их часть в последние десятилетия приблизилась к
консерваторам, восприняла если не мировоззренческий
пессимизм и мрачно-эмоциональную тональность философии
последних, то во всяком случае комплекс идей, давно и
определенно связываемый с консерватизмом. Они сошлись
прежде всего на принципиальном отрицании эгалитарных
тенденций, на бескомпромиссной борьбе с последними.
О равенстве классов и равенстве индивидов
Отличительной чертой современного буржуазного
консерватизма является стремление фальсифицировать,
представить в искаженной перспективе проблемы классового
неравенства. Когда источники решения эгалитарных
вопросов ищут в социальных связях индивидов, а не в сфере
классовых и межгрупповых отношений, то приходят, как
правило, к деполитизированным, социально-техническим
выводам, многие из которых предназначены для того, чтобы
инструктировать индивида, как не отстать от других, не
уступить своих позиций, каким образом нужно действовать,
чтобы добиться успеха. Таков, собственно, традиционный
либеральный подход, игнорирующий теорию классовой борьбы
и революционные лозунги равенства, требующие
ликвидации классовых структур общества. Именно этот подход имел
в виду В. И. Ленин, когда писал: «Идея равенства, сама
являющаяся отражением отношений товарного производства,
превращается буржуазией в орудие борьбы против
уничтожения классов, под предлогом будто бы абсолютного
равенства человеческих личностей. Действительный смысл
требования равенства состоит лишь в требовании
уничтожения классов»28.
Как отмечалось выше, многие перешедшие на
неоконсервативные позиции американские либералы в недавнем
прошлом были известными приверженцами теории «деидео-
логизации», провозглашали примирение конфликтов и
классовый мир, говорили об «истощении» идеологий, якобы уходя-
24 Ленин В, И, Поли. собр. соч., т. 41, с. 102.
2*
35
щих из жизни вместе с классовыми антагонизмами и
политической борьбой на почве классовых интересов. Но Д. Белл,
Э. Шиле, С. Липсет и их коллеги оказались плохими
«пророками». Вопреки их предсказаниям «век» идеологий не
миновал, так же как не исчезли и классовые антагонизмы
внутри капиталистического общества. Потерпели полный
провал лишь теории «деидеологизации», о которых сейчас,
может быть, и не стоило вспоминать, если бы не было
очевидной связи между прежними «либеральными»
воззрениями отдельных американских авторов и нынешними их
неоконсервативными установками. Например, идея «эрозии»,
или исчезновения классовых конфликтов и ослабления
борьбы за групповые интересы в западном обществе, которая
играла центральную роль в теориях «деидеологизации», ныне
без каких-либо существенных коррективов интегрирована
в концепции тех же самых авторов, выступающих теперь
уже с неоконсервативных позиций.
Бывшие теоретики «конца идеологий» настаивали на
том, что рост бюрократии и «богатства» в западных
индустриальных обществах сделал возможной социальную
систему, в которой классовые конфликты идут'на убыль.
Причины этого процесса С. Липсет объяснял следующим образом:
«Высшая экономическая производительность связана с
более равным распределением потребительских благ и
образования— факторами, способствующими сокращению
напряженности внутри общества. По мере увеличения
благосостояния нации разрыв в статусах... уменьшается»29. Здесь, так
же как и в приведенных выше рассуждениях
западногерманского консерватора Г. Шельски, эгалитаризация
общественных отношений (скорее воображаемая, чем реальная)
интерпретируется как структурные социальные изменения,
снижающие уровень дифференциации групп и классов. Но
С. Липсет и его единомышленники времен
«деидеологизации» воспринимали данный процесс как подлинный триумф
«индустриальной» революции на Западе, замену классовой
борьбы «демократической политикой», «политикой
коллективного согласия»30. Исчезновение «экономической
классовой системы», полагали они, перечеркивает всякое
политическое значение экономического неравенства.
Воображению американских либералов конца 50-х годов
представлялись заманчивые картины беспредельного, ничем
29 Upset S. The Changing Class Structure and Contemporary
European Politics.—Daedalus, XCIII (Winter 1964), p. 271—272.
30 Upset S. Political Men. The Social Bases of Politics. New York,
1960, p. 406—407.
36
не стесняемого роста капиталистического производства,
который принесет Западу неслыханное изобилие и богатство,
а вместе с этим решение всех наболевших, острых проблем.
В то время Дж. Гэлбрейт опубликовал книгу «Богатое
общество», лейтмотивом которой были мысль о «рассеивании»
социальных неравенств и оптимистические надежды,
внушаемые этим фактом. «Производство, — писал он, —
освобождается от наиболее острых напряжений, связанных с
неравенством. Увеличивающаяся сумма продукта есть
альтернатива перераспределению, которая сокращает неравенства»31.
С большим энтузиазмом формулировал Дж. Гэлбрейт
вывод о снижении общественного интереса к вопросам,
возникающим из социальных неравенств. «Немногие вещи более
очевидны в современной социальной истории, чем упадок
интереса к неравенству как экономической проблеме, —
утверждал он. — Это особенно верно в Соединенных Штатах.
И это широко проявляется в западных странах, по крайней
мере верно для Соединенного Королевства. Неравенство
перестает волновать человеческие умы»32. Так считал
Дж. Гэлбрейт, и к этому выводу присоединялись тогда
многие буржуазные идеологи. Эгалитарное общество, очевидно,
было для них в то время не «пугалом», а вожделенной
целью «демократической социальной революции»,
относительно которой высказывались самые неясные определения.
Прозрение пришло довольно скоро. Оценивая ситуацию
в Великобритании, один из английских авторов писал:
«После 1950 года в Англии стали широко признавать, что
социальные неравенства уменьшаются и что это было одной из
принципиальных причин мнимого заката радикализма
рабочего класса. Но оба предположения оказались под
вопросом»33. Неверными были признаны они и применительно к
Соединенным Штатам34, но некоторые элементы этих
предположений отнюдь не стали достоянием прошлого.
Известную роль в соответствующих теоретических
построениях играла и мысль о том, что эгалитаризация
означает изменение статуса групп и классов, передвижение их в
общественной системе, т. е. она происходит главным образом
на групповой, коллективистской основе. Особый акцент
ставили на «успехах» рабочего класса, который якобы больше
всех выиграл от эгалитаризации «индустриального» обще-
3» Galbraith /. The Affluent Society. New York, 1958, p. 87—88.
32 Там же, с. 76.
33 Runciman W. Relative Deprivation and Social Justice. A Study of
Attitudes to Social Inequality in Twentieth Century England. London,
1966, p. 4.
34 Rees /. Equality. London, 1971, p. 31—32.
37
ства, приблизился по своему имущественному статусу и
сознанию к буржуазии.
Об экономической и политической эмансипации рабочих
в рамках западной «демократической системы» много
писали в то время С. Липсет, Э. Шиле и другие. «Рабочие, чьи
обиды были когда-то движущей силой социальных
изменений,— заявлял Д. Белл в известной своей книге «Конец
идеологии», — более удовлетворены обществом, чем
интеллектуалы (интеллигенты). Рабочие не достигли утопии, но
их ожидания были меньшими, чем ожидания
интеллектуалов, а выигрыш — соответственно большим»35. Теперь уже
хорошо известно, насколько нереалистическими оказались
оценки и прогнозы теоретиков «деидеологизации», и в
особенности те, которые касались положения рабочего класса
и других эксплуатируемых групп и слоев населения в так
называемом индустриальном обществе.
Неверной, основанной на превратно толкуемых фактах и
тенденциях была главная посылка указанных теоретиков,
а именно тезис о достижении рабочим классом более
высокого места в социальной структуре буржуазного общества
в результате якобы успешных действий «государства
всеобщего благосостояния» по выравниванию доходов,
перераспределению богатств и общественных функций среди
различных классов и групп населения. Естественно, что и
выводы, делаемые на основе этой ложной посылки, также были
неверными, оторванными от действительности,
противоречащими ей. Это относится и к выводу относительно падения
революционной силы рабочего класса, и к утверждению,
будто рабочие уже отказались от коллективных, массовых
действий и предпочитают чисто индивидуальные средства
достижения своих целей либо стихийные выступления ма
лых групп, не имеющих характера протеста, направленного
против существующей социальной и политической системы.
Данные идеи, как мы видим, являются для правящих
кругов капиталистических стран весьма привлекательными
и обнадеживающими. Нужно ли удивляться тому, что
домыслы в отношении рабочего класса и его места в
социальной структуре буржуазного общества ныне «перекочевали»
из теорий «деидеологизации», провалившихся и
скомпрометировавших себя, в новые концепции бывших либералов,
перешедших на неоконсервативные позиции. Но теперь их уже
не устраивают, не удовлетворяют вариации на тему об
утрате рабочим классом революционной роли, сознания про-
85 Bell D. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas
in Fifties. Glencoe, 1960, p. 374,
38
тивоположности своих интересов перспективам буржуазного
общества и т. д. В ход пущен миф о «консервативности»
рабочего класса, превратившегося якобы в
буржуазно-обывательскую среду, примиренного с действительностью и не
желающего никаких изменений. По образу жизни и мысли,
утверждают некоторые американские авторы, большинство
рабочих — это, мол, типичные средние буржуа, которые
ценят свое благополучие и предпочитают избегать изменения
существующего положения вещей.
По мнению некоторых «новых консерваторов»,
современные требования равенства классов и групп выдвигает не
рабочий класс, а группы безответственных интеллектуалов,
принадлежащие по своему статусу к средней и даже крупной
буржуазии. Западное общество пришло будто бы к
парадоксальной ситуации, когда буржуазия, по крайней мере ее
определенная часть, сейчас более «революционна» и критична
в отношении собственной социальной системы, чем класс
наемных работников, некогда считавшийся врагом
капитала, антагонистом буржуазного общественного строя.
Пожалуй, нет особой необходимости говорить о том,
насколько странным и надуманным выглядит этот «парадокс»
с точки зрения людей, хорошо информированных о состоянии
коммунистического и рабочего движения в
капиталистических странах, об усилении классовых выступлений
трудящихся против капитала, о революционном характере социальных
и политических требований, выдвигаемых партиями и
организациями рабочего класса. Консерваторы адресуются к
аудитории, которая имеет весьма слабое представление о том,
что выходит за рамки бизнеса, склонна принимать за
истину поверхностные суждения, базирующиеся на случайных,
разрозненных и малорепрезентативных фактах. Именно на
такое восприятие рассчитаны этот и аналогичные ему
«парадоксы» консервативного мышления.
В духе приведенных выше установок некоторые
американские идеологи пытаются противопоставить рабочий класс
эгалитарным движениям (расовым, национальным,
женским, молодежным и т. д.), которые принимают широкий
общественный характер. В таком, собственно, ключе
выдержаны рассуждения И. Кристола, однбго из ведущих
представителей американского неоконсерватизма, резкие
нападки которого на либерально-эгалитарные идеи вызвали
возмущение демократической общественности Америки.
Рабочий класс, утверждает он, не видит ничего плохого в
буржуазной жизни с обычным комфортом для обыкновенного
человека. Индивидуальная свобода и безопасность в старом
буржуазном смысле, возрастающее материальное благосос-
39
тояние, все, что делает существование стабильным на
добротной среднебуржуазной основе, дорого сердцу рабочего,
и он уже не хочет подвергать себя риску революций и
радикальных реформ.
И. Кристол просто умиляется созданным им образом
рабочего человека, который будто бы понял наконец глубоко
скрытую суть буржуазной системы, познал истинный
буржуазный этос (делать свое дело, приобретать имущество,
деньги и т. д.), проникся ее духом и стал чуть ли не более
буржуазным, чем сами буржуа. Рабочий класс, уверяет И.
Кристол, настораживается и начинает вести себя нервозно,
когда правительство объявляет программу эгалитарных реформ.
Его, конечно, беспокоит налоговая политика государства,
приносящая слишком большие выгоды самым богатым
людям, но еще более возмущается он, когда деньги из
государственного бюджета идут на нужды неработающего
населения, на помощь так называемым бедным слоям и
группам. В благоприятных условиях рабочий класс не
отказывается от возможности сократить разрыв между своим
статусом и уровнем жизни, достигнутым богатыми членами
общества, но он ревниво следит за тем, чтобы неравенства в
обществе сохранялись как среди различных секций
рабочего класса, так и между социальными группами,
занятыми в производстве, с одной стороны, и группами в
непроизводительной сфере — с другой, т. е. он серьезно озабочен
проблемой сохранения дистанции между собой (как
средним слоем) и другими группами, располагающимися на
более низких ступенях социальной иерархии. Очевидно, что
рабочий класс у Кристола по существу отождествляется с
обывательской массой, лояльной буржуазному порядку и
защищающей его. Образуя «устойчивую» середину,
рабочие, как утверждает данный автор, избавлены от
некоторых крайностей, присущих самым бедным и богатым.
Как личность рабочий, по Кристолу, представляет
собой идеальный тип человека, лишенного интеллигентских
комплексов и претензий, воспринимающего мир сквозь
призму собственных интересов, без дальних замыслов и хитрых
планов. Словом — это тот обыкновенный «простой» человек,
который как будто бы создан для буржуазного образа
жизни, воплотивший в себе качества, которых так недостает
«избалованной», много о себе возомнившей буржуазной
интеллигенции (имеется в виду та ее часть, которая критикует
буржуазную систему и требует реформирования
несправедливых порядков!). «Каждый, кто знаком с американским
рабочим классом, — заявляет И. Кристол, — знает, что он
гораздо менее подвержен эгалитарной горечи и зависти, чем
10
профессора или состоятельные журналисты»36. Подобного
рода утверждения должны, по мысли консервативных
идеологов, создавать представление о рабочем классе как чуть
ли не о самой консервативной силе общества.
И. Кристол не остановился даже перед тем, чтобы
приписать рабочим большую степень консерватизма, чем та,
которой обладают верхи буржуазного общества. «Рабочий
класс, — заявляет он, — из всех классов имеет наибольшую
сопротивляемость духу радикализма, который затронул
высшие слои буржуазного общества»37. Этот вывод,
совершенно удивительный по своей необоснованности и
несовместимый с реальностями социальной жизни США и западных
капиталистических стран, является, однако, последним звеном
в цепи надуманных аргументов, намеченных еще в теориях
«деидеологизации» и направленных на доказательство
«врастания» рабочего класса в капиталистическую систему. Не
случайно теоретизирования И. Кристола вызвали отповедь
со стороны многих буржуазных идеологов, не
согласившихся с подобной оценкой положения рабочего класса,
отношения последнего к радикальной политике и эгалитарным
реформам. Для многих, кто хотя бы мало-мальски считается
с фактами, мыслит реалистически, политический радикализм
рабочего класса достаточно очевиден и бесспорен.
Вразрез с действительностью идет и утверждение, будто
современный рабочий класс потерял интерес к вопросам
социального равенства, безразличен к эгалитарным идеям и
движениям под лозунгами равноправия рас, наций, полов и
т. д. В Соединенных Штатах политическая борьба рабочего
класса происходит в условиях, делающих социальное
равенство актуальной и острой проблемой жизни, фактором
обеспечения единства антиимпериалистических сил,
противодействия диктату крупных монополий, направленного против
трудящихся, народа. Ни одно стратегическое или
тактическое решение не может быть принято рабочим движением без
учета этой важной проблемы. Сегодня она приобретает
особое значение в связи с усилением антинародных черт и
агрессивности политики американского империализма,
проводимой правительством Р. Рейгана. «Центральное звено
становления антирейгановского фронта, — пишет Генеральный
секретарь Компартии США Гэс Холл, — обеспечение
единства многорасового, многонационального рабочего класса.
Главный источник силы в борьбе за равенство — концепция
единства и стратегия коалиций. Единства людей, подвергаю-
36 Kristol /. About Equality.— The New Equalitarianism. Questions and
Challenges. Washington, New York, London, 1979, p. 226.
87 Там же.
41
щихся расовому и национальному угнетению, единства
черных и белых; коалиций рабочего класса с
афро-американской, мексиканской и пуэрто-риканской общинами»38.
Решение проблем социального равенства, таким образом,
является залогом единства и успеха рабочего движения и всех
антиимпериалистических сил в их борьбе против политики
монополий.
Заявляя о том, что современный рабочий класс на За
паде утратил социальную активность, интерес к радикаль
ным реформам и эгалитарные стремления, американские
неоконсерваторы повторяют либеральный тезис, согласно
которому организованные коллективные действия классов
и групп не могут и не должны быть средством изменения
общественных структур, улучшения статуса субъектов.
Акцент перемещен на индивидуальную деятельность, на сугубо
личные успехи и достижения каждого человека,
пытающегося посредством собственных усилий продвинуться в
существующей системе общественных отношений. Эта идея
заложена в проект «постиндустриального общества» Дэниэла
Белла39. Предлагаемая им модель представляет якобы
совершенное во всех отношениях общество, базирующееся на
небывалом росте производства, больших возможностях
потребления, расширении культурных ценностей. После
трудных времен экономической и социальной нестабильности,
кризисов, заявляет Д. Белл, капитализм вступил в стадию
индустриального развития, глубоко преобразившую
общественную систему, имевшую далеко идущие последствия в
экономике, в сфере производства, науки, технологии и т. д.,
но не решившую многих социальных проблем, в том числе
проблем, вытекающих из отношений классов и групп.
Последнюю можно будет, по мнению Д. Белла, решить
на следующей стадии развития западного общества —
постиндустриальной. Основное, что характеризует эту стадию
в отличие от предшествующих фаз в развитии
капитализма,— это ведущая роль интеллектуальной технологии, т. с.
информации, теоретических знаний, рационализации
процессов принятия решений во всех сферах деятельности и т. д.
«Если индустриальное общество основывается на машинной
технологии, то постиндустриальное общество определяется
интеллектуальной технологией, — пишет Д. Белл. — И если
38 Холл Г. Кто противостоит потоку времени. О некоторых
тенденциях политики американского империализма.— Проблемы мира и
социализма, 1983, № 9, с. 9.
39 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in
Social Forecasting. New York, 1973; Bell D. The Cultural Contradictions of
Capitalism. New York, 1976; Bell D. The Winding Passage. Essays
and Sociological Journeys. 1960—1980. New York, 1980.
42
капитал и труд являются главными структурными чертами
индустриального общества, то информация и знания —
основные структурные черты постиндустриального
общества»40. Уже из этой наиболее общей характеристики модели
вытекает, что в новом обществе труд и капитал перестают
играть ту роль, которая выпадала на их долю в прошлом,
следовательно, теряют свое значение и классовые
отношения, классовые антагонизмы, порождаемые глобальным
противоречием между трудом и капиталом. Наступление
«интеллектуально-технологической эры» (совершенно новые
способы производства информации и знаний,
инфраструктура и коммуникации, компьютеризация и т. п.) Д. Белл
изображает как «конец» классово ориентированной
политики в обществе, как процесс преодоления классового
сознания и структурализации общества на принципиально
иной, неклассовой основе.
Именно эта сторона теории Д. Белла, связанная с
проблемой групп и классов в постиндустриальном обществе, нас
сейчас особенно интересует. Свою модель Д. Белл выдает
за теоретическое построение общества, идеально
отвечающего, ультрасовременным тенденциям развития производства,
науки и технологии, и, следовательно, общества абсолютно
рационализированного. Она, эта модель, содержит
элементы, которые, безусловно, разочаровывают демократически
мыслящую часть буржуазной общественности. Речь идет о
том, что Д. Белл предлагает схему по-новому иерархизиро-
ванного общества, сознательно в силу своего
исключительно высокого интеллектуализма отказывающегося от
перспективы установления социального равенства. Не
соперничающие между собой классы или группы, организованные по
профессиональному, национальному, расовому, половому,
конфессиональному и другим признакам, а функциональное
и институциональное членение общества по вертикали на
так называемые ситусы будет определять социальную и
политическую структуру, предусматриваемую моделью.
Ситусы, согласно разъяснениям Д. Белла, — это
постиндустриальные сектора, возможно, центры политического влияния,
обладающие четко определенным местом в системе и
неодинаковым положением в обществе.
Д. Белл выделяет четыре функциональных (научный,
технологический, административный и культурный) и пять институциональных си-
тусов (предприятия, правительственные учреждения, университеты и
исследовательские комплексы, общественные комплексы, военные
комплексы), характеризуя их не как организации для коллективных действий
в общегрупповых интересах, а как ячейки, принадлежность к которым
<° Dialogue, 1978, N 2, vol. 11, p. 4—5.
44
Резкой критике Д. Белл подверг, например, меры по применению
квот для негров и национальных меньшинств США*1. Одно время
некоторые штаты установили порядок, согласно которому известная часть
средств по ряду социальных программ, определенное число вакансий на
предприятиях и мест в учебных заведениях должны были резервировать
за представителями негритянского и иного «цветного» населения США.
Практика «количественных квот» и основанных на них программ
«позитивных действий» в пользу дискриминируемых групп общества,
разумеется, не получила широкого распространения, но шум вокруг нее не
утихает уже много лет. За расширение «квот» выступают прогрессивные
общественные организации, некоторая часть либеральной интеллигенции,
но против них решительно восстал буржуазный «истеблишмент», гневно
возмутились идеологи, выражающие мнение правящих кругов.
Д. Белл осуждает практику «количественных квот» исходя из
указанной выше теоретической конструкции: получение места в
соответствии с «квотой» не является заслуженным достижением индивида, а есть
лишь формальное следствие его принадлежности к группе, результат
коллективного действия, организованного «вымогания» уступок от
общества. «Квоты», с его точки зрения, вредны еще и потому, что они
ведут к нарушению стандартных требований к лицам, поступающим
на работу или учебу, т. е. к отступлению от принципа «равных
возможностей» для всех. В итоге справедливые ожидания лиц, отвечающие
указанным требованиям, приносятся в жертву несправедливости,
заключающейся в том, что место работы или учебы — желанная цель для
многих подготовленных людей — достается просто «представителю»
группы. С точки зрения Д. Белла и его единомышленников, «квоты»
являются «грубой» попыткой преодолеть оправданный принцип «равных
возможностей» в пользу популистского требования «равенства
результатов», которое консерваторы третируют как нереальное,
безответственное, спекулятивное.
Однако в своих выразительных нападках на практику «квот» Д. Белл
тщательно избегает исторического аспекта" проблемы дискриминации
негров и национальных меньшинств Америки. Но именно эта
продолжавшаяся веками дискриминация привела их к такому состоянию, что
они не могут на началах «равных возможностей» с белыми добиваться
занятия престижных рабочих мест или поступать в университеты.
Сегодня широкие круги американской общественности вовлечены в
движение за женское, национальное и расовое равноправие, они уже не
удовлетворены формулой «равные возможности», ибо она ничего не дает
тем, кто фактически поставлен по сравнению с другими в значительно
менее благоприятные условия при поступлении на работу или учебу, кто
заведомо не может дотянуться до «стандартных требований».
Ссылки на «равные возможности» в таком случае
становятся формой оправдания перманентного фактического
неравенства, отказа многим индивидам (именно индивидам, а
не только дискриминируемым группам) в перспективе когда-
либо улучшить свое социальное положение. Чтобы
разорвать «порочный круг», необходимы определенные льготы для
лиц ранее угнетенных, дискриминируемых групп, которые
41 Bell D. On Meritocracy and Equality.—The New Equalitarianism.
Questions and Challenges. Port Washington, New York, London, 1979,
p. 26—28.
43
указывает на определенный общественный статус, на место индивида
в системе общественных отношений. Д. Белл допускает, что между
ситу сными группами будут возникать противоречия, но столкновения
между ними не приведут к изменениям в структуре общества, ибо ни одна
из этих групп не способна занять место другой, ни одна из них не
может быть исключена из системы. Хотя ситусы, представляющие
определенные уровни вертикальной структуры, относительно неподвижны и
четко фиксированны, сами они открыты для индивидов, т. е. «вход» и
«выход» из данного сектора постоянно свободны.
Каждый человек вправе претендовать на принадлежность к
любому ситусу, включая группы самого высшего статуса, утверждает
Д. Белл, но в отличие от классовой принадлежности решающим здесь
будет не право наследования или собственности, а личные заслуги
индивида, определяемые мерой его способностей, талантов, образования,
квалификации, деловых качеств и реальных достижений. Основанный
на заслугах порядок оценки личности и вознаграждения членов
общества Д. Белл, используя некоторые традиции в западной литературе,
именует «меритократией», или, точнее, «справедливой меритократией»,
которая означает зависимость положения человека в обществе от его
чисто индивидуальных качеств и достижений.
Торжествует принцип индивидуализма в его самом
последовательном выражении. Д. Белл отрицает идею групповых прав, оспаривает
«законность» коллективных действий, направленных на достижение
определенных благ для целой группы. Как мы видим, ячейки
«постиндустриального общества» у Д. Белла лишены таких отрицательных, с его
точки зрения, свойств, как стремление группы оказывать
покровительство «своим» индивидам, предоставлять защиту им независимо от личных
заслуг, а только потому, что данный индивид — «рабочий», «женщина»,
«негр» и т. д., т. е. на основе общегруппового атрибута. Это, мол,
приводит к тому, что личность исчезает в группе, деиндивидуализируется,
ее сводят к определенной социальной роли, разделяют и фрагментируют.
Остается только эта роль, точнее, признанные атрибуты данной роли,
отвечающие групповому интересу. В результате коллективных усилий
и действия случайных факторов, способствующих успеху той или иной
группы, индивид получает незаслуженный выигрыш, вознаграждается
несправедливо. Точно так же неоправданны и лишения, которые
выпадают на долю индивида по причине его принадлежности к потерпевшей
поражение в социальной борьбе, дискриминируемой, гонимой и
преследуемой группе.
Короче говоря, все, что получает или теряет индивид, должно стоять
в зависимости от его собственных действий и усилий, а не от его
групповой принадлежности и результатов организованной деятельности
групп. Такая зависимость, подчеркивает Д. Белл, исключает
эгалитарную общественную систему, предопределяет существование социальных
неравенств, которые, однако, выступают как справедливые неравенства.
Для обоснования и увековечивания социальной иерархии и
неравенств Д. Белл мобилизует почти все возможные аргументы, которые
может дать традиционная индивидуалистическая философия буржуазии.
В этом отношении его заботы простираются не только на будущее (ибо,
по его мнению, западному обществу постиндустриальная стадия в
сущности лишь предстоит), но и на реальную политику капиталистических
государств. Так, от правительства США и стран Западной Европы он
требует занять твердую негативную позицию по отношению к
социальным программам партий, профсоюзов, лозунгам движения за женское,
национальное, расовое равноправие и т. д., рекомендует не идти
больше ни на какие уступки или реформы в пользу отдельных классов и
групп.
45
носят компенсирующий характер, являются возмещением
фактического неравенства либо по крайней мере
облегчением, дополнительной возможностью приблизиться к
«стандартным требованиям». Такие льготы вполне справедливы,
ибо они не влекут за собой никаких привилегий, но дают
лицам, находящимся в неблагоприятных жизненных
условиях, связанных с реальным угнетением и дискриминацией,
дополнительные шансы подняться до уровня «равных
возможностей», если он, конечно, в данном обществе
существует.
Таким образом, попытка Д. Белла использовать
аргумент «равных возможностей», чтобы доказать, будто
«квоты» (льготы) для «цветных» в Америке носят
несправедливый характер, является крайне неубедительной, основанной
на абстрактных, внеисторических сопоставлениях и
довольно узком определении справедливости как применении ко
всем людям одинаковой меры, «стандартных требований».
Подобное определение, как мы уже отмечали,
характеризует сугубо формальный аспект проблемы социальной
справедливости, но ничего не говорит об ее субстанциональных
моментах, не отвечает на вопрос о том, какими должны
быть по своему содержанию справедливые действия, акты,
отношения и т. д. Неоконсерваторы, разумеется, не
заинтересованы в поиске субстанционального понятия
справедливости, ибо такой поиск предполагает глубокий анализ
социальных отношений, выработку критериев для оценки
действий, идущих от самой общественной жизни и ее реальных
проблем.
Равные возможности или равные результаты?
Значительное место в спорах об эгалитаризме занимает
вопрос о том, как следует понимать идеал равенства в
современных условиях, отличающихся от образа жизни
буржуазии в периоды антифеодальной борьбы и классического
капитализма. Считают, что данный вопрос нужно решать
заново, ибо капитализм, мол, изменился до неузнаваемости,
перерос все старые концепции и эгалитарные доктрины.
Самые последовательные консерваторы полагают, что
равенство и раньше представляло собой надуманный
химерический идеал, а ныне, дескать, доказана его абсолютная
неадекватность капиталистическому развитию. Идеал
равенства символизирует упадок системы, дезориентирует ее,
толкает на ложный и гибельный путь, заявляют они. «То, что
46
сегодня поставлено на карту, — пишет Д. Белл, — это
переопределение равенства»42.
Пересмотра и уточнения традиционных буржуазных
представлений о равенстве требуют и многие прогрессивные
силы в западных странах, общественные круги, вовлеченные в
движение за равноправие женщин, рас, национальных
меньшинств и т. д. Их не устраивает такое толкование идеала
равенства, которое не связано с проблемами
действительного выравнивания общественных статусов групп и
индивидов и по существу нейтрально по отношению к социальным
неравенствам, имеющимся сегодня во всех
капиталистических странах. Самым известным и широко
распространенным способом выхолащивания и социальной нейтрализации
идеи равенства было и остается сведение данной идеи к
формальному принципу «равных возможностей» (или
шансов).
Сам по себе принцип «равных возможностей» содержит
исторически прогрессивные элементы и в го же время
отмечен печатью социальной ограниченности. Все дело в
характере его интерпретации, а главное, в формах и средствах, с
помощью которых могут быть проведены в жизнь
включенные в него требования. Основное из них состоит в том, что
всем членам общества гарантируются равные условия,
предоставляются (законом, правительством, существующими
социальными и политическими институтами и т. д.) равные
шансы действовать, преследовать цели, которые они ставят
перед собой, добиваться успеха, улучшать свой жизненный
статус, распоряжаться собой, своим имуществом, делать
свободный выбор жизненных путей и т. д.
В свое время этот принцип был направлен против сослов-
но-кастовых, цеховых порядков, аристократических и иных
привилегий, системы прав, приобретаемых по рождению или
в силу принадлежности к определенному сословию, касте,
гильдии и т. д., т. е. против основ несправедливого
феодально-помещичьего строя, где каждая группа или индивид
имели «собственное» право на определенный, предписанный им
системой статус, на заранее известную меру достижений.
«Однако там, где экономические отношения требовали
свободы и равноправия, — писал Ф. Энгельс, — политический
строй противопоставлял им на каждом шагу цеховые путы
и особые привилегии. Местные привилегии,
дифференциальные пошлины и всякого рода исключительные законы
стесняли не только торговлю чужестранцев или жителей
колоний, но довольно часто также и торговлю целых категорий
42 Там же, с. 29.
48
ных критериев, отбирает самых лучших индивидов,
дистанцирует их от «посредственных» и «худших». В свою очередь
целью иерархизации является отбор элиты, формирование
группы «лучших» из числа тех, кто в большей мере, чем
другие, соответствует выдвинутому критерию.
В капиталистическом мире человек с детства
сталкивается с культурой, буквально пронизанной соревновательным
духом, он обречен на участие в нескончаемых «конкурсах»,
начиная с простейших, например на самого сильного
мальчика во дворе, самого лучшего ученика в классе и так
далее и тому подобное. Далеко не ясно, в какой степени
стремление первенствовать, быть везде «лучшим» присуще
человеку как биосоциальному существу, является его
врожденной реакцией на социальную среду (некоторые западные
социологи утверждают, что это именно так), но что
действительно не вызывает сомнений, так это негативное
воздействие на человеческую культуру определенных установок,
доведенных до крайности в капиталистическом мире,
согласно которым морально оправдывается и признается
ценным все то, что помогает человеку превзойти, опередить
других, занять за счет других (иначе просто и быть не
может!) лучшее место в жизни. Люди вступили в жестокое
соперничество друг с другом. К. Лоренц видит в этом один
из «смертных грехов человечества». Можно и нужно
оспаривать социальные воззрения этого автора, но трудно
отказать ему в наблюдательности, когда он пишет о
заинтересованности господствующих классов в усилении гонки и
соперничестве между людьми: «Говорят, что большой вред
человечеству принесли жадность к деньгам и изнурительная
гонка. Оба этих фактора широко используются власть
имущими всех политических направлений и требуют
гипертрофированной мотивации, чтобы включить людей в
состязание»45. Дело действительно в том, что социальные и
политические институты западного общества усиленно
работают, чтобы взвинтить мотивы соперничества, вследствие
которого возникают, структурируются и укрепляются системы
социальных неравенств, иерархии и элиты.
При оценке феномена состязания в широком культурно-
историческом плане, разумеется, нельзя не учитывать, что
определенные виды социального соперничества могут быть
и являются полезными для общества. Соревнование в
труде развивает производительную способность индивидов,
содействует экономическому росту. Соперничество в спорте,
45 Lorenz К. Die acht Todsunden der zivilisierten Menschheit. — So-
zialtheorie und soziale Praxis. Meisenheim am Hlan, S. 294.
47
собственных подданных государства; цеховые привилегии
всюду и всегда стояли поперек дороги развитию
мануфактуры. Нигде путь не был свободен, нигде не было равенства
шансов для буржуазных конкурентов, а между тем это
равенство являлось первым и все более настоятельным
требованием»43.
Буржуазные идеологи выдвинули идею «равных
возможностей» как комплекс всеобщих и унифицированных
требований к группам и индивидам, имеющим равное право
принимать участие в свободном состязании за жизненный
успех. Эта идея, как отмечал американский социолог Т. Пар-
сонс, утверждала универсализм вместо партикуляризма,
статус, достигнутый собственными усилиями человека,
вместо статуса, предписанного ему системой. «В принципе
«равенство возможностей», — констатирует Д. Белл, —
отрицает предпочтения по рождению, непотизм, патронаж и
другие критерии, которые распределяют места иначе, чем
честное состязание талантов и амбиций»44. С самого начала идея
«равных возможностей» выдвигалась как моральное
основание и ведущий принцип свободной конкуренции прежде
всего на экономическом рынке. Но вместе с тем речь шла о
тотальной системе, основанной на жизненном состязании
индивидов, в котором победит, получит выигрыш только тот,
кто не ленив, предприимчив, умен и предусмотрителен,
обладает волей к успеху, жаждой власти и тому подобными
«лучшими» качествами.
Отметим два изначально присущих концепции «равных
возможностей» свойства: ее соревновательный характер и
индивидуализм. Стремление утвердить конкуренцию
(состязание, соревнование) как универсальное начало
буржуазного образа жизни свидетельствует о том, что идеологи
возрождающегося капитализма мало заботились о
перспективах выравнивания применительно к общественным классам,
социальным структурам, институтам и т. д. Совершенно
очевидно, что общество, основанное на конкуренции групп или
индивидов, никогда не сможет стать обществом
социального равенства. По своей природе состязание — это процесс,
результатом которого являются неравные достижения
участников: одни (немногие) выигрывают больше, другие —
меньше, третьи достигают очень малого или вовсе проигрывают.
Всякое состязание вообще имеет смысл лишь постольку,
поскольку оно создает иерархию, определяет на основе извест-
43 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 107.
44 Bell D. On Meritocracy and Equality. — The New Equalitarianism.
Questions and Challenges, p. 29.
49
в искусстве, в науке и т. д. приносит пользу, если оно
помогает совершенствовать, шлифовать человеческие таланты,
закаляет волю к успеху. Организация социалистического
соревнования, у истоков которой стоял В. И. Ленин, тем
отличается от состязания в буржуазном смысле, что она
соединяет соответствующие процессы в отдельных ячейках
общества в целостную, единую систему, постоянно контроли-1
руемую и сознательно направляемую на основе широких
общественных интересов, глобальных ценностей демократии,
общего блага, справедливости и т. д.
Если отдельные соревновательные процессы,
контролируемые и организованные в известных сферах и пределах,
могут ускорять общественное и индивидуальное развитие,
объективно, хотя и небезгранично, действовать в качестве
фактора прогресса, то культурное значение
состязательности как широкого жизненного принципа вызывает сомнение.
Буржуазные идеологи молчаливо исходят из того, что
полезность конкуренции сама собой разумеется, является
очевидной. Никто не пытался серьезно объяснить, в чем
состоит социальная ценность конкуренции, какой характер носит
ее реальное воздействие на людей, каков ее вклад в
человеческую цивилизацию. «Я не знаю ни одного морального
аргумента, — вполне резонно заявляет американский автор
О. Паттерсон, — оправдывающего соревнование как
положительную моральную ценность. Часто утверждают, что
соревнование обеспечивает отбор наиболее
квалифицированных и компетентных людей для более ответственной работы.
А что делать остальным, менее одаренным интеллектуально
или менее одержимым соревновательным психозом?»46 Идея
соревновательности легитимируется, т. е. оправдывается
необходимостью отбора лучших, а чем можно оправдать этот
отбор? Неужели только тем, что кому-то хочется быть
непременно первым, иметь материальные и моральные
преимущества, связанные, как правило, с первенством?
Состязание, которое лежит в основе буржуазного образа
жизни и для участников которого идеологи капитализма
требуют равных возможностей, есть нечто иное по своему
качеству и, конечно, более серьезное, чем соревновательный
ажиотаж, скажем, в спорте и в искусстве. Одно дело, если
места в процессе состязания распределены в зависимости от
того, кто сильнее, быстроходнее, искуснее других в каком-
либо деле или занятии, и совсем другое — если высшие
призы в обществе достаются фактически самым хитроумным,
предприимчивым, пронырливым, неразборчивым в средствах
людям. В спорте и в искусстве состязание происходит на
46 Equality and Social Policy. Urbana etc., 1978, p. 22.
50
основе более или менее четко определенных критериев
отбора лучших. В повседневной конкуренции между людьми
таких критериев нет, или они определены приблизительно,
формально, с большой вероятностью отклонений и
искажений. Вот почему никогда нельзя сказать, что в жизненном
соревновании, т. е. в своеобразном грандиозном конкурсе
под девизом «Лучшим людям — лучшие места в обществе»,
побеждают действительно лучшие.
Современная жизнь на Западе изобилует ситуациями, в
которых человек, подобно игроку, принужден делать
ставку, брать на себя риск, быть готовым к выигрышу или
проигрышу, успеху или поражению. Ненадежность критериев, о
которой говорилось выше, огромная роль случая в
соревновательном процессе постоянно усиливают беспокойство
людей за исход рискованной игры, в которую они по
необходимости вовлечены своими потребностями и желаниями. Чем
больше намеревается достигнуть индивид, чем выше его
ожидания и претензии, тем сильнее зависимость от прихотей
судьбы и страх перед всегда возможной и реальной
перспективой потерпеть поражение в борьбе за жизнь. И в тех
случаях, когда человек хорошо подготовил свой будущий
успех и чувствует себя застрахованным от провала, он все
равно боится, что конкуренты добьются большего, оставят
его позади, боится упустить шансы, не использовать
возможности, не получить всего того, на что рассчитывал. Не
естественный и здоровый активизм, как может показаться
на первый взгляд, а скрытый или явный страх, боязнь не
удержаться на поверхности толкают индивида в
стремительный водоворот жизни, не дают ему расслабиться,
остановиться, выйти хоть на минуту из бесконечной гонки и суеты.
Одержимая соревновательным азартом, разгоряченная в
погоне за успехом, личность становится психически
неуравновешенной. «Страх провала, который усугубляется
всепроникающей конкуренцией, является бросающейся в глаза
чертой американского склада ума, — констатирует
американский психолог Г. Боннер. — От страха родителей за то,
что ребенок окажется неженкой, боязни быть застигнутым
врасплох и не найти ответа на вопросы в школе и дальше к
необходимости не отстать, если не обогнать других, — всем
этим личность резко ограничивается»47. Свой страх перед
жизнью, часто не сознаваемый в полной мере, человек
пытается компенсировать усиленным потреблением,
присвоением как можно большего числа вещей и предметов,
стремлением к престижным культурным ценностям, погоней за
чувственными наслаждениями.
47 Bonner Я. Psychology of Personality. New York, 1961, p. 293.
52
шающим их артериальное давление, вызывающим
морщины и ранние инфаркты и другие подобные вещи.
Торопящийся человек соблазнен не только алчностью. Самые
большие соблазны смогли бы причинить ему не такие уж
сильные самоповреждения, но он гоним, а то, что его гонит,
есть только страх»50. Сбитый с толку, преследуемый
кошмарами «соревновательного общества», индивид перестает
воспринимать подлинные, отвечающие природе человека51
ценности, живет в мире иллюзорных представлений,
мнимых ценностей, которые в огромном количестве создаются
современной «упадочной цивилизацией». «Смертный грех
цивилизованного человечества» (один из восьми) К. Лоренц
определяет так: «Соперничество человечества с самим
собой, которое ускоряет развитие технологии к нашему
упадку, делает людей слепыми ко всем истинным ценностям и
забирает у них время, необходимое для истинно
человеческой мыслительной деятельности»52. Верно, что такой
«грех» существует и человечество дорого расплачивается
за него. Но К. Лоренц выступает вполне в духе буржуазных
идеологических традиций, сваливая порок
капиталистической системы на человеческую культуру, историю,
цивилизацию. Представлять дело таким образом, будто вечное
соперничество людей из-за богатства, престижа,
материальных и духовных благ есть «тяжкий грех» человеческого
общества, исторически неверно.
Культ соперничества, состязательности — это сугубо или
по преимуществу буржуазное явление, предполагающее
беззастенчивую эксплуатацию таких отнюдь не
благородных человеческих качеств, как жажда наживы, алчность,
честолюбие и властолюбие, эгоизм, зависть к успехам
других и т. д. Свойственное людям стремление к известным
целесообразным формам соревновательности,
доставляющим им пользу и удовольствие, буржуазная система
отделила от его разумной основы, абсолютизировала, превратила
в непомерно развившийся, абсурдный культ соперничества.
Такого культа не было и не могло быть в первобытном
обществе, где стремление человека выделиться из среды себе
подобных не всегда поощрялось, а порой даже
подавлялось. Уровень развития производительных сил и культуры
50 Lorenz К. Die acht Todsunden der zivilisierten Menschheit. — So-
zialtheorie und soziale Praxis, S. 294—295.
51 К. Лоренц имеет в виду прежде всего биологическую сущность
человека. Марксистское понимание «природы человека» подчеркивает
в ее содержании общественное бытие, социальную действительность,
раскрываемую через человеческие интересы, потребности и отношения.
*2 Lorenz К. Die acht Todsunden der zivilisierten Menschheit.— Sozi-
altheorie und soziale Praxis, S. 338.
51
Соперничество в сфере потребления превратилось, по определению
Эриха Фромма, в «потребительский идиотизм»48. Неудержимая страсть
к приобретательству усиливает атмосферу нервозности, беспокойства.
Человек тянется к вещам, чтобы преодолеть чувство внутренней пустоты
и слабости, страдает от этой тяги к потреблению. Ожирение огромного
числа людей, считает Э. Фромм, есть следствие постоянного переедания,
за которым стоит нечто неосознанное, а именно депрессия и страх.
Человек бессилен вырваться из порочного круга: «чем больше его страх,
тем больше он должен потреблять, а чем больше он потребляет, он
приходит еще в большее состояние страха»49.
В состязании потребителей на карту поставлены любовь, дружба,
уважение, искажены, становятся все более превратными представления
о свободе и счастье людей. «Свобода», или, вернее, «псевдосвобода»,
отмечает Э. Фромм, коренится в сфере потребления и заключается в
возможности выбрать марку товара, например сигареты «Честерфильд»
вместо сигарет «Мальборо». Такой выбор дает потребителю видимость
власти и эфемерное, ложное осознание себя как личности: он может
определять себя как личность тем, что курит «Честерфильд». Под
счастьем широко понимают возможность достичь всего, чего желаешь,
т. е. счастье есть успех в потреблении, широко понимаемый как
жизненный успех. Единственное, что мешает счастью, — это недостаточная
сумма денег, для того чтобы купить все, что ты хотел бы потребить.
Относящийся к 50—60-м годам анализ конкурентного
потребления у Э. Фромма, анализ резкий и беспощадный,
не утратил своего значения и в наши дни. Многие черты
этого потребления в западных обществах развились, стали
еще более опасными. Состязание, гонка в потреблении
продолжается, производя поистине страшный продукт —
тип опустошенного, тривиального, поверхностного и
сумасбродного человека. Люди страдают от нервных
расстройств, душевных потрясений, которые вытекают из
соперничества с себе подобными. Человек теряет способность
к самопознанию.
Обратимся вновь к К. Лоренцу, подметившему это
обстоятельство. Зловредное действие гонки, пишет он, или,
возможно, производимый ею страх приводят к тому, что
человек явно не способен хоть на минуту быть самим собой.
Он избегает самоосмысления и самоуглубления, опасаясь,
что рефлексия может представить ему ужаснейший
автопортрет. Но человеческое существо, замечает К. Лоренц,
если оно перестает размышлять, рискует утратить все свои
специфические особенности и достижения. «Значительную
роль играет еще и страх быть кем-то обойденным в
соревновании, не улучшить достигнутого положения. Страх в
любой форме совершенно очевидно стал существенным
фактором, подрывающим здоровье современных людей, повы-
48 Fromm Е. Konsumidiotismus — Neues Forum, 1970, N 194/1,
S. 91—93.
49 Там же, с. 92.
53
того времени исключал создание и накопление ценностей,
ради которых стоило бы вступать в состязание и вести
борьбу друг с другом.
В период господства рабовладельческого строя и
феодализма правящий класс, захвативший в свои руки все
плоды общественного прогресса, искусственно, с помощью
внеэкономического принуждения, религиозной,
политической и юридической регламентации ограничивал,
сдерживал конкуренцию в обществе, подавлял ее очаги ради того,
чтобы не рисковать своими привилегиями. Каждый
человек принужден был всю жизнь оставаться в той социальной
среде и на том месте, к которым он принадлежал по
рождению. Под знаменами свободы и равенства для всех
людей прогрессивные силы общества во главе с буржуазией
сокрушили этот порядок. Новый буржуазный строй,
однако, воспринял и развил в себе все черты «состязательного
общества», он не стал и не мог стать действительно
свободным и равным.
Буржуазный строй, формирующийся на основе
состязательности иерархии и элиты, не способен обеспечить
свободу личности. В нем заложено ограниченное, формальное и
чисто процедурное понятие свободы, согласно которому
возможность избирать себе цели, связанные с
продвижением в обществе, а также определение путей и средств
достижения данных целей (за исключением предписанных
социальными нормами) отнесены к личному усмотрению
самого индивида, признаны предметом его «свободной
воли». Данная концепция развязывала руки
состоятельному буржуа, который с большим энтузиазмом ринулся в
стихию «состязательного общества», схватывая один приз
за другим и оставляя там, где прошел, пустоту и несчастья.
Свобода меньшинства достигается ценой несвободы
большинства членов общества.
О подлинном равенстве общественных статусов групп и
индивидов в условиях состязательной общественной
системы не приходится говорить, поскольку оно полностью
исключается всей ее организацией, покоящейся на иерархии
и фаворитизме, универсальной сегрегации общества,
отделении «лучших» от «худших». Будучи иерархичной и
элитарной, указанная система способна совмещаться только с
идеей процедурного равенства, значение которой опять-таки
очень ограниченно и формально. Эта идея и выражается в
концепции «равных возможностей». Последняя
характеризуется как явление, эндемичное обществу, организованному
на состязательной основе. Не случайно в буржуазной
литературе синонимом «равенства возможностей» часто слу-
54
жат выражения: «равенство стартовых позиций»,
«равенство стартовых условий». Проблемы выравнивания
возможностей индивидов, участвующих в жизненном соревновании,
относят, таким образом, не к результатам, а к начальной
стадии состязания, к старту. Важно, мол, обеспечить
одинаковые исходные позиции людей, равные условия на
старте, а результаты соперничества будут определяться
свободно, в зависимости от успехов и достижений участников.
Давно и справедливо подмечено, что «равенство
возможностей» есть социально неопределенный и логически
неясный термин. Что значит «возможность» в этом термине?
Каким образом следует выравнивать возможности одного
человека и другого? Бегуны перед началом состязания
выходят на одну, четко обозначенную стартовую линию.
В жизненном соревновании такую линию прочертить
нельзя. Люди начинают свой путь к цели в условиях очень
разнообразных, часто почти недосягаемых для контроля, а тем
более для унификации. Различный общественный,
групповой и семейный статус, неодинаковые характер воспитания
и уровень образования, уникальный для каждого индивида
набор личных качеств, способностей, степень одаренности
и воли к успеху и, наконец, умение пользоваться
общественными и групповыми средствами, неожиданными и
случайными обстоятельствами — все это делает идею «равных
возможностей», как на старте, так и в ходе жизненного
соревнования, в высшей степени проблематичной. Если нельзя
сделать одинаковыми ни самих людей, участвующих в
состязательной гонке, ни их отношения к социальной и
природной среде, которые облегчают или препятствуют
достижению успеха, то вновь и вновь возникает вопрос: а где же,
собственно, равные возможности?
Буржуазные идеологи постарались обойти этот вопрос,
прибегнув к испытанному методу противопоставления
ценностей и действительности, нормативного и фактического
начала в общественной жизни. Благодаря данному методу
«равные возможности» становятся долженствованием,
которое не следует отождествлять или смешивать с
действительностью. Это — норма, императив, ценностный принцип,
который означает, что каждый может (или не может)
делать (или не делать) то, что разрешено (или запрещено)
общей и равной для всех нормой.
Практически такая трактовка означает сведение
принципа «равных возможностей» к установлению формального
юридического равенства граждан перед законом.
Оказалось, что равными являются не те возможности, которые
реально существуют у отдельных членов общества, а дозво-
56
ального осуществления54. В правовом равенстве, которое
есть просто возможное, а не действительное, Маркс видел
фикцию. Сегодня, сетует автор, этот взгляд стал почти
всеобщим: сверх формального равноправия требуют еще
равенства шансов, считают, что не только правовые, но и
фактические возможности должны быть выравнены. Что же
противопоставляет автор этим «заблуждениям» нашего
времени? Он усматривает правильное разрешение
проблемы в обращении к так называемому мегарическому
понятию возможности в аристотелевском смысле, достоинство
которого автор видит в том, что оно берет «возможное» не
как противоположность «действительного», а как коррелят
«посильного», лежащего в пределах способностей и
умений. Здесь возможное означает то, для осуществления чего
имеются общие условия, которые действительны. В «мега-
рическом» понятии представление о шансах не сводится к
материальным условиям, но психологизируется и
посредством мотивации распространяется на особенности
субъекта55. Отсюда формальное равенство перед законом в
качестве возможности совершенно равнозначно
материальному равенству шансов. Какие еще реальные возможности
нужны тем, кто имеет право? Им остается только
действовать в меру своих сил и способностей.
Подобная квазинаучная аргументация, разумеется, не
снимает и даже серьезно не затрагивает социального
значения марксистской критики формального юридического
равенства, не содержит решительно ничего такого, что
могло бы убедить людей в том, что указанное равенство
само по себе достаточно в общественной жизни. В
соответствии с марксистско-ленинскими представлениями чисто
абстрактные возможности существуют лишь в связи с
действительным миром. Не изоляция и не параллелизм
возможного и действительного, а бесконечный процесс
перехода того, что может или должно быть, в то, что есть. Дело
не в отрицании абстрактной возможности — она существует
и постоянно проявляет себя как «задаток бытия», один из
моментов диалектического развития, — а в ее истолковании
как потенциального состояния, превращающегося при
известных условиях в состояние реальное, которое в свою
очередь порождает новые потенции, способности мира к
саморазвитию. Этот многофазный, глубокий, сложный и
универсальный процесс движения от абстрактной возможности
54 Spaemann R. Bemerkungen zum Problem Gleichheit. — Zeitschrift
fur Politik, 1975, Jg. 22, Heft 3, S. 232—237.
55 См. там же, с. 236—236.
55
ления, разрешения, условия и запреты действовать («ты
можешь!», «ты не можешь!»), вытекающие из юридической
нормы, закона. Консервативные идеологи застряли на той
мысли, что юридическое равенство граждан перед законом
есть единственно реальная форма «равных возможностей»,
«равенства вообще». В такой интерпретации возможности и
впрямь казались выравненными в силу того, что все члены
общества обязаны подчиняться единым установленным
нормам, одинаково отвечать за их нарушения, никто не
поставлен законом в лучшее или худшее положение по
сравнению с другими. Неравенства фактического социального
положения людей (классовые, групповые и пр.) и весьма
неодинаковые возможности, связанные с реальным
статусом, как бы лежат по ту сторону от нормы и закона. Они
не подлежат корректировке юридическими и иными
средствами регуляции общественных отношений.
Буржуазный принцип формального равенства граждан
перед законом практически нейтрален в отношении
классовых, групповых, индивидуальных неравенств. Равное
право, писал Ф. Энгельс, «признано на словах, с тех пор
как буржуазия в борьбе против феодализма и ради
развития капиталистического производства вынуждена была
уничтожить все сословные, то есть личные, привилегии и
ввести юридическое равноправие личности сперва в
области частного, а затем постепенно и в области
государственного права. Но стремлению к счастью в наименьшей
степени нужны идеальные права. Оно нуждается больше всего в
материальных средствах, капиталистическое же
производство заботится о том, чтобы огромное большинство
равноправных лиц имело лишь самое необходимое для самой скудной
жизни. Таким образом, капитализм вряд ли оказывает
больше уважения равному праву большинства на счастье, чем
оказывало рабство или крепостничество»53. Принцип
равенства граждан перед законом функционирует как социально
выхолощенное, деполитизированное понятие, в котором
реальные возможности, определяемые классовыми
отношениями и борьбой в обществе, подменены абстрактными
юридическими возможностями.
В современной буржуазной литературе
предпринимаются попытки «преодолеть» марксистскую критику
указанного принципа за счет специальной интерпретации понятия
«возможность». Так, западногерманский автор Р. Шпайман
полагает, что К. Маркс вкладывал в данное понятие
слишком узкий смысл: он будто бы считал, что возможность как
таковая не существует, если она не является процессом ре-
53 Маркс Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. УН—298.
57
к реальной, а от нее — к действительности нельзя заменить
или подменить какими-то частичными коррелятивными
связями. Консерваторы считают наиболее приемлемой
социальную стратегию, которая была бы способна создавать для
членов соревновательного общества равные условия на
старте с обеспечением полной свободы достижений на
финише, т. е. с гарантией неравных результатов,
соответствующих неодинаковым способностям людей добиваться
успеха. Типичные аргументы в пользу такого направления
общественного развития приводит, например, идеолог Христи-
анско-демократического союза ФРГ К. Биденкопф, излагая
консервативные программные установки своей партии.
«Неравенство результатов личных достижений, — пишет
он, — может быть принято обществом, если обеспечено
равенство шансов. Обеспечение такого равенства" есть
единственно уместная реакция общества на естественные
неравенства людей. Стремление к равенству, которое идет
дальше обеспечения равных шансов, в принципе нарушает
условия человеческого существования. Они не
соответствуют природе человека»56. Сторонники «равенства»
результатов (а это и есть, собственно, эгалитаристы) предлагают
меры, проведение которых означало бы выравнивание
достижений на финише, сокращение разрыва в получениях,
которыми вознаграждается успех либо фиксируется
неудачное участие субъекта в распределении.
Решающий аргумент эгалитаристов состоит в том, что
отсутствие какого-либо прогресса в обеспечении
«равенства» результатов общественного распределения, т. е. в
обеспечении реальных процессов сокращения социальных
неравенств в обладании собственностью, богатством и
доходами, неизбежно ведет к выхолащиванию и формализации
принципа «равных возможностей». Последний сам по себе
не способен создавать структуры справедливого
распределения. «Предположение, что справедливость может быть
достигнута созданием равных возможностей, — пишут
авторы одного из исследований современной системы
распределения в Австралии, — является упрощением, потому что
оно игнорирует противоположные эффекты неравенств в
доходах, богатстве и власти, которые уже существуют в
обществе... Равенство возможностей может стать
эффективным только при обеспечении справедливости в обществе,
где существует высокая степень равенства в распределении
56 Biedenkopf К. Gesellschaftliche Gleichheit in der Sicht der CDU —
Zeitschrift fur Poirtik, 1975, Jg. 22, Heft 3, S. 251,
5&
доходов и богатств»57. Американские «новые эгалитаристы»
приходят к вполне обоснованному выводу, согласно
которому при существующих неравенствах, создаваемых и
воспроизводимых общественной системой США, всякие
серьезные попытки провести в жизнь идеал равенства
возможностей обречены на неудачу. «Выравнивание
возможностей является почти невероятным без значительного
снижения абсолютного уровня неравенства...»58 — утверждают
Кристофер Дженкс и его соавторы по исследованию
воздействия семьи и школы на формирование социальных
неравенств в Америке.
Получается что-то вроде заколдованного круга:
равенство результатов является заведомо недостижимым без
гарантированного равенства возможностей, а последнее
нельзя создать, не имея базы в виде определенного
равенства результатов. «Новые эгалитаристы» находят как будто
бы приемлемый для капиталистической системы выход.
«Если мы хотим сократить неравенства, то у нас есть две
возможности выбора, — заявляют они. — Первая
возможность состоит в том, чтобы сделать систему менее
состязательной, уменьшив выгоды, которые проистекают из
успеха, и цену, уплачиваемую за провал. Вторая
возможность— в создании уверенности, что каждый вступает в
состязание с равными преимуществами и неудобствами»59.
Когда общество и государство официально заявляют о
своем стремлении достичь равенства возможностей и
результатов, полагают «новые эгалитаристы», они должны
отказаться от бесплодных попыток вначале полностью
осуществить один принцип, имея в виду приступить после
этого к реализации другого, они должны решать эти задачи
постепенно и одновременно. Эгалитаристы предлагают
стратегию медленных и осторожных реформ,
направленных на модификацию существующих механизмов
капиталистического распределения.
Однако указанная стратегия оспаривается не только
консерваторами, что естественно и понятно, но и частью
либеральных идеологов, принципиально отвергающих идею
равных результатов применительно к системе
распределения и классовой структуре капиталистического общества.
При этом либералы часто опираются на некоторые
положения своеобразно интерпретируемой теории социальных не-
57 A just society? Essays on Equity in Australia. Sydney, London,
Boston, 1981, p. 11.
58 Jencks Chr. a. o. Inequality. A Reassessment of the Effect of
Family and Schooling in America. New York — London, 1972, p. 4.
59 Там же, с. 7.
59
равенств. Заметим в этой связи, что в западной литературе
иногда выделяют два вида неравенств в обществе,
понимаемом как единая система60. Одни из них связаны со
структурами общества, отражают определенную связь
социальных элементов внутри целого; другие выражают
неравномерность распределения свойств и качеств между
отдельными элементами общественной системы. Первые
представляют собой структурные неравенства, обычно включаемые
в понятие «социальная стратификация». Вторые — это так
называемые дистрибутивные неравенства, отличающиеся
высокой степенью динамичности, подвижности. Они могут
вызывать или не вызывать «стратификационные
изменения» в зависимости от того, может ли тот или иной
результат распределения (доход, вознаграждение и т. д.)
формировать социальный статус или поддерживать его на
определенном уровне. Дистрибутивные неравенства, т. е.
различия между людьми в реализации некоторых социальных
благ61, не всегда влекут за собой формирование или
изменение структурных социальных неравенств.
Попытаемся теперь, обратившись к концепциям западногерманского
социолога Р. Дарендорфа, показать, как используются категории
социальных структур и стратификации для обоснования антиэгалитарных
установок. В западной общественной науке Р. Дарендорф — фигура
весьма заметная. Это — плодовитый автор, с именем которого связаны
попытки направить буржуазную социологию по «новому» пути,
разработать теоретические схемы и подходы к общественным проблемам,
рассчитанные на то, чтобы соперничать с марксизмом и чуть ли не
превосходить его. Подвергнув критике функционализм как ограниченную
методологию, следствием применения которой являются бесконфликтные,
лишенные внутренних противоречий и динамики, следовательно,
нереалистические модели общества, он выдвинул так называемую конфликтную
модель. При этом он «позаимствовал» у марксистской теории классов
ряд положений и определений, объявив марксизм устаревшим и
неадекватным нынешнему состоянию западного индустриального общества62.
В последние годы, которые принесли крупные неудачи и
разочарования, связанные с проведением либеральной политики и идеологии,
Р. Дарендорф ищет выход из кризиса, не отвергая либерализм в
принципе, как это делают консерваторы, а пытаясь переосмыслить его, дать
ему новое дыхание, обеспечить его будущее63. Присущие Р. Дарендорфу
претензии стать над многими направлениями буржуазной общественной
60 Duvall R. Issues in the Theory and Assessment of Social
Inequality. — Global Inequality: Political and Socioeconomic Perspectives. Boulder,
1979. p. 4-5.
61 См. там же, с. 8.
62 Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society.
Stanford, 1959.
63 Dahrendorf R. Die neue Freiheit: Dberleben und Gerechtigkeit in
einer verandertcn Welt. Munchen—Zurich, 1975; Dahrendorf R. Life
Chances. Approaches to Social and Political Theory. Chicago, 1979;
Dahrendorf R. Liberale Politik fur morgen. Liberal, 1982, Jg. 24, Heft 5, S. 338—
346.
60
мысли, склонность к поиску решений, находящихся между
крайностями, необходимо учитывать при оценке его взглядов по отдельным
вопросам, в частности на отношение равенства возможностей и результатов.
«Конфликтная модель» общества у Р. Дарендорфа включает в себя
социальные неравенства как необходимый структурный элемент. Если
для функционалистов буржуазное общество, как с иронией замечает
Р. Дарендорф, есть «общая ценностная система, которая объединяет
всех людей в большую счастливую семью»64, то его модель
предполагает существование социальных групп и классов, отличающихся по
своему статусу и месту в социальной структуре. Между неравными
группами, классами происходят постоянные конфликты и борьба, но причины
этого, утверждает Р. Дарендорф, лежат не в отношениях частной
собственности, как полагал К. Маркс, а в структуре власти,
господствующей в данном обществе. Власть является субстратом социальной
структуры, движущей силой истории, центральной категорией анализа
социальных структур и процессов65. Отношения власти и авторитета не
только центр социальной структуры, но и очаг конфликтов, вызывающих
общественные изменения. Именно через властную организацию каждое
общество по-своему устраивает и переделывает иерархию классов и групп,
возвышает позиции одних, дискриминирует других. Базой для
авторитарной организации общественных структур служат социальные, в
основном правовые, нормы и присоединяемые к ним санкции, посредством
которых группы и классы на определенное время удерживаются в своем
состоянии.
Наличие права в данном обществе, подчеркивает Р. Дарендорф,
есть само по себе достаточное условие структурных социальных
неравенств. «Существует неравенство, потому что есть право, — пишет он,—
если имеется право, должны быть также неравенства среди людей»w.
По мнению Р. Дарендорфа, в правовых системах становятся едиными
нормы, санкции и власть, которые якобы логически предшествуют
социальным структурам и определяют их. В конечном счете индивидуальный
статус также обусловлен степенью конформизма, приспособления
человека к правящим нормам, которые исходят от господствующего
авторитета, власти. Иначе говоря, конфликтная теория Р. Дарендорфа
основывается на предположении, согласно которому «фундаментальное
неравенство и постоянная детерминанта социального конфликта есть
неравенство власти и авторитета, которое неизбежно сопровождает
социальную организацию»67.
Структурные законы человеческого общества в интерпретации
Р. Дарендорфа не обещают ничего утешительного: борьба и конфликты
на групповой и классовой основе есть вечный удел человечества.
В перспективу бесклассового общества, в котором исчезнут всякие
конфликты, Р. Дарендорф не верит, ибо, полагает он, люди всегда
найдут то, из-за чего можно поссориться. Связанные с
принуждением,-санкциями и властью, социальные неравенства несут начало собственного
уничтожения. На смену им приходят новые неравенства, потому что
классы и группы низшего статуса постоянно делают попытки наложить
на общество систему норм и санкций, обеспечивающую им лучшее
место в жизни. Со временем эти попытки достигают успеха, победители
64 Dahrendorf R. On the Origin of Inequality among Men.— Social
Inequality. Harmondsworth, 1969, p. 41.
65 Dahrendorf R. Life Chances. Approaches to Social and Political
Theory, p. 47—48.
66 Dahrendorf R. On the Origin of Inequality among Men. — Social
Inequality, p. 34.
67 Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society, p. 64.
61
через механизмы власти и права утверждают выгодный им порядок
социальной стратификации. Неравенство, говорит Р. Дарендорф, является
«динамическим импульсом», который способствует выживанию
социальных структур. Без неравенств человеческое общество невозможно,
поэтому полная отмена неравенств исключена. Никакая система
социальной стратификации не может сбросить с себя и освободиться от этого
взрывоопасного элемента, вносящего беспокойство и вечную
напряженность в отношения людей. Вывод Р. Дарендорфа подчеркнуто
пессимистичен: не может быть идеального справедливого общества, и мечта о нем
есть лишь утопия.
Из всего этого вполне определенно вытекает отрицательное
отношение Р. Дарендорфа к равенству и эгалитаризму. Он признает, правда,
что выравнивание статусов, на которое рассчитывали приверженцы
политики благосостояния, может смягчать классовые и групповые
конфликты, но несущественно и ненадолго. У равенства, полагает он,
имеются определенные социально-структурные границы, есть точка, дальше
которой фанатичные эгалитаристы сталкиваются с непреодолимой
реальностью социальных структур68. Эгалитаризм, который не считается
с этими границами, утрачивает связь с жизнью и становится утопией69.
В данном пункте консервативные идеологи довольно часто ссылаются на
либерала Р. Дарендорфа и охотно цитируют его слова: «Идея
совершенно эгалитарного общества не только нереалистична, она ужасна.
Утопия не есть убежище свободы, но, вечно несовершенная схема
неопределенного будущего, она есть убежище тотального террора и
абсолютной скуки»70.
Понятие структурного неравенства у Р. Дарендорфа
сформулировано таким образом, что оно совершенно не способно ужиться с идеей
равенства результатов, является по отношению к последней активным и
бескомпромиссным контраргументом. Впрочем, и равенству
возможностей в концепциях этого автора отведено совсем немного места. Лишь
в формальном юридическом равенстве граждан перед законом видит он
структурно ограниченный, но все же допустимый принцип. В одной из
последних своих работ Р. Дарендорф специально исследует
возможности человеческого развития в обществе, выдвигает понятие «жизненные
шансы», с помощью которого пытается преодолеть, как он сам об этом
пишет, некоторую абстрактность и формализм своих прежних
конструкций 11. Дарендорф приходит к довольно широкому и неопределенному
пониманию «жизненных шансов» как суммы благоприятных
возможностей и позиций, которыми располагает индивид, как различные
комбинации возможностей выбора и социальных связей, определяющих жизнь
человека. Это — то, что дано людям объективно и требует их
адекватной реакции.
Жизнь человека есть, по Р. Дарендорфу, ответ на «жизненные
шансы». Постоянное расширение последних отражает непрекращающийся
процесс создания принципиально новых возможностей для
индивидуальной деятельности, развития человеческой природы, т. е. процесс
самой жизни. Задача общества заключается в том, чтобы открывать
перед людьми новые «жизненные шансы», тогда как точно и полно реаги-
68 См. там же, с. 64.
69 Dahrendorf R. Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode
der Soziologie. Munchen, 1967, S. 378—379.
70 Dahrendorf R. On the Origin of Inequality among Men — Social
Inequality, p. 42; Dahrendorf R. Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie
und Methode der Soziologie, S. 379.
71 Dahrendorf R. Life Chances. Approaches to Social and Political
Theory.
63
регулирования честного состязания и обмена, для
реализации различных желаний и способностей»74.
В состязательном обществе индивид, таким образом,
сам «творит» себя, и делает он это полностью под свою
ответственность. Он никому не обязан своим успехом, но и
за провал отвечает только сам перед собой. Прибегая к
некорректному отождествлению понятий «равенство
возможностей» и «равенство социальных условий»,
консерваторы делают еще один приятный для себя вывод. Если для
всех в обществе созданы одинаковые стартовые условия, то
их можно полностью игнорировать при оценке
индивидуальных достижений на финише, исключить как фактор,
влияющий на итоги социальных распределительных
процессов.
При такой, с позволения сказать, методологии
снимается ответственность с общественной системы за результаты
распределения. Выходит, что капиталист получает огромные
доходы единственно лишь благодаря своим высоким
индивидуальным качествам и личному превосходству над теми,
кто имеет меньший доход. Успех или неуспех, богатство
или бедность, лучшие или худшие позиции, которыми
обладает человек, теряют связь с его социально-классовой и
групповой позицией. «С точки зрения консерваторов,
доктрина равных возможностей, — пишет один из американских
авторов, — остается последним средством поддержания
социальной стабильности. Основным ее преимуществом
является то, что индивид, не добившийся успеха в жизни, будет
винить за это только себя самого»75. Доктрина с
подобными «преимуществами» действительно представляет собой
истинную находку для капиталистического общества, где
успеха достигают немногие, а провалы и крушения—удел
большинства.
Критики принципа «равных возможностей»,
принадлежащие к либерально-эгалитарному лагерю, подчеркивают
возрастающую его неадекватность требованиям
социального прогресса, а также дисфункциональную роль в
формировании и изменении социальных структур. Принцип
стимулирует агрессивный тип поведения, поощряет членов
общества, которые упорно стремятся к успеху, выгоде,
одержимы страстью побеждать и превосходить других. Он
исходит из идеализированного представления о человеке-
соискателе, претенденте, который полученные от природы,
74 Bell D. On Meritocracy and Equality.—The New Equalitarianism.
Questions and Challenges, p. 29.
75 Equality and Social Policy, p. 23—24.
62
ровать на них — это проблема личности и ее свободы. Осваивая
«жизненные шансы», человек должен сам создавать для себя многие условия,
способствующие расширению его перспектив. Поэтому стремление
уравнивать «жизненные шансы» и широко проводить принцип «равных
возможностей» вступает в противоречие с обеспечением человеческой
свободы. Эгалитаризм, по мнению Р. Дарендорфа, повинен в том, что в
настоящее время «динамика равенства все в большей степени стремится
стереть границу между необходимым равенством возможностей и
расхолаживающим равенством существующих условий»72. Если учесть, что
создание новых «жизненных шансов» есть, по Р. Дарендорфу,
«мистический процесс, который лишь в самой малой степени может быть
вызван преднамеренными действиями»73, то получается, что равенство
возможностей сведено в основном к тем стихийно возникающим
предпосылкам человеческой деятельности, которые являются общими и
одинаковыми для всех индивидов. Во всяком случае речь не идет о том, чтобы
создавать равные возможности на уровне общественной деятельности,
открывающей новые «жизненные шансы».
Ограниченное и узкое понимание равных возможностей
как нельзя лучше устраивает современную
консервативную идеологию. Но консерваторы, так же как и либералы
антиэгалитарного толка, полностью не отказываются от
принципа «равных возможностей». Последний сохраняет
для них известную ценность и некоторую
привлекательность.. Почему? Как это ни парадоксально, но этот
принцип может быть средством идеологической борьбы с теми,
кто слишком всерьез озабочен эгалитарными проблемами
и пытается толкать общество и государство в сторону
радикальных реформ. Но главное, что делает данный принцип
удобным для защиты интересов господствующего класса и
его элит, так это заложенная в нем мысль, будто каждый
человек приходит к тому результату в жизненном
соревновании, какого он достоин.
В этом выражается глубоко индивидуалистический
характер принципа, подчеркиваемый либералами, но вполне
устраивающий и консервативных идеологов. «Принцип
равенства возможностей, — пишет Д. Белл, — вытекает из
фундаментальных догматов классического либерализма:
именно индивид, а не семья, общество или государство
является основной единицей общества, и именно в том состоит
цель социетального устройства, чтобы предоставить
индивиду свободу осуществлять свои собственные цели — путем
труда добывать собственность, путем обмена
удовлетворять свои желания, путем восходящей мобильности
достигать места по своему таланту. Предполагается, что
индивиды различны по своим талантам, энергии, желаниям и т.д.,
что институты общества должны установить процедуры для
72 Там же, с. 100.
73 Там же, с. 12.
64
врожденные способности и таланты предъявляет обществу
как своего рода чек, подлежащий оплате материальными и
духовными благами. Одаренный, высоконравственный
субъект, если он не усвоил напористую, агрессивную манеру
пробивать свои интересы, не принял стиль поведения,
навязываемый ему соревновательным обществом, скорее всего
окажется неудачником и опустится на низшие уровни
социальной иерархии, несмотря на все свои великолепные
потенции и замечательные таланты. В сущности с точки
зрения доктрины равных возможностей ценятся не
столько деловые, нравственные и прочие качества личности,
сколько конформизм и способность к адаптации —
факторы, позволяющие в конкретных случаях установить связь
между этими качествами и реальным успехом индивида.
Указанная доктрина, будучи по форме
индивидуалистической, на деле совершенно равнодушна к индивиду. Она
игнорирует условия, способствующие раскрытию
человеческих талантов, ставит высокие личностные качества в один
ряд, а то и ниже, чем, скажем, случайные обстоятельства,
приводящие человека к успеху. В сущности центральная
задача доктрины равных возможностей — оправдать успех
независимо от того, каким путем он был достигнут, и тем
самым узаконить высшее место успешно действующего
индивида в социальной иерархии.
Равные возможности членов общества при отказе от
попыток выравнивать результаты индивидуальных действий
неизменно означают рассечение общества по вертикали и
по горизонтали, приводят к тотальной сегрегации
индивидов на всех общественных уровнях. Направляемое
соответствующим принципом, общество движется к углублению
классовых противоречий, обострению социальных
конфликтов между группами, усилению борьбы, враждебного
противостояния и соперничества сил, представляющих
различные классовые и групповые интересы. Все эти
противоречия, вызывающие раскол общества, развертываются на
фоне главного конфликта капитализма — конфликта между
трудом и капиталом.
Принцип «равных возможностей» в консервативной
интерпретации дает рациональную основу для оправдания
высших позиций элиты и ее претензий улучшать свой статус
за счет других. Он продуцирует «логику элит»,
поверхностные, тривиальные силлогизмы следующего типа: «в обществе
равных возможностей успеха достигают лучшие индивиды;
я добился успеха, следовательно, я — лучший» или «я —
лучший, следовательно, мне принадлежит право на успех»
и т. д. На базе элитарного сознания складывается опреде-
3—315
65
ленного рода идеология, с помощью которой члены элиты
организуют свои отношения с другими группами таким
образом, чтобы, во-первых, улучшать свои позиции за счет
этих групп, перераспределяя общественные ресурсы в свою
пользу, и, во-вторых, увеличивать дистанцию между элитой
и массой, охранять привилегированные позиции, не
допускать к ним лиц, являющихся для элиты посторонними и
случайными.
Если у преуспевающих членов общества, образующих
высшие касты, консервативно трактуемый принцип «равных
возможностей» воспитывает спесь и самомнение, не говоря о
более худших качествах, то на низших ступенях социальной
иерархии он работает с обратным эффектом. Он ослабляет
самосознание людей, которые по каким-либо причинам (не
обязательно связанным с отсутствием способностей,
талантов или иных высоких качеств) не сумели продвинуться в
свободном соревновательном обществе с якобы равными
для всех шансами. Подавленное самосознание человека,
отброшенного на худшие позиции в обществе, приводит его
в конце концов к утрате душевного равновесия. Постоянно
снижающаяся приверженность членов западных обществ
капиталистическому образу жизни, стилю поведения не на
шутку тревожит многих буржуазных идеологов и
заставляет их внимательно изучать проблемы, связанные со
значением и ролью эгалитарных требований на современном
этапе.
Хотя правые и левые буржуазные идеологи утверждали,
будто классовая политика в индустриальных обществах
исчерпала себя и кончилась, будто рабочий класс переродился,
превратился из революционной силы в консервативную,
тешили себя иллюзиями относительно того, что динамика
эпохи, характеризующейся наивысшим развитием науки и
технологии, сметет классовые и групповые конфликты, что
новая технотронная, постиндустриальная стадия в развитии
капитализма все спишет и все начнет заново,
капиталистическая действительность не оправдала этих надежд.
Нынешняя дискуссия западных идеологов различных направлений,
предметом которой является идея социального равенства
(возможностей и результатов), показательна в том плане,
что она ведется по существу в терминах классовой политики,
концентрируется вокруг классовых проблем, что уже само
по себе свидетельствует об остроте и нерешенности
последних.
Признанным недостатком буржуазной идеи «равных
возможностей» почти во всех ее трактовках является
трудность или даже невозможность адекватной институционали-
66
зации. Социологически эта идея еще менее ясна и
определенна, чем идеологически. Капиталистическому обществу до
сих пор не удавалось создать эффективные механизмы
контроля над «стартовыми позициями» индивидов в целях
большей унификации шансов, возможностей последних.
Многие буржуазные теоретики считают попытки
буржуазного государства установить хотя бы минимальный
«контроль за шансами» делом абсолютно безнадежным.
Конечно, никакая власть не в состоянии сделать всех людей
одинаково образованными, здоровыми, одинаково
думающими и чувствующими субъектами. Существует множество
источников, генерирующих шансы для человека. Обладая
разной степенью интенсивности, они порождают
благоприятные и неблагоприятные возможности, которые затем
накладываются друг на друга, сталкиваются, объединяются
или противодействуют, уравновешиваются, усиливаются
или ослабляются в определенной среде — словом,
образуют неповторимую комбинацию факторов, вызывающих тот
или иной результат.
Благодаря сложной игре, динамическому, быстро
изменяющемуся сочетанию шансы, полагают некоторые
западные авторы, становятся недосягаемыми для унификации,
нивелирования. «Эти шансы трудно предусмотреть, ибо они
случайны,— заявляет один из таких авторов.— Ни индивид,
ни законодатель не могут планировать или уравнивать эти
шансы. Запланированные равные шансы всегда ведут к
чему-то обратному»76. Отдельные шансы, правда, могут
быть регламентированы средствами политики, права,
морали или религии, но влияние регулируемых факторов на
результат — это далеко не всегда определяющее или
главное влияние, оно может уступать воздействию социально
неконтролируемых событий или фактов.
Стремление переосмыслить ценностную ориентацию
общества, отдать приоритет равенству результатов перед
равенством возможностей не лишено в конкретных условиях
современного развития капитализма конструктивного и
прогрессивного значения. И то, что общественные
организации дискриминируемых групп — женщин, негров,
национальных меньшинств — буквально ухватились за принцип
«равенство результатов», не является случайным. Сила
данного принципа, его положительная сторона состоят в том,
что он дает выход в сферу, где могут быть практически
поставлены проблемы реального статуса групп и индивидов,
78 Schoeck Я. Gleichheit, Gerechtigkeit und Chance: Aporien des Ega-
Htari*mu9.-Zettschrift fflr Politik, 1976, Jg. 22, N 3, S. 238.
68
плуатации человека человеком. Возникла новая
горизонтальная структура общества без «высших» и «низших»
классов, групп и индивидов, структура, основанная на
началах равенства (классового, национального, женщин с
мужчинами и т. д.), ориентированная на процессы
выравнивания действительного социального положения (статусов и
позиций) всех членов общества.
Действуют глобальные, рассчитанные на долгие сроки
механизмы сокращения разрыва в доходах и заработной
плате между отдельными категориями лиц, занятых в
социалистическом народном хозяйстве. Словом,
социалистическое общество давно и на деле приступило к
осуществлению разумных требований, которые заложены в принципе
«равенства результатов». Благодаря этому становится
реальным и принцип «равенства возможностей», о котором
так много и путанно рассуждают буржуазные идеологи.
3*
67
он требует стабилизации этого статуса на определенном
гарантированном уровне. Утрируя соответствующие
эгалитарные идеи, консерваторы изображают их как непомерные
претензии к обществу и государству обеспечить каждому
жизненный успех, праздную, безмятежную и роскошную
жизнь. Но смысл гарантий не в этом; он — в достижении
минимума условий свободного развития индивидов, в
справедливом распределении ресурсов.
Ярким и безусловно важным проявлением
диалектического характера общественной жизни выступает то, что
возможности и результаты действий групп и индивидов тесно
связаны и.взаимопереходны. Достигнутые на определенный
момент результаты служат исходной позицией для
последующих этапов групповой и социальной деятельности.
Сегодня и каждый день люди начинают свои дела с точки,
на которой закончили их вчера. Финиш с отметкой на
определенном уровне становится стартом на новом витке
соревнования. Поэтому гарантированный результат на
финише в перспективе есть не что иное, как гарантированные
условия, обеспеченные возможности предстоящего старта.
В этой временной последовательности и динамическом
переплетении начальных и конечных моментов человеческой
деятельности, в непрерывной смене состояний финиша и
старта, в сплошном движущемся потоке общественной
жизни исчезает абсолютная противоположность принципов
«равенства возможностей» и «равенства результатов»,
устраняются искусственно возведенные барьеры, разделяющие
их. Выравнивая результаты, обеспечивая статусы и позиции
групп и индивидов на определенном гарантированном
уровне, общество тем самым может выравнивать шансы людей,
создавать более или менее приемлемое равенство
возможностей для последующего группового и индивидуального
развития. Речь идет по существу о вполне достижимых
мерах, но только не в том обществе, которое создал
капитализм, по-настоящему не заинтересованный ни в равенстве
результатов, ни в равенстве возможностей.
Исторический опыт свидетельствует о том, что без четкой
установки на регламентацию результатов нельзя всерьез
решать проблемы социального равенства. В результате
пролетарской революции происходит радикальная ломка
иерархических структур капитализма: экспроприация
экспроприаторов, национализация, реквизиция богатств,
несправедливо присвоенных верхушкой старого общества,
перераспределение ресурсов в пользу ранее эксплуатируемых
классов (фабрики и заводы рабочим, земля крестьянам
и т. д.), упразднение системы найма рабочей силы и экс-
Глава II
Равенство и свобода
69
Антиномия равенства и свободы
в буржуазной идеологии
Равенство и свобода всегда стояли рядом как
величайшие ценности общества, провозглашенные революционными
декларациями буржуазии, и в наше время трудно найти
конституцию капиталистического государства, которая не
выражала бы в торжественной форме приверженность этим
ценностям. В сознании многих поколений людей,
воспитанных в духе буржуазной демократии, они сливались
воедино, составляли как бы нераздельное целое.
Хотя буржуазная общественно-политическая мысль
вкладывала в понятия равенства и свободы специфический
смысл, они были прогрессивными, сыграли большую роль в
антифеодальной борьбе, в процессах консолидации вокруг
буржуазии трудящихся классов, принимавших участие в
буржуазных революциях. От лозунгов равенства и свободы
буржуазия получила все выгоды, которые можно было из
них извлечь. Такие лозунги и сейчас нужны классу
капиталистов, особенно в тех случаях, когда необходимо
лавировать в условиях роста демократических настроений в
обществе, усиления рабочего движения и различного рода левых
течений. Но с другой стороны, буржуазная идеология, в
особенности ее консервативные направления, не оставляет
попыток найти более приемлемые для современного
капитализма ценностные приоритеты, выискивает противоречия
между равенством и свободой, доказывает их
несовместимость, неизбежность конфликта между ними в процессе
дальнейшего развития буржуазного общества.
Поскольку идея органической связи равенства и свободы
является по своему существу демократической и в
социальном отношении весьма конструктивной, она воспринимается
рабочим движением, становится частью теории научного
коммунизма, наполняется истинно пролетарским содержа-
70
нием. Поэтому многие современные буржуазные идеологи,
подвизающиеся на поприще антикоммунизма, стремятся
обратить свою критику идеи равенства против
социалистической идеологии, коммунистического и рабочего движения.
Пытаясь во что бы то ни стало дискредитировать
марксистско-ленинскую позицию по вопросу о соотношении
равенства и свободы, буржуазные идеологи-антикоммунисты
покушаются в сущности и на буржуазно-демократическое
содержание этих идей, выхолащивают их традиционный
прогрессивный смысл. Свои консервативные постулаты
антикоммунисты пытаются уберечь от настоящей научной
критики. Поэтому они, как отмечается в коммунистической
печати, стараются перенести основные «боевые» проблемы из
области теоретического в сферу обыденного сознания1,
фабриковать различного рода ложные антиномии,
фальшивые дилеммы.
Одной из таких антиномий является широко
пропагандируемая в капиталистическом обществе мысль о
несовместимости равенства и свободы. Хотя она возникла далеко
не сегодня, тем не менее именно в последние годы стала
модной, ей посвящается большое количество работ,
дискуссий. В 1975 г. в Соединенных Штатах был проведен
Всемирный конгресс Ассоциации правовой и социальной философии
на тему «Равенство и свобода», участники которого
детально обсуждали эту проблему2. В ходе дискуссий одни ученые
продолжают честно отстаивать принципы
буржуазно-демократической идеологии, другие колеблются, пытаются найти
компромисс между этой идеологией и влиятельными
консервативными доктринами современности, третьи,
антикоммунисты или примыкающие к ним идеологи, открыто
предают демократию и демократические свободы,
скатываются на откровенно реакционные позиции. Отсюда весьма
обширный спектр решений проблемы равенства и свободы в
буржуазной науке.
Обобщая итоги ее обсуждения на Западе, можно сказать,
что имеется три основных направления: первое исходит из
необходимости ориентировать общественное развитие
одновременно на ценности равенства и свободы; второе
доказывает полезность выбора свободы как первейшей ценности,
а равенство либо низводит до положения второстепенного
фактора, либо полностью исключает из общественной жиз-
1 См.: Современный антикоммунизм и особенности борьбы с
ним.— Проблемы мира и социализма, 1980, № 6, с. 8.
2 Материалы конгресса опубликованы в издании: Equality and
Freedom. International and Comparative Jurisprudence, vol. 1—3. New York —
Leiden, 1977.
71
ни и, наконец, третье, самое реакционное, одинаково
отрицательно относится и к равенству, и к свободе3. Поскольку
именно второе направление занимается главным образом
выискиванием противоречий между равенством и свободой,
то мы подробнее рассмотрим относящиеся к нему позиции
и аргументы.
Один из ведущих представителей и основателей так
называемой франкфуртской школы, Макс Хоркхеймер, в
интервью журналу «Шпигель» в свое время говорил: «Свобода,
равенство, братство — это чудесно! Но если вы хотите
сохранить равенство, вы должны ограничивать свободу, а
если вы хотите дать людям свободу, тогда нет никакого
равенства» 4. В его словах четко отражена не только суть, но
и типичная манера обсуждения проблемы равенства и
свободы в буржуазной науке. Субъективно, дескать, мы
великолепно относимся к обеим идеям, ценим их, стремимся к
воплощению социального потенциала данных идей, но
объективно равенство и свобода образуют антиномию.
Нельзя идти путем свободы, не причиняя ущерба равенству,
и наоборот. Так что выбирайте или то, или другое: хотите
установить равенство, забудьте о свободе, хотите иметь
свободу, отрекитесь от равенства.
Эта схема, естественно, прилагается к социальной и
политической действительности капиталистических стран.
«В известной диалектике свободы и равенства,— пишет
западногерманский социолог Р. Дарендорф,— пришел час
свободы, поскольку ей угрожает ложный эгалитаризм»5.
Американский неоконсерватор С. Хантингтон заявляет, что дело
дошло уже до прямого конфликта между равенством и
свободой, что этот конфликт является классовым по своему
характеру. Западная Европа столкнулась, мол, с ним
раньше, ибо буржуазия там уже вскоре после буржуазных
революций поняла, что оказалась между аристократическими
духовными ценностями, воплощенными в свободе, и
ценностями пролетарскими, связанными с равенством. Америка,
страна средних классов, лишь в 60-х годах нашего
столетия «дозрела» до этого конфликта, обнаружив, что маятник
качнулся далеко от свободы в сторону равенства6. Авторы
подобных концепций прямо или косвенно призывают
западные страны сделать свой выбор между свободой и ра-
3 Equality and Freedom. International and Comparative Jurisprudence,
vol. 3, p. 1099—1107.
4 Der Spiegel, 1970, N 1/2, S. 8.
5 Dahrendorf R. Life Chances. Approaches to Social and Political
Theory. Chicago, 1979, p. 101.
* Le Monde Diplomatique, Mai 1978, p. в.
72
венством, связывая с этим определенный курс дальнейшего
развития общества и известные формы государственной
политики. Если будет выбран путь равенства, то капитализм
должен воспринять некоторые черты социализма, ввести
элемент планирования, расширить государственный сектор
экономики и усилить юридическую регламентацию частной
хозяйственной деятельности, проводить активную
социальную политику, с тем чтобы регулировать доходы разных
категорий населения, сдерживая чрезмерный рост богатств
и предоставляя поддержку малообеспеченным гражданам.
Другой путь, отмеченный якобы знаком свободы,
характеризуется предоставлением частному бизнесу самого полного
простора для действий, отменой всякого государственного
регулирования и снижением до минимума экономической
активности правительства, свертыванием социальной
политики, прекращением помощи бедным и т. д.
Равенство и свобода, следовательно, интерпретируются
таким образом, что от них идут различные и прямо
противоположные линии дальнейшего капиталистического
развития. Дело в том, что перед современным капитализмом,
оказавшимся в глубоком и безысходном кризисе, очень
остро стоит вопрос, как выжить, куда идти дальше.
Собственно, оба пути, из которых якобы надлежит выбрать, давно
известны капитализму и испробованы им на практике.
Первый предполагает либеральную модель
капиталистической системы, которую по рекомендации кейнсианцев
пытались осуществить в отдельных капиталистических странах
на основе партнерства частного бизнеса с государством.
В основе второго пути лежит идея возврата к формам и
модели классического капитализма, к возрождению доктрины
«laissez-faire». Весь секрет в том, что противоречия между
указанными двумя моделями капиталистической системы
многие современные буржуазные идеологи склонны
изображать как противоположность равенства и свободы, как
логическую антиномию этих двух идей.
То, что позиция «защитника» свободы является наиболее
удобной для нападок на идею равенства, подмечено давно.
Применительно к идеологической практике буржуазии
действует своеобразное неписаное правило: если не хочешь
равенства, делай вид, что ты горячо предан свободе. Кто
и когда его ввел, трудно сказать, но, по общему признанию,
первая серьезная попытка теоретически обосновать
противоречия свободы и равенства принадлежит французскому
политическому мыслителю прошлого века Алексису Токви-
лю. Он сделал свои выводы на основе изучения
американской демократии» политической системы, где процессы ра-
73
венства будто бы в XIX в. зашли дальше, чем в
государствах Европейского континента. С легкой руки Токвиля
буржуазное общество Америки надолго получило репутацию
«эгалитарного»7. Именно на примере американской
демократии он описывал фатальный процесс эгалитаризации,
который идет во всем мире. «Постепенное развитие
равенства,— заявлял он, — есть факт провиденциальный и
имеет все -главные признаки такового: оно существует во всем
мире, постоянно и с каждым днем все более ускользает
из-под власти человека, и все события, как и все люди,
служат этому развитию»8. Токвиль был убежден, что
демократия в большей мере привержена равенству, чем
свободе, более того, она просто бессильна бороться против
захлестывающего потока эгалитаризации общества,
против установления «тирании большинства» в политической
сфере, против удовлетворения мелких и посредственных
интересов в экономической и социальной сферах.
Необходимо отметить, что Токвиль положил начало
сомнительной традиции в буржуазной науке — подменять
анализ процессов равенства описанием явлений
конформизма, которые всегда были присущи капиталистическому
обществу. «Подмена» особенно эффектна, если автор
красочно и с незаурядным литературным мастерством
изображает стандартизацию общественной жизни,
формирование единообразных стереотипов мышления и поведения,
ориентированных на среднюю личность. Многое из того, что
в общественной и политической жизни Америки было в
самом зародыше подмечено Токвилем, впоследствии
превратилось в крупные социальные явления, а конформизм и
стандартизация жизни, усиливаемые некоторыми
тенденциями развития капиталистической системы и
научно-технической революции, по существу лишь в XX в. достигли своего
расцвета.
Сегодня некоторые авторы на Западе начинают отдавать
себе отчет в том, что негативные последствия, обычно
приписываемые эгалитаризации, в действительности есть
результат воздействия других процессов, неотделимых от
современного капиталистического развития. «Что касается
проблемы эгалитаризации,— пишет западногерманский со-
7 «На мой взгляд, — утверждал недавно английский философ Д.
Рафаэль,— во многих отношениях в Соединенных Штатах больше
равенства возможностей, чем в большинстве старых стран Западной Европы»
(Equality and Freedom. International and Comparative Jurisprudence,
vol. 2, p. 545).
8 Токвиль А. О демократии в Америке. М., 1897, с. 3.
Г4
циолог И. Фетчер,— то правильнее говорить о процессе
гомогенизации, который явился следствием победного
шествия капиталистической индустриальной цивилизации по
всем континентам: контуры этнических групп все более
расплываются, утрачиваются местные диалекты,
специфические манеры поведения. Индивиды более не ощущают себя
принадлежащими к своей группе, слою, они предстают в
роли «кочевников общей системы индустриальной
цивилизации», стремящихся к увеличению потребления —
единственному содержанию жизни, которое им предлагает
общество потребления»9. Но то, что И. Фетчер называет
«гомогенизацией», на самом деле предстает как
стандартизация и усиление конформизма в западном
«индустриальном» обществе.
Многие американские авторы (Э. Фромм, Г. Маркузе,
А. Тоффлер и др.) пишут об утрате индивидуальности и
деформации человеческой личности в условиях почти пол<
ностыо стандартизированной культуры, все большей
унификации потребностей, желаний, условий работы и быта,
привычек, манеры вести себя и одеваться и т. п. И что же,
разве современная Америка стала более эгалитарной, чем
раньше? Отнюдь нет. Согласно статистике, экономические
и культурные неравенства значительно усиливались на
протяжении нынешнего века и продолжают расти. За это время
не произошло и перелома в отношении равенства как
политической ценности. Проводимые в США и Англии
социологические исследования не подтверждают предположение,
будто американское общество в большей мере привержено
эгалитарным ценностям, чем английское i0.
Стало быть, миф об «американском эгалитаризме», в
создании которого участвовал Токвиль, оказался
несостоятельным, но несомненно другое: Америка и сейчас в большей
мере массовое стандартизированное общество, чем какая-
либо другая европейская капиталистическая страна. То, что
миллионер и средний служащий могут свободно вступать в
деловые, официальные и неофициальные контакты, при-
9 Fetscher /. Widerspruche im Neokonservatismus.— Merkur, 1980, Jg.
34, Heft 2, S. 117-118.
10 Одно из таких исследований, проведенное на основе специальной
методики оценки равенства, показало, что наиболее эгалитарными
оказались ответы 11,9% лиц из числа опрошенных в Англии и 18,6% лиц,
опрошенных в США; наименее эгалитарными — ответы соответственно
15,8 и 8,8% лиц. «При сравнении, — отмечают авторы, — мы нашли, что
американцы лишь немного более эгалитарны, чем англичане. В этом
отношении обе страны имеют больше общего, чем различий»
(Robertson R., Bell W. Equality, Success and Social Justice in England and the
United States. — American Sociological Review, 1978, vol. 43, N 2, p. 128).
76
немногие люди, полагает Токвиль, способны избрать
свободу без равенства. Это — особого сорта личности,
испытывающие высшую радость от свободы, не разменивающие ее
на посредственные удовольствия, которые выпадают на
долю толпы друг другу подобных людей. Равенство,
словно чертополох, само прорастает на демократической почве,
но за свободой надо ухаживать, лелеять ее и поддерживать.
«Мне кажется, я любил бы свободу во все времена, но в
то время, в которое мы живем, я склонен ее обожать!» 13—
восклицал Токвиль.
Характер намеченного им противопоставления равенства
и свободы был заимствован некоторыми консервативными
буржуазными авторами XX в. В их трактовке равенство
выступает уже как чисто плебейский идеал, который
выдвигается идеологами лишь в расчете на дешевую
популярность и симпатию «толпы». Рафинированный интеллектуал,
полагают они, должен стыдиться эгалитаризма, подобно
юму как разумный образованный человек стыдится
говорить и делать глупости. К свободе консерваторы
относятся с показным «обожанием», стремятся
абсолютизировать определенные стороны этого понятия, что в конечном
счете очень сильно искажает и деформирует последнее. Не
случайно в современной буржуазной литературе все чаще
подчеркивают разницу между «демократической» и
элитарной концепцией свободы. Что же это такое, «элитарная»
(аристократическая) свобода, и чем она отличается от
демократической?
Сами консервативные авторы предпочитают говорить не
столько о сущности, сколько о субъектах так называемой
элитарной свободы. Это, мол, избранные личности, вся
суть и жизнь которых воплощены в свободе, это люди,
предназначенные самой судьбой к беспредельному
индивидуальному развитию, прокладыванию новых путей, достижению
блистательных высот в сфере практического опыта и
мышления. Идеи, открытия, изобретения, теории этих людей, а
главное, пример их жизненного подвига являются силой,
которая делает общественный прогресс. Некогда Д. Милль,
с восхищением описывавший гениальную индивидуальность
и ее великую миссию в человеческой истории, сожалел, что
таких людей очень мало, но эти немногие, подчеркивал он,
есть «соль земли». Без них жизнь человеческая
превратилась бы в стоячую лужу. Нужно пестовать и охранять
гениальную личность, всячески возделывать и удобрять почву,
13 Цит. по: Новгородцев П. Кризис современного правосознания.
М, 1909, с. 285.
75
мерно одинаково одеваться, читать одни газеты, смотреть
те же самые фильмы и телевизионные передачи, возможно,
иметь автомашины одних и тех же марок и т. п., вовсе не
исключает, что один из них — миллионер, а другой — всего-
навсего средний служащий. Условия общественной жизни
пригладили их в некоторых отношениях, но, разумеется, не
сделали равными. Совсем не о политическом равенстве
говорит то, что кандидат в президенты или сенаторы,
ориентируясь на стандарт, работает под «середнячка» и, чтобы
понравиться избирателям, разыгрывает из себя простого
парня, выбившегося в люди.
Словом, недопустимо внешние процессы конформизации
индивида и стандартизации условий общественной жизни
принимать за выражение социального равенства. Эта
ошибка, как мы видим, привела Токвиля к неправильному
прогнозу развития США — страны, которую характеризует
сейчас система самых крупномасштабных неравенств, когда-
либо существовавших в человеческом обществе. Указанная
ошибка имеет также далеко идущие теоретические
последствия. Токвиль полагал, что он нащупал и выявил
противоречия между свободой и равенством, свободой и
эгалитарной личностью. На самом же деле он оперировал
антиномией свободной и конформистской личности. Ею намеренно
пользуются теперь буржуазные консерваторы, чтобы
представить идею равенства в самом мрачном свете.
Современная буржуазная общественная наука получила
от Токвиля еще один очень полезный для консерваторов
метод обсуждения рассматриваемой проблемы. Речь идет о
своеобразной «аристократизации» понятия свободы в
противоположность демократической идее равенства11. По
мнению Токвиля, свобода и равенство как идеалы или цели
демократического общества обладают неодинаковой
ценностью для широких масс. Конечно, каждый имеет
естественный вкус к свободе и готов пользоваться ею, если она
будет завоевана для всех. Но к равенству, считал Токвиль,
демократические массы питают горячую и ненасытную
страсть. «Они хотят равенства вместе со свободой, но если
это им недоступно, то хотят его даже в рабстве. Они
перенесут нищету, угнетение, варварство, но не перенесут
аристократии» 12. Народ, согласно Токвилю, всегда выбирает
равенство либо вместе со свободой, либо без нее. Лишь
11 Vossler F. Alexis de Tocqueville. Freiheit und Gleichheit. Frankfurt
am Main, 1973; Hereth M. Alexis de Tocqueville: Die Gefahrdung der
Freiheit in der Demokratie. Stuttgart, 1979.
12 Токвиль А. О демократии в Америке, с. 410.
77
которая ее растит. В наше время особенно часто приходится
слышать о том, что демократия с присущими ей
тенденциями к экономическому и политическому равенству (как
всегда, буржуазные идеологи говорят о «демократии вообще»)
обедняет эту почву и, значит, лишает человечество многих
возможностей прогресса 14. Сегодня на Западе открыто
требуют создания новой аристократической элиты. Но у одних
это аристократия духа, у других — аристократия,
выделенная по признаку специальных технических знаний
(технократы), у третьих — по признаку заслуг (меритократы)
и т. д. Однако элита может только тогда выполнять свои
функции, когда общество отбросит всякую мысль об
уравнивании ее с остальной массой людей, предоставит ей всю
свободу, ибо гений, как говорил в свое время тот же
Д. Милль, может дышать только в атмосфере свободы.
И конечно, люди, представляющие собой золотой фонд
человеческого рода, его цвет и гордость, достойны особой
свободы, не похожей на ту, которую имеют все. Отличаться
же она может только одним — беспредельностью,
отсутствием принципиального ограничения для роста
индивидуальных сил и способностей. Словом, речь идет о свободе без
всяких ограничений.
Получается, что суть «элитарной» свободы сводится к
тривиальному и давно уже осужденному прогрессивной
человеческой мыслью требованию: никаких ограничений,
полный простор и возможность делать все, что угодно. На
упомянутом выше конгрессе, посвященном проблемам
равенства и свободы, вновь имели место попытки соответственным
образом определить понятие свободы. Так, Роберт Вальтер,
директор института им. Г. Кельзена в Вене, призывал
понимать под свободой возможность человека действовать
так, как он хочет 15. Из этого понимания исходят и многие
другие буржуазные теоретики, хотя оно находится в явном
противоречии даже с ортодоксальным буржуазным
пониманием свободы, выраженным в ряде старых и новых
конституций капиталистических стран. Нынешние буржуазные
теоретики, кажется, совершенно забыли уроки выдающихся
мыслителей прошлого, предупреждавших попытки именно
такого понимания свободы, какое приведено выше. В
резкой форме выступал против подобного определения Гегель.
«Когда мы слышим, что свобода состоит вообще в возмож-
14 На английском материале эти идеи развиты в книгах: Moss R.
The Collapse of Democracy. New Rochelle, 1976; Joseph K., Sumption J.
Equality. London, 1979.
15 Equality and Freedom. International and Comparative
Jurisprudence, vol. 2, p. 585.
78
поста делать все, чего хотят,— писал он,— то мы можем
признать такое представление полным отсутствием
культуры мысли; в этом представлении еще нет ни малейшего
даже намека понимания того, что такое есть в себе и для
себя свободная воля, право, нравственность и т. п.» 16.
Буржуазная политическая и правовая мысль сформировалась
под воздействием представлений о свободе как явлении,
которое подлежит принципиальному ограничению, причем
подобные ограничения свободы должны вытекать из закона.
Во французской Декларации прав человека и
гражданина 1789 года подчеркивалось, что свобода состоит в
возможности делать все, что не приносит вреда другому;
осуществление естественных прав каждого человека встречает
лишь те границы, которые обеспечивают прочим членам
пользование теми же самыми правами. Миф о
существовании безграничной свободы, безусловной и безотносительной
к свободе других, отверг не кто иной, как сама буржуазия,
когда она столкнулась с необходимостью устроить
социальный порядок, основанный на учете интересов многих трупп
и слоев буржуазного класса, иначе говоря, обеспечить
буржуазную демократию.
Совершенно очевидно, что современные консерваторы
вкладывают в идею свободы требование дать полную волю
отдельным людям, которых они причисляют к аристократии
духа, мысли или действия. Именно такая свобода
противопоставляется равенству. Сегодня консерваторы не жалеют
красок и восторженных слов, когда говорят, для каких
«великих» дел нужна такая исключительная и
бесконтрольная свобода «гениальным» предпринимателям, «мудрым»
политикам, «непревзойденным» мастерам в искусстве
управления людьми и социальными процессами. О том, что в
условиях социального неравенства полная свобода одних
при отсутствии ее у других (а ведь именно так
представляют себе общественное устройство нынешние
консерваторы) вырождается в произвол, ведет к несправедливости и
злоупотреблениям богатством и властью, люди знали давно.
Интересно, что накануне французской революции ее
будущий трибун Марат в своей книге «Цепи рабства» писал:
«Для граждан, всегда поглощенных своей работой,
торговлей, честолюбием, удовольствиями, свобода вскоре начинает
означать не более чем возможность беспрепятственного
стяжательства, надежного владения и безвозбранных
развлечений» 17. Марат прекрасно видел, что буржуа в сущности
10 Гегель. Соч., т. VII. М.—Л., 1934, с. 44.
17 Марат Ж. П. Избранные произведения, л. I. М., 1936, с. 107—108.
79
всегда мечтает о такой свободе, именно она пьянит и
возбуждает его воображение.
За время своего существования буржуазия сознательно
создавала миф о свободе как неограниченных возможностях
человека, пыталась утвердить «культ» свободы в этом
понимании. Буржуазная «сверхсвобода», необузданная, по
существу не сдерживаемая никакими социальными нормами,
нанесла громадный вред общественному прогрессу, вызвала
глубокие деструктивные процессы и кризис внутри
капиталистического общества. Эксплуатация, войны, геноцид,
колониальное рабство, деградация личности, расточение
природных богатств, загрязнение окружающей среды,
нарушение экологического равновесия и т. п.— таковы последствия
этой «сверхсвободы», особенно очевидные в наше время.
Научно-техническая революция лишь усугубляет кризисные
процессы в капиталистическом обществе, вызывает в
«свободном мире» беспринципную погоню за возможностями,
бессистемный рост власти, богатства и т. д. Это
оборачивается явным или до поры до времени скрытым ущербом
для людей, для общества в целом.
Люди привыкли думать, а некоторые идеологические
традиции, идущие от времен Просвещения, постоянно
укрепляли их в уверенности, что все социальные беды и
несчастья человека происходят в конечном счете от
недостатка свободы. Это верно, но есть и другая, менее
усвоенная, по крайней мере на уровне обыденного сознания, часть
той же истины: свобода, если она утрачивает общественно
необходимые критерии, становится безмерной и
используется безответственно, может способствовать
возникновению серьезнейших общественных неурядиц, провалов в
общественном и индивидуальном развитии. Именно утрата
контроля и чувства меры в обладании свободой,
понимаемой как степень господства человека над природой,
общественными отношениями и над самим собой, приводит
современный крупный капитал к тому, что он, если того требуют
интересы обогащения, переступает грань, отделяющую
организацию от анархии, порядок — от хаоса, дисциплину — от
своеволия.
Трагедия человеческого общества состоит в том, что
капитализм до сих пор был безответствен в
использовании возможностей свободы и потому нанес громадный, во
многих отношениях трудно восстановимый, ущерб
социальному прогрессу. В свете этого попытки буржуазных
консервативных кругов узаконить подобную безответственность в
некоем «элитарном» понятии свободы, стремление убедить
общественность западных стран согласиться на то, чтобы
80
«умные» и «гениальные» люди делали в обществе все, что
хотели, выглядят просто чудовищными.
Логикой исторического процесса проблема свободы ныне
поставлена в принципиально новой плоскости, а это значит,
что в каждом случае необходимо отдавать себе отчет о
качестве свободы, к которой стремятся те или иные люди.
Современный человек должен все чаще задавать себе
вопрос: «Для чего я свободен?» И это уже не абстрактно-
философский, а жизненно важный, практический вопрос.
Он так или иначе упирается в проблему ответственности
человека, как она может быть поставлена и осмыслена на
основе изучения социальных явлений современности.
Время, в которое мы живем, выдвигает настоятельное
требование положить конец абсурдной практике безответственного
пользования «сверхсвободой». Рядом с великим лозунгом
свободы, значение которого в человеческой истории трудно
переоценить, появляется лозунг ответственности — один из
ведущих императивов нашей эпохи. Целью общественных
усилий является свобода, постоянно проверяемая с точки
зрения социального прогресса и перспектив
индивидуального развития. Ответственность должна лечь в основу и стать
принципом внутренней и внешней политики государств,
если политику хотят сделать в полном смысле современной и
конструктивной.
Таким образом, мы рассмотрели один из основных путей
искажения проблемы соотношения равенства и свободы. Он
состоит в подмене традиционного
буржуазно-демократического понимания свободы (или свобод), которое, по крайней
мере теоретически, совместимо с идеалом равенства, так
называемым элитарным ее пониманием, требованием
«сверхсвободы» для элит, исключающим в принципе какое-либо
стремление к социальному равенству. Но есть и другие
способы искажения той же самой проблемы. На вопрос, почему
в западном обществе возникает конфликт между
равенством и свободой, английский философ Д. Рафаэль отвечает:
в основном из-за естественных неравенств. «Люди неравны
в своих естественных силах,— заявляет он.— Свобода
использовать неравные силы приводит к неравным
достижениям, которые в свою очередь увеличивают неравенство
силы. Цель равенства требует некоторого ограничения
свободы тех, у кого больше силы. При таких обстоятельствах
равенство конфликтует со свободой, потому что свобода
питает естественные неравенства» 18. Данный подход бази-
18 Equality and Freedom. International and Comparative
Jurisprudence, vol. 2, p. 543.
81
руется на предположении, что превосходство естественной
силы одних людей и недостаток этой силы у других
являются конечными причинами социального неравенства.
Схема Рафаэля, как и многие другие аналогичные
концепции, умалчивает о главном, что действительно волнует
буржуазию и ее идеологов при обсуждении вопроса о
соотношении идеалов равенства и свободы.
А главное заключается в следующем: равенство, если
оно не формальное (правовое), а реальное социальное
равенство для всех, и в самом деле подрывает
основополагающие свободы буржуазного общества — свободу частной
собственности и частнопредпринимательской деятельности.
Это противоречие видели многие мыслители прошлого,
однако интерпретировали его в духе защиты
частнособственнических интересов господствующих классов.
Классический пример этого — позиция Гегеля. «...Нелепо желать,—
писал он,— установить путем принуждения равенство,
которого не существует в действительности и которое к тому же
уничтожает существеннейшую свободу, а именно — право
располагать собственностью» 1Э. Данный аргумент порожден
классовыми интересами крупной буржуазии, замкнут в
тесном кругу эгоистических претензий и желаний
собственников средств производства.
В последнее время, однако, отмечаются попытки
использовать этот аргумент и для разработки схем взаимосвязи
равенства и свободы, суть которых, кратко говоря, состоит
в том. что в одних отношениях равенство и свобода
признаются совместимыми, а в других — нет. В сферу, где
соответствующие принципы абсолютно непримиримы и
действуют в диаметрально противоположных направлениях,
включаются частная собственность, ее использование и
наследование, частнопредпринимательская деятельность и
инициатива. Во всех других сферах между ними, как
говорится, возможны компромиссы. Отношение авторов
подобных конструкций к эгалитаристам строится в соответствии
со следующими рассуждениями: вы можете в конце концов
уравнивать все, что хотите, вводить эгалитарные начала
куда хотите, кроме экономики и собственности.
Мы сталкиваемся с явной демонстрацией решимости бур-
жуазных идеологов во что бы то ни стало защитить «святая
святых» капитализма — частную собственность на средства
производства и все, что с нею связано. Не случайно меры
буржуазного «государства всеобщего благосостояния», на-
19 Гегель. Соч., т. VIII. М.-Л., 1935, с. 246—247.
82
правленные будто бы на выравнивание доходов и богатств,
вызвали бурную реакцию негодования со стороны тех, кто
увидел в них угрозу свободе «человека», т. е. буржуа,
заниматься частнопредпринимательской деятельностью в том
стиле, который его устраивает и приносит наибольший
доход. Неизменный провал указанных мероприятий в
буржуазном обществе позволяет постоянно и как бы заново
обсуждать довольно старые проблемы возможностей эгалитариза-
ции капиталистической экономики, постоянно спекулировать
понятиями «свобода», «экономическая свобода», «свобода
собственности» и т. д. Вот почему вновь и вновь повторяют
утверждения типа «свобода собственности и свобода
наследования — основные права либеральной демократии —
противоположны равенству»20, пропагандируют идеи, согласно
которым лишь в «хорошем» обществе, представляющем
собой улучшенный, усовершенствованный капитализм,
возможно, не нарушая прерогатив частной собственности,
установить приемлемый компромисс между равенством и
свободой21. Таким образом, в проектах будущего
«хорошего» общества (образ очень популярный среди
современных буржуазных теоретиков) их создатели пытаются
разрешить абстрактное и мнимое противоречие между
равенством и свободой, тогда как реальное и зримое противоречие
между социальным равенством и свободой
капиталистической частной собственности оставляют
неприкосновенным.
На разрешение проблемы равенства и свободы
претендуют также концепции, согласно которым на одних стадиях
человеческой истории эти идеи шествуют вместе, работают
во имя одних и тех же целей, на других — они только
мешают друг другу и потому не уживаются в общественной
практике. Вот как представляет себе дело американский
психиатр, фрейдист Роберт Вэлдер22. Равенство и свобода,
заявляет он, совместимы в периоды освобождения,
эмансипации определенных групп от господства других социальных
групп. Для рабов свобода и равенство означали по существу
одно и то же: они хотели быть свободными от господ и
равными своим господам. Логика эмансипации — вот,
оказывается, что связывает свободу и равенство. Иная картина
20 Equality and Freedom. International and Comparative
Jurisprudence, vol. 2, p. 592.
21 См. там же, с. 596—597, 063—669.
22 Waelder R. The Concept of Justice and the Quest for an Absolutely
Just Society —The Journal of Criminal Law, Criminology and Police
Science. 1966, vol. 57, N 1, p. 2—3.
83
там, где нет непосредственных задач освобождения или
где эти задачи уже решены. Осуществление свободы внутри
группы равных приводит к социальным различиям, вновь
расслаивает эту группу и вызывает новые неравенства.
Теперь уже, чтобы сохранить равенство, надо отказаться от
свободы, а чтобы предоставить группе возможности
свободного развития, необходимо согласиться с неравенствами
внутри этой группы. По этой теории получается, что
эгалитарные общества недолговечны и временны; группы равных,
только что сформировавшись, тут же распадаются и, корру-
пированные принципом свободы, вновь становятся
неравными, а само равенство есть всего лишь момент на пути от
старого неравенства к новому. Хотя подобные теории и не
отвергают полностью эгалитарный идеал, но они в
значительной мере обесценивают его, снижают его общественный
потенциал и освободительные возможности.
Если говорить в целом, то до недавнего времени считали,
по крайней мере в США, что консерваторы отдают
предпочтение свободе перед равенством, а либералы поступают
наоборот23. Сегодняшняя действительность вносит заметные
коррективы в эту схему. Дело в том, что некоторые
либералы сейчас перешли на теоретические позиции, мало чем
отличающиеся от консервативных в данном вопросе. Не так
уж давно американец Милтон Рокич пытался концептуально
скоординировать эти две ценности — свободу и равенство —
с различными общественно-политическими системами,
утверждая, в частности, что режим, отвергающий и
подавляющий как свободу, так и равенство, заслуживает того, чтобы
называться фашизмом, что система, ставящая свободу
выше равенства, есть капитализм; общественный строй,
расценивающий одинаково высоко свободу и равенство,—
это социализм, а безусловный приоритет равенства перед
свободой означает коммунизм24*. Хотя данная попытка
поставить характер той или иной общественной системы в
жесткую зависимость от оценок свободы и равенства
является упрощенной до примитивности и не имела особого
успеха, она выражала либеральный взгляд на известную
ценностную совместимость свободы и равенства и
вытекающее отсюда возможное единство процессов либерализации
и эгалитаризации общества.
Нынешние американские либералы, лишь в общем
признавая связь свободы и равенства как ценностей одной и той
23 Phillips D. Equality, Justice and Rectification. An Exploration in
Normative Sociology. London, New York, San Francisco, 1979, p. 72—73.
24 Rokeach M. The Nature of Human Values. New York, 1973.
84
же общественной системы, подчеркивают противоречивость,
или, как они говорят, напряженность, данной связи. По
мнению исследователей истории англо-американского
либерализма, свобода и равенство «становятся несовместимыми
понятиями, если каждое из них довести до предела.
Тотальная свобода может разрушить равенство... Тотальное
равенство может разрушить свободу. Обе крайности могут
разрушить творческое напряжение между двумя понятиями,
напряжение, которое позволяет либерализму
приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам»25. В отличие от
эгалитаристов умеренные либералы, говоря о равенстве,
имеют в виду не выравнивание результатов общественного
распределения, вознаграждений и т. д., а равные
возможности индивидов осуществлять свободу и собственный
выбор26. Самое радикальное, к чему приводит такая пози*
ция,— это требование сократить, уменьшить крупные
неравенства в богатстве и статусе лиц, освободить человека от
страха перед неравенствами.
Задача либералов не столько в упразднении самих
социальных неравенств, сколько в преодолении негативных
сторон общественной психологии, формирующейся в
условиях противоречий, дисгармоничных коммуникаций,
расстройств и несогласия, связанных с восприятием людьми
реальных неравенств. Не случайно в последние годы
расширились исследования психологических аспектов
общественного распределения, становится все более популярной так
называемая теория «психологической справедливости»27%
озабоченная проблемой, как при помощи научных методов
восстановить душевное равновесие тех, кто не сумел достичь
желаемых целей, потерпел неудачу в борьбе за жизнь. Если
признано невозможным сократить действительное
неравенство и вероятность индивидуальных провалов, то почему же,
полагают либералы, не попытаться ослабить накал страстей
вокруг проблем распределения, снизить психологическими
средствами уровень общественного недовольства,
предупредить социальный протест?
Этому курсу отвечает и либеральная идея балансирова-
25 Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political
Economy. Chicago, 1981, p. 16.
*6 Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political
Economy, p. 16; Blank B. American Government and Politics: A Critical
Introduction. Chicago, 1973, p. 45.
27 Lerner M. The Justice Motive in Social Behavior. — Journal of
Personality, 1977, vol. 45, p. 1—52; Walster E.t Walster G., Berscheid E.
Equity: Theory and Research. Boston, London, etc., 1978; Gerechtigkeit und
soziale Interaktion. Experimentelle und theoretische Beitrage aus der
psychologischen Forschung. Bern, Stuttgart, Wien, 1980.
85
ния тенденций развития к свободе и равенству в
буржуазном обществе. «Поиски баланса между свободой и
равенством,— пишут упомянутые выше американские авторы,—
должны продолжаться, потому что напряжение между
свободой и равенством встроено в либерализм и
либеральное общество»28. Впрочем, эту идею разделяют и
американские неоконсерваторы, что не удивительно, если вспомнить
об их либеральном происхождении. Возможно ли примирить
свободу и равенство?— ставит вопрос Р. Сэгер и пытается
ответить на него следующим образом. Если в своей
приверженности к равенству люди идут дальше простого
гарантирования равных прав к равным возможностям, то
примирение невозможно, но оно реально в том случае, когда
за всеми лицами признается равное право жить в обществе,
где свобода человека актуализировать себя способом,
который он самостоятельно избрал, не ограничивается
искусственными барьерами и вмешательством извне. «Курс,
который мы как общество должны избрать, — пишет этот
автор,— лежит где-то на середине. Мы хотели бы принести
в жертву немного свободы, чтобы сохранить равенства
чуточку больше, чем простое равенство возможностей, и мы
приносим в жертву некоторое равенство возможностей,
чтобы сохранить чуточку свободы»29.
Перед нами в сущности либеральная идея
балансирования свободы и равенства, правда, в более узкой
трактовке, ставящей под сомнение равенство возможностей как
допустимую цель. Однако общество, в котором люди имеют
«чуточку свободы» и «чуточку равенства», всегда будет
испытывать недостаток того и другого, что вызовет борьбу
за возможности свободного развития и узурпацию этих
возможностей определенными социальными группами, т. е.
это общество будет эксплуататорским и несправедливым.
Определенная часть либеральных теоретиков считает, что
напряженность в отношениях свободы и равенства может
быть выражена не в виде общей проблемы, а как
совокупность противоречий между различными свободами и
видами равенств, как «огромное число потенциальных
конфликтов среди огромного разнообразия равенств и свобод»30.
В этой движущейся массе явлений одни постоянно
сталкиваются с другими, конкретная свобода может исключать
28 Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political
Economy, p. 16.
*y Saeger R. American Government and Politics. A Neoconservative
Approach. Dallas — London, 1982, p. 20.
30 Phillips D. Equality, Justice and Rectification. An Exploration in
Normative Sociology, p. 74.
86
конкретное равенство, возможны противоречия внутри
системы свобод между отдельными ее видами, так же как и
внутри системы равенств. В случае конфликта
разнообразных свобод и равенств предпочтение должно быть отдано
тому, что является справедливым. «Конфликты между
свободой и равенством,— пишет Д. Филлипс,— давно уже
признаются политическими теоретиками, и многие считают,
что такой конфликт может быть решен ссылкой на еще
более высокий принцип: справедливость»31. В контексте
данного рассуждения свобода и равенство теряют
приписываемое им другими либеральными теориями свойство
самооправдания, подчинены ценности, которая стоит над ними,—
справедливости. Далее мы увидим, что и эта попытка
разрешить антиномию свободы и равенства не является
успешной.
Либертаризм против эгалитаризма
В современном буржуазном мире эгалитарные и либер-
тарные доктринеры выступают как враждующие идейные
группировки с совершенно несовместимыми
теоретическими установками, социально-практическими выводами и
прогнозами. Истоки их конфликта станут более понятными,
если обратиться к истории, которая свидетельствует о том,
что эгалитаризм и либертаризм — детища одной и той же
буржуазной либеральной идеологии, что они начинались
вместе и долгое время были близкими идейными
течениями, объединявшимися на базе некоторых фундаментальных
общих интересов. Поначалу либертарная традиция
буржуазного либерализма не противостояла эгалитарной, хотя
уже тогда она определяла известную ограниченность,
умеренность требований социального равенства, выдвигаемых
буржуазным классом. Постепенно противоречия между
двумя традициями усиливались, и в XX в. произошел их
разрыв, окончательный переход либертаристов в
консервативный, реакционный лагерь.
Основное различие между рассматриваемыми
идейными традициями состоит в определении и способах
интерпретации понятия свободы. Расхождения по данным
вопросам возникают из подходов, деталей и нюансов в
понимании категории свободы, которые ярко проявились уже в
период формирования буржуазной либеральной идеологии.
Вспомним, что для ранних буржуазных теоретиков анато-
31 Там же, с. 75.
87
мия человеческой свободы не могла еще представляться в
полном своем виде, что каждый из них вольно или
невольно должен был выделять те ее стороны, которые под
влиянием практических задач периода антифеодальной борьбы
и становления буржуазии в качестве господствующего
класса казались ему наиболее важными.
Для чего человек свободен? На этот вопрос в общей
форме можно ответить так: чтобы познавать мир, успешно
действовать в обществе, быть самим собой. Познавая все,
что его окружает, человек определяет свое собственное
место в мире наряду с другими людьми, также
предназначенными быть свободными. В эгалитарной концепции
свободы с самого начала определились элементы,
указывающие на взаимную связанность людей, имеющую природный
и необходимый характер, поэтому эгалитарная свобода
личности, как ее представлял, например, Руссо, должна
быть завоевана только всеми сообща, и в таком же
порядке, через социальный договор, общую волю и т. д., она
может быть реализована. В рамках, либертарной традиции
развивается понятие свободы, характеризующее состояние
человека, в котором он остается самим собой вопреки
всему и вся, любым общественным, коллективным
воздействиям. Это понятие, утверждавшее ценность
изолированного, ушедшего ъ себя, обособившегося в своей свободе
человека, было изначально узкоиндивидуалистическим.
В XVII—XVIII вв., в эпоху зарождения обеих
традиций— эгалитарной и либертарной, значительную роль
играло разделение негативного и позитивного понятий
свободы. Когда речь идет о свободном состоянии индивида в
смысле самостоятельности его бытия, независимости его
действий от принудительных влияний извне или отсутствия
преград на пути к достижению собственных целей данного
лица, применяется негативное понятие свободы — «свобода
от чего-либо или от кого-либо». Возможности индивида
совершать положительные действия в собственном
интересе охватываются позитивным понятием свободы, которое
означает известное индивидуальное притязание на
определенные действия или блага («свобода для...», «свобода
к...»). В буржуазной литературе- часто подчеркивают, что
между негативной и позитивной сторонами свободы
существуют довольно не простые, напряженные и даже
контрарные отношения. Кто хочет быть абсолютно независимым
от других, широко пользоваться плодами негативной
свободы, должен ограничивать себя или отказываться от
возможностей и перспектив, вытекающих из позитивного
понимания свободы. Крайним выражением данной позиции
88
является идеал «аскетической свободы», указывающий
путь «освобождения» посредством отказа личности от
потребностей и притязаний, которые связывают ее с
обществом и делают зависимой от других людей. Либертарная
точка зрения не является, конечно, «аскетической», но она
основывается на негативном понятии, сводится главным
образом к требованиям освободить личность от
социальных ограничений и принуждения, в основном
государственного.
В качестве доктрины, устремленной к достижению
элементов свободы, охватываемых негативным и позитивным
понятиями, эгалитаризм дал импульс развитию многих
либеральных политических теорий, поставив в центр
внимания последних проблемы обеспечения общественной и
индивидуальной свободы посредством надлежащего
устройства политических и юридических институтов. Либертаризм
же оказался почти бесплодным в данной сфере вследствие
своего равнодушия к социальным структурам,
обеспечивающим включение отдельной личности в общественное
целое. Основное внимание он уделял рыночной экономике,
частнопредпринимательской хозяйственной деятельности,
в рамках которой личность действует независимо от
всякого рода общественной и государственной активности.
Если эгалитаристы простирают свою заботу о свободе
человека на более или менее широкий круг социальных
ролей, которые может выполнять отдельная личность,
прежде всего на человека как гражданина государства, то
либертаристы пекутся исключительно о свободе
собственника или торговца. Настоящий и глубокий интерес
представляет для них роль индивида в экономике, центральная
их проблема — свобода личности от государства.
В либертарной концепции свободы, в ее исторических
и современных вариантах, взятых обобщенно, можно
выделить следующие основные постулаты.
1. Человек имеет абсолютное право быть самим собой,
распоряжаться своей жизнью, своими действиями и
имуществом, применять свои способности и таланты так, как
считает нужным. Свобода означает безусловное право
выбора жизненных целей и средств, сделанного
самостоятельно и в собственном интересе.
Л. Свобода означает собственность человека на все, чем
он в этом мире располагает, — на его жизнь, личные
качества, способности и таланты, достоинства и
недостатки, предметы и отношения, возможности и
перспективы.
Б. В ситуации выбора свобода есть абсолютное право
89
предпочесть собственный интерес всем другим интересам,
кому бы они ни принадлежали.
В. Человек вправе беспрепятственно распоряжаться
плодами своей деятельности, участвовать в системе обмена
деятельностями и продуктами труда наравне с другими
лицами. Никто не может возложить на индивида
обязанность уступить часть принадлежащего ему владения
другим или оказывать кому бы то ни было безвозмездную
помощь на условиях, которые исключают
добровольность.
Г. Свободный человек рассчитывает только на самого
себя, а не на благодеяния и помощь других. Никто не
обязан предоставлять индивиду блага и услуги на условиях,
исключающих добровольность других лиц.
2. Человек должен быть предоставлен собственной
судьбе. Никто не может присвоить себе право принудительно
направлять его судьбу, руководить его жизнью,
препятствовать реализации его жизненных интересов.
A. Человек вправе на началах добровольности и
взаимности вступать в необходимые ему контакты и соглашения
с другими людьми, но он должен быть свободным от
принудительных связей и обязанностей. Все действия в
отношении индивида законны, если он сам с ними согласился.
Б. Индивид приобретает необходимые ему блага,
производимые другими людьми, только в порядке обмена на
собственные блага в соответствии с законами
капиталистического рынка.
B. Никакие ограничения в отношении свободы личности,
если они имеют субъективный источник, т. е. исходят от
общества, государственной власти или других лиц,
недопустимы, так же как и всякое внешнее вмешательство в
сферу индивидуальной автономии.
Г. Когда ограничения указанного характера являются
объективно необходимыми, они могут быть наложены на
сферу свободы индивида лишь при обязательном согласии
последнего.
3. Государство не должно ограничивать свободу
человека в самом главном ее смысле — в смысле права
распоряжаться своей собственностью (жизнью, личностью,
имуществом), его функция — охранять это право от воз*
можных нарушений, а самого человека — от произвола и
насилия.
А. Право частной собственности и обеспечивающие его
законы рыночной экономики выше государственных
прерогатив. Регулятивное воздействие государства на
рыночные отношения исключаются в интересах сохранения си-
91
но усиливали влияние буржуазии в обществе, укрепляли
ее потенциал. Формировавшийся в недрах феодального
общества буржуазный класс олицетворял более
рациональную и эффективную организацию производства, чем та,
которая базировалась на феодальном внеэкономическом
принуждении, на подневольном труде закрепощенного
крестьянина, работающего на земле феодала.
С проникновением товарно-денежных отношений во все
сферы общества и установлением всевластия денег, чему
в немалой степени способствовали роскошь и широкий
образ жизни аристократии и дворянства, начинает
преуспевать торговая и финансовая буржуазия. В то же время
происходит процесс распада изживших себя экономических
форм, на которых покоилась старая иерархическая
система феодализма и господство феодалов. «Экономическая
структура капиталистического общества, — писал К.Маркс,
— выросла из экономической структуры феодального
общества. Разложение последнего освободило элементы
первого»32. В экономической «несвободе» тогдашней
буржуазии заключалось больше силы и исторического оптимизма,
чем в «свободе» правящего аристократическо-дворянского
сословия. На историческую арену выходил новый,
экономически преуспевающий класс, имеющий не только
перспективы, но и немалые наличные капиталы и богатство,
одним словом, реальную силу.
В политическом отношении буржуазия представляла
собой далеко не такую подавленную массу, какой были тогда
крестьяне или ранний пролетариат. В нее входили не
только лица, активно действовавшие в области
промышленности, торговли и финансов, но и деловые люди из других
сфер жизни: представители свободных профессий, юристы,
выслужившиеся чиновники государственного аппарата и
военные, т. е. люди, умевшие постоять за себя и свои
интересы. Именно они придавали столь динамичный,
экспрессивный характер политической борьбе «третьего сословия»
за свои права в XVI—XVIII вв. Где буржуазия с самого
начала активно подключалась к политике и политической
борьбе, там она достигала больших успехов и лучших
социальных позиций. В этом отношении примечательно
сравнение французской и английской буржуазии, сделанное
К. Марксом: «...с момента возвышения городов, французская
буржуазия становится особенно влиятельной благодаря
тому, что организуется в виде парламентов, бюрократии
и т. д., а не так, как в Англии, благодаря одной торговле
32 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 727.
96
стемы свободной конкуренции и поддержания принципов
экономической свободы личности.
Б. У государства должно быть как можно меньше прав,
а тем более реальных возможностей совершать
интервенции в сферу частнохозяйственных отношений, поэтому
идеальным является «малое, государство», требующее
небольших общественных затрат на свое содержание, связанное
всякого рода политическими и юридическими
ограничениями, идеей «господства права».
В. Индивиды выступают субъектами так называемых
негативных прав человека, в соответствии с которыми
гарантируется невмешательство в их дела с чьей бы то ни
было стороны. Сами по себе негативные права не приносят
благ, они лишь порождают у других лиц строгую
обязанность воздерживаться от нарушения интересов данного
субъекта и тем самым обеспечивают его свободу.
Г. Исключается или ставится под сомнение идея
позитивных прав человека, притязаний индивида на получение
благ и услуг от общества, государства в виде
вспомоществования, льгот, дотаций, субсидий и т. п., поскольку такие
права нарушают интересы и ограничивают свободу тех
членов общества, за счет которых могут быть
удовлетворены такого рода притязания.
Приведенные выше основные постулаты либертаризма
почти в полном своем виде были сформулированы в период
становления и расцвета классического буржуазного
либерализма Д. Локком, А. Смитом и их последователями —
приверженцами различных версий доктрины «laissez-faire».
Выявить социально-политический смысл либертарной
концепции свободы совсем нетрудно, если учесть реальные
условия антифеодальной борьбы буржуазии в политической
ситуации Европы XVII—XVIII вв. Поставим вопрос таким
образом: чего хотела буржуазия, вступая в эту борьбу,
какой свободы она добивалась для себя и какой — для
других классов?
В социальной структуре феодального общества
буржуазия -была, как известно, не самым низшим классом и не
самым обиженным сословием, а представляла собой
средний слой, живущий, так же как и высшая аристократия,
чужим трудом. В руках представителей этого слоя
оказались самые перспективные отрасли общественного
хозяйства— промышленность, торговля, банковское дело; у них
сосредоточивалось большое количество денег,
превращаемых в капитал, способный приносить новые деньги.
Научно-технические новшества, изобретения и открытия,
различного рода технологические усовершенствования эначитель-
92
и промышленности»33. Отметим в этой связи, что либер-
тарная концепция свободы, с точки зрения буржуа
идеально выражающая потребности участия человека в системе
частного предпринимательства и в торговом обороте,
зародилась именно в Англии.
У Д. Локка, либерального предшественника
современного либертаризма, было разработано по существу и
прежде всего негативное понятие свофоды, основной смысл
которого состоял в том, чтобы защитить личность от
произвола и вмешательства властей. Свобода человека, заявлял
он, заключается в том, «чтобы не испытывать ограничения
и насилия со стороны других», «не подвергаться
деспотической воле другого, а свободно следовать своей воле»34.
Уже в социальной философии Д. Локка вполне
определились либертарные тенденции: во-первых, выдвигать на
первый план «экономическую» свободу, через призму которой
рассматриваются все другие проявления свободной
человеческой деятельности, а во-вторых, описывать состояние
свободы индивида в качестве правового, в центре которого
находятся проблемы осуществления права собственности.
При этом Д. Локк широко прибегал к методам
универсализации понятия «собственность», трактовал его как
естественное право человека на все, что у него есть, включая
саму жизнь, свободу, свое тело, способности и таланты,
достоинства, труд и производимые им вещи, орудия,
предметы и т. д.
Границы, очерчивающие сферу, в которой человек
выступает самостоятельным и независимым собственником,
являются вместе с тем пределами индивидуальной
свободы. Собственность в философии Д. Локка по сути дела
совпадает со свободой, и это очень важно для понимания того
направления классического буржуазного либерализма,
которое он представляет. Человек есть «абсолютный
господин своей собственной личности и владений, равный самым
великим людям и никому не подчиненный...»35. В его
единоличном распоряжении находится обширнейшая область
индивидуальной свободы, а это — целая империя, которой
правит наделенный свободой воли индивид, ее законный и
суверенный «монарх». Уже в догосударственном, т. е.
природном, состоянии, утверждал Локк, «человек, будучи
господином над самим собой и владельцем своей собственной
33 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 28, с. 322.
34 Локк Д. Избранные философские произведения в двух томах,
т. II. М., 1960, с 34.
35 Там же, с. 72.
93
личности, ее действий и ее труда в качестве такового
заключал в себе самом великую основу собственности...»36.
Эта основа, по Д. Локку, есть высшее начало,
оправдывающее бытие государства, орудия реализации человеческой
свободы, т. е. собственности, ценность которой абсолютна
и не может быть поставлена в зависимость от
политического авторитета, государства. Напротив, подчеркивает он,
«великой и главной целью объединения людей в
государства и передачи ими себя под власть правительства
является сохранение их собственности»37.
Локк был выразителем чисто просвещенческой веры в
благородство идеала, соединяющего в себе свободу и
собственность, выводил понятие собственности из труда. При
этом речь у него идет не об абстрактном труде, вложенном
в производство продукта, не об обезличенной категории
политической экономии времен А. Смита и Д. Рикардо, а
об индивидуальном труде как основе личного присвоения.
По мнению Д. Локка, «каждый человек обладает
некоторой собственностью, заключающейся в его собственной
личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет
никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и
работа его рук по самой природе вещей принадлежат ему.
То, что человек извлек из предметов, созданных и
предоставленных ему природой, он слил со своим трудом, с чем-
то таким, что ему неотъемлемо принадлежит, — и тем
самым делает это своей собственностью»38. Индивидуальный
труд, затраченный на производство вещи, создает право
собственности на эту вещь, возможность свободно
распоряжаться ею и вместе с тем исключает правомочия других
лиц на эту вещь. «Ведь поскольку этот труд является
несомненной собственностью трудящегося, — писал он, —
постольку ни один человек, кроме него, не может иметь права
на то, к чему он однажды его присоединил...»39 Идея
трудового происхождения индивидуальной собственности,
несомненно, несет на себе отпечаток раннебуржуазных
представлений и иллюзий, предполагает возможность
осуждения эксплуатации чужого труда, поэтому позднейшие
либертарные доктрины относились к ней равнодушно, а
современные консервативные либертаристы и вовсе
отказались от нее.
Обратим внимание на то, что негативное понятие
свободы, развиваемое Локком, как бы адресовано определен-
36 Там же, с. 28.
37 Там же, с. 72.
38 Там же, с. 19.
39 Там же.
94
ному типу личности, рациональному и довольно
эгоистическому субъекту, который с помощью своих прав
отгородился от всего мира. В современной консервативной
литературе на Западе этот тип личности получил даже свое
особое наименование — «экономический человек» (Homo
economicus)40. Самая существенная черта последнего
заключается не столько в том, что он сфокусирован на
собственном интересе, добивается выгод и преимуществ, хотя
бы и за счет других, сколько в способности независимо и
компетентно вести все свои дела. В идеале этот человек
полностью автономен и твердо стоит на собственных ногах.
Никто лучше его самого не может знать, как решать его
личные проблемы. Если избавить «экономического
человека» от всякого принудительного воздействия извне,
предоставить ему полную свободу выбора поведения, он будет
действовать оптимально, стремясь сознательно или
интуитивно к естественной эффективности. Нынешним либерта-
ристам, как и Локку, понятие свободы представляется
прежде всего негативным, не признающим внешних
ограничений и помех для нормально развертывающейся
человеческой деятельности. Свобода, разъясняет Ф. Хайек,
принадлежит к понятиям, суть которых раскрывается через
отсутствие чего-то противоположного им по смыслу: мир —
это отсутствие войны, безопасность исключает опасность
и т. д. Свобода же, согласно Ф. Хайеку, «описывает
отсутствие особых препятствий, принуждения со стороны других
людей. Она не обеспечивает нам каких-то особых
возможностей, но предоставляет нам решать, как мы можем
использовать обстоятельства, в которых находимся»41.
Таким образом, с точки зрения либертаристов, личность
только тогда свободна, когда действует на основе самопро-
мышления, самоудовлетворения, самообеспечения.
«Экономический человек» у нынешних консерваторов либертарно-
го толка — это почти анархическая личность, которая
способна игнорировать не только государственное
воздействие, но и по существу влияние всех сознательно
организованных экономических и социальных процессов. Ф. Хайек,
например, определяет условия человеческой свободы как
«состояние, в котором индивидам позволено использовать
свои собственные знания для своих собственных целей»42.
Согласно взглядам американского философа Р. Нозика,
40 Liedman S. Neoliberalismus und Neokonservatismus.— Das
Argument 134, 1982, Juli-August, S. 495—496.
41 Hayek F. The Constitution of Liberty. Chicago, 1960, p. 19.
42 Hayek F. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice. London — Henley, 1976, p. 8, 120.
9в
стве примера общества, которое характеризовалось бы
большой мерой политической свободы, но которое не
использовало бы нечто сопоставимое со свободным рынком,
чтобы организовать массу экономической активности»44.
В большинстве либертарных представлений о свободе
сказывается антирационализм современной консервативной
мысли, которая резко сужает познавательный горизонт и
когнитивные возможности, заложенные в просвещенческом
понимании свободы у Локка или, скажем, в прогрессист-
ском ее истолковании у Гегеля («свобода как познанная
необходимость»). Вместо этого подчеркиваются элементы
приспособления человека к безличным законам рынка и
учет экономической конъюнктуры, абсолютное доверие к
спонтанным, неорганизованным процессам, внутренняя
сбалансированность которых может будто бы сама по себе
обеспечить оптимальный результат индивидуальных
усилий. Если рынок, или, что то же самое, экономическая
стихия, анархия производства создают свободу личности,
являются источником ее развития, то закономерно возникает
вопрос о значении вклада самого человека как мыслящего
существа в состояние своей свободы. В объективно
существующей, но совершенно неуправляемой и
неконтролируемой системе рыночных отношений индивиду определена та
сфера свободы («от» и «до»), которую создает для него
знаменитая «невидимая рука», указывающая, согласно
Адаму Смиту, каждому его место в данной системе, т. е.
просто удача, счастье, фортуна.
Конечно, «экономическому человеку» нужны знания,
чтобы преуспевать, но знания утилитарного,
прагматического характера и только «для собственных целей». А в
общем свобода, на котирую обрекают личность либертаристы,
означает возможность беспрепятственно плыть по течению,
доверяясь судьбе. Вместо свободы как познанной
необходимости, возможности субъекта сделать выбор со знанием
дела теоретики либертаризма пытаются утвердить свободу
как актуализированную случайность, воплощенный
фатализм. Откровенно, хотя, может быть, и не до конца,
формулирует эту мысль Ф. Хайек. «Свобода, — пишет он,—
означает, что в некоторой мере мы вверяем нашу судьбу
силам, которые нам не подконтрольны, и это кажется
нетерпимым для тех конструктивистов, которые считают, что
человек может творить свою судьбу, как если бы
цивилизация и сам разум являлись его творением»45.
44 Friedman М. Capitalism and Freedom. Chicago, 1962, p. 89.
49 Hayek F. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice, p. 30.
свобода состоит в том, что, определяя свою жизнь, каждый
индивид выступает автономным, ответственным и
независимым от воли других, выражаемой в индивидуальной или
коллективной формах. Свобода сливается у него с
абсолютным правом личности на уникальную жизнь, правом
человека на то, чтобы его ни к чему не принуждали и ни в
чем не ограничивали.
Современные либертаристы охотно воспринимают идею
Локка относительно внутренней связи свободы и
собственности, подчеркивая незыблемость последней, придают этой
идее сугубо консервативную окраску. Характеризуя либер-
тарные представления о собственности, американские
авторы пишут: «Собственность имеет моральную
действительность, потому что она устанавливает основу, которая
позволяет отдельным индивидам независимо и свободно
посвящать свое время и энергию развивающемуся познанию
нужд общества. Она осуществляет естественные
человеческие желания и отмечает различие способностей среди
людей. Ее неравное распределение есть, таким образом, часть
естественного порядка вещей, а ее защита поэтому есть
часть функций правительства. Собственность обеспечивает
свободу, помогает проецировать мудрость прошлого на
настоящее и согласовывает нужды и желания людей и
поэтому является строительным блоком хорошо
организованного общества»43. Связывая собственность с экономической
свободой, либертаристы видят в ней существенный элемент
и основу рыночной системы хозяйствования.
Именно рынок порождает экономическую свободу
личности в либертарном смысле и постоянно нуждается в ней
как обязательном условии собственного развития. Из этого
исходят нынешние экономические теории так называемого
монетаризма. Примечательно, что глава чикагской
экономической школы, монетарист М. Фридман, одну из своих
книг специально посвятил идее свободы в
капиталистическом обществе, ее обоснованию в духе либертарных
традиций. Он пытался доказать, что рынок является
«истинным» источником экономической свободы и предпосылкой
свободы политической. «Содной стороны, — писал
М.Фридман,— свобода в экономических устройствах есть
компонент более широко понимаемой свободы, но экономическая
свобода есть цель сама по себе. С другой стороны,
экономическая свобода есть необходимое средство достижения
политической свободы... Я не знаю во времени и простран-
48 Dolbeare К., Dolbeare P. American Ideologies:The Competing
Political Beliefs of the 1970*8. Chicago, 1971» p. 222-223.
98
можность установления «гармонических» общественных
связей47, и, наоборот, ограничение или подавление
конкуренции и эгоизма есть путь, ведущий к уничтожению
свободы.
Характерной чертой либертарного понятия свободы
является то, что оно, как правило, излагается юридическим
языком и по существу сливается в нечто единое со
специфической теорией прав человека. «Либертаристы часто
вращаются вокруг разговоров о свободе, потому что они
рассматривают права как эквивалент свободы, а теорию
прав основывают на индивидуальной свободе»48. У истоков
этой традиции, несомненно, стоял Д. Локк,
отождествлявший, как мы видели, свободу с универсально трактуемым
правом собственности индивида. Но дело не только в этом.
Негативное понятие свободы, как его обосновывают
либертаристы, может быть раскрыто через систему естественных
негативных прав человека на жизнь, свободу действий,
собственность, которые являются общими, безусловными и
абсолютными.
Что означают общие и абсолютные негативные права?
Для ответа на этот вопрос вновь обратимся к Д. Локку.
«Каждый человек... — пишет он, — по природе свободен, и
ничто не в состоянии поставить его в подчинение какой-
либо земной власти, за исключением его собственного
согласия...»49 Используя правовую терминологию, идеи Лок-
ка можно выразить следующим образом: никто не может
причинять вред личности, ограничивать ее свободу,
покушаться на ее собственность, т. е. ущемлять права человека
без его согласия и вопреки его воле. Речь идет об общих
правах, потому что управомоченному субъекту в качестве
обязанной стороны противостоит весь мир; все люди несут
обязанность не вмешиваться, не ограничивать, не чинить
препятствий обладателю негативных прав. Наконец, это
безусловные и абсолютные права, потому что лицо ничего
не должно делать, чтобы их получить, они действительны
независимо от чьего-либо согласия, одобрения и т. п.
Негативные права существуют как необходимый моральный
элемент идеи личности, имманентны природе человека.
Такой же абсолютный и всеобщий характер имеет и обязан-
47 Saeger R. American Government and Politics. A Neoconservative
Approach, p. 27—28.
48 La Follette H. Why Libertarianism is Mistaken. — Justice and
Economic Distribution. New Jersey, 1978, p. 195.
49 Локк Д. Избранные философские произведения в двух томах,,
т. II, с. 69.
4—315
97
Таким образом, предоставленный своей судьбе индивид
действует вне сознательно организованного контроля,
исходящего от других людей и социальных объединений,
прежде всего государства, но он, безусловно, контролируется
слепой и безличной силой, навязывающей ему формы
поведения, которые являются однозначной реакцией на
сигналы рынка в виде цен, на соотношение спроса и
предложения товаров и услуг, рыночную конъюнктуру. Поведение
субъекта на рынке принципиально не отличается от
участия человека в азартной игре (Ф. Хайек, кстати сказать,
строит свою теорию капиталистического рынка на анализе
разнообразных игровых ситуаций), поэтому свобода
личности, вовлеченной в стихию рыночных отношений, есть
свобода игрока делать ставки, проявлять инициативу в
рамках установленных правил, принимать на себя
ответственность, риск в случаях проигрыша.
Смысл либертарной свободы довольно прозаичен и
заключается в том, что никто не вправе диктовать индивиду
вкладывать капитал в известное дело или нет, вступать или
не вступать в сделки с другими лицами, брагь или не брать
на себя определенные частноправовые обязательства и т. п.
Под влиянием классической буржуазной политэкономии
либертаристы сводят проблему свободы к обеспечению
индивидам надлежащих условий выбора во взаимном обмене
деятельностями и продуктами, осуществляемом через
механизмы рыночного хозяйства. Поскольку подобный обмен
мыслится как процесс универсальный, то уже А. Смит
представлял общество в виде огромного рынка. По его
словам, «каждый человек живет обменом или становится
в известной мере торговцем, а само общество
превращается, так сказать, в торговый союз»46.
Высказывания современных либертаристов лишь
усиливают впечатление, что проповедуемая ими концепция
свободы, сконцентрированная на нуждах рынка, товарного
производства, обмена и торгового оборота, не имеет в виду
никаких других социальных отношений и даже не
интересуется ими. Во всяком случае они убеждены, что только
рыночная система экономики способна формировать
«свободное» общество, что энергия социального развития
происходит из стремления человека к состязательности, из его
глубокой и необратимой самозаинтересованности. Дать
выход этим «естественным» тенденциям человеческой
природы— значит, согласно либертаристам, обеспечить воз-
46 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.
М., 1962, с. 33.
100
вия, которые никто, даже власть, не обязан осуществлять»51.
Собственно, данная идея у Ф. Хайека, Р. Нозика и других
либертаристов направлена против любой организованной
в обществе системы вспомоществования, социального
обеспечения и страхования, против социальной политики
«государства благосостояния» и либеральных программ
перераспределения доходов и собственности в пользу
малоимущих слоев населения капиталистических стран. Это и есть
то, против чего сегодня активно восстают консервативные
либертаристы Запада под флагом свободы.
Либертарная критика социальных программ
«государства благосостояния» теоретически основана на том, что
политика социальной помощи и перераспределения
богатств в пользу бедных широко допускает не основанные на
согласии некоторых членов общества, т. е. неконсенсуаль-
ные, ограничения их свободы и абсолютных прав. Чтобы
дать одним, государство должно взять у других, минуя
единственно законную с либертарной точки зрения
процедуру взаимного согласия и частных договоров, нарушая
естественный, заданный рыночными отношениями «баланс»
индивидуальных интересов в обществе. Мы, разумеется,
не намерены защищать «государство благосостояния» от
критики, которую оно во многих отношениях заслужило,
но должны подчеркнуть очевидную теоретическую
несостоятельность либертарных аргументов, базирующихся нд
узком, деформированном и крайне выхолощенном
истолковании понятия человеческой свободы. Искажение
начинается с абсолютизации негативного элемента свободы, ее
определения как невмешательства в сферу отношений,
включаемых в «империю» индивида, которые находятся под его
«юрисдикцией». Внешнее вмешательство в жизнь, дела и
собственность человека, говорят либертаристы,
ограничивает или даже упраздняет его свободу. Но это утверждение
вступает в очевидное противоречие с выводом, сделанным
на уровне элементарных наблюдений, согласно которому к
частичной или полной утрате свободы нередко ведет
именно невмешательство в дела индивида, отсутствие
доброжелательного участия и поддержки со стороны общества и
других людей.
Из либертарной концепции свободы полностью
элиминированы присущее человеку нормальное стремление к
общности, коллективные связи. Сегодня либертаристы
возрождают поистине реликтовую концепцию негативной сво-
51 Hayek F. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice, p. 102.
4*
99
ность всех лиц воздерживаться от нарушения естественных
прав человека.
В свою очередь согласие субъекта на известное
ограничение его свободы и собственности оправданно в той мере,
в какой оно может явиться источником позитивных прав
индивида, которые носят частный и обусловленный
характер. Позитивные права на определенные блага и действия
других лиц возникают только из отдельных соглашений,
юридических сделок и договоров и, конечно, не могут быть
правами естественными и абсолютными. Идею позитивных,
благоприобретенных прав либертаристы, в частности P. 11о-
зик, выводят из потребностей гражданского оборота50.
Обладатель общего негативного права на жизнь, бесспорно,
нуждается в средствах поддержания своей жизни — в
пище, одежде, жилье и т. д. Но эти средства, как правило,
находятся в законном владении других лиц, право
собственности которых абсолютно и защищено обществом.
Никто не может принудить собственника уступить свою вещь
другому. Однако возможна добровольная передача
владения по частному взаимному соглашению субъектов.
Порождаемые таким соглашением права и обязанности
либертаристы называют позитивными. Они — частные, потому
что имеют в виду цели удовлетворения сугубо
индивидуальных интересов и отвечают, по мнению Р. Нозика,
известному принципу Канта: каждый индивид является целью
для себя, а не средством для других. Человек,
следовательно, не может быть без свободно выраженного,
добровольного согласия принесен в жертву или использован для
достижения каких-либо иных целей, включая
общественные и государственные.
Позитивные права условны, поскольку для их
возникновения требуется согласие контрагентов, вступающих в
сделку. Права и обязанности по договорам есть
ограничения их свободы, на которые они сами согласились. Помимо
этого никто не обязан делать что-либо позитивное для
другого, так же как человек не вправе надеяться на
бескорыстную помощь ближних. «Никто, — пишет Ф. Хайек,—
не имеет права на какое-то особое состояние дел, если нет
чьей-то обязанности обеспечить его. У нас нет права на то,
чтобы наши продукты или услуги находили покупателей,
чтобы кто-то приготовил для нас особые блага.
Справедливость не налагает на наших ближних общую обязанность
обеспечивать нас... Нет смысла говорить о праве на усло-
Nozick R. Anarchy, State and Utopia. New York, 1974, p. 28—32.
101
боды, которая, можно сказать, многим буржуазным
идеологам всегда казалась крайностной и нуждающейся в
существенной корректировке. Действительно, Д. Локк
определял свободу индивидуалистически, как некий
огороженный частоколом участок личной автономии, куда доступ
другим людям и даже государству был принципиально
запрещен. Поскольку речь шла о политической свободе, об
отношениях государства и личности, то это определение
вполне устраивало английскую буржуазию и прочно вошло
в ее идеологический оборот. Однако динамическая природа
товарно-денежных отношений, в которые оказался
вовлеченным класс буржуазии, вскоре показала, что невозможно
сидеть сложа руки на огороженном участке
индивидуальной свободы и наслаждаться своей независимостью от
других. Буржуазию донимал зуд предпринимательства, ей
неудержимо хотелось идти вперед, с головой уйти в
свободную стихию рынка, в смелые и рискованные экономические
операции, выигрывать и побеждать в конкурентной борьбе.
Она верила, что социальный прогресс может быть
достигнут только через индивидуальные усилия и состязания.
Была очевидной необходимость дополнить концепцию
«свободы от...» понятием «свободы к...», предполагающим
позитивные действия личности в экономической и
политической сферах, возможность пробивать себе дорогу в жизни
и проявлять инициативу, не испытывая нелепых и
неоправданных ограничений, какие вводил феодализм.
Разработка понятия свободы с активными
социальными функциями легла на плечи буржуазных идеологов
XVIII в. В интересах общества, считали эти идеологи, надо
предоставить полную свободу действий тем, кто без устали
трудится на общее благо, предотвращает застой в
хозяйственной деятельности и политике. Именно эти активные
люди и самый «работающий» общественный класс имеют
право на большую по сравнению со всеми часть
собственности и власти.
Итак, призывали идеологи, дайте свободу буржуа, пусть
они действуют («laissez-faire»)! Энциклопедист П. Гольбах
страстно и выразительно передал это настроение: «Пусть
честолюбивый человек, оказывающий пользу отечеству,
получит почести, титулы, чины и власть; пусть человеку,
любящему богатства, дадут их, если он окажется
необходимым для своих сограждан; пусть ободряют похвалами
того, кто любит славу; одним словом, пусть будет дана
свобода человеческим страстям, если из них получаются
реальные и длительные выгоды для общества. Пусть
воспитание и политика возбуждают ч благоприятствуют лишь
102
тем страстям, которые полезны человеческому роду и
необходимы для его сохранения»52. Таков позитивный смысл
знаменитого принципа «laissez-faire», негативное
требование которого, обращенное к государству, гласило:
«предоставьте каждого самому себе», «никакого вмешательства
государства в свободу предпринимательской
деятельности».
То, что корыстолюбивые и честолюбивые люди, стремясь
к собственной выгоде, могут приносить вместе с тем
пользу для общества, оказалось наивным предположением, если
не большим заблуждением. Негативное требование
указанного принципа на самом деле морально узаконило
широчайшую практику злоупотребления позитивной свободой со
стороны капиталистов в частнохозяйственной сфере. Как
признают американские авторы, «действительное
воздействие невмешательства было ужасающим, и многие
современные либералы его отвергают. От имени свободы многие
либералы отрицали, что государство может исправлять
нездоровые условия труда, регулировать рабочее время и
детский труд или требовать посещения детьми школы. От
имени свободы договоров они превозносили форму
договоров и забывали, что люди бывают неспособными вступать
в договоры как равные или что нужда индивида в рабочем
месте может быть большей, чем нужда предпринимателя
в работнике»53. Именно эти ужасающие последствия
неурегулированности и отсутствия контроля над частным
бизнесом были причиной кризиса системы «laissez-faire» и
замены ее в эпоху государственно-монополистического
капитализма новыми стратегиями, включающими
возможность буржуазного государства исправлять «недостатки»
стихийной саморегуляции рыночной капиталистической
экономики.
Можно считать исторически вполне доказанным, что
негативное понятие либертарной свободы, отбрасывая тень
на общественную действительность, чрезвычайно
благоприятствует процветанию социальных неравенств и
несправедливости, способствует усилению эксплуатации человека
человеком и злоупотреблениям властью и богатством со
стороны крупного капитала. Ложным и практически
дезориентирующим является утверждение либертаристов о
том, будто бы всякое ограничение свободы индивида мо-
52 Гольбах П. Система природы или о законах мира физического-
и мира духовного. М., 1940, с. 89.
d Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political
Economy, p. 6.
103
жет быть действительным и морально оправданным, если
оно одновременно является добровольным
самоограничением, имеет консенсуальную основу. Там, где проходит
граница между человеческой свободой и объективной
необходимостью, находятся многие вещи и отношения, которые
существуют независимо ни от общей воли людей, ни от
согласия отдельного индивида. В силу своего наличия эти
вещи и отношения ограничивают свободу способом,
который человек неизбежно принимает, как бы он ни оценивал
это с точки зрения собственных интересов. Вопреки Д. Лок-
ку индивид далеко не абсолютный монарх в сфере своей
свободы, не всегда и не все здесь подчиняется его воле,
приказу, направляется по его велению. Говоря о свободе
человека в смысле господства последнего над природой,
Ф. Энгельс указывал: «...мы отнюдь не властвуем над
природой так, как завоеватель властвует над чужим народом,
не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне
природы...»54. Но то же самое можно сказать и о свободе
как господстве человека над общественными отношениями.
Объективно включенный в эти отношения, действующий в
их рамках, индивид принимает реальные границы своей
свободы, обозначенные интересами общества, коллективов,
других лиц. С этими границами человек, если он не
принадлежит к числу закоренелых эгоистов и анархистов,
просто не может не согласиться. Они даны логикой
социального бытия и принимаются людьми на неконсенсуальной
основе.
Либертаристы, таким образом, приходят к ошибочной
трактовке индивидуальной свободы, вследствие того что
игнорируют ее объективное содержание, разрывают ее
связи с понятиями свободы социальных объединений и в
итоге предлагают узкую схему волюнтаристского типа. Их
попытки абсолютно исключить всякое внешнее
вмешательство в свободу человека признаются многими
либеральными авторами на Западе нереалистическими, неверными.
Критики либертаризма подчеркивают, что идея негативных
общих прав и обязанностей противоречива и сама в себе
содержит ограничения личности, что просто присутствие
других людей накладывает на человека обязанность
ограничивать свою свободу, что, наконец, либертаристы не
способны указать на условия, при которых индивидуальная
свобода не могла бы быть ограниченной без согласия
субъекта 55.
54 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 496.
55 La Follette Н. Why Libertarianism is Mistaken. — Justice and
Economic Distribution, p. 197—204.
104
Требуя, чтобы каждое ограничение свободы индивида
было обязательно согласовано с ним, чтобы моральные
нормы и принципы, снижающие уровень возможностей
лица, налагались на него только при его согласии, либерта-
ристы, разумеется, не отвечают на вопрос, каким образом
и кто сможет реализовать эти «принципы свободного
общества». Преимуществами данной либертарной схемы,
очевидно, воспользуются только те, кто имеет достаточно
сил и средств добиться упразднения норм и принципов, с
которыми они не согласны. Реакционная часть современной
буржуазии под этим предлогом требует сегодня отмены
ряда правовых актов, прежде всего касающихся
социальных вопросов капиталистических стран, пересмотра
политики, в первую очередь социальной политики буржуазных
государств.
Значительное место в либертарных концепциях
занимают вопросы взаимоотношения государства и индивида в
условиях ориентированного на капиталистический рынок
общественного развития. Основная забота либертаристов
состоит не в том, чтобы каким-то образом
рационализировать эти отношения, а в том, чтобы возвести
непреодолимые преграды на пути властного вмешательства
государства в частнохозяйственные дела. Из приведенной выше
общей характеристики либертарной теории прав человека
следует достаточно очевидный вывод, согласно которому
как негативные абсолютные права индивида, так и сумма
частных, благоприобретенных, позитивных прав возникают
и реализуются вне прямого воздействия государственной
деятельности. Более того, в известном смысле эти права
могут быть представлены как права человека против
государства. Либертаристы почти не интересуются
политической теорией, а если и обращаются к соответствующий
проблемам, то обсуждают их в манере, которая приводит
в смущение многих либеральных интеллектуалов на
Западе, сплошь и рядом путают политику с рынком. Во всяком
случае они исходят из предположения о несовместимости
рыночного хозяйства со всякой системой политической
централизации, которая в современном обществе
представлена в первую очередь и главным образом государством.
Поэтому либертарные теории отражают стремление, во-
первых, к такому состоянию общества, в котором
происходил бы постоянный процесс рассеивания власти,
экономической и политической децентрализации, во-вторых, к
сдерживанию государственного экспансионизма, гарантиям
невмешательства правительственных органов в свободу
индивида распоряжаться своей собственностью.
105
В XVII в. самой актуальной проблемой для либералов
была необходимость установить строгий запрет на
монархический произвол в отношении буржуазной частной
собственности. Это было главной тревогой Д. Локка, который
с большой страстью и убежденностью доказывал, что
«верховная власть не может лишить какого-либо человека
части его собственности без его согласия, ибо сохранение
собственности является целью правительства, и именно
ради этого люди вступают в общество...»56. Каким бы
деспотическим и своевольным ни был правящий политический
режим, как бы далеко ни простиралась компетенция
государственной власти, они должны преклониться перед
святостью и неприкосновенностью права человека на
собственность. Отнять у индивида его добро в порядке
конфискации, принудительного изъятия, узаконенного грабежа —
это самое худшее, что может случаться в обществе.
Государи и правительства должны проникнуться сознанием
того, что захват собственности подданных — тяжкий грех
власти, табу для государства. Довольно скоро эта локков-
ская мысль обросла многими дополнительными
значениями и трансформировалась в более широкую идею
невмешательства государства в сферу индивидуальной свободы,
которая сегодня почти в неизменном виде воспроизводится
в доктринах консервативного либертаризма.
Рынок, обеспечивая свободу собственности,
гарантирует человеку также и возможность быть свободным от
государственного произвола, всякого государственного
воздействия вообще. Взгляды современных либертаристов
сводятся к следующему: «Свобода состоит в отсутствии
принуждения для индивидов, а это может быть обеспечено
только устранением политической власти или контролем
над ее использованием в максимальной степени. Это, в
частности, означает снижение экономической роли
правительства до функций придания силы договорам,
установления права и порядка, третейства в отношении правил
игры. Действие свободного рынка снимает необходимость
организации правительства и управления экономикой и
таким образом сокращает возможности принуждения
индивидов. Далее, свободный рынок капитализма обеспечивает
широкое распределение экономической и политической
власти посредством гарантирования политической
свободы» 57.
56 Локк Д. Избранные философские произведения в двух томах,
т. II, с. 80.
57 Dolbeare К., Dolbeare P. American Ideologies: The Competing
Political Beliefs of the 1970's, p. 217.
106
Индивидуальные права и соответствующие обязанности,
по мнению либертаристов, образуют основу
правительственной власти и определяют назначение государства в
обществе— стоять на страже свободы и прав человека,
защищать и гарантировать порядок их естественной
реализации, быть, короче говоря, ночным сторожем. Эта идея
красной нитью проходит через многие публикации
либертаристов58. Находящиеся под их влиянием экономисты
утверждают, что защита права частной собственности
требует особой осторожности от государства не только
потому, что это право воплощает человеческую свободу, но и
вследствие специфической роли структур частной
собственности на капиталистическом рынке. Последние порождают
сигналы, по которым можно судить, насколько эффективны
те или иные экономические процессы. Например, на
дефицит энергии или сырья рынок сразу же отвечает их
удорожанием, что заставляет собственников снижать расходы
ресурсов, искать дешевые заменители и т. д. Сознательное
поддержание цен на определенном уровне в процессе
государственного регулирования фальсифицирует сигналы
рынка, в результате чего индивиды не могут найти
правильную линию экономического поведения. «Если право
собственности изменить так, что данные сигналы исчезнут
или исказятся, недостатки не могут быть преодолены и
фактически останутся перманентными»59, — пишут авторы
одного йз исследований по экономической истории США.
В своем логически завершенном виде либертарная
теория является полностью анархической в следующем: для
общества и индивида государство не имеет жизненного
значения, люди вполне могут обойтись и без него. Но
поскольку государство может быть полезным для защиты
индивидуальных прав, либертаристы все же соглашаются
с некоторыми формами ограниченной государственности в
условиях рыночного хозяйства. Либертарист Э. Мак,
например, полагает, что действие свободного рынка и
договорных начал в обществе, где уважаются права личности
в духе Локка, может полностью заменить основанные на
политическом централизме институты и практику формами
добровольной ассоциации. «Хотя я считаю, — пишет он,—
что полное осуществление прав личности требует отмены
государства, для настоящих целей мы можем представить,
58 Hospers J. Libertarianism. Los Angeles, 1971; Nozick R. Anarchy,
State and Utopia. New York, 1974; Machan T. Human Right and Human
Liberties. Chicago, 1975.
59 North D., Anderson Т., Hill P. Growth and Welfare in the
American Past. A New Economic History. New Jersey, 1983, p. 172.
107
что государство действует на сцене как ночной сторож и
ограничено защитой локковских индивидуальных прав»60.
Экономическая организация рынка привлекает либертари-
стов тем, что якобы делает индивида совершенно
независимым от политики, создает ситуацию, при которой
человек не нуждается в государстве для приобретения
собственности, доходов и богатств.
Если у правительства нет права вмешиваться в частные
дела своих граждан, то и граждане не имеют права
получать от государства какие-либо блага или требовать от
него помощи в делах. В этом отношении либертаристы
весьма последовательны и в целом разделяют взгляд на
природу государственного управления, который
высказывал в свое время американский политический мыслитель
У. Липпман. «В свободном обществе государство
управляет не делами людей, — писал он. — Оно управляет
справедливостью среди людей, которые ведут свои собственные
дела»61. Деятельность государства, следовательно,
касается формальных связей, которые лежат на поверхности
общественной жизни, не затрагивает глубинных
экономических и социальных процессов, но лишь охраняет их
такими, какими они сложились, развиваясь сами по себе.
«Наиболее важные общественные блага, для которых
требуется правительство, — пишет Ф. Хайек, — это не прямое
удовлетворение каких-либо особых нужд, но обеспечение
условий, при которых индивиды и малые группы имеют
благоприятные возможности взаимно обеспечивать
соответствующие свои нужды»02. То, что У. Липпман называл
«управлением справедливостью», есть чисто формальная,
охранительная деятельность государства, сведенная к
решению задачи защитить «экономического человека» от
насилия, краж, обмана, нарушения договоров и т. д.
Справедливость в этом случае выступает как необходимость
вершить правосудие, крепко держать в государственных
руках карающий меч и охраняющий щит, в то время как
члены общества делают свой бизнес.
Что же касается справедливости в распределении
экономических возможностей, благ и богатства, то она
находится вне политической компетенции государства. Как отмечал
еще Адам Смит, «дело решает рыночная конкуренция в
соответствии с грубой справедливостью, которая, не будучи
60 Mack Е. Liberty and Justice.—Justice and Economic Distribution,
New Jersey, 1979, p. 183.
61 Lippmann W. An Inquiry into the Principles of a Good Society.
Boston, 1937, p. 267.
62 Hayek F. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice, p. 2.
108
вполне точной, достаточна все же для обычных житейских
дел»63. Современные либертаристы в отличие от А. Смита не
считают справедливость, рожденную из рыночной стихии,
грубой, неточной, а, наоборот, восторгаются ее внутренней
гармонией, совершенством, ее способностью балансировать
интересы так, как это не в состоянии сделать ни одна
система сознательно организованного регулирования. Все, что
возникает в итоге стихийного рыночного распределения,
есть для Ф. Хайека справедливость в последней инстанции,
непререкаемая и не подлежащая никакому пересмотру.
В теории Р. Нозика (его либертарную концепцию
справедливости мы рассмотрим отдельно) эта идея работает как
существенная часть аргументации против политики
государственного регулирования распределительных отношений,
перераспределения доходов и собственности через каналы
налогообложения, государственного бюджета и
финансирования социальных программ. Когда законы «государства
благосостояния» устанавливают высокие налоги для всех
категорий населения, с тем чтобы затем часть изъятых у
граждан средств предоставить тем, кто, по мнению
государственных чиновников, является бедным и нуждающимся, то
это по существу, полагают другие либертаристы, ничем не
отличается от поборов и конфискаций буржуазной
собственности времен абсолютизма, так глубоко возмущавших
Д. Локка и ранних английских либералов. Если
единственной заботой правительства является защита негативной
свободы и негативных абсолютных прав личности, то для
выполнения соответствующих функций вполне достаточно
так называемого минимального государства.
Отмежевываясь от анархических позиций отдельных ли-
бертаристов, Р. Нозик из своеобразно интерпретируемой
теории общественного договора выводит идею
«мини-государства»64. Поскольку свобода и права индивидов могут быть
ограничены только с их собственного согласия, заявляет
Р. Нозик, то государство как наиболее серьезный,
ограничивающий человека фактор социального развития возникает
лишь из всеобщего контракта, договора. Выходя из
естественного состояния, люди эмпирически нашли тип
государственности, который нельзя расширять дальше
определенных границ без ущерба для человеческой свободы и
абсолютных прав индивида. Государство, которое стремится
быть «большим», безудержно растет и усиливается, выхо-
63 Смит Л. Исследование о природе и причинах богатства народов,
с. 39.
64 Nozick R. Anarchy, State and Utopia, Chap. I.
•109
дя за свои естественные «мини»-рамки, утрачивает
моральное оправдание и становится исторически незаконным.
Отрицательное отношение либертаристов к идее
равенства логически вытекает из охарактеризованной выше их
концепции свободы. Если человек, свободный от препятствий
и внешних помех, от сознательно организованного контроля,
вправе «творить» себя по собственному усмотрению, то о
социальном равенстве, конечно же, не приходится говорить.
В контексте современных либеральных теорий само слово
«равенство» занимает весьма скромное место и является
скорее всего неохотно отдаваемой данью либеральным
традициям. Вспомним, что в XVIII в. в своих рассуждениях о
равенстве Руссо исходил из того, с чего начинал и Д. Локк в
XVII в., а именно из тезиса, согласно которому все люди
от природы равны. В политических произведениях Джона
Локка можно видеть типичную для либертаристов
подмену идеи социального равенства принципом равенства
правового. Формально признается единство идеалов
свободы и равенства, но второй интерпретируется
функционально по отношению к первому: «равное право людей на
естественную свободу». Хотя, писал Д. Локк, «все люди по
природе равны, меня не следует понимать так, что это
равенство распространяется на все». Поскольку одни индивиды
поставлены в обществе по своим заслугам и достоинству выше
других, их превосходство необходимо признать
справедливым. «И все же все это сочетается с тем равенством, в
котором находятся все люди в отношении юрисдикции или
господства одного над другим. И именно об этом равенстве я
и говорил... имея в виду то равное право, которое каждый
человек имеет на свою естественную свободу, не будучи
обязан подчиняться воле или власти какого-либо другого
человека»65. Д. Локк выразил мысль, которая сегодня
воспринимается либертаристами как аксиома: равенство
терпимо лишь в той мере, в какой оно есть равное право
человека на свободу, или, что по существу то же самое, равная
свобода осуществлять естественные индивидуальные
права.
В социальной философии монетаристов старая формула
«равное право на свободу» часто расшифровывается в
современном духе как «равное право на неравенство». Каждый
человек, мол, имеет одинаковое право самостоятельно
определить свое место в системе общественных отношений,
отличиться от других, осуществляя свободный выбор. М. Фрид-
65 Локк Д Избранные философские произведения в двух томах,
т. II, с. 33.
по
ман, например, подчеркивает важность идеи свободы
человека реализовать свои способности и возможности
согласно индивидуальным правам. «Это, — пишет он, — включает
веру в равенство людей только в одном смысле: в смысле их
неравенства к другим. Каждый человек имеет равное
право на свободу. Это есть важное и фундаментальное право
именно потому, что люди различны, потому что один
человек желает использовать свободу иначе, чем другой, и
может вкладывать больше, чем другой, в общую культуру
общества, в котором живут многие»66. Далее М. Фридман
проводит резкое различие между равенством прав или
возможностей, с одной стороны, и материальным равенством
результатов — с другой. Последнее, по его мнению,
абсолютно несовместимо со свободой, любую попытку во имя
справедливости выравнивать результаты распределения он
объявляет противоречащей разумной организации рыночной
экономики. С этой точки зрения равенство, заявляет он,
приходит в резкий конфликт с интересами свободы: нужно
выбрать одно67. Предпочтение свободы в данном случае
означает выбор неравенства.
Если либертаризм уже в своем либеральном прошлом
вполне удовлетворялся провозглашением формального
правового равенства возможностей, то эгалитарная
идеологическая традиция буржуазии в той или иной форме пыталась
исходить из реальных стремлений определенных
общественных слоев к социальному равенству. Не многие
мыслители XVIII в. так далеко пошли навстречу этим стремлениям,
как это сделал Ж.-Ж. Руссо, с именем которого связано
происхождение буржуазного эгалитаризма. Своеобразный,
сложный и противоречивый идеолог, Руссо не был типичной
фигурой эпохи Просвещения, принимал в штыки многое из
того, что для просветителей было бесспорно и свято.
Лейтмотивом социальной философии Руссо является идея, в
соответствии с которой «большая часть бедствий человека —
дело его собственных рук, кажется, будто бы он приложил
больше усилий, чтоб испортить свое положение, чем природа
положила, чтобы сделать его хорошим»54.
Примечательно, что Руссо отходит от
господствовавшего в его время индивидуализма, ищет корни ошибок,
породивших зло социальных неравенств, не в природе самого
человека, а в характере общественных связей. Короче
говоря, суть дела, по Руссо, не в самом человеке, а в устройстве
66 Friedman М. Capitalism and Freedom, p. 195.
67 См. там же.
68 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 418.
Ill
общества. Идя по этому непроторенному пути, Руссо
высказывает здравую, вполне материалистическую мысль о том,
что первой причиной происхождения социальных неравенств
явилось возникновение частной собственности, разделение,
и противопоставление «моего» и «твоего», на котором
зиждется все гражданское общество. В самом появлении
частной собственности Руссо, правда, не видит ничего
большего, чем ловкую узурпацию, акт бесстыдного захватничества
земли и ее плодов со стороны сильного человека,
одержимого алчностью и честолюбием.
Собственность, согласно Руссо,— это коварная вещь, от
которой человечеству трудно избавиться. Достойно
удивления, что Руссо, так искренне и горячо обрушившийся на
частную собственность, не требовал отмены этого института,
оставался совершенно равнодушным к идеям общности
имущества, которые в то время были известны во Франции
благодаря проповеди утопических коммунистов XVIII в. Мабли
и Морелли. Многие усматривают очевидное противоречие
в том, что Руссо, как бы отступая от главных своих идей,
мог неожиданно заявить, что «право собственности — это
самое священное из прав граждан и даже более важное в
некоторых отношениях, чем свобода»69. От известных форм
собственности и богатства, полагал Руссо, уже нельзя
отказаться, не сделав невозможной свободу человека и
общественную жизнь вообще. Следовательно, они есть и
будут, от них никуда не уйти, с ними необходимо считаться,
но в эпоху цивилизации надо спасти человечество от того
зла, которое они приносят или могут принести с собой,
постоянно обуздывать, усмирять их с помощью хорошего
демократического правления, действующего по общей воле
граждан и во всеобщем интересе. Укрощение собственности
и богатства, противоборство со стремлением отдельных
людей к излишествам в обладании имуществом и властью —
вот основная мысль, связывающая, как мы увидим,
эгалитаризм Руссо с его политической доктриной.
В особенности интересен Руссо как истолкователь и
страстный приверженец идеи равенства. Считают, что это
была центральная идея всей его философии. «Свобода есть
номинальная цель мысли Руссо, — полагал Б. Рассел, — но
в действительности такой целью является равенство, которое
он ценит и которого он стремится добиться даже за счет
свободы»70. Руссо действительно поднял идею социального
равенства на высоту, какой та никогда не достигала в рам-
69 Там же, с. 128.
70 Рассел Б. История западной философии. М., 1959, с. 713.
112
ках буржуазной идеологии. «Все должно подчиняться
равенству, вплоть до самой власти, которая устанавливается лишь
для того, чтобы его защищать»71, — писал он. Руссо был
блестящим выразителем освободительных идей своего
времени, а они, эти многочисленные и разнообразные идеи
буржуазного, мелкобуржуазного и пролетарского
происхождения, выступали в обобщенной и концентрированной форме,
подытоживались в требовании социального равенства. В
эпоху проведения и подготовки буржуазных революций,
отмечал В. И. Ленин, именно идея равенства наиболее полно и
решительно выражает цели и задачи антифеодальной
борьбы72. Отстаивая равенство «даже за счет свободы»,
Руссо, хотел он этого или не хотел, высказывал суждения,
которые были направлены против капитализма, шли
вразрез с распространенной тогда идеализацией мысли и
действий нового, рвущегося к власти над обществом буржуазного
класса, идеализацией, достигшей наивысшей точки в
теориях либертаризма.
Чтобы правильно оценить историческое значение идеи
социального равенства у Руссо, необходимо принять во
внимание некоторые черты его концепции общественного
договора. Как общественный договор, так и переход в
социальное состояние у него связаны с определенными утратами и
обретениями для индивида. Человек утрачивает
естественную свободу, неограниченное право на все, что его
прельщает и чем он может завладеть, приобретает же свободу
гражданскую и право собственности на все то, чем он
обладает. Вместо естественного права человека на все, что ему
необходимо, общество признает за ним право на то, что у
него есть, не позволяя претендовать на остальное73. Введя
это ограничение в общественный договор, Руссо тем самым
уже причинил «ущерб» буржуазной свободе в духе «laissez-
faire», дающей буржуа возможность получать от жизни все,
чего он хочет. От имени общества Руссо говорит
капиталисту: то, чем ты обладаешь, свято и неприкосновенно, твое
право выше свободы других нарушить его, но
довольствуйся тем, что у тебя есть, не стремись к чужому, не
присваивай общественного! Легко себе представить, какой успех
могла иметь такая речь у предприимчивого буржуа,
которому другие идеологи нашептывали: действуй, обогащайся,
не смотри на другого и не останавливайся ни перед чем!
Нельзя не видеть, что Руссо избрал один из самых труд-
71 Руссо Ж.-Ж. Трактаты, с. 265.
72 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 15, с. 226.
73 См.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты, с. 1'6Ч.
113
ных и сложных путей утверждения социального равенства,
сознательно принимая условия общества, существующего на
грани между законным использованием частной
собственности и злоупотреблением ею, между справедливым
приобретением богатств и неосновательным их возрастанием, между
демократической властью, подчиненной общей воле, и тягой
правящих слоев к тирании и деспотизму. От
мелкобуржуазных уравнительных представлений Руссо совершенно
свободен; всякое предположение относительно равного
распределения богатств он считал химерическим. «...Существование
такого равенства, — писал он, — нельзя допустить даже в
порядке предположения, ибо оно не заключается в природе
вещей...»74 Мы уже говорили о том, что он так же
решительно высказывался в пользу сохранения собственности и
богатства, как и осуждал их безграничный рост,
неуправляемое развитие.
Стало быть, эгалитарное общество Руссо не может до
конца очиститься от социальных неравенств, да к этому,
полагал он, не следует и стремиться. Его понятие социального
равенства означает не что иное, как выравнивание
социальных неравенств, отражает тенденцию в условиях
постоянного воспроизводства и сохранения данных неравенств
усреднять общественный и имущественный статус граждан.
Богатство и бедность, власть и подчинение — все это должно
быть умеренным и ограниченным, не превышать
общественно признанные пределы и не опускаться ниже их.
Равенство, подчеркивал Руссо, не следует понимать так,
«что все должны обладать властью и богатством в
совершенно одинаковой мере, но что касается до власти, то она
должна быть такой, чтобы она не могла превратиться ни в какое
насилие и всегда должна осуществляться по праву
положения в обществе и в силу законов; а что до богатства, то ни
один гражданин не должен обладать столь значительным
достатком, чтобы иметь возможность купить другого, и ни
один — быть настолько бедным, чтобы быть вынужденным
себя продавать...»75. Говоря об имущественном равенстве,
он выдвигает принцип: каждый имеет кое-что, но никто не
имеет излишнего76. Неравенства, которые допускаются в
эгалитарном обществе, во-первых, должны быть личными,
а не вытекать из происхождения людей или из каких-либо
иных, неподконтрольных человеку факторов; во-вторых,
неравенства признаются лишь в том случае, если они базиру-
74 Там же, с. 439.
75 Там же, с 188.
76 См. там же, с. 167. 295.
М4
ются на индивидуальном труде и личных заслугах. Руссо
неустанно защищает мелкого производителя, собственность
которого основана на личном труде, всячески
облагораживает и возвышает его. Тот, кто достигает богатства
собственными усилиями, — прекрасный пример для ленивых и
нерадивых членов общества, подвижник нравственности,
поборник чистоты и честности в общественных отношениях. Для
общества полезны неравенства, если тог, кто вышел
вперед, увлекает за собой других, заставляет их своим
примером достигать большего и лучшего, двигаться от малого к
среднему достатку.
Тут необходима большая и сложная политика,
нацеленная на удержание золотой середины, от которой общество
постоянно отклоняется в ту или иную сторону. Руссо
представляет себе все трудности и огромный риск,
подстерегающие политику равенства. «Говорят, что такое равенство —
химера, плод мудрствования, не могущие осуществиться на
практике. Но если зло неизбежно, то разве из этого следует,
что его не надо по меньшей мере ограничивать. Именно
потому, что сила вещей всегда стремится уничтожить
равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранять
его»77. Прочность государства зависит от того, насколько
приближены друг к другу крайние ступени богатства и
бедности, в какой мере достигнуто преобладание в обществе
людей среднего достатка. Это само по себе есть гарантия
справедливости, порядка; ведь только в отношении людей
среднего достатка законы действуют в полную силу, так как
богатые их обходят, а бедные, лишенные возможности
отвечать имуществом, часто проскальзывают через их сети.
Таким образом, и в экономике, и в политике «усреднение»
приносит определенные благоприятные результаты.
Обратим внимание на то, что Руссо нигде не говорит о
«среднем человеке», а только о человеке среднего достатка,
приблизительно равного общественного и имущественного
статуса. Он далек от мысли лишить человека присущих ему
желаний и страстей, в том числе стремления к
собственности и богатству. Накладываемые на это стремление рамки
равенства никому не мешают богатеть (но только, конечно,
честными способами и всем вместе). Если люди
единодушны в своем желании трудиться и приносить друг другу
пользу, то постоянно повышается уровень среднего достатка,
богатеет общество, усиливается государство, преуспевают
граждане. Равенство является одновременно и причиной, и
следствием роста экономики, может быть менее быстрого,
77 Там же, с. 189.
115
чем в условиях «laissez-faire», но зато сопровождаемого
более стабильными и мирными отношениями членов общества.
Разве не эти соблазнительные цели преследуют
либеральные теории «выравнивания доходов и собственности» в
современном капиталистическом мире, в основе которых
лежат принципы социальной философии, идущие от Руссо,—
сокращение свободы обогащаться для одних, увеличение
степени экономического равенства для других и т. д.
Собственно, только в наше время, после кризиса системы
классического капитализма и провала «laissez-faire», буржуазия
в эпоху государственно-монополистического капитализма
решилась «проиграть» вариант капиталистического
развития, многие элементы которого предложил еще Руссо.
Если посмотреть на эгалитарную концепцию Руссо с
точки зрения двадцатого века, то мы увидим в ней ядро,
состоящее из самых «современных» либеральных буржуазных
идей. Тут и акцент на социальном равенстве, выходящем
за пределы формального правового равенства, и мысли о
необходимости общественного и политического контроля над
частной собственностью, об экономической роли
государства, о законности и правовом регулировании экономических
отношений и т. п. Руссо говорил даже о собственности
государства, которая должна быть максимально велика и
сильна в отличие от собственности граждан78, т. е.
антиципировал, предвосхищал не что иное, как государственный
сектор капиталистической экономики. Идея равенства,
проводимая Руссо, также была чисго буржуазной. Не
случайно Ф. Энгельс указывал: «Буржуазная сторона требования
равенства была резко, — но еще в виде общечеловеческого
требования, — сформулирована впервые у Руссо»7f?. Все это
свидетельствует о том, что перед нами последовательно
развитая буржуазная доктрина, созданная для буржуазии и
содержащая оригинальную модель будущего
капиталистического общества, которая строилась на совершенно других
началах и предлагала совершенно иной путь, чем тот, по
которому в действительности пошел классический
капитализм.
Руссо в отличие от либертаристов как бы призывал
своих современников отказаться от стихийного развития и
сознательно строить капитализм, с тем чтобы он превратился
в преуспевающее общество без чрезмерно богатых и
бедных, обуздывающее корыстолюбие и честолюбие, контроли-
78 См.: Политические учения: история и современность.
Домарксистская политическая мысль. М., 1976, с. 383—384.
79 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 63&—637.
116
рующее собственность и богатство. Но такое общество было
слишком умеренным идеалом и не очень заманчивой
перспективой для буржуазии, которая после освобождения от
феодально-абсолютистских уз требовала безусловной,
неограниченной, именно либертарной свободы. Руссо же со
своей стороны опасался, что анархичный и своевольный
буржуа, предоставленный самому себе, наделает множество
социальных бед, вызовет огромный раскол и кризис в
общественной жизни. Мы теперь знаем, что так оно и
случилось.
Глава III
Равенство и справедливость
Консерваторы и либералы
об антиномии равенства и справедливости
Наряду с темой «равенство и свобода» и в прямой связи
с нею в капиталистических странах сегодня широко
обсуждают проблемы соотношения равенства и справедливости.
Стремясь дискредитировать равенство как социальный
идеал, цель общественного прогресса, реакционная фаланга
буржуазных идеологов атакует его с разных сторон,
пытается изолировать, отделить от системы духовных ценностей,
освященных традициями человеческой культуры.
При этом консервативная буржуазия прибегает к
«переоценке ценностей», утверждает, будто истинно буржуазный
этос, т. е. ценностная и нормативная первооснова поведения
буржуазии как класса, всегда был антиэгалитарен.
Американские неоконсерваторы, пожалуй, первыми заговорили о
необходимости вернуться к «изначальной идее
буржуазности» (И. Кристол), освободив ее от культурных
противоречий (Д. Белл), «очистив» от чуждых наслоений,
радикального либерализма, социалистических «примесей» и, конечно,
от эгалитаризма. Западный мир, заявляют они, должен
вновь обрести некогда утраченную им «подлинность»
капиталистических отношений, ту самую «буржуазность»,
которую неоконсерваторы берется выделить, так сказать, в чи:
стом виде. Часть этой работы мы уже видели; она состоит
в разложении ценностного синтеза свободы и равенства, в
подмене реальной диалектики их взаимосвязи
безжизненной метафизической схемой — антиномией. Отделенная,
вернее, оторванная от равенства свобода превращается и в
самом деле в консервативный символ «подлинной
буржуазности»; она осталась в системе буржуазных ценностей, но
внутренне видоизменилась, утратила ряд своих важнейших,
существенных определений, лишилась разумных границ, за
которыми свобода перерождается в нечто такое, что являет-
118
ся ее полнейшим отрицанием в общественном и
индивидуальном смысле.
К искусственно сконструированной противоположности
свободы и равенства консерваторы спешат добавить
очередную антиномию — антиномию равенства и справедливости,
«очистить» еще одну традиционную ценность, а именно идею
социальной справедливости, от эгалитаризма,
соответствующих социально-политических и идеологических
импликаций. Если многие поколения буржуазных либералов
связывали справедливое общественное устройство с
проведением в жизнь идеала равенства среди людей, то
современная консервативная идеология настаивает на том, что путь
общества к социальной справедливости предполагает
необходимость почти полностью отказаться от эгалитарных
установок.
Чтобы яснее представить и очертить проблематику,
обычно обсуждаемую в связи с упомянутой выше
антиномией равенства и справедливости, зафиксируем позиции,
которые возникают в итоге измерения или оценки равенства и
его противоположности — неравенства, по какому-либо
принятому (правильному или нет — это вопрос другой)
масштабу справедливости. Эти позиции будут такими:
справедливое равенство и несправедливое равенство — для случаев,
когда по масштабу справедливости оцениваются
отношения равенства; справедливое неравенство, несправедливое
неравенство, т. е. результаты соответствующей оценки
отношений неравенства 1. В споре между либералами и
консерваторами с большей или меньшей определенностью
выражаются различия, противоположность предпочтений в выборе
указанных позиций.
На крайнем либеральном фланге находятся те идеологи,
которые заявляют, что «справедливость — это равенство»,
находят справедливыми определенные общественные
факты и отношения в той мере, в какой они способны
воплощать в себе или проводить в жизнь идею равенства. Для
1 Существуют равенства и неравенства, в основном естественного
происхождения, которые, хотя и имеют социальное значение, являются
нейтральными по отношению к справедливости. Город А имеет 200 тыс.
жителей, а город Б — 50 тыс. Какую оценку данному неравенству
можно дать с точки зрения справедливости? Справедливо или нет, что два
человека имеют одинаковый возраст, но разный вес тела, что один
человек учится в университете, а другой — в консерватории и т. д. Не все
социальные различия между людьми могут быть представлены как
справедливые или несправедливые неравенства, не все сходства между
ними — как справедливые или несправедливые равенства. В дальнейшем
изложении мы будем говорить о тех равенствах (и неравенствах),
которые могут быть измерены по масштабу справедливости.
119
приверженцев подобных взглядов (а ими были например,
очень многие мелкобуржуазные уравнители и утописты)
такого рода выражения, как «несправедливое равенство»
или «справедливое неравенство», есть внутренне
противоречивые термины, явный алогизм. Говорили даже об
универсальном законе равенства, который будто должен
господствовать в общественном мире. «Равенство есть гармония,
совершенное равновесие, управляющее всеми вещами — от
необъятных миров до мельчайшего насекомого. Это закон,
столь же необходимый для нашего общественного
существования, как и для нашей личной жизни!»2 — заявлял
французский утопист XIX в. Т. Дезами.
Но если равенство — это закон мировой гармонии,
абсолютно совпадающий со стремлением к универсальной
справедливости, то неравенства, следовательно,
противозаконны и несправедливы уже только потому, что они есть
неравенства. Теоретическое обоснование этих крайне
эгалитарных взглядов мы не часто можем встретить в рамках
ортодоксального буржуазного либерализма, тем не менее из
трактатов идейных бунтарей и утопистов соответствующие
представления вышли на арену политической борьбы в
буржуазном обществе, оказали значительное влияние на
отдельные либеральные теории, стали одним из серьезных
факторов формирования особого
либерально-демократического типа политического сознания масс, подобного тому,
который в Соединенных Штатах Америки называют
популистским. Сегодня приходится считаться с фактом, что
люди, субъективно предрасположенные к идеям буржуазной
демократии, но не искушенные в политической теории,
часто отождествляют справедливость и равенство,
представляют себе справедливое общество как социальную систему, в
которой совершенно упразднены всякие неравенства среди
людей.
Укоренившиеся в сознании некоторых слоев населения
капиталистических стран принципы и идеи уравнительной
справедливости прямо или косвенно отражаются в
политической жизни, предопределяют ее остроту и сейчас, можно
сказать, принесли уже некоторые плоды. Имеются в виду
политические, законодательные и иные меры, принятые под
воздействием широких общественных движений, таких,
например, как движение за гражданские права в США, за
равноправие женщин с мужчинами, за равенство рас,
наций, национальных групп и меньшинств и т. д. Когда
эгалитаризм из безобидного либерального идеологического тече-
2 Дезами Т. Кодекс общности. М., 1956, с. 80.
120
ния стал превращаться в фактор, влияющий, иногда
серьезно, на политику и законодательство буржуазного
государства, консервативные круги забили тревогу, многократно
усилили противодействие разрушительным и опасным, с их
точки зрения, идеям уравнительной справедливости.
Перед современной консервативной мыслью на Западе
встает огромная и нелегкая задача — радикально
переориентировать представления о социальной справедливости, т. е.
перейти от эгалитарных ценностей к принципиально неэга-
лнтарным. Социальная справедливость ассоциируется с
общественными неравенствами, которые характеризуются как
глубокий, необходимый и закономерный фактор жизни
общества и индивидов. Место абсолютного мирового закона
равенства в консервативных построениях занимает прямо
противоположный абсолют — универсальный принцип
разнообразия, иерархических различий, согласно которому
непременными условиями для сохранения здорового
общества и его органической жизни являются наличие разных
классов и групп, высших и низших статусов, рангов и
функций отдельных лиц, поддержание различий и неравенств
между людьми во многих, а может быть, и во всех
отношениях. Если таков универсальный принцип, то что
представляет собой справедливость в консервативном
понимании?
Функционально ее определяют как рационализацию
общественных иерархий, приведение в органическое
единство великого множества разнообразий, различий, неравенств,
имеющихся в обществе. Многие сторонники консервативной
доктрины, не входя в глубокие разъяснения, считают
справедливость прежде всего человеческой добродетелью,
понимают ее в духе Платона и заявляют: быть
справедливым — для человека значит заниматься своим делом, не
вмешиваясь в дела других, знать свое место и не претендовать
на чужой статус в иерархизированной структуре общества.
Отвергнув либеральное понятие социальной
справедливости, консерваторы акцент на равенстве явно и
демонстративно заменили акцентом на неравенство: «справедливость —
это неравенство». Ясно, что при подобном подходе
устанавливается отрицательное отношение к таким понятиям, как
«справедливое равенство» или «несправедливое
неравенство», ибо всякое равенство, по логике данных рассуждений,
несправедливо, в то время как неравенства не могут быть
несправедливыми.
Вообще говоря, консервативная, как, впрочем, и
либеральная, крайность реально существует не столько в виде
систематически развитых доктрин или завершенных идеоло-
121
гических конструкций, сколько в качестве конечной цели,
точки отсчета или принципиальной идеи, которую, может
быть, не всегда прямо формулируют, но которая тем не
менее задает тон всему теоретизированию по вопросам
соотношения равенства и справедливости. Если внимательно
присмотреться к самим теориям, то становится очевидным*
что большинство либералов придерживаются максимы
«справедливость — это равенство», соглашаясь в то же
время с тем, что неравенства могут играть и играют известную
роль в планах устройства социально справедливого
общества 3.
Приведем высказывание, в какой-то мере типичное для
этого направления либеральной мысли: «Первое
предположение, которое образует принцип социальной
справедливости, состоит в том, что все люди расцениваются просто как
люди и независимо от своего поведения или выбора вправе
требовать равную долю во всех преимуществах, которые
являются для всех желаемыми и способствуют
благосостоянию»4. Когда либерал видит в равенстве основу
справедливости, безусловный и обязательно конституирующий ее
элемент, он — эгалитарист, несмотря на то, какую роль в-
смысле возможных масштабов и полезности отводит он
социальным неравенствам в жизни справедливого, с его точки
зрения, общества.
Напротив, антиэгалитарная позиция консерваторов и
некоторой части либералов связана с ориентацией на
максиму «справедливость— это неравенство». Но даже очень
сильно выраженный антиэгалитаризм может допускать и
признавать равенство, правда, в ограниченных и
специальных формах, например, «равенство возможностей»,
формально-юридическое равенство граждан перед законом,
равенство узкого круга лиц, достигших определенного высокого
общественного статуса (равенство людей «своего» круга) и т. д.
Приверженность к одной из двух названных выше максим
порождает, с одной стороны, эгалитарные теории
справедливости, как правило либеральные, а с другой — анти-
3 Vlastos G. Justice and Equality. — Social Justice. New Jersey, 1962,
p. 31—72; Justice and Equality. New Jersey, 1971; Hancoc R. Meritorian
and Equalitarian Justice.— Ethics, 1975, vol. 21, N 2; Moens G. Gleicheit
als Wesenmerkmal der Gerechtigkeit. Arichiv fur Rechts-und Sozialphiloso-
phie, 1975, Bd. 61, N 4; Sampson E. On Justice as Equality.—Journal oF
Social Issue, 1975, vol. 31, N 1, p. 45—64; Hare R. Justice and Equality-
Justice and Economic Distribution. New Jersey, 1979, p 116—131; Phil-
lips D. Equality, Justice and Rectification. London, New York, San
Francisco, 1979.
4 Honore A. Social Justice — Essays in Legal Philosophy. Berkeley and
Los Angeles, 1968, p. 62—63, 94.
123
В этих мировоззренческих, самых общих социальных
установках либералов и консерваторов потенциально заложен
их ответ на более частные вопросы соотношения равенства
и справедливости. В воззрениях либералов четко
проявляется стремление к универсализации справедливости, к
трактовке ее как общественного качества, категории, которая
успешно и лучше всего работает на уровне более высоком,
чем индивидуальный. «Я беру справедливость не как
свойство индивидов и их действий, — писал английский философ
У. Франкена, — но как предикат обществ (особенно тех,
которые называют нациями) и их действий и институтов»5.
Другие либеральные авторы не столь резко
противопоставляют социальное и индивидуальное значение
справедливости, но все они, как правило, подчеркивают интегративные
функции этой категории по отношению к обществу как
целому.
Тенденция к универсализации понятия справедливости,
как это ни покажется на первый взгляд странным,
происходит из глубокого индивидуализма либералистических
доктрин, из желания неформально работать с
индивидуалистическими принципами социальной философии. Из того, что
сказано выше, можно, казалось бы, заключить, что
консерваторы в большей степени выступают индивидуалистами,
чем либералы. Но это совсем не так. При тщательном
анализе либеральных теорий социальной справедливости
видно, что для их авторов принципы личной свободы,
индивидуальной автономии есть нечто святое вообще, но они
вынесены как бы за рамки теорий справедливости, даны как
исходные факты. Справедливость как социальное явление и:
идея имеет дело с уже существующей индивидуальной
автономией, но не одного лица или группы лиц, а всех членов
общества. Именно тут и возникает стремление к
универсализации понятия справедливости в его эгалитарном
истолковании. Тот же У. Франкена подчеркивает, что
справедливое общество уважает хорошую жизнь всех его членов,
причем уважает в равной степени. Свои рассуждения на этот
счет он заканчивает выводом: «Требование равенства
встроено в понятие справедливости»6. Прибегая к
непритязательному сравнению, можно сказать, что идея равенства,
подобно двигателю ракеты, выводит концепцию справедливости
на орбиту макросоциального мира, удерживает ее на
больших высотах обобщения, универсализации. Но это, как мы
5 Frankena W. The Concept of Social Justice.—Social Justice. New
York, 1962, p. 1.
6 Там же, с. 20.
122
эгалитарные доктрины, в основном консервативного
характера. Но в том и другом случае часто предпринимаются
попытки в рамках концепций социальной справедливости
установить меру сочетания отношений равенства и
неравенства на основе приоритетов, которые являются различными
(нередко противоположными) у либералов и
консерваторов.
Попытаемся теперь сопоставить точки зрения либералов
и консерваторов по наиболее существенным проблемам
теории справедливости и равенства. Разумеется, мы не имеем
в виду затрагивать все обсуждаемые в данной связи
вопросы (да это и невозможно). Сам по себе процесс выделения
типичных черт и подходов, свойственных тому и другому
идеологическому направлению, заставляет опускать
отдельные нюансы и детали, присущие конкретным теориям и
позициям, которые, может быть, лишь в общем и целом
принадлежат к данным направлениям. Начнем с различий в
определении характера и социальной роли понятия
справедливости.
Либералы. Справедливость — инте-
гративная категория в том смысле,
что она призвана включать все
индивидуальное в общее. Она
требует, чтобы отдельное и особенное
располагались в некоторой общей
плоскости, оценивались по общему
масштабу. Все жизненное
разнообразие и индивидуальные
особенности должны рассматриваться
через призму общего, целостного.
Создать справедливое общество —
значит заменить вертикальные
структуры общества
горизонтальными, а поэтому социальная
справедливость связана с курсом на
выравнивание общественных
структур и отношений. Процесс
выравнивания представляет собой
плавный и медленный переход от
менее эгалитарных порядков к более
эгалитарным порядкам без
скачков в социальном развитии и
революций. Постепенный социальный
прогресс при посредстве реформ и
нововведений приведет общество
к справедливости и равенству.
Идея справедливости выражает
стремление людей к
совершенствованию общественных отношений и
веру в лучшее будущее.
Справедливость — идеал,
обращенный в будущее, выступающий
вместе с тем как должное по
отношению к сущему, т. е. к тому, что в
настоящее время существует в
нашем мире.
Консерваторы. Цель
справедливости — выделить индивидуальное в
общем, индивидуализировать лицо,
событие, факт, подчеркнуть в
них своеобразие. Справедливость—
это право индивида быть самим
собой. По отношению к индивиду
справедливость имеет скорее де-
зинтегративный, чем интегратив-
ный, характер.
Структуры общества были, есть и
навсегда останутся
вертикальными. Общество — многоярусная
пирамида. Выравнивание социальных
структур и отношений — это путь
дестабилизации и упадка
общества, для сохранения которого
жизненно необходимы различные
классы, сословия, элиты и т. д.
Социальный прогресс сам по себе
невозможен. Человеческое общество
(как и сам человек)
несовершенно, и оно не в состоянии добиться
справедливого общественного
устройства. Все, чего человечество
может достичь, — это сохранить
то, что у него уже есть.
Справедливость — охранительный
идеал, принцип стабилизации и
упрочения существующего
положения вещей.
124
видим, есть одновременно и распространение
индивидуалистических принципов на высокие социальные сферы.
Разговоры же современных консерваторов об
индивидуальном своеобразии, а также их попытки связать с этим
понятие справедливости не должны вводить в заблуждение. Все
это воспринимается сегодня как реакция на слабость и
противоречивость либеральных позиций, как протест против
«нивелирующей и деперсонализирующей универсальности
эгалитаризма». Для консерваторов, по крайней мере для
большинства из них, индивидуализм в смысле прославления
«автономной личности» так же неприемлем, как и многие
другие элементы либеральной идеологии. Они не
отказывают себе в удовольствии подчеркнуть слабость
индивидуалистических позиций, высмеивают мягкость,
сентиментальность и нереалистический характер идеалов
индивидуализма. Всю свою симпатию они отдают не самостоятельным,
свободно промышляющим индивидам, а группам, нациям, и
то не всем, а только высшего качества, т. е. элитарным
образованиям внутри общества. Развитие человечества,
говорят они, всегда происходило и будет происходить в формах
эволюционного группового отбора, а это значит, что
автономный человек сам по себе ничего не стоит, если он лишен
социальных корней, не принадлежит к группе, не защищен
ее авторитетом.
Общество с консервативной точки зрения есть
ассоциация разнообразнейших групп, образующих четкий
иерархический порядок. Именно этого порядка, считают
консерваторы, недостает современному капиталистическому
обществу, которое подпало под слишком большое влияние
либеральных и особенно эгалитарных теорий, дало толчок
развитию ряда деструктивных процессов. Капитализм разрушил
общественные структуры феодализма, который, по мнению
консервативных идеологов, является близким к их идеалу
образцом здорового общества. Веками создававшиеся
структуры— сословия, касты, привилегированные вольные
города, цехи, гильдии, сельские и религиозные общины,
независимые университеты — все это было разрушено в ходе
капиталистической индустриализации и сопутствующих ей
процессов, переплавлено в горниле всеобщей капитализации и
научно-технического прогресса. Подточенная у самых своих
основ, старая общественная иерархия рухнула, а вместо
нее утвердилось общество атомизированных индивидов,
«автономных личностей», отвечающих идеалам эгалитарной
справедливости. Новые капиталистические организации в
лучшем случае объединяют людей нежизненным,
механическим способом, в худшем — активно способствуют их изоля-
125
ции друг от друга, делают весьма неопределенным вопрос
о месте человека в общественной системе.
Если раньше, сетуют консерваторы, групповой статус был
естественным пределом, дальше которого не могли идти
личные амбиции и претензии, то теперь они полностью
«освободились», и люди, поощряемые индивидуалистическими
и эгалитарными лозунгами, стали предъявлять
неумеренные, несообразные ни с чем требования к правительству
повысить их статус или увеличить доходы. Современное
индустриальное развитие, подчеркивают многие консервативные
авторы, дает правительству больше, чем это было ранее,
возможностей переводить множество людей с одного уровня
доходов на другой, более высокий, но так не может
продолжаться слишком долго. Рано или поздно источники
благосостояния иссякают, наступают трудные времена
общественной нестабильности, неурядиц, столкновений и жестокой
борьбы, связанной с излишне завышенными претензиями на
удовлетворение всякого рода потребностей и недостатком
материальных средств, предназначенного для такого
удовлетворения.
Итак, индивид в изображении консерваторов оказывает-
ся не настолько автономным, самостоятельным, чтобы
можно было его одного, без направляющего руководства и
спасительного покровительства групп выпускать на широкую
социальную и политическую арену. Действующий на свой
страх и риск человек может наделать всяких бед самому
себе и обществу. Особенно опасным симптомом американский
неоконсерватор Р. Нисбет считает исчезновение из
современной жизни общественных групп и структур, которые в
старые докапиталистические времена опосредствовали связь
личности и государства. Он имеет в виду общины, сословно-
корпоративные объединения, семью, из которых только
последняя дожила до нашего времени, хотя и находится в
кризисном состоянии (женское движение за равноправие,
молодежные бунты, сексуальная революция и т. д.). Эти
группы играли буферную роль, удовлетворяли своими
средствами и погашали многие индивидуальные потребности,
к которым государство не имело ни малейшего отношения;
отдельный индивид почти не появлялся на поверхности
государственной жизни, принадлежал всецело к
гражданскому обществу.
Капиталистическое государство, как и весь уклад
капиталистического хозяйствования, нанесло колоссальный удар
по общине и семье. «И государство, и экономика,
фактически в обход семьи и общины, обращались прямо к индивиду
и, таким образом, поставили его под леденящий ветер ано-
126
нимности и изоляции»7, — пишет Р. Нисбет. Человек
остался один на один с государством, превратился в партнера и
оппонента правительства, но он не выдерживает этой очень
тяжелой, ответственной и в сущности не предназначенной
ему роли. Государство и личность слишком близко, почти
вплотную подошли друг к другу. С отмиранием общины и
утратой былой экономической роли семьи, говорит Р.
Нисбет, усилилась зависимость личности от государства,
возросла вероятность экспансии последнего в личные дела.
Если принять во внимание, что, с другой стороны, резко
возросло количество индивидуальных требований к
государству, которые оно часто не в состоянии удовлетворить, то
никто не выиграл от указанного выше сближения.
Ликвидация традиционных общественных структур, по
мнению Р. Нисбета, привела к кризису личности, выход из
которого состоит в создании новых посредствующих
структур (групп) между государством и личностью по типу
традиционных общин, феодальных учреждений, достоинство
которых заключается в установлении всякого рода рамок
и барьеров для отдельного человека. Мысль о возврате к
докапиталистическим, феодальным, патриархальным и
теократическим порядкам давно и всерьез привлекает
буржуазных теоретиков, представляющих консервативный образ
мышления. Еще Н. А. Бердяев мечтал о «новом
средневековье», о возрождении религиозной идеи человечества,
которая воплощалась в старых добуржуазных иерархических
структурах, призывал покориться истинной, подлинно
божественной иерархии, в которой каждому назначено свое
место. «Только в этом иерархизме спасение от пошлости,
вульгарности, стадности и безличности. И да покорятся все
свободной иерархии божественного космоса!»8 — восклицал он.
Эта идея варьируется сегодня во множестве
теологических и светских вариантов, основная масса которых
сводится к предложению, не меняя природы капиталистического
общества, дополнить систему новыми иерархическими
институтами, сковать ее крепкими обручами, положить конец
индивидуалистическому либерально-демократическому
разброду, пресечь духовную анархию, всеобщее смешение и
инфляцию ценностей.
Обращая свои взоры на докапиталистическое прошлое,
Р. Нисбет рекомендует восстановить «интеллектуально
попранное» достоинство класса, ранга, имущественного состоя-
7 Nisbet R. Twilight of Authority. New York, 1975, p. 85.
8 См.: Бердяев H. А. Духовный кризис интеллигенции. Статьи по
общественной и религиозной психологии (1907—1909 гг.). Спб., 1910, с. 83.
128
ми критиками, и она постоянно вызывает неудовлетворение
у тех, для кого материальные проблемы не являются
больше настоятельными. Они, эти люди, могут говорить о
равенстве и других социальных проблемах, но то, что их
действительно беспокоит, ужасает, побуждает к отчуждению и
негодованию, — религиозный вакуум, отсутствие значения их
собственной жизни, смысла во многих целях их общества.
«Не будет преувеличением сказать, что это есть смерть
Бога»11,— заключает свои рассуждения И. Кристол. Вернуть
жизнь религиозной традиции, вернуть человеку бога — вот
какую цель ставят перед собой И. Кристол и его
неоконсервативные коллеги, полагая, что, получив бога, люди
духовно успокоятся и тогда их уже не будут волновать
проблемы устройства справедливого общества, основанного на
равенстве.
Резкие выпады против эгалитарной справедливости со
стороны консерваторов имеют вполне определенный
реальный источник. Современное капиталистическое общество
объективно, но отчасти и по своей собственной «вине» и
«воле» достигло небывалой в мировой истории ситуации, когда
в движение одновременно пришли множество
разнообразных социальных сил, прежде дремавших в изолированных
уголках и отсеках общества, влачивших ограниченное,
партикулярное существование в стороне от «большой» жизни, от
экономики, политики, культуры. Когда-то владельцы
мануфактур, хозяева фабрик и заводов в интересах расширения
капиталистического способа производства вытащили массу
людей из общинного и семейного захолустья, где
безраздельно и, казалось, вечно царил архаический и
патриархальный дух, куда государство не всегда проникало, но
церковь и религия почти полностью заполняли
неприхотливый и в сущности весьма примитивный социальный быт.
Посреди всеобщей материальной и духовной нищеты ярко
выделялась небольшая социальная группа, аристрократиче-
ская верхушка общества, которая, эксплуатируя труд
забитых и темных народных масс, присваивала все плоды
цивилизации, жила в роскоши и изобилии, предаваясь
изысканным занятиям, наукам и искусству. Об этом
малоподвижном, заторможенном, религиозно успокоенном мире,
ушедшем безвозвратно, с грустью и умилением вспоминают
консерваторы, идеализируют его, выкраивают по его образцам
всякие «ценности» и спасительные идеи — свободы,
справедливости и т. д.
Консерваторы с неодобрением, иногда раздраженно ха-
11 Kristol I. Two Cheers for Capitalism, p. 58.
127
ния, призывает государство передать часть своих функции
местным общинам и семейным союзам, децентрализовать
государственную власть. Западногерманские консерваторы,
например Г. Кальтенбруннер, напротив, возлагают все
надежды на сильное государство как некую сдерживающую,
дисциплинирующую силу в отношении аморфного,
потерявшего ориентиры, расползающегося во все стороны
общества9. Но в любом случае общественный порядок и гармония,
утраченные на либерально-демократическом, эгалитарном
пути развития, ассоциируются с необходимостью
восстановления старых и создания новых неравенств, иерархий, элит,
упорядочивающих общество, в котором все люди
находились бы в «крепостной зависимости» от своей группы,
подобно тому как в средневековый период истории
человечества индивиды были фатально прикованы к своей общине,
корпорации, гильдии, цеху и т. д. Было бы неплохо, с точки
зрения многих консерваторов, освятить все эти новые
иерархии авторитетом бога, придать им сакрально-мистическое
значение и соответствующий смысл. Примечательно, что
подобные настроения проникли в американскую
социологическую литературу, для которой теологические парадигмы
никогда раньше не были характерными.
Ирвинг Кристол, например, очень доволен капитализмом
как общественной системой; буржуазия дала якобы
хорошее и стабильное правление для современного
индустриального общества. Капитализм, заявляет он, — «духовно
усовершенствованная цивилизация», но многие его достоинства
и успехи в интеллектуальном и психологическом
освобождении душ привели к упрощению духовной субстанции
человека, углубили разрыв между персональными ценностями и
социальными институтами. Склонный к усреднению и
ориентированный на посредственность, буржуазный строй
освободил человека от того, от чего нельзя было его
освобождать,— от веры в бога. Посредственность и массовость
духовной жизни привели к тому, что она перестала быть
адекватной «полному диапазону духовной природы человека,
который предъявляет более чем посредственные требования
к миру и удовлетворяется более чем посредственными
ответами» 10.
Эта слабость буржуазного общества, замечает И.
Кристол, была с самого начала подмечена его интеллектуальны-
9 Kaltenbrunner G.-K. Vorwort der Herausgebers.— Der uberfordete
schwache Staat: Sind wir noch regierbar? Munchen, 1975, S. 15—16.
10 Kristol /. Two Cheers for Capitalism. New York, 1978, p. 58f; Kris-
tol /. About Equality.— New Egalitarianism. Question and Challenges.
Washington, New York, London, 1979, p. 231.
5-315
129
рактеризуют современное «индустриальное» общество на
Западе, особенно те его стороны, которые вызывают и
усиливают эгалитаризацию социальных отношений.
Урбанизация, технический прогресс, рост образования и как
следствие всего этого приобщение широких слоев населения к
активным формам общественной жизни привели к тому, что
общество стало громадным, переполненным, напоминающим
муравейник, в котором все движутся, озабоченно спешат,
толкаются, сливаются в единую копошащуюся массу. То, на
что раньше имели право только избранные, жалуются
консервативные авторы, становится предметом огромного
множества желаний, служит удовлетворению ничтожных
амбиций.
Больше всего консерваторов удручает то, что стирается
в сознании само представление об «избранности»,
«аристократизме», о благородном достоинстве. Современный
человек, мол, разучился принимать эти вещи всерьез. Для него
все равны и все равно, он привык ни в чем не видеть
особенного, высмеивает героев и оправдывает злодеев, все
кажутся ему на одно лицо, во всех близких и неблизких ему
людях он усматривает прежде всего унылый, усредненный,
стандартизированный образ человека. Соответствующе
изменилась и манера действовать: в индустриальном
обществе никто не склонен добровольно уступать тому, кто
лучше его, имеет больше заслуг и достоинств, но зато не
способен воспрепятствовать заносчивым претензиям людей
худшего, чем он, сорта. Члены общества потеряли чувство
дистанции по отношению друг к другу, каждый находится
одинаково близко и одинаково далеко от других. Можно ли,
риторически вопрошают консерваторы, представить себе
людей, которые более, чем эти, были бы ответственны за
социальную несправедливость и беспорядок, царящий в
обществе?
Картина современного индустриального общества,
нарисованная в сочинениях консерваторов, имеет еще один
колоритный фрагмент — критику системы потребления при
капитализме, пронизанную ярой ненавистью к массам и ее
«потребительским» претензиям. Буржуазный «способ
потребления», сформировавшийся в условиях состязательного
общества, жесткой конкуренции и соперничества,
выматывающего людей, осуждают, конечно, и либералы (мы говорили
об этом в первой главе), но у консервативных теоретиков
есть «свой» подход к данной проблеме. Под влиянием
либерально-эгалитарных идей и во имя ложно понятой
эгалитарной справедливости, подчеркивают консерваторы,
капитализм стал пермиссивным обществом, позволяющим своим
130
членам удовлетворять потребности, о которых они раньше
не могли даже помышлять. Массовое производство, а затем
массовая «демократическая» политика и массовая культура
увеличили предложение средств удовлетворения
разнообразных человеческих потребностей — от экономических до
сексуальных, но вместе с тем невероятно взвинтили спрос на
них.
«Государство благосостояния», которое, по мнению
консервативных мыслителей, присвоило не подобающие ему
функции распределения и перераспределения
общественного продукта, стало наиболее частым адресатом групповых
и индивидуальных запросов на удовлетворение социально-
экономических нужд и вместе с тем объектом критики со
стороны вечно недовольных потребителей. Одержимые
потребительской лихорадкой, люди бросаются на все подряд,
многое приобретают только из соображений престижа, из
желания быть не хуже других. При этом, как не без
злорадства подчеркивают консерваторы, уничтожаются
громадные ресурсы без всякой пользы и смысла, происходит,
что еще хуже, беспрецедентная инфляция материальных и
духовных ценностей. В потребительском мире все
обмельчало, опошлилось. Многие вещи казались раньше
прекрасными, возбуждали интерес, будоражили воображение
главным образом потому, что для большинства людей они были
практически недоступными. Теперь, когда каждый имеет
возможность унести с собой маленький кусочек
престижного блага, обнаруживается, что в нем, собственно, нет ничего
особенного, что оно едва ли может быть привлекательным.
Проходя через разные сферы общественной жизни,
потребительская эпидемия оставляет после себя пустоту,
разочарование, скепсис.
В изображении массового, потребительского, пермиссив-
ного общества консерваторы используют немало деталей,
взятых из жизни, но главный смысл и направленность их
рассуждений идут, конечно, не от жизни. Они коренятся
скорее в нереальном желании остановить одними лишь
заклинаниями развитие действительно негативных,
разрушительных процессов, характеризующих кризисное состояние
нынешнего капитализма, но вместе с тем и в первую очередь
позитивных тенденций демократизации, повышения
социальной активности трудящихся масс, требующих улучшения
своей жизни, равенства, справедливости, свободы, прав
человека.
Консерватизм порожден и поддерживается чувством
страха состоятельных слоев буржуазного общества за свою
собственность и привилегии, которые будет еще труднее сохрв-
132
Выход из противоречия, казалось, был найден на путях
кантианской философии и неокантианства, развивавших
идею дуализма сущего и должного, параллельного
развертывания в мире двух не сводимых друг к другу сфер —
эмпирической и нормативной. В зеркале этой философии,
приверженцами которой оказались многие буржуазные
либералы, справедливость предстает как ценностная, нормативная
категория, принадлежащая к миру должного. Она была,
иначе говоря, оттеснена от действительности и вследствие
этого, естественно, утратила какую-либо «ответственность»
за состояние последней. Приведем характерное в этой связи
высказывание: «В теоретико-познавательном отношении
прежде всего выясняется, что справедливость не
принадлежит к сфере фактов, она не является эмпирическим
понятием. Опыт учит, что жизнь, бытие не демонстрируют
справедливости там, где мы этого ждем. Отсюда следует, что
справедливость есть идея, норма, требование, суждение,
обязанность, добродетель, ценность, а именно высшая,
абсолютная, вечная ценность. Чисто эмпирический в этом
смысле путь так же мало продвигает нас к сущности
справедливости, как и чистая онтология, ибо справедливость
принадлежит не к сущему, а к должному» 13.
Если последовательно придерживаться этих теоретико-
познавательных установок, то можно прийти лишь к
одному— пессимистическому взгляду на общественную жизнь н
историю. Восприняв от кантианства внешне как будто бы
правдоподобное объяснение того, почему социальная
действительность несправедлива, почему она сплошь и рядом не
поддается корректировке на основе идеалов
справедливости, либеральная идеология вместе с тем получила
ограниченный взгляд на возможности эмпирической сферы,
приобрела склонность к мировоззренческому пессимизму.
Справедливость, считает философ права Алоиз Трол-
лер, — это не то, что происходит, а то, что должно
происходить 14. Ее ведущий принцип «воздай каждому свое»
невозможно осуществить на практике, потому что очень трудно
установить, что является «своим» для каждого лица.
«Богатства мира никогда еще не распределялись «справедливо»,
способности и действия индивидов никогда не
вознаграждались равным образом и, в частности, индивидуальная
свобода никогда совершенно не разделялась среди людей» 15. Не-
13 Sauer W. Gerechtigkeit. Wesen und Bedeutung im Leben der Men-
schen und Volker. Berlin, 1959, S. 34.
14 Troller A. The Law and Order. An Introduction to Thinking about
the Nature of Law. Leyden, 1969, p. 29.
15 Там же.
5*
131
нить при дальнейшем развертывании широких
демократических движений — рабочих, женщин, молодежи, расовых и
национальных меньшинств. Критикуя потребительское
общество, сами они не отказываются от прав на потребление,
напротив, доказывают, что у богатой «благородной» элиты
таких прав больше, чем у какой-либо другой социальной
группы. Их оппозиция пермиссивному обществу может быть
кратко выражена хлестким высказыванием старого
английского консерватора Э. Берка: «Все должно быть доступно,
но не всем без разбору». Что позволено аристократии, уже
не может быть позволено никому, проповедуют
консерваторы. Они ратуют за избранность, исключительность,
оригинальность, своеобразие вообще, но имеют в виду все эти
свойства навсегда и монопольно закрепить за теми, кто уже
сегодня богат и всевластен. Перед нами четко выраженная
классовая позиция, незавуалированная, циничная и
претенциозная, преисполненная высокомерным презрением к
низшим социальным классам и группам.
В политической сфере неоконсерваторы отвергают
либерализм как политику, ориентированную на индивидов,
наделенных естественными правами. Они восстают против
абстракции индивида и индивидуалистических абстракций,
подчеркивая, что поиск подлинности понятия индивида,
единственно возможного его самоосуществления, если он включает
отрицание существующих институтов, обычаев и традиций,
становится анархическим и нигилистическим, ведет к
саморазрушению личности 12. Отсюда следует, что человек как
человек не может настраиваться на самореализацию в
соответствии со справедливостью, которую он хотел бы иметь,
ибо в действительности его индивидуальность формируется
на основе уже существующих, прочно вошедших в
духовные структуры общества масштабов справедливости.
В этом пункте консерваторы также вступили в
конфронтацию с либеральной позицией. Целые поколения либералов
были воспитаны в духе критического отношения к
действительности, в сознании того, что практика
капиталистического общества, не говоря уже о предшествующих ему
социальных системах, несправедлива (если не целиком, то по
преимуществу). Благородные представления людей о
справедливости не сходились с жизнью. Сознание этого факта
породило у части либеральных идеологов скептическое
отношение к теориям социальной справедливости,
претендующим на переустройство социальной системы, ее измене-
ния к лучшему.
12 Kedourie Е. Is «Neo-Conservatism» Viable?— Encounter, November
1982, vol. LIX, N 5, p. 28.
133
осуществимый в реальной жизни справедливый порядок
может быть только идеальным состоянием.
Симптом истинного правового порядка, по мнению
А. Троллера, заключается не в наличии справедливого
пропорционального распределения благ, ибо даже маленькое
общество не может достичь этого состояния. Но это
обстоятельство не должно обескураживать людей, ибо само их
стремление к справедливости, желание приблизиться к ней
имеет огромную общественную ценность, заключает в себе
то, что только и можно требовать от справедливости.
Последняя, следовательно, немыслима как некоторый
фактический порядок вещей, но она вполне действенна и реальна каь
позитивная воля со стороны права воздавать каждому свое
в рамках материальных и духовных возможностей общества
и государства. Кроме того, справедливость есть
добродетель, личное качество каждого индивида, стремящегося
жить в соответствии со справедливыми принципами,
способного в критической ситуации поставить себя на место
другого человека. Мы, конечно, не всегда в состоянии это делать,
замечает А. Троллер; даже наиболее справедливые среди
нас часто предпочитают выдвинуть 'благовидный предлог,
чтобы не пожертвовать собой ради других.
Итак, общество и его члены обречены на вечную судьбу
и бесконечные попытки штурмовать высоты идеальной
справедливости, совершать в ее честь нравственные подвиги,
зная заранее, что эти высоты для человека недостижимы, а
подвиги не приведут к изменению действительного
положения вещей. Это особенно касается проблемы социальных
неравенств. Естественные неравенства, полагают некоторые
западные теоретики, есть часть природы человека, и тут
всякие попытки установить равенство неизбежно
проваливаются. Нужно принимать то, что есть. Единственное, что
можно делать в этих условиях, — взращивать в людях
чувство справедливости. «Если все люди сделают попытку,—
заявляет А. Троллер, — воздать другим тем, что им
надлежит, вместо того чтобы эксплуатировать их до крайности,
мир мог бы избавиться от страха и подозрений среди людей,
даже если бы он не стал раем в других отношениях»16.
Уповать на то, что когда-нибудь у эксплуататоров (именно
к ним, как мы видим, обращена эта патетическая тирада)
проснется совесть, взыграет чувство справедливости и они
перестанут эксплуатировать массы людей, — значит преда
ваться благочестивым мечтаниям, питать утопические
иллюзии, подменять серьезный анализ путей человечества к со
16 Там же, с. 32.
134
Справедливость и «равное обращение с людьми»:
эгалитарный и консервативный подходы
Перейдем теперь к специальной группе вопросов,
обсуждаемых в связи с «антиномией» равенства и
справедливости. Они касаются характера и принципов действий по
отношению к людям в определенных ситуациях. Наибольший
интерес с точки зрения теории справедливости
представляют общественные отношения (и ситуации), связанные с
распределением жизненных благ и ценностей, материальных
или духовных условий человеческого существования. Это
случаи применения распределительной, или, как еще часто
говорят, дистрибутивной, справедливости. От Аристотеля
идет традиция выделять ее среди других видов
справедливости, но практически любой анализ данной категории,
претендующий на какие-либо серьезные социальные выводы,
явно тяготеет к проблемам общественного распределения.
Вероятно, было бы исторически и логически оправданным
видеть в дистрибутивных связях, присущих всякому
обществу, реальную почву, на которой вырастают все
человеческие представления о справедливости, в какой бы
идеальной, отвлеченной от жизни форме они ни выступали. К этой
теме мы еще вернемся, а сейчас отметим одну бросающуюся
в глаза особенность обсуждения проблемы справедливости
в современной (да и в прошлой) буржуазной литературе:
как только авторы переходят от этических абстракций,
гносеологических (эпистемологических) аспектов к социальным
распределительным отношениям, полемика становится
острее, противоречия — рельефнее, критический тон —
нетерпимее.
На основе принципов дистрибутивной справедливости
распределяются не только экономические, добытые в
процессе материального производства блага, не только
общественный продукт, собственность и доходы, товары и услуги, но
и все то, что получает человек от общества и других людей
в сфере политики и культуры. По своей структуре
типичная дистрибутивная ситуация строится как вертикальная
связь центра — дистрибутора, находящегося наверху, с
теми, на кого простирается его влияние или власть
(например, связь правительства и граждан, директората и
работников фирмы, лидеров партии и ее рядовых членов, админи- "
страции учреждения и служащих, учителя и учеников, вра-
циальному прогрессу непоследовательными и наивными
рассуждениями.
№
ча и больных, родителей и детей). В такого рода ситуациях
актуализируется вопрос о характере обращения с людьми в
процессе распределения благ и ценностей. Теории
справедливости, как правило, ставят себе задачу предписывать
дистрибутору принципы его поведения по отношению ко всем
участникам распределительной ситуации.
Первое и главное, что либеральная идеология
приобрела на этом пути, есть максима: справедливость требует
равного обращения со всеми лицами, равного уважения их
достоинства и возможностей достичь определенного
дистрибутивного результата. Отметим сразу же, что включенный
в эту максиму термин «равное обращение с людьми» не
вполне тождествен формуле «обращение с людьми как с
равными». В первом случае акцент ставится на равном
масштабе, применяемом к лицам независимо от того, равны ли
они в действительности или нет. Вторая формула имеет в
виду равенство как состояние, с которым должен считаться
дистрибутор в ситуации распределения. Принцип
«обращения с людьми как с равными» является эгалитарной
установкой, которая может включать наряду с «равенством
шансов», возможностей требование «равенства результатов»,
нести в себе уравнительный смысл, быть идеологическим
оправданием стремлений к различным формам социального
нивелирования.
В зависимости от характера интерпретации требований
равного обращения с людьми иногда различают две формы
эгалитаризма: субстантивную и процедурную 17. Первая
имеет в своей основе так называемый материальный принцип
равенства (сводимый в конечном счете к «равенству
результатов»), который понимают как необходимость обеспечить
участникам распределения, несмотря на их различия в
каких-либо отношениях, либо абсолютно равные доли, либо
корректирование и выравнивание с целью свести до
минимума разницу в индивидуальных получениях. С точки зрения
субстантивного эгалитаризма социальные неравенства
неоправданны, недопустимы, подлежат безусловному
устранению из общественной жизни. Что касается процедурного
эгалитаризма, то он предполагает формальный принцип
равенства и демонстрирует весьма впечатляющую гибкость в
решении проблем, вытекающих из существования
социальных неравенств. Именно этот вид эгалитарных доктрин
выработал схему классификации неравенств (справедливые и
несправедливые, легитимированные и нелегитимированные
17 Ericsson L. Justice in the Distribution of Economic Resources.
A Critical and Normative Study. Stockholm, 1976, p. 32—37.
136
и т. д.), которая широко используется для оправдания
капиталистических общественных структур. Эгалитаристы
данного типа, выдвигая формулу «обращайся с равным
равно, с неравным — неравно», не исключают ни самого
неравенства, ни возможностей его узаконения, они лишь
оставляют за собой право при выборе форм обращения с
людьми предпочесть равенство, если не будут доказаны
преимущества или неизбежность неравного обращения.
Отсюда вытекает то, что в специальной западной
литературе называют процедурным эгалитарным принципом
справедливости. В качестве общего правила он требует
равного обращения с лицами, за исключением тех случаев,
когда неравное обращение диктуется соображениями
морального порядка 18 или соображениями самой справедливости 19,
существенными в определенных обстоятельствах. Важной
частью указанного принципа является презумпция,
согласно которой тот, кто обращается с людьми неодинаково или
пытается защищать неравное обращение, должен взять на
себя «бремя доказывания» и объяснить, почему это
происходит. Иначе говоря, процедурный принцип, по мнению
некоторых авторов, в частности У. Франкены, предписывает
обращаться с лицами равно, если нет (и до тех пор, пока нет)
оправданных оснований обращаться с ними неравно.
Сошлемся и на другую, более позднюю формулировку данного
принципа, предложенную шведским философом Л. Эрикссо-
ном: «Если нет и до тех пор, пока нет оправдания для
какого-либо иного решения проблем, эти проблемы нужно
решать таким образом, чтобы каждый имел реальные равные
шансы для достижения лучшей жизни, на какую он только
способен»20.
Как мы видим, процедурный эгалитаризм содержит в
себе попытку установить своего рода компромисс между
«чисто» эгалитарной и неэгалитарной позициями. Он топчется
на месте, не осмеливаясь идти дальше провозглашения
равенства возможностей или шансов, что вполне устраивает
антиэгалитаристов. Но вместе с тем он в духе эгалитарных
теорий подчеркивает приоритет равенства в обращении с
людьми, возлагает «бремя доказывания» на тех, кто хотел
бы утвердить другие «приоритеты». Но вряд ли есть нужда
призывать к этому консерваторов, которые давно уже дока-
18 Brandt R. Ethical Theory. New York, 1959, p. 410.
19 Frankena W. The Concept of Social Justice. — Social Justice. New
York, 1962, p. 10, 13-14.
20 Ericsson L. Justice in the Distribution of Economic Resources.
A Critical and Normative Study, p. 36.
137
зывают «полезность» социальных неравенств, уверяя, что
именно в них скрыт источник общественного развития.
Когда говорят о необходимости равного обращения с
людьми, неизбежно возникает вопрос: в каком смысле оно
должно быть равным? Если за исходное взять интересы и
позиции отдельного человека, то обсуждаемый принцип,
очевидно, требует, чтобы в процессе обращения они подлежали
учету и так же уважались, как интересы и позиции всех
других людей, чтобы во всяком случае с одним индивидом
(или одними людьми) поступали не хуже, чем с другим.
Необходим, следовательно, одинаковый для всех режим
(социальный, нравственный, правовой) обращения, означающий
применение ко всем людям одних и тех же норм, принципов,
требований. Но справедливое распределение не может
ограничиться этими сугубо формальными моментами. В
соответствии с классической формулой справедливости оно
призвано дать «каждому свое». Но что для человека является
«своим», что в результате распределения он «присваивает»
как нечто справедливо ему принадлежащее,
причитающееся— это вопросы, на которые либерализм не дал
удовлетворительного ответа.
В добуржуазных обществах, в условиях сословной
феодальной системы, например, каждый получал «свое» в
соответствии с прирожденным достоинством, статусом или
благоприобретенным рангом. Осудив наследственные и иные
открытые привилегии, несправедливое присвоение в
соответствии с принципами, не выдержавшими рациональной
критики, буржуазное общество так и не смогло обрести
собственную прочную основу распределения, не говоря уже о
сколько-нибудь едином режиме обращения с людьми в
различных распределительных ситуациях.
Верхние, богатейшие слои общества извлекают свою
долю из обращения, действуя в соответствии с
прагматическими принципами, которые им в данный момент лучше
подходят с точки зрения дальнейшего роста их богатств,
собственности, доходов, власти и престижа. В связи с
распределением прибылей можно сказать, что сумма
получений определяется в соответствии с максимой: «каждому —
по его капиталу», по его деньгам, инвестированным в
производство. Но мы не можем утверждать, что это
единственный или даже главный принцип капиталистического
распределения, потому что подавляющее большинство членов
общества, имея определенный заработок и доходы, не при-
частно к инвестированию капитала и получает свою долю
из сферы распределения принципиально иным путем. «Свое»
капиталиста, рабочего, крестьянина, служащего, крупного
138
или мелкого торговца определяется на основе совершенно
различных критериев, а поскольку нет единого масштаба
измерения того, что каждый получает из всеобщего
обращения как «свое», то нельзя всерьез говорить о реализации
принципа «равного обращения с людьми» в процессе
распределения материальных и духовных благ при
капитализме. В этом смысле последний имеет более хаотическое и
непрогнозируемое распределение, чем то, которое
существовало в феодальном обществе. Сознание этого факта сегодня
является важным стимулом борьбы прогрессивной
общественности капиталистических стран против углубляющихся
неравенств в экономической, социальной и политической
сферах, за социальную справедливость.
Так как на практике буржуазия постаралась не
связывать себя точно определенными едиными критериями
справедливости в сфере распределения, то и в теории, включая
либеральную, вопрос о них всегда оставался открытым.
Большинство теоретиков считают возможным выбор одного
главного или ряда критериев, на основе которых надлежит
определить долю каждого в дистрибутивной ситуации. Так,
американский социолог Н. Решер полагает, что
дистрибутивная справедливость состоит в обращении со всеми
людьми, во-первых, как с равными (за исключением негативного
распределения, например наказаний), во-вторых, в
соответствии с их потребностями, в-третьих, в соответствии с их
способностями, достоинствами и достижениями, в-четвертых,
в соответствии с их усилиями и жертвами, в-пятых, в
соответствии с действительным производственным вкладом,
в-шестых, в соответствии с требованием общего блага,
публичного интереса, блага человечества или большего блага
для большего числа людей (утилитарный принцип),
в-седьмых, в соответствии с оценкой их социально полезных услуг
в связи с их редкостью, недостаточностью и т. д.21
К этому довольно внушительному списку принципов
справедливости иногда добавляют обращение с людьми на
основе предоставления равных возможностей состязаться
без «внешнего фаворитизма» и дискриминации, в
соответствии со спросом и предложением на рынке, с принципом
взаимности и т. д.22 Дистрибутор, стало быть, может
вознаграждать в одних случаях всех лиц равным образом или
21 Resher N. Distributive Justice. A Constructive Critique of the
Utilitarian Theory of Distribution. Indianopolis, New York, Kansas City, 1966,
p. 73.
22 Deutsch M. Awakening the Sense of Injustice. — Social Injustice
in North America. Holt, 1974, p. 4; Walster E., Walster G., Berscheid E.
Equity: Theory and Research. Boston, 1978, p. 214—215.
140
все свои особенности, в существенных и главных для
социальной жизни отношениях остаются равными.
Некоторые современные либералы вообще
отказываются признавать значение каких-либо эмпирических основ
равенства людей, перенося проблемы в область трансценден-
ции, метафизической природы человека. Ответ на вопрос,
почему необходимо обращаться с людьми как с равными,
согласно этой позиции, не следует искать в естественных
особенностях, социальных качествах или в заслугах людей,
ибо достаточно того, что мы имеем дело с человеческими
существами. «В противоположность классическому,
основанному на понятии заслуги представлению о социальной
справедливости, — пишет У. Франкена, — я принимаю как
часть моей собственной точки зрения принцип, что со всеми
людьми следует обращаться как с равными не потому, что
они равны в каком-то отношении, но просто потому, что они
люди. Они люди, ибо имеют эмоции и надежды, способны
мыслить и достойны хорошей жизни»24.
Другие авторы приходят к этим выводам, опираясь на
метафизические традиции теорий естественного права.
Субстанция естественного права, утверждает, например,
западногерманский схоласт Э. Цахер, имеет трансцендентальный
характер, т. е. она неизменно присутствует во всех формах
природы и во всех понятиях о последней. Это вместе с тем
и незавершенность понятия о природе, в которой сущее
одновременно выступает и как должное. Понятие
естественного права направлено на трансцендентальное в природе
человека и независимо от ее эмпирического бытия. Но если
природа человека, пишет Э. Цахер, открывается
трансцендентально, если все, что есть и должно быть, потому что оно
есть, должно уважаться, то это означает, что люди,
несмотря на их различия, все равны в том, что в конечном счете
делает их людьми, и это тоже нужно уважать, ибо это —
справедливость25.
Равенство, вытекающее из трансцендентальной природы
человека, связано со структурой справедливости, которая,
по мысли Э. Цахера, есть не что иное, как точный смысл
равенства: кто не видит и не уважает это конечное равенство,
предшествующее всякому неравенству, несправедлив26.
Надо отдать должное подобной отвлеченной от эмпирии
манере философствования: метафизика очень трудно сдви-
24 Frankena W. The Concept of Social Justice —Social Justice,
p. 19—20.
25 Zacher E. Der Begriff der Natur und das Naturrecht. Berlin, 1973,
S. 157.
26 См. там же, с. 158.
139
по заслугам, достоинству, в других — по законам рынка, а
в третьих — поощрять редкие, необычные таланты и т. д.
Некоторые авторы, напротив, скептически смотрят на
саму возможность сделать выбор в пользу какого-либо
определенного дистрибутивного принципа. Так, с точки зрения
датчанина Альфа Росса, всякая попытка конкретизировать
формулу справедливости «каждому — свое» обречена на
неудачу вследствие ее изначальной бессодержательности.
««Дать каждому свое»,— звучит великолепно. Кто будет
спорить с этим? — пишет он. — Единственное, что
предполагает эта формула,— это то, что я знаю, что принадлежит
каждой личности как «ее». Данная формула лишается
содержания с того момента, как она предполагает правовую
позицию, для которой должна стать базой»23. Но чаще
всего усилия теоретиков направлены на то, чтобы среди
некоторого множества дистрибутивных принципов,
сконструированных по типу «каждому по...», выделить приоритетные,
главные, основные, а рядом с ними — дополнительные,
подсобные или действующие в исключительных
обстоятельствах, в различного рода специальных случаях.
С учетом высказанных выше соображений попытаемся
теперь поближе рассмотреть либеральные идеи, которые
обосновывают эгалитарные дистрибутивные принципы, или,
что то же самое, правила справедливого обращения с
людьми как с равными в распределительных ситуациях.
Эгалитарная точка зрения недвусмысленно и очень
точно определяется тем, что среди дистрибутивных принципов
она ставит на первое место необходимость в
распределительных ситуациях обращаться с людьми как с равными.
Весьма деликатный момент, который доставляет массу
хлопот эгалитаристам, заключается в том, что равенство
людей, о котором идет речь, есть не реальное, а чисто презю-
мируемое явление. В таком социально-гетерогенном
обществе, каким предстает на сегодняшний день капитализм с
его колоссальными неравенствами в социальном положении
классов, индивидов, данное предположение действительно
кажется более чем смелым. И все же либералы отстаивают
его, прибегая к тем способам доказательств, которыми
всегда пользовались сторонники эгалитарных идей. Всякое
обращение с людьми как с равными, говорят одни из них,
имеет под собой то основание, что индивиды, несмотря на
23 Ross A. On Law and Justice. Berkeley — Los Angeles, 1959,
p. 276. Основоположник кормативистской школы в философии права
Г. Кельзен также подчеркивал бессодержательность и пустоту принципа
«каждому — свое» (Kelsen Н. Was ist Gerechtigkeit? Wien, 1953, S. 23).
141
27 Hook S. Revolution, Reform and Social Justice. Studies in the
Theory and Practice of Marxism. Oxford, 1975, p. 275.
нуть с его позиций, все, казалось бы самые неотразимые
контраргументы, идущие от жизни, он уже отвел,
нейтрализовал. Как либерал он практически недосягаем для
консервативной критики, но дело в том, что метафизические
конструкции могут восприниматься лишь узким кругом
идеалистически настроенной интеллигенции. Схватки между
либеральной и консервативной идеологией происходят на
другом уровне, связанном с реальными проблемами
социальной действительности.
Большинство западных либералов все же склоняются к
мысли, что отношения, в которых различные люди могут
быть приравнены друг к другу, должны быть точно
определены теоретически и практически. Их не устраивают
разговоры о том, что все люди равны как люди, в силу
одинаковой человеческой природы. Либералы требуют точных
знаний относительно того, в чем люди равны, а в чем неравны,
которые могли бы иметь практическое значение при
проведении общественных реформ в духе социальной
справедливости. «Я не убежден,— заявляет американский философ
С. Хук,— что существуют какие-то черты, которые равно
присущи всем людям. Очевидно, что, если бы такие черты
и существовали, мы бы не смогли вывести из них какой-либо
специфический способ равного обращения»27. Для него
вопрос о выборе способа обращения вообще не связан с
природой человека, его естественными и социальными
качествами. Данный вопрос, стало быть, решается независимо от
того, равны ли и в чем равны люди. Если принять
предположение, что социальные неравенства есть неизбежный
спутник общественного развития, то и тогда принципы «равного
обращения» с людьми могли бы получить свое оправдание,
т. е. быть справедливыми. Но, спрашивается, откуда?
На этот вопрос С. Хук отвечает следующим образом: из
характера ситуации, из ее собственных императивов и норм,
требующих того или иного способа обращения с
причастными к данной ситуации людьми. В поисках критериев
выбора способов обращения как будто бы С. Хук ушел от
природы и качеств человека недалеко — к характеру и
качествам ситуации, но акценты сместил значительно. Будут ли
с индивидами обращаться равно или дифференцированно,
зависит не от самих людей и не от воли дистрибутора, а от
внутренней логики событий, от ситуативных норм,
являющихся, по его мнению, в данном случае справедливыми.
Таковыми, считает С. Хук, будут нормы равного и диффе-
М2
28 Там же, с. 277
29 Rawls У. A Theory of Justice. Oxford, 1971, p. 46—47; Brock D. The
Theory of Justice.—The University of Chicago Law Review, 1973, vol. 40,
N 3, p. 487—488.
ренцированного обращения, если они одинаково
применяются к одинаковым ситуациям. Обстоятельства, при которых
может быть реализована справедливая норма обращения
с людьми, должны быть релевантными, т. е. существенными,
иметь значение именно для данной ситуации, а то, что
является релевантным, подчеркивает С. Хук, зависит от
ситуации, в которой принята норма, и от цели нормы. Отсюда он
делает вывод: «Справедливое обращение с людьми в
релевантных обстоятельствах не требует, чтобы мы обращались
с ними единообразно, но означает только, что мы должны
иметь достаточные основания обращаться с ними
дифференцированно. Эти достаточные основания вытекают из
нашего желания увеличить человеческое благо и избежать
несчастья, уменьшить страдания и максимизировать
благосостояние» 28.
Перед нами по существу один из вариантов
справедливости в духе утилитаризма — доктрины, которая, как
известно, ограничена в своих возможностях разрабатывать
содержательные критерии социальной справедливости. В данном
случае С. Хук ничего не может сказать относительно того,
как определить нормы, выражающие тот или иной способ
обращения с людьми по содержанию. Он отодвигает
проблему справедливости нормы от субстанции к условиям ее
применения, а также целям нормативного регулирования
(увеличить благо, уменьшить несчастья), т. е. к чему-то
внешнему по отношению к самому содержанию нормы. Но,
прежде чем получить воплощение в конкретных актах
применения, норма должна быть сформулирована в виде
требования с определенным, причем справедливым (нет норм,
которые не претендовали бы на это) содержанием.
Современная буржуазная нормативная философия, как это иногда
подчеркивают и сами западные авторы29, обнаруживает
поразительную слабость в разработке субстанциональных
проблем справедливости, т. е. всего, что касается
содержания, внутренних качеств и ценности справедливых норм
обращения с людьми (норм политики, права, морали и т. д.).
Мы проследили ход либеральной мысли, нельзя сказать,
чтобы типичный, но очень примечательный тем, что ставит
социальную справедливость над равенством и неравенством,
выдвигает проблему выбора способов обращения с людьми,
которые могут принадлежать к одному из двух типов — рав-
144
распределения по заслугам, проведения социальной
политики на компенсационных началах по отношению к известным
категориям лиц31.
Неравенство теряет свою остроту и горечь, если оно
осознается как результат равного обращения со всеми
людьми. Но для того итобы такое сознание вытеснило
злобствование, зависть и обиды, прикрываемые ссылками на
справедливость, необходима «этическая революция в умах»,
особая политика, ориентированная на сознательность, такт,
сопереживание, взаимную симпатию членов общества.
Такая политика, утверждает С. Хук, есть центральное
звено в понятии социальной справедливости, показывает
направление, в котором должно идти капиталистическое
общество. В подобного рода рассуждениях, безусловно,
сказываются ограниченность и утопизм либеральных
представлений о социальной справедливости в буржуазном
обществе, этические ценности которого не могут быть
противопоставлены дезинтегративным тенденциям, присущим
развитию частной собственности и товарного рынка.
Как ни странно, но самым слабым и уязвимым местом в
теориях либералов-эгалитаристов является понятие
равенства как принципа или меры, применяемой в процессах
справедливого обращения с людьми в распределительных
ситуациях. Они в сущности мало заботились о теоретической
разработке данного понятия, уделяя значительно больше
внимания негативно и критически интерпретируемому
неравенству. Образовалась своеобразная брешь в либеральной
аргументации, выявилась почти не защищенная позиция, на
которую в основном и направляются атаки нынешних
консерваторов.
Слишком многие из либералов легко соглашаются
с тем, что понятие равенства нельзя вывести из анализа
фактических явлений, реальных общественных отношений,
особенно в сфере распределения. Рассматриваемые в
совокупности своих черт, во всей полноте индивидуального
бытия лица, явления, события, отношения, предметы, хотя бы
они и обладали некоторым множеством совпадающих
признаков и черт, в ряде свойств отличаются друг от друга. Нет
абсолютно равных людей, вещей и явлений — эта мысль
всегда присутствовала в рассуждениях либералов как
некий предупредительный знак, ограничивающий эгалитарный
подход к действительности, взывающий к осторожности в
выводах. Некоторые из них о равенстве говорили в том
смысле, что оно есть абстракция от фактического неравен-
31 См. там же, с. 133, 284,
143
ному и дифференцированному (неравному). Приоритет
равенства как нормы и принципа справедливого обращения с
людьми С. Хук скорее предполагает, чем доказывает.
«Давайте так считать, хотя доказать это трудно»,— заявляет
он. По его мнению, существуют легитимные и нелегитимные
основания для дискриминации. Кто станет, например,
возражать или обижаться, если врач уделяет больше внимания
пациенту, находящемуся в крайне тяжелом положении, но
если он предпочитает другим больного только потому, что
тот богат или имеет высокий общественный статус, это
может вызвать недовольство и возмущение. Проблема состоит
в возможностях легитимации, т. е. в оправдании неравенств
с точки зрения права и справедливости. «Предположим,—
пишет С. Хук,— что есть равенство в части полного развития
членов общества как личностей — это кардинальная
этическая вера демократии как образа жизни,— тогда, что
неправильного в неравном обращении, если оно легитимно?»30
Задача западного демократического общества, полагает он,
состоит в замене неразумных неравенств разумными,
нелегитимной дискриминации — легитимной. Но для этого
надо по крайней мере знать, какие неравенства являются
доброкачественными, справедливыми, а какие —
злокачественными, несправедливыми. Так возникает популярная в
либеральной литературе тема оправдания (легитимации)
социальных неравенств.
Равенство, поскольку оно в интерпретации С. Хука есть
нечто иррациональное, не нуждается в оправдании.
Достаточно того, что люди его принимают. Кроме того, оно
заключает в себе огромный реформативный потенциал.
Равенство возможностей С. Хук восторженно называет «истинно
революционным принципом», требует переделки социальных
институтов, что на языке С. Хука означает
последовательное проведение серии взаимосвязанных реформ. С. Хук
допускает возможность корректировать результаты обществен*
ного распределения, которые резко отличаются от других в
худшую сторону. Если распределение ориентируется на
заслуги, то можно сказать, что тот или иной человек
заслужил свой провал, свою неудачу, но его дет,ям,
испытывающим последствия данного провала, разумеется, следует
обеспечить равные с детьми других родителей возможности
занять определенные стартовые позиции в жизни. Иначе
говоря, справедливость требует отступления от принципов
30 Hook S. Revolution, Reform and Social Justice. Studies in the
Theory and Practice of Marxism, p. 278.
145
ства, полученная в итоге нестрогих логических операций за
счет потери особенного и индивидуального в явлениях,
выделения, подчас небезгрешного, тех черт и особенностей в
предметах, которые совпадают или только кажется, что
совпадают. Так или иначе, но это приводило к
конструированию некоего условного понятия относительного равенства,
научный потенциал которого вызывает сомнения. Не
удивительно поэтому, что для многих либеральных теоретиков и
в особенности либерально настроенной общественности
равенство было скорее символом веры, иррациональным
стимулом, побуждающим мотивом определенного образа
мыслей и действий.
Но даже такое относительное равенство предполагает
известную связь между приравниваемыми друг к другу
лицами, предметами и явлениями, необходимость выдвигать,
исследовать те общие черты, которые существенны в
определенной ситуации или в аспекте общественной и
индивидуальной жизни. Установить указанные черты означало
связать идею равенства, по крайней мере применительно к
сфере распределения материальных и духовных благ, с рядом
других очень важных социальных проблем — общего блага,
личной свободы и прав человека, заслуг, достоинств и т. д.
Значение равенства как абсолютного идеала для
человечества в отличие от свободы часто оспаривалось, и поэтому
идеологи, которые желали равенства и утверждали его
справедливость, сталкивались с вопросом: вы стремитесь к
равенству, но для чего?
Ответ, как правило, заключался в одном из способов
легитимации, т. е. в оправдании равенств через какие-то
другие высшие цели и категории, включая справедливость.
Утилитаристские доктрины, начиная с учений И. Бентама
и Д. Милля, принимают равенство постольку, поскольку оно
отвечает принципу пользы, «наибольшего счастья для всех»
или для «наибольшего» числа людей. Равенство
оправдывается здесь инструментально, через его принадлежность к
механизму экстенсификации принципа пользы.
В соответствии с классической утилитаристской теорией
(получившей, как считают, четкую и строгую
формулировку у Г. Сиджвика) в справедливом обществе
распределительная сфера устроена таким образом, чтобы достичь
наибольшего, сбалансированного удовлетворения всех
индивидов, всех членов общества. Любой человек вправе
действовать и достигать наибольшего блага для себя в
рамках общества, которое стремится к общему благосостоянию,
понимаемому как наибольшая степень удовлетворения
желаний отдельных его членов. Утилитаристы, замечает аме-
146
риканский философ Дж. Роулс, понимают социальную
справедливость как принцип разумного расчета, применяемый
к общему понятию благосостояния групп32. Этот принцип
всеобщей калькуляции и подсчета суммы удовлетворений
берет равенство как исходное. Г. Сиджвик по существу сводил
социальную справедливость к равенству33, но оба эти
понятия светились отраженным светом, черпали свою ценность
из общественного или индивидуального блага, пользы.
Не всегда связь социальной справедливости или
равенства с понятием общего блага осмысливается с помощью
методов утилитаризма, имеются и другие интерпретации
этой связи. Однако ее широко признают и обсуждают. По
словам американского философа И. Дженкинса,
«справедливость, по крайней мере субстантивная или материальная
в отличие от процедурной или формальной, есть в конце
концов просто название тех условий, которые наиболее
эффективно содействуют человеческому благу»34.
Этот тезис неоконсерваторы принимают в штыки,
противопоставляя ему две значительно отличающиеся одна от
другой позиции. Одна из них заключается в том, что цель
общего блага и стремление ко всеобщему благосостоянию
порождают условия для расширения экономических
неравенств. «Решающая проблема,— пишет западногерманский
автор Г. Гартвих,— состоит в том, что благосостояние как
имманентный данному строю фактор принуждает
постоянно содействовать существующим формам неравенства,
прежде всего в отношении распределения и прироста
собственности...» 35
Сторонники второй позиции доказывают, что в
современном индустриальном обществе, где преобладают
гетерогенность, гетерономность, гедонизм, пермиссивность и т. д.,
ссылки на общее благо или благосостояния как легитимаци-
онную основу равенства или неравенства потеряли всякий
смысл. Стремление к общему благу, считают они, утратило
ту роль в мобилизации духовной энергии людей, какую оно
играло в ранних, статичных и простых обществах, для
которых были характерны минимальные и медленные
изменения. В те далекие времена индивиды связывали шансы соб-
32 Rawls /. A Theory of Justice, p. 24.
33 Sidgwick H. The methods of ethics. London, 1907, p. 379, 386.
34 Jenkins J. The Human Person and the Legal Person. — Equality and
Freedom. International and Comparative Jurisprudence, vol. 1. New York—
Leyden, 1975, p. 117.
35 Hartwich H.-H. Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Status-
quo. Koln—Opladen, 1970, S. 359; Demokratisierung in Staats und Gesell-
schaft. Munchen, 1973.
148
тивы, веками вызывающие интерес к понятию социальной
справедливости, а вместе с тем и общей цели, общему благу, принципам
распределения, которые являются желаемыми для многих или всех людей.
В данной сфере, подчеркивает Ф. Хайек, нет наделенного волей и
сознанием дистрибутора, а результаты действия спонтанного,
самопроизвольного и самовоспроизводящего механизма экономического распределения
через рынок не могут быть оценены как справедливые или
несправедливые. Почему же тогда люди так доверчиво используют термин
«социальная справедливость» для продвижения требований отдельных
общественных групп на большую долю жизненных благ, почему они не
оставляют этого понятия, хотя знают, что оно неопределенное и
бесполезное? Объясняется это, по мнению Ф. Хайека, атавистическим
характером человеческих представлений о социальной справедливости, корни
которых он ищет в глубокой истории, в эпохе существования отдельных
малочисленных человеческих групп (50 человек или около), в
ограниченной и примитивной жизни этих групп, занимавшихся охотой и
собирательством.
Прежде чем человечество вступило на путь развития, которое
длится уже около десяти тысяч лет и которое привело к созданию
агрокультуры, городов и в конечном счете «великого общества» (по мнению
Ф. Хайека, капиталистическая система, основанная на экономике
свободного рынка, есть последнее слово человеческого прогресса), люди жили
в сотни раз дольше в малых охотничьих союзах, лицом к лицу со
своими сородичами, вынужденные разделять пищу между хорошо знающими
друг друга людьми по правилам, которые полностью отвечали
интересам выживания группы. Чувства принадлежности к группе, ее
организации и целям сформировали представления о социальной
справедливости, о справедливости распределения благ и ценностей, которые
продолжают доминировать и в наше время, хотя условия производства и тип
распределения уже совершенно изменились. «Понятие социальной
справедливости, — пишет Ф. Хайек,— есть, таким образом, прямое следствие
антропоморфизма или персонификации, посредством которого наивное
мышление объясняет все самоорганизующиеся процессы. Это признак
незрелости нашего ума, показывающий, что мы еще не переросли эти
примитивные понятия и требуем от безличностных процессов, которые
гораздо больше удовлетворяют человеческие желания, чем сознательные
человеческие организации, подчинения моральным заповедям, созданным
для руководства индивидуальными действиями» 39.
Материальные и иные нужды древнего примитивного общества
охотников определили многие моральные чувства людей, которые, как
считает Ф. Хайек, еще правят современным человеком и которые он
одобряет в других людях. «Более чем вероятно,— предполагает данный
автор,— что многие моральные чувства, требовавшиеся тогда, не просто
переданы культурой посредством обучения или подражания, но стали
внутренне или генетически детерминированными»40. Эмоции
современного человека направляются еще инстинктами, рассчитанными на успех
охотничьих союзов, его словесные (вербальные) традиции определяются
обязанностями по отношению к соплеменникам, соседям, все еще
оставляющим «чужаков» за рамками моральных обязательств.
Но древние инстинкты, моральные чувства и традиции приходили
в противоречие с процессами развития цивилизации, требовавшими
замены абстрактных норм поведения в отношении родичей и лично зна-
39 Hayek F. A. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice, p. 62—63.
40 Hayek F. A. Social Justice, Socialism and Democracy. Three
Australian Lectures, p. 5.
147
ственного развития с общим благом и процветанием клана,
общины или какой-либо иной группы, к которой они
принадлежали, ориентировались на общее благо и зависели от
него. В массовом обществе индивидуальное продвижение
стало более свободным и менее предсказуемым, оно зависит
от массы непрогнозируемых факторов, воздействующих на
личную судьбу человека сильнее, чем абстрактное для него
общее благо. Шансы, используемые в личных интересах, в
большей части случайны, и ни индивид, ни законодатель не
могут их уравнивать или планировать, ибо запланированные
равные шансы всегда ведут к чему-то обратному36. В
современном индустриальном обществе в отличие от старых
социальных систем больше способных людей могут добиться
успехов, выйти на более высокий уровень благосостояния.
Но если может каждый, то все не могут, т. е. благо никогда
не станет общим для всех без исключения.
Указанные мотивы содержит и более широкая по содержанию и
целям концепция американского консерватора-либертариста Ф. Хайека,
который пришел к тотальному отрицанию социальной справедливости в
условиях рыночной экономики и социальной организации современного
«свободного» общества. Обоснованию этой концепции он посвятил
второй том своей книги «Право, законодательство и свобода», носящий
характерный подзаголовок «Мираж социальной справедливости»37.
Не только общее благо, но по существу и все другие категории, так
или иначе осмысливаемые людьми через понятие социальной
справедливости (в особенности равенство, единая цель, общая система ценностей
и целей, вознаграждение по заслугам и т. д.), не пригодны, по мнению
Ф. Хайека, для поиска и построения модели распределения благ и
ценностей, адекватной рыночной экономике. Можно еще говорить о
справедливости как правиле поведения людей по отношению друг к другу,
полагает он, но бессмысленно выдвигать и изучать «социальную», или,
что в сущности то же самое, «дистрибутивную», справедливость, за
которой стоит удаляющаяся от людей мечта осуществить некую
придуманную ими совершенную модель распределения благ и ценностей. «Полная
пустота фразы «социальная справедливость»,— утверждает Ф. Хайек, —
выявляется в факте, что не существует согласия относительно того, что
требует социальная справедливость в отдельных случаях... Не может
быть в обществе, члены которого свободны, осуществлена заранее
продуманная схема распределения, позволяющая использовать свои знания
для собственных целей. Моральная ответственность индивида за его
действия несовместима с любой такой желаемой общей моделью
распределения» м.
Распределение у Хайека оказывается сферой, лежащей в зоне
человеческих действий, которую невозможно корректировать сознательно,
планово и целенаправленно. Если так, то действительно отпадают мо-
36 Schoeck Н. Gleicheit, Gerechtigkeit und Chance: Aporien des Egali-
tarismus.— Zeitschrift fur Politik, 1975, Jg. 22, Heft 3, S. 228—230.
37 Hayek F. A. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice. Chicago—London, 1976.
38 Hayek F. A. Social Justice, Socialism and Democracy. Three
Australian Lectures. Sydney, 1979, p. 4.
149
комых людей обезличенными правилами, вытекающими из игры
рыночных сил. «Достигнутый этим большой выигрыш заключался в
возможности процедуры, через которую широко распространялась релевантная
информация, постоянно доступная всевозрастающему числу людей в
форме символов, которые мы называем рыночными ценами»41.
Источником новой морали становится свободный рыночный обмен, при котором
цена на обмениваемые товары приобретает сугубо нормативный
характер. Теорию, объясняющую действие рынка как игру по определенным
правилам, Ф. Хайек предлагает назвать «каталлактикой» (от
древнегреческого слова «каталлатейн» — обмен или торговый обмен). Древние
неолитические торговцы были первыми, кто в обход дисциплины племенной
морали, ориентированной на нужды сородичей, общее благо
собственной группы, предпочли «чужих» за то, что они могут предложить
лучшую цену за их услуги и товары. И это был, по Хайеку, настоящий
поворот в представлениях людей о том, что можно считать справедливым,
а что — нет.
По мнению Ф. Хайека, рыночный процесс есть типичная игра, т. е.
соревнование в соответствии с четко установленными правилами, успех
в котором обусловлен такими факторами, как лучшее искусство,
превосходство сил или счастливая удача42.
Цены, которые производители находят на рынке, всегда говорят им,
что производить и какие средства необходимо использовать в процессе
производства. Из цены они узнают, можно ли ожидать от продажи
покрытия своих издержек, какое вознаграждение за свои усилия они
могут получить. В конечном счете это вознаграждение зависит от
объективных факторов, полного знания которых не может быть ни у кого.
Если считают справедливыми правила вознаграждения по вкладу в
общий фонд шансов для любого члена общества, то, полагает Ф. Хайек,
вознаграждение, определенное свободным рынком, также является
справедливым. Невероятно высокие доходы не составляют исключения.
«Высокие реальные прибыли тех, кто действовал успешно, независимо от
того, был ли их успех заслуженным или случайным, являются
существенным элементом ведущих средств, откуда они смогли сделать большой
вклад в фонд, из которого все извлекают свои доли»43.
Неравенства раздражают людей, сетует Ф. Хайек, но они не
замечают, что это — основополагающее условие получения относительно
высоких доходов, которыми обладает большинство людей на Западе.
Называя справедливым все доли в распределении, определенные игрой
случая на рынке (от самых крупных до ничтожных), Ф. Хайек снимает
проблему справедливости применительно к распределению, основанному
на действии законов свободного капиталистического рынка. Главное для
него то, что выигрыш получен по всем правилам игры — каталлаксии,
в этом, и ни в каком другом, смысле капиталистическое распределение
справедливо. Сознательно сконструированные теории «социальной», или
«дистрибутивной», справедливости, которые вводят изменения или
вносят коррективы в самоуправляющуюся систему свободного рынка и
пытаются перераспределять то, что получено в результате спонтанного
распределения на рынке, для этого автора абсолютно неприемлемы.
В рамках рассматриваемой концепции развиваются мысли, весьма
типичные для современной консервативной либертарной идеологии,
которая заимствовала их из старого багажа либералов. Доктринеры
41 Там же, с. 6.
42 Hayek F. A. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice, p. 115—120.
43 Hayek F. A. Social Justice, Socialism and Democracy. Three
Australian Lectures, p. 12
151
достичь при тех средствах для дальнейших
капиталовложений, которые взяты от них» 46. Если эту мысль выразить
другими, более реалистическими терминами, то получится,
что «социальная» справедливость (или во всяком случае
разговоры о ней) «мешает» капиталистам получать высокие
прибыли. Но так ли это?
Статистика свидетельствует о росте прибылей
капиталистических монополий, который является постоянным и
рекордным за последние годы, ознаменовавшиеся мерами
государственно-монополистического регулирования,
антикризисной политики «государства благоденствия»,
развертыванием ряда столь ненавистных консерваторам «социальных
программ» и т. д. Независимо от этих мер и политики и уж,
конечно, от риторики, вызванной «популярными
концепциями социальной справедливости», прибыли безостановочно
ползли вверх, инвеститоры капитала брали от общества все,
что хотели. Монополии научились извлекать для себя
высокие прибыли в условиях жесточайших кризисов,
стагнации или спада производства. Кризис 1980—1981 гг. принес
неисчислимые социальные потери и значительно ухудшил
положение трудящихся масс США, но американские
корпорации в это время буквально процветали: их наличные
поступления по прибылям (с учетом скидок на амортизацию
и за вычетом налогов) составили в 1981 г. 342 млрд. долл.,
а норма прибыли на акции в обрабатывающей
промышленности достигла самой высокой цифры за последние 60—
70 лет47. Уже тот очевидный факт, что рост прибылей
корпораций стал постоянным и гарантированным явлением в
условиях современной капиталистической экономики,
порождает большие сомнения относительно анализа законов
свободного рынка и имманентно присущего ему
«справедливого распределения», представленного в работах Ф. Хайека.
То, от чего предостерегает Ф. Хайек государство,—
регулирование рыночных цен, планирование, составление
программ и прогнозов экономического развития и т. п.—
частный бизнес давно уже взял на себя и осуществляет своими
методами и в собственных целях. Сегодня типичный
инвеститор капитала — это не мелкий или средний
предприниматель, а ассоциированный капиталист, т. е. это могучие
монополии, сильные монополистические союзы,
транснациональные корпорации, военно-промышленные объединения,
которые держат рынок в своих руках и управляют им, целе-
48 Там же, с. 14.
47 См.: Проблемы мира и социализма, 1983, № 1, с. 52.
150
«laissez-faire» когда-то тоже верили в высшую «мудрость» рынка и его
законов, считали «естественно справедливым» распределение на основе
сделок, заключаемых свободными и равными субъектами, рыночных цен,
возникающих из нерегулируемого соотношения спроса и предложения.
Но они были более последовательными, исключая не только
государственное влияние на свободный рынок, но и вмешательство монополий
в саморегулирующиеся рыночные процессы44. Монополизация капитала
привела к крушению доктрины «laissez-faire», и либералы вынуждены
были отказаться от иллюзий в отношении регулятивно-распределитель-
ных функций рынка. Сегодня их подхватили консерваторы.
Ф. Хайек постоянно подчеркивает, что механизмы рынка и его
распределения лишь в том случае действуют эффективно, если они
свободны от всякого вмешательства извне. Рыночная цена только тогда
является истинным сигналом, несущим надежную информацию для
производителей, когда она полностью выполняет свои функции,
направленные на организацию и рост производства, когда она складывается
стихийно, на основе соотношения спроса и предложения товаров и услуг,
т. е. определяется исключительно силами рынка, а не принудительной
силой правительства. Ф. Хайек принадлежит к числу ярых противников
государственного вмешательства в экономику в любой его форме —
регулирования цен, планирования, воздействия на динамику заработной
платы в производственных отраслях и т. д. «Когда правительства, —
утверждает он, — начинают фальсифицировать сигналы рыночных цен,
о соответствии которых у них нет средств судить, в надежде
посредством этого принести пользу группам, претендующим на особые заслуги,
дела неизбежно начинают идти плохо»45.
Поскольку в период государственно-монополистического
регулирования экспансия буржуазного государства в сферу
экономической активности частного бизнеса оправдывается
ссылками на социальную справедливость как необходимость
более равномерно обеспечить всех членов общества
работой и заработком, гарантировать известный уровень доходов
и т. д., то именно эту «моральную» категорию, через которую
осмысливаются столь важные для будущего проблемы
капиталистического общества, Ф. Хайек избрал объектом
своей критики. Экономика, основанная на свободном рынке,
полагает он, должна развиваться по собственным законам,
а не угождать популярным концепциям социальной
справедливости. В связи с этим он объявляет ложным путь
развития капиталистической экономики в курсе, который
связан с именем либерала Кейнса и кейнсианскими
моделями капитализма, включавшими в себя некоторые меры в
области производства, обмена и распределения. По мнению
Ф. Хайека, «главный отрицательный эффект мер так
называемой социальной справедливости состоит в том, что они
препятствуют индивидам достичь того, чего они могли бы
44 Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political
Economy. Chicago, 1980, p. 5—6.
45 Hayek F. A. Social Justice, Socialism and Democracy. Three
Australian Lectures, p. 10.
152
устремленью воздействуя на все элементы рыночной
системы.
Современные капиталистические фирмы буквально
обрастают службами, научно-планирующими
подразделениями, которые призваны вырабатывать оптимальные
варианты их участия в рыночных отношениях, включая сюда
возможности искусственно навязывать рынку определенные и
выгодные мощному производителю тенденции. С помощью
рекламы, через средства массовой информации монополии
по существу управляют спросом на рынке, сознательно
взвинчивают его, манипулируют потребностями людей.
Исчез ореол загадочности вокруг рыночной цены, истоков ее
происхождения, абсолютно неясных для простого
товаропроизводителя на докапиталистических стадиях
общественного развития. Теперь цены на рынке просто диктуются
монополиями и сознательно поддерживаются ими на
определенном уровне. То, что характерно для нынешнего
экономического кризиса на Западе, а именно рост цен на
определенные товары при пониженном спросе на них (явление
раньше немыслимое), ярко свидетельствует о неполадках,
а может быть, и сломе механизма рыночного
саморегулирования, который так рьяно превозносит Ф. Хайек. Не
честные и скромные «игроки», добросовестно выполняющие все
правила игры — каталлаксии, а могущественные
экономические клики, в распоряжении которых находятся огромные
ресурсы знаний, опыта, научно-технические достижения,
господствуют теперь на рынке и модифицируют его в
интересах своего господства.
Смешно говорить о том, что прибыли монополий
представляют собой случайный, непреднамеренный и потому
справедливый выигрыш в смысле теории Ф. Хайека. Для
крупного капитала игра на рынке является
беспроигрышной, ибо он все сделал и все предусмотрел, чтобы получить
свои прибыли, увеличить их. Безостановочно ползущая
вверх кривая роста доходов корпораций в США и странах
Западной Европы доказывает лучше всяких теорий, что
высокая прибыль становится в сущности гарантированным,
искусственно создаваемым результатом деятельности
монополий. Для этого теоретики, подобные Ф. Хайеку, по
существу позволяют им делать все, что угодно:
фальсифицировать цены, взвинчивать спрос, уклоняться от уплаты
налогов, получать льготы и привилегии, усиливающие их
конкурентоспособность на внутренних и мировом рынках, и т. д.
Сомнительным и лицемерным представляется утверждение
Ф. Хайека о том, что прибыли, или, как он говорит,
«невероятно высокие доходы», являются будто бы «справедливы-
153
48 Berthoud R. The Disadvantages of Inequality: a Study of Social
Deprivation. London, 1976, p. 39.
ми» потому, что они определяют экономический рост и в
этом смысле способствуют увеличению фондов, из которых
члены общества, в том числе и бедные, приобретают свою
долю.
Этот тезис в такой же мере несостоятелен, как и
выдвинутая в старые, докапиталистические времена феодально-
реакционная идея о «благородной миссии» богатых,
согласно которой все живут и кормятся, дескать, за их счет,
получая от богатых вспомоществование или плату за службу.
Кому выгоден экономический рост, если он стимулируется
стремлением к «невероятно высоким доходам», тоже
понятно. Изучая влияние экономического роста на положение
малосостоятельных и неимущих слоев населения
капиталистических стран, многие западные социологи приходят к
неутешительным итогам, подчеркивая, что «шансы
использовать экономический рост в качестве средства сокращения
численности бедняков оказались ничтожными»48.
Следовательно, и ссылка на «ничтожные шансы» как основу
легитимации высоких доходов, прибылей корпораций является по
меньшей мере неоправданной.
Масштабы безудержного произвола и хозяйничанья
монополий в обществе заставляют общественность ведущих
капиталистических стран апеллировать к государству, к его
регулятивным функциям, к социальной справедливости как
цели, во имя которой получателям огромных прибылей и
богатств стоит поступиться хотя бы частью своих
привилегий в пользу неимущих. Через своих консервативных
идеологов, таких, как Ф. Хайек, крупный бизнес пытается
дискредитировать эту либерально-демократическую позицию,
которая мешает ему полностью развернуться, оттеснить
государство и бюрократию на второй план, завладеть всеми
материальными и духовными ресурсами общества.
Стремление консерваторов-либертаристов
интеллектуально развенчать, а затем и преодолеть
либерально-эгалитарные теории социальной справедливости, подорвать
доверие общественности к проектам социальных реформ во имя
справедливости отражает далеко идущие планы правящих
верхов капиталистических стран. Одна из их самых опасных
целей — абсолютный и непререкаемый контроль над
механизмами общественного распределения, «освобождение»
этой сферы от всякого государственного и общественного
воздействия, от норм и ограничений, которые несет с собой
154
любая концепция справедливого распределения, особенно
эгалитарная.
Людей пытаются убедить в том, что рыночное
распределение в «свободном обществе», базирующемся на частной
собственности и договоре, заключает в себе «равные
возможности» для всех, в нем, дескать, воплощена высшая,
надчеловеческая мудрость, которую легко исказить,
погубить, накладывая на нее грубую, неизбежно одностороннюю
субъективную схему социальной справедливости. Но не
говорят правды о том, что рыночное распределение в
современном капиталистическом обществе давно уже
осуществляется по субъективно-волюнтаристским и в сущности
крайне примитивным стандартам, отвечающим
эгоистической заинтересованности крупных монополий в получении
максимальной прибыли. Имеются и дистрибуторы — все те
же монополии, действующие на рынке анонимно или
открыто, руководствуясь своими особыми принципами, весьма
далекими и от общего благосостояния, и от блага отдельных
людей. Либертаристы, собственно, и пекутся о том, чтобы
все дистрибутивные функции в обществе сосредоточились
в руках представителей крупного капитала, частного
бизнеса, что позволило бы им в перспективе усилить свое
господство над обществом, обращаться со всеми людьми так, как
им это нужно и выгодно.
Формальная справедливость
в трактовке
эгалитаристов и консерваторов
Вопрос о правилах и принципах справедливого
обращения с людьми как с равными или, напротив, неравными
лицами, участвующими в общественном распределении,
отсылает нас к проблематике, связанной с поведением
дистрибутора, т. е. индивидуального или коллективного субъекта,
имеющего власть распределять блага или ценности среди
некоторого числа претендентов. Но кто и как
«предписывает» нормы для дистрибутивных действий, а также критерии
справедливости, в соответствии с которыми легитимируются
результаты распределения?
Многие доктрины социальной справедливости несли на
себе заметные следы теоретико-познавательного снобизма.
Конструирование принципов справедливого распределения,
открытия и описание ценностей, относящихся к понятию
справедливости, объявляли предметом
индивидуализированного творчества, результатом углубленного проникнове-
1<55
ния в суть явлений, на которые отваживается не каждый,
а лишь избранный ум, наделенный способностью
философского видения мира. Столь необходимые в общественной
жизни и для каждого человека ценности открываются
только гению. Неважно, как он к ним приходит — рациональным
или интуитивным путем, вследствие озарения или иного
мистического акта, но он знает ценности и поэтому имеет
абсолютное право проповедовать их людям, которые
должны доверчиво следовать за мудрецами, полагаясь на
авторитет их высшего знания.
В более или менее резких или завуалированных формах
данное явление всегда сопутствовало поиску ценностей и
знаний о том, что справедливо или несправедливо.
Положение в принципе не изменилось от того, что сейчас
«жрецами» справедливости чаще всего становятся не теологи или
философы, а ученые, владеющие точными техническими
знаниями, и что старое противоречие между «философом» и
«толпой» превращается в технократически
интерпретируемую коллизию «специалиста» и «дилетантов». Во всех
случаях на первый план выдвигается относительное
противоречие между «знающими» и «незнающими», а процесс
познания ценностей и бытия трактуется как эзотерический,
затрагивающий только избранных.
Реакцией на очевидную бесплодность этой тенденции,
которая многих буржуазных либералов завела в идейный
тупик, является, по-видимому, вновь вспыхнувший на
Западе интерес к контрактуалистским теориям, к идее
общественного договора. Последняя предполагает более
«демократическую» стратегию выбора ценностей для общественного
развития, включая установление начал социальной
справедливости, определение дистрибутивных принципов и т. д.
Причастными к выбору объявляются все члены общества,
объективно связанные общим согласием относительно
известных ценностей, правил и норм, которые реально
действуют в данной социальной среде. Укажем лишь на то
обстоятельство, что они решительно разворачивают
проблематику, о которой сказано выше, в сторону именно тех, с
кем обращаются (или не обращаются) справедливо.
Речь идет прежде всего об условиях принятия людьми
требований справедливости, о подчинении этим
требованиям, всеобщая обязательность которых сама по себе
гарантирует то, что разрозненные действия отдельных индивидов
укладываются в определенные рамки и в общий курс
совместной деятельности. Справедливость в любом обществе
начинается с того, что делает необходимой единую форму
человеческих действий, утверждает одинаковые нормативы
156
поведения для всех членов социальной группы, в пределах
которой справедливость функционирует как интегративная
ценность. Очень важно в связи с этим изучать проблемы
формальной, или, как иначе говорят, процедурной,
процессуальной, справедливости, ориентированной на саму
процедуру исполнения людьми справедливых норм и
принципов. Основной постулат формальной справедливости может
быть в первом приближении определен таким образом: все
люди, стремящиеся к единой цели, должны честно
придерживаться в процессе ее достижения единых правил. Только
при этом условии — честности в выборе средств поведения
на базе существующих в обществе единых систем
социальных норм (морали, права, политических, религиозных и
т. д.) — результат индивидуального или коллективного
действия может быть засчитан как оправданный или
справедливый. В этом смысле формальная справедливость
представляет собой не что иное, как нормативный униформизм,
через который обеспечивается надежность и стабильный
характер общественных взаимосвязей, согласованность в
сфере социального поведения.
То, что форма справедливого требования к поведению
людей может в ряде существенных обстоятельств иметь
вполне самостоятельную ценность безотносительно к
своему содержанию, подмечено очень давно. Аристотель был
первым великим мыслителем, который выделил и
подчеркнул эту ценность. Чтобы понять ее, вовсе не обязательно
представлять себе форму справедливости независимо и
отдельно от содержания лоследней. Ценность содержания
окажется ничтожной, если в процессе социального общения,
человеческих взаимодействий реально не проведена в жизнь
ценность формы, если не обеспечено должное уважительное
отношение к ней со стороны лиц, которые хотят быть
справедливыми в своих поступках и намерениях. Человек в
самом деле должен точно реализовать социальную норму,
выполнить соответствующие ей формальные действия,
прежде чем наступят изменения в реальности,
запрограммированные в содержании этой нормы. Вот почему древние (и не
только древние) мыслители часто отождествляли
справедливость с подчинением закону и норме. Это вполне зрелое
представление, но оно соответствует определению
формальной справедливости в отличие от содержательной,
субстанциональной, от которой мы ждем объяснений по существу:
почему это, а не то является справедливым или
несправедливым. Таким образом, формальная справедливость
представляет собой предмет первичного, предварительного
понятия справедливости, которое логически влечет за собой
157
другое понятие, направленное на субстанцию этого
сложного, многомерного явления.
Мы имеем все основания считать формальную
справедливость, в основе которой лежит идея нормативного уни-
формизма, величайшим культурным достижением
человечества, источником происхождения очень многих институтов
и понятий, неотделимых от современной общественной
жизни, таких, как законность, равенство перед законом,
отрицание принципа «двойной» морали, «золотое правило»
нравственности и т. д. Исторически представления о формальной
справедливости возникали в противовес расщепленности
нормативных систем древнего общества по крайней мере на
два противоположных ряда правил поведения индивидов —
для своих и для чужих. Действия, осуждаемые и караемые
внутри первобытной группы, становились вполне
оправданными и даже героическими, если они были обращены
против других групп или их членов. Люди, воспитанные в
условиях первобытной коллективности и фактической изоляции
и полуизоляции групп, остро и, можно сказать, с особой
нормативной отчетливостью воспринимали разницу между
своими и чужими. Убить сородича или причинить вред
соплеменнику считалось крайне позорным и преступным
делом, но, если жертвой был чужак, аналогичный поступок
признавался достойным поощрения, похвалы, становился
поводом для церемониального чествования героя. Красть,
вступать во внебрачные половые связи категорически
запрещалось в своей группе, но вне ее индивид получал в
этом плане полную свободу.
Система моральных взглядов раздваивалась на
полностью отрицающие друг друга оценки одних и тех же
действий: «хорошо, если я возьму жену соседа, но плохо, если
он возьмет мою». Существовали два абсолютно разных
измерения поступка, одно из которых ориентировалось на
ценности, утверждаемые во внутригрупповых отношениях,
а другое — часто противоположное — применялось на
уровне межгрупповых связей. Потребности общественного
производства, усиливавшийся экономический обмен и другие
столь же значительные процессы, вовлекавшие ранее
изолированные группы в общий поток исторического развития,
заставили людей искать новые формы общности, основанные
на более или менее единых системах социальных норм.
Последние в свою очередь принесли с собой нормативную уни-
формизацию человеческого поведения, утвердили в
исторических правах довольна простую мысль: что хорошо или
плохо для своих, то хорошо или плохо для чужих. По мере
ослабления коллективистского сознания отдельных групп,
156
царившего на стадии первобытнообщинного строя, эта
мысль постепенно трансформировалась в знаменитое
«золотое правило» в его позитивной форме («То, что ты хочешь,
чтобы делали тебе, делай другим») и в его негативной
форме («То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай
другим»). Все эти чисто формальные правила, оставляющие
за рамками содержание самих действий и определяемые
как хорошие или плохие, желаемые или нежелаемые, вошли
в понятие формальной справедливости.
Там, где нужно было особо подчеркнуть внешнюю
обязательность требований справедливости, обеспечить
подчинение им во что бы то ни стало, всегда появлялась идея
авторитета, земного или сверхъестественного. Вначале
формальная справедливость (а для теологов и до сих пор)
представлялась в виде святой заповеди бога, божественной воли
и разума, предписывающего свои вечные законы
человеческому миру. Идея божественной справедливости включала
в себя проблемы, неразрешимые средствами рационального
познания, так же как и мистическая справедливость судьбы,
справедливость мирового порядка и т. д. Это не снижало
формального значения данной идеи. В ней впервые
встретились и тесно связались на формальной основе
равенство и справедливость. Поиск справедливости завершился
на своем первом историческом этапе религиозными
представлениями о равенстве всех и каждого перед богом. Они
превалировали в период господства теологического
мировоззрения— одного из крупнейших идеологических явлений
докапиталистической истории человечества.
Формализм теолога заключался в том, что он, признавая
в людях равенство душ, воплотивших в себе образ и
подобие бога, равенство, вытекающее из того факта, что каждый
человек есть «раб божий», несущий на себе печать
первородного греха, сводил проблему равенства исключительно
к форме отношений человека к богу. Все острые социальные
вопросы были исключены и оставались за рамками
формально-теологического подхода к данной проблеме.
В идеологической жизни капиталистического общества
праву отводится во многих отношениях (но, конечно, не во
всех) та же самая роль, какую предшествующие формации
отводили религии. Когда буржуазное право характеризуют
как секуляризованную «религию» рынка и
товарно-денежных отношений, «культ» свободы и равенства, за которым
легко угадываются свобода и равенство товаровладельцев,
вступающих в сделку по доброй воле и взаимному согласию,
то надо признать, что здесь имеется большая доля истины.
Смысл, вкладываемый в понятия «равенство перед богом»
159
и «равенство перед законом», безусловно, разный, но оба
они возникли на формальной основе; одно из них является
формально-теологическим, другое —
формально-юридическим. «...Неопределенное христианское равенство,— замечал
Ф. Энгельс,— могло, самое большее, вылиться в буржуазное
«равенство перед законом»...»49
Кульминационным пунктом юридического
мировоззрения явилась иррациональная, почти мистическая вера во
всесилие и могущество права и правовой формы, слившейся
по существу с «подлинной» и «вечной» справедливостью.
Парадоксально то, что основную роль в утверждении
культа права, в провозглашении его творческой силой,
преобразующей лицо общества, сыграли юридические доктрины,
больше других претендовавшие на рационализм. Это были
возникшие в XIX в. на базе философии позитивизма
юридические теории, которые объявили всякое право
справедливым только потому, что оно право. Юридизированная
формальная справедливость растворяется и исчезает в
правовых категориях, считается объективным и неизменным
качеством буржуазных законов, какими бы они ни были по
своему социальному содержанию. Суров закон, но это
закон и его надо исполнять, заявляли многие буржуазные
юристы. Со времени римского права установилась традиция
употреблять слова «справедливость» и «правосудие» как
синонимы, обозначающие вещи, осуществляемые
непременно, несмотря ни на какие обстоятельства и преграды.
Особое значение в рамках юридического мировоззрения
получила старая римская формула «Pereat mundus et fiat justitia»,
которую на современные языки можно перевести двояко:
«правосудие должно свершиться, хотя бы погиб мир» или
«да восторжествует справедливость, хотя бы погиб мир».
Не случайно эта формула вполне оправданно
воспринимается как своего рода символ крайнего юридического
формализма, к которому сознательно пришли различные школы
правового позитивизма.
С формализацией и юридизацией понятия
справедливости тесно связана тенденция к его релятивистской
интерпретации. Отправляясь от основной установки философского
релятивизма на относительную оценку результатов
человеческого познания, от неокантианского тезиса, согласно
которому все ценностные суждения относительны, не могут
быть верифицированы, т. е. проверены на предмет их
соответствия истине, релятивисты отвергают рациональные
методы определения того, что является справедливым.
49 Маркс Ко Эневльс Ф. Соч.» т. 7, е. 864.
160
Если история человеческого познания, заявляет
основоположник нормативистской школы права Ганс Кельзен, и
может чему-нибудь научить, так это только тому, что
напрасна всякая попытка рациональным способом найти
действительную норму справедливого поведения, т. е. такую
норму, которая исключила бы возможность считать
справедливым поведение противоположного характера.
Абсолютная справедливость есть иррациональный идеал.
Невозможно доказать, что именно такое, а не какое-либо другое
решение является справедливым. Суждения справедливости
не могут быть проверены объективно, поэтому в правовой
науке им места нет. Нечто справедливо или несправедливо
только для индивида, который высказывает суждение о
справедливости и руководствуется им как нормой
поведения. Методами рационального познания можно изучать
лишь конфликты интересов, разрешаемые удовлетворением
одного из них за счет другого, либо посредством
компромисса между сторонами. Для науки, в том числе и
правовой, важны «суждения интереса», основанные на
объективных фактах. К числу научных Г. Кельзен относит «суждения
права», которые отличаются от «суждений справедливости»,
определяемых желанием и идеологическими верованиями
субъектов. Если предположить, что социальный мир есть
высшая ценность, и на основе этого принять решение в
пользу мирного исхода определенного спора, то такое
решение можно считать относительно справедливым, ибо
ценность социального мира есть относительная, а не
абсолютная50.
Утратив субстанциальную справедливость и оставив от
нее только пустую форму, релятивистская теория ценностей,
как полагают ее приверженцы, обрела основу для
конструирования принципа терпимости к различиям во мнениях и
поведении людей, который является одним из краеугольных
камней буржуазного либерализма. Многие авторы,
критикующие релятивизм, считают его аморальным именно
потому, что он готов признавать справедливыми одновременно
две, три и более позиции, противоречивые и отрицающие
друг друга. В своей крайней форме он утверждает
множество моральных стандартов поведения, ставит человеческую
нравственность на грань хаоса и неразберихи. Г. Кельзен
защищает релятивистскую точку зрения от упреков в
аморализме, полагая, что моральный принцип, который лежит
60 Kelsen Н. Was ist Gerechtigkeit? Wien, 1953, S. 40; Kelsen H. What
is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science. Berkeley
and Los Angeles, I960, p. 209, 227—230.
6—315
161
в основе релятивистской теории ценностей или может быть
извлечен из нее, есть принцип терпимости,
представляющий собой требование к индивидам не препятствовать
мирному выражению, благожелательно относиться к
религиозным и политическим взглядам, которые они не
разделяют51. При этом он оговаривается, что речь идет не об
абсолютной терпимости, а лишь о той, которая существует в
рамках позитивного правопорядка и обеспечивает мир и
безопасность каждого человека, подчиненного этому
правопорядку.
Многие либералы считают терпимость положительной
моральной ценностью, поскольку защищаемое ею
разнообразие увеличивает возможности выбора из большего числа
альтернатив, расширяет диапазон свободы. Во всяком
случае терпимость как моральная обязанность уважать
различия способствует выяснению ошибочных мнений,
лучшему пониманию и защите истины. Такова характеристика
терпимости как принципа либеральной идеологии,
даваемая самими либеральными мыслителями52. Но сколько бы
положительных свойств не вкладывали в эту ценность, она
более узка и специальна по сравнению с ценностью и
значением справедливости для общественной жизни.
Юридизация справедливости у представителей
направления философско-правовой мысли, которое называют
релятивистским, начинается также с формализации
соответствующего понятия. По утверждению немецкого философа
права Густава Радбруха, например, справедливость есть
специфическая часть правовой идеи, относящаяся только к
форме права. Она нейтральна по отношению к реальному
содержанию юридических норм, т. е. из нее нельзя вывести
определенные по содержанию нормы. Чтобы этого достичь,
нужно обратиться к другой части правовой идеи —
целесообразности. На вопрос о целях и целесообразности нельзя
дать ясного и точного ответа, ибо решить его возможно
только релятивистски.
Итак, справедливость у Радбруха «отвечает» за форму
права, и только за нее, целесообразность распространяет
свое воздействие на содержание права, и тоже только на
него. Справедливость требует воздать равным равное,
неравным— неравное, по мере различий, но она оставляет
открытым, вернее, предоставляет целесообразности решать
вопрос, кого следует рассматривать как равного или как
61 Kelsen Н. Was ist Gerechtigkeit? S. 41.
52 Anglo-American Liberalism. Readings in Normative Political
Economy. Chicago, 1081, p. 17.
162
неравного и какова мера их действительных различий.
Формула справедливости, подчеркивает Г. Радбрух,
беспристрастна, внепартийна, она должна быть проведена в
жизнь вопреки и независимо от борьбы интересов,
эгоистических желаний, споров и конфликтов, осложняющих
социальную и политическую действительность. В этом
смысле «идея справедливости абсолютна, хотя она формальна,
но она всеобща и действительна»53. Громадная масса
правовых норм воспринимает от справедливости ее форму —
равенство обращения со всеми и всеобщность законного
регулирования.
«Абсолютность» справедливости достигается у Г. Рад-
бруха за счет утраты ею всякого содержания, она не более
чем формальная способность права подводить массу
индивидуальностей под всеобщее правило и, несмотря на
нюансы неравенства, обращаться с ними как с равными.
Формальная справедливость здесь полностью совпадает с
формальным равенством, но и то и другое он считает
фиктивным, безжизненным. Заложенная в правовой идее
абсолютная справедливость не дана в этом мире, где есть лишь
предметы, которые не равны и не подобны друг другу.
Поэтому равенство, подчеркивает Г. Радбрух, есть лишь
абстракция от существующих неравенств, а справедливость,
удерживающая в себе абстрактное, формальное равенство,
неизбежно воспринимается как насилие над богатством и
полнотой жизни.
Противоречие между правовой формой и практикой,
справедливостью и целесообразностью не по существу, а
опять-таки формально преодолевается в ходе реализации
третьей части правовой идеи — обеспеченности права
(Rechtssicherheit). Она направлена на создание
объективного надындивидуального порядка, делающего правовые
нормы обязательными для членов общества, решающего
на основе права споры между носителями различных
ценностных представлений и интересов. Данная часть правовой
идеи, не вторгаясь в суть того, что люди считают
справедливым и целесообразным, дает им внешнюю реализацию,
позитивирует их; она как принуждающая сила
накладывается на все жизненные противоречия и заставляет их
смолкать перед позитивным законодательством. Собственно,
все эти противоречия сами по себе остаются, но они
вводятся в рамки позитивного правопорядка, сосуществуют в
53 Radbruch G. Rechtsphilosophie. Stuttgart, 1956, S. 146, 169, 168—
173; Radbruch G. Einfuhrung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart, 1961,
S. 20, 37.
6*
163
нем на основе терпимости друг к другу и безусловного
подчинения законам. Философская теория релятивизма не
берет на себя смелость подсказывать кардинальные решения
законодателю и лицам, применяющим право.
Эту концептуальную незавершенность своей теории
Г. Радбрух ставит себе в заслугу. «Мы указали на
противоречия, не разрешив их, — писал он. — Мы не видим в этом
недостатка системы. Философия не должна принимать
решений, она должна делать жизнь не легкой, но именно
проблематичной. Философская система должна быть
похожей на готический собор, в котором все поддерживает
друг друга и друг другу противоречит»54. Но эта
отвечающая столь великолепным принципам архитектоника
релятивистской философии Г. Радбруха, надо сказать, не
выдержала все же испытаний, и некоторые важные ее
конструкции рухнули после второй мировой войны. Произвол
гитлеровского «правопорядка» (жертвой которого, кстати
сказать, был сам Г. Радбрух), репрессивная юстиция
«третьего рейха», бесчеловечное обращение с народами
порабощенной Европы, террор и насилие, облеченные в форму
юридических законов, — все это как нельзя лучше
доказало слабость и несостоятельность главных допущений
релятивистской философии права, прежде всего о том, что
справедливость как форма права может уживаться с
любым содержанием законов, отвечающим определенным
целям законодателя, что всякий закон по своей форме
справедлив и на этом основании является общеобязательным
правом, подлежащим безусловной реализации.
Осмысливая указанный исторический опыт, Г. Радбрух
пытался пересмотреть отдельные положения своей
философии. «Если законы сознательно отвергают волю к
справедливости, например, нарушают или произвольно
обращаются с правами человека, то такие законы недействительны...
и юристы должны найти в себе мужество отказать им в
правовом характере»55, — писал он в последние годы своей
жизни. Но полностью преодолеть ограниченность своей
концепции ему не удалось; она, конечно, осталась
релятивистской, в рамках которой справедливость, сведенная к
формальной правовой идее, символизирует истинно
либеральную терпимость ко всем стремлениям и целям, случайно
или не случайно воплотившимся в содержании законов.
Наш краткий анализ способов формализации
понятия справедливости в теориях Г. Кельзена и Г. Радбру-
54 Radbruch G. Rechtsphilosophie, S. 173.
55 Там же, с. 336.
164
ха, ставших сегодня уже почти классическими в
буржуазно-либеральной правовой идеологии, подводит к мысли,
объясняющей причины того явления, что формальная
справедливость начиная со второй половины XIX в. и на
протяжении всего XX в. заняла ведущее место в нормативной
философии западных стран, практически вытеснив или по
крайней мере отодвинув на второй план поиски
содержательных критериев этого понятия. Естественно-правовые
доктрины, имевшие огромное историческое значение для
формирования современной западной философии морали и
права, исходили и по сей день исходят из понимания
справедливости как субстанциального естественного закона
или трактуемого в духе Фомы Аквинского
рационалистического правила, из которого позитивный, создаваемый
людьми закон получает свою форму и содержание, так же
как и свое оправдание. Закон государства, если он в
своем содержании не воплотил естественные императивы,
является несправедливым, следовательно, как единодушно
утверждали все сторонники идеи естественного права,
ничтожным. Произвол и деспотизм не должны прикрываться
формой закона, которая сама по себе ничего не значит
перед высшим судом разума, знающего, что является
справедливым, а что — нет. Несправедливое социальное
содержание делает ничтожной юридическую форму.
Эти идеи прекрасно работали на буржуазию в период
ее антифеодальной борьбы, но, когда она сама стала
господствующим классом, получив возможность вкладывать в
нормативные системы общества свою волю и обеспечивать
ее реализацию различными мерами вплоть до
государственно-принудительных, так называемый естественный
закон стал для нее обременительным. То же самое
относилось и к определенному по содержанию требованию
справедливости, которое связывало законодателя если не точно
установленными целями, то в любом случае ориентацией
на известные ценности, а значит, ограничивало выбор
альтернатив в процессе нормативного творчества,
мешало приводить законодательство и нормы права в
соответствие с текущими экономическими потребностями
господствующего класса и политической конъюнктурой,
сложившейся в пользу данного класса. На место концепций
справедливости, направленных на предотвращение
законодательного произвола и деспотизма правящих верхов,
пришли теории, направленные совсем на иное, а именно на то,
чтобы исключить «произвол» лиц, подчиненных законам,
добиться от граждан повиновения праву независимо от
его социальной и нравственной ценности. С содержатель-
165
ной справедливости акцент постепенно перемещался на
формальную.
Сыграл свою роль и усилившийся со второй половины
прошлого столетия динамизм развития капиталистического
общества, входившего в стадию империализма.
Обострились противоречия между группировками внутри
господствующего буржуазного класса, разошлись интересы крупной,
средней и мелкой буржуазии, с новой силой вспыхивала
классовая борьба между наемным трудом и
капиталом. Под влиянием углубляющейся дивергенции и
борьбы классовых, групповых и индивидуальных интересов
складывались общественные структуры, неустойчивые,
подвижные, иногда эфемерные. Нечего было и говорить о том,
чтобы они могли воплотить в себе вечный и абсолютный
содержательный идеал справедливости, выношенный
теоретиками естественного права. Но и полностью отказаться от
разговоров о справедливости буржуазное общество тоже
не может, ибо столкновения, конфликты и борьба
интересов как повседневная практика требуют хотя бы
формального соблюдения некоторых общих норм. Американский
юрист Р. Фальк доказывает, например, что в «прогрессист-
ском», т. е. нестатичном и непримитивном, обществе
справедливое право наиболее успешно выражается в
формальных, а не в содержательных терминах. Воплотить
содержательную формулу справедливости в правовой системе —
значит подвергнуть последнюю риску закостенелости,
утраты динамизма56. Для того чтобы удержать смысл
справедливости правовой системы в течение некоторого периода,
надо понимать справедливость в основном как процедуру
или как процесс. Многие буржуазные философы права
если открыто и не утверждают что-либо подобное, то
в конечном счете исходят из того, что в современном
индустриальном плюралистическом обществе с его быстро
меняющейся расстановкой социальных сил и спонтанно
возникающим сочетанием различных интересов понятие
справедливости не в состоянии выдержать какой-либо
серьезной содержательной нагрузки.
Трудности в определении понятия справедливости по
ее форме и содержанию, с которыми сталкивается
буржуазная философия права, являются по преимуществу
проблемами всех учений, направленных на познание социальной
действительности в ее нормативно-ценностной среде.
Драматично и остро шли процессы поиска данного понятия в
66 Falk R. The Relation of Law to Culture, Power and Justice. — Ethics
October 1961, vol. LXXII, N 1, p. 21.
166
моральной философии, этике и политологии. Здесь не
место подробно останавливаться на этих процессах, тем
более что они имеют тот же характер и проходят в основном
те же стадии, связанные с переходом от
естественно-правовых к позитивистским стандартам мышления, которые мы
уже бегло проследили применительно к буржуазной
философии права57. Скажем только, что в течение последнего
столетия превалировали буржуазные социальные,
этические и политические доктрины, которые утверждали, что
поиски понятия справедливости лежат вне компетенции
науки, являются предметом метафизических спекуляций либо
эмоционального или интуитивного постижения. Но если
каждый человек на основе эмоций или интуитивного
восприятия сам определяет, что является справедливым или
несправедливым, то вопрос об установлении объективного
содержания справедливости уже отпадает. При таких
обстоятельствах лучшее занятие, которое могли найти себе
философы, — это размышлять об условиях, позволяющих
включить сугубо личные переживания или суждения о
справедливости в механизмы действия норм,
обеспечивающие целостность системы социального регулирования.
Путь моральной философии к формальному понятию
справедливости начинался с того, что справедливость
объявили прежде всего исключительно нравственным,
душевным качеством личности, т. е. добродетелью, включающей
в себя, по представлениям древних, три требования:
честно жить, не вредить другому и воздавать каждому свое
(honeste vivere, alterum поп laedere, suum cuique tribuere).
В Древней Греции или Риме эти требования воздавали
честь человеку, только что появившемуся на свет
цивилизации из многотысячелетней темноты деиндивидуализиро-
ванного первобытного бытия. В те времена индивид
утверждался как непосредственный, деятельный субъект,
вырванный из механической связи мировых событий и
способный действовать самостоятельно на основе свободной
воли, наделенный ответственностью за свои поступки перед
всеми другими людьми. Эти формулы емко и верно
отражали в нормативно-ценностном аспекте величайший
всемирно-исторический сдвиг в судьбе человека. Но при всем том
57 Мы отсылаем читателя к специальным работам по этике, где эти
вопросы в том или ином виде поставлены (см. Гринберг Л. Г.,
Новиков А. И. Критика современных буржуазных концепций
справедливости. Л., 1977; Шварцман К. А. Новые тенденции в развитии современной
буржуазной этики. М., 1977; ее же. Современная буржуазная этика:
иллюзии и реальность. М., 1983; Этика и идеология. Критика
современных буржуазных этических концепций. М., 1983, с. 72—103).
168
«каждому — свое», по которой преступник вполне
заслуживает наказания, а нарушитель моральных норм —
публичного осуждения, осмеяния и т. п.
Требование «живи честно» носит характер всеобщей
моральной заповеди и выходит за рамки обсуждения
проблемы справедливости как добродетели. Но в той части, в
какой оно входит в эти рамки, призыв к честной жизни
является чрезвычайно важным для определения
нравственной природы справедливого поведения человека. Каким бы
ограниченным ни был или ни казался подход к изучению
справедливости в качестве субъективированной категории,
обозначающей душевное, психическое свойство индивида,
он оправдан и полезен, если позволяет крупным планом
показать, как в сознании и психике человека рождается воля,
желание быть справедливым. Разработка проблемы
честности во взаимодействиях людей могла бы, на наш взгляд,
стать большим (возможно, самым значительным) вкладом
философии морали в общесоциологическую теорию
справедливости.
Без честности, ярко выраженной внутренней
готовности индивида исполнять единые и всеобщие социальные
нормы, немыслим акт справедливого поведения. Честным
человеком обычно называют того, кто говорит другим правду,
делает ее основой всех своих поступков, отстаивает
истину в том виде, в каком сам ее понимает. Такой человек
несет людям неискаженную информацию о себе, что очень
важно в процессе межчеловеческого общения. Кант
определял честность как противоположность лживости,
преднамеренному извращению истины, величайшему нарушению
долга человека перед самим собой как моральным
существом 59. Отсюда следует, что честность может быть
представлена как верность индивида своему моральному долгу
в его абстрактном понимании и взятому в простом,
житейском смысле (верность слову, обязательству,
соглашению). В широком понимании честность — это правдивость
индивида в его словах и поступках, а в специальном
аспекте, который как бы развернут на понятие справедливости,
она означает верность человека однажды взятому на себя
обязательству выполнить или сделать что-то, чувство
связанности словом, обещанием, ожиданиями других людей.
Здесь соединяются, перекрещиваются долг, совесть,
ответственность, личное достоинство и альтруизм, формируя в
психике индивида новое по своему нравственному качеств
ву чувство честности. Поскольку значение последнего дей-
59 См.: Кант И. Соч. в 6-ти томах, т. 4, ч, 2. М., 1965, с. 366—368,
167
они всегда были и остаются формальными требованиями,
из которых невозможно вывести что-либо содержательное
для конкретного человеческого поступка.
Мы говорили уже о том, что формуле «каждому — свое»
можно придать множество значений, и если какое-то одно
из них нам будет казаться истинно справедливым, то
только потому, что требования справедливости мы выводим из
какой-либо высокой, с нашей точки зрения, ценности,
например полезности, общего блага, счастья, удовольствия
и т. д. Эта постоянная, вызываемая формальным
характером формулы «каждому — свое» необходимость
обосновывать оценку лиц, предметов и событий как справедливых
ссылкой на какую-то другую ценность часто подрывает
нравственный престиж идеи справедливости. Добродетели,
утверждаемые справедливостью, считал Н. Гартманн,
соответствуют не максимуму, а только минимуму
нравственного требования, поэтому в иерархии моральных ценностей
он отводил справедливости низшее место. Она есть
предварительное условие всякого дальнейшего осуществления
нравственности, расчищает пространство для высших
ценностей58. В таком понимании справедливость по существу
утрачивает собственное содержание, становится
равнозначной требованию следовать императивам, вытекающим из
других, более высоких нравственных ценностей.
Не вызывает сомнений формальный характер
требования «не вреди другому», т. е. не совершай действий,
которые наносят ущерб интересам другого лица. Тут, пожалуй,
мы сталкиваемся с самым слабым и спорным элементом
формулы справедливости как добродетели. Очевидно, что
требование «не вреди другому» не может претендовать на
всеобщность в качестве формы нравственного поведения.
Молодая особа, которая соглашается выйти замуж за
одного из своих поклонников к величайшему огорчению другого
или других, едва ли поступает несправедливо.
Справедливое разрешение конфликтной ситуации неизбежно
предполагает, что кто-то из ее участников понесет урон морального
или имущественного характера. В некоторых случаях
возникает необходимость «причинить вред другому» на
вполне законном и справедливом основании (например,
наказать преступника, конфисковать имущество по
решению суда, подвергнуть публичному осуждению
нарушителя общепризнанных норм морали и приличия и т. д.).
Применительно к такого рода случаям требование «не вреди
другому» формально вступает в противоречие с формулой
68 Hartmann N. Ethik. Berlin—Leipzig, 1926, S. 383—384.
169
ствительно для всей сферы морали, остается
проблематичным вопрос, вправе ли мы считать всякий честный поступок
одновременно и справедливым, но зато вполне определенно
можно утверждать, что справедливым является только
честное поведение. Честность, таким образом, есть
необходимая гарантия справедливости на уровне индивидуального
сознания и психики.
Следует отметить довольно слабую разработку
проблем честности в буржуазных теориях социальной
справедливости. Тем более представляет интерес попытка
американского философа Джона Роулса методически обосновать
такую теорию исходя из принципа честности во
взаимоотношениях людей. В другом месте мы подробно
рассмотрим теорию справедливости Дж. Роулса в том
окончательном виде, который она получила к началу 70-х годов. Если
сравнить указанную теорию с концепцией более ранних
публикаций этого автора60, то бросаются в глаза некоторые
существенные отличия в трактовке ряда проблем,
связанных в особенности с выбором и реализацией принципов
справедливости в общественной жизни.
Действительность и обязательность этих принципов
Дж. Роулс в окончательном варианте своей теории выводит
из идеи общественного договора, воображаемого
соглашения людей, находящихся в некоторой гипотетической
первоначальной ситуации, но в первых работах он пытался
обосновать их с помощью теории игр, представить как
«правила честной игры». Фундаментом справедливости,
утверждал он тогда, является понятие честности, которое
относится к правильной организации действий людей, вступающих
в кооперацию или конкуренцию при условии «честной
игры», «честной конкуренции», «честной сделки» и т. д.
Вопрос о честности возникает там, где свободные лица, не
имеющие власти друг над другом, включаются в общее
дело, устанавливают между собой и признают нормы,
определяющие относительную их долю в благах и тяготах61.
Моральная обязанность подчиняться этим нормам (они
есть не что иное, как право) является, по Роулсу,
специальным случаем принципа честной игры. Социальная
практика справедлива и честна, если она удовлетворяет этому
60 Rawls /. Justice as Fairness.— Philosophical Review, 1958, vol.
LXVII, N 2, p. 164—180; Rawls /. The Sense of Justice — Philosophical
Review, 1963, vol. LXXII, N 3; Rawls J. Legal Obligation and the Duty
of Fair Play.— Law and Philosophy. A Symposium. New York, 1964,
p. 3—18.
81 Rawls J. Justice as Fairness. — Philosophical Review, 1958, vol.
LXVII, N 2, p. 178.
170
принципу, который каждый участник игры может
предложить другому на основе взаимности.
Честность как моральное обязательство лица
подчиняться праву, действовать на основе общих принципов и норм,
не перекладывать на других свой долг по отношению к
общему делу, если наравне с другими получаешь от него
выгоды, выступала в такой интерпретации не только как
формальная черта или нравственная опора справедливости.
Д. Роулс пытался придать ей активные функции, значение
корректирующего фактора в ситуациях, когда нужно
выбрать между справедливым и полезным поступками. По
мнению утилитаристов, полезность сама по себе достаточное
основание для выбора поступка, хотя бы он и был
несправедлив. Справедливость, как и честность, по Роулсу,
имеет абсолютный перевес над соображениями полезности,
выгоды62. Отсюда следуют по крайней мере две важные
вещи: во-первых, несправедливые институты не могут быть
оправданы ссылкой на принцип полезности, и, во-вторых,
обязанность людей подчиняться праву, которая есть
специальный случай принципа честной игры, не может быть
отвергнута со ссылкой на полезность, хотя она может быть
отвергнута согласно другому критерию справедливости63.
Таким образом, посредством честности, по Роулсу,
решается конфликт между полезностью и справедливостью в
человеческом поступке или в устройстве общественных
институтов в пользу справедливости. Эта
антиутилитаристская позиция Дж. Роулса имела в свое время большой
резонанс в западной литературе, вызвала сочувствие в
либеральном лагере буржуазных идеологов и нападки со
стороны консерваторов.
Интересен, однако, вопрос, почему Дж. Роулс отказался
от глобального обоснования теории справедливости через
идею «честной игры» в пользу идеи «общественного
договора», которую он в упомянутых выше публикациях
критиковал и считал ошибочной64. Очевидно, что с самого
начала попытка заложить идею честности в фундамент
теории справедливости натолкнулась на противоречия и
трудности, связанные с тем, что данная этическая категория,
успешно применяемая на микросоциальном уровне
исследования для познания справедливости как человеческой
62 Rawls J. Legal Obligation and the Duty of Fair Play.— Law and
Philosophy. A Symposium, p. 14.
63 См. там же, с. 13—14.
84 Rawls /. Justice as Fairness —Philosophical Review, 1958, vol.
LXVII, N 2, p. 176, 180.
добродетели, душевного качества людей, оказывалась
неподходящей, когда речь заходила о справедливом
характере социальных институтов, норм, учреждений, структур,
иначе говоря, о справедливости общественного устройства.
Д. Роулс стремился говорить именно о ней, поэтому он
отошел от первоначальной схемы, приняв за исходное более
отвечающую его целям модернизированную идею
социального контракта, общественного договора. Но опыт
построения теории справедливости на базе принципа честности
(кстати сказать, поддержанный в свое время некоторыми
теоретиками на Западе)65 повлиял на формирование
либерально-эгалитарного характера философии Дж. Роулса.
Эти выводы сохранились в его концепции, так же как и
осталось само название теории: «Справедливость как
честность».
В результате мы видим, что анализ понятия
справедливости в смысле человеческой добродетели, морального
качества человека может быть и был во многих случаях
полезным. Но этот анализ, как свидетельствует пример
теории Дж. Роулса, ограничен в своих возможностях и не
претендует на целостное представление о предмете. То же
самое относится и к исследованиям любого другого типа
формальной справедливости, которые нельзя игнорировать,
но в то же время не следует и переоценивать,
абсолютизировать добытые ими выводы.
Продолжая мысль о том, что формальной
справедливости как таковой присуща самостоятельная ценность, не
заменяющая, но предшествующая ценности, которой
обладает справедливость содержательная, нам хотелось бы
подчеркнуть определенные позитивные выводы из
рассматриваемого формального понятия, имеющие существенное
значение для формирования научных представлений о
справедливости и ее роли в становлении нормативного
(морального и правового) порядка. Кое-что было уже отмечено
выше при характеристике правовой формы, являющейся
типичным выражением формальной справедливости.
Напомним, что речь шла прежде всего об идее всеобщности норм
права, связывающих членов общества в единый коллектив,
может быть противоречивый и даже антагонистически
противоречивый, как при капитализме, но все же действующий
как одно целое.
Всеобщность правовой нормы находит свое прямое
воплощение в формальном принципе равенства граждан
перед законом. Точно так же и универсальность нравствен-
f »
00 Deininger W. Problems of Social and Political Thought. A Philoso*
phical Introduction. New York—London, 1965, p. 229—230, 252—253.
172
ного требования (нормы) означает, что каждый субъект
в равной мере подлежит воздействию морального закона
и имеет к нему такое же отношение, как и все другие. Не
случайно в советской литературе указывают на феномен
равенства всех людей перед лицом морального закона,
связывая его существование со всеобщностью моральной
нормы66. В моральные заповеди (или запреты) имплицируется
или включается открыто ссылка на их всеобщность,
универсальность. «Золотое правило» можно прочесть таким
образом: «Обращайся со всеми другими лицами так, как
хочешь, чтобы все другие обращались с тобой». Никто не
исключен из «золотого правила», и никто из него не
выделен; идея всеобщности морального закона, мы видим,
плавно и незаметно переходит в идею морального равенства67.
Принцип всеобщности морального закона
последовательно проведен в этике Канта, который связывал с ним
формальный критерий выбора и специфический признак
нравственного императива68. Первая, основная формула кан-
товского категорического императива гласит: «Поступай
только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты
в то же время можешь пожелать, чтобы она стала
всеобщим законом»69. Самостоятельное нравственное решение
человек принимает, руководствуясь масштабом
всеобщности, следовательно, здесь схвачено, опять-таки с
формальной стороны, то, что составляет принципиальное отличие
универсализма моральных императивов, в который
каждый человек включается на основе собственного свободно-
волевого решения, принимая всеобщее как нравственную
цель при выборе максимы собственного поведения, от
универсализма правовых норм, идущего от внешней
обязательности известных форм поведения, предписанных
законодателем.
Что касается обязательности требований, выраженных
в правилах поведения людей, то наряду со всеобщностью,
о которой мы говорили выше, это еще одна важная и
конструктивная черта нормативного порядка, получаемая им
от формальной справедливости. С точки зрения эмпириче-
и См.: Скрипник А. П. Категорический императив Иммануила
Канта. М., 1978, с. 47.
67 В сзолотом правиле», отмечает советский исследователь А. А.
Гусейнов, под другими понимаются все люди, человек рассматривается не
в его отличии, а в принципиальном единстве со всеми другими людьми;
все люди одинаковы, равны между собой (см. Гусейнов А. А.
Социальная природа нравственности. М., 1974, с. 82—83).
68 См.: Философия Канта и современность. М., 1974, с. 120—121.
69 См.: Кант И. Соч. в 6-ти томах, т. 4, ч. 1. М., 1965, с. 260.
1 173
ских целей нормативного регулирования в обществе
всеобщность требований — моральных, правовых,
политических и т. д. — выступает как их обязательность для всех,
кому они адресованы. Если норма наделена качеством
всеобщности, она вследствие этого и одновременно с этим
является обязательной; необязательная норма утрачивает
форму всеобщности и, более того, перестает быть нормой,
отвечающей принципам формальной справедливости. В
истории классово-эксплуататорских обществ, особенно
докапиталистических, мы в изобилии находим примеры того,
как не всеобщие по своему характеру нормы, например
устанавливающие исключительные права, привилегии
господства отдельных классов, групп, лиц, превращались
искусственным образом, с помощью деспотических методов
правления, государственного принуждения и репрессивных
мер, в нормы, обязательные для всех. То, что такие нормы
были вопиюще несправедливыми с формальной точки
зрения, не говоря уже о содержательной, буржуазия широко
признавала во время антифеодальной борьбы, и по
крайней мере в первые периоды своего классового господства
она учитывала данный опыт в собственной социальной
практике, провозгласив формальное равенство всех граждан
перед законом.
При ближайшем рассмотрении выявляются известные
относительные различия в характере обязательности
правовых и моральных норм. В сфере права мы имеем дело
с безусловной обязанностью человека исполнять норму,
обязанностью, которую возлагает на него политический
авторитет, законодатель, обладающий властью издавать и
обеспечивать законы государства. При осуществлении
правового обязательства согласие лица с реализуемой им
нормой, добровольное подчинение требованиям права
предполагаются и приветствуются, но формально согласие не
относится к необходимым условиям исполнения социальной
нормы.
Юристы позитивистского толка полагают, что
недобровольное исполнение нормы — вполне удовлетворительный и
достаточный результат действия права. Однако этот
результат, достигнутый средствами физического и
психического принуждения лица к осуществлению нормы, которую он
внутренне не принимает, считает неразумной и
несправедливой, в действительности очень часто напоминает
пиррову победу, свидетельствует о неадекватности и слабости
права в качестве классовой системы регуляции поведения
людей. Вот почему буржуазные философы права
вынуждены заниматься проблемами согласия человека с право-
1Г74
вой нормой в связи с теорией правовых обязательств и
принципами всеобщего подчинения «праву и порядку».
Западное общество, по словам некоторых буржуазных
авторов, переживает время, когда ощущается острый
дефицит согласия людей с социальными нормами. Это —
верный вывод, но едва ли можно исправить положение на
основе рекомендаций, с которыми выступают эти авторы.
Имеются попытки интерпретировать теорию
справедливости в соответствии с задачей повысить степень согласия с
нормами и институтами общественной жизни,
вызывающими социальные неравенства. Консерваторы, например,
пытаются навязать обществу такую концепцию
справедливости, которая бы убедила людей согласиться с
экономическими и другими неравенствами. Справедливым,
рассуждает, например, один западногерманский автор, называется
такое состояние, когда имеющиеся неравенства оправданы
«хорошими основаниями», последние же создают
консенсус, т. е. согласие людей с существующим порядком
вещей70. Этот автор видит в справедливости прежде всего и
главным образом добродетель тех, кто решает проблемы
распределения богатств, власти и т. д. Они справедливы,
если в своих нормах и решениях пытаются антиципировать,
т. е. предвосхитить, согласие всех со своим решением. О
справедливости, следовательно, нет смысла говорить,
если мы отвлекаемся от позиции людей, способных
предвидеть и вызывать универсальный консенсус. Бодрый
настрой данного автора (как и некоторых других),
призывающего совершенствовать технику социологического замера
степени согласия, искать критерии справедливости в
расчете на всеобщий консенсус, идет, видимо, от существующей
практики манипулирования общественным мнением на
Западе, от умения правящих верхов с помощью средств
массовой информации, социальной демагогии, рекламы и
других инструментов воздействия на массы искусственно
создавать консенсус или хотя бы видимость его.
Имеется еще одна очень острая и серьезная социальная
проблема, связанная с обязательностью норм и согласия с
ними, на которой мы кратко остановимся, хотя она и
заслуживает особого внимания и специального анализа.
Речь идет о праве индивидов или групп подчиниться
или не подчиниться норме (требованию) в зависимости от
их согласия или несогласия с ней. Эта проблема имеет
значение для моральной и правовой сферы, для соответствую-
70 Spaemann R. Bemerkungen zum Problem der Gleicheit. — Zeit
schrift fur Politik, 1975, Jg. 22, Heft 3, S. 232—233.
175
щих теорий, но лучше, полнее и в политическом смысле
рельефнее она может быть представлена на правовом
материале, как проблема повиновения или неповиновения
закону. На вопрос о том, может ли человек сложить с себя
моральное или правовое обязательство исполнить норму,
если находит ее несправедливой, тиранической,
негуманной и т. д., и на другой вопрос, может ли он свой
внутренний протест против такой нормы выразить в форме
открытого неповиновения и прямого сопротивления, в западной
литературе дано очень много различных и оспаривающих
друг друга ответов. Консервативный лагерь идеологов
единодушно отвергает возможность неподчинения законам
государства; у либералов на этот счет мнения расходятся.
Свободный человек вправе сопротивляться всему тому,
что ему принудительно навязывают и с чем он не согласен.
Если государство вмешивается и нарушает свободу, права
человека, последний должен активно противодействовать
насилию, следуя моральному долгу, лежащему на нем как
на свободной личности. Так считал Генри Дэвид Торо,
анархист и романтик, одна из любопытнейших фигур
американской философии71. Его взгляды были крайностными и
разделялись немногими, однако в той мере, в какой
либералы выдвигали идею долга «гражданского неповиновения»,
они также пытались поддержать ее аргументами,
связанными с пониманием ценности человеческой свободы. В
такой форме эта идея ставилась и обсуждалась в
политических дискуссиях XX в., была воспринята сторонниками
движения за гражданские права в Америке, нашла своего
страстного защитника в лице лидера и идеолога
негритянского освобождения в США Мартина Лютера Кинга72.
Поднявшийся на волне политических страстей «новый
эгалитаризм» принес новую интеллектуалистскую
трактовку идеи «гражданского неповиновения», представленную
71 Государство, писал он в лекции «О гражданском неповиновении!
(1849 г.), «вооружено не превосходящей мудростью или честностью,
а только физической мощью. А я не затем родился, чтобы терпеть
насилие. Я хочу дышать по-своему. Посмотрим же, кто сильнее».
Сопротивление законам есть долг человека. «Закон не может делать людей
свободными: сами люди должны делать закон свободным. Они —
блюстители закона и порядка, соблюдающие его, когда его нарушает
правительство» (см. Эстетика американского романтизма. М., 1977, с. 349,
362).
72 В «Письме из Бирмингемской тюрьмы», написанном в 1963 г.,
Кинг пытается обосновать идею неповиновения несправедливым
законам ссылками на естественно-правовые традиции (см. Кинг Мартин
Лютер. Есть у меня мечта... Избранные труды и выступления. М., 1970,
с 70—71).
176
уже известным нам Дж. Роулсом. Чтобы понять суть этой
трактовки, надо вернуться к отдельным положениям его
теории, которые мы уже обсуждали, в частности к
утверждению о том, что моральное обязательство подчиняться
праву есть специальный случай обязанности «честной
игры». Это значит, продолжает свою мысль Дж. Роулс, что
правовой порядок конструируется как система
социального сотрудничества, связывающая людей тем, что они
воспринимают ее как справедливую, принимают и намерены в
будущем принимать ее выгоды73. Не подчиняться праву,
принадлежащему к справедливой системе, в которой
человек действует и получает блага, было бы нарушением
правил «честной игры». В таком случае человек морально
обязан повиноваться праву4 хотя бы ценой определенных
потерь, отказа от выгод, которые могло бы принести ему
уклонение от исполнения правовой нормы (уплата налога
и т. п.). Справедливость в этом смысле следует предпочесть
полезности. Только из справедливости вытекает моральная
обязанность подчиняться праву. Принцип честности как
раз и состоит в строгом соблюдении данного приоритета. В
случае, когда человек сталкивается с несправедливым
законом (а такие случаи, признает Дж. Роулс, имеют место
в условиях западной конституционной демократии), он
вправе на основе принципа честности снять с себя
моральную обязанность ему подчиняться, даже если этот акт
противоречит соображениям полезности и оборачивается для
индивида определенными потерями. «По принципу
честности, — пишет он, — невозможно быть связанным
несправедливыми институтами или по крайней мере институтами,
превышающими предел терпимой несправедливости»74.
Следовательно, появляется возможность неповиновать-
ся праву, оправданная ссылками на справедливость и
честность. Хотя сам Дж. Роулс старался направить свой вывод
вовне американской действительности, против произвола
всякого рода неназываемых им тоталитарных,
автократических режимов, идея удачно упала на американскую
почву, ее подхватили радикалы и участники различного рода
политических движений — национальных, расовых,
женских, молодежных и т. д. Этого было достаточно, чтобы
против нее резко выступили не только консерваторы, но и
умеренные либералы.
73 Rawls J. Legal Obligation and the Duty of Fair Play. — Law and
Philosophy. A Symposium, p. 9—18.
74 Rawls J. A Theory of Justice. Oxford, 1971, p. 112.
177
Позицию Дж. Роулса относительно условий подчинения
и неподчинения праву С. Хук квалифицировал как
анархическую: «Всякий, кто говорит: «Я подчиняюсь закону,
когда поверю, что он справедлив» — и кто предположительно
обобщает этот принцип по отношению к другим: «Никто не
должен подчиняться праву, пока не поверит в его
справедливость», тот сбивается на анархическую позицию.
Анархизм — это вера не в то, что государство не нужно, но
скорее, что государство не нужно как институт, включающий
принуждение»75. В полемике с Дж. Роулсом С. Хук
отрицал моральный характер обязанности подчиняться праву
и настаивал на том, что такая обязанность есть
политическая необходимость. Защищая принцип полезности, он
призывал с учетом общего блага оценивать последствия
подчинения и неподчинения праву; иногда они могут быть
столь тяжелыми, что сама эта несправедливость — сущий
пустяк. В данном споре С. Хук представляет типичную
прагматическую позицию с акцентом на необходимости
калькуляции поступка, учета при выборе варианта
поведения возможных выгод и потерь, их взвешивания, расчета.
Дискуссии, подобные этой, свидетельствуют о большом
общественном значении проблемы обязательности
правовых, моральных и иных нормативных требований к
групповому и индивидуальному поведению. То, что может быть
принято нами с известной долей уверенности и что
отвечает марксистско-ленинскому мировоззрению, — это мысль о
единстве справедливости и обязательности нормы или
поступка, реализующего норму. Внутреннее психологическое
переживание обязательности нормы очевидно и четко
определяется и направляется осознанием ее в качестве
справедливой, правильной, имеющей значение в соответствии со
шкалой духовных ценностей общества.
Превозносимый консервативной мыслью «долг»
подчиняться несправедливым, претендующим на обязательность
требованиям старой системы в широком
мировоззренческом аспекте означает не что иное, как отказ от
общественных преобразований и революций, ведущих к новому.
Нравственный человек, желающий счастья и добра себе,
другим и всему человечеству, должен (это именно моральный
долг) отделять себя от всего несправедливого и бороться
с ним, иметь мужество отвергнуть несправедливые нормы,
действия, отношения, институты, к которым он, может
быть, привык и которые приносят ему пользу. Утверждаемый
75 Hook S. Law, Justice and Obedience. — Law and Philosophy.
A Symposium. New York, 1964, p. 57.
178
эгалитаристами приоритет справедливости перед
полезностью в этом смысле представляется оправданным, так же
как и его направленность против утилитаристской апологии
ползучего практицизма (он ассоциируется с системой
буржуазного предпринимательства), эгоистических,
потребительских жизненных принципов, духовной ограниченности и
инерции. Развитие современных событий ясно показывает,
что принципы утилитарного отношения человека к миру,
обществу, окружающей среде скомпрометировали себя,
если можно так сказать, в мировом масштабе, что люди
теряют счастливые возможности решения глобальных
проблем из-за того, что капитализм постоянно вовлекает
известную часть человечества в бессмысленную, отупляющую и
бесконечную погоню за большими и малыми выгодами, в
борьбу за экономическое, политическое, военное и иное
превосходство.
Итак, обязательным в человеческом поведении
является то, что само по себе имеет здравый смысл, заключает в
себе нечто оправданное, справедливое. То же самое
относится и к норме поведения. Поскольку она всегда есть
нечто внешнее по отношению к сознанию и воле человека и
обязательность нормы дана индивиду как объективно
требуемая необходимость поступка, возникает вопрос: можно
ли признавать индивида достаточно компетентным снять
собственным волевым решением эту внешнюю
обязательность?
В полном смысле нормативное требование приобретает
обязательность только тогда, когда его фактически
принимают и выполняют те, кому оно адресовано. Акт согласия,
принятия нормы людьми, которые осуществляют ее
своими действиями, чрезвычайно важен для регуляции
общественных отношений, и из него, собственно, вытекает
положительный ответ на поставленный выше вопрос. Если
человеческая воля может соглашаться и принимать нормы, делать
их для себя обязательными, то, естественно, она вправе и
отрицать нормы, видеть в них объект спора и критики,
сомневаться или отвергать их обязательность со ссылкой на
здравый смысл, разумные основания. Благодаря
способности человеческой воли «судить» норму собственным судом,
взвешивать ее на весах справедливости общество и
общественное мнение имеют возможность противодействовать
деспотическим нормам либо нормам устаревшим,
изжившим себя, утратившим свое гуманное содержание.
Было бы не совсем верным считать, что такое понимание
ориентируется в большей мере на моральную, чем на
правовую, практику, где государственное принуждение гаран-
179
тирует применение людьми юридических норм и законов в
любом случае. Это верно, что принуждение, которое
исходит от государства, охраняет и юридические нормы, и
складывающийся в результате их реализации порядок
общественных отношений, но к актам принятия, одобрения норм
людьми оно имеет более чем опосредованное отношение, а
в идеале вообще не должно иметь никакого. Сказать, что
принуждение явилось последним аргументом в пользу
исполнения гражданами того или иного закона, — значит дать
убийственную характеристику этому закону. Право,
утверждаем мы, в неменьшей мере, чем мораль, опирается на
внутренние психологические механизмы добровольного
принятия людьми социальных норм, из которого в конце
концов и возникает обязательность этих норм как свойство
правовой формы. В последней нет ничего
сверхъестественного, надчеловеческого, хотя юридическое мировоззрение
буржуазии, получив в наследство от теологии идею
«святости» законов, культивировало религиозный пиетет к
непререкаемой воле законодателя.
Нужно ли говорить, что на самом деле юридические
законы создаются не богами и даже не святыми, а творит
их обыкновенная человеческая воля, которая в условиях
разделенного на борющиеся классы общества бывает
эгоистической, злой, деспотической либо ограниченной в
возможностях предвидения и просто ошибающейся. Так что
внешняя обязательность закона, данная индивидам, имеет
тоже субъективный источник и не противостоит акту
внутреннего принятия нормы как нечто принципиально
непреодолимое, непререкаемое. Если две субъективные позиции
спорят друг с другом, предпочтение отдается той, которая
права. ^
У юристов-позитивистов имеется один, с их точки зрения,
неотразимый довод против идеи, допускающей возможность
не подчиниться несправедливому праву. Если, говорят они,
каждый будет спорить с законом и не повиноваться ему, то
на место правопорядка придет полнейший произвол,
наступит хаос. Но они умалчивают о том, что несправедливое
право само по себе утверждает вместо правопорядка
произвол в крупных масштабах, следовательно, то, от чего они
предостерегают членов общества, уже содеяно самим
законодателем. Он, и только он, несет ответственность за
хаос и неурядицы, которые являются следствием
принудительного проведения в жизнь несправедливых законов. Во
всяком случае бесчеловечное обращение с людьми на
«законных» основаниях, на базе несправедливого права — это
историческая реальность, которая уже принесла человече-
180
ству горький опыт, суровые испытания. Вспомним
фашистские, расистские и иные авторитарные режимы,
санкционированный законами политический терроризм в
капиталистических странах и т. п.
Проблема обязательности нормативных требований, как
мы видим, выходит, собственно, за рамки темы
формальной справедливости. Чтобы решать сугубо формальные,
процедурные вопросы, связанные с согласием и принятием
нормы, с подчинением ей, необходимо оценить содержание
последней с точки зрения уже не формальной, а
содержательной справедливости. Здесь действуют диалектические
законы связи формы и содержания. Ни один вопрос нормативной
(моральной, правовой и иной) формы не может быть решен
безотносительно к нормативной субстанции, к тому, что
требуется от человеческого поведения по существу. Прежде
чем говорить об этом, подведем некоторые итоги нашего
обсуждения вопросов связи формальной справедливости и
равенства.
Из всего сказанного выше мы можем заключить, что
формальная справедливость не только связана, но по
существу совпадает с определенным типом равенства,
которое тоже является формальным. Всеобщность нормативной
формы, удовлетворяющей понятию справедливости,
оборачивается, как уже сказано, равенством субъектов перед
этой всеобщностью; обязательность справедливой формы
также мыслится не иначе как равная для всех
обязательность нормы. От равенства исходят и к нему
возвращаются основные признаки и черты формальной справедливости.
Не случайно отождествление равенства и справедливости
на формальной основе является старейшей и прочной
традицией нормативной философии, у истоков которой стояли
Аристотель, Фома Аквинский и другие мыслители
прошлого. В этом есть определенный социальный смысл, значение
которого, на наш взгляд, удачно выразил Николай Гарт-
манн, говоря о том, что справедливость противостоит
грубому эгоизму индивида: «Эгоист считает: все для меня, мне
безразлично, что остается другим. Справедливость имеет
обратную тенденцию: не все для меня, а мне и другим
поровну. Главное в ней — идея равенства... Эта идея равенства
есть строго идеальное требование, она не принимает во
внимание различий, она простирается не на все жизненные
отношения, но только на совершенно определенные, на
известные принципы и первичные права человеческого бытия
вообще»76.
76 Hartmann N. Ethik, S. 381.
181
Формальное равенство исключает возможность
произвола и в обращении с людьми, и в обращении людей с
нормами, она требует единообразия в подходах к различным
субъектам от своего имени и ради справедливости. Для
сферы нормативного регулирования общественной
деятельности и индивидуального поведения она имеет
непреходящее значение унифицирующего и интегрирующего фактора.
Но почему такое равенство мы называем формальным?
Потому что в действительности за ним нет ничего, кроме
сознательно и условно принятого нормативного масштаба
обращения с людьми как с равными, несмотря на всю
очевидность их неравного положения, реальных различий
объективного и субъективного порядка.
Формальная справедливость соединена с формальным
равенством именно для того, чтобы в необходимых
случаях уравнивать неравных способом, который не принижает
и не оскорбляет особые достоинства и специфические
положительные качества субъектов. Равенство, о котором мы
говорим, относится только к форме взаимоотношения
субъекта и нормативного требования, оно оставляет за своими
пределами вопросы о том, что представляет собой тот или
иной субъект по существу и каково содержание данного
требования. Реквизиты формального равенства (они же и
черты формальной справедливости) — всеобщность,
обязательность, стабильность нормативного регулирования,
честность и долг по отношению к нормам — являются
необходимыми в любой ситуации, урегулированной социальными
нормами. Они должны быть воплощены в реальных
процедурах, посредством которых достигается запланированный
регулятивный эффект, т. е. лежат в основе установленного
порядка достижения какого-либо результата. Поэтому
формальную справедливость нередко называют еще и
процедурной, процессуальной.
Будучи абстрагированными феноменами и социально
полезными для действия нормативно-регулятивных систем
(права, морали и т. д.) допущениями, формальное
равенство и формальная справедливость возникают и
удерживаются в своем положении ценой известных издержек и
потерь. Им присуще свойство подводить все индивидуальное
и особенное под всеобщее, т. е. свойство генерализирующих
категорий, предназначенных обобщать, сводить отдельное
и особенное к общему. То, что здесь утрачивается и
теряет свою ценность, так это строгая единичность,
уникальность, качественное своеобразие субъектов и ситуации.
Общественную жизнь невозможно регулировать по
принципу «отдельная норма для отдельной ситуации», так как
1-83
прекрасным или отвратительным, добрым или злым. Но от
этого сам он, как живая личность, не становится
бессодержательным и плоским, потому что качество субъекта
нормативного поведения не подменяет его индивидуальность,
оно, напротив, служит средством обретения этой
индивидуальности в процессах реального общения человека с
другими людьми.
То, что формальная справедливость направлена на
равенство типичных, а не индивидуальных явлений, вовсе не
означает насилия над полнотой и богатством жизни, как
некогда представлял это себе Г. Радбрух. Давно
замечено, что формальная справедливость и формальное
равенство сами по себе ничего в жизни не разрушают и не
создают, могут уживаться с любыми практическими тенденциями
общественной жизни. Формальное правовое равенство в
буржуазном обществе нескольку веков мирно сосуществует
с громадными социальными неравенствами, которые
продолжают расти. Создается впечатление, что данный
нормативный институт скользит по поверхности жизни и не
затрагивает ее глубин. Дело в том, что формальная
справедливость и формальное равенство, образно говоря, не
снабжены собственным мотором, который приводил бы их
в движение. Буржуазия не смогла и не захотела найти
действенный способ включения формального правового
равенства в систему общественных институтов, работающих в
направлении выравнивания или хотя бы минимизации
социальных неравенств. Установить формальную
справедливость и формальное равенство — это минимум того, что
нужно сделать для претворения идей справедливости и
равенства в жизнь.
182
это породило бы инфляцию норм и состояние тотальной
неурегулированности. Поскольку норма должна быть
всеобщей, то она и ориентируется не на индивидуальную
особенность и своеобразие, а на типичные черты регулируемой
ситуации, вернее, она вообще имеет в виду типовую
ситуацию, усредненную, сглаженную, очищенную от всего, что
для действия данной нормы не является существенным.
То же самое происходит и с индивидами, ибо
участники обобщенных по своему характеру ситуаций тоже
должны быть в достаточной степени обобщены. Для
нормативно-регулятивных систем, для морали и права, например,
каждый человек — это лишь один из многих. Все, что есть
у морали и права, предназначается для всех,
следовательно, никто не может претендовать на особое расположение
или исключительное внимание нормативного авторитета.
Индивиду не возбраняется думать, что он более других
морален или лучше, чем многие, исполняет свой правовой долг.
Он может гордиться, если это так, но мораль и право
требуют от него не больше, чем от других, не выделяют, не
индивидуализируют и не дают ему никаких оснований для
«панибратского» отношения к себе. В нормативном
измерении человек предстает в качестве лишенного
конкретности и многих (но не всех) психических особенностей
субъекта, представление о котором мультиплицируется
нормативным сознанием и в равной мере применяется к каждому.
Любая нормативно-регулятивная система в различных
ее социальных и исторических модификациях имеет свой
типовой образ человека, мыслимый иногда очень конкретно.
Мы можем, например, сказать, какой идеальный тип
личности создается нормами римского и примыкающего к
нему буржуазного частного права: это расчетливый, хороший
хозяин, не любящий упускать выгоды, но и не
стремящийся получить ее нечестным путем; это добрый семьянин, но
не чуждый обыкновения вносить денежные расчеты в
семейные связи; это опекун и куратор по отношению к
бедным родственникам, но не забывающий вознаграждать
себя за эти заботы и т. д. Образ человека в системах
морали, может быть, более возвышен и благороден, наделен
большей суммой положительных качеств, чем образ человека в
праве. Но если взять мораль и право одного общества,
одного господствующего класса, то речь может идти лишь о
нюансах одного и того же образа человека, заключающего
самую общую информацию, сумму типологизированных
черт личности данной эпохи. Мир социальных норм так
устроен, что при входе в него человек стряхивает с себя все
особенное, специальное, только ему присущее, будь оно
Глава IV
Проблемы и альтернативы
«нового эгалитаризма»
«Новый эгалитаризм»
как социальная философия
(теория справедливости Дж. Роулса)
В 40-х и в начале 50-х годов нынешнего столетия
интерес к проблемам равенства приобретал на Западе все в
большей мере практический характер под воздействием
либеральных экономических и социальных теорий,
вдохновленных так или иначе политикой «нового курса» и
государственно-монополистического регулирования, а также
реформистскими политическими доктринами, концепциями
«государства всеобщего благосостояния» и т. п. В
условиях того времени эгалитаристы чрезвычайно оживились, им
казалось, что пробил их час, настало самое подходящее
время для воплощения их идеалов в действительность.
Многообещающая фразеология политиков и доктринеров,
которые с энтузиазмом рекламировали всяческие
«оздоровительные» мероприятия в сфере экономического и
социального развития капиталистических стран, создавала
кроме всего прочего атмосферу, благоприятную для появления
радужных надежд и завышенных ожиданий. Такая
обстановка далеко не часто складывается в буржуазном мире,
но именно она необходима для взращивания и
процветания утопических теорий, дает толчок определенному
подъему эгалитарных настроений, вызывает прилив
соответствующих идей.
Хотя в целом эгалитаризм утопичен, иллюзорен и
противоречив, нельзя сказать, что он полностью бесплоден или
абсолютно неэффективен. В сущности любая идеология
существует до тех пор, пока она способна действовать,
эффективно влиять на события. Мир выглядел бы намного
проще, а общественная жизнь была бы понятнее, если бы
способность к активному действию являлась атрибутом
только той идеологии, за которой стоит истина
социального бытия. Не случайно неотъемлемый элемент идеолого-
186
венных и несправедливых. Это те слои, которые ясно
представляют себе перспективы неизбежного изменения статус-
кво, необходимость социальных перемен.
В последние годы на Западе заговорили о явлении
«нового эгалитаризма», об определенном «сдвиге» в
либеральном мышлении, об идеологическом течении, представители
которого взяли на себя миссию дать обобщенное
теоретическое обоснование реформистского курса развития
буржуазного общества, политики «государства всеобщего
благосостояния», опыта антимонополистического регулирования,
мер и программ, которые в течение ряда десятилетий
рекламировались и превозносились в качестве средств
формирования «гуманного», «народного» капитализма. Если
посмотреть, кого сегодня причисляют к разряду «новых
эгалитаристов», то это группа либеральных теоретиков
(Дж. Роулс, Г. Гэнс, К. Дженкинс и др.), идеологи
движения за гражданские права, за расовое и национальное
освобождение, за равноправие этнических групп, активистки
феминистических организаций и т. д. Все они заслужили
это наэвание благодаря требованию перейти от
традиционного «равенства возможностей», к «равенству результатов»,
призывам сделать нечто реальное для смягчения
социальных неравенств, благодаря обращению к государству
использовать налоги как инструмент перераспределения
собственности и доходов в пользу неимущих и малоимущих
слоев населения. «Новые эгалитаристы» предлагают
продолжить политику в соответствии с данными
требованиями. В лице «нового эгалитаризма» выступает своего рода
антипод консервативных моделей капиталистического
развития, поэтому не случайно виднейшие американские
неоконсерваторы активно включились в полемику с ним3.
Попытаемся войти в круг социально-философских
проблем «нового эгалитаризма», взяв за основу анализа
теорию справедливости Джона Роулса, которого считают
ведущей фигурой, представляющей данное идеологическое
течение. Его теория «справедливости как честности»,
пожалуй, одно из самых примечательных явлений в
современной буржуазной социальной философии. О широкой
известности этой теории в интеллектуальных кругах Запада
свидетельствует тот факт, что уже много лет ее оживленно
обсуждают, комментируют, восхваляют, опровергают,
дополняют, исправляют и т. п. Потоком идут публикации,
которые в той или иной форме откликаются на проблемы, по-
3 The New Equalitarianism. Questions and Challenges. Port
Washington, New York, London, 1979.
185
критической позиции К. Маркса и Ф. Энгельса — мысль о
том, что иллюзии и полуистины в идеологии, если они
объединяют господствующие общественные силы, сплошь и
рядом одерживают верх над теми идеями, в которых
воплощена историческая правота слабоорганизованных и
пока еще разобщенных эксплуатируемых классов. Нужны
столетия, эпохи борьбы за правду, за подлинную цель
общественного развития, для того чтобы разрушилась власть
иллюзий. История общественного сознания, опыт
человечества указывают на вехи, отмечавшие трудный путь к
истинам, путь духовного вызревания общественных классов,
историческая роль которых заключалась в их миссии быть
главной силой и двигателем социального прогресса.
Как бы то ни было, но иллюзии и полуистины
эгалитаризма и сегодня еще не исчерпали себя в мире, где
господствует капитал, порождая острые проблемы,
осмысливаемые через противоречие «равенство—неравенство».
Питающей почвой эгалитарных настроений была и остается
практика капитализма, для которой характерно
сосредоточение огромных национальных богатств в руках
небольших групп населения. Либеральный курс, официально
провозглашенный «государством благоденствия», ничего не
изменил в этом отношении, хотя и ставил своей целью
смягчить, ослабить и даже ликвидировать несправедливое,
крайне неравномерное распределение доходов и
собственности. В настоящее время верхний 1 % населения в
большинстве западных стран владеет около 30% всех личных
богатств. Источником глубокого общественного
беспокойства продолжает оставаться неблагополучие в сфере
распределения доходов: верхние 10% населения получают 28%
всех доходов в Англии, 30% — в США, 40% — в ФРГ,
37% —во Франции и т. д.1 Сложившуюся в современном
капиталистическом распределении ситуацию некоторые
буржуазные авторы справедливо квалифицируют как
«скандальное лоложение дел»2.
У идеологов-эгалитаристов всегда была и есть своя
аудитория. Они обращаются к слоям либерально
мыслящих людей, которые, может быть, острее, чем другие,
переживают тотальную неустроенность и распад системы,
резче ощущают недостаток или отсутствие
морально-политических и иных оснований для оправдания различий в
социальном положении людей, различий крупных, сущест-
1 Phillips D. Equality, Justice and Rectification. An Exploration in
Normative Sociology, London, New York, San Francisco, 1979, p. 85.
2 Coser L. Introduction. — The New Conservatives. New York, 1974,
p. 6.
188
боко не возбудила мои мысли, как «Теория
справедливости» Джона Роулса» в.
Не будем спорить о том, насколько обоснованно
ставить Роулса в один ряд с великими социальными и
политическими мыслителями, но все же надо признать, что его
теория во многих отношениях подводит итог развитию
буржуазного либерализма, демонстрирует возможности,
трудности и противоречия либерального образа мышления
в условиях современного кризиса буржуазной
общественной системы. С этой точки зрения она представляет
значительный интерес.
То, что теория Роулса получила столь противоречивую
оценку в буржуазной социальной науке, объясняется
прямой связью поставленных в ней проблем с кризисными,
болезненными процессами буржуазного общества. Кто в
нынешнем капиталистическом мире хочет говорить о
социальной справедливости, не может умолчать об
углубляющемся расстройстве системы производства, дисгармоничности
общественных связей, резкой диспропорциональности,
неравномерности в распределении богатств, собственности и
доходов между отдельными людьми, социальными
группами, классами.
Теория Роулса многоаспектна и сложна по своему
содержанию7. Мы остановимся на основных положениях
этой теории, характеризующих ее как субстантивную
(содержательную) концепцию справедливости. Следуя
классическим традициям, Роулс развивает идею
«общественного договора» и считает свою теорию разновидностью
современного контрактуализма. Понятие справедливости
представлено у него в виде аксиоматизированных правил и
принципов, будто бы избранных участниками
общественного договора в состоянии некоторой первоначальной
ситуации.
Смысл и цель субстантивной теории, по Роулсу,
заключаются в том, чтобы установить содержательные принципы
справедливости, т. е. определить по существу требования,
на которых должны строить свои отношения участники
общественного договора. В XX в. буржуазная социальная
философия практически отказалась от данной цели,
отмечая в понятии справедливости прежде всего форму
долженствования и вытекающие из нее проблемы универсаль-
6 Hart Н. L. A. Rawls on Liberty and its Priority. — The University
of Chicago Law Review, Spring 1973, vol. 40, N 3, p. 534.
1 В последующем изложении мы ссылаемся в основном на его книгу
1971 года, в которой данная теория изложена в самом полном виде
(Rawls /. A Theory of Justice. Oxford, 1971).
187
ставленные Роулсом. Появилось несколько книг,
посвященных его теории, организуются специальные симпозиумы,
конференции \ Столь большой и устойчивый интерес к
теории справедливости Роулса уже сам по себе говорит о ее
неординарности, потому что в наше время продукты
идеологического творчества, предназначенные для духовного
потребления в капиталистическом мире, в большей мере,
чем раньше, подвержены моде, становятся предметом
скоропреходящих увлечений.
Джон Роулс — философ, профессор Гарвардского
университета в США — стал известен своими работами с
середины 50-х годов5. С тех пор, собственно, его идеи и
теоретические построения находятся в центре
развертывающейся дискуссии, предметом которой являются возможные
или необходимые социальные структуры, а также
принципы общественной системы, обеспечивающей свободу,
равенство и справедливость. Конечно, в работах Роулса
обсуждается вопрос о том, какими путями должен идти
капитализм, чтобы стать «социально-справедливым». Но если
бы речь шла всего лишь об очередном проекте
переустройства капиталистического общества, то концепция Роулса
вряд ли бы поднялась выше рядовой реформистской
теории, каких на Западе множество. Оценивая вышедшую в
1971 г. монографию Роулса, английский
юрист-неопозитивист Харт писал: «Ни одна книга по политической
философии, с тех пор как я прочел великих классиков, так глу-
4 Symposium: John Rawls's a Theory of Justice. — The University of
Chicago Law Review, Spring 1973, vol. 40, N 3, p. 486—582; Review
Symposium (P. H. Nowell-Smith, P. Danielson, С. B. Macpherson) on: Rawls
«A Theorv of Justice*. — Philosophy of the Social Sciences, 1973, vol. 3,
N 4, p. 313—347; Reading Rawls. Critical Studies on Rawls* «A Theory of
Justice*. Oxford—Blackwell, 1975; Ober John Rawls «Theorie der Gerech-
tigkeib. Frankfurt am Main, 1977; Wolff R.-P. Understanding Rawls:
A Reconstruction and Critique of Theory of Justice. New Jersey, 1977;
Schaeffer D. Justice or Tyranny? A Critique of John Rawls «A Theory of
Justice*. New York—London, 1979; Wettstein H. Ober die Ausbaufahigkeit
von Rawls «Theorie der GerechtigkeiU. Untersuchung zum Verhaltnis des
Unterschieds. Basel, 1979; Rao A. An Essay on John Rawls. Theory of
Distributive Justice and its Relevance to the Third World. Calcutta, 1979.
5 Rawls J. Justice as Fairness.—Philosophical Review, 1958, vol. 67,
N 2, p. 164—194; Rawls /. The Sense of Justice. — Philosophical Review,
1963, vol. 72, N 3; Rawls J. Legal Obligation and the Duty of Fair Play —
Law and Philosophy. A Symposium. New York, 1964, p. 3—18; Rawls J.
Distributive Justice. — Philosophy, Politics and Society. Oxford, 1967;
Rawls J. Distributive Justice: Some Addenda.—Natural Law Forum. 1968,
vol. 13, p. 51—71; Rawls J. A Theory of Justice. Oxford, 1971; Rawls J.
Justice as Fairness. — Justice and Equality. New Jersey, 1971; Rawls J.
Some Reasons of the Maximin Criterion. — American Economic Review,
May 1974, vol. 64, p. 141—146; Rawls J. The Basic Structure of Subject-
American Philosophical Quarterly, April 1977, vol. 14, N 2.
189
ности, обязательности соответствующих идей. Формальные
теории справедливости (в этике, в правоведении, в
политических науках и т. д.) либо предполагают невозможность
решения содержательных проблем, либо допускают
существование субстантивной теории на более низком уровне,
развивающейся вне связи с формальной теорией и как бы
параллельно ей. Роулс пытается, хотя и без особого
успеха, преодолеть данный параллелизм, объединить в рамках
одной концепции субстантивную и формальную теории
справедливости, причем разработку первой ставит себе в
особую заслугу.
В первоначальной ситуации общественного договора,
как она представлена в теории Роулса, люди не только
уславливаются о содержании принципов справедливости, но
и устанавливают правила, по которым одному принципу
может быть отдано предпочтение перед другим (правила
первенства или приоритета). Роулс указывает на два
главных содержательных принципа справедливости. Первый:
каждое лицо должно обладать равным правом на
наиболее широкую свободу, совместимую с такой же свободой
других. Второй: социальные и экономические неравенства
должны быть такими, чтобы они могли стать разумно
ожидаемым преимуществом каждого и были связаны с
позициями и службами, открытыми для всех на условиях
честного равенства возможностей 8. Функционально эти
принципы предназначены регулировать основные социальные
структуры путем распределения прав и обязанностей,
выгод и издержек социальной кооперации. Для каждого из
этих двух принципов может быть условно определена
сфера действия, система социальных институтов, к которым
они в основном применяются. Первый принцип касается
реализации основных свобод граждан — политических
свобод: право голосовать, быть избранным, свободы слова,
собраний, мысли и совести, а также свобод, связанных с
правом собственности, свободы от произвольного ареста,
захвата имущества и т. д. Второй принцип
распространяется на распределение доходов и богатств, на институты,
базирующиеся на неравенстве власти и ответственности.
Оба принципа являются специальными частями более
общего понятия справедливости, которое Роулс
формулирует так: все социальные ценности — свобода и
возможности, доходы и богатство, основы самоуважения — должны
быть распределены равно, если только неравное распреде-
8 Rawls /, A Theory of Justice, p. 60.
190
ление каких-либо или всех этих благ не дает преимуществ
наименее преуспевающим членам общества 9.
Избираемые принципы справедливости являются
основой для всех дальнейших соглашений, установления
надлежащих форм политического правления, последующего
выбора конституции, законодательства, изменения
общественного устройства. Предполагается, что четкое и
неукоснительное следование избранным принципам является
обязательным условием социальной кооперации.
Справедливость для Роулса — это в основе и идеале равное
распределение ценностей в обществе: система неравенств является
справедливой лишь в том случае, если она выгодна для
всех, но в особенности для менее преуспевающей части
общества. Несправедливость связывается с таким
неравенством, в результате которого одни продвигаются вперед
вследствие ухудшения позиций других. Первоначальная
ситуация в теории Роулса включает в себя
представление о гипотетическом исходном устройстве, при
котором основные социальные блага распределены равно,
все имеют одинаковые права и обязанности. С этой
воображаемой отметки, пишет Роулс, можно определять
последующие изменения статуса участников общественной
жизни. Если вводимые в социальную систему неравенства
позволяют каждому улучшать свое положение по сравнению с
гипотетической первоначальной ситуацией, значит, такие
неравенства отвечают понятию «справедливости как
честности».
Интерпретация второго принципа справедливости
включает в себя конструкции, поясняющие смысл утверждения:
«неравенства должны стать разумно ожидаемым
преимуществом каждого». С этой целью Роулс вводит еще два
весьма значительных для его теории принципа:
эффективности и различия. Первый из них является модификацией
так называемой оптимальности Парето — правила, которое
было сформулировано итальянским социологом и
экономистом В. Парето как часть его теории распределения
товаров и цен. Ситуация в распределении является
оптимальной, утверждал В. Парето, если при ее дальнейших
изменениях уже невозможно улучшать одни показатели,
не ухудшая одновременно другие. Эффективным (Роулс
предпочитает это слово термину «оптимальный») является
такое устройство, такой распорядок прав и обязанностей в
основных структурах, которые, изменяясь, уже не могут*
См. там же, с. 62.
191
улучшать перспективы одних групп людей, не ухудшая
одновременно положения других групп.
Принцип эффективности, иначе говоря, требует, чтобы
система распределения максимально удовлетворяла всех
ее субъектов, и предупреждает определенный этап в
развитии данной системы, на котором она начинает работать
по правилам так называемой игры с нулевой суммой: что
выигрывают одни, то проигрывают другие. Распорядок
прав и обязанностей в основных структурах общества,
пишет Роулс, является эффективным, если, изменяя
действующие нормы, уже невозможно заново определить схему
прав и обязанностей так, чтобы повысить ожидания одних
лиц, не снижая в то же время ожидания других. Изменить
любую распределительную систему, отвечающую принципу
эффективности, означает ухудшить ее, утратить оптимум в
структурном и функциональном смысле.
Особенности принципа эффективности раскрываются
применительно к двум стадиям его реализации — системе
естественных свобод и либеральному равенству. Обе они
предполагают равные для всех граждан свободы, наличие
институтов, обеспечивающих успех и карьеру каждому
талантливому человеку (по принципу «открытая карьера для
талантливых»), свободную рыночную экономику,
равноправие, формальное юридическое равенство возможностей
и т. д. Но система естественных свобод не может еще
преодолеть в себе недостатки, вызванные первичным, чисто
природным распределением ценностей — способностей и
талантов, а также действием различного рода
естественных и социальных случайностей. Наиболее очевидная
несправедливость системы естественных свобод заключается в
том, что она позволяет указанным произвольным факторам
влиять на общественное распределение и долю,
получаемую из него отдельными группами и лицами. Эту
несправедливость можно, по мнению Роулса, корректировать
посредством либеральной интерлретации принципа
эффективности, дополнения требований «открытая карьера для
талантливых» нормами честного равенства возможностей.
Либеральное равенство, по Роулсу, есть нечто большее,
чем просто формальное равноправие.
В связи с этим Роулс высказывает ряд мыслей, которые
дают повод некоторым западным авторам считать его
теорию чуть ли не современной разновидностью социализма.
О чем же идет речь? Поскольку стартовые условия
системы распределения должны быть равными для всех
индивидов, то Роулс, естественно, пытается исключить из
устройства хорошо организованного, справедливого общества
192
элементы классового неравенства между людьми, так же
как и многие другие неравенства первоначального
положения лиц в социальной системе. Индивиды одинаковых
способностей и талантов, наделенные равным или
примерно равным желанием добиться успеха в жизни, должны
иметь одинаковые шансы и перспективы безотносительно
к их классовой принадлежности. В соответствии с этим и
ожидания людей одинаковых способностей и желаний,
полагает он, не могут быть зависимыми от классовых
позиций 10.
Роулс высказывается за ликвидацию классовых
барьеров на пути к получению знаний и опыта, за
соответствующее устройство системы образования и т. д. Сам он
называет свою позицию либеральной, и в действительности
она является таковой, не имея ничего общего с идеями
социализма. То, о чем пишет Роулс, отражает типично
либеральную линию игнорирования социальных классов,
реальности их проблем и представляет по существу утопический
призыв к членам общества установить соглашение
относительно того, чтобы не принимать во внимание классовые
различия при определении доли того или иного лица в
общественном распределении. Поэтому в рамках теории
«справедливости как честности» требование исключить
классовые неравенства из первоначального положения
людей в социальной системе — это не более чем благое
пожелание и цель, не обеспеченная реальными средствами. Мы
увидим далее, что и в других отношениях попытки
сблизить теорию Роулса с социализмом и марксизмом
являются по меньшей мере необоснованными.
Позиция Роулса, однако, примечательна тем, что она на
уровне социальной философии концептуализирует идею
равенства результатов. Он обоснованно упрекает
традиционный буржуазный либерализм в том, что всю проблему
до сих пор сводили к равенству возможностей
распределения, тогда как результаты дистрибутивных отношений
целиком были отданы во власть произвола и случайности.
Теория «справедливости как честности», во-первых, не
ограничивается рассмотрением условий на старте, а
охватывает все стадии распределения, включая его итоги, и,
во-вторых, она содержит известные требования в отношении
общественного контроля над результатами распределения.
Последнее обстоятельство очень важно для понимания
идеологической реакции многих либеральных и
консервативных авторов на теорию Роулса. По сравнению с систе-
10 См. там же, с. 73,
7-315
193
мой естественных свобод либеральное равенство
обеспечивает приблизительно одинаковые стартовые условия для
людей, т. е. равенство исходного положения в системе
распределения, но оно не гарантирует равенства результатов
и, следовательно, полагает Роулс, еще не приводит к
справедливости. От либерального равенства общество должно
перейти к равенству демократическому, связанному с
важным принципом, который у Роулса носит название
принципа различия.
Проблема равенства результатов распределения
решается у Роулса с помощью идей относительной
максимизации доли тех участников распределения, которые
вследствие различного рода естественных и социальных причин
оказались в невыгодном положении. Демократическое
равенство означает соединение приемлемого равенства
возможностей с принципом различия. Последний дополняет и
уточняет, по мнению Роулса, принцип эффективности,
снимает его неопределенность, указывая особую позицию, с
которой должны оцениваться социальные и экономические
неравенства основной социальной структуры.
Общество, полагает Роулс, разделено по крайней мере
на две группы людей, представляющих различные полюсы
в отношениях социального неравенства. На одном из них
те, кто наделен лучшими способностями и талантами,
более удачлив в делах, а на другом — те, кто в силу разных
причин имеет менее обеспеченное положение в обществе.
Принцип различия формулируется как требование к
порядку отношений между двумя этими группами людей: он не
должен устанавливать и обеспечивать более широкие
перспективы людей, находящихся в лучшей ситуации, если эти
перспективы не обеспечивают преимуществ менее
преуспевших членов общества. Высокие ожидания лиц,
принадлежащих к привилегированной группе, являются
справедливыми только в том случае, если они работают как часть
схемы, которая повышает ожидания менее
продвинувшихся в общественной системе граждан п. Если нет
распределения, улучшающего положение обеих групп, то
предпочтительнее равное распределение. В этом смысле принцип
различия является строго эгалитарной концепцией.
В рамках доктрины «справедливости как честности»
принцип различия играет особую роль. Он допускает
признание неэгалитарной структуры общества, оправдание
известных неравенств, использование их как инструмента
улучшения перспектив обеих общественных групп: и той,
11 Си. там же, с 75.
194
которая ушла далеко вперед по своему социальному
положению, и той, которая отстает. Сам Роулс, раскрывая
механизм действия принципа различия, обращается к
примерам, связанным с распределением доходов среди
социальных классов. В частности, он рассматривает и по существу
оправдывает неравенство между предпринимателями и
рабочими. Согласно принципу различия, это неравенство
допустимо, если высокие ожидания предпринимателя
выгодны для рабочих, улучшают их перспективы. Высокие
ожидания предпринимателей делают экономический прогресс
более динамичным и эффективным, а нововведения в
производстве очень быстрыми, что в конечном счете
максимизирует шансы рабочих, повышает уровень их собственных
ожиданий. По теории Роулса выходит, что капиталист и
рабочий связаны вполне справедливыми отношениями,
если, конечно, добавляет он, высокие ожидания
предпринимателя не являются чрезмерными и не ведут к ухудшению
статуса рабочих.
Если от высоких ожиданий предпринимателей, пишет
Роулс, получают выгоду неквалифицированные рабочие, то
одновременно выигрывают полуквалифицированные и
другие рабочие. Получается что-то вроде единой цепи
ожиданий, которая обеспечивает широкую диффузию выгод в
обществе. Роулс признает трудности осуществления
подобных социальных устройств, но известную гарантию их
реальности видит в том, что в круг ожиданий отдельных лиц
включаются некоторые общие фундаментальные интересы,
а также в том, что службы и позиции в обществе являются
открытыми для всех. Общая диффузия выигрышей
мыслима как некий усредненный процесс, результаты которого
сказываются в конечном счете в общем и целом. Всякое
движение общества в курсе совершенной социальной
справедливости именно в среднем увеличивает благосостояние
и улучшает ожидания каждого.
В общественной жизни часто происходит так, что
улучшение (или ухудшение) статуса одной социальной группы
не зависит от улучшения или, вообще говоря, от динамики
интересов другой (или других) группы. В
капиталистической системе, как и во всякой эксплуататорской,
типичными являются ситуации, когда привилегированная группа в
обществе улучшает свое положение за счет ухудшения
шансов и перспектив классов, занимающих низшие
социальные позиции. Впрочем, Роулс и сам признает, что
найти в реальной жизни практическое подтверждение «цепной
связи ожиданий» и «общей диффузии выгод» весьма
трудно» поэтому он характеризует их как допущения, необхо-
7*
195
димые для конструирования общей схемы «хорошо
организованного справедливого общества».
Роулс указывает на последовательность отдельных
звеньев в цепи ожиданий и на соответствующий порядок
их удовлетворения: в основной структуре максимизируется
в первую очередь благосостояние лиц самого низшего
положения, после этого увеличивается благо мало преуспевших
лиц второй очереди и т. д. Благосостояние самых
привилегированных слоев может быть максимизировано в том
случае, если удовлетворены ожидания на повышение статуса
у всех других лиц. С учетом этих положений Роулс
находит возможным уточнить предварительную формулировку
второго принципа справедливости: социальные и
экономические неравенства должны быть такими, чтобы они могли
привести к большей выгоде для наименее продвинувшихся
лиц и были связаны с позициями и службами, открытыми
для всех в условиях приемлемого равенства
возможностей 12.
Указанная трактовка принципа различия имеет
определенные следствия, весьма существенные для понимания
теории «справедливости как честности». В особенности
большое значение Роулс придает явлению, которое он
называет принципом возмещения и по которому всякие
незаслуженные неравенства должны быть компенсированы.
Чтобы установить приемлемое равенство возможностей и
обращаться равным образом со всеми людьми, общество
должно уделять большее внимание лицам слабо
одаренным от природы или находящимся в неблагоприятных
социальных условиях.
Неравенства естественных способностей и положений,
унаследованных от родителей, утверждает Роулс,
являются незаслуженными неравенствами и потому должны быть
в какой-то форме возмещены обществом. Смысл подобных
мер заключается в преодолении воздействия естественных
и социальных случайностей. Принцип возмещения
действует в случаях, находящихся одновременно и в сфере
принципа различия, когда лицо, мало продвинувшееся в
общественной системе, есть вместе с тем и наименее одаренный
субъект, получивший незначительный выигрыш в
«естественной лотерее», т. е. природном распределении
способностей, талантов, положений и т. д. Этот принцип не имеет
отношения к лицам, наделенным от природы большими
возможностями, тем не менее не достигшим успеха. Они
как бы «заслужили» неравенство, до которого сами себя
12 См. там же, с. 83.
1%
довели, и общество свободно от обязанности возмещать
подобные неравенства, хотя и в общей форме интересы
подобных лиц подпадают под действие принципа различи**.
Если говорить о конкретных социальных институтах,
например о системе образования, то принцип возмещения
требует, чтобы общество старалось затрачивать больше
средств на воспитание менее способных детей, чем на
обучение их более талантливых сверстников. Но главная
компенсация, по Роулсу, состоит все-таки в том, что
способности и таланты людей счастливой судьбы должны быть
поставлены на службу интересам лиц менее или мало
одаренных. «Те, кто обласкан судьбой, — пишет Роулс, — кем
бы они ни были, могут выигрывать от своей удачной
фортуны лишь на условиях улучшения ситуации менее
одаренных» 13. Они получают не за свои способности и таланты,
их доля в распределении является покрытием расходов
на образование и обучение, а также платой за
использование их дарований способом, приносящим пользу
обществу.
Принцип различия, воплощенный в основных
структурах общества, вызывает всеобщую и взаимную связанность
индивидов единой схемой социальной кооперации, в
которой, как надеется Роулс, каждый найдет стимулы личного
участия в общем деле. Из данного принципа он выводит
своеобразные законы социального притяжения, т. е. более
частные принципы — взаимности и братства, функция
которых— удерживать членов общества в рамках единства,
подталкивать их к сотрудничеству и взаимопониманию. На
этой стороне дела мы остановимся более подробно, когда
речь будет идти о полемике Роулса с меритократами и о
его аргументах против идеи меритократической
справедливости.
Обратимся теперь к тому, что Роулс называет
правилами приоритета, благодаря которым принципы
справедливости, избранные в первоначальной ситуации, мыслятся в
определенном (лексическом) порядке, что предполагает их
последовательное, поочередное воплощение в жизни. Эта
часть рассматриваемой концепции настолько существенна,
что, по мнению шведского философа Л. Эрикссона,
«теория Роулса, вероятно, лучше всего может быть понята не
как теория собственно справедливости, а как теория,
пытающаяся разрешить проблему приоритета» 14.
13 Там же, с. 101.
14 Ericsson L. Justice in the Distribution of Economic Resources
A Critical and Normative Study. Stockholm, 1976, p. 123.
197
Роулс выделяет два основных правила приоритета:
одно из них формулируется как первенство свободы,
другое — как первенство справедливости. Значение этих
правил подчеркивается уже тем, что они наряду с принципами
справедливости и одновременно с ними подлежат выбору
на основе общего соглашения в первоначальной ситуации.
Стороны берут на себя обязательство — это одна из
существеннейших их обязанностей — реализовывать принципы
справедливости в порядке, определенном правилами
приоритета. С точки зрения Роулса, которая достаточно четко
воплощена в его теории, люди, желающие создать хорошо
организованное, справедливое общество, должны принять
прежде всего идею равных свобод. Это то, чему следует
отдать предпочтение при всех обстоятельствах. Вот почему
первый принцип справедливости, заключающий в себе эту
идею, стоит во главе лексического порядка, определяет
логику последующего поведения участников социального
контракта, которые должны искать подходящие основания для
любого отклонения от равных свобод, оправдывать их
ссылкой на правила приоритета, установленные теорией
«справедливости как честности».
Данная теория предполагает, таким образом, равное
распределение свободы между членами общества. При
определении свободы, считает он, необходимо исходить
во всяком случае из наличия трех моментов:
субъекты, которые свободны; ограничения и пределы, от которых
они свободны; то, что они свободны делать или не делать.
Роулс обсуждает понятие свободы в связи с
конституционными и правовыми ограничениями. «В этих случаях
свобода есть известная структура институтов, известная система
публичных норм, определяющих права и обязанности» 15.
Комплекс прав и обязанностей характеризует всякую
отдельную свободу. За исходное он берет, однако, не
отдельную свободу, а систему основных свобод как единое целое.
Неограниченный рост одной свободы может повредить
осуществлению других, снизить их эффективность, а
поэтому правило «большая свобода лучше, чем меньшая»
применимо скорее к системе свобод в целом, чем к отдельным
свободам. Перед участниками конституционного
соглашения, пишет Роулс, стоит задача так детализировать
конкретные свободы, сбалансировать каждую из них в
отношении других, чтобы они составили наилучшую общую
систему равных свобод.
16 Rawls /. A Theory of Justice, p. 202.
196
Роулс ищет ответы на вопрос, как совместить свободу
и равенство в условиях социально-дифференцированного
общества. Он не поддерживает весьма распространенное в
буржуазной литературе мнение о том, что свобода и
равенство находятся в контрарном отношении. Основные
структуры, которые описаны теорией «справедливости как
честности», позволяют примирить эти явления, но каким образом?
Напомним, что для Роулса свобода есть
институциональное понятие, поэтому в своем системном выражении
она должна быть независимой от личных качеств людей,
их способностей, предприимчивости и т. д. Но эти и другие
подобные им факторы влияют на реальную ценность
свободы для индивида, ценность прав человека, определяемых
первым принципом справедливости. Роулс различает,
таким образом, свободу и ценность свободы для субъекта.
Первая представлена полной системой свобод равного
гражданства, тогда как вторая пропорциональна
способности лиц и групп осуществлять свои цели в рамках
определенной системы. Свобода как равные свободы одна и та
же для всех. Но ценность свободы неодинакова для
каждого. Некоторые имеют больше власти и богатства, а потому
больше средств достичь своих целей. Меньшую ценность
свободы можно компенсировать путем устройства
существующих неравенств на основе принципа различия.
Основная структура должна быть устроена таким образом,
чтобы максимизировать для наименее преуспевших членов
общества ценность полной схемы равных свобод,
разделяемой всеми 1с. В этом, по мнению Роулса, состоит цель
социальной справедливости.
Свободе, полагает он, должно быть отдано
предпочтение перед всеми другими социальными ценностями, и
потому всякое ее ограничение оправданно лишь в том случае,
если это предпринято ради самой свободы. Увеличение
количества экономических и социальных благ —
недостаточное основание для принятия менее чем равной свободы.
С неравной свободой можно согласиться лишь при
наличии угрозы насилием, сопротивляться которому неразумно
с точки зрения самой же свободы.
Итак, правило приоритета формулируется у Роулса в
качестве требования к лицу и обществу предпочесть в
нормальных условиях равную для всех свободу, а в
исключительных случаях это правило предусматривает
возможность ограничения свободы только ради самой свободы.
Согласно концепции Роулса, неравная («менее чем рав-
16 См. там же. с. 204—205.
199
ная») свобода в справедливом обществе может быть
терпима, если, включенная в общую систему свободы, она
имеет перспективу стать равной, возрасти, усилиться, или,
когда она приходит на смену еще меньшей свободе или
несвободе. Все эти варианты предполагают взвешивание,
сравнение степени и уровня свободы (как и на основе
каких критериев это можно сделать, теория Роулса не
отвечает), оценку тенденций и перспектив свободы, ее
будущего. До известного предела, которым является равная для
всех свобода, люди имеют право обменивать меньшую
свободу на большую. Выше этого предела свобода членов
общества возрастает при условии соблюдения принципов
эффективности, дифференциации, справедливых сбережений
и т. д., т. е. на общих основаниях, установленных теорией
«справедливости как честности».
В «хорошо организованном», справедливом обществе,
полагает Роулс, люди предпочитают быть свободными,
несмотря ни на какие соблазны, особенно материальные,
связанные с отступлением от этой ценности. Трагическую
сторону общественной жизни он видит в том, что члены
общества слишком часто жертвуют своей свободой ради
достижения большого богатства, власти, престижа, ради
того, чтобы выиграть в жизненном состязании, опередить
других любой ценой. Отказ от свободы в целях получения
определенной выгоды, так же как и безграничное развитие
одной свободы, принадлежащей человеку, в ущерб другим
свободам, в конечном счете подрывает гармонию
общественных связей. Таков морализаторский смысл идеи
приоритета свободы у Роулса. Многие комментаторы и
особенно критики его теории усматривают здесь «подкоп» под
самую главную свободу капиталистического мира —
наживать собственность, богатство. Когда на мир смотрят
глазами либертаристов, то все многообразие возможных
человеческих свобод действительно меркнет в лучах самых
интересных для буржуазии свобод, связанных с частной
собственностью и предпринимательской деятельностью. Этот
перекос в буржуазном представлении о свободе имеет
очень давнее происхождение, и Роулс, конечно, намерен
деликатно исправить его, когда говорит о недопустимости
гипертрофии одной свободы (или одних свобод) в ущерб
другой, о сбалансированности свобод в отношении друг
друга, когда «запрещает» обменивать свободу на
экономические блага и богатство.
Указанную трактовку приоритета свободы оппоненты
Роулса опровергают с помощью аргументов, вытекающих
из предположения, согласно которому самоограничения
200
или внешние ограничения свободного выбора индивида не
могут быть действительными. По своему желанию человек
вправе «освободиться» от некоторой части своих свобод
ради усиления других свобод, в данный момент для него
более значимых и необходимых. Полемизируя с Роулсом,
английский юрист Харт отстаивает право человека
распоряжаться своей свободой так, как он этого пожелает,
обменивать ее, хотя бы временно, на ценности и блага,
которые его в данный момент больше всего привлекают.
«Человек, — пишет Харт, — может отказаться от политических
и религиозных свобод ради экономических благ, чтобы
завтра, достигнув богатства, восстановить данные свободы,
если он этого пожелает... Мне кажется, нет общих правил
приоритета, запрещающих обмен, даже на ограниченный
период, любой активной свободы, обмен, который человек
может по желанию сделать для того, чтобы добиться
преимущества и материального процветания» 17. В целом же
либеральные идеологи, не говоря уже о консервативных,
отвергли робкую попытку Роулса представить стремление
к наживе, приумножению частной собственности и
богатства как рядовую свободу человека, наложить на нее
моральные ограничения.
Приоритет свободы, подчеркивает Роулс, не требует,
конечно, чтобы в обществе были удовлетворены абсолютно
все материальные нужды, но он предполагает ситуацию,
исключающую материальное богатство как самоцель,
погоню за экономическими и социальными преимуществами,
т. е. ту общественную атмосферу, идейным выражением
которой явилась философия утилитаризма. Главными
проблемами справедливого общества являются: обеспечение
свободной внутренней жизни различных социальных групп,
организация их связей на основе равной свободы,
обеспечение основ самоуважения человека, желания людей
выразить свою природу в свободном социальном союзе с
другими ,8. Конечно, приоритет свободы, подчеркивает Роулс,
может быть реализован лишь в благоприятных условиях,
когда удовлетворены основные, первичные нужды людей,
в особенности материальные, т. е. в условиях, которые,
возможно, не скоро будут достигнуты.
Из сказанного выше вполне определенно
вырисовывается политический профиль теории Роулса. Она отстаивает
идею «государства благосостояния», соответствующие
перспективы и социальную политику, основанную на перерас-
17 Hart Н. L. Rawls on Liberty and its Priority. — The University of
Chicago Law Review, Spring 1973, vol. 40, N 3. o. 653—654.
'r Rawls i. A Theory of Justice, p. 642—643.
20!
пределении доходов по возможности большего их
выравнивания средствами, которые принимаются людьми
сознательно и добровольно в результате общего согласия,
договора. «Роулс предпринимает либеральную защиту
существующего распределения доходов и богатств в то время,
когда это распределение становится все более неравным,
несмотря на то, что политическая риторика и политика
«государства благосостояния» включают в себя нечто
обратное» 19. В этом соответственно и заключены трудности
идеологического и политического порядка, возникшие перед
данной теорией, которая пытается вернуть уходящее
«государство благосостояния» на позиции, где ему надо все
начинать сначала. Роулс будто бы не замечает, что именно
мифическое «благосостояние», некогда обещанное
населению капиталистических стран, оказалось в центре
политического «кризиса доверия». Не случайно
либерально-эгалитарная концепция справедливости Роулса подтолкнула
неоконсерваторов, либертаристов, меритократов и др. к
спешной разработке альтернативных теорий
справедливости, указывающих капитализму принципиально
неэгалитарный путь развития.
Либертаристы, например, критикуют Роулса за то, что
его схема справедливого распределения разработана без
учета проблем, возникающих в сфере производства
общественных богатств. Остается предположить, что
всевозможные блага, словно манна небесная, сваливаются с неба,
и весь вопрос состоит только в том, как, по каким
правилам эти блага разделить среди членов общества. Такая
критика была бы, конечно, правильной, если бы имелось в
виду трудовое участие каждого человека в создании
общественных фондов, подлежащих распределению. Роулс
действительно игнорирует связь трудового вклада индивида с
долей его получений в системе распределения и тем самым
прочно ставит себя на путь социальной утопии. Но
либертаристы обращаются к сфере производства с другой
целью — доказать, что общество не может распоряжаться
продуктом, который произведен индивидом и на который
он уже имеет право.
В противоположность принципам справедливости,
выдвинутым в книге Роулса, К. Эрроу, например,
формулирует принцип продуктивности как основу прав лица на то,
что он производит20. Дело окончательно проясняется, ког-
19 A Just Society? Essays on Equity in Australia. Sydney, London,
Boston, 1981, p. 15—16.
20 Arrow K. Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls.— The
Journal of Philosophy, May 1974, vol. LXX, N 9, p. 248.
202
да либертаристы отвечают на вопрос, кому по
справедливости принадлежит изготовленная в процессе производства
вещь. Оказывается, вовсе не тому, кто вложил в нее свой
труд, т. е. работнику, а тому, кто обладает юридическим
правом на эту вещь, т. е. хозяину производства,
капиталисту. Теории «справедливости как честности» либертаристы
противопоставляют концепцию справедливости,
основанную на понятии «права человека». Суть последней в
общем виде такова: «Если каждый человек имеет право на
свою жизнь, продукты своего труда, на собственные
свободные и независимые суждения, можно считать
справедливостью все то, что не нарушает этих прав, признанных
правовой системой нации, и не делает из них исключения...
Справедливое общество есть общество, которое признает
индивидуальные права и инкорпорирует их в свои
конституционные структуры...»21 Идеи справедливости, согласно
данной теории, характеризуют отношения, в рамках
которых люди несут взаимные обязательства, определяемые
системой прав.
У Роулса права человека устанавливаются в
соответствии с избранными в первоначальной ситуации принципами
справедливости, т. е. они трактуются как функция
социальной справедливости. Для либертаристов «права
человека»— моральный критерий взаимных действий, по
которому можно определить, какие поступки являются
справедливыми. «Справедливость, — пишет Д. Расмуссен, —
появляется в социальной ситуации тогда, когда соблюдаются
«права» всех людей. Таким образом, социальную
справедливость можно понимать через концепцию прав
человека»22. Дистрибутивную схему Роулса отвергают как
нарушающую права индивида уже только потому, что она
предлагает обществу включить в распределение и
перераспределение продукт, который находится в реальном
правомочном владении частных лиц. Функцию прав либертаристы
усматривают в защите индивида от общества, в
подчинении государства «моральному» закону. Право понимают
как имеющуюся у человека гарантию совершать
определенные действия, пользоваться результатами этих действий
без принудительного вмешательства извне. Но
главное, чего добиваются либертаристы, — это морального при-
21 Hospers /. An Introduction to Philosophical Analysis. New York,
1967, p. 616.
22 Rasmussen D. A Critique of Rawls' Theory of Justice. —Personalist,
Summer 1974, vol. 55, N 3, p. 309.
203
знания обществом ценности частнособственнических прав,
повышения авторитета капиталистической собственности.
«Основное право человека, — заявляет Д. Расмуссен, —
право на жизнь, право предпринимать действия, требуемые
для выживания его как человека. Поскольку человек не
есть некий дух и его действия направлены на те ценности,
которые требует его жизнь, право собственности... есть
осуществление права на жизнь»23. Если отвлечься от всякого
рода словесных ухищрений и добраться до самой сути ли-
бертарной позиции по рассматриваемому вопросу, то она
оказывается удивительно простой: право частной
собственности выше социальной справедливости, оно несет в
себе свое оправдание, диктует обществу свой «моральный
закон».
В последнее время в качестве антипода теории Роулса все чаще
выдвигают либертарную концепцию дистрибутивной справедливости,
разработанную Робертом Нозиком, который, так же как и Роулс,
является профессором философии Гарвардского университета, но
принадлежит к консервативному направлению в американской социальной
философии. Их теории противостоят друг другу, различия их подходов
широко изучаются и обсуждаются в западной литературе в связи с
полемикой между «новыми эгалитаристами» и консерваторами. Нозик
предлагает принципиально иное, чем у Роулса, решение проблем
справедливости для капиталистического общества24. По аналогии со
«справедливостью как честностью» его теорию можно назвать «справедливость как
управомочение». Сам Нозик определяет ее как «теорию справедливости,
основанную на правомочии» («the entitlement theory of justice*) 25, а это
означает, что речь идет о доктрине, которая решающую роль отводит
юридическим категориям, связанным с правом собственности,—
владению, приобретению, процессуальным формам передачи вещей и сделок.
Если Роулс направляет свои усилия прежде всего на установление
содержательных принципов справедливости и пытается создать
субстантивную теорию, то Нозик, отказываясь от подобных поисков,
акцентирует процессуальные проблемы и выдвигает своего рода процедурную
теорию справедливого распределения. Справедливость обладания
вещами и ценностями у него связывается не с какими-либо определенными
содержательными критериями, а зависит от того, как возникает данное
владение, каким способом оно приобретается или передается. Подобно
другим либертаристам, Нозик является убежденным противником
государственного вмешательства в экономику, в сферу производства и
распределения.
Дистрибутивные процессы в обществе носят спонтанный,
саморегулирующийся характер, заявляет он, определяются объективными и
стихийными законами рынка, а поэтому нет и не может быть в
капиталистическом обществе централизованного распределения. Каждое
получение в условиях рыночной экономики возникает из добровольных дейст-
23 Там же, с. 309—310.
24 Reading Nozick: Essays on Anarchy, State and Utopia. Oxford,
1982.
25 Nozick R. Distributive Justice. — Philosophy and Public Affairs,
1973, vol. 3, N 1, p. 45—126; Nozick R. Anarchy, State and Utopia. New-
York, 1974, chap. 7.
204
вии и обмена, является результатом многих индивидуальных решений,
предметом особых, вытекающих из требований гражданского оборота
прав. Если бы государство взяло на себя функцию, как того требует
Роулс, распределять и перераспределять общественный продукт,
пересматривать итоги рыночного распределения, то оно тем самым
разрушило бы всю систему прав индивида, сложившуюся естественным
путем.
Каждый человек, считает Р. Нозик, имеет неотъемлемое право на
все, что могут принести ему индивидуальные особенности, таланты, его
производительная способность. Поэтому он оспаривает идею Роулса об
обществе как социальной кооперации, которая относится к дарованиям
и талантам каждого лица как общественному достоянию. Он также
против дистрибутивных приоритетов, вводимых теорией Роулса в пользу
наименее преуспевающей части общества. Более того, Нозик считает
условия социального договора в трактовке Роулса нечестными,
поскольку они открывают возможность эксплуатировать опыт и таланты хорошо
одаренных людей посредственной и ниже чем посредственной частью
общества. Основа этой критики типично либертарная: каждый индивид
свободно пользуется своими способностями и талантами, а также
результатами их применения в собственных целях. Другие члены общества
могут воспользоваться этими результатами лишь с его добровольного
согласия и на основе юридического соглашения. При отсутствии насилия
и обмана люди могут делать все, что хотят, с принадлежащими им
благами и владениями.
Основанная на правомочиях, теория справедливости Нозика
включает в себя различные типы процедурных принципов. Первоначальное
приобретение владений, т. е. присвоение никому не принадлежащих
вещей, контролируется принципами справедливого приобретения.
Поскольку значительную часть того, чем владеют люди, они получают от
других в обмен на что-то или в дар, то выделяется особая группа
принципов справедливой передачи. С учетом этих принципов Нозик
формулирует правила, определяющие справедливость владений: cl. Лицо, которое
приобретает владение в соответствии с принципами справедливости
приобретения, имеет право на это владение. 2. Лицо, которое
приобретает владение в соответствии с принципами справедливости передачи
от того, кто управомочен на это владение, имеет на него право. 3.
Никто не имеет права на владение на условиях, исключаемых первыми
двумя правилами»26.
Распределение, по Нозику, справедливо, если оно возникает из
другого справедливого распределения с помощью законных средств.
Последние обладают способностью переносить справедливость как
качество владения от старого владельца к новому. Поскольку здесь
необходима информация из прошлого, то Нозик определяет свою концепцию как
историческую. История может показать, что первичное владение
возникло в результате кражи или обмана, является несправедливым,
поэтому для таких случаев предназначается третья группа процедурных
принципов, направленных на исправление (ректификацию)
несправедливых владений. Общая основа теории справедливости владения
заключается в том, что лица признаются справедливо владеющими, если они
получают определенные блага по принципам справедливости
приобретения и передачи или по принципам исправления несправедливости.
Недостаток большинства прежних дистрибутивных теорий
справедливости, включая теорию Роулса, Нозик видит в том, что они являются
антиисторическими, игнорируют проблему происхождения владений или
получений на более ранних стадиях распределения. Справедливость рас-
Nozick R. Anarchy, State and Utopia, p. 151.
205
прсделительных ситуаций они выводят не из предшествующих актов
распределения, а в зависимости от того, насколько соответствуют эти
акты какому-то идеалу, желаемому конечному состоянию общества, —
достижению равенства (эгалитаризм), счастья (утилитаризм),
удовлетворению всех потребностей (коммунизм), приоритетному обеспечению
нужд наименее продвинувшейся части общества и т. д. Поставив рядом
непохожие друг на друга теории, Нозик выносит им общий приговор:
эти теории нереалистичны, ибо не учитывают исторический принцип,
который, по его мнению, связывает прошлые обстоятельства, действия
людей с их различными заслугами и правомочиями на вещи.
Другие теории социальной справедливости, хотя и являются
историческими в понимании Нозика, т. е. требуют информации о прошлом
трудовом вкладе, былых заслугах и т. д., имеют, с его точки зрения, иной
порок: они принадлежат к числу шаблонных концепций. Вопрос о
справедливости распределения последние решают с обязательным учетом
всеобщего натурального измерителя (скажем, «коэффициента
интеллектуальности»), жесткого распределительного критерия, единой
дистрибутивной матрицы. «Думать, что задача теории дистрибутивной
справедливости — заполнить пустое место в формуле «каждому по его...» — это
значит склоняться к поиску шаблона...» 27 — пишет Р. Нозик.
Критический пафос этого автора, направленный против так называемых
шаблонных теорий справедливости, понять нетрудно. Кто выдвигает
определенный критерий или единый измеритель, безусловно, допускает, хотя бы
молчаливо, идею централизованной системы распределения, социальный
контроль над дистрибутивными процессами. Это именно то, против чего
выступают Ф. Хайек м, Р. Нозик и другие либертаристы.
Упрекая Роулса за антиисторизм и шаблонность теории
«справедливости как честности», Нозик с гордостью приписывает своей концепции
прямо противоположные качества. А что означают они на деле? Его
нешаблонная теория в сущности выхолащивает рациональное значение
идеи справедливости, лишает ее измерителя, меры. В социальной жизни,
как давно и верно заметили люди, всякая неумеренность и безмерность
уничтожают справедливость. Справедливость без меры —
апологетическая конструкция, выгодная тем, кто владеет сверхкрупными
состояниями, удерживает в своих руках колоссальные богатства. Она
оправдывает практику приобретения больших «владений» и не осуждает
существование «владений» слишком малых. «Каждый владеет тем, на что
имеет право». Можно ли придумать формулу справедливости, которая
больше, чем эта, отвечала бы сокровенным планам и ожиданиям
сверхбогатой верхушки капиталистического общества?
Нозик, собственно, и не скрывает, что либертарное понимание
справедливости в отличие, скажем, от эгалитарного защищает
неограниченную свободу приобретать и накапливать частные богатства. Свобода,
полагает он, опрокидывает всяческие дистрибутивные шаблоны,
предписываются ли они централизованной государственной властью или
устанавливаются, как у Роулса, на базе всеобщего соглашения, социального
контракта. Чтобы показать, как это происходит, Нозик приводит так
называемый пример Чемберлена, конструирует своеобразную
теоретическую модель распределения м, которая, кстати сказать, ныне
оживленно комментируется в западной литературе. Допустим, говорит он, что
в некоем городе все доходы распределены равно, т. е. распределение
97 Там же, с. 159—160.
28 Hayek F. A. Law, Legislation and Liberty, vol. 2. The Mirage of
Social Justice. London and Henley, 1976, p. 85.
29 Nozick R. Anarchy, State and Utopia, p. 170—172.
206
там в эгалитарном смысле является справедливым. По желанию
многочисленных любителей город приглашает популярного баскетболиста
Чемберлена принять участие в играх местной команды на условиях
договора, согласно которому 25 центов из стоимости каждого проданного
билета поступают на счет знаменитости. Можно представить в этой
ситуации что-то вроде контракта между зрителями и спортсменом:
каждый любитель свободно и добровольно передает Чемберлену свои
центы в обмен на удовольствие видеть его высококлассную игру.
Предположим, продолжает Нозик, что в течение сезона местные игры посетил
миллион зрителей, следовательно, доход Чемберлена за это время
составил 250 тыс. долл. — сумму, намного превышающую средний доход
в городе и доход каждого из зрителей. Произошло новое распределение,
которое уже не отвечает шаблону эгалитарной справедливости, так же
как и другим дистрибутивным стереотипам.
«Можно ли признать это распределение и доход Чемберлена
справедливыми?»— ставит вопрос Нозик. Ответ на него, вытекающий из
теории Роулса, был бы, безусловно, отрицательный: никто не заслуживает
большего дохода и лучшего места в жизни вследствие своей природной
одаренности. Нозик же обосновывает положительный ответ, выводя
справедливость данного распределения вовсе не из личных качеств
Чемберлена, его заслуг, трудов и т. д., а из свободы лиц, добровольно
уступивших ему какую-то часть своих доходов на условиях обмена и по
договору. Зрители могли бы истратить 25 центов на покупку газет, пива
или папирос, но они сошлись на согласии передать свои деньги
Чемберлену. Это — их право, за которым стоит свободный выбор действий
по распоряжению своим владением. Все доходы, правомерно
вытекающие из свободно заключенных договоров, являются, по Нозику,
абсолютно и безоговорочно справедливыми, какими бы они ни были по
своим размерам и характеру.
Когда сын или дочь получают огромное состояние в наследство от
родителей, они, конечно, не заработали и не заслужили своего владения,
точно так же как и не приобрели его в соответствии со своим
«коэффициентом интеллектуальности» или какими-либо личными
достоинствами. Дело вообще не в них самих, ибо, с точки зрения либертаристов,
справедливый характер владений вытекает из формальных процедур,
посредством которых приобретаются или передаются эти владения.
«Нешаблонная» справедливость, таким образом, оборачивается крайней обез-
личенностью и деиндивидуализацией распределительных отношений,
механической связью юридических форм, которые порождают собственную
легитимацию, независимую от истории и логики социального развития
и противоречащую ей. В этом смысле «основанная на правомочиях
теория справедливости» Р. Нозика проявляется как сугубо
антиисторическая, поскольку она выдвигает свои принципы в качестве абсолютных
и неизменных начал, не нуждающихся ни в каком
социально-практическом оправдании. Если верно, что некоторые западные теории
справедливости, как утверждает Нозик, безразличны к информации,
относящейся к прошлому, то сам он заслуживает не менее серьезного упрека в том,
что его теория остается по существу нечувствительной к информации о
настоящем и особенно о будущем. Применительно к дистрибутивным
процессам, как их представляют себе либертаристы, идеи социальных
изменений и прогресса лишены всякого значения.
Воскрешая экономическую доктрину «laissez-faire»,
либертаристы пытаются восстановить и соответствующие ей
классические элементы юридического мировоззрения —
правовой формализм (фетишизацию правовой формы), ко-
206
т. е. теорию, по неоконсервативным представлениям,
социалистическую или близкую к тому. Консерваторы
стремятся скомпрометировать «новый эгалитаризм» в глазах
добропорядочного буржуа, отождествляя его с
социализмом. Это — старый и тривиальный прием борьбы
реакционных идеологов, о котором писал еще К- Маркс: «Всякое
требование самой простой" буржуазной финансовой
реформы, самого шаблонного либерализма, самого формального
республиканизма, самого плоского демократизма...
клеймится как «социализм»»34. Что касается Роулса, то его
либерализм, как мы видели, не является ординарным или
шаблонным, применение его схемы, если бы это стало
возможным, потребовало бы широких изменений в основных
структурах капиталистического общества, что, конечно,
дает повод консерваторам подозревать его в симпатиях к
социализму.
Оценивая теорию «справедливости как честности»,
некоторые западные авторы подчеркивают, что Роулс
отходит от модели чисто капиталистического развития, но не
приходит и к идее социализма.
Типичны в этой связи рассуждения американского либерала М. Лес-
нофа 35. В современном мире, заявляет он, есть три типа теорий
дистрибутивной справедливости, ни один из которых не является полностью
удовлетворительным. Он ведет речь о капиталистическом типе, имея в
виду «образцово»-буржуазную теорию Р. Нозика, о социалистическом
типе, последовательно выраженном в марксистской концепции
справедливости, и о некоем промежуточном типе, воплощенном в теории
Дж. Роулса. Либертаристы (Р. Нозик) и марксисты, подчеркивает
М. Лесноф, представляют диаметрально противоположные подходы
к решению проблем справедливости. За исходный пункт анализа
социалистической справедливости он берет принцип «от каждого — по
способностям, каждому — по потребностям», хотя хорошо известно, что
этот принцип характеризует будущее, коммунистическое, а не
нынешнее, социалистическое распределение. Тем не менее этот автор
утверждает: «По социалистической концепции, индивид считается обязанным
вкладывать в общество в соответствии со своими способностями, не
получая от общества в соответствии со своим вкладом. Индивид,
другими словами, не является собственником своих способностей и не имеет
права на их плоды. Они принадлежат обществу коллективно» зв.
Лесноф утрирует и искажает природу социалистической
распределительной справедливости, чтобы добиться более яркого контраста при
сравнении ее с либертарной концепцией. Па Р. Нозику, индивиды —
хозяева своих способностей, которые они имеют право использовать так,
как хотят (продавать на свободном рынке, обменивать на плоды чужих
способностей, особые услуги других людей и т. д.). Все зависит от ин-
34 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 128.
35 Lesnoff М. Capitalism, Socialism and Justice.—Justice and
Economic Distribution. New Jersey, 1979, p. 139—146.
36 Там же, с. 141—142.
207
ронный тезис идеалистической юриспруденции о
первичности права по отношению к общественной жизни и
государству («господство права») и др. В основе всего так
называемого юридического мировоззрения лежит «иллюзия,
будто закон основывается на воле, и притом на
оторванной от своей реальной основы, свободной воле» 30. Именно
эту иллюзию старого метафизического толка возрождают
Нозик и другие либертаристы, несмотря на то что она в
свое время была убедительно опровергнута многими
представителями буржуазной теории права социологического
направления, не говоря уже о глубокой марксистской
критике юридического идеализма. К. Маркс и Ф. Энгельс
резко отзывались о «духовидцах», которые в праве и в законе
видят господство некоей самодовлеющей всеобщей воли31.
Отождествляемая с правом «самодовлеющая всеобщая
воля», или свобода (в либертарном понимании), одним лишь
своим присутствием делает всякую юридическую акцию
самооправданной и справедливой: то, что отвечает закону,
становится в силу этого факта справедливым, а
справедливость есть просто другое название для буржуазного
частного права.
Если либертарная, основанная на правомочиях
концепция Р. Нозика «вдохновлена» практикой
частнособственнических капиталистических отношений, немыслима вне
реальностей буржуазного мира, то с теорией Роулса дело
обстоит сложнее. Многие его критики на Западе видят в
«справедливости как честности» наглядный пример того,
как далеко либеральная мысль может отходить от
традиционных капиталистических ценностей. Отдельные
консерваторы увидели в Роулсе чуть ли не марксиста или во
всяком случае защитника новой программы
социалистического переустройства западного общества. Так, по
мнению неоконсерватора Д. Белла, Роулс предпринял самую
основательную в современной философии попытку
оправдать социалистическую этику32. Д. Белл считает
концепцию Роулса частью пока еще в целом не созданной
политической философии, которая старается построить теорию,
основанную на централизации общественного хозяйства 33,
30 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 63.
si там же с. 63 '64
32 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. New York, 1973,
p. 444; Bell D. On Meritocracy and Equality. — New Equalitarianism.
Questions and Challenges. Port Washington, New York, London, 1979,
p. 44.
33 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York, 1976,
p. 221.
211
щества, проектируемого Роулсом. Несмотря на некоторые
различия в методах и подходах, марксизм и теория
Роулса не представляются Д. Броку принципиально
непримиримыми. «Более того, основная цель теории Роулса, — пишет
он, — с ее требованиями, позволяющими свободное
индивидуальное развитие и создание честных условий
социальной кооперации, не кажется противоположной духу
марксизма или социализма. Если теория Роулса помогает
выяснить и сблизить теоретические основы либерализма и
социализма, то это немалая польза»40. Чтобы понять,
почему Д. Брок столь радостно приветствует это «сближение»,
вспомним недавнее прошлое.
В конце 50-х — начале 60-х годов либералы заявили,
что время активных классовых битв между силами
социализма и капитализма миновало и теперь пришла пора им
сближаться на базе некоей усредненной модели
общественного развития, воплощающей в себе лучшие черты
капитализма и социализма и преодолевающей их недостатки. За
идеей так называемой конвергенции двух
противоположных социальных систем вставала перспектива построения
некоего гибридного общества, которое означало бы, с
одной стороны, существенное перерождение социализма,
утрату им собственного экономического базиса, а с другой —
привитие капитализму отдельных черт социалистического
общественного строя. В то время либералы безуспешно
бились над созданием теории, на базе которой могла бы
произойти пресловутая конвергенция.
Сегодня кое-кто из либералов считает, что такая
теория, хотя и с опозданием (поскольку идеи конвергенции на
Западе утратили былую популярность), разработана
Роулсом41. Во всяком случае именно это имеет в виду Д. Брок,
когда подчеркивает, что социалисты могут принять многое
из теории Роулса, в том числе и требование, чтобы
капиталистическая рыночная экономика удовлетворяла
принципу «справедливости как честности». «И
капиталистическое, и социалистическое экономические устройства,—
заявляет он, — могут быть справедливыми, но другие
важные социальные ценности помимо справедливости
(например, углубление чувства общности, участие рабочих в
экономических решениях) более совместимы с социалистиче-
40 Там же, с. 495—496.
41 Wolff R.-P. Understanding Rawls: A Reconstruction and Critique
of Theory of Justice. New Jersey, 1977, p. 195.
42 Brock D. The Theory of Justice. Symposium: John Rawls's «Тпеогу
of Justice*.— The University of Chicago Law Review, 1973, vol. 40, N 3,
p. 496.
209
дивидуального решения, выбора и согласия, выраженных в сделках
и договорах. Индивид полностью свободен от всяких преддоговорных
обязательств использовать свои способности определенным образом. Ни
общество, ни государство не вправе принуждать индивида к
безвозмездной передаче плодов своей деятельности в коллективное достояние
или в пользу других лиц.
Теория дистрибутивной справедливости Роулса с ее требованием
«каждому — в соответствии с принципом различия» занимает, как
язвительно замечает Лесноф, «слегка курьезное место где-то на полпути
между капитализмом и социализмом». Способности человека в теории
Роулса рассматриваются как его собственные в той степени, в какой
индивид вправе выбирать и определять то, что он собирается вкладывать
в производство. С другой стороны, индивид не полностью собственник
своих способностей, поскольку за ним не признается весь объем
правомочий на плоды его экономической деятельности, ибо принцип
различия устанавливает «право» менее одаренных людей на известные
экономические результаты использования способностей талантливых и
трудолюбивых граждан. В справедливом обществе Роулса получение благ
вообще не зависит от вклада субъекта в общественный продукт. При
таком условии, подчеркивает Лесноф, повторяя широко
распространенный в западной литературе упрек в адрес теории Роулса, утрачивается
разница между людьми, объективно неспособными к эффективной
экономической деятельности, и людьми, просто не желающими работать,
сделавшими сознательный выбор в пользу праздности. Поскольку
принцип различия и некоторые другие «приоритеты» теории
«справедливости как честности» все равно гарантируют каждому некоторую сумму
благ и доходов, можно лишь надеяться на то, что группа сознательных
лентяев будет немногочисленной.
Вопрос о справедливом устройстве общественного распределения,
по мнению Леснофа, остается открытым. Выбор между
социалистической и капиталистической концепцией справедливости может быть
сделан на основе ценностной приверженности субъекта к коллективизму или
индивидуализму. «Каждый, кто ценит человеческую жизнь выше прав
частной собственности,— заявляет этот автор,— может отвергнуть ли-
бертарную капиталистическую концепцию справедливости Нозика, а тот,
кто ценит свободу, должен отвергнуть социалистическую концепцию
Маркса»37. Анализ Леснофа хотя и позволил подчеркнуть некоторые
действительные слабости, половинчатость и эклектичность теории
«справедливости как честности», однако несет на себе печать известной
ограниченности, неточности, особенно в части, касающейся социалистического
понимания справедливости, отличается сравнительно узким диапазоном
сопоставляемых качеств рассматриваемых концепций.
Имеются попытки истолковать теорию Роулса как
совершенно нейтральную по отношению к капитализму и
социализму, полностью совместимую с той и другой
социальной системой. Возможно, что именно такое толкование
больше всего устраивает самого Роулса, отвечает его
первоначальному желанию разработать на высоком
абстрактном уровне интегративную схему для рационализации
дистрибутивных отношений независимо от типа экономики —
капиталистического или социалистического. Во всяком
случае он специально указывает, что выбор между социализ-
37 Там же, с. 145.
212
ским экономическим устройством»42. По всему видно, что
теория Роулса возбудила у либералов старые мечты и
новые надежды, связанные с конвергенцией двух систем,
внедрением либеральных ценностей в социалистическую
идеологию, перестройкой отдельных сторон и институтов
капиталистической действительности по наиболее удачным,
с их точки зрения, социалистическим образцам.
Если интерпретации теории Роулса в качестве попытки
поставить идеи «нового эгалитаризма» над реальными
проблемами борьбы социализма и капитализма допустимы,
а они наверняка допустимы, то возникает неизбежный
вопрос: чем все-таки завершились эти попытки? Отметим
прежде всего, что претензии на теоретическую
нейтральность по отношению к социализму и капитализму
обернулись для Роулса потерей социального критицизма даже в
той мере, в какой он присущ либеральным доктринам
XX в. Д. Брок не считает Роулса «апологетом
капитализма», однако абсолютно невозможно назвать автора теории
«справедливости как честности» критиком
капиталистического общества. Среди либеральных коллег, выступающих
по вопросам социальной справедливости, он заметно
выделяется своей как бы демонстративной невосприимчивостью
к реальным жизненным противоречиям и конфликтам
внутри буржуазного общества. Сегодня многие упрекают
Роулса в том, что он в своей теории не учитывает
«деспотическую организацию» капиталистического производства,
игнорирует то, что равные права и свободы, будто бы
воплощенные в «первом принципе справедливости»,
останавливаются перед воротами предприятия, и т. д.43 Роулс
действительно воздерживается от резких оценок буржуазного
общественного строя, обходит острые проблемы,
порожденные противоборством социализма и капитализма. Он уходит
в свой собственный, придуманный, специальный мир,
конструирует с помощью гипотез, допущений и отвлеченностей
некое «хорошо организованное общество», которое
идеально отвечает его концепции.
Естественно, что такая рафинированная, академическая
теория имеет все шансы не устоять при столкновении с
реальными проблемами общественной жизни. По мнению
некоторых критиков, ей особенно опасно «сближаться» с
марксизмом, динамичной доктриной, сильные качества ко-
43 Clark В., Gintis И. Rawlsian Justice and Economic Systems. —
Philosophy and Public Affairs, Summer 1978, vol. 7, N 3, p. 311—313;
A Just Society? Essays on Equity in Australia. Sydney, Boston, London,
1981, p. 35.
210
мом и капитализмом не может быть предметом
социального контракта и не предполагается в качестве
предварительного условия или следствия принятия определенных
принципов справедливости.
Сопоставляя капиталистический «режим» частной
собственности и социалистический «режим» общественной
собственности, Роулс наотрез отказывается признать
какой-либо один из них единственно справедливым на
основаниях, которые он разъясняет так: «Какая из этих систем
и многие промежуточные формы полнее отвечают
требованиям справедливости — это, я думаю, нельзя определить
заранее. Вероятно, не существует общего ответа на этот
вопрос, так как он зависит в огромной степени от
традиций, институтов и социальных сил каждой страны, а это
особые исторические обстоятельства. Теория
справедливости не включает в себя данный вопрос. Можно лишь в
схематической форме установить принципы справедливой
экономической системы, которая допускает несколько
вариаций. Политические суждения в каждом случае должны
касаться того, какая вариация оказывается практически
лучшей. Понятие справедливости есть необходимая часть
любой такой политической оценки, но она недостаточна»38.
Из этого и других высказываний Роулса в конце концов
вырисовывается замысел дать разработку основных
социальных структур, призванных морально оправдывать
распределение в рамках любых общественных систем.
У Роулса получается, что капитализм и социализм сами
по себе не могут быть предметом моральной оценки и
выбора; то, что в них можно одобрять или порицать, есть
справедливые или несправедливые социальные устройства.
Их, собственно, и исследует Роулс, тщательно избегая
моральных оценок капитализма и социализма в целом. «Хотя
нарисованное Роулсом справедливое общество
предполагает капиталистическую рыночную экономику, оно явно
исправляет худшие стороны капитализма «laissez-faire»,
и было бы ошибкой представлять Роулса апологетом
капитализма»39, — пишет в связи с этим американский
либерал Д. Брок. Социалистическая экономика,
ограничивающая или запрещающая частную собственность, может
также, по мнению этого автора, удовлетворить принципам
справедливости, включенным в план основных структур об-
38 Rawls J. A Theory of Justice, p. 274.
39 Brock D. The Theory of Justice. Symposium: John Rawls's «Theory
of Justice*.—The University of Chicago Law Review, 1973, vol. 40, N 3,
p. 495.
2М
Спор о меритократии
Теория «справедливости как честности» включает в
себя, как мы видели, довольно сложный комплекс
принципов— главных и второстепенных, основных и
дополнительных, интерпретированных в соответствии с задачей
разработать либерально-эгалитарную политическую стратегию.
Можно констатировать известную закономерность,
выражающуюся в том, что при конструировании моделей
общественного развития буржуазные ученые стараются в
первую очередь решить так называемые дистрибутивные
проблемы, связанные с распределением власти и богатства.
Для эгалитаристсв идея социальной справедливости
связана с основным требованием, согласно которому власть
и богатство должны распределяться по возможности равно,
ориентироваться на идеал равенства, как в смысле
возможностей участвовать в системе распределения, так и в
отношении конечных результатов действия данной системы.
Сегодня типичным образцом такого понимания
справедливости на Западе считают теорию Роулса. Эгалитарной
справедливости чаще всего противопоставляют идею
справедливого общества, в котором власть и богатство
распределяются людьми по заслугам. Речь идет ю мерито-
кратическом (от латинского слова meritum — заслуга)
обществе, где каждый получает то, что заслужил, люди
поднимаются наверх благодаря собственным стараниям и
способностям, где социальные неравенства существуют и
оправдываются на основе критерия личных достижений.
Формой правления данного общества является «власть
заслуженных»— меритократия, означающая, что на вершине
государственной организации находятся самые умные и
самые деловые люди — элита, отобранная по признаку
способностей. Дистрибутивные отношения в этом обществе,
естественно, воплощают в себе принципы меритократиче-
ской справедливости, девизом которой является
«каждому— по его заслугам».
В общем и целом меритократия выражает многие
теоретические и методологические установки современной
буржуазной технократической идеологии, в сущности пред-
рая первой ощущает все удары современного кризиса
империализма,— подтверждает актуальность этой ленинской
мысли.
213
торой — акценты на классовой борьбе и противоречиях,
социальных изменениях и конфликтах — в корне подрывают
аргументацию Роулса44. Постепенно рассеиваются иллюзии
данной теории, развенчивается миф о «нейтральности» в
идеологической борьбе между социализмом и
капитализмом. Внимательный анализ показывает, что никакой
«общезначимой» программы для обеих систем Роулс не создал
и создать не мог. Его «хорошо организованное»,
«справедливое» общество есть на самом деле приглаженный,
облагороженный и идеализированный капитализм эпохи
«нового курса» и «государства всеобщего благосостояния». Более
того, оппоненты Роулса из других капиталистических стран
подметили, что предметом идеализации стал именно
американский капитализм. На чикагском симпозиуме по книге
Роулса английский юрист Р. Дворкин говорил: «Одну из
форм критики подсказали мне мои коллеги и ученые,
особенно юристы. Они указывали, что отдельные политические
институты, которые,- по словам Роулса, должны избрать
люди в первоначальной позиции, являются просто
идеализированными формами тех, которые действуют в
Соединенных Штатах»45. Под маской нейтральности выступает
типично буржуазная либеральная концепция с определенным
классовым содержанием и национальным акцентом,
которые трудно скрыть. В сущности Роулс пришел к тому, к
чему он должен был прийти как буржуазный либерал,—
к идеальной модели усовершенствованного посредством
реформ капитализма.
Антисоциалистический характер этой модели не
вызывает сомнений, так же как и ее направленность против идеи
социальной революции. «...Чем выше развитие
капитализма в данной стране, чем чище господство буржуазии, чем
больше политической свободы, — писал В. И. Ленин,— тем
шире область применения «новейшего» буржуазного
лозунга: реформы против революции, частичное штопанье
гибнущего режима в интересах разделения и ослабления
рабочего класса, в интересах удержания власти буржуазии
против революционного ниспровержения этой власти»46.
«Новый эгалитаризм» как либеральное течение, возникшее
в США — высокоразвитой капиталистической стране, кото-
44 Miller R. Rawls and Marxism.— Philosophy and Public Affairs.
Winter 1974, vol. 3, N 2, p. 167—191; Reading Rawls. Critical Studies
on Rawls' «A Theory of Justice*. Oxford, 1975; The Economist, 1975,
November 8—14, p. 124.
45 Dworkin R. The Original Position. — The University of Chicago
Law Review, Spring 1973, vol. 40, N 3, p. 533.
46 Ленин В. И. Поли. собр. соч , т. 20, с. 305.
215
ставляет собой специфическую разновидность последней,
но сказать, что она тождественна дистрибутивному аспекту
технократии, было бы, по-видимому, неверно. Некоторые
западные теоретики, тяготеющие к меритократическим
позициям, пытаются изображать их как альтернативу
технократическому подходу к решению проблем распределения
богатств и власти. Полагают, что меритократия включает
в себя «конструктивные» элементы технократизма, будучи
свободной от его слабостей и недостатков. Мы не будем
сейчас входить в детали подобных представлений и
выяснять вопрос, что «лучше» и предпочтительнее —
технократия или меритократия, тем более что та и другая искажают
социальные перспективы и с марксистско-ленинской точки
зрения являются одинаково неприемлемыми, иллюзорными
доктринами.
Наиболее видным и последовательным защитником ме-
ритократии и меритократической справедливости выступает
Д. Белл — автор проекта постиндустриального общества,
которое, с его точки зрения, должно неизбежно стать
меритократическим. Сопоставляя позиции Дж. Роулса и Д.
Белла, мы приходим к уяснению того, что в последнее время
называют дилеммой эгалитарной и меритократической
справедливости. Они действительно противоположны, если
брать соответствующие концепции в смысле их общей
ориентации на главную ценность: в одном случае — равенство,
в другом — заслугу. Но, как мы видели, Роулс абсолютно
не исключает заслугу как фактор, способный играть свою
роль в дистрибутивных отношениях, он только отрицает ее
ведущее и самостоятельное значение при решении
вопросов распределения. С друг.ой стороны, приверженцы мери-
тократии, подчеркивающие это значение, допускают
равенство в некоторых сферах общественной жизни (например,
при голосовании, при определении возможностей
применения способностей и талантов), не возражают они также
против юридического равенства граждан перед законом. То,
что они совершенно и бескомпромиссно отвергают, есть
идея «равенства результатов», которая, по мнению Д.
Белла, принадлежит социалистической этике47. Спор, таким
образом, идет не о деталях и частностях, а об общих
тенденциях, определяющих стратегию социального развития
капиталистического общества.
47 Bell D. On Meritocracy and Equality.—The New Equalitarianism.
Questions and Challenges, p. 35.
216
Естественно и нормально, что люди уважают заслуги,
стараются иметь их и поощряют подобное стремление
других при условии честного соревнования и равных
возможностей. Все это, надо сказать, меритократическая модель
предполагает, причем она, так же как и эгалитарная
справедливость, теоретически заострена против незаслуженного
успеха в распределении, следовательно, против социальных
неравенств, имеющих в своей основе незаслуженные
результаты. Более того, меритократия пытается устранить из
капиталистического общества всевозможные социальные
иерархии ради возведения только одной — иерархии
социальных статусов отдельных людей в зависимости от их
личных качеств, способностей и достижений. В духе ранней
буржуазной идеологии она отрицает аспекты исторической
действительности, связанные с существованием
наследственных привилегий, аристократической, кастовой
монополии на определенные социальные возможности, клановых
и семейственных средств удержания преимуществ,
изоляции и партикуляризма отдельных групп, зафиксированных
на одном неизменном уровне.
С особой резкостью меритократы осуждают непотизм —
принцип благоволения к родственникам и знакомым при
раздаче должностей и благ, а также систему
протекционизма, практику создания креатур — круга лиц, лично
преданных человеку, облеченному дистрибутивной властью.
Метод распределения в зависимости от родства и
знакомства на базе неформальных и слабо контролируемых
обществом связей, конечно, делает невозможным воплощение
меритократической идеи. Хотя непотизм — явление давнего
докапиталистического происхождения, он чрезвычайно
живуч в современном обществе, снижает его динамизм,
способствуя окостенению отдельных социальных структур.
Меритократы же хотят превратить капитализм в живую,
подвижную общественную систему, в которой индивиды
могли бы свободно перемещаться, двигаться от одной
позиции к другой, полагаясь только на свои силы и на себя,
действуя без покровителей, не пользуясь поддержкой
власть имущих, родителей, родственников, друзей и
знакомых. Они отдают себе отчет, что такую поддержку трудно,
почти невозможно исключить, учитывая некоторые
свойства человеческой натуры, но к этому призывают
стремиться, чтобы «правила игры» были честными, а мерито-
кратические принципы — по возможности более
выдержанными.
Но это заложено и в теории «справедливости как
честности» Роулса. В оценке незаслуженных неравенств как
ill
несправедливых эгалитаристы и меритократы едины.
Разногласия и спор начинаются там, где возникает вопрос об
оправдании неравенств, вытекающих из заслуг, а также из
неодинаковой трактовки самого понятия «заслуги». Суть
дела в том, что меритократия дает широкий простор
развитию социальных неравенств и, следовательно, не имеет
в виду избавить общество от дисгармонии и противоречий,
которые с этими неравенствами неизбежно связаны. Много
ли стоит осуждение незаслуженных неравенств, если,
расширяя или сужая понятие «заслуги», манипулируя
идеологическими категориями, можло представить практически
любое неравное распределение как отвечающее некоторым
меритократическим ценностям.
Обратимся теперь к одному из «первоисточников» мери-
тократической темы в западной литературе, а именно к
книге английского социолога Митчела Янга «Восход мери-
тократии», опубликованной в первом издании в 1958 г.48
Необычная по содержанию и форме, она привлекла к себе
широкое внимание, вызвала интерес к меритократическим
проблемам. На нее ссылаются Дж. Роулс и Д. Белл в
подтверждение некоторых своих аргументов. Для социологов
книга М. Янга представляет собой нечто вроде задачника
без ответов, для реформистов — утопию без надежды, для
обычного читателя — этюд, выполненный не без блеска, в
котором нет ничего законченного и решенного, но есть
попытка примерить меритократию к живому обществу,
взвесить «за» и «против», вообразить или предвосхитить то,
чего может достичь и к чему, наверное, придет меритократи-
ческая социальная система. М. Янг переносит главные
события в будущее и предлагает читателю нечто вроде
социологического анализа истории английской системы
образования и британского общества с 1870 по 2033 г. Все, что
произошло с Англией за этот период, стало предметом
мучительных раздумий некоего автора, рукопись которого
обнаружена якобы в 2034 г. — критическом году
общественной нестабильности и хаоса.
Все началось с того, что британское общество, отмечает
автор, побуждаемое условиями международного
соперничества и желанием выжить как великая нация, вступило на
путь постепенного демонтирования старых кастовых
общественных форм, ликвидации барьеров между
изолированными и враждующими классами. Был взят курс на
интеллектуальную революцию, главным звеном преобразований
48 Young М. The Rise of the Meritocracy. 1870—2033. An Essay on
Education and Equality. Penguin Books (Harmondsworth), 1967.
218
стала общественная система образования. Почему именно
она? Степень социального прогресса зависит от меры
сочетания власти и интеллекта. Общество, желающее
преуспевать, должно научиться блестяще использовать
человеческий материал и таланты, которые, можно сказать, всегда
и везде очень редки. Недоступность образования, препоны
и рогатки для способных людей из низших классов,
отсутствие открытых возможностей и честных условий для
состязания талантов оборачиваются резким снижением
шансов в развитии всего общества. С проведением
первоначальных реформ в системе образования (1870 г. и после)
связывается в книге М. Янга начало эры, при которой
школы и производство ориентированы на отбор умных детей
каждого поколения из всех общественных классов, включая
низшие, на заслугу как критерий для приобретения
профессий, продвижения, подъема по социальной лестнице.
Итак, меритократия сделала первые шаги, и до полной
победы ей предстоит проделать большой путь. Реформы
образования, гражданской службы привели к отмене
патронажа и непотизма, состязательность стала нормой.
Изменился принцип формирования социального статуса
личности: если раньше он был как бы предписан судьбой,
доставался по наследству или в связи с покровительством
сильных людей (предписанный статус), то отныне он
базируется только на личных достижениях человека
(заслуженный статус). Природа, утверждает М. Янг,
распределяет интеллект среди членов общества более или менее
случайно, каждый класс имеет свою «честную» долю
гениев и идиотов. Фундаментальные изменения, начавшиеся
перед 1963 г., привели к перераспределению интеллекта между
классами. В сущности общество разделилось на два класса.
Талантливые получили возможность подняться на высший
уровень, соответствующий их способностям, а низший класс
оказался зарезервированным за теми, кто имел
минимальные способности.
Процесс меритократизации Британии осложняется на протяжении
почти всего двадцатого столетия действием двух противоборствующих
факторов, один из которых воплощается в институте семьи, другой —
в социалистическом движении, выступающем под эгалитарными
лозунгами. Семья упорно тянет общество в сторону, противоположную мери-
тократическому развитию, к старой системе «предписанных статусов».
Аристократическое влияние, замечает М. Янг, не было бы столь
длительным в Англии без поддержки семьи: феодализм и семья идут
вместе. Родители хотят передать свои деньги не кому-нибудь, не
государству, а только своим детям, которых воспринимают как самих себя.
Семья — это всегда оплот наследования, а в последнем человек видит
нечто вроде бессмертия. Тот, кто оставляет наследство детям и внукам,
никогда не умирает. В течение всего столетия, отмечает М. Янг, обще-
219
ство было полем битвы между двумя великими принципами отбора
людей: «по семье» и «по заслугам», и ни один из этих принципов
полностью не победил. То, что делает семью надежной крепостью, есть ее
уникальная и ничем не заменимая роль в воспитании детей. Если бы все
дети, рассуждает Янг, прошли через сиротство, у них, наверное, были
бы равные возможности, но все они являлись бы в равной степени
несчастными. Так что у общества есть основания повременить с отменой
семьи, оно должно быть готовым к тому, чтобы предотвращать вред от
родительского эгоизма, от попыток нечестно передавать свои
преимущества своим потомкам.
В политическом отношении семья тормозила процесс эмансипации
молодежи от старших, освобождения политической системы от
элементов геронтократии. Социальный отбор по семейному принципу означает
подчиненность молодого поколения старшему, «предписанный статус»
включает в себя принятие молодыми людьми норм, образцов поведения
их отцов и дедов, а также мысль о том, что они должны проделать тот
же путь в жизни, что и старшие. Потеряв в условиях меритократии
возможность передать сыновьям свои привилегии, некоторые отцы делают
все для того, чтобы воспрепятствовать продвижению сыновей других
людей, т. е. меритократия столкнулась с подменой при социальном
отборе принципа заслуг принципом возраста, требующим во всех случаях
уступать лучшее место старшим. Меритократии также грозит опасность
стать геронтократией, которую она может преодолеть, возбуждая дух
самостоятельности у молодых людей. «Нельзя сделать прогресс, если
молодежь не обретет уверенности в себе. Пока она принимает домина-
цию старших, нет надежды на подъем в распределении власти»49.
Воображаемый автор рукописи, принимающий близко к сердцу идею
меритократии, приходит к следующему итогу: мы недооценили
сопротивление семьи, которая остается еще очень плодородной почвой реакции.
Со вторым своим противником — эгалитарным социализмом, или
социалистическим эгалитаризмом,— меритократия справилась как будто бы
легче, но и здесь некоторые трудности остались до самого конца
непреодоленными. На первоначальных этапах социалисты (для М. Янга это
члены лейбористской партии) поддерживают меритократию,
отождествляя равенство с возможностью продвигаться в соответствии с
заслугами. Неприятности начались тогда, когда левые потребовали, чтобы все
дети, независимо от их способностей, посещали одну и ту же школу,
получали одно и то же базовое образование. Это противоречило
принципу меритократии, согласно которому необходимы технически
совершенный отбор и сегрегация талантливых и бездарных как условия для
создания высокорациональной и экономичной системы образования. В
центре разногласий оказался вопрос, связанный с престижем нации.
Международное соперничество в сфере образования становится в это время
таким же важным, как и экономическое соревнование между странами.
Битва за высокую производительность, говорит М. Янг, идет на поле
общеобразовательной школы, поэтому многие люди интересуются
техникой образования в не меньшей мере, чем технологией производства.
Англичане присматриваются к опыту США и СССР, сопоставляют
достоинства их образовательных систем и в результате принимают меритокра-
тические принципы как более эффективные и надежные.
Как приверженец меритократии, автор манускрипта, от имени
которого ведет свое повествование М. Янг, готов признать огромный, хотя
и временный, вклад социализма в построение меритократического
общества. Социализм, дескать, вобрал в себя один из элементов
христианского учения, а именно равенство, придал последнему выдающееся зна-
49 Там же, с. 87.
220
чение, внушил на основе данной идеи амбиции рабочему классу. Без
фермента социалистической агитации рабочие остались бы в глубокой
апатии, у них не появилось бы достаточного желания овладеть новыми
шансами. Как освободительная доктрина, социализм боролся против
благодушия, проповедью равенства он возбуждал в людях зависть, а
зависть заставляла включаться в конкуренцию. Словом, социалистическая
пропаганда равных возможностей действовала в пользу меритократии,
способствовала врастанию в нее людей из низших классов. Но если
амбициозные притязания талантливых людей из рабочего класса
приносили прекрасные результаты, то иначе обстояло дело с бездарными. Но
социалисты по инерции требуют всех валить в одну кучу, обращаться
с различными людьми так, как будто бы они равны. Из ускорителя
общественного прогресса, заявляет М. Янг, социалистическая агитация
превратилась в «мешалку».
Закоренелые эгалитаристы постепенно становятся узкой сектой,
рабочее движение упраздняется, по мере того как рабочие и представители
других низших слоев классов склоняются к принятию меритократических
принципов. Самой влиятельной является уже не. рабочая, а некая
техническая партия, выражающая идеи технократии и меритократизма.
В этот период завершается процесс кристаллизации социальных и
политических структур нового общества, которое выступает теперь уже
в оформленном виде.
Общество разделено на два класса, или, лучше сказать, сектора.
Люди распределяются по секторам согласно своим способностям,
причем в расчет берется реальная заслуга каждого, которая становится
объективно измеряемой. Искусство измерения заслуги приобретает
статус науки, достигающей все более точных результатов. Формула
заслуги такова: интеллект + достижения (Intelligence and Effort together
make up Merit: I+E = M) 50. Ценится, следовательно, и сам по себе
интеллект, и его способность к самореализации. Ленивый гений — не
гений. Но в начале карьеры, когда человек имеет дело с системой
образования, обязанной подготовить его к достижению высокой
производительности, решающим фактором отбора является внутренний потенциал
человеческого интеллекта, выражающийся через так называемый
коэффициент интеллектуальности (IQ). Существует некоторый
аттестационный минимум для прохождения в элиту, и где-то после 1990 г.,
говорит М. Янг, каждый взрослый человек с «коэффициентом
интеллектуальности» свыше 125 будет принадлежать к меритократии —
правящему классу.
Интеллектуальная элита чужда всяким сомнениям и
самокритицизму, ибо каждый из ее членов глубоко убежден
в заслуженном характере собственного успеха. Они знают,
что внесли вклад в техническую цивилизацию, что
обладают несомненным превосходством над другими людьми, по
кргйней мере в отношении интеллекта и образования,
дающих почетное место в сложной социальной системе XXI в.
Проблемы, подчеркивает М. Янг, вытекают не из недостатка
самоуважения, а из его избытка: некоторые члены
меритократии настолько преисполнены сознанием своей
важности, что потеряли симпатии людей, которыми они
управляют, их бестактность обижает людей низшего класса.
50 См. там же, с. 94.
221
Поэтому перед школами и университетами ставится задача
воспитывать скромность, выдержку и терпимость у лиц,
вступающих в правящую элиту.
Поскольку интеллект приобрел функции,
принадлежавшие ранее капиталу, продолжает М. Янг, то усилился
интерес к проблемам наследования интеллектуальных
способностей, к генеалогии и генетике. В национальных интересах
и для счастливого супружества каждому молодому члену
элиты необходимо посетить консультацию для вступающих
в брак, чтобы получить там совет перед женитьбой или
замужеством. Считается, что мужчина с высоким
коэффициентом интеллектуальности, если он женится или вступает
в половую связь с женщиной низкого коэффициента,
попросту растрачивает свои гены. В ходе брачных расчетов
учитываются соответствующие показатели жениха и
невесты, их родителей, дедов, прадедов. Редко кто из
государственных служащих высокого ранга женится на девушке,
которая не имеет коэффициент интеллектуальности свыше
130 в своей интеллектуальной генеалогии. Перспективы
развития меритократического общества оказываются
жестко увязанными с организацией целенаправленного
биологического воспроизводства человеческих способностей и
талантов.
Итак, М. Янг понемногу начинает раскрывать изнанку
меритократии, «прекрасного нового мира», принесшего
высокую техническую цивилизацию и материальное изобилие.
Самое главное, пожалуй, состоит в том, что фатально не
налаживаются и не могут наладиться отношения между
заслуженной элитой и теми, кто в силу отсутствия дарований
и слабой воли вынужден оставаться внизу. Талантливые
люди на законных основаниях достойно вошли в высший
класс, а что делать с остальными, обреченными быть
париями, отлученными от активной жизни, содержащимися
обществом из милости? М. Янг показывает, что в этой
проблеме скрывается будущая неизбежная гибель
меритократии, которую она не может предотвратить, несмотря на свою
искушенность и высокий уровень социальной
рационализации.
Конечно, говорит М. Янг, эти члены общества не хотят
признавать себя людьми низшего сорта, они тестируются
вновь и вновь, надеясь, что очередная попытка сможет
принести им благоприятный результат. Тесты с целью
определения коэффициента интеллектуальности проводятся
постоянно с интервалгм в пять лет. В середине жизни
можно ожидать изменения коэффициента в большую или
меньшую сторону, так что у каждого человека, неудачно начав-
222
шего свою жизнь, всегда есть некоторое утешение,
надежда и сознание шансов. Однако с возрастом надежды
иссякают, и тогда создается поистине критическая ситуация:
полностью исчезает объективная опора для самоуважения
человека, и он вследствие этого лишается жизненной
устойчивости, опускается, перестает играть ту роль и выполнять
те функции, на которые рассчитывает общество.
Правящие верхи, разумеется, ощущают всю остроту и
сложность проблемы низшего класса, принимают меры,
направленные на эффективный психологический контроль
над ним. Низший класс нуждается в мифах, и он их
получает. С раннего детства и школьного возраста сознанию
людей низшего класса прививают «миф мужественности»,
поддерживается любовь к спорту, телесной культуре и
ловкости. Их воспитание основано на обучении ремеслам,
гимнастике и играх, их время посвящается занятиям, не
требующим интеллектуального напряжения, но дающим выход
физической энергии, поощряется увлечение боксом и
футболом. Формируется своего рода субкультура низшего
класса, в рамках которой физические успехи оцениваются
так же высоко, как интеллектуальные достижения в
культуре высшего класса. Многим людям «миф
мужественности» помогает обрести уверенность в себе, достичь
психологической уравновешенности, но, конечно, далеко не всем.
Верхи поощряют и сознательно культивируют у лиц низшего класса
надежду на то, что дети и внуки последних будут более счастливыми
и войдут в меритократию. Психологи утверждают, что родители, чьи
собственные планы потерпели крах, склонны перемещать амбиции на
своих детей. Чем большее расстройство жизненных планов пережили
родители, тем большие надежды возлагают они на своих детей. «Делай
так, как я хочу, а не так, как я делал»,— говорят они сыновьям или
дочерям. Родители полностью удовлетворены и психологически
компенсированы, если детям удается то, чего в свое время они сами не смогли
достичь. Это реальное утешение для некоторых, но опять-таки не для
всех.
Психология и психологи, говорится в книге М. Янга, играют
большую роль в меритократии, смягчая или предотвращая резкие
конфликты между высшим и низшим классами. На их рекомендациях и
разработках основывается профессиональный отбор в индустрии, в результате
которого каждый человек, не прошедший по своим умственным
способностям в элиту, получает работу по интересу, т. е. абсолютно
совместимую с его склонностями и натурой. Эмпирически был найден
правильный ответ на вопрос: кто должен делать грязную работу? Ответ был
таким: «Конечно, тот, кому она нравится». Как полагают
эксперты-психологи, в меритократическом обществе М. Янга для немудреной,
тяжелой работы всегда можно найти исполнителя с большими мускулами и
маленькими мозгами. Нужно лишь организовать «встречу» такого
человека и такой работы. В более общем плане психологи советуют элите
принимать в расчет природную ограниченность людей низшего класса,
их непритязательность и отсутствие серьезных амбиций. Социологи, мол,
привыкли наделять низы интеллектуальными и эмоциональными качест-
223
вами, которыми сами обладают. Этот вид социологического мышления,
родственный антропоморфизму, предполагает, что люди низшего
статуса всегда недовольны и склонны к протесту. Но в действительности
большинство из этих людей сами не в состоянии осмыслить значение
своего статуса и потому относятся к нему спокойно. Они работают,
выполняют обязанности по отношению к семье, делают все, что, с их
точки зрения, следует делать, но это люди без больших претензий, не
способные достаточно ясно понимать строение и смысл громадного
современного общества, чтобы выразить эффективный протест. Проблема для
правящих, по Янгу, состоит в том, как изолировать от этой
простодушной и полусонной массы всякого рода смутьянов и агитаторов,
вознамерившихся открыть ей глаза на правду и поднять низы на бунт.
И смутьяны не заставили себя долго ждать. В конце XX — начале
XXI в., говорится в книге М. Янга, меритократия достигла расцвета,
и в это же время появились первые признаки оппозиции,
провозглашающей популистские лозунги. Популисты объявили меритократическую
справедливость обманчивой, и у них были на то основания. После
1990 г. меритократия становится по существу наследственной. Места
отцов с коэффициентом интеллектуальности свыше 125 занимают их
дети с такими же высокими аттестациями. Сегодняшняя верхушка
порождает завтрашнюю и в социальном, и в биологическом смысле. На
основе разработанных нобелевскими лауреатами методов передачи
интеллектуальных способностей возродилась система частных школ, где
детей готовили к высшей судьбе. Вероятность пробиться наверх с самого
низа практически свелась к нулю, идея равных возможностей потерпела
очередной провал. Стало очевидным, что низший класс не имеет
интеллектуальных лидеров и за него некому замолвить слово. Тогда
популисты объявили себя защитниками низов и начали атаку на
меритократическую систему.
Первыми популистскими лидерами выступили женщины
с высоким коэффициентом интеллектуальности,
отвергающие технизированную культуру меритократии,
бойкотирующие технические школы и университеты. Они подняли
знамя романтики и красоты как протест против унылой
системы «подсчета заслуг» и особенно интеллектуального
брака, основанного на генетической калькуляции.
Интеллектуальному диктату элиты они противопоставили
телесную привлекательность людей низшего класса. Женский
протест положил начало левой идеологии романтического
толка.
Широко развернутая критика меритократии пробудила
новый интерес к теории и ценности социального равенства.
Меритократическую систему критикуют за узость в
основных критериях, по которым оцениваются люди. Поставив
себе главную цель — расширение производства,
меритократия различает людей согласно единственному критерию:
как много они дают для производства и потребления.
Наконец, идеологический раскол происходит и внутри
правящей технической партии, одна из местных групп
которой в 2009 г. опубликовала длинный манифест, где
осуждались всякие неравенства и ставились цели достижения бес*
224
классового общества. Социализм, над которым меритокра-
тия одержала как будто бы убедительную победу,
возродился с новой теорией социального равенства, с
требованием равенства для всех человеческих различий.
М. Янг подробно излагает содержание данного манифеста: Каждый
человек достоин равного со всеми уважения за то доброе, что в нем
есть. Каждый мужчина и каждая женщина — гений в своем роде, и
общество должно открыть этот гений, воздать ему должное независимо
от того, в чем проявляется гениальность человека — в делании
горшков, выращивании маргариток, воспитании детей или (если так угодно
меритократии) в изобретении радиотелескопа. «Бесклассовое общество,—
говорилось в манифесте,— должно быть обществом, которое обладает
множеством ценностей и действует на их основе. Где мы оцениваем
людей не только по их интеллекту, образованию, профессии и власти,
но и согласно их мудрости, храбрости, воображению и чувствительности,
их симпатиям и щедрости, там не может быть классов. Как можно
сказать, что ученый выше швейцара с восхитительными качествами отца,
а государственный служащий с необычным умением выигрывать призы
выше водителя грузовика с необычным умением выращивать розы?
Бесклассовое общество должно быть терпимым обществом, в котором
индивидуальные различия так же активно поощряются, как и пассивно
принимаются, в котором достоинству человека придается полное
значение. Каждый человек должен иметь равную возможность не тянуться
вверх при свете какой-то математической меры, а развивать свои
собственные специальные способности, чтобы жить богатой жизнью»51.
Переопределение понятия равенства возможностей, предпринятое
авторами манифеста, выразилось в абсолютном отказе сравнивать и
ранжировать людей на основе избранного критерия, в отрицании единой
и универсальной социальной шкалы, по которой может быть дана
оценка личности. Истинное равенство возможностей означает теперь
свободное, беспрепятственное и полное развитие индивидов по своему
образцу. Подобно лучам от солнца, люди идут в разных направлениях,
каждый своим путем, не мешая и не сталкиваясь друг с другом,
опираясь на свои потенции, свою способность выражать красоту и глубину
человеческого опыта. Соответственно этому в детях следует видеть
будущих индивидов, а не возможных функционеров, полезных для
общества, воспитывать у них желание быть самим собой, а не достигать
престижного результата ценой ломки и уродования их личности.
Популистская и социалистическая пропаганда против меритократии
принесла свои плолы: низы всколыхнулись и пришли в движение,
общество забурлило. Последние страницы рукописи дописываются в мае
2034 г. в обстановке непрерывных забастовок и волнений в
университетах, прокатившихся по всей стране. Скрываемая в течение полувека
и накапливаемая социальная вражда прорвалась наконец в сильных,
активных действиях. Автор потрясен этими событиями, утешает себя
мыслью, что не все пропало, что это еще не революция, а всего лишь
движение, подогреваемое харизматическими личностями в атмосфере
кризиса. Напряженность возрастает. На этом рукопись кончается, но
есть заключительная приписка издателя о том, что автор очерка
покончил жизнь самоубийством. Значит, меритократии пала.
Таково содержание книги М Янга, изложенное в общих
чертах, но с некоторыми интересующими нас деталями. Что
81 Там же, с. 169.
8—315
225
хотел сказать автор, какой урок собирался он преподать
технократам, меритократам, с одной стороны, и
эгалитаристам — с другой, рассказав своеобразную притчу, которую
нельзя, конечно, принимать за прогноз, эти вопросы мы
опускаем, чтобы сосредоточиться на главном — на самой
меритократии. Ее «портрет» в книге М. Янга устраивает,
наверное, далеко не всех технократически мыслящих
буржуазных идеологов: что-то в нем, с их точки зрения,
лишнее, а чего-то нет. Но дело касается только подробностей.
Никто не отрицает, что суть меритократической системы
схвачена и описана верно.
Меритократия у М. Янга после недолгого полувекового
господства пришла к концу. «Неужели это судьба
постиндустриального общества?» — спрашивает Д. Белл. Ведь то
общество, теорию которого он много лет развивает и
которое он именует постиндустриальным, по своей логике есть
меритократия, а справедливость, утверждаемая этим
обществом, есть справедливость меритократическая —
«каждому—по заслугам»52. В постиндустриальном обществе
только технические достижения определяют место
человека в социальной системе. Различия в социальных статусах
и доходах основаны на личных умениях и высшем
образовании. «Без этого никто не может удовлетворять
требованиям нового социального разделения труда, которое
является чертой данного общества»53. Высшие посты и
заработки достаются уже не случайным людям, обладающим
незаурядным нахальством и умением действовать локтями,
отталкивая других, а тем, чье превосходство в умении
работать и в профессиональной квалификации удостоверено
дипломом, подтверждено признанием коллег.
У общества появляется и развивается истинно
меритократическая, по Д. Беллу, черта, согласно которой акцент
переносится на личные способности и достижения. Их
ценность возрастает в материальном и моральном измерении.
Знания, опыт, техническое искусство в постиндустриальном
обществе — это «человеческий капитал». Д. Белл ссылается
на расчеты, согласно которым «вложение» в пятилетнее
52 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in
Social Forecasting. New York, 1973; Bell D. The Cultural Contradictions of
Capitalism. New York, 1976, p. 203, 262—264; Bell D. On Meritocracy and
Equality. The New Equalitarianism. Questions and Challenges. New York—
London, 1979, p. 21—52; Bell D. The Winding Passage. Essays and
Sociological Journeys, 1960—1980. New York, 1980, p. 156—157.
53 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in
Social Forecasting, p. 409; Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism,
P. 203.
226
обучение в колледже приносит мужчинам в течение
рабочей жизни в среднем 13% прибыли в год. Университеты
получили роль, непохожую на ту, которую они играли в
прежние времена. Окончание элитарного учебного
заведения дает человеку преимущества перед выпускниками
массовых или государственных школ. Университеты, которые
раньше просто отражали классовую структуру общества,
теперь становятся арбитрами при определении классовых
позиций членов общества и создании нового слоя людей,
призванного управлять обществом вследствие своего
технического опыта и знаний. Американские колледжи и
университеты, считает Д. Белл, уже заняли свое «законное»
место на воротах в меритократию.
Все более ощутимый признак наступления меритократи-
ческой эры в Соединенных Штатах Д. Белл видит в
беспрецедентном возрастании роли всякого рода аттестатов,
лицензий, дипломов, научных степеней и профессиональных
экзаменов, официально удостоверяющих наличие у
индивида опыта и знаний, необходимых для занятия высоких
должностей, важных постов в обществе. Многие
используют дипломы и другие равные им по значению документы
как мандат, дающий право руководить людьми в
производственной, политической или иных сферах жизни общества.
Дипломы, цель которых — засвидетельствовать приоритет
индивида в смысле знаний, опыта, квалификации,
обязательно предполагают то, что можно назвать системой
тестов в широком смысле слова, — проверки, испытания,
экзамены, экспертизы, публичные защиты диссертаций и т. д.
Добиться официального, документированного признания
своих знаний и квалификации становится важной целью
для тех, кто хочет войти в активный, правящий слой
общества. Ту же тенденцию Р. Дарендорф отмечает
применительно к Западной Европе. Есть достаточные основания
думать, пишет он, что западное общество идет к периоду
«меритократии», предсказанному М. Янгом, т. е. правлению
обладателей дипломов или иных билетов в высший класс
общества. Члены высших классов стремятся получить
дипломы и академические титулы, чтобы удержать свои
высшие позиции54.
Ареной, на которой разыгрываются главные действия,
сталкиваются амбиции, предрешаются жизненные судьбы
членов общества, является система образования, которая
выдает мандаты на занятие высоких мест в социальной си-
54 Dahrendorf R. On the Origin of Inequality among Men.— Social
Inequality. Harmondsworth, 1969, p. 39.
8*
227
стеме. Д. Белл считает, что формируется некое мандатное
общество (the credentials society), где каждый старается
получить свой билет, где общественные страсти и
индивидуальные ожидания все в большей мере вертятся вокруг
системы образования55. Явный страх перед
постиндустриальным обществом, замечает он, вызван опасением
некоторых людей потерпеть провал в получении образования и не
добиться права на вход в привилегированный класс.
Отсюда ажиотаж, связанный с университетским образованием,
обеспечением для национальных меньшинств в Америке
«квот» при поступлении в учебные заведения и т. д. В
требованиях «квот» и позитивных действий в пользу
категорий американского населения, ранее не обладавших
удовлетворительными возможностями получить образование,
Д. Белл видит «атаку на меритократический принцип»,
нарушение меритократической справедливости.
Соединенные Штаты сегодня еще не есть меритократия,
подчеркивает Д. Белл 56, но многие признаки,
предшествующие ее наступлению, уже налицо. Общество, девизом
которого является техническая эффективность и научный
прогресс, само по себе в силу логики современного развития
вступило на путь меритократии, и это, мол, есть лучший
аргумент в пользу последней. Меритократическая
справедливость, признает Белл, не является идеальной (вспомним
предсказание М. Янга!), но, с его точки зрения, «прекрасно»
отвечает техническим императивам современной эпохи, и в
этом смысле у нее нет альтернатив. Достоинства мерито-
кратических принципов Д. Белл рассматривает в сравнении
с жестким и догматическим эгалитаризмом.
Насколько можно судить по тому, что уже здесь
сказано, меритократическая точка зрения базируется на
уподоблении, кстати сказать, довольно грубоватом,
способностей и талантов человека с капиталом, вложенным в него
природой, приумноженным в процессе научения.
Признается индивидуальное право при всех условиях получать
«прибыль» с «интеллектуального капитала». Сторонники
меритократической справедливости имеют дело с
объективированным понятием заслуги, в котором выражается
функциональная связь между природным дарованием,
интеллектом и реальным достижением. Каждый должен,
говорят меритократы, пожинать плоды литого успеха.
55 Bell D. On Meritocracy and Equality.— The New Equalitarianism.
Questions and Challenges, p. 23—24.
56 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social
Forecasting, p. 449.
22®
«Меритократия, — заявляет Д. Белл, — подчеркивает
индивидуализм, состязательность и способность»57. Но успех
скорее всего придет к тому, кто более других одарен,
лучше других сможет воспользоваться преимуществами
принципа «открытая карьера талантливым», кто вследствие
рождения в определенной социальной среде (семья,
группа, класс) лучше приспособлен к условиям жизненного
соревнования, может быстрее выиграть его.
В противовес меритократам Дж. Роулс исходит из того,
что естественное дарование не есть лично принадлежащий
индивиду «капитал», а его реальный измеренный успех не
всегда может быть поставлен в заслугу. Такой подход к
проблеме есть необходимое следствие сформулированного
Дж. Роулсом принципа различия, о котором уже
говорилось. «Мы видим, таким образом, — пишет он, — что
принцип различия представляет в действительности согласие
рассматривать распределение естественных талантов как
общую ценность и разделять выгоды этого распределения,
какими бы они ни оказались. Одаренные от природы, кто
бы они ни были, могут пользоваться своей счастливой
судьбой при условии улучшения ситуации тех, кто в
проигрыше. Люди с более высокими способностями получают
выигрыш, с тем чтобы покрыть стоимость обучения и
образования, так же как поощряются за использование их
способностей в интересах менее удачливых людей. Никто не
заслуживает своих больших естественных способностей и
лучшего стартового положения в обществе. Но из этого не
следует, что подобные различия надо исключить. Есть
другой способ обойтись с ними. Основные структуры могут
быть устроены так, чтобы эти случайности работали на
благо наименее счастливых людей»58. Поскольку
одаренные люди не заслужили своих талантов, а бездарные,
разумеется, не виновны в том, что годились таковыми, то
никого нельзя выделять или исключать из системы
распределения в соответствии с его природными данными.
Поэтому у общества есть все моральные основания
рассматривать особые способности и дарования, в том числе очень
редкие, как ценности, используемые в общих интересах.
На первый взгляд может показаться, что из принципа
различия у Роулса, рассматривающего способности и
таланты как социальное достояние, используемое на благо
всех, вытекает программа обобществления, национализации
57 Bell D. The Winding Passage. Essays and Sociological Journeys,
1960-1980, p. 157.
53 Raivls J. A Theory of Justice, p. 101—102.
229
«интеллектуального капитала». Ничего подобного, однако,
Роулс не предлагает. Он не оспаривает меритократическую
позицию, согласно которой каждый человек вправе
использовать свои дарования, опыт и знания прежде всего в
собственных интересах и продвигаться в обществе на основе
собственных усилий. Но это право имеют все люди
независимо от объема их способностей, поскольку они включены
в схему социальной кооперации, несущей в себе помимо
всего прочего идеи взаимности, солидарности и братства.
На каждом человеке, кооперирующем свои действия с
другими, лежит формальное обязательство не только
осуществлять собственные интересы, но и способствовать
расширению перспектив развития других людей.
У М. Янга, как мы помним, меритократия развалилась
вследствие того, что низы в конечном счете отказались
сотрудничать с высшим классом, обособившимся в своем
генетическом величии и эгоизме. Похоже, что Роулс
задался целью найти выход из трудностей, которые даже
теоретически неразрешимы средствами и категориями меритокра-
тического мышления. Не удивительно, что поиск привел его
к концептуализации эгалитарной справедливости. Между
преуспевающей частью общества и теми, чья судьба
оказалась не столь счастливой, не должно, мол, быть раскола,
обособленности, неприязни, недобрых чувств и отношений.
В справедливом обществе Роулса царит естественная
гармония социальных интересов59, потому что никто ничего не
приобретает, не вкладывая в благосостояние других,
общество уделяет большое внимание людям с худшими
природными данными и менее благоприятными социальными
позициями.
В идею равенства возможностей, которой
руководствуется эгалитарное общество, заложен принцип возмещения,
требующий компенсирования неравенств, а неравенства по
рождению и естественным способностям являются именно
незаслуженными. Эгалитарная справедливость, таким
образом, оправдывает и объясняет необходимость всякого
рода льгот, послаблений для дискриминируемых групп
населения ради достижения их истинно равных возможностей
в сравнении с другими группами.
Особое расположение к «слабой» части общества в
какой-то мере роднит справедливую социальную
организацию, проектируемую Роулсом, с семьей, где забота о
младших и самоотверженное поведение взрослых являются
прочной основой связи между близкими людьми. Меритократия,
См. там же, с. 104.
230
как показал М. Янг, видит в семье своего противника и
соперника, эгалитаристы же, напротив, призывают ее
в союзники, хотя объективно можно себе представить
возможность очень серьезных противоречий между
эгалитарной системой и семейной организацией, семейственностью.
Роулса, несомненно, привлекает то, что семья в ее
идеальном понятии и на практике есть место, где наиболее часто
отвергается принцип максимизации суммы преимуществ.
Члены семьи отказываются от блага лично для себя, если
оно не улучшает положение семьи в целом и не усиливает
перспективы самых слабых ее членов, детей. В этой связи
Роулс пытается переосмыслить и включить в концепцию
«справедливости как честности» идеал братства, почти
забытую в современном капиталистическом обществе часть
знаменитой триады «свобода, равенство, братство», некогда
служившей революционным лозунгом для буржуазии. Этот
идеал затрагивает моральную сторону взаимоотношений
между членами социального объединения и требует от
человека добровольного отказа от преимуществ перед
другими людьми, с которыми он связан близкими отношениями
и общим духом солидарности. Идеал братства, замечает
Роулс, предполагает чувства, которые было бы нереальным
ожидать среди членов широкого сообщества, поэтому его,
как правило, не включают в демократическую теорию,
имеющую дело с реальностями массового общества. Многие
отрицают его значение и участие в политическом процессе.
Но братство тесно связано с демократическими ценностями,
особенно с равенством, которое выражает атмосферу
гражданской дружбы и социальной солидарности. Поэтому
Роулс находит возможным интерпретировать этот идеал
как требование, инкорпорированное в принцип различия и
предполагающее, что лица высокого статуса должны
позволять себе наибольшие преимущества только на основе
схемы, которая работает в пользу отстающих членов
общества.
Из сказанного выше становится очевидным, почему
Роулс не принимает меритократического понятия
«заслуги», а также способа, которым меритократы пытаются
оправдывать индивидуальные достижения и социальные
неравенства. В указанном определении теряется из виду
всеобщий интерес и ориентация на многообразные социальные
нужды, предполагается, что ценность каждого человека
дана определенной системе самой природой, что эту
ценность надо точно измерить и что мера индивидуальной
ценности уже и есть сама по себе заслуга или по крайней мере
ее существенная часть. Такой заслуге одного человека мо-
232
У. Рансимэном различие между уважением и отличением
человека60. Можно всех в равной степени уважать, но
далеко не всех надо отличать, поощрять, вознаграждать.
Меритократия создает людей ценных вследствие их отличия, т.е.
они лучшие в определенной сфере деятельности по оценке
своих коллег. Человек, добившийся статуса отличия в
обществе, есть лучший.
Имея в виду теорию Роулса, Д. Белл формулирует свою
мысль следующим образом: «Принцип меритократии
должен проникнуть в университеты, бизнес, правительство.
Общество, которое не имеет своих лучших людей во главе
его ведущих институтов, есть социологический и моральный
абсурд. Это не противоречит принципу честности. Я могу
признать приоритет наименее продвинувшихся в системе
(при всей трудности его определения) как аксиому
социальной политики, но без снижения возможностей для
лучших подниматься вверх благодаря труду и усилиям.
Принцип заслуг мне кажется необходимой основой
продуктивного общества. Важно, что общество открыто каждому»61.
Таким образом, меритократическое общество Д. Белла
сочетает равное уважение всех с более или менее высокой
степенью отличия некоторых. Все неравенства в престиже
и богатстве, допускаемые здесь, являются неравенствами,
проистекающими из отличия, что делает их, по-видимому,
справедливыми. «В этом смысле мы и можем признать
различия между индивидами. Это та мера, в которой хорошо
отрегулированная меритократия может быть обществом
неравным, но справедливым»62, — приходит к выводу
Д. Белл.
Как бы то ни было, но он все-таки не дает
удовлетворительного ответа на основную нравственную критику
меритократии у Роулса, согласно которой принцип заслуги
неизбежно подтачивает основы самоуважения людей, оттес-
60 Отличение (the praise) связано с понятием нулевой суммы в
теории игр. сУважение» — термин совсем иной природы. Одинаково
отличить двух человек — значит не отличить никого, если не сравнивать их
с другими, но можно одинаково их уважать. Отсюда правило:
свободные неравенства — в отличиях, отсутствие неравенств — в уважении"
(Runciman W. G. Relative deprivation and Social Justice. A Study of
Attitudes to Social Inequality in Twentieth Century England. London, 1966,
p. 275—277).
61 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in
Social Forecasting, p. 454; Bell D. On Meritocracy and Equality.— The New
Equalitarianism. Questions and Challenges, p. 51.
62 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social
Forecasting, p. 455; Bell D. On Meritocracy and Equality.—The New
Equalitarianism. Questions and Challenges, p. 52.
231
жет противостоять в качестве негативного полюса только
распад основ самоуважения у другого человека или других
людей. Вот почему «заслуженные», с точки зрения мерито-
кратов, неравенства оборачиваются утратой согласия
между членами общества, расстройствами и упадком системы.
Эгалитаризм Роулса базируется на ценностях
общественного договора, на соглашении, взаимности, солидарности,
рассматривает самоуважение личности как первичное благо,
которым человек должен обладать при всех условиях.
В сфере распределения заслуга, по эгалитарным понятиям,
играет подспорную, вторичную роль. Продвинувшийся в
обществе человек не может сказать, что он «заслужил»
успех и потому имеет право на схему кооперации, которая
позволила бы ему приобретать блага, не вкладывая в
благосостояние других. В эгалитарной доктрине понятие
заслуги переопределяют так, чтобы «заслуженный» успех и
«заслуженные» неравенства не приводили бы к нарушению
условий общественного договора и не препятствовали бы
свободному развитию каждого человека.
По существу Роулс ведет косвенную атаку на мерито-
кратию, которая легко разрушает в угоду технической
эффективности основы человеческого самоуважения,
обрекает большинство членов общества на положение людей
второго сорта, изгоев. Д. Белл пытается парировать эти
эгалитарные обвинения. Он прежде всего проводит
различие между несправедливой и справедливой меритократией,
связывая судьбу постиндустриального общества только с
последней. Но надо сказать, что само по себе понятие
несправедливой меритократии является логически
противоречивым. Если иерархия социальных статусов основана на
заслугах, и только на них (именно так задумана
меритократия), а справедливость означает, что каждый получает
по заслугам, то в этом смысле несправедливая система уже
не будет и меритократией.
Метод, используемый здесь Д. Беллом, оказывается
чрезвычайно простым: справедливая меритократия — та, с
которой соглашаются и сотрудничают люди низшего
статуса, а несправедливая — та, которая их оскорбляет и
унижает и которую они, видимо, отвергают. Как бы чувствуя
недостаточную убедительность данного теоретического
допущения, Д. Белл обращается еще к одному аргументу,
связанному с основами самоуважения личности. Наряду с
равными возможностями в сфере распределения мерито-
кратический принцип допускает и равное право всех людей
на самоуважение или уважение их личности. Д. Белл
считает полезным проводить вслед за английским социологом
233
няемых на худшие позиции. Равное право на уважение
само по себе проблемы не решает. Если одного человека
только уважают, а другого — уважают и отличают, то
налицо неравенство со всеми его социальными и
психологическими последствиями.
В последние (в основном в 70-е) годы заметной чертой
развития консервативной идеологии на Западе стал
своеобразный симбиоз меритократических идей с социальным
дарвинизмом, евгеникой, социобиологией, с различными
версиями биологической интерпретации природы человека и
социальных проблем. Меритократия с ее огромным
интересом к поиску и отбору одаренных от природы людей на
базе будто бы объективных критериев, как мы видим,
изначально предрасположена к спекулятивному обращению с
биологическими знаниями. М. Янгу не представляло
большого труда предсказать такие в высшей степени вероятные
черты меритократического общества, как «культура»
тестирования и фетишизация «коэффициента
интеллектуальности», безмерный авторитет генетики и появление
«оракулов», нобелевских лауреатов, решающих судьбы людей и
предписывающих обществу должный порядок социальных
отношений.
Практика тестирования детей и молодежи, служащих и
некоторых категорий работников в США, Англии, ФРГ и
других капиталистических странах, введенная как будто
бы с самыми благими намерениями, уже принесла
«коэффициенту интеллектуальности» обеспеченное место в
социальной жизни. Его деструктивное воздействие на социально-
психологическую атмосферу и нравственную жизнь
общества для многих очевидно уже сегодня. Люди испытывают
страх перед тестами, боятся, что на этом судилище им
будет от имени «науки» вынесен приговор, который
невозможно смягчить или обжаловать. Низкий «коэффициент
интеллектуальности» субъективно воспринимается как
жизненный провал или как верное предвестие провала.
Последствием является утрата людьми уверенности в себе, или,
говоря словами Роулса, «основ самоуважения личности».
Идея меритократии в биологической и генетической
трактовке указывает, во-первых, на жесткую корреляцию
социально-экономического статуса индивида и фенотипа его
интеллектуальных способностей, во-вторых, на наличие
якобы надежных средств измерения интеллектуальных
способностей через тесты и «коэффициент интеллектуальности» и,
в-третьих, на определяющую зависимость «коэффициента
интеллектуальности» от фактора наследственности,
врожденных генетических программ развития человека. Из это-
234
го видно, что понятие заслуги у тех, кто развивает эту идею
(Г. Айзенк, А. Дженсен, Р. Херрнстайн и др.), практически
перестает быть социальным, сводится к генетически
наследуемому интеллекту. Если с учетом такого подхода вывести
формулу меритократической справедливости, то она
окажется более узкой, чем та, которую представляет Д. Белл:
вместо «каждому — по его заслугам» получится
«каждому— то его интеллекту, в соответствии с IQ». В основе
биологической меритократии лежит постулат «равных
возможностей», который позволяет полностью абстрагироваться от
социальных проблем при обсуждении различий
интеллектуальных способностей индивидов. Предположение «равных
возможностей» есть мыслительная операция, помогающая
исключить влияние среды, условия воспитания на
индивидуальные способности и -работать с чисто биологической
моделью интеллекта. Но именно с этого предположения,
недопустимого с научной точки зрения, начинаются фальшь и
перекос соответствующих теоретических построений.
Но А. Дженсен и Р. Херрнстайн пытаются представить
структурные неравенства в современном западном
обществе (как результат процессов «сегрегации генов». В любом
обществе, рассуждает А. Дженсен, где обеспечены
приблизительно «равные возможности» образования и высокая
степень социальной мобильности, где социальная
стратификация по преимуществу основана на показателях
образования, квалификации и дохода, более одаренные его члены
стремятся к продвижению на высшие, а менее одаренные —
на низшие уровни социоэкономической иерархии. Таким
образом, продолжает он, если рассматривать социальные
классы как популяции, различающиеся по наборам генов,
то в тех популяциях, которые соответствуют высокому
социально-экономическому уровню, накапливается большее
число генов, определяющих выдающиеся умственные и
духовные способности индивидов63. Данная схема
претендует на опровержение всех социологических классовых
теорий, но в первую очередь здесь, конечно, имеется в виду
марксизм. Глядя в его сторону, Р. Херрнстайн
разглагольствует: «Трудно было бы доказать, что классовая борьба
может быть разрешена перераспределением богатства и
капитала, если бы выяснилось, что соперничающие классы
отличаются друг от друга чем-то большим, чем
экономическое положение»64.
63 Jensen A. Educability and Group Difference. New York, 1973,
p. 151 — 157; Jensen A. Genetics and Education. London, 1972, p. 327—329.
64 Herrnstein R. G. IQ in the Meritocracy. Boston, 1973, p. 43.
235
Если М. Янг представлял себе меритократию по
структуре простой, разделенной всего на два класса — высший и
низший, то А. Дженсен обосновывает так называемую
иерархическую, многоступенчатую меритократию. Критерий
относимости людей к тому или иному слою социальной
иерархии учитывает различие их интеллектуальных
способностей и роли в социальном прогрессе. «Вполне возможно,
что для возникновения нашей цивилизации,— пишет
А. Дженсен,— определенный процент человечества должен
был обладать той способностью, которую мы называем
теперь интеллектом. В то время как незначительное
меньшинство (возможно, 1 или 2%) высокоодаренных людей
было нужно для прогресса цивилизации, огромное
большинство было способно усваивать последствия этого
прогресса»65. В высший слой меритократической системы
войдут, таким образом, люди исключительных дарований,
гении и творцы, чей интеллект является двигателем истории.
Несколько ниже займут места лица, имеющие высокий
«коэффициент интеллектуальности», способные развивать
творческие идеи и углубляться в познание вещей. Далее может
речь идти о людях со средними интеллектуальными
способностями, которым доступны понимание и применение
творческих идей. И в самом основании иерархии находятся те,
кто вообще ни на что не способен.
Некоторые западные теоретики, рассуждающие в том же
ключе, что и А. Дженсен, пытаются даже определить
процентное соотношение между этими категориями людей в
обществе. Полагают, например, что таланты в обществе
распределены по кривой Гаусса: истинно гениальные люди
составляют не более 0,5% населения, столько же примерно
лиц, абсолютно не способных к какой бы то ни было
умственной деятельности; число одаренных, талантливых людей
определяют приблизительно в 2%; у 25% населения
уровень интеллекта на 10—30% выше среднего, но столько же
и людей, у которых этот уровень на 10—30% ниже
среднего66. С некоторых пор такого рода расчеты стали
модными на Западе. Их точность лежит, конечно, «а совести
авторов, и она, безусловно, в высшей степени сомнительна. Но
проблема в конечном счете заключается не в цифрах, а в
принципиальной допустимости или недопустимости
сортировки людей по их умственным способностям.
Биогенетические модели общества А. Дженсена и Р. Херрнстайна это
допускают, из этого исходят, в этом их суть, а будет ли
65 Jensen A. How Much Can We Boost IQ and Scholastic
Achievement?—Harward Educational Review, 1969, N 39, p. 89.
66 Vorilhon C. La geniocratie: le genie an pouvoir. Brantom, 1978.
236
диаграмма «иерархической меритократии» представлена
кривой Гаусса или чем-либо еще, уже в сущности неважно.
Крайняя претенциозность, а подчас агрессивность, с
какой сторонники тестирования и «коэффициента
интеллектуальности» пропагандируют, навязывают свои выводы
западному обществу, свидетельствуют о том, что в части научной
доказательности у них не все ладится. Это сейчас хорошо
показано критиками биогенетического подхода к
социальным проблемам. У нас нет возможности входить в
-подробности этой критики67, «о скажем, однако, что по существу
ни одна основная научная категория, с которой работают
А. Дженсен и другие, ни одна исходная посылка, на
которую опирается их аргументация, не являются в строгом
смысле доказанными. Расплывчатым и опорным остается
само понятие «интеллект», и, следовательно, до сих пор не
вполне ясно, что, собственно, следует измерять при помощи
тестов. Некоторые психологи утверждают, что в ходе
тестирования выявляются не столько умственные способности
индивида, сколько приобретенные им в процессе научения
навыки мышления и поведения68. Несостоятельными
признаются почти все методики тестирования, обнаруживаются
подлоги и фальсификации экспериментальных данных,
лежащих в основе соответствующих методических
рекомендаций, и т. д.
Но главное, конечно, в том, что повисает в воздухе
основополагающее теоретическое допущение биологической
меритократии, согласно которому якобы существует
генетическая предопределенность социального статуса человека, его
позиций и общественного поведения, классовой
принадлежности. Оно, это допущение, базируется на произвольных
выводах, неосторожных обобщениях, некорректных
высказываниях некоторых ученых, работающих в области
генетики, нейрофизиологии, этологии и т. п. Однако взгляды
последних не являются господствующими в биологической
науке. Большинство биологов прямо говорят о том, что в
настоящее время нет экспериментальных и иных
доказательств существования генетических причин социальных
неравенств.
Примечательно, что иногда тот, кто склонен
рассматривать социальные и особенно этические проблемы через
категории генетики, проявляет понятную осторожность при от-
67 Мы отсылаем читателя к книге Д. Лолера «Коэффициент
интеллекта, наследственность и расизм> (М., 1982).
68 Elias М., Elias P., Elias /. Basic Process in Adult Developmental
Psychology. Saint-Louis (Miss.), 1977, p. 75, 56—73.
237
вете на данный вопрос. Например, Эдвард Вилсон, один из
зачинателей так называемой социобиологии, характеризует
идею наследственного приобретения социального статуса
как недоказуемую. Многие наследственные факторы,
которые могут играть роль при достижении успеха, не
поддаются точному или вообще какому-либо измерению. С
биологической точки зрения «коэффициент интеллектуальности»
несовершенен. Если бы только гены были ответственны за
успех и продвижение членов общества вверх, они могли бы
очень быстро сконцентрироваться в высших социоэкономи-
ческих классах. Предположим, пишет Э. Вилсон, что два
класса начинают с 1% частоты гомозиготов69
высококачественных генов и что в каждом поколении 50% гомозиготов
в низшем классе передается верхнему. Уже через десять
поколений, в зависимости от относительных размеров
группы, верхний класс сосредоточит 20% и более ценнейших
гомозиготов, а низший сохранит только 0,5% и менее70.
Если это учесть при оценке перспектив меритократического
общества, то окажется, что через некоторое время оно
утратит принцип отбора людей по заслугам, перестанет быть
меритократией и превратится в обычную наследственную,
самовоспроизводящуюся элиту.
Социальная или эмпирико-социологичеокая
аргументация критиков биологической меритократии (или, как ее
иногда называют на Западе, «идеология IQ») многоаспектна и
убедительна. Хотя в жизни человека экономический успех
или политическая карьера часто связаны с высоким
«коэффициентом «интеллектуальности», характеризуя статус
того или иного лица, отношение между ними не являете*
причинно-связанным. Скорее оно результат того факта, что
успех и IQ обусловлены социально-классовой средой и
уровнем образования. Если мы берем в расчет эти факторы, то
сам по себе IQ уже мало что может добавить к
возможности предсказать индивиду экономический или какой-либо
иной жизненный успех.
Отмечают, что в условиях современного западного
общества интеллектуальные, а также познавательные
способности, которые удостоверяет школа, играют значительно
меньшую роль в достижении экономического успеха, чем,
скажем, авторитет диплома. Человек, закончивший престиж-
69 Зиготами называют клетки с двумя наборами хромосом,-
образующиеся в результате слияния двух половых родительских клеток. Если
хромосомы несут одну и ту же форму генов, то такая клетка является
гомозиготной.
70 Wilson Е. Sociobiology. The New Synthesis. Cambridge, 1975,
p. 554—555.
23в
71 Bowles S., Gintis М. IQ in the United States Class Structure. The
New Assault on Equality. New York, 1974, p. 27-—30.
72 Phillips D. Equality, Justice and Rectification. An Exploration in
Normative Sociology. London, New York, San Francisco, 1979, p. 38.
./
ный колледж или университет, добьется большего, чем
другие лица, имеющие тот же/самый «коэффициент
интеллектуальности», но прошедшие иную школу. Наконец,
«передача социального и экономического статуса от одного
поколения к другому осуществляется главным образом
через некогнитивные механизмы»71, которые независимы от
генетически наследуемых интеллектуальных свойств
личности. Следовательно, экономические преимущества,
получаемые людьми через институт семьи и наследования,
абсолютно не поддаются анализу в категориях генетики, не
могут быть объяснены при помощи методов биологической
меритократии.
Обращают на себя внимание внутренне присущие
меритократическим построениям непоследовательность и
противоречивость, произвольность в выборе логического
содержания .понятия заслуги. Одни видят заслугу в том, что
человек выполняет известную работу не только для себя, но и
для общества, делает вклад в систему, другие, подобно ме-
ритократам, склонны сближать и даже отождествлять
заслугу с врожденными способностями, талантами человека,
с его производительным потенциалом. «Но тут возникает
интересный вопрос,—пишет английский социолог Д. Фил-
липс,— можно или нельзя сказать, что люди «заслуживают»
естественные дарования, которыми они осчастливлены.
Заслуживают ли индивиды, одаренные высоким интеллектом,
например (все равно, определен ли он генетически или
нет), больших социальных преимуществ, которые они
способны достичь через него? Если да, то почему? А
заслуживают ли индивиды, наделенные прекрасной внешностью
или огромной силой, каких-либо наград, выпадающих на
их долю вследствие этого? Если нет, то почему? Далеко не
само собой разумеется, что высший интеллект сам по себе
заслуживает награды, а прекрасная внешность или
огромная физическая сила —нет»72.
Поставленная Роулсом проблема морального
оправдания заслуги и успеха является, как мы видим, роковой для
меритократии, которая из многих качеств человека берет и
абсолютизирует только одно — интеллект, а из многих
сторон и способностей интеллекта выделяет только одну —
производительность, способность создавать ценности, полезные
для себя и для других. Биологическая интерпретация ме-
\
239
ритократических идей, связанная с постоянными и
шумными спорами, перерастающими иногда в скандал,
способствовала известной компрометации этих идей. Не
удивительно поэтому, что сейчас предпринимаются усилия «спасти»
меритократию, дать ей новую формулировку,
принципиально не нуждающуюся в генетической или какой-либо иной
биологической трактовке. Одна из попыток такого рода
принадлежит американскому философу Норману Дэниелсу,
который широко определяет меритократию как социальный
порядок, основанный на особом понятии заслуги73.
Поскольку таких понятий много, так же как и социальных доктрин,
придающих заслуге определенное дистрибутивное значение,
то можно говорить о множестве видов различных
меритократии в смысле общественных распределительных систем.
Даже теория справедливости Роулса, столь
демонстративно противопоставившего свою концепцию меритократиче-
скому принципу, представляет, с точки зрения Н. Дэниелса,
определенный вид меритократии. Явно перепутав принципы
социалистического и коммунистического распределения,
говорит он о социалистической меритократии, система
вознаграждений которой обеспечивает равенство в
удовлетворении потребностей74. Н. Дэниеле пытается преодолеть
противоположность эгалитарного и меритократического
подходов к дистрибутивным проблемам справедливости,
поэтому «эгалитарная меритократия» ему не кажется
алогичным термином.
Дэниеле заявляет, что свою модель меритократии он
выводит «из сатиры Митчела Янга на мировое
технократическое общество, в котором все назначения на работы и
вознаграждения организованы на базе заслуг»75. Однако у
Янга берет он по существу одну тему — выбор работы для
людей и подбор людей для работы, т. е. проблему, которая
чрезвычайно остра в условиях экономических кризисов,
безработицы, борьбы за рабочие места, за возможности
профессиональной подготовки и т. д. Некоторые люди
обладают специальными способностями и интересами,
необходимыми для лучшего осуществления работ определенного
социального значения и престижа. Эти способности и
интересы образуют основу требований лиц, заслуживающих
наибольшего вознаграждения за свою работу.
Меритократия, пишет Н. Дэниеле, представляет собой общество,
основные институты которого руководствуются теорией дистрибутивной
73 Daniels N. Meritocracy.—Justice and Economic Distribution. New
Jersey, 1978, p. 164.
74 См. там же. с. 170—171.
75 Там же, с. 164. 7
240 /
справедливости, включающей три типа /Принципов: 1) принципы
замещения рабочих мест, по которым индивиду присуждается работа на
основе заслуг; 2) принципы, определяющее условия, при которых
осуществляется замещение рабочих мест; 3)/принципы системы вознаграждений
(оклады, содержание и т. д.) за работу. Что нужно для того, чтобы
заслужить работу? Прежде всего/ определенный тип способностей,
подходящий для этой работы, затем соответствующая мотивация и
заинтересованность в ней. Все решает, следовательно, объективная
приспособленность человека к работе. Одни люди рождаются для умственного
труда, другие — для физического; индивид может заслуживать одну
работу больше, чем другую; одно лицо может заслуживать данную
работу больше, чем другое. Различные плоскости сопоставления характера
работ и способностей исключают применение единой шкалы различий
способностей, выражаемых IQ.
Следовательно, методика Р. Херрнстайна здесь неадекватна и
неприменима. Если человек не подходит к престижной работе по типу
своих способностей или личностных черт, он не должен ее занимать,
несмотря на то что он обладает чрезвычайно высоким «коэффициентом
интеллектуальности». Заслугу Н. Дэниеле выводит не из самой
способности, но только из факта, что способность может играть определенную
социальную роль при замещении работ. Подбирать людей на работу
надо так, чтобы максимизировать полное осуществление этой работы;
поэтому основным принципом замещения является продуктивность,
рассматриваемая на микро- и макроструктурном уровне. На каждой
работе должен быть человек, обладающий максимумом компетентности;
индивид только тогда заслуживает работу, если его назначение будет
частью продуктивной массы назначений на работу в масштабах
общества.
В принципе Н. Дэниеле соглашается с Дж. Роулсом в том, что
человек морально не заслуживает тех интеллектуальных качеств,
которые он получает случайно в итоге «естественной лотереи», поэтому его
методика подбора людей и работ в процессе справедливого замещения
рабочих мест не предполагает «замера» интеллекта или что-нибудь
подобное. Нет нужды при этом сравнивать людей между собой, так же
как и их достоинства. Проблема заслуги перестает быть, собственно,
личностной и принимает сугубо функциональный характер. Установить
соответствие данного человека определенной работе можно только
эмпирически и интуитивно, на основе профессионального отбора под
контролем ответственных экспертов. Выдвигая на первый план принцип
продуктивности и эффективности, Н. Дэниеле ставит тем самым под
вопрос все требования на рабочие места, которые не совсем укладываются
в этот принцип (например, требования равенства женщин с
мужчинами, равенства рас, наций, этнических групп и т. д., требования
компенсации за прошлую дискриминацию социальной группы в форме
позитивных действий и «квот»). Модель меритократии Н. Дэниелса
предусматривает возможность отвергать многие беспокойные для правящих
верхов требования на рабочие места как не отвечающие принципу
продуктивности.
Совершенно очевидно, что сам по себе отказ от
одиозной биологической интерпретации меритократических идей
не делает эти идеи более привлекательными, на что
рассчитывают западные социологи. Остается неизменной
технократическая, элитарная суть меритократии, включающая в
себя в качестве постоянного компонента установку на
некие объективные, основанные на заслуге требования из-
241
бранных лиц на высшие места в обществе и на лучшие
вознаграждения в дистрибутивной сфере.
Далее, все модели меритократии содержат более или
менее развитую систему рекомендаций относительно отбора
людей по заслугам, способностям, личностным чертам
и т.д., выделения «сливок» общества. Большую роль в
стимулировании общественного интереса к меритократии
играет тезис о редкости талантов, высоких интеллектуальных
способностей, так же как и об их громадной социальной
ценности, в условиях технизированного,
высокопроизводительного общества, успехи которого зависят от
интеллектуальной элиты. Меритократы призывают капитализм по
крупице собирать и бережно хранить золотой фонд, т. е.
высочайшие таланты, которыми природа одаряет лишь
немногих людей.
Но теоретически и практически дело сводится к тому,
чтобы заново обосновать «права» нынешней
капиталистической верхушки, переименовав промышленную и
финансовую элиту в элиту интеллектуальную. Тот, кто сумел
нажить миллионы и миллиарды на финансовых операциях
или вкладывая капитал в производство, имеет все
основания считаться «гением бизнеса», носителем интеллекта,
намного превосходящего интеллект тех, кто не имеет
богатства. Нынешняя практика тестирования и выведение
«коэффициента интеллектуальности» лишь подтверждает тот
факт, что меритократия есть новая маска плутократии.
В то время как меритократы, нацеленные на поиск редких
талантов, обнаруживают их (конечно, в нынешней элите),
огромное число талантливых людей из народа не находит
либо находит крайне ограниченное применение в
капиталистической системе производства, в политике, культуре и
других сферах жизни.
Капитализм никогда не был рачительным и бережливым
в отношении человеческих способностей и талантов,
которых в народе, как указывал В. И. Ленин, «непочатой
родник», он их «мял, давил, душил тысячами и
миллионами»76. Может быть, сегодня положение изменилось?
Отнюдь нет. Пока меритократы занимаются разговорами о
дефиците способностей и талантов, капиталистическая
социальная система грубо избавляется от требований многих
членов общества, чьи высокие способности и таланты
официально удостоверены дипломами об окончании
колледжей и университетов, переводит их в разряд лишних, не-
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 195.
242
нужных людей, в интеллектуальной активности которых
никто не заинтересован.
Среди зарегистрированных безработных растет доля
лиц с высшим и средним специальным образованием.
Безработица становится бичом для людей творческих
профессий, обладающих сравнительно редкими талантами,»—
артистов, художников, музыкантов и т. д. Она затронула даже
университетскую профессуру, т. е. категорию лиц, в высшем
интеллектуальном призвании которых, как правило, никто
не сомневается. «Сегодня, когда тысячи специалистов в
гуманитарных областях знания со степенью «доктор
философии» ищут работу или заняты неквалифицированной или
полуквалифицированной работой, можно, несомненно,
говорить о перепроизводстве интеллекта и неспособности
страдающей от кризиса экономики найти применение
человеческим потенциям, которые она создала»77. Какой же,
опрашивается, смысл говорить о дефиците интеллекта в
условиях его фактического перепроизводства при
капитализме? Смысл, очевидно, в том, чтобы искусственным образом
завысить социальную ценность лиц, которых меритократы
сочтут возможным назвать интеллектуалами. (В том же,
что это всегда будут представители высших кругов,
правящей элиты буржуазного общества, можно не сомневаться.)
Печать лицемерия лежит также и на отношении мери-
тократов к проблемам «равных возможностей» и заслуги.
Предположение, согласии которому социальные
возможности у всех равны, позволяет интерпретировать идею
заслуги безотносительно к действующим социальным факторам,
таким, как классовая принадлежность, уровень воспитания
и образования, наследственный семейный капитал, деловые
и иные связи, влияющие на процесс достижения успеха,
и т.д. На самом же деле нельзя всерьез говорить ни о
равных возможностях в капиталистическом обществе, ни о
независимом от социально-классовой среды, в которой
действует индивид, статусе заслуги. Обе указанные выше
проблемы намеренно запутываются. По замечанию одного
из западных авторов, «равенство возможностей есть
трудно определимое понятие, и поэтому, вероятно, будет
невозможным признать истинную меритократию, когда она
наступит. Идеал почему-то предполагает, что каждый
имеет в себе некоторое зафиксированное количество
способностей и что он заслуживает награды соответственно этому
количеству. На практике же очень трудно увидеть, как
77 Лолер Д. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм,
с. 238.
243
можно измерить это количество независимо от
возможностей индивида, при которых он развивается»78. Упорное
стремление приверженцев меритократической идеи
выработать понятие заслуги, основанное на сугубо персональных
характеристиках и на противопоставлении личных
факторов общественным, не дало положительных результатов.
78 Berthoud R. The Disadvantages of Inequality. A Study of Social
Deprivation. London, 1976, p. 43.
Глава V
Проблемы
политической стратегии капитализма:
выбор и решения
Степень участия либералов и консерваторов в
разработке стратегических установок внутренней и внешней
политики правительств ведущих капиталистических держав
является, безусловно, одним из самых достоверных показателей
их идеологической активности. Ныне в этой связи явный
перевес на стороне консерваторов. Дело, конечно, не
только в том, что на постах руководителей государственных
служб, советников и научных консультантов в
правительственных органах США, Англии, ФРГ консервативные
профессора, университетские преподаватели сменяют своих
либеральных предшественников. Идет постепенный процесс
политической переориентации, или, как говорят на Западе,
«замены приоритетов», во внутренних и международных
делах. Средства массовой информации изображают это как
поворот к новой эпохе, говорят о «консервативной волне»,
которая катится от США к западноевропейским странам
и Японии, о «небывалом» росте консервативных настроений
среди населения. Если отвлечься от преувеличений и
оценивать факты, как они есть, то становится очевидным, что
нынешняя «консервативная волна» возникла не спонтанно,
не сама по себе, а запланирована и организована
влиятельными кругами империализма, прежде всего американского.
В течение ряда лет крупный бизнес сколачивал блок
самых реакционных политических сил, создавал
многочисленные центры консервативной мысли, не жалея средств
для финансирования исследований и разработок. Был взят
курс па консолидацию разношерстных, прежде
изолированных, группировок на почве недовольства практикой
государственно-монополистического регулирования и политикой
разрядки на международной арене. Работа ведется
обстоятельно и методично в течение уже продолжительного
245
времени. Сегодня Соединенные Штаты буквально усеяны
«супермозговыми» центрами и «научными» институтами,
которые идеологически обеспечивают консервативную
политику, действуют в тесной связи с республиканской
администрацией Рейгана.
Кажется странным, что нынешним консервативным
идеологам и политикам, которые явно выражают интересы
не просто богатых людей, а богатейшей верхушки
общества (одного или менее чем одного процента населения),
удается найти ключ к избирателям из «средних слоев»
общества, пользоваться их голосами для осуществления
своих политических целей, теснить либералов, вроде бы
более близких к мыслям и настроениям тех же «средних
слоев». Объяснить это только активностью консервативной
пропаганды, применением изощренных демагогических
приемов было бы недостаточно, хотя социальная демагогия
действительно виртуозна, массивна и очень продуманна.
Нынешний политический «подъем» консерватизма стал
возможным не потому, что он доказал свое преимущество
перед любой другой альтернативной политикой, а
вследствие кризиса, несостоятельности многолетнего
политического курса, вдохновленного в той или иной мере
либеральными доктринами.
Заманчивые программы «государства благосостояния»
оказались обманом, люди устали от бесплодных реформ и
пустых обещаний, ощутили утрату многих ценностей,
перестали доверять правительству, партиям, законодательным
собраниям и судам, словом, всем политическим институтам,
вместе взятым. Либеральная терпимость в глазах многих
отождествляется с эксцессами «пермиссивного» общества,
где нет никакой ответственности и дисциплины, где все
дозволено, т. е. с эксцессами дряблого общества, не
способного положить конец разгулу насилия и преступности,
проявлениям низменных страстей и инстинктов.
Большинство американцев, по признанию средств массовой
информации, не покидает чувство постоянного страха, ощущение,
что они живут в обществе, которое идет под откос и
разваливается. На этих настроениях, эмоциях страха,
неуверенности, глубокого расстройства и разочарования, как на
дрожжах, поднимается консерватизм.
Свой самый значительный политический капитал
нынешние консерваторы наживают на критике либерализма,
особенно таких его разновидностей, как популизм и
эгалитаризм. Эту критику стараются сделать созвучной
общественному настрою страха и безысходности. Вот что пишет
американский автор П. Стейнфелс об одном из влиятель-
247
Можно сказать, таким образом, что в теоретическом
отношении консерваторы часто паразитируют на
либерализме, предлагают в качестве собственных решений просто
перевернутые наизнанку тезисы либеральных эгалитарных
доктрин. С учетом этого попытаемся охарактеризовать
суть теоретических расхождений по глобальным,
стратегическим проблемам развития капитализма между «новым
эгалитаризмом» как течением, в котором наиболее
последовательно выражены традиции буржуазной либеральной
мысли, с одной стороны, и консервативными взглядами —
с другой. Суть разногласий по некоторым из этих проблем
мы уже рассматривали, по другим проблемам это еще
предстоит сделать. Так, в спорах относительно позитивных
действий и «квот»4 «новые эгалитаристы» настаивают на
осуществлении специальных льготных мер в пользу групп,
которым необходимо преодолеть неравенства, вытекающие
из их прошлого. Они ратуют за новую ситуацию
возможного равенства, при котором простое равенство обращения с
этими группами увековечило бы их «статус-кво», т. е.
фактическое неравенство. Что говорят по этому поводу
консерваторы, мы видели на примере аргументов Д. Белла —
ярого противника системы позитивных действий и «квот»
в США.
Более общий и принципиальный политический вопрос,
находящийся в центре споров между «новыми
эгалитаристами» и консерваторами, касается развития буржуазного
государства, судьбы его экономических функций и
социальной политики. Консервативная атака на «государство
всеобщего благосостояния», которая ведется сегодня со всех
сторон п на всех уровнях — теоретическом, идеологическом,
практическом и т. д., — готовилась давно и
целеустремленно. В то время как либералы, захлебываясь от восторга,
превозносили цели и планы государства, взявшего на себя
миссию обеспечить быстрый рост экономики и
справедливое распределение национального дохода, покончить с
кризисами производства, инфляцией, безработицей и прочими
социальными недугами, ослабить, а затем и вовсе
исключить из общественной жизни противоречие между наемным
трудом и капиталом, т. е. пока либералы «благовестили» о
4 Bell D. Meritocracy and Equality.—The Public Interest, Fall 1970,
p. 29—68; Glazer N. Affirmative Discrimination: Ethnic Inequality and
Public Policy. New York, 1975; Conrad J. The Debate about Quota Systems:
An Analysis — American Journal of Political Science, 1976, vol. 20, N 1,
p. 135—149; Sher G. Groups and Justice.—Ethics, January 1977, vol. 87,
N 2, p. 174—181; Global Inequality: Political and Socioeconomic
Perspectives. Boulder, 1979, p. 221, 229—230.
246
ных консервативных течений в США: «В центре
неоконсерватизма— страх перед культурным хаосом и желание
установить культурную дисциплину»1. Неоконсерваторы
считают, что «правящие институты американского
общества и, вероятно, демократических наций вообще охвачены
кризисом доверия»2.
От хаоса — к порядку, от разболтанности — к
общественной дисциплине, от страха — к уверенности — таков путь,
предлагаемый консерваторами. Сегодня он устраивает
легковерных избирателей, но этот путь едва ли будет долгим,
ибо впереди со всей четкостью уже обозначились тупики и
обрывы. Истинные причины хаоса и страха лежат в
общественной природе капитализма. Они глубже и дальше тех
проблем, которые обсуждаются в политических спорах
либералов и консерваторов. Ни те, ни другие не выдвигают
эффективной стратегии коренного переустройства
капиталистической общественной системы, ликвидации
устрашающих сторон социальной действительности; Внутренняя и
внешняя политика находящихся у власти консерваторов с
ее головокружительными виражами, авантюристическими,
опасными для мира акциями начинает вызывать в
американском обществе смятение, хаос и страх более широких,
чем раньше, масштабов. Рано или поздно это ударит по
консерваторам и их политике. История учит тому, что на
критику политического «врага» (внутреннего или внешнего)
нельзя рассчитывать слишком долго как на источник
политической силы. Других же источников у различных
консервативных направлений либо мало, либо практически нет.
Вновь сошлемся на весьма компетентную характеристику
неоконсерватизма у П. Стейнфелса: «Неоконсерватизм в
США никогда не имел твердо сформулированной
политической доктрины. Это есть поток мнений, система
приоритетов, отбор проблем, предпочтение определенных типов
объяснения, согласие относительно того, кто есть «враг».
Неоконсерватизм есть, следовательно, негативный
критический взгляд, имеющий дело скорее с устранением того, что
считается ошибочным, чем с выработкой позитивных
предложений» 3. Не лучше положение и в традиционном
консерватизме; политическая риторика едва ли сможет долго
скрывать пустоту и негативизм консервативной социальной
мысли.
1 Steinfels P. Neo-Conservatism in the United States.— Neo-Conserva-
tism: Social and Religious Phenomenon. New York, 1981, p. 39.
2 Там же.
3 Там же.
248
будущем процветании и «райской жизни» при капитализме,
консервативные идеологи спокойно фиксировали все
промахи и упущения «государства всеобщего благосостояния»,
негативные последствия его развертывающейся активности
в сфере экономики и социальных отношений. Таких
последствий было довольно много: резкое возрастание налогового
бремени, невиданный рост государственных расходов и
задолженности, дорогостоящий бюрократический аппарат,
который сам съедает значительную часть общественных
средств, усиление политической ролл бюрократии и
военщины, коррупция, финансовые и другие злоупотребления на
всех уровнях политической системы, включая высший,
правительственный, и т. п.
В начале 70-х годов для многих на Западе стало ясным,
что идея и практика «государства всеобщего
благосостояния» либо близки к провалу, либо уже потерпели крах.
Действительность показала нечто прямо противоположное
ожиданиям, связанным с государственной политикой
благосостояния: экономические кризисы стали еще более
затяжными и разрушительными, чем раньше; социальные
неравенства не исчезли, но превратились в более мощный
дестабилизирующий фактор; инфляция и безработица, нищета и
голодание определенной части населения ведущих
капиталистических стран приобрели характер хронических
явлений с ясно выраженной тенденцией к дальнейшему
обострению. Ко всему этому добавились новые кризисные
процессы в экологии, энергетике и т. д.
Обещанный либералами триумф «великого общества»
(объявленного в свое время американским президентом
Л. Джонсоном) и «государства благоденствия» не
состоялся. То, что широковещательные либеральные проекты
провалились, не вызывает удивления, как и то, что решающий
вклад в этот провал внесли крупные капиталистические
монополии, мощные корпорации, военно-промышленный
комплекс. Именно они присваивают львиную долю собранных
государством у населения средств, выполняя военные и
иные заказы правительства, они превратили
государственный бюджет в свою кормушку, источник получения всякого
рода льгот, дотаций, субсидий. Монополии фактически
подчинили своему влиянию законодательную, исполнительную
и судебную власти государства, реально предрешают все
важнейшие внутри- и внешнеполитические
правительственные акции, они коррумпировали и разложили
государственный аппарат, дают чиновникам взятки, предоставляют им
теплые места в системе частного бизнеса в обмен на
политические услуги и т. д.
249
Всего этого вполне достаточно, чтобы монополии могли
предстать перед судом общественности за действия,
причиняющие огромный ущерб социальному развитию. Но
парадокс состоит в том, что крупный капитал самочинно
берет на себя роль «обвинителя» всего и вся. Он обвиняет
буржуазное государство в неудачном руководстве
экономикой, в непроизводительных и малоэффективных затратах,
прежде всего в социальной сфере. Капитал бросает упрек
профсоюзам и трудящимся в том, что они выдвигают
неумеренные требования в части роста заработной платы,
расходов на улучшение условий труда и техники
безопасности на производстве. Он обличает безработных и
граждан, которые вынуждены жить на пенсии, пособия,
выплачиваемые по так называемым социальным программам, за
то, что они, дескать, не хотят работать, «сидят на шее
общества», существуют за счет других и т. п. Монополии
выдвигают серию идеологических обвинений против тех
интеллектуальных кругов общества, которые сохраняют верность
идеям «всеобщего благосостояния», поддерживают и
культивируют эгалитарные настроения в обществе, полагают,
что путь к справедливому устройству общественных дел
ведет к осуществлению идеи социального равенства. Иначе
говоря, они обвиняют эгалитаристов и эгалитаризм как
самое фундаментальное заблуждение нашего века.
При определении экономической роли государства
эгалитаризм, включая «новый», исходит из модели общественно*
го распределения, удовлетворяющей требованиям равенства
и равномерности. Поскольку имеется задача
справедливого распределения доходов и собственности и государство
отвечает за ее осуществление, оно должно поэтому
активно овладеть инструментами воздействия на сферу
производства, управлять экономикой, устанавливать уровень
и условия экономической активности для частного сектора,
используя финансовые и кредитно-денежные механизмы
регулирования. Можно, таким образом, сказать, что
эгалитаристы идут от проблем распределения к проблемам
производства, обсуждают систему управления экономикой в
дистрибутивных терминах.
Иной подход у консерваторов, для которых главной
целью является экономический рост сам по себе, без каких-
либо ограничений и условий, вытекающих из
распределительных проблем. Последние производны от
экономического роста и могут быть удовлетворительно решены только
при тщательно отлаженной работе всей экономической
системы. Идеальную экономическую организацию
представляет капиталистический рынок — вот основная мысль кон-
250
серваторов-либертаристов М. Фридмана, Ф. Хайека и
других, выступающих за «освобождение» рыночного хозяйства
от государственного влияния и контроля. Глава чикагской
экономической школы М. Фридман представляет теорию
монетаризма, политическое острие которой направлено против
«государства благосостояния»5. В этой теории выделяются
во всяком случае два основных положения: во-первых,
государство по своей природе не является адекватным
инструментом регулирования частнохозяйственной
деятельности, оно только мешает проявлению объективных рыночных
законов, нарушает естественный порядок в экономике; во-
вторых, равенство не может быть той социальной
ценностью, ради которой необходимо ломать сложившиеся
структуры свободного рынка, вносить в него
санкционированные государством порядки в интересах отдельных групп
и лиц. По отношению к экономике, считает М. Фридман,
следует значительно упростить задачи государства,
поскольку конкурентный рынок «наилучшим образом преобразует
сумму индивидуальных интересов в коллективную
полезность».
Монетаризм допускает целенаправленное регулирование
лишь в области денежного обращения и банковского
кредита, а всю экономическую сферу как таковую объявляет
свободной от государственного вмешательства. Разъясняя
смысл своей теории в интервью, данном известному
американскому журналу, М. Фридман предсказывал
Соединенным Штатам снижение темпов экономического роста,
«если тяжелая рука государственного регулирования будет
продолжать препятствовать эффективному использованию
ресурсов». Но темпы роста, заявляет он, безусловно,
повысятся, если удастся «ограничить масштабы деятельности
государства, сократить его регулирующую активность»6.
Монетаристы открыто заявляют о том, что обществу
следует принести все жертвы ради образования и увеличения
капитала, поскольку это, мол, главное для экономического
роста7. Речь идет по существу о теоретическом
обосновании тотального, бесконтрольного господства корпораций
над обществом, передачи всех его материальных и интел-
5 Friedman М. Capitalism and Freedom. Chicago, 1958.
6 U. S. News and World Report, 1977, N 9, p. 20.
7 Экономическая и социально-политическая оценка монетаризма
с марксистско-ленинских позиций дана М. Хадсоном и Л. Харрисом (см.
Хадсон М. Монетаризм: панацея от кризиса?—Проблемы мира и
социализма, 1981, № 6, с. 63—67; Харрис Л. Экономическое и классовое
содержание монетаризма.— Проблемы мира и социализма, 1983, № 9,
с. 49—54).
252
общества «простая игра рыночных сил», что рост капитала
не только никогда и ничего общего не имел с повышением
благосостояния и достижением социального равенства, а,
наоборот, всегда вызывал резкое общественное расслоение
и нищету народных масс.
Теоретический спор эгалитаристов и консерваторов о
значении равенства и неравенства для общего развития, как
мы видим, приводит к постановке сугубо практического
вопроса: оправданна или нет политика государства,
направленная на перераспределение доходов и богатств через
политические и юридические институты? С точки зрения
консерваторов, она не может быть оправданной, потому что строится
по принципу: «у одних — взять, другим — дать», улучшает
положение одних, одновременно ухудшая статус других.
«Становится все более очевидным, — пишет упомянутый
выше А. Лепаж, — что меры по перераспределению доходов,
предпринимаемые государственными властями, в конечном
итоге приводят к перемещению неравенств, нанося вред
эффективности всего общества в целом» 10.
Что же касается «новых эгалитаристов», то для них
перераспределение доходов есть абсолютно легитимированная
политика, призванная смягчать и ослаблять социальные
последствия экономических и иных неравенств, они видят в
этой политике гарантию будущего стабильного прогресса
капиталистической системы и защищают ее как важнейший
рубеж «государства благосостояния». Сошлемся в этой
связи на высказывание Кристофера Дженкса: «Если
эгалитаристы хотят мобилизовать народную поддержку
перераспределению доходов, их первая цель должна состоять в том,
чтобы убедить людей, что распределение доходов есть
легитимированная политическая проблема... Нам необходимо
подтвердить идею, что федеральное правительство несет
ответственность не только за общий объем национального
дохода, но и за его распределение. Если частные решения
делают распределение слишком неравным, правительство
должно отвечать за улучшение ситуации» п. Эгалитаристам,
собственно, никогда в полной мере не удавалось внедрить
эти свои идеи в политику, а в последнее время они
столкнулись с ситуацией, исключающей какие-либо дальнейшие
шаги по расширению правительственной ответственности за
распределение национального дохода.
Правящие круги развитых буржуазных стран под
аккомпанемент шумной консервативной критики неудавшихся ли-
10 Lepage И. Demainc le capitalisme. Paris, 1978, p. 142.
11 Jenks Chr. a. o. Inequality. New York, 1972, p. 263—264.
251
лектуальных ресурсов в рукн частного бизнеса.
Империалистические круги, намеренно обостряя внутри- и
внешнеполитическую обстановку, нагнетая международную
напряженность и военную истерию, бесцеремонно навязывают
обществу и государству ничем не прикрытый диктат
монополистического капитала. Крупная частная собственность
требует своего «священного» права господствовать без
всяких, в том числе и исходящих от государства, ограничений,
проводить свою политику, независимую от государства и
общественного мнения.
Концепции монетаристов не оставляют места
стремлению к социально-экономическому равенству членов
общества, к различным формам перераспределения
собственности, доходов. Ссылаясь на неудачную государственную
политику «благосостояния», представители этого направления
буржуазной экономической мысли утверждают, что
«размеры неравенства, созданные регламентированием
экономической и социальной жизни, более значительны, чем
неравенства, порожденные простой игрой рыночных сил» (М.
Фридман). Французский последователь теории монетаризма
А. Лепаж пытается даже доказать, что рыночное хозяйства
обеспечивает идеалу равенства относительно лучшие
перспективы, чем регулируемая государством экономика.
Неравенства, порожденные рынком, связаны с динамичным
процессом поиска эффективности, тогда как неравенства в.
результате административных мер ничего общего с
экономической эффективностью не имеют. Кроме того, созданное
государством неравенство становится постоянным,
устанавливается навсегда, а рынок через автоматически
действующий механизм адаптации обеспечивает в долговременном
плане рассеивание неравенств и т. д.8
Неудачи антикризисного регулирования дали повод
крупному капиталу требовать отстранения государства от
экономических дел, от рычагов распределения собственности
и доходов. Подобные требования основаны на том, заявил
американский журнал «Форчун», «что источником
благосостояния в широком смысле слова является частная
экономическая деятельность и что основная функция
правительства, скорее всего, установить правила игры, чем самому
распределять помощь тем или иным группам давления»9.
Такие заявления, очевидно, рассчитаны на тех, кто по
какой-то причине слабо себе представляет, что означает для
8 Lepage Н. Autogestion et capitalisme: Reponses a rantieconomic.
Paris, 1978, p. 145.
9 Fortune, 1976, N 6, p. 132.
253
берально-эгалитарных мер уже по существу приступили к
демонтированию важнейших институтов «государства
благосостояния», прежде всего его социальной политики,
рассчитанной на осуществление задач перераспределения
доходов и богатств внутри общества. Они берут откровенно
реакционный курс на углубление социальных неравенств,
предоставление частному бизнесу экономических
прерогатив за счет сокращения экономических функций
государства. Курс этот особенно четко проявился в политике
консервативного правительства М. Тэтчер в Великобритании,
администрации Д. Картера и Р. Рейгана в США,
правительственного кабинета, возглавляемого Г. Колем, в ФРГ. Дело
явно ведут к тому, чтобы хозяином положения в обществе не
только фактически, но и юридически стал крупный капитал,
вто время как государство в соответствии с
консервативными требованиями должно разукрупняться («долой большое
правительство!»), снять с себя ответственность за
юридическое регулирование экономики («долой государственный
дирижизм!»), стать менее самостоятельным и более
послушным диктату монополий, вернуться к своим исконным
задачам полицейского государства — охранять личность, свободу
и собственность буржуа или, говоря современным языком,
защищать и гарантировать деятельность корпораций
внутри общества и на международной арене, опираясь на
репрессивный аппарат и вооруженные силы.
Консервативный политический курс ведущих
капиталистических стран выражается сегодня в практических мерах,
направленных, во-первых, на пересмотр основ прежней
налоговой политики, с тем чтобы, сократив налоги (главным
образом с корпораций и владельцев капитала, а не с лиц,
работающих по найму), приступить к рекомендованному
монетаристами всеобщему снижению государственных
расходов, во-вторых, на свертывание действовавших ранее так
называемых социальных программ, которые
предназначались для оказания определенным категориям граждан
государственной помощи в виде пособий, пенсий и т. д.
Постоянно урезываются бюджетные ассигнования на
образование, создание новых рабочих мест, медицинскую помощь,
расходы по медицинскому обслуживанию престарелых и
бедных, льготы одиноким матерям и т. д.
Усилиям эгалитаристов защитить перспективы
экономически активного государства сегодня
противопоставляется консервативный курс, возрождающий по существу
старую, идущую от либерализма XVII—XVIII вв. доктрину
«laissez-faire» с ее полуанархическимн установками в
отношении государственности вообще. Хотя недостатка в крик-
254
ливых, демагогических выпадах против идеи государства
(в особенности «большого») нет, все же едва ли имеются
основания сближать либертаризм или неоконсерватизм с
какими-либо анархистскими или полуанархистскими
теориями. Они в конце концов идеологические феномены эпохи
государственно-монополистического капитализма, и этим
определяется отношение консерваторов к
государственности— одному из решающих факторов данной эпохи.
В отличие от либертаристов американские
неоконсерваторы, например, склонны характеризовать свою позицию
по отношению к «государству благосостояния» как
компромиссную, выступают за существенное ограничение
последнего, но не настаивают на его полной ликвидации 12. Свобода,
считают неоконсерваторы, не единственная ценность
политической системы. Формулируя их точку зрения, И. Кристол
заявил на конференции по неоконсерватизму в Бонне в
сентябре 1981 г. следующее: «Мы считаем, что каждый индивид
в равной мере нуждается в безопасности и свободе, и мы
даем ему то и другое» 13. Поскольку «государство
благосостояния» в известной мере удовлетворяет потребность
людей в безопасности и гарантирует от неудач, несчастий и
бедности, то оно имеет некоторое право на существование,
хотя и не в той форме, какую пытаются придать ему
либералы. Свою цель в этой связи И. Кристол определяет как
«консервативное государство благосостояния», которое
устанавливает минимум уровня жизни, ниже которого не
должен находиться ни один гражданин 14.
Отсюда допускаемая неоконсерваторами социальная
политика государства базируется на минимальных, крайне
ограниченных и скудных программах для
нетрудоспособных, больных, престарелых и т. д., и она, разумеется, не
имеет ничего общего с идеалом социального равенства и
эгалитарными устремлениями либералов. От прежнего
сгосударства благосостояния» неоконсерваторы оставляют,
пожалуй, только название, соглашаясь с либертаристами в
критике его существа — государственного вмешательства в
экономику «большого правительства», патерналистского
характера социальной политики и т. д. Это еще раз
подтверждает то, что все направления современной
консервативной идеологии разделяют в принципе единую антиэгали-
12 Steinfels P. Neo-Conservatism in the United States.—Neo-Conser-
vatism: Social and Religious Phenomenon. New York, 1981, p. 40.
13 Der Neo-Konservatismus in den Vereinigten Staaten und seine
Auswirkungen auf Atlantisch Allianz. Melle, 1982, S. 69.
14 См. там же, с. 69—70.
256
но в отличие от фашизма не открыто террористическое» 15.
Хотя не каждый консерватор смог бы выразиться так
откровенно и цинично, тем не менее в этих словах звучит
общее консервативное кредо в отношении государства,
названы его идеальные для реакционных политических сил
империализма черты: скрытый, насколько это возможно,
терроризм, авторитарность внутри общества, агрессивность
на международной арене. С точки зрения именно этих
требований консерваторы всех западных стран пытаются
переопределить и усилить роль буржуазной государственности
в рамках государственно-монополистического капитализма
наших дней.
Обвинения в мягкости, бесхребетности, уступчивости,
которые американские неоконсерваторы выдвинули против
либерального «государства благосостояния», относились не
только к внутренней политике, но и к линии поведения США
на международной арене. Под влиянием либерального
космополитизма американский внешнеполитический курс, по
мнению неоконсерваторов, утратил «подлинно
национальный» стержень, а после поражения США во Вьетнаме стал
особенно неуверенным, слабым, сдающим одну позицию за
другой. Либеральным идеологам и политикам типа бывших
сенаторов Д. Макговерна и Ф. Черча, которым
консерваторы устроили «провал» на выборах в конгресс,
приписывается «вина» за якобы имевшую место «самоизоляцию» США
в международной жизни, в результате чего Америка была
лишена возможности проводить активную внешнюю
политику. Неоконсервативный оратор Норман Подгорец видит
в «изоляционистских установках» демократической партии
и либералов «истинный» корень зла. Он заявил: «Лозунг
Джорджа Макговерна гласил: «Америка, домой!» Он имел
в виду не только возвращение из Вьетнама, но и то, что
позднее обозначилось как неоизоляционистская внешняя
политика. Мы были слишком вездесущими, мы были
полицией мира, мы были в глазах Макговерна военными
преступниками, и самое лучшее, что мы могли сделать для
остальной части мира, уйти с ее пути, оставить ее в покое.
«Америка, домой!» в сфере внутренней политики означало
возрождение уравнительных утопий...» 16
Из приведенного высказывания видно, до какой степени
неоконсерваторы запутывают и искажают элементарные
представления об основах международной жизни. То, что
15 Kaltenbrunner G.-K. Vorwort des Herausgebers.— Der uberforderte
schwache Staat: sind wir noch regierbar? Munchen, 1975, S. 9.
16 Der Neo-Konservatismus in den Vereinigten Staaten und seine
Auswirkungen auf Atlantisch Allianz, S. 80.
255
тарную позицию и выступают единым фронтом против
либеральной модели «государства благосостояния».
При ближайшем знакомстве с консервативными
концепциями различных направлений оказывается, что все они
далеки от намерения ослабить роль государства как
политического института в обществе. Консерваторы либертарно-
го толка (Ф. Хайек, Р. Нозик и др.) говорят о
«минимальном государстве» как политическом идеале,
неоконсерваторы (в частности, Д. Белл) вкладывают в этот идеал
содержание, явно выходящее за рамки «мини-государства».
Но в принципе все англо-американские консерваторы
согласны в том, что в недавнем прошлом политический
контроль государства над обществом, так же как и
репрессивное давление его на различные социальные слои, были
недостаточно эффективными, а это привело к росту
безответственности и своеволия отдельных социальных групп, к
неумеренности их экономических требований,
потребительских претензий, вызвало разгул страстей и упадок
элементарной дисциплины в обществе. Пока государство
занималось не своим делом, т. е. экономикой, оно, по мнению
консерваторов, упустило многие свойственные ему
традиционные функции, утратило былую политическую и
нравственную роль в организации общественных связей, социального
порядка.
Если большинство американских и британских
консерваторов охотно отдают дань антигосударственной риторике,
исходят из видимого противопоставления
частнопредпринимательских интересов поползновениям государственной
бюрократии, запугивают общественность призраком «большого
правительства», то их западногерманские коллеги,
напротив, выражают демонстративную тревогу по поводу
«развала» государственности, мнимой неспособности правительств
противостоять децентрализованному давлению
общественных групп — профсоюзов, национальных, женских,
молодежных движений.
В ФРГ консервативная тоска о «сильном» государстве
принимает неофашистские формы, ассоциирующиеся с
воспоминаниями о «силе» и «авторитете» гитлеровского рейха,
со стремлением сконструировать жесткую государственную
иерархию, основанную не на народном суверенитете и
выборах, а на принципе элитарного правления и фюрерства.
«Необходимо господство привилегированных элит, - вещает
Г. Кальтенбруннер. — Социальная демократия — это вздор.
На место демократии, перенапрягающей возможности
слабого человека, нужно поставить сильное государство,
агрессивное во внешней политике, авторитарное во внутренней,
9—315
257
Н. Подгорец клеймит как «неоизоляционистскую
политику», оказывается на самом деле политикой
невмешательства в дела других государств и народов, которую Америка
должна проводить в соответствии с широко признанными
международной общественностью принципами,
требованиями международного права, уставом и документами
Организации Объединенных Наций. Именно на эти принципы и
требования замахиваются неоконсерваторы, хотя говорят всего
лишь о Макговерне и либералах. Они явно выражают
сожаление, что после Вьетнама США якобы недостаточно
активно действовали на международной арене, слишком
всерьез приняли принцип равноправия государств и «мало»
вмешивались в чужие дела. А это, мол, повлекло за собой
ослабление экономических, политических, идеологических,
военных и иных позиций капитализма, усиление мощи
социалистического лагеря, непомерное давление на политику
индустриальных стран Запада со стороны «третьего мира»,
т. е. развивающихся государств.
Неоконсерваторы, безусловно, предаются иллюзиям,
если всерьез полагают, что причинами усиления,
возрастающей мощи социалистической общественной системы,
представленной СССР и рядом других стран, являются такие
эфемерные и сомнительные вещи, как «мягкость» и
«либерализм» Запада. Мощь социализма базируется на
факторах значительно более серьезных и надежных, но
неоконсерваторы не заинтересованы в объективном и глубоком
анализе этих и других факторов, влияющих на
международные отношения. У них особая цель — накалить политические
страсти, представить мирное сосуществование стран с
различным общественным строем и разрядку напряженности в
мире как итог «мягкотелой» политики уступок западных
стран социализму, которую нужно заменить
внешнеполитическим курсом, основанным на силе и превосходстве Запада
над странами социалистического лагеря. Неоконсерватизм
провоцирует агрессивную, вызывающую на острые
международные конфликты внешнюю политику западных стран,
которая по существу может стать прелюдией к ядерной
войне.
Ведущим принципом внешней политики, которую
рекомендуют неоконсерваторы, является национализм, т. е.
ориентация на безусловное обеспечение «национальных
интересов». Этот принцип вытекает из самой сути
неоконсервативных позиций, о которой И. Кристол говорит:
«Неоконсерватизм привел к возрождению национализма в Соединенных
Штатах. Национализм есть все еще огромная сила в мире,
величайшая политическая сила, намного большая, чем, к
258
примеру, коммунизм, капитализм, католицизм. В конце
концов во всяком конфликте национализм побеждает, и потому
очень важно, чтобы консервативная партия, которая
конструирует будущее нации, вошла в тесную связь с духом
национализма, чтобы национализм стал ее составной
частью» ,7. Неоконсерваторы, которые охотно называют себя
также неонационалистами, заявляют, что «национальный
интерес» во внешней политике превыше всего, что принципы
международной жизни, если они противоречат
«национальному интересу», должны быть принесены в жертву
последнему. Американскому правительству, таким образом,
внушают веру в его «моральное право» везде и всюду
добиваться своего ценой ущемления интересов мирового сообщества,
нарушения суверенитета и равенства государств.
Проектируя антиэгалитарную, враждебную принципам
равенства и равноправия государств внешнюю политику,
неоконсерваторы по-своему «заботятся» и о нравственной
стороне дела. Они много говорят о падении морального
авторитета США за рубежом, но опять-таки видят причину
этого в либеральной идеологии. «Левые, — заявляет тот же
Н. Подгорец, — стали пропагандировать, что Соединенные
Штаты являются злой страной со злой культурой... Америка
была также злой и вовне, чему Вьетнам служил большим
символом...» 18 Чтобы снять с Америки это позорное клеймо,
не кто иной, как президент США Р. Рейган предпринял
попытку «переориентировать» мировое общественное мнение,
назвав «источником зла» в мире... Советский Союз. Что
касается неоконсервативных идеологов, то они полагают, что
США могут получить моральное признание
некоммунистического мира в том случае, если сумеют зарекомендовать себя
защитником свободы и прав человека. Возрождается старая
идея о международной «ответственности» США, об их
особом призвании и долге противодействовать «советскому
экспансионизму и коммунистической экспансии вообще». На
вопросы о том, кто же возложил на Америку эту
ответственность, перед кем несет она соответствующие обязательства,
следуют, как правило, весьма туманные, неконкретные и
довольно странные ответы. Чаще всего при этом ссылаются на
Вудро Вильсона, который выдвинул в свое время
напыщенную абстрактную теорию относительно «освободительной
миссии» США в мире. В идее Соединенных Штатов, заявлял
он, воплощены трансцендентальные принципы свободы,
самоопределения и демократии, что возлагает на американцев
17 Там же, с. 73.
11 Там же» с. 62»
9*
259
ответственность бороться за эти ценности во внешней
политике. Теперь неоконсерваторы пытаются оживить эту
«прагматическую теорию в мистической оболочке», без умолку
кричат об американской ответственности за судьбы
человечества, за путь, на котором находится Европа и весь мир 19.
Не случайно консерваторы ищут основания столь широко
и безгранично трактуемой международной ответственности
США в спиритуалистических, сверхъестественных
источниках, ссылаются на волю бога, на трансцендентальный смысл
судеб человечества и истории. Невидимая и непостижимая
воля творца, стоящего над земными делами, предоставила,
мол, Америке лидерство и высшее место в «свободном»
мире, и США, следовательно, обязаны быть на высоте
своей великой исторической миссии. В целом мировое
сообщество понимается как иерархия, во главе которой призваны
стоять Соединенные Штаты. У них — высшее право и
высшая обязанность бороться за права и свободу человека во
всем мире.
Эти консервативные установки по существу совпадают
с традиционными идеями «американского активизма»,
давно вынашиваемыми в правящих кругах американского
общества и находившимися на идеологическом вооружении
многих администраций, как республиканских, так и
демократических. В 1961 г. в речи на торжественной церемонии
вступления в должность президент США Джон Кеннеди
говорил: «Мы заплатим любую цену, будем нести любое
бремя, выдержим любые трудности, поддержим каждого
друга и выступим против каждого врага, чтобы обеспечить
выживание и успех свободы»20. Другой американский
президент, Д. Картер, вступая в должность в 1977 г., повторял
ту же мысль: «Поскольку мы свободны, мы никогда не
будем безразличны к судьбе свободы где-либо еще»21. Что же
касается нынешнего президента США Р. Рейгана, то его
заносчивые претензии делать другие государства
«свободными» по американскому образцу, «освобождать» народы
от «забот», связанных с самоопределением и
ответственностью за собственную судьбу, стали ведущими мотивами
внешнеполитического курса США.
В наше время становится особенно очевидным, что за
трескучими фразами об «освободительной миссии» США в
мире, об особой американской международной ответствен-
19 Там же, с. 83, 347.
20 U. S. News and World Report, 15. III. 1976, p. 16.
21 The Department of State Bulletin, 1977, vol. LXXVI, N 1964,
February 14, p. 122.
260
ности стоят имперские притязания и гегемонистские
амбиции американского капитализма, стремящегося к
мировому господству и в сущности уже не скрывающего это свое
стремление. Народам мира пытаются внушить идеи,
оправдывающие тотальный контроль США в международной
жизни, их «право» по своему усмотрению вмешиваться во
внутренние дела других государств, когда с точки зрения
американского правительства события принимают оборот,
угрожающий свободе, демократии и правам человека.
Если усиление международной ответственности США
как принцип неоконсервативной внешней политики
сопоставить с другим принципом той же
политики—национализмом, приоритетом американских национальных интересов,
то получается довольно целостный и однозначный
стратегический проект, не оставляющий сомнений относительно
истинных гегемонистских намерений американского
империализма. В этот проект, как мы видим, заложены идеи,
противоречащие основам отношений между государствами в
современном мире. Хотя ультрареакционные силы в странах
Западной Европы склонны принимать диктат Соединенных
Штатов как «гарантию» преодоления внутренней
нестабильности и кризиса в капиталистическом мире,
«контрнаступления» на социализм и прогрессивные общественные
движения, народы этих стран решительно отвергают внешнюю
политику, основанную на «американском активизме»,
агрессивности, империалистическом диктате.
Такая политика является исключительно опасной, ибо
она требует безудержной гонки вооружений, увеличения
военных расходов, широкой милитаризации политики и
пропаганды мер, с помощью которых империалисты пытаются
сломать существующее военно-стратегическое равновесие
между социализмом и капитализмом, установить
соотношение сил в свою пользу. На международной арене, как и во
внутриполитической сфере, неоконсерваторы выступают
злейшими врагами всякого равенства, и прежде всего
важного для судеб мира равенства военных потенциалов двух
систем. Они мечтают заменить его выгодным для себя
неравенством, позволяющим вести политику в отношении
социализма «с позиции силы».
На февральском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС
отмечалось: «Мы хорошо видим угрозу, которую создают сегодня
для человечества безрассудные, авантюристические
действия агрессивных сил империализма, — и говорим об этом в
полный голос, обращая на эту опасность внимание народов
всей земли. Нам не требуется военное превосходство, мы не
намерены диктовать другим свою волю, но сломать достиг-
261
нутое военное равновесие мы не позволим»22. Опыт
последнего времени свидетельствует о том, что консервативные
внешнеполитические установки порождают
безответственные действия империалистических стран, в первую
очередь США, на международной арене, питают крайне
опасный для человечества авантюризм, который может иметь
серьезнейшие последствия для народов всего мира.
Важные внешнеполитические проблемы, обсуждаемые
в связи с борьбой либерально-эгалитарных и
неоконсервативных идей, касаются взаимоотношений развитых
капиталистических и развивающихся государств. Суть этих
взаимоотношений можно выразить в двух словах —
неравенство, несправедливость. К такому выводу приходят не только
идеологи развивающихся государств, представители
демократической общественности во всех странах мира, но и
трезво мыслящие западные авторы.
Утратив прямой контроль над бывшими колониями,
капиталистические страны активно используют методы
неоколониальной эксплуатации народов Азии, Африки и
Латинской Америки через транснациональные корпорации,
каналы экономических и торговых связей, продолжают
выкачивать огромные богатства, прежде всего сырьевые
ресурсы, из обширных регионов «третьего мира». В результате
неравенство углубляется, растут диспропорции в
положении развитых капиталистических и развивающихся стран в
системе мирового капиталистического хозяйства,
усиливается зависимость так называемых «бедных» стран от «богатых».
Источник трудностей, причины экономической слабости
и отставания молодых государств лежат, вне всякого
сомнения, и в колониальном прошлом народов развивающихся
стран, и в нынешней прогрессирующей зависимости их от
империалистического Запада. Исходя из трезвой,
объективной оценки системы колониализма, ее последствий и
влияния на современную практику международных отношений,
определенная часть либеральной интеллигенции, включая
представителей «нового эгалитаризма», иногда ставит
перед общественностью США и Западной Европы трудные в
морально-политическом смысле, острые и беспокойные
вопросы о том, каковы же в конце концов обязанности
государств— бывших метрополий перед так называемым
третьим миром, что нужно делать западным странам, чтобы
искупить свою историческую вину перед народами,
подвергавшимися когда-то нещадной эксплуатации. «Мы все боль-
22 Материалы внеочередного Пленума Центрального Комитета
КПСС, 13 февраля 1984 года. М., 1984, с. 19.
262
ше начинаем осознавать, — пишет американский социолог
К. Херн, — чтобедность в большинстве стран «третьего
мира» имеет непосредственную и причинную связь с
богатством Запада. Они бедны, потому что мы богаты»23.
Некоторые западные ученые справедливо отмечают, что
современная международная иерархия, т. е. наличие в
капиталистическом мире богатых и бедных государств,
поразительно отличающихся друг от друга по уровню развития
производительных сил и объему экономических ресурсов,
обязана своим существованием системе колониального
господства, которая и сегодня продолжает действовать
через торговлю, образование, политические связи, военные
альянсы, транснациональные корпорации и т. д.
Но если богатство капиталистических государств
исторически и в настоящее время связано с бедностью стран
Азии, Африки и Латинской Америки, то что же может
следовать из честного признания данного факта? Тут,
естественно, возникает вопрос о программе позитивных действий
и установлении справедливого международного порядка,
которые вызвали бы со стороны западных держав
осуществление компенсационных мер и дополнительных усилий,
направленных на достижение подлинного равенства и
равноправия в отношениях между государствами. Осознание
своей ответственности потребовало бы от Запада политики
принципиально иной, чем та, которую он проводит сейчас
по отношению к развивающимся странам. Такая политика
включала бы в себя широкую и безвозмездную помощь
бывшим колониям, значительный вклад в экономический и
социальный прогресс слаборазвитых регионов, займы
молодым государствам на льготной основе, предоставление им
политических и иных преимуществ и как минимум отказ
от неоколониалистских методов эксплуатации
развивающихся стран, строгое соблюдение равноправия на
международной арене с целью преодолеть или сократить
существующий разрыв между так называемыми «богатыми» и
«бедными» странами.
Как уже отмечалось, определенная часть буржуазных
идеологов, распространяющих эгалитарные принципы на
область международных отношений, считает проведение
такой политики моральной обязанностью развитых
капиталистических стр&н, призывает Запад согласиться с
требованиями большинства молодых государств, получивших
политическую независимость после развала колониальной
23 Hum Ch. The New Pessimism —Dialogue, 1978, vol. 2, N 11,
p. 27—28.
263
системы, установить новый порядок международных
экономических связей с ориентацией на цели* связанные с
сокращением существующих глобальных неравенств в
экономическом и социальном развитии государств24. Многие
аспекты нового международного экономического порядка
рассматривают как разновидность программы позитивных
(афирмативных) действий, осуществляемой на
международном уровне. Согласно этой программе, которая, к
сожалению, существует только в либеральных проектах, а не в
действительности, Запад должен перейти в сфере
экономических и научно-технических связей, торговли на режим
преференциального обращения со странами,
расположенными в бывшей колониальной зоне мира, т. е. согласиться с
известным неравенством в пользу развивающихся
государств. Требования, как мы видим, идут дальше простого
и честного соблюдения принципа равноправия в
международных отношениях, на чем во всяком случае настаивают
молодые государства.
Новый экономический порядок в
либерально-эгалитарной трактовке не есть отрицание существующей
международной системы. Для эгалитаристов это серия предложений,
предназначенных интегрировать страны «третьего мира» в
международную систему и предоставить им «справедливую»
долю благ в этой системе. Как и всякая программа
позитивных действий, новый экономический порядок, считают они,
должен преодолеть воздействие долгой истории
неравенства и эксплуатации, обеспечить перераспределение благ, не
нарушая и не переделывая сложившейся системы
международных отношений25. Как всегда, эгалитаристы полагаются
в этом случае на «оздоровительные» реформы и выражают
надежду на то, что «при умеренном вмешательстве и
регулировании система может действовать справедливо, т. е. с
равной пользой для всех»26.
Реальная политика ведущих капиталистических стран по
отношению к развивающимся государствам основана далеко
24 Montbriad de Т. For a New World Economic Order.— Foreign
Affairs, 1975, N 6, p. 61—78; Tinbergen J. a. o. Reshaping in International
Order. A Report to the Clube of Rome. New York, 1976; Gosovic В.,
Ruggie /. On the Creation of a New International Economic Order: Issue
Linkage and the Seventh Special Session of the UN General Assembly.—
International Organization, Spring 1976, vol. 30, N 2, p. 309—346; Coa-
tes В., Johnston R., Knox P. Geography and Inequality. Oxford, 1977,
p. 7—8, 256—257; Global Inequality: Political and Socioeconomical
Perspectives. Boulder, 1979.
25 Rowe E. Strategies for a Change: A Classification of Proposals for
Ending Inequality.— Global Inequality: Political and Socioeconomical
Perspectives, p. 221—222, 230.
" Там же, с. 2Э0.
264
не на либеральных благопожеланиях. Крупный бизнес в
США и Западной Европе, наоборот, ищет сейчас способы
идеологически оправдать ужесточение этой политики,
чтобы еще больше ориентировать ее на извлечение прибылей
из развивающихся стран, на усиление эксплуатации
людских и природных ресурсов молодых государств.
Усиливающиеся в последние годы агрессивность и консерватизм
правящих кругов империалистических держав, реакционные
идеологические тенденции отразились в грубых нападках на
тех либералов-эгалитаристов, которые пытались несмело
призывать Запад к справедливому урегулированию своих
связей с «третьим миром», признавали обоснованность
стремлений развивающихся стран к равноправию и
равенству в современном мире.
С особым рвением консервативные идеологи
«критикуют» сегодня проекты «афирмативных действий» и
экономических уступок развивающимся государствам, идею
ответственности Запада за бедность в «третьем мире». Если их
послушать, то оказывается, что никакой вины
колонизаторов перед угнетенными народами не было и нет; и вообще
колониализм был не злом, а благом для народов мира.
Герман Кан, известный футуролог и руководитель Гудзо-
новского института в США, очень откровенно
сформулировал эту мысль: «Еще не очень широко поняли, что в свете
эвентуальной модернизации колониальное правление
принесло больше пользы, чем вреда»27.
Такое утверждение действительно очень трудно понять,
поэтому посмотрим, чем же все-таки, по мнению
консерваторов, колониализм «облагодетельствовал» народы Азии,
Африки и Латинской Америки. Он принес туда, как
высокопарно заявляет американский консерватор П. Бауэр,
истинную идею материального прогресса в смысле постоянно
возрастающего контроля людей над внешней средой. Люди
«третьего мира» не знали этой идеи до своих контактов с
западным человеком28. Спорный и по существу неверный
тезис о монополии Запада на идею прогресса и на сам
прогресс проникнут «европоцентризмом» и отдает
неприкрытым расизмом. Уровень материальных достижений,
утверждает П. Бауэр, уменьшается, если мы двинемся от центра
западного влияния: все основы и ингредиенты социальной и
экономической жизни, существующие сегодня, например, в
27 Капп Н. World Economic Development, 1979 and Beyond. New
York, 1979, p. 61.
28 Bauer P. Western Guilt and Third World Poverty. — The New Equ-
alitarianism. Questions and Challenges. Washington, New York, London,
1970, p. 126.
265
Черной Африке, были, мол, принесены людьми Запада
почти целиком во время колониальной эры.
Колониализм, утверждает П. Бауэр, означал контакты,
благодаря которым человеческие и материальные ресурсы,
опыт, капитал и новые идеи, включая саму идею
материального прогресса, потекли с Запада в «третий мир». П. Бауэр
дотошно перечисляет то, что якобы щедро давали
колонизаторы покоренным народам: общественную безопасность,
право и порядок, .колесный транспорт, дороги, современные
деньги, применение науки и технологии, здравоохранение и
образование, — но при этом «забывает» добавить, что все
это колонизаторы вводили для себя, в целях более четкого
функционирования системы колониальной эксплуатации, что
они меньше всего заботились о приобщении аборигенов к
плодам цивилизации. Совсем ни слова не говорит этот автор
о таких одиозных, неотделимых от природы колониализма
явлениях, как работорговля, политика «разделяй и
властвуй», получение баснословных прибылей от эксплуатации
труда колониальных народов, хищническое, расточительное
использование природных богатств, массовый вывоз
сокровищ, произведений искусства и культурных ценностей в
метрополии.
Темным пятном на совести колонизаторов лежат
дискриминация и геноцид, разрушение древних культур и
традиций, вражда и изоляция групп и племен, национальные и
расовые предубеждения, которые и сегодня еще дестабили-
зирующе воздействуют на характер политических и
социальных процессов в развивающихся странах.
Действительный материальный и моральный ущерб, причиненный
колониализмом народам Азии, Африки и Латинской Америки,
настолько огромен, что он практически не поддается
исчислению.
У правящих кругов и консервативных идеологов
империализма, пытающихся склонить общественное мнение
своих стран к переоценке и идеализации колониального
прошлого, имеются, конечно, свои сугубо политические расчеты.
Руководители ведущих капиталистических держав хотели
бы прежде всего расчистить почву для «новой» идеологии,
которая оправдывает жесткий стиль политики этих
государств в отношении развивающихся стран, их негативную
реакцию на требования установить справедливый и
равноправный экономический порядок в международной сфере
Дело в том, что «третий мир» причиняет империализму все
больше и больше беспокойства. Экономическая отсталость
и крайне медленные темпы социального развития молодых
государств вступают, и чем дальше, тем больше, в противо-
266
речие с политической ролью и значением этих государств в
рамках мирового сообщества.
В последние десятилетия международный авторитет
развивающихся стран чрезвычайно возрос, так же как и их
участие в решении мировых проблем на уровне ООН и
других организаций. Дальнейшему развитию этой
тенденции объективно препятствует наличие международной
иерархии, определенной по экономическим и социальным
критериям, т. е. наличие экономически сильных и слабых,
богатых и бедных государств. Империалисты пытаются
законсервировать эту иерархию и предотвратить рост
политического значения и активности стран, которые они относят
к «третьему миру». По этому поводу американские
консерваторы, например, рассуждают следующим образом.
Каждая страна должна играть ту роль в международных
отношениях, какую позволяют уровень ее экономики и ресурсы
общественного развития. Так что бедные государства
соответственно своему положению могли бы вести себя тихо и
скромно, тогда как США, этой «сверхбогатой» державе,
предназначено «мировое лидерство», право делать на
международной арене все, что угодно. Из лагеря
консерваторов нередко раздаются призывы к американскому
правительству не церемониться с развивающимися странами,
поставить их на место.
Реакционная печать США и других капиталистических
государств часто выступает со всякого рода домыслами,
лживыми утверждениями и лицемерными сетованиями на
то, что Запад, мол, слишком мягок, уступчив в отношении
«третьего мира», а западная дипломатия, дескать, страдает
«комплексом вины» перед развивающимися странами за
колониальное прошлое. Упомянутый выше П. Бауэр находит
даже, что «Запад унижается перед странами, которые имеют
ничтожные ресурсы и не обладают реальной силой»29. Он
высказывается за немедленное устранение создавшегося
положения дел, за снятие чувства вины, которое «парализует»
западную дипломатию в отношении «третьего мира».
Справедливости ради необходимо сказать, что вину за
колониальную эксплуатацию народов несет не Запад как таковой, а
империализм, система капиталистической эксплуатации
человека человеком, существующая доныне в США,
Западной Европе и в некоторых других регионах мира.
Историческая вина империализма многомерна, он
ответствен и за колониальный гнет, и за эксплуатацию трудя-
29 Bauer P. Western Guilt and Third World Poverty —The New Equ-
alitarianism. Questions and Challenges, p. 126.
267
щихся развитых капиталистических стран, он приносил
нищету и страдания всем людям труда, где бы они ни жили —
в метрополиях или колониях. Поэтому попытки
консервативных буржуазных идеологов подменить реальный
конфликт между империализмом и народами, освободившимися
от колониальной зависимости, нечетко определенным
противоречием между Западом и «третьим миром» есть не что
иное, как проимпериалистическая уловка, желание увести
в тень подлинного виновника социальных бед в
современном мире — империализм.
Фактически неверно и то, что ведущие
капиталистические страны руководствуются неким «чувством вины» в
отношении молодых государств, образовавшихся в
результате распада колониальной системы. Если политика и
дипломатия империалистических держав*вынуждены считаться
с позицией развивающихся стран, то делается это не из
каких-либо сентиментальных побуждений, а в силу того, что
указанные страны стали серьезным фактором в развитии
современных международных отношений, что конфронтация
с ними для империалистов не выгодна в экономическом и не
желательна в политическом смысле. Консервативные
рекомендации ужесточить политический курс США в отношении
«третьего мира» вызваны нервозностью правящих кругов,
связанной с настойчивыми усилиями развивающихся стран
добиться установления нового международного
экономического порядка, в результате чего крупные американские
монополии, действующие как транснациональные корпорации,
рискуют многое потерять.
В США и в странах Западной Европы кое-кто еще
пытается п чисто консервативном духе пересмотреть концепции
помощи развивающимся странам. Часто обсуждают
вопросы о том, должен ли Запад вообще помогать «третьему
миру» и почему, каких объемов и пределов может достигать
эта помощь, с какой целью (или целями) ее нужно
осуществлять. То, что империалистические державы называют
своей «помощью» слаборазвитым нациям, есть на самом
деле меры прагматической внешней политики,
преследующей определенные, зачастую корыстные цели: внедриться
в отдельные страны, завоевать там благоприятные позиции,
обеспечить свой политический диктат, рынки сбыта,
укрепить господство монополий, сколотить агрессивные союзы,
сплотить антикоммунистические силы и т. д.
В широком плане экономическая помощь
развивающимся государствам рассматривается как важнейшее средство
политики «вестернизации третьего мира», через которую
Запад старается не только и даже не столько передавать
268
бедным странам свой опыт и технологию, сколько
навязывать им свои политические ценности, мораль, образ жизни
и т. д. Субсидии и займы на двусторонней и
многосторонней основе, как признают в американской литературе,
открыто используются правительствами «богатых»
капиталистических держав для того, чтобы обязать получателей
помощи в развивающихся странах проводить внутреннюю и
внешнюю политику, соответствующую планам,
вынашиваемым в центрах капиталистического мира30. Экономическая
помощь, о которой идет речь, далека от задач преодоления
глобальных экономических и социальных неравенств среди
государств как равноправных членов мирового сообщества,
она получила узкое предназначение стимулировать
лояльность отдельных развивающихся стран
империалистическому блоку в целом или амбициозным политическим
претензиям США в частности.
Правительство Соединенных Штатов давно и открыто ис«
ходит из того, что его «программы помощи слаборазвитым
странам» являются средством откровенного политического
нажима на эти страны, инструментом достижения гегемо-
нистских целей в мире, поддержки самых реакционных,
оголтелых, диктаторских режимов, идущих в фарватере
американской внешней политики. Однако подобные «меры
помощи» должны быть идеологически мотивированы так,
чтобы выглядели они благородно и альтруистично.
Консерваторы, например, утверждают, что Запад, уделяя нечто от
щедрот своих «третьему миру», представляет собой
трогательный образец выполнения христианской заповеди:
«помоги бедному».
В том, что подавляющее большинство народов Азии,
Африки и Латинской Америки бедны, виноваты они сами,
заявляют консерваторы, ибо не умеют или не хотят
работать, плохо организованы, предпочитают праздный образ
жизни, не стремятся к знаниям. Истоки их бед,
оказывается, в них самих. «Бедность, которая существует з «третьем
мире», не причинена европейской колонизацией, и ни одна
из современных проблем бедных наций не может быть
решена усилением чувства вины у богатых наций»31, — пишет
Г. Каи. Помогать слаборазвитым нациям, считают его
консервативные единомышленники, надо как можно меньше,
ибо помощь, оказываемая в значительных размерах,
испортит и развратит бедные народы, сделает их иждивенцами
богатых стран. Как полагает Г. Кан, «щедрость из чувства
30 Clobal Inequality: Political and Socioeconomical Perspectives, p. 228
31 Kahn H. World Economic Development, 1979 and Beyond, p. 61.
269
вины, вероятно, породит антипроизводнтельные и
самодовольные ожидания в развивающихся странах»32. В ход
идут, как мы видим, самые неожиданные и
малоубедительные аргументы, но ясно, что империалистические круги не
желают оказывать бескорыстную помощь развивающимся
странам, уклоняются от нее под всякими предлогами,
называют «помощью» то, что в действительности представляет
собой «долларовые инъекции» послушным
империалистическому диктату антинародным авторитарным режимам,
которые держатся на насилии и терроре.
Примечателен и основной вывод, к которому приходят
консервативные буржуазные идеологи, обсуждая проблемы
взаимоотношений ведущих капиталистических и
развивающихся стран. Если прогрессивная общественность мира в
последние десятилетия серьезно обеспокоена и встревожена
ростом диспропорций в мировом развитии,
увеличивающимся разрывом между богатейшими и бедными странами, то
консерваюры в США и других капиталистических странах
приветствуют эти тенденции, даже пытаются доказывать,
что разрыв этот естествен и необходим, что он есть не зло,
а благо. Плохо, мол, если бы разрыв увеличивался за счет
того, что бедные страны становились еще беднее, но
происходит, по утверждению консерваторов, иной процесс:
богатые государства теперь развиваются быстрее, чем раньше,
они становятся еще богаче. А это не так уж плохо для
развивающихся стран, ибо разрыв имеет для них «позитивные»
аспекты, является «двигателем» их роста. Преуспевание
Запада дает слаборазвитым народам лишние шансы стать
богаче или по крайней мере менее бедными.
«Третьему миру», согласно этим «великолепным»
концепциям, остается только радоваться успехам Запада, брать
с него пример, следовать, сколько есть силы, по указанному
им пути. Что же касается политического курса на
устранение неравенства среди наций, то, по мнению консерваторов,
за ним нет ничего реального в современном мире, это не
более чем мечта политиков из развивающихся стран. «Те
лидеры, которые считают ликвидацию разрыва задачей нашего
времени, — пишет Г. Кан,— должны спросить себя, как это
можно сделать. Эта соблазнительная цель просто не может
быть достигнута в ближайшие сто лет»яз. Мы видим, таким
образом, что буржуазная консервативная идеология чуть ли
не на каждое законное требование развивающихся стран
отвечает стереотипами: нет; это не нужно; это невозможно
32 Там же, с. 61.
33 Там же, с. 62.
272
преуспевать, во-вторых, «самокритичный» взгляд
угнетенных и бедных на причины своего бедственного положения и
отсталости.
Это означает, что низшие классы должны признать, что
не кто-нибудь, а они сами являются виновниками
собственных неудач и провалов, что следует отказаться от старых
непродуктивных идей, ценностей и форм поведения, перейти
на ценностные и идейные позиции привилегированных
классов, стараясь им во всем подражать. Социализация как
стратегия преодоления неравенств открывает с либеральной
точки зрения весьма заманчивые перспективы перед
высшими классами общества, которые в этом случае сохраняют
свои ведущие экономические позиции и идейное лидерство,
приобретают как носители «ценного» опыта, технических и
иных знаний менторские функции по отношению к низшим
классам, учат их «ответственному поведению и
самоуверенности», следовательно, усиливают свое реальное влияние на
общество. Поэтому либерально-эгалитарные идеологи
рекомендуют господствующим классам активно способствовать
процессам социализации, т. е. органическому врастанию
низших классов в систему. С этой целью, полагают эти
идеологи, необходимо шире развертывать социальные
программы образования, профессионального обучения и т. п.,
обеспечивающие на условиях равных возможностей получение
необходимых знаний и приобретение опыта
представителями всех слоев населения.
В международном аспекте социализация как
политическая стратегия означает возможность отказа бедных стран
от традиционных ценностей, институтов и поведения,
которые сдерживают их развитие, полнейшую модернизацию
экономики, политических отношений и образа жизни по
типу развитых индустриальных стран. Представляя эту
международную стратегию как самую выгодную для
Запада, многие либералы и не пытаются скрывать, что речь
идет о перспективах тотальной «вестернизации третьего
мира», которая должна привести к сплаву интересов
развивающихся государств с интересами западных
капиталистических держав при безусловной доминации последних.
Далеко идущим планам «вестернизации» должны быть
подчинены . программы экономической и научно-технической
помощи, передачи западного опыта и технологии
развивающимся государствам.
В том случае, если по каким-либо причинам угнетенные
классы и бедные страны не намерены добровольно признать
«высокие достоинства» и оправдывать систему, в рамках
которой они подвергаются эксплуатации, можно, по мнению
270
и т. д. Ведущие капиталистические державы явно не хотят
разрушить современную международную иерархию,
потерять свое высшее место в ней.
Отмеченные нами различия либерально-эгалитарных и
консервативных установок носят, как мы видим,
принципиальный характер с точки зрения практической политики
внутри капиталистических стран и на международной арене.
Конфликт «нового эгалитаризма» с неоконсерватизмом
является типичным для современной идеологической ситуации
в капиталистическом мире, и обращение к деталям этого и
других подобных конфликтов дает нам представление,
откуда дуют ветры, как движутся «циклоны» и «антициклоны»,
определяющие погоду в политике капиталистических
государств, вызывающие наступление то холодных сезонов, то
оттепелей.
Возникает вопрос: на какую поддержку широкой
общественности могут рассчитывать консерваторы, выступая с
откровенно антинародными программами, открыто заявляя о
том, что цель политики — поддерживать существующие
неравенства между людьми и народами как «стимул
прогресса», что низшие классы и бедные страны должны смириться
со своей судьбой и т. п.? Похоже, что общественность в дан-
пом случае стараются не столько убедить, сколько запугать
всевозможными «опасностями», будто бы подстерегающими
общество в случае игнорирования консервативных программ
развития. Естественные стремления людей к счастью,
лучшей жизни объявлены иллюзорными, оптимистические
надежды— химерическими. Но главный скрытый стержень, на
котором держится вся неоконсервативная идеология, — это
горделивое осознание «силы» и «мощи» правящих верхов
капиталистических держав, убежденность в том, что
сегодня эту «силу» надо использовать смело, даже дерзко.
Консервативная политика нынешнего американского
правительства, возглавляемого президентом Р. Рейганом,
ориентируется на культ силы и навязывание американского
диктата многим странам и народам. «Рональд Рейган,—
пишут американские авторы, — убежден, что сила является
единственным инструментом, посредством которого страна
может влиять на международные процессы так, чтобы это
соответствовало ее интересам»34. Эта политика явно
вдохновляется старыми претензиями американского
империализма на лидерство в мире капитала, стремится к созданию
новых мифов о превосходстве США.
34 The Future under President Reagan. Westport, 1981, p. 28.
271
В неоконсерватизме, таким образом, отразилось
беспокойство капиталистических верхов, запутавшихся в
неразрешимых общественных проблемах и прибегающих к силе
как последнему средству приостановить деградацию
буржуазного общественного строя. Показная самоуверенность и
бравада, апологетика силы, надо думать, идут от затаенного
страха перед будущим, от сознания непрочности и
неосновательности перспектив капитализма.
Либералы-эгалитаристы предлагают другую, с их точки
зрения, гибкую, менее рискованную и более выигрышную
стратегию, включающую в себя ряд изменений как внутри
самой капиталистической системы, так и в ее отношениях с
социалистическим лагерем и «третьим миром».
Они выделяют по крайней мере четыре основных
варианта возможных стратегий изменения системы, страдающей от
перенапряженности социальных противоречий и неравенств.
При этом имеются в виду как отдельные общественные
системы, государства, гак и международные системы, включая
мировое сообщество в целом. Далее они исходят из того, что
каждая система достаточно четко поляризована, состоит из
привилегированных и угнетенных, богатых и бедных лиц,
групп, классов, наций, рас, народов, государств, между
которыми имеются отношения если не открытой конфронтации,
борьбы, то явной неприязни. К четырем возможным
стратегиям изменения, о которых сказано выше, принадлежат
социализация, интеграция, изоляция и революция3\
Две стратегии — социализация и интеграция —
означают, что страдающие от неравенств субъекты, будь то
индивиды, классы или государства, принимают существующую
систему со всеми ее ценностями и как бы в награду за это
приобретают возможность получения выгод, которые дает
или может дать равноправное участие в системе. Из этих
двух стратегий с точки зрения прогресса самой системы
либералы предпочитают социализацию, которая
предполагает добровольные активные усилия угнетенных классов и
бедных государств достичь по примеру привилегированных
и богатых высот развития. Но тут, подчеркивают они,
чрезвычайно необходимы, во-первых, сознание того, что система
сама по себе оправданна и эффективна, что
привилегированные субъекты обладают некоторыми достоинствами
(опытом, знаниями и т. д.) и ценностями, позволяющими им
35 Классификация и характеристика указанных стратегий дана в
книге «Глобальные неравенства: политические и социоэкономические
перспективы» (Rowe Е. Strategies for Change: A Classification of Proposals
for Ending Inequality.—Global Inequality: Political and Socioeconomical
Perspectives. Boulder (Colorado), 1979, p." 221—232).
либерально-эгалитарных идеологов, применить другую
политическую стратегию — интеграцию. Инициатива здесь
должна исходить от высших классов и государства, которые
проводят политику, пробуждающую у эксплуатируемых
субъектов интерес к участию в системе. Последняя постепенно
становится все более привлекательной для низов. Она
должна признавать всех равными, приветствовать идеи и
практику равного участия в общих делах, осудить прошлые и
настоящие порядки, продуцирующие неравенство и
эксплуатацию. Соответственно должна быть перестроена структура
институтов общества. Предполагается развернутая и
динамичная социальная политика государства, направленная
главным образом на облегчение участи бедных и
малоимущих слоев населения.
Эгалитаристы заявляют, что антиэксплуататорский,
антидискриминационный курс интеграционных процессов в
обществе необходим вследствие того, что угнетенные классы
не идентифицируют себя с системой (как при социализации),
а продолжают рассматривать ее как «чужую», не доверяют
ей, болезненно реагируют на фактические неравенства,
существующие несмотря на провозглашение формально-
правового равенства. В рамках интеграции возникает
необходимость воспитывать и высший класс в духе
терпимости, солидарности, отказа от предрассудков в отношении
бедных, от идей расовой и национальной исключительности
и т. д. «Под категорию интеграции подпадают законы
антидискриминационные, а также другие меры,
устанавливающие равное обращение и равные возможности,
законодательство об афирмативных действиях»36. Интегративная
политика на международной арене складывается из
аналогичных акций, т. е. из признания всех государств равными
независимо от уровня их экономического и социального
развития, осуждения гегемонизма, расизма и апартеида, а
также национализма и сепаратизма, оказания реальной
помощи бедным странам в преодолении вредных последствий
социального неравенства в прошлом и настоящем.
Стратегия интеграции на международном уровне допускает и
оправдывает благожелательную позицию Запада по вопросу
об установлении нового международного экономического
порядка. Но такая позиция до сих пор не стала реальностью.
Две другие стратегии — изоляция и революция —
предполагают отрицание низшими классами и бедными странами
господствующего порядка, отношений, выражают стихийные
36 Rowe Е. Strategies for Change: A Classification of Proposals for
Ending Inequality. — Global Inequality: Political and Socioeconomical
Perspectives, p. 229.
275
котором господствуют кооперированный труд и принципы
взаимного обеспечения как гарантии против социального
неравенства, эксплуатации человека человеком.
Революционную стратегию буржуазные либералы связывают как с
марксистско-ленинской идеологией, так и с различными
полумарксистскими и лжемарксистскими доктринами.
В свое время часть буржуазных либералов (среди них,
например, Дж. Гэлбрейт) не без удовлетворения объявила
о том, что революции в марксистском смысле стали будто
бы невозможными в условиях бескризисного движения
капитализма ко всеобщему благосостоянию, изобилию
товаров и услуг, примирению классовых конфликтов.
Экономические цели революции, полагал Дж. Гэлбрейт, создание
крупного производства и планирование, обеспечение
экономического роста и регулирования совокупного спроса
могут быть достигнуты принципиально нереволюционным
путем. «Все факторы, — писал он, — от которых, как ранее
казалось, зависит революция, да и сама революция,
утратили значение. После этого тема революции едва ли может
служить даже предметом научной дискуссии»37.
Жизнь показала, насколько преждевременными
оказались данные предположения. Позднее либералам пришлось
вернуться к теме революции и признать ее одной из
реальных стратегий изменения социальных структур.
Выделяя четыре политические стратегии изменения
буржуазного общественного строя, либералы определили
степень желательности, приемлемости этих стратегий для
правящих верхов капиталистических стран. Но здесь
возникает вопрос о вероятности осуществления указанных
стратегий в реальной политике. Чтобы стать
действительностью, подчеркивают либералы, социализация слишком
выгодна высшим классам, оставляя за ними множество
преимуществ, а изоляция — слишком обременительна для
низших групп, добровольно обрекающих себя на положение
аутсайдеров, изгоев. У этих стратегий, стало быть, шансы
на осуществление не очень велики; они могут применяться в
политике самостоятельно или в сочетании с другими
стратегиями, но решающего значения в перспективе не получат.
Более жизненными стратегиями, приобретающими особую
популярность в наше время, являются, по мнению
либерально-эгалитарной части буржуазных идеологов, интеграция и
революция. Так что практически проблема сводится к
возможности осуществления одной из них.
37 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969, с. 345.
274
движения за устранение неравенств без участия высших
классов и богатых стран. Эти стратегии, следовательно,
существенно ослабляют систему, ставят под вопрос ее
существование, угрожают интересам правящих групп и
потому, с точки зрения либерально-эгалитарных идеологов,
являются нежелательными. Изоляция — пассивная стратегия
ухода отдельных эксплуатируемых, дискриминируемых и
униженных групп из системы, которую они считают
безнадежно несправедливой. Такая группа склонна замкнуться в
себе, создать для себя свой особый мир и культуру,
отвергнув все ценности и формы поведения, присущие
господствующей системе. Она пытается выработать для себя более
продуктивные позиции и ценности чаще всего путем
возврата к прошлому, возрождения и модернизации традиций.
В формах изоляции развиваются некоторые культурно-
национальные и националистические движения в западных
обществах, выражается внутриполитический сепаратизм в
отдельных странах Африки, Азии и Латинской Америки.
Стратегию на изоляцию в международной жизни, полагают
либералы, могут избрать отдельные государства,
проводящие политику «опоры на собственные силы», либо
региональные объединения государств. Во всяком случае в
«третьем мире» давно уже существуют изоляционистские
идеологии, которые ищут основы самоуважения и гордости
народов, их материального и социального прогресса не в
«чужом» опыте, не в усвоении западных ценностей и
принципов, выработанных цивилизацией «белого человека», а
в собственной истории и культуре, в региональных
традициях (традиционистский национализм и т. п.). Хотя
изоляция как политическая стратегия может применяться
достаточно широко, она не способна, считают либералы,
обеспечивать группам или странам эффективный результат.
Полностью игнорировать господствующую систему, как
правило, никогда не удается, ибо она контролирует
распределение многих благ, без которых невозможно обойтись.
Со временем попытки изоляции и сепаратизма
проваливаются или трансформируются в какую-либо иную стратегию,
проводимую данной группой.
Самая радикальная стратегия, направленная на
преодоление социальных неравенств и несправедливости, —
революция— означает фундаментальное преобразование
системы, действительные структуры и институты которой
необходимым образом порождают эксплуатацию и неравное
обращение с людьми. Всякое революционное движение
внутри стран и в международном масштабе имеет в виду
создать новый порядок отношений между людьми, при
276
Вопрос, как мы видим, поставлен ребром: интеграция
или революция. Чтобы избежать революционных изменений
социальной системы, необходимо проводить активную
политику интеграции на внутриполитическом и международном
уровне. Современный капитализм, полагают представители
либерально-эгалитарного направления буржуазной мысли,
уже достиг некоторых «успехов» в области интеграции,
решил основные вопросы формального юридического
равенства в рамках национального и международного права, но
натолкнулся на трудности, примером которых могут быть
проблемы афирмативных действий в интересах
дискриминируемых групп или нового международного экономического
порядка в пользу развивающихся государств. Либерально-
эгалитарные выступления на Западе направлены на то,
чтобы убедить правящие классы в необходимости
продолжить якобы успешно начавшуюся после второй мировой
войны политику интеграции. Эти выступления проникнуты
верой в силу интеграции как политической стратегии, в ее
способность «вытеснить» революцию из политической
жизни. Обе стратегии (интеграция и революция) имеют в виду
одну и ту же цель — социальное равенство, но революция,
говорят либералы, требует от общества более высокой
цены за достижение этой цели, т. е. она предполагает
средства, которые дорого обходятся людям и к которым они
стараются прибегать в крайнем случае. Вывод отсюда таков:
«...если угнетенные группы видят какую-то реальную
возможность справедливости в существующей внутренней
и международной системах, революционная альтернатива,
вероятно, не будет избрана»38. Интеграция для
большинства либерально-эгалитарных теоретиков означает
одновременно и необходимость, и возможность избежать
революционных изменений в мире.
Среди указанных теоретиков есть, правда, и такие,
которые пытаются, затемняя суть проблемы, именовать
революцией то, что на языке других означает самую обыкновенную
интеграцию. В противовес марксистско-ленинскому учению
о революции, ее источниках, движущих силах и целях
некоторые буржуазные либералы утверждают, будто ряд инте-
гративных мер, проводимых под контролем буржуазного
государства и направленных на установление социальной
справедливости и равенства, имеет для общества
революционное значение, воплощает в себе все необходимые черты
эгалитарной революции.
38 Rowe Е. Strategies for Change: A Classification of Proposals for
Ending Inequality.— Global Inequality: Political and Socioeconomical
Perspectives, p. 232.
277
Многие западные либералы верили и уверяли других, что
«государство всеобщего благосостояния», проводя активную
социальную политику, способно совершить такую
революцию без всякого насилия, без общественных страстей и
кровопролития, без красных знамен и леворадикальных
агитаторов. В общетеоретическом плане они пытаются
элиминировать из концепции эгалитарной революции элементы
классовой борьбы и классового сознания. Упоминавшийся
нами С. Хук, отвергая «большевистско-ленинскую модель
революции» за то, что она постулирует существование
пролетариата, которого, мол, в современных западных странах
просто нет, пытается определить стратегию постепенно
осуществляемых на базе капитализма реформ в целях
установления равных возможностей как «перманентную
революцию»'19. В достижении социальной справедливости состоит,
согласно С. Хуку, «истинно» революционный смысл нашего
времени. Эта «революция» исключает всякое насилие и
претензии одних классов к другим, она совершается без спешки,
постепенно. Все, что в прошлом было несправедливым и
нарушало социальный мир, необходимо забыть, вычеркнуть из
истории, оно не должно мешать согласованному
устремлению членов общества к социальной справедливости.
На пути к эгалитарной революции, полагает
американский либерал Д. Гил, необходимо преодолеть духовную раз-
деленность общества и противоречия классового сознания.
Речь у него идет скорее о культурной духовной революции,
чем о какой-либо иной. Установить на местном
национальном и международном уровне новый порядок, основанный
на принципах равенства, кооперации, коллективной
ориентации и рациональности, можно лишь при условии коренного
изменения взглядов на человека, на отношения людей друг
к другу и значение человеческой жизни. «Революция»,
которую возвещает Д. Гил, нацелена на эгалитарный,
гуманистический, демократический социальный порядок в интересах
всех людей. «Революцию нельзя рассматривать как игру с
нулевой суммой, при которой одни выигрывают ценой
потери для других,— пишет он. — В эгалитарной,
гуманистической революции каждый становится победителем»40.
Поскольку такая ненасильственная революция выгодна всем,
то теоретически любой член общества, будь он бедным или
39 Hook S. Revolution, Reform and Social Justice. Studies in the
Theory and Practice of Marxism. Oxford, 1975, p. Ill, 279—280.
40 Gil D. The Challenge of Social Equality. Essays on Social Policy,
Social Development and Political Practice. Cambridge, 1976, p. 175.
278
богатым, эксплуататором или эксплуатируемым, является
потенциальным участником революционного движения.
Удивительная черта эгалитарной революции, по
Гилу,— это отсутствие у нее конкретного врага.
«Политическая стратегия, — заявляет этот автор, — в общем
предполагает возможность избежать персонализации врага. В
соответствии с этим подходом врагами социального
равенства, справедливости и разума являются не специальные
индивиды и группы, а принципы и динамика, которые
формируют социальные, экономические и политические
институты существующего порядка и которые выражаются в
стяжательских, конкурирующих, эксплуататорских и
эгоистических позициях и поведении со стороны почти каждого,
кто живет при этих институтах»41. Словом, каждый
человек должен побороть в себе эгоизм и недоброе отношение
к другим людям; в этом и состоит эгалитарная революция.
Парадоксально, что указанная стратегия, которую
Д. Гил именует революцией, рассчитана на широкое
участие господствующего при капитализме класса, на его
добровольное согласие отказаться ради нового эгалитарного,
гуманистического порядка от привилегий, которые дают ему
нынешние социальные неравенства, прекратить дальнейшее
накопление богатств и власти, передать их под
общественный контроль в обеспечение всеобщего интереса и равной
пользы для всех. Что подобное развитие событий
соответствовало бы жизненным перспективам неимущих, угнетенных
классов, понятно, но откуда может проистекать
уверенность в «благоразумии» элиты, которая «по-хорошему», без
всякого принуждения возвращает обшеству награбленные
богатства и узурпированную у него власть. Какую «выгоду»
может получить из этого правящий класс как участник
«эгалитарной революции»?
В связи с такой постановкой вопроса Д. Гил
высказывает мысль, которая, как нам кажется, присутствует в
подтексте очень многих буржуазных эгалитарных доктрин. Он
говорит о громадной цене за неравенства, несправедливость
и иррациональность, которую правящий класс вынужден
«платить» у себя в стране и за рубежом. Она выражается в
растущем отчуждении, социальной и психологической
патологии, в постоянном напряжении и войнах, поглощаюших
огромные материальные ресурсы и человеческие усилия 42.
Д. Гил делает акцент на духовном саморазрушении,
которое захватило элиту и, возможно, ее в первую очередь, но в
действительности эта проблема стоит шире. Эгалитаристы
41 Там же, с. 180.
42 См. там же, с. 176.
279
иногда явно, но чаще молчаливо исходят из предположения,
что в современном мире привилегии, возникающие из
социальных неравенств, обходятся все дороже тем, кто ими
обладает. Поэтому идет процесс уменьшения «выгодности»,
привлекательности социальных неравенств и привилегий.
В условиях, когда предпринимаются постоянные атаки
на привилегии внутри общества и за рубежом, обрушивается
шквал социальной критики на элиту, последней приходится
кое-чем поступаться, больше «платить» за них в виде
материальных уступок обществу в обмен на лояльность к
правящим верхам, а также возрастающих расходов на
пропаганду, оправдывающую неравенства и привилегии. Полагают,
что в конце концов все прямые и косвенные затраты,
материальные и духовные усилия на поддержание и защиту
привилегий увеличатся настолько, что имуший класс сочтет
за благо отказаться от них, передать обществу все, чем
владеет сверх равной меры. Таким образом, эгалитаристы
делают ставку на возможную «нерентабельность привилегий», на
то, что социальная несправедливость и различного рода
неравенства среди людей изживут себя не только в
моральном, но и в материальном отношении. Соответствующие
этим целям давления общественности на элиту включены,
как мы видим, в стратегию «эгалитарной революции».
В данном пункте обнаруживается теоретическая и
практическая ограниченность, безусловный утопизм буржуазных
эгалитарных проектов. Совершенно очевидно, что без
революционного насилия и коренных преобразований в сфере
отношений производства убедить морально или вынудить
материально имущий класс расстаться со своими
привилегиями едва ли возможно. Наивно ожидать, что современный
монополистический капитал будет сложа руки наблюдать,
как «обесцениваются» выгоды его экономических и
политических позиций, действовать по сценарию будущего,
составленному эгалитаристами. При росте издержек и затрат на
защиту своих социальных позиций он будет стремиться
только к одному — дальнейшему повышению ценности своих
привилегий. Монополии стремятся теперь к крупным,
масштабным привилегиям, ради которых они готовы идти на
конфронтацию с кем угодно внутри своих стран и за
рубежом. Это их стремление, а также растущую агрессивность,
воинственность в отстаивании и улучшении собственных
позиций как раз и отражает сегодня консервативная
идеология во всех ее вариантах.
Важно учесть еще одно обстоятельство, подчеркивающее
нереалистический характер расчетов на то, что привилегии
когда-нибудь станут для богатых в тягость и они сами отка-
280
жутся от них в пользу общества. При объективном росте
материальных и моральных затрат на поддержание и
улучшение выгодных, престижных позиций господствующий класс,
используя свой огромный опыт социального
маневрирования, перекладывает основную часть расходов, о которых
идет речь, на общество в целом, государство и
налогоплательщиков, а в конечном счете на плечи трудящихся. Мало
того, что за счет последних формируются привилегии
богатых, «низшие» классы фактически оплачивают систему
социальных и политических средств усиления господства
элиты, охраны ее привилегий. «Когда обладание благами
и их потребление переходит некоторую границу, оно
становится обременительным, — заявляет Дж. Гэлбрейт и делает
весьма многозначительную оговорку, — если связанные с
этим усилия не могут быть переложены на других»43.
Но дело как раз в том, что монополистический капитал
на высшем уровне политики давно и не без успеха
занимается перекладыванием финансовых, материальных и
моральных издержек, связанных с возрастанием социальных
неравенств и его привилегий, «на других», т. е. на тех, кто
работает по найму и платит налоги с заработка. Механизм этого
перекладывания хитроумен и в большей своей части скрыт,
но результаты его действия очевидны: трудящиеся платят за
все, содержат невиданно разбухший бюрократический,
репрессивный и пропагандистский аппарат, защищающий
привилегии крупного капитала внутри страны, несут
основное бремя стремительно растущих военных расходов, из их
кармана берут деньги на оплату дорогостоящих
внешнеполитических акций, обеспечивающих интересы господства
капиталистических монополий на международной арене.
Привилегии достаются монополистам, а «цену» за эти
привилегии приходится платить трудящимся членам общества.
При таком положении вещей эгалитаристам придется
бесконечно долго ждать, пока привилегии богатейшей
верхушки общества «обесценятся» и утратят для нее всякую
привлекательность.
Стратегия «эгалитарной революции», как мы видим,
может быть названа революционной лишь по неведению, ибо
в действительности это есть программа медленной
эволюции, которая не дает никакой реальной перспективы
трудящимся, ставит их жизненные интересы и будущее в
зависимость от перманентных реформ, проводимых с согласия и по
доброй воле крупного капитала. Эгалитарная критика
социальных неравенств и эксплуатации человека человеком,
43 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М., 1979,
с. 57.
281
«пророчества» о пришествии общества, в котором будут
иметь место коллективная собственность и планируемая
экономика, общая ответственность за социальный прогресс и
классовое сотрудничество, добрый и честный обмен деятель-
ностями и талантами между людьми, — все это как бы
повисает в воздухе без серьезной институциональной базы и
реальной привязки к нынешней капиталистической
действительности.
Прийти к социализму, минуя известные стадии классовой
борьбы, представляется в наше время совершенно
невозможным. Сегодня можно в полной мере ощутить
актуальность следующих слов В. И. Ленина: «Об уничтожении
«сразу» всей и всякой эксплуатации давно уже, много веков,
даже много тысячелетий мечтает человечество. Но эти
мечтания оставались мечтаниями до тех пор, пока миллионы
эксплуатируемых не стали объединяться во всем мире для
выдержанной, стойкой, всестдронней борьбы за изменение
капиталистического общества в направлении собственного
развития этого общества. Социалистические мечтания
превратились в социалистическую борьбу миллионов людей
только тогда, когда научный социализм Маркса связал
преобразовательные стремления с борьбой определенного
класса. Вне классовой борьбы социализм есть пустая фраза или
наивное мечтание»44.
Современные эгалитаристы не первые и, наверное, не
последние доктринеры, которые не имеют мужества
согласиться с очевидными фактами, признать реальность того, что
монополистический капитал никогда без борьбы не уступал
свои экономические и политические позиции, не отказывался
от привилегий под влиянием красноречивых уговоров и
призывов со стороны социальных реформаторов. Если он не
делал этого раньше, то меньше всего следует ждать подобного
поведения в будущем, когда «плоды цивилизации» в
результате научно-технического прогресса становятся все более
обильными, концентрация богатств достигает немыслимых
в прошлые эпохи пределов, когда, несмотря ни на что,
привилегии и блага, производимые обществом, укрупняются,
возбуждая у капиталистов непомерную алчность, жажду к
непрерывному обогащению и наживе.
Подобно замкам, построенным на песке, сегодня рушатся
эгалитарные проекты «ненасильственной революции»,
осуществляемой методами реформ в рамках законов
буржуазного государства. Идеологам эгалитаризма, говоря словами
К. Маркса, «следовало бы знать, что законы вообще никог-
44 Ленин Bi И. Поли, собр, соч., t. 12, с. 46.
да не совершают революций»45. По-своему напоминают им
об этой истине консерваторы, критикуя политические и
правовые институты, требуя невмешательства государства в
экономику, ограничения правового регулирования
экономической и социальной сферы. Иначе говоря, эгалитаристам
дают наглядный урок, показывают, насколько эфемерны и
ненадежны государство, право и закон как орудия
«революционных» изменений.
Решающим условием достижения социальной
справедливости и развития человечества по пути общественного
прогресса является социалистическая революция с целью
построения новой общественной системы. Но, как отмечал
В. И. Ленин, «рождение нового строя невозможно без
революционного насилия...»46. Марксизм-ленинизм признает
историческое право народов применять революционное
насилие против сил, защищающих эксплуатацию, угнетение,
формы материального и духовного подавления людей.
Эгалитаристы отвергают революционное насилие как зло и
несправедливость, как выражение «исторической мести»
революционных классов бывшим угнетателям, эксплуататорам.
Для марксистов-ленинцев революционное насилие не
самоцель, оно должно быть в любом случае стратегически и
тактически оправданным, а с морально-политической точки
зрения выступать как глубоко справедливое дело.
Характер революционного насилия как справедливого
раскрывается прежде всего в том, что оно выступает
ответной мерой по отношению к насилию со стороны
эксплуататорских классов, всецело (по характеру и объему)
обусловлено контрреволюционным сопротивлением этих классов.
Ф. Энгельс в связи с этим писал: «...когда нет реакционного
насилия, против которого надо бороться, то не может быть
и речи о каком-либо революционном насилии...»47 Там, где
сопротивление эксплуататоров ослаблено, где они по каким-
либо причинам не прибегают к формам вооруженной борьбы
и активного противодействия революционным силам,
возможны и мирные методы проведения социалистической
революции, мирный переход общества к социализму.
Марксизм-ленинизм, таким образом, не абсолютизирует насилие
и не стремится к нему как к чему-то обязательному. Он
занимает реалистическую позицию, считает революционное
насилие в условиях классовой борьбы и активного
сопротивления реакционных классов, тормозящих социальный про-
45 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 760.
4в Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 116—117.
" Маркс /С.» Энгельс Ф. Соч., т. Э8, с. 419.
233
гресс и не желающих уходить с исторической арены,
оправданным и справедливым.
То, что, с точки зрения марксистов-ленинцев, является
неизбежным и обязательным для установления подлинной
справедливости и равенства между людьми, означает
коренные изменения в самом способе общественного производства
и соответствующий переворот в надстройке. С общественных
форм собственности, обобществления средств производства
только начинается цепь социальных преобразований,
реформ и нововведений, которая приводит к изменению
условии общественной и индивидуальной жизни, к изменению
самого человека. Но обобществление как первоначальная
революционная мера само по себе еще не дает равенства
между людьми в смысле меры труда и потребления.
Полное социальное равенство не возникает вдруг и в
законченном виде. Общество дорастает, дорабатывается до него
довольно долго, трудно, ценой огромных усилий. Чтобы
люди не только считались, но и были действительно
равными, недостаточно провозгласить равенство в политических
документах, зафиксировать в законах государства.
Необходимы постоянные меры, направленные на организацию
процессов выравнивания, преодоление классовых различий
и сближение наций, углубление социальной однородности
общества. Однако эти меры могут принести плоды лишь на
той социальной почве, которую подготавливает для них
социалистическая революция, заменяя частную собственность
на средства производства, общественной, направляя
острие политической власти против реакционных сил,
олицетворяющих систему эксплуатации и буржуазного
эгоизма.
Что бы ни говорили буржуазные эгалитаристы о
социальном равенстве, как бы ни заигрывали некоторые из них с
идеями социализма и революции, их теоретическая мысль,
будто загипнотизированная, всегда останавливается перед
решительным революционным требованием — отнять у
капиталистических монополий богатства, награбленные у
народов, вернуть эти богатства обществу, всем людям, которые
создали их своим трудом. Здесь лежит предел эгалитарного
«радикализма», черта, линия, которую они не в силах
перешагнуть. Отвергать или игнорировать необходимость
революционной передачи средств производства из рук частных
владельцев в собственность общества и вместе с тем
выступать за реформы с целью установления экономического и
социального равенства — значит ставить все дело на
нереалистическую основу, впадать в самообман. Судьба
современного эгалитаризма на Западе, его положение среди мно-
284
жества альтернативных доктрин, выдвигаемых справа и
слева, лишний раз доказывают старую истину: когда
буржуазные идеологи пытаются одновременно сохранить социально-
экономические основы капитализма и сделать его
«гуманным», «справедливым», перед ними открывается прямая
дорога в утопию.
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1
ЛИБЕРАЛЬНО-ЭГАЛИТАРНЫЕ И КОНСЕРВАТИВНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ РАВЕНСТВЕ .... 11
Основные позиции и установки —
О равенстве классов и равенстве индивидов 34
Равные возможности или равные результаты? 45
Глава II
РАВЕНСТВО И СВОБОДА 69
Антиномия равенства и свободы в буржуазной идеологии —
Либертаризм против эгалитаризма 86
Глава III
РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 117
Консерваторы и либералы об антиномии равенства и
справедливости —
Справедливость и «равное обращение с людьми»:
эгалитарный и консервативный подходы 134
Формальная справедливость в трактовке эгалитаристов и
консерваторов 154
Глава IV
ПРОБЛЕМЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ «НОВОГО
ЭГАЛИТАРИЗМА» 184
«Новый эгалитаризм» как социальная философия (теория
справедливости Дж. Роулса) —
Спор о меритократии 214
Глава V
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
КАПИТАЛИЗМА: ВЫБОР И РЕШЕНИЯ 244
Мальцев Г. В.
М21 Буржуазный эгалитаризм: (Эволюция
представлений о социальном равенстве в мире капитала).—
М.: Мысль, 1984. —285 с.
В пер.: 1 р. 90 к.
В книге рассматривается одно из влиятельных направлений
буржуазной идеологии, для которого характерно утопическое стремление
провести в жизнь принципы социального равенства при сохранении
существующих социально-экономических и политических основ
буржуазного строя. Автор показывает воздействие идей эгалитаризма на
социальную действительность в прошлом и настоящем, оценивает
перспективы данной идеологии в условиях общего кризиса капитализма.
Для научных работников, преподавателей и слушателей высших
партийных учебных заведений.
0302020300-137
004(01)-84
34-84
ББК 66.019
1ФБ
Геннадий Васильевич Мальцев
БУРЖУАЗНЫЙ ЭГАЛИТАРИЗМ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
О СОЦИАЛЬНОМ РАВЕНСТВЕ
В МИРЕ КАПИТАЛА
Заведующий редакцией Ю. И. Аверьянов
Редактор Н. А. Шипелева
Младший редактор Е. П. Кириллова
Оформление художника В. П. Григорьева
Художественный редактор С. М. Полеснцкая
Технический редактор Л. А. Фирсова
Корректор Г. Б. Абудеева
иб № 2350
Сдано в набор 26.03.84. Подписано в печать 26.06.84. А10019. Формат 84X108'/M.
Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Печать высокая. Усл. печ. листов 15,12.
Усл. кр.-отт. 15.12. Учетно-нзд. листов 17.72. Тираж 5 500 экз. Заказ № 315.
Цена 1 р. 90 к.
Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, ЛеянвсклА проспект, 15.
Московская типография JA 8 Союэполиграфпрома при Государственном комитет!
СССР по делам издательств, полиграфии ш книжной торговли.
101898, Москва, Цектр, Хохловский вер., 7.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Книги издательства «Мысль» продаются в
магазинах, распространяющих общественно-
политическую литературу.
Подробную информацию о литературе,
готовящейся к выходу в свет, и о порядке ее
распространения Вы можете получить из
ежегодных аннотированных планов издательства
«Мысль».