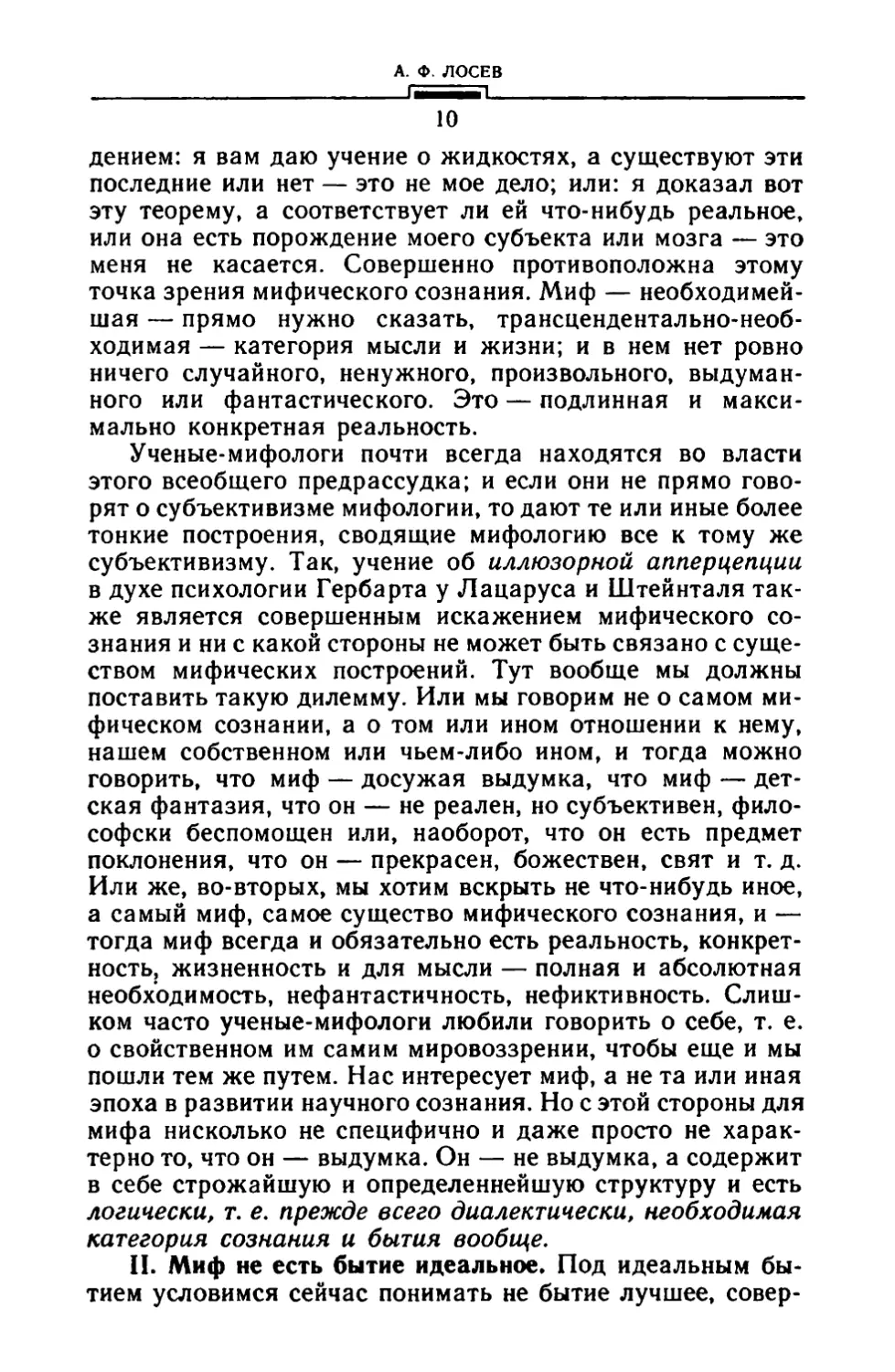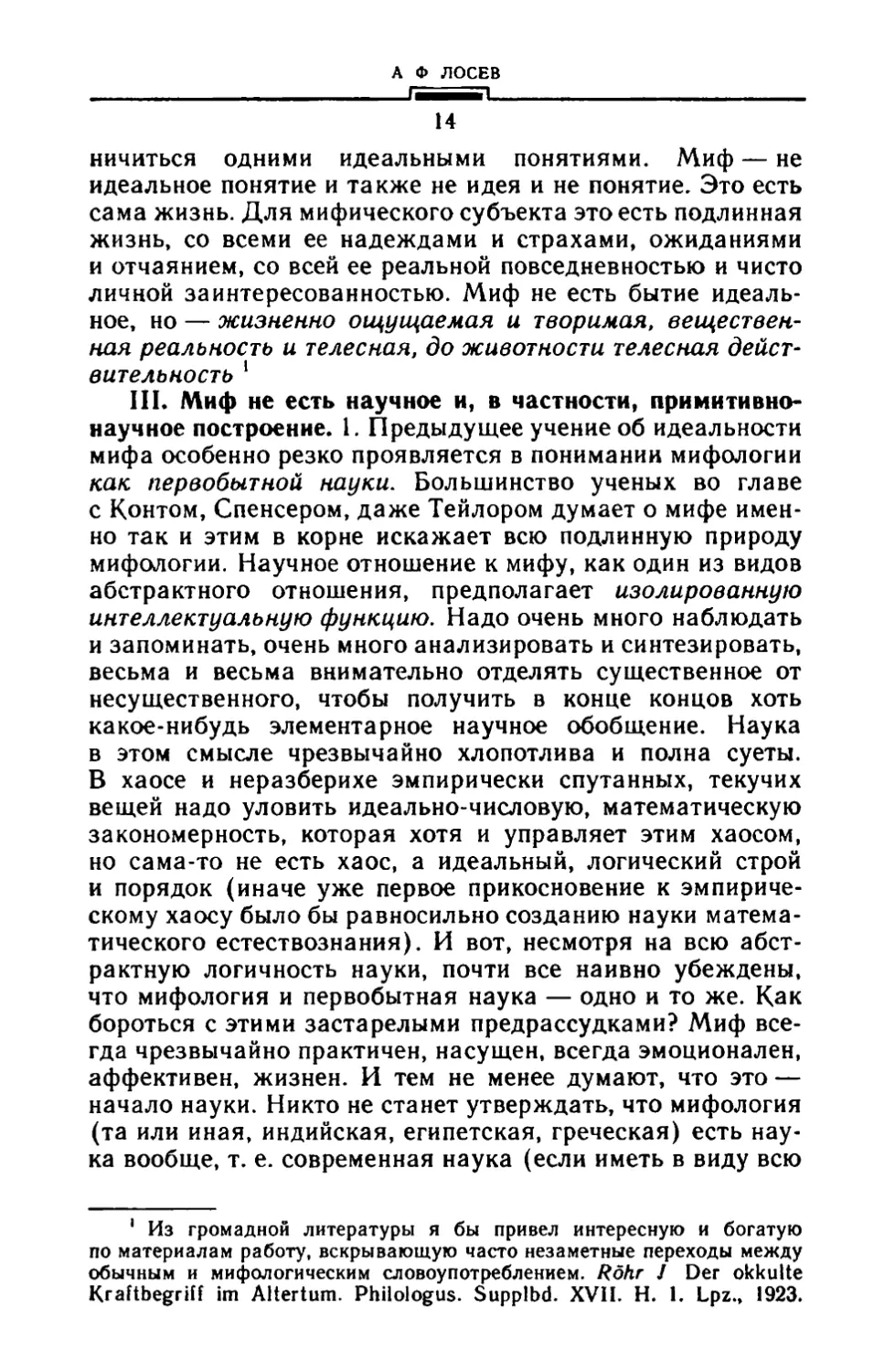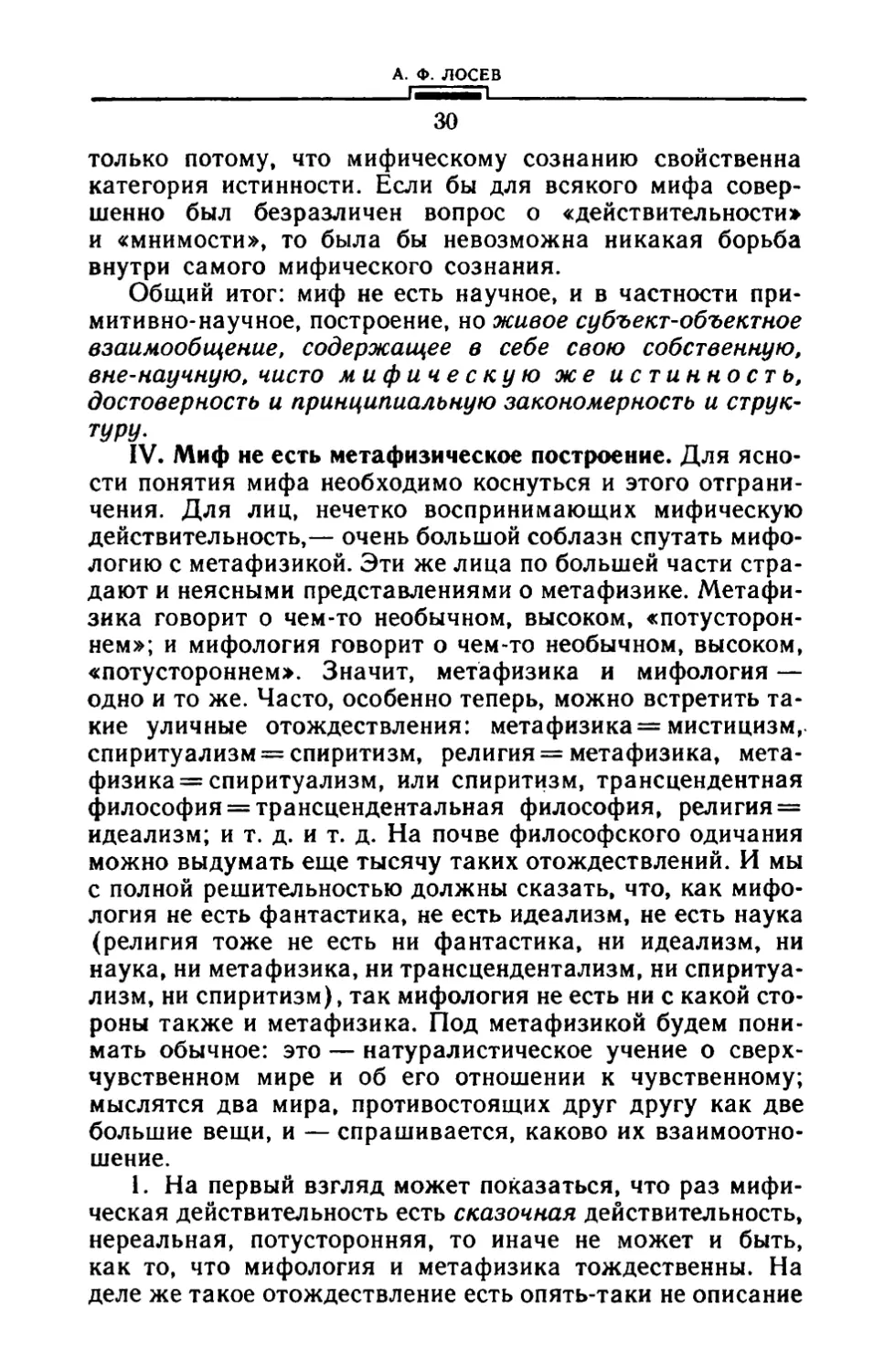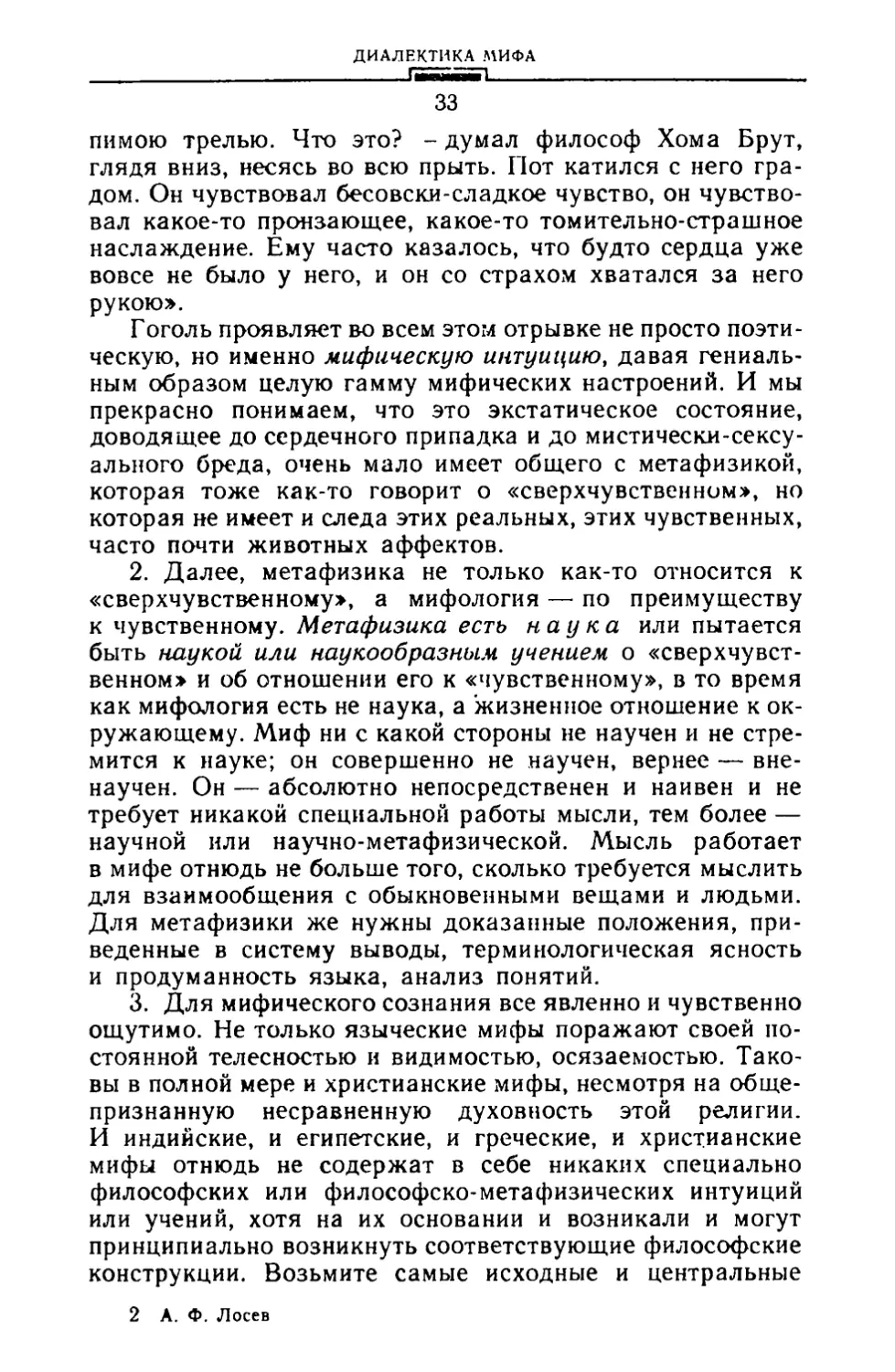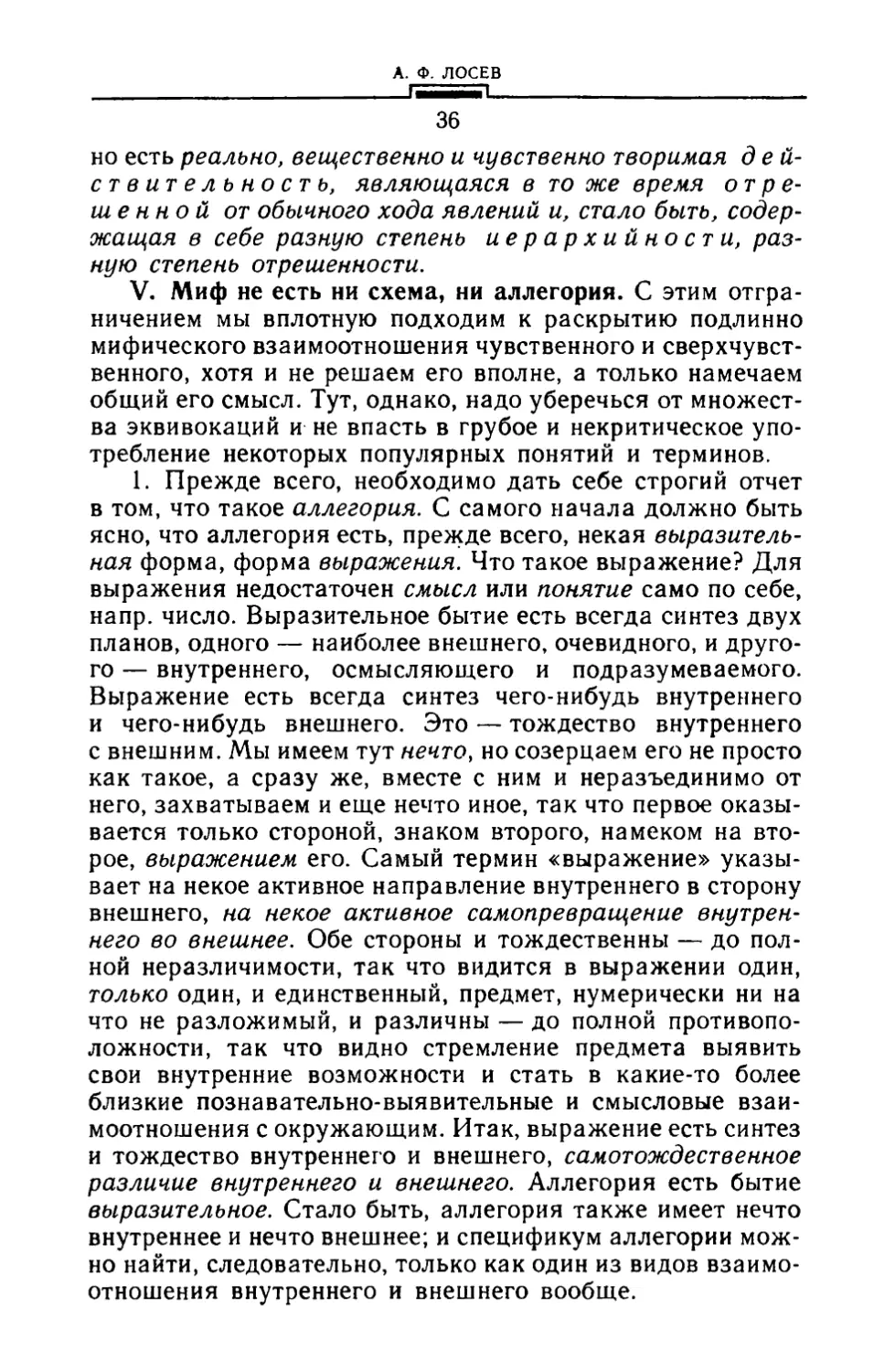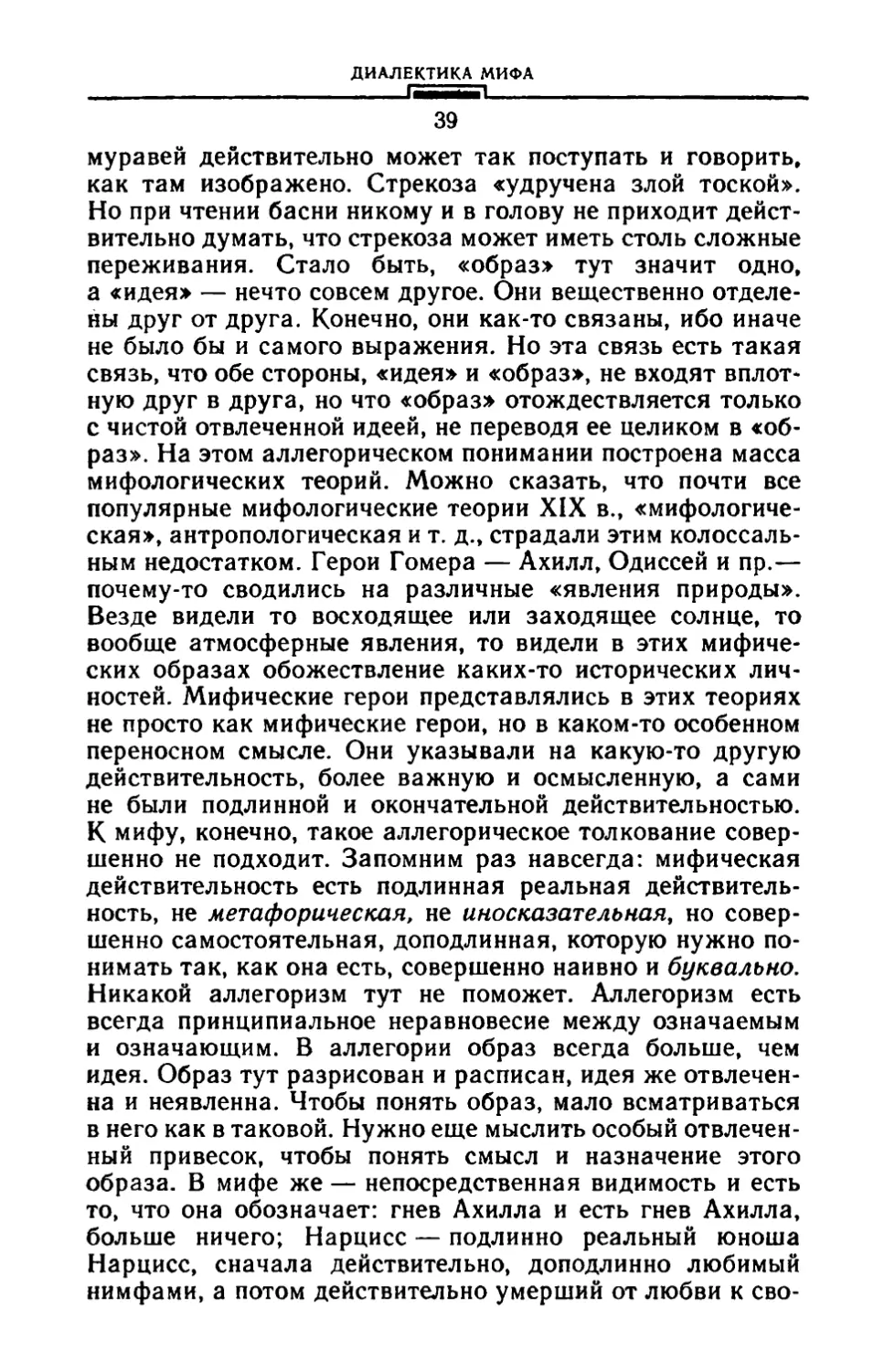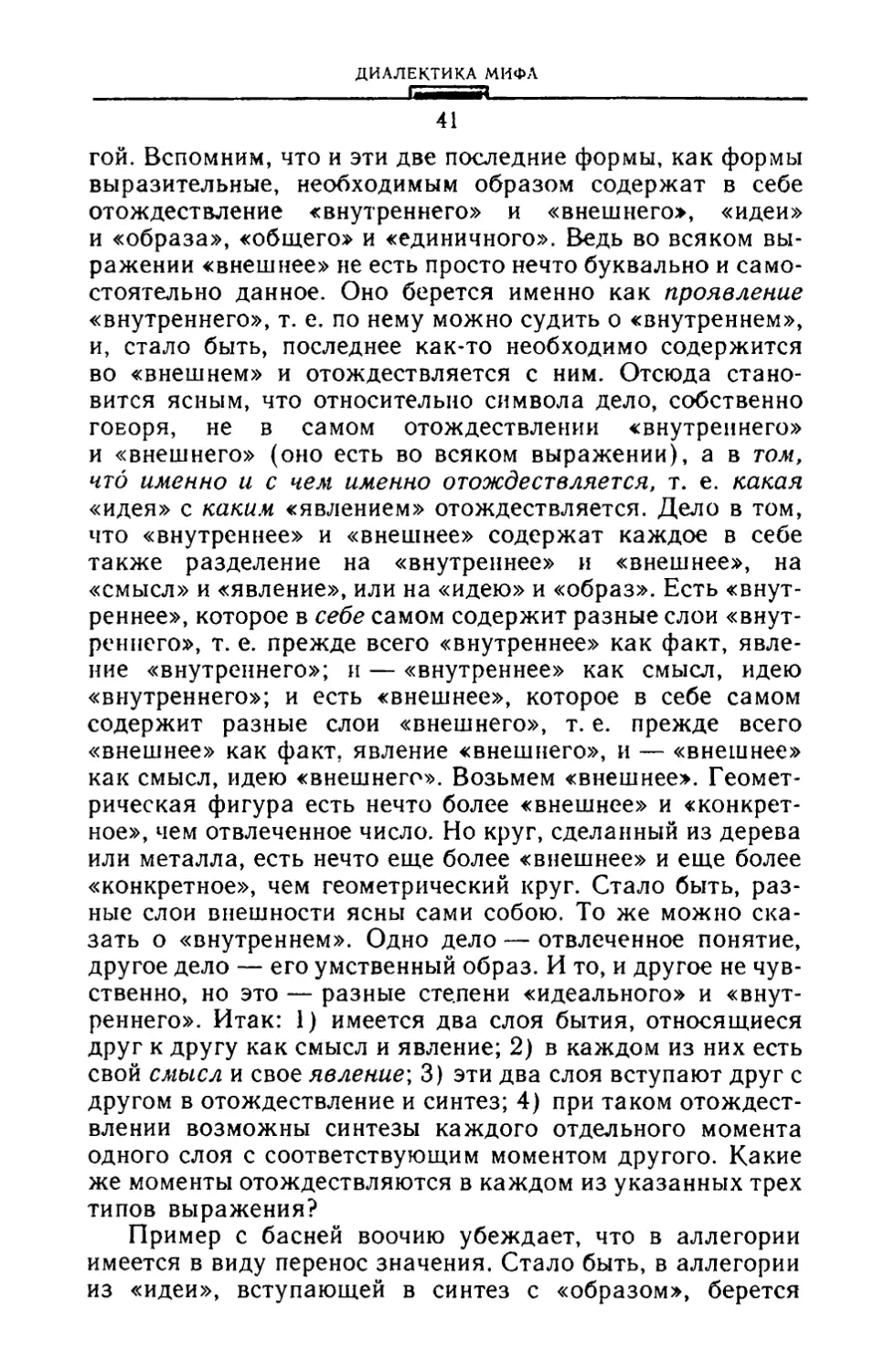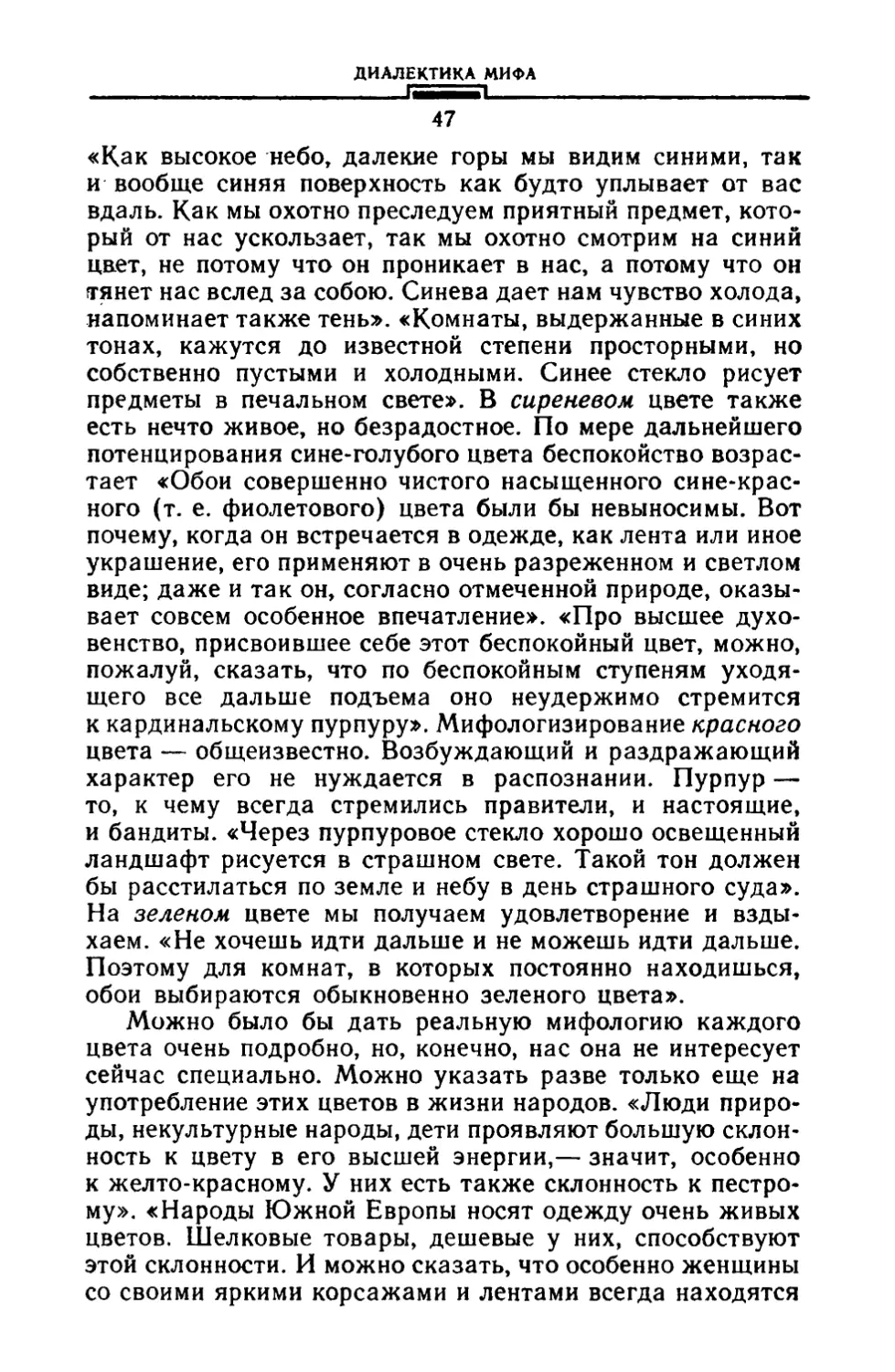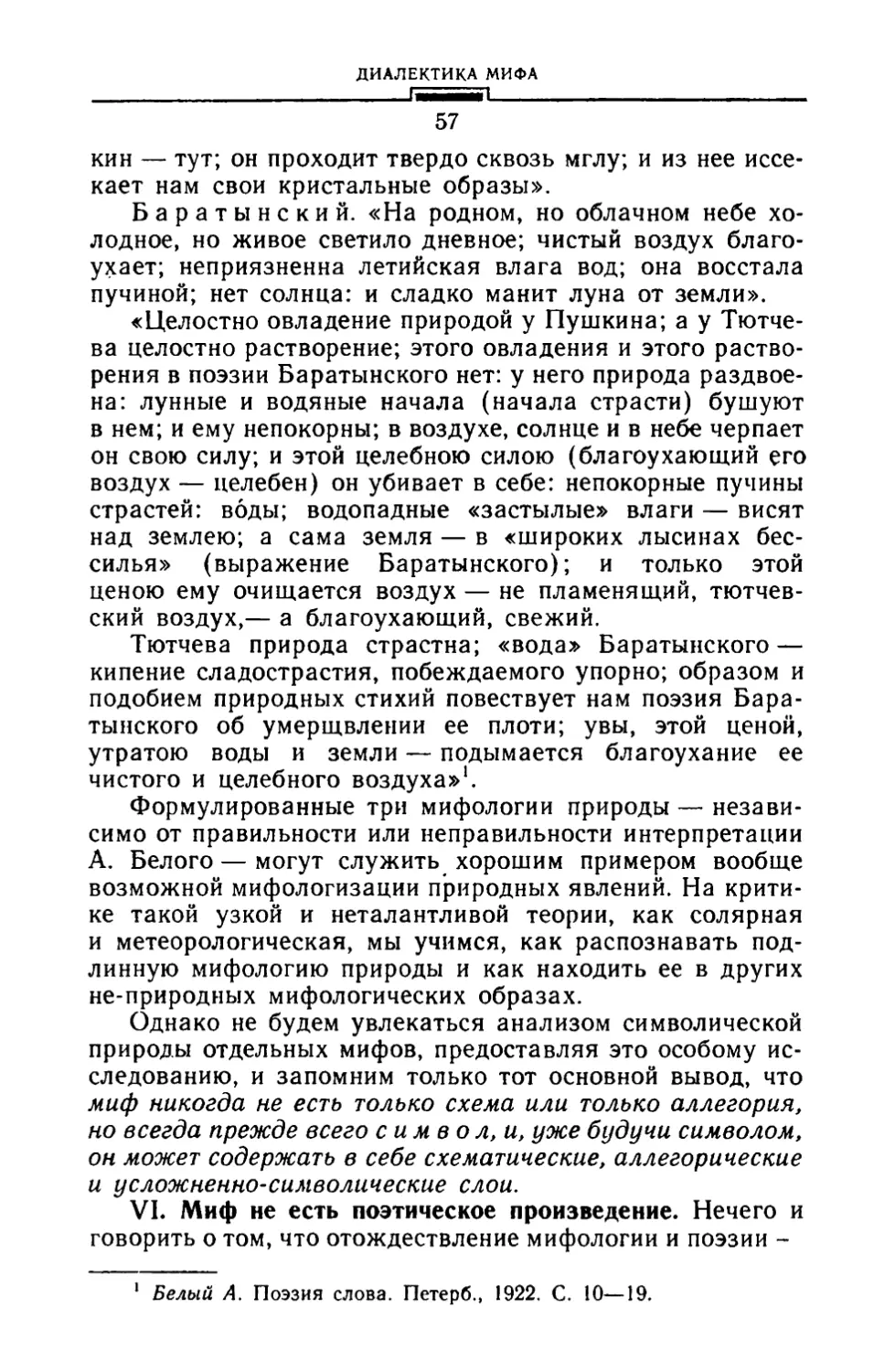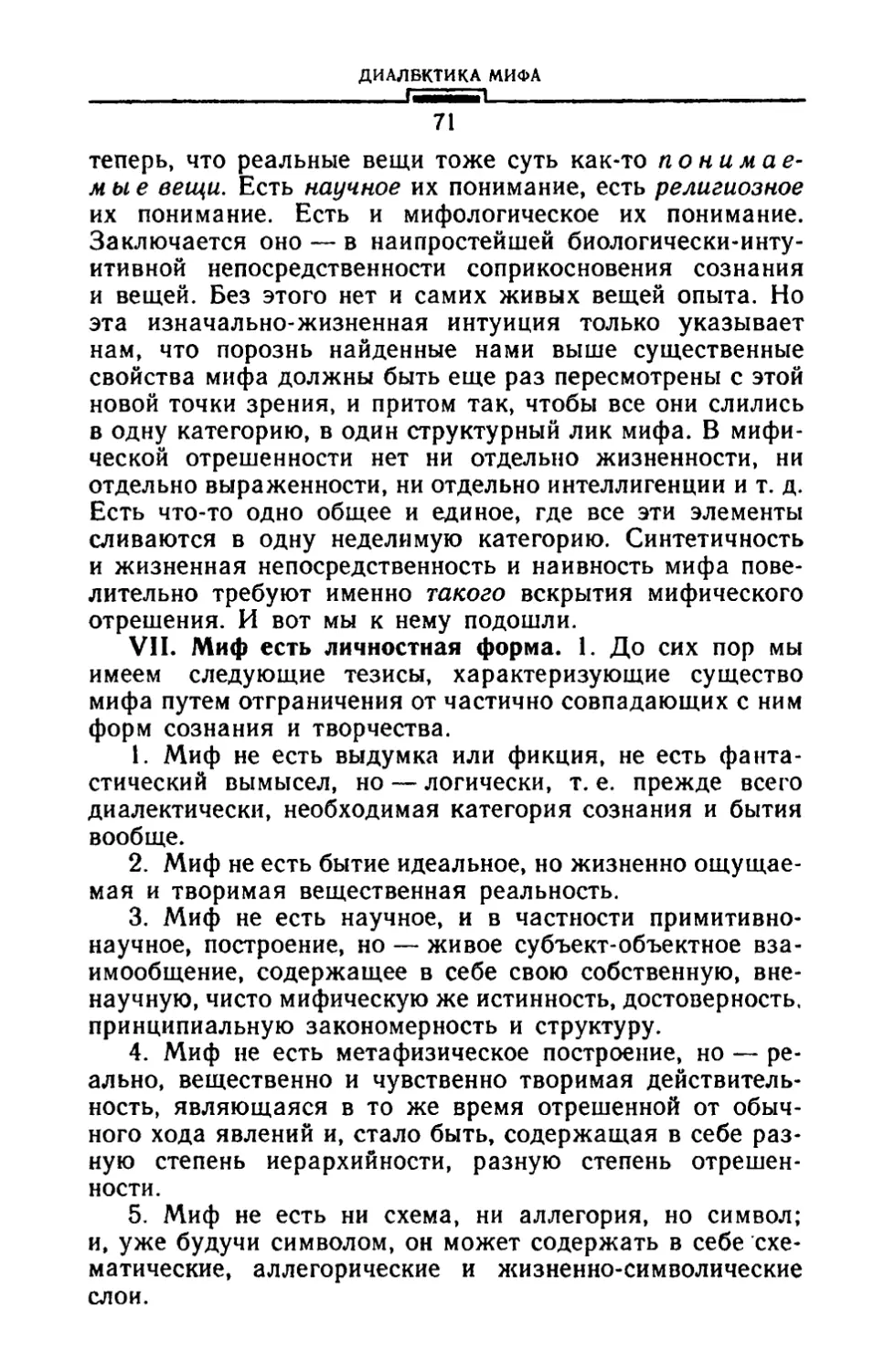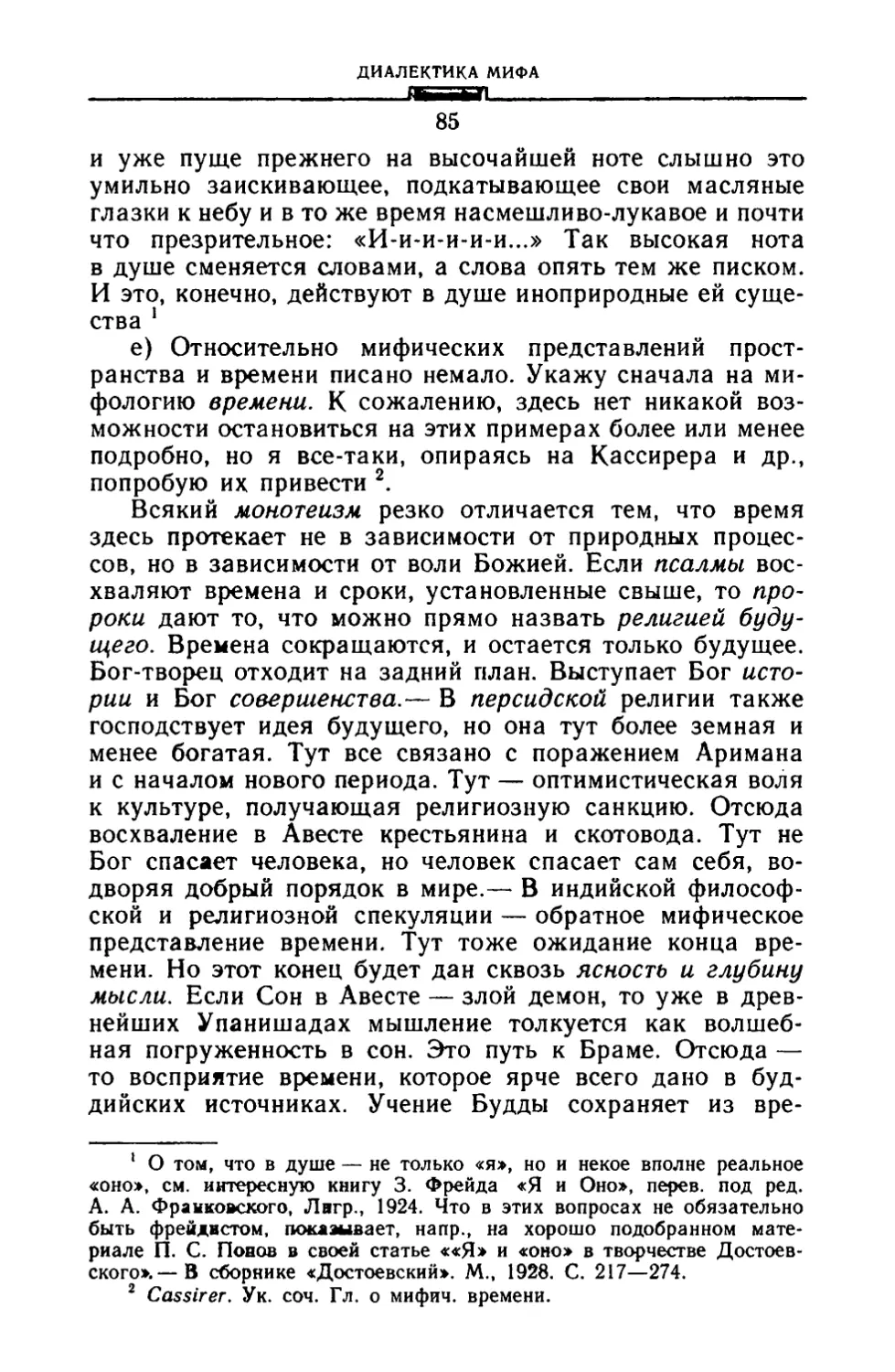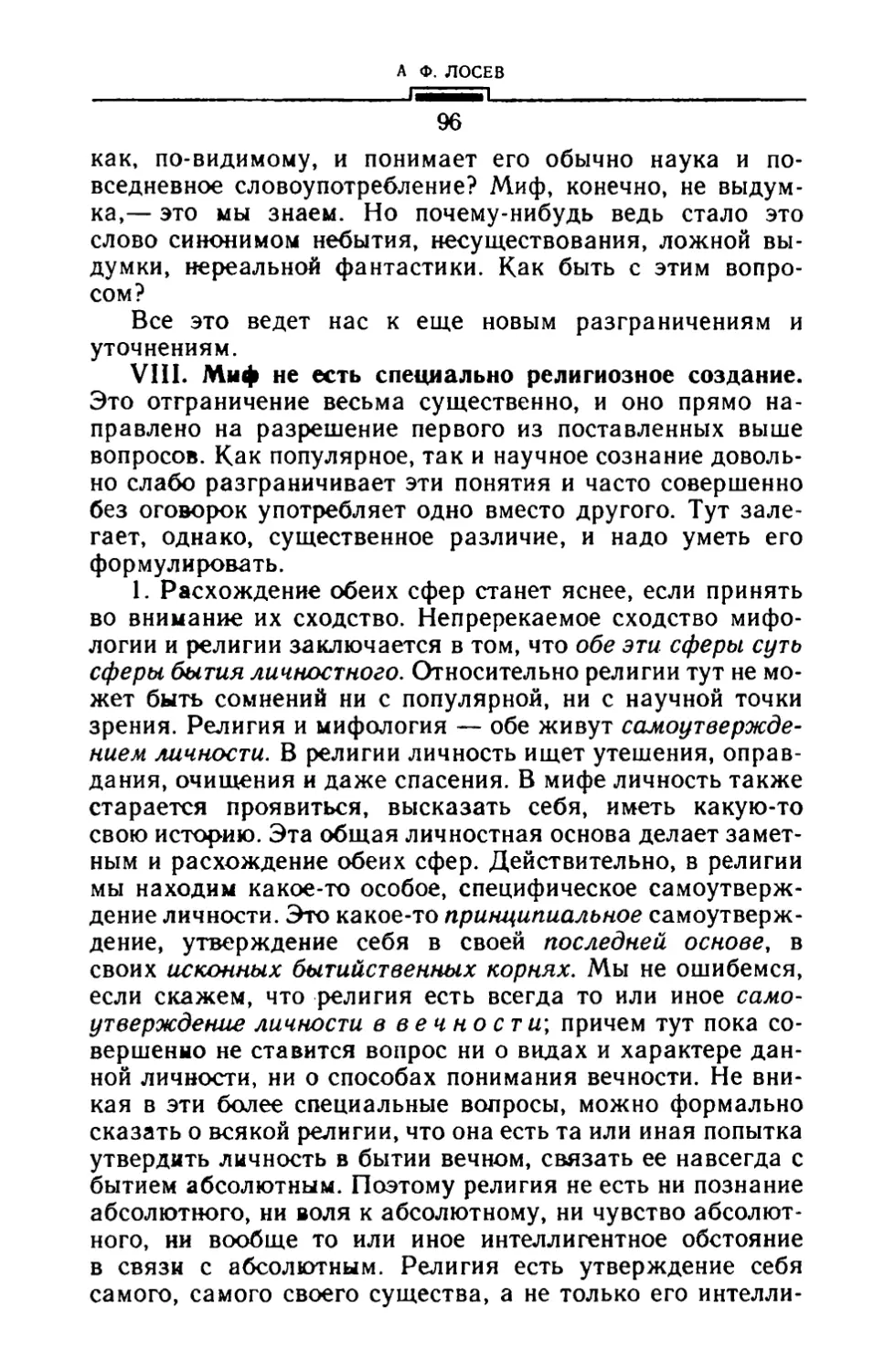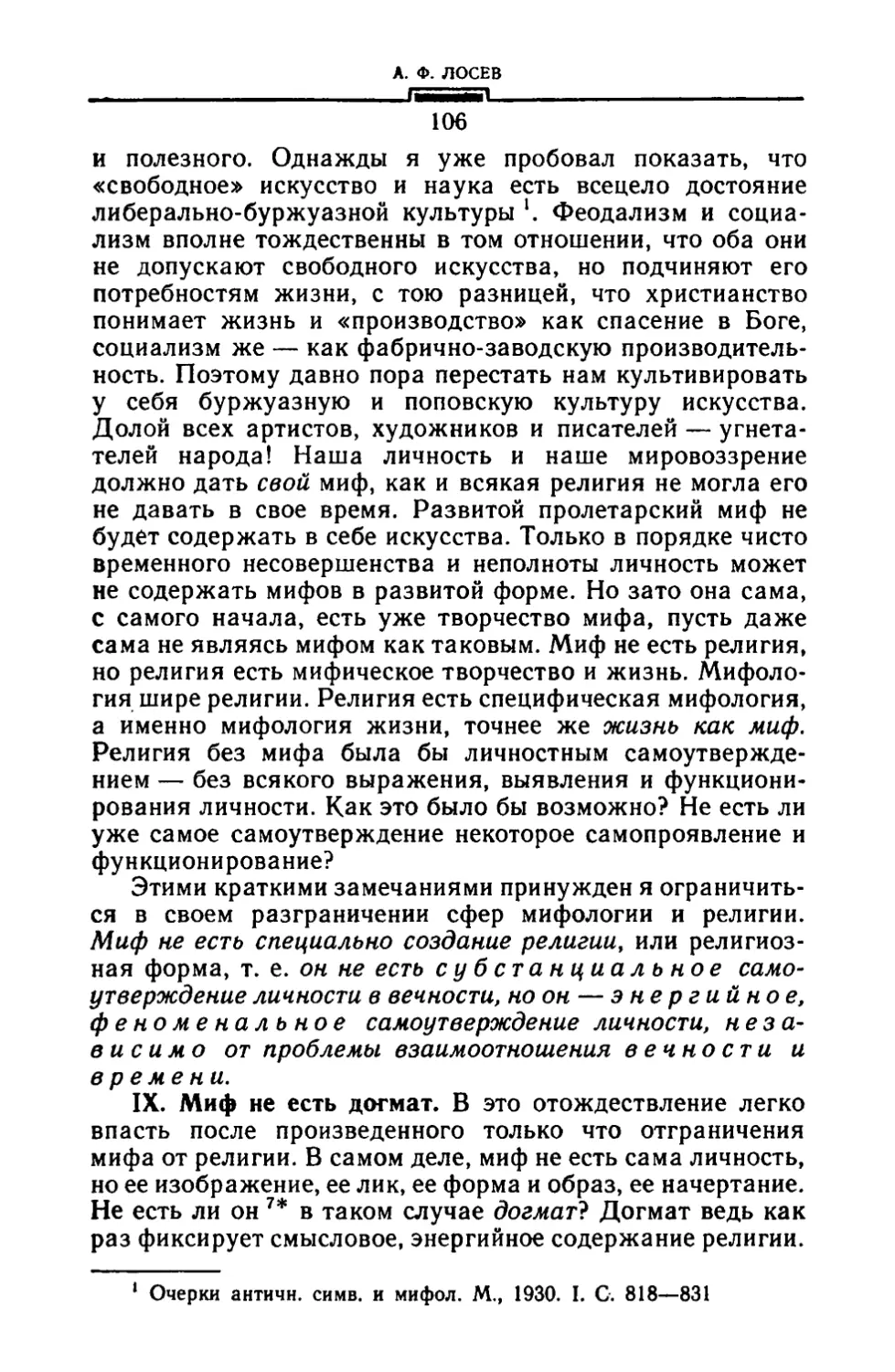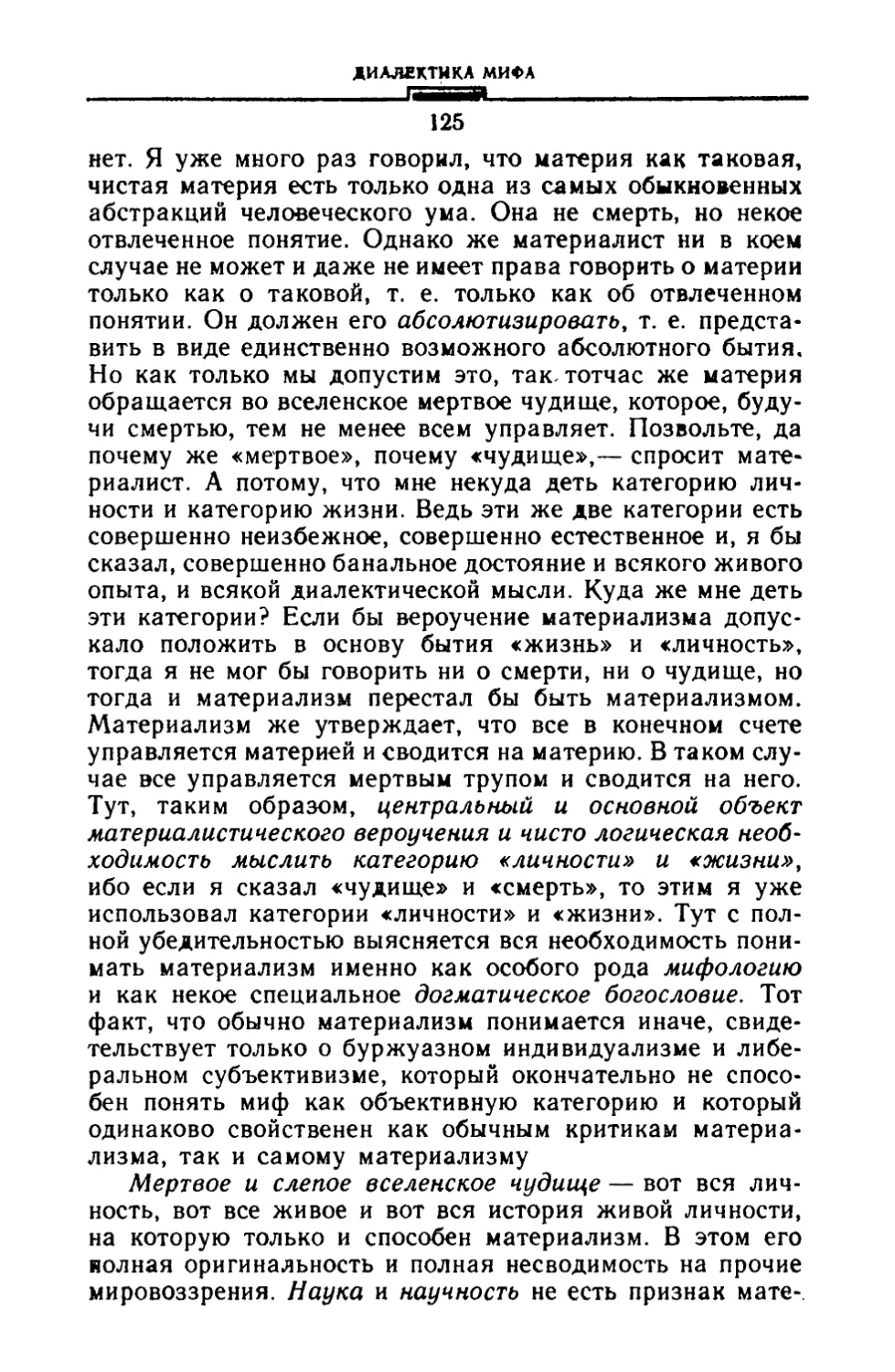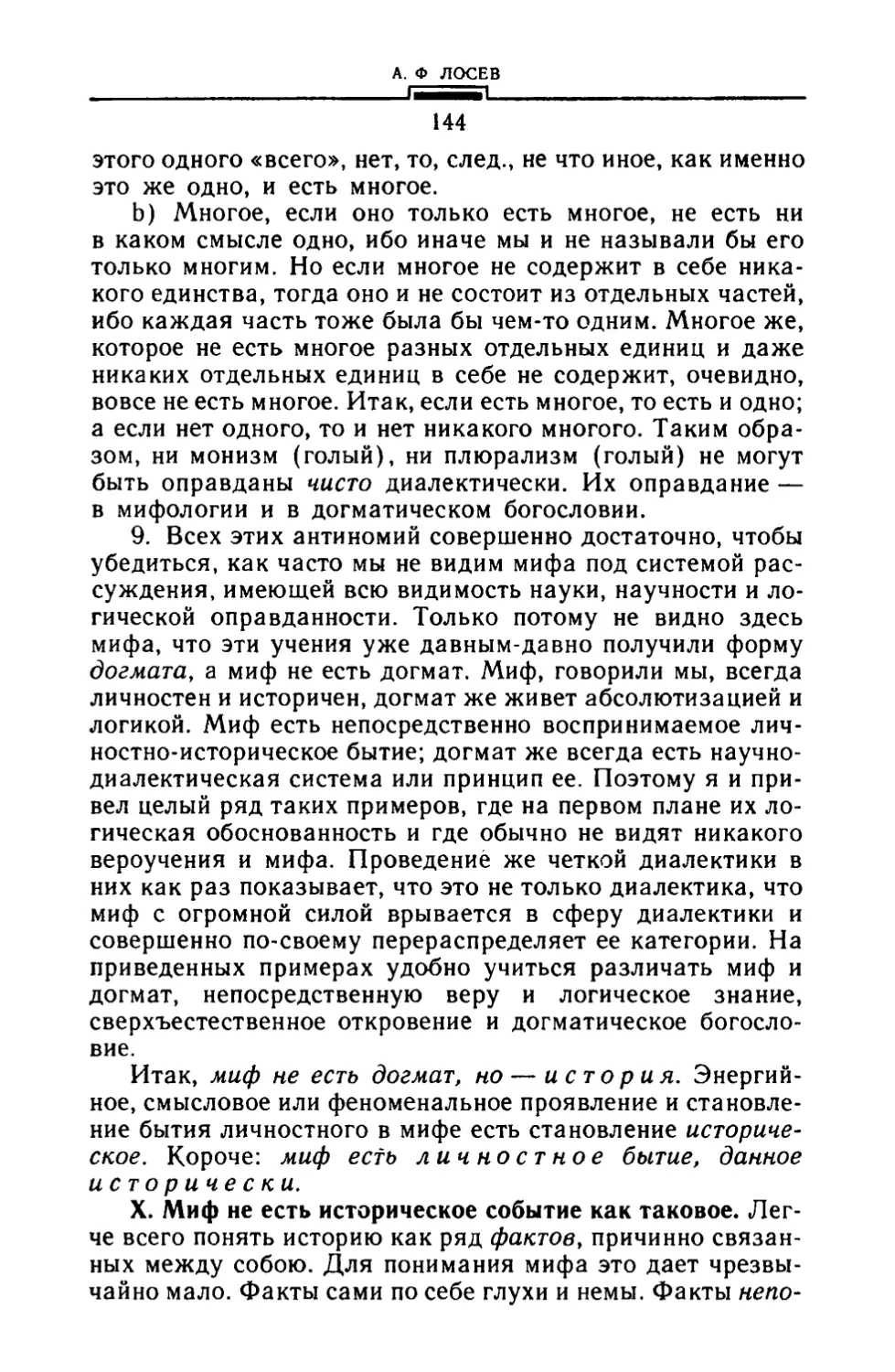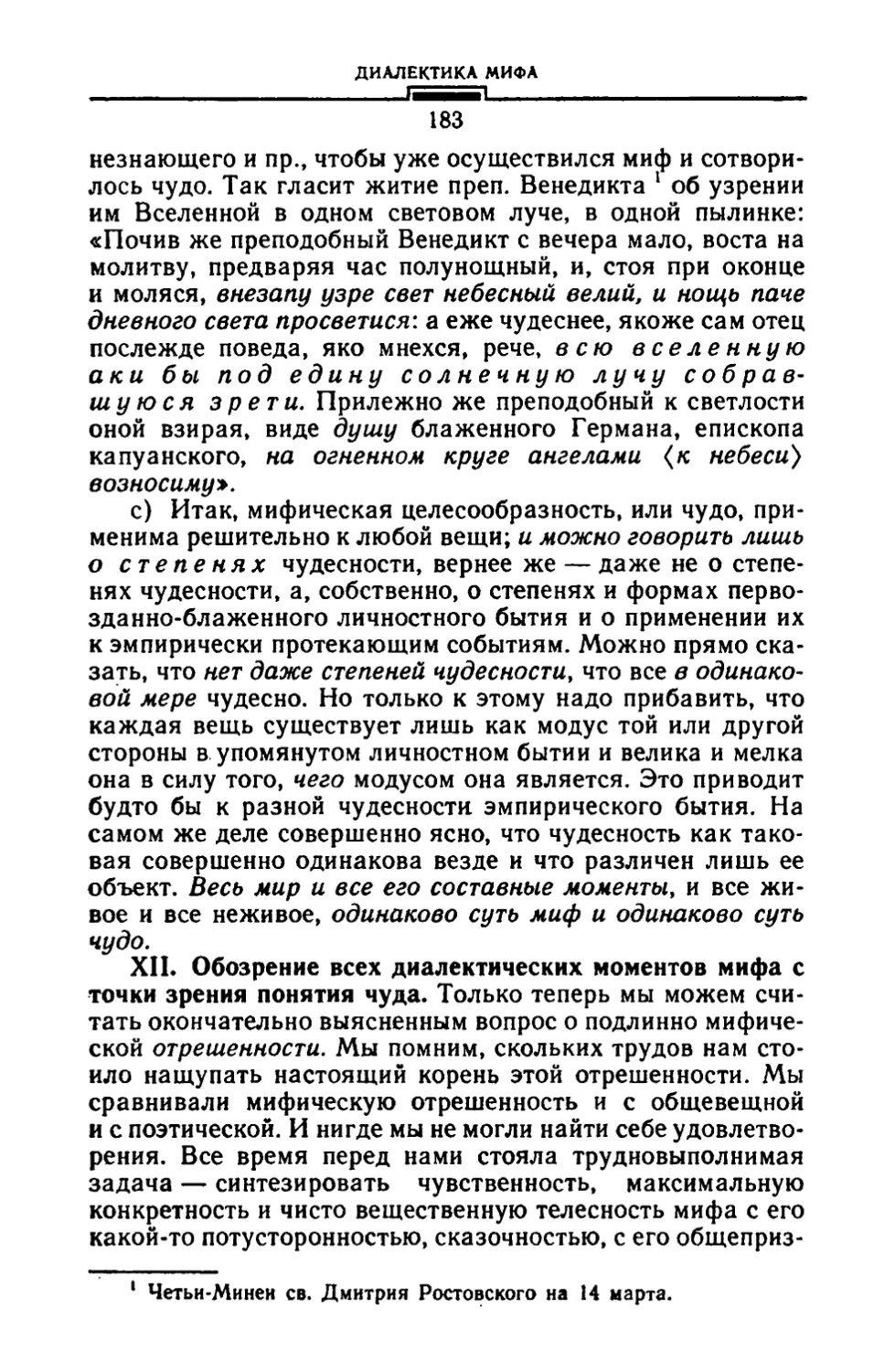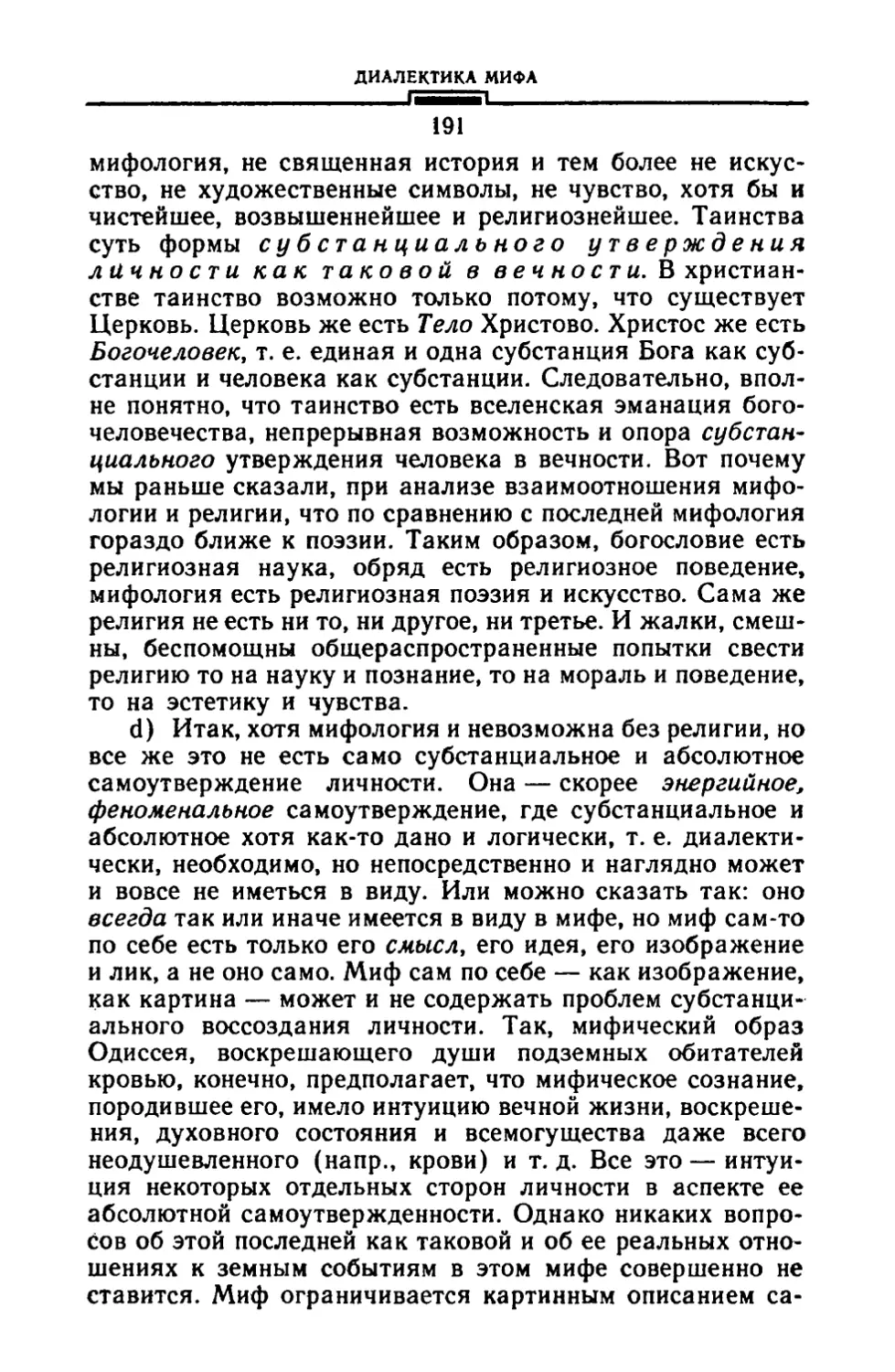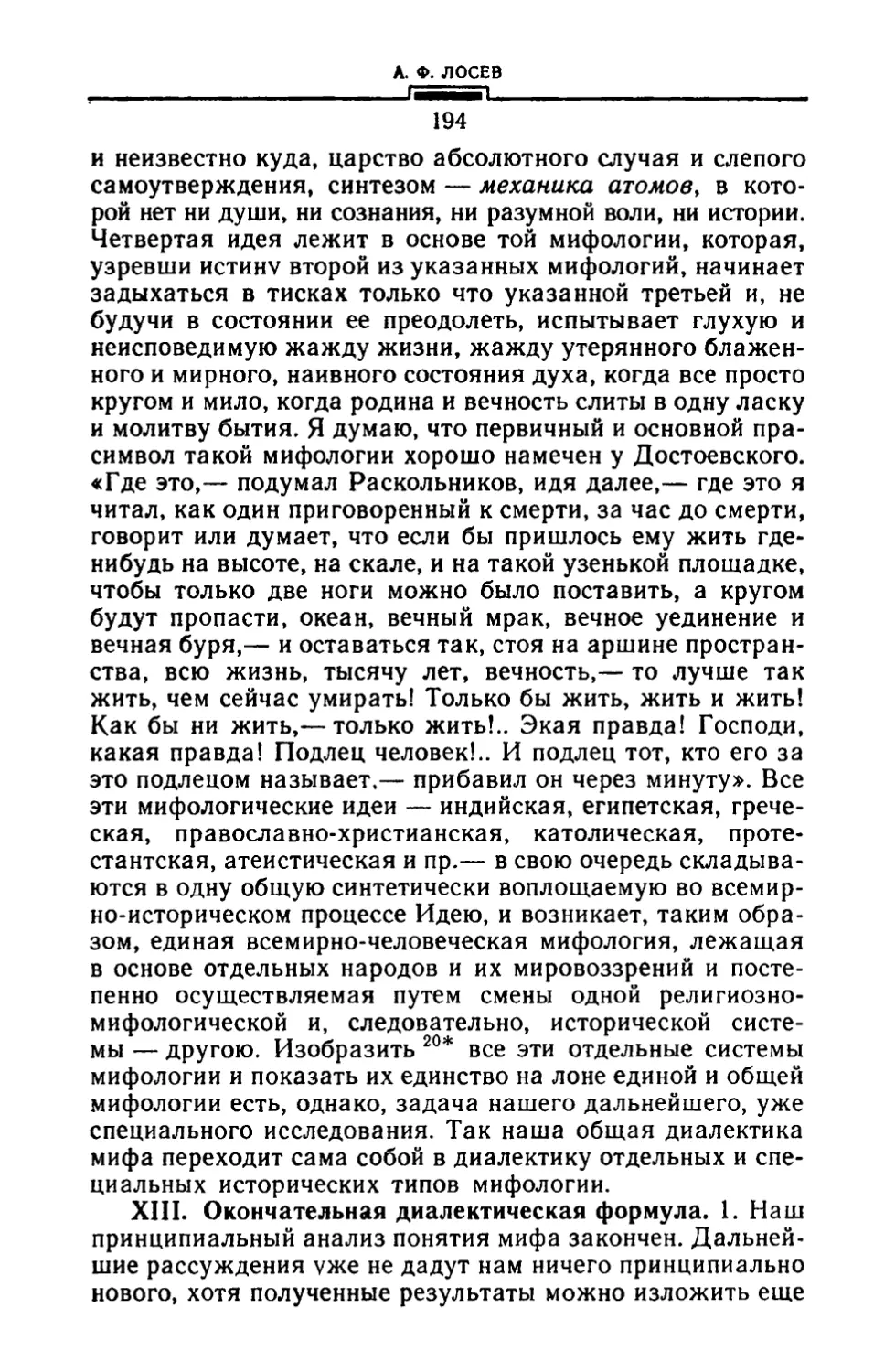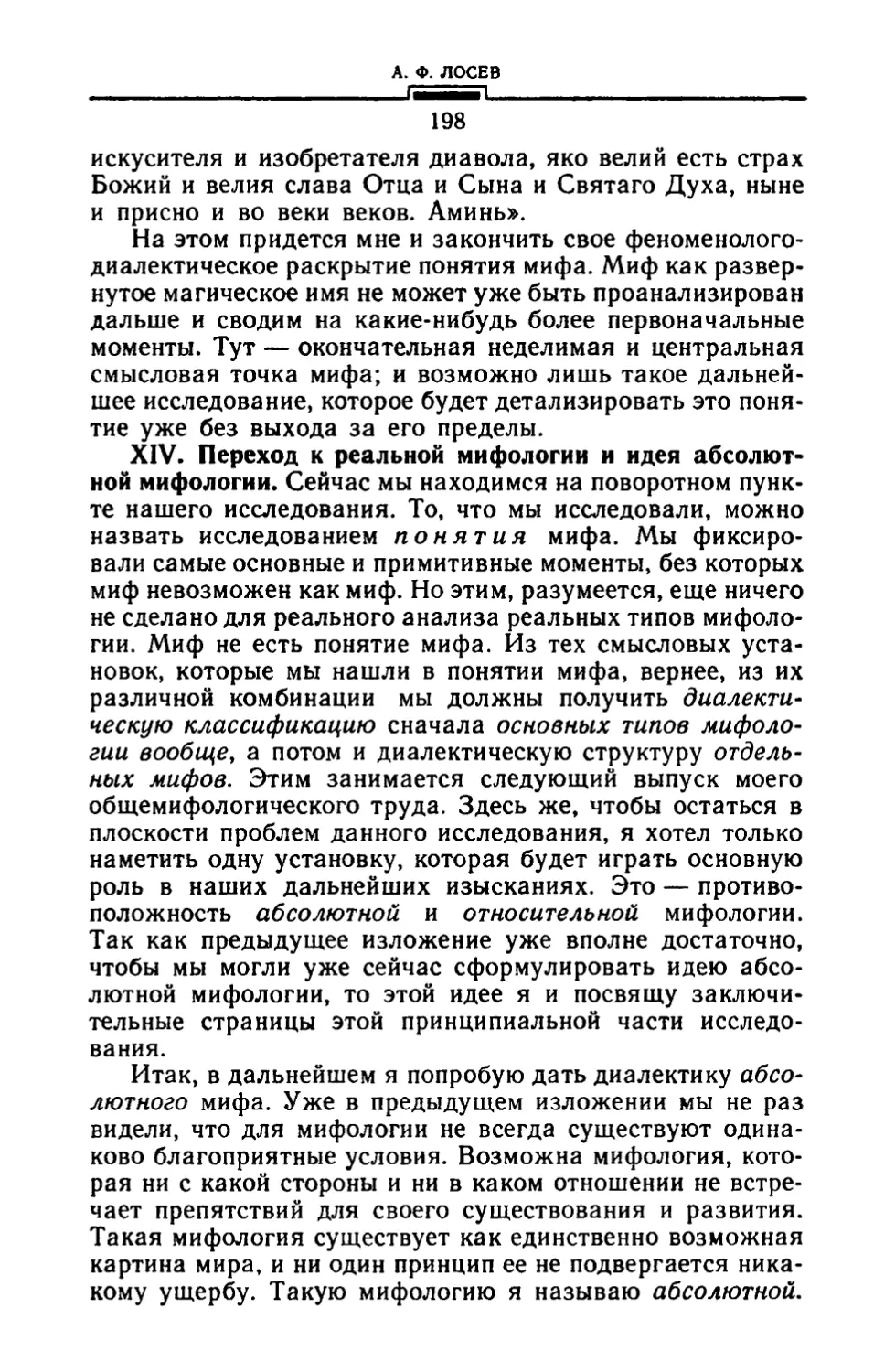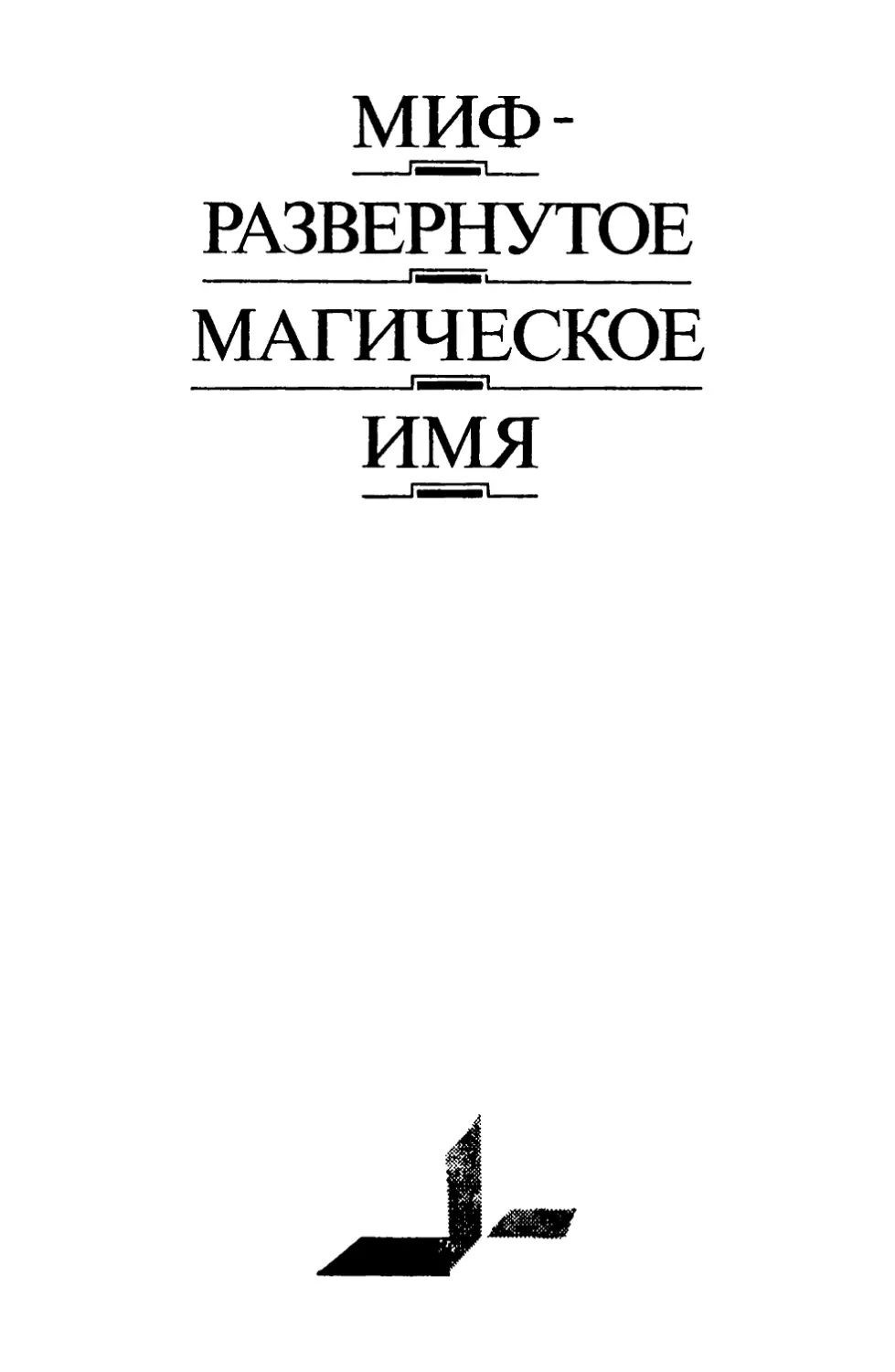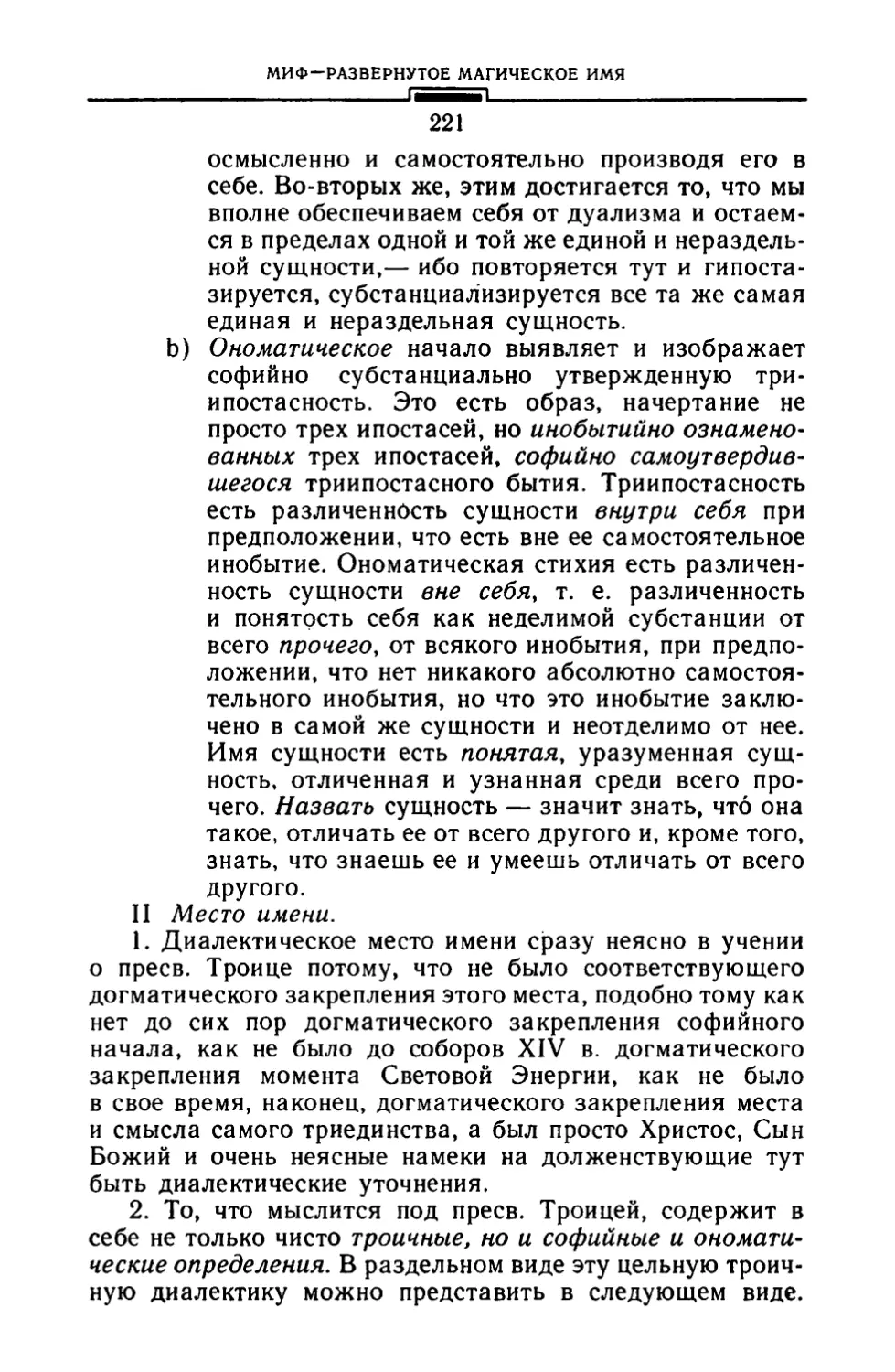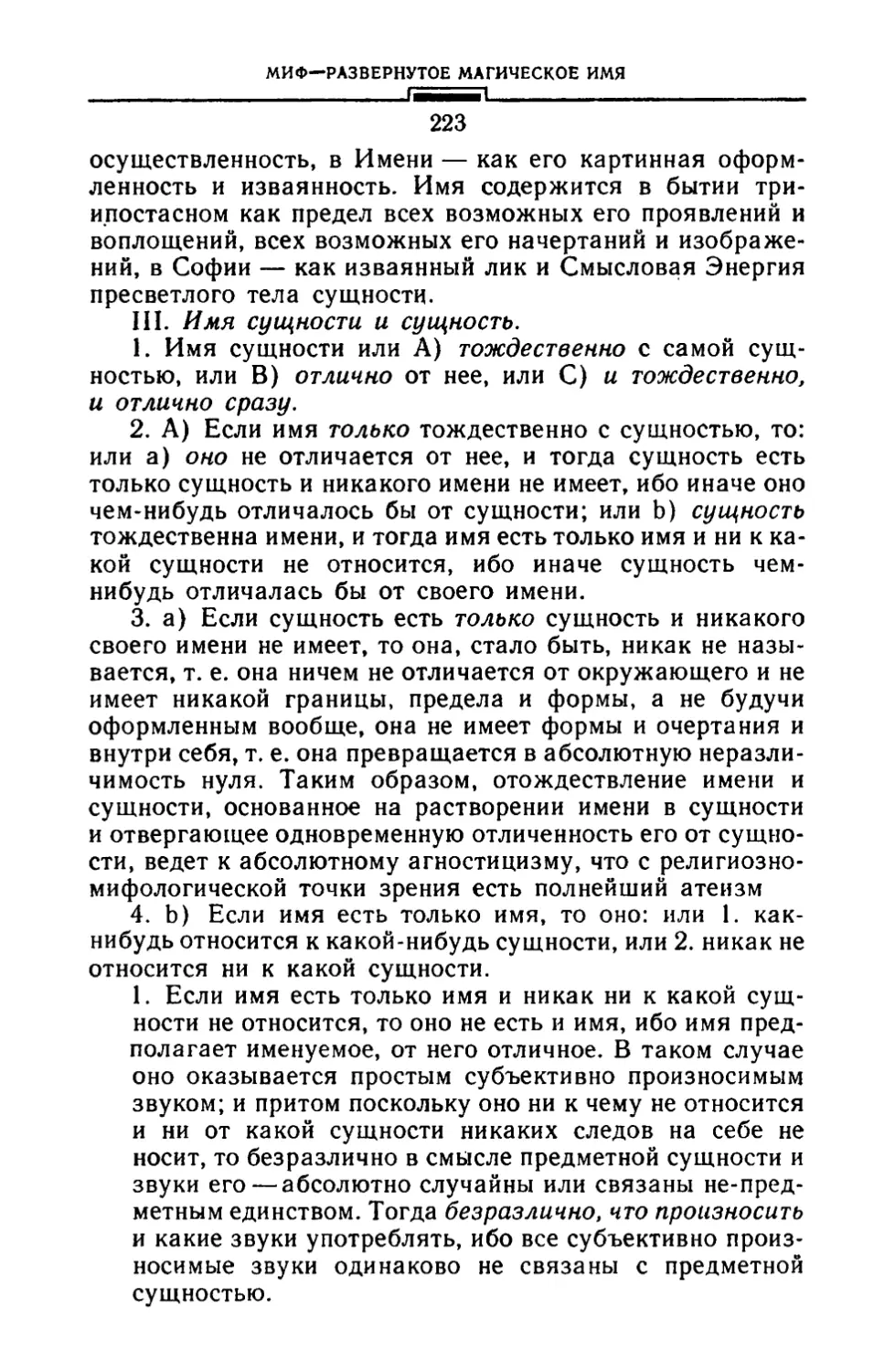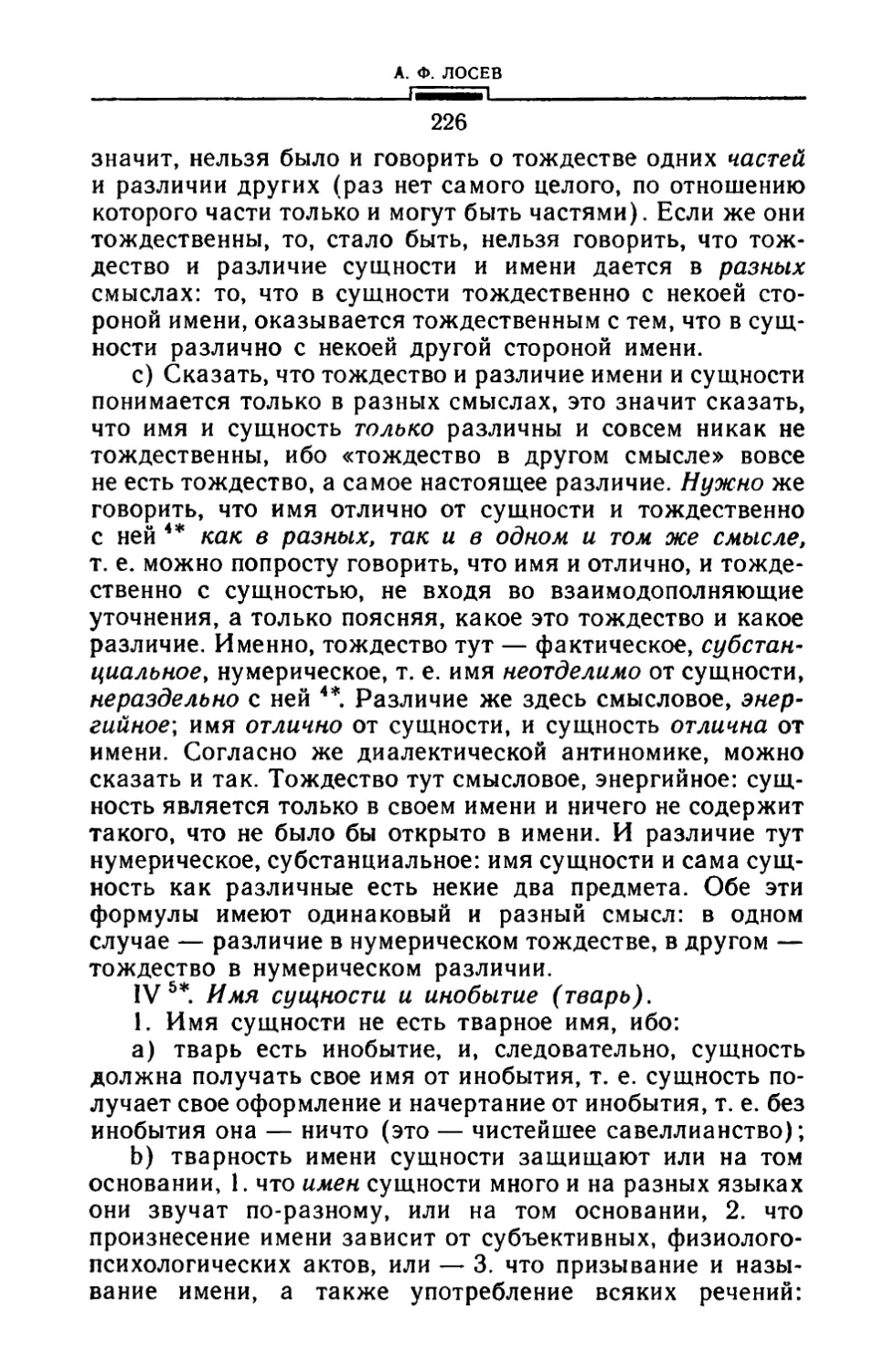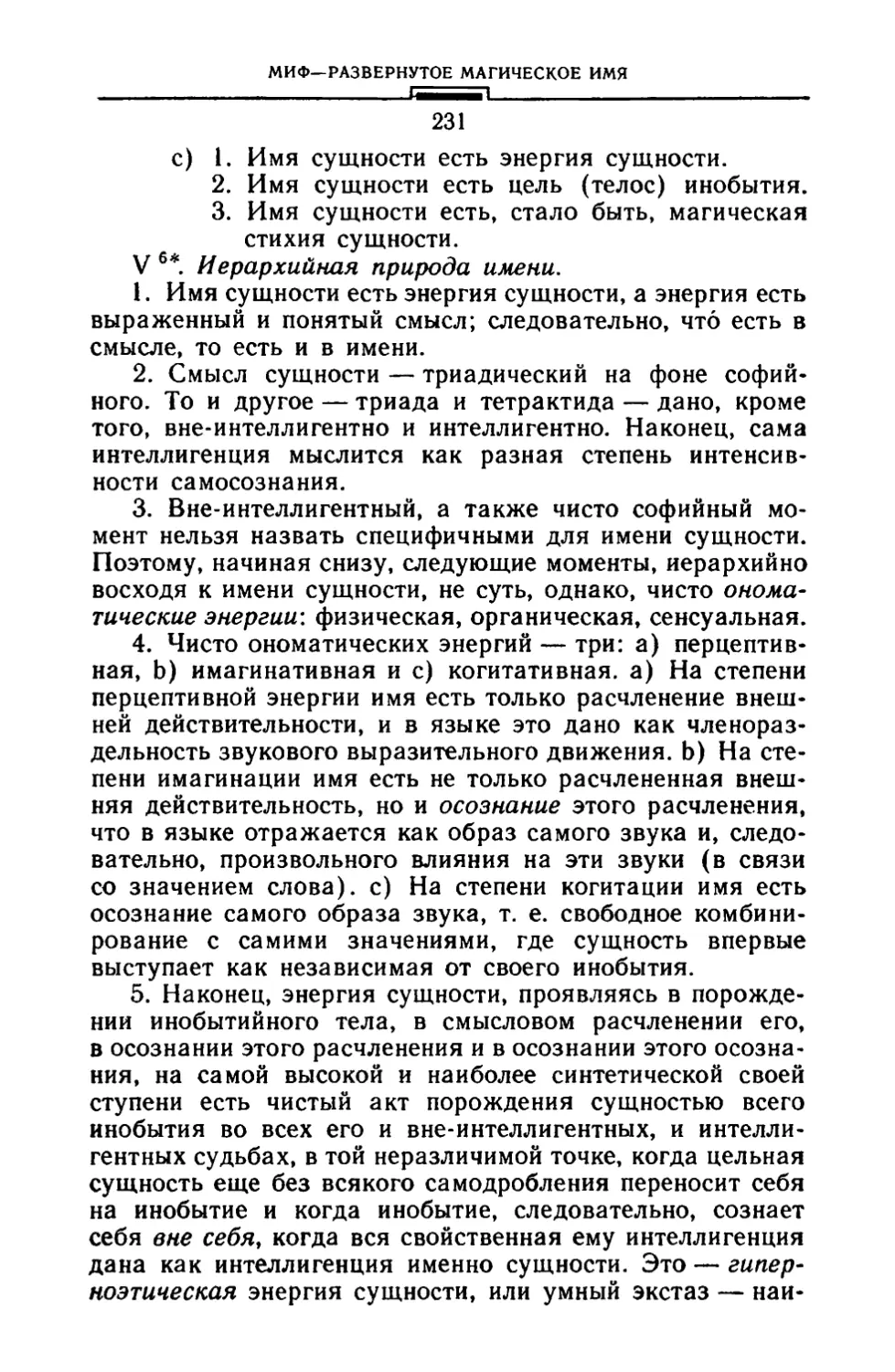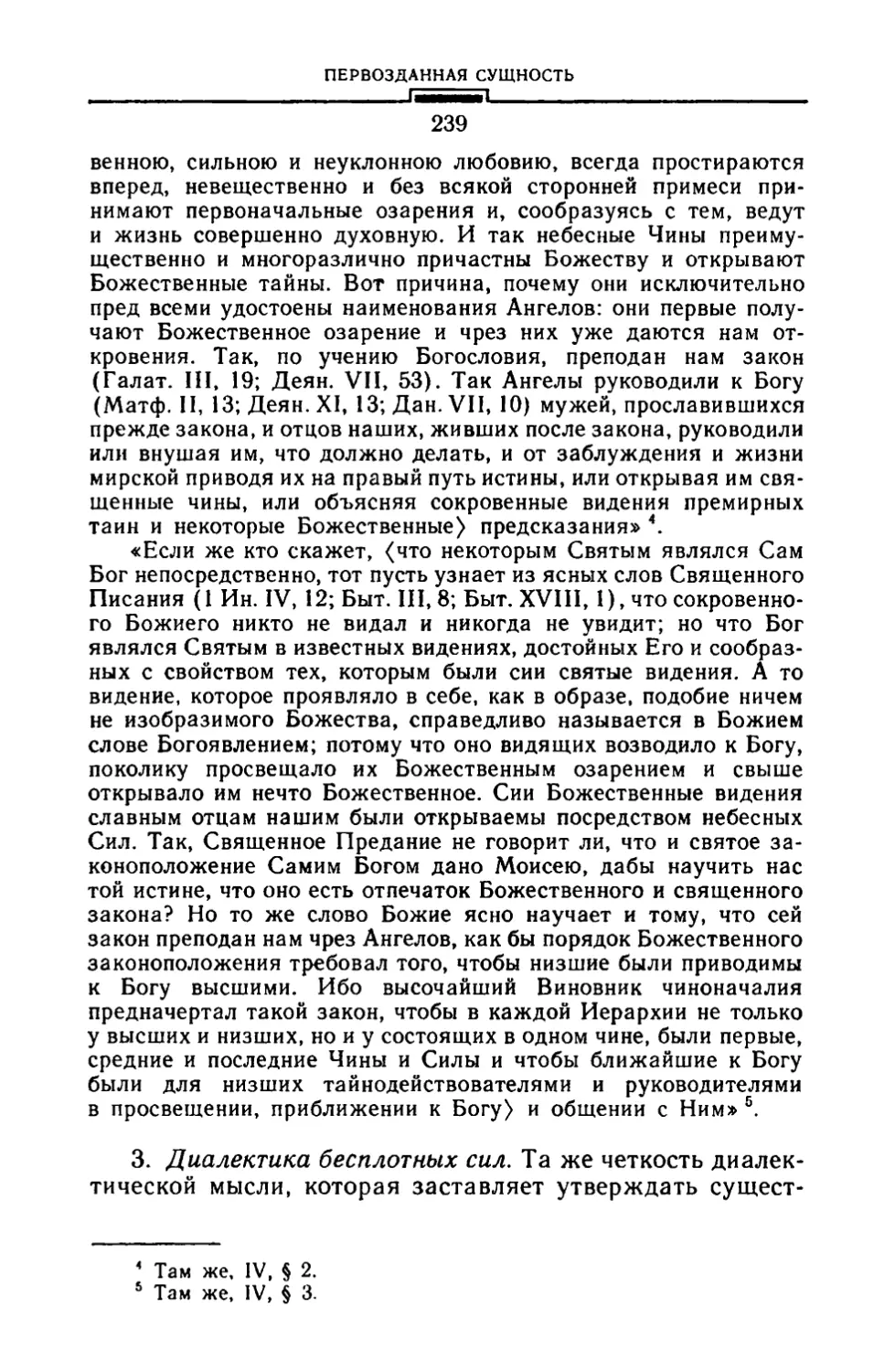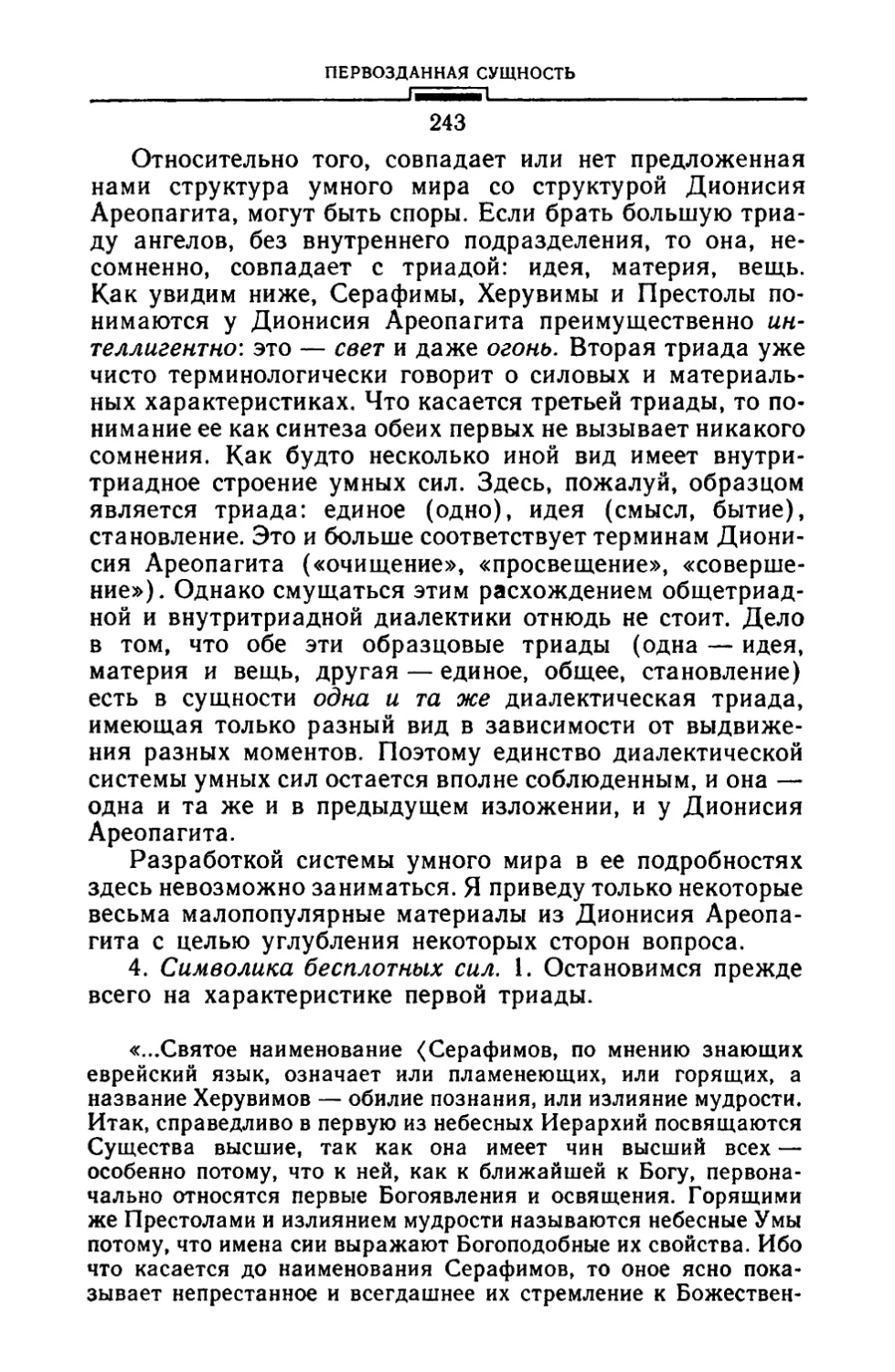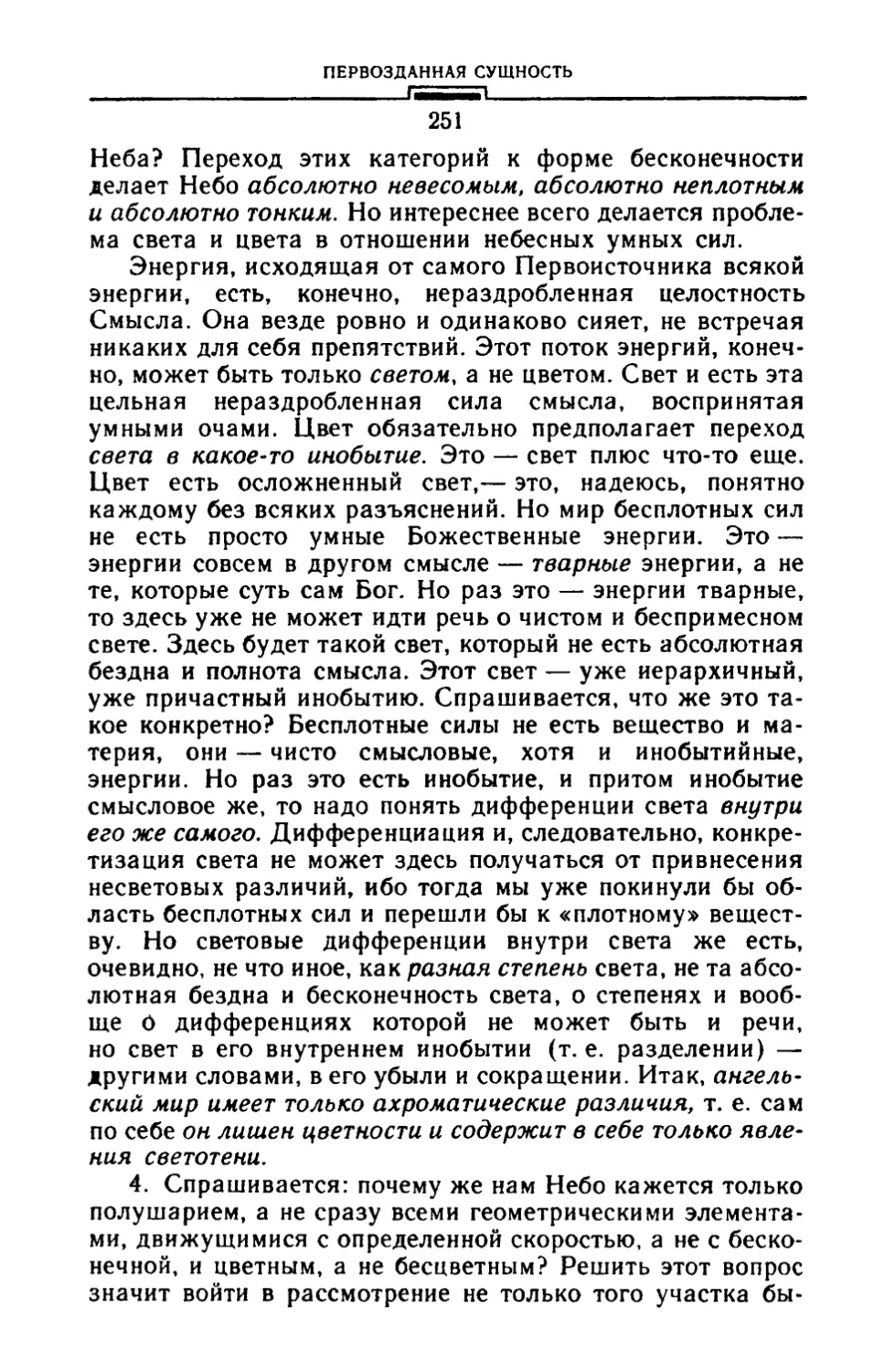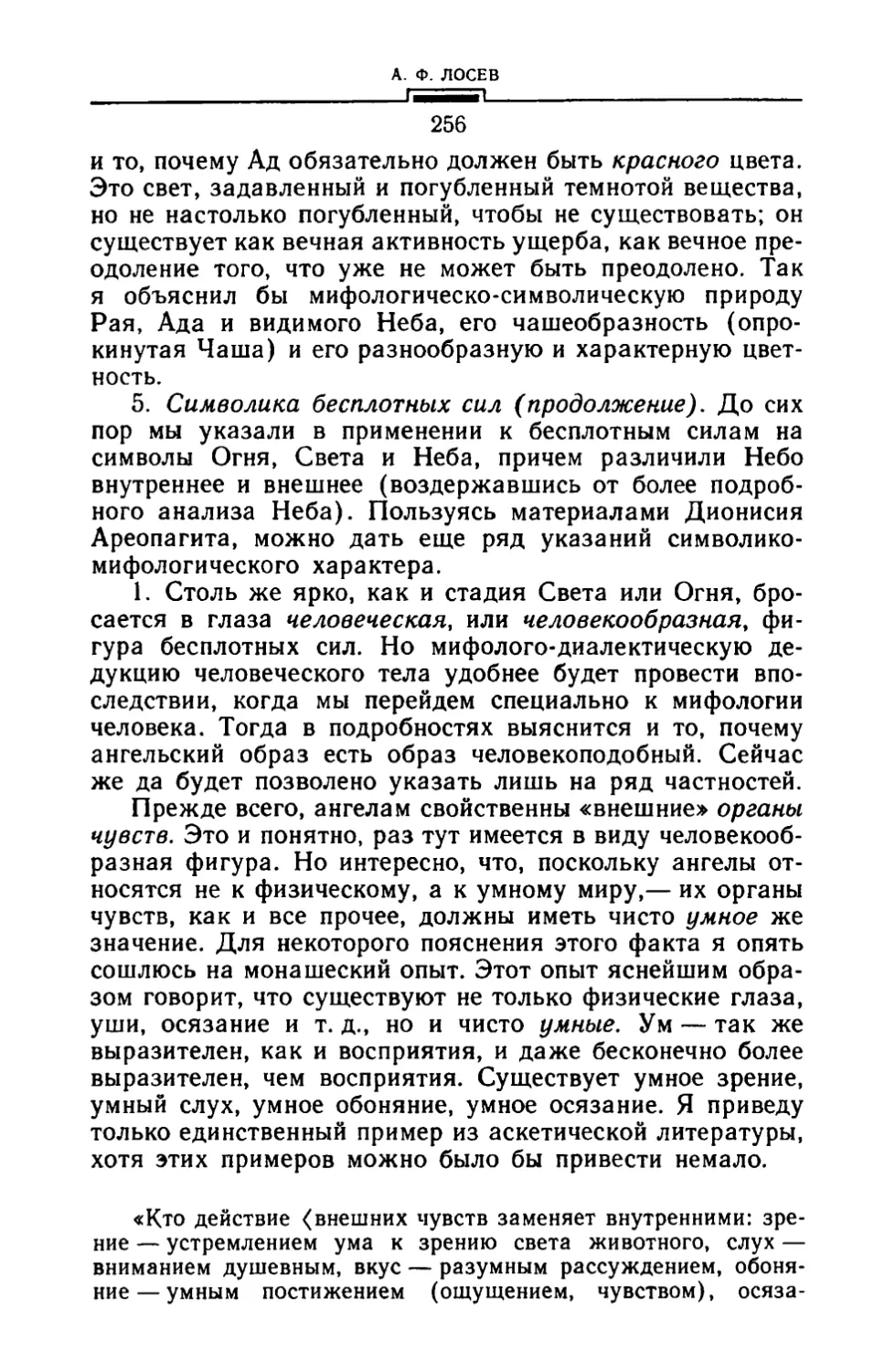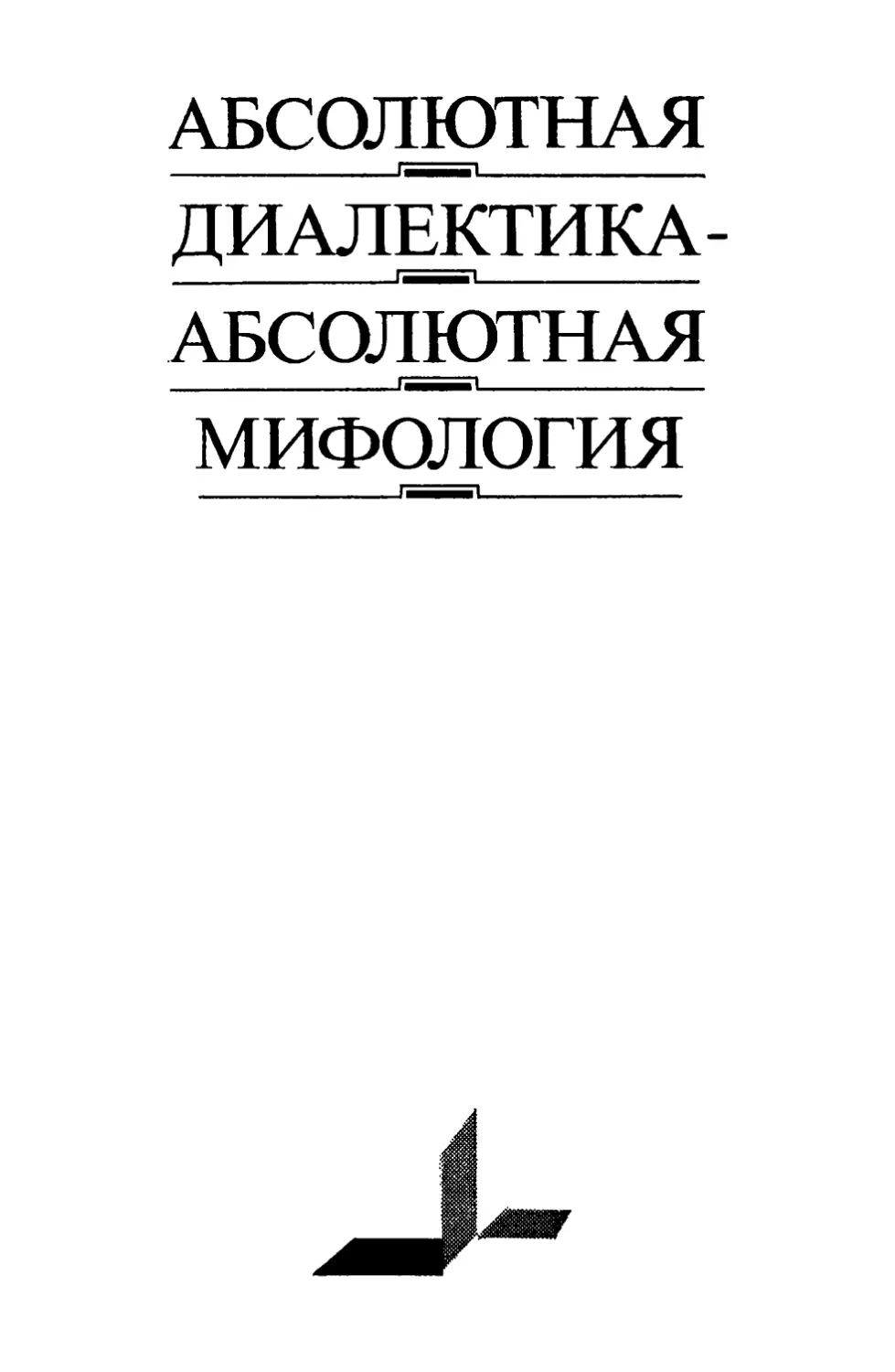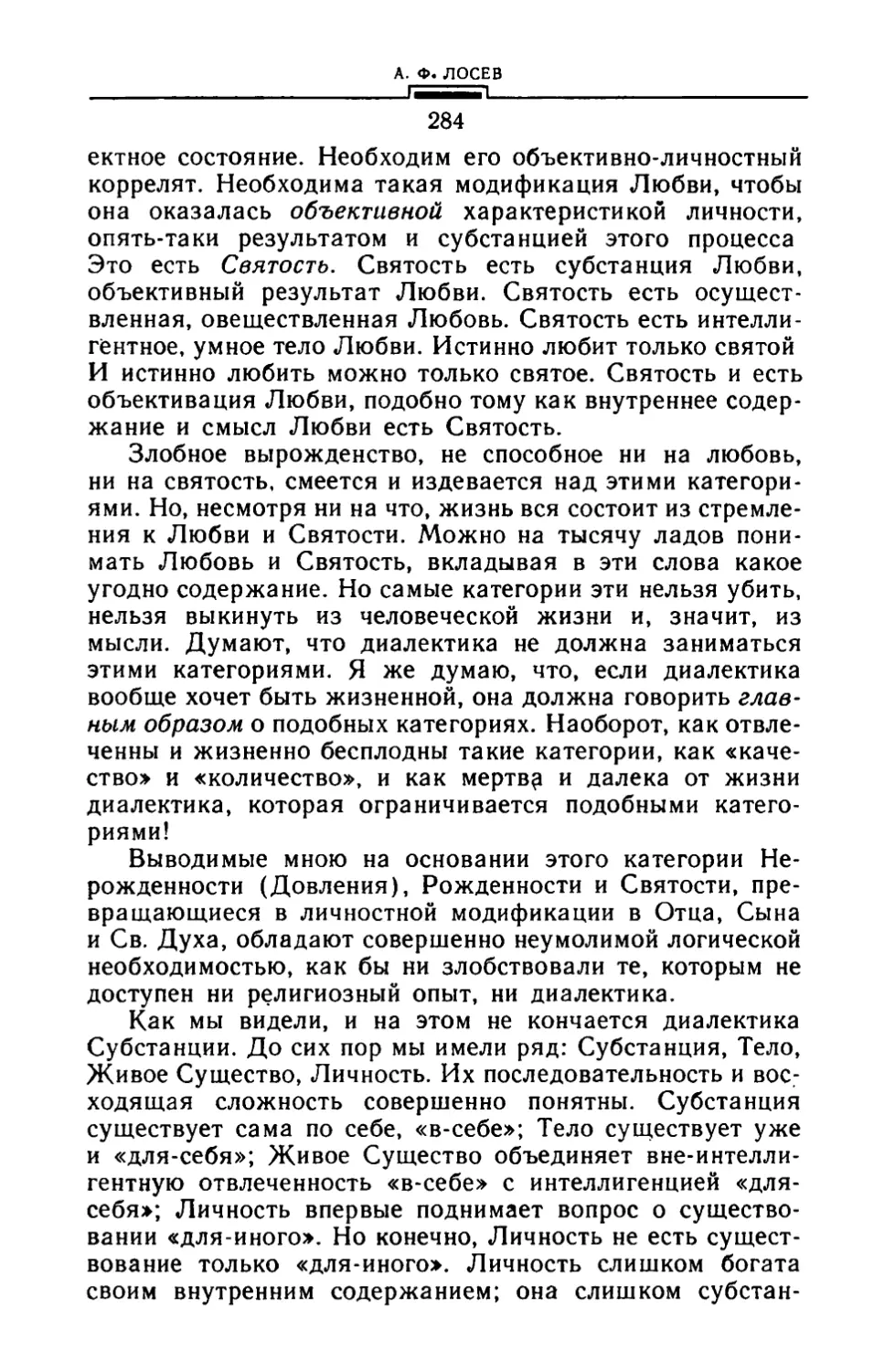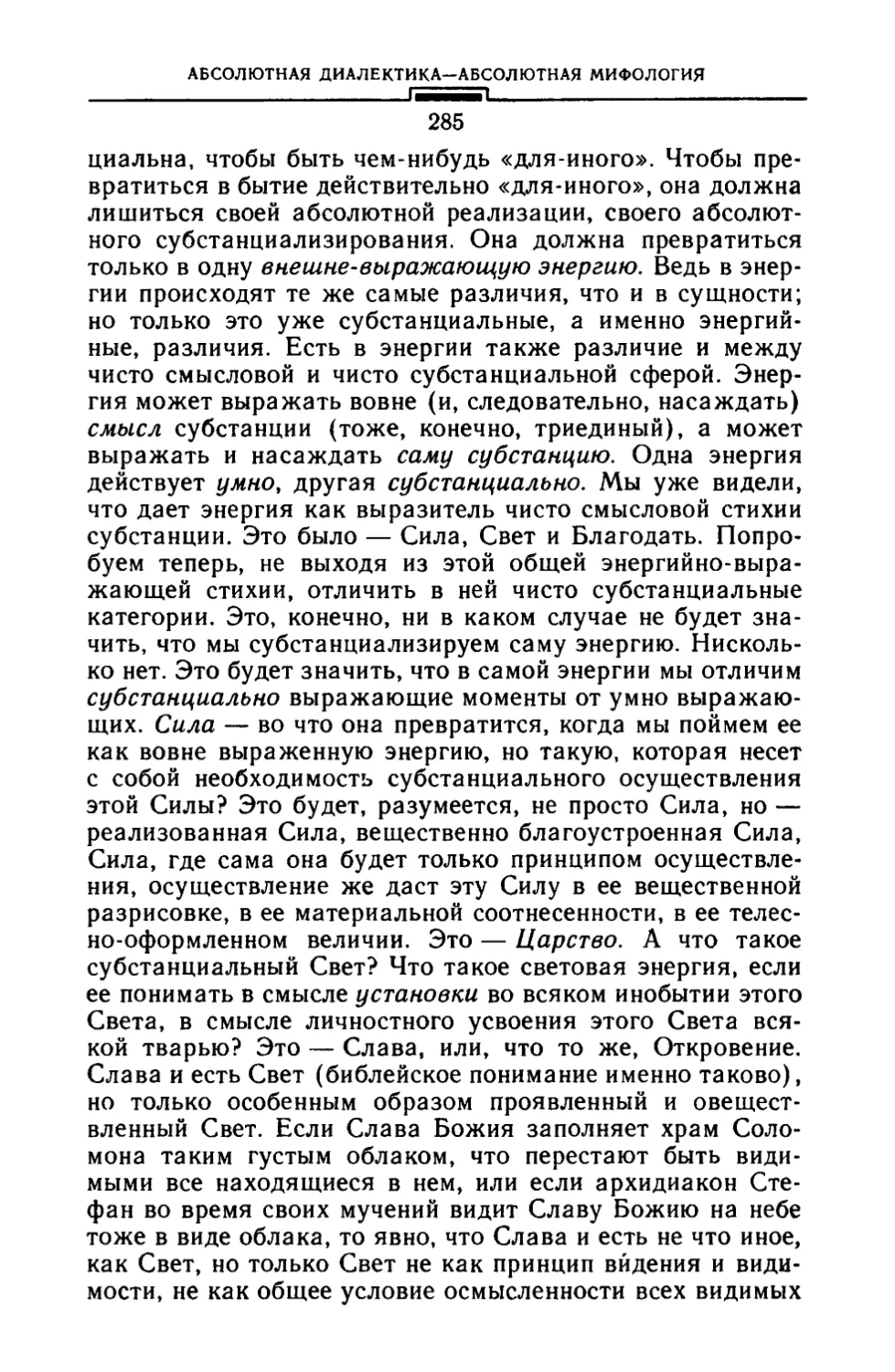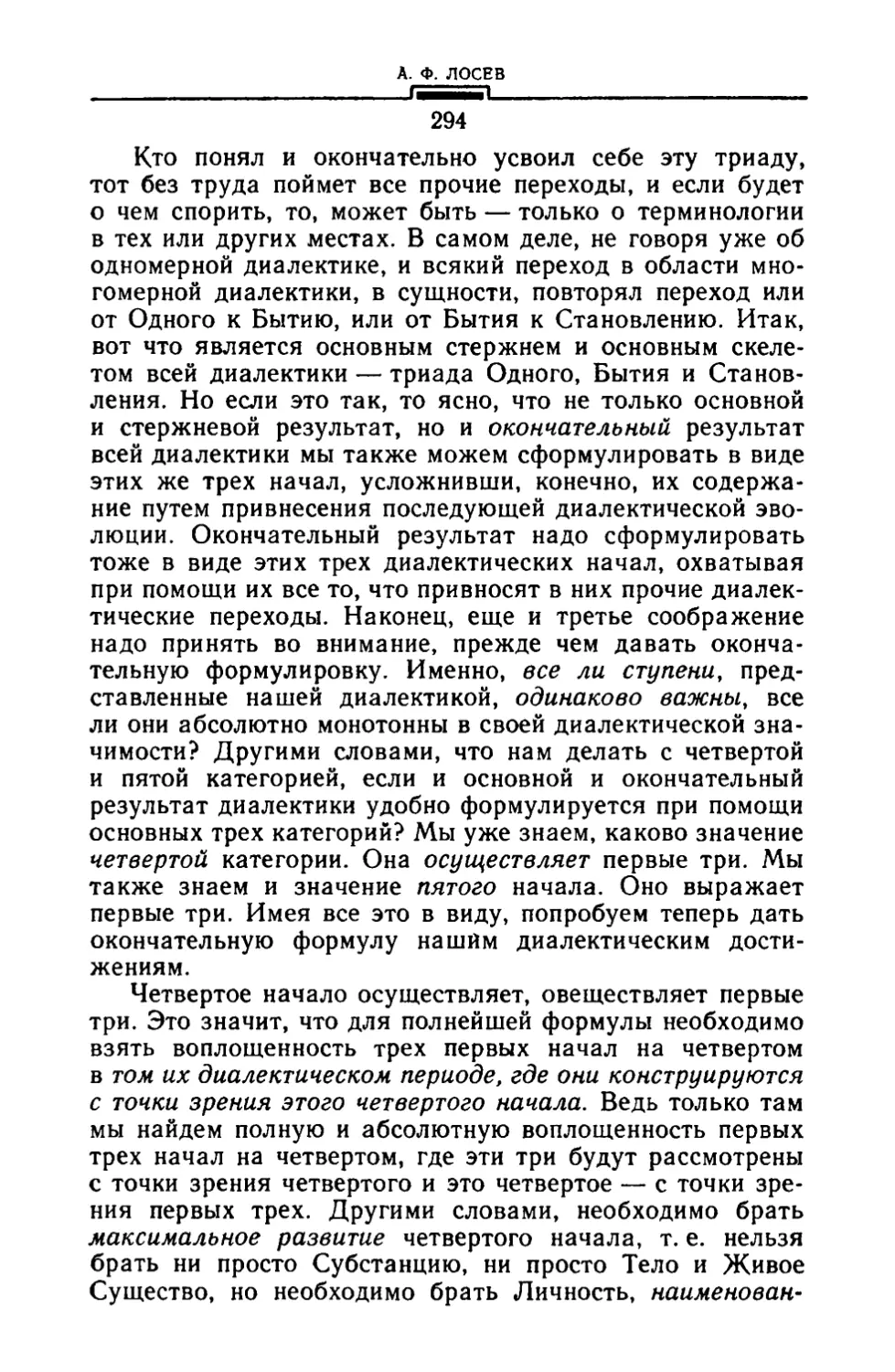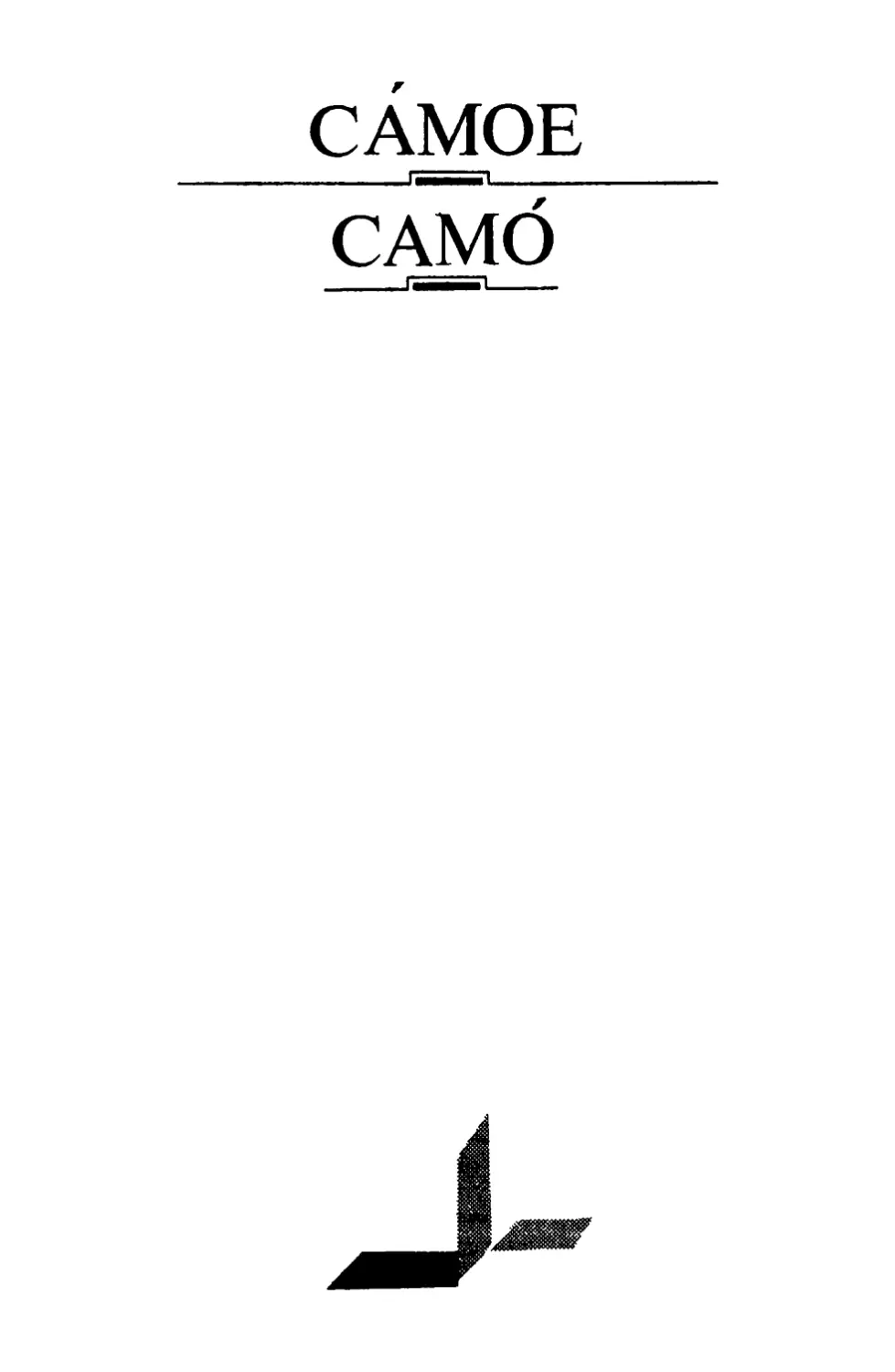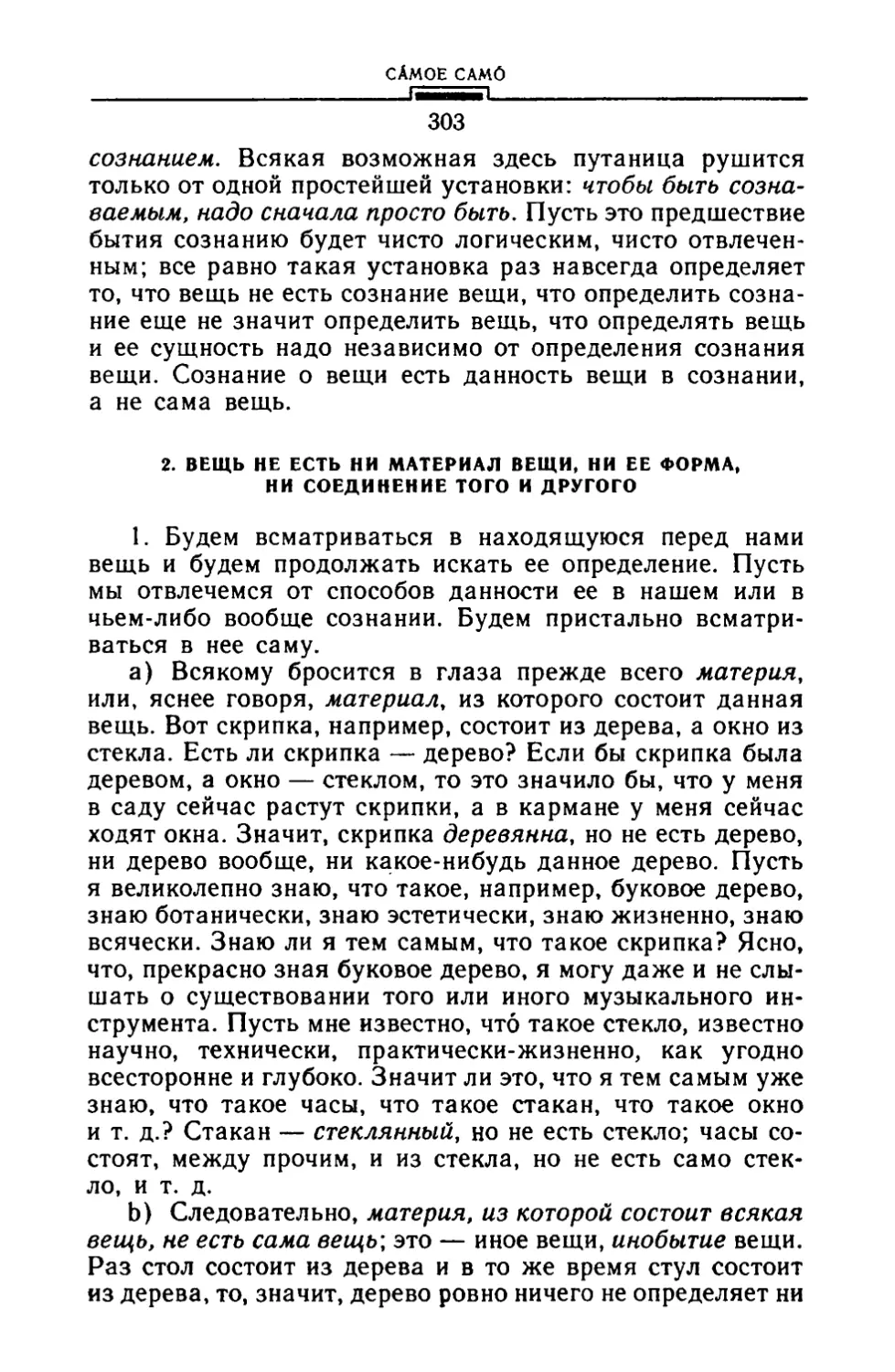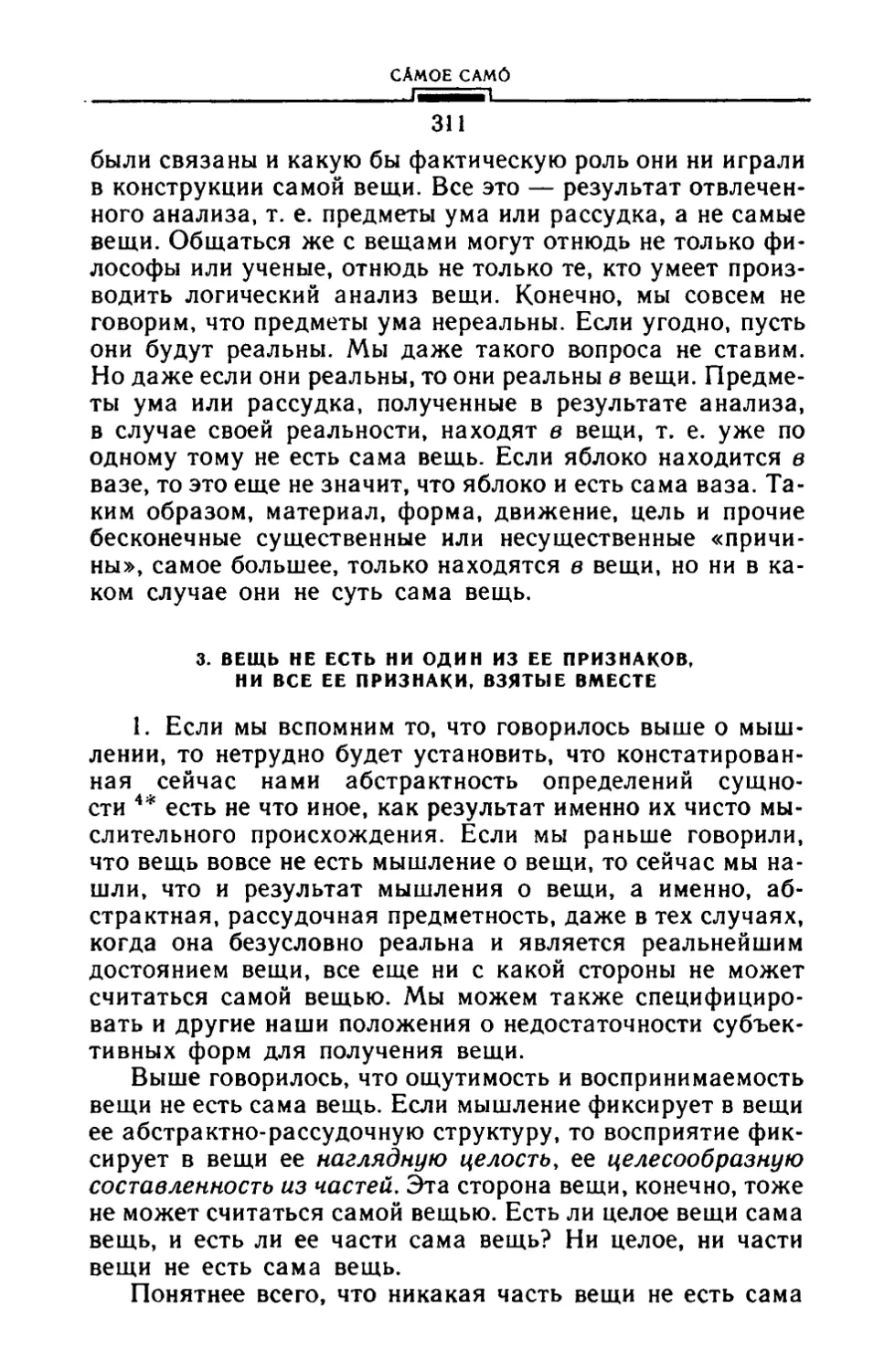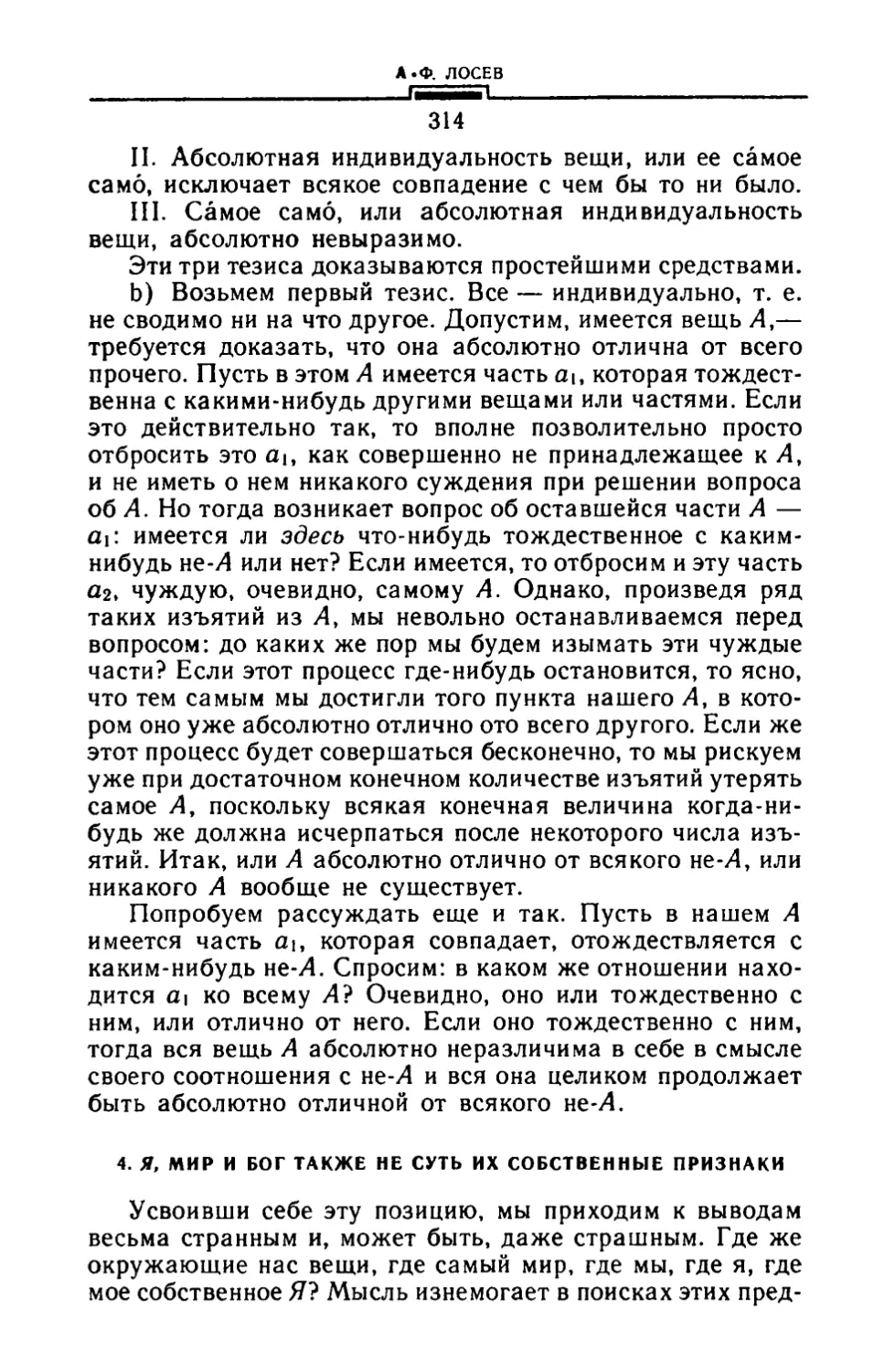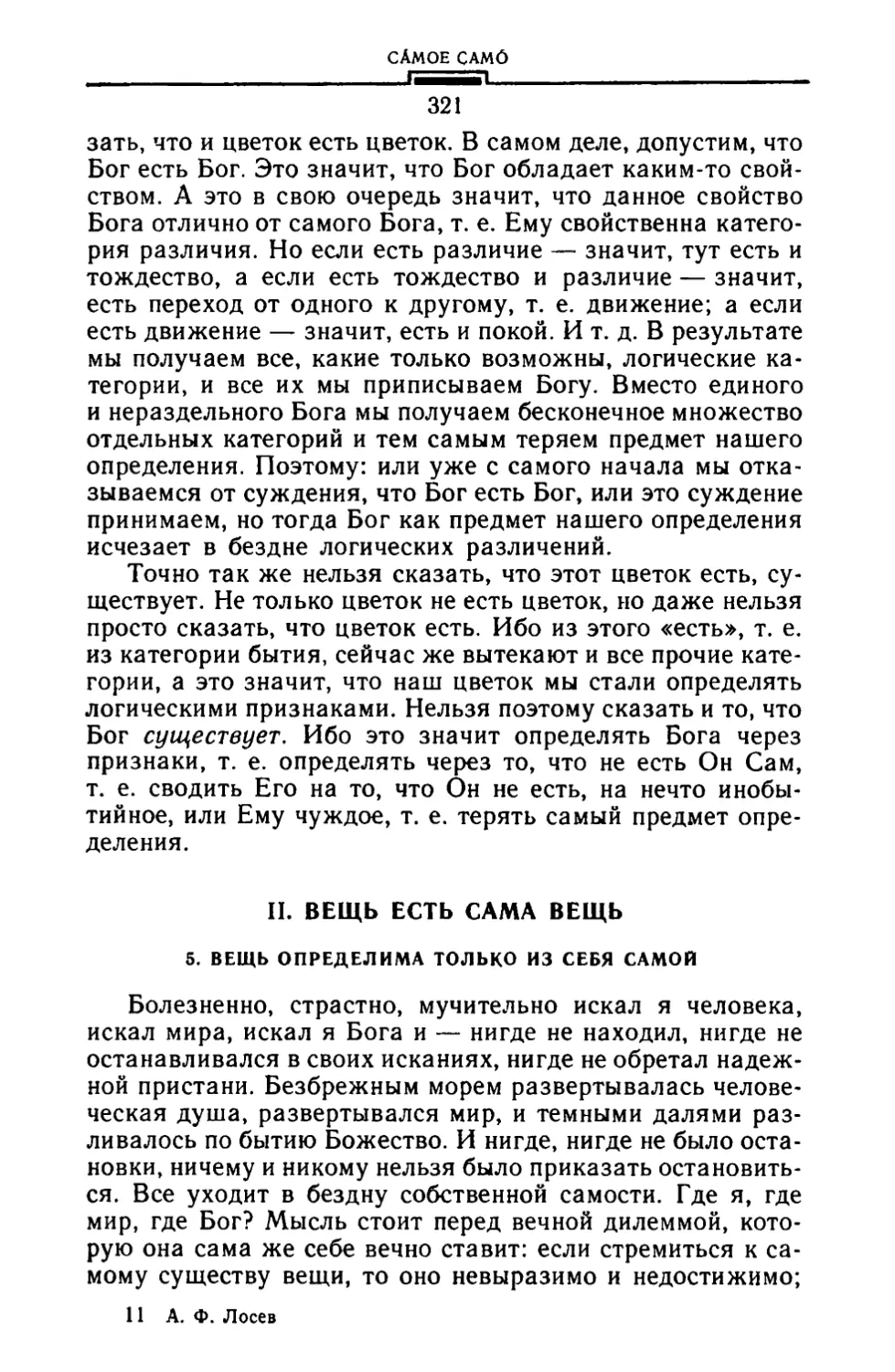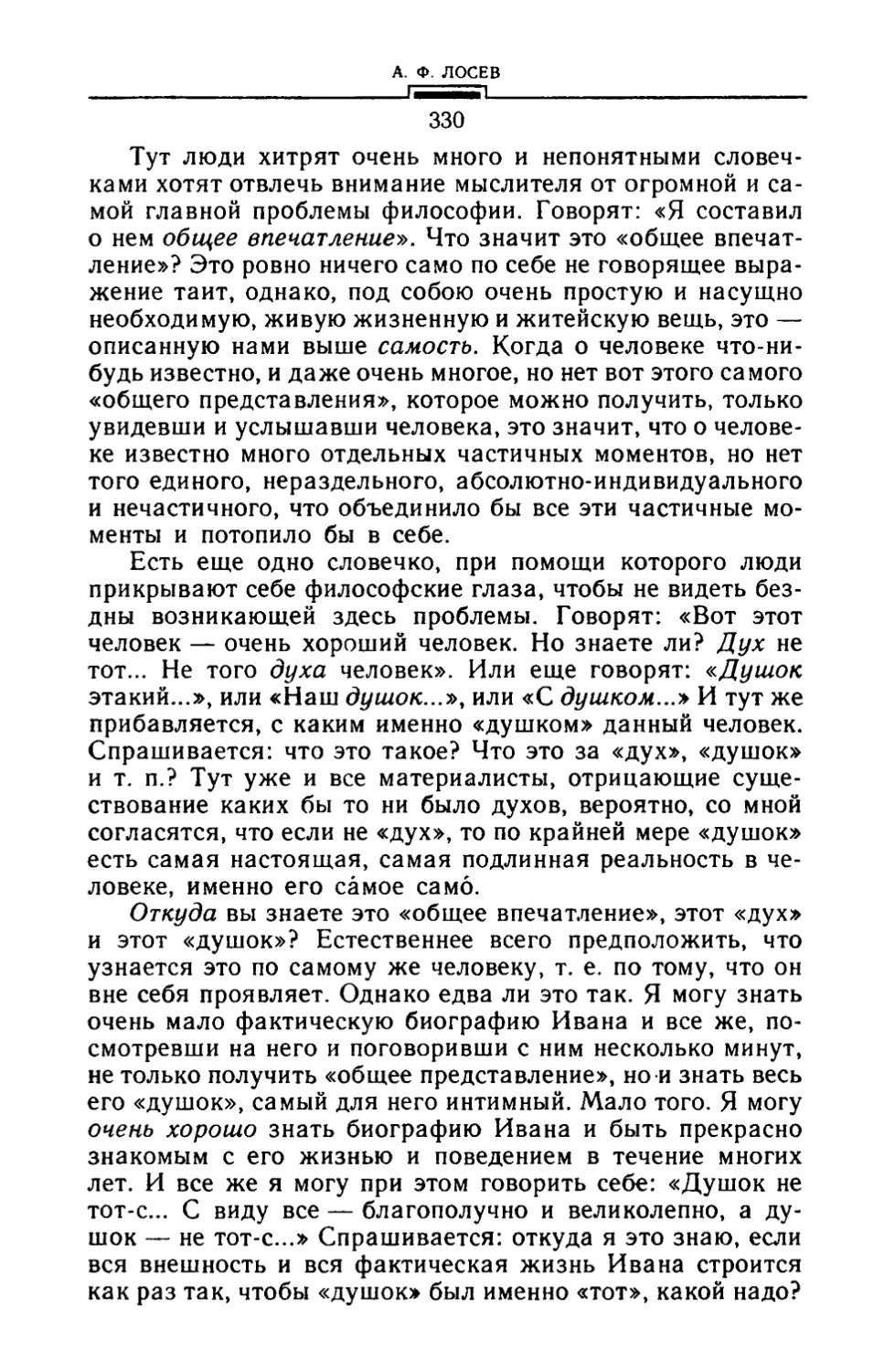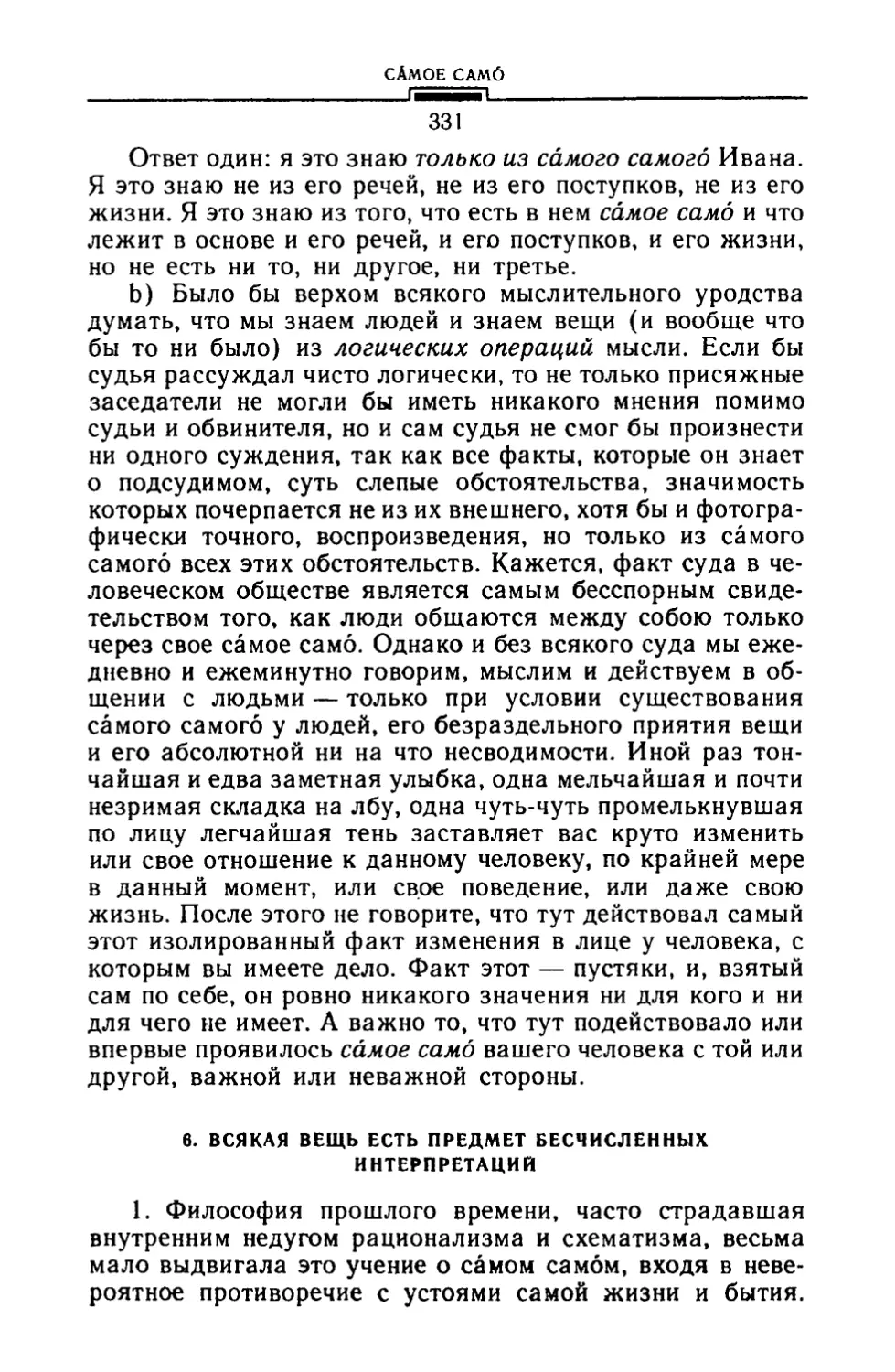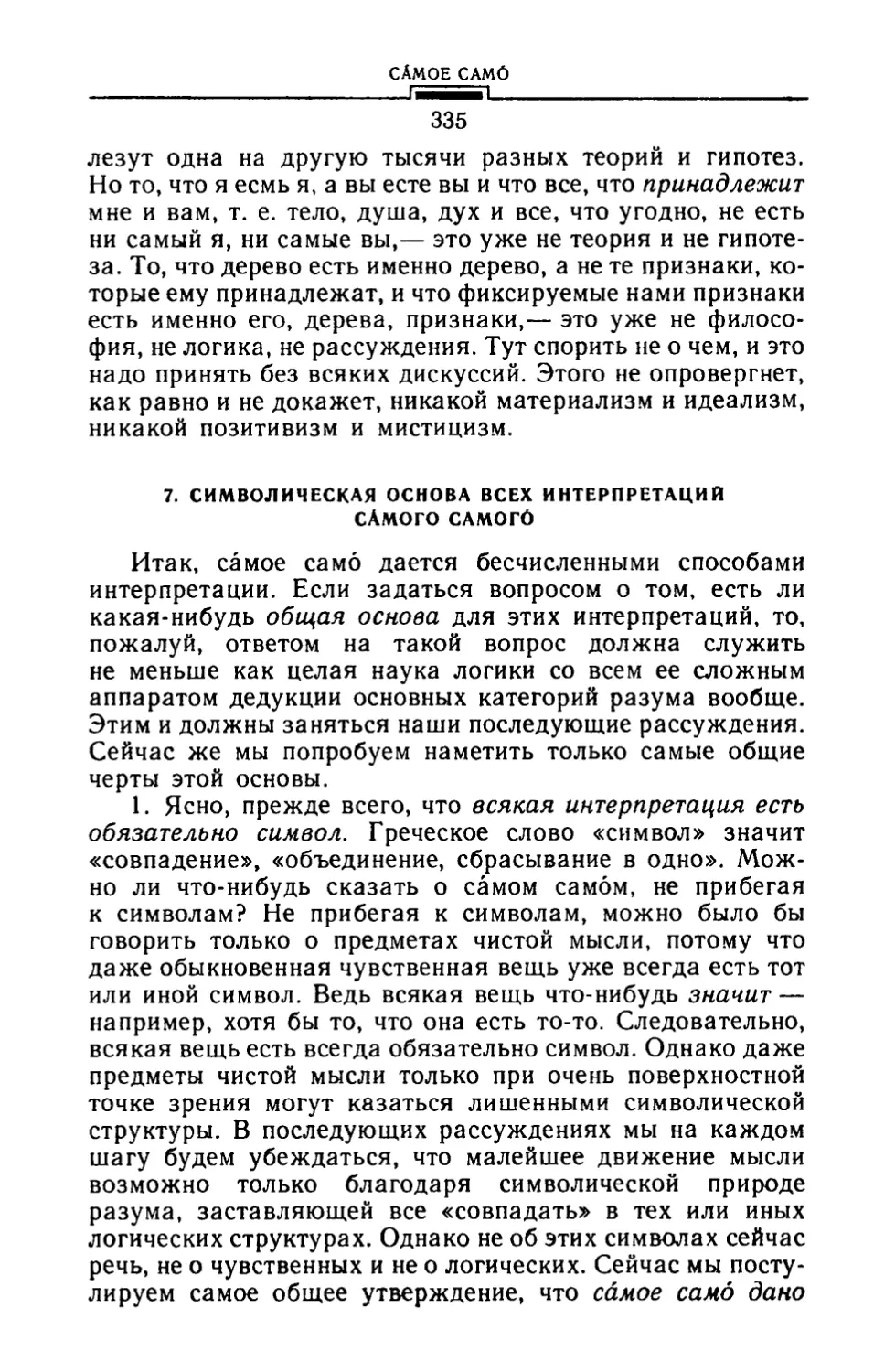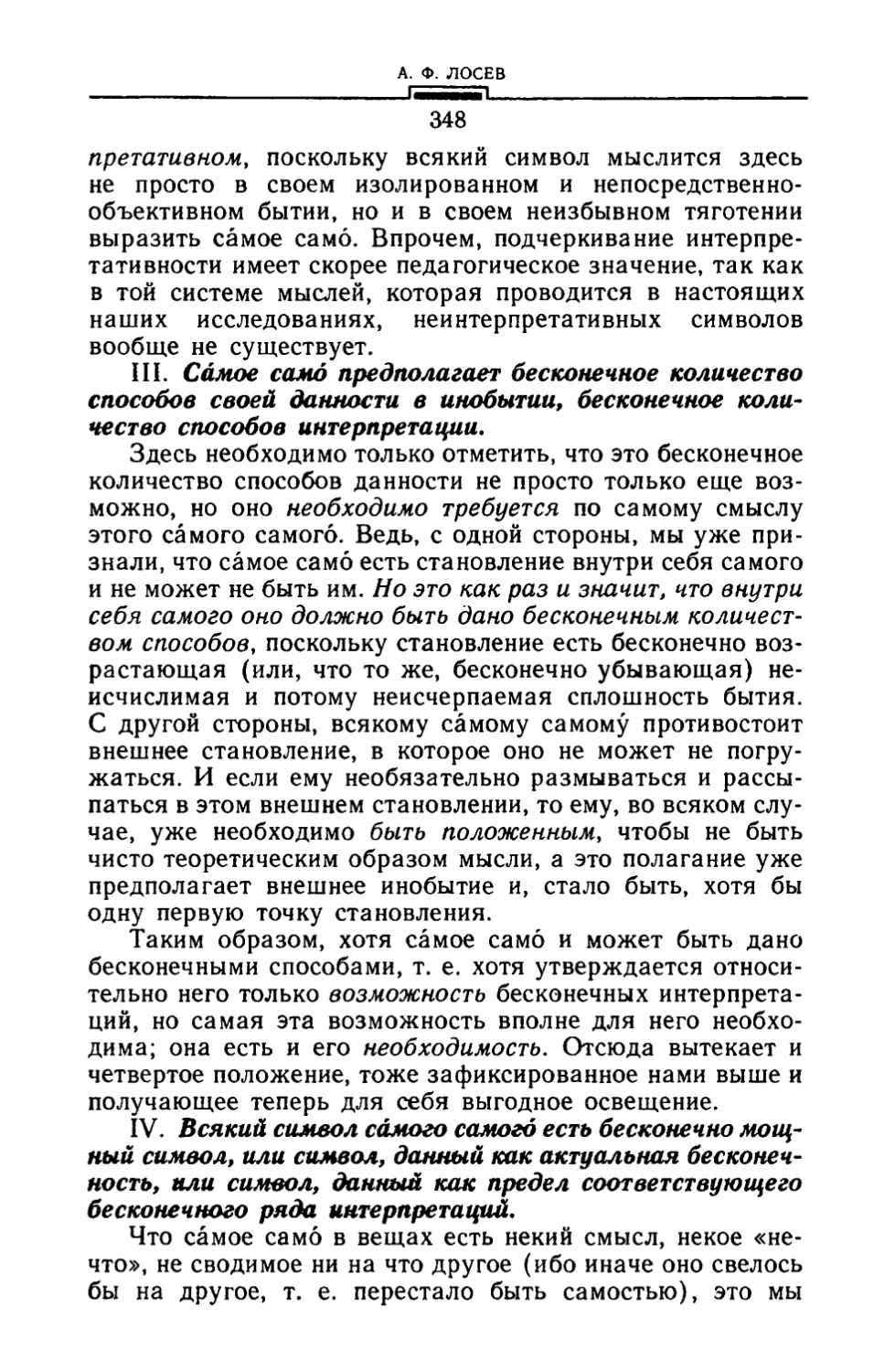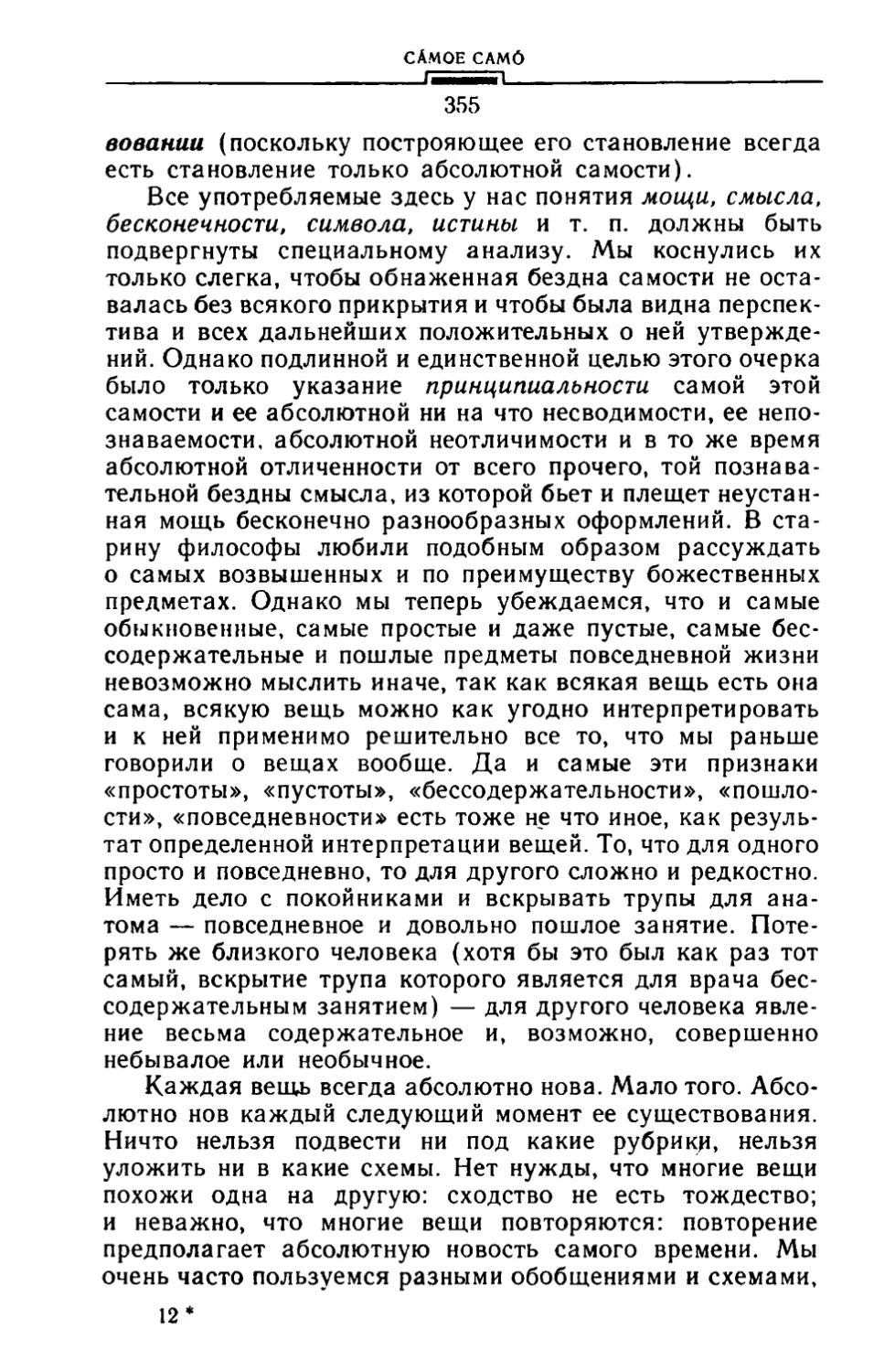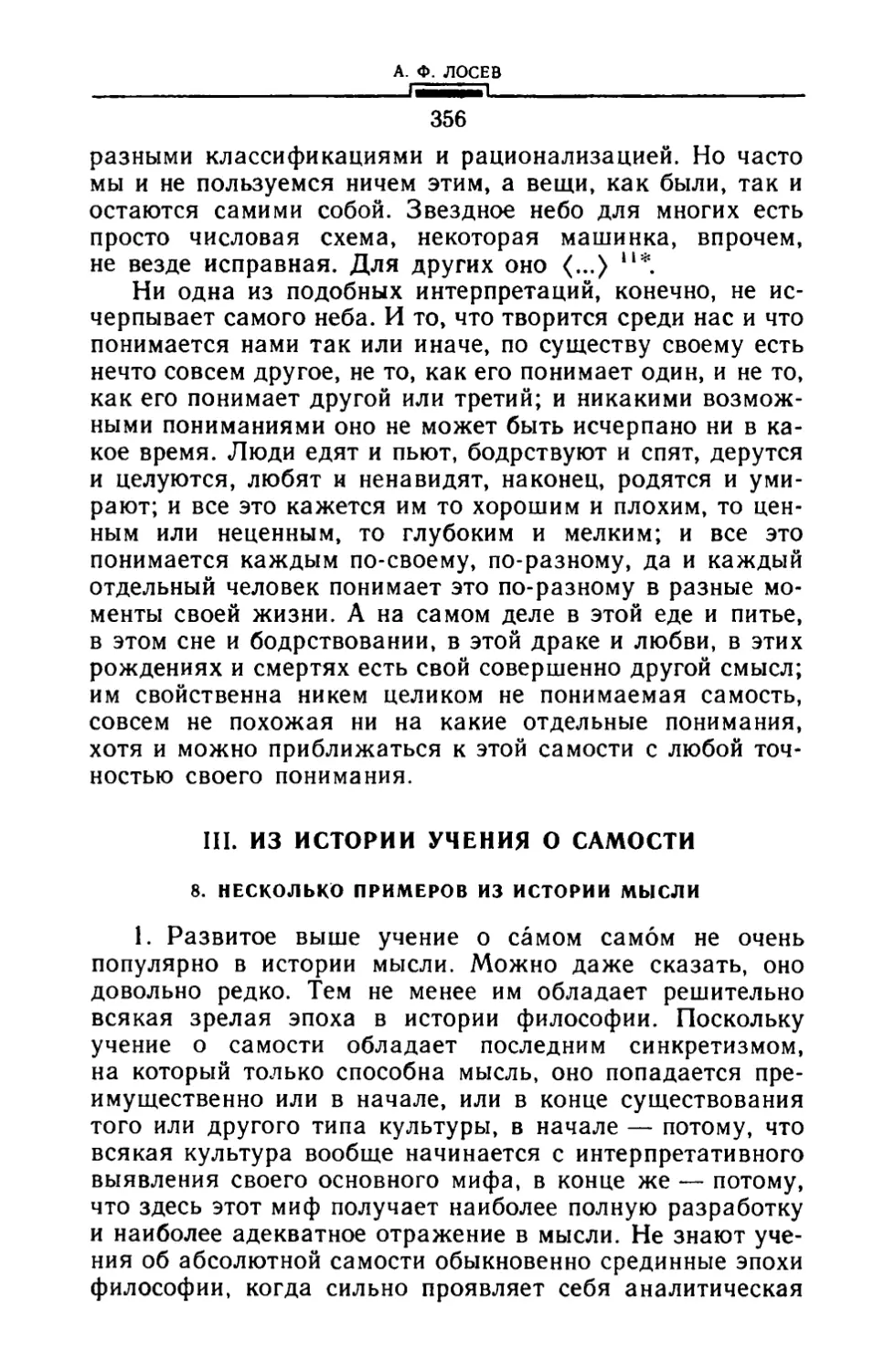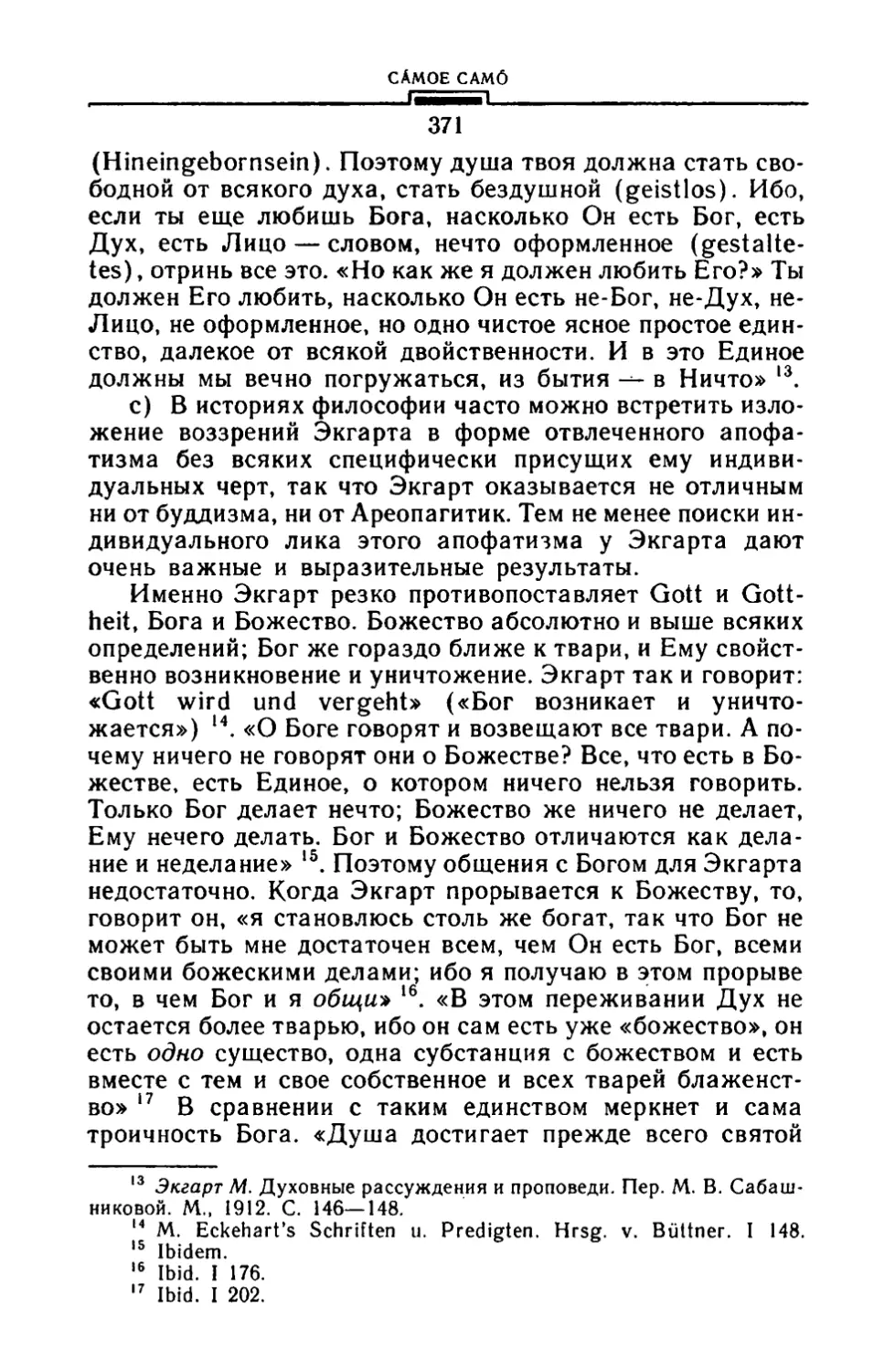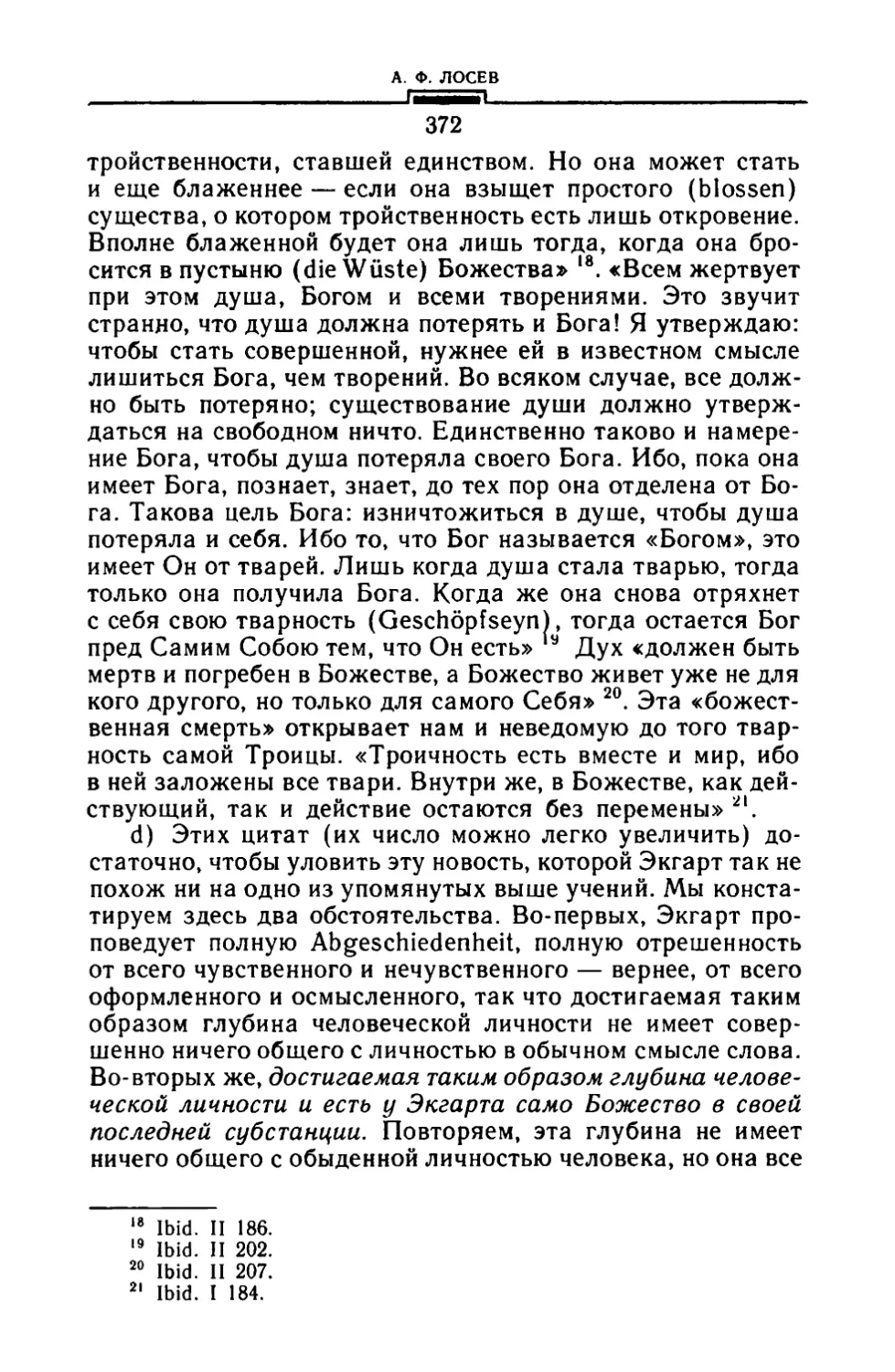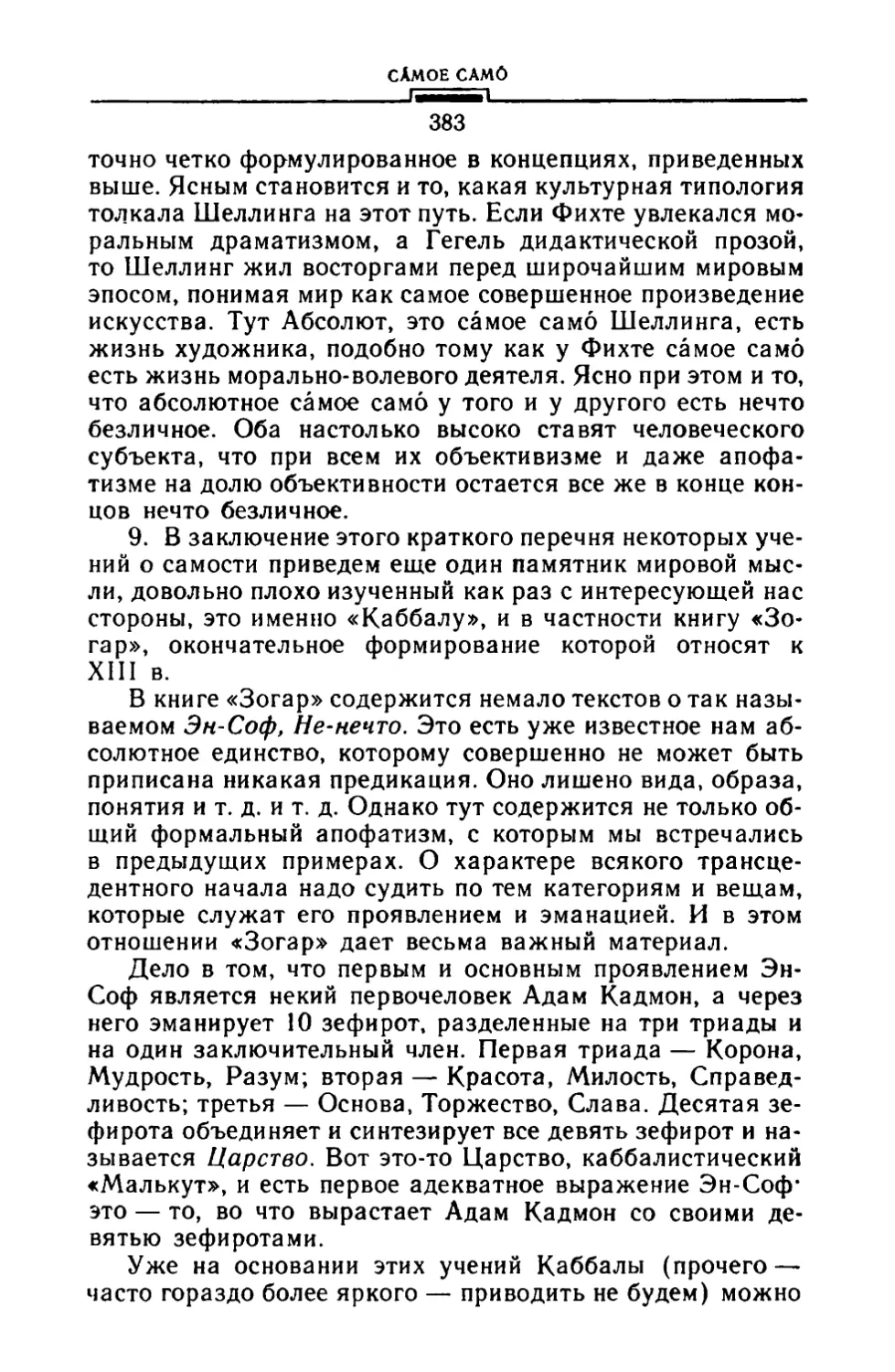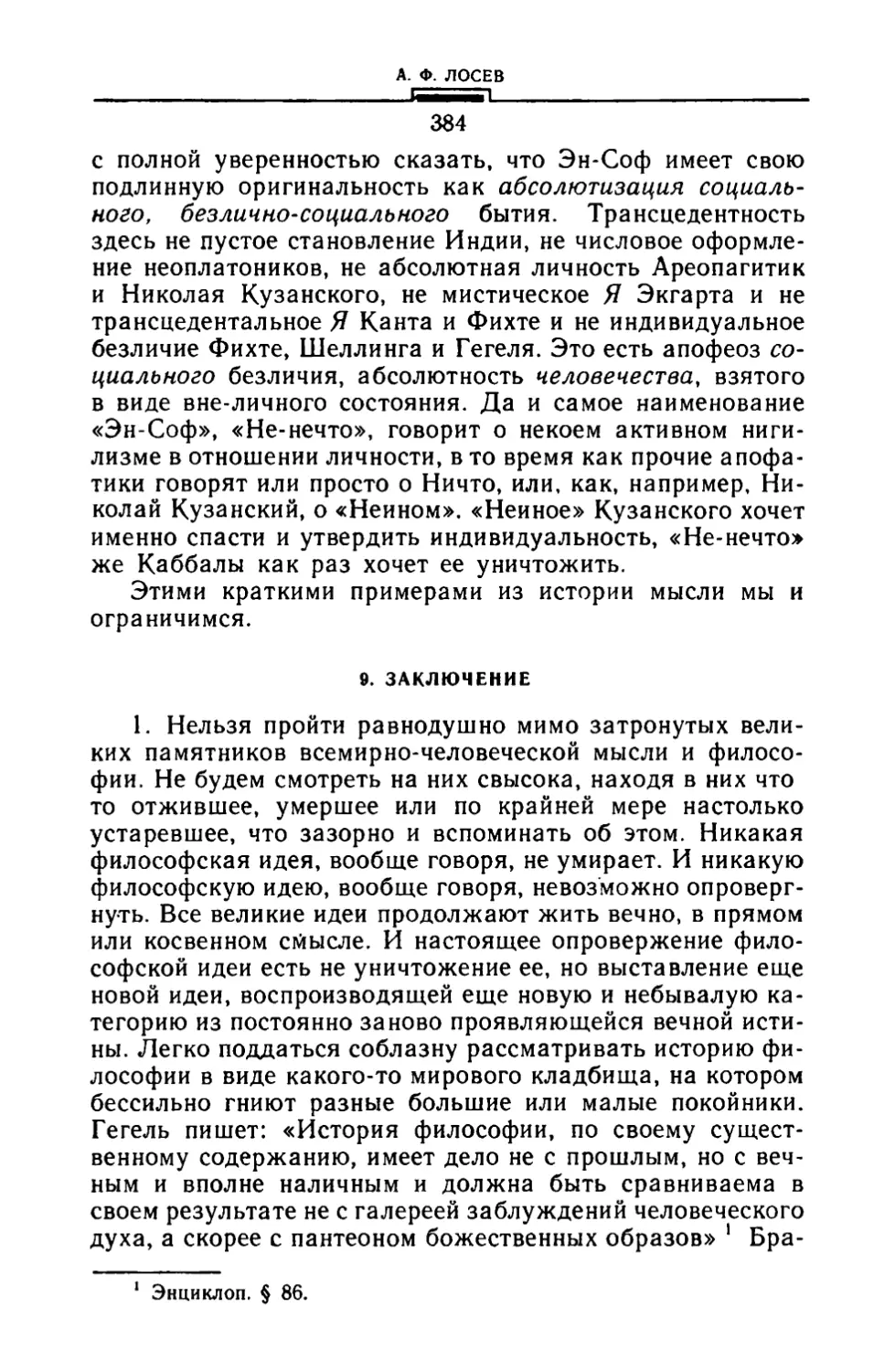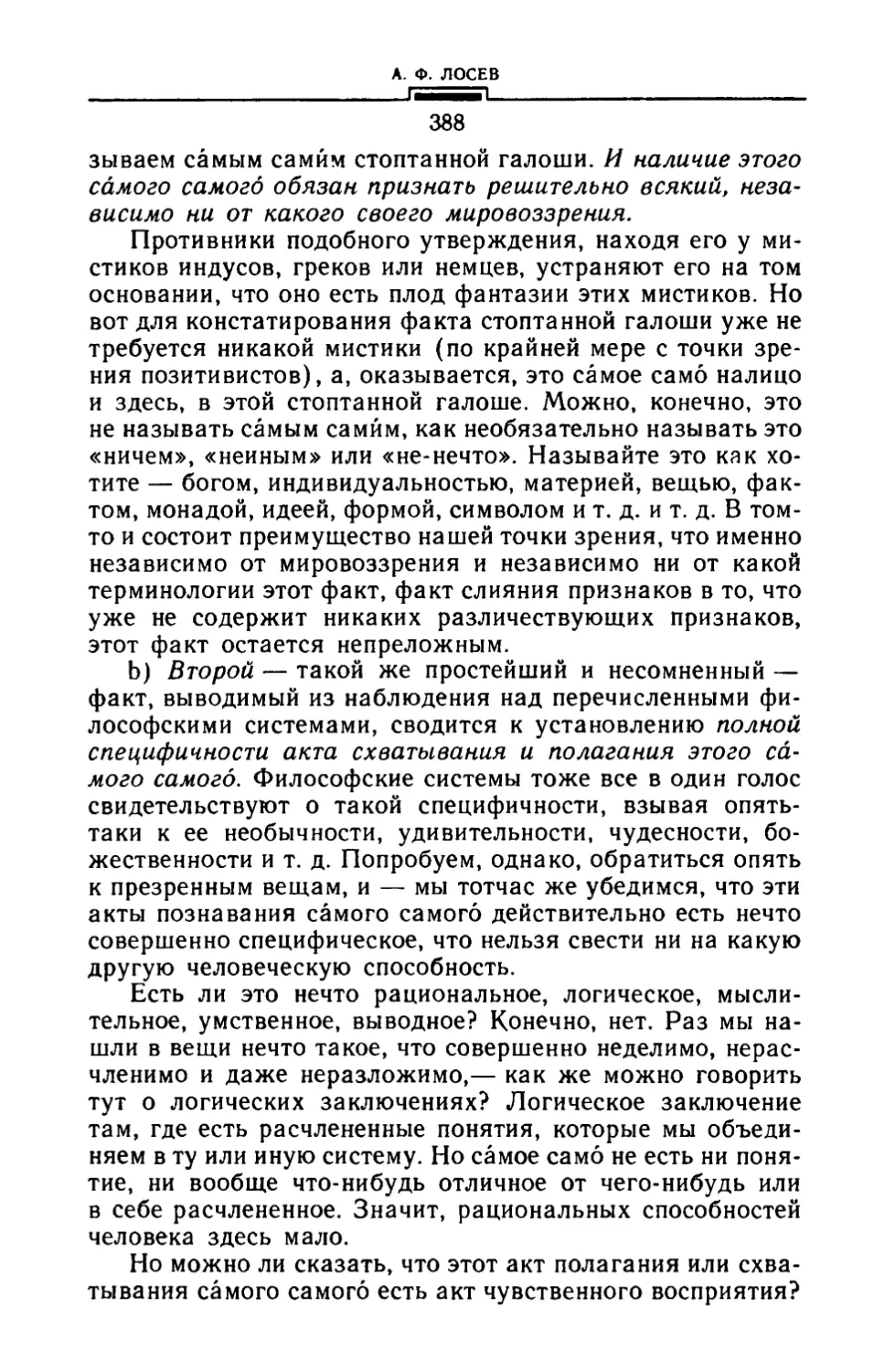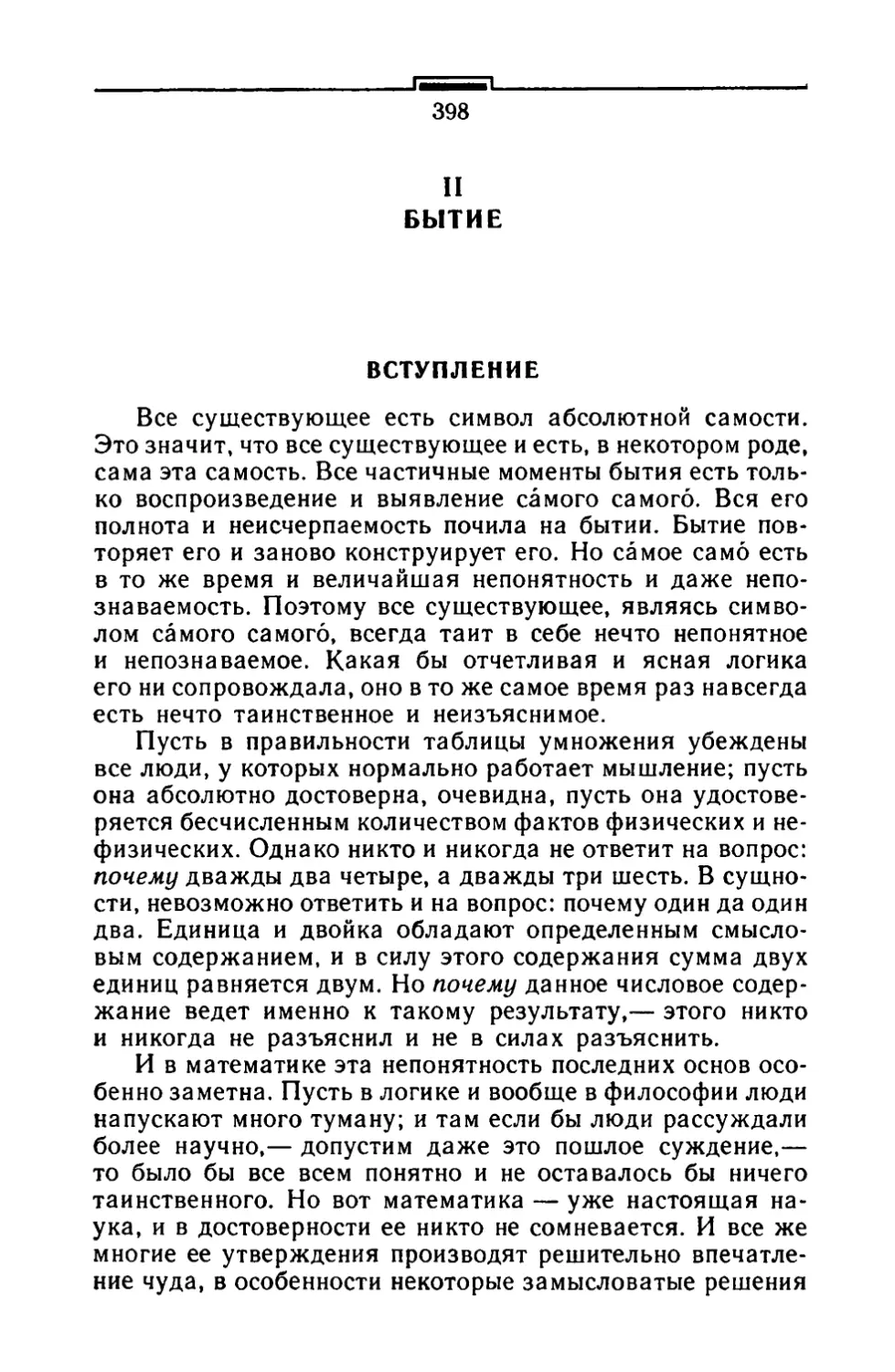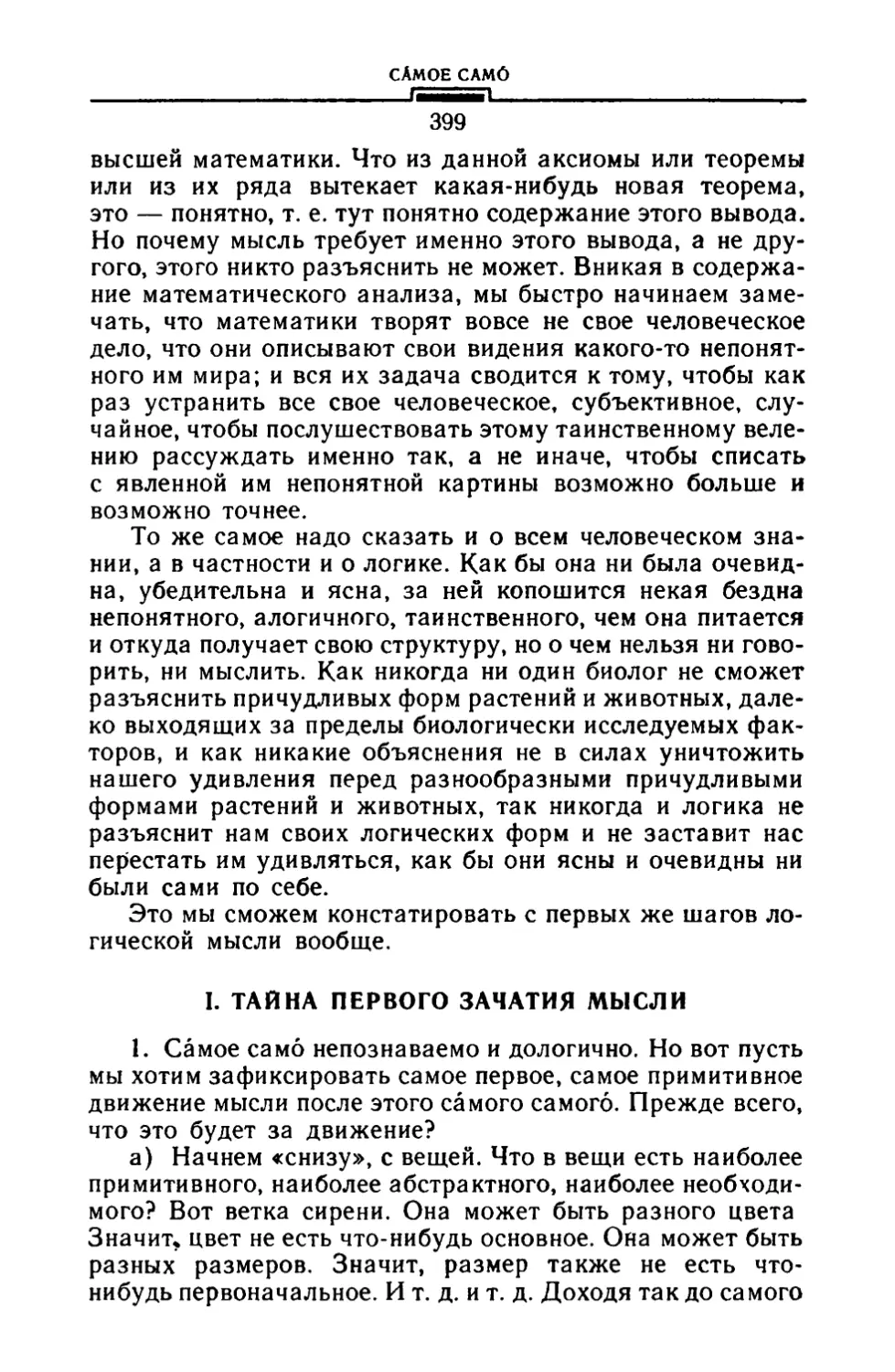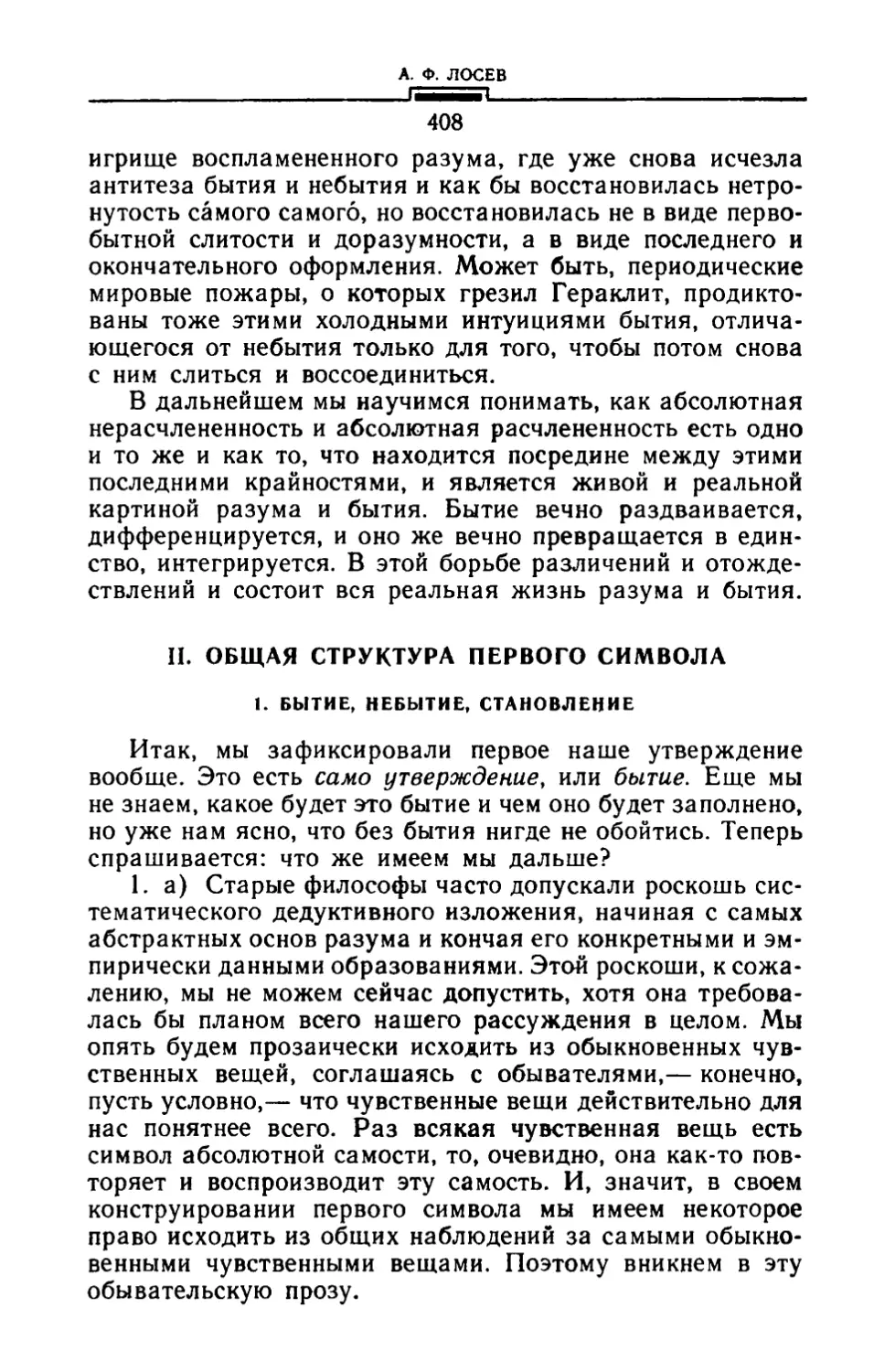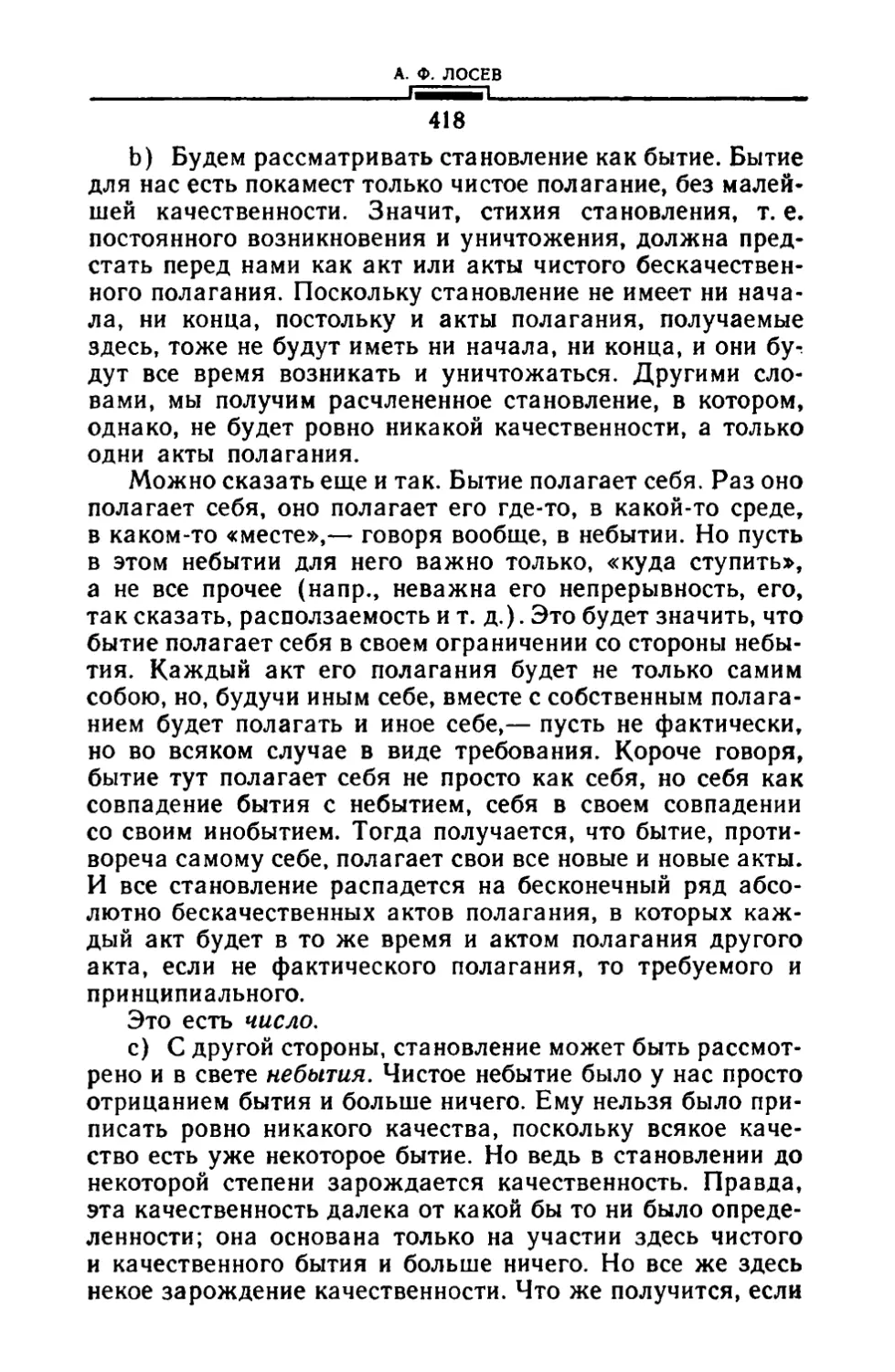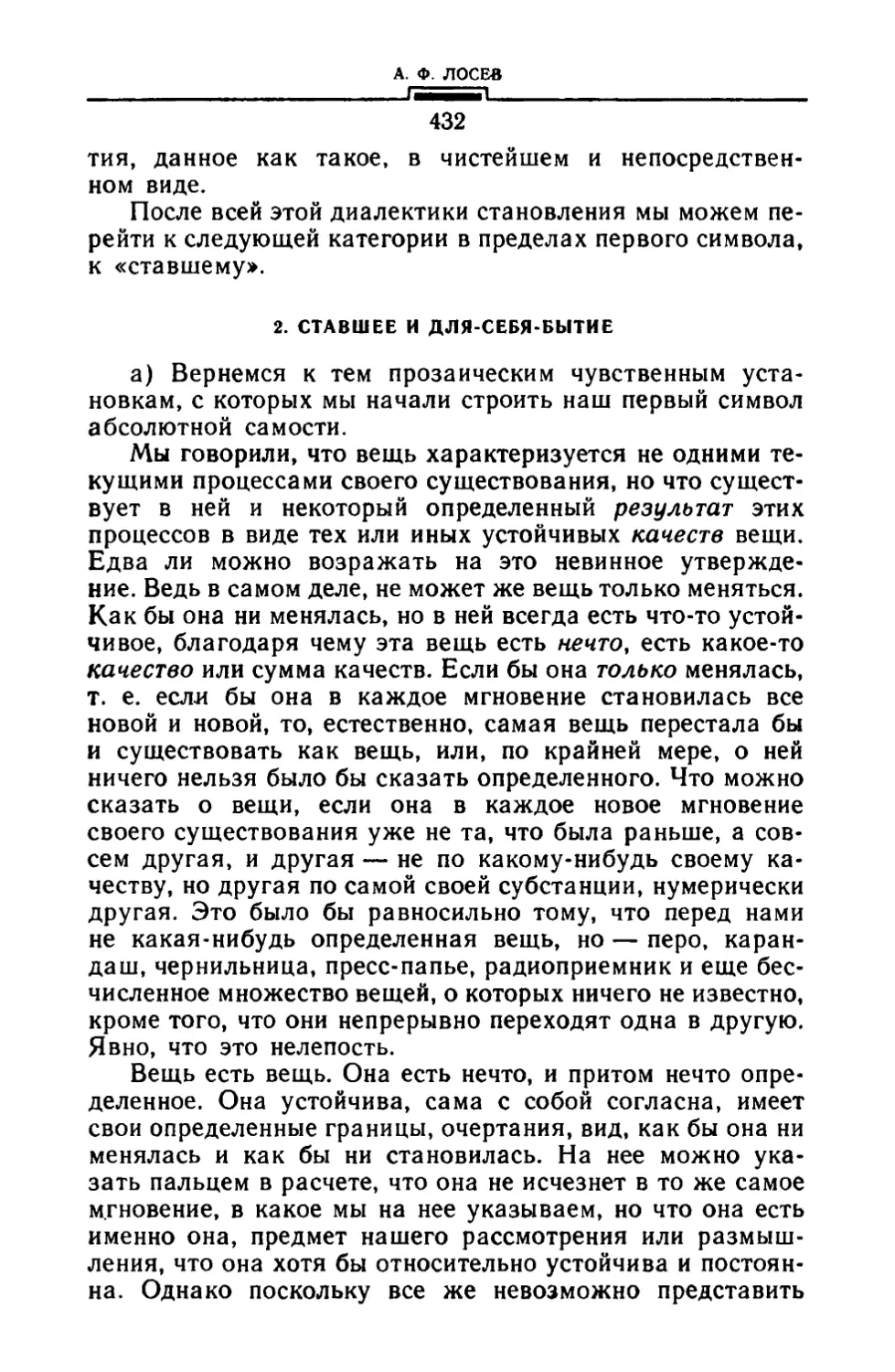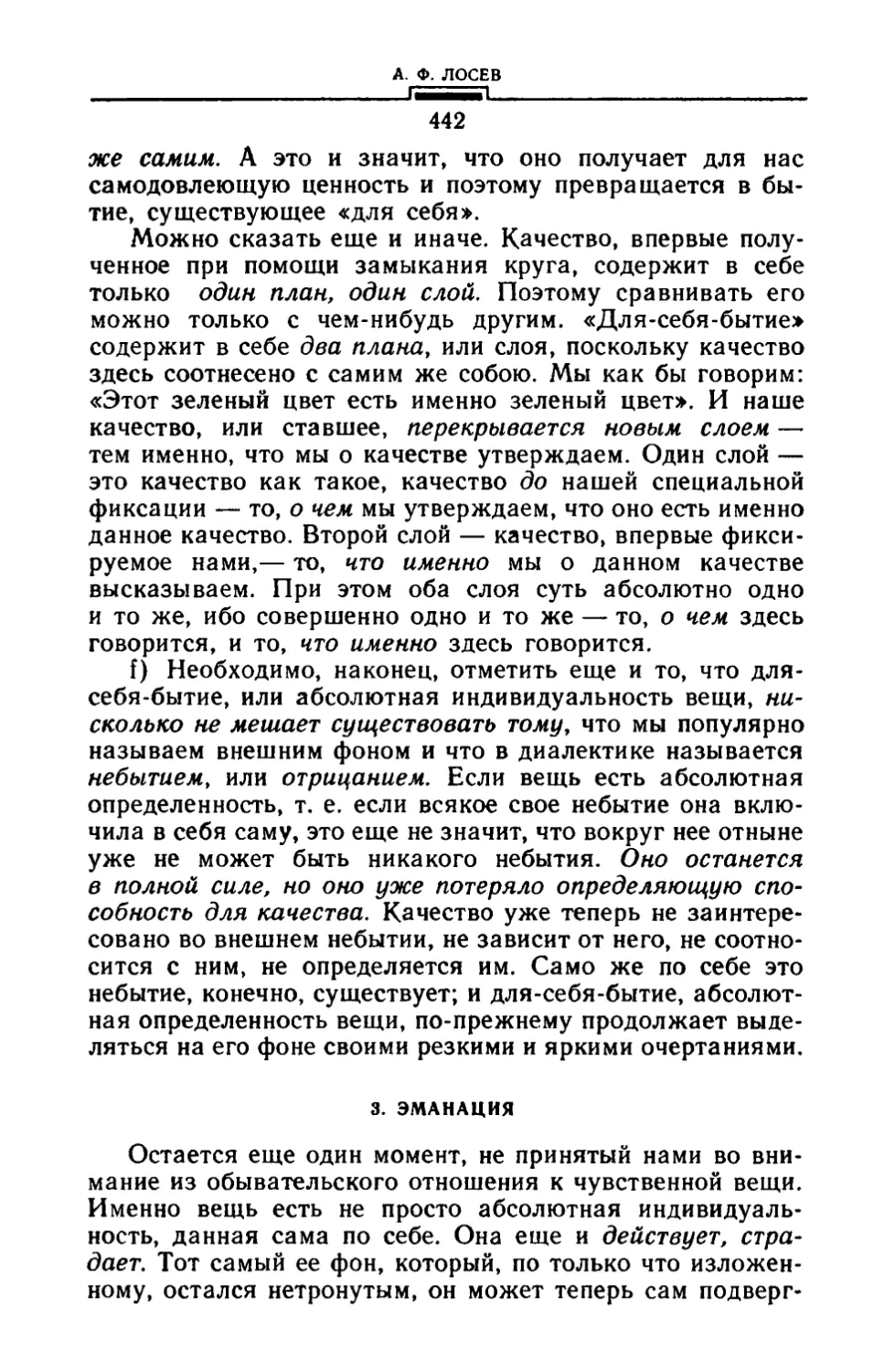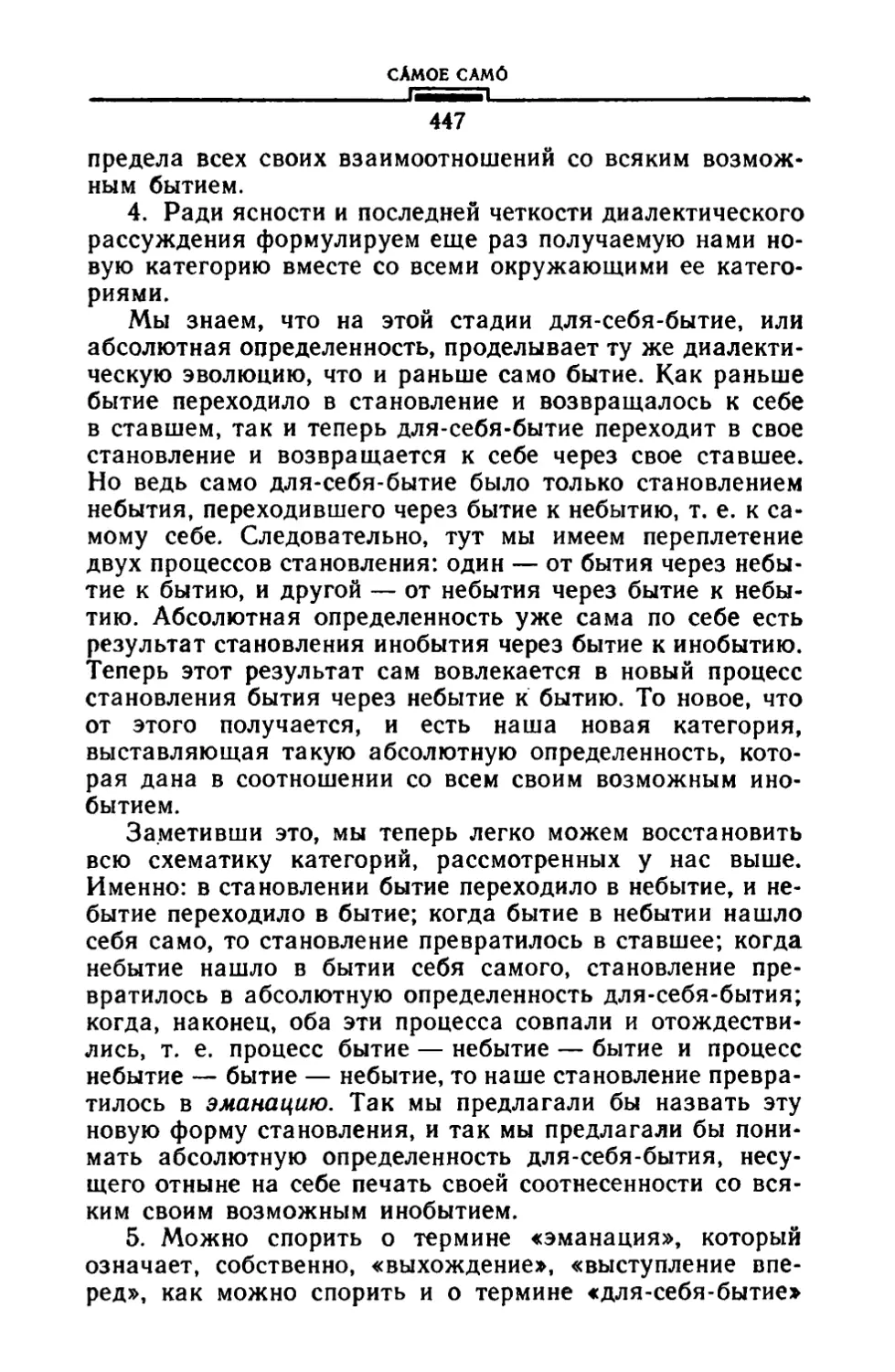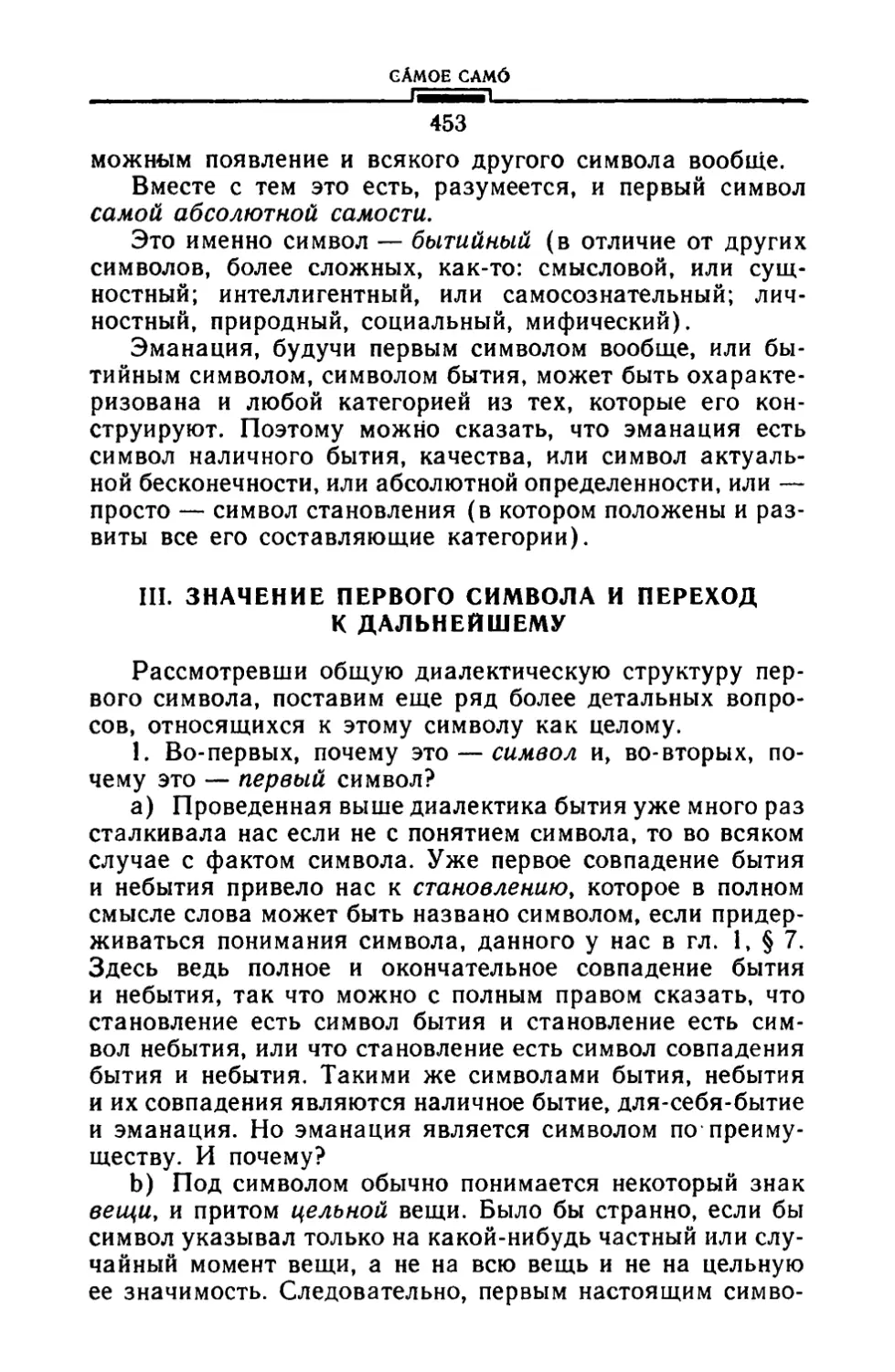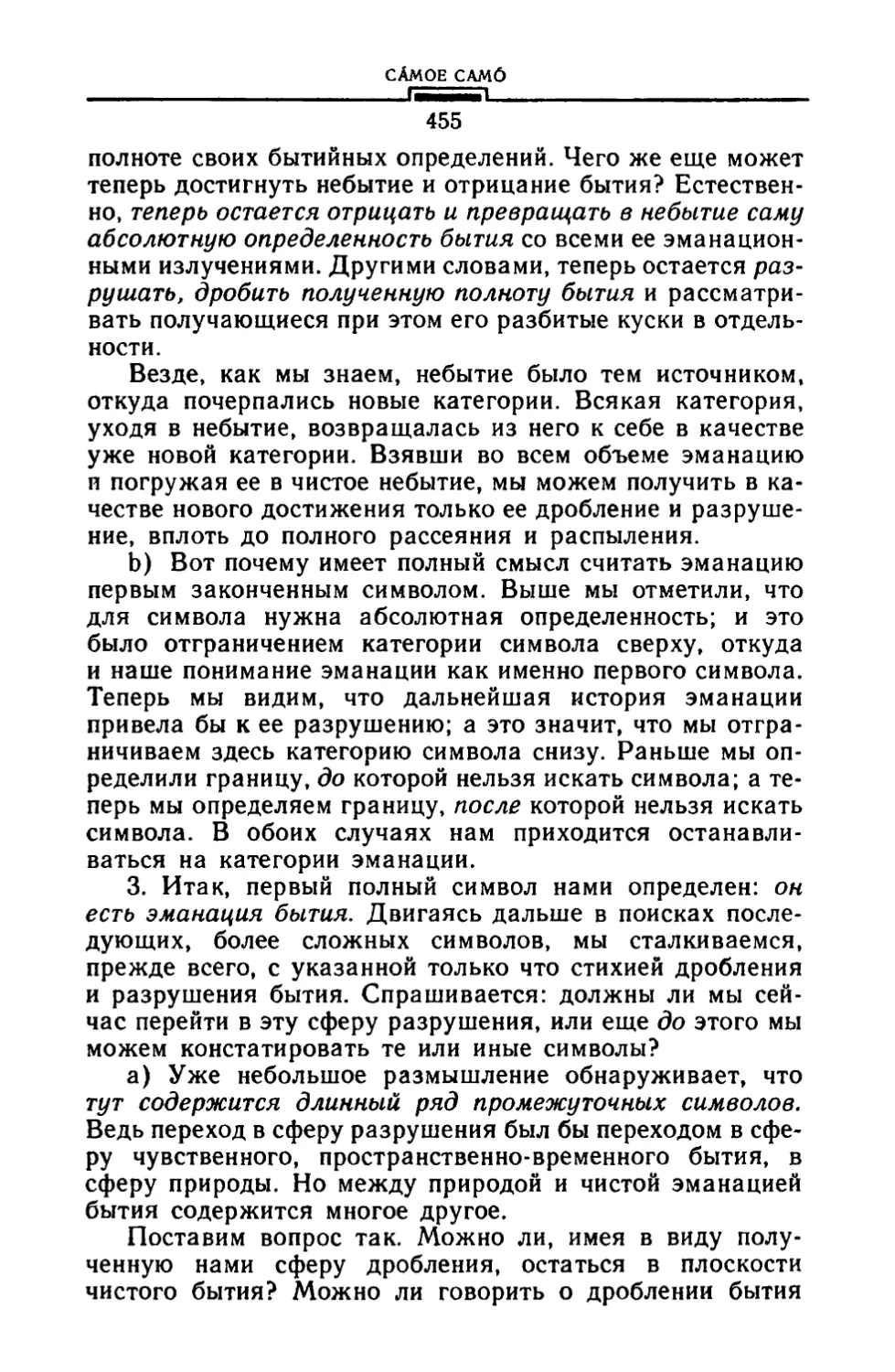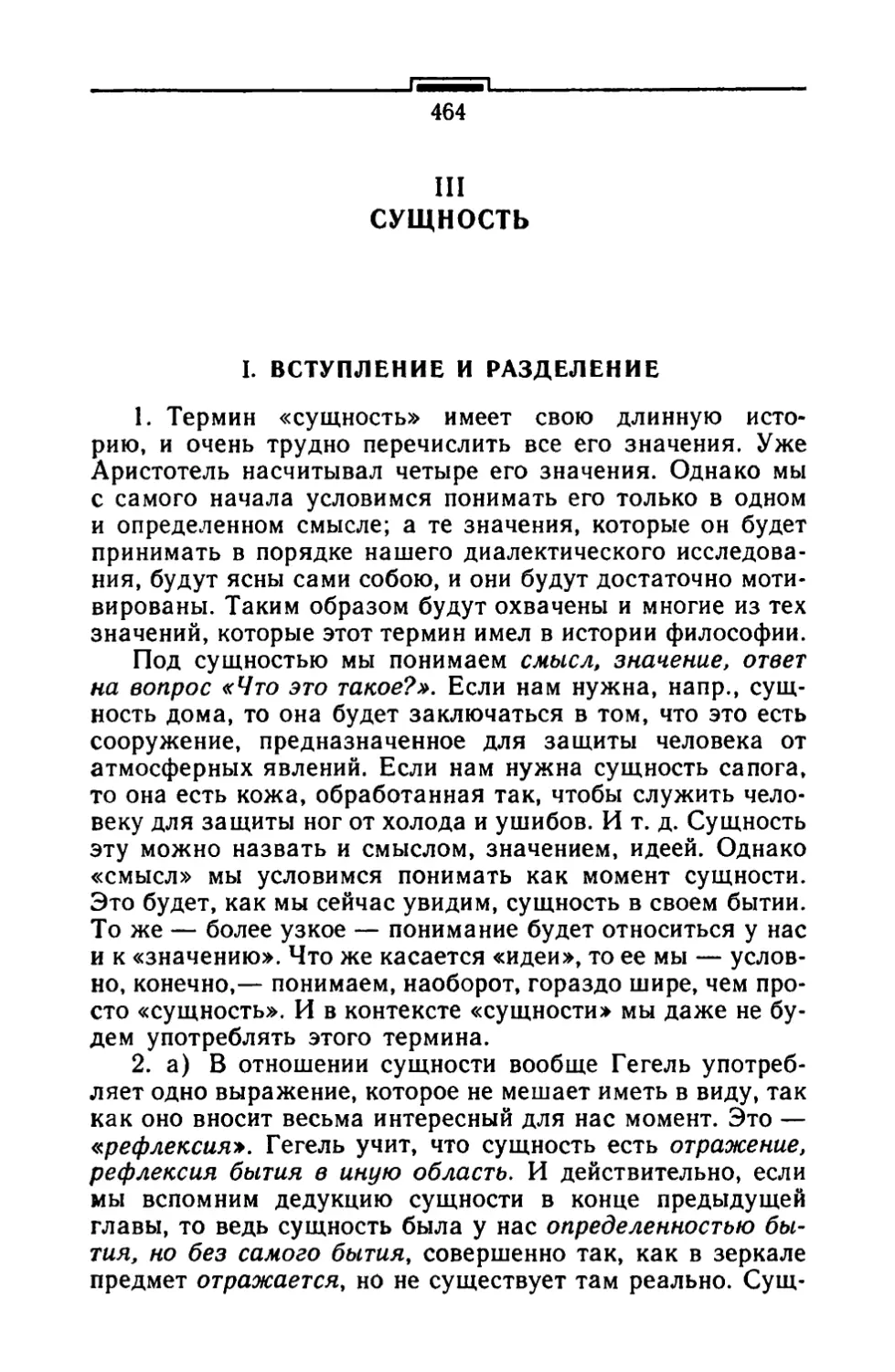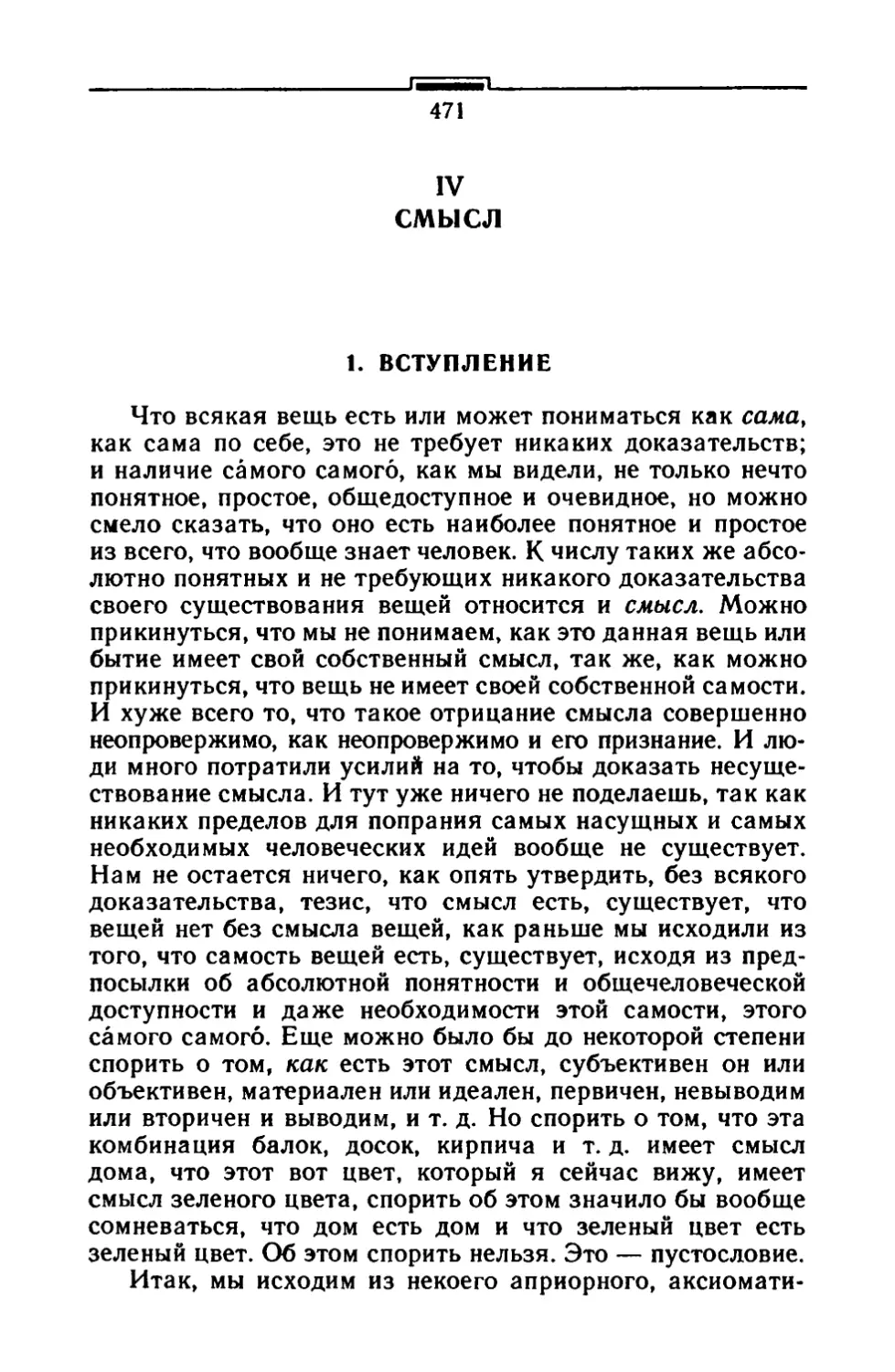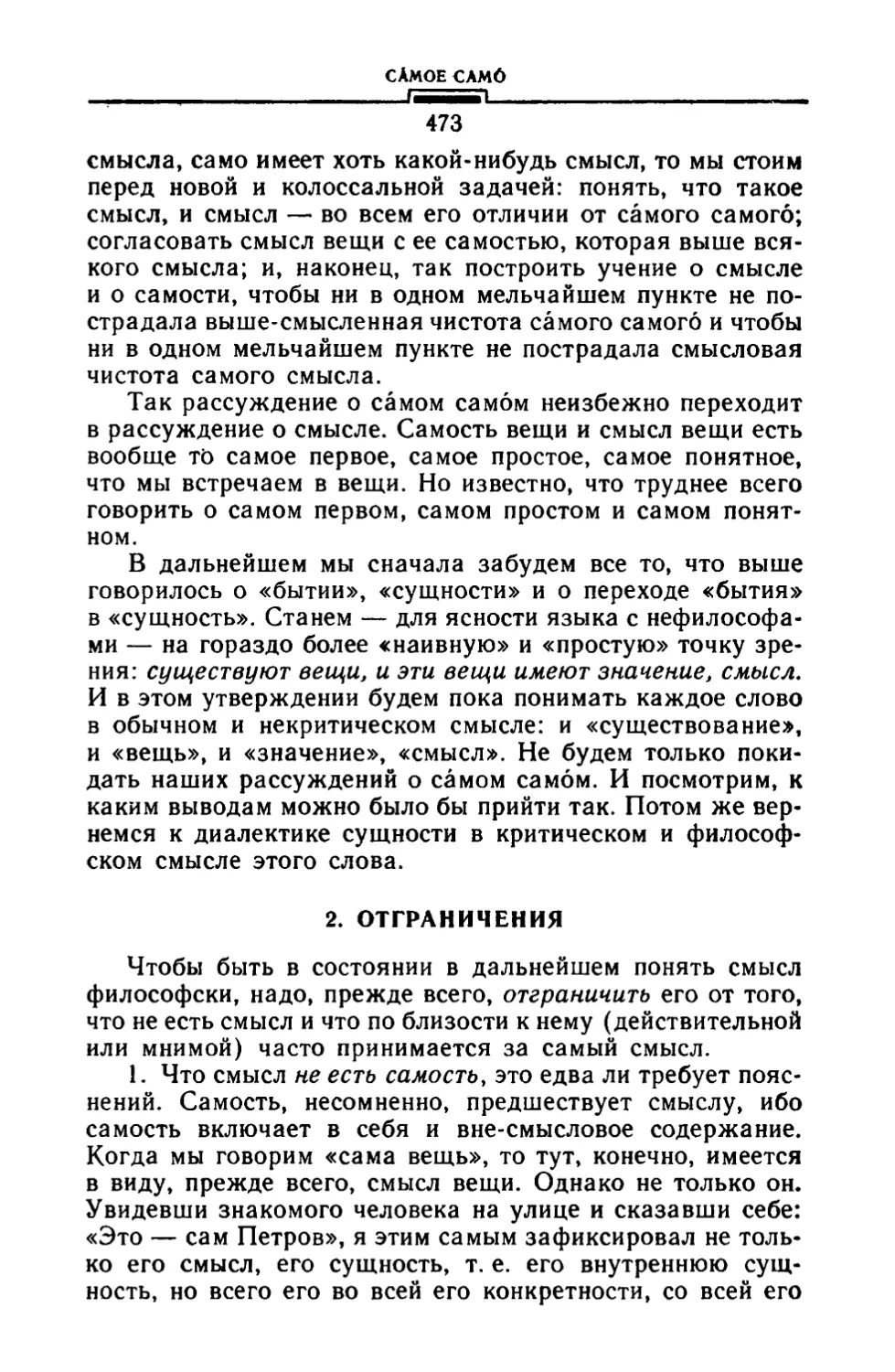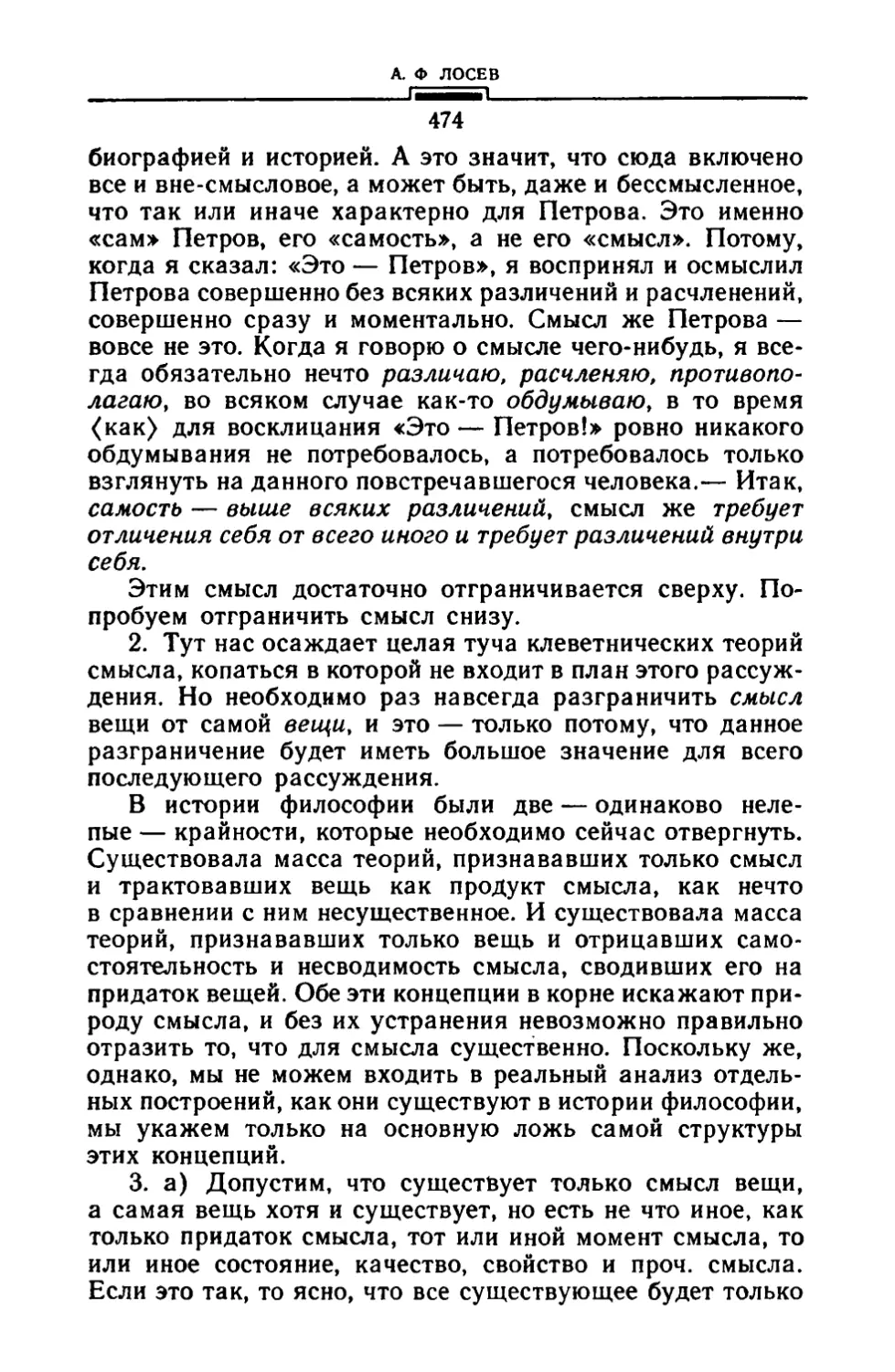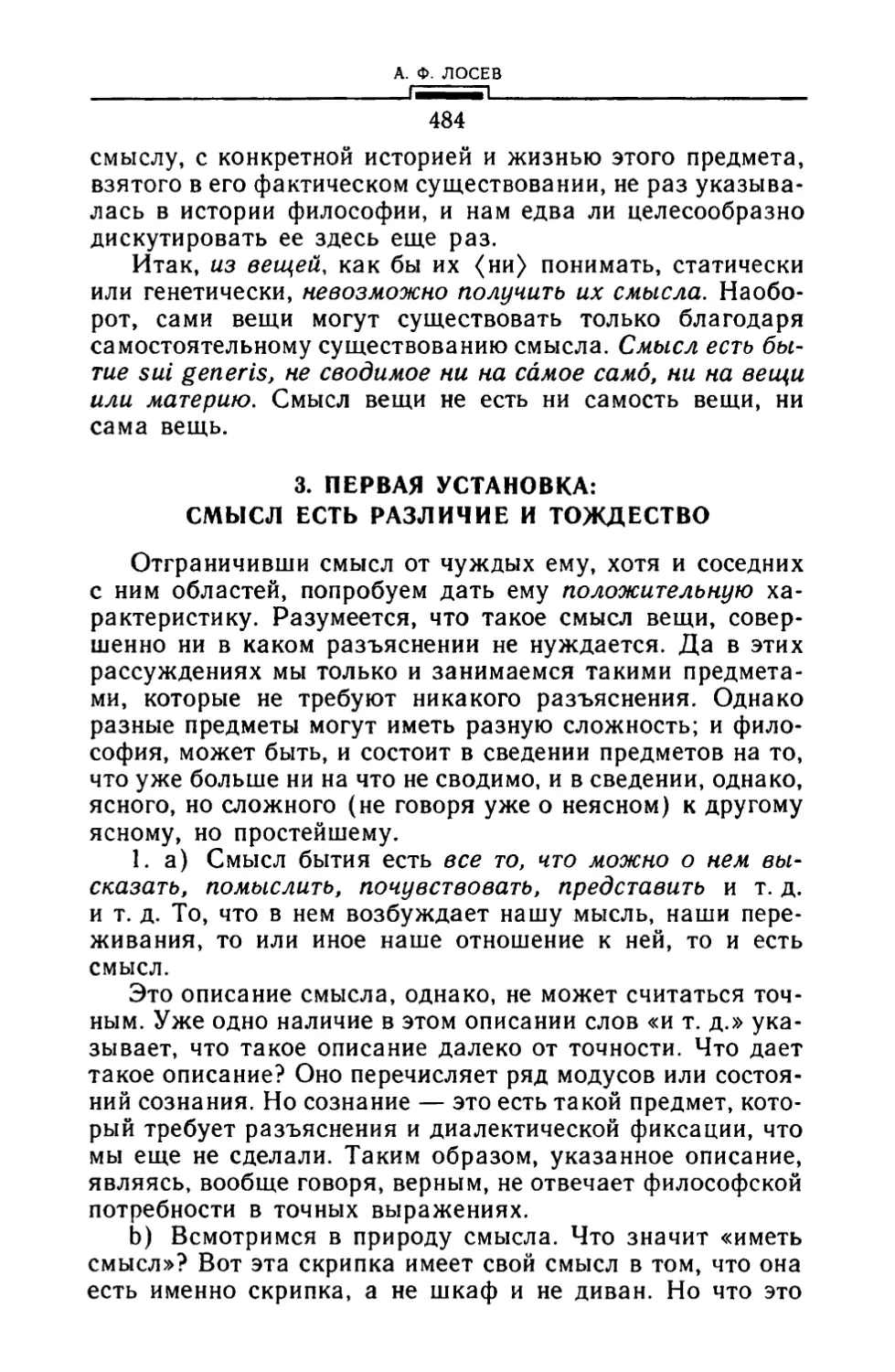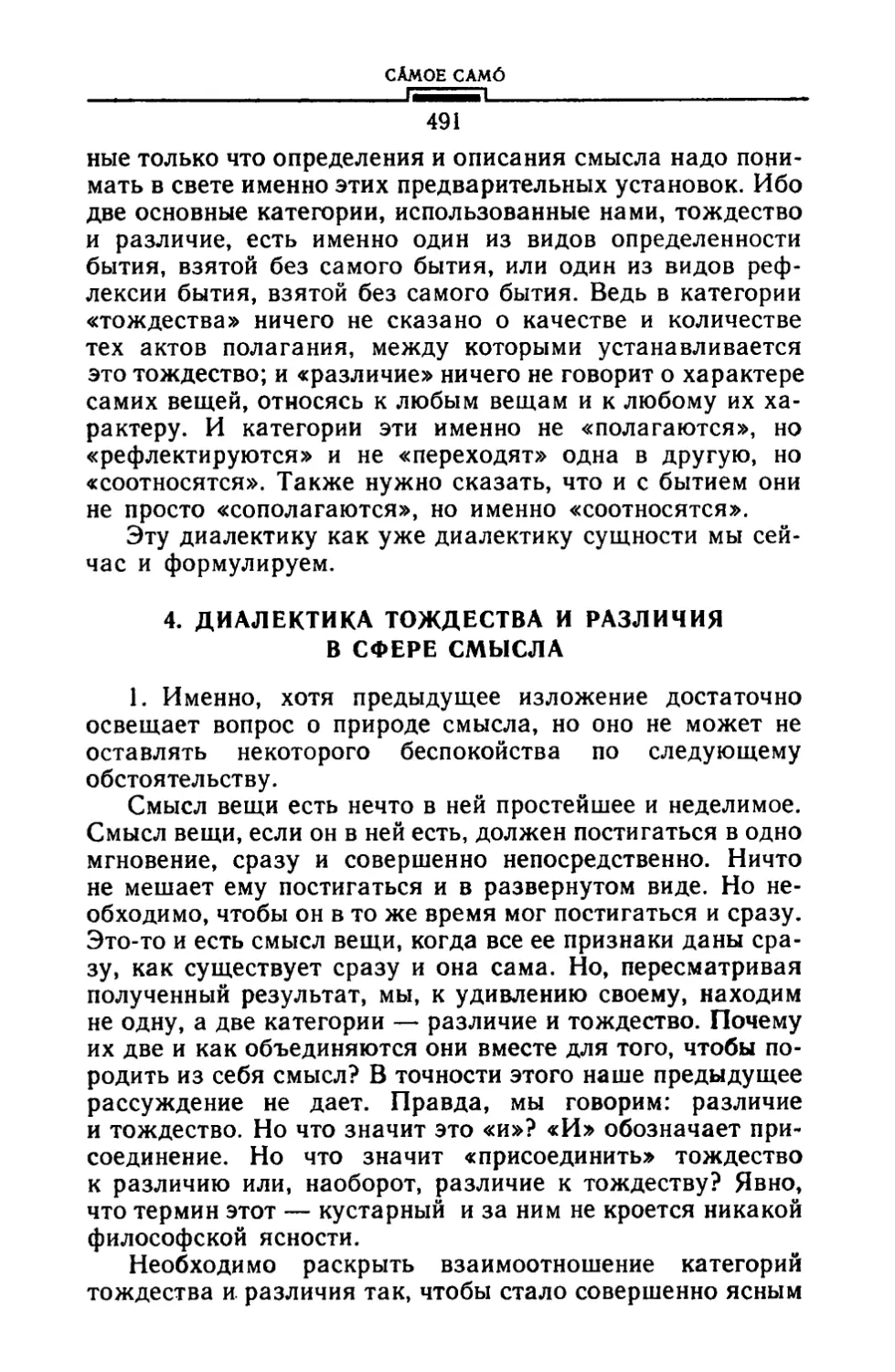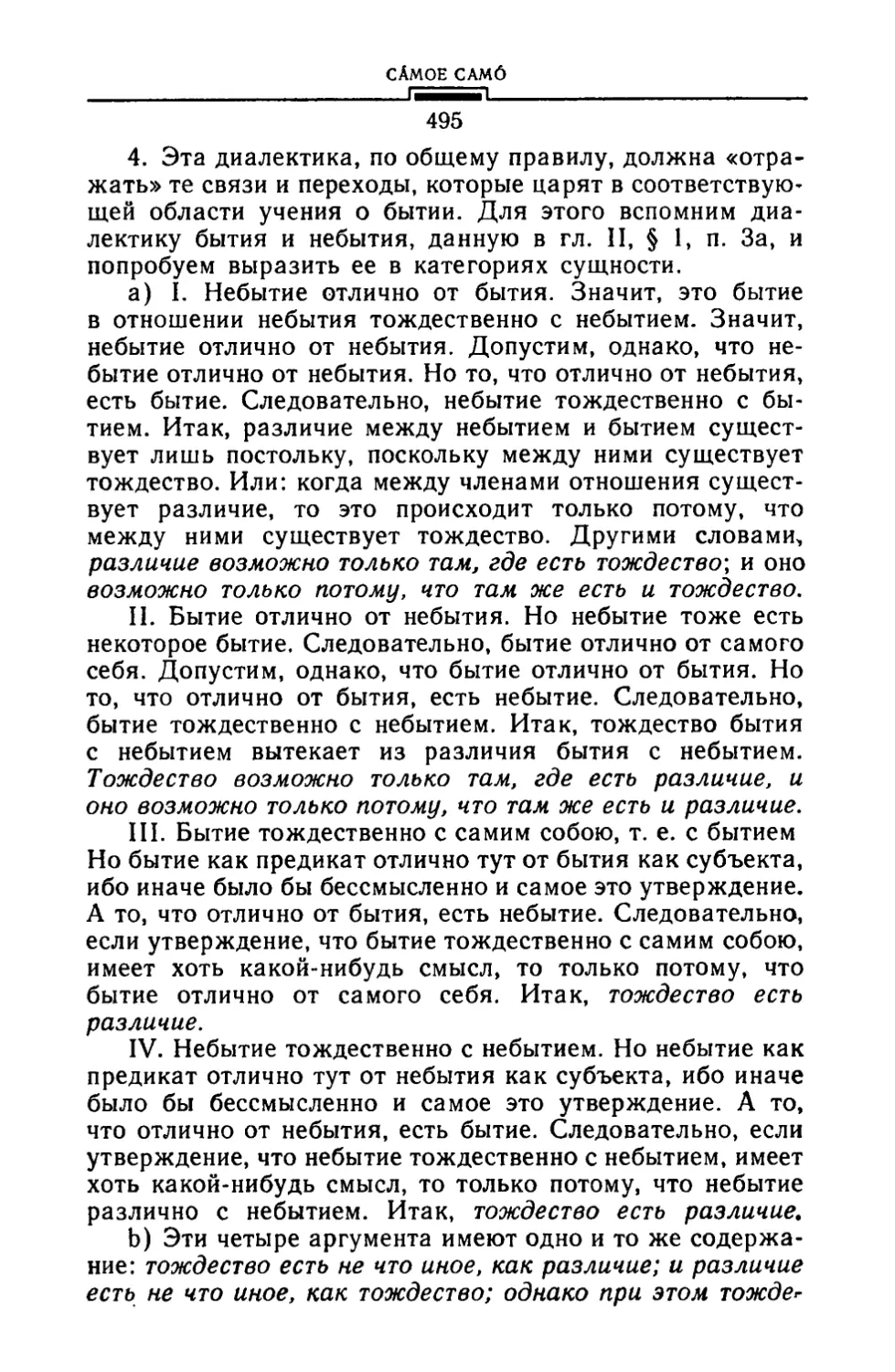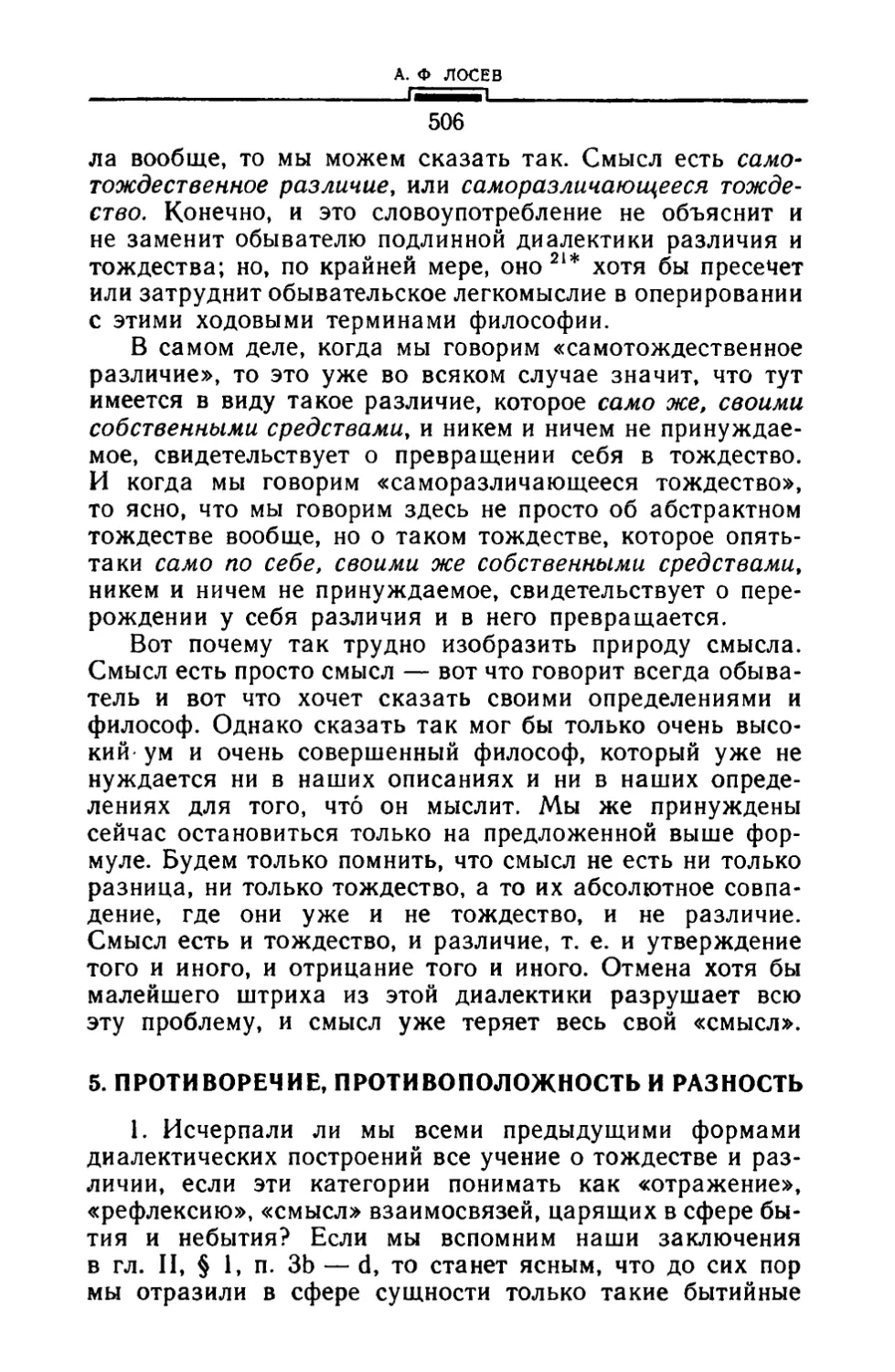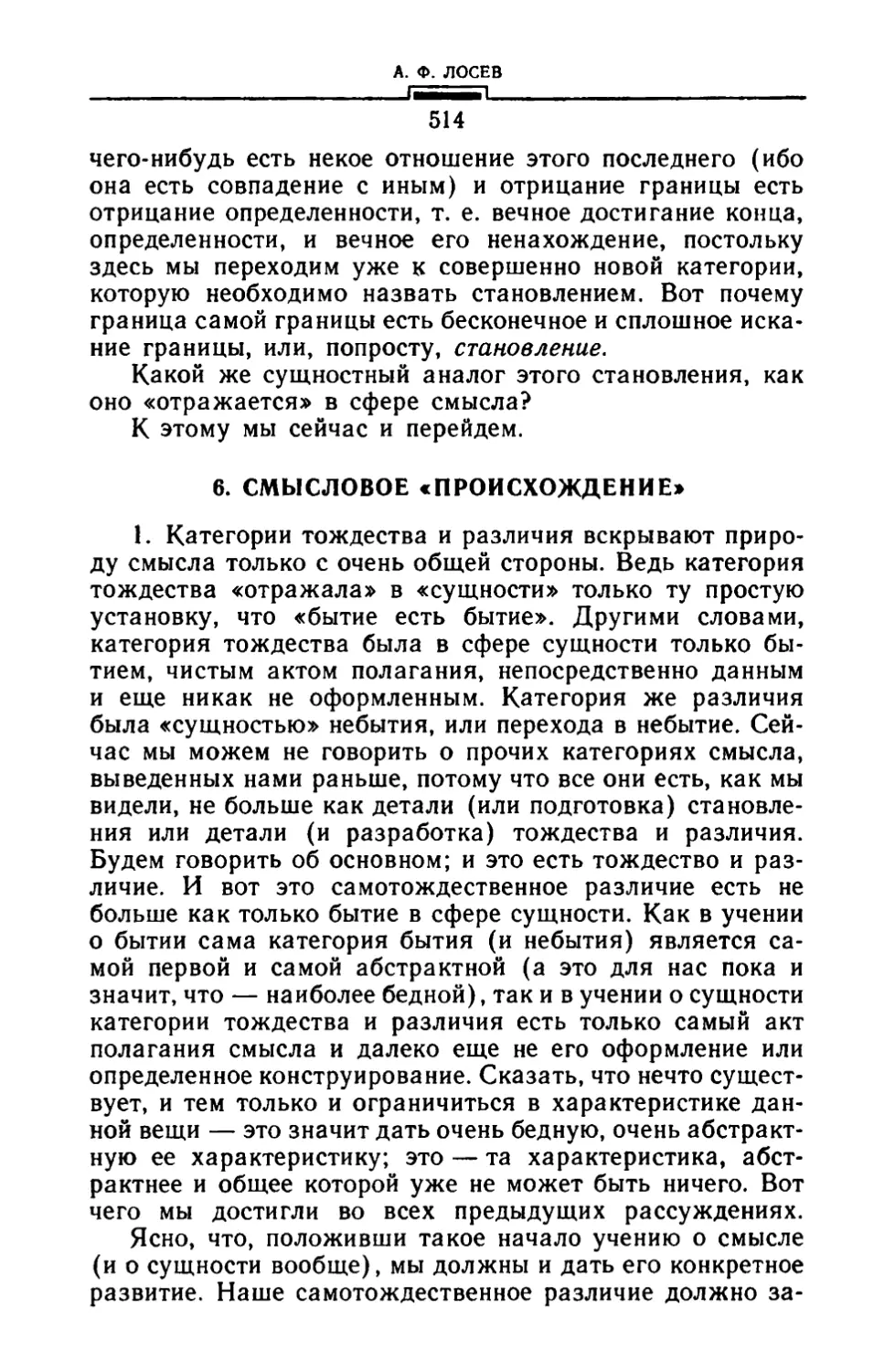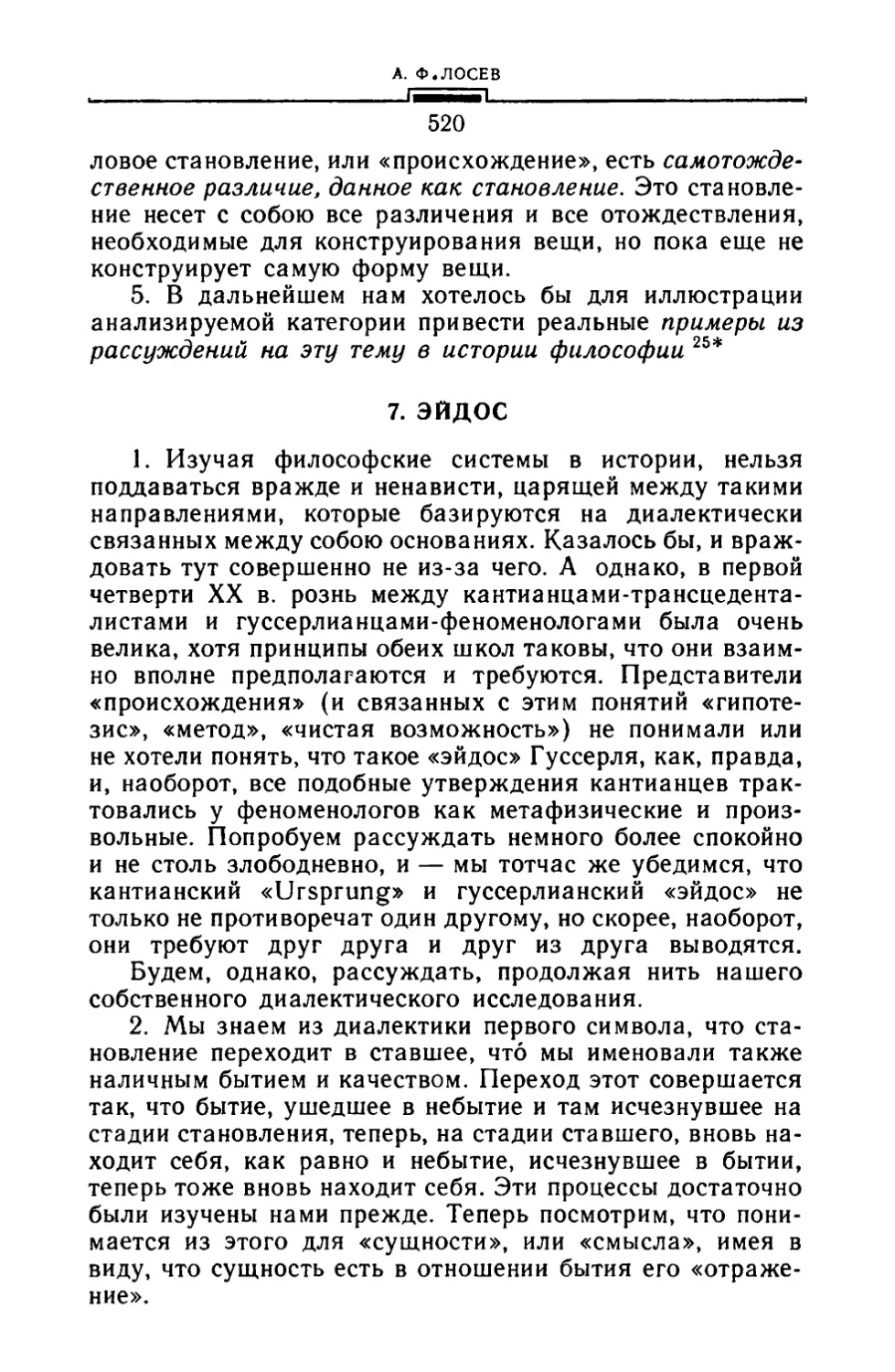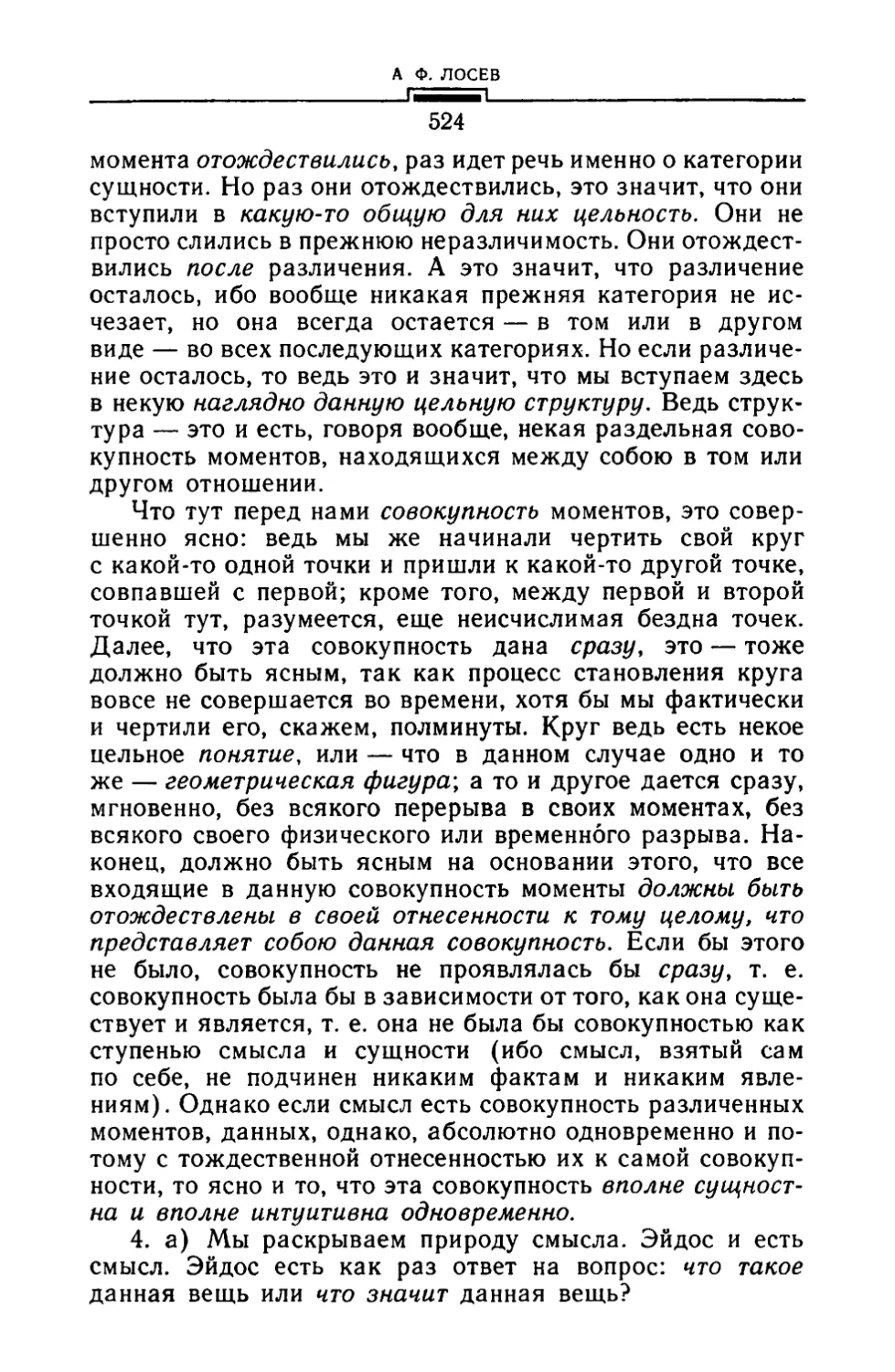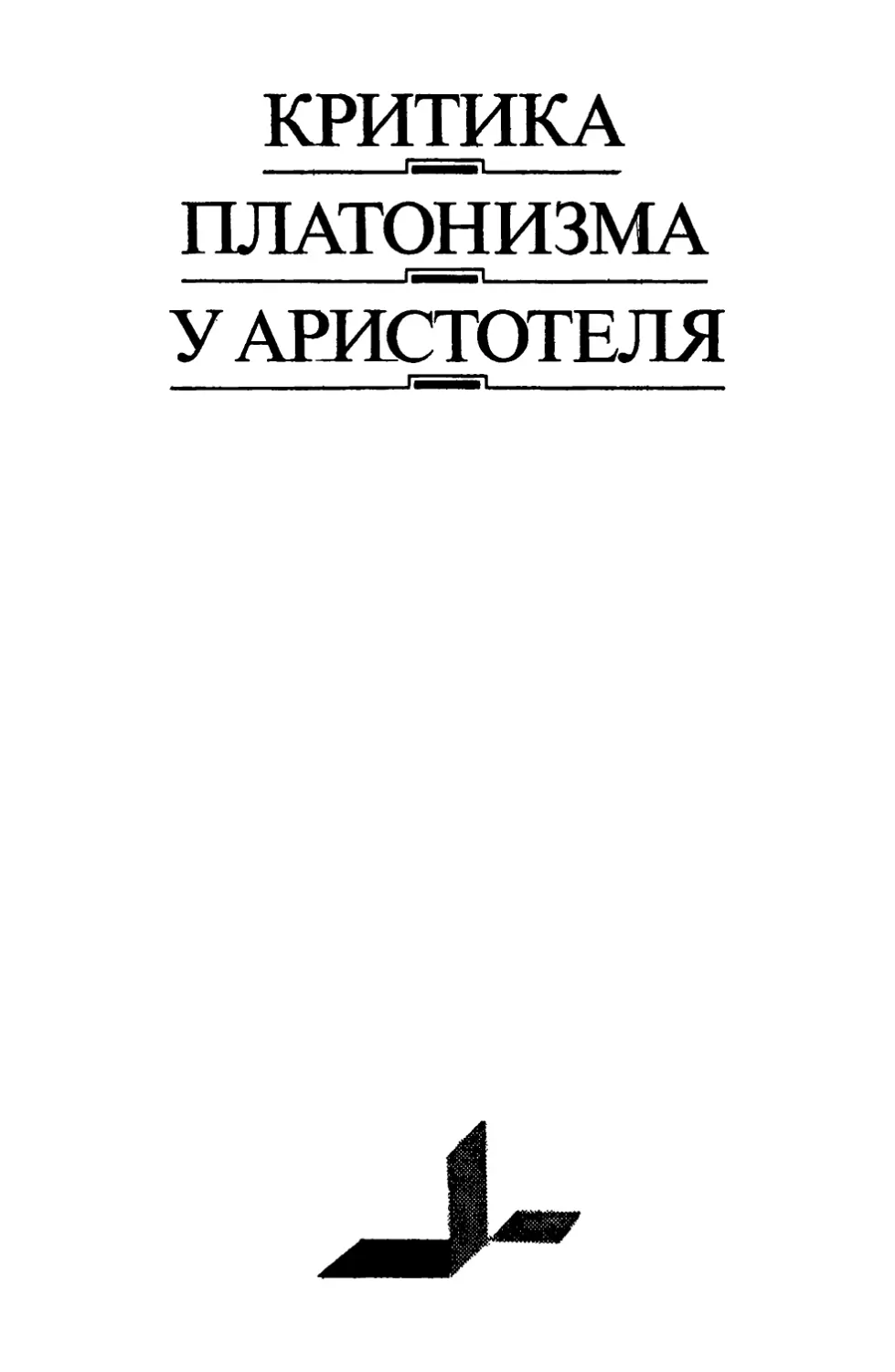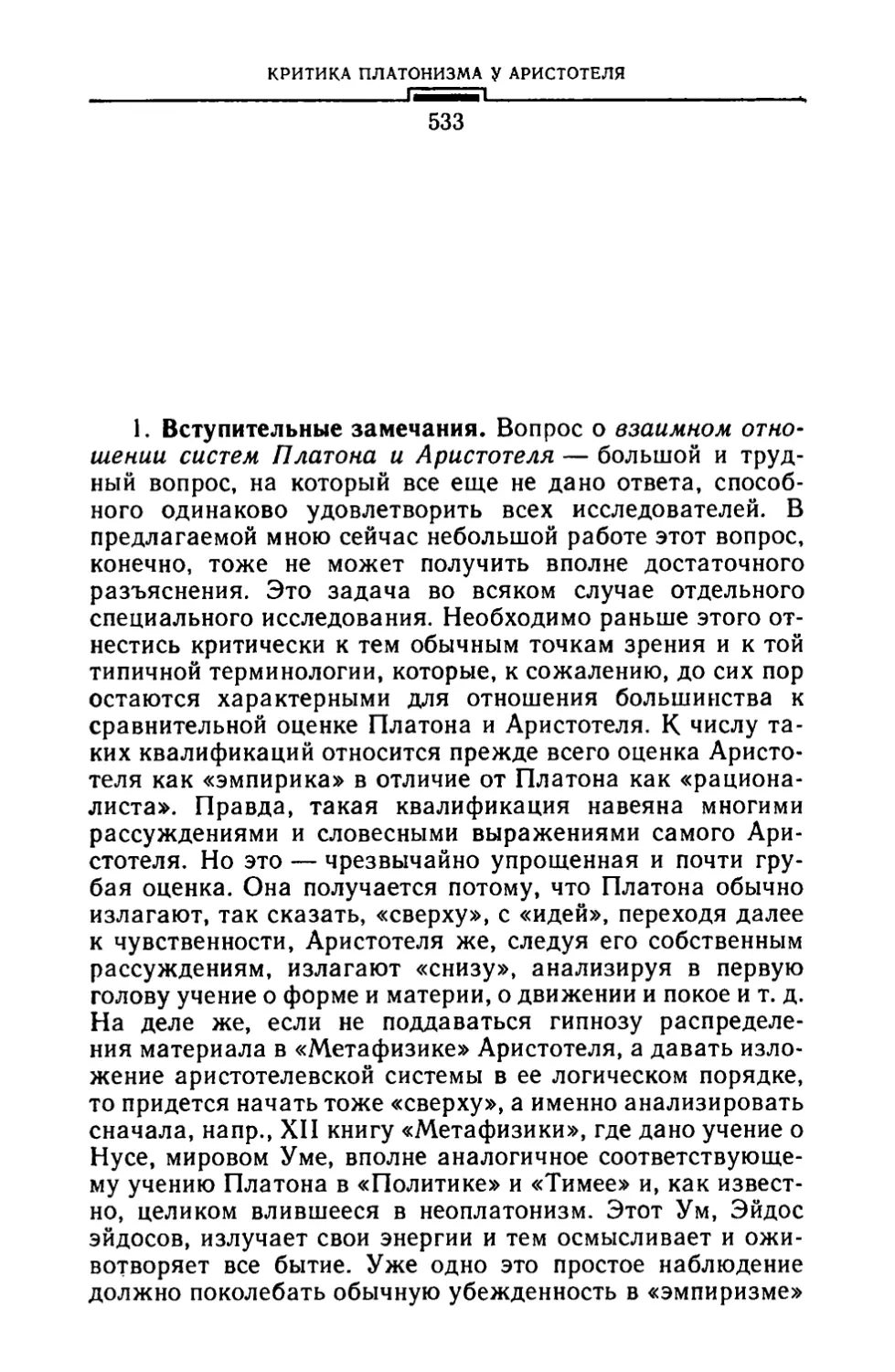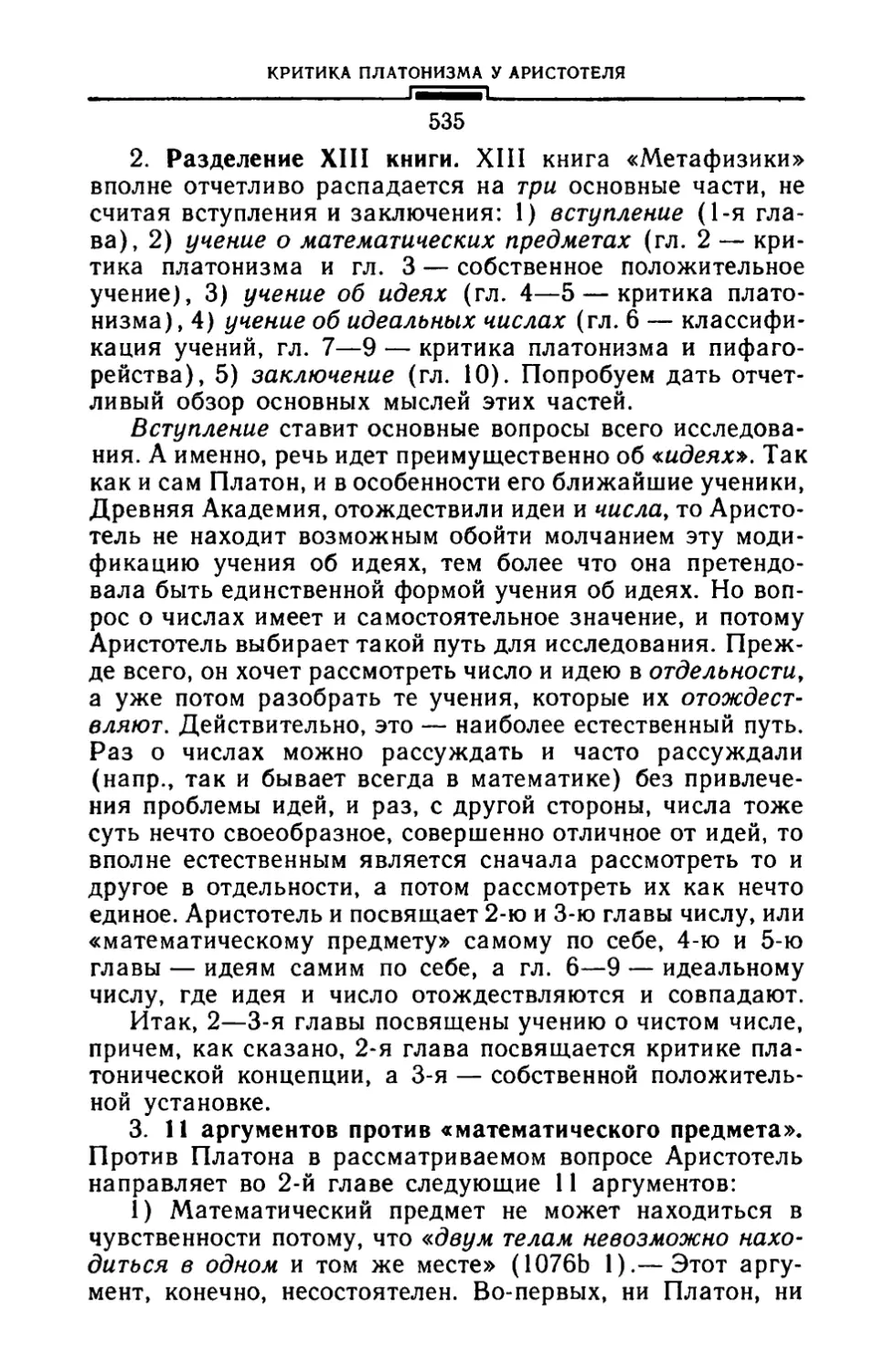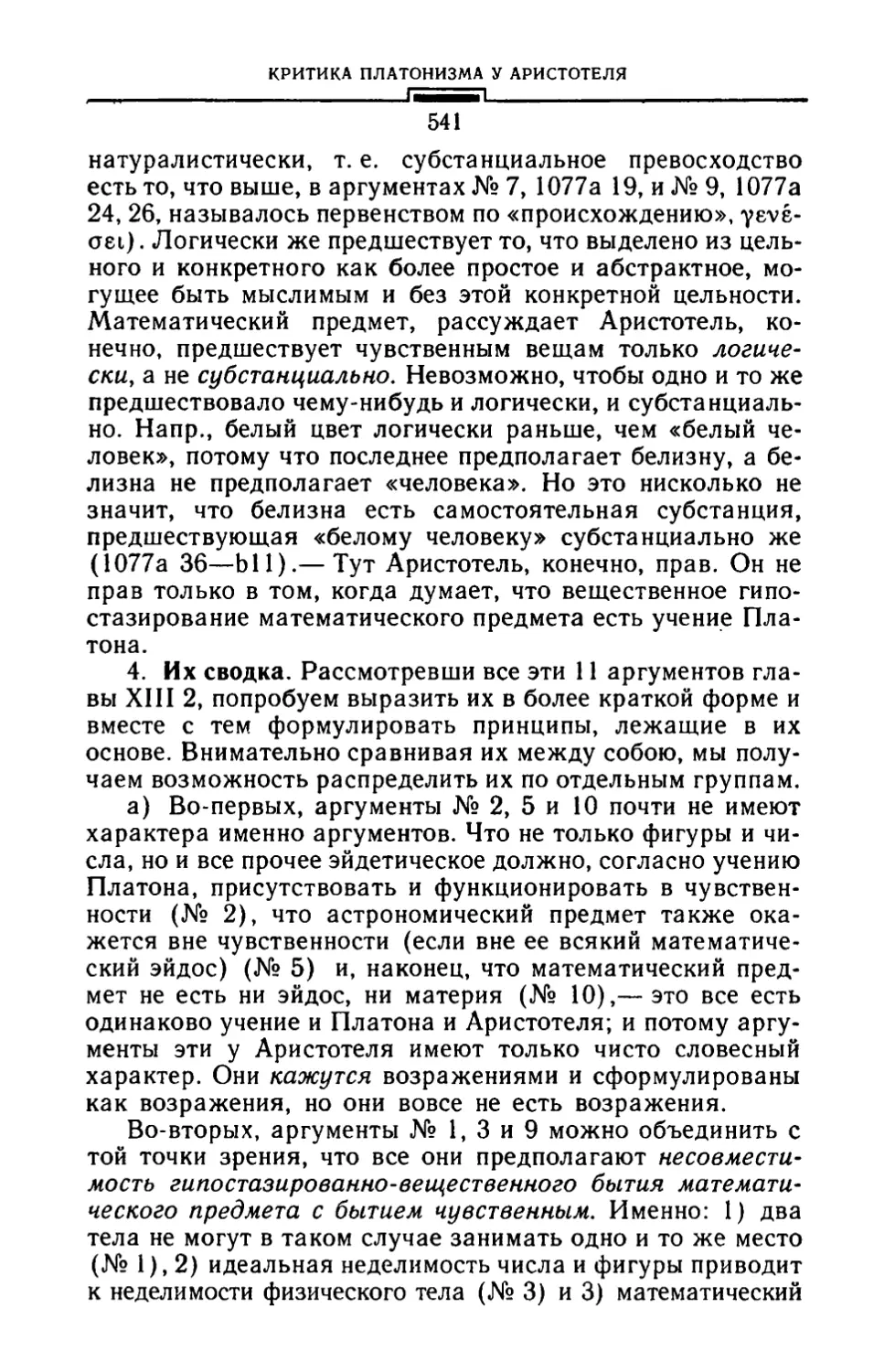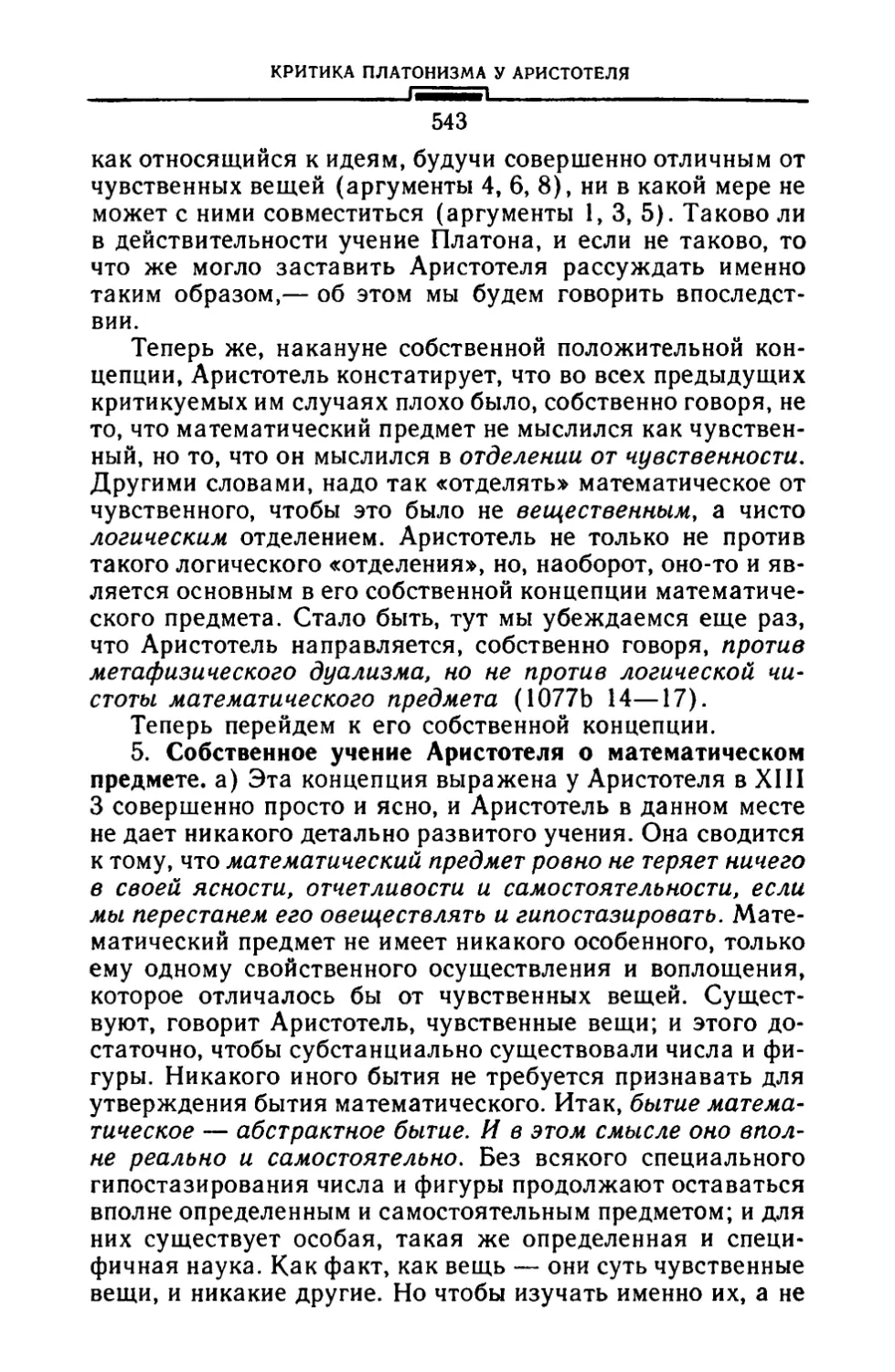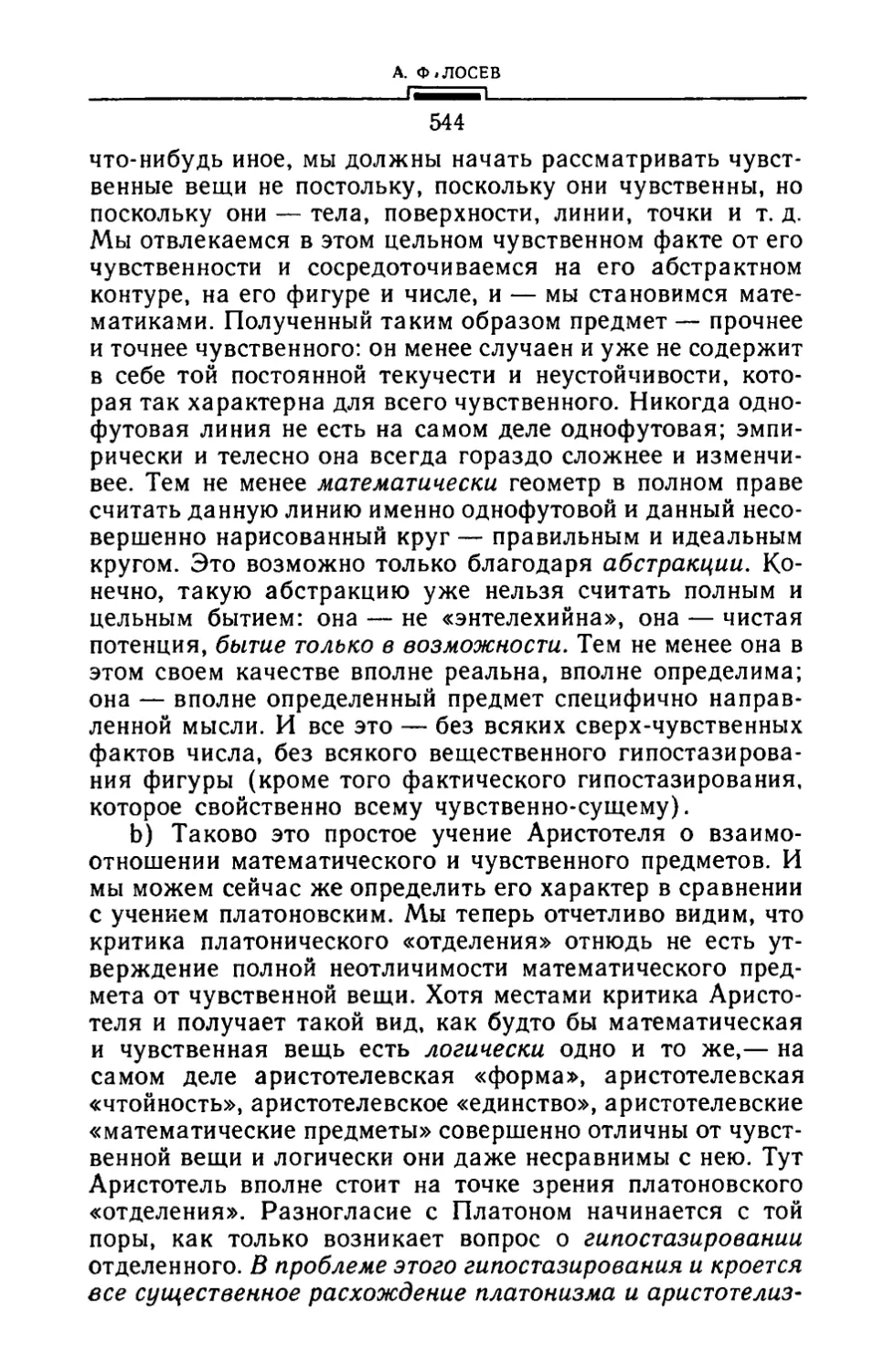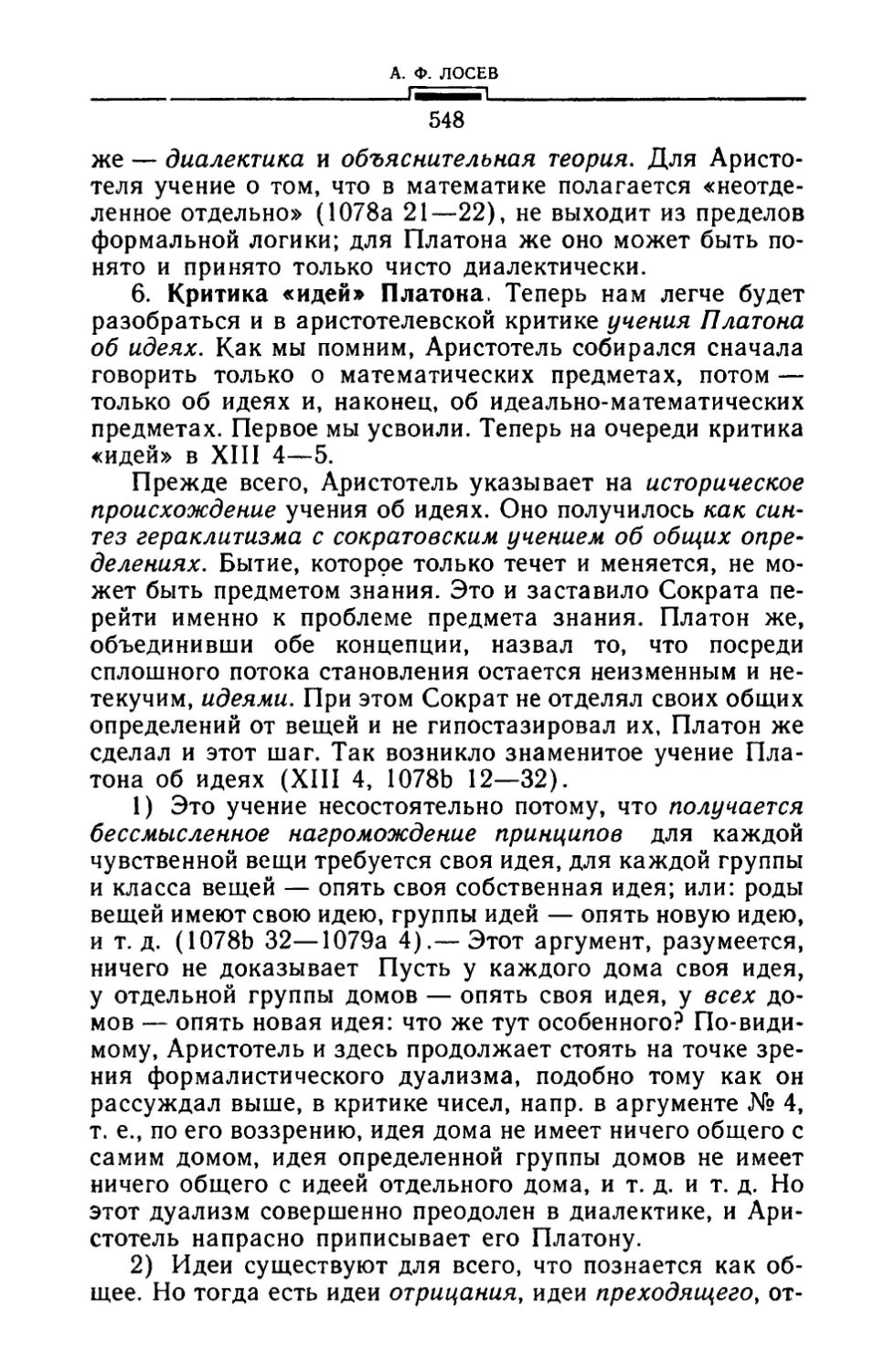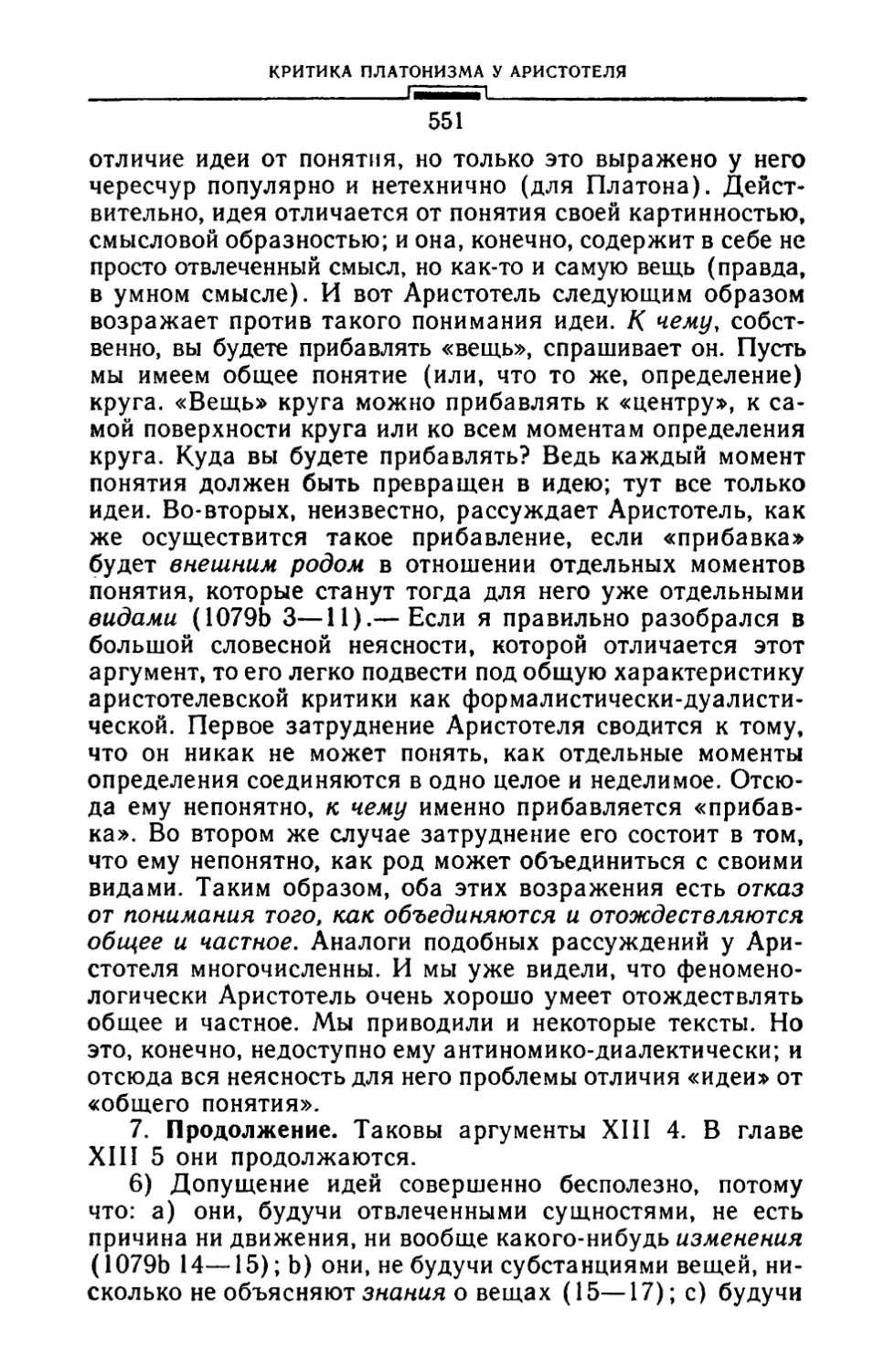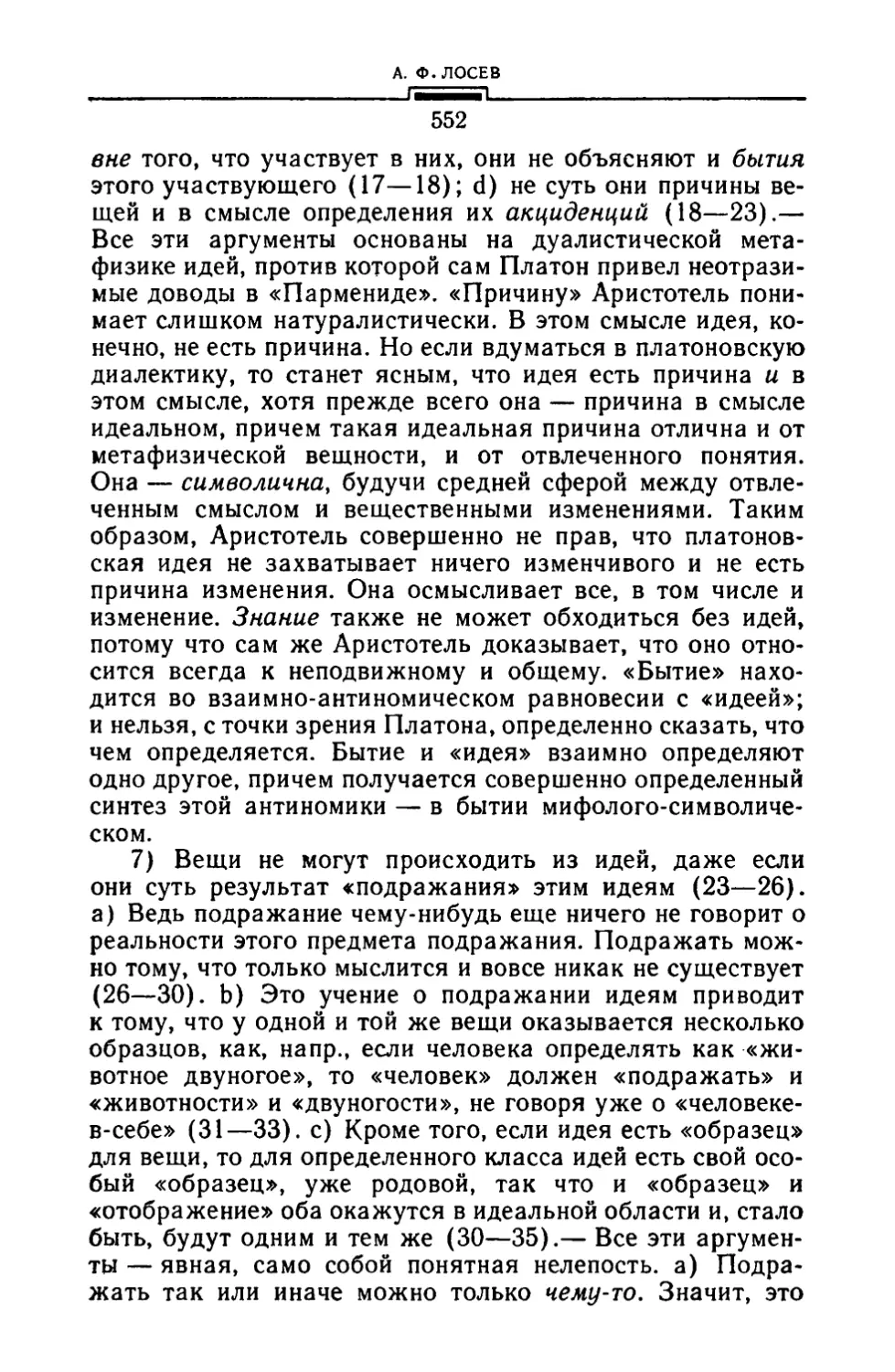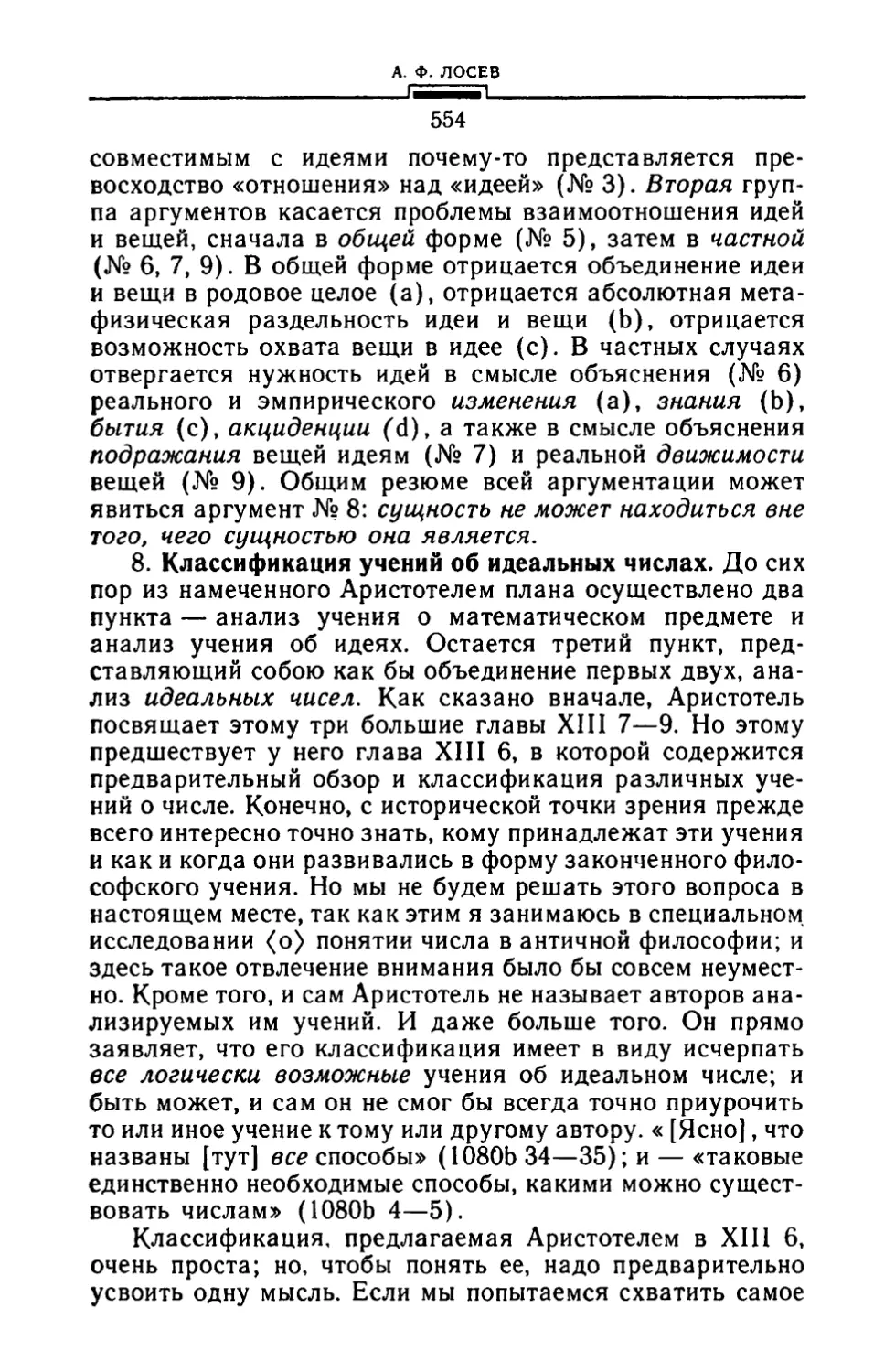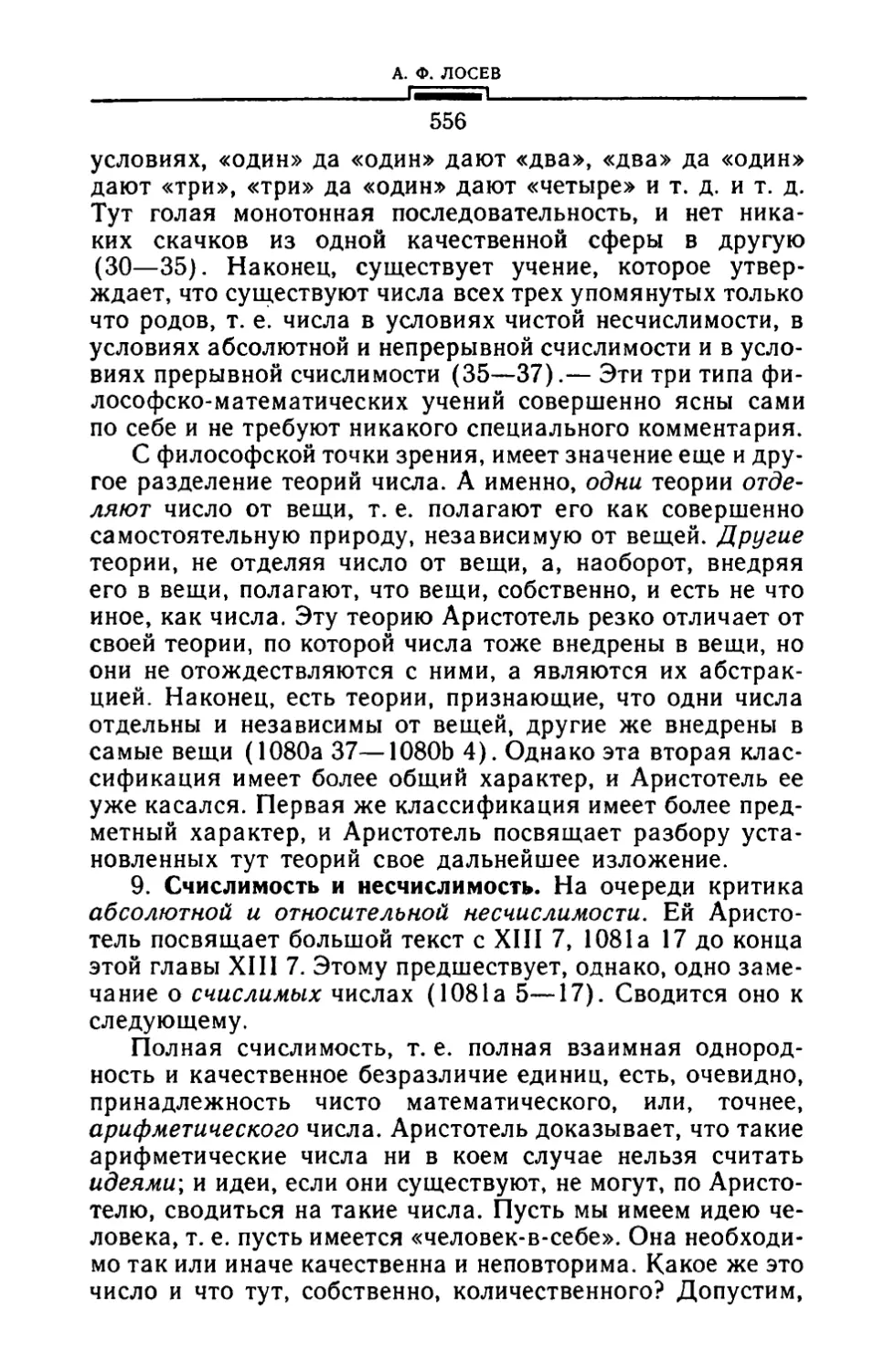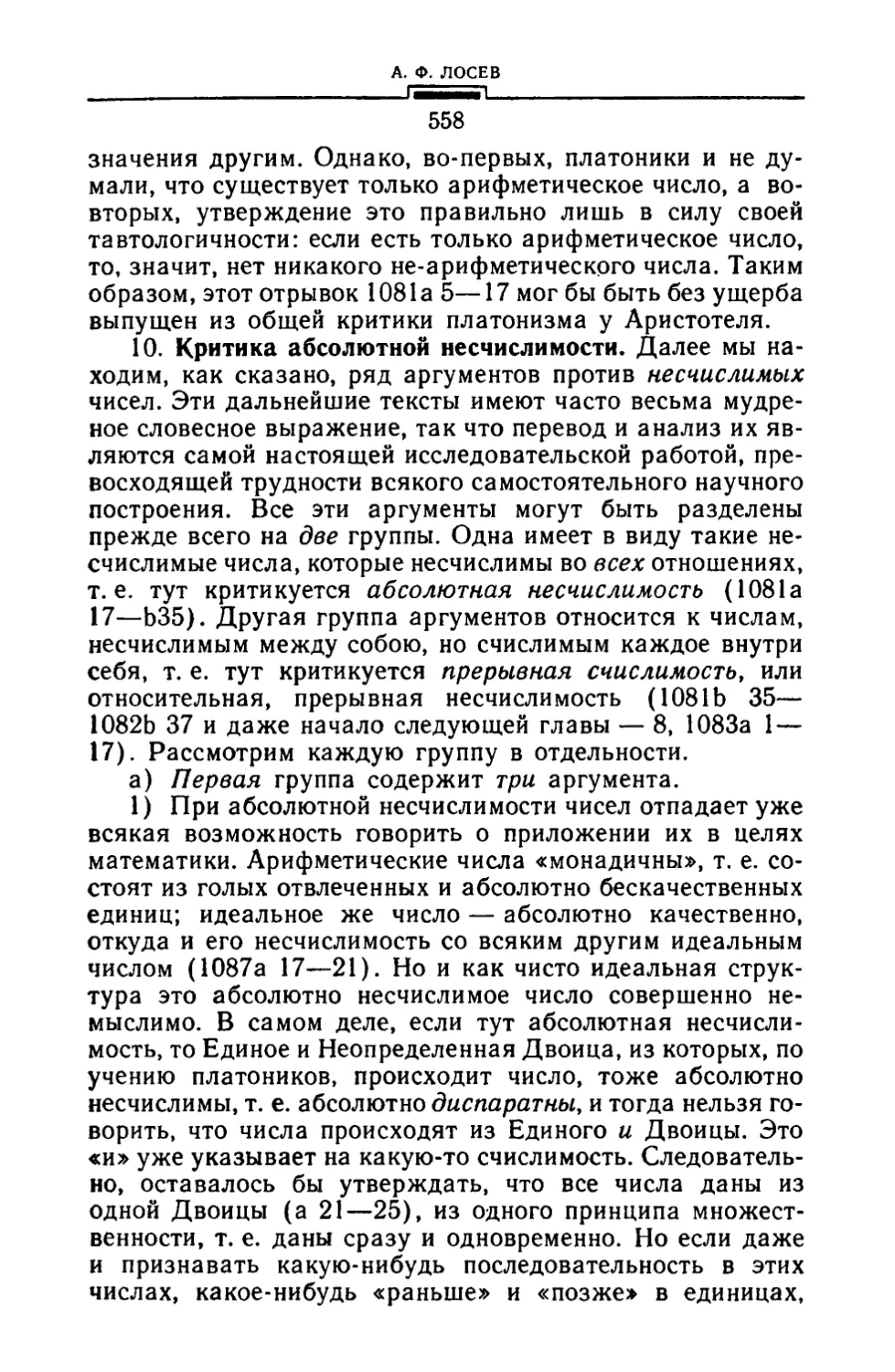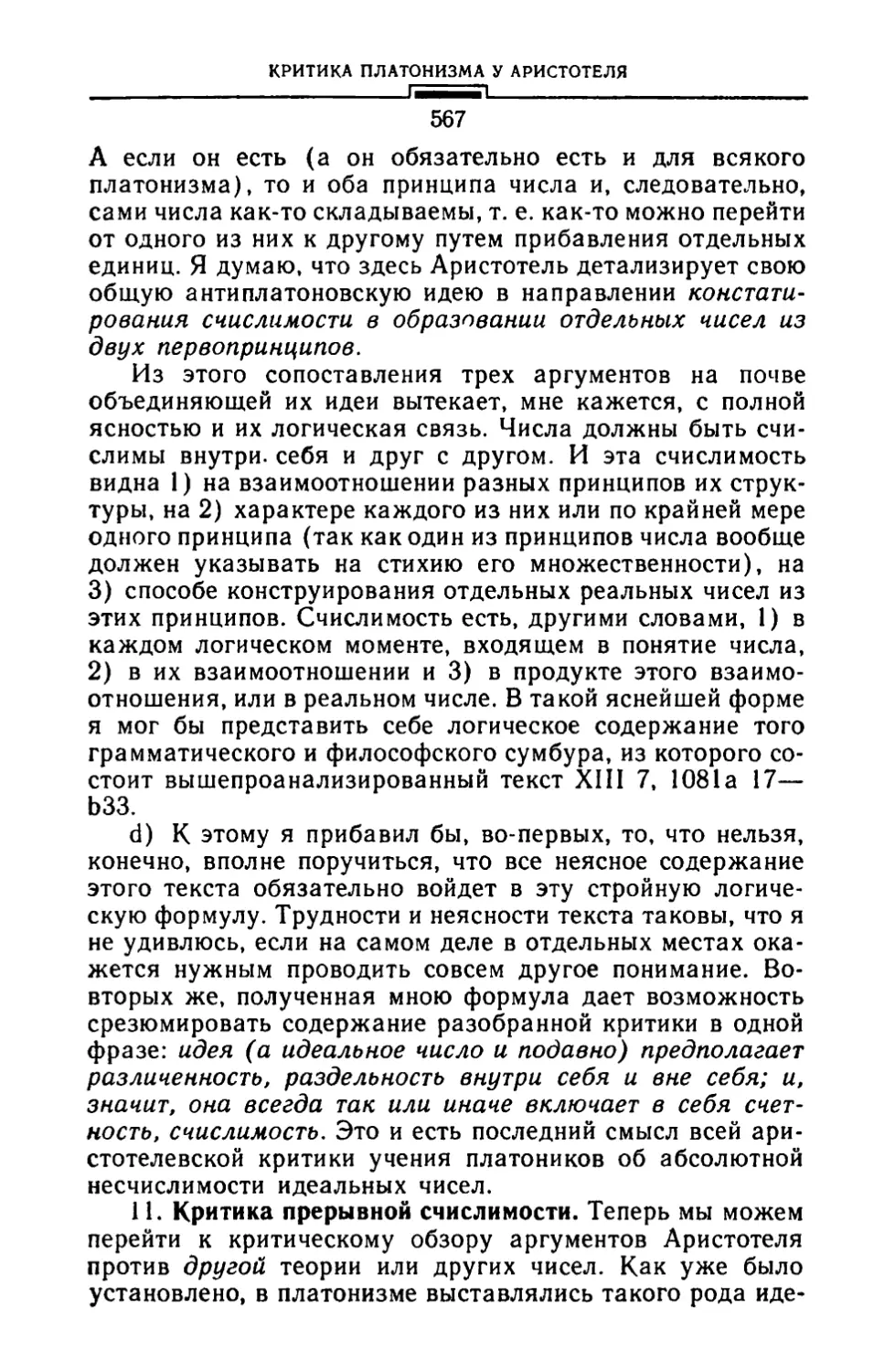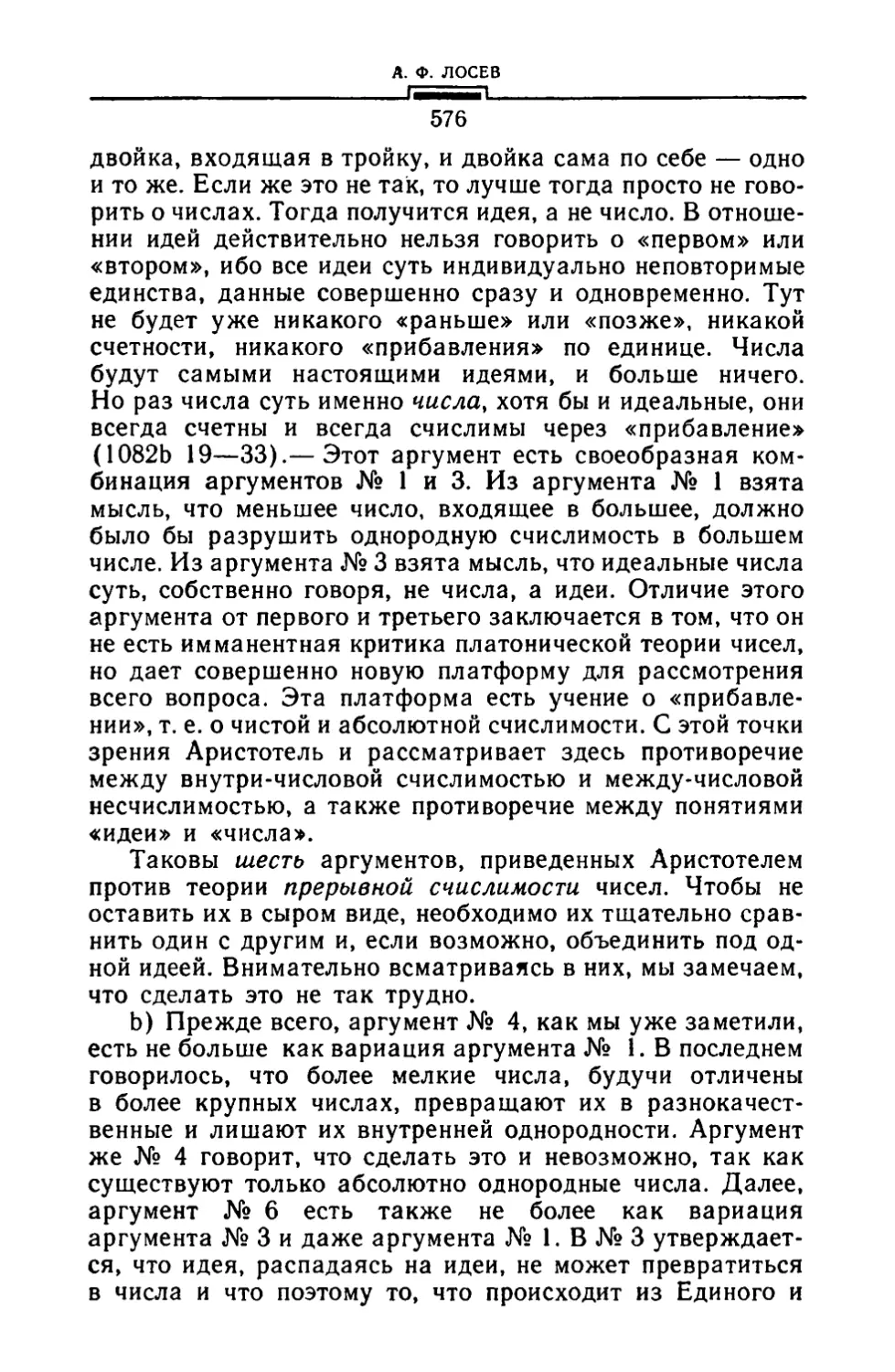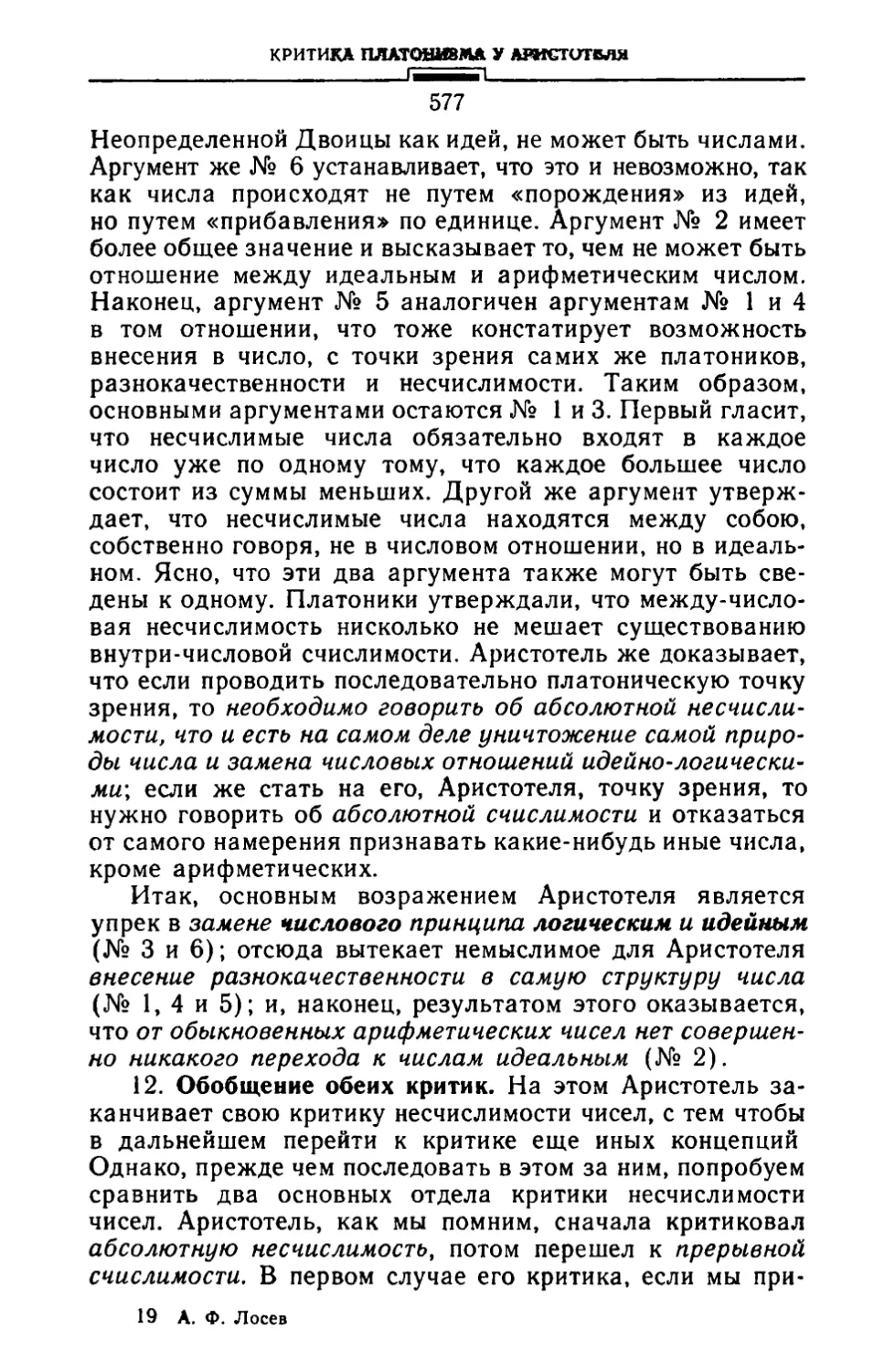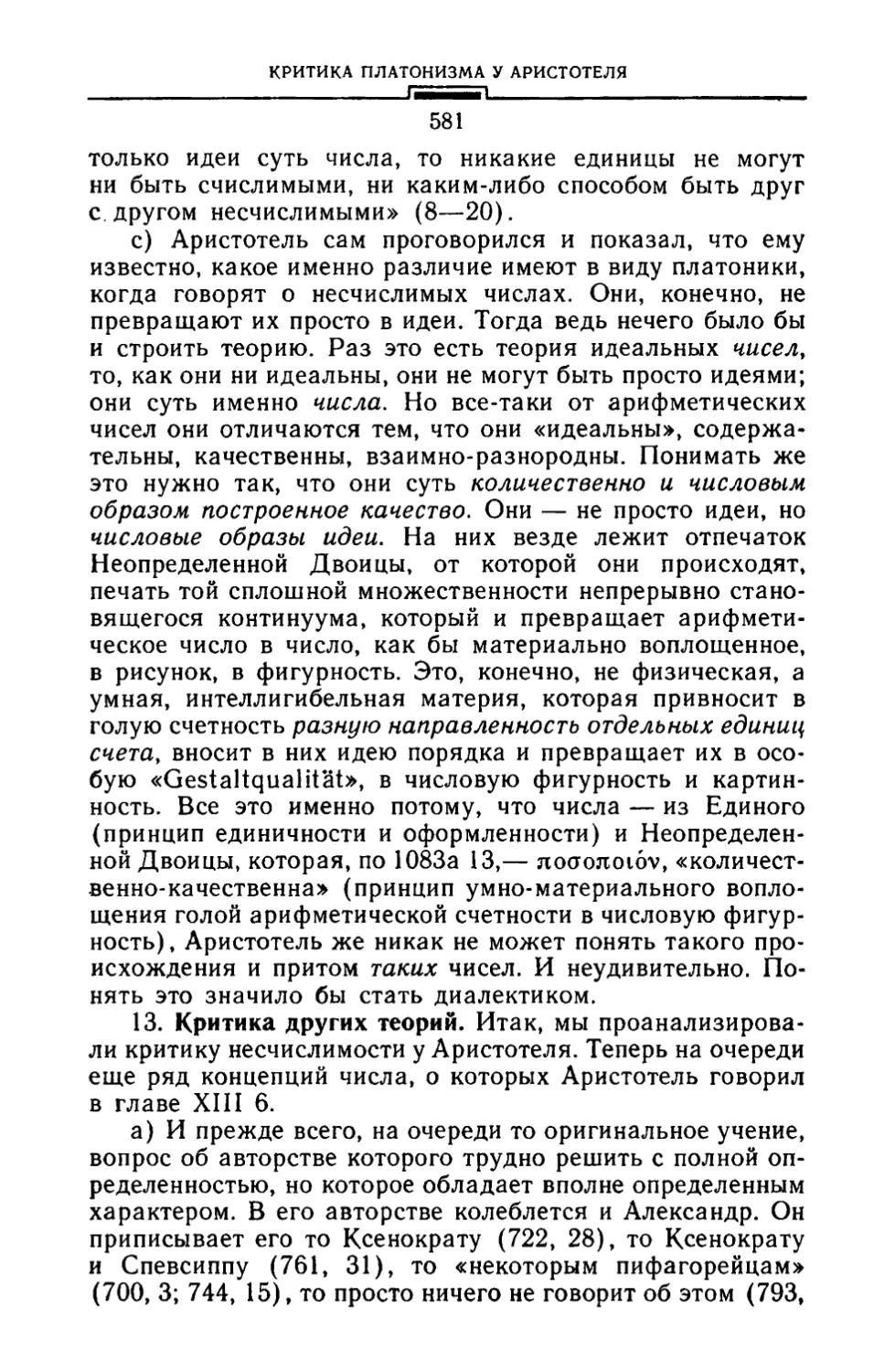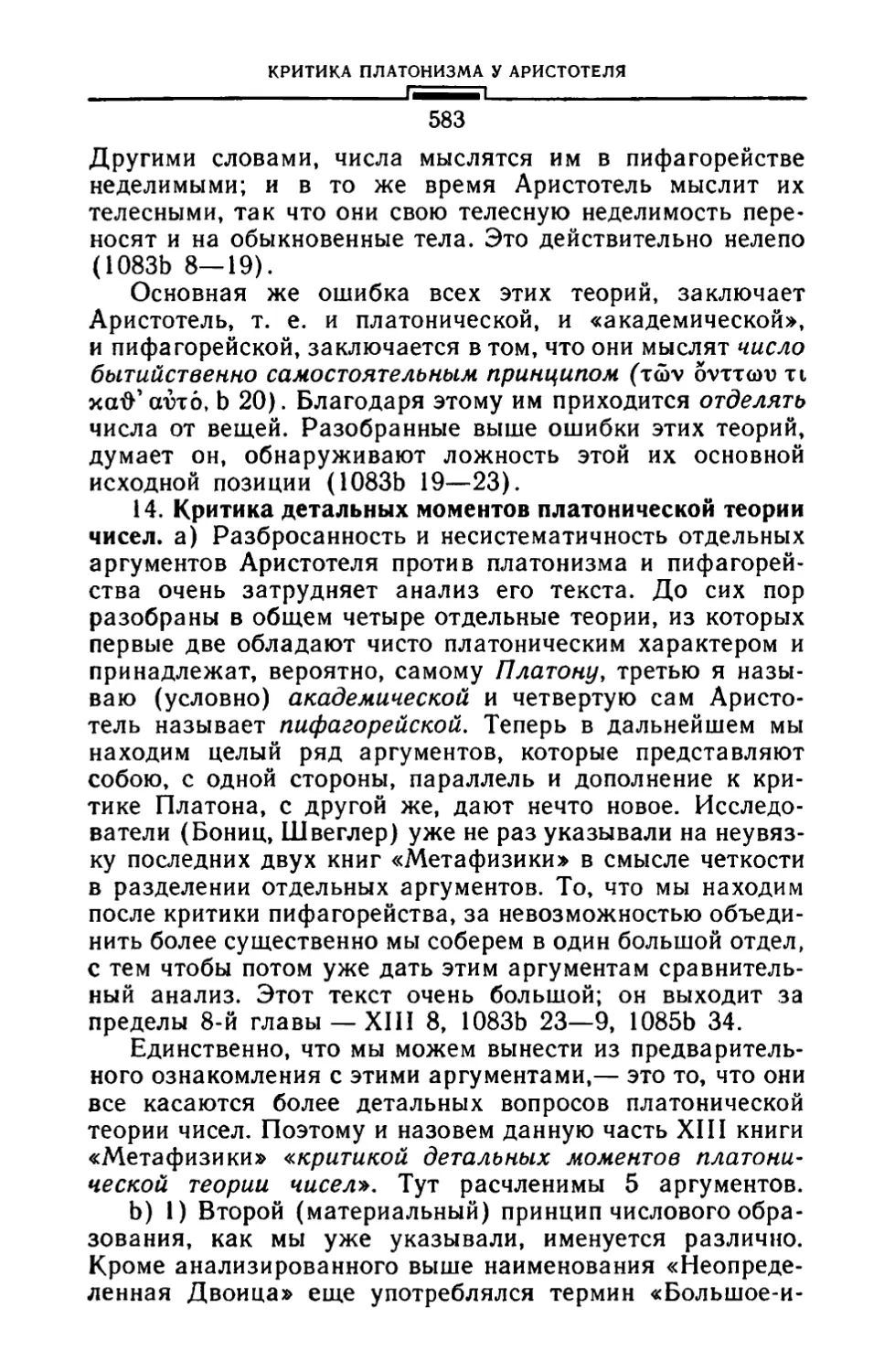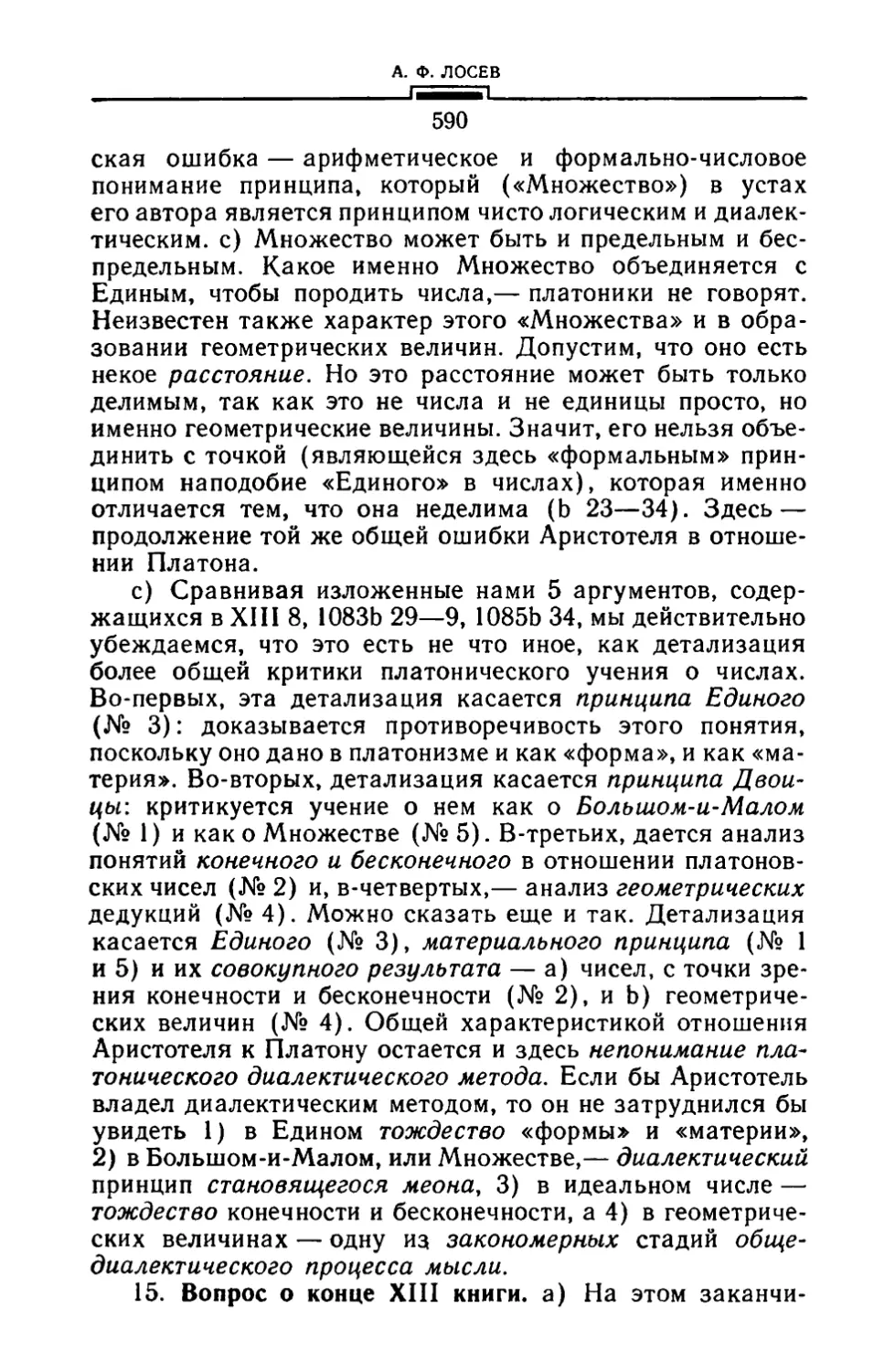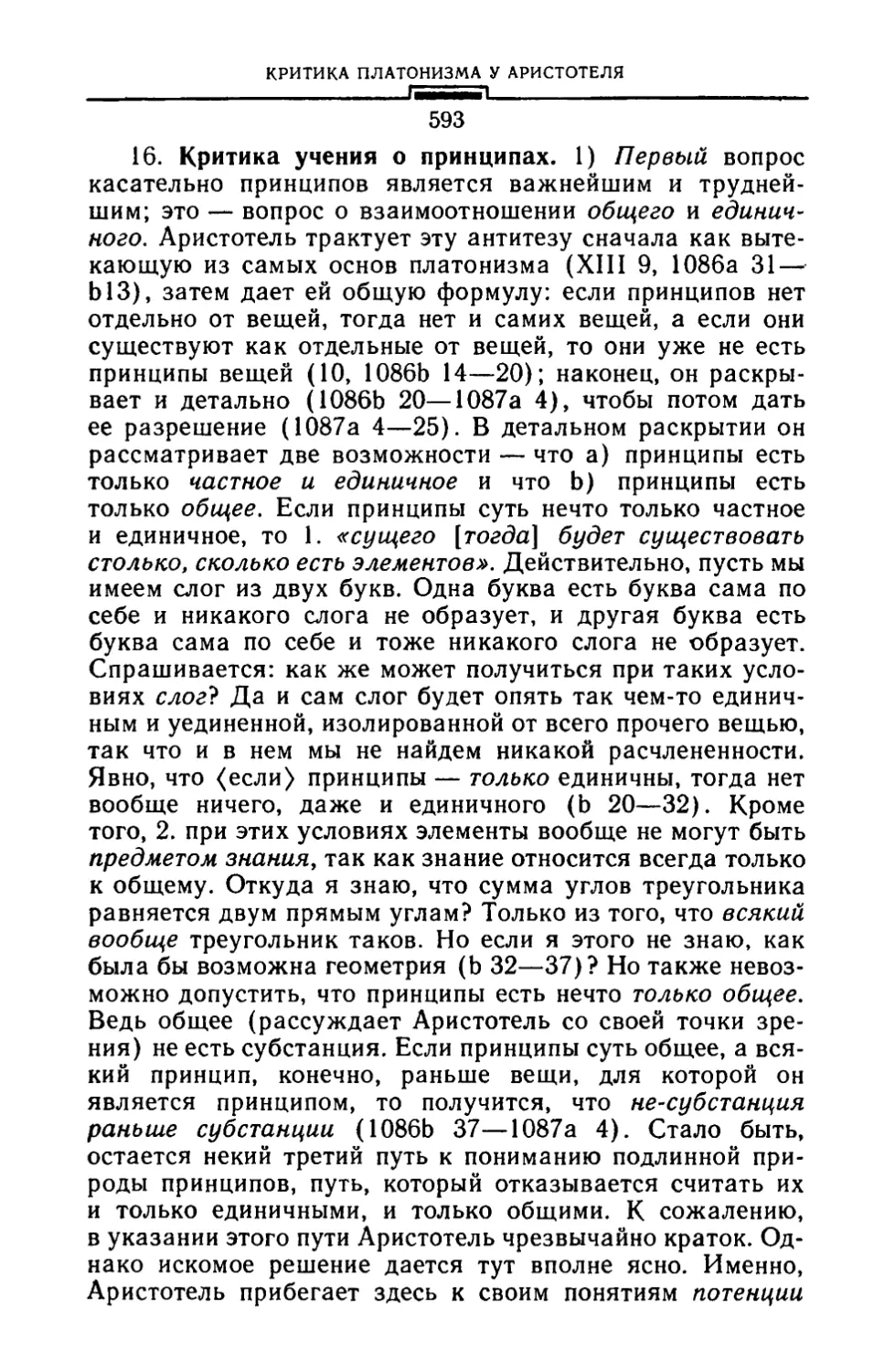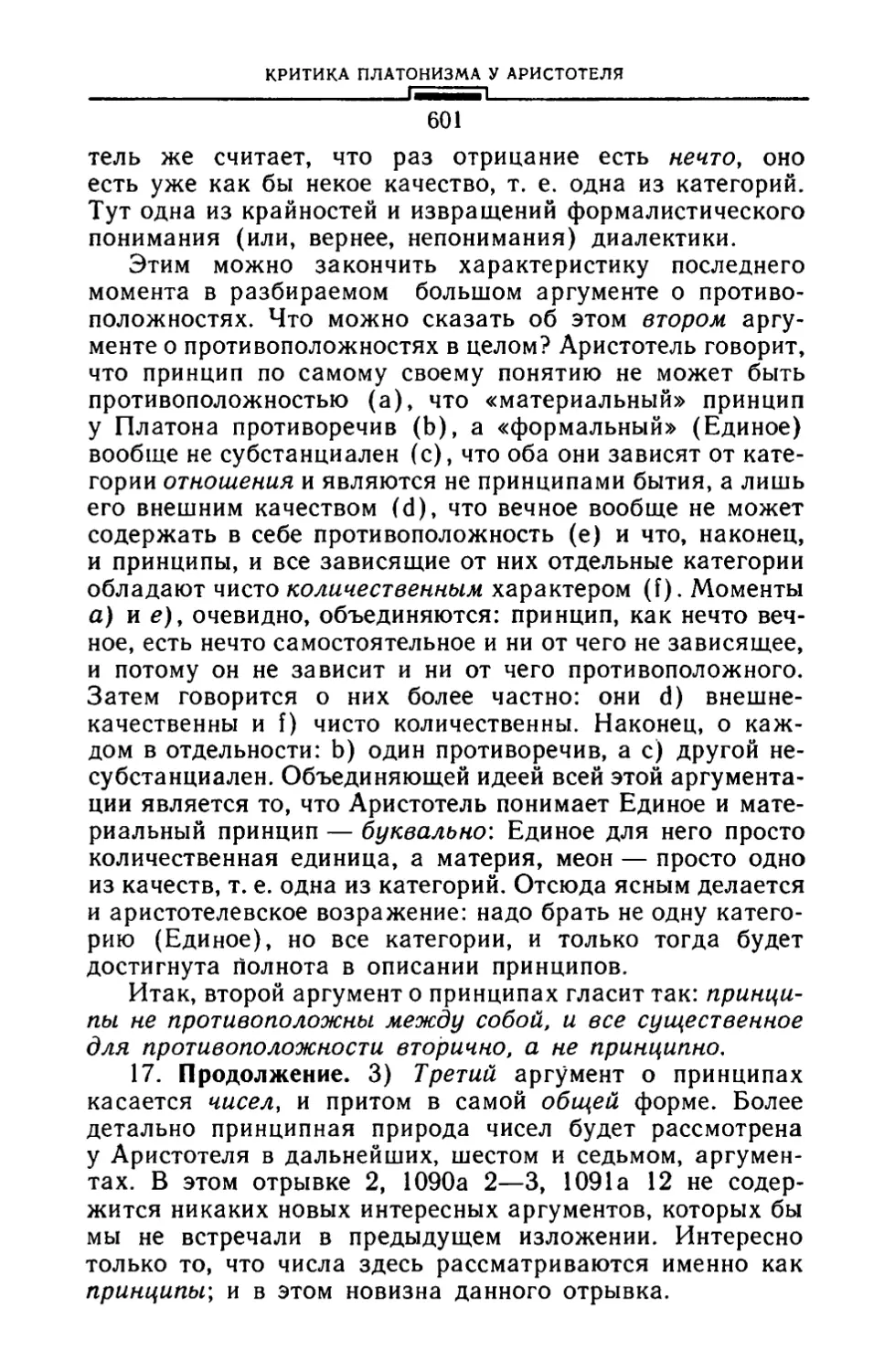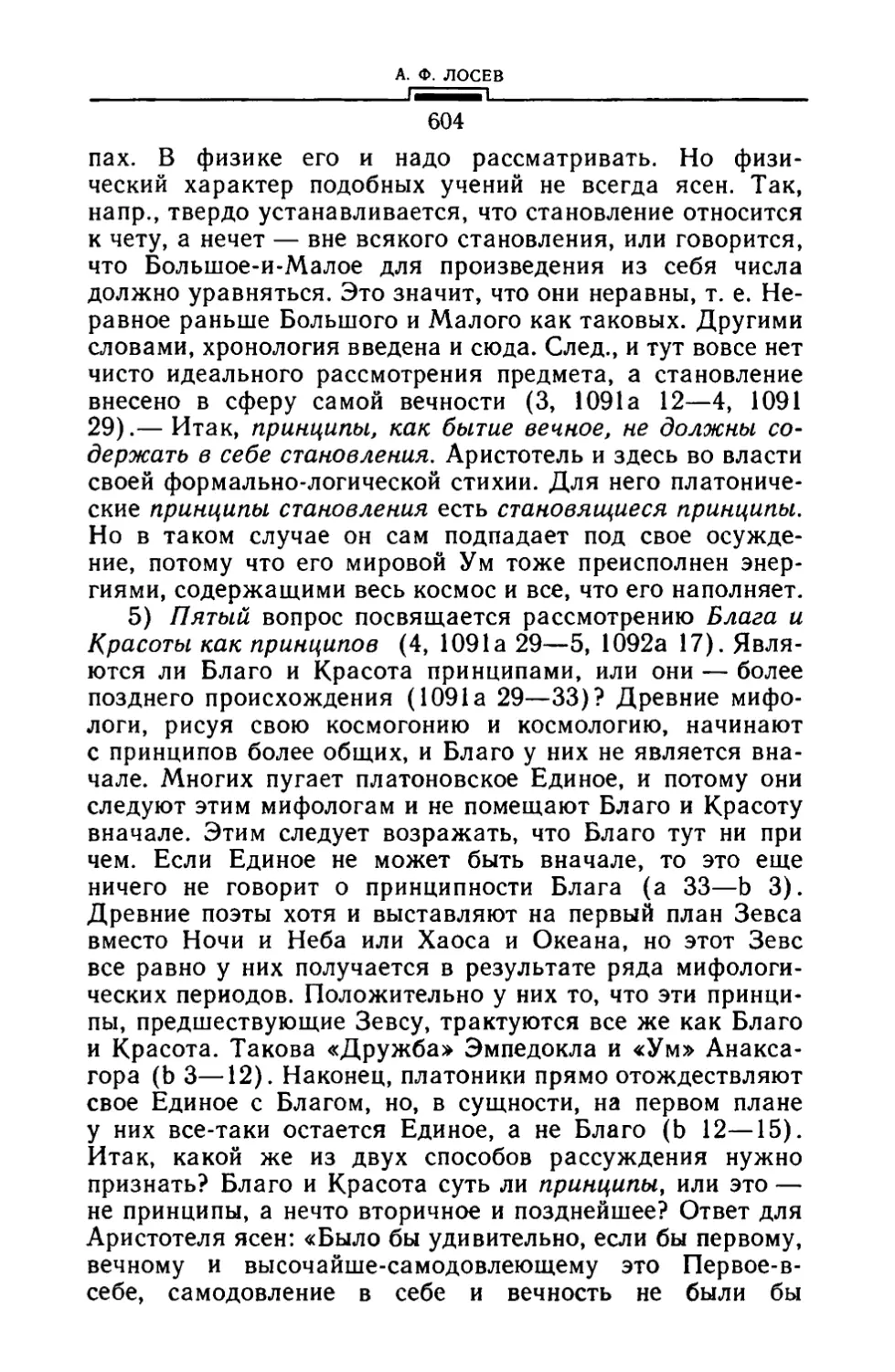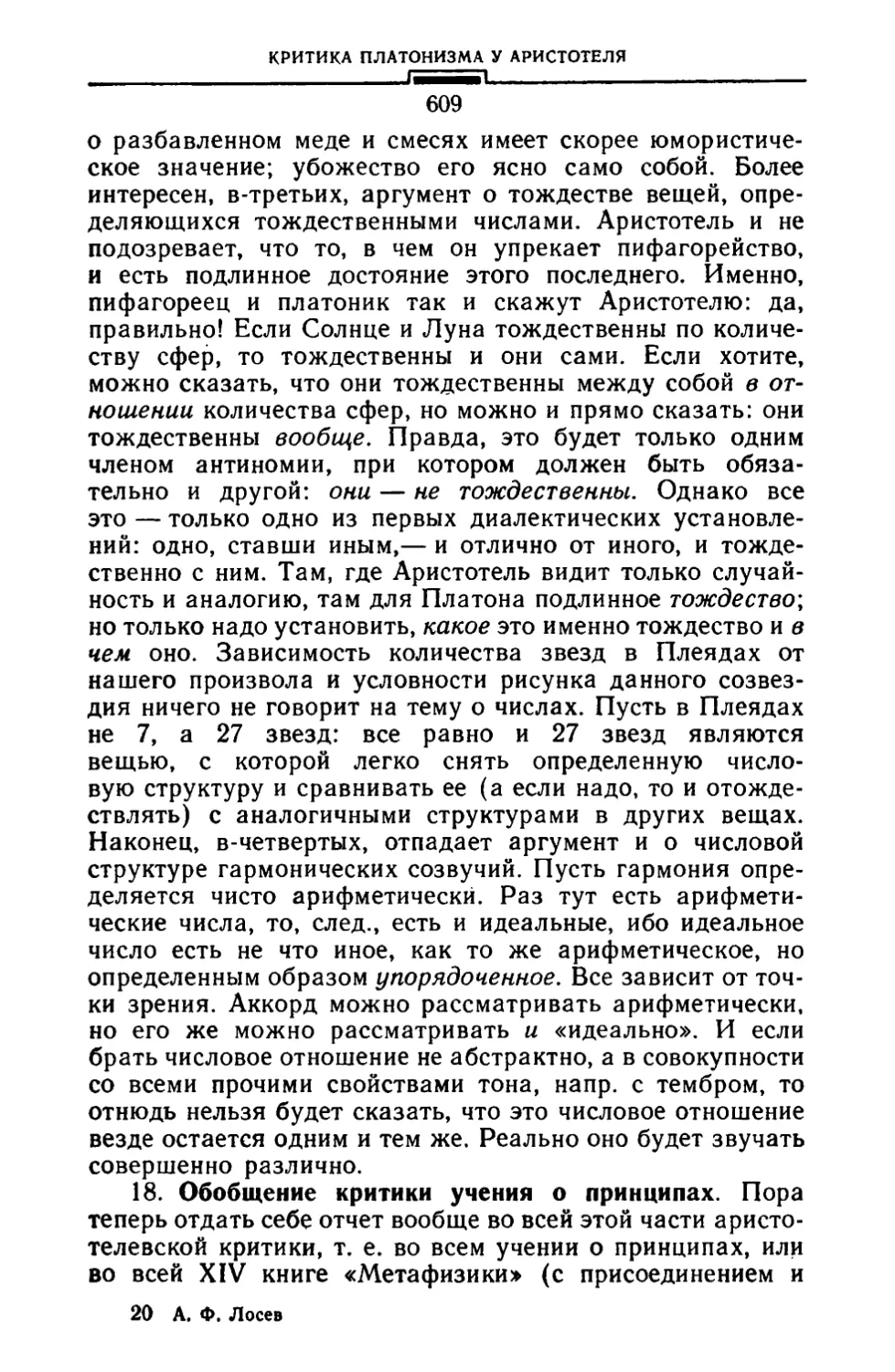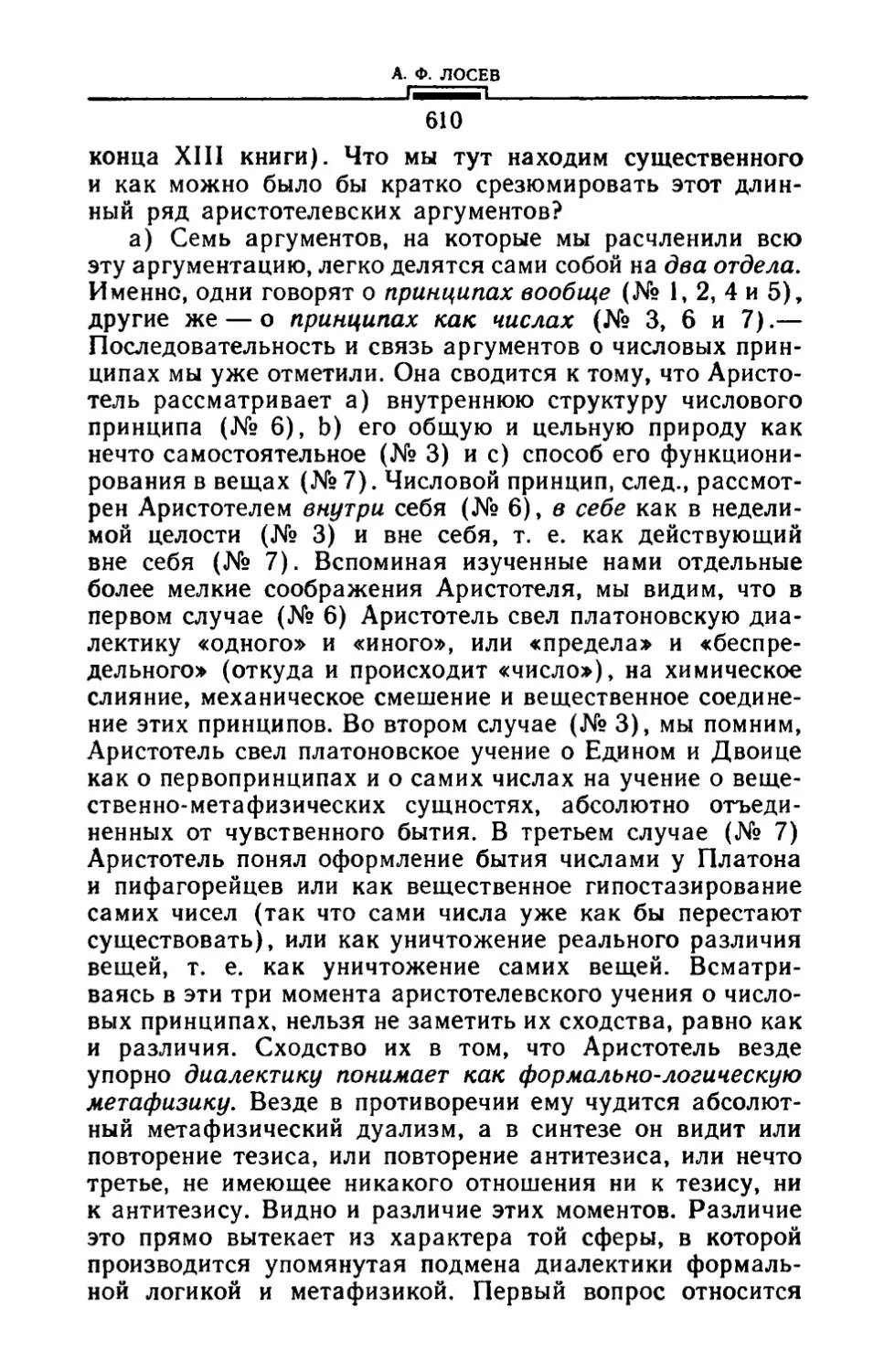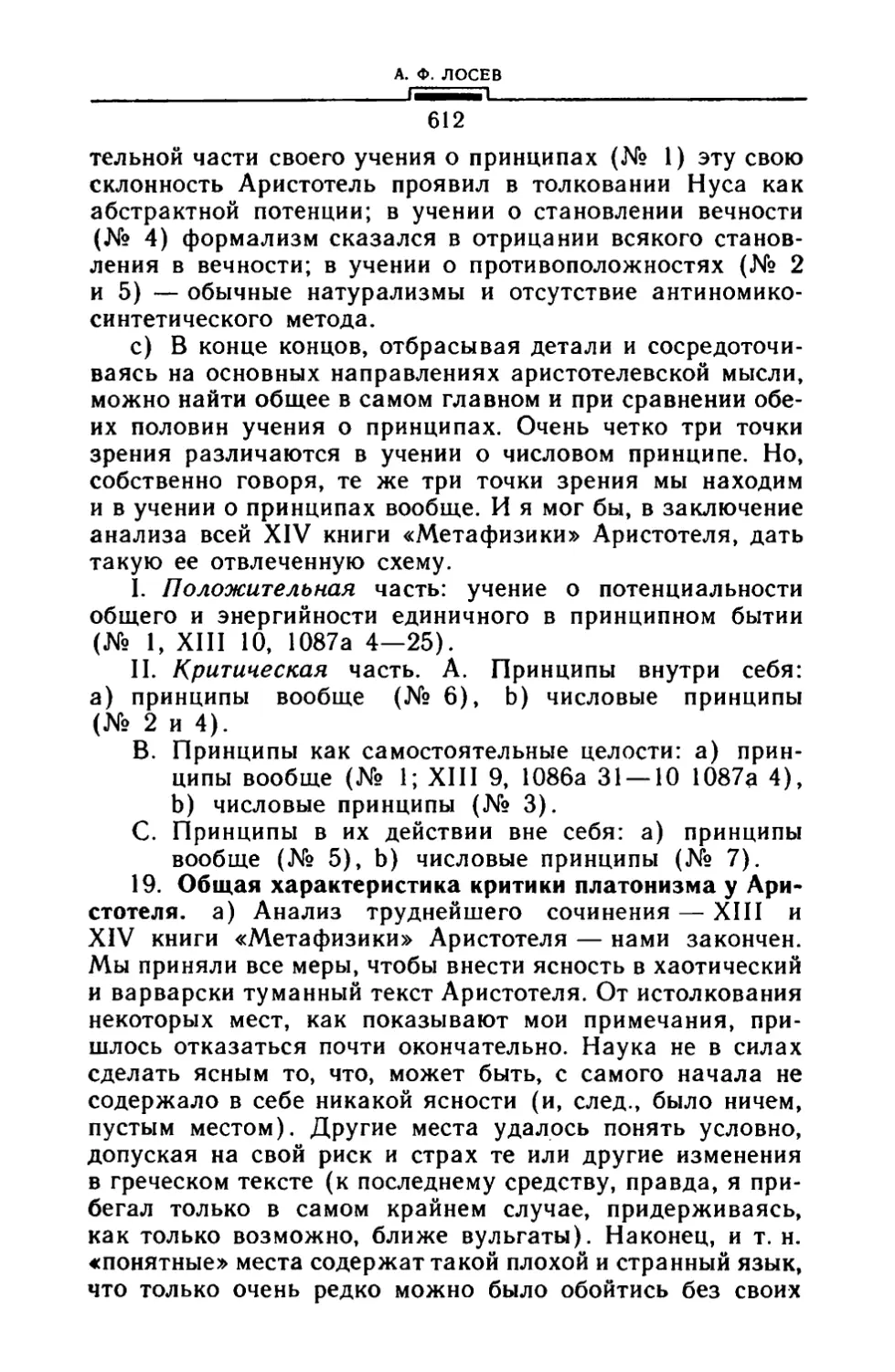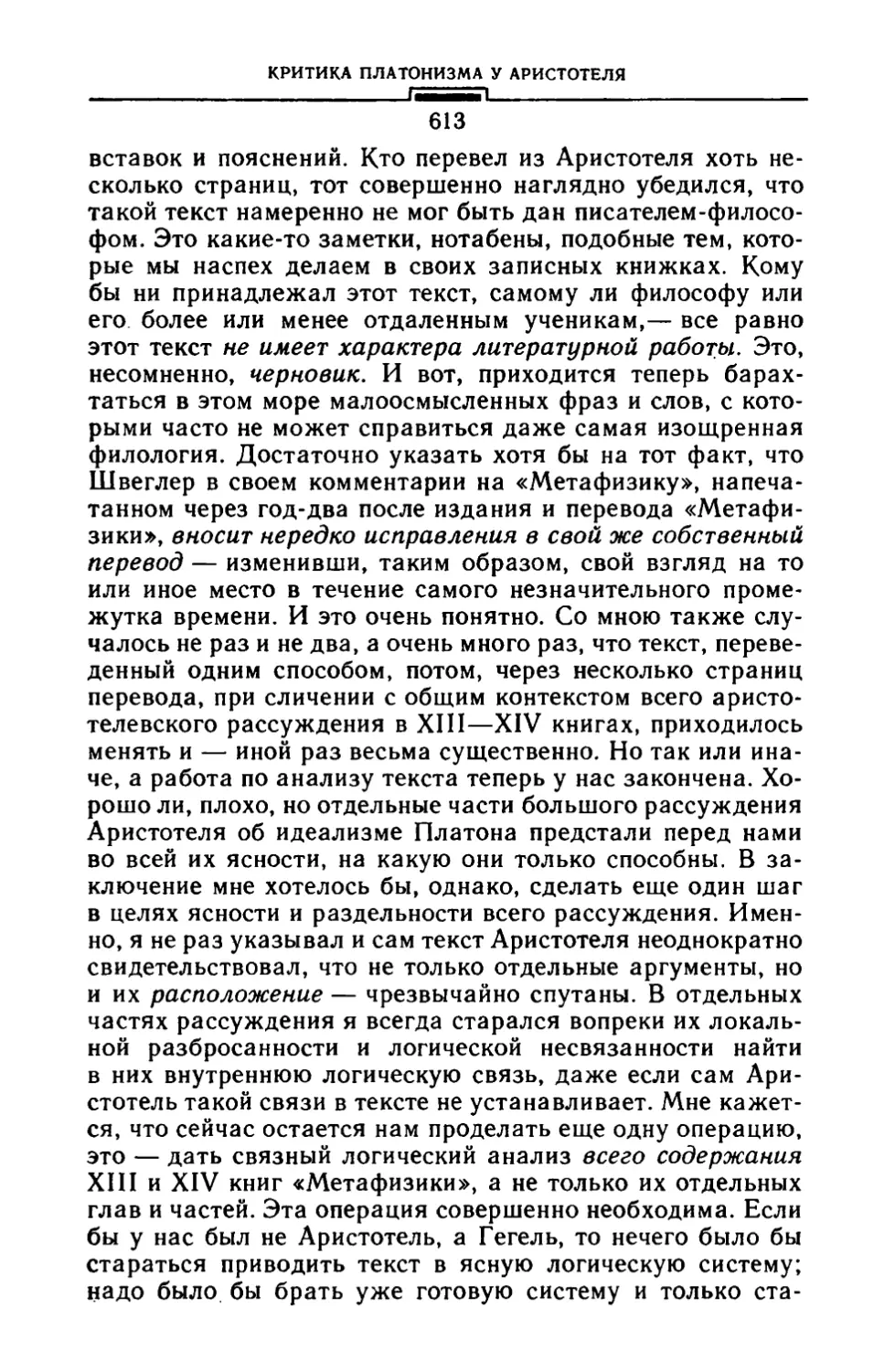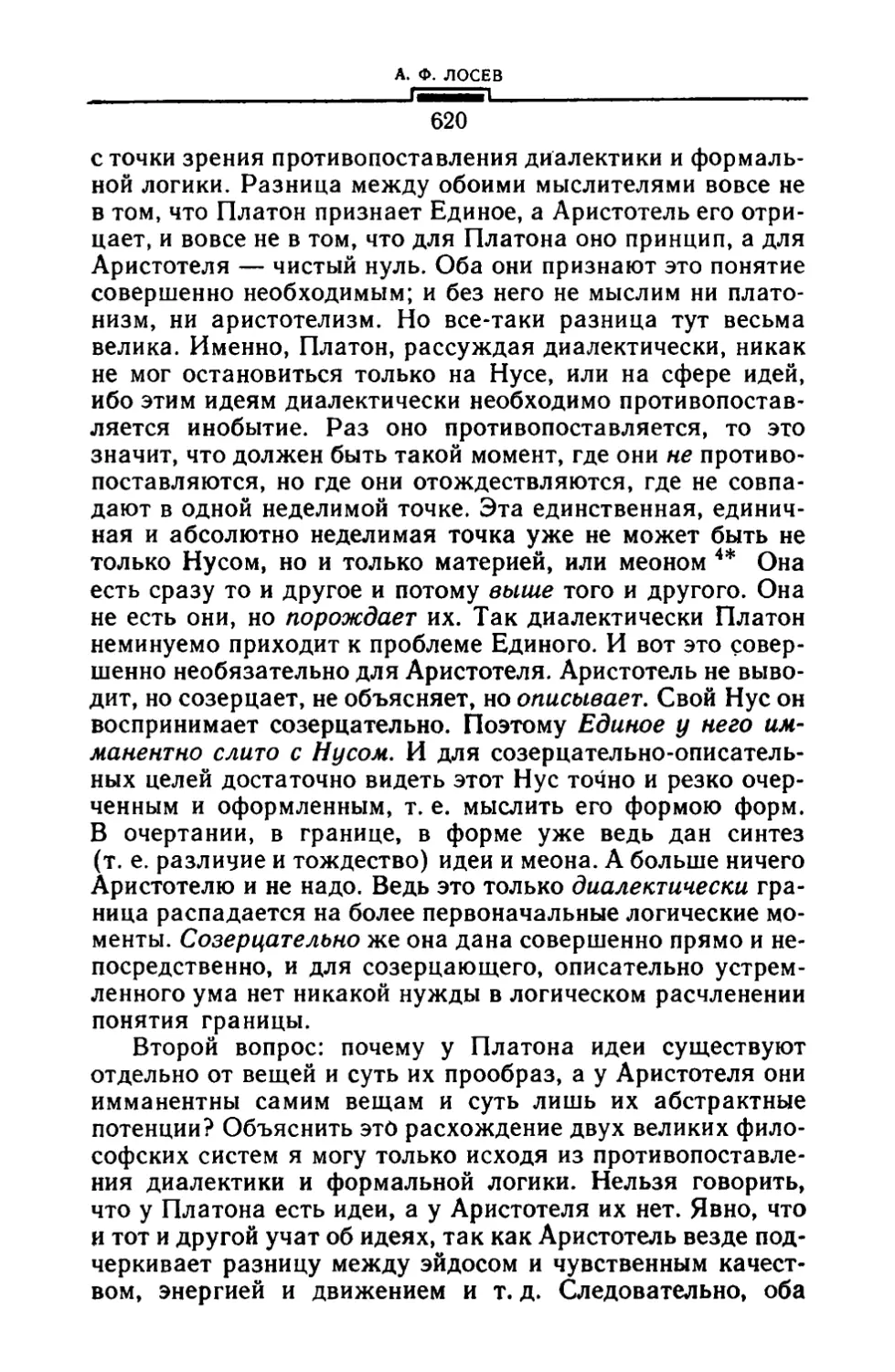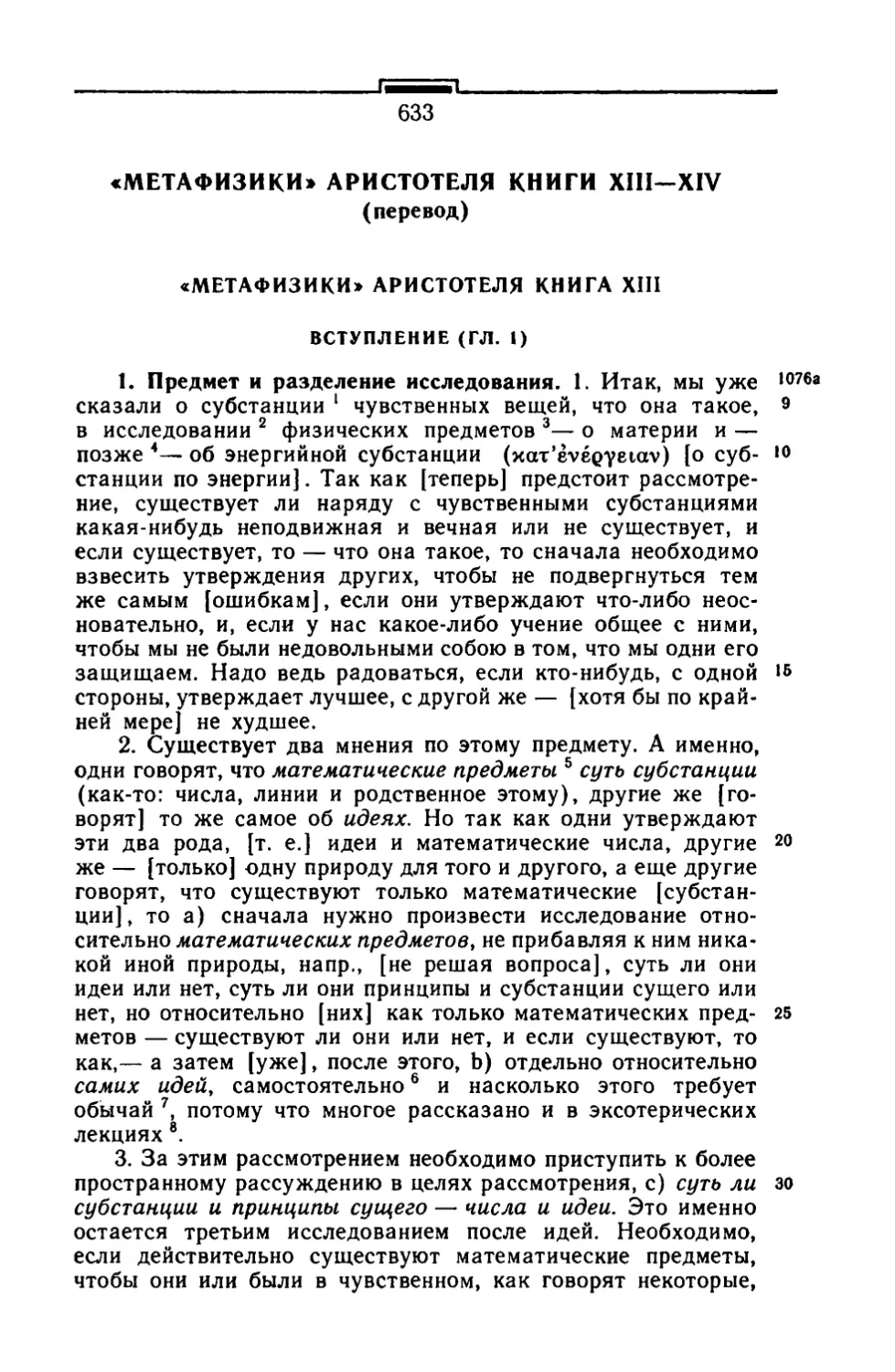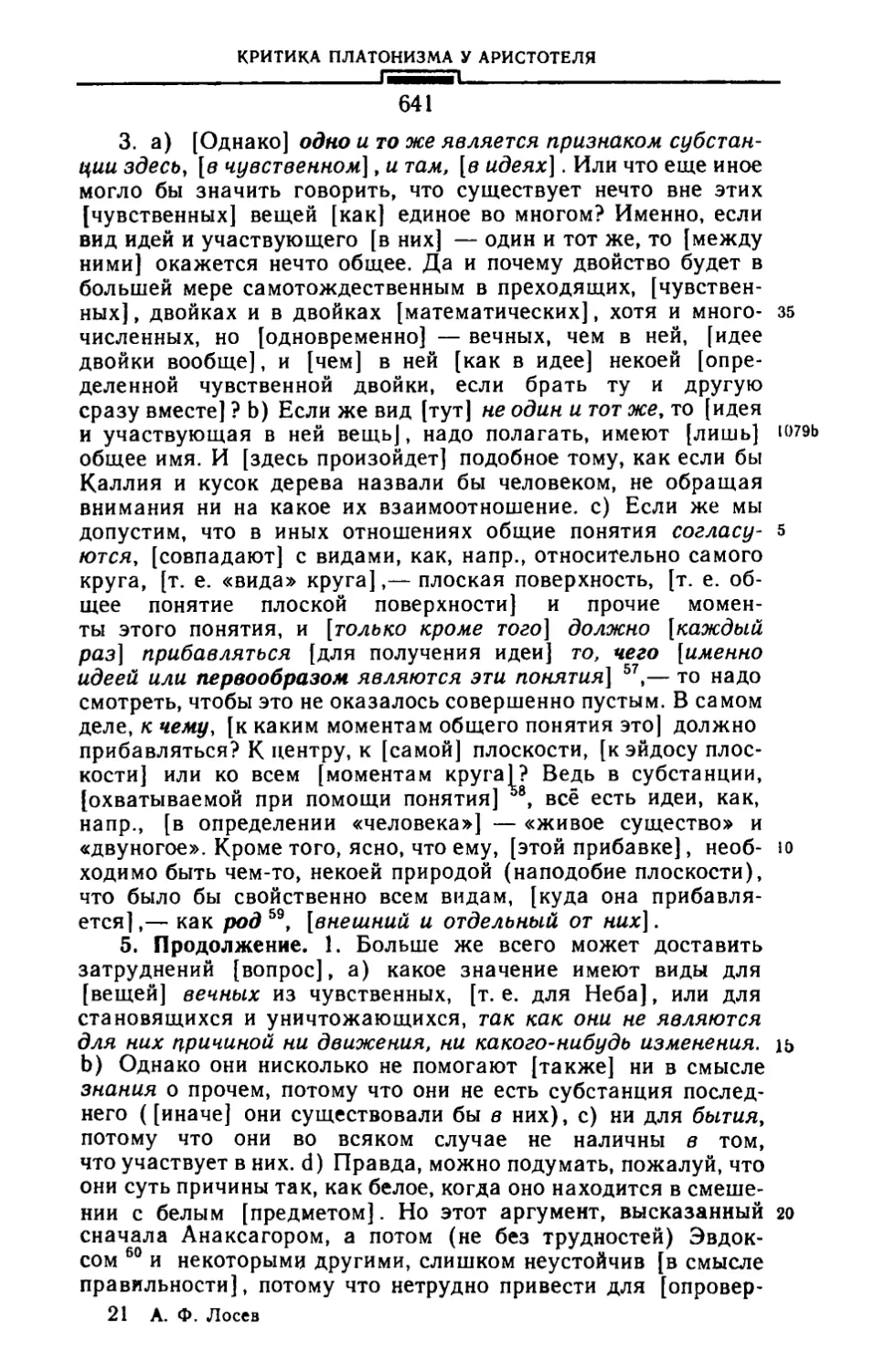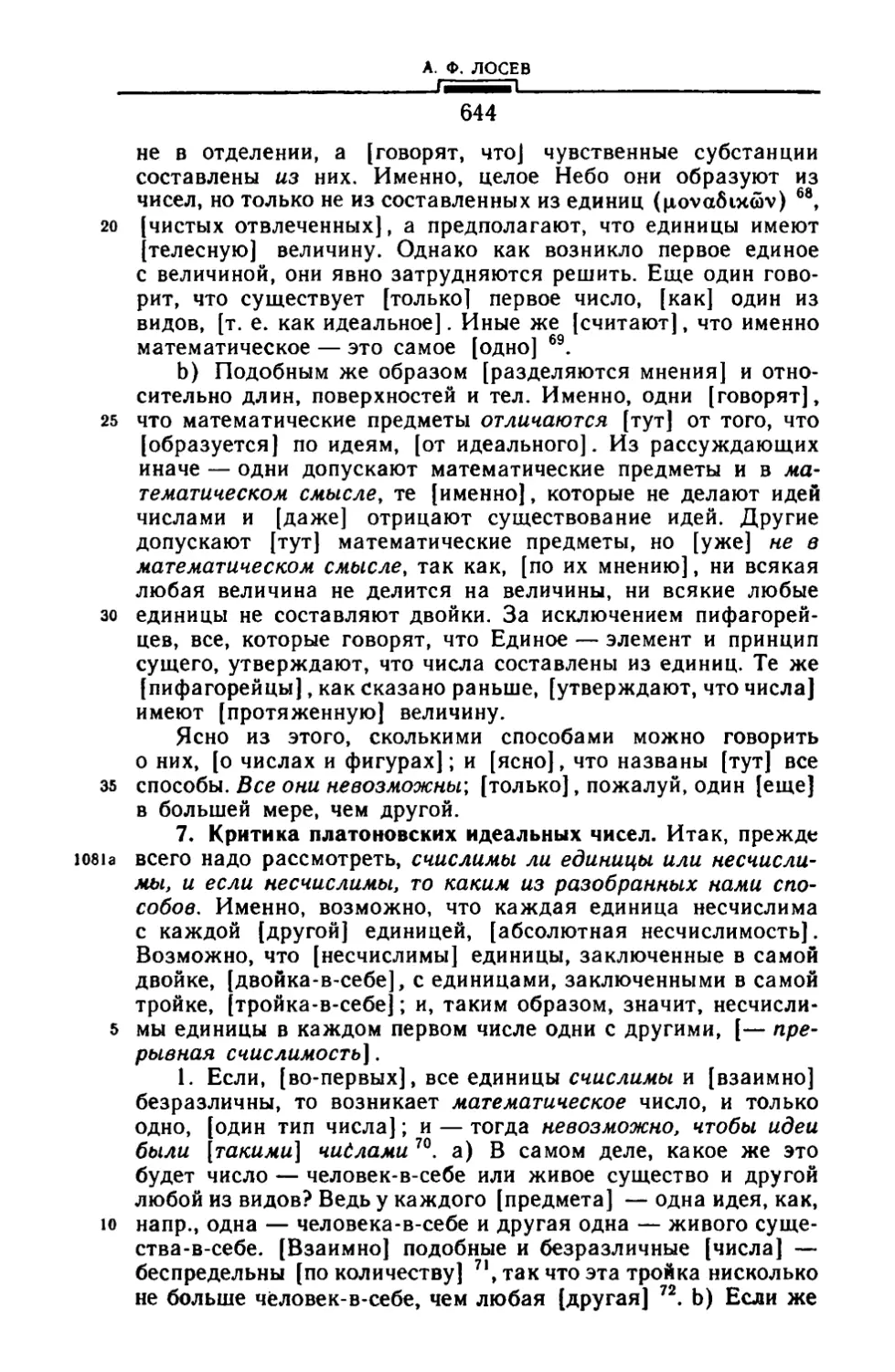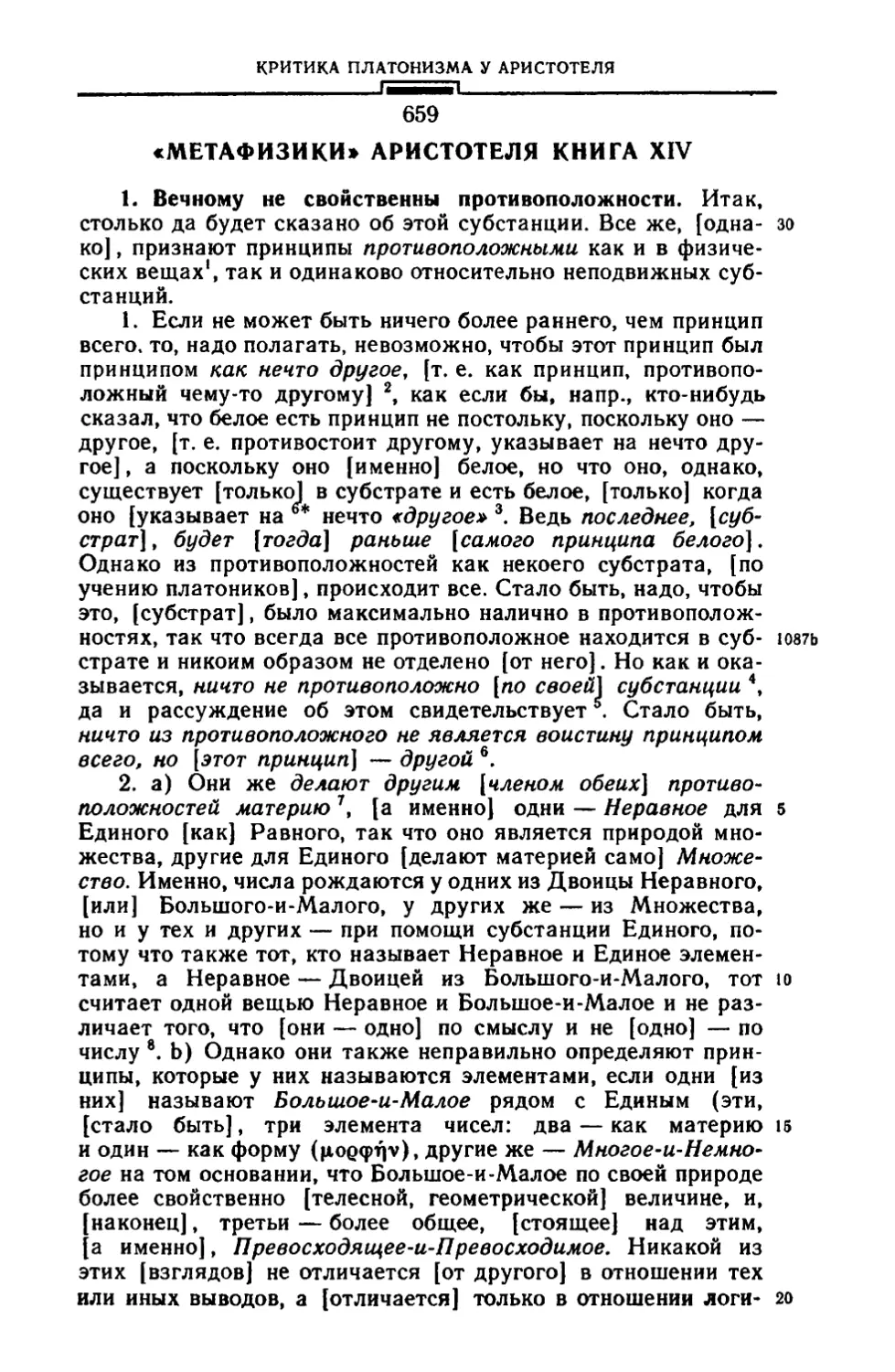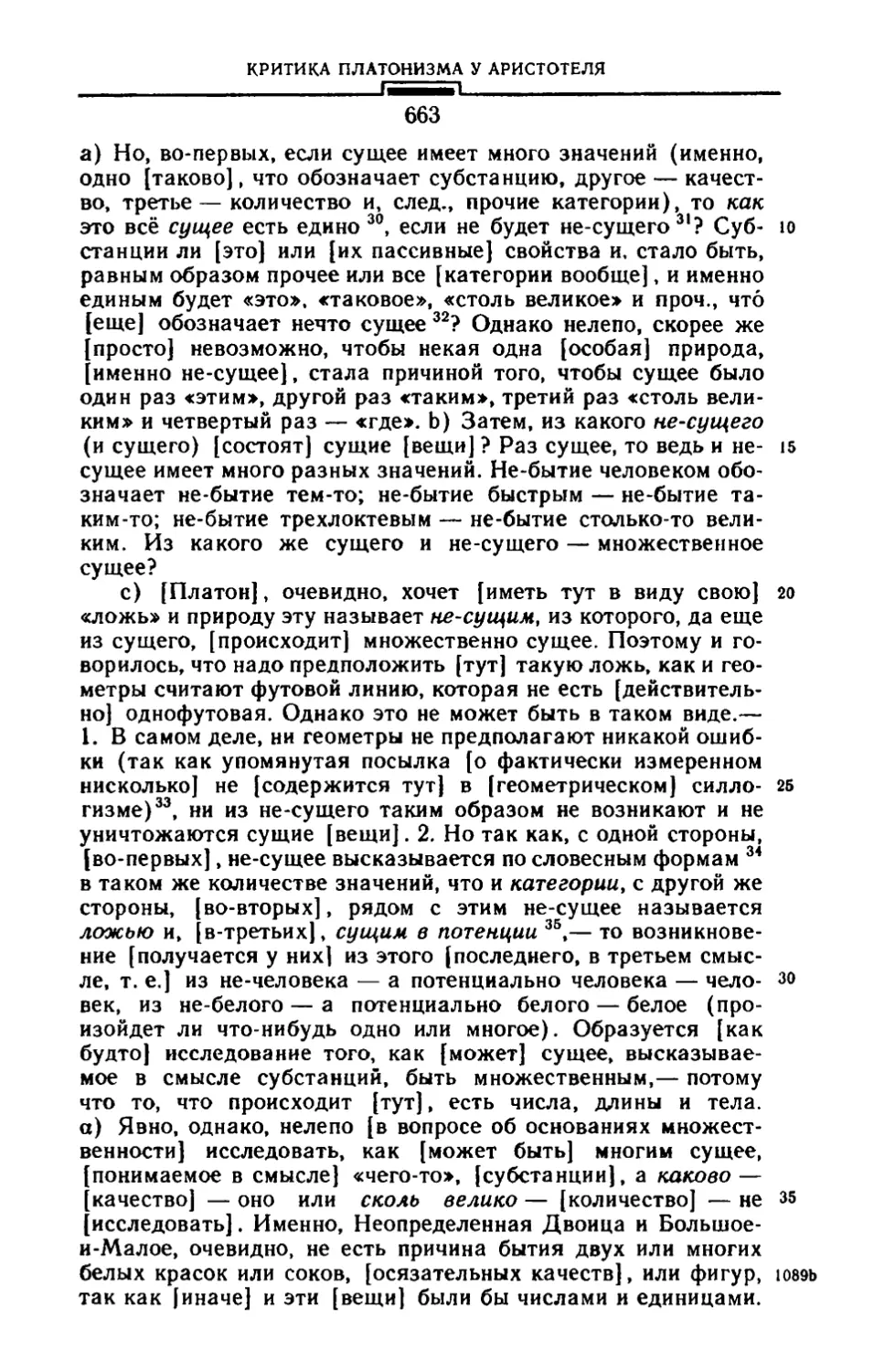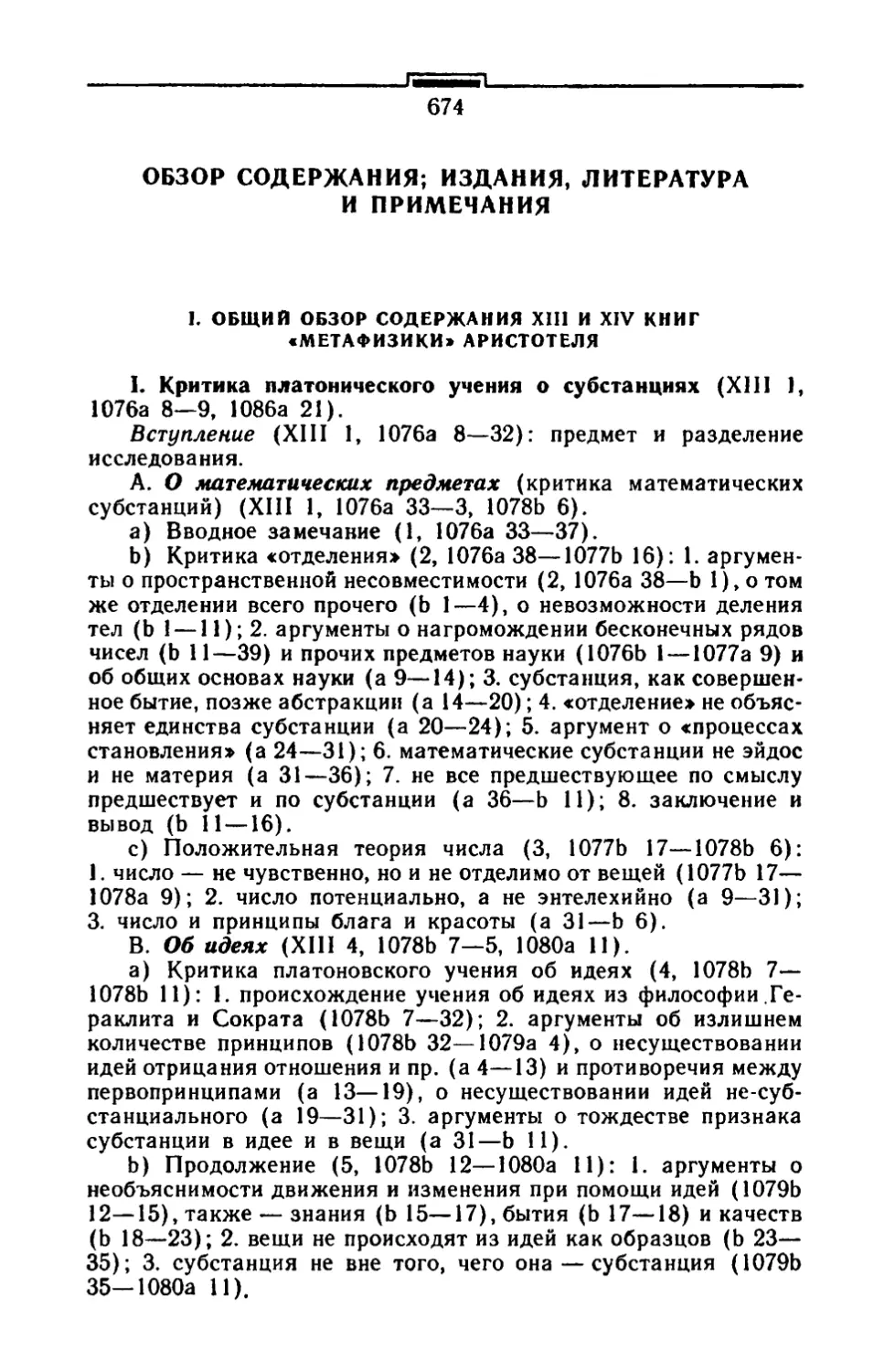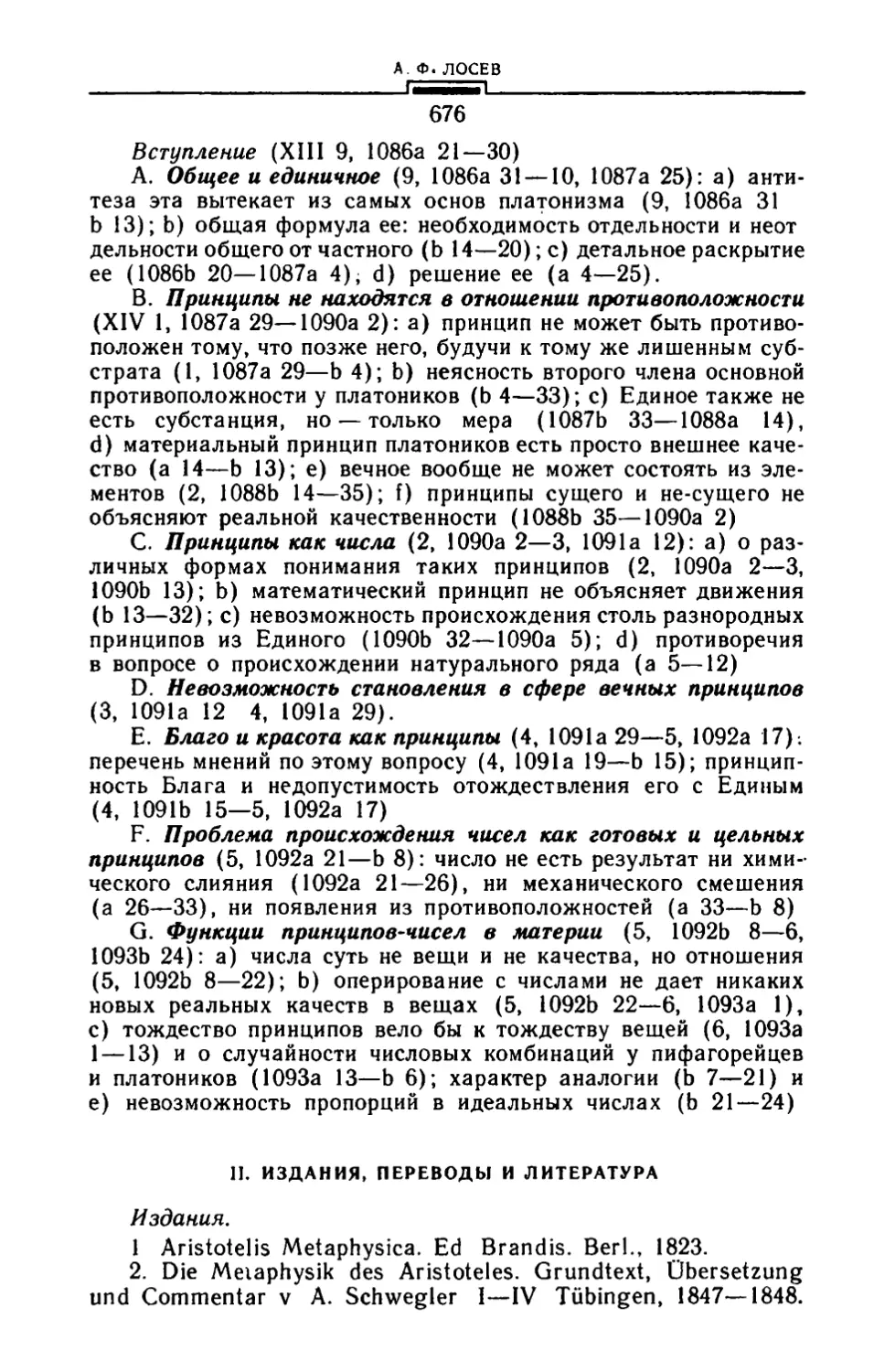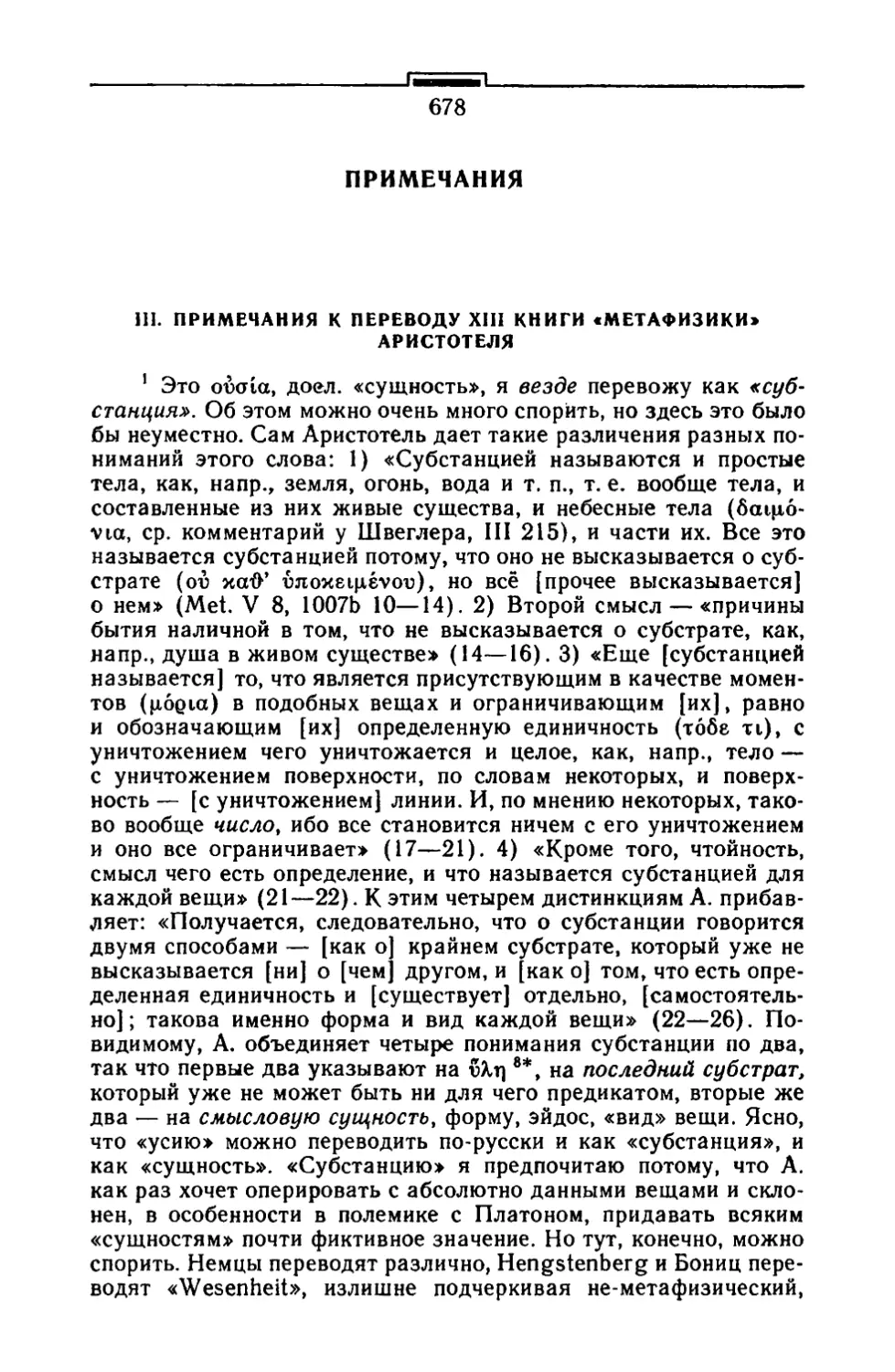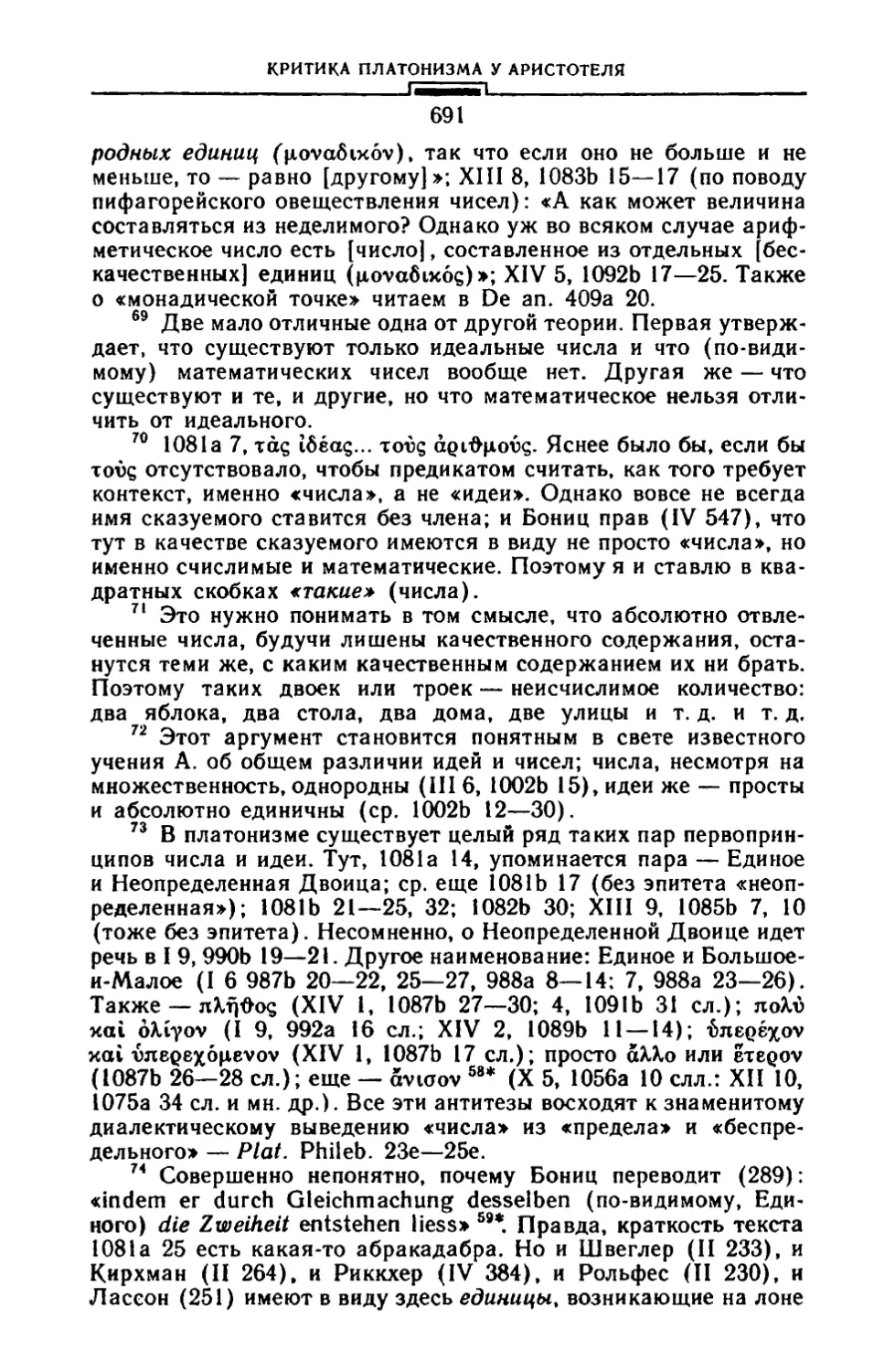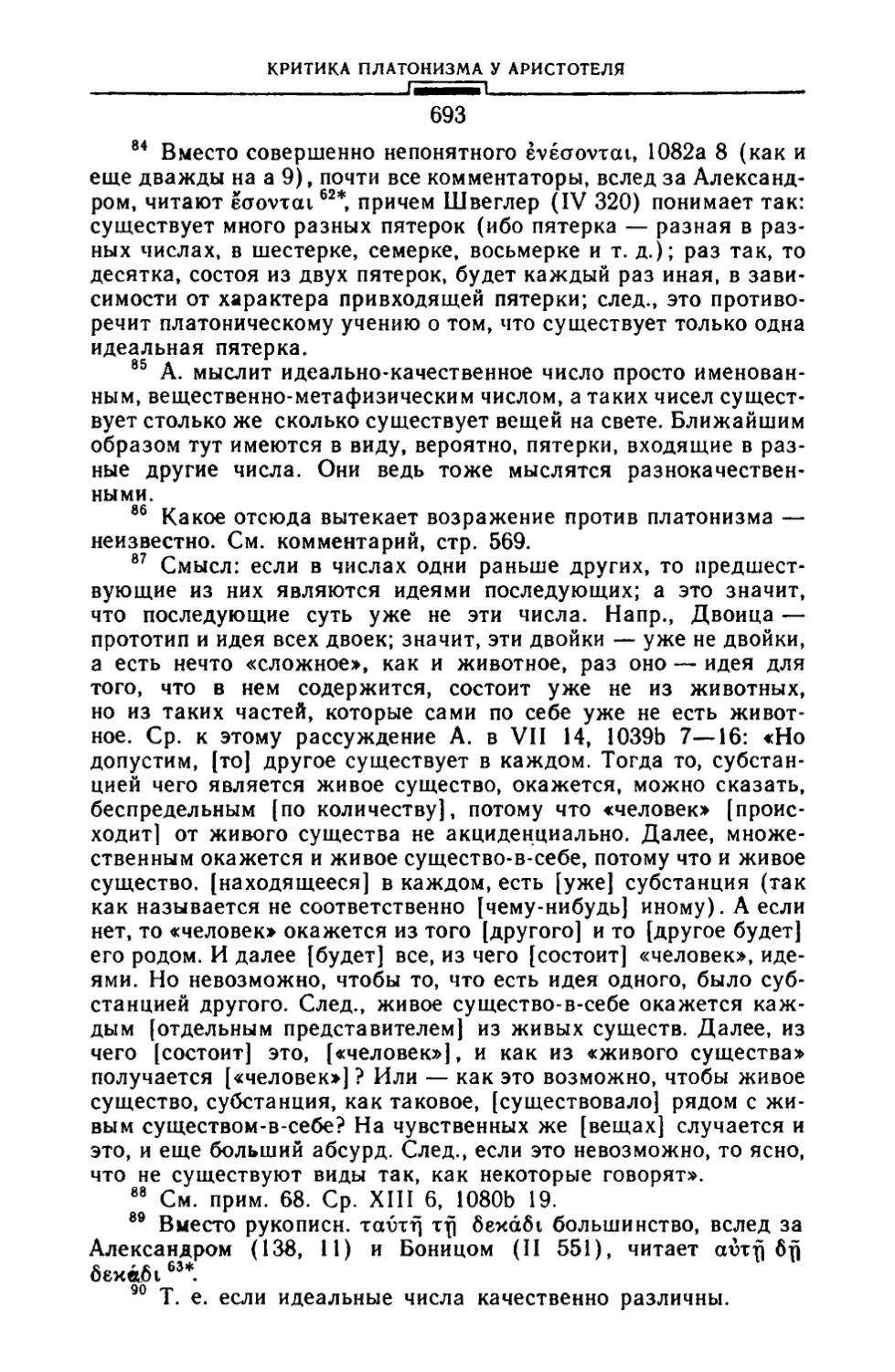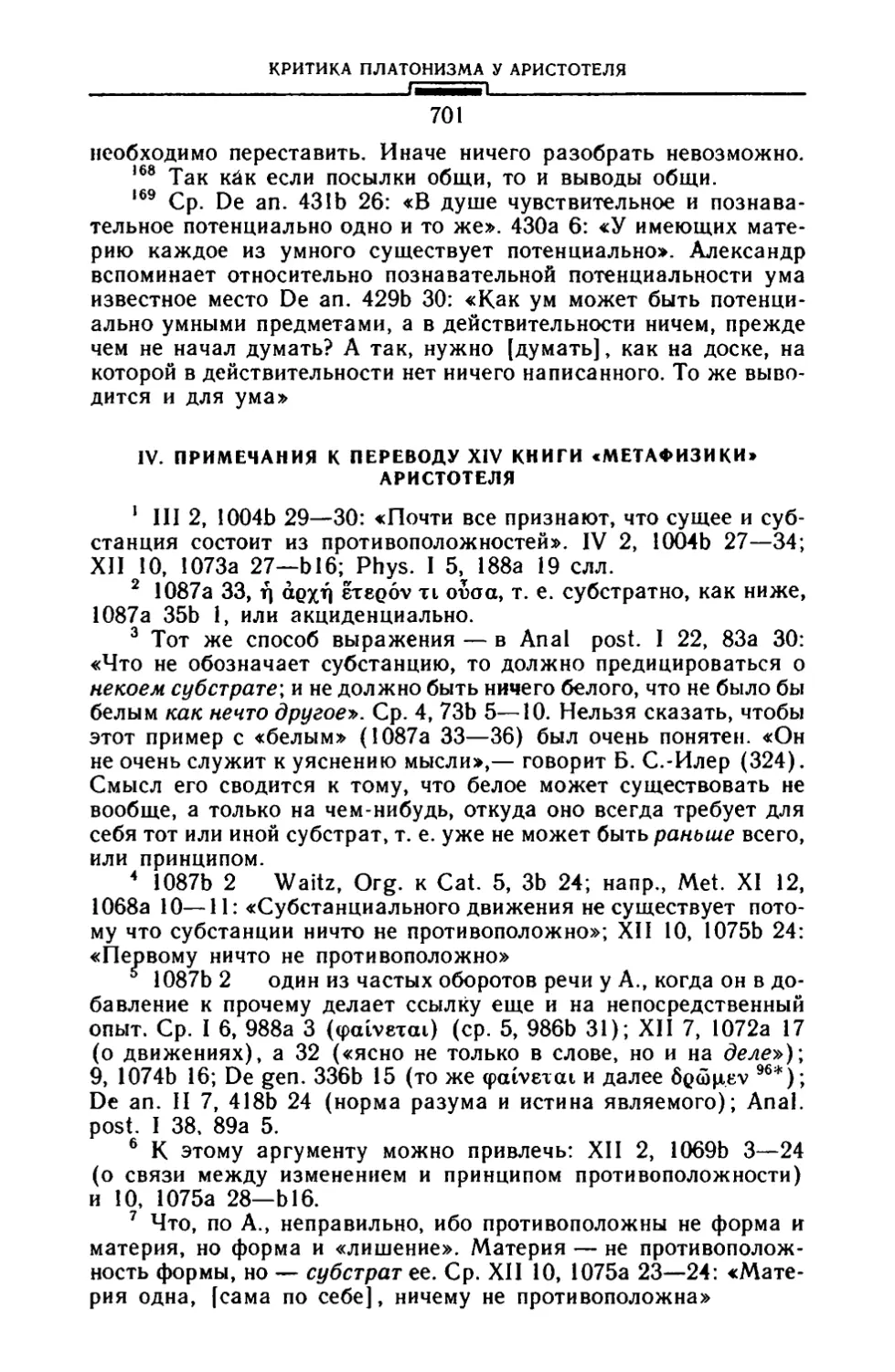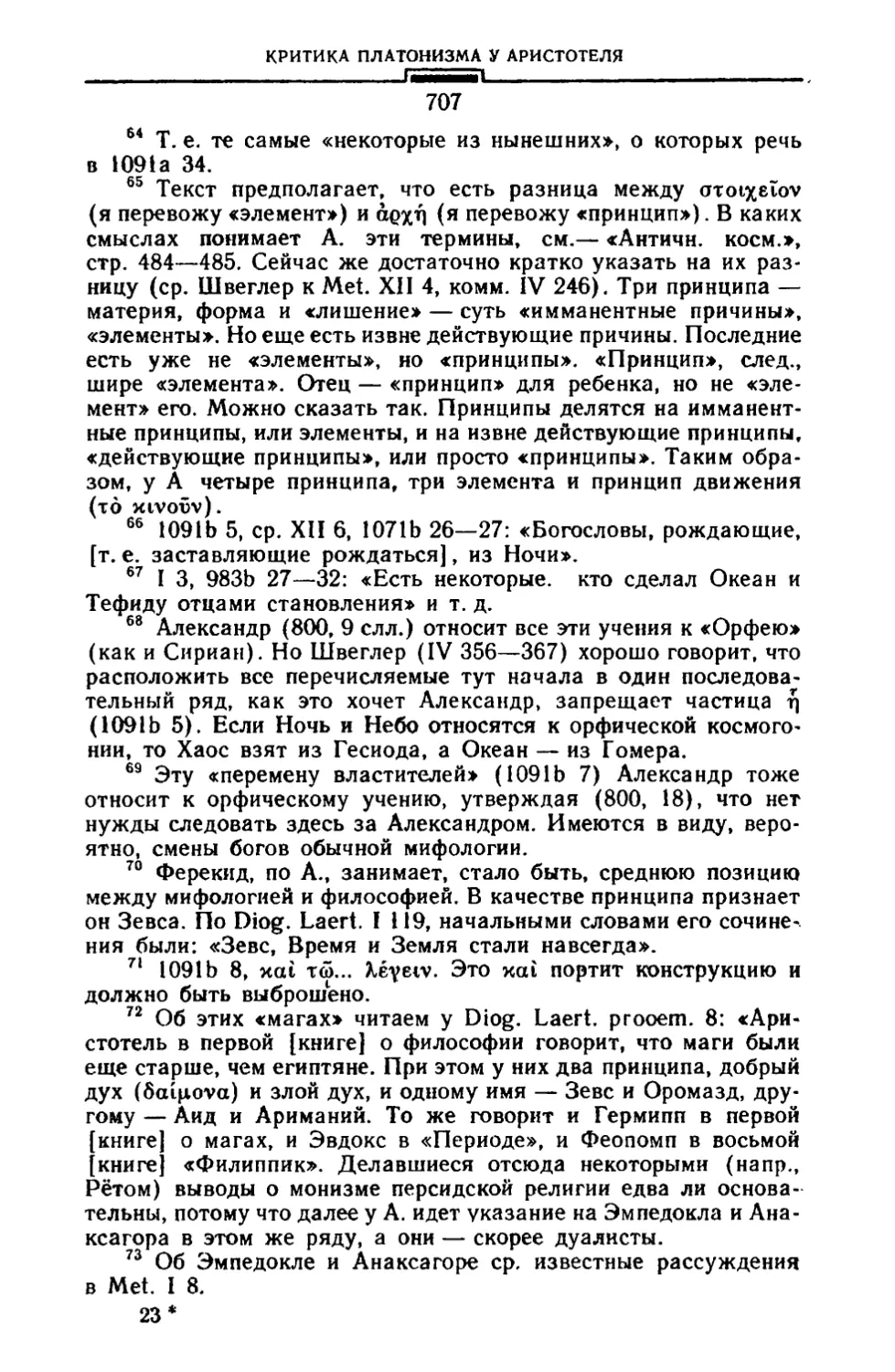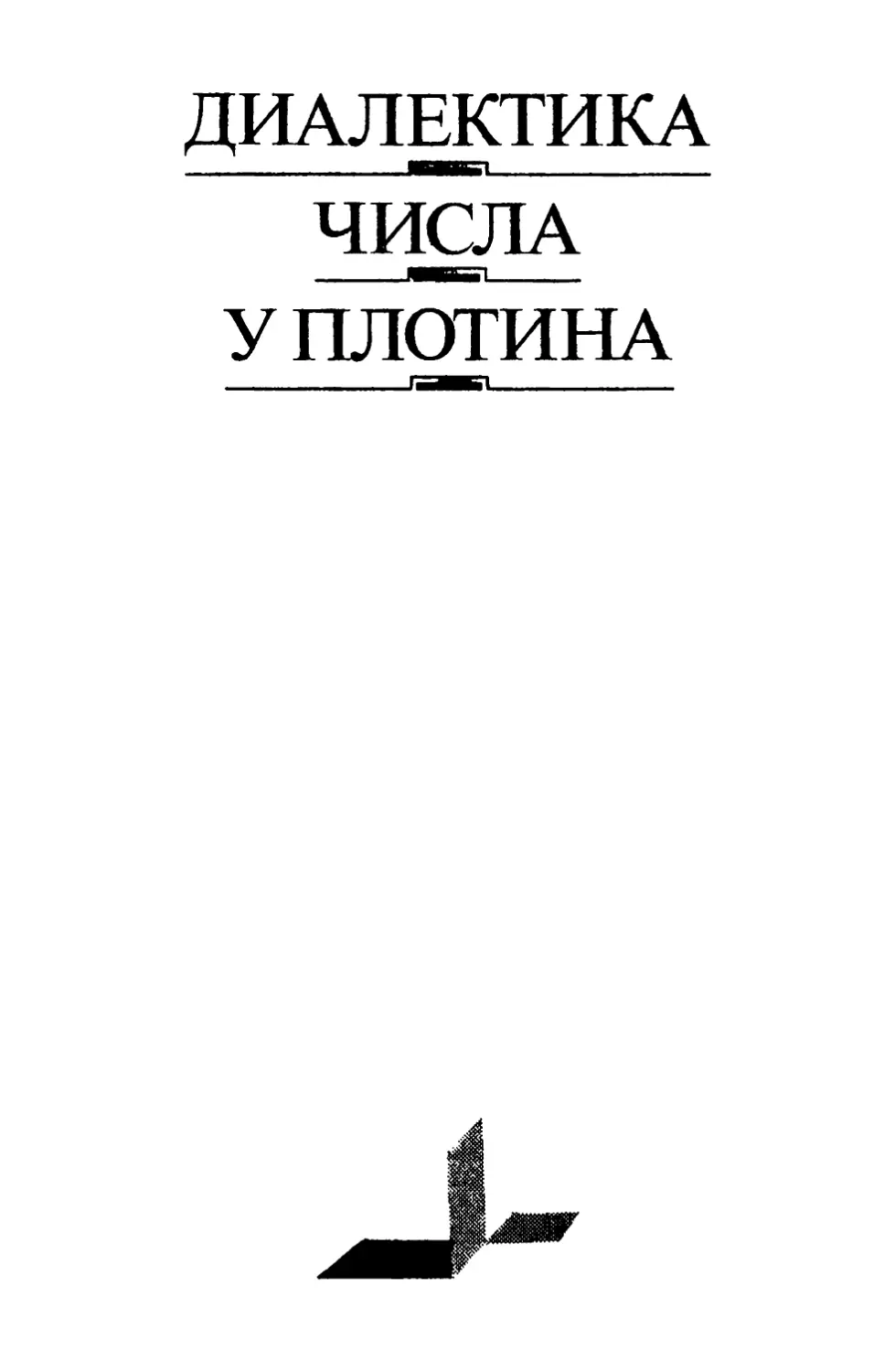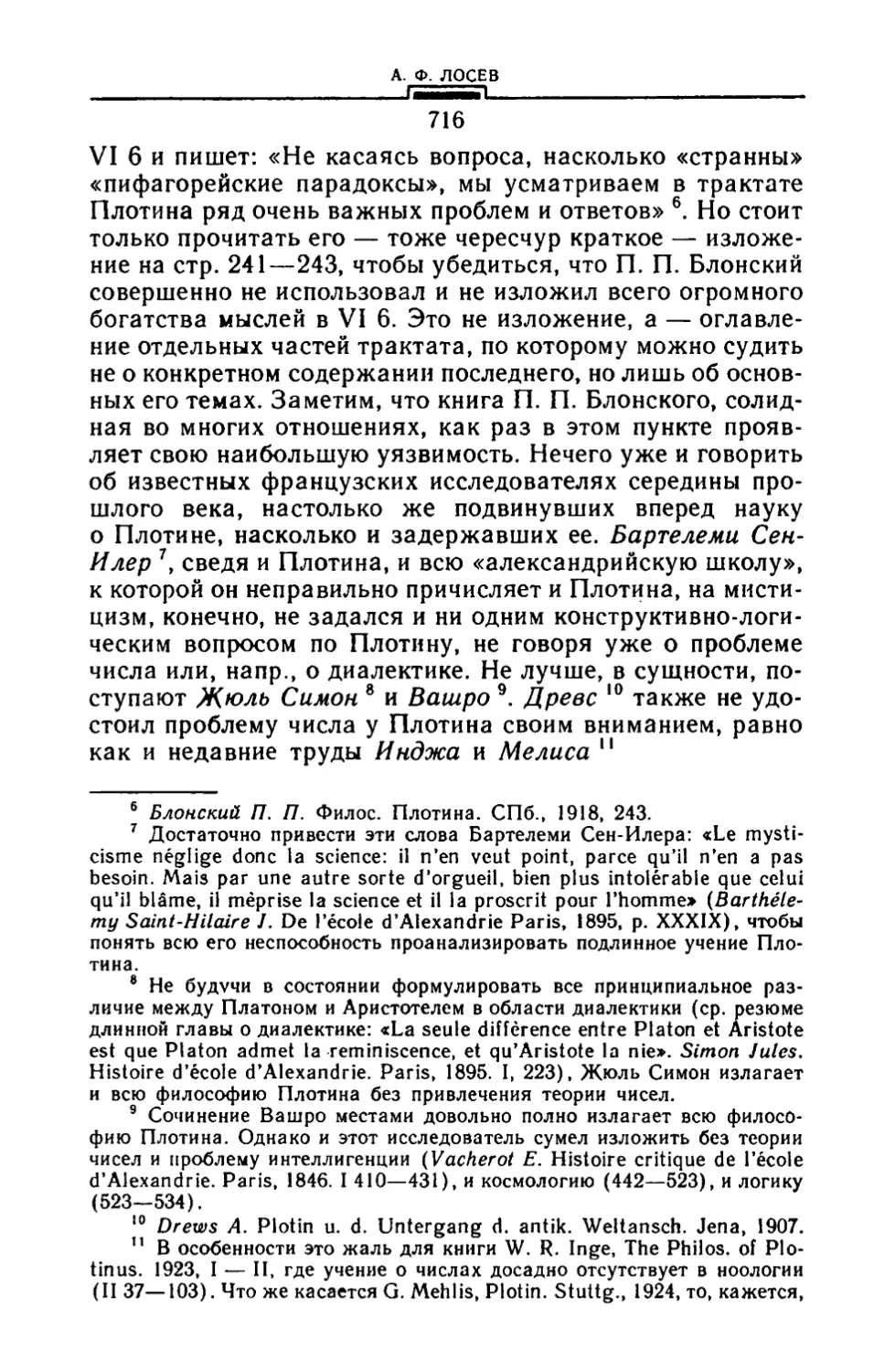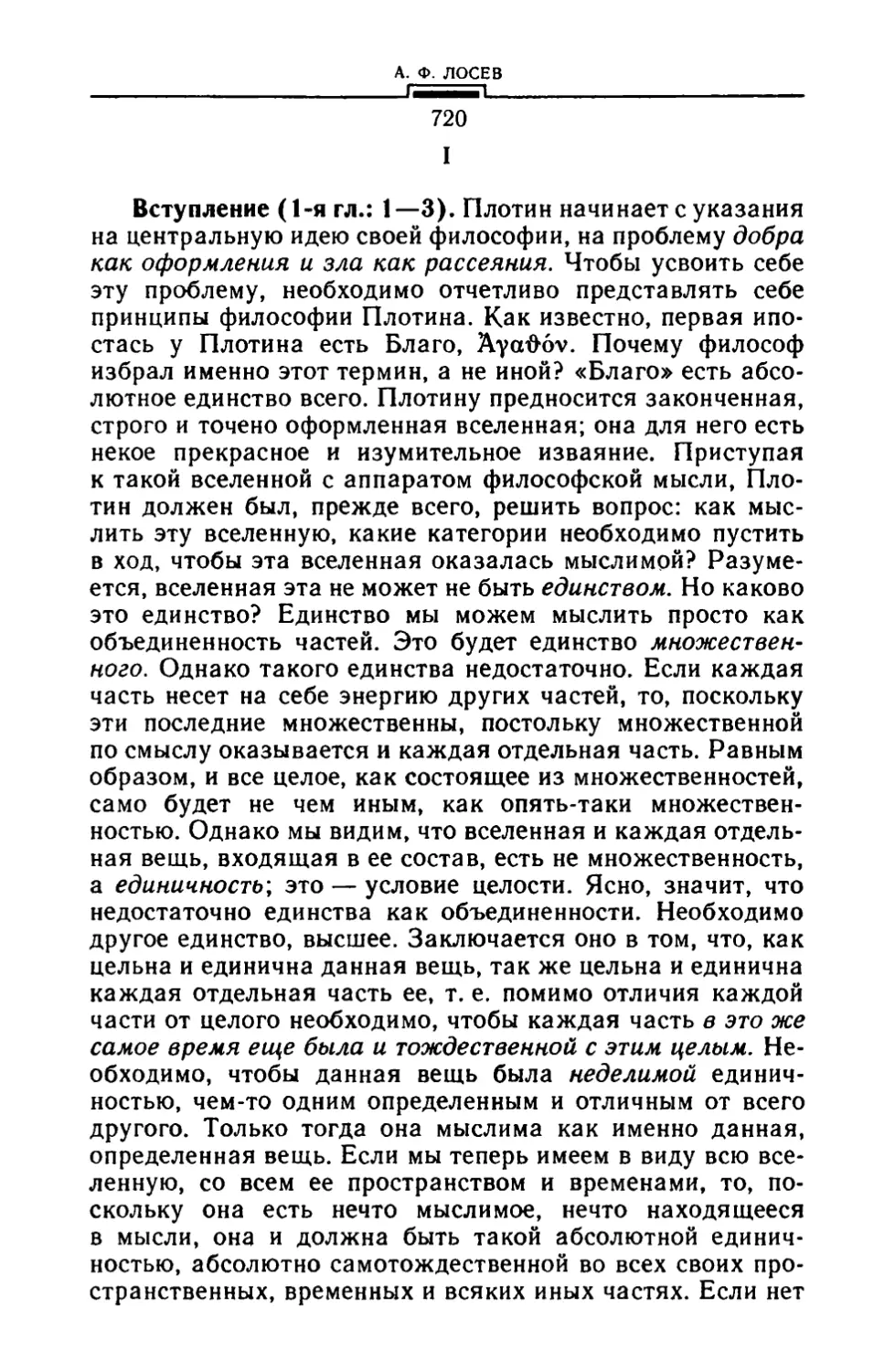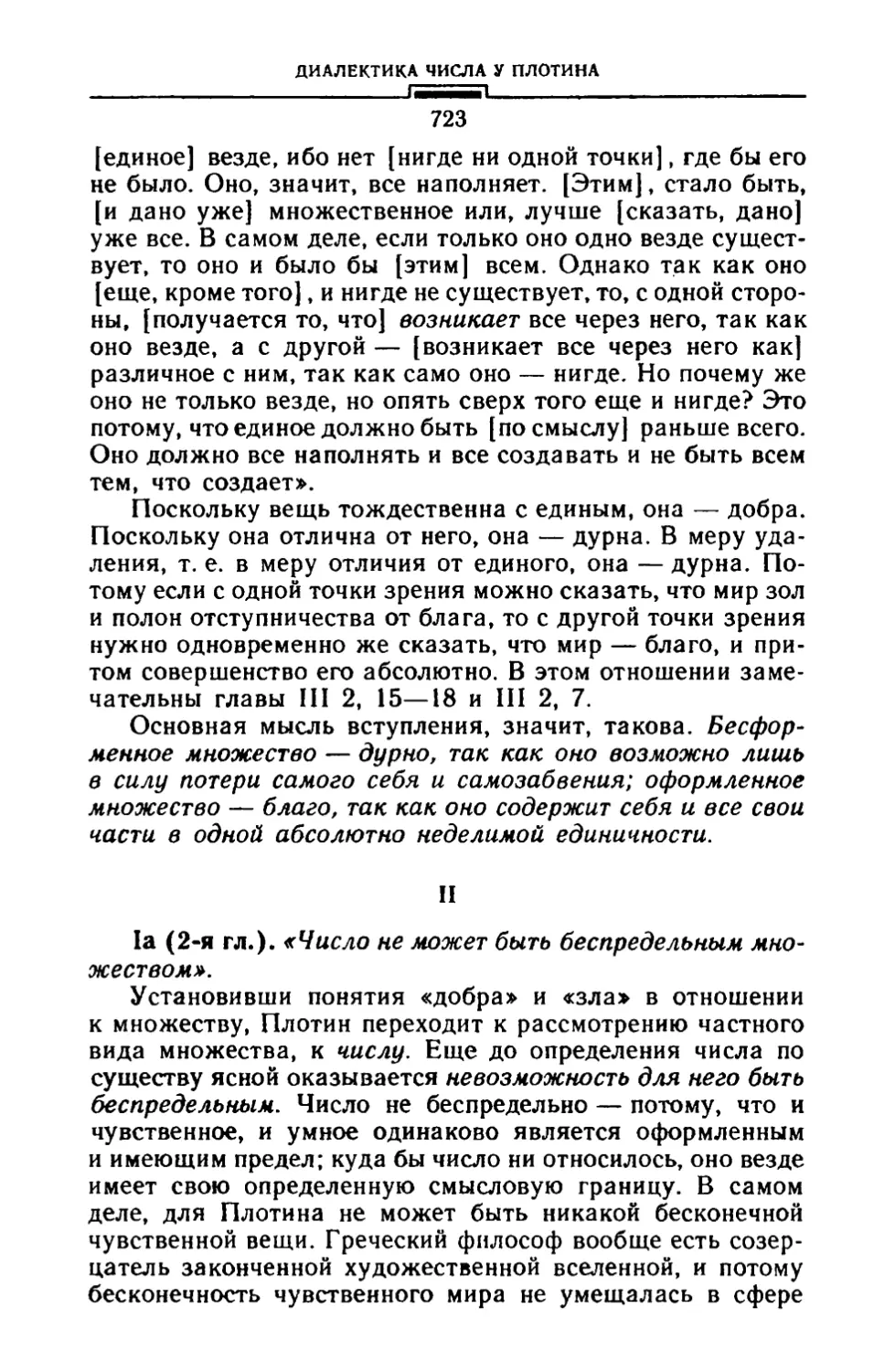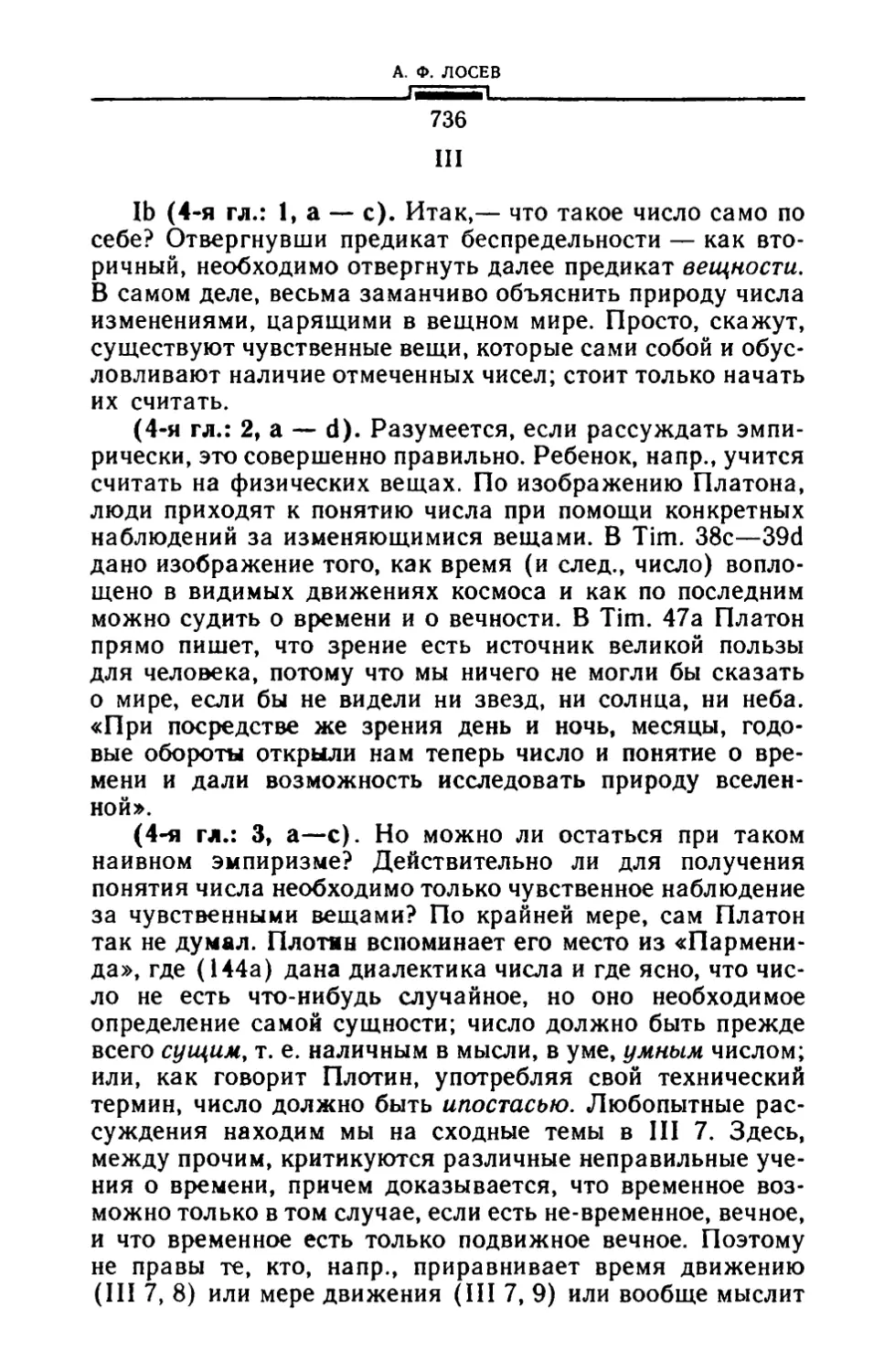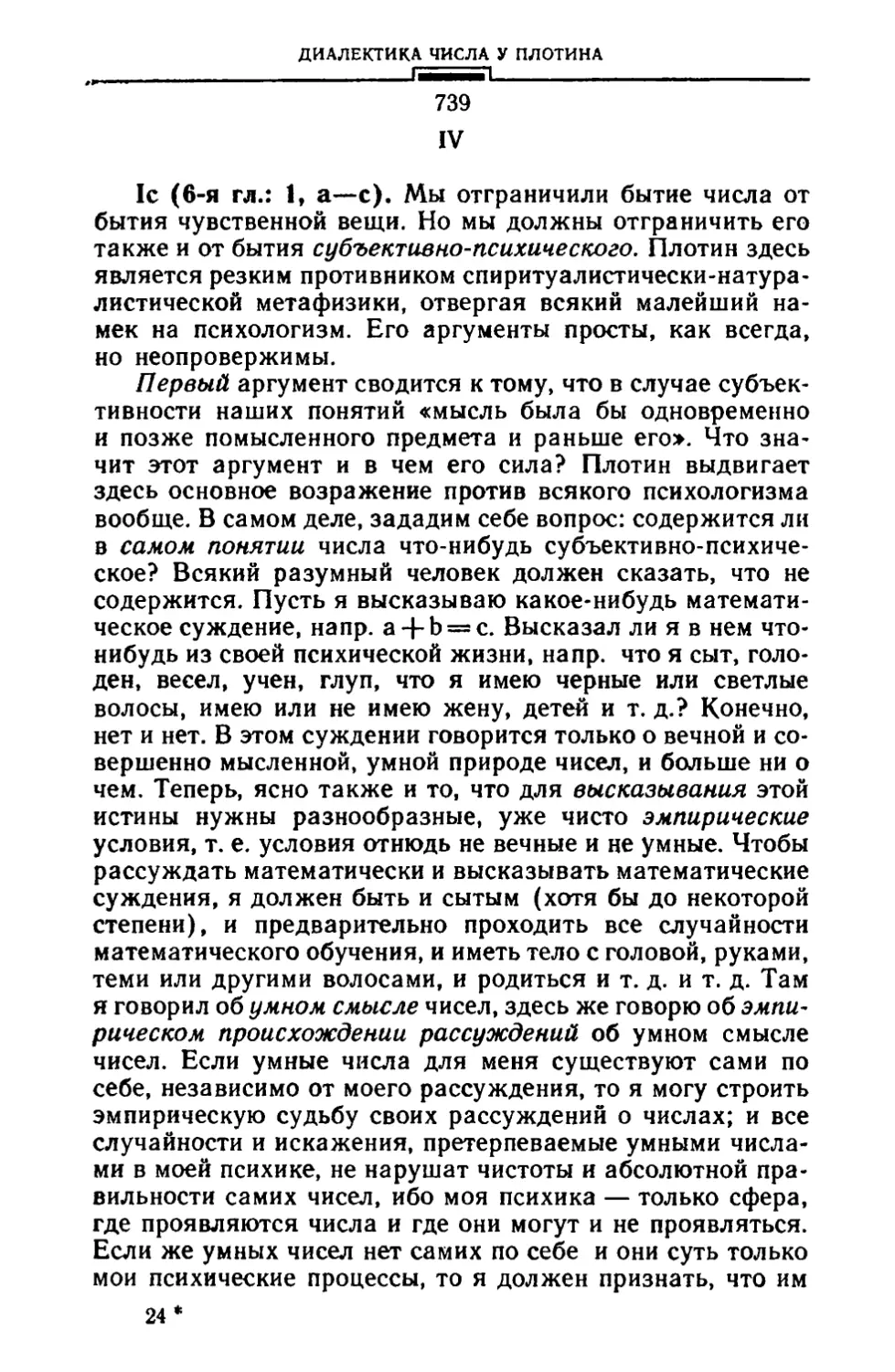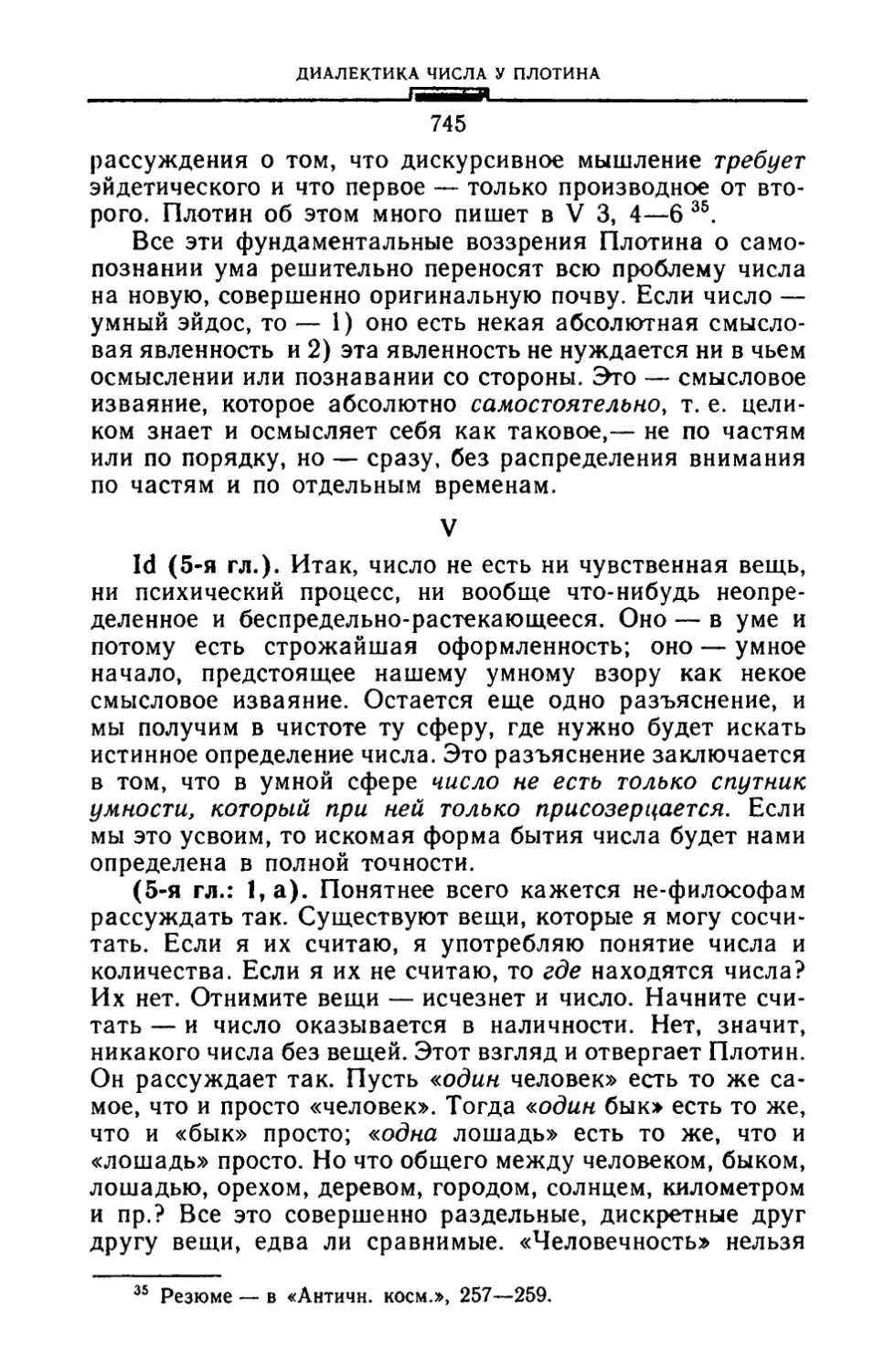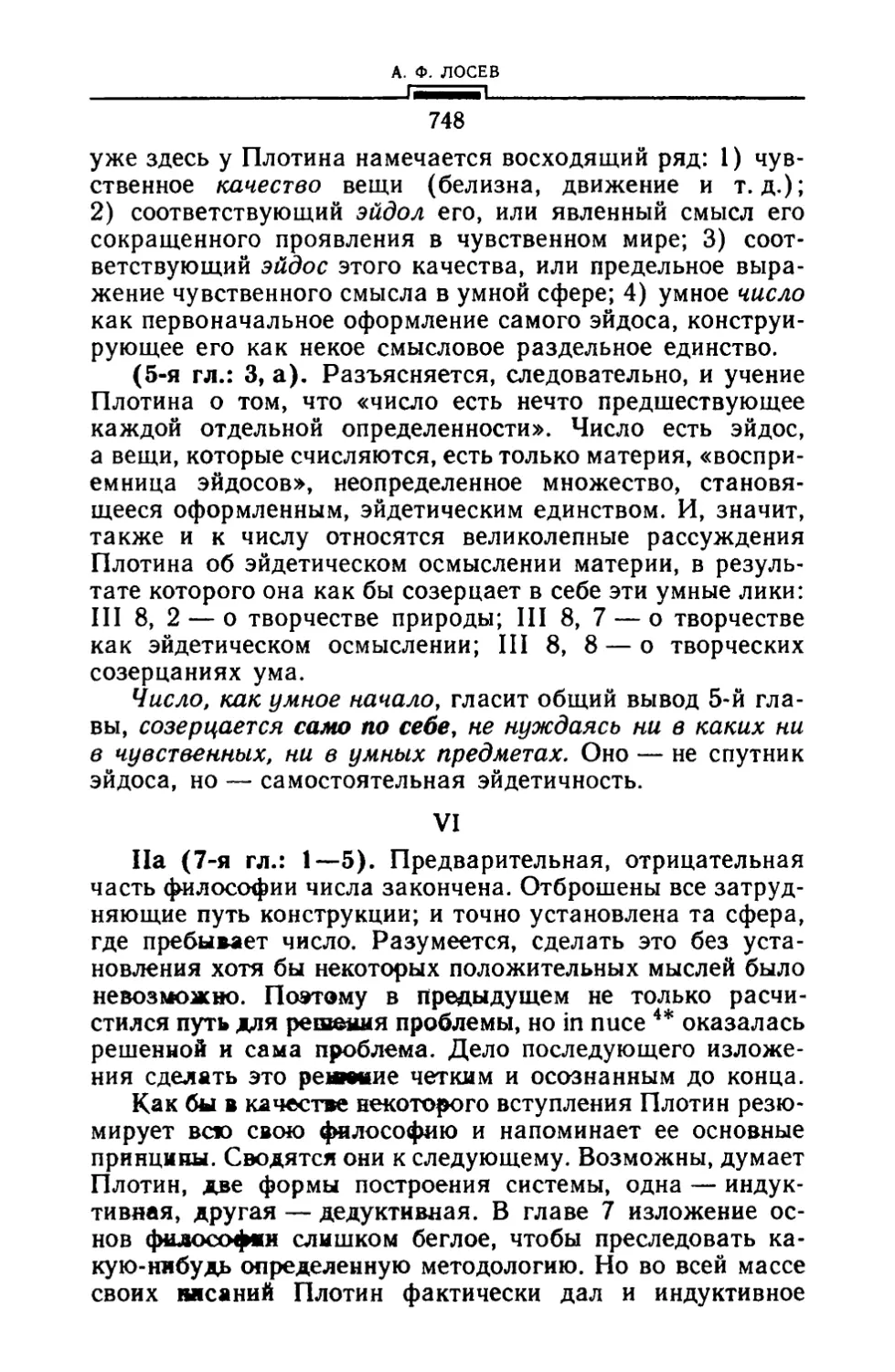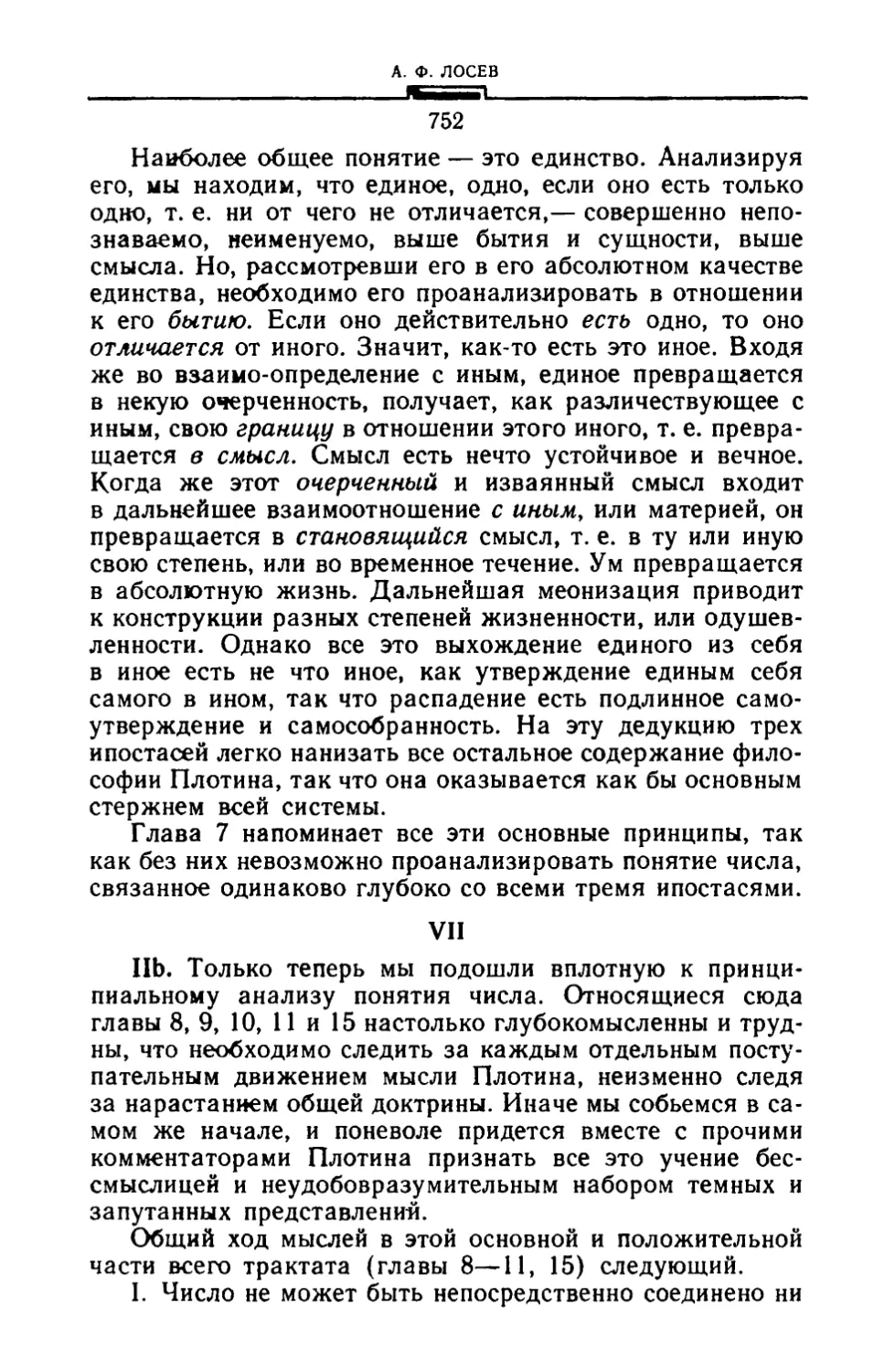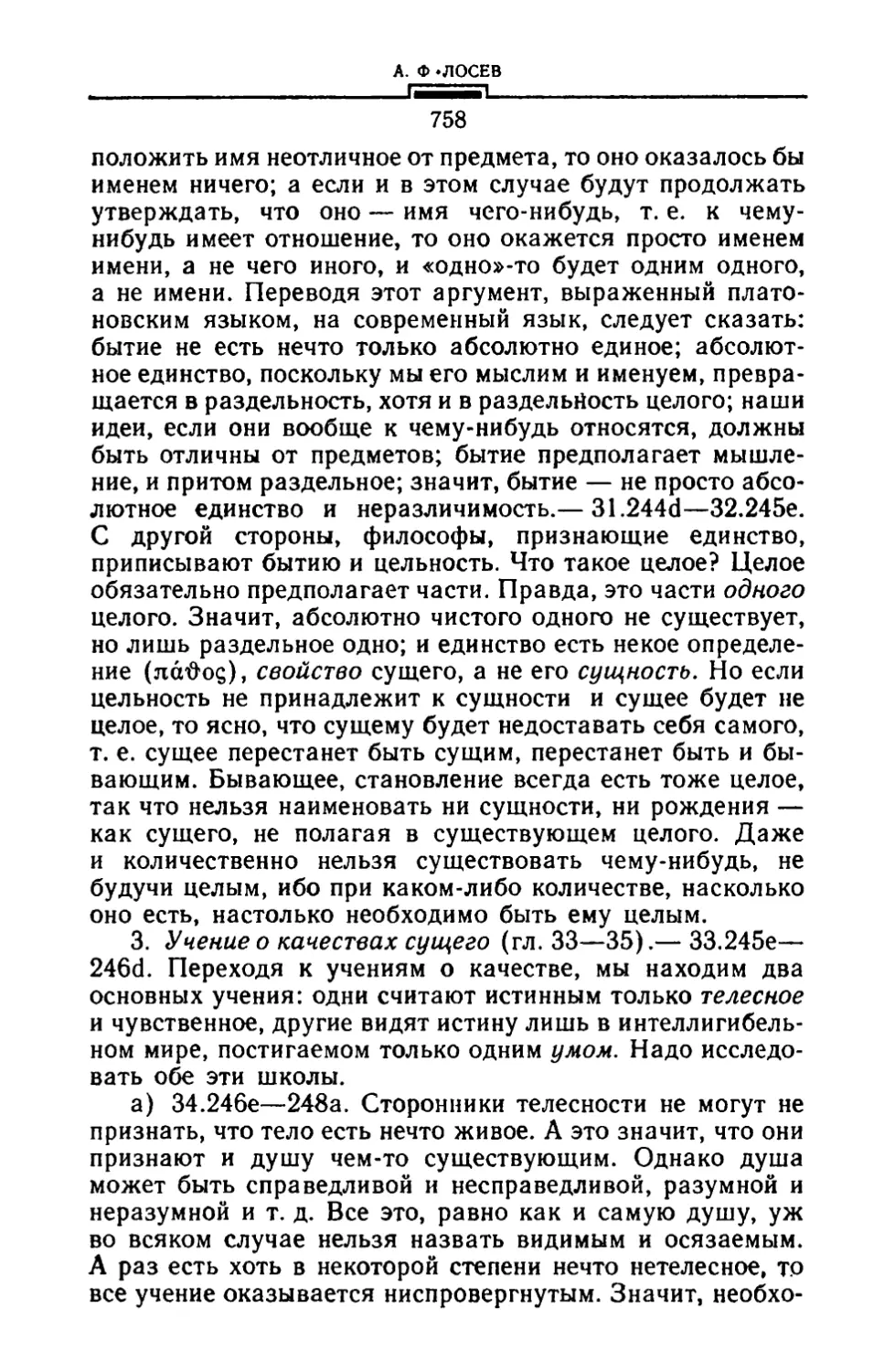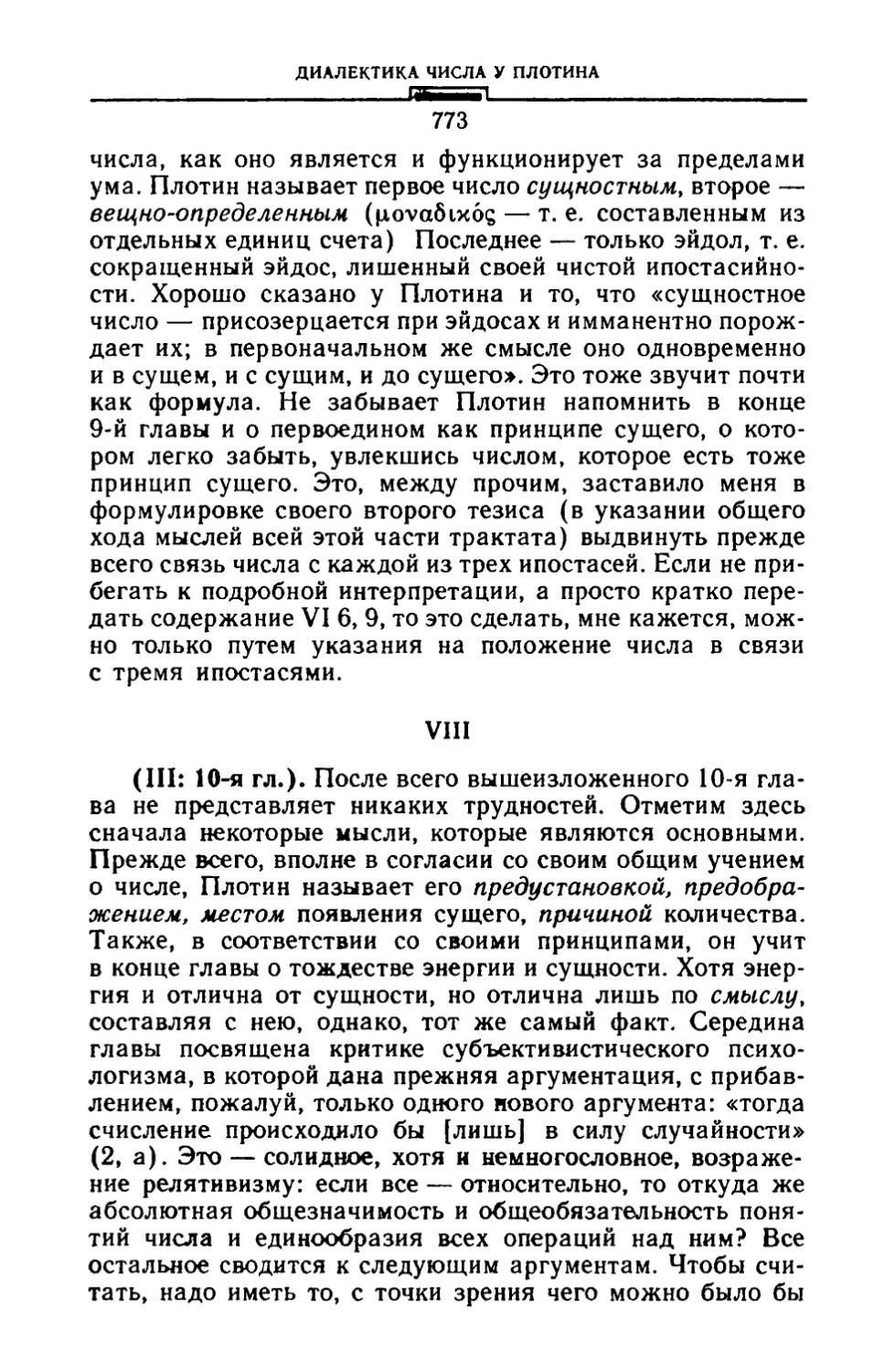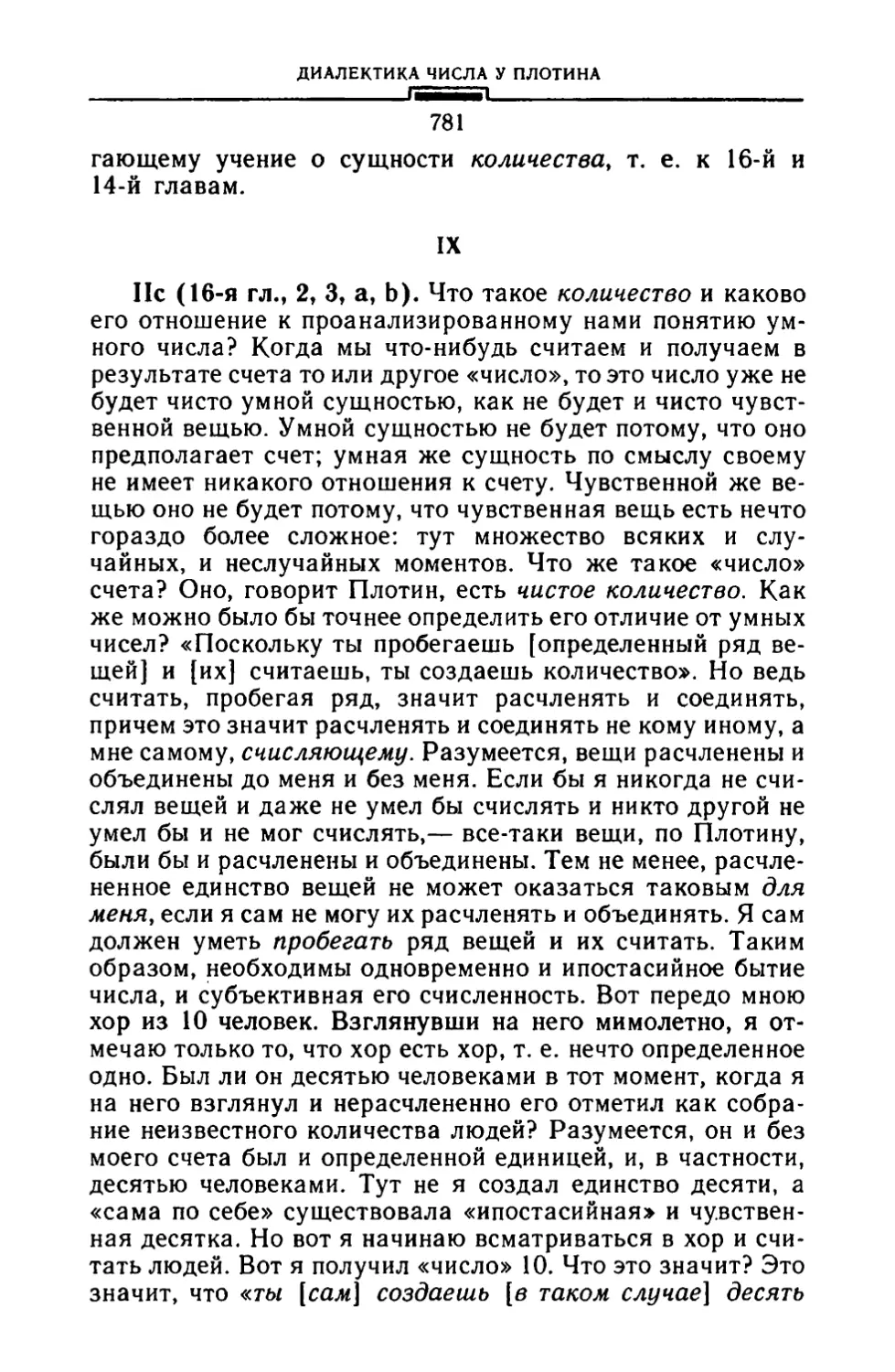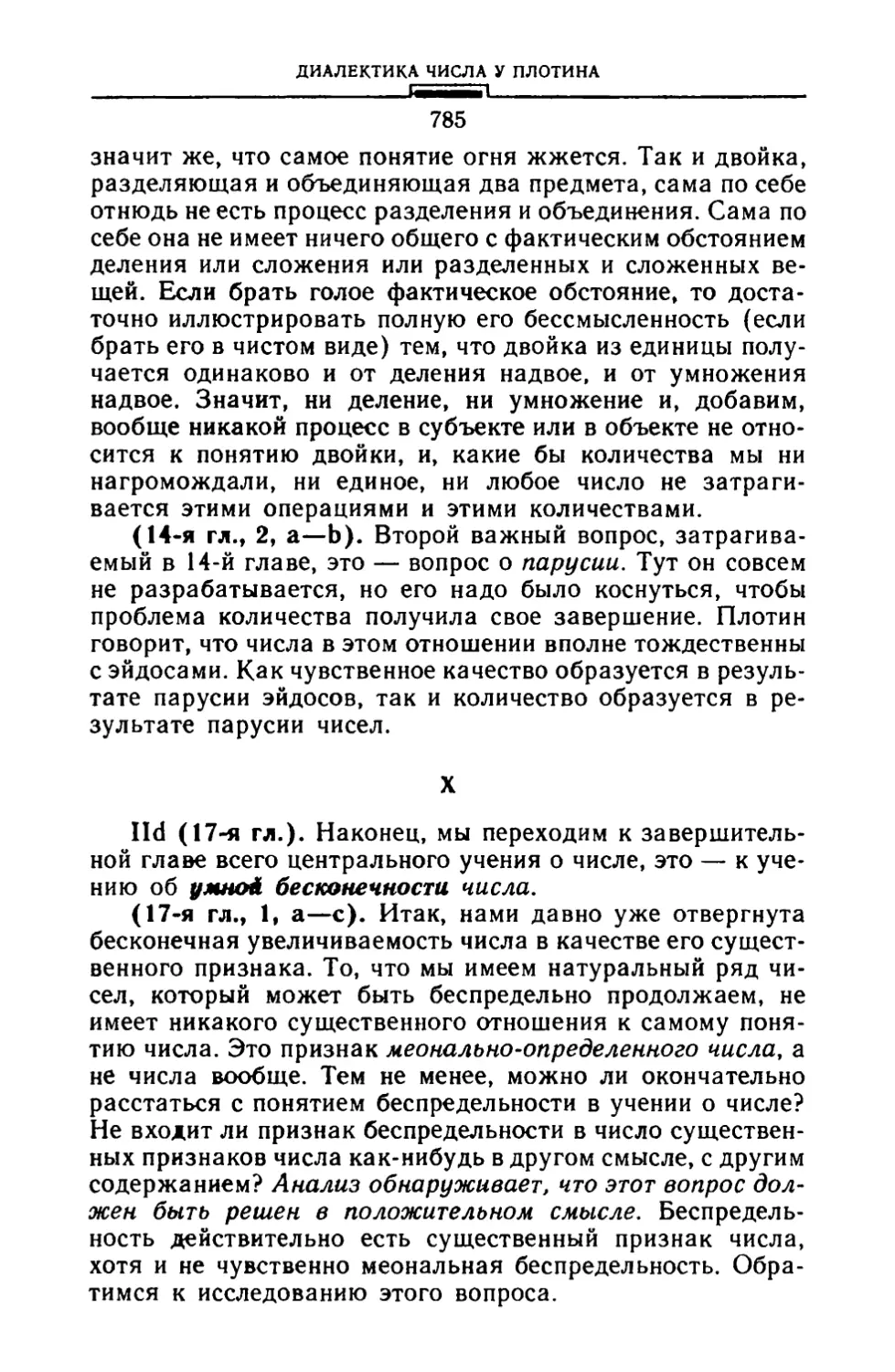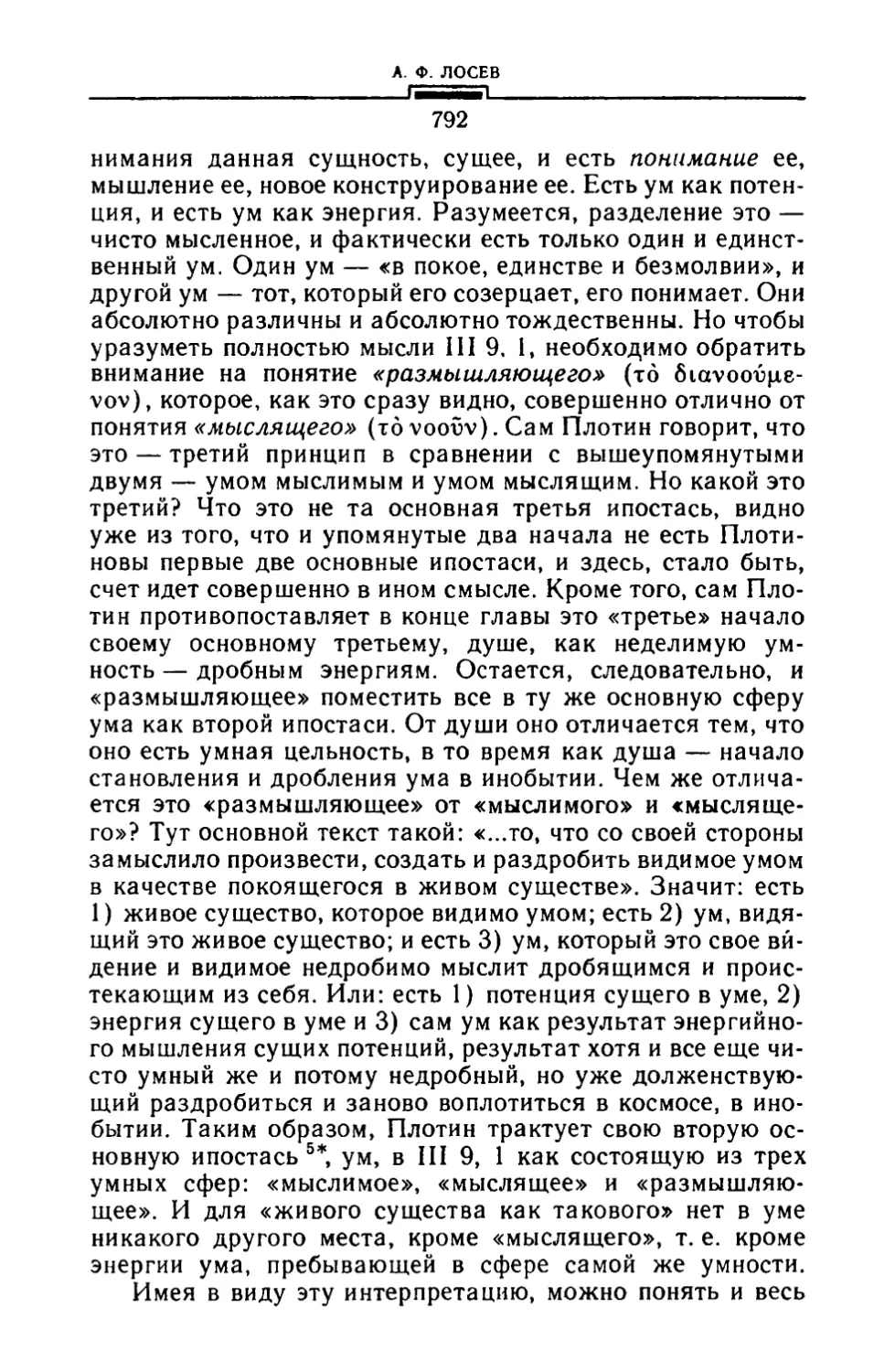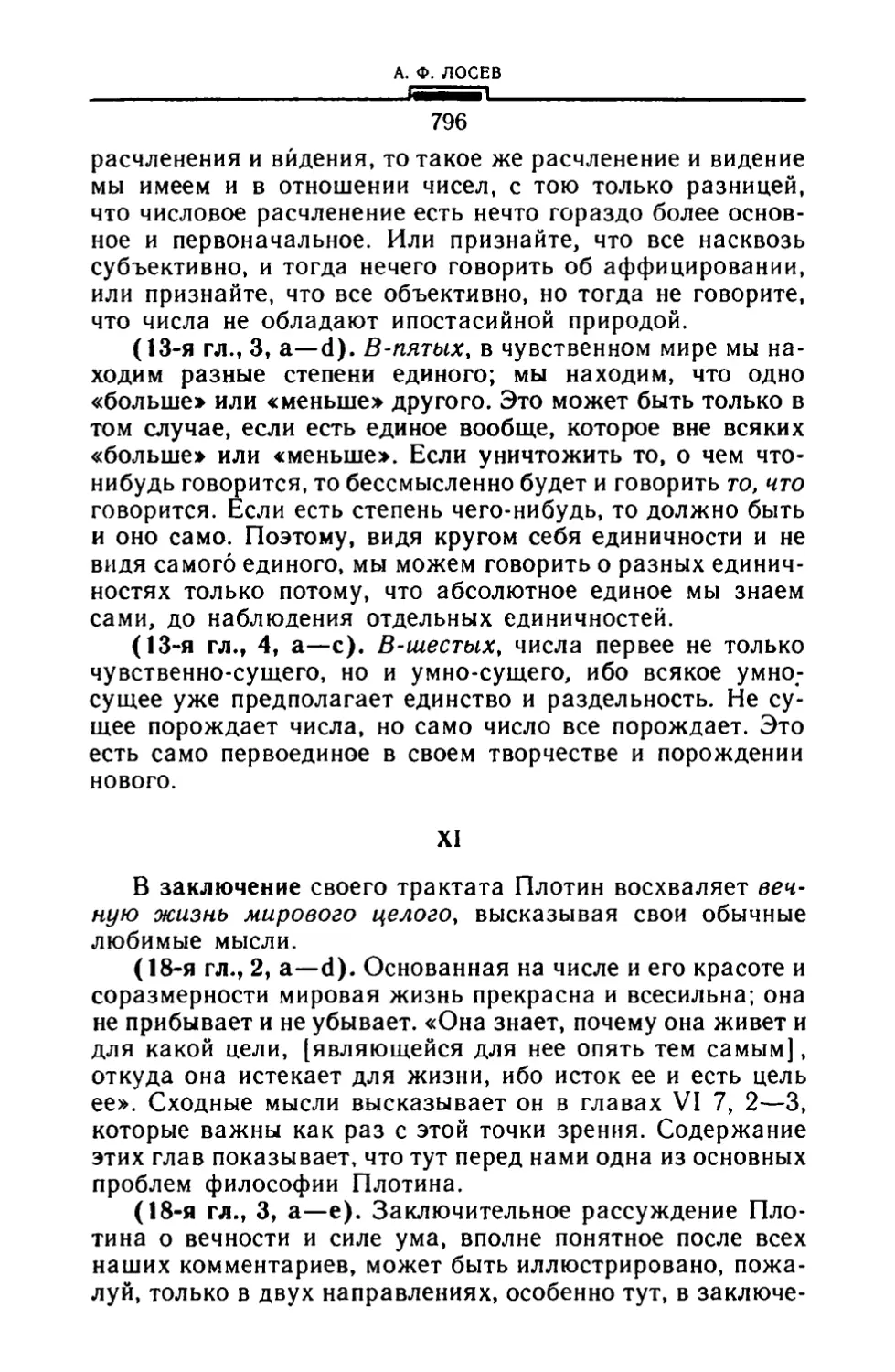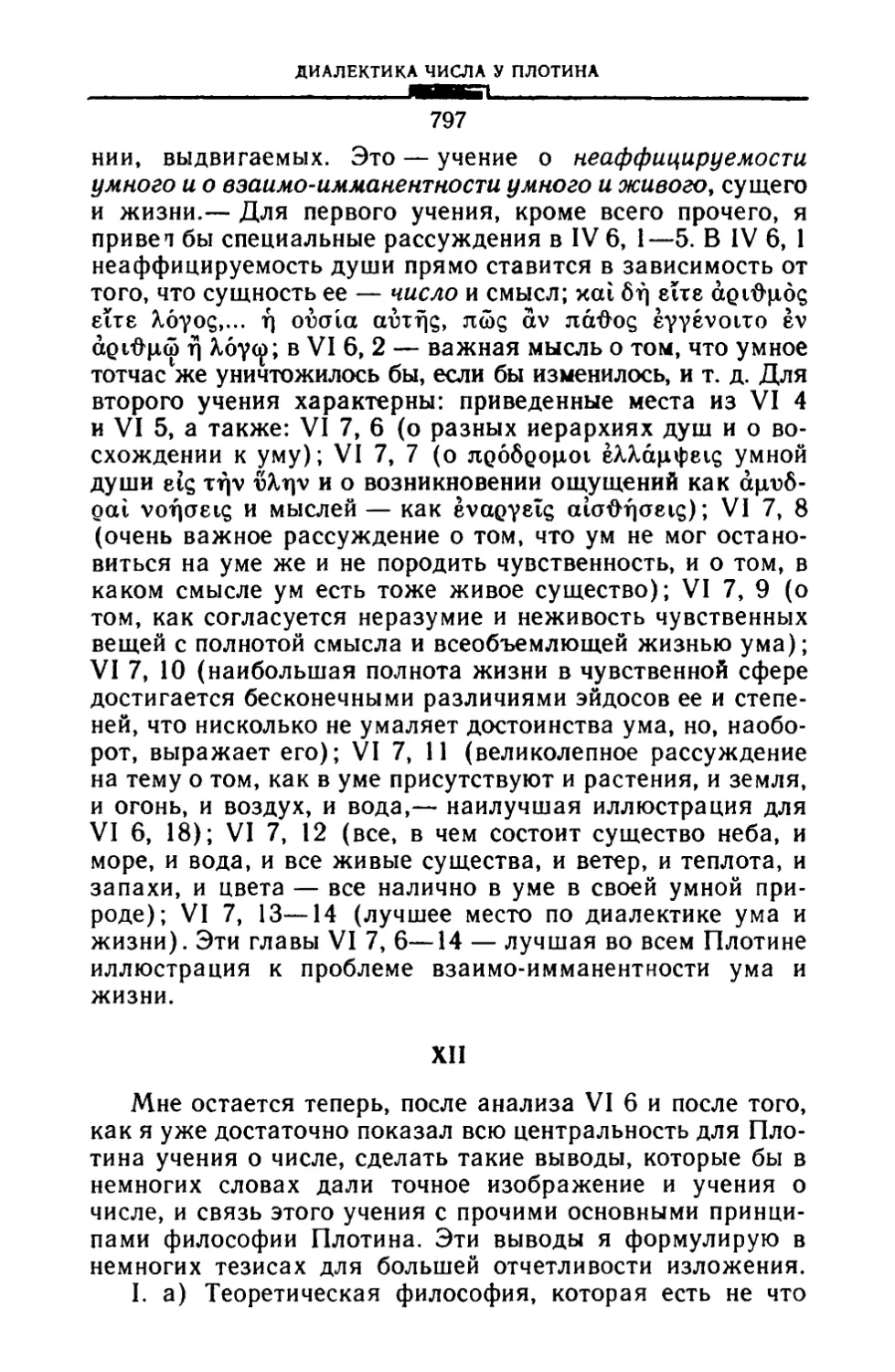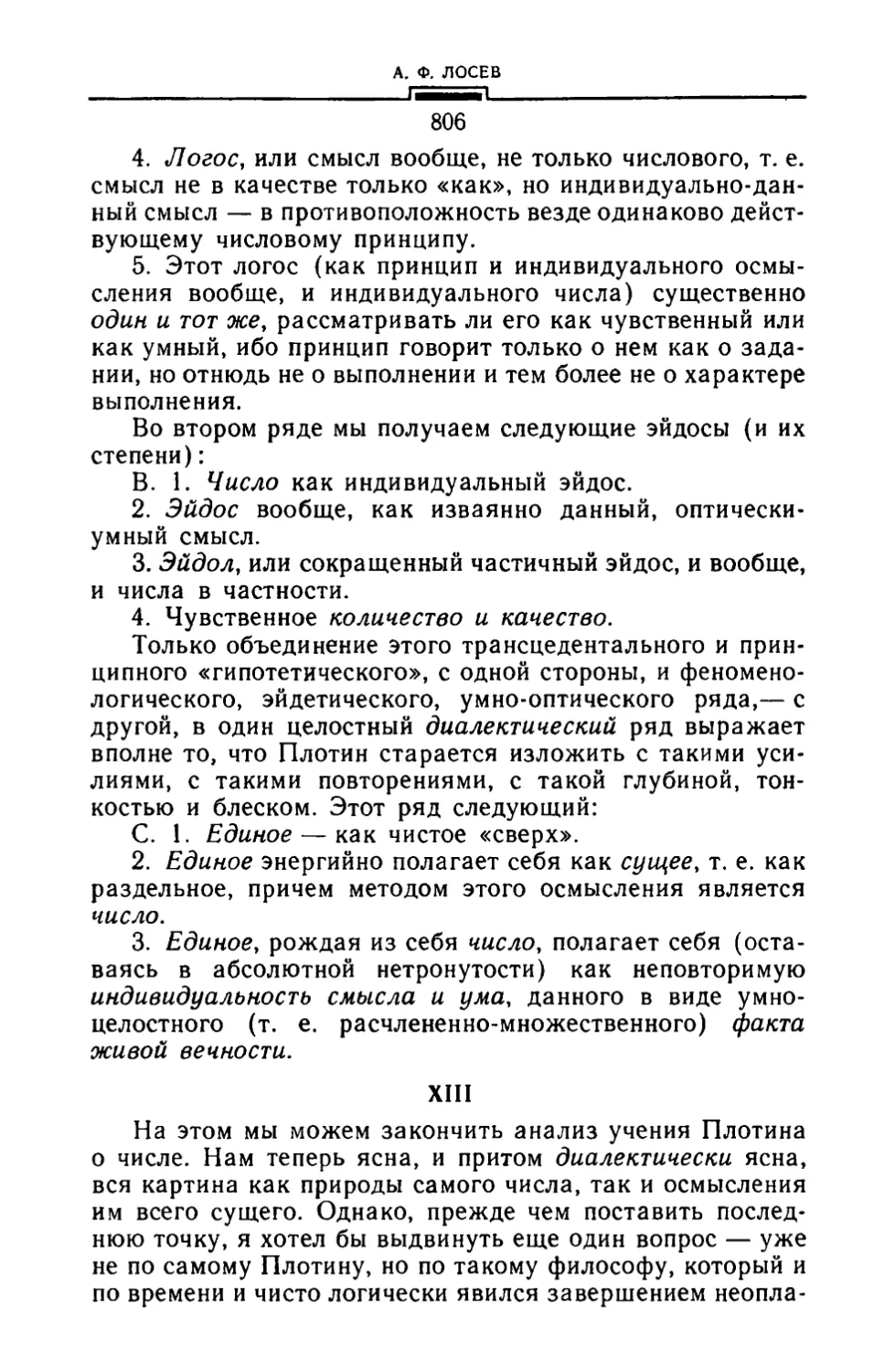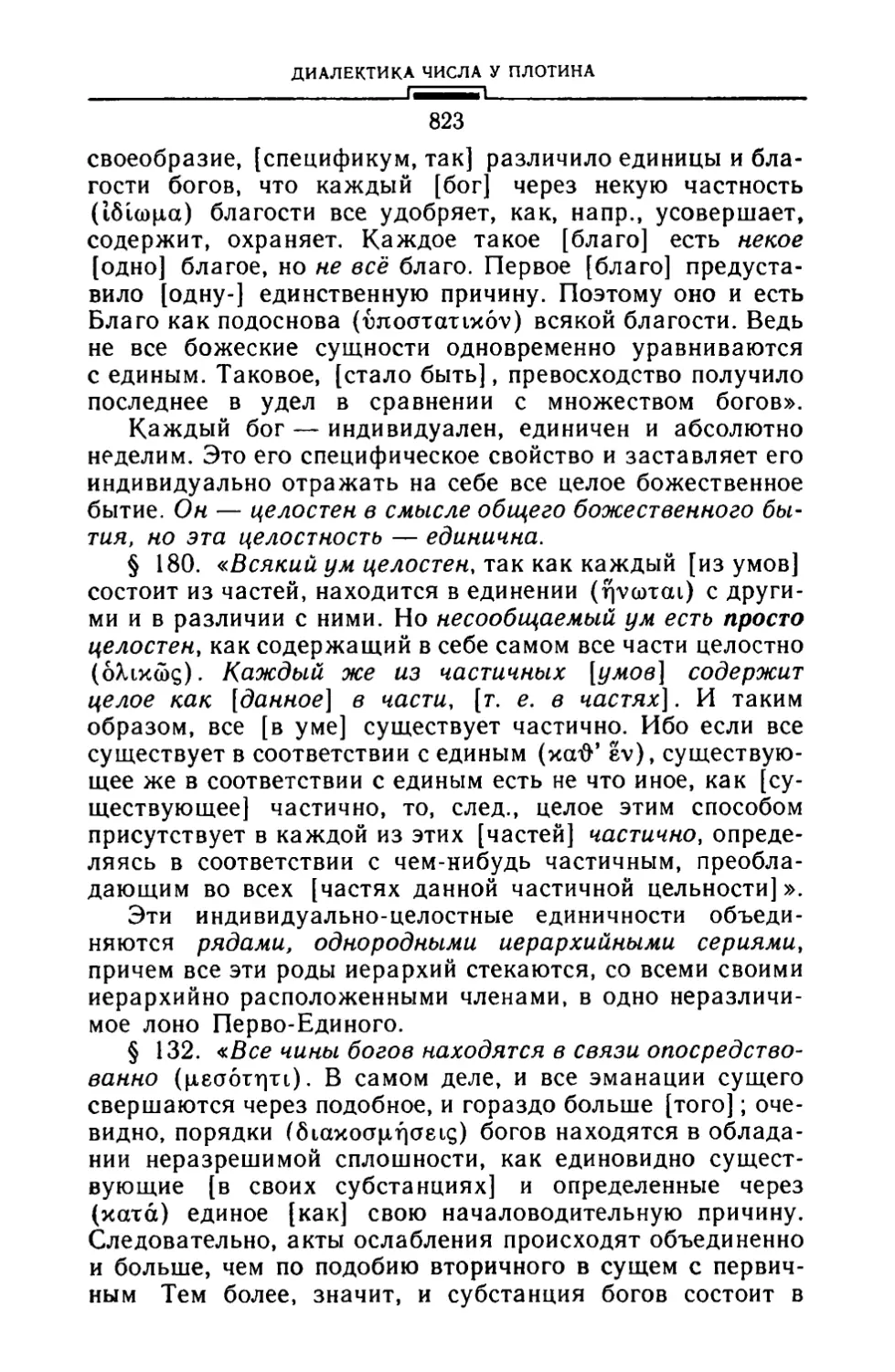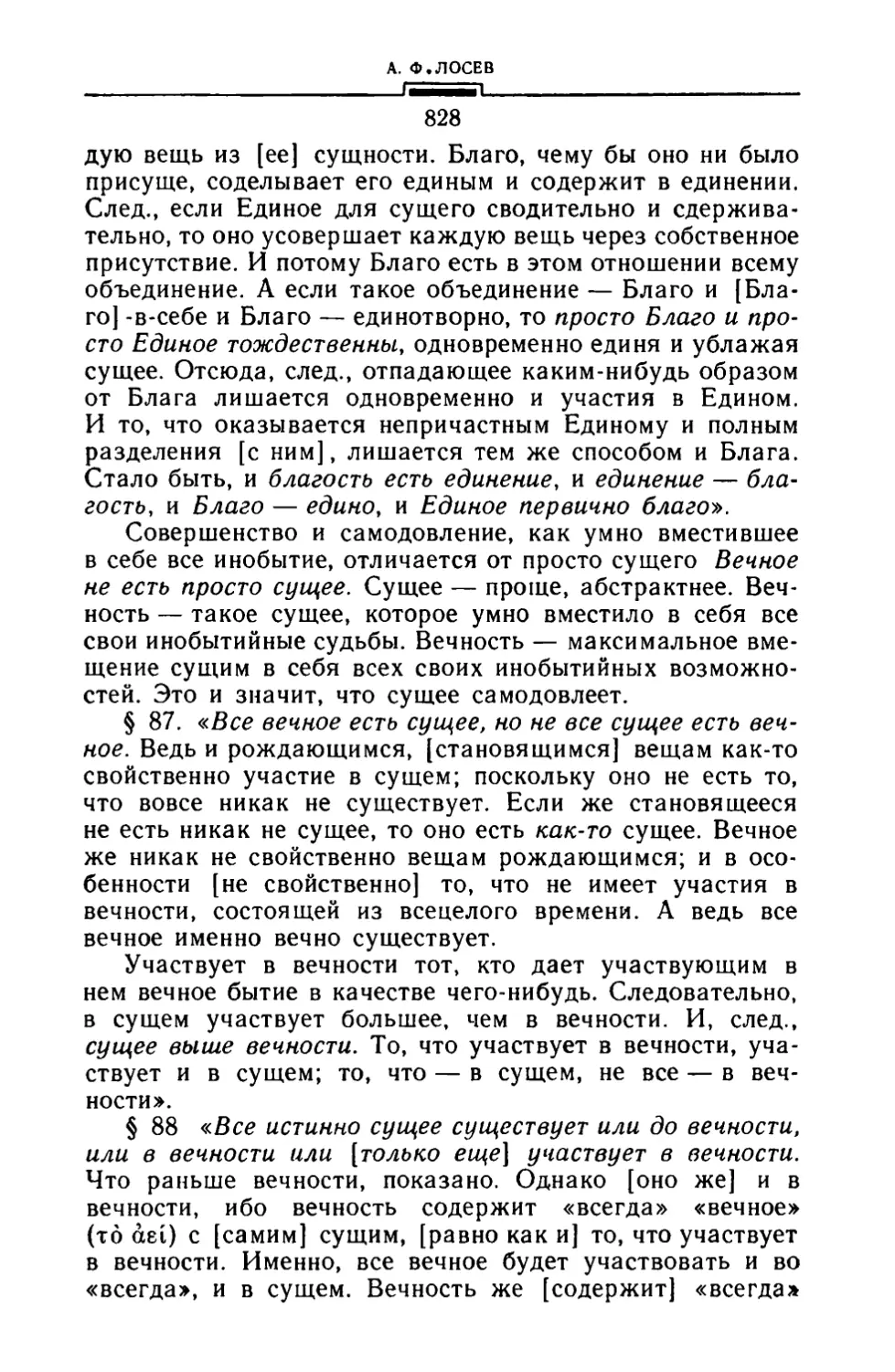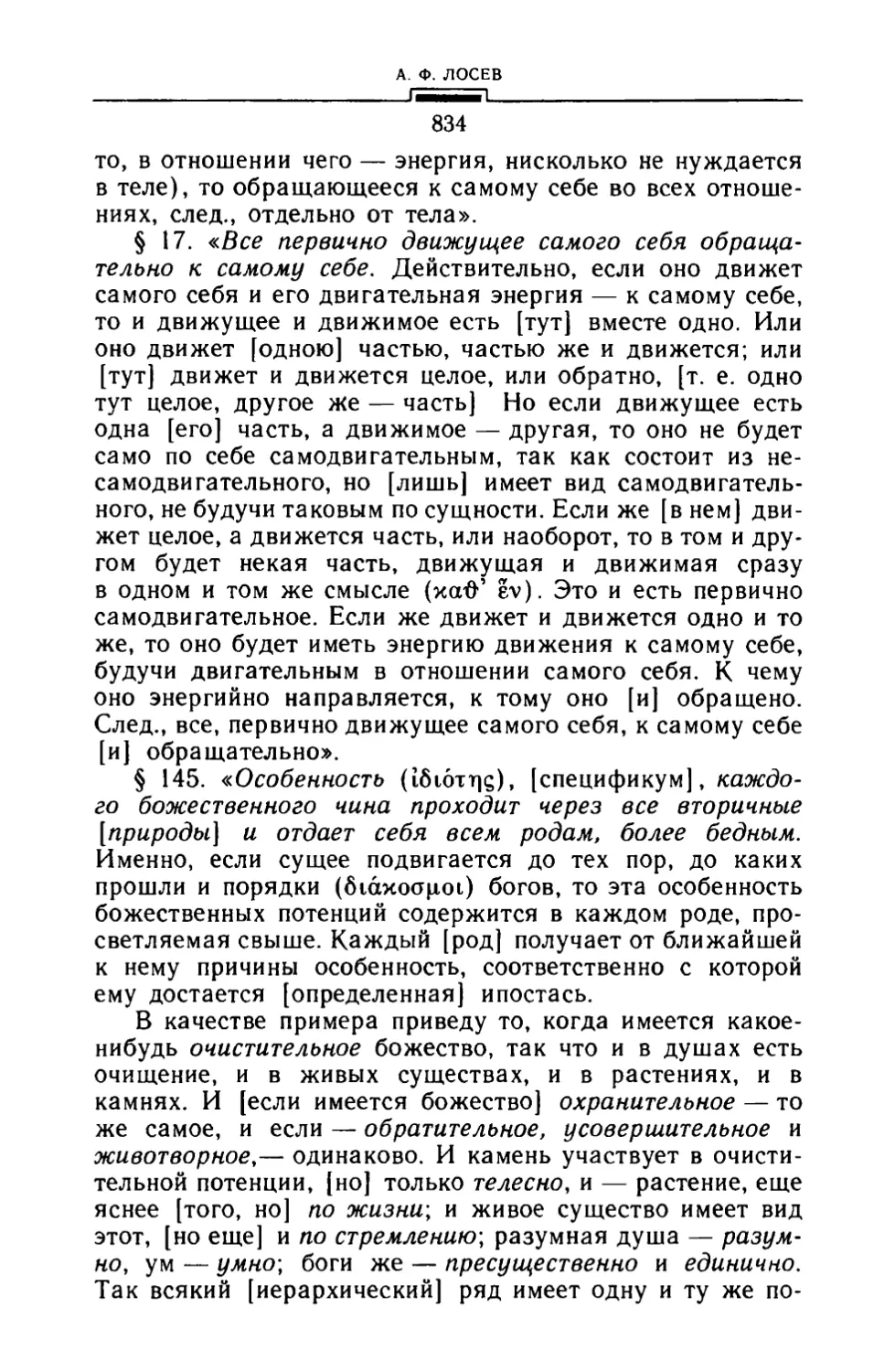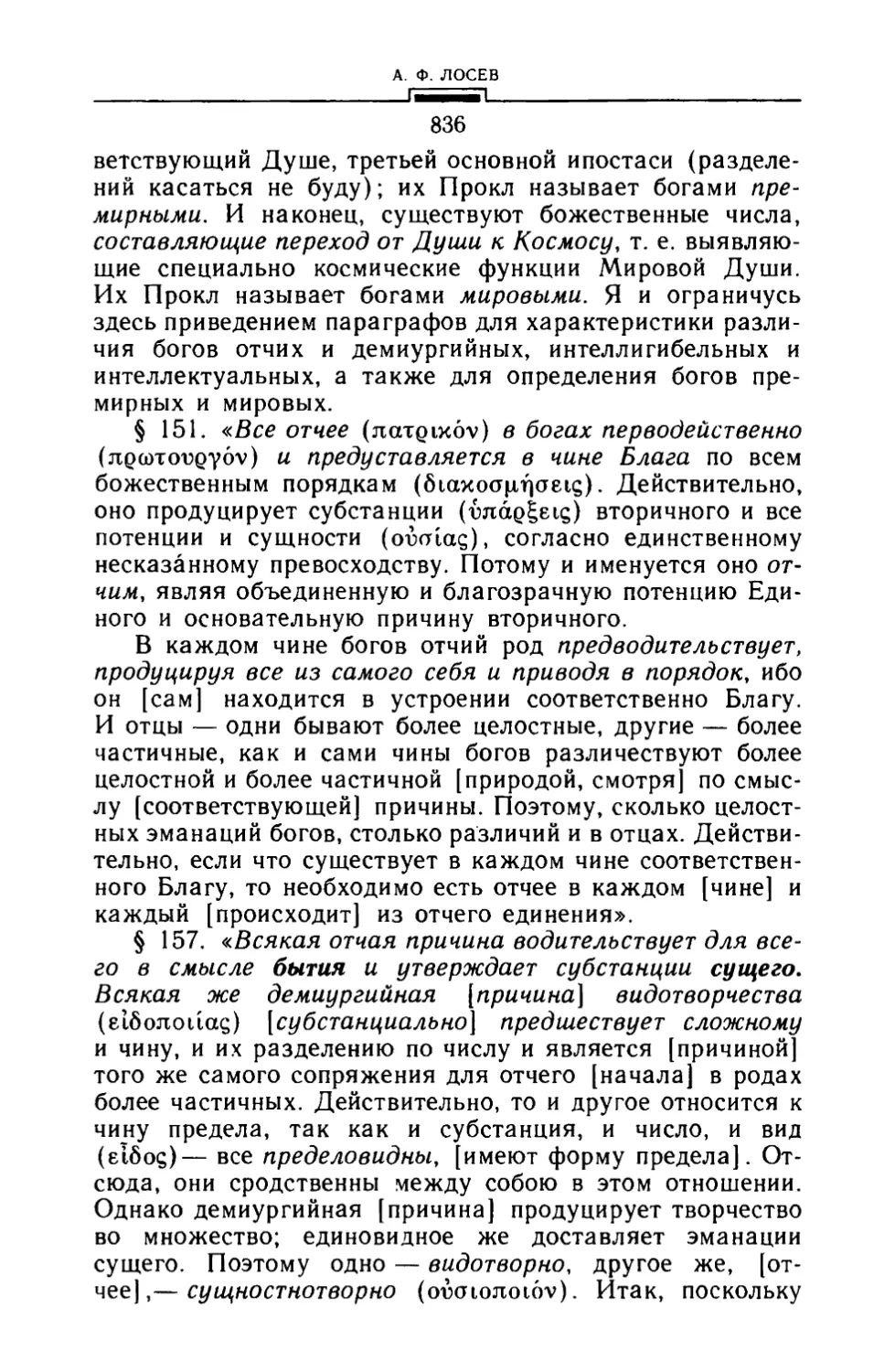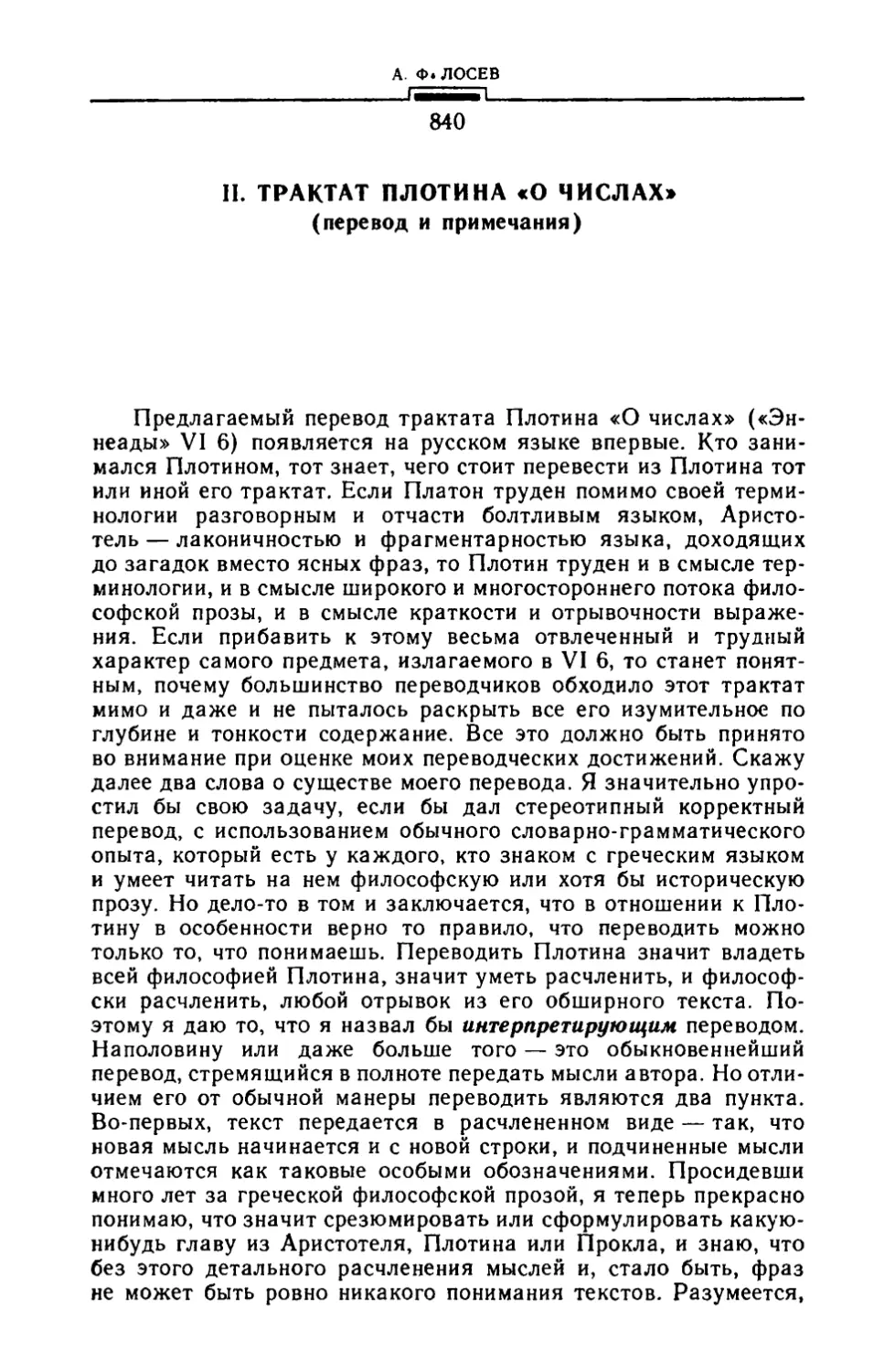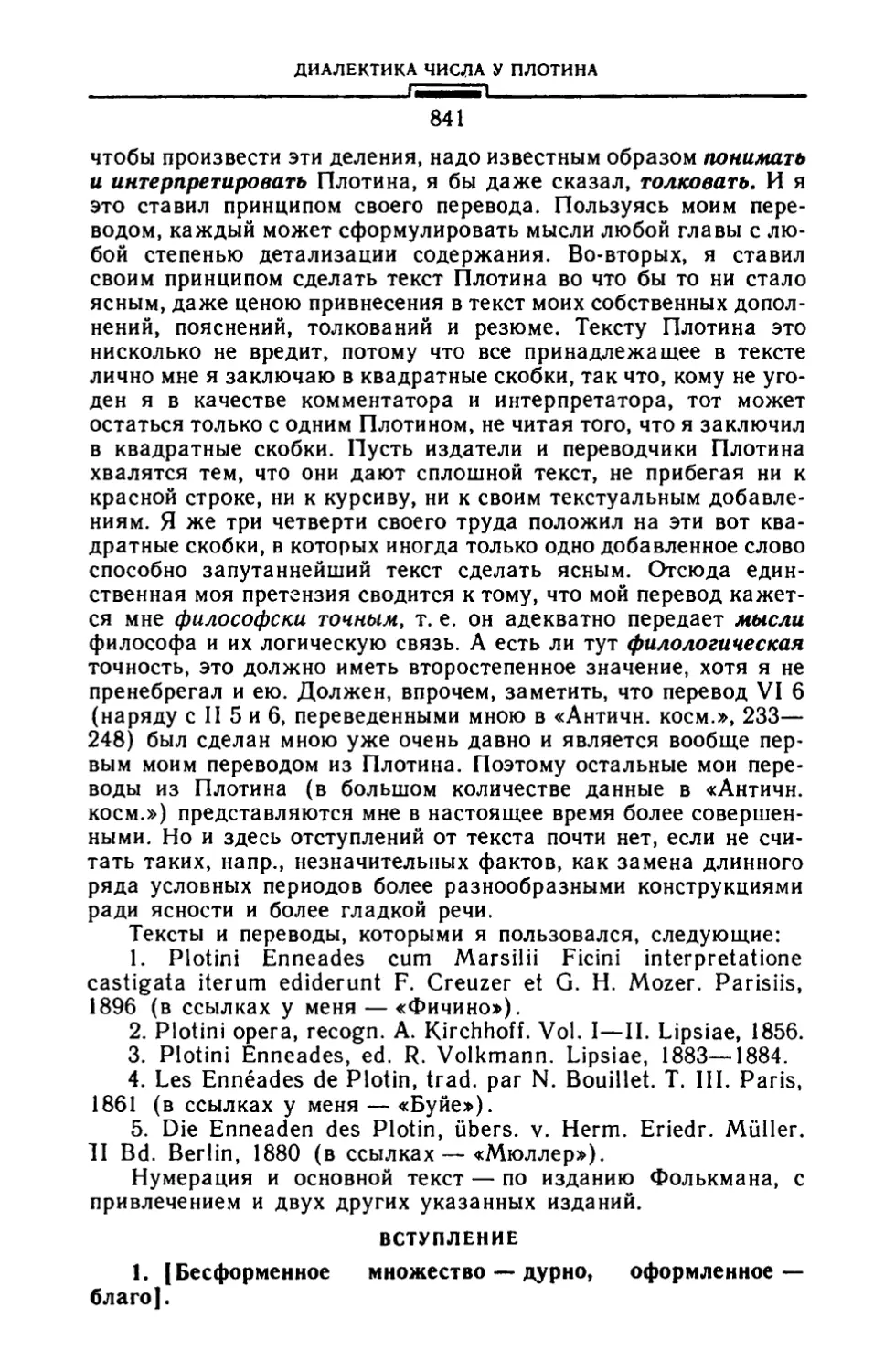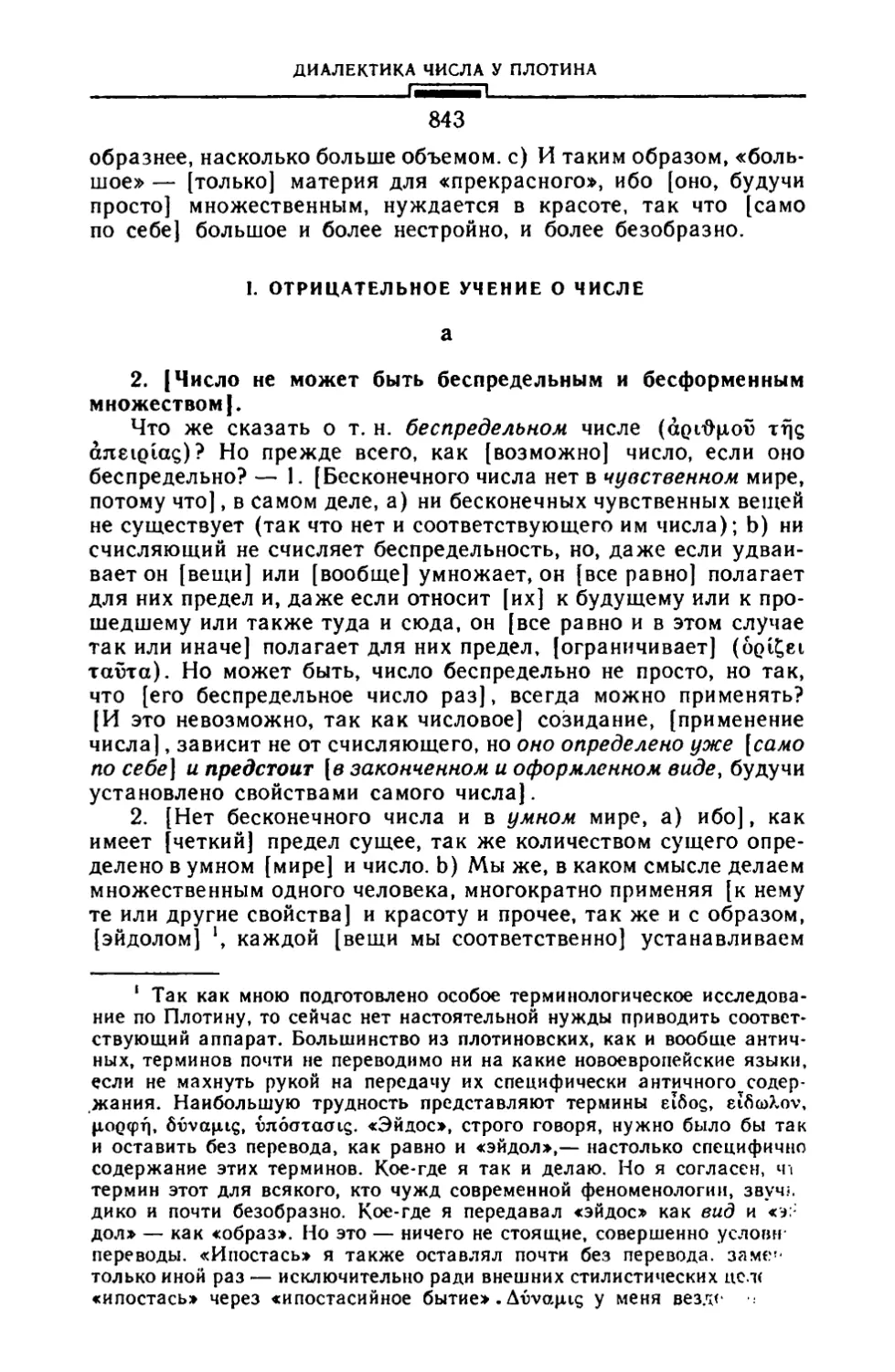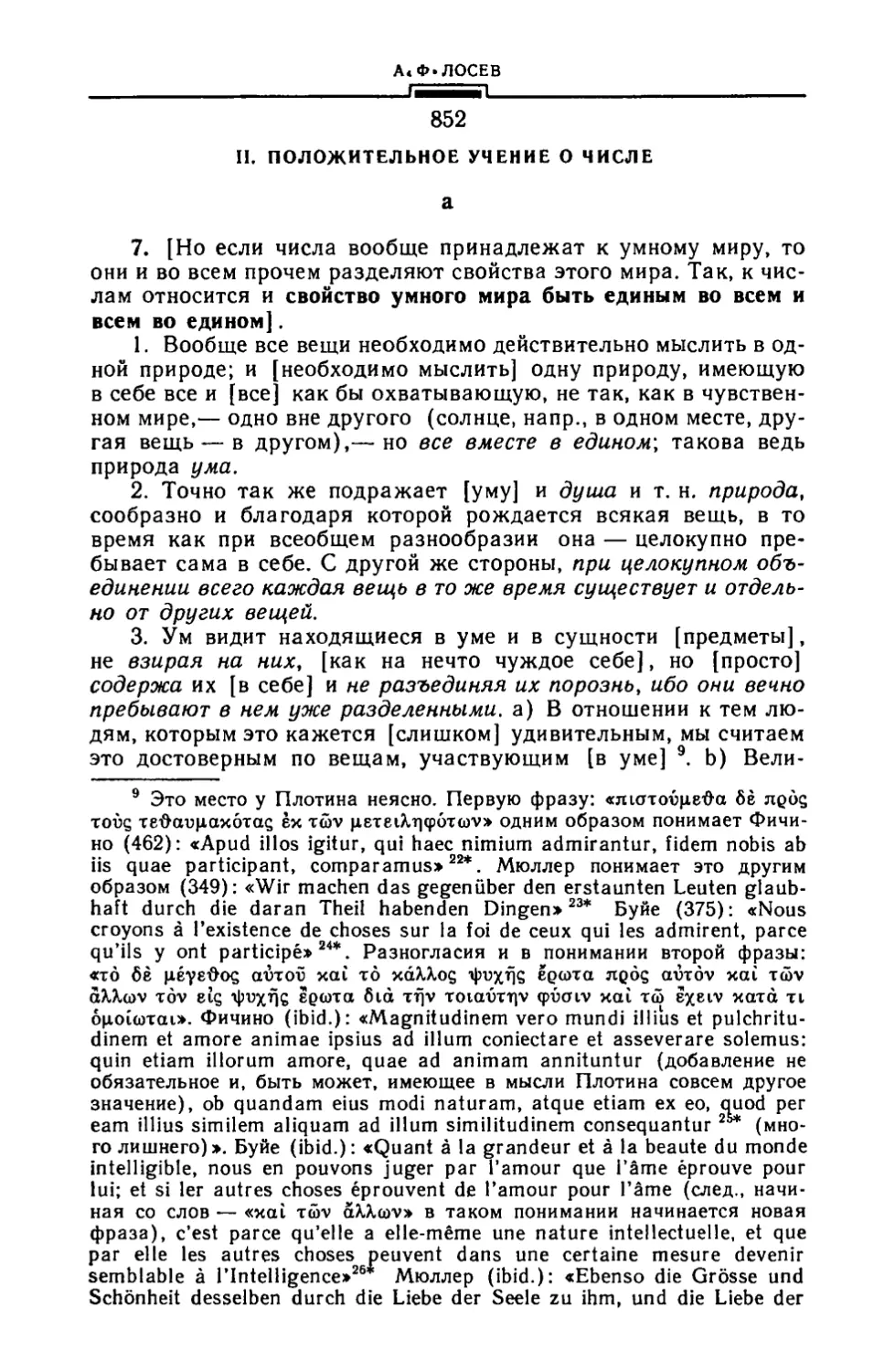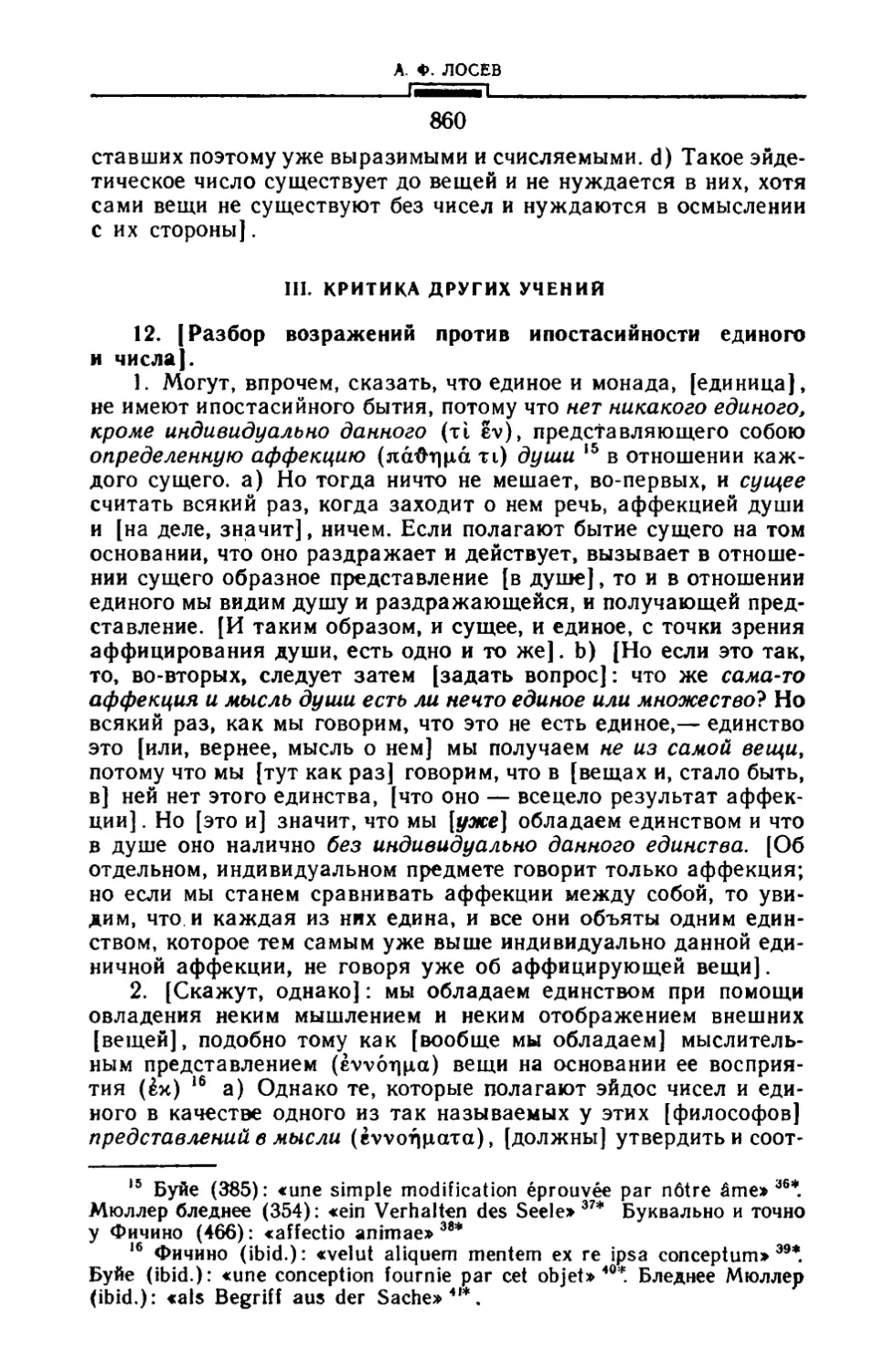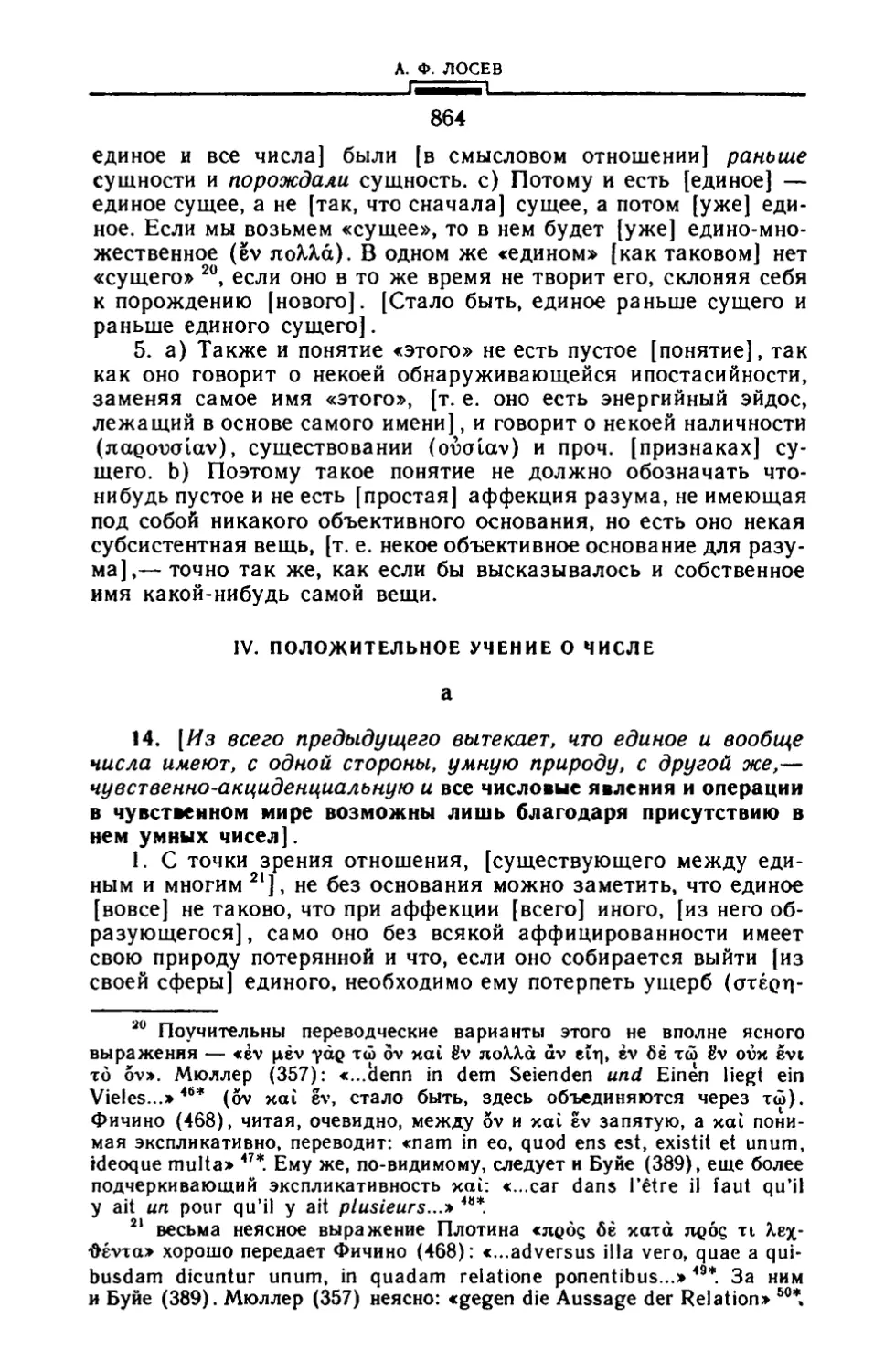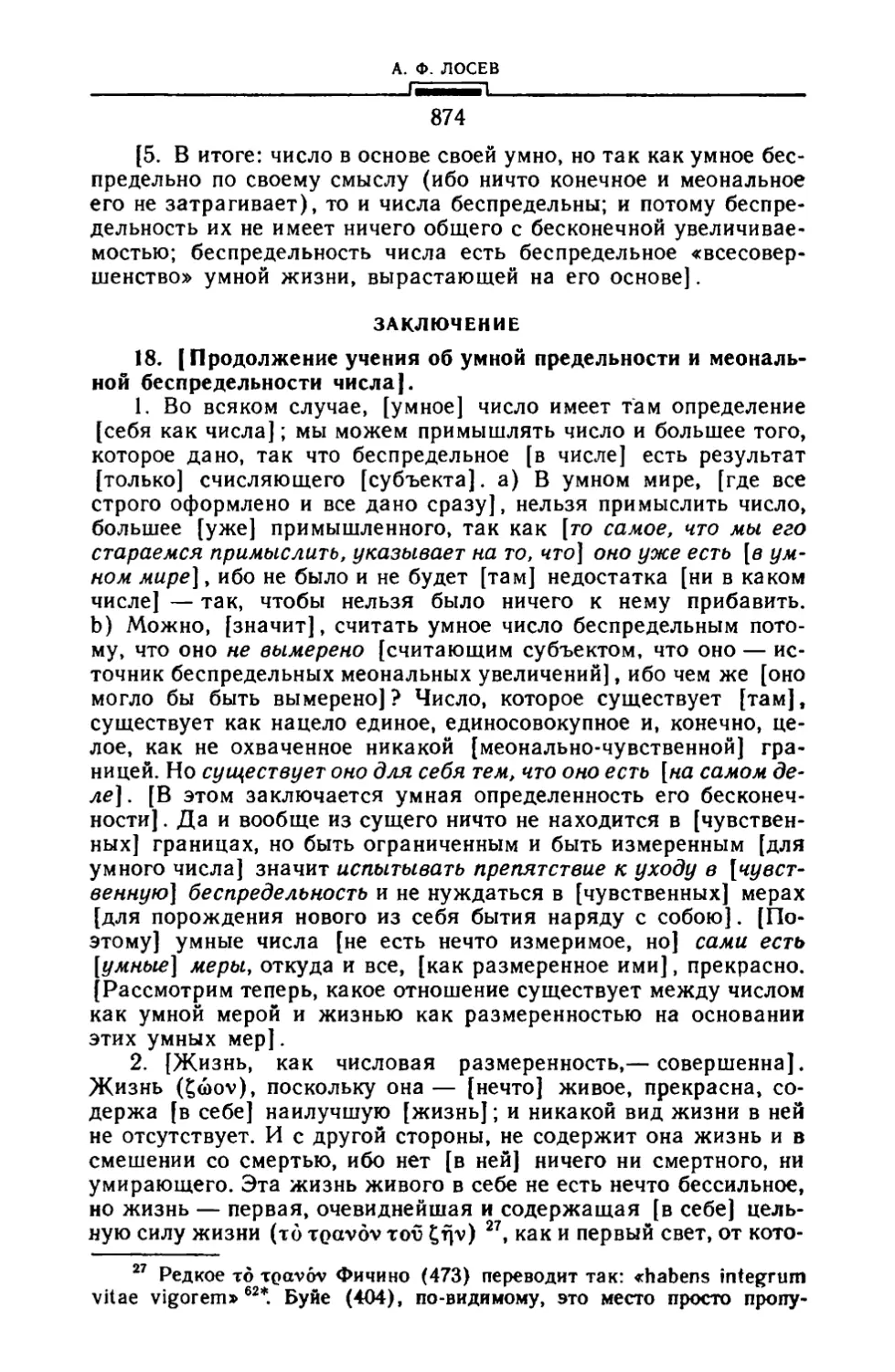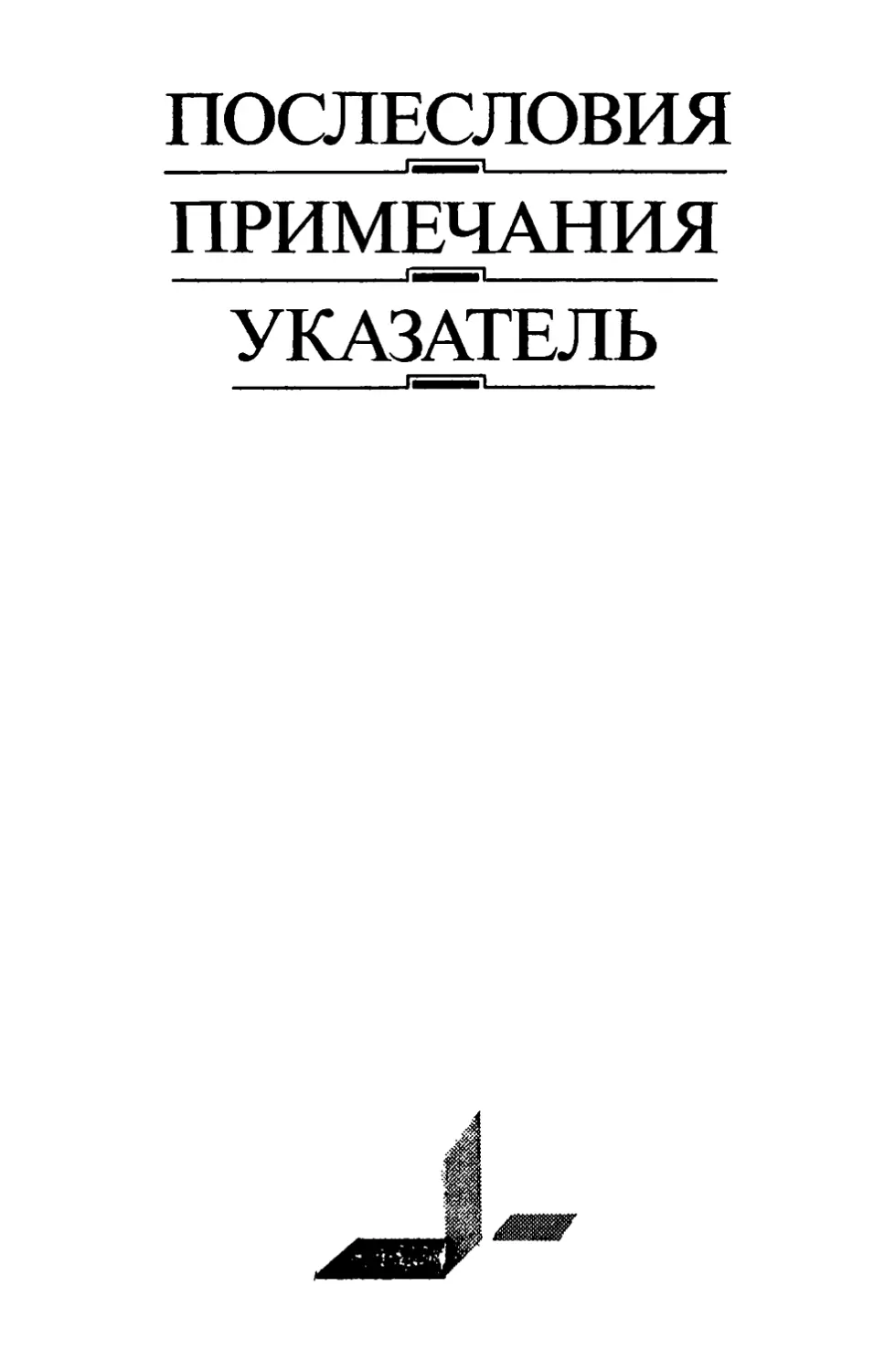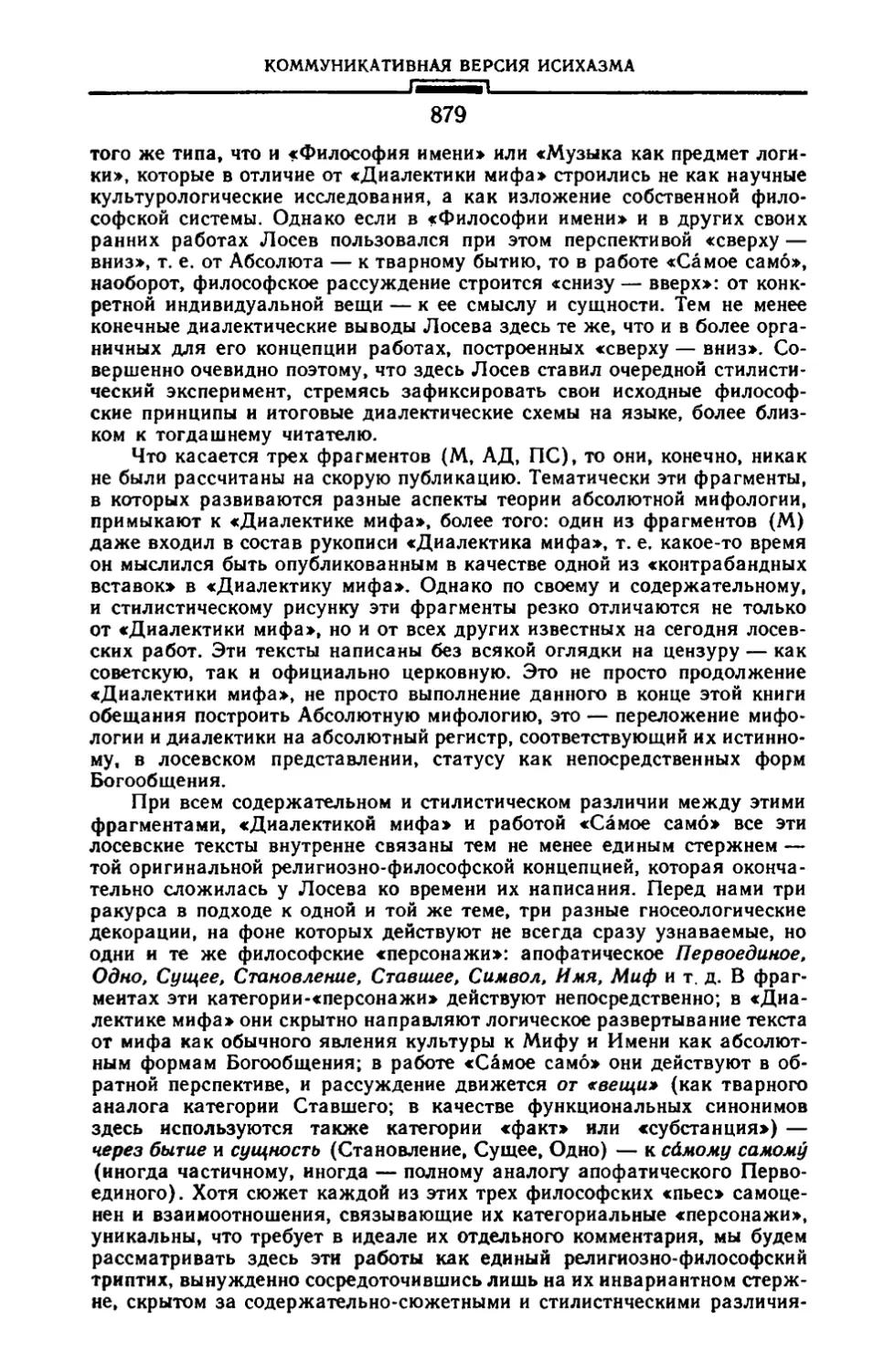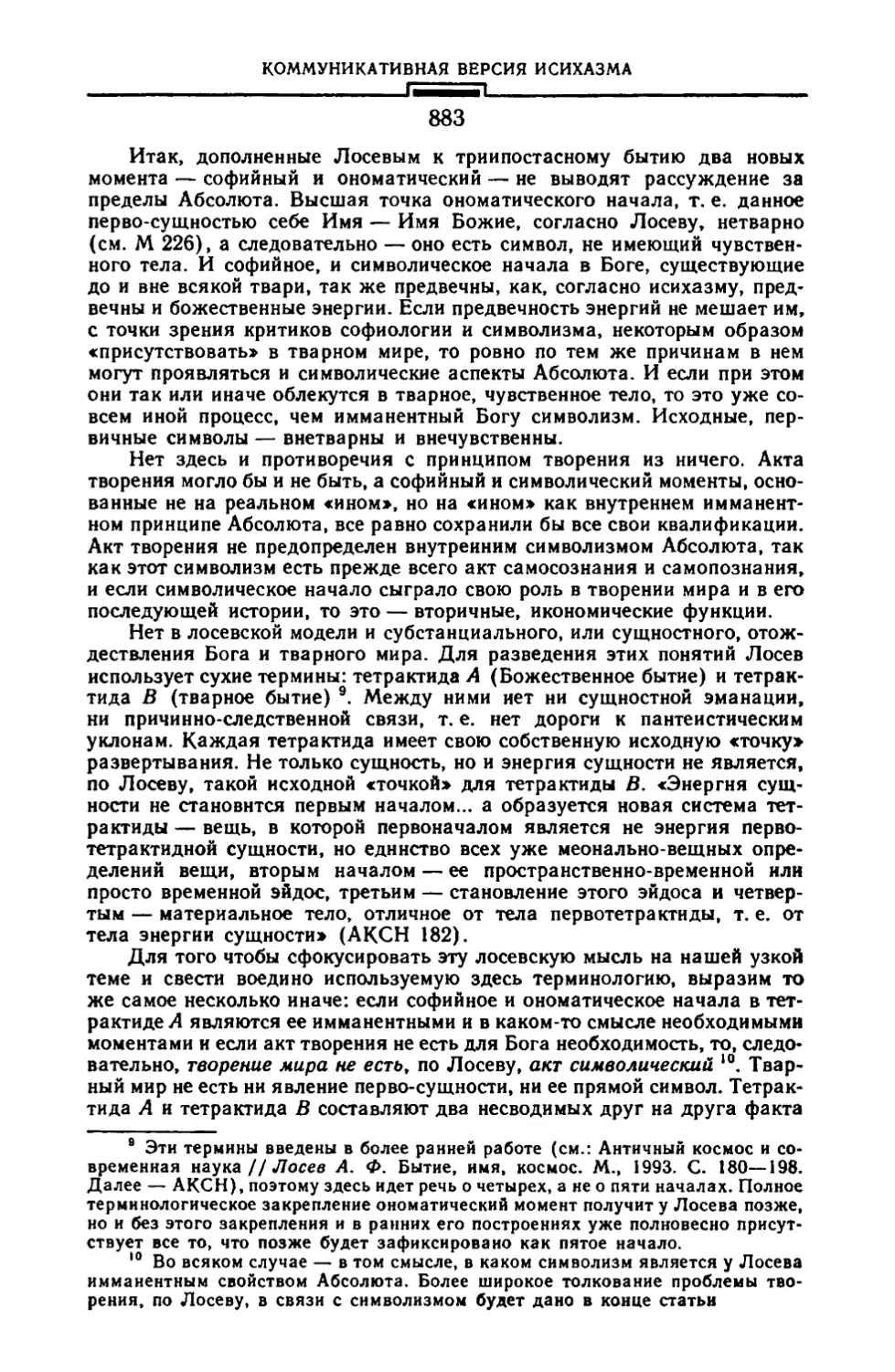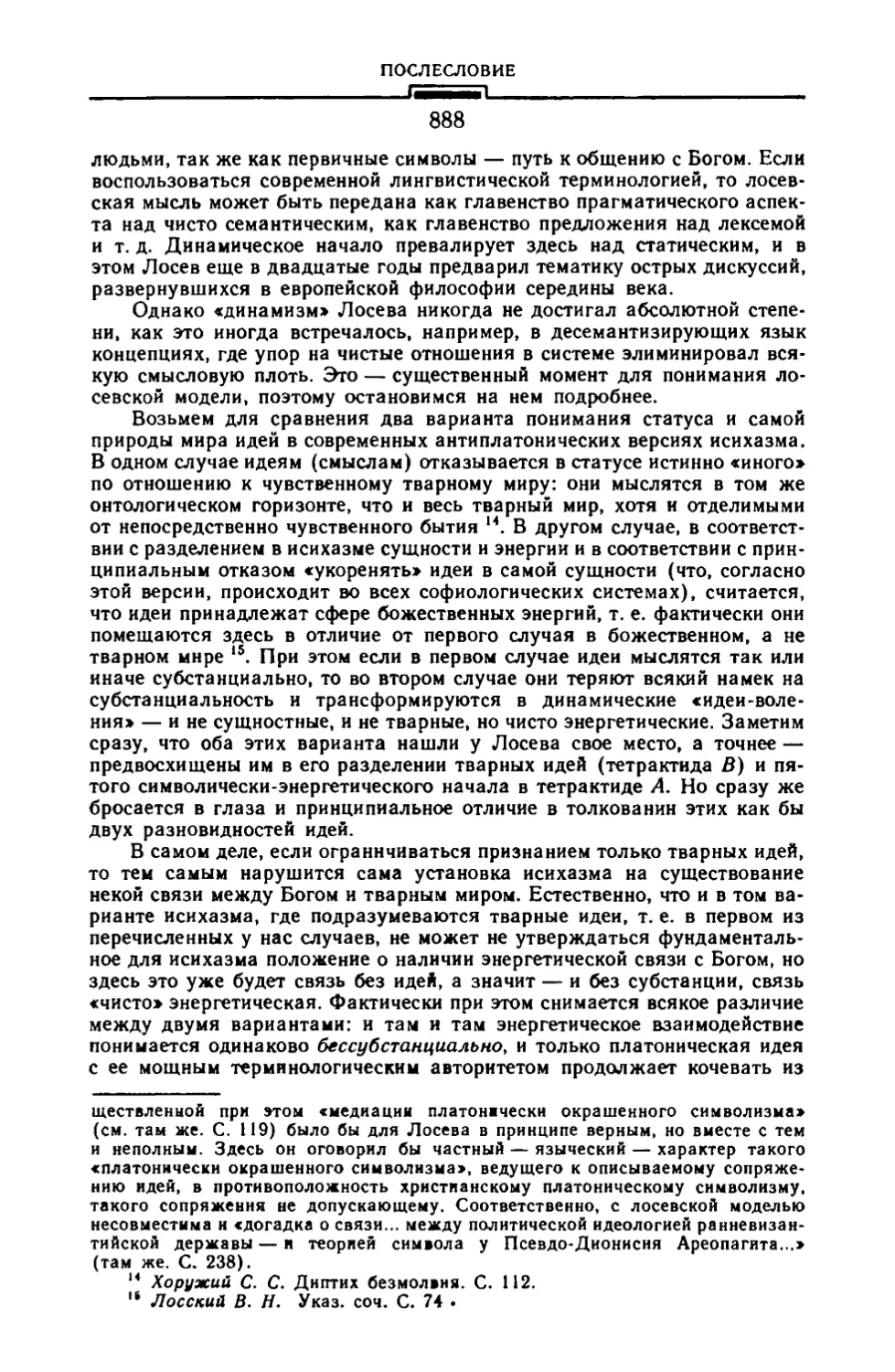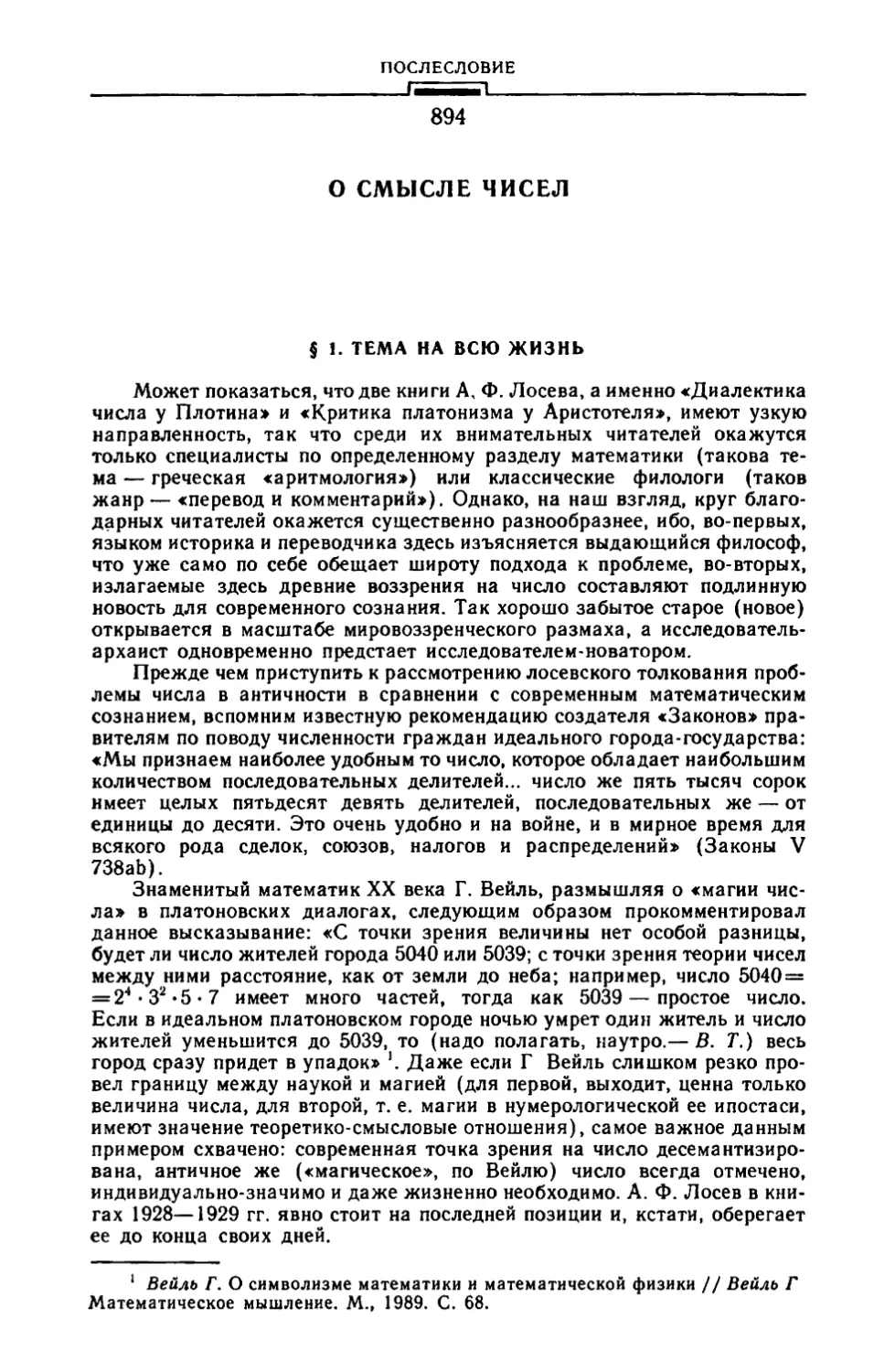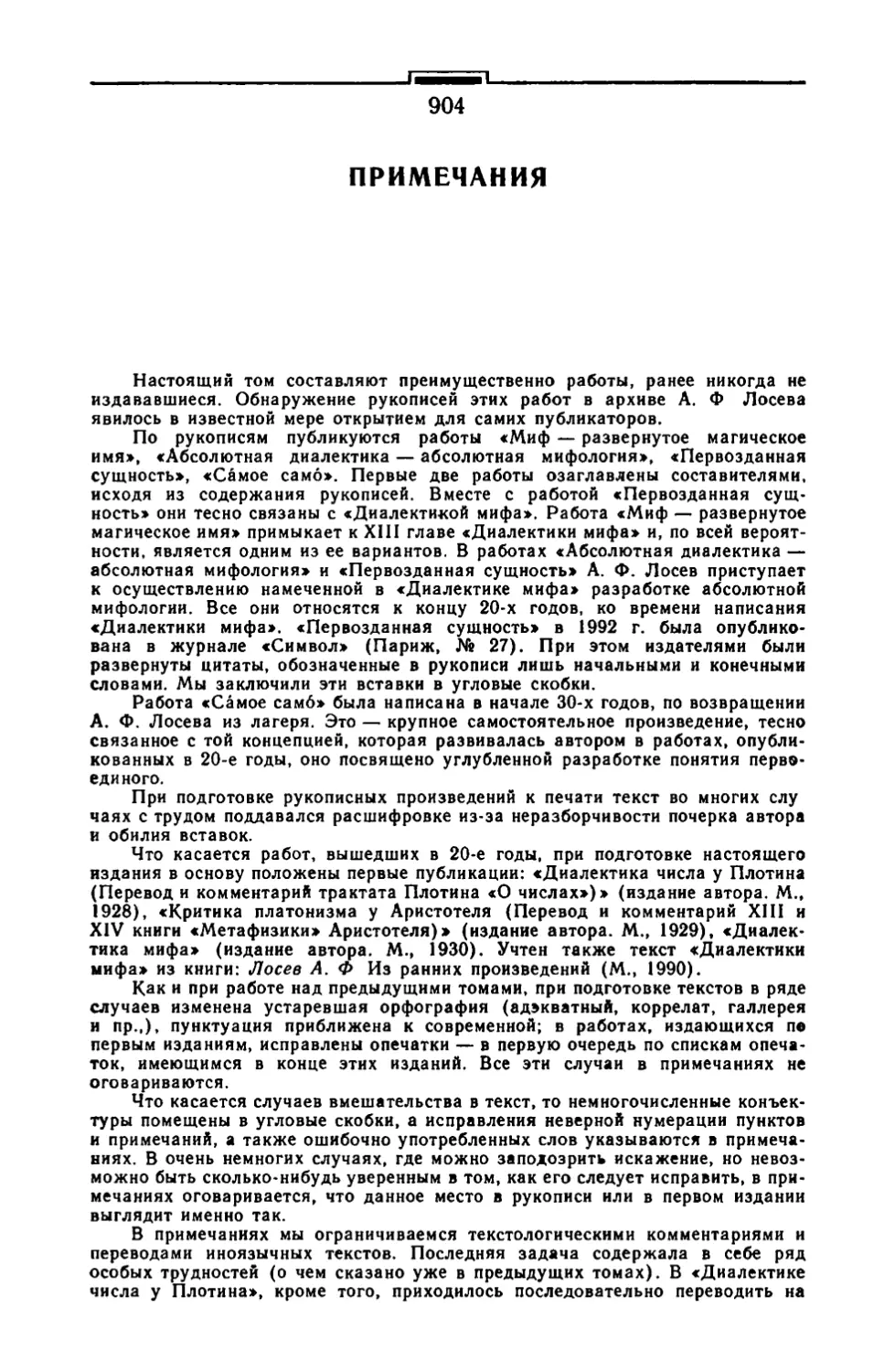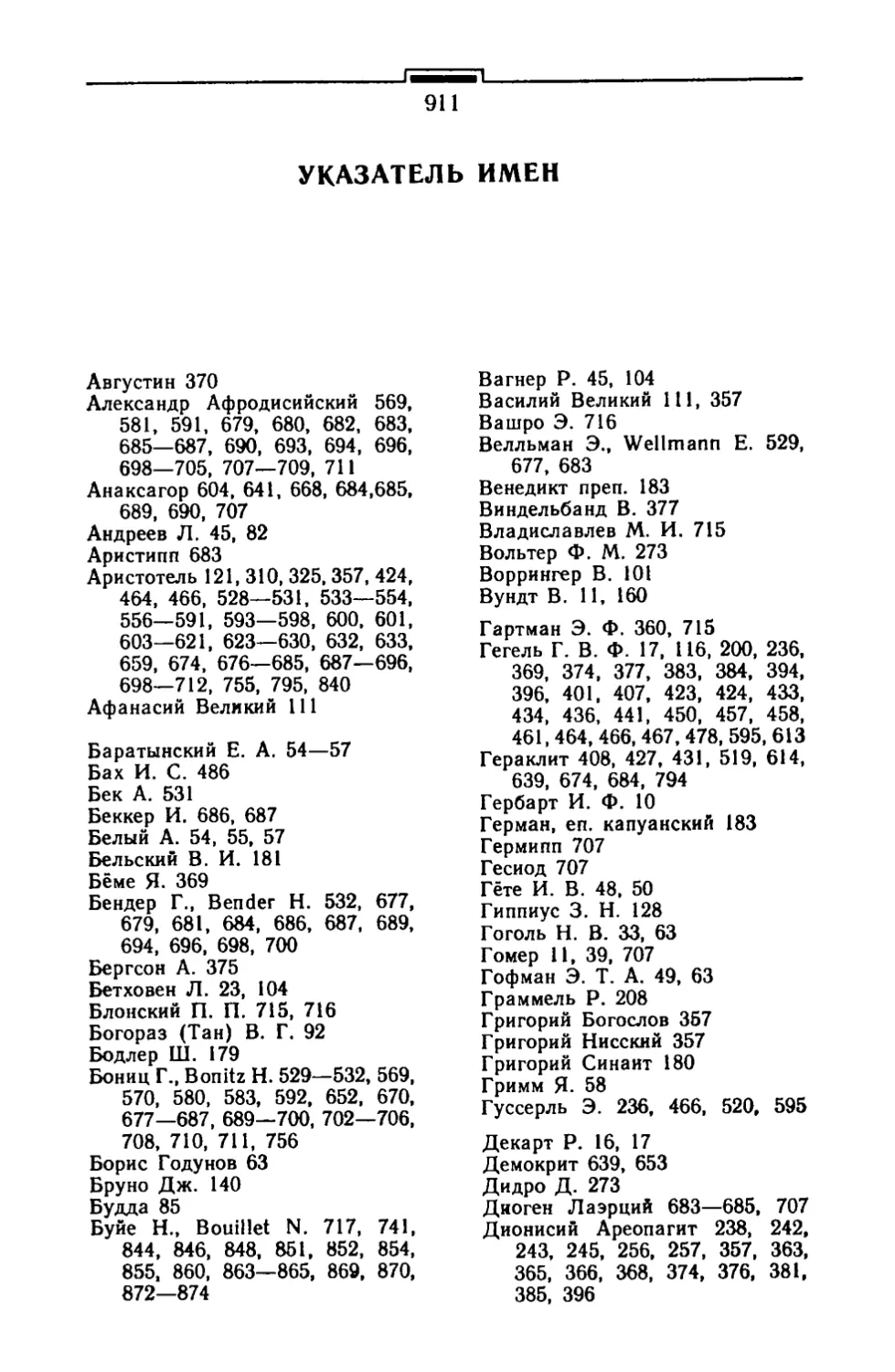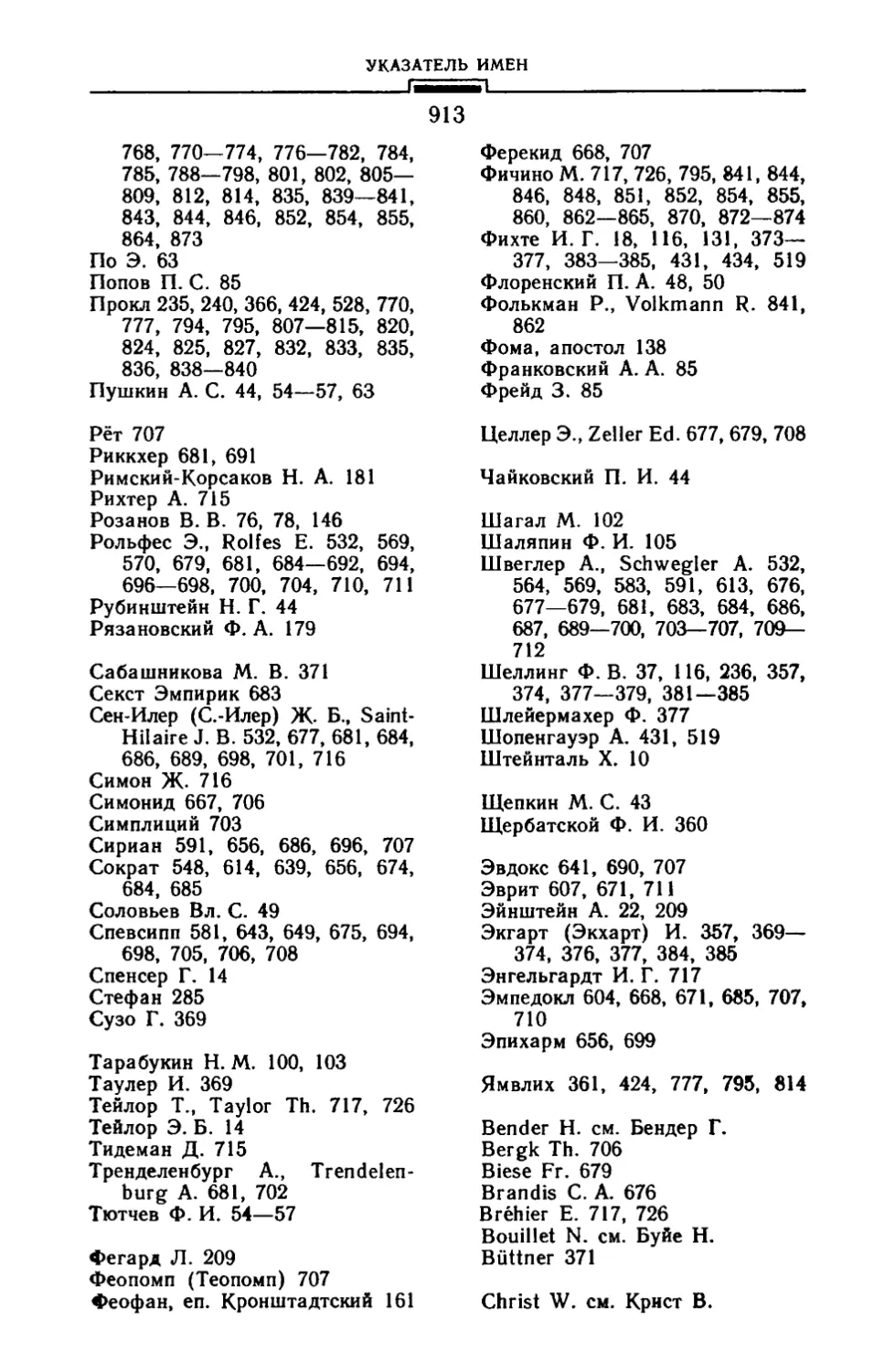Текст
Алексей
Федорович
ЧИСТО
СШЩОСТЬ
Алексей
Федорович
ЛОСЕВ
МИФ
—J—I
ЧИСЛЮ
СУЩНОСТЬ
Алексей
Федорович
ЛОСЕВ
МИФ
ЧИСЛО
СУЩНОСТЬ
Издательство «Мысль»
Москва 1994
ББК 87.3(2)
Л79
РЕДАКЦИЯ ПО ИЗДАНИЮ БИБЛИОТЕКИ
«ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
Федеральная целевая программа
книгоиздания России
Составление А. Л. Тахо-Годи,
общая редакция А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова
Гравюра выполнена Ф. Домогацким
А. А. Тахо-Годи. 1994
A. А. Тахо-Годи. Составление. 1994
Л. А. Гоготишвили. Послесловие.
Коммуникативная версия исихазма. 1994
B. П. Троицкий. Послесловие.
О смысле чисел. 1994
Издательство «Мысль». 1994
ДИАЛЕКТИКА
I—) -
МИФА
'
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее небольшое исследование имеет своим
предметом одну из самых темных областей человеческого
сознания, которой раньше занимались главным образом
богословы или этнографы. Те и другие достаточно
оскандалились, чтобы теперь могла идти речь о вскрытии существа
мифа богословскими или этнографическими методами.
И не в том беда, что богословы — мистики и этнографы —
эмпирики (большею частью богословы весьма плохие
мистики, пытаясь заигрывать с наукой и мечтая стать
полными позитивистами, а этнографы — увы! — часто
очень плохие эмпирики, находясь в цепях той или другой
произвольной и бессознательной метафизической теории).
Беда в том, что мифологическая наука до сих пор не стала
не только диалектической, но даже и просто описательно-
феноменологической. От мистики все равно не отделаться,
раз миф претендует говорить о мистической
действительности, и, с другой стороны, без фактов невозможна
никакая диалектика. Но если будут считать, что факты
мистического и мифического сознания, которые я привожу в
пример, суть исповедуемые мною самим факты или что учение
о мифе только и состоит из наблюдения одних фактов, то
лучше им не вникать в мой анализ мифа. Надо вырвать
учение о мифе и из сферы ведения богословов, и из сферы
ведения этнографов; и надо принудить стать сначала на
точку зрения диалектики и феноменолого-диалектической
чистки понятий, а потом уже предоставить делать с мифом
что угодно. Позитивно анализируя миф, я не пошел вслед
за многими, которые теперь позитивизм изучения религии
и мифа видят в насильственном изгнании из того и другого
всего таинственного и чудесного. Хотят вскрывать
существо мифа, но для этого сначала препарируют его так, что
в нем уже ничего не содержится ни сказочного, ни вообще
чудесного. Это — или нечестно, или глупо. Что касается
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I—\
7
меня, то я вовсе не думаю, что мое исследование будет
лучше, если я скажу, что миф не есть миф и религия не есть
религия. Я беру миф так, как он есть, т. е. хочу вскрыть
и позитивно зафиксировать, что такое миф сам по себе
и как он мыслит сам свою чудесную и сказочную природу.
Но я прошу не навязывать мне несвойственных мне точек
зрения и прошу брать от меня только то, что я даю,— т. е.
только одну диалектику мифа.
Диалектика мифа невозможна без социологии мифа.
Хотя это сочинение и не дает специально социологии мифа,
но это является введением в социологию, которую я всегда
мыслил философско-исторически и диалектически.
Разобравши логическую и феноменологическую структуру
мифа, я перехожу в конце книги к установке основных
социальных типов мифологии. Этой социологией мифа я
занимаюсь специально в другом труде, но уже и тут ясна
всеобъемлющая роль мифического сознания в разных
слоях культурного процесса. Теория мифа, которая не
захватывает культуры вплоть до ее социальных корней, есть
очень плохая теория мифа. Нужно быть очень плохим
идеалистом, чтобы отрывать миф от самой гущи исторического
процесса и проповедовать либеральный дуализм: реальная
жизнь — сама по себе, а миф — сам по себе. Я никогда
не был ни либералом, ни дуалистом, и никто не может меня
упрекать в этих ересях.
А. Лосев
Москва. 28 января 1930 г.
I I
8
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Задачей предлагаемого очерка является существенное
вскрытие понятия мифа, опирающееся только на тот
материал, который дает само мифическое сознание. Должны
быть отброшены всякие объяснительные, напр.
метафизические, психологические и проч., точки зрения. Миф
должен быть взят как миф, без сведения его на то, что не есть
он сам. Только имея такое чистое определение и описание
мифа, можно приступать к объяснению его с той или иной
гетерогенной точки зрения. Не зная, что такое миф сам по
себе, не можем говорить и об его жизни в той или другой
иноприродной среде. Надо сначала стать на точку зрения
самой мифологии, стать самому мифическим субъектом.
Надо вообразить, что мир, в котором мы живем и
существуют все вещи, есть мир мифический, что вообще на свете
только и существуют мифы. Такая позиция вскроет
существо мифа как мифа. И уже потом только можно
заниматься гетерогенными задачами, напр. «опровергать» миф,
ненавидеть или любить его, бороться с ним или насаждать
его. Не зная, что такое миф,— как можно с ним бороться
или его опровергать, как можно его любить или
ненавидеть? Можно, разумеется, не вскрывать самого понятия
мифа и все-таки его любить или ненавидеть. Однако все
равно какая-то интуиция мифа должна быть у того, кто
ставит себя в то или иное внешнее сознательное отношение
к мифу, так что логически наличие мифа самого по себе
в сознании у оперирующего с ним (оперирующего научно,
религиозно, художественно, общественно и т. д.) все-таки
предшествует самим операциям с мифологией. Поэтому
необходимо дать существенно-смысловое, т. е. прежде
всего феноменологическое, вскрытие мифа, взятого как
таковой, самостоятельно взятого самим по себе.
I. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантасти-»
ческий вымысел. Это заблуждение почти всех «научных»
ДИАЛЕКТИКА МИФА
9
методов исследования мифологии должно быть отброшено
в первую голову. Разумеется, мифология есть выдумка,
если применить к ней точку зрения науки, да и то не всякой,
но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых
новоевропейской истории последних двух-трех столетий.
С какой-то произвольно взятой, совершенно условной
точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы
условились рассматривать миф не с точки зрения какого-
нибудь научного, религиозного, художественного,
общественного и проч. мировоззрения, но исключительно лишь
с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа,
мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф
нас тут и интересует. А с точки зрения самого мифического
сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть
фикция и игра фантазии. Когда грек не в эпоху
скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа
говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах;
когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя
ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности
утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный
фанатизм доходит до самоистязания и даже до
самосожжения,— то весьма невежественно было бы утверждать,
что действующие тут мифические возбудители есть не
больше как только выдумка, чистый вымысел для данных
мифических субъектов. Нужно быть до последней степени
близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не
заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно)
наивысшая по своей конкретности, максимально
интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это
не выдумка, но — наиболее яркая и самая подлинная
действительность. Это — совершенно необходимая категория
мысли и жизни, далекая от всякой случайности и
произвола. Заметим, что для науки XVII — XIX столетий ее
собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как
реальны для мифического сознания его собственные
категории. Так, напр., Кант объективность науки связал
с субъективностью пространства, времени и всех
категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме
он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта
попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно
показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью
и объективностью своих категорий. Некоторые
представители науки даже любили и любят щеголять таким рассуж-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
10
дением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти
последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот
эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное,
или она есть порождение моего субъекта или мозга — это
меня не касается. Совершенно противоположна этому
точка зрения мифического сознания. Миф —
необходимейшая — прямо нужно сказать,
трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно
ничего случайного, ненужного, произвольного,
выдуманного или фантастического. Это — подлинная и
максимально конкретная реальность.
Ученые-мифологи почти всегда находятся во власти
этого всеобщего предрассудка; и если они не прямо
говорят о субъективизме мифологии, то дают те или иные более
тонкие построения, сводящие мифологию все к тому же
субъективизму. Так, учение об иллюзорной апперцепции
в духе психологии Гербарта у Лацаруса и Штейнталя
также является совершенным искажением мифического
сознания и ни с какой стороны не может быть связано с
существом мифических построений. Тут вообще мы должны
поставить такую дилемму. Или мы говорим не о самом
мифическом сознании, а о том или ином отношении к нему,
нашем собственном или чьем-либо ином, и тогда можно
говорить, что миф — досужая выдумка, что миф —
детская фантазия, что он — не реален, но субъективен,
философски беспомощен или, наоборот, что он есть предмет
поклонения, что он — прекрасен, божествен, свят и т. д.
Или же, во-вторых, мы хотим вскрыть не что-нибудь иное,
а самый миф, самое существо мифического сознания, и —
тогда миф всегда и обязательно есть реальность,
конкретность, жизненность и для мысли — полная и абсолютная
необходимость, нефантастичность, нефиктивность.
Слишком часто ученые-мифологи любили говорить о себе, т. е.
о свойственном им самим мировоззрении, чтобы еще и мы
пошли тем же путем. Нас интересует миф, а не та или иная
эпоха в развитии научного сознания. Но с этой стороны для
мифа нисколько не специфично и даже просто не
характерно то, что он — выдумка. Он — не выдумка, а содержит
в себе строжайшую и определеннейшую структуру и есть
логически, т. е. прежде всего диалектически, необходимая
категория сознания и бытия вообще.
П. Миф не есть бытие идеальное» Под идеальным
бытием условимся сейчас понимать не бытие лучшее, совер-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
11
шеннейшее и возвышеннейшее, чем бытие обыкновенное,
но просто смысловое бытие. Всякая вещь ведь имеет свой
смысл не с точки зрения цели, а с точки зрения
существенной значимости. Так, дом есть сооружение,
предназначенное для предохранения человека от атмосферных явлений;
лампа есть прибор, служащий для освещения, и т. п. Ясно,
что смысл вещи не есть сама вещь; он — абстрактное
понятие вещи, отвлеченная идея вещи, мысленная
значимость вещи. Есть ли миф такое отвлеченно-идеальное
бытие? Конечно, не есть ни в каком смысле. Миф не есть
произведение или предмет чистой мысли. Чистая, абстрактная
мысль меньше всего участвует в создании мифа. Уже
Вундт ] хорошо показал, что в основе мифа лежит
аффективный корень, так как он всегда есть выражение тех или
других жизненных и насущных потребностей и стремлений.
Чтобы создать миф, меньше всего надо употреблять
интеллектуальные усилия. И опять-таки мы говорим не о теории
мифа, а о самом мифе как таковом. С точки зрения той или
иной теории можно говорить о мыслительной работе
субъекта, создающего миф, об отношении ее к другим
психическим факторам мифообразования, даже о
превалировании ее над другими факторами и т. д. Но, рассуждая
имманентно, мифическое сознание есть меньше всего
интеллектуальное и мыслительно-идеальное сознание.
У Гомера (Od. XI 145 слл.) изображается, как Одиссей
спускается в Аид и оживляет на короткий срок обитающие
там души кровью. Известен обычай побратимства через
смешение крови из уколотых пальцев или обычаи
окропления кровью новорожденного младенца, а также
употребление крови убитого вождя и пр. Спросим себя: неужели
какое-то мыслительно-идеальное построение понятия
крови заставляет этих представителей мифического сознания
относиться к крови именно так? И неужели миф о действии
крови есть только абстрактное построение того или другого
понятия? Мы должны согласиться, что здесь ровно
столько же мысли, сколько и в отношении, напр., к красному
цвету, который, как известно, способен приводить в
бешенство многих животных. Когда какие-нибудь дикари
раскрашивают покойника или намазывают свои лица перед
битвой красной краской, то ясно, что не отвлеченная мысль
1 Вундт В. Миф и религия, пер. под ред. Д. Н.
Овсянико-Куликовского. СПб., С. 37—51
Α. Φ. ЛОСЕВ
12
о красном цвете действует здесь, но какое-то иное, гораздо
более интенсивное, почти аффективное сознание,
граничащее с магическими формами. Было бы совершенно
ненаучно, если бы мы стали мифический образ Горгоны, с
оскаленными зубами и дико выпученными глазами,— это
воплощение самого ужаса и дикой, ослепительно жестокой,
холодно-мрачной одержимости — толковать как результат
абстрактной работы мыслителей, вздумавших производить
разделение идеального и реального, отбросить все
реальное и сосредоточиться на анализе логических деталей
бытия идеального. Несмотря на всю вздорность и полную
фантастичность такого построения, оно постоянно имеет
место в разных «научных» изложениях.
В особенности заметно это засилье абстрактной мысли
в оценке самых обыкновенных, житейских психологических
категорий. Переводя цельные мифические образы на язык
их абстрактного смысла, понимают цельные мифически-
психологические переживания как некие идеальные
сущности, не внимая к бесконечной сложности и
противоречивости реального переживания, которое, как мы увидим
впоследствии, всегда мифично. Так, чувство обиды, чисто вер-
бально вскрываемое в наших учебниках психологии,
всегда трактуется как противоположность чувству
удовольствия. Насколько условна и неверна такая психология,
далекая от мифизма живого человеческого сознания, можно
было бы показать на массе примеров. Многие, например,
любят обижаться. Я всегда вспоминаю в этих случаях
Ф. Карамазова: «Именно, именно приятно обидеться. Это
вы так хорошо сказали, что я и не слыхал еще. Именно,
именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для
эстетики обижался, ибо не только приятно, да и красиво
иной раз обиженным быть; — вот что вы забыли, великий
старец: красиво! Это я в книжку запишу!» В абстрактно-
идеальном смысле обида есть, конечно, нечто неприятное.
Но жизненно это далеко не всегда так. Совершенно
абстрактно (приведу еще пример) наше обычное отношение
к пище. Вернее, абстрактно не самое отношение (оно
волей-неволей всегда мифично и конкретно), а нежизненно
наше желание относиться к ней, испорченное
предрассудками ложной науки и унылой, серой,
обывательски-мещанской повседневной мысли. Думают, что пища и есть
пища и что об ее химическом составе и физиологическом
значении можно узнать в соответствующих научных руко-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I 1
13
водствах. Но это-то и есть засилье абстрактной мысли,
которая вместо живой пищи видит голые идеальные понятия.
Это — убожество мысли и мещанство жизненного опыта.
Я же категорически утверждаю, что тот, кто ест мясо,
имеет совершенно особое мироощущение и мировоззрение,
резко отличное от тех, кто его не ест. И об этом я мог бы
высказать очень подробные и очень точные суждения.
И дело не в химии мяса, которая, при известных условиях,
может быть одинаковой с химией растительных веществ,
а именно в мифе. Лица, не отличающие тут одно от другого,
оперируют с идеальными (да и то весьма ограниченными)
идеями, а не с живыми вещами. Также мне кажется, что
надеть розовый галстук или начать танцевать для иного
значило бы переменить мировоззрение, которое, как это
мы еще увидим в дальнейшем, всегда содержит
мифологические черты. Костюм — великое дело. Мне рассказали
однажды печальную историю об одном иеромонахе
монастыря. Одна женщина пришла к нему с искренним
намерением исповедоваться. Исповедь была самая настоящая,
удовлетворившая обе стороны. В дальнейшем исповедь
повторялась. В конце концов исповедальные разговоры
перешли в любовные свидания, потому что духовник и
духовная дочь почувствовали друг к другу любовные
переживания. После долгих колебаний и мучений оба решили
вступить в брак. Однако одно обстоятельство оказалось
роковым. Иеромонах, расстригшись, одевши светский
костюм и обривши бороду, явился однажды к своей будущей
жене с сообщением о своем окончательном выходе из
монастыря. Та встретила его вдруг почему-то весьма холодно
и нерадостно, несмотря на долгое страстное ожидание.
На соответствующие вопросы она долго не могла ничего
ответить, но в дальнейшем ответ выяснился в ужасающей
для нее самой форме: «Ты мне не нужен в светском виде».
Никакие увещания не могли помочь, и несчастный
иеромонах повесился у ворот своего монастыря. После этого
только ненормальный человек может считать, что наш
костюм не мифичен и есть только какое-то отвлеченное,
идеальное понятие, которое безразлично к тому,
осуществляется оно или нет и как осуществляется.
Я не буду умножать примеров (достаточное количество
их встретится еще в дальнейшем), но уже и сейчас видно,
что там, где есть хотя бы слабые задатки мифологического
отношения к вещи, ни в каком случае дело не может огра-
А Ф ЛОСЕВ
Іи^—1
14
ничиться одними идеальными понятиями. Миф — не
идеальное понятие и также не идея и не понятие. Это есть
сама жизнь. Для мифического субъекта это есть подлинная
жизнь, со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями
и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто
личной заинтересованностью. Миф не есть бытие
идеальное, но — жизненно ощущаемая и творимая,
вещественная реальность и телесная, до животности телесная
действительность 1
III. Миф не есть научное и, в частности, примитивно-
научное построение. 1. Предыдущее учение об идеальности
мифа особенно резко проявляется в понимании мифологии
как первобытной науки. Большинство ученых во главе
с Контом, Спенсером, даже Тейлором думает о мифе
именно так и этим в корне искажает всю подлинную природу
мифологии. Научное отношение к мифу, как один из видов
абстрактного отношения, предполагает изолированную
интеллектуальную функцию. Надо очень много наблюдать
и запоминать, очень много анализировать и синтезировать,
весьма и весьма внимательно отделять существенное от
несущественного, чтобы получить в конце концов хоть
какое-нибудь элементарное научное обобщение. Наука
в этом смысле чрезвычайно хлопотлива и полна суеты.
В хаосе и неразберихе эмпирически спутанных, текучих
вещей надо уловить идеально-числовую, математическую
закономерность, которая хотя и управляет этим хаосом,
но сама-то не есть хаос, а идеальный, логический строй
и порядок (иначе уже первое прикосновение к
эмпирическому хаосу было бы равносильно созданию науки
математического естествознания). И вот, несмотря на всю
абстрактную логичность науки, почти все наивно убеждены,
что мифология и первобытная наука — одно и то же. Как
бороться с этими застарелыми предрассудками? Миф
всегда чрезвычайно практичен, насущен, всегда эмоционален,
аффективен, жизнен. И тем не менее думают, что это —
начало науки. Никто не станет утверждать, что мифология
(та или иная, индийская, египетская, греческая) есть
наука вообще, т. е. современная наука (если иметь в виду всю
1 Из громадной литературы я бы привел интересную и богатую
по материалам работу, вскрывающую часто незаметные переходы между
обычным и мифологическим словоупотреблением. Röhr J Der okkulte
Kraftbegriff im Altertum. Phüologus. Supplbd. XVIL H. 1. Lpz., 1923.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
, і »
15
сложность ее выкладок, инструментария и аппаратуры)
Но если развитая мифология не есть развитая наука, то
как же развитая или неразвитая мифология может быть
неразвитой наукой? Если два организма совершенно
несходны в своем развитом и законченном виде, то как же
могут не быть принципиально различными их зародыши?
Из того, что научную потребность мы берем здесь в малом
виде, отнюдь не вытекает того, что она уже не есть научная
потребность. Первобытная наука, как бы она ни была
первобытна, есть все же как-то наука, иначе она совершенно
не войдет в общий контекст истории науки, и,
следовательно, нельзя ее будет считать и первобытной наукой. Или
первобытная наука есть именно наука,— тогда она ни в
каком случае не есть мифология; или первобытная наука
есть мифология,— тогда, не будучи наукой вообще, как
она может быть первобытной наукой? В первобытной
науке, несмотря на всю ее первобытность, есть некоторая
сумма вполне определенных устремлений сознания,
которые активно не хотят быть мифологией, которые
существенно и принципиально дополняют мифологию и мало
отвечают реальным потребностям последней. Миф насыщен
эмоциями и реальными жизненными переживаниями; он,
например, олицетворяет, обоготворяет, чтит или
ненавидит, злобствует. Может ли быть наука таковой?
Первобытная наука, конечно, тоже эмоциональна,
наивно-непосредственна и в этом смысле вполне мифологична. Но это-то
как раз и показывает, что если бы мифологичность
принадлежала к ее сущности, то наука не получила бы никакого
самостоятельного исторического развития и история ее
была бы историей мифологии. Значит, в первобытной
науке мифологичность является не «субстанцией», но
«акциденцией»; и эта мифологичность характеризует только ее
состояние в данный момент, а никак не науку саму по себе.
Мифическое сознание совершенно непосредственно и
наивно, общепонятно; научное сознание необходимо обладает
выводным, логическим характером; оно— не
непосредственно, трудно усвояемо, требует длительной выучки и
абстрактных навыков. Миф всегда синтетически жизнен и
состоит из живых личностей, судьба которых освещена
эмоционально и интимно ощутительно; наука всегда
превращает жизнь в формулу, давая вместо живых личностей их
отвлеченные схемы и формулы; и реализм, объективизм
науки заключается не в красочном живописании жизни,
Α. Φ. ЛОСЕВ
16
но — в правильности соответствия отвлеченного закона
и формулы с эмпирической текучестью явлений, вне всякой
картинности, живописности или эмоциональности.
Последние свойства навсегда превратили бы науку в жалкий и
малоинтересный привесок мифологии. Поэтому необходимо
надо считать, что уже на первобытной ступени своего
развития наука не имеет ничего общего с мифологией, хотя,
в силу исторической обстановки, и существуют как
мифологически окрашенная наука, так и научно осознанная или
хотя бы примитивно-научно трактованная мифология. Как
наличие «белого человека» ничего не доказывает на ту
тему, что «человек» и «белизна» одно и то же, и как,
наоборот, доказывает именно то, что «человек» (как таковой)
не имеет ничего общего с «белизной» (как таковой) — ибо
иначе «белый человек» было бы тавтологией,— так и
между мифологией и первобытной наукой существует «акци-
денциальное», но никак не «субстанциальное» тождество.
2. В связи с этим я категорически протестую против
второго лженаучного предрассудка, заставляющего
утверждать, что мифология предшествует науке, что наука
появляется из мифа, что некоторым историческим эпохам,
в особенности современной нам, совершенно не
свойственно мифическое сознание, что наука побеждает миф.
Прежде всего, что значит, что мифология предшествует
науке? Если это значит, что миф проще для восприятия,
что он наивнее и непосредственнее науки, то спорить об
этом совершенно не приходится. Также трудно спорить и о
том, что мифология дает для науки тот первоначальный
материал, над которым она будет в дальнейшем
производить свои абстракции и из которого она должна выводить
свои закономерности. Но если указанное утверждение
имеет тот смысл, что сначала существует мифология, а
потом наука, то оно требует полного отвержения и критики.
Именно, во-вторых, если брать реальную науку, т. е.
науку, реально творимую живыми людьми в определенную
историческую эпоху, то такая наука решительно всегда
не только сопровождается мифологией, но и реально
питается ею, почерпая из нее свои исходные
интуиции.
Декарт — основатель новоевропейского рационализма
и механизма, а стало быть, и позитивизма. Не жалкая
салонная болтовня материалистов XVIII века, а, конечно,
Декарт есть подлинный основатель философского позити-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
17
визма. И вот оказывается, что под этим позитивизмом
лежит своя определенная мифология. Декарт начинает свою
философию с всеобщего сомнения. Даже относительно
Бога он сомневается, не является ли и Он также
обманщиком. И где же он находит опору для своей философии, свое
уже несомненное основание? Он находит его в Я, в
субъекте, в мышлении, в сознании, в «ego», в «cogito». Почему
это так? Почему вещи менее реальны? Почему менее
реален Бог, о котором Декарт сам говорит, что это яснейшая
и очевиднейшая, простейшая идея? Почему не что-нибудь
еще иное? Только потому, что таково его собственное
бессознательное вероучение, такова его собственная
мифология, такова вообще индивидуалистическая и
субъективистическая мифология, лежащая в основе новоевропейской
культуры и философии. Декарт — мифолог, несмотря на
весь свой рационализм, механизм и позитивизм. Больше
того, эти последние его черты только и объяснимы его
мифологией; они только и питаются ею.
Другой пример. Кант совершенно правильно учит о том,
что для того, чтобы познавать пространственные вещи,
надо к ним подойти уже в обладании представлениями
пространства. Действительно, в вещи мы находим разные
слои ее конкретизации: имеем ее реальное тело, объем, вес
и т. д., имеем ее форму, идею, смысл. Логически идея,
конечно, раньше материи, потому что сначала вы имеете
идею, а потом осуществляете ее на том или другом
материале. Смысл предшествует явлению. Из этой совершенно
примитивной и совершенно правильной установки Платон
и Гегель сделали вывод, что смысл, понятие —
объективны, что в объективном миропорядке сплетены в
неразрывную реальную связь логически различные моменты идеи
и вещи. Что же теперь выводит отсюда Кант? Кант из этого
выводит свое учение о субъективности всех
познавательных форм, пространства, времени, категорий. Его
аргументы уполномочивали его только на констатирование
логического предшествия форм и смыслов — текучим
вещам. На деле же всякая «формальность», оформление,
всякое осмысление и смысл для него обязательно
субъективны. Поэтому и получилось то, чего можно было бы и не
доказывать и что являлось его исходным вероучением
и мифологией. Рационалистически-субъективистическая
и отъединенно-индивидуалистическая мифология
празднует в кантовской философии, быть может, свою макси-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I )
18
мальную победу. Также и ранний Фихте первоначальное
единство всякого осмысления, до разделения на
практическое и теоретическое наукоучение, почему-то трактует
не как просто Единое, что сделал Плотин, а как Я. Тут тоже
мифология, которая ничем не доказана, ничем не
доказуема и которая ничем и не должна быть доказываема. И тут
удивляться нечему. Так всегда и бывает, что доказуемое
и выводное основывается на недоказуемом и
самоочевидном; и мифология только тогда и есть мифология, если она
не доказывается, если она не может и не должна быть
доказываемой.— Итак, под теми философскими
конструкциями, которые в новой философии призваны были
осознать научный опыт, кроется вполне определенная
мифология.
Не менее того мифологична и наука, не только
«первобытная», но и всякая. Механика Ньютона построена на
гипотезе однородного и бесконечного пространства. Мир
не имеет границ, т. е. не имеет формы. Для меня это
значит, что он — бесформен. Мир — абсолютно однородное
пространство. Для меня это значит, что он — абсолютно
плоскостей, невыразителен, нерельефен. Неимоверной
скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную
темноту и нечеловеческий холод междупланетных
пространств. Что это как не черная дыра, даже не могила
и даже не баня с пауками, потому что и то и другое все-
таки интереснее и теплее и все-таки говорит о чем-то
человеческом. Ясно, что это не вывод науки, а мифология,
которую наука взяла как вероучение и догмат. Не только
гимназисты, но и все почтенные ученые не замечают, что мир
их физики и астрономии есть довольно-таки скучное, порою
отвратительное, порою же просто безумное марево, та
самая дыра, которую ведь тоже можно любить и почитать.
Дыромоляи, говорят, еще и сейчас не перевелись в глухой
Сибири. А я, по грехам своим, никак не могу взять в толк:
как это земля может двигаться? Учебники читал, когда-то
хотел сам быть астрономом, даже женился на астрономке.
Но вот до сих пор никак не могу себя убедить, что земля
движется и что неба никакого нет. Какие-то там маятники
да отклонения чего-то куда-то, какие-то параллаксы...
Неубедительно. Просто жидковато как-то. Тут вопрос о целой
земле идет, а вы какие-то маятники качаете. А главное,
все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое,
жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
19
о вселенной, «яже не подвижется»... А то вдруг ничего нет,
ни земли, ни неба, ни «яже не подвижется». Куда-то
выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину
вслед пустили. «Вот-де твоя родина,— наплевать и
размазать!» Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то
палкой выгоняет меня из собственного дома и еще готов
плюнуть в физиономию. А за что?
Итак, механика Ньютона основана на мифологии
нигилизма. Этому вполне соответствует специфически
новоевропейское учение о бесконечном прогрессе общества
и культуры. Исповедовали часто в Европе так, что одна
эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка
и удобрение для другой эпохи, что эта другая эпоха не
имеет смысла сама по себе, но она тоже — навоз и почва
для третьей эпохи и т. д. В результате получается, что
никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного
смысла и что смысл данной эпохи, а равно и всех возможных
эпох отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные
времена. Ясно, что подобный вздор нужно назвать
мифологией социального нигилизма, какими бы «научными»
аргументами ее ни обставлять. Сюда же нужно отнести
также и учение о всеобщем социальном уравнении, что
также несет на себе все признаки
мифологически-социального нигилизма. Вполне мифологична теория бесконечной
делимости материи. Материя, говорят, состоит из атомов.
Но что такое атом? Если он — материален, то он имеет
форму и объем, например кубическую или круглую форму.
Но куб имеет определенной длины сторону и диагональ,
а круг имеет определенной длины радиус. И сторону, и
диагональ, и радиус можно разделить, напр., пополам, и,
следовательно, атом делим, и притом до бесконечности делим.
Если же он неделим, то это значит, что он не имеет
пространственной формы, а тогда я отказываюсь понимать,
что такое этот атом материи, который не материален. Итак,
или никаких атомов нет как материальных частиц, или они
делимы до бесконечности. Но в последнем случае атома,
собственно говоря, тоже не существует, ибо что такое
атом-«неделимое», которое делимо до бесконечности? Это
не атом, а бесконечно тонкая, имеющая в пределе нуль
пыль разбросавшейся и развеявшейся в бесконечность
материи. Итак, в обоих случаях атомизм есть ошибка,
возможная только благодаря слепой мифологии
нигилизма. Всякому здравомыслящему ясно, что дерево есть дере-
Α. Φ. ЛОСЕВ
' _
20
во, а не какая-то невидимая и почти несуществующая
пыль неизвестно чего и что камень есть камень, а не какое-
то марево и туман неизвестно чего. И все-таки
атомистическая метафизика была всегда популярна в Новое время
вплоть до последних дней. Это можно объяснить только
мифологическим вероучением новой западной науки и
философии.
Итак: наука не рождается из мифа, но наука не
существует без мифа, наука всегда мифологична.
3. Однако тут надо устранить два недоразумения.—
Во-первых, наука, говорим мы, всегда мифологична. Это
не значит, что наука и мифология — тождественны. Я уже
опровергал это положение. Если ученые-мифологи и хотят
свести мифологию на науку (первобытную), то я ни в
каком случае не сведу науку на мифологию. Но что такое та
наука, которая воистину немифологична? Это —
совершенно отвлеченная наука как система логических и
числовых закономерностей. Это — наука-в-себе, наука сама по
себе, чистая наука. Как такая она никогда не существует.
Существующая реально наука всегда так или иначе
мифологична. Чистая отвлеченная наука — немифологична.
Немифологична механика Ньютона, взятая в чистом виде.
Но реальное оперирование с механикой Ньютона привело
к тому, что идея однородного пространства, лежащая в ее
основе, оказалась единственно значимой идеей. А это есть
вероучение и мифология. Геометрия Евклида сама по себе
немифологична. Но убеждение в том, что реально не
существует ровно никаких других пространств, кроме
пространства евклидовой геометрии, есть уже мифология, ибо
положения этой геометрии ничего не говорят о реальном
пространстве и о формах других возможных пространств, но
только об одном определенном пространстве; и неизвестно,
одно ли оно, соответствует ли оно или не соответствует
всякому опыту и т. д. Наука сама по себе немифологична.
Но, повторяю, это — отвлеченная, никуда не применяемая
наука. Как же только мы заговорили о реальной науке,
т.е. о такой, которая характерна для той или другой
конкретной исторической эпохи, то мы имеем дело уже с при-
менением чистой, отвлеченной науки; и вот тут-то мы
можем действовать и так и иначе. И управляет нами здесь
исключительно мифология.— Итак, всякая реальная
наука мифологична, но наука сама по себе не имеет никакого
отношения к мифологии.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
21
Во-вторых, мне могут возразить: как же наука может
быть мифологичной и как современная наука может
основываться на мифологии, когда целью и мечтой всякой
науки почти всегда было ниспровержение мифологии? На
это я должен ответить так. Когда «наука» разрушает
«миф», то это значит только то, что одна мифология
борется с другой мифологией. Раньше верили в оборотничество,
вернее — имели опыт оборотничества. Пришла «наука»
и «разрушила» эту веру в оборотничество. Но как она ее
разрушила? Она разрушила ее при помощи
механистического мировоззрения и учения об однородном
пространстве. Действительно, наша физика и механика не имеет таких
категорий, которые могли бы объяснить оборотничество.
Наша физика и механика оперирует с другим миром; и это
есть мир однородного пространства, в котором находятся
механизмы, механически же движущиеся. Поставивши
вместо оборотничества такой механизм, «наука» с
торжеством отпраздновала свою победу над оборотничеством.
Но вот теперь воскресает новое, вернее очень старое,
античное учение о пространстве. Оказалось возможным
мыслить, как одно и то же тело, меняя место и движение,
меняет также и свою форму и как (при условии движения со
скоростью света) объем такого тела оказывается равным
нулю, по известной формуле Лоренца, связывающей
скорость и объем. Другими словами, механика Ньютона не
хотела ничего говорить об оборотничестве и хотела убить
его, почему и выдумала такие формулы, в которые оно не
вмещается. Сами по себе, отвлеченно говоря, эти формулы
безупречны, и в них нет никакой мифологии. Но ученые
отнюдь не пользуются только тем одним, что в этих
формулах содержится. Они пользуются ими так, что не остается
ровно никакого места для прочих форм пространства и
соответствующих математических формул. В этом и
заключается мифологизм европейского естествознания,— в
исповедании одного излюбленного пространства; и от этого
и казалось ему всегда, что оно «опровергло»
оборотничество. Принцип относительности, говоря о неоднородных
пространствах и строя формулы относительно перехода от
одного пространства к другому, снова делает мыслимым
оборотничество и вообще чудо, а отказать в научности
по крайней мере математической стороны этой теории
может только неосведомленность в предмете и невежество
в науке вообще. Итак, механика и физика новой Европы
Α. Φ. ЛОСЕВ
\ \
22
боролась со старой мифологией, но только средствами
своей собственной мифологии; «наука» не опровергла миф,
а просто только новый миф задавил старую мифологию,
и — больше ничего. Чистая же наука тут ровно ни при
чем. Она применима к любой мифологии,— конечно, как
более или менее частный принцип. Если бы действительно
наука опровергла мифы, связанные с оборотничеством,
то была бы невозможна вполне научная теория
относительности. И мы сейчас видим, как отнюдь не научные
страсти разгораются вокруг теории относительности.
Это — вековой спор двух мифологий. И недаром на
последнем съезде физиков в Москве пришли к выводу, что выбор
между Эйнштейном и Ньютоном есть вопрос веры, а не
научного знания самого по себе. Одним хочется распылить
Вселенную в холодное и черное чудовище, в необъятное
и неизмеримое ничто; другим же хочется собрать
Вселенную в некий конечный и выразительный лик с рельефными
складками и чертами, с живыми и умными энергиями
(хотя чаще всего ни те, ни другие совсем не понимают
и не осознают своих интимных интуиции, заставляющих
их рассуждать так, а не иначе).
Итак, наука как таковая ни с какой стороны не может
разрушить мифа. Она лишь его осознает и снимает с него
некий рассудочный, напр. логический или числовой, план.
4. Набросавши эти краткие мысли об отношении
мифологии и науки, мы видим теперь всю их
противоположность. Научные функции духа слишком отвлеченны, чтобы
лежать в основании мифологии. Для мифического
сознания нет ровно никакого научного опыта. Его ни в чем
нельзя убедить. На островах Никобар бывает болезнь от
ветров, против чего туземцы совершают обряд «танангла».
Каждый год бывает эта болезнь, и каждый раз
совершается этот обряд. Несмотря на всю его видимую
бесполезность, ничто не может убедить этих туземцев не совершать
его. Если бы тут действовало хотя бы минимальное
«научное» сознание и «научный» опыт, они скоро бы поняли
бесполезность этого обряда. Но ясно, что их мифология не
имеет никакого «научного» значения и ни в какой мере
не есть для них «наука». Поэтому она «научно»
неопровержима. Кроме «научного» значения этот
мифически-магический акт может иметь много других значений, которые
и не снились Леви-Брюлю, приводящему этот акт в
качестве примера бессмысленности мифологии. Напр., этот обряд
ДИАЛЕКТИКА МИФА
|—— ]
23
может даже и вовсе не иметь никаких
утилитарно-медицинских целей. Быть может, и самый северо-восточный
муссон вовсе не рассматривается здесь как злое и
вредящее начало. Можно представить себе, что туземцы
переживают его как акт справедливого наказания или мудрого
водительства со стороны божества и что они вовсе не хотят
избегнуть этого наказания, а хотят принять его с
достойным благоговением; и, быть может, обряд этот имеет как
раз такое значение. Да и мало ли какое значение может
иметь этот обряд, если стать на почву действительной
мифологии? Исследователи вроде Леви-Брюля, для которых
мифология всегда ужасно плохая вещь, а наука всегда
ужасно хорошая вещь, никогда и не поймут ничего в
обрядах, подобных «танангла». С их точки зрения, можно
сказать только то, что это очень плохая наука и беспомощное
детское мышление, бессмысленное нагромождение
идиотских манипуляций. Но это и значит, что Леви-Брюль и ему
подобные исследователи ровно ничего не понимают в
мифологии. «Танангла» и не претендовало на научность. Ведь
дико и глупо было бы критиковать сонаты Бетховена за
их «ненаучность». Записывая простой факт «танангла»
и давая свою «научную» интерпретацию, эти ученые не
только сами не дают существенного раскрытия мифа, но
и препятствуют сделать это нам самим, ибо откуда я узнаю
подлинное мифическое содержание и смысл «танангла»,
если ни сам его не видел, ни автор мне не вскрыл этого
содержания, предложивши мне вместо этого «критику»
обряда со своей, условной для меня, «научной» точки зрения?
Итак, миф — вненаучен и не базируется ни на каком
«научном» «опыте».
Говорят, что постоянство явлений природы должно
было с самых ранних пор заставить толковать и объяснять
эти явления и что мифы поэтому и есть эти попытки
объяснения природной закономерности. Но это — чисто
априорное представление, которое с одинаковым успехом может
быть заменено противоположным. В самом деле, почему,
собственно говоря, постоянство тут играет роль, и именно
такую роль? Раз явления протекают постоянно и
неизменно (как смена дня и ночи или времен года), то чему же тут
удивляться и что именно тут заставит придумать научно-
объяснительный миф? Мифическое сознание скорее,
пожалуй, задумается над какими-нибудь редкими,
небывалыми, эффектными и единичными явлениями и скорее даст
Α. Φ. ЛОСЕВ
_J —L
24
не их причинное объяснение, но какое-нибудь
выразительное и картинное изображение. Постоянство законов
природы, таким образом, и наблюдение над ними ровно ничего
не говорит ни о сущности, ни о происхождении мифа.
С другой стороны, в этом объяснении происхождения мифа
как некоей первобытной науки опять-таки кроется
условная гетерогенетическая точка зрения на предмет, а не
вскрытие имманентно-существенного содержания мифа.
В мифе о Гелиосе нет ровно никакой астрономии, если
даже сделать малоправдоподобную гипотезу, что миф этот
был придуман с целью объяснить постоянство в видимом
движении Солнца. В повествовании Библии о семи днях
творения нет ровно никакой ни астрономии, ни геологии,
ни биологии, ни вообще науки. Совершеннейшей
безвкусицей и полнейшей беспредметностью надо считать всякие
попытки богословов «разгадать» повествование Моисея
с точки зрения современных научных теорий.
Общеизвестны также вольные упражнения «богословов» в
«толковании Апокалипсиса». Несмотря на то, что классическая
патристика старательно избегала такого толкования,
несмотря также на то, что под сложные образы
Апокалипсиса можно подставить сотни исторических фактов,— все-
таки число этих «апокалиптиков» не уменьшается, но,
пожалуй, даже увеличивается. Обычно, кто из «верующих»
не умеет философски и диалектически-догматически
мыслить, тот занимается «толкованием Апокалипсиса», ибо
мечтать всегда было легче, чем мыслить. Никак не хотят
понять, что миф надо трактовать мифически же, что
мифическое содержание мифа само по себе достаточно глубоко
и тонко, достаточно богато и интересно и что оно имеет
значение само по себе, не нуждаясь ни в каких
толкованиях и научно-исторических разгадываниях. Кроме того,
Апокалипсис есть «откровение». Какое же это будет
откровение, если вместо буквального понимания всех этих
поразительных апокалиптических образов мы предоставим
право каждому подставлять под любой образ любую
историческую эпоху или событие?
5. Вдумаемся в понятие чистой науки еще раз и
попробуем точнее формулировать ее сущность; и — мы
увидим, как далека чистая мифология от чистой науки.
а) Что нужно для науки как таковой? Нужна ли, напр.,
убежденность в реальном существовании ее объектов?
Я утверждаю, что законы физики и химии совершенно
ДИАЛЕКТИКА МИФА
'
25
одинаковы и при условии реальности материи, и при
условии ее нереальности и чистой субъективности. Я могу быть
вполне убежден в том, что физическая материя
совершенно не существует и что она есть порождение моей психики,
и — все-таки быть настоящим физиком и химиком. Это
значит, что научное содержание этих дисциплин
совершенно не зависит от философской теории объекта и ни в
каком объекте не нуждается. Во-вторых, есть ряд отделов
знания, которые, несмотря на свою полную эмпирическую
значимость, выводятся совершенно дедуктивно, каковы,
напр., математика и теоретическая механика. Во-вторых
же, если и нужно для той или иной науки эмпирическое
исследование и даже эксперимент, то ничто не мешает
такому научному экспериментатору думать, что все это ему
только кажется, а на самом деле ничего не существует:
ни материи, ни эксперимента над нею, ни его самого. Итак,
наука не заинтересована в реальности своего объекта;
и «закон природы» ничего не говорит ни о реальности его
самого, ни тем более о реальности вещей и явлений,
подчиняющихся этому «закону». Нечего и говорить, что миф
в этом отношении совершенно противоположен научной
формуле. Миф начисто и всецело реален и объективен;
и даже в нем никогда не может быть поставлено и вопроса
о том, реальны или нет соответствующие мифические
явления. Мифическое сознание оперирует только с реальными
объектами, с максимально конкретными и сущими
явлениями. Правда, в мифической предметности можно
констатировать наличие разных степеней реальности, но это
не имеет ничего общего с отсутствием всякого момента
реальности в чистой научной формуле. В мифическом мире
мы находим, напр., явления оборотничества, факты,
связанные с действием шапки-невидимки, смерти и
воскресения людей и богов и т. д. и т. д. Все это — факты разной
напряженности бытия, факты различных степеней
реальности. Но тут именно не внебытийственность, а судьба
самой бытийственности, игра разных степеней реальности
самого бытия. Ничего подобного нет в науке. Даже если
она и начинает говорить о разных напряжениях
пространства (как, напр., в современной теории относительности),
то все же ее интересует не самое это напряжение и не самое
бытие, но теория этого бытия, формулы и законы такого
неоднородного пространства. Миф же есть само бытие,
сама реальность, сама конкретность бытия.
Α. Φ ЛОСЕВ
I 1
26
b) Далее, нужен ли науке субъект исследователя?
Мы сказали, что содержание любого «закона природы»
есть нечто, совершенно ничего не говорящее об объектах.
Теперь мы должны категорически заявить, что оно также
ровно ничего не говорит и о субъекте исследования. Лица,
привыкшие к бессознательной метафизике и дурной
мифологии, сейчас же нападут на меня и в миллионный раз
повторят скучную истину, от которой уже давно у меня
ощущается чувство легкой тошноты: да как же могла бы
появиться и развиваться наука, если бы не было ни
объектов для исследования, ни тех, кто именно производит
исследование? От этих возражений меня только тошнит
и болит затылок. Я не буду тут дискутировать эти вопросы.
Скажу только, что ни в каком «законе природы» я не могу
вычитать тех или других особенностей его ученого
создателя. Вот — закон падения тел. Кто его придумал и вывел?
Когда, где и как жил его автор? Какой характер и какова
личность этого автора? Совершенно ничего не знаю. Если
из других источников я этого не узнал, то самый этот
«закон» ничего мне об этом не скажет. «Закон природы» и есть
«закон природы». В его смысловом содержании не
находится ровно никаких указаний ни на какие-нибудь
субъекты, ни на какие-нибудь объекты. Дважды два есть четыре:
попробуйте мне указать автора этого арифметического
положения! Миф и в этом отношении, конечно, совершенно
противоположен научной формуле, или «закону». Всякий
миф если не указывает на автора, то он сам есть всегда
некий субъект. Миф всегда есть живая и действующая
личность. Он и объективен, и этот объект есть живая
личность. А чистое научное положение и внеобъективно, и вне-
субъективно. Оно есть просто то или иное логическое
оформление, некая смысловая форма. И надо быть очень
узким и специфическим метафизиком, чтобы думать, что
чистая наука — вещественна или, наоборот, субъективно-
психична. Это, конечно, не значит, что для своего
реального осуществления она не нуждается в вещах или не
нуждается в творящих ее субъектах. Но мало ли в чем
нуждается наука для своего реального осуществления?
c) Но если мы будем всматриваться дальше в существо
чистой науки, то мы найдем, что ее чистое смысловое
содержание, собственно говоря, не нуждается даже в
законченной и завершенной истине. Чтобы наука была наукой,
нужна только гипотеза и более ничего. Сущность чистой
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
27
науки заключается только в том, чтобы поставить гипотезу
и заменить ее другой, более совершенной, если на то есть
основания. Разумеется, мы все время говорим тут о науке
как таковой, о чистой науке, о науке как сумме
определенных смысловых закономерностей, а не о реальной науке,
которая, конечно, всегда несет на себе многочисленные
свойства, зависящие от данной исторической эпохи, от лиц,
реально ее создающих, от всей фактической обстановки,
без которой наука есть только отвлеченное, вневременное
и внепространственное построение. Реально действующий
и творящий ученый всегда сложнее, чем его чистые
абстрактно-научные положения. И вот, метафизика Нового
времени почти всегда приводила к тому, что, напр., понятие
материи гипостазировалось и проецировалось вовне в виде
какой-то реальной вещи, понятие силы понималось почти
всегда реально-натуралистически, т. е. по существу ничем
не отличалось от демонических сил природы (как это мы
находим в разных религиях и т.д.), но только с явными
признаками рационалистического вырожденства. Нужно
ли все это науке как таковой? Совершенно не нужно. Дело
физика показать, что между такими-то явлениями
существует такая-то зависимость. А существует ли реально такая
зависимость и даже само явление, будет ли или не будет
существовать всегда и вечно эта зависимость, истинна ли
она или не истинна в абсолютном смысле,— ничего этого
физик как физик не может и не должен говорить. Все эти
бесконечные физики, химики, механики и астрономы имеют
совершенно богословские представления о своих «силах»,
«законах», «материи», «электронах», «газах»,
«жидкостях», «телах», «теплоте», «электричестве» и т. д. Если бы
они были чистыми физиками, химиками и т. д., они
ограничились бы выводом только самих законов и больше ничего,
да и всякие «законы», даже самые основные и
непоколебимые, толковались бы у них исключительно лишь как
гипотезы. Это было бы чистой наукой. Тут бесконечно право
неокантианство, разрушающее богословские
предрассудки современной псевдонаучной проблематики. Но,
конечно, надо помнить, что тут речь идет исключительно
о чистой науке и что реально никогда такой чистой науки
не существует, что это есть анализ не
реально-исторической науки, но лишь ее теоретически-смысловых основ
и структур. С этой стороны видным делается как
мифологическое засилье в современной науке у наивных ее «прак-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I t
28
тиков», у всяких экспериментаторов и философски не
мыслящих ее работников, так и полное несходство существа
науки с существом мифологии.
Миф никогда не есть только гипотеза, только простая
возможность истины. Для чего ученому нужна абсолютная
истина или хотя бы даже абсолютное бытие? Вот я
придумал то или другое улучшение в телефонном аппарате,
ввел некоторые важные поправки в теорию движения
планеты или, наконец, как филолог, проследил историю
какого-нибудь термина или части речи, синтаксической
формы в данном языке,— при чем тут абсолютное бытие?
А миф всегда имеет упор в факты, существующие как
именно факты. Их бытие — абсолютное бытие. Я вывел закон
расширения газов от нагревания. Для каких надобностей
я буду считать свой закон непререкаемой реальностью
и неподвижной истиной? Он — только гипотеза, даже
если бы все его признали и он просуществовал бы
несколько веков. Конечно, вы можете верить в его «соответствие
подлинной реальности». Но эта ваша вера ничего нового
к самому «закону» не прибавит, и потому для него она не
необходима. Гипотетизм науки не мешает ей строить
мосты, дредноуты или летать на аэропланах. Подлинно
научный, чисто научный реализм заключается в этом гипоте-
тизме и функционализме, в этом панметодизме. Не то
реальная наука, не то реальная жизнь и не то, стало быть,
мифология. Миф — не гипотетическая, но фактическая
реальность, не функция, но результат, вещь, не
возможность, но действительность, и притом жизненно и
конкретно ощущаемая, творимая и существующая.
6. Еще одно очень важное разъяснение, и — мы можем
считать вопрос об отграничении мифологии от науки
принципиально разъясненным. Именно, нельзя
противоположность мифологии и науки доводить до такого абсурда, что
мифологии не свойственна ровно никакая истинность или
по крайней мере закономерность. До такого абсурда
доводит свое учение о мифе Э. Кассирер. По его учению, объект
мифического сознания есть полная и принципиальная
неразличимость «истинного» и «кажущегося», полное
отсутствие степеней достоверности, где нет «основания» и
«обоснованного». Далее, по Кассиреру, в мифе нет различия
между «представляемым» и «действительным», между
«существенным» и «несущественным». В этом его полная
противоположность с наукой. Кассирер прав, если иметь
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
29
в виду «научное» противоположение «истинного» и
«кажущегося», «представляемого» и «действительного»,
«существенного» и «несущественного». В мифе нет «научного*
противопоставления этих категорий, потому что миф есть
непосредственная действительность, в отношении которой
не строится тут никаких отвлеченных гипотез. Но Кассирер
глубочайшим образом искажает мифическую
действительность, когда отрицает в ней всякую возможность
указанных только что противоположений. В мифе есть своя
мифическая истинность, мифическая достоверность. Миф
различает или может различать истинное от кажущегося
и представляемое от действительного. Но все это
происходит не научным, но чисто мифическим же путем.
Кассирер очень увлекся своей антитезой мифологии и
науки и довел ее до полного абсурда. Когда христианство
боролось с язычеством, неужели в сознании христиан не было
оценки языческих мифов, неужели тут мифическое
сознание не отделяло одни мифы от других именно с точки
зрения истины? В чем же тогда состояла эта борьба?
Христианское мифическое сознание боролось с языческим
мифическим сознанием ради определенной мифической
истины. Конечно, тут не было борьбы за научную истину;
в особенности если науку понимать так принципиально
и отвлеченно, как это делаем мы и как в этом Кассирер
прав. Но в мифе есть своя, мифическая же истинность,
свои, мифические же критерии истинности и достоверности,
мифические закономерности и планомерности '. Взявши
любую мифологию, мы, после достаточного изучения,
можем найти общий принцип ее построения, принцип
взаимоотношения ее отдельных образов. Греческая мифология
содержит в себе определенную структуру, определенный
метод появления и образования отдельных мифов и
мифических образов. Это значит, что данная мифология
выравнивается с точки зрения одного критерия, который для
нее и специфичен, и истинен. Им она отличается от всякой
другой, как, напр., языческая мифология от христианской,
хотя бы в отдельности мы и находили некоторое сходство
и даже тождество в законах мифообразования. Также
и борьба гностической мифологии с ортодоксальной
христианской или протестантской с католической могла быть
1 Cassirer E. Philos, d. symbol. Formen. II. Das mythische Denken.
Berl., 1925. II, 47—53.
Α. Φ. ЛОСЕВ
„ Γ=Ί
30
только потому, что мифическому сознанию свойственна
категория истинности. Если бы для всякого мифа
совершенно был безразличен вопрос о «действительности»
и «мнимости», то была бы невозможна никакая борьба
внутри самого мифического сознания.
Общий итог: миф не есть научное, и в частности
примитивно-научное, построение, но живое субъект-объектное
взаимообщение, содержащее в себе свою собственную,
вне-научную, чисто мифическую же истинность,
достоверность и принципиальную закономерность и струк-
туру.
IV. Миф не есть метафизическое построение. Для
ясности понятия мифа необходимо коснуться и этого
отграничения. Для лиц, нечетко воспринимающих мифическую
действительность,— очень большой соблазн спутать
мифологию с метафизикой. Эти же лица по большей части
страдают и неясными представлениями о метафизике.
Метафизика говорит о чем-то необычном, высоком,
«потустороннем»; и мифология говорит о чем-то необычном, высоком,
«потустороннем». Значит, метафизика и мифология —
одно и то же. Часто, особенно теперь, можно встретить
такие уличные отождествления: метафизика = мистицизм,
спиритуализм = спиритизм, религия = метафизика,
метафизика =спиритуализм, или спиритизм, трансцендентная
философия = трансцендентальная философия, религия =
идеализм; и т. д. и т. д. На почве философского одичания
можно выдумать еще тысячу таких отождествлений. И мы
с полной решительностью должны сказать, что, как
мифология не есть фантастика, не есть идеализм, не есть наука
(религия тоже не есть ни фантастика, ни идеализм, ни
наука, ни метафизика, ни трансцендентализм, ни
спиритуализм, ни спиритизм), так мифология не есть ни с какой
стороны также и метафизика. Под метафизикой будем
понимать обычное: это — натуралистическое учение о
сверхчувственном мире и об его отношении к чувственному;
мыслятся два мира, противостоящих друг другу как две
большие вещи, и — спрашивается, каково их
взаимоотношение.
1. На первый взгляд может показаться, что раз
мифическая действительность есть сказочная действительность,
нереальная, потусторонняя, то иначе не может и быть,
как то, что мифология и метафизика тождественны. На
деле же такое отождествление есть опять-таки не описание
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Іаш^мІ
31
мифической действительности, как она есть, но
привнесение совершенно особых, иноприродных точек зрения. Миф
есть сказка. Для кого — сказка? Для того, кто сам
является мифическим субъектом и сам живет этим мифом?
Ничуть не бывало. Для мифического сознания как
такового миф вовсе не есть ни сказочное бытие, ни даже просто
трансцендентное. Это — самое реальное и живое, самое
непосредственное и даже чувственное бытие. Это сказка —
для позитивиста, да и то не для всякого, а специально для
позитивиста XVII —XIX веков. Характеризуя миф как
потустороннюю сказочную действительность, мы не
вскрываем существа мифа, а лишь выражаем свое отношение
к нему, т. е. характеризуем самих себя, а не миф. Пусть
миф — сказка. Но это верно только тогда, если мы твердо
запомним, что эта сказка есть реальное и даже чувственное
бытие, что она нисколько не потустороння, а если,
наконец, и потустороння, то опять-таки не так потустороння,
как некоторые метафизики учат о своем сверхчувственном
бытии, но так, что эта потусторонность является воочию
как реальное, видимое и осязаемое жизненное событие.
Ясно, что простое указание на сверхчувственность тут
ничему не поможет. Миф гораздо более чувственное бытие,
чем сверхчувственное. Мифические герои родятся, живут,
умирают; между ними происходят сцены любви, ревности,
зависти, самопожертвования: почему все это мы должны
считать метафизикой? Я утверждаю, что цвета,
воспринимаемые нами всегда мифически, необходимым образом
чувственны, несмотря на то, что могут быть наделяемы
весьма несвойственными им качествами. Так, всякий
вполне реально воспринимал, например, теплые цвета,
холодные цвета, жесткие цвета. Это значит, что в данном
восприятии (мы его должны назвать мифическим) теплота
и холод воспринимаются зрением, они видимы. Почему это
не есть самая реальная видимость и почему мы должны
считать это метафизикой? Я могу слышать (и всякий
слышал) сталь, ибо кто же не знает стального голоса или
серебристого голоса? Напрасно теоретики музыки говорят
только о высоте звука. Звуки не только высоки, но и тонки,
толсты, а греки говорили прямо об острых и тяжелых
звуках. Далее, звуки несомненно бывают большого объема
и малого объема, густые, прозрачные, светлые, темные,
сладкие, терпкие, мягкие, упругие и т. д. По-моему,
зрением можно воспринять мягкость и нежность, вес и вкус
Α. Φ. ЛОСЕВ
J^—I
32
вещи. И от этого ни зрение, ни слух не становятся
метафизическими, хотя они, несомненно, получают тут
мифологическое значение. Едва мерцающая в абсолютной темноте
лампадка перед образом, несомненно, продиктована
интуициями слабого, но искреннего, теплого и часто
горячего сердца, объятого тьмой небытия и взыскующего, по
мере слабых сил, подлинного бытия, которое и является,
освещая все в меру этого взыскания. Я приведу
замечательный пример одного мифического изображения; и мы на
нем должны убедиться, что мифология очень мало имеет
общего с метафизикой. Это —. похождения философа Хо-
мы Брута в гоголевском «Вие».
Некая «бабуся» со страшным блеском глаз
приближается к Хоме. «Философ хотел оттолкнуть ее руками, но,
к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться,
ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос
не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах.
Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как
старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему
голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину,
ударила его метлою по боку, и он, подпрыгивая, как верховой
конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так
быстро, что философ едва мог опомниться и схватил
обеими руками себя за колени, желая удержать ноги, но они,
к величайшему изумлению его, подымались против воли
и производили скачки быстрее черкесского скакуна. Когда
уже минули они хутор и перед ними открылась ровная
лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда
только сказал он сам себе: «Эге, да это ведьма!»». «Он
чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе
сладкое чувство, подступавшее к его сердцу». Далее ему внизу
видится какая-то русалка. «Она оборотилась к нему,—
и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми,
с пеньем, вторгавшимся в душу, уже приближалось к нему,
уже было на поверхности и, задрожав сверкающим
смехом, удалялось: и вот она опрокинулась на спину,— и
облачные перси ее, матовые как фарфор, не покрытый
глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой
эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких
пузырьков, как бисер, осыпала их. Она вся дрожит и
смеется в воде... Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или
снится? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит
и вьется и подступает и вонзается в душу какою-то нестер-
ДИАЛЕКТИКА Л\ИФА
33
пимою трелью. Что это? - думал философ Хома Брут,
глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него
градом. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он
чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное
наслаждение. Ему часто казалось, что будто сердца уже
вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него
рукою».
Гоголь проявляет во всем этом отрывке не просто
поэтическую, но именно мифическую интуицию, давая
гениальным образом целую гамму мифических настроений. И мы
прекрасно понимаем, что это экстатическое состояние,
доводящее до сердечного припадка и до
мистически-сексуального бреда, очень мало имеет общего с метафизикой,
которая тоже как-то говорит о «сверхчувственном», но
которая не имеет и следа этих реальных, этих чувственных,
часто почти животных аффектов.
2. Далее, метафизика не только как-то относится к
«сверхчувственному», а мифология — по преимуществу
к чувственному. Метафизика есть наука или пытается
быть наукой или наукообразным учением о
«сверхчувственном» и об отношении его к «чувственному», в то время
как мифология есть не наука, а 'жизненное отношение к
окружающему. Миф ни с какой стороны не научен и не
стремится к науке; он совершенно не научен, вернее — вне-
научен. Он — абсолютно непосредственен и наивен и не
требует никакой специальной работы мысли, тем более —
научной или научно-метафизической. Мысль работает
в мифе отнюдь не больше того, сколько требуется мыслить
для взаимообщения с обыкновенными вещами и людьми.
Для метафизики же нужны доказанные положения,
приведенные в систему выводы, терминологическая ясность
и продуманность языка, анализ понятий.
3. Для мифического сознания все явленно и чувственно
ощутимо. Не только языческие мифы поражают своей
постоянной телесностью и видимостью, осязаемостью.
Таковы в полной мере и христианские мифы, несмотря на
общепризнанную несравненную духовность этой религии.
И индийские, и египетские, и греческие, и христианские
мифы отнюдь не содержат в себе никаких специально
философских или философско-метафизических интуиции
или учений, хотя на их основании и возникали и могут
принципиально возникнуть соответствующие философские
конструкции. Возьмите самые исходные и центральные
2 А. Ф. Лосев
Α. Φ. 'ЛОСЕВ
34
пункты христианской мифологии, и — вы увидите, что они
тоже суть нечто чувственно явленное и физически
осязаемое. Как бы духовно ни было христианское представление
о Божестве, эта духовность относится к самому смыслу
этого представления; но его непосредственное содержание,
то, в чем дана и чем выражена эта духовность,— всегда
конкретно, вплоть до чувственной образности. Достаточно
упомянуть «причащение плоти и крови», чтобы убедиться,
что даже наиболее «духовная» мифология всегда
оперирует чувственными образами, невозможна без них и в этом
смысле есть полная противоположность метафизики как
абстрактно-научного или наукообразного учения о
сверхчувственном.
4. Ко всему этому надо прибавить, что, как все наши
отграничения мифа от прочих областей человеческого
творчества имеют характер не только отрицательный, но
и положительный, заимствуя из этих областей то, в чем
нужно видеть подлинное сходство с ними мифа, так и
сопоставление мифологии с метафизикой должно привести нас
не просто к отрицательному суждению, что мифология
не есть метафизика, но и к указанию тех сторон в
метафизике, которые действительно сходны с мифологией и
искаженное представление которых и приводит многих к
прямому отождествлению мифологии с метафизикой вообще.
Я имею в виду самое центральное ядро всякой
метафизики — учение об отношении сверхчувственного к
чувственному. Что тут надо отбросить момент самого учения,
науки,— это нам уже ясно: миф не наука и не философия и
никакого прямого отношения к ним не имеет. Что отношение
этих двух миров не есть в мифе не только абстрактное
построение, но также и натуралистически-причинное их
взаимоотношение,— это также нам ясно: подобный дуализм
разорвал бы мифическую действительность пополам;
и вместо живой картинности жизни, где чувственное
явление и сверхчувственная сущность слиты в неделимый и
неразложимый лик жизни, мы имели бы явление без
сущности, т. е. без смысла, без формы, с одной стороны, и с
другой стороны — сущность без явления, т. е. без проявления,
абстрактную сущность, только мыслимую, но не реально
осуществленную. Но возникает вопрос: можно ли считать
для мифа несущественным самую антитезу чувственного
и сверхчувственного, не фактическое разделение, а только
чисто смысловую антитезу, пусть даже примиряемую в не-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
, J ι ' il
35
коем новом синтезе? Не свойственна ли все-таки мифу
какая-то отрешенность, пусть не идеально-смысловая,
не научно-гипотетическая, не
метафизически-натуралистическая и, наконец, даже вообще не философская?
Сопоставляя мифологию с наукой и метафизикой, мы говорим,
что если те — исключительно логически-отвлеченны, то
мифология во всяком случае противоположна им, что она
чувственна, наглядна, непосредственно-жизненна и
ощутима. Но значит ли это, что чувственное уже по одному
тому, что оно чувственное, есть миф, и значит ли это, что
в мифе нет ровно никакой отрешенности, ровно никакой
хотя бы иерархийности? Не нужно долго всматриваться
в природу мифического сознания, чтобы заметить, что
в нем есть и его природе существенно свойственна некая
отрешенность и некая иерархийность. Как бы
реально Хома Брут ни ездил на ведьме, а она на нем,—
все же тут есть нечто отличное от того, когда люди ездят
просто на лошади или лошадь переправляют через реку
на пароме. И всякий скажет, что, хотя миф и чувствен
и ощутим, осязаем, видим,— все же тут есть нечто
необходимое, как-то отрешенное от обыкновенной
действительности и как-то, пожалуй, нечто высшее и глубокое в иерар-
хийном ряду бытия. Что это за отрешенность — мы пока
не знаем. Но мы уже знаем, что она ничего не имеет общего
ни с отъединенностью научного анализа от своего
предмета, ни с отъединенностью сущности от явления (когда
они противостоят друг другу как два факта, причинно
действующие один на другой), ни, наконец, с отъединен-
ностью произвольной фантастической выдумки от реально
наличных, эмпирических фактов. Если для метафизики
характерна эта отрешенность, мы можем сказать, что в
мифологии есть нечто метафизическое. Но если для
метафизики существенно что-нибудь другое, то мифология не есть
метафизика и даже просто не метафизична. В мифологии
налична какая-то необычность, новизна, небывалость,
отрешенность от эмпирического протекания явлений. Это,
вероятно, и заставляло многих отождествлять мифологию
с метафизикой, для чего, как мы теперь убедились, нет
совершенно никаких оснований. Есть только то весьма
отдаленное сходство, что миф содержит в себе момент
сверхчувственный, который является как нечто странное и
неожиданное. Но от этого далеко до какого-нибудь
метафизического учения. Миф не есть метафизическое построение,
2*
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
36
но есть реально, вещественно и чувственно творимая
действительность, являющаяся в то же время
отрешенной от обычного хода явлений и, стало быть,
содержащая в себе разную степень и е ρ ар χ и иное τ и,
разную степень отрешенности.
V. Миф не есть ни схема, ни аллегория. С этим
отграничением мы вплотную подходим к раскрытию подлинно
мифического взаимоотношения чувственного и
сверхчувственного, хотя и не решаем его вполне, а только намечаем
общий его смысл. Тут, однако, надо уберечься от
множества эквивокаций и не впасть в грубое и некритическое
употребление некоторых популярных понятий и терминов.
1. Прежде всего, необходимо дать себе строгий отчет
в том, что такое аллегория. С самого начала должно быть
ясно, что аллегория есть, прежде всего, некая
выразительная форма, форма выражения. Что такое выражение? Для
выражения недостаточен смысл или понятие само по себе,
напр. число. Выразительное бытие есть всегда синтез двух
планов, одного — наиболее внешнего, очевидного, и
другого — внутреннего, осмысляющего и подразумеваемого.
Выражение есть всегда синтез чего-нибудь внутреннего
и чего-нибудь внешнего. Это — тождество внутреннего
с внешним. Мы имеем тут нечто, но созерцаем его не просто
как такое, а сразу же, вместе с ним и неразъединимо от
него, захватываем и еще нечто иное, так что первое
оказывается только стороной, знаком второго, намеком на
второе, выражением его. Самый термин «выражение»
указывает на некое активное направление внутреннего в сторону
внешнего, на некое активное самопревращение
внутреннего во внешнее. Обе стороны и тождественны — до
полной неразличимости, так что видится в выражении один,
только один, и единственный, предмет, нумерически ни на
что не разложимый, и различны — до полной
противоположности, так что видно стремление предмета выявить
свои внутренние возможности и стать в какие-то более
близкие познавательно-выявительные и смысловые
взаимоотношения с окружающим. Итак, выражение есть синтез
и тождество внутреннего и внешнего, самотождественное
различие внутреннего и внешнего. Аллегория есть бытие
выразительное. Стало быть, аллегория также имеет нечто
внутреннее и нечто внешнее; и спецификум аллегории
можно найти, следовательно, только как один из видов
взаимоотношения внутреннего и внешнего вообще.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Ій^иІ
37
2. Какие же возможны вообще виды этого
взаимоотношения? Их очень много. Но, следуя Шеллингу \ можно
указать три основных таких вида. При этом будем иметь
в виду, что наши термины «внутреннее» и «внешнее» —
очень общие термины и их можно заменить другими, более
узкими и более специфичными с той или другой точки
зрения. Так, говоря о «внешнем» как проявлении
«внутреннего», мы замечаем, что всякое «внешнее» есть частный
случай «внутреннего», что оно именно такое «внутреннее»,
которое проявилось вовне. Другими словами, более
«внутреннее» есть и более общее, а более «внешнее» есть и более
частное. Точно так же можно сказать, что более внутреннее
есть более отвлеченное, а более «внешнее» есть более кон-
кретное или что более «внутреннее» есть более идеальное,
смысловое, а более «внешнее» есть более реальное,
образное. Таких квалификаций можно найти много. Но важна
самая центральная и наиболее общая антитеза, лежащая
в основе всех указанных частных антитез. Ею, как бы ее
ни именовать, и займемся.
Во-первых, возможно такое выражение, в котором
«внутреннее» будет перевешивать «внешнее». Что это
значит? Это значит, что в выразительной форме мы замечаем
тдкое «внутреннее», которое подчинило себе «внешнее»,
и последнее налично только постольку, поскольку это надо
для выявления одного «внутреннего». Имеется общее, но
выражается оно так, что ничего частного не привлекается
для понимания этого общего. Частное имеет целью только
показать общее, голое общее, которое по смыслу своему
чуждо всякого частного. Таков, напр., всякий механизм.
В механизме дана общая идея; и все частное, из чего он
состоит, отдельные колесики и винтики ничего нового не
прибавляют к этой идее. Идея механизма нисколько не
становится богаче от прибавления к ней отдельных и всех
вместе взятых частей механизма. Равным образом и
отдельные части механизма, будучи объединены одной
общей идеей, получают эту идею совершенно в отвлеченном
и общем виде. Она их нисколько не изменяет как таковых,
а лишь дает свой метод их объединения. Отсюда,
механизм неизбежным образом схематичен. Он воплощает
на себе чуждую своему материалу идею; и эта идея, это
его «внутреннее» остается лишь методом объединения
1 Schelling. Philos, d. Kunst. SW I, 5, § 39.
А. Ф.ЛОСЕВ
I—»I
38
отдельных частей, голой схемой. Такова первая
выразительная форма, схематизм. Можно быть уверенным,
что миф ни в коем случае не есть схема. Если бы это было
так, то в мифе его сверхчувственное, идеальное
превратилось бы в отвлеченную идею, а чувственное содержание
его осталось бы несущественным и ничего не прибавляю:
щим нового к отвлеченной идее. Миф всегда говорит H^q
механизмах, но об организмах и даже больше того, о лич*
ностях, о живых существах. Его персонажи суть не
отвлеченные идеи и методы построения и осмысления
чувственности, но сама эта чувственность, дышащая жизненной
теплотой и энергией. Тут важно именно «внешнее»,
«конкретное», «чувственное», «частное», «реальное»,
«образное».
Во-вторых, выражение может быть аллегорией.
Здесь мы находим обратное взаимоотношение
«внутреннего» и «внешнего». Здесь «внешнее» перевешивает
«внутреннее», «реальное» — полнее и интереснее «идеального»,
В схеме «внутреннее», «идея» не соединялись с
«внешним», с «вещью», но так как она есть все-таки выражение,
то статическая «внутренняя» «идея» и смысл превратились
тут в «метод», или «закон», осмысления «внешности»,
«вещей», «чувственности». Этим и ограничивалась
выразительность схемы. Другое мы находим в аллегории. Здесь
дается прежде всего «внешнее», или «образ», чувственное
явление, и аннулируется самостоятельность «идеи».
Однако аллегория есть все-таки выражение, и потому в ней не
может наличествовать только одна «внешность» как
таковая. Эта «внешность» должна как-то все-таки указывать
на «внутреннее» и свидетельствовать о какой-то идее. Что
же это за идея? Конечно, раз между обеими сферами
существует неравновесие, то идея эта не может быть выведена
из сферы своей отвлеченности и неявленности. Она должна
проявиться как неявленная, должна выразиться как
невыраженная. Это значит, что мы получаем «образ», в
котором вложена отвлеченная «идея», и получаем «образ», по
которому видна невыраженная, невыявленная идея,—
получаем «образ» как иллюстрацию, как более или менее
случайное, отнюдь не необходимое пояснение к идее,
пояснение, существенно не связанное с самой идеей. Наиболее
типичный и очевидный пример поэтической аллегории —
это басня. В баснях Крылова действует и говорит муравей,
но ни автор басни, ни ее читатели вовсе не думают, что
ДИАЛЕКТИКА МИФА
39
муравей действительно может так поступать и говорить,
как там изображено. Стрекоза «удручена злой тоской».
Но при чтении басни никому и в голову не приходит
действительно думать, что стрекоза может иметь столь сложные
переживания. Стало быть, «образ» тут значит одно,
а «идея» — нечто совсем другое. Они вещественно
отделены друг от друга. Конечно, они как-то связаны, ибо иначе
не было бы и самого выражения. Но эта связь есть такая
связь, что обе стороны, «идея» и «образ», не входят
вплотную друг в друга, но что «образ» отождествляется только
с чистой отвлеченной идеей, не переводя ее целиком в
«образ». На этом аллегорическом понимании построена масса
мифологических теорий. Можно сказать, что почти все
популярные мифологические теории XIX в.,
«мифологическая», антропологическая и т. д., страдали этим
колоссальным недостатком. Герои Гомера — Ахилл, Одиссей и пр.—
почему-то сводились на различные «явления природы».
Везде видели то восходящее или заходящее солнце, то
вообще атмосферные явления, то видели в этих
мифических образах обожествление каких-то исторических
личностей. Мифические герои представлялись в этих теориях
не просто как мифические герои, но в каком-то особенном
переносном смысле. Они указывали на какую-то другую
действительность, более важную и осмысленную, а сами
не были подлинной и окончательной действительностью.
К мифу, конечно, такое аллегорическое толкование
совершенно не подходит. Запомним раз навсегда: мифическая
действительность есть подлинная реальная
действительность, не метафорическая, не иносказательная, но
совершенно самостоятельная, доподлинная, которую нужно
понимать так, как она есть, совершенно наивно и буквально.
Никакой аллегоризм тут не поможет. Аллегоризм есть
всегда принципиальное неравновесие между означаемым
и означающим. В аллегории образ всегда больше, чем
идея. Образ тут разрисован и расписан, идея же
отвлеченна и неявленна. Чтобы понять образ, мало всматриваться
в него как в таковой. Нужно еще мыслить особый
отвлеченный привесок, чтобы понять смысл и назначение этого
образа. В мифе же — непосредственная видимость и есть
то, что она обозначает: гнев Ахилла и есть гнев Ахилла,
больше ничего; Нарцисс — подлинно реальный юноша
Нарцисс, сначала действительно, доподлинно любимый
нимфами, а потом действительно умерший от любви к сво-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—J
40
ему собственному изображению в воде. Даже если и есть
тут какая-нибудь аллегория, то прежде всего необходимо
утвердить подлинную, непереносную, буквальную
реальность мифического образа, а потом уже задаваться
аллегорическими задачами.
В-третьих, выражение может быть символом.
В противоположность схеме и аллегории тут мы находим
полное равновесие между «внутренним» и «внешним»,
идеей и образом, «идеальным» и «реальным». В «образе»
нет ровно ничего такого, чего не было бы в «идее». «Идея»
ничуть не более «обща», чем «образ»; и «образ» не есть
нечто «частное» в отношении идеи. «Идея» дана конкретно,
чувственно, наглядно, а не только примышляется как
отвлеченное понятие. «Образ» же сам по себе говорит о
выраженной «идее», а не об «идее» просто; и достаточно
только созерцания самого «образа» и одних чисто «образных»
же средств, чтобы тем самым охватить уже и «идею». Если
в схеме «идея» отождествляется с «явлением» так, что
последнее механически следует за ней, ничего не привнося
нового, т. е. «идея» отождествляется с чистым не-«идей-
ным» «образом», а в аллегории «явление» и «образ» так
отождествляются с «идеей», что последняя механически
следует за «явлением», ничего не привнося нового, т. е
«явление» отождествляется с чистой, отвлеченной, не-«яв-
ленной», не-«образной» «идеей», то в символе и «идея»
привносит новое в «образ», и «образ» привносит новое,
небывалое в «идею»; и «идея» отождествляется тут не с простой
«образностью», но с тождеством «образа» и «идеи», как
и «образ» отождествляется не с простой отвлеченной
«идеей», но с тождеством «идеи» и «образа». В символе —
все «равно», с чего начинать; и в нем нельзя узреть ни
«идеи» без «образа», ни «образа» без «идеи». Символ есть
самостоятельная действительность. Хотя это и есть встреча
двух планов бытия, но они даны в полной, абсолютной
неразличимости, так что уже нельзя указать, где «идея»
и где «вещь». Это, конечно, не значит, что в символе никак
не различаются между собою «образ» и «идея». Они
обязательно различаются, так как иначе символ не был бы
выражением. Однако они различаются так, что видна и точка
их абсолютного отождествления, видна сфера их
отождествления.
Впрочем, тут надо провести более тонкую грань между
символом, с одной стороны, и схемой и аллегорией — с дру-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
41
гой. Вспомним, что и эти две последние формы, как формы
выразительные, необходимым образом содержат в себе
отождествление «внутреннего» и «внешнего», «идеи»
и «образа», «общего» и «единичного». Ведь во всяком
выражении «внешнее» не есть просто нечто буквально и
самостоятельно данное. Оно берется именно как проявление
«внутреннего», т. е. по нему можно судить о «внутреннем»,
и, стало быть, последнее как-то необходимо содержится
во «внешнем» и отождествляется с ним. Отсюда
становится ясным, что относительно символа дело, собственно
говоря, не в самом отождествлении «внутреннего»
и «внешнего» (оно есть во всяком выражении), а в том,
что именно и с нем именно отождествляется, т. е. какая
«идея» с каким «явлением» отождествляется. Дело в том,
что «внутреннее» и «внешнее» содержат каждое в себе
также разделение на «внутреннее» и «внешнее», на
«смысл» и «явление», или на «идею» и «образ». Есть
«внутреннее», которое в себе самом содержит разные слои
«внутреннего», т. е. прежде всего «внутреннее» как факт,
явление «внутреннего»; и — «внутреннее» как смысл, идею
«внутреннего»; и есть «внешнее», которое в себе самом
содержит разные слои «внешнего», т. е. прежде всего
«внешнее» как факт, явление «внешнего», и — «внешнее»
как смысл, идею «внешнего». Возьмем «внешнее».
Геометрическая фигура есть нечто более «внешнее» и
«конкретное», чем отвлеченное число. Но круг, сделанный из дерева
или металла, есть нечто еще более «внешнее» и еще более
«конкретное», чем геометрический круг. Стало быть,
разные слои внешности ясны сами собою. То же можно
сказать о «внутреннем». Одно дело — отвлеченное понятие,
другое дело — его умственный образ. И то, и другое не
чувственно, но это — разные сте.пени «идеального» и
«внутреннего». Итак: 1) имеется два слоя бытия, относящиеся
друг к другу как смысл и явление; 2) в каждом из них есть
свой смысл и свое явление; 3) эти два слоя вступают друг с
другом в отождествление и синтез; 4) при таком
отождествлении возможны синтезы каждого отдельного момента
одного слоя с соответствующим моментом другого. Какие
же моменты отождествляются в каждом из указанных трех
типов выражения?
Пример с басней воочию убеждает, что в аллегории
имеется в виду перенос значения. Стало быть, в аллегории
из «идеи», вступающей в синтез с «образом», берется
Α. Φ. ЛОСЕВ
ι ι
42
«идейная», «смысловая», «отвлеченная» сторона.
Отождествляется с вещью не вся «идея» и «сущность», но лишь
смысловая, и притом отвлеченно-смысловая, сторона.
Итак, в аллегории происходит синтезирование смыслового
слоя «внутренней» «идеи» со смысловым или выраженным
слоем «внешней» «вещи». То же самое и в схеме. На приг
мере механизма мы убеждаемся в том, что берется в «идее»
опять-таки смысловая сторона,— правда, не просто
отвлеченная, но как-то выраженная (ибо схема есть метод
конструкции и осмысления и может трактоваться как некая
смысловая фигурность, предопределяющая протекание
подчиняющихся ей вещей и явлений); — однако берется
тут не самый факт «идеи» и «внутреннего». Метод, закон,
фигура не есть категория просто, но все же это и не факт,
не вещь, не дело. Для механизма же нужен из идеи только
самый принцип построения, а не ее самостоятельное и в
себе законченное существование. Поэтому если в
аллегории отвлеченный смысл, идея «внутреннего»
отождествляется с выраженным смыслом «внешнего», а в схеме
выраженный смысл «внутреннего» синтезируется с
отвлеченным смыслом и идеей «внешнего», то в символе самый
факт «внутреннего» отождествляется с самым фактом
«внешнего», между «идеей» и «вещью» здесь не просто
смысловое, но — вещественное, реальное
тождество.
На примерах это становится совершенно ясным и
убедительным. Если механизм — схематичен, то всякий
организм символичен. Почему? Потому что он не обозначает
ничего такого, что не есть он сам. В механизме идея дана
как отвлеченный и выраженный опять-таки отвлеченно
смысл, но она не дана вещественно. Чтобы получились
часы, надо, чтобы кто-то другой, не сами часы,
осуществил их самих. Если бы часы появлялись и существовали
своими собственными средствами, то это значило бы, что
их идея дана в них не отвлеченно, но реально, и они были
бы тогда организмом. Организм обозначает то самое, чем
он сам является реально, не что-нибудь иное. Конечно,
идея организма отличается от самого организма; однако
организм потому и является таковым, что эта отличная
от него идея дана в своем вещественном отождествлении
с ним. Идея организма отлична от самого организма, но
в то же время совершенно неотделима от него. Идея же
механизма отлична от самого механизма, но она вполне
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 I
43
отделима от него, потому что и с ней и без нее механизм
есть просто мертвый материал дерева, металла, стекла,
лака и пр. Идея механизма, как не вещественная, а
отвлеченная идея, существенно не меняет мертвого
материала. С другой стороны, сравним символ с аллегорией.
Вот басенные петухи, куры, лошади, львы, лисицы и т. д.
Никто ни на одну минуту не верит в реальность
приписываемых им слов, сознательных поступков, иной раз целых
философских рассуждений. Это, сказали мы, аллегория.
Но вот — Цербер, охраняющий входы во врата Аида;
вот — один из коней Ахилла, вдруг заговаривающий
человеческим голосом и предрекающий своему господину
близкую смерть; вот — вещие птицы Сирин, Алконост, Гамаюн.
Это уже не басня. Авторы этих мифических образов
оперировали с ними как с реальными, непереносными, как
с теми, которые нужно понимать буквально и брать в их
живой и наивной непосредственности. Такое же отношение
можно установить, напр., между искусством и жизнью.
Искусство, в сравнении с жизнью, аллегорично, ибо
актер, напр., изображает на сцене то, чем он на самом
деле не является. Он — Щепкин или Мочалов, а ведет себя
так, что оказывается Гамлетом или Иоанном Грозным.
Театр поэтому аллегоричен. Конечно, это не мешает ни
театру, ни искусству вообще быть в самих себе,
безотносительно, символичными. Искусство само по себе и есть
и должно быть символичным или по крайней мере в
разной степени символичным. Но по сравнению с реальной
жизнью оно аллегорично. Жизнь же символична по самой
природе своей, ибо то, как мы живем, и есть мы сами.
Театр — аллегоричен, но, напр., богослужение —
символично, ибо здесь люди не просто изображают молитву,
но реально сами молятся; и некие действия не
изображаются просто, но реально происходят. Отсюда легко
провести грань между православием и протестантизмом.
Протестантское учение о таинствах — аллегорично,
православное — символично. Там только благочестивое
воспоминание о божественных энергиях, здесь же реальная их
эманация, часто даже без особенного благочестия.
3. Итак, миф не есть ни схема, ни аллегория, но
символ. Нужно, однако, сказать, что символический слой в
мифе может быть очень сложным. Я не буду тут входить
в детали интереснейшего и совершенно самостоятельного
учения о символе (это я делаю в другом совсем сочинении),
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 ι t
44
но необходимо даже в этом кратком изложении указать,
что понятие символа совершенно относительно, т. е. данная
выразительная форма есть символ всегда только в
отношении чего-нибудь другого. Это особенно интересно потому,
что одна и та же выразительная форма, смотря по способу
соотношения с другими смысловыми выразительными или
вещественными формами, может быть и символом, и
схемой, и аллегорией одновременно. Поэтому анализ данного
мифа должен вскрыть, что в нем есть символ, что схема и
что аллегория и с каких точек зрения. Так, лев пусть
аллегория гордой силы и величия, а лисица — аллегория
хитрости. Но ничто не мешает, чтобы аллегорические
львы и лисицы были выполнены со всей символической
непосредственностью и наглядностью; этого достигают
иногда даже неизменно моралистически настроенные
баснописцы. Жизнь и смерть Пушкина можно сравнить с
лесом, который долго сопротивлялся и отстаивал свое
существование, но в конце концов не выдержал борьбы с осенью
и погиб. Однако это не помешало Кольцову дать в своем
известном стихотворении прекрасное изображение леса,
имеющее значение совершенно самостоятельное и в своей
буквальности — весьма художественное и символичное.
Также и Чайковский изобразил в своем знаменитом
трио «Памяти великого артиста» ряд картин из жизни
Рубинштейна, но это — прекрасное произведение, ценное и
само по себе, без всяких аллегорий. Отнимите
подразумеваемого Пушкина у Кольцова и Рубинштейна у
Чайковского, и — и вы ничего не потеряете ни в художественности
этих произведений, ни в их символизме. Стало быть, одна
и та же форма может быть и символичной и аллегоричной.
Рассматриваемая сама по себе, она символична.
Рассматриваемая в отношении к другой идее, она аллегорична.
Она же может быть и схемой. Так, всякий организм,
сказали мы, символичен. Но символичен он только сам по
себе, с точки зрения вложенной в него самого идеи.
Рассматриваемый же с точки зрения другой идеи, он есть
схема. Животный организм, как он обрисован в руководстве
по анатомии, есть схема, так как здесь он взят не как
самостоятельное живое целое, но как некая механическая
составленность согласно известного рода идее. «Голубой
цветок» для Новалиса — мистический символ; для
обыкновенного любителя цветов он просто определенный
растительный организм, τ е., по-нашему, символ; для расска-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
ІнншІ
45
за, где он фигурирует наряду с другими более или менее
условными персонажами, он — аллегория; наконец, для
ботаника он — схема. Поэтому миф, рассматриваемый
с точки зрения своей символической природы, может
оказаться сразу и символом и аллегорией. Мало того. Он
может оказаться двойным символом. Апокалиптическая
«жена, облеченная в солнце», есть, конечно, прежде всего
символ первой степени, ибо для автора этого мифа это
есть живая и непосредственная реальность и понимать
ее надо совершенно буквально. Но, во-вторых, это есть
символ второй степени, потому что кроме
непосредственного образного значения этот символ указывает на другое
значение, которое есть тоже символ. Так, если это есть
церковь, то поскольку эта последняя есть опять-таки нечто
несомненно символичное, то в данном образе мы находим
по крайней мере два символических слоя. Эти два (или
больше) символических слоя могут, быть связаны между
собою опять-таки символически; могут быть они также
связаны и аллегорически и схематически. Это — уже вопрос
анализа каждого данного мифа. Заметим только, что
большая общность космогонических и эсхатологических
мифов еще ничего не говорит об их аллегоричности.
Напр., часто называют аллегорическими неоплатонические
и орфические концепции космогонии или эсхатологические
мифы Апокалипсиса. Также думают, что космогония,
мировой пропеех и эсхатология в «Кольце Нибелунга»
Р. Вагнера есть тоже аллегория. Это совершенно неверно.
Правда, образы героев во всех этих мифах наделены
огромной обобщающей силой. Так, в Вотане себя осознает
изначальная мировая Скорбь, а гибель Вальгаллы есть
гибель всего мира и т. д. Надо, однако, помнить, что здесь
ни о чем другом и не идет речь, как о первоначальных
мировых принципах, о мире как таковом, его создании или
гибели и пр. Если бы изображалось какое-нибудь
обыкновенное лицо из повседневной обстановки и наделялось
какими-нибудь мировыми функциями, тогда могла бы идти
речь об аллегории. Однако даже относительно «Некто
в сером» Л. Андреева нельзя этого сказать с абсолютной
уверенностью. В космогонических же и эсхатологических
мифах героем является сам мир или его основные стихии,
первичные принципы и стихии. Хаос, Уран, Гея, Крон, Зевс
или семь Ангелов, семь Чаш гнева Божия, Блудница на
водах многих, Рейн, Золото Рейна, Кольцо, Вотан, Брин-
А. Ф«ЛОСЕВ
гильда, Вальгалла и т. п.— все это суть сам мир и
мировая история; и потому нет нужды ни в каком переносном
понимании, чтобы понять их именно как мировые
принципы. Ведь ни о чем другом тут и не идет речь, как о мировой
судьбе. Поэтому все эти мифические образы суть именно
символы, а не аллегории, и притом символы второй (и
большей) степени. Два (или больше) символических слоя
связаны в них тоже символически.
4. а) Не могу не привести еще примеров
символического мифологизирования света, цветов и вообще
зрительных явлений природы, чтобы не показалось странным
выставленное требование этого мифологизирования.
Возьмем окружающие нас самые обыкновенные цвета. То, что
я скажу о них сейчас, отнюдь не является какой-нибудь
выдумкой. Я утверждаю, что это и есть самое
обыкновенное их восприятие. Люди, и в особенности ученые,
думают, что реальные те цвета, о которых говорится в
руководствах по физике или химии. На самом же деле то,
что говорится о цвете в физике, в особенности различные
теории и формулы о движении света и цвета, весьма
далеко от живого восприятия. Что такое, напр., желтый
цвет? Сказать: «я вижу желтый цвет» — это значит
высказать нечто весьма абстрактное и мертвое. Что касается,
напр., меня, то я никогда не вижу просто желтый цвет.
«В своей высшей чистоте он всегда обладает светлой
природой и отличается ясностью, веселостью, нежной
прелестью». Желтый цвет производит теплое впечатление и
вызывает благодушное настроение. Посмотрите сквозь
желтое стекло в серые зимние дни. «Радуется глаз,
расширяется сердце, светло становится на душе; словно
непосредственно повеяло на нас теплотой». Желтый цвет хорош
для обстановки (занавес, обои) и для платья. С блеском
(напр., на шелке или на атласе) он производит
впечатление роскоши и благородства. Наоборот, потушенный
желтый цвет производит неприятное действие какой-то
грязноты. Так, неприятен цвет серы, впадающий в зеленое.
Неприятен он на сукне, на войлоке. Из цвета почета и
радости он переходит в цвет отвращения и неудовольствия.
«Так могли возникнуть желтые шляпы несостоятельных
должников, желтые кольца на плащах евреев».
Если в желтом есть светлое, то в синем (голубом) —
темное. Синий цвет — «прелестное ничто». «В созерцании
его есть какое-то противоречие раздражения и покоя».
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
47
«Как высокое небо, далекие горы мы видим синими, так
и вообще синяя поверхность как будто уплывает от вас
вдаль. Как мы охотно преследуем приятный предмет,
который от нас ускользает, так мы охотно смотрим на синий
цает, не потому что он проникает в нас, а потому что он
тянет нас вслед за собою. Синева дает нам чувство холода,
напоминает также тень». «Комнаты, выдержанные в синих
тонах, кажутся до известной степени просторными, но
собственно пустыми и холодными. Синее стекло рисует
предметы в печальном свете». В сиреневом цвете также
есть нечто живое, но безрадостное. По мере дальнейшего
потенцирования сине-голубого цвета беспокойство
возрастает «Обои совершенно чистого насыщенного
сине-красного (т. е. фиолетового) цвета были бы невыносимы. Вот
почему, когда он встречается в одежде, как лента или иное
украшение, его применяют в очень разреженном и светлом
виде; даже и так он, согласно отмеченной природе,
оказывает совсем особенное впечатление». «Про высшее
духовенство, присвоившее себе этот беспокойный цвет, можно,
пожалуй, сказать, что по беспокойным ступеням
уходящего все дальше подъема оно неудержимо стремится
к кардинальскому пурпуру». Мифологизирование красного
цвета — общеизвестно. Возбуждающий и раздражающий
характер его не нуждается в распознании. Пурпур —
то, к чему всегда стремились правители, и настоящие,
и бандиты. «Через пурпуровое стекло хорошо освещенный
ландшафт рисуется в страшном свете. Такой тон должен
бы расстилаться по земле и небу в день страшного суда».
На зеленом цвете мы получаем удовлетворение и
вздыхаем. «Не хочешь идти дальше и не можешь идти дальше.
Поэтому для комнат, в которых постоянно находишься,
обои выбираются обыкновенно зеленого цвета».
Можно было бы дать реальную мифологию каждого
цвета очень подробно, но, конечно, нас она не интересует
сейчас специально. Можно указать разве только еще на
употребление этих цветов в жизни народов. «Люди
природы, некультурные народы, дети проявляют большую
склонность к цвету в его высшей энергии,— значит, особенно
к желто-красному. У них есть также склонность к
пестрому». «Народы Южной Европы носят одежду очень живых
цветов. Шелковые товары, дешевые у них, способствуют
этой склонности. И можно сказать, что особенно женщины
со своими яркими корсажами и лентами всегда находятся
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 ι Ι
48
в гармонии с ландшафтом, не будучи в состоянии затмить
блестящие краски неба и земли». «Живые нации, напр.
французы, любят потенцированные цвета, особенно
активной стороны; умеренные, как англичане и немцы, любят
соломенно- или кожевенно-желтый цвет, с которым они
носят темно-синий». «Женская молодежь держится розового
и бирюзового цвета, старость — фиолетового и
темно-зеленого. У блондинки склонность к фиолетовому и светло-
желтому, у брюнетки — к синему и желто-красному, и
склонность эта вполне правильна. Римские императоры
были чрезвычайно ревнивы к пурпуру. Одежда китайского
императора — оранжевый цвет, затканный пурпуром. Ли-
монно-желтый имеют также право носить его слуги и
духовенство». «У образованных людей замечается
некоторое отвращение к цветам. Это может проистекать частью
от слабости органа, частью от неуверенности вкуса, охотно
находящей убежище в полном ничто. Женщины ходят
теперь почти исключительно в белом, мужчины в черном»1.
Ь) Очень интересные мифолого-символические
размышления о цвете находим у П. А. Флоренского. Свет сам
по себе неделим, сплошен и непрерывен. Созерцая солнце
у горизонта, мы «видим свет и только свет, единый свет
единого солнца». «Его различная окраска — не
собственное его свойство, а соотношение его с тою земною и
отчасти, может быть, небесною средою, которую наполняет
собою этот единый свет». «Те роскошные цвета, которыми
украшается небосвод, есть не что иное, как способ
соотношения неделимого света и раздробленности вещества:
мы можем сказать, что цветность солнечного света есть
тот привкус, то видоизменение, которое привносит в
солнечный свет пыль земли, самая тонкая пыль земли и,
может быть, еще более тонкая пыль неба. Фиолетовый
и голубой цвета — это есть тьма пустоты,— тьма, но
смягченная отблеском как бы накинутого на нее вуаля
тончайшей атмосферной пыли; когда мы говорим, что видим
фиолетовый цвет или лазурь небосвода, то это мы видим
тьму, абсолютную тьму пустоты, которую не осветит и
которую не просветит никакой свет, но видим ее не самое
по себе, а сквозь тончайшую, освещенную солнцем пыль.
Красный и розовый цвета — это та же самая пыль, но ви-
1 Все эти цитаты взяты из Гёте (Лихтенштадт В. О. Гёте. Борьба
за реалистическое мировоззрение. Петерб., І920. С. 240—247).
ДИАЛЕКТИКА МИФА
49
димая не против света, а со стороны света, не смягчающая
своею освещенностью тьму междупланетных пространств,
не разбавляющая ее светом, но, напротив, от света
отнимающая часть света, застящая глазу свет, стоящая между
светом и глазом и, своею непросвещенностью,
прибавляющая к свету — тьму. Наконец, зеленый цвет, по
направлению перпендикулярному, зеленоватость зенита, есть
уравновешенность света и тьмы, есть боковая освещенность
частиц пыли, освещенность как бы одного полушария
каждой пылинки, так что каждая из них столь же может быть
названа темною на светлом фоне, как и светлою на темном
фоне. Зеленый цвет над головою это ни свет и ни тьма».
«Лишь из соотношения двух начал устанавливается, что
София — не есть свет, а пассивное дополнение к нему, а
свет не есть София, но ее освещает. Это соотношение
определяет цветность. Созерцаемая как произведение
божественного творчества, как первый сгусток бытия,
относительно самостоятельный от Бога, как выступающая
вперед навстречу свету тьма ничтожества, т. е. созерцаемая
от Бога по направлению в ничто, София зрится голубою
или фиолетовою. Напротив, созерцаемая как результат
божественного творчества, как неотделимое от
божественного света, как передовая волна божественной
энергии, как идущая преодолевать тьму сила Божия, т. е.
созерцаемая от мира по направлению к Богу, София
зрится розовою или красною. Розовою или красною она
зрится как образ Божий для твари, как явление Бога на
земле, как та «розовая тень», которой молился Вл.
Соловьев. Напротив, голубою или фиолетовою она зрится
как мировая душа, как духовная суть мира, как голубое
покрывало, завесившее природу. В видении Вяч.
Иванова — как первооснова нашего существа в мистическом
погружении взора внутрь себя: душа наша — как голубой
алмаз. Наконец, есть и третье метафизическое
направление — ни к свету и ни от света, София вне ее определения
или самоопределения к Богу. Это тот духовный аспект
бытия, можно сказать, райский аспект, при котором нет еще
познания добра и зла. Нет еще прямого устремления ни
к Богу, ни от Бога, потому что нет еще самых
направлений ни того, ни другого, а есть лишь движение около
Бога, свободное играние перед лицом Божиим, как зелено-
золотистые змейки у Гофмана, как Левиафан, «его же
созда Господь ругатися (т. е. игратися) ему», как играю-
Α. Φ. ЛОСЕВ
50
щее на солнце — море. И это тоже София, но под особым
углом постигаемая. Эта София, этот аспект Софии зрится
золотисто-зеленым и прозрачно-изумрудным. Это — тот
аспект, который мелькал, но не находил себе выражения
в первоначальных замыслах Лермонтова. Три основные
аспекта первотвари определяют три основные цвета
символики цветов, остальные же цвета устанавливаются в
своем значении как цвета промежуточные. Но каково бы
ни было многообразие цветов, все они говорят об
отношении хотя и различном, но одной и той же Софии к одному
и тому же небесному Свету. Солнце, тончайшая пыль и
тьма пустоты в мире чувственном и — Бог, София и Тьма
кромешная, тьма метафизического небытия в мире
духовном — вот те начала, которыми обусловливается
многообразие цветов как здесь, так и там при полном всегда
соответствии тех и других друг другу» .
с) Я утверждаю, что проводимая в таком толковании
цветов символическая мифология (между прочим,
одинаковая у Гёте и у Флоренского) есть всецело именно
символическая, так как она построена на существенной
характеристике каждого цвета в отдельности. Против этого могут
только сказать, что эти характеристики необязательны,
произвольны и субъективны. Что они необязательны,
это может утверждать только засушенное и мертвое,
абстрактно-метафизическое сознание. Никто никогда не
воспринимает цвет без этих и подобных впечатлений. Чистый
цвет есть несуществующая абстракция и утверждается
лишь теми, кто не привык видеть жизнь, а лишь живет
выдумками. Что же касается произвольности этих
характеристик, то они являются таковыми только потому, что
весьма мало людей, которые бы задавались целью
изучить цвета в их полном жизненном явлении. Разумеется,
тут возможна та или иная степень произвола, покамест
наука не собрала хорошо проанализированный
этнографический, психологический и феноменологический
материал. Наконец, совсем уже нелепо обвинение в
субъективизме. Думают, что возбужденный характер красного
цвета есть субъективное (так как нереальное) переживание,
а колебательные движения среды, дающие красный цвет,—
объективны. Почему? Чем одно лучше другого? Разве эти
1 Флоренский П. Небесные знамения (размышление о символике
цветов). Маковец. 1922. Nb 2. С. 14—16.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
51
«волны» не суть тоже некое физическое явление,
воспринимаемое обычным путем? Почему одни восприятия
субъективны, другие вдруг объективны? По-моему, все
одинаково субъективно и объективно. И не лучше ли
просто выкинуть всех этих субъектов и объектов и не
лучше ли описывать предмет так, каким он является? Не
хочется людям довериться живому опыту. А он как раз
говорит, что не мы возбуждаем красный цвет, а он — нас;
не мы успокаиваем зеленый цвет, но он — нас; и т. д. Hyt
так и давайте запишем: красный цвет вызывает
возбуждение, именно он, а не мы сами. И, значит,
возбужденность — его объективное свойство. Для меня оно, во
всяком случае, гораздо более объективно, чем какие-то там
волны неизвестно чего, о которых я с гимназических лет
успел забыть все, что ни вбивали в меня старательные
физики. Физику я забыл, а красный флаг от белого всегда
буду отличать,— не беспокойтесь.
d) Такова живая мифология цвета, ничего общего не
имеющая с абстрактно-аллегорическими толкованиями
«научных» теорий. Еще сложнее и интереснее делается
мифология, когда она относится не к свету и цвету вообще,
но к световым или цветным предметам.— Лунный свет
отнюдь не такая простая вещь, чтобы можно было сразу
взяться за вскрытие его мифологии; и тут немало
можно было бы установить аналогий и уравнений, если
бы взяться за сопоставление всех «лунных» интуиции
в различных религиях, искусствах и поэзии. Можно
написать целую историю интуитивной мифологии луны; и этой
увлекательной задачей займутся тотчас же, как только
начнут серьезно относиться к непосредственным
восприятиям жизни и перестанут заслонять от себя жизнь
просветительским верхоглядством и абстрактной метафизикой,
материалистической или спиритуалистической. Выйдите
на луг, когда над вами безоблачное летнее небо и когда
луна одна парит в высоте, так что ни ветер, ни тучи, ни
дождь, ни какое-нибудь особенное состояние атмосферы не
отвлекают вашего внимания и вы можете сосредоточиться
только на луне. Этот лунный свет в самом существе есть
нечто холодное, стальное, металлическое. Он есть нечто
электрическое и в то же время как бы нечто
механическое, машинное; действительно — как бы просто свет
ровно светящего дугового фонаря. Однако эта механика,
несомненно, магична. Лучи, вы чувствуете, льются на вас
Α. Φ ЛОСЕВ
I I _
52
волнами. Холод и механика оказываются внутренно
осмысленными, сознательно направленными на вас. Этот свет
действует так, как действуют над нами врачи, желая нас
незаметно для нас самих усыпить, как пассы гипнотизера.
Лунный свет есть гипноз. Он бьет незаметными волнами
в одну точку, в ту самую точку сознания, которая
переводит бодрственное состояние в сон. Вы чувствуете, что
в темени у вас начинает делаться что-то неладное. Там
темнеет и холоднеет мозг, но не настолько темнеет, чтобы
заснуть нам без сновидений, и не настолько
холоднеет, чтобы прекратилась жизнь. Вы не засыпаете, нет. Вы
переходите именно в гипнотическое состояние. Начинается
какая-то холодная и мертвая жизнь, даже воодушевление,
но все это окутано туманами принципиального
иллюзионизма; это — пафос бескровных и мертвенных
галлюцинаций. Луна — совмещение полного окоченения и смерти
с подвижностью, доходящей до исступления, до пляски.
Это — такое ничто, которое стало металлом, пустота,
льющаяся монотонным и неустанным покоем,
галлюцинация, от которой не стынет кровь в жилах, но которая несет
вас в голубую пустоту какими-то зигзагами, какими-то
спиралями, не вверх и не вниз, а влево и вправо, в какую-то
неведомую точку, вовнутрь этой точки, в глубины этой
точки. Чувствуется, как мозг начинает расширяться, как
образуются в нем черные провалы, как из этих провалов
встает что-то черное и светлое, как бы прозрачное, не
то скелеты, не то звездные кучи, не то огромные, со
светящимися глазами пауки. Ощущается сначала легкая
тошнота, потом томление усиливается. В груди тесно. Потом
как бы все пропадает, и становится скучно. Прохладно,
пусто, сонно и — скучно. Но это ненадолго. Потом уже
совершенно явственно начинается пляска скелетов с
оскаленными зубами и длинными-предлинными руками. Нет
уже никакой луны, никакого луга, нет ни вас, ни ночи.
Только слышен стук скелетов друг о друга; и оскаленные
рожи вертятся все быстрее и быстрее, и их становится
все больше и больше. Они заполняют луг, землю, небо, они
заполняют весь мир. То вдруг стук пропадает, и вся
вакханалия происходит в абсолютной тишине; только луна,
показавшись ненадолго в этой голубой бездне, лукаво
кивает и моргает, зовет и хихикает как ни в чем не бывало.
То вдруг стук превращается в гром, и тогда кто-то
оглушительно хохочет и высовывает красный язык, и вы как
ДИАЛЕКТИКА МИФА
\т^^ш\
53
бы насильно лезете куда-то кверху и в то же время бьетесь
головой о что-то твердое и черное. Холод и смрад, оборот -
ничество и самоистязание, голубое и черное, гипноз и
жизнь, вихрь и тишина,— все слилось в одну
бесшумную и окостеневшую галлюцинацию. Недаром кто-то
сказал, что у бесов семя холодное.
Определенную мифологию имеет солнечный свет.
Определенная мифология принадлежит голубому небосводу.
Зеленый цвет деревьев, синий цвет далеких гор, лиловатый
и красноватый цвет зимних сумерек,— все это я мог бы
изобразить здесь в подробном и наглядном виде. Однако
увлекаться этим не стоит в очерке, преследующем одни
лишь принципиальные цели. Можно разве указать на
мифологию электрического света, так как поэты, спокон
веков воспевавшие цвета и цветные предметы в природе,
покамест еще недостаточно глубоко отнеслись к этому
механически изготовляемому свету. А между тем в нем есть
интересное мифологическое содержание, не замечаемое
толпой лишь по отсутствию вкуса и интереса к живой
действительности. Свет электрических лампочек есть
мертвый, механический свет. Он не гипнотизирует, а только
притупляет, огрубляет чувства. В нем есть ограниченность
и пустота американизма, машинное и матерое
производство жизни и тепла. Его создала торгашеская душа
новоевропейского дельца, у которого бедны и нетонки
чувства, тяжелы и оземлянены мысли. В нем есть какой-то
пафос количества наперекор незаменимой и ни на что не
сводимой стихии качества, какая-то принципиальная сере-
динность, умеренность, скованность, отсутствие порывов,
душевная одеревенелость и неблагоуханность. В нем нет
благодати, а есть хамское самодовольство полузнания;
нет чисел, про которые Плотин сказал, что это — умные
изваяния, заложенные в корне вещей, а есть бухгалтерия,
счетоводство и биржа; нет теплоты и жизни, а есть
канцелярская смета на производство тепла и жизни; не
соборность и организм, но кооперация и буржуазный по природе
социализм. Электрический свет — не интимен, не имеет
третьего измерения, не индивидуален. В нем есть
безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость; в нем
отсутствуют границы, светотени, интимные уголки,
целомудренные взоры. В нем нет сладости видения, нет
перспективы. Он принципиально невыразителен. Это —
таблица умножения, ставшая светом, и умное делание,
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J I
54
выраженное на балалайке. Это — общение душ,
выраженное пудами и саженями, жалкие потуги плохо одаренного
недоучки стать гением и светочем жизни. Электрическому
свету далеко до бесовщины. Слишком он уж неинтересен
для этого. Впрочем, это, быть может, та бесовская сила;
про которую сказано, что она — скучища пренеприличная*
Не страшно и не гадливо и даже не противно, а просто
банально и скучно. Скука — вот подлинная сущность
электрического света. Он сродни ньютонианской
бесконечной вселенной, в которой не только два года скачи, а целую
вечность скачи, ни до какого атома не доскачешься.
Нельзя любить при электрическом свете; при нем можно
только высматривать жертву. Нельзя молиться при
электрическом свете, а можно только предъявлять вексель.
Едва теплющаяся лампадка вытекает из православной
догматики с такой же диалектической необходимостью, как
царская власть в государстве или как наличие просвирни
в храме и вынимание частиц при литургии. Зажигать
перед иконами электрический свет так же нелепо и есть
такой же нигилизм для православного, как летать на
аэропланах или наливать в лампаду не древесное '* масло,
а керосин. Нелепо профессору танцевать, социалисту
бояться вечных мук или любить искусство, семейному
человеку обедать в ресторане и еврею — не исполнять
обряда обрезания. Так же нелепо, а главное нигилистично
для православного — живой и трепещущий пламень
свечи или лампы заменить тривиальной абстракцией и
холодным блудом пошлого электрического освещения.
Квартиры, в которых нет живого огня — в печи, в свечах, в
лампадах,— страшные квартиры.
е) Тот, кто захочет в будущем говорить о мифологии
природных светов и цветов и вообще тех или иных картин
природы, должен будет в первую очередь изучить эту
мифологию так, как она дана в искусстве, хотя миф еще
не есть поэзия. Нужно подметить закономерности в
мифологии, напр. неба или ночи, несомненно характеризующие
целые циклы поэтических представлений. Об этом уже
пробовали писать, хотя устойчивой традиции еще не
образовалось, методы такого описания остаются большею частью
невыясненными и самые материалы продолжают быть
незначительными. Я укажу в качестве примера на те
наблюдения, которые делал А. Белый над зрительным
восприятием природы Пушкина, Тютчева и Баратынского.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I і
55
Возьмем луну. У Пушкина — она женщина,
враждебно-тревожная царица ночи (Геката) · Отношение поэта к
ней мужественное. Она его тревожит, а он обращает ее
действие в шутку, называя ее «глупой». В 70 случаях из
852* она — луна и 15 раз — месяц. Тютчев, наоборот,
знает только «месяц» и почти не знает «луны». Он — «бог»,
«гений», льющий в душу покой, не тревожащий и
усыпляющий. Душа Тютчева женственно влечется за «месяцем»
в «царство теней». Пушкхінская «луна» — в облаках.
Она — «невидимка», «затуманена». «Бледное пятно» ее
«струистого круга» тревожит нас своими «мутными
играми». Ее движения — коварны, летучи, стремительны:
«пробегает», «перебегает», «играет», «дрожит»,
«скользит», «ходит» (небо «обходит») переменчивым ликом
(«полумесяц», «двурогая», «серп», «полный месяц»).
У Тютчева нет «полумесяца», «серпа», но есть его дневной
лик, «облак тощий». Месяц Тютчева неподвижен на небе
(и чаще всего на безоблачном). Он — «магический»,
«светозарный», «блистающий», полный. Никогда не
бывает, в противоположность частому пушкинскому
словоупотреблению, «сребристым». Бывает «янтарным», но не
желтым и не красным, как временами у Пушкина.
«Месяц» Тютчева — туманисто-белый и почти не скрывается
с неба. Менее всего он «невидимка». Он — «гений» неба.
Итак, перед нами два индивидуальных светила: успокоен-
но-блистающий гений-месяц и — бегающая по небу луна.
У Баратынского образ луны бледен («серебрянен», как
у Пушкина, и «сладостен», как у Тютчева) и проявлен
только в «подлунных впечатлениях» души поэта,
заставляющих его уверять: месяц «манит за край земли». Он
больше всего в душе. А по небу ходит его слово пустое:
луна, месяц, «разве что ясныеъ, добавляет А. Белый.
Точно так же надо отметить и три солнца. Солнце
Пушкина — «зарей выводимое солнце: высокое, яркое,
ясное», как «лампадный хрусталь» (в противоположность
«луне» — облачной, мятущейся, страстной). У Тютчева,
наоборот, в противоположность спокойному месяцу,
солнце — «пламенно», страстно и «раскаленно-багрово».
Оно — «пламенный», «блистающий» «шар» в
«молниевидных» лучах. Это какое-то молниеносное чудище, сеющее
искры, розы и воздвигающее дуги радуг. У
Баратынского солнце (хотя и живое) как-то «нехотя блещет» и
рассыпает «неверное» золото. Его зрительный образ опять-
Α. Φ. ЛОСЕВ
56
таки призрачен и переходит из подлинного солнца, при
случае, в «солнце юности».
Три неба: пушкинский «небосвод» (синий, дальний),
тютчевская «благосклонная твердь» (вместе и «лазурь —
огневая») и у Баратынского небо — «родное», «живое»,
«облачное». Пушкин скажет: «Небосвод дальний блещет»;
Тютчев: «Пламенно твердь глядит»; Баратынский —
«облачно небо родное».
Сводя в одну синтетическую формулу картины
природы, зримые тремя поэтами, А. Белый говорит, что три
поэта следующим образом стали бы рисовать природу.
Пушкин. «Небосвод дальний блещет; в нем ночью:
туманная луна в облаках; в нем утром выводится:
высокое чистое солнце; и оно — как хрусталь; воздух не
превозмогает дремоты; кипит и сребрится светлая ключевая,
седая от пены, вода и т. д.». «Начало картины», говорит
Белый, «сдержанно, объективно и четко (даже —
выглядит холодно)». «Пушкин сознательно нам на природу
бросает дневной, Аполлонов покров своих вещих глаз». Он
изучает природу и находит слова для ее хаоса.
Тютчев. «Пламенно глядит твердь лазуревая;
раскаленный шар солнца протянут в ней молниевидным
родимым лучом; когда нет его, то светозарный бог, месяц,
миротворно полнит елеем волну воздуха, разлитого
повсюду, поящего грудь, пламенящего ланиты у девы; и —
отражается в зеркальной зыби (в воде)». «Такова картина
пламенных природных стихий в поэзии Тютчева; и по
сравнению с ней — холодна муза Пушкина; но эта
пламенность — лжива; и та холодность есть магия при более
глубоком подходе к источникам творчества Пушкина;
пламенно бьются у Тютчева все стихии; и все образы, сры-
ваяся с мест, падают в душу поэта:
Все — во мне; и я — во всем.
Почему же этой строке предшествует другая,
холодная?
Час тоски невыразимой:
Все — во мне; и я — во всем.
Потому что здесь речь поэзии Тютчева распадается в
темные глаголы природы; а эти глаголы — лишь хаос! бурю
красочных радуг взметает пред Тютчевым: мгла Аримана;
перед нею Тютчев бессилен; наоборот: вооружен Пуш-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I il
57
кин — тут; он проходит твердо сквозь мглу; и из нее
иссекает нам свои кристальные образы».
Баратынский. «На родном, но облачном небе
холодное, но живое светило дневное; чистый воздух
благоухает; неприязненна летийская влага вод; она восстала
пучиной; нет солнца: и сладко манит луна от земли».
«Целостно овладение природой у Пушкина; а у
Тютчева целостно растворение; этого овладения и этого
растворения в поэзии Баратынского нет: у него природа
раздвоена: лунные и водяные начала (начала страсти) бушуют
в нем; и ему непокорны; в воздухе, солнце и в небе черпает
он свою силу; и этой целебною силою (благоухающий его
воздух — целебен) он убивает в себе: непокорные пучины
страстей: воды; водопадные «застылые» влаги — висят
над землею; а сама земля — в «широких лысинах
бессилья» (выражение Баратынского); и только этой
ценою ему очищается воздух — не пламенящий,
тютчевский воздух,— а благоухающий, свежий.
Тютчева природа страстна; «вода» Баратынского —
кипение сладострастия, побеждаемого упорно; образом и
подобием природных стихий повествует нам поэзия
Баратынского об умерщвлении ее плоти; увы, этой ценой,
утратою воды и земли — подымается благоухание ее
чистого и целебного воздуха»1.
Формулированные три мифологии природы —
независимо от правильности или неправильности интерпретации
А. Белого — могут служить хорошим примером вообще
возможной мифологизации природных явлений. На
критике такой узкой и неталантливой теории, как солярная
и метеорологическая, мы учимся, как распознавать
подлинную мифологию природы и как находить ее в других
не-природных мифологических образах.
Однако не будем увлекаться анализом символической
природы отдельных мифов, предоставляя это особому
исследованию, и запомним только тот основной вывод, что
миф никогда не есть только схема или только аллегория,
но всегда прежде всего с им в о л, и, уже будучи символом,
он может содержать в себе схематические, аллегорические
и усложненно-символические слои.
VL Миф не есть поэтическое произведение. Нечего и
говорить о том, что отождествление мифологии и поэзии -
1 Белый А. Поэзия слова. Петерб., 1922. С. 10—19.
Α. Φ. ЛОСЕВ
58
тоже одно из коренных убеждений огромной части
исследователей. Начиная с Я. Гримма, очень многие
понимают мифы как поэтические метафоры первобытного
образа мышления. Вопрос об отношении мифологии и
поэзии — действительно весьма запутанный вопрос. И,
конечно, сходство того и другого бросается в глаза гораздо
скорее, чем различие. Поэтому, чтобы не сбиться в
сравнительном анализе мифического и поэтического образа,
укажем сначала главнейшие черты сходства. Это даст нам
возможность и более ярко разграничить обе сферы.
1. Без всяких дальнейших разъяснений должно быть
всякому ясно, что мифический и поэтический образ суть
оба вместе виды выразительной формы вообще. Что
такое выражение — мы уже знаем. Это — синтез
«внутреннего» и «внешнего»,— сила, заставляющая «внутреннее»
проявляться, а «внешнее» — тянуть в глубину
«внутреннего». Выражение всегда динамично и подвижно, и
направление этого движения есть всегда от «внутреннего» к
«внешнему» и от «внешнего» к «внутреннему».
Выражение — арена встречи двух энергий, из глубины и извне, и их
взаимообщение в некоем цельном и неделимом образе,
который сразу есть и то и другое, так что уже нельзя
решить, где тут «внутреннее» и где тут «внешнее». Что
поэзия именно такова, это явствует уже из одного того, что
она всегда есть слово и слова. Слово — всегда
выразительно. Оно всегда есть выражение, понимание, а не просто
вещь или смысл сами по себе. Слово всегда глубинно-
перспективно, а не плоскостно. Таков же и миф. Миф или
прямо словесен, или словесность его скрытая, но он всегда
выразителен; всегда видно, что в нем два или больше
слоев и что эти слои тем отождествляются друг с другом,
что по одному из них всегда можно узнать другой. Что миф
всегда принципиально словесен, это не может быть
подвержено никакому сомнению. По линии выражения, т. е.
схемы, аллегории и символа, невозможно провести грань
между мифологией и поэзией. И мифический, и
поэтический образ может быть и схемой, и аллегорией, и символом.
2. Далее, мифология и поэзия суть в одинаковой мере
интеллигенция, т. е. это не только выражение, но и
одушевленное, одухотворенное выражение. Всякая
поэтическая форма есть всегда нечто одухотворенное; она есть
изнутри видимая жизнь. В поэзии дается такое
«внутреннее», которое бы было чем-то живым, имело живую душу,
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I' 1
59
дышало сознанием, умом, интеллигенцией. Всякое
искусство таково. В самых простых очертаниях примитивного
орнамента уже заключена живая жизнь и шевелящаяся
потребность жить. Это не просто выражение. Это —
такое выражение, которое во всех своих извивах хочет
быть одухотворенным, хочет быть духовно свободным,
стремиться к освобождению от тяжести и темноты
неодухотворенной и глухонемой, тупой вещественности. Такова
же и мифология. Она или прямо трактует о живых
существах и личностях, или говорит о неживом так, что видна
ее изначальная одушевляющая и одухотворяющая точка
зрения. Однако тут надо уметь уберечься от грубо
натуралистического понимания поэзии и мифологии.
Именно, нельзя сказать, что сущность поэзии
заключается в изображении прекрасного или одухотворенного,
т. е. нельзя сказать, что сущность поэзии заключается в тех
или других особенностях ее предмета. Когда мы
говорим, употребляя некритические понятия, что поэзия
изображает прекрасное, то это вовсе не значит, что предмет
ее действительно прекрасен. Всем известно, что предмет
ее может быть и безобразен или мертв. Стало быть,
поэтичен не самый предмет, к которому направлена поэзия, но
способ его изображения, т. е., в конце концов, способ его
понимания. То же самое мы должны сказать и о
мифологии. Мифология дает нечто живое, одухотворенное и,
если хотите, прекрасное. Но это не значит, что
мифологический предмет есть всегда живое существо, личность,
одухотворенный предмет. Мифического образа нет самого по
себе, как нет вещи, которая бы уже сама по себе была
прекрасна. Мифический образ мифичен в меру своего
оформления, т. е. в меру своего изображения, в меру
понимания его с чужой стороны. Мифичен способ изображения
вещи, а не сама вещь по себе. И по этой линии также
невозможно провести грань между мифологией и поэзией.
Они обе живут в одухотворенном мире; и эта
одухотворенность есть способ проявления вещей, модус их
оформления и понимания. Ни в мифологии, ни в поэзии вовсе не
обязательно всеобщее одушевление. Напрасно
исследователи стараются вбить нам в голову, что первобытное
мифологическое сознание, которое мыслится ими всегда
как анимизм, соединяется обязательно с всеобщим
одушевлением. Совершенно неверно, что в мифе все
одушевленно. Мифически живущие и чувствующие люди пре-
А- Ф. ЛОСЕВ
Г5=1
60
красно отличают одушевленные предметы от
неодушевленных; и они вовсе не такие уж сумасшедшие, которые
палку принимают за живое существо, а в животном ничего
не видят, кроме неодушевленного механизма. Последнее,
правда, свойственно «дикарям», но только другого рода
«дикарям», материалистам. Итак, между мифологией и
поэзией то коренное сходство, что по способу созидания
и оформления своего предмета это суть «выразительные»
акты, которые являются в то же время интеллигентно-
выразительными, т. е. самое их понимание вещей приводит
последние к помещению в некоторую одухотворенную,
живую среду, независимо от характера самих этих вещей.
3. Далее, и поэтическое и мифическое бытие есть бытие
непосредственное, невыводное. Образ и <в> поэзии и в
мифологии не нуждается ни в какой логической системе,
ни в какой науке, философии или вообще теории. Он —
наглядно и непосредственно видим. Выражение дано тут в
живых ликах и лицах; и надо только смотреть и видеть,
чтобы понимать. Наглядная картинность, внутренняя или
внешняя, одинаково свойственна им обоим; и по этой линии
также невозможно провести различия между мифологией
и поэзией. Они одинаково непосредственны, наглядны,
просты и картинны. Это-то и заставило многих
исследователей стирать всякую грань между обеими сферами
человеческого творчества. И действительно, грань эта проходит
совершенно в другом смысле, не по линии большей или
меньшей наглядности и непосредственности.
4. Наконец, некоторое относительное сходство можно
находить в общем признаке отрешенности. Однако это как
раз та область, где мифология и поэзия расходятся между
собою принципиально и окончательно, и потому надо быть
осторожным в установлении сходства. Сходство
несомненно есть. Поэзия, как и вообще искусство, обладает
характером отрешенности в том смысле, что она возбуждает
эмоции не к вещам как таковым, а к их определенному
смыслу и оформлению. Когда на театральной сцене
изображается пожар, убийство и проч. бедствия или
преступления,— мы отнюдь не кидаемся на сцену с целью
помочь бедствию или избежать его, с целью предотвратить
преступление или изолировать его. Мы остаемся сидеть на
своем месте, что бы на сцене ни изображалось. Таково же
и вообще искусство. Оно живет действительно
«незаинтересованным удовольствием», и в этом Кант тысячу раз
ДИАЛЕКТИКА МИФА
f—ί^ I
61
прав. Этим нисколько, конечно, не решается и даже не
затрагивается вопрос об общественном значении искусства.
Общественное значение может иметь ведь и
«незаинтересованное наслаждение». И даже чем больше искусство
отрывает нас от «действительности» и «интереса», тем,
зачастую, больше платим мы за это искусство и тем больше
иногда играет оно общественную роль. Но эти вопросы
сейчас нас совершенно не интересуют. Важно только то,
что искусству и поэзии свойственна некая отрешенность,
выхватывающая вещи из потока жизненных явлений и
превращающая их в предметы какого-то особенного, отнюдь
не просто насущно-жизненного и житейского интереса.
Несомненно, некоего рода отрешенность свойственна и
мифологии. Мы на нее уже указывали. При всей своей
живости, наглядности, непосредственности, даже
чувственности, миф таит в себе какую-то отрешенность, в силу
которой мы всегда отделяем миф от всего прочего и видим
в нем что-то необычное, противоречащее обыкновенной
действительности, что-то неожиданное и почти чудесное.
Отрицать наличие такой отрешенности в мифе совершенно
невозможно.
5. Но как раз в сфере отрешенности и проходит
основная грань различия между мифологией и поэзией.
Ни выразительность формы, ни интеллигентность, ни
непосредственная наглядность, ни, наконец, отрешенность,
взятые сами по себе, не могут отличить миф от
поэтического образа. Только по типу этой отрешенности, а не по
ней самой как таковой можно узнать, где миф и где поэзия,
где мифическая и где просто поэтическая фантазия.—1.
Уже первоначальное всматривание в природу мифической
отрешенности обнаруживает с самого начала, что никакая
отрешенность, никакая фантастика, никакое расхождение
с обычной и повседневной «действительностью» не мешает
мифу быть живой и совершенно буквальной реальностью,
в то время как поэзия и искусство отрешены в том смысле,
что они вообще не дают нам никаких реальных вещей,
а только их лики и образы, существующие как-то
специфически, не просто так, как все прочие вещи. Кентавры,
сторукие великаны суть самая настоящая реальность.
Мифический субъект бросается на сцену, а не сидит,
занятый безмолвным ее созерцанием. Поэтическая
действительность есть созерцаемая действительность, мифическая
же действительность есть реальная, вещественная и телес-
Α. <Ь. ЛОСЕВ
62
ная, даже чувственная, несмотря ни на какие ее
особенности и даже отрешенные качества. 2. Это значит, что тип
мифической отрешенности совершенно иной, чем тип
поэтической отрешенности. Поэтическая отрешенность есть
отрешенность факта или, точнее говоря, отрешенность от
факта. Мифическая же отрешенность есть отрешенность опт
смысла, от идеи повседневной и обыденной жизни. По
факту, по своему реальному существованию
действительность остается в мифе тою же самой, что и в обычной жиз-
ниу и только меняется ее смысл и идея. В поэзии же уничто-
жается сама реальность и реальность чувств и действий;
и мы ведем себя в театре так, как будто бы изображаемого
на сцене совершенно не было и как будто бы мы в этом
совершенно ни с какой стороны не заинтересованы. Для
мифа и мифического субъекта такое положение дела
совершенно немыслимо. Мифическое бытие — реальное бытие;
и если вызывает оно «удовольствие», то обязательно
«заинтересованное», вернее же, вызывает не просто
удовольствие, но весь комплекс самых разнообразных реальных
мыслей, чувств, настроений и волевых актов, которыми
обладает действительный человек в обыкновенной жизни,
3. Миф, таким образом, совмещает в себе черты как
поэтической, так и реально-вещественной
действительности. От первой он берет все наиболее фантастическое,
выдуманное, нереальное. От второй он берет все наиболее
жизненное, конкретное, ощутимое, реальное, берет всю
осуществленность и напряженность бытия, всю стихийную
фактичность и телесность, всю его неметафизичность.
Фантастика, небывалость и необычайность событий даны здесь
как нечто простое, наглядное, непосредственное и даже
прямо наивное. Оно сбывается так, как будто бы оно
было чем-то обыкновенным и повседневным. Этим
синтезом неожиданности, необыкновенности с наивно-реальной
непосредственностью и отличается мифическая
отрешенность от поэзии, где есть все что угодно, но только не
реальные вещи как вещи.
6. Итак, миф не есть поэтический образ; их разделяет
характер свойственной тому и другому отрешенности. Но
для полного уяснения этого взаимоотношения поставим
такой вопрос: возможен ли поэтический образ без
мифического и возможен ли мифический образ без
поэтического? — а) На первую половину вопроса ответить
довольно легко. Конечно, поэзия возможна без мифологии,
ДИАЛЕКТИКА МИФА
63
в особенности если мифологию понимать в узком и
совершенно специфическом смысле. Действительно, вовсе не
обязательно, чтобы поэт был Гофманом или Э. По. Поэзия
есть выражение; она есть выражение интеллигентное; она
есть интеллигентное выражение, данное в той или другой
форме взаимоотношения выражаемого и выражающего;
и т. д. Все это есть и в мифе. Можно на этом основании*
употребляя понятие мифа в широчайшем смысле слова,
сказать, что поэзия невозможна без мифологии, что поэзия
собственно и есть мифология. Но под мифологией можно
понимать (и большею частью так и понимается) более
узкий и более определенный предмет; а именно это есть
поражающая своей необычностью выразительная
действительность. Мы уже не говорим, что поэзия
«незаинтересованна», а мифология — «заинтересованна» и вещественна,
телесна. Если понимать мифологию так, то поэзия вовсе не
есть мифология. Она не обязана давать такие образы,
которые будут чем-то особенно необычным. Борис Годунов и
Евгений Онегин у Пушкина суть несомненно поэтические
образы; тем не менее в них нет ничего странного,
необычного, отрешенного в мифическом смысле. Это —
поэтически-отрешенное бытие, но не мифически-отрешенное.
С другой стороны, поэзия не обязана создавать такие
образы, которые были бы живой и вещественной реальностью.
Даже изображение в поэзии исторических лиц и событий
вовсе не есть изображение реальности как таковой.
Поэтический образ, раз он действительно есть поэтический
образ, даже в изображении исторических фактов остается
отрешенным\ и с точки зрения чисто поэтической
совершенно не существует вопрос, соответствует ли пушкинский
Годунов историческому Годунову или нет. Поэтическая
действительность довлеет сама себе; и она — в своей
отрешенности — совершенно самостоятельна и ни на что не
сводима.— Итак, поэзия, имея много общего с
мифологией, расходится с нею в самом главном; и можно сказать,
что она нисколько не нуждается в мифологии и может
существовать без нее. Не обязательно было Гоголю все
время создавать образы, подобные тем, что даны в
«Заколдованном месте» или в «Вие». Он мог создать и образы
«Ревизора» и «Мертвых душ».
Ь) Труднее ответить на вторую половину
поставленного выше вопроса: возможна ли мифология без поэзии? Не
должен ли образ быть сначала поэтическим, а потом уже,
Α. Φ. ЛОСЕВ
1—^—1
64
после прибавления некоторых новых моментов,
мифическим? Или сходство между поэзией и мифологией таково,
что сходные элементы в мифе скомбинированы совершенно
по иному принципу, так что вовсе нет надобности
мифологию получать из поэзии, через добавление новых
элементов, а надо мифический образ конструировать
самостоятельно, без всякого обращения внимания на поэзию? На
первый взгляд проще всего мифический образ получить из
поэтического путем добавления соответствующих
моментов и, стало быть, трактовать поэтический образ как нечто
необходимо входящее в состав мифического образа.
Ближайшее рассмотрение, однако, этому, по-видимому,
противоречит. Именно обратим внимание на тот несомненный
факт, что мифическим характером обладает не только
поэзия. Мы, напр., видели уже в предыдущем изложении, что
мифические черты может содержать и всегда содержит
позитивная наука. Это не значит, что она сначала должна
быть поэзией или содержать поэтические элементы, а
потом это приведет ее к мифологии. Нет; наука, видели мы,
мифологична сама по себе, только благодаря своему
существованию в гуще исторического процесса, а не потому,
что она — поэтична. Стало быть, мифология как будто
нисколько не нуждается в поэзии. Другой пример менее
очевиден, но он также имеет решающий характер. Это —
мифологический состав религии. Что религия всегда
содержит в себе мифологию — это не вызывает никаких
сомнений. Больше того. Можно даже поставить вопрос:
возможна ли религия без мифологии? Этого вопроса нечего
решать в данном месте. Но что религия совершенно не
нуждается в поэзии и искусстве, чтобы быть религией, это,
мне кажется, тоже довольно бесспорный факт. Не важно,
что реальные религии всегда даны в художественной
форме и нуждаются для своего развития и выражения в
искусстве. Но что религия сама по себе не есть искусство и во
многих отношениях даже находится с ним в антагонизме
(если одно добровольно не подчинится здесь другому) —
это, по-видимому, факт окончательно установленный.
Итак, религия теснейшим образом связана с мифологией и
может совершенно свободно обойтись без поэзии. Явно,
что религиозная мифология, как и та, которой питается —
большею частью бессознательно — положительная наука,
обходится без поэзии, хотя ничто, конечно, не мешает им
вступить с нею в очень тесный союз. Наконец, мифом
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Γ=Ί
65
пропитана вся повседневная человеческая жизнь (об этом
нам еще придется говорить), но совершенно невозможно
сказать, что эта жизненная мифология дана в меру
поэтичности нашей жизни. Такое суждение было бы нелепым.
Следовательно, мифология возможна без поэзии, и
мифический образ можно конструировать без помощи
поэтических средств.
7. Как же это возможно? Что это за миф, который не
связан существенно с поэзией и, след., не содержит в себе
ни ее смысла, ни ее структуры? Мы уже знаем, что основное
отличие мифического образа от поэтического заключается
в типе его отрешенности. Выключивши из мифического
образа все поэтическое его содержание и оформление,—
что мы получаем? Мы получаем именно этот особый тип
мифической отрешенности, взятый самостоятельно, самую
эту мифическую отрешенность как принцип. Взятая в
своей отвлеченности, она действительно может быть
применяема и к религии, и к науке, и к искусству, и в
частности к поэзии. Здесь удобно сказать несколько слов об
этой мифической отрешенности как принципе особой
формы или специфического слоя в тех или других формах.
Никакое другое сопоставление и отграничение из тех,
которые были рассмотрены выше, не давало нам
возможности сосредоточиться на этом моменте специально.
И только сопоставление с поэзией, точнее же —
выключение всего поэтического из мифа, обнажает теперь перед
нами во всей непосредственности этот
мифически-отрешенный образ. Не забудем, что, выключивши поэзию, мы
выключили все богатство ее форм и содержания,
выключили всю стихию выразительности, словесности,
картинности, эмоциональности и т. д.
Мы уже говорили об отличии мифического отрешения
от поэтического. Стало быть, если в нем и содержатся
какие-нибудь черты поэтической отрешенности,—
выключим и их и оставим голую и беспримесную мифическую
отрешенность. Что она такое вообще — мы также говорили
уже. Что она такое в окончательной своей роли, об этом
мы будем говорить, когда переберем все составные
элементы мифа и когда поймем истинное положение ее среди
всех этих элементов. Сейчас же необходимо поставить
только такой вопрос: какова структура этой чистой и
беспримесной мифической отрешенности? Это и не вопрос об
ее общем смысле, на который мы уже ответили, и не
3 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 \
66
вопрос об ее диалектическом месте в системе цельного
мифического образа, о чем мы еще будем говорить. Это
вопрос средний между тем и другим. Какова структура
чистой и голой мифической отрешенности?
Мифическая отрешенность есть отрешенность от
смысла и идеи повседневных фактов, но не от их фактичности.
Миф фактичен ровно так, как и все реальные вещи; и если
есть какая-нибудь разница между мифической
реальностью и фактической, вещественной реальностью, то
вовсе не в том, что первая — слабее, менее интенсивна
и массивна, более фантастична и бесплотна, но скорее
именно в том, что она — сильнее, часто несравненно более
интенсивна и массивна, более реалистична и телесна.
Стало быть, единственная форма мифической отрешенности —
это отрешенность от смысла вещей. Вещи в мифе 3*
оставаясь теми же, приобретают совершенно особый смысл,
подчиняются совершенно особой идее, которая делает их
отрешенной. Ковер — обыкновенная вещь повседневной
жизни. Ковер-самолет — мифический образ. Какая
разница между ними? Вовсе не в факте, ибо по факту своему
ковер как был ковром, так им и остался. Разница в том,
что он получил совершенно другое значение, другую идею;
на него стали смотреть совершенно иными глазами.
Волосы, когда их выметают вместе с прочим сором в
парикмахерской, и волосы как амулет — ровно ничем не
отличаются по своей фактической реальности. И в том и в другом
случае это — самая обыкновенная и простая вещь. Но
волосы как амулет, как носители души или душевных сил
или как знаки иных реальностей получают новый смысл^
и с ними поэтому иначе и обращаются. Нельзя, напр., быть
настолько нечутким, чтобы не видеть разницы между
стеарином и воском, между керосином и деревянным маслом,
между одеколоном и ладаном. В стеарине есть что-то
прикладное, служебное, к тому же что-то грязное и сальное,
что-то нахальное и самомнительное. Воск есть нечто
умильное и теплое; в нем кротость и любовь, мягкосердие
и чистота; в нем начало умной молитвы, неизменно
стремящейся к тишине и теплоте сердечной. Также нахален и
неблагодатен керосин; он меряет любовь на пуды и теплоту
на калории; он духовно нечист и воняет смрадом; он —
машина и смазочное средство. Как табак — ладан сатане,
так керосин — соус для беса. Одеколон же вообще
существует только для парикмахеров и приказчиков и, может
ДИАЛЕКТИКА МИФА
) 1
67
быть, только еще для модных протодиаконов. Так,
молиться со стеариновой свечой в руках, наливши в лампаду
керосин и надушившись одеколоном, можно, только
отступивши от правой веры. Это — ересь в подлинном смысле,
и подобных самочинников надо анафемствовать. Таково
же и значение бороды. Стоглавый Собор постановил: «Аще
кто браду бреет и умрет тако, не достоит над ним служити,
ни сорокоустия по нем пети, ни просвиры, ни свещи по нем
в церковь принести. С неверными да причтется. От еретик
бо се навыкоша». И при всем том везде тут речь идет о
вещах, и только о вещах. Мифический смысл вещи не
мешает ей быть вещью, а скорее, наоборот, как-то
подчеркивает ее вещность. «Честная брада» и «скобленое рыло»
одинаково суть реальности; только одно — хорошая
реальность, а другое — дурная.— Итак, мифическая
отрешенность есть отрешенность фактов по их идее от их обычного
идейного состава и назначения.
8. Это мы уже знаем и сейчас только вспомнили об
этом. Что вытекает отсюда для структуры мифической
отрешенности или мифически-отрешенного слоя в любой
другой структуре сознания?
a) Раз дана такая отрешенность, то, в чем бы она ни
заключалась, она объединяет вещи в каком-то новом
плане, лишая их присущей им естественной раздельности.
Ковер — некая вещь естественного распорядка. Летание
по воздуху — некий реальный процесс определенного
естественного распорядка (для птиц, насекомых и прочих).
Но вот «ковер» и «летание по воздуху» объединяются
в один образ. Что это значит? Это значит, что, несмотря
на все их естественное различие и в некотором смысле
даже несоединимость, они объединяются тут согласно
особой идее объединения, и их естественное различие уже
значительно померкло. При этом идея, их объединившая,
сделала их отрешенным бытием, перевела их из сферы
обычных вещей и процессов в сферу отрешенную. Есть,
следовательно, какая-то общая точка схождения этих
вещей, какой-то общий и единый взгляд на них, в котором
моментально потухает их естественная непримиримость
и они вдруг оказываются сразу объединенными и
примиренными.
b) Отсюда следует, что мифическая отрешенность
предполагает некую чрезвычайно простую и элементарную
интуицию, моментально превращающую обычную идею
3*
А.-Ф.ЛОСЕВ
68
вещи в новую и небывалую. Можно сказать, что
каждому человеку свойственна такая специфическая интуиция,
рисующая ему мир только в каком-то особенном свете,
а не как-нибудь иначе. И потому мифическая отрешенность
есть явление исключительное по своей универсальности.
В каждом человеке можно заметить, как бы ни была богата
его психика, эту одну общую линию понимания вещей и
обращения с ними. Такая линия свойственна только ему
и никому больше. На любом писателе это можно проверить
и показать. Но только наши историки литературы и
литературоведы мало занимаются такими вопросами. Вопросы
же эти — совершенно эмпирические и реальные и требуют
массы фактических и статистических наблюдений для
выяснения общего уклона образности и прочих словесных
особенностей данного писателя. Эта основная и
примитивная интуиция есть нечто совершенно простое, нечто совсем,
совсем простое, как бы только один взгляд на какую-
нибудь вещь. Это действительно взгляд, но не на ту или
иную вещь, а взгляд вообще на все бытие, на мир, на
любую вещь, на Божество, на природу, на небо, на землю,
на свой, наконец, костюм, на еду, на мельчайший атом
повседневной жизни, и даже собственно не взгляд, а
какая-то первичная реакция сознания на вещи, какое-то
первое столкновение с окружающим. В этом пункте
мифическая отрешенность совершенно не отличима от этой
примитивно-интуитивной реакции на вещи, ибо вся
разница будет только, может быть, в степени или подвидах
этой общей примитивно-биологически-интуитивной
установки сознания на бытие. И можно сказать, что миф, если
выключить из него всякое поэтическое содержание, есть
не что иное, как только общее, простейшее,
до-рефлективное, интуитивное взаимоотношение человека с вещами.
Реально ощутить эту до-рефлективную реакцию можно на
примерах нашего повседневного общения с чужой
психикой. Вот человек плачет или смеется. Как мы это
воспринимаем? Взглянувши на лицо человека, мы сразу, без
всякого вывода,— можно сказать, почти мгновенно —
схватываем это страдание или этот смех. В нас еще нет мысли
о страдании, но мы уже точнейшим образом
констатировали страдание этого человека. И не только
констатировали, но уже и особенным образом отнеслись к нему,
оценили его. Мысль же о страдании появляется уже в
дальнейшем. Из этого можно видеть, как уродливы мифологи-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
69
ческие теории, кладущие в основу мифа то или иное
интеллектуальное построение. И не только кратковременные
и очень яркие явления так воспринимаются нами. Таково
же наше восприятие и вообще всей и всякой чужой
индивидуальности. Один врач мне говорил, что он с первого
взгляда на пришедшего к нему пациента, до всякого его
осмотра, уже знает, можно ли вылечить этого больного
или нет. Печорин у Лермонтова с первого взгляда на
женщину знает, будет ли тут взаимность или нет. Тот же
Лермонтов гениально пронаблюдал, что у солдата, который
должен быть убит в сегодняшнем сражении, уже с утра
появляется какое-то особенное выражение лица, не
замечаемое обычно ни окружающими, ни иМ самим.
«Прозорливость» у религиозных и часто даже совсем
нерелигиозных натур — общеизвестна, и не стоит тут приводить
никаких примеров. Это — различное по глубине и широте —
прозрение в чужую психику и даже в ее судьбы всякий не
раз встречал в жизни и в литературе, как бы ни старались
некоторые уродливые теории отрицать непосредственность
восприятия чужой психики. Но точно таково же и
мифическое воззрение и прозрение в вещи. Миф тоже
вырывает вещи из их обычного течения, когда они то
несоединимы, то непонятны, то не изучены в смысле их
возможного дальнейшего существования, и погружает их, не
лишая реальности и вещественности, в новую сферу, где
выявляется вдруг их интимная связь, делается понятным
место каждой из них и становится ясной их дальнейшая
судьба.
с) В связи с этим особенное значение приобретает
самый термин «отрешенность». Сейчас мы можем сказать,
что он далеко не точно выражает свой предмет, так как
это — настолько же отрешенность, насколько и образная
конкретность. В самом деле, с точки зрения чего тут
говорится об отрешенности? Отрешенность тут — от чего?
От обычной идеи, обычных вещей и явлений, сказали мы.
Но что такое обычная идея и что такое обычные вещи?
Не есть ли это простая условность? Не бывает ли так, что
одна и та же вещь в одно время обычна, а в другое
время — совершенно необычна и неожиданна? Конечно,
содержание этого термина есть нечто в величайшей мере
относительное и условное. Обычное иной раз оказывается
чрезвычайно загадочным, даже чудесным, из ряда вон
выходящим, а ведь оно остается все тем же обычным. Ясно,
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
70
что лучше говорить не о мифической отрешенности, но
о том, что все на свете вообще, все существующее,
начиная от мельчайшей и ничтожнейшей вещи и кончая миром
в целом, есть та или иная степень или качество
мифической отрешенности. То, что мы называем обычным
течением вещей, есть тоже результат некоего нашего
мифического взгляда, так как и здесь вещи все же не даны в своих
изолированных функциях и не даны как отвлеченные поня
тия, но мы видим некую их подчиненность тем или другим
идеям, пусть не очень ярким и не очень глубоким. Каждый
цвет, каждый звук, каждое вкусовое качество уже
несомненно обладает мифическим свойством. Так, краски
кажутся холодными, теплыми, жесткими, мягкими,
звуки — острыми, тяжелыми, легкими, задушевными,
строгими и т. д. Мифическая «отрешенность», таким образом,
есть форма в высочайшей мере универсальная; и нет ни
одной вещи, которую мы воспринимали бы только как
голое и отвлеченное понятие. Живая вещь, вот эта
бумага, эти карандаши и перья, эта комната — всегда
воспринимаются как вещи, наделенные тем или другим
личным, социальным или иным глубинно-выразительным
содержанием, и все в той или другой мере причастны
бытию мифическому. По-вашему, может быть, и еврейская
миква не есть глубинно-выразительный миф? И даже то,
что бывает после обрезания?.. Евреи знают, о чем я сейчас
говорю.
Из всего вышесказанного следует, что «мифическая
отрешенность» есть просто отрешенность от чисто
отвлеченного и дискретного существования. Она есть та
специальная сфера, в которую погружаются отвлеченные
понятия, чтобы превратиться в живые вещи живого
восприятия. Миф, видели мы, есть живое, выразительное и
символически-выразительное, интеллигентно-выразительное
бытие. Вещь, ставшая символом и
интеллигенцией, есть уже миф. Таким образом, миф и
мифическая отрешенность дает все те раздельно
указанные нами выше признаки мифа в некоем неделимом
единстве. Отрешенность станет понятной, когда весь
предыдущий анализ синтезируется в одну категорию,
вскрывающую существо мифа, и когда мы получим диалектическое
воссоединение всех указанных выше черт в единую и
неделимую структуру. Отбросивши поэтическую
отрешенность и оставшись на почве реальных вещей, мы видим
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I ' I
71
теперь, что реальные вещи тоже суть как-то
понимаемые вещи. Есть научное их понимание, есть религиозное
их понимание. Есть и мифологическое их понимание.
Заключается оно — в наипростейшей
биологически-интуитивной непосредственности соприкосновения сознания
и вещей. Без этого нет и самих живых вещей опыта. Но
эта изначально-жизненная интуиция только указывает
нам, что порознь найденные нами выше существенные
свойства мифа должны быть еще раз пересмотрены с этой
новой точки зрения, и притом так, чтобы все они слились
в одну категорию, в один структурный лик мифа. В
мифической отрешенности нет ни отдельно жизненности, ни
отдельно выраженности, ни отдельно интеллигенции и т. д.
Есть что-то одно общее и единое, где все эти элементы
сливаются в одну неделимую категорию. Синтетичность
и жизненная непосредственность и наивность мифа
повелительно требуют именно такого вскрытия мифического
отрешения. И вот мы к нему подошли.
VII. Миф есть личностная форма. 1. До сих пор мы
имеем следующие тезисы, характеризующие существо
мифа путем отграничения от частично совпадающих с ним
форм сознания и творчества.
1. Миф не есть выдумка или фикция, не есть
фантастический вымысел, но — логически, т. е. прежде всего
диалектически, необходимая категория сознания и бытия
вообще.
2. Миф не есть бытие идеальное, но жизненно
ощущаемая и творимая вещественная реальность.
3. Миф не есть научное, и в частности примитивно-
научное, построение, но — живое субъект-объектное
взаимообщение, содержащее в себе свою собственную, вне-
научную, чисто мифическую же истинность, достоверность,
принципиальную закономерность и структуру.
4. Миф не есть метафизическое построение, но —
реально, вещественно и чувственно творимая
действительность, являющаяся в то же время отрешенной от
обычного хода явлений и, стало быть, содержащая в себе
разную степень иерархийности, разную степень
отрешенности.
5. Миф не есть ни схема, ни аллегория, но символ;
и, уже будучи символом, он может содержать в себе
схематические, аллегорические и жизненно-символические
слои.
А« О-ЛОСЕВ
Ι——Ι
72
6. Миф не есть поэтическое произведение, но —
отрешенность его есть возведение изолированных и
абстрактно выделенных вещей в интуитивно-инстинктивную и при
митивно-биологически взаимоотносящуюся с
человеческим субъектом сферу, где они объединяются в одно
неразрывное, органически сросшееся единство
Эти шесть тезисов постепенно детализируют понятие
мифа. Во-первых, это есть диалектическая необходимость
сознания и бытия, хотя еще и неизвестно, в чем она
заключается. Во-вторых, он есть реальные вещи, подлинно
существующая действительность. Этим миф определяется
ближе, так как из всей сферы логически необходимого
выделяется категория наличного существования. Но и это
еще слишком широко. И вот, в-третьих, из наличной
действительности мы выделяем ту ее сферу, которая
интимно чувствуется субъектом, которая есть сфера
подлинно жизненного взаимообщения субъекта и объекта,
т. е. где есть субъект и объект чувства, воли, аффектов
и пр. Да и тут берется не вся сфера субъект-объектного
взаимообщения, но та, которая структурно определена
и оформлена, закономерна в своем строении.
В-четвертых, подвергается анализу и это последнее достижение.
Отсюда выкидывается все ординарно-плоскостное, все
гипостазированное в своей отвлеченности и
изолированности, все оставляющее вещи в их тупом уединении и
несоборности. В мифе берется осмысляющая,
оживляющая сторона вещей, та, которая делает их в разной мере
отрешенными от всего слишком обычного, будничного
и повседневного. Яснее это взаимоотношение разных
слоев действительности в мифе, в-пятых, характеризуется
не как дуалистически-метафизически-натуралистическое
противостояние, не как схематическое или аллегорическое
взаимоотношение, но как символическое, т. е. иерархийно
различаемые в мифе слои бытия должны отождествиться
вещественно, т. е. так, чтобы была одна неделимая вещь
со смысловой игрой взаимораздельных, но и взаимооб-
щающихся и даже взаимоотождествляющихся энергий
разных планов действительности. Наконец, в-шестых,
эта интеллигентная и символически выраженная
субъект-объектная отрешенная действительность предстала
перед нами как до-рефлективное, примитивно-интуитивное
взаимоотношение субъекта и объекта. Короче говоря,
миф — такая диалектически необходимая категория
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 1
73
сознания и бытия (1), которая дана как вещественно-
жизненная реальность (2) субъект-объектного,
структурно выполненного (в определенном образе)
взаимообщения (3), где отрешенная от
изолированно-абстрактной вещности жизнь (4) символически (5) претворена
в до-рефлективно-инстинктивный, интуитивно
понимаемый умно-энергийный лик (6). Еще короче: миф есть
интеллигентно данный (3) символ (4—5) жизни (2, 6),
необходимость которого диалектически очевидна (1),
или — символически данная интеллигенция
жизни Наконец, чтобы не оставить места никакому
упреку в неясности, можно принять во внимание, что под
«жизнью» здесь мыслится просто категория
осуществления той или иной интеллигенции. И тогда определение
мифа будет такое: он — символически осуществленная
интеллигенция. Я же утверждаю, что личность и есть
символически осуществленная интеллигенция. И потому вот
наикратчайшее резюме всего предыдущего анализа, со
всеми его отграничениями и подразделениями: миф есть
бытие личностное или, точнее, образ бытия
личностного, личностная форма, лик личности.
2. В этой формуле нами найдена наконец и та
простая и единая категория, которая сразу же рисует все
своеобразие мифического сознания. Следует несколько
пояснить ее.
Личность предполагает прежде всего самосознание,
интеллигенцию. Личность этим именно и отличается от
вещи. Поэтому отождествление ее — частичное по
крайней мере — с мифом оказывается совершенно
несомненным. Далее, в личности мы имеем не просто
самосознание. Оно должно постоянно действенно выявляться. В нем
должна быть перспективная глубинность. Личность как
некое самосознание была бы чисто умным существом, вне
времени и истории. Реальная личность должна иметь
пребывающее ядро и переменчивые акциденции, связанные
с этим ядром как его энергийные самопроявления.
Поэтому антитеза внутреннего и внешнего также
совершенно необходима для понятия личности. И еще с другой
стороны эта антитеза тут необходима. Поскольку
личность есть самосознание, она есть всегда
противопоставление себя всему внешнему, что не есть она сама.
Углубляясь в познание себя самой, она и в себе самой находит
эту же антитезу субъекта и объекта, познающего и по-
А. Ф.ЛОСЕВ
74
знаваемого. Эта антитеза субъекта и объекта, далее,
обязательно преодолевается в личности. Это
противопоставление себя окружающему, равно как и
противопоставление себя себе же в акте самонаблюдения, только тогда
и возможно, когда есть синтез обеих
противоположностей. Я противополагаю себя внешнему. Но это значит,
что я имею какой-то образ внешнего, который создан как
самим внешним, так и мною самим. И в нем я и
окружающая среда сливаемся до полной неразличимости. Еще
яснее это в акте самонаблюдения. Я наблюдаю себя. Но
ведь это значит, что наблюдаемое мною есть я сам, т. е.
тождество меня со мною, как субъекта с объектом,
совершенно непререкаемо. Итак, личность, как самосознание
и, след., как всегда субъект-объектное взаимопознание,
есть необходимым образом выразительная категория.
В личности обязательно два различных плана, и эти два
плана обязательно отождествляются в одном неделимом
лике. Наблюдая хорошо знакомое выражение лица
человека, которого вы давно знаете,— вы обязательно
видите не просто внешность лица как нечто
самостоятельное, не просто так, как говорите, напр., о геометрических
фигурах (хотя элементы некоторой выразительности на-
личны уже и тут). Вы видите здесь обязательно нечто
внутреннее,— однако так, что оно дано только через
внешнее, и это нисколько не мешает непосредственности
такого созерцания. Итак, личность есть всегда
выражение, а потому принципиально — и символ. Но самое
главное, это то, что личность есть обязательно
осуществленный символ и осуществленная интеллигенция. Если мы
говорим о символе как таковом, он остается только
чистым понятием, о котором неизвестно, какие вещи он
осмысливает и оформляет. Так же и интеллигенция.
Личность же есть всегда вещественная осуществленность
интеллигенции и символа. Личность есть факт. Она
существует в истории. Она живет, борется, порождается,
расцветает и умирает. Она есть всегда обязательно
жизнь, а не чистое понятие. Чистое понятие должно
быть осуществлено, овеществлено, материализовано. Оно
должно предстать с живым телом и органами. Личность
есть всегда телесно данная интеллигенция, телесно
осуществленный символ. Личность человека, напр.,
немыслима без его тела,— конечно, тела осмысленного,
интеллигентного, тела, по которому видна душа. Что-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I 1
75
нибудь же значит, что один московский ученый вполне
похож на сову, другой на белку, третий на мышонка,
четвертый на свинью, пятый на осла, шестой на обезьяну.
Один, как ни лезет в профессора, похож целую жизнь
на приказчика. Второй, как ни важничает, все равно —
вылитый парикмахер. Да и как еще иначе могу я узнать
чужую душу, как не через ее тело? Даже если умрет тело,
то оно все равно должно остаться чем-то неотъемлемым
от души; и никакого суждения об этой душе никогда не
будет без принимания в расчет ее былого тела. Тело — не
простая выдумка, не случайное явление, не иллюзия
только, не пустяки. Оно всегда проявление души,— след.,
в каком-то смысле сама душа. На иного достаточно только
взглянуть, чтобы убедиться в происхождении человека
от обезьяны, хотя искреннее мое учение этому прямо
противоречит, ибо, несомненно, не человек происходит от
обезьяны, но обезьяна — от человека. По телу4* мы
только и можем судить о личности. Тело — не мертвая
механика неизвестно каких-то атомов. Тело — живой лик
души. По манере говорить, по взгляду глаз, по складкам
на лбу, по держанию рук и ног, по цвету кожи, по голосу,
по форме ушей, не говоря уже о цельных поступках, я
всегда могу узнать, что за личность передо мною. По
одному уже рукопожатию я догадываюсь обычно об очень
многом. И как бы спиритуалистическая и
рационалистическая метафизика ни унижала тела, как бы материализм
ни сводил живое тело на тупую материальную массу, оно
есть и остается единственной формой актуального
проявления духа в окружающих нас условиях. Однажды я сам
заметил, что у меня изменилась походка; и,
поразмысливши, я понял, отчего это случилось. Тело —
неотъемлемая стихия личности, ибо сама личность есть не больше
как телесная осуществленность интеллигенции и
интеллигентного символа. Мне иной раз страшно бывает
взглянуть на лицо нового человека и жутко бывает
всматриваться в его почерк: его судьба, прошлая и будущая,
встает совершенно неумолимо и неизбежно.
3. Можно ли эти выводы понять в том смысле, что
всякая личность мифична? Обязательно нужно так понять.
Всякая живая личность есть так или иначе миф,
по крайней мере в том смысле, как я понимаю миф. Это,
конечно, миф главным образом в широком смысле.
Однако наш предыдущий анализ может привести только
Α. Φ. ЛОСЕВ
76
к отождествлению этих понятий, и к отождествлению
существенному. Нужно только иметь в виду, что всякая
вещь мифична не в силу своей чистой вещественной
качественности, но в силу своей отнесенности в мифическую
сферу, в силу мифической оформленности и
осмысленности. Поэтому личность есть миф не потому, что она —
личность, но потому, что она осмыслена и оформлена
с точки зрения мифического сознания. Неодушевленные
предметы, напр. кровь, волосы, сердце и прочие
внутренности, папоротник и т. п.,— тоже могут быть мифичными,
но не потому, что они — личности, а потому, что они
поняты и сконструированы с точки зрения личностно-
мифического сознания. Так, магическая сила всякого
амулета или талисмана возможна только потому, что
имеется в виду их воздействие на чье-либо живое
сознание или на неодушевленные предметы, но с косвенным
воздействием на чье-либо сознание. Это значит, что всякий
амулет и талисман оформлен как личностное или
принципиально-личностное бытие, сам по себе вовсе не будучи
ни личностью, ни просто одушевленным, предметом.
Поэтому и человек является мифом не потому, что он есть
человек сам по себе, так сказать, человеческая вещь, но
потому, что он оформлен и понят как человек и как
человеческая личность. Сам же по себе он мог бы и не быть
личностью, как не есть личность, напр., слюна, несмотря
на всю ее магическую силу.
4. Личностным восприятием пронизан решительно
всякий малейший акт нашего сознания. Нужно быть
действительно материалистом, чтобы не понимать
личностного значения тела и его отдельных органов. Если принять
во внимание половые органы, то тут даже материалист,
вопреки своим убеждениям, подчиняется
общечеловеческой интуиции относительно их значения, хотя в
материальном смысле они ничем принципиально не отличаются
от пальцев, ушей и т. д. Я приведу рассуждение такого
половых дел мастера, как В. Розанов, чтобы дать пример
половой мифологии, естественно переживаемой всяким
«нормальным» человеком.
а) «Есть какое-то тайное, невыразимое, никем еще не
исследованное не только соотношение, но полное
тожество между типичными качествами у обоих полов их
половых лиц (детородных органов) с их душою в ее
идеале, завершении. И слова о «слиянии душ» в супружест-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
77
ве, τ е. в половом сопряжении, верны до потрясающей
глубины. Действительно — «души сливаются» у особей,
когда они сопряжены в органах! Но до чего
противоположны (и от этого дополняют друг друга) эти души! 1
Мужская душа в идеале — твердая, прямая, крепкая,
наступающая вперед, напирающая, одолевающая: но
между тем ведь это все — почти словесная фотография того,
что стыдливо мужчина закрывает рукою!.. Перейдем к
женщине: идеал ее характера, поведения, жизни и
вообще всего очерка оуши — нежность, мягкость,
податливость, уступчивость. Но это только - названия качеств
ее детородного органа. Мы в одних и тех же словах,
терминах и понятиях выражаем ожидаемое и желаемое в
мужчине, в душе его и биографии его, в каких терминах
его жена выражает наедине с собою «желаемое и
ожидаемое» от его органа; и, взаимно, когда муж
восхищенно и восторженно описывает «душу» и «характер» жены
своей,— он употребляет и не может избежать
употребления тех слов, какие употребляет мысленно, когда в
разлуке или вообще долго не видавшись — представляет
себе половую сферу ее тела. Обратим внимание еще на
следующую тонкую особенность. В психике женской есть
то качество, что она не жестка, не тверда, не очернена
резко и ясно, а, напротив, ширится как туман,
захватывает собою неопределенно далекое; и собственно — не
знаешь, где ее границы. Но ведь это же все предикаты
увлажненных и пахучих тканей ее органа и вообще
половой сферы. Дом женщины, комната женщины, вещи
женские,— все это не то, что вещи, комната и дом
мужчины: они точно размягчены, растворены, точно вещи и
места превращены в ароматистость, эту милую и теплую
женскую ароматистость, и душевную, и не только
душевную, с притяжения к которой начинается «влюбленность»
мужчины. Но все эти качества — лица, биографии и
самой обстановки, самых вещей — суть качества
воспроизводительной ее сферы! Мужчина никогда «не наполнит
ароматом» весь дом: психика его, образ его, дела его —
шумны, но «не распространяются». Он — дерево, а без
запаха; она — цветок, вечно пахучий, далеко пахучий.
Каковы души, таковы и органы] От этого-то в сущно-
1 Диалектика! Прим. Алексея] Л [осева].
А Ф ЛОСЕВ
f__»l
78
сти космогонического сложения (не земного только) они
и являются из всего одни плодородными,
потомственными, сотворяют и далее, в бесконечность, «по образу и
подобию своему»... Душа — от души, как искра от пламени:
вот деторождение!» 1
Не обязательно думать так, как думал Розанов. Пол
действительно есть основное и глубинное свойство
человека, но (противопоставим Розанову другую мифологию)
он меньше всего выражается в совокуплении и
деторождении. Монахини и проститутки более интересны, чем та
мелкобуржуазная иудаистическая мистика, которую
проповедует Розанов. Розанов — мистик в мещанстве, имея
в виду точное социологическое значение этого последнего
слова. Он обоготворяет все мещанские «устои» — щи,
папиросы, уборные, постельные увеселения и «семейный
уют». Это показывает, что ему не понятно благоухание
женского иночества, не ощутительна изысканная
женственность подвижничества девственниц с юности, не ясно,
что совокупление есть вульгаризация брака. Он не был
в строгих женских монастырях и не простаивал ночей
в Великом Посту за богослужением, не слышал
покаянного хора девственниц, не видел слез умиления, телесного
и душевного содрогания кающейся подвижницы во время
молитвы, не встречал в храме, после многих часов ночного
молитвенного подвига, восходящее солнце и не ощутил
чудных и дивных знаний, которые дает многодневное
неядение и сухоядение, не узнал милого, родного, вечного
в этом исхудалом и тонком теле, в этих сухих и несмелых
косточках, не почувствовал близкого, светлого, чистого,
родного-родного, простого, глубокого, ясного,
вселенского, умного, подвижнического, благоуханного,
наивного, материнского — в этой впалой груди, в усталых
глазах, в слабом и хрупком теле, в черном и длинном
одеянии, которое уже одно, само по себе, вливает в
оглушенную и оцепеневшую душу умиление и утешение... Однако
что это я, в самом деле, заболтался! Ведь я же привел
Розанова ради примера «половой» мифологии. А это уже
давно сделано мною. Впрочем, намеки, которые я высказал
только что, могут тоже служить примером мифологии;
только это, конечно, другая мифология... Да и не важно,
1 Розанов В. В. Люди лунного света. Метафизика христианства.
СПб., 1913. С. 39—41.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 —1
79
что это другая мифология. Важно, что· и розановщина,
и православный монастырь есть одинаково формы бытия
мифического, а не вырожденской пустоты «научного
мировоззрения».
Ь) Я склонен идти еще дальше. По-моему, даже
всякая неодушевленная вещь или явление, если их брать как
предметы не абстрактно-изолированные, но как предметы
живого человеческого опыта, обязательно суть мифы.
Все вещи нашего обыденного опыта — мифичны; и от
того, что обычно называют мифом, они отличаются, может
быть, только несколько меньшей яркостью и меньшим
интересом.
Возьмите вашу комнату, в которой вы постоянно
работаете. Только в очень абстрактном мышлении ее можно
представлять себе как нечто нейтральное к вашему
настроению и вашему самочувствию. Она — то кажется
милой, веселой, радушной, то мрачной, скучной и
покинутой. Она есть живая вещь не физического, но социального
и исторического бытия. И тут дело вовсе не в вашем
субъективном настроении. Сколько бы меня ни убеждали, что
это только мне одному, в силу моих субъективных свойств,
моя низкая и темная антресольная комната кажется
веселой и радостной,— все равно весела и радостна сначала
она сама, а потом уже она производит на меня такое
воздействие. Ведь если начать слушать подобных
философов, то не только настроение от занимаемой комнаты, но
и сама комната и все на свете окажется моим субъектом.
Я уже говорил, что цвета и звуки, запахи и вкусы мы
никогда не переживаем в их изолированно-вещественной
форме. Это — пустая абстракция. Если брать реальные
и живые вещи, то солнце, проглянувшее зимою сквозь тучи
впервые после долгих пасмурных дней, не есть солнце
астрономической науки, но веселящее, бодрящее,
обновляющее начало. При нем физически легче дышать,
молодеет душа, воскресают силы.
Говорят, что измерение температуры у больного не
есть его лечение, что это только прием констатирования
болезни. Но я протестую против этого. Никогда больной
не переживает термометр как средство констатирования
болезни. Я, по крайней мере, считаю, что часто это есть
самое подлинное лечение; и, когда сам бываю болен,
часто мне бывает достаточно измерить температуру, чтобы
болезнь несколько облегчилась. Как бы я ни убеждал себя,
Α. Φ. ЛОСЕВ
80
что это еще не лечение, организм мой все равно
переживает это как лечение; и доказательством этого является —
реальное облегчение или даже выздоровление. Правда,
это средство действует не всегда. Но разве настоящие
лекарства действуют всегда обязательно целительно?
Вы вот думаете, что доктор должен лечить. А больной счи-
Υает, что раз доктор пришел и осмотрел больного, то
лечение уже началось. Я, по крайней мере, всегда так думаю.
Уж один факт прихода врача есть начало лечения. И не
могу рассуждать иначе. Не умею представлять себе
доктора нелечащим, хотя рассудок и долбит одно и то же,—
что не всякий доктор умеет хорошо лечить и что не всякий
хорошо умеющий лечить действительно в данном случае
приступил к лечению. Раз — доктор, значит — баста!
Лечение началось.
с) Однажды, гуляя по плохой дороге в поле с одной
особой, я развивал сложную аргументацию по одному
тонкому философскому вопросу. Я был в большом
удивлении, когда вдруг, среди обычного философского
диалога, моя спутница перебила меня замечанием: «Если вы
хотите, чтобы ваши аргументы имели вес, то,
пожалуйста, не спотыкайтесь по дороге». Я был удивлен, но
тотчас же вспомнил, как однажды, в старое время, на одном
заседании Психологического общества в Москве, во время
возражений одного крупного русского философа на
доклад другого, тоже известного мыслителя, у первого все
время дело не клеилось с галстухом. Возражавший
философ все время его как-то мял, загибал, пристегивал,
перестегивал, а он все его не слушался и не сидел на
месте. Я вспомнил, что этот философ не только
провалился со своими возражениями, но что и до сих пор я не
могу ему простить его непослушного галстуха. От этого
галстуха философия его значительно поблекла для меня,—
кажется, навсегда. Теперь мне понятно, что это было
подлинно мифическим восприятием и возражений
философа, и его неудачного галстуха, и его самого. Тут можно
вспомнить, как у Достоевского в «Братьях Карамазовых»
Петр Александрович Миусов рассказывал Ф. П.
Карамазову о том, что в одном житии из Четьих-Миней один
мученик, когда отрубили ему голову, встал, поднял свою
голову и «любезно ее лобызаше». Ф. П. Карамазов
говорит: «Правда, вы не мне рассказывали; но вы
рассказывали в компании, где и я находился, четвертого года это
ДИАЛЕКТИКА МИФА
81
дело было. Я потому и упомянул, что рассказом сим
смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы
не знали о сем, не ведали, а я вернулся домой с
потрясенной верой и с тех пор все более и более сотрясаюсь.
Да, Петр Александрович, вы великого падения были
причиной. Это уж не Дидерот-с!» И когда Миусов говорит:
«Мало ли что болтается за обедом... Мы тогда обедали»...
то Карамазов резонно отвечает: «Да, вот вы тогда
обедали, а я вот веру-то и потерял!» Действительно, только
очень абстрактное представление об анекдоте или
вообще о человеческом высказывании может приходить к
выводу, что это просто слова и слова. Это — часто
кошмарные слова, а действие их вполне мифично и
магично.
d) Говорят, что насморк получается от простуды. Не
знаю. Может быть, так. Но что самая простуда
получается от плохого настроения, от какой-нибудь неприятности
или несчастия — это я испытывал много раз.
Обыкновенно, когда начинают прогонять со службы, тут же и
простужаешься. Бывает, что одновременно тут же
вытянут кошелек в трамвае или начнет нарывать уколотый
палец. Больше всего повредила в оценке этих
восприятий наша традиционная абстрактно-метафизическая
психология. Говорят, что психическое не занимает места, что
оно непротяженно. Ну, как же это может быть? Я, да и
всякий другой, совершенно отчетливо различаю тупую боль
от острой, режущую от колющей, ломоту от укола и т. д.
и т. д. Головная боль начинается в одном месте и ползет
в другое. Она начинается, например, в затылке, потом
поднимается к темени, переходит на лоб и затихает где-то
в глубине глазных впадин. Скажут: надо отличать
ощущение боли от соответствующего физиологического
процесса. Ползет не ощущение, а соответствующий
физиологический процесс. Хорошо, но что же болит у меня —
ощущение боли, раздражение боли или еще что-нибудь?
Конечно, не ощущение болит и не раздражение болит,
а болит просто голова. И идет по голове не что иное, как
сама боль. Вы, вероятно, скажете также, что душа не
может уходить в пятки. Что касается меня, то — увы! —
слишком много раз душа у меня действительно уходила
в пятки, чтобы я принимал это за метафору или за ложь.
Хоть убейте, чувствую иной раз душу именно в пятках.
Даже знаю, по каким путям в организме она устремля-
А» Ф.ЛОСЕВ
1 I
82
ется в пятки. Если вам это не понятно,— ничего не
поделаешь. Не все же всем одинаково понятно. Иным не
понятно, что половые члены есть нечто совершенно
несравнимое с прочими членами, хотя, в сущности, это ясно
всякому точно так же, как и то, что евреи совершенно ни
с чем не сравнимая нация и женщина — несравнимое
с мужчиной существо, хотя просветительский либерализм
и долбит свой вырожденческий миф о всеобщем
равенстве и равноправии. Также оспаривали многие, когда
я говорил о существовании определенной высоты в
звуках и голосах, раздающихся в душе. Прежде всего —
об этих самых голосах.— Напрасно думают, что тут
только иносказание. Когда я испытываю колебание и
какие-то две мысли борются во мне,— вовсе не во мне
тут дело. Мое дело сводится тут только к самому выбору.
Но я никогда не поверю, чтобы борющиеся голоса во мне
были тоже мною же. Это, несомненно, какие-то особые
существа, самостоятельные и независимые от меня,
которые по своей собственной воле вселились в меня и
подняли в душе моей спор и шум. В гоголевском «Ревизоре»
почтмейстер, распечатавши письмо Хлестакова, так
описывает свое состояние: «Сам не знаю. Неестественная
сила погубила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы
отправить его с эштафетой, но любопытство такое
одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу,
слышу, что не могу! Тянет, так вот и тянет! В одном ухе
так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! Пропадешь, как
курица»; а в другом словно бес какой шепчет:
«Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч,—
по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-Богу, мороз.
И руки дрожат, и все помутилось». Конечно, самому
почтмейстеру принадлежит только выбор между двумя
советниками и последующие ощущения, но сами эти два
советника — отнюдь не он сам, а, несомненно, другие существа.
Почтмейстер сравнивает одного из них с бесом. Я лично
думаю, что если это бес, то какой-нибудь из мелких, так,
из шутников каких-нибудь. Не обязательно ведь, чтобы
бес был крупен и важен. Есть и такие, которые просто
смешат и балуются, щекочут, дурачатся; они почти
безвредны. Другого рода бесы в голове Иуды в «Иуде
Искариоте» Л. Андреева. Наблюдая страдания преданного им
Спасителя, он переживает странные вещи: «Мгновенно
вся голова Иуды во всех частях своих наполнилась гулом,
ДИАЛЕКТИКА МИФА
l_-l
83
криком, ревом тысяч взбесившихся мыслей»... Или:
«Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним
он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за
мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно.
И минутами они вдруг надвигались на него, наседали,
начинали давить всею своею невообразимой тяжестью —
точно свод каменной пещеры медленно и страшно
опускался на его голову. Тогда он хватался рукою за
сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и
решил перевести глаза на новое место, еще на новое
место».
Напрасно думают, что на высоте умных созерцаний
подвижники только погружаются в покой и не
происходит в нем ровно никаких внутренних событий. Умный
покой, конечно,— одна из основных характеристик
мистического сознания. Но вот почитаем, что пишет Марк
Подвижник.
«Тотчас по знамении креста, благодать так действует:
умиротворяет все члены, и душа, по причине многой
радости, является как простое, незлобивое дитя; и человек
уже более не осуждает ни Еллина, ни Иудея, ни грешника;
но внутренний человек чистым оком смотрит на всех как
на одного и одинаково радуется о всем мире и хочет, чтобы
все Еллины и Иудеи покланялись Сыну Божию как Отцу.
И отверзаются ему двери; и он входит внутрь во многие
обители; и по мере того, как он входит, они отверзаются
ему более, и из ста обителей он вступает в иные сто
обителей, и богатеет, и опять, когда он делается иным, ему
показываются другие новые и дивные [предметы] и, как
сыну и наследнику, ему вверяются вещи, которые не могут
быть изречены естеством человеческим или сими устами
и языком. В иный час, как посольствуя пред Богом, от
многой любви к Нему, начинает молиться о мире, чтобы
спасся весь мир, как всецелый Адам; распаляясь любовию
и желая, чтобы все спаслись, он поучает [ближних] слову
жизни и царствия,— «посольствуя о Христе» (Еф. VI, 20)
и, сколько можно слышать, поведая небесные и
божественные тайны бесконечного и непостижимого века. В иный
же час вооружается весь человек, облачаясь во все
оружия Божия (Εφ. VI, 11), и принимает воинство небесное
и начинает поражать вражие полки и производить там
заколения многих трупов. В иный же час опять Господь
действует в душе, и веселятся взаимно душа и Господь,
Α. Φ. ЛОСЕВ
84
и бывает человек во многом свете и радости, [обращаясь]
к Господу и к братиям»... И т. д.1
Однако вернемся к голосам, которые каждый слышит
в своей душе.
Интереснее всего то, что эти голоса всегда имеют
определенную высоту и тембр и отличаются многими музы
кальными категориями и свойствами. Я, например, почти
не в состоянии заставить себя слушать чью-нибудь
лекцию; я слышу неизменный густой бас, на одной ноте
медленно тянущий: «Н-а-а-а-а-а-до-о-о-о-о-о-е-е-е-е-е-е-е-
лооооооо... Нааааааадоооооееееелоооо...» Иногда же
просто сдавленно и глухо-томительно: «А-а-а-а-а-а-а-а...»—
до бесконечности. Я думаю, что этот голос не выше
контроктавы, что-нибудь вроде фа или соль контроктавы.
Очень долгое сидение на чужой лекции или скучном
докладе приводит к тому, что этот голос несколько
повышается и начинается ерзанье его, в таком виде: очень
краткая низкая нота, мгновенно переходящая
стремительным глиссандо на очень высокую ноту, длящуюся
бесконечно долго и томительно замирающую в сероватой
пустоте, и потом повторение того же самого много раз. Иные
звуки слышатся при других обстоятельствах. Как
известно, насколько легко убеждать других, настолько трудно
убедиться в чем-нибудь себе самому. Иной раз вы с
пафосом долбите: «Социализм возможен в одной стране.
Социализм возможен в одной стране. Социализм возможен
в одной стране». Не чувствуете ли вы в это время, что
кто-то или что-то на очень высокой ноте пищит у вас в
душе: «Н-е-е-е-е...», или «Н-и-и-и-и-и...», или просто
«И-и-и-и-и-и...» Стоит вам только задать отчетливо и
громко вопрос этому голосу: «К-а-а-а-к?
Невозможен????», как этот голос сразу умолкает, а
показывается какой-то образ, вроде собачонки, на которую вы сразу
замахнулись дубиной, а она не убежала, а только
прижалась к земле, подставила морду для удара и завиляла
хвостиком, умильно и вкрадчиво, как бы смиренно
выговаривая: «Ведь вы же не ударите меня, правда? Ведь мы
же помиримся, правда?» Вы, конечно, не ударяете, а
начинаете опять долбить то же. Но как только вы задолбили,
этот писклявый голосишко опять начинает свою ноту
1 Препод [обного] и богоносн [ого] отца наш [его] Марка Подв[иж
ника] нравственно-подвижнические слова. Серг Пос, 1911 С. 197—198.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
85
и уже пуще прежнего на высочайшей ноте слышно это
умильно заискивающее, подкатывающее свои масляные
глазки к небу и в то же время насмешливо-лукавое и почти
что презрительное: «И-и-и-и-и-и...» Так высокая нота
в душе сменяется словами, а слова опять тем же писком.
И это, конечно, действуют в душе иноприродные ей
существа 1
е) Относительно мифических представлений
пространства и времени писано немало. Укажу сначала на
мифологию времени. К сожалению, здесь нет никакой
возможности остановиться на этих примерах более или менее
подробно, но я все-таки, опираясь на Кассирера и др.,
попробую их привести 2.
Всякий монотеизм резко отличается тем, что время
здесь протекает не в зависимости от природных
процессов, но в зависимости от воли Божией. Если псалмы
восхваляют времена и сроки, установленные свыше, то
пророки дают то, что можно прямо назвать религией буду-
щего. Времена сокращаются, и остается только будущее.
Бог-творец отходит на задний план. Выступает Бог
истории и Бог совершенства.— В персидской религии также
господствует идея будущего, но она тут более земная и
менее богатая. Тут все связано с поражением Аримана
и с началом нового периода. Тут — оптимистическая воля
к культуре, получающая религиозную санкцию. Отсюда
восхваление в Авесте крестьянина и скотовода. Тут не
Бог спасает человека, но человек спасает сам себя,
водворяя добрый порядок в мире.— В индийской
философской и религиозной спекуляции — обратное мифическое
представление времени. Тут тоже ожидание конца
времени. Но этот конец будет дан сквозь ясность и глубину
мысли. Если Сон в Авесте — злой демон, то уже в
древнейших Упанишадах мышление толкуется как
волшебная погруженность в сон. Это путь к Браме. Отсюда —
то восприятие времени, которое ярче всего дано в
буддийских источниках. Учение Будды сохраняет из вре-
1 О том, что в душе — не только «я», но и некое вполне реальное
«оно», см. интересную книгу 3. Фрейда «Я и Оно», перев. под ред.
А. А. Франковского, Л игр., 1924. Что в этих вопросах не обязательно
быть фрейдистом, показывает, напр., на хорошо подобранном
материале П. С. Поаов в своей статье ««Я» и «оно» в творчестве
Достоевского».—В сборнике «Достоевский». М., 1928. С. 217—274.
2 Cassirer. Ук. соч. Гл. о мифич. времени.
Α. Φ, ЛОСЕВ
1 1
86
мени только момент становления и возникновения, что
равносильно и страданию. Страдание возникает из трех
видов жажды, из жажды к удовольствию, к становлению
и к прошлому. Исповедуется вечность становления; и в
становлении нет конца, как и нет цели. Тут полная
противоположность как библейским пророкам, так и Авесте.
Тут целью является не конец времени, а прекращение
времени и становления. Не конец времени спасет людей,
а уничтожение всех времен со всем их содержанием.—
Еще особая и также не менее значительная концепция
времени в китайской религии. Этика таоизма также
имеет главным принципом недеятельность и покой. Надо
в себе породить «пустоту» Тао. Тао все порождает и все
поглощает. Но отличие от буддизма тут то, что имеется
в виду не преодоление, но сохранение себя и даже своего
тела и всех его форм. Тут, собственно говоря,
преодолевается не время, но изменения во времени. Бытие тут —
вне временного потока, хотя это не какое-нибудь занебес-
ное, но чисто земное же бытие. Конкретно, это —
неменяющееся время; оно в Небе. Небо и Время у китайцев —
не созданы. То же и в этике Конфуция, отличающейся,
как известно, чертами строжайшего традиционализма.—
В египетской религии восприятие времени сходно с
китайским. Тут тоже хотят сохранить и увековечить
реальную жизнь человека, его тело и все его члены. Отсюда
практика бальзамирования. Это — какая-то временная
статика, зафиксированная в геометризме
произведений египетского искусства. Вещи текут, но остается их
пластическая и архитектоническая форма. Пирамиды —
знак этой геометрической и пластической победы.—
Греческая религия впервые дала подлинное ощущение
времени как настоящего. Тут — длительность, но без
индийской безнадежности и гибели, постоянство, но без
китайского оцепенения, ожидание будущего, но без
ветхозаветного игнорирования природного процесса. Здесь
вечное и временное сливаются в одно цельное настоящее,
причем они не приносятся в жертву друг другу, но
остаются в своей свободе и нетронутости. Я бы сказал, что
тут впервые время и вечность делаются каждое в
отдельности и оба вместе цельной и неделимой актуальной
бесконечностью.— К сожалению, я не смогу тут раскрыть
христианскую проблему времени и сопоставить ее с
новоевропейским пониманием. Скажу только, что в общем
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 1—
87
она близка древнегреческой. Однако ей свойственны
совершенно особенные и нигде раньше не попадавшиеся
черты,— ввиду переноса всей стихии отождествленных
времени и вечности в царство чистого духа.
Было бы просто глупо понимать время в разных
религиях и мифологиях в стиле новоевропейского
физического, т. е. однородного и бесконечного, пустого и
темного, времени. Можно поручиться, что не только в
различных религиозно-мифологических системах, но и теперь
никто никогда так не переживает времени. Если вы
хотите говорить о подлинно реальном времени, то оно,
конечно, всегда неоднородно, сжимаемо и расширяемо,
совершенно относительно и условно. Кто же не переживал
три секунды как целый год и год как три секунды? Я
даже думаю, что с 1914 г, время как-то уплотнилось и стало
протекать скорее. Апокалиптические ожидания в прошлом
объясняются именно сгущением времен, близким к
окончанию времени и потом рассасывавшимся. Время, как
и пространство, имеет складки и прорывы. Я не раз в своей
жизни переживал какие-то ямы и разрывы во времени.
Смотришь, время как будто кончилось, а потом, вишь ты,
засвистело и заклубилось неохватным вихрем. Иной раз
время настолько нагло прет вперед, что хочется подойти
к часам в моменты их боя и разбить вдребезги эту
беспощадную машинку, которой дано управлять всей жизнью.
Во времени иногда бывают сотрясения. Время, наконец,
в каком-то смысле обратимо. Общеизвестны сказочные
мгновенные постарения и помолодения. Религиозный
экстаз характеризуется именно прекращением или
свертыванием времени, сжатием прошлых и будущих времен
в одну неделимую настоящую точку. По земным часам,
т. е. по солнцу, человек молится, скажем, десять часов. На
самом же деле он переживает это время как несколько
секунд, причем, однако, они богаче не только трех
обычных секунд, но и десяти часов и, может быть, десяти лет.
Космос вообще бесконечно разнообразен по своей
временной структуре. Время человеческой жизни и время
какого-нибудь насекомого, живущего один день,
совершенно несоизмеримы и несравнимы по своему существу;
с точки зрения человеческой жизни один день такого
насекомого есть нечто ничтожное и почти смешное. Тем не
менее у этого насекомого есть своя органическая жизнь,
с.богатым прошлым и неведомым, значительным будущим;
Α. Φ ЛОСЕВ
Ішммі
88
и если такое насекомое сознательно, то можно поручиться,
что оно ни в каком случае не считает свою жизнь такой уж
особенно краткой и смешной. Толковать эти времена как
субъективные нет решительно никакой выгоды, ибо
почему одно из времен вдруг объективно, а все остальные
субъективны? Необходимо отбросить этот коэффициент,
применимый и неприменимый решительно ко всему, и
говорить о времени по существу. Тогда получится, что времен
очень много, что они сжимаемы и расширяемы, что они
имеют свое фигурное строение. Ребенок, проживший три
года, отнюдь не меньше прожил, чем девяностолетний
старец. Их жизнь одинакова перед лицом вечности как
жизнь, только она наполнена в обоих случаях разным
содержанием и смыслом. Времен столько, сколько вещей;
а вещей или, вернее, родов их столько, сколько смыслов
и идей. Время — боль истории, не понятная «научным»
исчислениям времени. А боль жизни — яснее всего,
реальнее всего. «Боль жизни гораздо могущественнее интереса
к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать
философию».
5. Возможна, и не только возможна, но и необходима
диалектика мифического времени. Я ее касался в своем
изображении античного космоса ' Здесь я заново
конструирую ее в немногих тезисах.
I. Время не есть только время, т. е. чистая
длительность, ибо эта длительность или когда-нибудь кончается,
или никогда не кончается, а) Если она когда-нибудь
кончается, то время содержит в своей природе конец, т. е.
оно не есть только время, но и нечто еще иное; иное же
и значит тут — не-временное. Ь) Если же время никогда
не кончается и не кончится, то оно есть вечность, т. е.
время плюс нечто иное; иное же тут значит —
не-временное. Итак, время во всяком случае есть всегда в основе
и нечто не-временное, т.е. вечное (по крайней мере
в принципе).
II. Однако время не есть просто вечность, ибо
вечность неподвижна и дана сразу в одной точке, время же
текуче, длительно и сплошно становится. Поэтому время
есть алогическое становление вечности, подобно тому как
сама вечность есть алогическое становление
вне-временной идеи.
1 Античн. косм. Гл. о времени.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
89
III. Если время есть алогическое становление
вечности, то это значит, что: а) время есть вечность, ибо ста
новиться может только то, что есть нечто, и, след., в
каждом моменте времени его вечное содержание присутствует
целиком и нераздельно, нераздробленно; Ь) время не есть
вечность, ибо оно есть пребывание вечности в инобытии
и раздробление, текуче-множественное ее становление;
и, с) наконец, время и есть и не есть вечность, сразу и
одновременно, ибо временная вечность и вечное время есть
определенная и ограниченная бесконечность,
актуальная бесконечность, где безграничное становление
и вечное самоприсутствие есть одно и то же.
IV а) Но если время есть не просто время, но всегда
и вечность, а вечность есть не просто вечность, но и
время, то возникающая в этом синтезе актуальная
бесконечность должна обеспечить как безграничность
становления, так и его границу. Диалектически
необходимо, чтобы время имело конец. Но как это
возможно? Что ж° будет после этого конца? Не опять ли
время?
b) Эти вопросы требуют оиалектической невозможно-
сти перейти за пределы определенного времени, ибо
только тогда вопрос о том, что будет потом, станет вопросом
пустым, т. е. перестанет быть вопросом.
c) Невозможность же эта станет реальной тогда,
когда структура самого времени окажется такой, что
дальнейшее продвижение его окажется невозможным, т. е.
время должно стать по повелительной диалектической
необходимости неоднородным, и притом неоднородным
в определенном направлении.
d) A именно: 1. выйти из времени можно только тогда,
когда есть другое время; 2. след., нельзя выйти из
времени тогда, когда нет никакого другого времени; 3. не
быть никакого времени может только тогда, когда оно
или заменено отвлеченной идеей (2X2 = 4 —
вне-временное арифметическое положение) или когда разные
времена сжаты в какое-нибудь одно время; 4. так как
первое отпадает (иботут отпадает всякая проблема времени),
то остается второе, но тут сжимание разных времен
придется понимать как сжимание всех возможных времен,
а сжимание в одно время придется понимать как
сжимание в одну неделимую точку; 5. итак, нельзя выйти из
времени только тогда, когда само время обратится в беско-
А Ф ЛОСЕВ
90
ненно уплотненное время, т. е. только тогда, когда оно
станет самой вечностью.
е) Это значит, что время может быть в разной
степени венным, как оно и должно быть по диалектике,
определяющей время как алогическое становление вечности.
V Как же мыслить себе физически разную степень
вечности? К счастью, современная наука возвращает нам
эту давно утерянную мифическую идею и делает ее
мыслимой как математически, так и физически, а) Время
проявляется в физическом теле как движение или покой.
Движение может иметь разную скорость. Чем тело
движется быстрее, тем расстояние между предельными
точками его объема делается все меньше и меньше
заметным. Вычислено, что если тело движется со скоростью
света, то объем его равен нулю. Стало быть,
определенная выявленность времени уже приводит тело к полной
деформации; не переставая по смыслу своему быть
телом, оно уже перестает иметь объем. Ь) Допустим, что
тело движется со скоростью, большею света. Тогда,
очевидно, объем его будет равен какой-нибудь мнимой
величине; и мы погрузимся в царство таких тел и времен,
из которых наши тела и времена могут появиться только
путем выворачивания наизнанку и устремления «головой
вниз» и «вверх пятами», с) Допустим, наконец, что тело
движется с бесконечно большою скоростью. Это будет
значить, что оно находится сразу и везде (ибо в один
миг оно охватывает всю бесконечность, скорость его
бесконечна), и нигде (ибо оно непрерывно движется и нигде
не остается и не застревает). Это и есть вечность идей,—
да, да, этих самых платоновских идей,— которая сразу
везде и нигде, в которой следствие раньше причины, т. е.
которая есть царство абсолютных целей и идеальность
которой физически мыслима только лишь как тело, все
то же самое, обыкновенное земное тело, но движущееся
с бесконечно большой скоростью. И поэтому, если
хотите, платонизм есть просто отдел физики или физика есть
отдел платонизма (это одно и то же). Только так и
может рассуждать мифология, для которой все телесно и
все нетелесно в одно и то же время.
VI. Мир представляет собою, таким образом, систему
разных уплотненностей времени. В «Античном космосе»
я показал, как неоплатоники мыслили себе эту
симметрически и концентрически расположенную вокруг едино-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 \
91
го центра — Земли — различную уплотненность времени
и пространства. В разных мифологических системах это
может быть, конечно, по-разному. Но важно то, что с
диалектической точки зрения космос не может не иметь
разной уплотненности пространства и времени, ибо без
этого нет обеспечения невыхода за время, а без этого
нет границ для времени, а без этого диалектически
немыслимо само время. Однако как бы мифология ни
мыслила себе временную структуру космоса, все-таки
необходимо, чтобы время сгущалось в вечность именно на
границе мира. Только тогда силою самого времени, т. е.
самого бытия, нельзя будет выйти за пределы мира. Мы
движемся, например, от Земли на Луну. Здесь, в связи
с лунным пространством и временем, мы получаем
другой облик и начинаем жить в другом времени. Потом
движемся на другие планеты и переживаем все новые
и новые деформации. Наконец, мы приближаемся к
пространственной границе мира, где наше тело, по своему
объему, превращается уже в нуль и мы начинаем
вращаться со всем небосводом, не выходя за пределы мира
и, следовательно, не выходя за пределы времени. Вернее,
мы и тогда продолжаем быть во времени, но это время
есть протекание и жизнь уже внутри самой вечности,
внутри той или другой ее иерархийной сферы, так что
никакое становление и протекание не расслаивает бытия,
а уже само по себе ограничивает его вечным
круговращением вокруг него же самого.
VII. Одна и та же вещь, одна и та же личность может
быть, следовательно, представлена и изображена
бесконечно разнообразными формами, смотря по тому, в
каком плане пространственно-временного бытия мы ее
мыслим. Сами же эти планы ниоткуда не могут взяться сами
по себе, так как они не больше как становление вечности.
След., если в становлении может стать только то, что есть
в том, что именно становится, то планы пространственно-
временного бытия суть не больше как алогически, т. е.
более или менее слепо, повторенные планы и различия
самой вечности. В системе наиболее диалектически
разработанной космологии — античной,— как я показал
в «Античном космосе»,— мыслится четыре или,
подробнее, пять планов: Огонь (первоединое), Свет (ум, идея),
Воздух (Душа, Дух), Земля (софийное тело), Вода (ока-
чественность четвертого начала через первые три). Су-
Α. Φ. ЛОСЕВ
92
ществует, след., по крайней мере, пять типов
пространства, пять типов времени и пять типов телесности (не
входя в дальнейшую детализацию),— огненное тело,
световое тело, воздушное тело, земляное тело и водяное
тело,— и, стало быть, пять типов оформления, пять типов
образности, пять типов символов.
VIII. Космос можно представить себе как систему
пяти (или, лучше, бесконечного количества) пространств
и времен. Каждая сфера мира обладает специфически
свойственным ей типом пространства и времени, где эти
последние пребывают в покое или в равномерном
движении. Но, силою алогической стихии, каждая сфера может
содержать в себе и иноприродные пространства и
времена, которые могут быть в относительной дисгармонии
с теми, которые для данной сферы специфичны. Тогда
мы наблюдаем, как в сфере, напр., земного пространства
и времени земное тело превращается в воздушное,
световое, огненное и т. д. С другой стороны, зная точное
взаимоотношение этих сфер, можно их сознательно
видоизменить. Я не буду приводить тут массы примеров,
которыми буквально заполнен сейчас мой мозг и которые
просятся, чтобы их тут записать, а приведу один,
приводимый у В. Г. Богораза (Тана). «Мыши, напр., обитают
на нашей земле. Но где-то существует особая мышиная
область. Там эти самые мыши живут в какой-то иной
ипостаси бытия. Имеют жилища, запасы, орудия, утварь,
справляют обряды, приносят соответствующие жертвы.
Земной шаман попадает в эту область. Старуха больна
горлом. На нашей земле это — мышь, которая попала в
соломенную пленку (силок), поставленную нашими
земными ребятишками. Можно лечить ее двояко. Или
врачевать ее шаманством, в той особенной области, пока не
лопнет пленка здесь. Мышь убежит, и старуха опять-таки
исцелится там. Шаман врачует там, вылечивает старуху.
Соломенная пленка на земле лопается, и мышь убегает.
Шаману дают в уплату стяг мяса, свиток ремня, тюленьи
шкуры. Но на нашей земле эти дары превращаются в
сухие ветки и вялые листья» [.
Так диалектически обосновывается теория
мифического времени и пространства и вместе с тем делается
1 Тан В. Г (Богораз). Эйнштейн и религия. Лнгр., 1923. С. 58—59.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
93
мыслимой мифическая и наглядная чудесная сущность
каждой вещи.
6. Слой личностного бытия лежит решительно на
каждой вещи, ибо каждая вещь есть не что иное, как
вывороченная наизнанку личность, колеблющаяся между
Перво-огнем и Перво-светом, с одной стороны, и Тьмой
Кромешной — с другой. Каждая вещь, оставаясь самой
собою, может иметь бесконечные формы проявления своей
личностной природы. Богатейшие примеры такого
двойного, тройного и вообще многократного символизма
содержатся в сказках и сновидениях. Я много читал разных
книг, научных и ненаучных, по теории сновидения, но
один пример раз навсегда заставил меня принять
символическую природу сновидения и его значение в смысле
мифически-модифицированного оформления обычных
явлений жизни Я встретил однажды народного странника
и, по-видимому, подвижника, с которым завел разговор
на мистические темы. На мой вопрос: «Почему ты не
женился?» — он ответил целым рассказом об одном своем
сне. «Я, говорит, в молодости имел влечение к одной
девице и долго колебался, оставить ли мой путь
странничества и жениться на ней или продолжать свои
странствия целую жизнь. И вот, после долгих колебаний я,
наконец, решил жениться... И что же? После этого вижу
сон. Приснилась мне моя мать, которую нежно любил
и уважал больше всех людей на свете. Давно она
померла, еще в моих молодых годах. Родные и вечные черты
ее страдающего лица часто вспоминаются мне во всю
жизнь... Мученица была и смиренная раба. И вот вижу,
что я лежу на кровати,.а она подходит ко мне. Но что
это? Мать ли моя? Вижу ее нетрезвою, какой она не
была ни разу в жизни. Она нагло и похотливо смеется и
приближается ко мне с низкими намерениями, предлагая
разделить с нею ложе... Вижу также, что в правой руке
у нее острый, сверкающий нож, которым она хочет меня
сейчас же зарезать. А говорит слова, которые не то зовут
к постыдному делу, не то выговаривают матерную брань.
Да, да, именно матерную брань. А лицо жирное, красное,
лоснится и ухмыляется. Я проснулся с холодным потом.
И с тех пор прожил вот целую жизнь Странником, не
помышляя не только о браке, но стараясь всякую мысль
о женщине выкинуть из головы...» Тут мы вспомнили с ним
слова Лествичника: «Странничество есть невозвратное
А. Ф.ЛОСЕВ
94
оставление всего того, что в отечестве противодействует
нам к достижению цели благочестия. Странничество есть
недерзновенный нрав, неведомая мудрость, не
выказывающее себя благоразумие, сокровенная жизнь,
незримая цель, неявный помысл, желание унижения,
вожделение стеснения, начало божественной любви, обилие любви,
отречение от тщеславия, глубина молчания» '. Можно
сомневаться в том, как надо было поступить этому
страннику. Но нельзя сомневаться в том, что отношения с
женщиной мифически открылись ему в новом символическом
плане, которому присуще свое собственное пространство
и время,— так как это было обстоятельством,
определившим ему именно его мифическое устроение, и притом на
всю жизнь. Таких примеров, как это вполне понятно, я и
читатель можем привести без всякого труда несколько
десятков и сотен, как из жизни, так и из литературы.
Итак, вещи, если брать их взаправду, как они
действительно существуют и воспринимаются, суть мифы.
7. Полученная выше сводная формула мифа, конечно,
не есть самое раскрытие этого сложного понятия. Скорее
надо сказать, что здесь только первое прикосновение к
его существу. Личность есть самое существо мифа. Но
тут как раз только начинается это существо. Оно
может и должно быть раскрыто возможно детальнее. И по
крайней мере, три вопроса еще необходимо осветить,
чтобы эта характеристика не осталась слишком
отвлеченной.
Во-первых, категория личности, вполне ясная сама по
себе, по своему феноменолого-диалектическому составу,
входит ли целиком в миф или нет} Миф есть личностная
форма, и личность есть миф. Но нельзя ли как-нибудь
детальнее охарактеризовать участие личностной стихии
в мифе? Вся ли личность целиком есть миф, или, быть
может, удобнее говорить о мифичности одного какого-
нибудь момента личности, пусть неотделимого от самой
личности, но все же как-то отличного от нее самой? Да
и самое наше выражение «лик личности» и «личностная
форма* не указывает ли, что мифом удобнее назвать
какой-то один определенный момент в личности, который,
конечно, определяется только через нее, но который все
1 Прел [одобного] о[тца] н[ашего] Иоанна, игум[ена] Синайской
горы Лествица. Серг. Пос, 1894. С. 32.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1—m\
95
же есть какой-то момент в ней, а не сама она как
субстанция?
Во-вторых, интересна и необходима детализация
личностного начала не только в смысле момента или
стороны личности, становящейся мифом, но и в смысле формы
проявления личности, в смысле того, как эта сторона
функционирует в мифе. Личность проявляет себя многообразно.
Так, живой человек ходит, говорит, спит. Это все
проявления его личности. Человек совершает ценные,
малоценные или совсем преступные акты. Это — тоже проявление
его личности. Что тут, собственно, нужно для мифа?
Какая категория проявлений личности существенно
необходима для мифа?
Наконец, в-третьих, вовсе нельзя сказать, чтобы
понятие отрешенности, выдвинутое нами раньше как
существенное для мифа, оказалось в результате всего
предыдущего анализа вполне ясным. Сначала мы выдвинули
отрешенность как таковую. Потом мифическую
отрешенность отличили от поэтической; поэтическая есть
отрешенность от факта, мифическая — отрешенность от
смысла, от идеи факта (ради нового смысла и идеи).
Наконец, мы констатировали, что и все вообще вещи,
поскольку они берутся в живом опыте, даже самые повседневные
вещи, суть в этом смысле мифически-отрешенные, ибо
никто никогда не воспринимает голых и изолированных
вещей вне их личностного и, след., социального
контекста. Получается, что то или иное отрешение от смысла
вещей (разумеется, абстрактно изолированных вещей)
всегда налично в опыте и что весь опыт в таком случае
оказывается мифическим. Невольно возникает некоторая
неуверенность. Очевидно, что живые вещи — мифичны,
что «отрешенность» тут есть только отрешенность от
абстрактной изоляции, что на самом деле это вовсе не
«отрешенность», а — основание самой наиподлинной и
живой реальности. Но почему же в таком случае
понадобился особый термин «миф»? Пусть так бы и говорили:
«вещи», «личности», «живой опыт» и пр. Все, однако,
говорят кроме того и даже в противоположность этому
именно о мифе. В чем тут дело? Не есть ли подлинно
мифическая отрешенность не просто отрешенность от
абстрактно-изолированных вещей, но отрешенность еще от
чего-то? Нельзя ли миф понимать не просто в широком
смысле, но, наоборот, в узком, в максимально узком, так,
А Ф. ЛОСЕВ
96
как, по-видимому, и понимает его обычно наука и
повседневное словоупотребление? Миф, конечно, не
выдумка,— это мы знаем. Но почему-нибудь ведь стало это
слово синонимом небытия, несуществования, ложной
выдумки, нереальной фантастики. Как быть с этим
вопросом?
Все это ведет нас к еще новым разграничениям и
уточнениям.
VIII. Миф не есть специально религиозное создание.
Это отграничение весьма существенно, и оно прямо
направлено на разрешение первого из поставленных выше
вопросов. Как популярное, так и научное сознание
довольно слабо разграничивает эти понятия и часто совершенно
без оговорок употребляет одно вместо другого. Тут
залегает, однако, существенное различие, и надо уметь его
формулировать.
1. Расхождение обеих сфер станет яснее, если принять
во внимание их сходство. Непререкаемое сходство
мифологии и религии заключается в том, что обе эти сферы суть
сферы бытия личностного. Относительно религии тут не
может быть сомнений ни с популярной, ни с научной точки
зрения. Религия и мифология — обе живут
самоутверждением личности. В религии личность ищет утешения,
оправдания, очищения и даже спасения. В мифе личность также
старается проявиться, высказать себя, иметь какую-то
свою историю. Эта общая личностная основа делает
заметным и расхождение обеих сфер. Действительно, в религии
мы находим какое-то особое, специфическое
самоутверждение личности. Это какое-то принципиальное
самоутверждение, утверждение себя в своей последней основе, в
своих исконных бытийственных корнях. Мы не ошибемся,
если скажем, что религия есть всегда то или иное
самоутверждение личности в вечности; причем тут пока
совершенно не ставится вопрос ни о видах и характере
данной личности, ни о способах понимания вечности. Не
вникая в эти более специальные вопросы, можно формально
сказать о всякой религии, что она есть та или иная попытка
утвердить личность в бытии вечном, связать ее навсегда с
бытием абсолютным. Поэтому религия не есть ни познание
абсолютного, ни воля к абсолютному, ни чувство
абсолютного, ни вообще то или иное интеллигентное обстояние
в связи с абсолютным. Религия есть утверждение себя
самого, самого своего существа, а не только его интелли-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
ЯП
гентных сторон, в вечности. Поэтому если личность не есть
ни познание, ни воля, ни чувство, ни душа, ни тело, ни дух,
но реальная и субстанциальная утвержденность и
познания, и воли, и чувства, и души, и тела, и духа, то религия
хочет именно спасения личности, такого ее утверждения,
чтобы она была уже не в состоянии попадать в сферу бытия
ущербного. Религия есть, прежде всего, определенного
рода жизнь. Она не есть ни мировоззрение, хотя бы это
мировоззрение было максимально религиозным и
мистическим, ни мораль, хотя бы это была самая высокая, и
притом самая религиозная, мораль, ни чувство и эстетика,
хотя бы это чувство было самым пламенным и эстетика
эта была бы совершенно мистической. Религия есть осуще-
ствленность мировоззрения, вещественная
субстанциальность морали, реальная утвержденность чувства, причем
эта осуществленное^ — всяческая, и прежде всего чисто
телесная, субстанциальность — всяческая, и прежде всего
ощутимо физиологическая. Религии нет без тела, ибо тело
есть известное состояние души, как душа есть известное
состояние духа; и судьба духа есть судьба души, а судьба
души есть судьба тела. Спиритуализм и всякая метафизика —
враждебны религии. Мало того, это суть учения, а не
сама жизнь. Это есть учения, принижающие тело и даже
часто сводящие его на иллюзию, в то время как в религии,
да и то не во всякой, осуждается определенное состояние
тела, а не самый принцип тела. В наиболее «духовной»
религии Абсолют воплощен в виде обыкновенного
человеческого тела, а в конце времен воскреснут и все
обыкновенные человеческие тела. Если нет общения с Абсолютом в
теле, то нет вообще никакого существенного общения с
ним. От молитвы чувствуют утешение <и> облегчение,
о котором уже нельзя сказать, телесное оно или духовное.
Молитва, застревающая в голове, напр. во лбу, и
стреляющая в затылок,— плохая молитва. Для настоящей
молитвы есть свой определенный физиологический путь; и она
имеет свое строго локализованное седалище, о чем
говорить тут подробно я не стану. Кто молится, тот знает, что
молитва зависит от тысячи внешних причин,— от того,
стоит ли или сидит человек, сидит ли на высоком или на
низком стуле, от положения тела и головы, от управления
дыханием, от времени года и т. д., не говоря уже о
внутреннем внимании и покаянии и независимо от того, что
настоящая молитва приходит сама собой, неизвестно откуда
4 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
98
и как, иногда вопреки всему, насильственно отрывая от
обстоятельств текущей жизни. С наступлением весны
труднее сосредоточиться и труднее молиться. Легче — к осени
и зимою. Также и слезы есть сама жизнь,— и духовная
и физическая. Наставлял один подвижник: «Если хочешь
иметь слезы, старайся, чтобы не было у тебя никакого
телесного утешения». Существует своя подвижническая
техника обучения слезам, хотя дар слез подается только
благодатью '. Я хочу сказать всем этим только то, что
важен самый общий принцип религии: это есть жизнь и,
стало быть, субстанциально-телесная утвержденность, притом
жизнь личности, и притом такая жизнь личности, которая
имеет целью закрепление этой субстанциально-телесной
утвержденности в бытии вечном и абсолютном.
2. Если мы так поймем религию, то сразу же станет
ясным глубочайшее и коренное отличие мифологии от
религии. Сразу же делается ясным, что если религия есть
субстанциальное самоутверждение личности в вечном
бытии, то мифология не есть ни субстанциальное
утверждение, ни тем более утверждение в вечности, хотя,
несомненно, она вся живет исключительно личностным началом.
Разумеется, возможна и необходима религиозная, или
абсолютная, мифология (ср. ниже гл. XIV). Но дело не
в этом. Вопрос в том, есть ли нечто религиозное самый
принцип мифического? Можно ли сказать, что всякая
мифология и все в мире без исключения есть нечто
религиозное? На эти вопросы необходимо ответить
отрицательно. Миф как таковой, чистая мифичность как
таковая — отнюдь не должны быть во что бы то ни стало
принципиально религиозными. Так, религия всегда живет
вопросами (или, точнее, мифами) о грехопадении,
искуплении, спасении, грехе, оправдании, очищении и т. д.
Может ли миф существовать без этих проблем? Конечно,
сколько угодно. Религия привносит в миф 5* только некое
специфическое содержание, которое и делает его
религиозным мифом, но самая структура мифа совершенно не
зависит от того, будет ли она наполнена религиозным
или иным содержанием. В мифе личность вовсе не живет
обязательно религиозным самоутверждением в вечности.
В ней отсутствует самый нерв религиозной жизни —
1 О различии слез — одна из обычных аскетических тем. Ср.
«О слезах» у еп. Игнатия (Брянчанинова), 1905, I. С. 193—205.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
99
жажда спасения и искупления. Возможен и даже
постоянно бывал миф, не содержащий в себе ровно никаких
указаний не только на вечность, но даже и на грех, на
искупление, на воздаяние за грехи или добродетели и т. д.
В религии — всегда оценка временного плана с точки
зрения вечной или, по крайней мере, будущей жизни. Тут —
жажда прорваться сквозь плен греха и смерти к святости
и бессмертию. В мифе же мы находим в этом отношении
некоторое приближение к поэзии. Ему все равно, что
изображать. Весь миф о Троянской войне есть несомненно
миф, но он почти весь может быть изложен так, что в нем
не окажется ни одного подлинно религиозного момента.
Возьмите богатырей из всякого другого эпоса, хотя бы,
напр., русского или германского. Что специфически
религиозного в образе Ильи Муромца, Алеши Поповича и пр.?
Это — просто картина эмпирически живущих личностей,—
правда, каких-то особенных по своему могуществу и проч.
свойствам, но ничего специфически религиозного не
выражающих, не утверждающих и не вызывающих. Миф есть
не субстанциальное, но энергийное самоутверждение
личности. Это — не утверждение личности в ее глубинном
и последнем корне, но утверждение в ее ѳыявительных
и выразительных функциях. Это — образ, картина,
смысловое явление личности, а не ее субстанция. Это, как
мы уже сказали, лик личности. Но раньше мы употребили
это выражение как абсолютно тождественное с термином
«личность». Сейчас же мы берем его в собственном
значении, противополагая лик, принадлежащий личности, и —
данную личность. Миф есть разрисовка личности,
картинное излучение личности, образ личности.
3. Тут мы должны избежать одного подводного камня,
на который часто натыкается абстрактно-метафизическая
мысль многих исследователей. Именно, отличие лика от
личности толкуют как раздельность лика и личности, их
вещественную и субстанциальную отдельность одного от
другого. Сейчас я не стану входить в рассмотрение
диалектики сущности и энергии, вопроса, излагавшегося мною
неоднократно '. Скажу только, что диалектика требует
одновременного признания и тождества личности с ее
проявлениями и энергиями и — различия их между собою.
1 Например, в «Античн. косм.».
4*
Α. Φ. ЛОСЕВ
100
Существует одна вещь, одна и та же вещь,— личность е
ее живыми функциями, но это не мешает тому, чтобы лич-.
ность сама по себе отличалась от своих состояний и
энергий. Поэтому мы, говоря о лике личности и утверждая
их различие, отнюдь не утверждаем, что лик может
существовать отдельно от личности, что лик — сам по себе,
а личность — сама по себе. Этот противоестественный
дуализм есть убиение и удушение как живой философской
мысли, так и живого человеческого восприятия. Миф не
есть сама личность, но — лик ее; и это значит, что лик
неотделим от личности, т. е. что миф неотделим от личности.
Лик, мифический лик неотделим от личности и потому
есть сама личность. Но личность отлична от своих
мифических ликов, и потому она не есть ни свой лик, ни свой миф,
ни свой мифический лик.
Я приведу несколько примеров на то, как личностная
глубина, не будучи своим ликом, т. е. выражением, все-
таки предопределяет самое строение этого последнего.
Я воспользуюсь некоторыми наблюдениями над
живописным пространством 1
Пространство византийской монументальной стенописи
и мозаик можно назвать пространством идеографическим.
Оно выражается символически путем того или иного
условного знака. Таков, напр., золотой фон средневековых
мозаик. Обычно идеографическая форма выражения
пространства связана с плоскостной изобразительностью
живописи монументального и декоративного стиля,
встречается в архаические этапы культуры и обусловлена
бывает феодальной структурой общества.
Когда мы имеем эгоцентрическую ориентировку на
внешний реальный мир,— на картине это отражается как
центральная перспектива сходящихся линий; пространство
замкнуто-концентрическое. Когда же мы говорим об
эксцентрической ориентировке, как это есть в древней русской
иконописи, то тут пространство развертывается по
направлению к зрителю. Это эксцентрическая форма
выражения пространства. Там пространство свертывалось в
глубину, будучи как бы подчинено активному проникновению
взора зрителя в созерцаемый им внешний мир. Тут же
1 Наблюдения эти и терминология принадлежат Н. М. Тарабукину
и изложены им в его печатающейся работе сПроблема пространства
• живописи»
ДИАЛЕКТИКА МИФА
101
пространство само развертывается изнутри вовне. Это и
понятно, раз иконопись была продуктом мироощущения,
построенного на утверждении развертывающейся в своем
инобытийном самооткровении Субстанции. Пространство
дальневосточной живописи, китайской и японской,— экс-
центро-концентрічно. Зритель воспринимает
пространство изнутри картины, из ее центра. В японской живописи
пространство развертывается во все стороны по радиусам.
Оно — радиально. В эксцентрическом пространстве нет ни
чисто плоскостного, фронтального изображения, ни
перспективного. Показание предмета с трех сторон достигается
художником при помощи метода развертывания
пространства изнутри наружу. Тут зритель осязает предмет
глазами, видит его самодовлеющую жизнь, нисколько не
зависящую от единой «точки зрения». Зритель сам не может
проникнуть в это пространство. Все его формы как бы
вооружены против нас; пространство «идет на нас», а не
увлекает нас в глубину, как пространство перспективной
проекции. Изображенные тут лица общаются между собою
вне условий нашего пространства и вне наших «законов
тяготения». К такому пониманию пространства отчасти
приблизились в последнее время — правда, совершенно с
другим мирочувствованием — футуристы и отчасти
экспрессионисты.
Еще иное готическое пространство. Готическая
живопись реализуется в воздушном пространстве храма,
освещенного цветными стеклами. Цвет, исходящий из этих
последних, наполняет здание таинственными оттенками,
придающими всему пространству характер чего-то
сокровенного. С другой стороны, готика стремится уничтожить
всякие преграды для стихии пространства. Она возносит в
бесконечность целое волнующееся море стрельчатых
сводов, причем все это держится не на массивных каменных
глыбах, а только лишь на нервюрах. Тут, собственно
говоря, даже нет никаких стен. Тут, можно сказать,
совершенно нет никакого ограниченного пространства. Оно по
самому существу своему бесконечно и нематериально. Тут
самые фантастические сочетания сводов и арок,
кружевные сплетенья крестов, кроссов и проч. и качающееся
пламя балюстрад. Это — пространство вертикальное. Камень
тут не имеет значения материальной среды. Это —
эстетически утонченная хаотичность (Воррингер). Вероятно,
только чисто готическое понимание пространства могло
А. Ф.ЛОСЕВ
102
привести позднейших теоретиков к толкованию
архитектуры как застывшей музыки.
Чрезвычайно своеобразными чертами отличается то
пространство, которое стали изображать футуристы.
Это — пространство, которое сразу хочет быть и временем,
подобно четырехмерному пространству новейшего
естествознания, развивающегося в связи с принципом
относительности. Это гиперпространство. Футуристы хотели в
пространстве выразить движение. Часто это намерение
приводило к наивным результатам, вроде изображения
лошади с двенадцатью ногами. Дальнейшая эволюция
привела к кубизму. Кубисты умозрительно разлагали
предмет на его составные части, чтобы развернуть его
форму и показать ее на плоскости со всех сторон. Тут
давалась фигура как бы вращающегося предмета. Сюда
же должны быть причислены и экспрессионисты. По
сравнению с футуристическим нагромождением форм и
красок экспрессионизм вернулся отчасти просто к
предметной изобразительности. Однако это пространство,
несомненно, содержит в себе временную координату. Это
пространство в некоторых случаях (Шагал) можно понимать
как сновидческое. Тут — те же предметы, что и наяву, но
вещи этого пространства совершенно свободны от всяких
условий и границ пространства «трех измерений» и не
нуждаются ни в каких механических усилиях для
преодоления пространства. Такую «сдвинутость» и свободную
сопоставленность предметов мы находим, напр., у Шагала,
у которого шествуют, как бы по воздуху, Агасферы,
мебель, люди, как бы повисая в воздухе. Это пространство
не восприятия, но представления. Это — не то, как вещи
существуют и как воспринимаются, но то, как они
представляются. Отсюда, напр., склонность многих
экспрессионистов писать вещи так, как будто они видимы по косой
линии сверху, нарушение пространственной и временной
последовательности, введение одновременности там, где
должна быть последовательность, и пр. В некоторых же
течениях «беспредметного» экспрессионизма пространство
дематериализовалось окончательно. У Кандинского, напр.,
нет никакой ориентировки на предмет. Зритель уже не
созерцает, а ощущает движение какого-то «докосмического
хаоса». Это — само воплощенное отрицание всякой
организованности. Это — хаос протеста против всяческой
«гармонии» современной цивилизации. Он только разрушает,
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Іі 1 \
103
ничего не созидая. Н. М. Тарабукин спрашивает: «Не
второй ли раз (впервые — в позднем барокко) проснулась
темная, противоречивая, полная порывистой
устремленности «душа» готики в этих поздних проявлениях
европейского искусства и предстала в виде взволнованного моря
красок и неорганизованного хаоса истерических
композиций?» Но это, конечно, гораздо более принципиальный
хаос, превосходящий даже католическую истерию готики
и лишенный ее миросозерцательных основ и скреп.
В результате везде мы тут видим, как миф (в данном
случае в живописи) определяется своим глубинным
личностным основанием, но не есть оно само, ибо ясно, что
он — только одно из многих его проявлений 1. По нему, по
его структуре видим, каков характер выставляемого тут
личностного бытия. Дальнейших примеров можно и не
приводить. С точки зрения коммунистической мифологии,
не только «призрак ходит по Европе, призрак коммунизма»
(начало «Коммун [истического] манифеста»), но при этом
«копошатся гады контрреволюции», «воют шакалы
империализма», «оскаливает зубы гидра буржуазии», «зияют
пастью финансовые акулы», и т. д. Тут же снуют такие
фигуры, как «бандиты во фраках», «разбойники с
моноклем», «венценосные кровопускатели», «людоеды в митрах»,
«рясофорные скулодробители»... Кроме того, везде тут
«темные силы», «мрачная реакция», «черная рать
мракобесов»; и в этой тьме — «красная заря» «мирового
пожара», «красное знамя» восстаний... Картинка! И после этого
говорят, что тут нет никакой мифологии.
4. Итак, миф возможен без религии. Но возможна ли
религия без мифа? Строго говоря, невозможна. Ведь под
религией мы понимаем субстанциальное самоутверждение
личности в вечном бытии. Конечно, такое самоутверждение
может и не зацветать специальным мифом. Пост и всякое
подвижничество есть религия, но тут могут и не работать
специально энергийно-построяющие функции, могут не
возникать картинные образы, отражающие
подвижническую жизнь в мифе. Однако необходимо иметь в виду,
что,уже сама подвижническая жизнь есть жизнь
мифическая. Религия может до некоторых пор не выявлять своего
мифа. Но это делается не потому, что религия сама по себе
1 Nohl H. Stil und Weltanschauung. Jena, 1920 — книга, содержащая
много других подобных примеров
Α. Φ. ЛОСЕВ
104
не мифична или не предполагает мифа, но лишь чисто
временно, до тех пор, пока она еще не выросла в
самостоятельный и цельный организм. Религия есть вид мифа, а
именно мифическая жизнь, и притом мифическая жизнь
ради самоутверждения в вечности. Стало быть, миф не есть
религия; миф охватывает и разные другие области; миф
может быть в науке, в искусстве, в религии. Но религия
не может быть без мифа. И не только потому, почему не
могут быть без мифа наука и искусство. Последние две
области, вырастающие на некоторых специальных
изолированных функциях духа, поневоле погружаются в недра
мифического сознания, как только мы начинаем говорить
о них как о реальных эпохах в истории культуры. Религия
же кроме этого общеисторического мифологизма уже по
самой своей природе чрезвычайно близка к мифу. Ведь
она есть по преимуществу бытие личностное,
синтетическое, а не изолированно-абстрактное самоутверждение
личности. Она в самом своем принципе уже содержит нечто
мифическое. Она не может не зацвести мифом. Нельзя,
напр., быть христианкой и ходить с оголенными выше
колен ногами и оголенными выше плеч руками, как это
требуется по последней моде 1925—1928 гг. Я лично
терпеть не могу женщин с непокрытыми головами. В этих
последних есть некоторый тонкий блуд,— обычно
мужчинам нравящийся. Также нельзя быть христианином и
любить т. н. изящную литературу, которая на 99% состоит
из нудной жвачки на тему о том, как он очень любил, а
она не любила, или как он изменил, а она осталась
верной, или как он, подлец, бросил ее, а она повесилась, или
повесилась не она, а кто-то еще третий, и т. д. и т. д. Не
только «изящная литература», но и все искусство, с
Бетховенами и Вагнерами, есть ничто перед старознаменным
догматиком «Всемирную славу» или Преображенским
тропарем и кондаком ; и никакая симфония не сравнится
с красотой и значением колокольного звона. Христианская
религия требует мифологии колокольного звона.
Христианин, если он не умеет звонить на колокольне, или не знает
восьми церковных гласов, или, по крайней мере, не умеет
вовремя развести и подать кадило, еще не овладел всеми
тонкостями диалектического метода. Колокольный звон,
кроме того, есть часть богослужения; он очищает воздух
от духов злобы поднебесной. Вот почему бес старается,
чтобы не было звону. Нельзя, далее, также быть евреем
ДИАЛЕКТИКА МИФА
105
и — не обрезываться и не делать того, что бывает после
обрезания, как нельзя католику замазывать вопрос о Fi-
lioque и не искать чувственного явления Христа,
Богоматери и святых и как нельзя коммунисту любить искусство
Мифология обязывает Раз искусство, значит — гений.
Раз гений, значит — неравенство. Раз неравенство,
значит — эксплоатация. К чему же это ведет? Ведь мы же
гоним попов за эксплоатацию, за то, что они, обладая
большими знаниями и умея влиять на народ, подчиняют
его своей власти, заставляя платить за те «утешения»,
которые он от них получает. Но разве не то же делает
Шаляпин? Пользуясь своим талантом и умея влиять на народ,
он извлекает из несчастного ремесленника или студента
последнюю копейку, заставляя его идти в театр, слушать
его пение и смотреть его игру. Тут одно из двух* или
эксплоатации никакой действительно не должно быть,
тогда — искусство должно быть искореняемо наравне с
религией; или искусство нужно поощрять и тогда,— во-
первых, нужно допустить, что эксплоатация —
необходима, что рабство — двигатель культуры, и, во-вторых, тогда
совсем не очевидно, что должна быть искореняема религия
(а если она и при этом условии должна быть искореняема
то уже очевидно не потому, что она — эксплоатация, но
потому, что она — нечто другое, τ е. искоренение религии
при этом условии будет предполагать, что религия не
сводится на эксплоатацию, а есть нечто своеобразное и
специфическое). Конечно, эксплоатации не должно быть ни
в каком случае, ни в целях искусства, ни в целях религии.
Поэтому логический вывод из коммунизма — это
искоренение также и искусства. Московский Большой театр —
мощно организованный идеализм, живущий
исключительно ради индивидуалистического превознесения и в целях
эксплоатации. Нужно немедленно заставить всех этих
бывших «артистов императорских театров» перейти на
подлинно общественно полезный и производительный труд.
Будь я комиссаром народного просвещения, я
немедленно возбудил бы вопрос о ликвидации всех этих театров,
художественных и музыкальных академий, институтов,
школ, курсов и т. п. Соединять искусство с пролетарской
идеологией — значит развивать изолированную личность,
ибо искусство только и живет средствами изолированной
личности. Искусство может быть допущено только как вид
ироизводства, т. е как производство чего-нибудь нужного
Α. Φ. ЛОСЕВ
-Ji ι L-
и полезного. Однажды я уже пробовал показать, что
«свободное» искусство и наука есть всецело достояние
либерально-буржуазной культуры 1. Феодализм и
социализм вполне тождественны в том отношении, что оба они
не допускают свободного искусства, но подчиняют его
потребностям жизни, с тою разницей, что христианство
понимает жизнь и «производство> как спасение в Боге,
социализм же — как фабрично-заводскую
производительность. Поэтому давно пора перестать нам культивировать
у себя буржуазную и поповскую культуру искусства.
Долой всех артистов, художников и писателей —
угнетателей народа! Наша личность и наше мировоззрение
должно дать свой миф, как и всякая религия не могла его
не давать в свое время. Развитой пролетарский миф не
будет содержать в себе искусства. Только в порядке чисто
временного несовершенства и неполноты личность может
не содержать мифов в развитой форме. Но зато она сама,
с самого начала, есть уже творчество мифа, пусть даже
сама не являясь мифом как таковым. Миф не есть религия,
но религия есть мифическое творчество и жизнь.
Мифология шире религии. Религия есть специфическая мифология,
а именно мифология жизни, точнее же жизнь как миф.
Религия без мифа была бы личностным
самоутверждением — без всякого выражения, выявления и
функционирования личности. Как это было бы возможно? Не есть ли
уже самое самоутверждение некоторое самопроявление и
функционирование?
Этими краткими замечаниями принужден я
ограничиться в своем разграничении сфер мифологии и религии.
Миф не есть специально создание религии, или
религиозная форма, т. е. он не есть субстанциальное
самоутверждение личности в вечности, но он — энергийное,
феноменальное самоутверждение личности,
независимо от проблемы взаимоотношения вечности и
времени.
IX. Миф не есть догмат. В это отождествление легко
впасть после произведенного только что отграничения
мифа от религии. В самом деле, миф не есть сама личность,
но ее изображение, ее лик, ее форма и образ, ее начертание.
Не есть ли он7* в таком случае догмат? Догмат ведь как
раз фиксирует смысловое, энергийное содержание религии.
1 Очерки античн. симв. и мифол. М., 1930. I. С. 818—831
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Ι ι I
107
Он есть форма и начертание постижений и достижений,
данных в религии. От этого замутняющего все дело
рассуждения необходимо тщательно уберечься.
1. а) Миф не есть догмат по одному тому, что миф
как таковой, чистый миф, не есть вообще религия. Догмат
предполагает некоторый минимум религиозного опыта, в то
время как миф может существовать вне всякой религии
(напр., в науке или искусстве).
b) Миф не есть догмат потому, что последний есть
всегда уже определенного рода рефлексия над
религиозным опытом и, может быть, даже над религиозным мифом.
Миф же, как мы это уже видели, ни в каком смысле не
есть какая-нибудь рефлексия. Он всегда некая явленность,
непосредственная и наивная действительность, видимая и
осязаемая изваянность жизни. Конечно, миф, как и все на
свете, существует не без рефлексии. Но этой рефлексии
здесь не больше, чем в любой вещи обычного
повседневного восприятия. Во всяком случае, тут нет никакой ни
вообще изолированной рефлективной функции, ни даже такой
изолированности, которая как бы неотделима от самого
мифа. В мифе нет вообще речи о рефлексии.
c) Миф не есть догмат потому, что догмат есть не
только рефлектированный, но и абсолютизированный миф.
Догмат возможен всегда только как оценка и ценность
прежде всего. Это есть утвержденность венных истин,
противостоящих всякому вещественному, временному и
историческому протеканию явлений. В противоположность
этому миф чисто фактинен и историчен. Догмат —
абсолютизация исторических фактов личностного бытия. Миф
же — историзация и просто история того или другого
личного бытия, вне значимости его как бытия абсолютного
и даже вне его субстанциальности.
2. Эти разграничения вносят большую детализацию в
полученную нами формулу мифа как бытия личностного.
А именно, энергийное или феноменальное становление
личности, о котором мы только что недавно говорили,
может быть теперь понято нами как становление
историческое. Если идее противоположно становление и
изменение, то абсолютизированной идее противоположна исто-
ризованная идея и догмату противоположна история. Ре
лигиозныи догмат пытается утвердить исторические (как
равно и не исторические) факты вне времени, вне
протекания, хочет вырвать их из потока становления и противо-
Α. Φ. ЛОСЕ»
108
поставить всему текучему Миф же как раз текуч,
подвижен; он именно трактует не об идеях, но о событиях, и
притом чистых событиях, т. е. таких, которые именно
нарождаются, развиваются и умирают, без перехода в
вечность. В истории в связи с этим есть, конечно, определен^
ная относительность и несамостоятельность; она всегда
зависима и предполагает нечто неподвижное и устойчиво
смысловое, ибо, чтобы становиться, надо сначала быть
чем-то, и это «что-то» должно оставаться неизменным в
процессе всего изменения: что же тогда и меняется, если
нет ничего неизменного? Итак, история есть становление
бытия личностного, и миф есть история. Напомним, однако,
что, говоря о «бытии личностном», мы вовсе не имеем и
не имели в виду, что все на свете есть только личность,
как «всеобщее одушевление» в мифе вовсе нельзя
понимать в том смысле, что все решительно на свете
одушевлено, что нет неодушевленных вещей, нет смерти и т. д.
Личность введена нами лишь как точка зрения, с которой
рассматривается и расценивается бытие. Разрыв-трава
или плакун-трава не есть личности, но мифическое
представление об этих вещах возможно только тогда, когда
есть категория личности. Точно так же, говоря об истории,
мы отнюдь не утверждаем ни того, что история есть всегда
история личностей, ни того, что миф есть всегда только
одна история, исторический рассказ. Мы утверждаем
только, что вещь может быть отнесена в область истории и
стать историческою лишь тогда, когда она оценена с точки
зрения личности и ее становления, и что мифический
предмет принципиально историчен, оценивается с точки зрения
истории, историчен в возможности. Расцветший
папоротник нужно отыскать обязательно накануне Иванова дня.
При его помощи можно находить клады, открывать
железные двери и пр. Это учение о папоротнике отнюдь не есть
само по себе история, и папоротник вовсе не есть ни
личность, ни ее становление. Но попробуйте исключить из
этого учения момент принципиально исторический. Это
будет значить, что ваш папоротник ни к чему не будет
способен; он будет вне людей и влияния на них; он будет
равносилен всякому обыкновенному неодушевленному
предмету, всякому камню, который валяется на дороге
с прочим мусором. Уничтожьте в учении о папоротнике
момент личностный (так, как мы понимаем личность); и —
это будет значить, что папоротник перестает быть социаль-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
ι—ι .
109
ною вещью; он окажется безразличным для всякой
личности. Мещанское и просветительское возрожденство
обычно щеголяет позитивизмом и «эмпирическими»
точками зрения в вопросах человеческой «физиологии» и
«биологии», сводя все это на биологический процесс и не
видя здесь никакой истории. Какой полнотой и глубоким
историзмом отличается в сравнении с этой «научной»
бездарностью следующее рассуждение «Пролога» (на 9
ноября) ! «Да творятся по умерших третины и девятины, такоже
и четыредесятины, в пениих и молитвах и с милостынею,
яже к нищим. Третины убо творим, яко в третий день
человек по умертвии вида изменяется. Девятины же
творим, яко тогда все растечется здание, храниму сердцу
единому. Четыредесятины же творим, яко и то сердце тогда
погибает. В зачатии бо сице младенцу бывает: в третий
день живописуется сердце, в девятый же составляется
плоть, в четыредесятый же совершен вид воображается.
Ведуще убо божественнии отцы, яко яже за усопших
поминания, глаголю, милостыня и службы, велику тем
подают ослабу и пользу и обще се церкви творити повеле
вают, от святых апостол сие приемше, якоже речеся».
Такова история в мифе.
3. При всем резком несходстве мифа как такового с
догматом как таковым нужно, однако, помнить, что
фактически, в реальной истории мифа и догмата часто бывает
очень трудно провести между ними разграничивающую
линию. Чтобы внести в этот вопрос полную ясность,
я должен прибегнуть как к помощи примеров, так и к
точной формуле расхождения мифа и догмата. Мы уже
сказали, что догмат 1) всегда есть принадлежность
религии (ибо только религия взыскует последней
абсолютизации), что он 2) есть всегда рефлексия, а не просто
непосредственное видение 8* (хотя и не только рефлексия, ибо
иначе установление догмата ничем не отличалось бы от
науки догматического богословия) и что он 3) есть всегда
абсолютизация исторического и личностного. Как
выразить в единой формуле это своеобразие существенной
структуры догмата? Догмат, как видим, есть попросту
абсолютизация, производимая в сфере религиозного
видения и жизни. Но какая же это может быть абсолютизация,
если религия уже сама по себе дает последнюю
окончательную абсолютизацию истории и личности? Конечно,
это — не просто религиозная абсолютизация, ибо иначе
Α. Φ. ЛОСЕВ
f L-
110
определение догмата как абсолютизации религии было бы
равносильно определению его как религиозной религии.
Религия открывает некий абсолютный факт, как, напр.,
воскресение Христа. Это есть факт некоей специфически
понимаемой истории и некоей специфически явленной
личности; и это, кроме того, есть некий абсолютный факт,
который не может быть подвержен никакому сомнению.
Но что же такое догмат воскресения и в чем его
специально догматическая абсолютизация? Уже было указано, что
догмат есть всегда рефлексия, хотя и не чистая рефлексия,
а соединенная с абсолютными установками веры. Догмат
есть, стало быть, рефлектирующая абсолютизация.
Другими словами, догмат есть система теоретического разу-
м α, выдвинутая тем или другим религиозным опытом и
откровением веры. Воскресение Христа есть само по себе
некий факт веры, который, несмотря ни на какую свою
чисто откровенную и абсолютистскую природу, ни в коем
случае не есть сам по себе догмат. Это именно миф,
религиозный миф. Догмат начинается с тех пор, как этот миф
выявляет свою разумную необходимость, свою
диалектическую обязательность, свою чисто логическую
неизбежность и силу. Правда, полная систематика мифа должна
быть отнесена в сферу догматического богословия и —
еще дальше — в сферу религиозной философии. Но начало
системы — в виде абсолютного утверждения этого мифа в
мысли, хотя бы только в виде задания мыслить его как
логическую необходимость,— это начало полагается
именно в догмате. Чтобы миф превратился в догмат, надо,
по крайней мере, выполнить первое требование всякой
мысленной установки, надо отделить, отграничить этот
миф от всякого другого мифа, говорящего на ту же тему,
и утвердить его (пусть пока нерасчлененно в его
внутренней структуре), утвердить как единственно истинный и
необходимый. Догмат есть сознательное утверждение
мифа, открытого в данном религиозном опыте, в
сознательном отличии этого мифа и этого опыта от всякого другого
мифа и опыта. Повествование о схождении св. Духа на
Христа в виде голубя или на апостолов в виде огненных
языков не есть догмат; это — религиозный миф.
Обращения Христа к Отцу и Его утверждения Себя как Сына
Божия не есть догмат, но — религиозный миф. И первые
христиане, жизнь которых изображена в Деяниях, жили
не догматами, но мифами. Однако наступило время проти-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I 1
111
вопоставить христианское учение о троичности языческому
богоощущению и богословию. И вот, когда опыт
триединого Бога сознательно противопоставил себя языческим
субординационным и эманатическим учениям и этим
утвердил себя как разумную необходимость и абсолютность
(чисто опытная абсолютизация была всегда и раньше),
с этой минуты упомянутый миф превратился в догмат.
Догмат есть, таким образом, первый принцип разумного
осмысления мифа, в то время как миф сам по себе
совершенно нерефлективен и опытно-непосредственен. Для
догмата не нужна полная и окончательная система
разумных определений. Повторяю, это превратило бы догмат
из факта сознательной веры в чисто мыслительный предмет
догматического богословия. И обычно установители
догматов даже и не обладают такими логическими
возможностями. Св. Афанасий Великий, при всей четкости и глубине
своего ума, в некоторых своих противоарианских
утверждениях был близок к савеллианству, а св. Василий
Великий — к тритеизму. И тем не менее оба они являются
светочами именно догматического сознания. И это потому,
что в них сильнее всего была именно эта сознательная
утвержденность триединства в его противоположении
другим христианским и не вполне христианским учениям.
Логически и диалектически они могли и ошибаться, т. е.
они могли ошибаться в логической систематике данных
религиозного опыта, но они не ошибались в установке
самого принципа необходимости признавать никейско-кон-
стантинопольское триединство как разумно необходимое и
диалектически необходимое. Догматическое богословие
отличается от самого установления догмата тем, что оно
систематизирует однажды открытую в догмате его
разумную необходимость. И так как логическая систематизация
мифа, с точки зрения чисто религиозной, не есть вещь
первостепенная и даже обязательная, то богословие
возникает, конечно, впоследствии и требует гораздо меньшего
религиозного творчества, чем установление самого
догмата, и уж подавно меньше, чем установление самого мифа,
лежащего под данным догматом.
На ряде примеров я покажу, как мифология,
объединяясь с диалектикой, превращается в догмат и даже в
догматическое богословие. При этом я, конечно, не
последую за либерально-гуманистическим и просветительским
мещанством, видящим мифы и догматы только в старых
Α. Φ. ЛОСЕВ
112
классических религиях. С моей точки зрения, мифология н
догматика никогда не прекращались и не прекратятся в
человечестве, и так называемый атеизм и позитивизм полон
ими не меньше, чем любая религия, откровенно
объявляющая себя именно религией.
4. Беру «спорный» вопрос о взаимоотношении веры
и знания.
а) Я утверждаю, что к нему можно подходить 1.
диалектически, 2. мифологически и 3. догматически, и разным
«спорщикам» не мешало бы расчленять эти три точки
зрения. В чисто диалектическом отношении не может быть
ровно никакого спора о том, какую из этих двух сфер надо
предпочитать другой. С диалектической точки зрения, если
эта точка зрения всерьез диалектическая, никогда нельзя
высказать такой, напр., просветительский догмат, что
знание разрушает веру. Попрошу прислушаться к этой
диалектике.
I. Вера есть вера во что-нибудь или ни во что?
Конечно,— во что-нибудь, ибо если вера не имеет своего
определенного предмета, она, конечно, не есть вера. Итак,
верующий верит в нечто. В нечто — определенное или
неопределенное? Допустим, что — в нечто неопределенное (как это
любят неверующие навязывать верующим и как это часто
утверждают — по недомыслию — и сами верующие). Если
предмет веры не определен, то он ничем не отличается от
всего прочего, и прежде всего от предмета неверия, т. е.
от того предмета, в который не веруют. Возможно ли это
и можно ли такую веру назвать верой? Очевидно, нет. Или
вера свой предмет ясно отличает от всякого другого
предмета,— тогда этот предмет строго определен и сама вера
определенна; или вера не отличает своего предмета от
всякого другого, и в частности от противоположного ему,—
и тогда у нее нет ясного предмета и сама она есть вера ни
во что, т. е. сама она не есть вера. Но что такое
фиксирование предмета, который ясно отличен от всякого другого
предмета? Это значит, что данный предмет наделен
четкими признаками, резко отличающими его от всего иного.
Но учитывать ясные и существенные признаки предмета не
значит ли знать этот предмет? Конечно, да. Мы знаем вещь
именно тогда, когда у нас есть такие ее признаки, по
которым мы сразу отличим ее от прочих вещей и найдем ее
среди пестрого разнообразия всего иного. Итак, вера в
сущности своей и есть подлинное знание; и эти две сферы
ДИАЛЕКТИКА МИФА
■ \ ,
ИЗ
не только не разъединимы, но даже и не различимы.
Просветитель скажет: но тот предмет, в который вы
верите, не существует, он — фикция. И этим сразу
обнаружит свою неспособность мыслить диалектически. Именно,
во-первых, это не значит, что для самого верующего
сознания вера не есть знание. Уж во всяком случае само
оно, со своей точки зрения, совершенно право, ибо предмет
своей веры оно считает не фиктивным, а реальным, и,
чтобы веровать в него, оно совершенно правильно (с
логической и диалектической точки зрения) считает, что нужно
знать, во что веруется. «Есть же вера уповаемых
извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. XI, 1). «Верою
разумеваем совершитися веком глаголам Божиим, во еже
от неявляемых видимым быти» (XI, 3). Таким образом,
речь может идти не о том, что у верующего нет диалектики,
но о том, что у него предмет веры иной, чем у атеиста. Это
значит, что атеист вовсе не опроверг верующего, а просто
игнорировал предмет его веры, т. е. не логика (и уже тем
более не наука) заставила его отвергнуть веру, а что-то
другое. Во-вторых же, необходимо посмотреть, какие
основания у атеиста устанавливать другие предметы, не те,
которые устанавливает верующий. Очевидно, это опять-
таки суть основания или веры, или знания. Если
собственная оригинальная вера заставила атеиста отрицать
религиозные предметы, то это значит, что 1. он — тоже
верующий, но только иной религии, что 2. его отрицание
религиозных предметов (в первом смысле) не носит никакого
логического, т. е. разумного, характера и что 3. в условиях
подобного насильственного соединения сознательного
отрицания веры с бессознательно переживаемой
необходимостью верить в свои объекты эта нерелигиозная вера
и религиозная критика превращается в
противоестественный аффект и полуживотное междометие. Но атеист,
конечно, скажет, что отрицать предметы религиозной веры
его побудила не его собственная вера, но объективное
знание. Тут мы переходим ко второму чисто
диалектическому тезису во всем этом вопросе.
II. Знание — есть ли знание чего-нибудь?
Разумеется,— ибо знание, которое ничего не знает, не есть знание.
Знание есть знание знаемого. Но знаемое отлично ли от
знающего или не отлично? Если знающий не отличает
предмета своего знания от себя самого, он, очевидно,
вообще не имеет определенного противостоящего себе
Α. Φ*ЛОСЕВ
І^—К
114
предмета. Стало быть, знаемое отлично от знающего. Но
каким образом, как именно оно отлично от знающего?
Допустим, что оно отлично только знающими способами, т. е.
знаемое отличается от знающего только теми средствами,
которыми располагает знающий, т. е. чисто логическими
и смысловыми средствами. В таком случае знающий будет
все время вращаться внутри себя самого и со знаемым
будет оперировать не как с реальными вещами, но как с
собственными идеями и понятиями. Очевидно, не это есть
то знание, которое обычно имеется в виду, когда говорят
о знании. Значит, знаемое от знающего должно отличаться
кроме логических признаков еще и не-логическими
признаками. Признаки, отличающие знаемое от знающего,
должны говорить не только о логическом и смысловом их
противопоставлении, но и о таком их противопоставлении,
когда они противостоят и положены друг против друга
внелогически. Но что такое вне-логическое положение вещи?
Что такое происходит в нас, когда мы утверждаем вещь
без внимания к ее смысловой и логической утвержденности
и обоснованности? Это и значит, что мы пользуемся сред-
ствами веры. Другими словами, знание в сущности
своей и есть подлинная вера; и эти две сферы не только не
разъединимы, но даже и не различимы.
Итак, 1. атеист не на основании знания критикует
объекты веры; и он нас обманывал, когда говорил, что
именно знание заставило его критиковать веру; 2. его
собственные объекты также установлены им не на
основании простого знания (ибо голое знание дало бы ему
только логические и чисто теоретические, а не реальные
объекты); 3. фактически имея свою собственную
оригинальную веру, но на словах обманывая других (а часто
также и себя,— только уже не на словах), будто у него
никакой веры нет, он дает в сущности
непроанализированный сгусток аффективного напора и слепого нападения —
на свое же собственное существо.
Итак, чисто диалектически вера не только невозможна
без знания, но она и есть подлинное знание, и знание не
только невозможно без веры, но оно-то и есть подлинная
вера. Верить можно только тогда, когда знаешь, во что
нужно верить, и знать можно только тогда, когда веруешь*
что объект знания действительно существует. Однако
вопреки всякой диалектике, вопреки всякой логике
подымается огромная волна в человечестве опереться или толь*
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
115
ко на одну веру, или только на одно знание. Сколько ни
долбите вы головы своей диалектикой,— все равно одни
говорят, что вера есть основа всего, а знание — ерунда,
чушь, неизвестно что или — что знание есть основа всего,
а вера — фикция, выдумка, обман, ложь. Явно, что отнюдь
не логика заставила обе стороны утверждать такие
крайние взгляды. Я утверждаю, что именно мифические
потребности и религиозное откровение заставило обе
стороны впасть в такие крайности. Обычно думают, что
это относится только к религиозной вере. Но это — пустой
вздор. Особая мифология лежит и в основе атеизма, ибо я
уже доказал чисто диалектически, что отнюдь не знание,
а вера заставила атеиста рассуждать атеистически. И
когда обе веры осознали свой опыт во всем его отличии от
опыта противоположного,— получилось догматическое
сознание и, значит, догматическое богословие. Атеизм есть
догмат, а не наука. Атеизм есть вид догматического
богословия и является предметом истории религии. Нужно
веровать в знание, надеяться на знание, любить знание,
а не просто знать знание,— чтобы быть настоящим
безбожником. И нужно веровать в веру, надеяться на веру и
любить веру, а не просто знать веру,— чтобы быть
настоящим религиозным человеком. Миф знания и миф веры,
знание как догмат и вера как догмат — вот где
подлинная человеческая, а не учено-кабинетная реальность.
Ь) Эту абсолютизацию опытно открытых мифов
любопытно рассмотреть как факт исторический и
социологический. А именно, я бы сделал тут два разъяснения —
одно касательно веры без знания, другое — касательно
знания без веры.— Кому принадлежат и какая социальная
среда породила эти два лжеучения (с моей точки зрения)
или — объективно — эти две мифологии и две догматики?
Во-первых, необходимо категорически утверждать, что
учение о вере без знания не имеет никакого отношения ни
к классическому христианству, ни к средним векам в
частности. Можно утверждать даже гораздо большее. Никакой
живой религии это вообще не свойственно. Кто хоть
немного углублялся в историю греческой религии и
философии, тот прекрасно знает, что, напр., платонизм есть
соединение мистики с очень напряженной и утонченной
диалектикой и что только не читавшие никогда Платона и
Плотина сентиментальные дураки и
вырожденцы-просветители видят здесь какие-то беспредметные «платониче-
Α. Φ. ЛОСЕВ
116
ские» чувства, которым не свойственна никакая логика.
Но в особенности надо бороться против векового обмана и
клеветы, возводимой на христианство и на средневековье
либерально-гуманистическими мыслителями.
Колоссальная по своей глубине, широте, тонкости и напряженности
антично-средневековая диалектика, пред которой меркнут
Фихте, Шеллинг и Гегель, объявлена раз навсегда
бесплодной метафизикой, «мистическим туманом», «тьмой» и
«невежеством». Ослепление новой рационалистической
верой не видит, что и священные книги, и богословские
труды всех отцов церкви полны учений о свете, об уме и
разуме, о просвещении, о слове, об идее и т. д. и т. д. От
приведения текстов я сейчас воздержусь. Итак, ни
христианство, ни средневековье не только не отрицают знания, но
совершенно отождествляют его с верою. И поэтому
совершенно не правы просветители и атеисты, что средневековье
отрицает знание Оно отрицает ложное знание, а не знание
вообще. И Новое время отличается от средневековья
отнюдь не тем, что оно ставит на первый план знание
вместо веры, но тем, что его знание и вера имеют другие
объекты, чем средневековые знание и вера.
Но если не средневековье есть лоно подобных
формально-логических учений, то откуда же они, какая
социальная среда породила такую сентиментальную
мифологию? Я думаю, что она — порождение той же самой
социальной среды, что и противоположная ей мифология с
ее догматом о знании без веры.
Именно, зададим себе вопрос: чем, собственно говоря,
отличается новоевропейский дух от средневекового и в чем
сущность той необычайной разъяренности, с которой он
нападает на Средние века? Я, кажется, не буду ничего
утверждать нового и особенного, если скажу, что средне-
вековье основано на примате трансцедентных
реальностей, Новое же время превращает эти реальности в
субъективные идеи. Отсюда весь рационализм,
субъективизм и индивидуализм Нового времени
Новоевропейская культура не уничтожает эти ценности, но она
превращает их в субъективное достояние. Она лишает
объекты их осмысленности, их личностности, их
самостоятельной жизни, превращая внешний мир в механизм, а
Бога — в абстрактное понятие. Поэтому индивидуализм,
кульминирующий в так называемом романтизме, и
механизм — диалектически требуют один другого. Эта эпоха
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I И
117
выдвигает на первый план отдельные,
дифференцированные субъективные способности или всего субъекта,
напрягая это до противоестественных размеров; все же прочее
превращается в некое аморфное чудище, в безглазую тьму,
в бесконечно расплывшийся, черный и бессмысленный,
механистический мир ньютоновского естествознания.
Отсюда такие лозунги, как знание без веры, такое вероучение
и мифология, как о всемогуществе знания, это постоянное
упование на науку, на просвещение, этот слепой догмат
«в знании — сила».
Я утверждаю, что, как все мышление после Средних
веков есть либерализм и гуманизм, как вся социально-
экономическая жизнь этих веков основана на
отъединенном индивидуализме, т. е. оказывается капитализмом, и
на рационализме, т. е. оказывается машинной культурой,
так миф о всемогуществе знания есть всецело
буржуазный миф. Это — сфера либерального мышления, чисто
капиталистический и мещански-буржуазный принцип.
Напрасно представители пролетарской идеологии усвоили
себе систему атеизма и вероучение о примате знания.
Наоборот, атеизм был оригинальным порождением именно
буржуазии, впервые отказавшейся от Бога и отпавшей от
церкви; и тут нет ничего специфически пролетарского.
Если же станут говорить, что буржуазное происхождение
той или иной социальной ценности не мешает само по себе
тому, чтобы она была усвоена пролетарским сознанием,
то это указывает только на то, что, с точки зрения
пролетариата, существуют внеклассовые социальные ценности.
И одно из двух: или атеизм и миф о примате знания есть
буржуазное порождение, тогда пролетарий не может быть
атеистом; или он может и должен быть атеистом, и тогда
пролетарское мировоззрение ничем не отличается от
капиталистического в самом существенном вопросе всего
мировоззрения и, кроме того, существуют для него
внеклассовые социальные ценности, т. е. марксизм в таком случае
есть, с точки зрения пролетариата, ложная теория.
То же социологическое объяснение должно быть и
для мифа о вере без знания. Это — продукт все той же
индивидуалистической среды, где или сам субъект, или
отдельные его способности гипостазируются и
абсолютизируются взамен цельного и живого бытия. Существовало
раньше некое явление абсолютного в телесном и
вещественном — как объективное обстояние, со своим собствен-
Α. Φ. ЛОСЕВ
l—^tl
118
ным внутренним, одухотворяющим принципом,— культ.
Буржуазная Европа в лице прежде всего протестантизма
отнимает в культе его внутреннюю сущность и делает ее
порождением отдельных субъектов. То, что остается после
этого в культе, конечно, превращается в механизм и
рационалистический скелет, в машину, в безземельный и
бесправный пролетариат, в марево межзвездных пространств.
Захвативши душу вещей в свой субъект, европейский
человек стал разрушать и дробить ее, бросаясь от одной
крайности в другую. Так одна и та же капиталистическая
Европа XVI—XIX вв. в разные стадии своего существования
породила алогический фидеизм с его бесплодными
«настроениями» и рационалистический атеизм с его внутренней
пустотой и мещанским духовным убожеством. Обе
мифологии суть, конечно, вырожденческие мифологии. Тем не
менее обе они уже давно доросли до степени догмата и даже
догматического богословия.
На этом примере прекрасно видно, что такое миф и что
такое догматы и как миф сам по себе отнюдь еще не
есть догмат. Поскольку речь идет о материализме как
о некоей разумной системе,— конечно, нельзя уже
говорить просто о мифологии. Здесь именно догматическое
богословие.
5. К сказанному я прибавлю еще только одно
замечание, которое должно ответить на сам собою
поднимающийся тут вопрос.
а) Именно, выше мы констатировали, что знание
логически предполагает вне-логическое противостояние
знающего и знаемого. Легко заметить, что это есть не что иное,
как постулат ощущения (или восприятия). Другими
словами, мы увидели, что знаемая вещь должна быть не только
логически противопоставляема знающему субъекту, но
должна быть и фактически» телесно, вещественно же от
него отличной. Материалисты 1 могут сказать: вот видите,
вы вовсе не доказали диалектическую необходимость веры;
вы доказали только необходимость реального ощущения
вещей (восприятия) ; а мы как раз и утверждаем, что
знания вещей нет без их ощущения. Вот это недоразумение я
и хочу рассеять, чтобы мой тезис о мифологичности и
догматичности материализма получил окончательную
ясность.
1 В этой книге я везде имею в виду главным образом буржуазный
материализм.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
119
Прежде всего, диалектика, приведенная мною, ровно
ничего не говорит о чувственном восприятии. С
диалектической необходимостью вытекает только субстанциально-
вещественное противостояние субъекта и объекта и —
вне-логичность подобного противостояния. О характере же
самого объекта или вещи в приведенном диалектическом
рассуждении ровно нет никакой речи. Какая это вещь,
чувственная или сверхчувственная,— ровно ничего не
говорится. И таким образом, чувственное ощущение тут
возможно только как вид ощущения и восприятия вообще;
диалектически возможно и сверхчувственное восприятие.
Ь) Во-вторых же, материализм основывается как раз
на сверхчувственной, и притом чисто интеллектуальной,
интуиции, так что и с этой стороны моя аргументация
вполне обнаруживает его мифолого-догматическую природу.
В самом деле, что такое материализм? Как показывает
самое слово, тут должна играть какую-то особенную роль
материя. Какую же? Она должна лежать в основе всякого
и всяческого бытия, и к ней должны сводиться все причины
и первопричины жизни и мира. Хорошо. Но что такое
материя? То ли самое, что и материальные вещи? Конечно,
не то же самое. Как деревянный шкаф не есть дерево и
как печатная книга не есть просто бумага, так и
материальная вещь не есть материя9* просто. Но, может быть,
материя есть все вещи, взятые вместе? Однако 1. нам
неизвестны все вещи, взятые вместе; и, не зная ни их
количества, ни качества этой суммы, мы не можем материю
определять при помощи столь неясных признаков. 2.
Кроме того, если одна материальная вещь не есть материя
просто, то тем более все вещи, взятые вместе (даже если
бы мы и точно представляли себе это все), не могут быть
материей. Если это стальное перо не есть просто сталь, то,
взявши все перья на свете, какие существуют, были или
будут существовать, мы получим такую массу
противоречивых признаков, что определение стали 10* при их помощи
станет просто нелепым. 3. Материя не есть и вещи,
образующие внешний мир, ибо это было бы определением
одного неизвестного через другое. Что такое внешний мир?
Я вижу пред собою дерево. Это мир или нет? Явно, что
это — дерево, а не мир (допустим, что это часть мира).
Я вижу луну. Мир ли это? Это — луна, а не мир, т. е., в
крайнем случае, часть мира, а не мир. Далее, я вижу
солнце, горы, реки, людей, животных и т. д. и т. д. Где же
Α. 4>, ЛОСЕВ
120
тут мир и как, собственно, я должен представлять себе
мир? Отдельные вещи не суть мир: где же самый-то мир?
Передо мною необозримое количество частей мира: где же
самый мир как целое? Я его не вижу, и материалист мне
его не указывает. Но пусть даже я увидел бы мир как
целое, как ограниченное и определенное тело, подобно тому
как видели его антично-средневековые мыслители. Но
тогда уже и младенцу ясно, что мир как целое отнюдь не
есть простая сумма своих частей и увидеть дерево, луну,
солнце и т. д. не значит еще увидеть мир. А кроме того,
вопрос с материей тогда уже и совсем запутается, ибо не
только о материи, но даже о и* материальных вещах и
даже о всей их сумме, оказывается, недостаточно говорить,
если зашел вопрос о мире как целом.
Итак, материя не есть 1) ни материальная вещь,
2) ни их сумма, механическая или органическая, 3) ни
внешний мир как целое. Что же еще остается говорить
материалистам? Они еще говорят вот что. Материя есть
4) то, что мы воспринимаем внешними чувствами. Вот это
определение очень интересно. Оно с головой выдает
мифологически-догматическую природу материализма.
с) 1. Во-первых, это есть беспомощный призыв к спа
сению при помощи субъективизма. Что такое «мы» и что
такое «внешние чувства»? Всякому школьнику известно,
что существовала бесконечная цепь восхождения живых
существ и бесконечно разнообразная эволюция их орга
нов чувств. Где вы, дарвинисты? Каждому животному и
каждому органу на каждой ступени его развития
соответствует определенное восприятие и определенная картина
внешнего мира. Где же тут материя, которую к тому же
материалисты понимают как нечто вечное и постоянное?
Одна картина восприятия у паука, другая — у рака,
третья — у рыб, четвертая — у различных
млекопитающих, пятая — у человека (у одного человека можно
насчитать сотни и тысячи различных типов восприятия),
шестая — у тех более совершенных существ, до которых,
вероятно, разовьется человек и которые, быть может, уже
существуют на других планетах. Ясно, что
вышеприведенное определение материи страдает субъективизмом, а
следовательно, и релятивизмом, упованием на случайность и
барахтаньем в ползучем и слепом эмпиризме.
2. Кроме того, и по существу совершенно не верно,
что материя есть то, что мы воспринимаем внешними чув-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
121
ствами. Внешними чувствами мы воспринимаем не
материю, но материальные вещи. «Материю» же мы
совершенно абстрактно отвлекаем от вещей, как «красноту»
от красных вещей, «круглоту» от круглых вещей и т. д.
Нельзя видеть «красноту» как таковую, но — лишь
красные вещи; «красноту» же можно лишь отвлеченно
мыслить; она есть абстрактное понятие. Точно так же
невозможно видеть, слышать, осязать материю как таковую.
Это — абстрактное понятие. Материю можно только м ы с-
лит ь.
3. Однако что же мы мыслим в понятии материи?
Быть может, хоть здесь заключено нечто связанное с
внешними чувствами? Другими словами, быть может,
материя есть абстрактное понятие связанности вещей с
нашими внешними чувствами} И с этим согласиться
невозможно. В понятии материи ровно не мыслится ничего
субъективного, да и сами материалисты утверждают, что
материя — вечна и что она существовала раньше жизни и
живых существ со всеми их восприятиями и самыми
органами. Значит, указание на связь с внешними чувствами ни
в каком смысле ничему не помогает.
d) В последнее время материалисты прибегли просто
к подлогу. Они объявили материю не чем иным, как
5) принципом реальности, а материализм просто учением
об объективности вещей и мира. Но тут остается только
развести руками.
1. Если материя вещи есть реальность вещи и больше
ничего, то материалисты — Платон, Аристотель и Плотин,
ибо они признавали реальность космоса и даже давали
его великолепную диалектику; материалисты — все отцы
Церкви, ибо они признавали реальность Бога, реальность
творения мира, реальность творения и грехопадения
человека, реальность Христа и всей евангельской истории,
реальность гибели и спасения людей и т. д. Таким образом,
подлог явно обнаруживается: материя вовсе не есть просто
реальность, но это — специфическая реальность. Какая
же? Чувственных вещей? Но тогда опять опора на
эмпирический сенсуализм и, стало быть, релятивизм. Всего
мира? Но тогда неясно, что такое для материалиста мир.
И т. д. И т. д. Словом, все предыдущие затруднения тут
только повторятся.
2. Допустим, что известно, каких именно вещей и чего
именно реальностью является материя. Но тогда опять-
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L.
122
таки мы скажем, что реальности как таковой мы не видим,
не слышим и не осязаем и что она, взятая самостоятельно,
есть не материальная вещь, но абстрактное понятие. В
таком случае при чем же тут «материализм»?
Наконец, в 6) физические теории материи я уже и не
заглядываю. Если бы я здесь привел хотя бы только один
список всех теорий материи, которые только существовали
в физике, начиная от теории особой жидкости до теории
полного и абсолютного уничтожения материи, то от этого
у читателя только закружилась бы голова. Изучение
истории физики как раз и показывает, что в материализме дело
вовсе не в научной теории материи, ибо таких теорий —
целые десятки и они летят одна за другой, как однодневные
мотыльки. На этом хаосе совсем нельзя обосновать тот
упор и напор, который обнаруживают материалисты в
своем нападении на людей.
е) Из всего этого вывод вытекает сам собою. Материя,
взятая сама по себе, есть абстрактное понятие, и
материализм есть абсолютизация абстрактного понятия, т. е.
типичная абстрактная метафизика. В самом деле, у человека
очень много абстрактных понятий, без которых он не может
мыслить мира и жизни. «Материя» — одно из таких
законнейших и необходимейших понятий человеческого разума.
Почему я должен вырывать одно понятие из цельной
диалектической системы всех понятий вообще, ставить его в
центр всего и по его имени называть всю свою
философскую систему? Все абстрактные понятия в одинаковой
мере абсолютны, и нет никаких логических оснований
одно из них абсолютизировать в ущерб другому. С какой
стати обязан я также именовать себя идеалистом? Если
материалисты утверждают очевидность того «простого»
факта, что все основано на материи, и если материя на
самом деле есть не больше чем абстрактное понятие, то
ясно, что материализм основывается на особого рода
интеллектуальной интуиции и что исходным пунктом его
является особое откровение материи, подобно тому как
бывает явление ангелов, светящегося креста на небе и т. д.
Я вполне согласен, что материалистам это их откровение
«материального» абсолюта вполне очевидно и
убедительно; и я признаю за ними их логическое право осознавать
этот опыт и строить его научную систему. Но зато и
материалисты должны признать, что:
1. в основе их учения лежат не логика и знание, но
ДИАЛЕКТИКА МИФА
123
непосредственное, и притом сверхчувственное, откровение
(ибо материя, как мы согласились, не есть нечто
чувственное) ;
2. что это откровение дает опыт, который претендует
на абсолютную исключительность, т. е. что этот опыт
зацветает религиозным мифом;
3. и что этот миф получает абсолютную утвержден-
ность в мысли, т. е. становится догматом.
В этом оправдание т. н. диалектического материализма.
В самом деле, если стать на точку зрения чистой
диалектики, то, как я показал, совершенно нет никакой
возможности так абсолютизировать понятие материи; оно
оказывается равносильным со всяким другим, ибо все
диалектические понятия, раз они выведены диалектически, в
совершенно одинаковой мере необходимы, истинны,
объективны и абсолютны. И с этой точки зрения
«диалектический материализм» есть вопиющая нелепость, полное
попрание всякой диалектики и типичнейшая буржуазная
абстрактная метафизика. Но освободите диалектический
материализм от необходимости доказывать примат веры;
признайте, что он утверждает свой объект (т. е.
абстрактное понятие материи) как абсолют, и притом как абсолют,
данный в особом откровении, не допускающем никакой
критики или сомнения; признайте, что некто, Некий,
был автором этого откровения и веры и насадителем этого
единственно истинного мифа; дайте диалектике свободно
развивать свои категории (материи, духа и т. д. и т. д.)
при условии, что уже есть некая непререкаемая
абсолютная материальная действительность, вездесущая, вечная,
неизменяемая, всемогущая, всеблагая и вседовольная:
диалектический материализм станет стройной теорией, и
притом чисто диалектической теорией (уже не
абстрактной, не метафизической), подобно тому как диалектичен
и абсолютно последователен и непротиворечив античный и
средневековый платонизм, как непротиворечиво всякое
догматическое богословие, поскольку не ставится вопрос
об основании его последнего объекта, ухватываемого
только верой, в мифе, как высшее откровение.
6. Почему миф о всемогуществе знания или о примате
материи не кажется мифом и обычно никем и не трактуется
как миф? Миф, сказали мы, есть личностное бытие. А как
понимается личностное бытие в новоевропейскую эпоху
индивидуализма и буржуазного субъективизма? Исключи-
А, Ф. ЛОСЕВ
I ■VI
124
тельно — как чисто субъективное бытие. Личности нет в
объективном — напр., в природном — бытии.
Материализм и атеизм, как детище буржуазной культуры,
понимает, в силу этого, природу как безличностный механизм;
и потому он не в силах отнестись к природе личностно.
Механизм просто и есть механизм, и — больше ничего.
Разумеется, если механизм понимать как механизм, как
чистый механизм, это опять-таки не будет мифологией, как
не есть мифология ни Евклидова геометрия, ни чистая
диалектика или силлогистика. Но только ли о чистом
механизме говорит материалистическое мировоззрение? Только ли
о некоей логической категории, построяемой
исключительно средствами чистого разума? Конечно, нет. Оно
гипостазирует, овеществляет, абсолютизирует механизм,
обожествляет его, ставит его на место всего. В таком случае оно
должно 12*, если только хочет быть логически
последовательным, понимать механистический мир личностно. Ведь
«личность» есть одна из самых обыкновенных категорий
человеческого сознания, подобно категориям времени,
пространства, причинности и пр. В особенности
диалектические материалисты должны это хорошо знать. Итак,
«личность» есть необходимая категория среди прочих.
Вера же заставляет утверждать, что фактически есть
только материя и материя управляет всем. Куда же девать
категорию личности? Ясно, таким образом, что
последовательный материалист, а в особенности диалектический
материалист (как не боящийся выводить любые
категории), должен понять материю личностно, с точки
зрения категории личности. Я уже указал, что это вовсе не
равносильно олицетворению или одушевлению материи.
Папоротник в мифе и в магии отнюдь не становится
чем-нибудь одушевленным, хотя только личностная его
интерпретация и может превратить этот чисто
ботанический экземпляр в достояние мифического сознания. Но и
помимо одушевления и персонификации материя, в
условиях личностной ее интерпретации, уже перестает быть
невинной логической категорией. Она становится безглазым,
черным, мертвым, тяжелым чудищем, которое, несмотря на
свою смерть, все же управляет всем миром. Материю
нельзя одушевлять. Но вероучение заставляет утверждать,
что ничего нет вообще, кроме материи. Если так, то ясно,
что материя есть смерть. Этим я не хочу сказать, что
материя как таковая, чистая материя есть смерть. Вовсе
ДИАЛЕКТИКА МИФА
125
нет. Я уже много раз говорил, что материя как таковая,
чистая материя есть только одна из самых обыкновенных
абстракций человеческого ума. Она не смерть, но некое
отвлеченное понятие. Однако же материалист ни в коем
случае не может и даже не имеет права говорить о материи
только как о таковой, т. е. только как об отвлеченном
понятии. Он должен его абсолютизировать, т. е.
представить в виде единственно возможного абсолютного бытия.
Но как только мы допустим это, так тотчас же материя
обращается во вселенское мертвое чудище, которое,
будучи смертью, тем не менее всем управляет. Позвольте, да
почему же «мертвое», почему «чудище»,— спросит
материалист. А потому, что мне некуда деть категорию
личности и категорию жизни. Ведь эти же две категории есть
совершенно неизбежное, совершенно естественное и, я бы
сказал, совершенно банальное достояние и всякого живого
опыта, и всякой диалектической мысли. Куда же мне деть
эти категории? Если бы вероучение материализма
допускало положить в основу бытия «жизнь» и «личность»,
тогда я не мог бы говорить ни о смерти, ни о чудище, но
тогда и материализм перестал бы быть материализмом.
Материализм же утверждает, что все в конечном счете
управляется материей и сводится на материю. В таком
случае все управляется мертвым трупом и сводится на него.
Тут, таким образом, центральный и основной объект
материалистического вероучения и чисто логическая
необходимость мыслить категорию «личности» и «жизни»>
ибо если я сказал «чудище» и «смерть», то этим я уже
использовал категории «личности» и «жизни». Тут с
полной убедительностью выясняется вся необходимость
понимать материализм именно как особого рода мифологию
и как некое специальное догматическое богословие. Тот
факт, что обычно материализм понимается иначе,
свидетельствует только о буржуазном индивидуализме и
либеральном субъективизме, который окончательно не
способен понять миф как объективную категорию и который
одинаково свойственен как обычным критикам
материализма, так и самому материализму
Мертвое и слепое вселенское чудище — вот вся
личность, вот все живое и вот вся история живой личности,
на которую только и способен материализм. В этом его
нолная оригинальность и полная несводимость на прочие
мировоззрения. Наука и научность не есть признак мате-
Α. Φ, ЛОСЕВ
126
риализма« Идеалисты тоже разрабатывают и создают
науку; и научность построений прельщает их не менее чем
материалистов. «Реализм», «жизненность», «практика»
и прочие принципы также не характерны для
материализма. Это — чисто религиозные категории; и всякий
религиозный человек также хочет утверждаться только на
подлинно реальном бытии, только на жизненном опыте, и
также запрещено ему быть простым теоретиком и
оставлять в небрежении практику, жизненное осуществление
его идеалов. Даже и призыв к земной жизни не
характерен для материализма, так как все язычество есть также
не что иное, как славословие земле, плоти, земным
радостям и утешениям, а язычество есть мистика. Единственное
и исключительное оригинальное творчество
новоевропейского материализма заключается именно в мифе о
вселенском мертвом Левиафане,— который — ив этом
заключается материалистическое исповедание чуда —
воплощается в реальные вещи мира, умирает в них, чтобы потом
опять воскреснуть и вознестись на черное небо мертвого
и тупого сна без сновидений и без всяких признаков жизни.
Ведь это же подлинное чудо — появление вещей из
материи. Возьмите несколько деревянных досок: ни на одной из
них нет ровно никакого признака стола. Как же вдруг
появляется стол или шкаф? Говорят,— из соединения
досок и палок. Но ведь «шкафности» не было ни в одной доске
и ни в одной палке. Как же она появилась из соединения
досок или палок? У вас в кармане нет ни гроша, и у меня
в кармане нет ни гроша: как же появится вдруг грош,
если мы соединим наши с вами карманы? Ясно, что
должно совершиться чудо. Материалисты верят в
чудесное, сверхъестественное воплощение — чуть-чуть только
что не отца, а пока только какой-то глухой и слепой
матери-матерш — воплощение в некое ясное и
осмысленное слово, в реальные вещи, причем материалистический
догмат требует, чтобы была «сила и материя», чтобы
было движение, а не просто мертвые вещи (некоторые
даже и материалистическую диалектику определяют как
науку об общих законах движения), подобно тому как и
в христианской религии воплотившееся Слово Божие
обещает ниспослать и ниспосылает «иного утешителя, Духа
Истины, который от Отца исходит», чтобы он сообщил
благодатные силы для жизни, проповеди, творчества и
«движения». Так материалистическое учение о материи, зако-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
'S '
127
нах природы (действующих в вещах) и движении есть
вырождение христианского учения о троичности Лиц
Божества и о воплощении Сына Божия,— вырождение,
которое, тем не менее, в такой же мере мифологично и
догматично, как и любая религиозная догма.
Я думаю, едва ли также стоит тут обнаруживать
буржуазную природу материализма. Материализм основан
на господстве отвлеченных функций человеческого
рассудка, продукты которого проецируются вовне и в таком
абстрактном виде абсолютизируются. В особенности
отвратителен, и сам по себе, и как обезьяна христианства,
тот популярный, очень распространенный в бездарной
толпе физиков, химиков, всяких естественников и медиков
«научный» материализм, на котором хотят базировать
все мировоззрение. Это даже не буржуазная, а
мелкобуржуазная идеология, философия мелких, серых, черствых,
скупых, бездарных душонок, всего этого тошнотворного
марева мелких и холодных эгоистов, относительно которых
поневоле признаешь русскую революцию не только
справедливой, но еще и малодостаточной. Научный позитивизм
и эмпиризм, как и все это глупое превознесение науки в
качестве абсолютно свободного и ни от чего не зависящего
знания, есть не что иное, как последнее мещанское
растление и обалдение духа, как подлинная, в точном
социологическом смысле, мелкобуржуазная идеология. Это
паршивый мелкий скряга хочет покорить мир своему ничтожному
собственническому капризу. Для этого он и мыслит себе
мир как некую бездушную, механически движущуюся
скотину (иной мир он и не посмел бы себе присвоивать); и
для этого он и мыслит себя как хорошего банкира, который
путем одних математических вычислений овладевает
живыми людьми и живым трудом (иное представление о себе
самом не позволило бы быть человеку материалистом).
Впрочем, предоставлю слово лицу, которое тоже очень
хорошо пережило это мещанское, мещански-научное «все
кругом»:
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно-рвущее, мел ко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Α. Φ ЛОСЕВ
128
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное.
Вечно лежачее, дьявольски-косное.
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное.
Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: все будет иначе.
(3. Гиппиус)
Это — лик всякого позитивизма, какими бы научными,
логическими, феноменологическими и философскими
доводами он ни пользовался.
7. Материализм, однако, не дал одну единую мифо-
лого-догматическую систему. Хотя материалисты и любят
ругнуть идеалистов за разнообразие и противоречие
взглядов, тем не менее эта ругань рассчитана на невежество:
настоящего идеализма мало кто у нас пробовал, а верить
в единство материализма можно заставить физически.
Тем не менее партий в материализме столько же, сколько
и в идеализме. Материализм дал целый ряд друг другу
противоречащих систем; и они вполне сопоставимы с
соответствующими системами христианского богословия.
Я не буду загромождать свое изложение сопоставлениями,
но одно такое сопоставление я нахожу уместным провести
и здесь. Именно, борьба в материализме «диалектиков*
с «механистами» есть не что иное, как борьба
православия с католичеством в христианстве по вопросу об
исхождении Св. Духа. Тот, кто хочет понять меня
обстоятельно, должен обратиться к другому моему труду, где
вопрос о Filioque я разрабатываю с необходимыми тут
диалектическими подробностями !, Здесь я могу быть
только очень и очень кратким.
Именно, католическое учение проповедует так
называемое Filioque, т. е. что Дух Св. исходит от Отца и Сына, в
то время как на православном Востоке учат, что Дух Св.
исходит только от Отца. Что заставляет католиков
рассуждать именно так? В указанном только что сочинении я
утверждаю, что исхождение от двух ипостасей
предполагает какое-то существенное тождество этих первых двух
ипостасей в одном из самых существенных пунктов.
Тождество это, однако, согласно общецерковному учению, не
1 Очерки античн. симв. и мифол. I. С. 858—866.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
<—I
129
может быть проведено до полного их слияния. Должна
уступить какая-нибудь из двух ипостасей. Если
представить себе, что первенство здесь принадлежит Отцу, то это
будет значить, что изводящее, порождающее, сверхсущее
начало будет выше слова, смысла, идеи, т. е. что момент
отцовства превратится в некий агностический принцип,
который дуалистически будет противостоять всему
осмысленному и оформленному. Если же в этом объединении Отца и
Сына будет превалировать вторая ипостась, в ущерб
первой, то это будет значить, что на первый план выпирается
оформленное, словесное, смысловое начало; и момент
порождающего, сверхсмыслового лона будет принижен и
отодвинут. Такую смысловую сферу, которая не уходит
корнями в сверхсмысловое лоно, называют
рационалистической. Итак, Filioque есть или агностицизм, или
рационализму возникающий на почве стремления усвоить человеку
самостоятельность его внутреннего субъективного
устроения и отнять ее у Бога, так что Божество, при всем своем
христианском противостоянии твари, необходимым
образом получает субординационную структуру, т. е. ту,
которая свойственна пантеистическим системам, где нет
раздельности твари и божества и где несовершенство твари
приходится обосновывать в самом божестве, делая в нем
иерархийные подразделения. Католицизм не есть, конечно,
пантеизм, но в своего не пантеистического Бога он вносит
пантеистическое строение, откуда и получается, что Дух
Св. ближе к твари и ниже первых двух ипостасей, так что
волей-неволей приходится производить дробление в
пресвятой Троице на первые две ипостаси, с одной стороны,
и на третью — с другой.
Итак, католицизм впадает в формально-логический
агностицизм, где есть сущность и принижено явление этой
сущности, или в рационализм, позитивизм, где есть
явление, но сущность не оплодотворяет этого явления, так что
оно превращается в мертвую схему. Ни там, ни здесь,
очевидно, нет, собственно говоря, и никакой сущности, и
никакого явления, и никакого проявления сущности. Этому
противостоит чисто диалектическая православная точка
зрения, которая 1. признает существенное своеобразие
каждой ипостаси, не внося никакого субординационизма
и признавая их абсолютно равночестными, и которая 2. в
силу этого своеобразия ипостасей утверждает, что Дух Св.
не может находиться в одинаковых отношениях и к Отцу и
5 А. Ф. Лосев
Α. Φ ЛОСЕВ
130
к Сыну. От Отца он «исходит», как и в физических вещах
их реальная жизнь зависит прежде всего от того, чем,
собственно, какою именно вещью является данная вещь. Но от
Сына Он не может исходить, так же как и в физической
вещи ее реальная жизнь не может зависеть от ее структуры
подобно зависимости от самой вещи. Лучше всего взять
аналогию с растением. Сказать, что реальная жизнь
данного растения зависит в одинаковой мере от семени и от его
анатомического строения,— можно, но только если не
придавать этим словам серьезного значения. Явно, что жизнь
исходит из семени и корней, а не от строения дерева, вернее
же от того жизненного заряда, который заложен в семени
Сказать же, что жизнь растения происходит как от семени,
так и от его структуры, это значит или принизить и лишить
субстанциальности структуру растения — тогда получится
агностический дуализм между самим растением и его
живыми силами,— или лишить субстанциальности эту самую
живую силу, и тогда — получается только одна
фактическая структура растения сама по себе, т. е. обнаружится
рационалистический механизм и позитивизм. Дух Св.
исходит от Отца. Но исходить от Сына значит исходить
из Слова, из Разума, т. е. это значит уже не просто
исходить, но выводиться, быть выведенным. Растение, конечно,
происходит из семени, но его невозможно разумно вывести
из него.
Когда современные «механисты» в споре с
«диалектиками» утверждают, что учение о несводимости всякой
разумной категории (напр., «жизни», «сознания», «понятия»
и т. д. и т. д.) на материю есть метафизика, т. е. нечто очень
плохое и дурное, то это значит одно из двух: или тут
принижается и уничтожается данная категория (напр., жизни) и
сводится на материальный, физический процесс (тогда это
явный агностицизм), или эта категория остается, но
остается так, что из нее выбрасывается всякое
самостоятельно осмысляющее начало и она превращается в
механическую схему (тогда это явный рационалистический
механизм). Как рассуждает «механист», напр. в биологии,
о «жизни»? Жизнь для него есть только совокупность
физико-химических процессов. Но это значит, что он просто
игнорирует жизнь, ибо всякий несумасшедший всегда
отличит живое от неживого: он просто отворачивается от
живой жизни; он, не умея ни видеть, ни разумевать жизни,
нигде даже не употребляет этого термина; он просто агно-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
l«àal
131
стик. Или же он берет жизнь во всем ее разнообразии, но
для каждой категории жизни им подыскано
физико-химическое объяснение; он —механист. Как видим,
агностицизм и механизм есть в сущности одно и то же,
несущественно различные моменты одной и той же системы. Иначе
рассуждают материалистические «диалектики». Они
утверждают, что все категории совершенно специфичны и
несводимы одна на другую. Так, процессы сознания вовсе не
суть физико-химические процессы, процессы жизни вовсе
не суть предмет физики или химии. Но все эти процессы,
конечно, происходят из материи; материя, а не что-нибудь
иное движет ими. Жизнь или сознание происходят, исходят
от материи, но они не исходят из материальных законов,
из самих материальных вещей. Жизнь и сознание исходят
из материи, но не выводятся из нее. Это и дает
возможность «диалектикам» избегнуть формально-логического
абсолютизирования механизма, который хотя и входит
целиком в систему диалектики, но который требует
добавления со стороны реальности понятий, уже несводимых на
механистическое бытие и требующих самостоятельного —
чисто диалектического — анализа. Принимая все это во
внимание, я совершенно серьезно утверждаю, что
«диалектики» — это православные материалисты, а
«механисты» — это католические материалисты.
8. Я приведу еще ряд примеров, где для всякого
непредубежденного взора очевидным оказывается
превалирование мифа над логикой и следование не мифа за логикой,
но логики за мифом, т. е. появление догмата.
I. Такова, прежде всего,— тоже «спорная» — антитеза
субъекта и объекта. Общеизвестна бешеная злоба
«субъективистов» против «объективистов» и
«объективистов» против «субъективистов». Существуют целые школы
и целые эпохи, с гордостью величающие себя то одним, то
другим из этих наименований. Нечего уж говорить о Канте,
Фихте и солипсистах. На наших глазах совершается
крайне озлобленное нападение «объективистов» на
«субъективистов». Так, в психологии разные «объективисты» цапали
на «субъективистов», поколотили их, выгнали из универси*
тетов и научных институтов и заняли их места. Во многих
местах и при многих обстоятельствах о субъекте нельзя
заикаться под страхом обвинения в бандитизме. Но
рассудим спокойно, а главное — диалектически, что такое
«субъект» и «объект» в их взаимоотношении.
5*
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 1
132
а) Субъект — есть ли нечто или ничто? Субъект есть
нечто. Существующее или несуществующее? Субъект есть
нечто существующее. Можно ли его мыслить и
воспринимать? Безусловно. Следовательно, субъект есть нечто
существующее, что можно мыслить и воспринимать. А это
значит, что он есть объект, ибо объектом как раз и
называется то, что существует и что можно мыслить и
воспринимать. Другими словами, нельзя быть просто
субъективистом. Допустим, что вы — солипсист, т. е. что существуете
только вы и больше ничего не существует, что все
остальное есть только ваше порождение. В таком случае вы и
будете тем самым единственным объектом, который
реально существует. Таким образом, утверждая, что
существуете только вы (а все остальное, по-вашему, есть только
порождение вашего субъекта),— вы только назвали себя
богом, а не субъективистом. Ваш субъект тоже реален и,
значит, есть объект. Если же вы не уверены, существуете
ли вы сами, то, следовательно, вы не уверены и в том, что
все вещи есть ваше порождение, т. е. вы тем самым не
уверены в своем субъективизме. А тогда вы не имеете права
опровергать объективизм.
б) Объект — есть ли нечто или ничто? Объект есть
нечто. Существующее или несуществующее? Объект есть
нечто существующее. Можно ли его мыслить или
воспринимать? Безусловно. Впрочем, будем осторожнее и
выслушаем придирчивого спорщика. Скажут: объект есть нечто
существующее, но его нельзя ни мыслить, ни
воспринимать. Хорошо. А когда вы говорите, что объект есть нечто
существующее, вы этим утверждаете что-нибудь или
ничего не утверждаете? Если ничего не утверждаете, то,
следовательно, вы молчите и я вас не слышу, т. е. мне
нечего вам ответить. Если же вы что-нибудь утверждаете, то,
значит, объект не только есть нечто сущее, но о нем можно
и мыслить и говорить. Итак, если объект есть нечто реально
существующее, то о нем можно нечто сказать и помыслить,
т. е. должен существовать (по крайней мере в
возможности) для такого объекта какой-нибудь, тот или иной
субъект. Допустим, что для объекта не существует никакого
субъекта. Это значит, что его никак нельзя ни
воспринять, ни помыслить. Но если о нем ничего нельзя ни
сказать, ни помыслить, то тем самым нельзя о нем сказать ни
того, что он объект, ни того, что он существует, ни того,
что он вообще есть нечто. Итак: или объект есть, тогда есть
ДИАЛЕКТИКА МИФА
[^—ш\
133
и субъект, или — для объектов нет субъекта, и тогда не
может существовать и никакого объекта.
Следовательно, с точки зрения подлинной диалектики
не может быть ни субъекта без объекта, ни объекта без
субъекта. Всякий субъект есть объект, и всякий объект есть
(по крайней мере в возможности) субъект. Все остальное
есть мифология. Страстность «субъективистов» и
бешенство «объективистов» объяснимы только при условии, что
тут действуют не-логические силы. Тут, конечно, чисто
мифологические страсти и страстное вероучение. Оно
неизменно стремится к догмату и скоро же и становится им.
II. Далее, если бы спорящие оби д е ал и зме и
материализме («реализме») были бы действительно
диалектиками, а не увлекались собственным мифолого-догмати-
ческим вероучением и богословием, то и спорить-то было
бы нечего. В самом деле, что такое «идея» и что такое
«реальность», «материя»?
а) Идея есть ли нечто или ничто? Идея есть нечто.
Идея есть нечто существующее. Если она не существует,
тогда не о чем говорить; и тогда никто не имеет права
сказать, что она есть нечто. Итак, идея есть нечто
существующее. Что же, «существобание» идеи отлично от самой идеи
или нет? Если бы «идея» ничем не отличалась от
«существования» или «бытия», то всякая вещь, уже по одному
тому, что она существует, была бы идеей или, по крайней
мере, идеальной. Итак, когда мы говорим, что идея
существует, мы «существование» отличаем от «идеи».
Следовательно: или идея не существует, т. е. не есть нечто, т. е. есть
ничто; или же она есть нечто и существует, но тогда она
требует (по крайней мере в возможности), чтобы она была
осуществлена и чтобы это осуществление было отлично от
нее самой, т. е. было не-идеально. Или идеи никакой нет,
или она есть, но тогда есть и вне-идеальная реальность
ее.
б) Реальное (материальное) есть нечто, и — нечто
существующее. Это значит, что ему свойственны какие-
нибудь признаки. Признаки — что-нибудь значат или
ничего не значат? Если ничего не значат, то, стало быть,
никаких признаков, в сущности, и нет. Если же они что-
нибудь значат, то — или существенное, или
несущественное. Если — несущественное, их можно отбросить. Если —
существенное, то это — те признаки, без которых реальное
не может существовать. Но совокупность существенных
Α. Φ. ЛОСЕВ
134
признаков чего-нибудь мы как раз называем идеей чего-
нибудь. Выбросим идею из реальной вещи: в ней не
останется ни одного существенного для нее признака. Можно
ли будет в таком случае утверждать, что эта вещь есть
действительно реальная вещь? Итак: или вещь,
реальность, материя — включают в себя несводимую на них
идею, вне-веще ст венную, вне-реальную и
вне-материальную; или не существует никакой вещи, никакой
реальности, никакой материи.
III. В таком же диалектическом взаимоотношении
находятся и понятия сознания и бытия. Правда, это
есть, в сущности, повторение антиномии субъекта и
объекта, но я хочу поговорить об этом ввиду той
страстности, которая обычно сопровождает лозунг «бытие
определяет сознание». Что значит это утверждение? Я не могу
сейчас обсуждать его полностью. Утверждение, где не
ясно, ни что такое «бытие», ни что такое «сознание», ни что
такое «определяет», очевидно, может быть или просто
отброшено без рассмотрения, или, наоборот, заслуживает
весьма длительного рассмотрения. Не делая ни того, (ни)
другого, я остановлюсь только на одном значении «бытия»,
которое чаще всего и имеется в виду защитниками этой
аксиомы. Именно, обыкновенно (далеко не всегда!) здесь
имеется в виду социальный порядок и даже более частные
его моменты. Итак, социальные отношения определяют
сознание. Спросим: а из чего составляются «социальные» и
даже производственные отношения? Не сами ли люди их
создают? Если производственные отношения создаются
людьми, то, значит, не только «бытие определяет
сознание», но и сознание определяет бытие. Если же
производственные отношения создаются не людьми, то, во-первых,
производственные отношения не суть социальные
отношения и уж тем более не могут обладать классовой
природой (тогда рушится марксизм до самого основания); во-
вторых же, сознание мыслится тогда как полная
пассивность и неспособность действовать и водворяется
антидиалектический, чисто фаталистический дуализм активных, но
бессмысленных, вне-сознательных вещей и сознательного,
но совершенно пассивного, бездеятельного и дубового
человека. Я уже не говорю о том, что если действительно
«бытие определяет человека», то невозможно не только то
активное переделывание жизни и мира, к которому
призывает революция, но невозможна и сама революция, кото-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
_ I—I
135
рая есть именно сознательное и активное действие
«сознания» на социальное бытие. Бытие определяет сознание: а
разве само сознание не есть бытие? Или оно
действительно не есть бытие,— тогда перед нами чисто кантовский
метафизический дуализм: с одной стороны —
субъективное сознание, которое не есть бытие; с другой — бытие и
«вещи-в-себе», о сознании которых ничего не известно.
Или сознание есть тоже бытие,— тогда сознание
«определяется» своим собственным бытием, т. е. законами своего
собственного существования; однако тогда против этого не
будет спорить ни один идеалист. О прочих значениях этих
неясных терминов «бытие», «сознание» и «определение» я
говорить не буду, потому что каждый из них имеет целые
десятки различных значений; и в зависимости от этих
значений по-разному должен решаться и вопрос о ценности
этого утверждения. Я хотел указать только на то, что чисто
диалектически нужно говорить: и «бытие определяет
сознание», и «сознание определяет бытие»; мифологически
же можно утверждать все что угодно. Это вопрос не
знания, но веры.
IV. Диалектически, предполагают друг друга
сущность и явление, а) Если сущность есть, она есть
нечто, т. е. имеет какой-нибудь признак, существенно
отличающий ее от всего прочего. Стало быть, она познаваема,
т. е. как-то является, проявляется. Или сущность есть,—
тогда есть и ее явление; или явления сущности нет, тогда
о ней нечего сказать, ни того, что она есть сущность, ни
того, что она вообще существует. Таким образом, кантов-
ская метафизика «вещей-в-себе» рушится при малейшем
прикосновении диалектики. Ь) Явление есть явление чего-
нибудь. Это что-нибудь должно быть отлично от самого
явления. Если оно не отлично, явление не есть явление чего-
нибудь, т. е. не есть вообще явление. Но если то, что
является, отлично от явления,— значит, оно не есть явление,
оно есть нечто, существующее само по себе, до явления и
без явления. А то, что существует само по себе, независимо
от своего явления, и есть то, что обыкновенно называется
сущностью. Стало быть, или явление есть явление
сущности, т. е. явление всегда предполагает неявляемую
сущность, или нет никакого явления вообще.
Кроме того, допустим, что есть только сущность и
больше ничего нет. Это значит, что сущность еще до перехода
в явление (ибо последнее, по условию, отбрасывается) ста-
А. Ф.ЛОСЕВ
I 1 .
136
нет нам как-то являться, раз мы о ней что-нибудь говорим,
напр. хотя бы то одно, что она есть именно сущность.
Другими словами, здесь сущность примет на себя функции
явления, как это и имеет место в новоевропейском
рационализме. Никак не являясь, сущность все же нечто говорит о
себе, каковое функционирование сущности, очевидно,
возможно только лишь как абстрактное понятие.
Представление мира в виде абсолютизированных абстрактных
понятий и есть новоевропейская рационалистическая
метафизика. С другой стороны, допустим, что существуют только
явления и больше ничего нет. Тогда явления, как
последнее самостоятельно-сущее бытие, и окажутся
сущностями, т. е. явлению приходится брать на себя функции
сущности. Это и случилось с материализмом. Материя, в
нормальном порядке бытия, не есть сущность, она есть
только реализация, осуществление сущности, а не сама
сущность. Тем не менее материалисты, вырвавши материю
из живой системы бытия, абсолютизировали ее в виде
единственно возможного бытия. Это привело только к
тому, что материя взяла на себя функции сущности и
заступила место не только абсолютных сущностей вообще, но
и самого источника этих сущностей, т. е. превратилась в
божество.
Никакая диалектика не может оправдать ни голого
спиритуализма, ни голого материализма. Они оправданы
только мифологически; и немифологическую видимость
они имеют только потому, что их берут обычно не на стадии
мифологии, но на стадии догматического богословия.
V. Мифологические же страсти заставляют бешенство-
вать вокруг проблемы душ и и тела. С жизненной точки
зрения, казалось бы, все совершенно ясно. Только
сумасшедший может стул принять за живое существо, а живое
существо за неодушевленный предмет. Тем не менее
многим очень хочется, чтобы не было ни в чем нигде никакой
души.
а) Тело — неодушевленно, но оно живет и движется.
Спрашивается: почему движется данная вещь или процесс
Л? Скажут: потому что его движет другая вещь или
процесс В. Хорошо. Но почему движется В? Потому что его
движет С. Но до каких же пор нам сводить одно движение
на другое? Его можно сводить или бесконечное, или
конечное число раз. Допустим, что бесконечное. В таком случае,
очевидно, мы никогда не дойдем до источника движения и
ДИАЛЕКТИКА МИФА
^ (—— | ^___^_____
137
не только не ответим на вопрос об этом источнике, но и
принципиально признаем, что такого ответа не может быть
(ибо, по самому смыслу бесконечности, <ни> мы и никто
другой никогда не сможет совершить бесконечное
количество сведений одного движения на другое). Однако
допустим, что необходимо сводить одно движение на другое
некое определенное конечное количество раз, чтобы получить
подлинный источник движения. А мы свели на В, В на С
и т. д. вплоть до X. В X мы, допустим, нашли достаточное
объяснение движения А. Что это значит? Это значит, что X
уже ниоткуда не получает толчка к движению и что оно,
следовательно, движет само себя. Но то, что движет
себя, всегда самодвижущее и есть душа. Следовательно,
или вы проповедуете абсолютный агностицизм и не знаете,
как объяснить движение вещи; или вы знаете, как
объяснить данное движение, но тогда где-то, когда-то, как-то вы
признали существование души. Отрицание
существования души есть, таким образом, просто диалектическое
недомыслие.
В особенности это проявляется у тех, кто отрицает
существование Бога. Если Бог не существует, то, очевидно,
мир движется сам собою. Исследуя тело А и его движение,
мы сводим его на В, В на С и т. д. и, наконец, получаем
сумму всех вещей, из которых состоит мир, сводя всякое
отдельное движение на мир как на общую первопричину
всякого отдельного движения. Но что это значит? Это
значит, что мир одушевлен, т.е. что существует особая
мировая Душа. Скажут: зачем — Душа, когда мир есть
тело? Если мир есть тело, и только тело, то мы ведь уже
признали, что тело и его движение, если их брать самими
по себе, отнюдь не объяснимы сами из себя. Из-за этого мы
ведь и стали «сводить» одно движение на другое. Какое
бы тело мы ни взяли, большое или малое,— движение его
все равно необъяснимо из тела же, если оно мыслится
неодушевленным. А мы исходим как раз из того, что всякое
тело, если его брать как тело, в чистом виде, есть именно
нечто неодушевленное. Мир как тело отличается от
падающего или летящего камня чем угодно, но только не
одушевленностью. Мир, в особенности с точки зрения
материалистов, есть только сумма разного рода камней,— не
больше. Следовательно, и в отношении целого мира (как
тела) необходимо должен подняться вопрос об источнике
его движения и жизни. Или его движение объясняется
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι — Ι
138
чем-нибудь иным, вне-мировым,— тогда существует Бог
как перводвигатель мира; или мир движет сам себя, есть
нечто самодвижущее, тогда он — не просто тело, ибо о теле
вы сами утверждаете, что оно неодушевленно и не может
двигать самого себя. Таким образом, материалист, если он
хочет быть действительно диалектиком, должен прийти или
к признанию бытия Божия, или к признанию Мировой
Души. Иначе — или материализм есть абсолютный
агностицизм, или в мире нет никакого движения и жизни.
Последние две возможности чаще всего и встречаются:
материалисты бывают или агностики и ничего объяснить не
умеют, или они, в глубине души и вопреки своим
словесным уверениям, исповедуют мир как вечную смерть, как то
огромное, вселенское дохлое чудище, о котором я говорил
выше и в котором действительно отпадает необходимость
объяснять какое-нибудь движение или жизнь.
Ь) Душа есть самодвижущее, она движет собою. Это
значит, что в ней движущий момент отличен от движимого,
что движущее имеет движимое как свой объект^ Другими
словами, душа всегда должна иметь тело. Или есть душа,
тогда есть и тело; или тела нет, тогда нет и никакой души.
Так как сейчас у нас мало охотников признавать душу в
ущерб телу, то я не буду развивать эту аргументацию.
Замечу только, что существует не только одно физически-
чувственное тело. И не только теософия и разные
«естественные» религии признают разные типы телесности, но
учение о разных типах телесности представляет и
неотъемлемую принадлежность христианства. Христос явился
ученикам по воскресении «дверем затворенным» (Иоан. XX,
19), и тем не менее тут же «Он показал им руки и ноги и
ребра свои» (20), а Фома даже касался ран Христовых
(27). В другой раз Иисус является посреди учеников так
внезапно, что ученики, «смутившись и испугавшись,
подумали, что видят духа» (Лук. XXIV, 37). Иисус опять
показывает им руки и ноги и говорит: «Это — Я Сам; осяжите
меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как
видите у Меня» (39), и даже принимает пищу (41—43).
Явно, что евангельская интуиция говорит здесь не просто о
физическом теле. Наконец, учение о воскресении плоти уже
с полной очевидностью говорит о разных типах тела. «Не
всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков,
иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела
небесные и тела земные: но иная слава небесных, иная зем-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 \
139
ных» (1 Кор. XV, 39—40). «Сеется тело душевное, восстает
тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное»
(44). Будущее тело будет «во еже быти ему сообразну телу
славы Его» (Фил. III, 21). «Создание от Бога имамы
храмину нерукотворенну, вечну на небесах в жилище наше
небесное облещися желающе» (2 Кор. V, 1—2). И т. д. Я
бы даже сказал, что ни один христианский догмат
невозможен без особой мистико-мифологической
натурфилософии. Вознесение Христа на небо, очевидно, возможно
только как результат некоего физического преобразования
Его тела. Преображение на Фаворе есть учение об умном
теле. Схождение Духа Св. в виде огненных языков также
возможно лишь благодаря особой организации
пространства и материи. Сюда же относятся такие факты, как
взятие на небо пророка Илии и Богоматери. Наконец, и сама
София, Премудрость Божия, есть также не что иное, как
особого рода тело.— Итак, душа и дух всегда
предполагают тело, так или иначе организованное.
VI Диалектически взаимонеобходимы
индивидуализм и социализм. Личность возможна только в
обществе, а общество возможно только как совокупность
личностей. Правда, личность есть не только элемент
общества и общество есть не просто совокупность личностей.
Тем не менее невозможна ни личность без общества, ни
общество без личности Потребности того и другого
одинаково естественны, законны и имеют право на
удовлетворение. Однако общеизвестно принесение как общества в
жертву личности, так и личности в жертву обществу.
Вызывается это, очевидно, отнюдь не диалектическими
соображениями.*
VII Свобода и необходимость — сфера, где
непрестанно упражняются разного рода
формально-логические, абстрактные метафизики, движимые
мифологическими страстями.
a) Допустим, что все обусловлено абсолютной
необходимостью, что нет ничего и никого свободного. В таком
случае эта всеобщая необходимость, как единственно
истинно-сущая, будет зависеть сама от себя. Но это
значит, что она и есть свобода. Зависеть только от себя
значит быть свободным.
b) Допустим, что все абсолютно свободно, что никто и
ничто ни от кого и ни от чего не зависит. Если все
является абсолютной свободой, то, в силу абсолютности,
Α. Φ. ЛОСЕВ
140
ничто не может выйти из пределов свободы, все абсолютно
зависит от этой свободы. Однако зависимость от чего-
нибудь есть необходимость. Абсолютная свобода есть,
таким образом, абсолютная необходимость. Оторвать одно
от другого может только не диалектическое, но
формальнологическое рассуждение, а для формально-логической
узости нужна особая, уже не-логическая
заинтересованность и подогретость.
VIII. Бесконечность и конечность, а)
Допустим, как это любят долбить мифологи определенной
секты, что мир бесконечен, и только бесконечен. Если что-
нибудь не имеет конца,— следовательно, оно не имеет
границы и формы. Если что-нибудь не имеет границы и формы,
это значит, что оно ничем не отличается от всего прочего.
Но если оно ничем не отличается от всего прочего, то,
следовательно, невозможно установить, существует ли оно
вообще или нет. Итак, если мир бесконечен, то это значит,
что ровно никакого мира не существует. Нигилизм Нового
времени так, в сущности, и думает. Восхвалять
бесконечность миров заставляло тут именно желание убить всякий
мир; и католичество, которое хотело спасти живой и
реальный мир, имело полное логическое право сжечь Дж. Бруно.
А уничтожать мир необходимо было тем, кто выставлял на
первый план свою личность. Как я уже имел случай
указать, субъективизм и механизм (нигилизм) есть одно и то
же. Раз все существенное перенесено в субъект, объекту
остается очень мало, и он теряет последнее свое
убежище — свое существование; отсюда — проповедь у всех
субъективистов и индивидуалистов бесконечности мира и
миров. Но так как изолированный индивидуализм и
субъективизм, перенесенный в социально-экономическую
сферу, создает буржуазную культуру и капиталистический
тип производства, то учение о бесконечности мира есть,
очевидно, типично либерально-буржуазная мифология. И
потому пролетарские идеологи, стоящие на точке зрения
бесконечности мира, или ничем не отличаются от
капиталистических гадов и шакалов, или отличаются, но еще им
неизвестно, чем, собственно, они отличаются. Тут — тот же
тупик, что и в вопросе о бытии Божием. С одной стороны,
официальная мифология требует, чтобы Бога не было. С
другой стороны, основным аргументом является здесь
тезис: «Наука доказала, что Бога не существует». Но —
1) наука всегда существовала и часто существует также и
ДИАЛЕКТИКА МИФА
, I \
141
у людей религиозных, так что если точно выражаться, то
надо говорить, что не наука тут причина, а один очень
специфический тип науки. 2) Всякое научное
доказательство предполагает весьма изолированную функцию
субъекта. Культурно-исторически это было возможно только
в возрожденческой культуре, т. е. в культуре по
преимуществу буржуазной. Атеизм, рационально
обоснованный, есть именно эманация капиталистического духа. С
пролетарской точки зрения отвлеченные идеи вообще
ничего не значат в истории. Поэтому опора на отвлеченное
научное доказательство есть всецело
либерально-буржуазный метод, и в устах пролетариев он весьма далек от
их подлинных мыслей.
Ь) Допустим, что мир конечен, и только конечен.
Если мир конечен, это значит, что существует его
определенная граница. Спрашивается: а что существует вне этой
границы и можно ли выйти за пределы этой
ограничивающей линии, если я буду продолжать двигаться дальше?
Если выйти за эти пределы можно, то ясно, что упомянутая
граница вовсе не есть последняя граница, т. е. не есть и
вообще граница, и за ее пределами мир продолжает
существовать,— причем одинаковое рассуждение надо
применить и ко всякому новому пункту, до которого мы
дойдем в своем движении за пределы мира, так что, в
сущности, граница будет все время ускользать и мир окажется
бесконечным. Если же выйти за пределы конечного мира
нельзя, а мы все еще продолжаем двигаться (ибо нет
никаких особых оснований думать, что двигаться
невозможно), то это опять значит, что граница мира
отодвигается вместе с нашим продвижением, τ е. что мир в
каком-то смысле бесконечен.
Итак, мир одновременно и конечен, и бесконечен.
Диалектик может рассуждать только так. Мифологи же давно
приучили всех наивно мыслящих мещан думать, что мир
или только бесконечен, или только конечен. О выходе из
этого формально-логического и
абстрактно-метафизического тупика я собираюсь говорить (если дадут) в особом
сочинении.
IX. Абсолютное мотносите льное. а) Говорят:
все относительно. Хорошо. В самом деле, все? И прошлое?
Отвечают: не знаем. Позвольте, раз вы не знаете,
относительно ли прошлое, вы не можете утверждать, что все
относительно. Ну, ладно, говорят, пусть и прошлое. И настоя-
Α. Φ. ЛОСЕВ
142
щее? И настоящее! И будущее? Да зачем вам будущее?
Позвольте, вы же говорите, что все решительно
относительно. Ну, хорошо, и будущее. Итак, все настоящее, все
прошлое и все будущее относительно. Относительность
господствует решительно везде. Но спросим еще: сама ли
по себе существует относительность, в некоем
недосягаемом за-умном бытии, ни на что не влияя и ничто не
предопределяя, или же она действительно реальное определение
вещей? Первая возможность, конечно, отпадает для того,
кто утверждает, что все относительно. Раз все
относительно, то, значит, относительность определяет собою все.
Итак, относительность есть то, что охватывает все
прошлое, все настоящее и все будущее, и (это) является
наиболее существенной и во всяком случае неотъемлемой ее
характеристикой. Позвольте, да ведь это же и есть
абсолютное. Абсолютное есть то, что все охватывает и все
предопределяет. Тут полное повторение антиномии свободы и
необходимости: нет ничего свободного, все — необходимо;
стало быть, сама необходимость свободна, ибо зависит от
себя. Нет ничего абсолютного, все относительно: это
значит, что абсолютна сама относительность. Или нет
никакой относительности,— тогда об абсолютном можете
говорить что угодно; или относительное действительно есть и
даже — допустим — только и есть относительное,— тогда
все абсолютно, и абсолютна, прежде всего, сама же
относительность.
Ь) Все — абсолютно, существует только абсолют. Но
быть — значит иметь какой-нибудь существенный
признак, а иметь признак — значит отличаться от всего
прочего и, прежде всего, от своего противоположного.
Абсолютное есть. Следовательно, оно нуждается для
своего бытия в ином, т. е. в не-абсолютном, т. е. в относи-
тельном. Или абсолютное есть, тогда необходимо
должно быть и относительное (в крайнем случае необходима
хотя бы его возможность). Или относительного ничего
нет, тогда нет и ничего абсолютного.
X. Вечность и время, а) Говорят: все временно и
нет ничего вечного. Позвольте, а может кончиться ваше
временное и ваше время? Или может, или не может.
Допустим, что время никогда не кончится. Так, значит, оно —
вечно? Тогда чего же вы врали, что всё временно? Но
допустим, что время может кончиться. Тогда, однако,
получается уже полный скандал: время кончилось, а наступи-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
<—^І
143
ло — нто? Наступило или опять временное, или
вне-временное. Если — опять временное,— значит, время вовсе не
кончилось; если — вне-временное, то как же вы
утверждали, что «нет ничего вечного»? Итак, или все временно,
но тогда есть и вечность и, прежде всего, само же время
вечно; или нет никакой вечности,— тогда нет и ничего
временного.
Ь) Все вечно, и нет ничего по существу своему времен-
ного; время есть только субъективная иллюзия. Вечность
существует. Чтобы существовать, надо отличаться от того,
что не есть вечность. Вечность, стало быть, предполагает,
если только она действительно есть, нечто не-вечное, от
чего она, чтобы быть, отличается. Но не-вечное есть
временное. След., вечность предполагает время. Однако
вечность охватывает все, что было, есть и будет; и, кроме нее,
ничего нет. Тогда — что же, кроме вечности, может быть
временным? Очевидно, временной может быть только сама
же вечность. Итак, время — вечно, а вечность —
временна.
XI. Ц е лое и част ь. а) Всякое целое делится на
части. Если целое есть только сумма своих частей, то это
значит, что нет никакого целого, ибо раз оно не содержится в
каждой отдельной части (а если бы содержалось, тогда
нечего было бы и говорить о сумме частей), то оно не
содержится и во всех вместе взятых частях. Следовательно:
или целое есть — тогда оно не делится на свои части; или
оно делится — тогда нет никакого целого.
Ь) Никакое целое не делится на свои части. Если целое
не делится, тогда в нем нет никакого различия. А если нет
различия, оно есть некая абсолютная единица. В таком
случае почему я должен считать ее целым?
Целое и делится, и не делится на свои части.
XII. Одно и многое. Все предыдущие антиномии, в
сущности, можно свести к этой одной, как к простейшей,—
которую можно формулировать и как антиномию бытия
и небытия, или сущего и не - су щего.
а) Одно, если только оно одно, ни от чего не
отличается и, след., не есть нечто, есть ничто. Если же оно —
нечто, оно требует для себя иного, т. е. не-одного, от чего
оно отличалось бы. Но не-одно есть многое. След., одно,
чтобы быть, нуждается во многом. Или нет никакого иного,
тогда нет и никакого одного; или одно есть, но тогда есть и
многое, А так как все есть именно одно и ничего, кроме
Α. Φ ЛОСЕВ
l^— 1
144
этого одного «всего», нет, то, след., не что иное, как именно
это же одно, и есть многое.
Ь) Многое, если оно только есть многое, не есть ни
в каком смысле одно, ибо иначе мы и не называли бы его
только многим. Но если многое не содержит в себе
никакого единства, тогда оно и не состоит из отдельных частей,
ибо каждая часть тоже была бы чем-то одним. Многое же,
которое не есть многое разных отдельных единиц и даже
никаких отдельных единиц в себе не содержит, очевидно,
вовсе не есть многое. Итак, если есть многое, то есть и одно;
а если нет одного, то и нет никакого многого. Таким
образом, ни монизм (голый), ни плюрализм (голый) не могут
быть оправданы чисто диалектически. Их оправдание —
в мифологии и в догматическом богословии.
9. Всех этих антиномий совершенно достаточно, чтобы
убедиться, как часто мы не видим мифа под системой
рассуждения, имеющей всю видимость науки, научности и
логической оправданности. Только потому не видно здесь
мифа, что эти учения уже давным-давно получили форму
догмата, а миф не есть догмат. Миф, говорили мы, всегда
личностен и историчен, догмат же живет абсолютизацией и
логикой. Миф есть непосредственно воспринимаемое лич-
ностно-историческое бытие; догмат же всегда есть научно-
диалектическая система или принцип ее. Поэтому я и
привел целый ряд таких примеров, где на первом плане их
логическая обоснованность и где обычно не видят никакого
вероучения и мифа. Проведение же четкой диалектики в
них как раз показывает, что это не только диалектика, что
миф с огромной силой врывается в сферу диалектики и
совершенно по-своему перераспределяет ее категории. На
приведенных примерах удобно учиться различать миф и
догмат, непосредственную веру и логическое знание,
сверхъестественное откровение и догматическое
богословие.
Итак, миф не есть догмат, но — история.
Энергичное, смысловое или феноменальное проявление и
становление бытия личностного в мифе есть становление
историческое. Короче: миф есть личностное бытие, данное
исторически.
X. Миф не есть историческое событие как таковое.
Легче всего понять историю как ряд фактов, причинно
связанных между собою. Для понимания мифа это дает
чрезвычайно мало. Факты сами по себе глухи и немы. Факты непо-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
. I I
145
пятые даже не суть история. История всегда есть история
понятых или понимаемых фактов (причем понятых или
понимаемых, конечно, с точки зрения личностного бытия).
В историческом процессе можно различать три слоя.
1. Во-первых, тут перед нами природно-вещественный
слой. История есть действительно ряд каких-то фактов,
причинно влияющих друг на друга, вызывающих друг
друга, находящихся во всестороннем пространственно-
временном общении. Кто-то воевал с кем-то, потом было
разрушение страны, потом случилась еще тысяча разных
фактов и т. д. Покамест история есть история этих фактов,
она вовсе даже не есть история. Это — сырые материалы,
которые, при условии внесения в них 13* каких-то
совершенно новых точек зрения, могут стать историческими
материалами. Все эти статистические таблицы и
процентные исчисления никакого отношения как таковые к истории
не имеют. Констатирование голых указов, распоряжений и
постановлений; исчисление количества и характера
податей или налогов; описание хода военных действий,
колонизации, всякого технического оборудования и пр. и пр.— все
это никакого отношения к истории не имеет, если эти
факты берутся как факты, даже пусть в их причинной
зависимости. История не есть природа и не развивается по типу
природных процессов. Природа гораздо абстрактнее,
проще и механичнее истории. И не история есть момент в
природе, но всегда природа есть момент истории. Ибо никто
никогда не воспринимает чистую, вне-историческую
природу. На ней всегда лежит густой слой интуиции данной
эпохи, и исключение их приводит не к природе как
предмету обычного человеческого восприятия, но к природе как
абстрактной формуле научной мысли. С такой формулой
имеем дело не мы, но лишь наш рассудок. И глупо ставить
рассудок в такое привилегированное положение, чтобы все
остальное перед ним смолкло. Скажут: не природа сама по
себе исторична, а наш субъект делает ее таковой, наделяя
теми или другими качествами, в зависимости от характера
эпохи, в которой живет этот субъект. Да ну будет вам
блудить языком. Субъект да субъект... Такое возражение
совершенно же неубедительно. Пусть это субъективно. Ну, а
что же в природе объективно? Материя, движение, сила,
атомы и пр.? Но почему же? Понятия о материи,
движении, силе и атомах так же меняются, как и все прочие наши
субъективные построения. В разные эпохи они совершенно
Α.Φ. ЛОСЕВ
-J' L,
146
различны. Так почему же тут вы не говорите о
субъективизме, а когда я заговорил о том, что природа — весела,
грустна, печальна, величава и т. д., вы вдруг обвиняете
меня в субъективизме? Вот тут-то и получается, что под
всяким таким «объективизмом» кроется собственное
вероучение, точнее, просто метафизические капризы и всякого
рода симпатии и антипатии. Кто во что влюблен, тот и
превозносит объективность соответствующего предмета своей
любви. Вы влюблены в пустую и черную дыру, называете
ее «мирозданием», изучаете в своих университетах и идо-
лопоклонствуете перед нею в своих капищах. Вы живете
холодным блудом оцепеневшего мирового пространства и
изувечиваете себя в построенной вами самими черной
тюрьме нигилистического естествознания. А я люблю не-
бушко, голубое-голубое, синее-синее, глубокое-глубокое,
родное-родное, ибо и сама мудрость, София, Премудрость
Божия голубая-голубая, глубокая-глубокая,
родная-родная. Ну, да что там говорить... Словом, история несводима
на природу; наоборот, сама природа делается понятной
только через историю. История — не просто факты, даже и
не просто факты, поставленные в причинную
взаимозависимость. На такой «истории» никакого мифа не построишь,
разве что пугало какое-нибудь...
«Заботится ли солнце о земле? Ни из чего не видно:
оно ее «притягивает прямо пропорционально массе и
обратно пропорционально квадратам расстояний»
Таким образом, первый ответ о солнце и о земле
Коперника был глуп.
Просто — глуп
Он «сосчитал». Но «счет» в применении к
нравственному явлению я нахожу просто глупым.
Он просто ответил глупо, негодно.
С этого глупого ответа Коперника на нравственный
вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и
опустошение Небес.
«Конечно,— земля не имеет об себе заботы солнца, а
только притягивается по кубам расстояний».
Тьфу!» (В. В. Розанов).
2. Во-вторых, поскольку история есть становление
фактов понимаемых, фактов понимания, она всегда есть еще
тот или иной модус сознания. Тут впервые проводится
резкая грань между природой и историей. Я не буду
опровергать бесконечных упреков в «субъективизме», «идеализ-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Г=П ■
147
ме», «метафизике» и пр. Это скучно. Кто не усваивает
«объективности» «сознания» и «понимания», тот напрасно
читает мои рассуждения и напрасно теряет время на
изучение проблем мифа и истории. Факты истории должны быть
так или иначе фактами сознания. В истории мы оперируем
не с фактами как таковыми, но с той или иной структурой,
даваемой при помощи того или иного понимания. Куча
фактов, из которых состоит, напр., эпоха культурного
перелома России в XVII в., должны быть осмыслены заново
так, чтобы получился действительно культурный перелом,
а не просто голые факты, как, напр., западная живопись в
боярских домах или немецкая слобода под Москвой. Все
эти факты как факты, сами по себе, совершенно ничего не
значат в смысле истории. Они должны быть обняты какой-
то общей концепцией, в них же содержащейся, но не
появляющейся из простой их суммы. Историческое зрение
обобщает эти факты и видит их in specie u*. Этот
подвижной «специес» и есть подлинный предмет истории.
Что он даст для мифа? Конечно, он несравним в этом
отношении с первым слоем. Если первый слой, можно
сказать, амифичен, то второй слой доставляет мифу его
фактический материал и служит как бы ареной, где
разыгрывается мифическая история. При его помощи мы можем
увидеть миф, увидеть подлинно исторические факты. Пока
мы находимся в первом слое, мы только анализируем
отдельные краски, которые ушли на изготовление картины,
холст, на котором она нарисована, химически и физически
анализируем все вещества, из которых состоит картина.
Этим мы еще даже и не прикоснулись к картине как
таковой. Но вот мы взглянули на картину как на нечто целое,
восприняли ее в единой концепции, увидели светотени,
краски, фигуры, забывши о химии и физике. Это значит,
что мы перешли ко второму слою. Аналогично, в
мифической истории мы тут начинаем видеть живых личностей и
живые факты; картина истории становится обозримым и
ощутимым целым. Уже перед нами не мертвый приказ или
указ, но его реально-историческая значимость, его
фактически бывшее воздействие на государственную и
общественную жизнь; не собрание мертвых документов и писем
данного государственного человека, но самый этот живой
человек, выразившийся в этих документах и письмах. Бить
по воздуху плетью — пустое и отвлеченное занятие; но,
напр., порка крестьян и рабов есть проявление конкретной
А.Ф.ЛОСЕВ
148
идеи, ибо тут—реальное общение личностей, понимаюг
щих друг друга. Существует, конечно, и разная степень
конкретности исторических идей. Сжигать людей на
кострах красивее, чем расстреливать, так же как готика
красивее и конкретнее новейших казарм, колокольный звон -г-
автомобильных воплей и платонизм— материализма.
Таковы «живописные» функции этого второго слоя историче
ского процесса
Но для мифа не только «исторична» история в
обыкновенном смысле. Исторична всякая личность, всякое личное
общение, всякая мельчайшая черта или событие в
личности. Особенно ярко ощущение универсального историзма в
христианстве. В язычестве, вырастающем на
обожествлении космоса, строго говоря, нет историзма 1 Языческий
платонизм — максимально аисторическая система. Тут
сама история и социология есть часть астрономии. В
христианстве, вырастающем на культе абсолютной Личности,
персоналистична и исторична всякая мелочь. И в
особенности опыт мистического историзма ощущается
христианским монашеством. Для монаха нет безразличных вещей
Монах все переживает как историю, а именно как историю
своего спасения и мирового спасения. Только монах есть
универсалист в смысле всеобщего историзма, и только
монах исповедует историзм, не будучи рабски привязан к
тому, что толпа и улица считает «историей». Он умеет
поставить свою личность и свои личные привязанности на
правильное место; и только монах один — не мещанин.
Только монах понимает правильно и достаточно глубоко
половую жизнь; и только он один знает глубину и красоту
женской души. Только он один ощущает всю глубочайшую
антиномию продолжения человеческого рода, которую не
знает ни блудник, ни живущий умеренной, «законной»
супружеской жизнью. Пишет величайший аскет, мировой
наставник монашества: «Некто поведал мне о необычайной и
самой высшей степени непорочности; он сказал: «Один [св.
Нон, еп. илиопольский; см. Четьи-Минеи 8 окт.], воззрев на
женскую красоту, прославил при сем Творца и от единого
взора погрузился в любовь Божию и в источник слез. И
чудно было видеть,— что для другого послужило бы рвом
погибели, то для него сверхъестественно стало венцом».
Таковой если всегда, в подобных случаях, имеет такое же
1 Это, между прочим, я показал в «Очерках». ! С. 792—794.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 \
149
чувство и делание,— еще прежде общего воскресения
восстал уже нетленным» 1. Может ли сравниться тонкость
чувств и глубина созерцания монаха с мещанством того,
что называется «мирской> жизнью? Может ли, кроме
монаха, кто-нибудь понять, что истинное монашество есть
супружество, а истинный брак есть монашество? Может
ли кто-нибудь увидеть историю, подлинную, настоящую
историю духа, со своими революциями и войнами,
неведомыми миру,— в блаженном безмолвии тела и души, в
тонком ощущении воздействия помыслов на кровообращение,
в просветлении мыслей во время поста и особенной,
невыразимой легкой тонкости тела, в сладости воздержания, в
благоуханной молитве отверстого сердца? Все бездарно в
сравнении с монашеством, и всякий подвиг в сравнении с
ним есть мещанство. Только ты, сестра и невеста, дева и
мать, только ты, подвижница и монахиня, узнала суету
мира и мудрость отречения от женских немощей. Только
ты, худая и бледная, узнала тайну плоти и подлинную
историю плотского человека. Только ты, больная и родная,
вечная и светлая, усталая и умиленная, узнала постом и
молитвой, что есть любовь, что есть отвержение себя и
церковь как тело. Помнишь: там, в монастыре, эта узренная
радость навеки и здесь, в миру, это наше томление.
Вижу я очи Твои» Безмерная»
под взором Твоим душа расплавливается...—
о, не уходи, моя Единая и Верная,
овитая радостями тающими,
радостями, знающими
Все.
И это — история, живая, трепещущая радость и боль
исторических судеб... Но — не забудем — это история
мифов, история для мифического субъекта, мифическая
история и судьба бытия. А ведь по-вашему же миф есть
выдумка, не правда ли? Ну, так вам и беспокоиться нечего... Вы
думаете, другие «исторические» мифы более безопасны или
не столь ответственны? Вот, пожалуйста. Однажды я
обратил внимание на то, что умирающие за несколько минут,
часов (а иногда и дней) вдруг вперяют взор в
какую-нибудь точку пространства, явно не могущую, в обычных
условиях, быть предметом столь напряженного
фиксирования. Иногда на лице умирающего появляется при этом
1 Пр. о. н. Иоанна Лествица. С. 140.
А. Ф.ЛОСЕВ
Ι—I
150
выражение ужаса, как бы при виде каких-то страшных
чудовищ. Иной раз лицо умирающего выражает светлую
радость, мир, тихую и облегченную улыбку. Иной раз лицо,
при всем удивлении, которое оно выражает, остается
холодным, тупым и безразличным. За ничтожным
исключением, умирающие решительно ничего не хотят рассказать
об этом, несмотря на настойчивые вопросы. Установивши
этот факт и сделавши само собой напрашивающееся здесь
обобщение, я с тех пор, в течение вот уже нескольких лет,
всегда расспрашиваю об этом напряженном и
неожиданном взоре умирающего у близких родственников того или
другого умершего, присутствовавших при его кончине.
Исключений из своего наблюдения я почти не встречал;
были только сомнительные или неполные сведения, но на-
стоящихисключений не вспомню. Ну, и что же вы скажете?
Не реальная история личности, не мифическая судьба
личности? Будет вам.
3. Однако, в-третьих, исторический процесс
завершается еще одним слоем. Мало того, что история есть
некое становление сознания или предмет какого-нибудь
возможного или действительного сознания. История есть сама
для себя и объект и субъект, предмет не какого-то иного
сознания, но своего собственного сознания. История есть
самосознание, становящееся, т. е. нарождающееся,
зреющее и умирающее самосознание. Это диалектически
необходимый слой исторического процесса. В истории мы
ведь находим не просто мертвые факты и не просто кем-то
со стороны познаваемые и понимаемые факты. История
есть еще история и самосознающих фактов. Она есть
творчество сознагельяо-выразительных фактов, где отдельные
вещи входят в общий процесс именно выражением своего
самосознания и сознательного существования. Но что та
кое творчески данное и активно выраженное
самосознание? Это есть слово. В слове сознание достигает степени
самосознания. В слове смысл выражается как орган
самосознания и, следовательно, противопоставления себя всему
иному. Слово есть не только понятая, но и понявшая себя
саму природа, разумеваемая и разумевающая природа.
Слово, значит, есть орган самоорганизации личности,
форма исторического бытия личности. Вот почему только здесь
исторический процесс достигает своей структурной
зрелости. Без слова история была бы глуха и нема, как картина,
которая хотя и хорошо написана, но никому ничего не гово-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
151
рит, ибо и нет никого, кто бы мог ее воспринять. Картина
должна заговорить подлинным живым языком, и ее кто-то
должен услышать. История должна быть не просто
«живописью», но и «поэзией». Она должна рождать не просто
образы и картины фактов, но и слова о фактах. И тут мы
находим подлинную арену для функционирования
мифического сознания. Мифическое сознание должно дать слова
об исторических фактах, повествование о жизни личностей,
а не просто их немую картину. Миф — «поэтичен», а не
«живописен». Без «поэзии» — точнее говоря, без слова —
миф никогда не прикоснулся бы к глубине человеческой
и всякой иной личности. Он был бы связан навсегда
созерцательно-пластическими формами и никогда не смог бы
выразить того, на что способно только слово. Слово —
принципиально разумно и идейно, в то время как образ и
картина принципиально созерцательны, зрительны, и
«идею» дают они только постольку, поскольку она
выразима в видимом. Миф — гораздо богаче. Его
«чувственность» охватывает не только вещественно-телесные, но и
всякие умные формы. Возможен чисто умный миф, в то
время как для «живописи» это было бы в лучшем случае
бессильной аллегорией.
Итак, миф не есть историческое событие как таковое, но
о«15* всегда есть слов о. А в слове историческое событие
возведено до степени самосознания. Этой установкой мы
отвечаем на вторую из предложенных выше апорий
(относительно формы проявления личности в мифе). Личность
берется в мифе исторически, а из ее истории берется вся
словесная стихия. Это и есть разъяснение того, как
личность проявляет себя в мифе.
Кратко: миф есть в словах данная личност-
на я история.
XI. Миф есть чудо. 1. Мы пришли к весьма странному
и подозрительному выводу. Наша формула, по-видимому,
уничтожает всякую грань между мифом и самой
обыкновенной историей, точнее — биографией, или описанием тех
или иных эпизодов из жизни того или иного человека.
Правда, наша формула не так уже проста. Она получена в
результате длинного анализа весьма сложных понятий —
символа, личности, истории, слова и проч. Поэтому
простота ее заключается только в общераспространенности и
обывательской популярности употребленных тут
терминов. Однако термины эти даны не в том спутанном и темном
А. Ф.ЛОСЕВ
J»^—I
152
значении, в каких употребляет их некритическое сознание,
но феноменологически выявлены все их основные моменты
и отграничены от соседних и путающих дело областей. При
всем том, однако, встает неумолимый вопрос. Пусть миф —
история; пусть он — слово; пусть им наполнена вся наша
обыденная жизнь. Все это не может нас убедить в том, что
в мифе нет ничего особенного, что миф — это и есть только
история и биография, та самая история и биография, как
это понимается всеми обычно. Однажды (выше, с. 75—76)
мы уже встретились с таким широким понятием мифа; и его
пришлось, в сущности, отбросить, потому что миф,
понимаемый просто как интеллигентный символ, совершенно
неотличим, напр., от поэзии. Уже там нами было указано,
что есть еще узкое и более специфическое понятие мифа,
именно то, когда гоголевский Хома Брут скачет не на
лошади, даже не на свинье или собаке, а не больше и не
меньше как на ведьме или она на нем. Это привело нас к
констатированию в мифе какой-то особой отрешенности. Но
то, что мы до сих пор говорили об этом понятии, все еще
продолжает быть недостаточным. Отрешенность можно
понимать как отрешенность от абстрактно-изолированных
вещей. Это, конечно, не есть подлинная мифическая
отрешенность, ибо и все решительно вещи живого
человеческого опыта даны в таком отрешении. Отрешенность
можно понимать поэтически — как отрешенность от вещей
вообще. Это тоже пришлось отвергнуть, ибо миф
совершенно не выходит из сферы вещей, и даже наоборот,—
вращаясь в личностной стихии,— он с особенной силой
опирается на вещи, на всякую осуществленное^, хотя и
понимает ее глубже, чем обыкновенные физические вещи
Что же теперь получается? Пока у нас не вполне
сформировалась идея личности, мы могли не ставить окончательно
вопроса о мифической отрешенности. Чтобы отграничить
миф от поэтического образа, достаточно было просто
указать на факт необычности и как бы сверхъестественности
его содержания; и этим область мифа отмежевывалась от
поэзии довольно просто, не говоря уже о том, что миф
веществен, поэзия же — «незаинтересованна». Покамест
мы говорим об отношении мифа к вещам вообще,
достаточно было опять-таки этого же указания; и — делалось
ясным, что мифический факт и мифическая вещь есть вид
фактов и вещей вообще. Этим вполне рисовалась его
фактичность и вещность, а больше ничего и не надо было в
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I 1 .
153
соответствующих отграничениях. Но вот оказалось, что
миф есть личностное бытие, что он — историческое бытие,
что он — слово. Оказалось, что миф есть самосознание.
Раз миф есть самосознание, то в нем необходимым образом
должна содержаться в сознательной форме та
отрешенность, которая для него специфична. Миф есть слово: это
значит, что он должен высказать, в нем именно
заключается его отрешенность; отрешенность должна быть
выражена и выявлена, высказана. Отграничивая миф от
метафизического построения, мы указали, что
«сверхъестественный» момент если и содержится в мифе, то не мешает
его телесности и вещественности. Приравнивая миф
символу, мы показали, что отношение «естественного» и
«сверхъестественного» в мифе надо мыслить
символически, т. е. нумерически едино, как одну вещь. Но что это
такое за «сверхъестественное» по своему существу,— этого
мы не решали, ограничиваясь более или менее
неопределенными характеристиками, вроде «необычное»,
«странное» и т. д. Теперь миф превратился для нас в сознательно-
личностно-словесную форму, развертывающуюся к тому
же исторически. Это значит, что мы не можем теперь
отбрасывать это «необычное» и «странное» в сторону,
ограничиваясь простым его констатированием. Личность,
история, слово — этот ряд понятий привел нас к необходимости
создать такую категорию, которая бы охватила сразу и
этот ряд, и то самое «сверхъестественное»,
«необыкновенное» и пр., охватила в одной неделимой точке так, чтобы
и эта последняя, вся эта не-вещественная, не-метафизиче-
ская, не-поэтическая, а чисто мифическая отрешенность
объединилась бы в единый синтез с явленностью, с
символом, с самосознанием личности, с историческим событием и
с самим словом — этим началом и истоком самого
самосознания. Это значит, что мы приходим к понятию чуда. Миф
есть чудо. Вот эта давно жданная и уже окончательная
формула, синтетически охватывающая все рассмотренные
антиномии и антитезы. Всмотримся в это сложное понятие.
2. Тут же накопилось много предрассудков,— больше
даже, чем в других областях, связанных с мифом.
Практики-этнографы и ученые-мифологи почему-то считают это
понятие совершенно ясным и обыкновенно не дают себе ни
малейшего труда, чтобы его выяснить. Философы считают
себя выше этого понятия и относятся к нему с презрением.
Богословы кое-что говорят, но говорят или апологетически,
Α. Φ ЛОСЕВ
154
что для нас в данном случае бесполезно, ибо нам хочется
выяснить самое понятие, а не защищать его или
опровергать, или говорят в стиле научного позитивизма,
соблазняясь «прогрессом» в науке и наивно думая, что религию
как-то можно помирить с этим «прогрессом». Ни
этнографы, ни философы, ни позитивистически настроенные
богословы нам не помогут, и нам придется в этом вопросе
искать собственных путей.
a) Наиболее распространенное учение гласит, что чудо
есть вмешательство высшей Силы или высших сил, и
притом особое вмешательство. Этот взгляд требует уточнения
и раскрытия. Не забудем, что мы имеем в виду все время
исключительно мифического субъекта, а не нас самих или
кого бы то ни было другого. Необходимо решить вопрос,
что такое чудо с точки зрения самого же мифического
сознания. Конечно, говоря вообще, для мифа чудо есть
вмешательство высших сил. Но, во-первых, с точки зрения
мифа вообще ничего не существует без вмешательства
тех или других высших сил. Раз мы уже заговорили о мифе-
чуде, то с этой точки зрения чудо творится непрерывно и
нет вообще ничего не-чудесного. Так, если взять
христианскую мифологию, то творение мира есть величайшее чудо,
искупление — величайшее чудо, рождение, жизнь и
смерть человека — сплошное чудо, не говоря уже о такой
мифологии, как мифология Богоматери, Воскресения,
Страшного Суда и т. д. Спрашивается: что же такое
является тогда чудом, если не-чуда вообще никакого нет,
если вся мировая и человеческая жизнь, со всеми ее
мелочами и подробностями, есть сплошное чудо? Явно, что
взгляд на чудо как на вмешательство высших сил,
собственно говоря, не выдерживает никакой критики.
Во-вторых, говорят, что это есть особое вмешательство.
Но тогда какое же} Пожалуй, если иметь в виду самого
мифического субъекта, то действительно чудо
переживается им как особое вмешательство. Но этого очень мало.
Тут неясен самый принцип, по которому данное событие
трактовано как особое; и неясно, что именно вмешивается.
Чудо переживается совершенно специфически; и простым
указанием на «особое» тут ничего нельзя поделать, как и
нашими предыдущими общими квалификациями
«необычное», «странное» и т. д. Специфичность чуда должна быть
выявлена как таковая.
b) Другое воззрение гласит, что чудо есть нарушение
ДИАЛЕКТИКА МИФА
, I I , ,
155
законов природи и прорыв в общем течении
механистической Вселенной. Если угодно, это воззрение можно
объединить с первым и трактовать его как уточнение первого
Тогда получится, что чудо есть акт вмешательства высших
сил, нарушающий механистическое протекание явлений
Это решительно противоречит феноменологии чуда
Во-первых, тут опять вносится точка зрения, чуждая
самому мифическому сознанию. Именно, чудо есть
нарушение законов природы, если к нему и к ним подходить с
точки зрения механистической науки XVII—XIX вв. Такая
условность, однако, не только не обязательна, но она в
корне пресекает самую возможность существенного вскры
тия понятия чуда. Мало ли как кому представляется чудо!
Да что такое чудо само-то по себе,— для того, кто живет
этим чудом, для того, кто его берет именно как таковое, для
кого чудо есть именно чудо, а не что-нибудь другое? А
для такого субъекта, я берусь это утверждать с полной
научной достоверностью, чудо вовсе не есть нарушение
законов природы. Не нарушение законов природы есть чудо,
а, наоборот, установление и оправдание, их осмысление. С
точки зрения мифического сознания чудо-то и есть
установление и проявление подлинных, воистину нерушимых
законов природы.
Во-вторых, что такое нарушение законов природы?
Самое дикое и первобытное сознание оперирует с понятием
чуда, или не имея ровно никаких представлений о законах
природы, или имея их в таком виде, что их не приходится
принимать во внимание. Тут опять все то же проклятие
гетерогенных привнесений, когда люди никак не могут не
обозревать весь мир со своей собственной колокольни и
когда дальнозоркость простирается не дальше
собственного носа
В-третьих, даже если иметь в виду эпохи развитого
представления о законах природы, то и тут возникает ряд
трудностей, если чудо понимать как нарушение этих
законов.— а) Сами эти законы отнюдь не имеют для самой же
науки никакого абсолютного значения. Можно
интерпретировать и даже использовать науку с целью пропаганды
некоего обожествления и абсолютизации отвлеченных
принципов и гипотез. Но это само будет уже мифом. Вера во
всемогущество науки, конечно, есть не более как одна из
форм мифического сознания. В самой науке отнюдь этого
не написано. Выведенный закон падения тел есть для науки
Α. Φ. ЛОСЕВ
только гипотеза, а не абсолютная истина; и завтра этот
закон, может быть, станет иным, если только вообще он
будет существовать, если будет завтра падение тел и если;
наконец, будет самое «завтра». Я, например, сказать по
совести, нисколько не убежден в том, что «завтра»
обязательно будет. Ну, а что же будет, спросят. А я почем
знаю! Поживем — увидим, если будет кому и что видеть.
Итак, нельзя говорить, что чудо есть нарушение законов
природы, если неизвестно, какова степень реальности
самих законов. Со строго научной точки зрения можно
только сказать, что сейчас обстоятельства, опытные и
логические, таковы, что приходится принимать такую-то
гипотезу. Больше ни за что поручиться нельзя, если не хотите
впадать в вероучение и в обожествление отвлеченных
понятий. А самое главное, ничего больше этого для науки и не
надо. Все, что сверх этого, есть уже ваши собственные
вкусы.
β) Далее, допустим, что законы природы существуют,
со значением ли только гипотез или со значением каких-то
реальностей, абсолютных или относительных. С точки
зрения мифического сознания они тоже суть проявление
высших сил. Почему проявление высших сил должно
обязательно вносить в явления сумбур и неожиданный хаос, а не
порядок, законосообразность и строй? Почему законы
природы сами не суть проявление высших сил? Ведь наука
устанавливает лишь некоторые формулы и положения,
которые сами по себе вовсе еще не суть ни вещи, ни силы. Они
осуществляются на вещах и в движении. Но если нет
вещей, или движения, или сил вне этих формул, то сами эти
формулы из себя не породят ни того, ни другого, ни
третьего. Значит, механизм науки сам по себе ничего не
говорит о природе в ее реальности: напр., никакой закон
природы ровно ничего не может сказать ни о создании
природы и мира, ни об их гибели или кончине, т. е. он исходит
из того, что мир уже как-то есть, и в этом мире он как-то
находит себе приложение. А был ли, будет ли дальше и,
собственно говоря, есть ли сейчас доподлинно этот мир,—
об этом наука ничего не знает. Отсюда ясно, что
мифическое сознание имеет полное логическое право при
существовании самых точных законов абсолютного механизма
утверждать, что реально осуществленные механические
законы есть проявление высших сил, что, поскольку сами
законы суть только формулы, а не вещи, можно и нужно в
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I [
157
вопросе о самих вещах, подчиняющихся этим законам,
говорить о высших силах или вообще где-то и как-то искать
причин для закономерно протекающих вещей. Что законы
природы суть законы природы, в этом ничего странного
нет. Логически вывести одно из другого — принципиально
можно и без всякого чуда. Но когда оказывается, что это не
просто логический вывод, а что вся Вселенная движется и
существует по этим законам, то тут уже получается что-то
странноватое. Вот это фортепиано кто-то сделал, эти полки
для книг кто-то сделал: как же, рассуждает мифическое
сознание, Вселенную-то, которая бесконечно сложнее и в
то же время точнее и фортепиано, и книжных полок, вдруг
совершенно никто не сделал и она получилась как-то так,
неизвестно как? Ясно, следовательно, что для мифического
сознания миф не есть нарушение законов природы уже по
одному тому, что сами законы природы, если их брать как
реально-вещественные законы, суть тоже проявление
высших сил и, стало быть, нечто мифическое.
γ) Наконец, сторонники учения о чуде как о нарушении
законов природы смешивают чудесность как таковую с
научным объяснением чуда. Получается так, что чудо или
есть нарушение законов природы, или оно вообще ничто.
Чудо или не объяснимо законами природы (тогда оно —
именно чудо), или объяснимо ими (тогда оно — не чудо, и
вообще никакого чуда нет). Это — устаревшая точка
зрения старой рационалистической метафизики. Заметим
пока, что и само механистическое мировоззрение есть плод
метафизического дуализма картезианской школы, по
которому субъект и объект разделены раз навсегда
непроходимой пропастью: субъект ни в каком смысле не есть
объект, а объект ни в коем случае не есть субъект,
откуда — субъект мыслится как чистое мышление, а объект —
как чистое протяжение, механизм. Все это есть продукт
либерально-буржуазной, капиталистической культуры.
Для философии, которая знает объединение и синтез
субъекта и объекта, объект никогда не будет чистым
механизмом. Он всегда будет содержать в себе черты субъекта,
сознания, души, цели; и «механизм» будет хотя и вполне
реальной, но в то же время только вполне подчиненной
категорией, не единственной и не абсолютной. Итак,
абсолютно механистическое мировоззрение есть вредная
рационалистическая и дуалистическая метафизика,
печальный плод господствовавшего в течение веков мертвого
Α. Φ ЛОСЕВ
I
158
ныне либерализма, политического, философского и
религиозного. Но если так, то что значит «объяснить» чудо
«законами природы»? Конечно, прежде всего, это значит
объяснить его как естественный результат механизма
явлений, как одно из колесиков общей мировой машины.
Однако ясно, что это далеко еще не значит объяснить чудо
целиком. Будем помнить, что чудо есть явление социальное
и историческое, законы же природы суть установки и
явления механические. Закон природы ровно ничего не говорит
об абсолютной реальности протекаемого явления. Он как
бы говорит: если есть камень, если есть земля, если камень
выше поверхности земли и если, наконец, этот камень
падает, то — вот как он падает. Ну, а что если нет ни камня,
ни земли, ни падения? Тогда закон падения остается
отвлеченной формулой, ничего не говорящей ни о каком бытии.
Затем, для того чтобы закон отражал действительно
реальный процесс, необходима не только пространственная
определенность данного явления, но точное указание
времени, когда именно началось падение. Законы падения тел
ничего не говорят не только о пространстве или месте
данного явления; но также и о времени, когда это падение
фактически было, в нем нет ровно никакого суждения. Миф —
полная противоположность этого. Миф говорит именно о
данном явлении, об его пространственном начале и конце,
т. е. объеме, и об его временном начале и конце, т. е о
времени, когда оно началось, возрастало, умалялось и умирало.
Поэтому механистическое объяснение чуда вовсе ничего
существенного в нем не объясняет. Вот шел человек по
улице; и сорвался с постройки огромный камень, который
попал ему прямо в голову и умертвил его. Что, этот камень
падал по законам механики? Несомненно. А то
обстоятельство, что он упал именно в этот момент, зависит ли от тех
или иных законов физики и механики? Безусловно. А что,
шедший человек — шел как автомат и механизм и не мог
не идти именно так? Допустим даже и это. И что же? И вот
все-таки непонятно, почему же это вдруг так случилось.
Представим себе, что человек в этот день не шел бы мимо
роковой постройки. Нарушились бы тогда законы
природы? Вовсе нет. А смерти бы тоже не произошло. Ясно,
что с точки зрения законов природы совершенно все равно,
будет ли этот человек задавлен камнем или нет, ибо,
повторяю, законы природы суть установки
абстрактно-механистические, и они ровно ничего не говорят ни о какой реаль-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 I
159
ной истории, и в частности об истории их собственного
применения к тем или другим фактам или временам. За·
коны природы ничего не говорят о направлении своего
приложения и применения. Они — аисторичны. Возьмите
методы вычисления затмений Солнца и Луны в астрономии.
Они — совершенно точны. Но чем достигаются и что
обязательно предполагают эти вычисления? Они обязательно
предполагают, что картина неба в данный момент именно
такова. Зная, что небо сегодня, т. е. такого-то года, месяца,
числа, часа, минуты и секунды, имеет такой-то вид, я могу
с точностью вычислить, когда будет следующее затмение
Солнца и Луны. Но откуда я знаю картину неба сегодня?
Отнюдь не иэ науки, а из наблюдения того, что дано само
по себе, до всякой науки, и установлено вовсе не наукой.
В научных законах как таковых ничего не сказано о том,
каково небо будет 1 января 1928 г. в 12 час. ночи в Москве.
Стало быть, в предсказание будущих явлений природы
входит не просто одна наука, но и еще момент абсолютной,
до-научной и вне-научной данности, научно необъяснимой
и загадочной. И оказывается, что наступление или
ненаступление данного явления во всей его реальности зависит
как раз от этого абсолютного положения в абсолютной
системе мира, научно неопределимой. Стало быть, младенцу
ясно, что объяснение механистическое, т. е. вскрытие тех
или других законов природы в данном чудесном явлении,
ровно ничего не дает в смысле объяснения самого чуда.
Пусть слепой прозрел и это считается чудом. Чудесность
этого явления заключается вовсе не в том, что тут
нарушены законы природы. Пусть в данный момент неизвестно,
от каких причин слепой прозрел. Но принципиально такие
причины обязательно должны быть, и наука рано или
поздно их откроет. Раз это произошло реально, с реальным
органом зрения, тут не могло не быть какого-нибудь реально
же телесного фактора и причины, приведших человека к
видению. И в то же время самое точное, яснейшее
представление о механизме данного явления ровно ничего не
объясняет ни в чуде, ни вообще ни в каком историческом
явлении. Если бы слепой не прозрел — законы природы не
нарушились бы. Попадет ли завтра земля в какую-нибудь
комету или не попадет, воспламенится она или нет,— это
ровно ничего не говорит ни о каких законах природы. И то
и другое будет обязательно по законам природы. Итак,
чудо — вовсе не в том, что законы природы нарушены
Α. Φ. ЛОСЕВ
160
или что оно не объяснимо средствами науки. Явление,
совершенно точно вытекающее из системы мирового
механизма, может быть иной раз гораздо большим чудом, чем
то, о котором неизвестно, какому механизму и каким
законам природы оно следует.
3. Существует еще целый ряд теорий чуда, но почти все
они страдают болезнью гетерогенных привнесений,
заменяя анализ самого понятия выставлением собственного
отношения к этому понятию. Такова старая теория,
основанная на толковании чуда как веры в единообразие и
гармонию Вселенной, веры, вступившей на ложный путь.
Людям хочется объяснить необычные вещи какими-нибудь
более общими явлениями, и для этого они выставляют
понятие чуда. Но — правильно это или нет — таковое
рассуждение, очевидно, есть рассуждение европейского
ученого, а не самого мифического субъекта, который, прежде
нем объяснять, видит самое чудо воочию. Этим же
основным недостатком страдает и теория Вундта, который
понимает чудо как продукт первобытного анимизма и как
перенесение собственных волевых переживаний на
объекты природы и религии. Опять-таки, даже если это так, то —
при условии оценки чуда со стороны; сам же субъект,
видящий и переживающий чудо, вовсе не думает, что именно
он нечто от себя переносит на объект. Этот субъект вполне
убежден вобратном, в том, что сам он есть объект
чудесного воздействия, что не от него исходит чудо, но что он
сам не может не признать чуда как объективного явления,
что чудо прямо насильственно врывается в его душевный
мир и повелительно требует своего признания. Совершенно
беспомощна также теория внушения, думающая
объяснить чудо теми или другими состояниями психики того,
кто является объектом чудесного воздействия, или
формами взаимоотношения тех или других психических
состояний. «Ученый», видящий в чуде только одно «психическое
внушение», ни слова не говорит о самом предмете, а его
высказывание имеет только значение ругани и беспомощного,
озлобленного междометия. Пусть чудо есть результат
гипноза; пусть это есть даже просто сумасшествие. Но что это
дает в смысле научного анализа данного понятия? Ведь
младенцу же известно, что сумасшедшие бывают разные,
что одно сумасшествие не похоже на другое. В чем же спе-
цификум того сумасшествия, которое именуется верой в
чудо? Все равно ведь от этого вопроса не улизнуть. Тракто-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
f I
161
вание чуда как вымысла или гипноза есть просто
бессильная злоба на чудо и аффективное междометие на месте
спокойного и свободного рассуждения. Так обычно
«рассуждают» — капризные и нервные бабы \
Попробуем теперь вскрыть понятие чуда, принимая
во внимание, что это не есть ни просто воздействие
высших сил на низшее бытие, ни просто нарушение законов
природы, ни просто мысль об единообразии законов
природы, ни та или иная субъективная выдумка, произвольное
самопроецирование или гипноз, внушение со стороны.
4. Чтобы быть последовательными и совершенно
четкими в анализе этого трудного, обычно презираемого в
философии и науке понятия, расположим свое изложение
по отдельным пунктам (из которых каждый легко мог бы
вырасти в целую главу).
а) Ясно, что в чуде мы имеем дело, прежде всего, с
совпадением или, по крайней мере, со
взаимоотношением и столкновением двух каких-то разных планов
действительности. Это, по-видимому, и заставляло многих
говорить о вмешательстве высших сил и о нарушении
законов природы. Однако в противоположность подобным
теориям мы хотим вскрыть в точном феноменолого-диалекти-
ческом анализе как характер обоих планов, так и способ
их взаимоотношения. И, прежде всего, нам ясно из
предыдущего изложения, что чудо есть взаимоотношение двух
(или большего числа) личностных планов. Чудо есть
и проявление со стороны какой-то или каких-то личностей,
и для, в целях какой-то или каких-то личностей (понимая
под личностью то, что было установлено нами выше). Это
должно иметь аксиоматическое значение, и спорить об
этом едва ли возможно. Чудо есть всегда оценка личности
и для личности.
1 Отсутствием всякой философско-критической точки зрения
отличается единственное (известное мне) на русском языке обстоятельное
исследование о чуде — Феофан, en. Кронштадтский. Чудо. Христианская
вера в чудо и ее оправдание. Опыт апологетически-этического
исследования Петргр., 1915. В результате очень длинных и обставленных большим
научно-литературным аппаратом рассуждений автор дает такую
малоинтересную и критически не продуманную формулу (с. 96) : «Христианское
чудо есть видимое, поразительное, сверхъестественное явление (в
физическом мире, в телесной и духовной природе человека и в истории
народов), производимое личным, живым Богом для достижения человеком
религиозно-нравственного совершенствования».
6 Α. Φ Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
1—^1
162
b) Возникает далее вопрос: взаимоотношение каких
именно личностных планов есть чудо? Проще всего
думается, что это есть влияние одной личности на другую. Такой
взгляд, однако, малоплодотворен. Нет ровно ничего
чудесного во влиянии одной личности на другую, если его брать
как таковое. Умный учит глупого, ученый — неученого,
грамотный — безграмотного, опытный в жизни —
неопытного в жизни и т. д. Тут нет ничего специфически
чудесного. Разумеется, это, как и все на свете, может быть
чудесным. Но ведь и восход и заход солнца, рождение и
смерть человека и даже всякие мелкие явления в природе
и жизни могут быть чудесными и часто таковыми
оказываются. Стало быть, не само влияние одной личности на
другую чудесно, но — какой-то особый момент, не сводящийся
просто на самый факт этого влияния. Не поможет делу
и влияние высшей личности на низшую, так как тут тоже
нет ничего чудесного. И можно сказать, чем выше
влияющая личность, тем затруднительнее говорить о чуде, а
высочайшая Личность, если Она есть, вообще мыслится
всегда, и притом неизменно влияющей и действующей, так
что специально для чуда никакого места не получается.
Подлинного чудесного взаимоотношения личностных
планов надо искать не в сфере влияния одной личности на
другую, но, прежде всего, в сфере одной и той же личности, и
уже на этом последнем основании можно говорить о
взаимодействии двух или более отдельных личностей. Один
универсальный пример способен сразу убедить в этом,
это — оборотничество и вообще перевоплощение в разных
телах. Что это есть чудо — сомневаться не приходится.
Но что одна и та же ведьма превращается то в катящееся
колесо, то в птицу, то в серого волка, т. е. что тут идет речь
об одной и той же личности,— это тоже ясно. Стало быть,
чтобы случилось чудо, достаточно и одной личности. Но
необходимы какие-то два плана этой личности. Какие же?
c) Несомненно, это есть планы внешне-исторический
и — внутренно-замысленный, как бы план заданности,
преднамеренности и цели. Коснемся их более подробно.—
Личность, во-первых, есть личность, т. е. она есть, прежде
всего, сама по себе, вне своей истории и вне всякого
становления. Что это такое? Она есть нечто остающееся
совершенно неизменным в течение всего своего изменения и
истории. По основному правилу диалектики, становление
может состояться только тогда, когда есть то, что именно
ДИАЛЕКТИКА МИФА
163
становится и что остается как таковое неизменным, при
всех своих фактически происходящих изменениях. Как
только нарушится и изменится в своем существе это
«что»,— так, можно сказать, прервалось и его
становление, началось становление совершенно другой вещи. Итак,
личность есть, прежде всего, некое неизменное единство,
как бы парящее в процессе всего изменения и само по себе
существующее вне всякого изменения и истории. Только в
силу этого и возможна сама история. Но, во-вторых,
реальная личность есть личность историческая. Она непрерывно
и сплошно течет, вечно меняется и становится. Говоря
несколько грубее, она всегда во времени. Что такое время?
Время, или становление, только потому и возможно, что
оно есть диалектический антитезис смыслу или идее,
которые именно мыслятся не становящимися. Любое
математическое положение применимо (или хочет быть применимо,
по смыслу своему применимо) решительно ко всем
временам; оно ничего временного в себе не содержит. Время
есть антитезис смыслу. Оно по природе своей алогично,
иррационально. Оно принципиально таково, что прошлого
момента уже нет, будущего еще нет и ничего о нем
неизвестно, а настоящее есть неуловимый миг. Сущность
чистого времени заключается в этой алогической стихии
становления, в алогическом становлении, в том, что
совершенно ничего нельзя тут различить и противопоставить; все
тут слито в один нерасчленимый поток смысла. Сущность
времени — в непрерывном нарастании бытия, когда
совершенно, абсолютно неизвестно, что будет через одну
секунду, и когда прошлое — совершенно, абсолютно
невозвратимо и потеряно, и вообще никакие силы не могут
остановить этого неудержимого, нечеловеческого потока
становления. Поэтому, что бы ни предсказывали законы природы,
никогда нельзя вполне поручиться за исполнение этих
предсказаний. Время есть подлинно алогическая стихия
бытия,— в подлинном смысле судьба или, в другой
опытной системе, воля Божия. Напрасно ученые и философы
забросили это понятие судьбы и заменили его понятием
причинности. Это — беспомощное закутывание своего
носа под собственные крылья и боязнь взглянуть прямо
жизни в глаза. Судьба — совершенно реальная,
абсолютно жизненная категория. Это — ни в каком смысле не
выдумка, а жестокий лик самой жизни. Сами мы ежедневно
пользуемся этим понятием и термином; ежедневно и еже-
β·
Α. Φ. ЛОСЕВ
164
чаено видим действие судьбы в жизни, лично своей и
чужой; прекрасно знаем н понимаем, что не можем
поручиться ни за одну секунду своей жизни; до боли очевидно
сознаем, что будущее неизвестно, темно, как уходящая в
бесконечную даль мгла сумерек: и вот, при всем этом, в угоду
лживых теорий и грубых предрассудков презираем это
понятие как выдумку, как фикцию, как не
соответствующую никакой реальности идею. Выдумали понятие
причинности. Но разве причинность мешает тому, чтобы,
прежде чем произойти затмению луны, эта луна исчезла
бы в каком-нибудь мировом пожаре или лопнула от каких-
нибудь еще неведомых нам причин? Затмение луны
предсказано на такое-то число. Да будет ли тогда самая луна,
будет ли самое это число? Я уже честно признавался, что
мне это не очевидно. Судьба — самое реальное, что я вижу
в своей и во всякой чужой жизни. Это — не выдумка, а
жесточайшие клещи, в которые зажата наша жизнь. И
распоряжается нами только судьба, не кто-нибудь иной.—
Итак, в чуде встречаются два личностных плана: 1)
личность сама по себе, вне своего изменения, вне всякой своей
истории, личность как идея, как принцип, как смысл всего
становления, как неизменное правило, по которому
равняется реальное протекание; и — 2) самая история этой
личности, реальное ее протекание и становление, алогическое
становление, сплошно и непрерывно текучее множество-
единство, абсолютная текучая неразличимость и чисто
временная длительность и напряженность.
d) Сам собою рождается вопрос: в каком же именно
взаимоотношении находятся эти два личностных плана?
Тут мы впервые начинаем подходить к диалектической
разгадке чуда (к диалектической — ибо никакой другой
разгадки для философии не требуется). Именно, эти два
плана, будучи совершенно различными, необходимым
образом отождествляются в некоем неделимом образе,
согласно общему диалектическому закону. Тут повторяется
первичная диалектика «одного» и «иного»; и без четкого ее
усвоения невозможно понять и диалектики чуда. «Одно» и
«иное» необходимым образом отличаются друг от друга
и взаимно отождествляются. Но любопытен не этот общий
диалектический закон, но та его спецификация, которая
существует именно для категории чуда. Как только мы
заговорили о становлении и истории, о времени, так тотчас
же возникает вопрос о том, как же именно и насколько
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 1
165
происходит это становление. Становления не может быть
без того, что именно становится. И вот, как только вещь
перешла в становление, мы тотчас же начинаем сравнивать
реально становящееся и, стало быть, ставшее с тем, что
должно становиться, становящуюся вещь с идеей вещи.
Без этого, тайного или явного, сравнения совершенно
невозможно говорить о реальном становлении. Однако,
всматриваясь в реальный лик ставшей вещи, мы замечаем тут
гораздо больше слоев, чем только два. Во-первых,
отвлеченная идея вещи, или в нашем случае — идея личности,
вне ее истории, остается на своем месте, равно как и, во-
вторых, момент чисто алогического становления, момент
меонально-исторический. Но если бы было только это, то
мы попали бы в сети дурного дуализма; и никакой
диалектики, никакого чуда не получилось бы. Эти две сферы
отождествляются. И это значит, что есть, в-третьих,
нечто третье, что уже — и не отвлеченная идея, и не
отвлеченная алогичность становления, но нечто совершенно
не сводимое ни на то, ни на другое, нечто по сущности своей
ничего общего не имеющее ни с тем, ни с другим. Это
третье должно быть настолько же идеей, насколько и
становлением. Оно — идея, но — данная не сама по себе,
а исключительно алогическими средствами; и это —
алогическое становление и материя, но — данные
исключительно как идея и средствами идеи. Это есть то, что
воистину руководит всем становлением, а не только его
идейным осмыслением, как отвлеченная идея. Это есть
подлинный первообраз, чистая парадигма, идеальная
выполненность отвлеченной идеи. Ведь раз есть идея и ее
воплощение, то, значит, возможны разные степени ее
воплощения. Но если так, то возможна бесконечно большая
степень полноты воплощения. Это есть предел всякой
возможной полноты и цельности воплощения идеи в истории;
оно — умная фигурность смысла, вобравшая в себя и ало-
гию становления и через то ставшая именно чем-то умно-
телесным; оно—(идея), вполне осуществившая свою
отвлеченную заданность и потому оформленная как едино-
раздельная умная телесность, т. е. как фигурность. Однако
и этого мало, если мы действительно хотим диалектически
синтезировать обе начальные сферы, отвлеченного смысла
и отвлеченного становления. А именно, необходимо, чтобы
эти две сферы мыслились не только в полном несходстве
с указанной третьей сферой, но и так, чтобы они несли на
Α. Φ. ЛОСЕВ
166
себе следы и печать этого третьего начала. Ведь третье
начало, сказали мы, совершенно несводимо на первые два
и абсолютно ничего не имеет общего с ними. Как же тогда
может осуществиться синтез? Ясно, что нельзя остаться
при таком противостоянии трех разных сфер. Надо, чтобы
первые две были модифицированы в свете этой третьей;
Это не помешает им остаться самими собою. Они есть,
прежде всего, сами они и больше ничто. Но они же должны
иметь на себе слой, который бы указывал на их
отождествление с третьим. Конечно, каждый слой, согласно своим
особенностям, по-своему будет синтезироваться с третьим.
Но только так и можно будет говорить о полном
диалектическом синтезе идеи и становления. Следовательно,
необходима, в-четвертых, модификация отвлеченной идеи на
ту, которую можно назвать выраженной идеей, или
значением (в отличие от отвлеченного смысла), и, в-пятых,
модификация чистого отвлеченного становления, взятого
в своей сплошной неразличимости и алогичности, на ос-
мысленное становление, или реально-вещественный образ
ставшего предмета. Такова диалектика двух основных
личностных планов, вступающих в чуде в синтетическое
взаимообщение и воссоединение.
е) Сравнение, без которого невозможно никакое
становление, может, следовательно, происходить в разных
смыслах. Можно сравнивать реально-вещественный образ
ставшего предмета с его отвлеченной идеей и судить,
насколько тут происходит совпадение. Такое сравнение,
конечно, малоинтересно потому, что мы уже заранее знаем,
что никакого становления не может быть без того, что
именно становится, никакой истории нет без того, что
именно находится в истории. Но вот мы начинаем сравнивать
реально-вещественный образ вещи с ее первообразом,
парадигмой, «образцом>, с ее идеальной выполненностью
и идеальным пределом полноты всякого возможного ее
осуществления и приближения к своим собственным
внутренним заданиям. Полного совпадения ожидать мы не
имеем тут никакого права. Всегда мы наблюдаем только
частичное совпадение реально-вещественного образа вещи
с ее идеальной заданностью-выполненностью, с ее
первообразом; и рассчитывать, что в данном случае реальное
вполне воплотит свою идеальную заданность, мы не имеем
ровно никаких оснований. Тем более нужно считать
удивительным, странным, необычным, чудесным, когда оказы·
ДИАЛЕКТИКА МИФА
'
167
вается, что личность в своем историческом развитии вдруг,
хотя бы на минуту, выражает и выполняет свой первообраз
целиком, достигает предела совпадения обоих планов,
становится тем, что сразу оказывается и веществом, и
идеальным первообразом. Это и есть настоящее место для
Чуда. Чудо — диалектический синтез двух планов
личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе
лежащее в глубине ее исторического развития задание
первообраза. Это как бы второе воплощение идеи, одно — в
изначальном, идеальном архетипе и парадигме, другое —
воплощение этих последних в реально-историческом
событии. Конечно, всякая личность как-то выполняет свое
задание, лежащее в основе самого ее изначального бытия.
Но надо, чтобы эта связь была выявлена возможно полно.
Надо, чтобы связанность ее реального исторического
положения со своим идеальным «экземпляром> была
специально демонстрирована и нарочито выявлена. Возьмем
исцеления, имевшие место в святилищах Асклепия в Древней
Греции. Все знали, что Асклепий — бог здоровья и
помогает больным. Все знали, что он помогает даже тогда,
когда ему никто не молится о выздоровлении. Наконец, все
знали, что жрецы употребляли всякие медицинские
средства для вылечивания приходящих больных, вплоть до их
оперирования. И все-таки такое исцеление в святилище
Асклепия есть чудо. Почему? Потому что стало видно, как
Асклепий помогает больным. Надо было прийти, надо было
молиться; надо было, чтобы помог именно этот бог и
именно в этом святилище; и т. д. Все тут объяснимо
механически; и благочестивый грек вовсе и не думал, что тут есть
что-нибудь неестественное. Все произошло совершенно
естественно. И вот все-таки больной выздоровел. Тысячу
раз все шло естественно, и даже всегда все идет
естественно, всегда и непреложно действуют механические 16*
законы. И вот почему-то вчера этот больной, при одних и тех же
механических законах, не выздоровел, а сегодня, опять-
таки при одних и тех же механических законах, но только
в условии новых фактов (он пришел к Асклепию, он
молился и т.д.), он почему-то выздоровел. Ясно, что новое,
наблюдаемое сегодня, заключается не в том, что сегодня
Асклепий действовал, а вчера нет (боги действуют всегда),
и не в том, что сегодня были нарушены физиологические
законы, а вчера их никто не нарушал (законы всегда оди··
каковы, и их и нельзя нарушать и некому нарушать). Но-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
168
вое — в том, что сегодня стала ясной, видной обычно
плохо замечаемая связь реальной жизни больного с ее
идеальным состоянием, когда она, по близости к божеству,
пребывает в вечно блаженном и безболезненном состоянии.
Самое слово «чудо» во всех языках указывает именно на этот
момент удивления явившемуся и происшедшему — греч.
Οαίμα, лат. miraculum-miror, нем. Wunder-bewundern,
славянское чудо. Чудо обладает в основе своей, стало
быть, характером извещения, проявления, возвещения,
свидетельства, удивительного знамения, манифестации,
как бы пророчества, раскрытия, а не бытия самих фактов,
не наступления самих событий. Это — модификация
смысла фактов и событий, а не самые факты и события. Это —
определенный метод интерпретации исторических событий,
а не изыскание каких-то новых событий как таковых.
Верящего в чудо ничем опровергнуть нельзя. Даже слово
«вера» тут не подходит. Он видит и знает чудо. Применивший
какую-нибудь чудесную вещь (напр., какой-нибудь
амулет) для лечения своей болезни имеет полное логическое
право возражать скептику так: вы говорите, что я
вылечился от вашего медицинского средства, а я утверждаю,
что я вылечился от того, что помазал больное место этим
священным маслом; то и другое средство были
употреблены: почему вы думаете, что подействовала медицина, а не
чудо, да и сама медицина, которая отнюдь не всегда
действенна, не является ли тут чем-то закономерным и
зависящим от идеальных причин? Разубедить такого человека
невозможно, потому что логически невозможно доказать,
что амулет не действовал, раз известно, что медицинское
средство тоже не всегда действует одинаково. Вот перед
нами живая личность и ее история, ее жизнь. В каждый
отдельный момент этой жизни мы видим сразу пять
моментов, абсолютно отождествленных в одном мгновенном ее
лике и различаемых только в абстракции: 1) отвлеченную
идею этой жизни (он, напр., человек, русский, такого-то
века или десятилетия, государственный деятель, солдат,
крестьянин и т. д.); 2) текучий поток жизни, воплощающий
эту идею и как бы вещественно разрисовывающий ее в
новую живую данность; 3) идеальное состояние его, когда
он является максимально выразившим свою отвлеченную
идею; 4) первый момент — в свете третьего, или
прибавление к отвлеченной идее, получаемое от идеала, или как бы
перечисление всего, что содержится в идеале, отвлеченное
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 I
169
выражение идеала; 5) второй момент — в свете третьего,
или прибавление к пустой алогической длительности,
получаемое от идеала, когда она становится
реально-жизненным ликом личности. Когда пятый и третий моменты
совпадают целиком, мы говорим: это — чудо; и при помощи
четвертого момента в недоумении пересматриваем и
перечисляем те удивительные факты и идеи, в которых
выразился первый момент личности, когда он стал выполняться
во втором.
5. Вышеприведенный анализ понятия чуда показывает,
что природа чуда символична, в том понимании символа,
которое я предложил выше. Однако, чтобы эта
символическая природа чуда была уяснена целиком, необходимо
резкими чертами отграничить природу именно символа-
чуда, или подлинно мифического символа.
а) Уже Кант прекрасно показал, как наряду с
«определяющей» силой суждения, т. е. способностью судить по
общему о частном, способностью рассудка давать правила,
существует «рефлектирующая» сила суждения, идущая от
частного к общему и принимающая во внимание
эмпирически случайное протекание явлений. Категория рассудка,
бывшая только правилом подведения под нее
эмпирических явлений, становится, с этой точки зрения, уже
целью. Мы начинаем рассматривать вещи не просто как
сферу приложения отвлеченных категорий, но как ту или
иную степень совпадения явлений с их целью. Пока мы
употребляем категории как таковые — нет ничего
удивительного в том, что они функционируют в природе, ибо,
кроме них, и нет ничего, что давало бы смысл вещам. Но
когда оказывается, что эмпирическое явление протекло
именно так, как требует того его цель, то мы удивляемся,
и это совпадение, говорит Кант, вызывает чувство
удовольствия. Отсюда две формы представления целесообразности
в природе — логическая и эстетическая. Первая оперирует
понятием цели, находя соответствие или несоответствие
случайного протекания явления с его формальной
целесообразностью; так, мы принуждены бываем рассматривать
иные объекты природы телеологически, а не механически.
Другая форма включает в себя то чувство удовольствия
или неудовольствия, которое налично в субъекте, когда он
находит в эмпирической случайности совпадение или
несовпадение со своими познавательными способностями,
требующими понятия цели. Другими словами, логическая
Α. Φ. ЛОСЕВ
(«^—1
170
целесообразность есть совпадение случайного протекания
эмпирических явлений с их первообразом; эстетическая
же целесообразность есть совпадение случайного
протекания эмпирических явлений с их первообразом как
интеллигенцией («субъектом»). Общая правильная мысль у
Канта не должна нами приниматься со всей обстановкой
кантовского субъективизма и формализма. Говоря о
совпадении эмпирической случайности с «формальной
целесообразностью», Кант имеет в виду, конечно, то, что имеем и
мы, когда утверждаем необходимость первообраза как
идеального и предельного совпадения категории с вещью,
абсолютно необходимого с абсолютно случайным, и когда
требуем, чтобы эмпирическое протекание вещи было
сравнено с этим первообразом (откуда и начинается
эстетическое восприятие). Чувственный образ совпадает со
смысловой категорией в один нераздельный образ, который уже
не есть, конечно, сама вещь, хотя и неотделим от нее. Это
Кант называет «формальной целесообразностью».
Конечно, эйдос не есть просто форма; и «законодательство
рассудка», даже при условии участия эмпирической
случайности, есть выдумка кантовской субъективистической
метафизики. Но, понимая «категорию» и «рассудок» чисто
объективно (как смысл) и совпадение случайности с нею
понимая опять-таки как чисто объективную же структуру
образа вещи, мы можем без опасности опереться на Канта
и вместе с ним говорить как о логической, так и об
эстетической целесообразности. При этом «эстетическая»
целесообразность в нашей системе будет, очевидно,
соответствовать интеллигентной модификации смысла. Когда вне-
интеллигентный смысл осуществляется в эмпирии и
оказывается, что это случайно возникшее осуществление вполне
совпадает с идеально замысленным,— мы получаем
выразительный образ вещи, который можно назвать
вне-интеллигентным выражением вещи, ее вне-интеллигентным
символом. Таков всякий организм,— напр. растительный или
животный. Тут — полная целесообразность задания с
выполнением; и чем полнее эта целесообразность, тем полнее
и выражение, тем определеннее логическая
целесообразность. Когда же осуществляется в эмпирии
интеллигентный смысл, т. е. самосознание, и мы находим, что и тут
осуществление совпало с замыслом,— у нас возникает
необходимость не только логического представления об этом
осуществлении, но и таких переживаний, которые бы соот-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
11— I
171
ветствовали объективно осуществленному самосознанию,
т. е. надо, чтобы в нас самих возникла некая
удовлетворенность от достигнутого самосознания в данном пункте, или
чувство удовольствия. И оно совершенно конститутивно
и диалектически необходимо (хотя фактически очень много
субъектов, которым не суждено переживать тут никаких
чувств) для интеллигентного символа, об осуществлен-
ности которого идет речь.
Ь) Но Кант не пошел, да по условиям своего
философствования и не мог пойти дальше. Я же утверждаю,
что кроме логической и эстетической целесообразности
есть еще мифическая целесообразность и что она-то и есть
чудо. Кант говорил о подведении под «категорию» и о
подведении под «умственные способности». Вслед за ним,
поправляя его, я сейчас говорил о логическом символизме,
или об осуществленности отвлеченной категории и идеи,
смысла, о «подведении» под логический символ. Я говорил
также об интеллигентном, или эстетическом, символизме,
или об осуществленности интеллигенции, самосознания,
о «подведении» под интеллигентный, или эстетический,
символ. Теперь же я говорю о мифическом
символизме, т. е. об осуществленности не отвлеченного смысла и не
интеллигентного смысла, но об осуществлении
личностно «подведении» под личностный символ. После
логической и эстетической целесообразности я говорю о
личностной целесообразности; и в этом нахожу самую природу
как чуда, так — через это — и всего мифа. Ясно, что это
только последовательно проведенная диалектика. Как
нельзя остановиться на отвлеченной идее как таковой и
волей-неволей приходится говорить об осуществлении этой
идеи, о вещи, где эта идея воплотилась, точно так же
нельзя просто говорить об интеллигентном смысле, г. е. о
самосознании как таковом, ни в чем не осуществленном и,
стало быть, никому не принадлежащем. Разумеется, это —
самостоятельная категория, и она должна быть выяснена
в своей полной самостоятельности и независимости. Но она
диалектически требует следующую категорию,— именно
категорию фактов, наличности, действительности, и уже,
конечно, не фактов вообще, но фактов этой самой
интеллигенции, самосознания, интеллигентного смысла как
осуществленной данности,— или, попросту, личности.
Личность, говорим мы, есть осуществленная интеллигенция
как миф, как — смысл, лик самой личности. А совпадение
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L·
случайно протекающей эмпирической истории личности
с ее идеальным заданием и есть чудо.
6. а) Легко привести все это учение о чуде к абсурду,
забывши, что здесь идет речь именно о личности и ее
истории. Могут сказать: музыкант-исполнитель, в
совершенстве владеющий инструментом, будет у вас чудом, потому
что здесь — тоже совпадение эмпирически случайной
жизни (обучения) с идеальным заданием (овладением
техникой) . Подобное рассуждение как раз показывает, что
авторы их не понимают, что в чуде идет речь именно о личности.
Ведь овладение техникой хотя и есть некое проявление
личности (пить, есть, спать тоже есть принадлежность
и проявление личности), но это не есть сама личность и ее
история. Это — история одной из ее многочисленных
изолированных функций. И если угодно злоупотреблять
неясным термином, можно и тут сказать (да часто и
говорится): нечеловеческая техника, небывалое мастерство,
чудеса технического и художественного исполнения и т. д.
В этой изолированной функции также есть своя случайная
история, свое идеальное задание и та или иная степень
совпадения того или другого, так что, если угодно, можно
и здесь говорить о чуде или об его степенях. Но
обыкновенно под чудом в собственном смысле мы понимаем сферу
цельной личности и исторические проявления цельной
личности, энергийное проявление личности в ее субстанции.
А это значит, что тут имеется в виду сама жизнь и
совпадения или несовпадения с идеалом — самой же жизни. Очень
часто многие, в особенности психологи, понимают психику
как ряд состояний или родов психической жизни. Так,
говорят об ощущении, восприятии, внимании, памяти, эмоциях,
волевых актах и т. д. как изолированных функциях. И при
этом думают, что потом можно получить психическую
жизнь из объединения этих функций. Конечно, такое
понимание психической жизни для меня совершенно
неприемлемо. В особенности же это оказывается ошибочным,
когда речь заходит о личности. Личность ни в коем случае не
есть ни ощущение, ни восприятие, ни внимание, ни вообще
познание; она не есть ни аффект, ни эмоция, ни чувство,
ни стремление, ни желание, ни воля, ни поступки. Она,
конечно, необходимым образом в них проявляется. Но
личность проявляется вообще во всем — в костюме, в
физиологических процессах дыхания, кровообращения,
пищеварения; и это нисколько не значит, что личность есть сукно
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
173
или суконный костюм, что она есть желудок и пищеварение
и т. д. Личность как категория — ничего общего не имеет
с отдельными изолированными функциями-, и из них
никогда нельзя будет получить личности, если понятие о ней
не получено из другого источника.
b) Это учение о личности и должно иметься в виду,
если мы хотим уяснить себе подлинную диалектику чуда.
В эстетической целесообразности имеется в виду
изолированная функция чувства. Конечно, тут есть все — и
познание, и воля, и чувство. Но эстетическую целесообразность
мы мыслим центрированной на чистом чувстве. Поэтому
совпадение здесь «идеально-возможного» и
«реально-случайного» предполагает (часто, по крайней мере) весьма
длительную историю именно этой изолированной функции.
Равным образом, наблюдая игру пианиста-виртуоза и
называя ее «чудом», мы видим, что тут была длительная
эмпирическая история волевых усилий человека,
наполненная бесчисленной массой самых разнообразных
случайностей. В результате — совпадение подвижности пальцев
с идеальными намерениями и композитора и исполнителя.
Но явно, что тут совершается диалектика двух
изолированных сфер — волевых усилий человека и некоего идеала-
исполнителя,— изолированных из общей области
личности, эмпирически случайной и идеально мыслимой. Они —
антитетичны, и артистическое исполнительство — их
синтез. Но что получится, если мы будем говорить не о чувстве
и его развитии, не о воле и ее усилиях, не о познании и его
актах, но о личности, которая не складывается из этих трех
сфер и вообще не складывается ни из каких изолированных
функций? Тогда синтез наш уже не может быть
чувством — как тождеством познания и стремления. Он не
может быть также синтезом свободы и необходимости, не
говоря уже о синтезе категории и чувственного образа
в каком-нибудь художественном образе. Это будет чисто
личностный синтез, нисколько не решаемый и даже не
затрагиваемый никакими из подобных изолированных
функций и синтезов. Этот-то синтез и есть чудо, мифическая
целесообразность.
c) И вот почему в чуде нет ни чисто познавательного»
логического, ни чисто волевого, ни чисто эстетического
синтеза. Если бы чудо было чисто познавательным
синтезом и чисто логической целесообразностью, то уже любой
организм, растительный и животный, был бы чудом, пото-
Α. Φ. ЛОСЕВ
1—^—I
174
му что мы мыслим его всегда при помощи категории некоей
цели. Всякий организм имеет ведь свою историю, живет
самостоятельною жизнью; и о нем мы всегда можем
поставить и ставим вопрос: как достигается цель, виртуально
заложенная в семени организма? Если угодно, можно,
конечно, и всякий организм считать чудом, но это будет
чудо в несобственном смысле слова,— скорее, какая-то
примитивная степень чуда. В собственном же чуде мы
отнюдь не ограничиваемся одним этим познавательным
синтезом и чисто логической целесообразностью. Тогда
хромой, исцелившийся у чудотворной иконы, рассматривался
бы нами исключительно с точки зрения чисто
познавательной, т. е. мы чудо рассматривали бы просто как переход от
одного анатомо-физиологического состояния в другое.
Учение о чуде тогда было бы равносильно анатомии и
физиологии, в лучшем случае — медицине, а самое чудо было
(бы) насквозь только одним биологическим актом. Никто,
однако, так никогда не переживает чуда. Биологическая
и вообще телесно-органическая и физическая природа
чуда имеет значение только лишь как арена формы или
способа проявления того, что называется подлинным
чудом. Она не имеет сама по себе ровно никакого
самостоятельного значения, хотя чудо и проявилось именно в ней
и в этом смысле она совершенно необходима. Я не говорю
уже о том, кто испытал чудо на себе или верит в него. Я
утверждаю, что даже не верящий в чудо мыслит его именно
так. Верить или не верить — это одно; а предмет, в который
верят или не верят,— это совсем другое. Вы не верите в
чудо, но представление о чудесном предмете имеете, ибо,
если вы не знаете, что такое чудо,— как же вы отвергаете
то, чего не знаете? Стало быть, если вы отвергаете чудо, то
вы знаете, что именно вы отвергаете, т. е. знаете, что такое
чудо. А если вы знаете, что такое чудо, то вы отличаете его
от того, что не есть чудо. Если вы не отличаете чуда от
нечуда, то, отвергая чудо, вы отвергаете и всякое не-чудо,
т. е. отвергаете все реальное и действительное. Какой же
вы материалист после этого? Но вы признаете все реальное
и действительное, т. е. не-чудо; след., знаете, что чудо
отлично от не-чуда, и должны знать, в чем же именно это
отличие. Итак, отвергать чудо можно только тогда, когда
известно, чем именно оно отличается от не-чуда. И, стало
быть, уж подавно чудо не есть просто физический или
телесно-органический акт, Остается для «науки» излюблен-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Іі I
175
ный метод: чудо, конечно, не есть, скажут, физический акт,
но оно есть этот акт плюс выдумка. Однако это сведение
на субъективизм — типично беспомощная позиция
либеральной метафизики. Эдак ведь и самые физические акты
нередко сводили на субъективные процессы. Таких «своди-
телей» было немало. А главное, при таком сведении мы
уже перестаем говорить о чуде как таковом и начинаем
говорить о своем отношении к нему, т. е. о самих себе.
Такая подмена есть логическая ошибка, не говоря уже о том,
что чудо интереснее, чем «мы сами» (да еще со своей
«наукой»), и что даже самая эта подмена возможна только
тогда, когда уже известно, что есть чудо само по себе.
Итак, понимание чуда как вымысла (соединенного с тем
или другим естественным биологическим, или вообще
физическим, переходом от одного состояния к другому)
возможно только благодаря двум одновременным логическим
ошибкам — 1) quaternio terminorum |7* так как тут
мыслится примерно такой силлогизм: «Данное исцеление —
чудо. Чудо есть вымысел. След., данное исцеление есть
вымысел» (т. е. силлогизм типа: «Все псы лают. Одно
созвездие — «Пес». След., одно созвездие лает») ; и — 2)
неправильное обращение (obversio), так как наивно думают,
что суждение «всякое чудо есть вымысел» не требует
специфического определения того вида вымысла, который
есть чудо (что возможно было бы только тогда, если бы из
этого суждения вытекало и то, что «всякие вымыслы суть
чудо»).
d) Чудо не есть познавательный синтез и логическая
целесообразность. Но чудо не есть также и в оле вой син-
тез, или синтез свободы и необходимости. Это —
чрезвычайно важный момент во всем учении. Раз это не есть
волевой синтез, то ни в каком случае нельзя мыслить чудо
как результат тех или других волевых актов человека,
например молитвы или подвига. Могут рассуждать так и
часто так и рассуждают: произошло исцеление потому,
что данный субъект очень долго молился, или постился,
или вообще жил особенно высокою, добродетельною
жизнью. Кто так рассуждает — совершенно не понимает
природы чуда. Тогда получается, что чудо действительно
есть волевой синтез свободы и необходимости. Я свободно
ставлю себе некую цель и свободно стремлюсь через все
эмпирические І8* случайности к ее достижению. И есть
какой-то идеал и предел всех моих стремлений. И вот про*
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
176
изошло нечто, где результат моих усилий совпал с
максимальным воплощением идеала, который хотя и вне меня, но
необходим для меня. Свобода совпала с необходимостью,
и — получился синтез. Я утверждаю, что чудо не имеет
никакого отношения к этому волевому синтезу. Чудо
отнюдь не случается обязательно с тем, кто больше употреби
лял волевых усилий или кто выше и лучше других. Чудо
от этого совершенно не зависит: и трудно сказать, с кем
больше оно вообще случается Рассуждение о чуде как
волевом синтезе неизбежно моралистично и есть внесение
морали в область, которая имеет весьма отдаленное
отношение к морали. Такое понимание должно было бы видеть
чудо во всяком удачном поступке, действии и
осуществлении. Так, то, что ребенок научился хорошо ходить, было бы
уже чудом. То, что скрипач овладел в совершенстве
техникой своего инструмента, было бы чудом. Устройство
паровоза, дающего возможность целесообразно передвигаться
по большим расстояниям,— чудо. Всякие вообще поступки
и действия человека, направленные к определенной цели
(высокой или низкой, большой или малой) и хорошо
достигшие этой цели, были бы обязательно чудом. Такое
расширение понятия чуда, несомненно, противоречит
обычному словоупотреблению, не говоря уже о
моралистической узости, вносимой тут в необъятную широту
мифического и религиозного сознания.
е) Наконец, чудо не есть и синтез эстетический
и не предполагает особенного состояния чувства, хотя
отражается и на нем, как и на всем вообще. Как
невозможно тут находить синтез логический или практический, так
же невозможно находить и синтез эстетический.
Представители «науки>, опровергающие чудо с «научной» точки
зрения, бьют совершенно мимо цели, ибо чудо по смыслу
своему никогда и не претендует на научную и даже вообще
на логическую целесообразность. Моралисты также бьют
мимо цели, ибо чудо — вне всякой морали, вне долга,
ответственности, вменения и пр. Чудо может совершиться
с преступником, вопреки всей его жизни и личности. Но так
же кощунственно для чуда было бы видеть в нем только
самонаслаждение в чувстве и созерцание отрешенного
художественного образа. Логика и наука увидели в основе
чуда физическую закономерность, объявляя все прочее
вымыслом и несуществующим; мораль увидела в чуде
результат волевых усилий и награду за добродетель. Теперь
ДИАЛЕКТИКА МИФА
177
чувство, эстетика видит в чуде красоту и рассматривает
объект его действия как отрешенное и
«незаинтересованное» художественное, или эстетическое, бытие, как нечто
«красивое» или «прекрасное». Все это не имеет никакого
отношения к чуду. Все это или тоще и хило для чуда, или
прямо кощунственно.
f) Мы различаем, стало быть, в конце концов, четыре
типа целесообразности: 1) логическую, в результате
которой получается организм; 2) практическую, или волевую,
в результате которой получается техническое совершен-
ство (в человеке — совершенная мораль); 3)
эстетическую, в результате которой получается художественное
произведение; и, наконец, 4) мифическую, или
личностную, в результате которой получается чудо.
Я не говорю здесь о фактической целесообразности как
таковой. Она всегда условна — в зависимости от этих
типов целесообразности. Землетрясение в Крыму фактически
ужасно. Мифически же (о других же точках зрения и
говорить нечего) оно весьма уместно, своевременно, даже
утешительно '.
7. а) Что же такое мифическая, или личностная,
целесообразность? Для логической целесообразности целью
является то или иное состояние организма, для
практической — та или иная норма и пр. Для личностной
целесообразности не имеет значения ни одна из этих изолированных
функций. Нужно взять такую цель и такое идеальное
состояние, которые бы были таковыми не для познания, воли
и пр., но для личности, взятой как неделимая единичность.
Чего хочет личность как личность? Она хочет, конечно,
абсолютного самоутверждения. Она хочет ни от чего не
зависеть или зависеть так, чтобы это не мешало ее
внутренней свободе. Она хочет не распадаться на части, не
метаться в противоречиях, не разлагаться во тьме и в
небытии. Она хочет существовать так, как существуют вечно
блаженные боги, вкушающие бесконечный мир и умную
тишину своего ни от чего не зависящего, светлого бытия.
И вот, когда чувственная и пестро-случайная история
личности, погруженной в относительное, полутемное,
бессильное и болезненное существование, вдруг приходит к
событию, в котором выявляется эта исконная и первичная, свет-
1 Эти строки писались во время Крымского землетрясения летом
1927 г. Примеч. 1930 г.
Α. Φ. ЛОСЕВ
ι ι
178
лая предназначенность личности, вспоминается утерянное
блаженное состояние и тем преодолевается томительная
пустота и пестрый шум и гам эмпирии,— тогда это значит,
что творится чудо. В чуде есть веяние вечного прошлого,
поруганного и растленного, и вот возникающего вновь
чистым и светлым видением. Уничтоженное и опозоренное,
оно незримо таится в душе, и вот — просыпается как
непорочная юность, как чистое утро бытия. Прошедшее — не
погибло. Оно стоит незабываемой вечностью и родиной.
В глубине памяти веков кроются корни настоящего и
питаются ими. Вечное и родное, оно, это прошедшее, стоит где-
то в груди и в сердце; и мы не в силах припомнить его, как
будто — какая-то мелодия или какая-то картина, виденная
в детстве, которая вот-вот вспомнится, но никак не
вспоминается. В чуде вдруг возникает это воспоминание,
возрождается память веков и обнажается вечность прошедшего,
неизбывная и всегдашняя. Умной тишиной и покоем
вечности веет от чуда. Это — возвращение из далеких
странствий и водворение на родину. То, чем жила душа, этот
шум и гам бытия, эта пустая пестрота жизни, эта
порочность и гнусность самого принципа существования,— все
это слетает пушинкой; и улыбаешься наивности такого
бытия и жизни. И уже дается прощение, и забывается грех.
И образуется как бы некая блаженная усталость плоти,
и надвигается светлое утро непорочно-юного духа.
Ь) Разумеется, первозданное блаженное состояние
личности, имея предельное значение, может быть
выражено бесконечным количеством разных приближенных
значений. И это ведет к двум весьма существенным выводам.
Во-первых, мы видим, что получает свой смысл и свое
диалектическое место каждая мелочь
мифически-чудесного мира. Чудесные богатыри, вроде Святогора, лежащего
в виде некоей горы, с их сверхъестественными
физическими силами и подвигами, есть результат этого сознания
первозданного совершенства личности, мыслимого здесь
как физическая мощь, ибо в абсолютном
самоутверждении личности должна быть и абсолютно большая
физическая мощь. Все эти ковры-самолеты, скатерти-самобранки,
прострел-трава, сон-трава, шапка-невидимка и пр.
предметы, лица и события мифически-чудесного мира есть всегда
то или иное проявление какой-нибудь силы, способности,
знания и пр. личности, мыслимой в аспекте своего
абсолютного самоутверждения. Смотря по характеру представ-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
179
лений об этой первозданной блаженно-самоутвержденной
личности, различаются и чудеса, или типы чудес, равно
как и вообще типы всего мифологического построения.
Оборотничество есть чудо потому, что здесь эмпирическая
жизнь личности совпала (по крайней мере до некоторой
степени) с одной из сторон идеального состояния личности,
а именно с ее вездеприсутствием и бесконечным
разнообразием. Это совпадение, или связь, тут выявлено; и потому
это и есть чудо. На том же самом основании к миру
мифически-чудесному должны быть отнесены и все
разнообразные представители нечистой силы, все ее многоликие
ипостаси — Сатана, Дьявол, Бес, Черт и т. д. и т. д. Тут
также везде синтез отрешенности с
максимально-чувственной данностью и также везде оценка с точки зрения
чистоты первозданного бытия. Как ни бешенствует
нигилистическое и вырожденческое просветительство, все же бес —
вполне реальная сила; и не замечают беса с его
бесконечной силой зла лишь те, кто сам находится в его услужении
и ослеплен его гипнозом. Не нужно думать, что существуют
только те злые силы, которые известны нам из
классических религий. Теперешний дьявол принял формы
философские, художественные, научные и т. д.1 Впрочем, однако,
чаще всего этот дьявол измельчал, как и все на свете. Если
взять бесовщину Индии, то вполне можно сказать, что
«в сравнении с глубокою меланхолией «Бхагавад-Гиты»
отрицание и пессимизм Бодлера кажутся капризами
пансионерки в сравнении со слезами зрелого мужа» 2. Разве
можно понять беса, когда —
Тонет тёмен мир во гресех,
Во гресех незамоленныих,
Угрязли во гресех души смрадные,
Не услышати грешником спасения,
Не изведати Божия благоволения..?
Во-вторых, легко заметить, что понятие о чуде есть
понятие относительное. Если данная вещь мыслится
самостоятельно, напр. изолированно-вещественно или истори-
1 О мировых типах дьявола см., напр., у И. Матушевского, «Дьявол
в поэзии», пер. В. М. Лаврова. М., 1902. Интересные материалы,
рисующие бесовскую силу как предмет живого восприятия в народе,—
уФ. А. Рязановского, «Демонология в древнерусской литературе». М„
1915, а также у С. Максимова, «Неведомая, нечистая и крестная сила»
9 Матушевский. Ук. соч. С. 278.
Α. Φ. ЛОСЕВ
180
чески, и мы ее рассматриваем с логической, практической
и эстетической точки зрения, она не есть чудо. Но, если
та же самая вещь мыслится с точки зрения соответствия
ее идеально-личностному бытию, она есть обязательно
чудо. Чудом, несомненно, являются вещи в мистически-
умном восхождении. В «Жизни преподобнаго Григория
Синаита» читаем: «Совершающий в духе восхождение
к Богу как бы в некотором зеркале созерцает всю тварь
световидною, «аще в теле, аще кроме тела, не вем», как
говорит великий Апостол (2 Кор. III, 2), пока какое-нибудь
препятствие, возникшее в это время, не заставит прийти
в себя». Хотя таких примеров видения твари как чуда
очень много, но я не стану приводить тут житийную
литературу, чтобы не дразнить гусей. Достаточно привести такие
же примеры и из светской литературы.
Читаем у Достоевского: «В юности моей, давно уже,
чуть не сорок лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по
всей Руси, собирая на монастырь подаяние, и заночевали
раз на большой реке судоходной, на берегу с рыбаками,
а вместе с нами присел один благообразный юноша,
крестьянин, лет уже восемнадцати на вид, поспешал он к
своему месту назавтра купеческую барку бечевою тянуть. И
вижу я, смотрит он перед собою умиленно и ясно. Ночь
светлая, тихая, теплая, июльская, река широкая, пар от нее
поднимается, свежит нас, слегка всплеснет рыбка, птички
замолкли, все тихо, благолепно, все Богу молится. И не
спим мы только оба, я да юноша этот, и разговорились
мы о красе мира сего Божьего и о великой тайне его.
Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчела золотая,
все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну
Божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее сами.
И вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Поведал он
мне, что лес любит, птичек лесных; был он птицелов,
каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел:
лучше того, как в лесу, ничего я, говорит, не знаю, да и все
хорошо. «Истинно, отвечаю ему, все хорошо и
великолепно, потому что все истина. Посмотри, говорю ему, на коня,
животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его
питающего и работающего ему, понурого и задумчивого,
посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность
к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая
незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике.
Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
181
греха, ибо все совершенно, все, кроме человека, безгрешно,
и с ними Христос еще раньше нашего». «Да неужто,
спрашивает юноша, и у них Христос?> «Как же может быть
иначе, говорю ему, ибо для всех Слово; все создание и вся
тварь, каждый листик устремляется к Слову, Богу славу
поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего
безгрешного совершает сие». Все это — прекрасный при·
мер интерпретирования самых обычных вещей как
чудесных.
Чудом, несомненно, представляется весь мир той
отшельнице Февронии, которую так хорошо изобразили, на
основании народных источников, В. И. Вельский и
Н. А. Римский-Корсаков в известном «Сказании о граде
Китеже», где нижеследующие слова Февронии находятся
в контексте общей «похвалы пустыни».
Ах, ты, лес мой. пустыня прекрасная,
Ты дубравушка — царство зеленое!
Что родимая мати любезная,
Меня с детства ростила и пестовала.
Ты ли чадо свое не забавила,
Неразумное ты ли не тешила,
Днем умильные песни играючи.
Сказки чудные ночью нашептывая?
Птиц, зверей мне дала во товарищи,
А как вдоволь я с ними натешуся,—
Нагоняя видения сонные,
Шумом листьев меня угоманивала.
Ах, спасибо, пустыня, за все, про все:
За красу за твою вековечную,
За прохладу порой полуденную
Да за ночку парную, за воложную,
За туманы вечерние сизые,
По утрам же за росы жемчужные.
За безмолвье, за думушки долгие,
Думы долгие, тихие, радостные...
И далее:
День и ночь у нас служба воскресная,
Днем и ночью тимьяны да ладаны;
Днем сияет нам солнышко ясное,
Ночью звезды, как свечки, затеплятся.
День и ночь у нас пенье умильное,
Что на все голоса ликование,—
Птицы, звери, дыхание всякое
Воспевают прекрасен Господень свет.
«Тебе слава вовек, небо светлое,
Богу Господу чуден высок престол!
Та же слава тебе, земля-матушка,
Ты для Бога подножие крепкое!»
Α. ♦. ЛОСЕВ
1 \
182
Рождение ребенка, рассматриваемое научно, есть
необходимый результат определенных естественных причин;
рассматриваемый с точки зрения воли, ребенок есть, напр.,
результат желания родителей иметь детей;
рассматриваемый с точки зрения чувства, он может находить к себе
отношение как к прекрасному предмету. Но если вы
посмотрите на рождение ребенка как на проявление той
стороны вечно блаженного и абсолютно-самоутвержденного
состояния личности, которая заключается в ее вечном
нарождении и нарастании, как бы и самотворении,
самозарождении, то рождение ребенка окажется чудом, подобно
тому как оно показалось таковым Шатову в романе
Достоевского «Бесы». «Веселитесь, Анна Петровна... Это
великая радость...» — с идиотски-блаженным видом
пролепетал Шатов... «Тайна появления нового существа, великая
тайна и необъяснимая». Шатов бормотал бессвязно, чадно
и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове
и само собою без воли его выливалось из души. «Были
двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный,
законченный, как не бывает от рук человеческих, новая мысль
и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше
на свете!»
И не только рождение ребенка, но решительно все на
свете может быть интерпретировано как самое настоящее
чудо, если только данные вещи и события рассматривать
с точки зрения изначального блаженно-личностного
самоутверждения. Ведь во всяком событии такая связь легко
может быть установлена. И мы часто волей-неволей
устанавливаем ее, начиная относиться к самым обычным
вещам вдруг с какой-то новой точки зрения, трактуя их как
загадочные, таинственные и пр. Всякий переживал это
странное чувство, когда вдруг становится странным, что
люди ходят, едят, спят, родятся, умирают, ссорятся, любят
и пр., когда вдруг все это оценивается с точки зрения
какого-то другого, забытого и поруганного бытия, когда вся
жизнь предстает вдруг как бесконечный символ, как
сложнейший миф, как поразительное чудо. Чудесен сам
механизм, мифически-чудесны самые «законы природы». Не
нужно ничего специально странного и страшного, ничего
особенно необычного, особенно сильного,
могущественного, специально сказочного, чтобы осуществилось это
мифическое сознание и была оценена чудесная сторона
жизни. Достаточно самого простого, обыденного и слабого,
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1^—1
183
незнающего и пр., чтобы уже осуществился миф и
сотворилось чудо. Так гласит житие преп. Венедикта 1 об узрении
им Вселенной в одном световом луче, в одной пылинке:
«Почив же преподобный Венедикт с вечера мало, воста на
молитву, предваряя час полунощный, и, стоя при оконце
и моляся, внезапу узре свет небесный велий, и нощь паче
дневного света просветися: а еже чудеснее, якоже сам отец
послежде поведа, яко мнехся, рече, всю вселенную
аки бы под е дину солнечную лучу собрав-
шуюся зрети. Прилежно же преподобный к светлости
оной взирая, виде душу блаженного Германа, епископа
капу а некого, на огненном круге ангелами (к небеси)
возносимую.
с) Итак, мифическая целесообразность, или чудо,
применима решительно к любой вещи; и можно говорить лишь
о степенях чудесности, вернее же — даже не о
степенях чудесности, а, собственно, о степенях и формах
первозданно-блаженного личностного бытия и о применении их
к эмпирически протекающим событиям. Можно прямо
сказать, что нет даже степеней чудесности, что все в
одинаковой мере чудесно. Но только к этому надо прибавить, что
каждая вещь существует лишь как модус той или другой
стороны в упомянутом личностном бытии и велика и мелка
она в силу того, чего модусом она является. Это приводит
будто бы к разной чудесности эмпирического бытия. На
самом же деле совершенно ясно, что чудесность как
таковая совершенно одинакова везде и что различен лишь ее
объект. Весь мир и все его составные моменты, и все
живое и все неживое, одинаково суть миф и одинаково суть
чудо.
XIL Обозрение всех диалектических моментов мифа с
точки зрения понятия чуда. Только теперь мы можем
считать окончательно выясненным вопрос о подлинно
мифической отрешенности. Мы помним, скольких трудов нам
стоило нащупать настоящий корень этой отрешенности. Мы
сравнивали мифическую отрешенность и с общевещной
и с поэтической. И нигде мы не могли найти себе
удовлетворения. Все время перед нами стояла трудновыполнимая
задача — синтезировать чувственность, максимальную
конкретность и чисто вещественную телесность мифа с его
какой-то потусторонностью, сказочностью, с его общеприз-
1 Четьн-Минен св. Дмитрия Ростовского на 14 марта.
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L·
184
нанным «нереальным* характером. После многих усилий
только теперь мы нашли этот подлинный синтез; и он
есть — чудо. Чудо, таким образом, есть абсолютно
необходимый диалектический синтез, которым живет мифическое
сознание, без него не было бы самого мифа. И с этой точки,
зрения в новом свете предстает и отношение мифа к прочим
областям человеческого творчества, о которых шла речь
в течение всего нашего исследования.
1. Прежде всего, миф, сказали мы, 1) не есть выдумка
или фикция, но диалектически необходимая категория
сознания и бытия вообще. Там это было голым
утверждением, полученным как антитеза обычно господствующему
предрассудку. Для мифического субъекта миф не есть
фикция, но есть подлинная необходимость; и мы, еще не зная,
в чем, собственно, заключается природа этой
необходимости, наперед сказали, что эта необходимость должна
обладать диалектической природой. Сделали это мы потому,
что нефиктивность мифа для мифического субъекта есть
conditio sine qua non всего его, субъекта,
существования. Это его непосредственное и наивно-жизненное
воззрение. А где непосредственное и наивное касание жизни, там
всегда диалектика; и если она еще не ясна, то ближайшее
рассмотрение обязательно увидит ее и построит. И вот
теперь мы видим, в чем заключается подлинная
диалектическая природа мифа и в чем заключается подлинная
диалектическая необходимость его самого. Миф — диалектически
необходим в меру того, что он есть личностное и, стало
быть, историческое бытие, а личность есть только
дальнейшая необходимая диалектическая категория после смысла
(идеи) и интеллигенции. Внутри же себя самого миф
содержит диалектику первозданной, до-исторической, не
перешедшей в становление личности и — личности
исторической, становящейся, эмпирически случайной. Миф —
неделимый синтез этих обеих сфер.
2. Далее, мы сказали, что миф не есть бытие идеальное,
но жизненно ощущаемая и творимая вещественная
реальность. И опять было непонятно, в чем спецификум этой
мифической жизненности и реальности. В
противоположность бесплотной идеальности миф, говорили мы,
чрезвычайно реален, как-то особенно телесен, до жуткости
веществен и физичен. Теперь эта повышенная реальность
и телесность вскрыта и нами. Проанализировавши понятие
чуда, мы ясно видим, что именно чудо есть то, что так под-
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 1
185
черкивает телесную природу мифа, выхватывает ее из сфег
ры обычной, ординарной телесности и, не лишая ее
природы телесности (без телесности нет никакого мифа), делает
ее какой-то особенно напряженной и углубленной. Теперь
известно имя этого фактора, не уничтожающего, но именно
напрягающего тело в подлинно мифическом направлении;
и вскрыта его диалектическая природа, а стало быть, и
необходимость.
3. Миф, доказывали мы раньше, не есть наука, но
жизнь, таящая в себе свою собственную мифическую
истинность и смысловую структуру. О характере этой
истинности мы тогда ничего не знали. Но теперь мы отличили
мифическую истинность от логической, от практической
и от эстетической. Это уже одно сразу значительно
расчистило нам путь для установки понятия мифической
истинности. И теперь она стала нам ясной. Миф, несомненно,
живет каким-то" своим собственным пониманием истины;
и заключается она в установлении степени соответствия
текучей эмпирии личности с ее идеально-первозданной
нетронутостью. Это — вполне ясно отличимая от всякой
иной истинности чисто мифическая истинность. В основе ее
лежит истина чуда.
4. Миф не есть метафизическое построение, но — чисто
вещественная действительность, являющаяся, однако, в то
же время и отрешенной от обычного хода явлений и
содержащая в себе поэтому разную степень иерархийности. Об
этом много говорилось в течение всей нашей работы. Но
ясно, что только после анализа чуда можно заполнить
реальным содержанием эти общие утверждения. Что такое
мифическая отрешенность, являющаяся в то же время и
чисто телесно-вещественным бытием,— мы теперь хорошо
знаем. Но знаем мы также и то, в чем заключается
подлинная иерархийная природа мифа. Мы обосновали, и притом
диалектически обосновали, как функционирует эта
мифическая иерархийность. Мы показали, что она есть всегда
то или иное приближенное значение, стремящееся к своему
пределу — к абсолютному самоутверждению личности. В
своем инобытийном существовании личность повторяет
только свои частные и подчиненные моменты, которые
в ней как в таковой даны сразу, нерасторжимо и раз
навсегда. Следовательно, диалектика и классификация этих
моментов и есть диалектика тех иерархийных степеней, на
которые рассыпается личность при переходе в инобытие
Α. Φ. ЛОСЕВ
. I——I , „
186
и которые будут, согласно меональной природе инобытия,
спутанно и случайно протекать в океане становления. Так
диалектически определена, выведена и обоснована иерар-
хийность бытия мифического.
5. Миф не есть ни схема, ни аллегория, но символ. Что
получает теперь это утверждение от нашего анализа поня*
тия чуда? Символ есть такая вещь, которая означает то
самое, что она есть по существу. Теперь мы должны
сказать, что подлинный мифический символ есть, по крайней
мере, четвертый символ, символ четвертой степени. Во-
первых, он есть символ в меру того, что он есть просто вещь
или существо. Ведь всякий реальный предмет, поскольку
он мыслится и воспринимается нами как непосредственно
и самостоятельно сущий, есть, сказали мы, символ. Это
дерево, растущее перед моим окном, есть как раз то самое,
что оно обозначает; оно и есть дерево, и обозначает дерево.
Во-вторых, миф есть символ в меру того, что он есть
личность. Тут ведь перед нами не просто вещи, но
интеллигентные вещи. Интеллигенция накладывается на прежний
символ новым слоем и превращает вещественный символ в
интеллигентный символ. Тут тоже приходится нечто
различать и потом отождествлять, приходится вновь говорить
о «бытии» и о «значении»; только «значение» теперь
оказывается интеллигентным значением. Я вижу некий предмет
и вижу в нем некое самосознание. Но, поскольку речь идет
о мифе, я не могу сказать, что этот предмет обозначает
какое-то самосознание, реально ему не принадлежащее
(как это делается в басне). Я обязан думать, что видимая
мною интеллигенция есть этот самый предмет или что, по
крайней мере, он от него реально неотделим (как в мифе
о Цербере, напр.). В-третьих, мифический символ есть
символ в меру того, что он есть история, так как мы имеем
тут дело не просто с личностью, но с ее эмпирическим
становлением; и — надо, чтобы это становление личности
было проявлением ее, чтобы везде она узнавалась как
таковая, чтобы везде происходило отождествление этой
становящейся личности с ее нестановящимся ядром. Наконец,
в-четвертых, мифический символ есть символ в меру своей
чудесности. А именно, в истории данной личности должна
быть антитеза (и, след., синтез) не просто нестановящейся
и становящейся стороны, но такой нестановящейся,
которая обладает специально признаками первозданного
абсолютного самоутверждения (т. е. предельно великих сил»
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I—-Π
187
могущества, знания, чувства, т. е. всемогущества,
всезнания и т. д.), и — такой становящейся стороны, чтобы она
воочию выявляла свою связанность с этим абсолютным
самоутверждением или, по крайней мере, с той или другой
ее стороной.— Так раскрывается четвертая символическая
природа мифа.
6. Миф не есть поэтическое произведение, и
отрешенность его не имеет ничего общего с отрешенностью
поэтического образа. В свете проанализированного нами
понятия чуда это взаимоотношение мифологии и поэзии может
быть формулировано еще проще и точнее. Поэзия живет
отрешенным от вещей бытием и «незаинтересованным
удовольствием». Мы теперь можем сказать, что миф есть не
что иное, как тот же самый отрешенный от вещей
поэтический образ, но вещественно и телесно утвержденный и
положенный. Миф есть поэтическая отрешенность,
данная как вещь. Сам по себе поэтический образ
«отрешен* от вещей и не заинтересован в них. Утвердим
теперь саму эту отрешенность от вещей как вещь, саму
эту незаинтересованность — как интерес; и — мы получим
миф. Поэзия же и вообще искусство только потому не
считается чудом, что оно мыслится не реальным, не
вещественным, а принципиально выдуманным и фиктивным,
созданным как бы только для услаждения чувств и для
рассмотрения через него того или другого бытия. Но
представим себе, что поэтическая действительность и есть
подлинная действительность, что, кроме нее, и нет никакой
действительности, т. е. не поэтическую действительность
сведем на обыденные факты, а эти последние поймем как
поэтическую действительность — мы получаем тогда
чудесную действительность, чудо. И это и будет мифом.
Поэтический образ не есть символ в четвертом смысле, во всех
же остальных смыслах он вполне одинаков с образом
мифическим. Художественное произведение есть телесное и
в фактах данное произведение чувственности чудесного.
Миф же есть телесное и в фактах данное произведение
самого чудесного, чудесного как реального факта, а не как
той или иной интеллигентной модификации. Наука, мораль
и искусство — интеллигентные конструкции; мифология —
фактически осуществляющая ту или иную интеллигенцию
конструкция.
7. Быть может, еще важнее уточнения, которые мы
должны теперь внести в наше утверждение, что миф не есть
Α. Φ. ЛОСЕВ
1
188
специально религиозное создание. Миф действительно не
есть специально религиозная форма, но почему-то мы
говорим же о чуде, да еще видим в чуде встречу двух планов,
из которых один, кажется, прямо возможен только для
религиозного сознания. Эту неясность необходимо
устранить, и, как только мы это сделаем, тотчас же понятие
мифа получит еще большую выпуклость и оригинальность.
Но для этого необходимо хорошо помнить наши общие
диалектические установки.
а) Мы имеем 1) смысл, идею, 2) интеллигенцию, или
интеллигентную идею, и 3) факт, воплощение
интеллигентной идеи, или личность. Возьмем вторую категорию. В ней
легко диалектически расчленяется триада, так что лучше
говорить уже не просто об интеллигенции, но о тройной
интеллигенции 1. А именно, поскольку интеллигенция есть
вообще некая самосоотнесенность, мы имеем а) такую
самосоотнесенность, которая фиксирует самый момент
отличия себя от всего иного, т. е. берет себя как
ограниченную чем-то иным; это есть познание. Ь) Мы имеем,
далее, в диалектическом порядке такую самосоотнесенность,
которая хотя и берет себя как ограниченную инобытием,
но старается вобрать в себя это инобытие, воссоединиться
с ним, отчего образуется становящаяся граница,
становящийся переход в инобытие; это есть стремление, влечение,
воля (эти дистинкции не могут нас сейчас интересовать),
с) Наконец, самосоотнесенность, перейдя в инобытие,
находит там себя саму, так что отпадает уже необходимость
дальнейшего перехода; становление остановилось, дало
границу, предел, а дальнейшее становление уже не
переходит этой границы и вращается внутри ее; здесь поэтому
слияние субъекта и объекта самосоотнесения в одну
вращающуюся вокруг себя самой, вокруг своего собственного
центра интеллигенцию; это — чувство. Такова диалектика
интеллигенции: а) познание или, если хотите,
«теоретический разум», Ь) воля, «практический разум», и с) чувство,
«эстетический разум». Все это — до факта, до личности;
все это — только смысл, идея, хотя и модифицированная
идея, а именно интеллигентно модифицированная идея.
Дальше диалектика переходит к личности. Всякая
категория в диалектике есть не что иное, как положенность пре-
1 Эта диалектика интеллигенции проведена мною в сфилософии
имени», М., 1927, § 13, и в «Диал. худ. формы», М., 1927, гл. 3.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I і
189
дыдущей категории в окружающем ее инобытии и, след.,
получение новых свойств в связи с этим инобытием,
синтезирование с ним. Другими словами, каждая последующая
категория воплощает предыдущую, подражает ей; та
является образцом, парадигматической для нее. Это есть
инобытийная модификация предыдущих категорий.
Поэтому и личность есть, во-первых, фактическая, т. е.
инобытийная, осуществленность интеллигенции, и, во-вторых,
она есть осуществленность и воплощенность всех трех
моментов интеллигенции. На познании строится наука.
На воле строится мораль. На чувстве строится искусство.
Наука, мораль, искусство — три типа творческой
интеллигенции, соединенные между собою нерушимою
диалектическою связью.
Ь) Но что делается с этими областями, когда мы их
начинаем мыслить не как формы просто интеллигенции, но
как формы фактически субстанциально
осуществленной интеллигенции, как формы бытия
субстанциально-личностные? Тогда мы переходим к религии.
Религия ведь претендует на субстанциальное
самоутверждение личности, т. е. на самоутверждение в вечности.
Покамест мы еще ничего не говорим о частичном или ущербном
бытии личности. Мы сейчас говорим только о личности как
таковой, об ее существе и природе. И явно, что жизнь
личности в этом смысле есть не что иное, как религия. Но это
есть отражение и воплощение интеллигенции вообще. Как
же отражается и воплощается она в своих отдельных трех
диалектических этапах? Явно, что и религиозная сфера
должна отразить на себе эти три этапа, по общему
правилу диалектической парадейгматики. И нетрудно
догадаться, что воплощенностью познания и науки в этой сфере
будет не что иное, как богословие; воплощенностью же
воли и поведения, нормированной деятельности и в этом
смысле «морали» будет религиозное поведение, и в
частности и главным образом — обряд. И что же будет
воплощенностью в сфере религиозной третьего этапа
интеллигенции, чистого чувства, объективным аналогом которого
является художественный образ? Я утверждаю, что это
есть сфера мифа, мифологии. Ведь художественный
образ есть возвращение к наивной действительности, когда
уже кончились хлопоты субъекта по отысканию законов
случайного бытия и достигнуто успокоение после
бесконечных усилий согласовать свое поведение с нормой. В чи-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
190
стом чувстве, этом субъективном корреляте
художественного образа, достигается вновь наивное равновесие
интеллигенции, и человек как бы вновь становится ребенком,
у которого разрешены и все проблемы знания, и все нормы
поведения. В мифе также мы находим растворенность
учительного, «теоретического» момента религии (создающего
в своем изолированном проявлении — богословие) в
«практической» сфере (создающей обряд), т. е. в некоем живом
действии и ряде соответствующих поступков и событий.
Другими словами, получается принципиально религиозно
осмысленное поведение или вообще протекание жизни,
или священная история. А это и есть мифология.
В интеллигентном ряду, след., место мифологии — после
богословия и религиозного поведения, или обряда, т. е.
она оправдана как диалектический синтез того и другого.
Между мифологией и богословием такое же
диалектическое отношение, как и между искусством и наукой, а между
мифологией и обрядом — как между искусством и
моралью. Точно так же нужно сказать, что отношения
богословия и религии есть диалектически то же, что и
отношение познания, науки к жизни, а отношение обряда к
религии — то же, что и отношение морали к жизни, и, наконец,
отношение мифологии к религии — то же, что и отношение
искусства к жизни.
с) Теперь мы самым четким образом представляем
себе отношение мифологии к религии. Мифология —
диалектически — невозможна без религии, ибо она есть не что
иное, как отраженность чистого чувства и его
объективного коррелята — художественного образа — в
религиозной сфере. Без религии и без вопросов субстанциального
(хотя бы и частично субстанциального) самоутверждения
личности в вечности (хотя бы в частичной вечности) не
может появиться никакая мифология. Но мы тут со всей
диалектической четкостью видим, что мифология сама по
себе не есть религия, что она не есть специально
религиозное создание, что сама-то религия ни в коем случае не есть
просто мифология. Религия есть, сказали мы,
субстанциальное утверждение в вечности. Следовательно, она
должна создавать такие формы, где бы это утверждение
фактически происходило. Другими словами, сущность
религии есть таинства. Они — не богословское учение и
тем более не наука и познание; они — не обряд и тем более
не нормированное поведение и мораль; они, наконец, и нс
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I—1
191
мифология, не священная история и тем более не
искусство, не художественные символы, не чувство, хотя бы и
чистейшее, возвышеннейшее и религиознейшее. Таинства
суть формы субстанциального утверждения
личности как таковой в вечности. В
христианстве таинство возможно только потому, что существует
Церковь. Церковь же есть Тело Христово. Христос же есть
Богочеловек, т. е. единая и одна субстанция Бога как
субстанции и человека как субстанции. Следовательно,
вполне понятно, что таинство есть вселенская эманация бого-
человечества, непрерывная возможность и опора
субстанциального утверждения человека в вечности. Вот почему
мы раньше сказали, при анализе взаимоотношения
мифологии и религии, что по сравнению с последней мифология
гораздо ближе к поэзии. Таким образом, богословие есть
религиозная наука, обряд есть религиозное поведение,
мифология есть религиозная поэзия и искусство. Сама же
религия не есть ни то, ни другое, ни третье. И жалки,
смешны, беспомощны общераспространенные попытки свести
религию то на науку и познание, то на мораль и поведение,
то на эстетику и чувства.
d) Итак, хотя мифология и невозможна без религии, но
все же это не есть само субстанциальное и абсолютное
самоутверждение личности. Она — скорее энергийное,
феноменальное самоутверждение, где субстанциальное и
абсолютное хотя как-то дано и логически, т. е.
диалектически, необходимо, но непосредственно и наглядно может
и вовсе не иметься в виду. Или можно сказать так: оно
всегда так или иначе имеется в виду в мифе, но миф сам-то
по себе есть только его смысл, его идея, его изображение
и лик, а не оно само. Миф сам по себе — как изображение,
как картина — может и не содержать проблем
субстанциального воссоздания личности. Так, мифический образ
Одиссея, воскрешающего души подземных обитателей
кровью, конечно, предполагает, что мифическое сознание,
породившее его, имело интуицию вечной жизни,
воскрешения, духовного состояния и всемогущества даже всего
неодушевленного (напр., крови) и т.д. Все это —
интуиция некоторых отдельных сторон личности в аспекте ее
абсолютной самоутвержденности. Однако никаких
вопросов об этой последней как таковой и об ее реальных
отношениях к земным событиям в этом мифе совершенно не
ставится. Миф ограничивается картинным описанием са-
Α. Φ. ЛОСЕВ
192
мых событий и не входит в их религиозную расценку. Это
не мешает, конечно, входить в нее другим мифам. Но
обычно для того, чтобы составился миф, совершенно достаточно
элементов первозданного абсолютного самоутверждения
личности лишь в виде заднего фона, в виде чего-то
подразумевающегося самого по себе. Мифическое сознание,
породившее упомянутый миф об Одиссее, пользуется
религиозно-мистическими интуициями, не входя в их
собственное мифическое или немифическое изображение; оно
пользуется ими чисто инструментально и — только для того,
чтобы дать картину очень и очень частичного их
применения, причем все внимание сосредоточено на самих этих
изображаемых фактах и картинах. Подлинной религией
был бы не подобный миф об Одиссее, а, напр., мифы,
связанные с мистериями. Так, миф о Деметре и о похищении
Коры, лежащий в основе Элевсинских мистерий, есть уже
не миф в собственном смысле, но именно религия,
выраженная, правда, мифически (она могла быть выражена и
иначе, напр. философски — у пифагорейцев и Платона,
художественно — у трагиков и т. д.).
8. Миф, далее, говорили мы, не есть догмат, но —
история. На фоне проанализированного нами понятия чуда и
этот момент становится теперь более богатым и более
четким. Прежде всего, становится ясным, что в мифе как
таковом наблюдается своя собственная, специфическая разде-
ленность и диалектическое противоречие. А именно, миф,
диалектически возникший как воплощенность чувства и
его объективного коррелята — художественного
символа — в сфере религиозно-личностной, в свою очередь
доступен триадическому делению. Нам ничто не мешает, а
ближайшее размышление даже и требует — мыслить, во-
первых, самый принцип личности, личность как таковую.
Во-вторых, подобно тому как «одно», переходя в «иное»,
превращается в «становление», и познание, переходя в
свое инобытие, становится поведением, волей,
стремлением, так целая и нетронутая, первозданная личность,
переходя в свое инобытие, становится исторической,
получает свою историю. Кроме того, становится совершенно
ясным из нашего анализа чуда, что перед нами тут именно
священная история. Но чтобы получить третий член, т. е.
синтез в этой внутри-мифической диалектике, необходимо
припомнить наше последнее отграничение, что миф не есть
историческое событие как таковое, но он всегда есть слово.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
!_^_І
193
Слово — вот синтез личности как идеального принципа и
ее погруженности в недра исторического становления.
Слово есть заново сконструированная и понятая личность.
Понять же себя заново личность может, только войдя в
соприкосновение с инобытием и оттолкнувшись, отличившись
от него, т. е., прежде всего, ставши исторической. Слово
есть исторически ставшая личность, достигшая степени
отличия себя как самосознающей от всякого инобытия
личность. Слово есть выраженное самосознание личности,
уразумевшая свою интеллигентную природу личность,—
природа, пришедшая к активно развертывающемуся
самосознанию. Личность, история и слово — диалектическая
триада в недрах самой мифологии. Это — диалектическое
строение самой мифологии, структура самого мифа. Вот
почему всякая реальная мифология содержит в себе
1) учение о первозданном светлом бытии, или просто о
первозданной сущности, 2) теогонический и вообще
исторический процесс и, наконец, 3) дошедшую до степени
самосознания себя в инобытии первозданную сущность.
Тут возникает большое расхождение различных
религиозных систем между собою; и по характеру выполнения этой
внутри-мифической триады можно судить об основной
идее, лежащей в основе той или другой мифологии. Так,
одна идея выражена в греческой мифологии, где из Хаоса
возникают Уран и Гея и процесс доходит до светлого
царства олимпийских богов; другая идея лежит в основе двух-
составной мифологии христианства, где отдельно дается
триадическое деление в сфере Божества (пресв. Троица)
и отдельно мифическая история твари: первозданное
безгрешное состояние прародителей, грехопадение и переход
в дурную множественность, искупление и восстановление
утраченного союза, новое и уже окончательное отпадение
и новое, уже окончательное воскресение и спасение. Ветхий
Адам, новый Адам, сатанинская злоба духа погибели,
Страшный Суд, Ад и Рай — необходимейшие
диалектические категории этой системы, объединенные нерушимою
связью. Есть своя диалектика ветхого и нового Адама,
диалектика Ада и Рая,— но касаться ее нужно в
изложении отдельных мифологических систем. Наконец, третья
идея лежит в основе новоевропейской мифологии, где
тезисом является тоже Хаос, но только не греческий, а похуже,
так, какая-то глина, не то - навоз, «материя»,
антитезисом — «сила» и «движение», направляемые неизвестно кем
7 Α. Φ Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
, Ι ι Ι
194
и неизвестно куда, царство абсолютного случая и слепого
самоутверждения, синтезом — механика атомов, в
которой нет ни души, ни сознания, ни разумной воли, ни истории.
Четвертая идея лежит в основе той мифологии, которая,
узревши истинѵ второй из указанных мифологий, начинает
задыхаться в тисках только что указанной третьей и, не
будучи в состоянии ее преодолеть, испытывает глухую и
неисповедимую жажду жизни, жажду утерянного
блаженного и мирного, наивного состояния духа, когда все просто
кругом и мило, когда родина и вечность слиты в одну ласку
и молитву бытия. Я думаю, что первичный и основной пра-
символ такой мифологии хорошо намечен у Достоевского.
«Где это,— подумал Раскольников, идя далее,— где это я
читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти,
говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-
нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке,
чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом
будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и
вечная буря,— и оставаться так, стоя на аршине
пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность,— то лучше так
жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить!
Как бы ни жить,— только жить!.. Экая правда! Господи,
какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за
это подлецом называет,— прибавил он через минуту». Все
эти мифологические идеи — индийская, египетская,
греческая, православно-христианская, католическая,
протестантская, атеистическая и пр.— в свою очередь
складываются в одну общую синтетически воплощаемую во
всемирно-историческом процессе Идею, и возникает, таким
образом, единая всемирно-человеческая мифология, лежащая
в основе отдельных народов и их мировоззрений и
постепенно осуществляемая путем смены одной религиозно-
мифологической и, следовательно, исторической
системы — другою. Изобразить 20* все эти отдельные системы
мифологии и показать их единство на лоне единой и общей
мифологии есть, однако, задача нашего дальнейшего, уже
специального исследования. Так наша общая диалектика
мифа переходит сама собой в диалектику отдельных и
специальных исторических типов мифологии.
XIII. Окончательная диалектическая формула. 1. Наш
принципиальный анализ понятия мифа закончен.
Дальнейшие рассуждения ѵже не дадут нам ничего принципиально
нового, хотя полученные результаты можно изложить еще
ДИАЛЕКТИКА МИФА
f—1 ^_-
195
по-иному, и можно подвергнуть их преобразованию,
подобно тому как сложную математическую формулу можно
путем преобразований выразить короче или иначе, не
внося ни одной принципиально новой величины. Что мы имели
до введения понятия чуда? Мы имели такое определение:
миф есть в словах данная личностная история. Теперь мы
можем сказать так: миф есть в словах данная чудесная
личностная история. Это и есть все, что я могу сказать о
мифе. И, вероятно, многие будут удивлены, что в
результате столь долгих изысканий и дистинкции получено столь
простое и, можно сказать, банальное и общепризнанное
определение. Кто же не думает, что миф есть
повествование, т. е. нечто данное в словах, что в этом повествовании
фигурируют живые личности и что с ними совершаются
тут чудесные истории? Конечно, результат своих
изысканий я мог бы выразить гораздо сложнее и труднее,—
в особенности терминологически. Однако я предпочел
оставить обычные термины и только задался целью дать
полное феноменологическое вскрытие этих терминов и
зафиксировать некое однозначное их значение. Хотя
употреблены мною и обыкновенные слова, но они взяты не в их
обычном спутанном значении, а в строго
проанализированном и зафиксированном смысле. Поэтому пользоваться
полученной у меня формулой может только тот, кто хорошо
усвоил себе диалектику таких категорий, как «личность»,
«история», «слово» и «чудо». В путаницу и неразбериху
повседневного словоупотребления я внес точный и
определенный смысл, и нельзя ограничиться только конечною
формулой как такою. Надо иметь в виду и весь
предыдущий диалектический анализ.
2. Несмотря, однако, на то, что я исчерпал, по моему
мнению, все существенные стороны мифического сознания,
и несмотря также на то, что полученная мною последняя
формула достаточно проста и точна, я хочу в заключение
дать все-таки еще одно преобразование этой формулы,
с целью извлечь еще одну диалектическую выгоду, которая
в предложенной формуле дана неявно. Именно, в нашей
формуле, собственно говоря, четыре члена: 1) личность,
2) история, 3) чудо, 4) слово. Нельзя ли найти в языке
такую категорию, которая бы охватила или все четыре
величины, или, по крайней мере, некоторые из них в одном
единообразном выражении? Я думаю, что это можно
сделать, и получаемое нами упрощение даст возможность
7*
Α. Φ ЛОСЕВ
196
построить более однотипную и простую диалектику
понятия мифа.
Возьмем первую и последнюю категорию — личность
и слово. Миф есть слово о личности, слово, принадлежащее
личности, выражающее и выявляющее личность. Миф есть
такое слово, которое принадлежит именно данной
личности, специально для нее, неотъемлемо от нее. Если
личность есть действительно личность, она не сводима ни на
что другое, она — абсолютно самородна, оригинальна. Не
было и не будет никогда другой такой же точно личности.
Это значит, что и специфическое слово ее также абсолютно
оригинально, неповторимо, не сравнимо ни с чем и не
сводимо ни на что. Оно есть собственное слово личности и
собственное слово о личности. Оно есть имя. Имя есть
собственное слово личности, то слово, которое только она
одна может дать и выявить о себе. В имени —
диалектический синтез личности и ее выраженности, ее
осмысленности, ее словесности. Имя личности и есть то, что мы,
собственно говоря, имеем в мифе. Имя есть то, что
выражено в личности, что выявлено в ней, то, чем она является
и себе и всему иному. Итак, миф есть имя. Но миф,
сказали мы, есть еще чудо. Этот третий момент нашей последней
формулы также легко присоединяется к полученному более
сложному понятию. Именно, получается чудесное имя,
имя, говорящее, свидетельствующее о чудесах, имя,
неотделимое от этих самых чудес, имя, творящее чудеса. Мы
будем правы, если назовем его магическим именем.
Миф поэтому есть просто магическое имя. А
присоединение, наконец, второго момента, истории, дает последнее
преобразование, которое получит такую форму: миф есть
развернутое магическое имя. И тут мы
добрались уже до той простейшей и окончательной сердцевины
мифа, дальше которой уже нет ничего и которая дальше
не разложима уже никакими способами. Это —
окончательное и последнее ядро мифа, и дальше должны уже
умолкнуть всякие другие преобразования и упрощения.
Это максимально простая и максимально насыщенная
формула мифа. Нужно также иметь в виду, что эта
формула обладает совершенно универсальным значением.
Конечно, христианская «магия» не имеет ничего общего
с языческой.
...А чародеи все изыдут в дьявольский смрад,
Злоклинатели в бездну бездонную,
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1^.1
197
Ведуны-л и ходей — во блата зловонные:
Будет им вечное потопление,
Будет им вечное гниение,
Будет им вечное задушение...
И тем не менее, глубочайшее и интереснейшее
развертывание мифа из первичного магического имени можно найти
в массе христианских текстов, из которых я приведу только
отрывок одной заклинательной молитвы, помещенной в
чине изгнания беса в Требнике Петра Могилы.
«...Убойся, бежи, бежи, разлучися, демоне нечистый и
скверный, преисподний, глубинный, льстивый,
безобразный, видимый бесстудия ради, невидимый лицемерия ради,
идеже аще еси, или отъидеши или сам еси Вельзевул или
сотрясаяй или змиевидный или звероломный или яко пара
ли яко птица или нощеглагольник или глухий или немый
или от нашествия устрашаяй или растерзаяй или наветуяй
или во сне тяжце или в недузе или в язве или в смеси скок-
таяй или слезы любосластные творяй или блудный или
злослучайный или похотный или сластотворный или отра-
волюбивый или любонеистовый или звездоволхвуяй или
домоволшебник или бесстудный или любокрительный или
непостоянный или с месяцем пременяяйся или временем
некиим сообщаяйся или утренний или полуденный или
полунощный или безгодия некоего или блистания или сам
собою прилучился еси или по случаю сретился еси или от
кого послан или нашел еси внезапу или в мори или в реце
или от земли или от кладезя или от стремнины или от рова
или от езера или от трости или от вещества или от верху
земли или от скверны или от луга или от леса или от древа
или от птиц или от грома или от покрова банняго или от
купели водныя или от гроба идольского или безлицый или
отнюдуже вемы или не вемый или от знаемых или от
незнаемых или от непосещаемого места отлучися и приме-
нися. Устыдися образа рукою Божию созданного и
воображенного: убойся воплощенного Бога подобия и не сокрыся
в рабе Божием (имярек), жезл железный и пещь огненная
и тартар и скрежет зубный, отмщение преслушания тебе
ожидает; убойся, умолкни, бежи и не возвратися, ни
сокрыся со инем лукавством нечистых духов, но отъиди в землю
безводную, пустую, неделанную, скорбную, на ней же
человек не обитает, Бог един припугает, связуяй всех
уязвляющих и злосоветующих на образ его и веригами мрака
и тартару предавый, в долгую нощь и день, тебе всех злых
Α. Φ. ЛОСЕВ
198
искусителя и изобретателя диавола, яко велий есть страх
Божий и велия слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне
и присно и во веки веков. Аминь».
На этом придется мне и закончить свое феноменолого-
диалектическое раскрытие понятия мифа. Миф как
развернутое магическое имя не может уже быть проанализирован
дальше и сводим на какие-нибудь более первоначальные
моменты. Тут — окончательная неделимая и центральная
смысловая точка мифа; и возможно лишь такое
дальнейшее исследование, которое будет детализировать это
понятие уже без выхода за его пределы.
XIV. Переход к реальной мифологии и идея
абсолютной мифологии. Сейчас мы находимся на поворотном
пункте нашего исследования. То, что мы исследовали, можно
назвать исследованием понятия мифа. Мы
фиксировали самые основные и примитивные моменты, без которых
миф невозможен как миф. Но этим, разумеется, еще ничего
не сделано для реального анализа реальных типов
мифологии. Миф не есть понятие мифа. Из тех смысловых
установок, которые мы нашли в понятии мифа, вернее, из их
различной комбинации мы должны получить
диалектическую классификацию сначала основных типов
мифологии вообще, а потом и диалектическую структуру
отдельных мифов. Этим занимается следующий выпуск моего
общемифологического труда. Здесь же, чтобы остаться в
плоскости проблем данного исследования, я хотел только
наметить одну установку, которая будет играть основную
роль в наших дальнейших изысканиях. Это —
противоположность абсолютной и относительной мифологии.
Так как предыдущее изложение уже вполне достаточно,
чтобы мы могли уже сейчас сформулировать идею
абсолютной мифологии, то этой идее я и посвящу
заключительные страницы этой принципиальной части
исследования.
Итак, в дальнейшем я попробую дать диалектику
абсолютного мифа. Уже в предыдущем изложении мы не раз
видели, что для мифологии не всегда существуют
одинаково благоприятные условия. Возможна мифология,
которая ни с какой стороны и ни в каком отношении не
встречает препятствий для своего существования и развития.
Такая мифология существует как единственно возможная
картина мира, и ни один принцип ее не подвергается
никакому ущербу. Такую мифологию я называю абсолютной.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
199
С другой стороны, мы видели уже не раз, что мифология
не понимает своей мифологической природы, увлекается
частностями, уродует диалектику, т. е. самый разум, для
того чтобы сохранить свое ущербное и отъединенное
существование. Всякую такую мифологию я называю
относительной мифологией. Она всегда живет большим или
меньшим приближением к абсолютной мифологии, незримо
управляется ею и всегда абсолютизирует какой-нибудь
один или несколько из ее принципов.
Без диалектического обследования абсолютной и
многочисленных относительных мифологий наш анализ
оказался бы не только не полным, но, в сущности, это было
бы только началом анализа, ибо мы в предыдущем
сделали только то одно, что вскрыли понятие мифа и основные
виды его. Это, однако, ровно ничего не говорит о структуре
мифа, о реальной форме отдельных типов мифологии, и тем
более ничего не говорит о структуре каждого данного
мифа. Предыдущее изложение есть, в сущности, только
введение в диалектику мифа, установка основного
принципа мифообразования. А мы должны дать диалектику
реальных типов мифологии. И я предполагаю начать с той
мифологии, где не принижен ни один ее принцип, где все
моменты мифообразования занимают ровно то место,
какого они заслуживают, где ни одна сторона не заглушает
никакую другую сторону. Естественно, что такая
абсолютная мифология должна быть как бы нормой, образцом,
пределом и целью стремления для всякой иной мифологии.
Кроме того, в предыдущем мы уже увидели, что все
относительные типы мифологии, как базированные на каком-
нибудь одном принципе абсолютной мифологии, получают
точнейшую диалектическую классификацию, поскольку и
все принципы абсолютной мифологии продуманы нами
диалектически. Раз абсолютная мифология будет
построена диалектически, это значит, что тем самым уже дана
диалектическая классификация всех возможных
мифологий вообще, ибо каждая отдельная мифология делает не
что иное, как берет один из принципов абсолютной
мифологии.
Руководствуясь полученным результатом (учением о
мифе как о развернутом магическом имени), попробуем
теперь развернуть это магическое имя, предполагая, что
это магическое имя — абсолютно, т. е. зависит только
от себя, и что это развертывание есть диалектическое
Α. Φ. ЛОСЕВ
200
(иным оно и не может быть в труде, преследующем
философские цели)
1. Абсолютная мифология есть та, которая
развивается сама из себя и которая ничего не признает, помимо
себя. Абсолютная мифология есть абсолютное бытие,
выявившее себя в абсолютном мифе, бытие, достигшее
степени мифа, причем ни этому бытию, ни мифу не может
быть положено, никогда и никем, никаких препятствий и
границ. Развернуть такую мифологию — значит показать,
как это абсолютное бытие дорастает до этого абсолютного
мифа и какие этапы проходит бытие в этом развитии.
Таким образом, диалектика абсолютного мифа есть, в
сущности, самая обыкновенная диалектика, ибо всякая
диалектика говорит именно о последних, т. е. абсолютных,
основаниях знания и бытия. Но дело в том, что «всякая»
диалектика как раз наполнена различными
относительными мифами; потому часто и не видно в ней, где же тут
место мифу. Абсолютная мифология, исходя из того, что
бытие увенчивается магическим именем (тут она
сознательно исходит из определенного вероучения, как то
делает сознательно или бессознательно и всякая
мифология), понимает все диалектические категории как
магические имена, ибо раз бытие увенчивается магическим
именем, то, значит, оно и есть это магическое имя, а
стало быть, в свете этого последнего должны быть мыслимы
и все частичные категории. Диалектика как чистое
мышление — не есть мифология. Но такая диалектика
неосуществима. Она всегда имеет под собой определенную
мифологию, так как самое направление и распределение
категорий может варьироваться на тысячу ладов. В своем
исследовании платоновской диалектики я показал, какая
мифология предопределяет эту диалектику * В анализе
относительных типов диалектики я покажу, какая
мифология лежит под гегелевской диалектикой.
Следовательно, развернуть абсолютную мифологию — значит не что
иное, как развернуть диалектику вообще, но
только не такую диалектику, которая имеет под собою один
из возможных принципов, но — все возможные принципы.
Сделать это не так уже невозможно, как кажется.
Напр., вывод категорий в диалектике Гегеля сделан
настолько мастерски и безукоризненно, что большею частью
1 Очерки античного симв. и мифол. I. С. 661—671
ДИАЛЕКТИКА МИФА
, 1 1
201
не вызывает никаких сомнений в человеке, умеющем
оперировать при помощи диалектического метода. Однако
всякому ясно, что под этой гегелевской диалектикой
лежит очень определенное намерение (т. е., по-моему, миф)
понимать диалектику и всю философию лишь как учение
о понятиях, т. е. лишь как логическое учение. Ясно, что
это — один из возможных принципов. Конечно,
диалектика должна быть разработана как чисто логическое
учение, и, пожалуй, даже в первую голову это должно быть
так. Но, разумеется, диалектика не есть только
логическое учение. Она же сама ведь постулирует
равнозначность алогического с логическим. Следовательно, она
обязана в качестве одного из своих движущих принципов
положить и алогическое. Или возьмем еще разительный
пример: это так называемый диалектический материализм,
кладущий в основу бытия материю. Я уже имел случай
указать, что материи, в смысле категории, принадлежит
роль совершенно такая же, как и идее. Стало быть,
диалектический материализм есть относительная, а не
абсолютная мифология. Абсолютная мифология положит в свою
основу материю и идею как два совершенно равноправных
принципа (хотя, в силу той же диалектики, и абсолютно
слитых в один неразличимый принцип).
Пользуясь уже приведенными мною примерами
относительной мифологии, попробую показать, как должна быть
построяема абсолютная мифология. Я попрошу вспомнить
антиномии, изложенные мною выше, в гл. IX, § 4, 8. Так
как чистая, немифологическая диалектика есть вообще
фикция, то, следовательно, и та диалектика, которую я там
противопоставлял формально-логическим учениям, есть
также мифологическая диалектика, т. е., чтобы принять ее,
тоже необходимо поверить в некий миф. Пересмотрим эти
указанные там антиномии по порядку.
2. Прежде всего, я развивал антиномию веры и знания.
Вера, как того требует диалектика, не может
осуществиться без знания и даже и есть само знание (или вид его 21*),
а знание не может осуществиться без веры и, в сущности
своей, и есть не что иное, как вера (или вид ее) Вопреки
относительной мифологии, выставляющей на первый план
то веру без знания, то знание без веры, абсолютная
мифология может избрать только один путь — признать оди-
наковую, совершенно равноправную ценность и веры
и знания. Сделать это она может, однако, только так,
Α. Φ ЛОСЕВ
I 1 ι -
202
чтобы оба эти момента объединились в нечто третье со-
вершенно без всякого остатка, чтобы объединение веры и
знания совершилось не по типу веры и не по типу
знания, чтобы была третья совершенно особая категория,
которая бы целиком скрывала в себе эти две и по сравнению
с которой они оказались бы только несамостоятельными,
абстрактными моментами. Диалектика только такой
синтез и может дать, и только так она и может примирить
враждующее противостояние22* веры и знания. Таким
синтезом является ведение, равноправно вмещающее
в себе и веру и знание и не способное осуществиться ни
без веры, ни без знания. Это — простейший, и притом чисто
логический, совершенно невероучительный синтез. Но
признать его, понять и утвердить его можно только при
соответствующем мифологическом, т. е. чисто жизненном,
опыте. Я называю эту мифологию абсолютной; она —
всегда ведение, г но с и с. Фидеизм же и рационализм есть
виды относительной мифологии. И на этом примере
совершенно ясно, как относительная мифология имеет под собой
один из диалектических принципов и как абсолютная —
все принципы. Я говорил, что фидеизм и рационализм есть
чисто буржуазная, индивидуалистическая философия.
Это и понятно, так как совершенно очевидно, что они суть
не более как вялый и беспомощный результат разложения
средневекового учения о соборном ведении. Абсолютная
мифология гностична, она — гностицизм (конечно, в
общем, а не в специальном смысле христианских сект
II—III вв.)1.
Я не преследую тут целей систематического раскрытия
основ абсолютной мифологии, и потому отпадает
необходимость давать классификацию типов гносиса. Существует
гносис пророческий, молитвенный, интеллектуальный и пр.
Я скажу несколько слов только о пророческом гносисе.
Всем известен общераспространенный обычай у так
называемых «верующих» толковать пророчества. Выше
я уже имел случай указать на то, что тут в особенности
повезло Апокалипсису. Для всех этих бесчисленных
толкователей необходимо заметить следующее. 1) Если образы
Апокалипсиса (напр., чаши гнева Божия) понятны только
1 О двух видах ведения, 1) «естественного, предшествующего вере»
и — 2) «духовного», «порождаемого верою»,— читаем у Исаака Сирина,
«Твор.». Серг. Пос-, 1911.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
203
тогда, когда их кто-то истолкует и покажет, что они
собственно значат, то это возможно лишь в том случае, если
Апокалипсис вовсе не есть пророчество и его
«откровение» само по себе ничего не открывает. Наоборот, это
есть затемнение подлинного смысла грядущих событий,
которое может быть уничтожено только «научным»
истолкованием. Едва ли такое воззрение можно считать
христианским и церковным. 2) Если образы Апокалипсиса
имеют переносное значение, то в целях пророчества и
откровения гораздо целесообразнее было бы прямо назвать,
перечислить и описать грядущие события, а не облекать
их в образы, за которыми иной раз совсем невозможно
увидеть подлинные события. Едва ли Иоанн Богослов имел
в виду необходимость такого «переносного» толкования,
3) Допустим, что апокалиптические образы имеют какой-
нибудь точно установленный определенный смысл. Напр.,
пусть Блудница на водах многих есть Англия, или пусть
Вавилон есть Европа, и т. д. Это значило бы, что все
события уже предопределены, что они предсказаны так, как
предсказывают солнечные и лунные затмения. Можно ли
такие предсказания считать христианскими и даже вообще
религиозными? Голый механицизм не есть религия. Такая
механистическая предсказанность противоречила бы
свободе человека, который волен спасаться и погибать, т. е.
волен ускорять и замедлять темп всемирной истории.
4) Наконец, на основании чего происходит это
«толкование»? На основании знания истории человечества.
Допустим невозможное,— что человек так хорошо знает
и фактически и идейно всемирную историю, что может
сразу формулировать смысл каждой мельчайшей эпохи.
Но и тогда толкование не имеет никакой почвы.
Во-первых, если он так хорошо знает всемирную историю и ее
смысл, то для чего ему «толкование Апокалипсиса» и
самый Апокалипсис? А во-вторых, поскольку он еще не
знает, как будет идти история дальше,— на каком
основании он будет подставлять под апокалиптические образы
события из прошлого, если события из будущего,
возможно, окажутся гораздо более подходящими? — Из
всего этого (число аргументов может быть значительно
увеличено) я делаю одно заключение: христианин не имеет
права «толковать Апокалипсис», не имеет права делать тут
какие-нибудь общеобязательные выводы (подобно тому,
как его почти не толковали и св. отцы).
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
204
Но тогда, значит, остается понимать его буквально?
Да, совершенно верно. Христианин должен признавать,
что звезды будут падать на землю, вода будет обращаться
в кровь, саранча будет величиною с коня, и т. д. и т. д.
Но простая буквальность опять-таки не есть ни
христианская, ни религиозная, ни мистическая точка зрения.
Буквальная картина — плоскостна, не имеет мифического
рельефа, не овеяна пророческим трепетом, не уходит
своими корнями в непознаваемую бездну и мглу судеб
Божиих. Апокалиптические образы должны быть
буквальны в символическом смысле, понимая под символом то
понятие, которое мы раскрыли выше, в гл. V. Но это значит,
что апокалиптические образы должны потерять тот
характер голого знания, который мы только что критиковали
в отношении толкования Апокалипсиса. Они должны стать
также и мистерией веры. Это значит, что, понимая их
подлинный смысл, мы не знаем, как они будут
осуществляться, но мы верим, что то, что осуществится, будет
иметь буквально именно этот смысл, а не иной. Другими
словами, судить о том, как должно исполниться
пророчество, можно только по наступлении того события,
которое предречено. Полностью о пророчестве можно судить,
таким образом, только после его исполнения. Скажут:
зачем же тогда существует пророчество? Пророчество
существует для того, чтобы установить смысл грядущих
времен, а не их факты. Поэтому все толкования должны
ограничиться установлением только точного смысла
событий, а не их фактического протекания. Это-то и есть
пророчество, а не астрономическое вычисление затмения. И это-
то и требует синтеза знания и веры. Все остальное —
абстрактно-метафизическая, формально-логическая
мифология, а не диалектическая, т. е. не абсолютная,
мифология. Разве мало открыто в апокалиптических пророчествах
такого, что понятно без всякого толкования и для
христианина является настоящим пророчеством (всеобщее
отступление, казни и гнев Божий, Антихрист, его победы
и поражение, воскресение мертвых, Страшный Суд и т. д.) ?
Разве это не пророчество и разве этого мало?
3. Далее, в той же гл. IX я привел I. антиномию
субъекта и объекта. Оказалось, вопреки субъективистам, что
субъект есть тоже объект, а объект, вопреки
объективистам, есть тоже субъект. Если мы не заткнем диалектику
в самом же начале, а дадим ей развиться до конца, то она
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 1
205
найдет нам и тот синтез, который совместит в едином
и нераздельном бытии и стихию субъекта, и стихию
объекта. Это будет, конечно, личность, о которой всякий
здравомыслящий скажет, что она есть обязательно и
субъект и объект. «Личность» есть диалектический синтез
«субъекта» и «объекта» в одном неразложимом целом.
Интересно: совершенно невозможно личность свести ни на
то, ни на другое. Когда старые психологи-субъективисты
хотели говорить о личности (да они почти и не говорили
о ней, разве только где-нибудь на задворках, в последней
главе мелким шрифтом), они повторяли все те же схемы,
применяемые ими и в области отдельных способностей
(главным образом, конечно, тоже в силу особого мифа,—
в области мышления). Когда же современные
рефлексологи начинают говорить о личности, после того как все
сведено на физиологические процессы,— это производит
только забавное впечатление. Вопреки этим ублюдочным
мифологиям, абсолютная мифология признает полную
невозможность уничтожения субъекта в пользу объекта
и объекта в пользу субъекта, но в то же время утверждает
необходимость новой категории, не сводимой на них, но
тем не менее синтезирующей их. Абсолютная мифология
есть персонализм.
Далее мы встретились с II. антиномией идеи и материи
или, более обще, идеального и реального. Синтезом этой
антиномии является субстанция, которая всегда
мыслится именно как нечто реальное, но обязательно
определенным образом оформленное и осмысленное реальное.
Абсолютная мифология есть субстанциализм.
III. Антиномия сознания и бытия синтезируется в
творчество. Чтобы творить, надо, очевидно, как-то
затратить сознание вообще или какие-нибудь его стороны, но
оставаться в области сознания для творчества
недостаточно, и надо, чтобы это сознание как-то переходило в бытие
и отражалось в нем. Абсолютная мифология есть
креационизм, или теория творчества. Творчество—никак
не удается понять большинству представителей «науки».
И неудивительно. Чтобы понять творчество, надо понять
сознание. А сколько существует праздных и вздорных
теорий сознания, зачастую прямо уничтожающих его в
самом корне! Вот простая диалектическая формула
выведения «сознания». 1) Каждое А диалектически получается
путем отграничения от всего иного и противопоставления
M Ф.ЛОСЕВ
< 1
206
ему. 2) Допустим, что мы перебрали все, что было, есть
и будет; и имеем не одно Л, но все Л и не-Л, какие только
могут быть. 3) Чтобы диалектически вывести это все, надо
его чему-то противопоставить и чем-то ограничить, надо
его чем-нибудь отрицать. 4) Но ничего иного уже нет, ибо
мы условились взять именно все. Стало быть, все может
быть противопоставлено только самому же себе,
ограничено только самим же собою. 5) Но кто будет совершать
это противополагание? Так как никого и ничего нет, кроме
этого всего, то противополагать будет самое же это все,
т. е. все будет само противополагать себя себе же. 6) Это
и значит, что оно будет иметь сознание. Таков простейший
диалектический вывод категории сознания. Если бы мы
глубже понимали эту категорию во всей необходимости,
самостоятельности и несводимости на все прочее, то мы
поняли бы такую же необходимость, самостоятельность
и несводимость категории творчества.
IV. Сущность и явление, противостоя друг другу как
взаимопротивоположные члены отношения, синтезируются
в понятие символа, где дано такое явление, которое
тут же указывает и на определенную сущность, т. е. как-то
содержит ее в себе. Абсолютная мифология есть
символизм.
V. Антитеза души и тела примиряется в понятии
жизни, которая не мыслима ни без тела, т. е. того, что
нужно двигать, объекта движения, ни без самодвижущего
и самодвижущегося начала. Абсолютная мифология есть
теория жизни.
VI. Большой интерес представляет примирительный
синтез индивидуализма и социализма. Нужно найти, в
качестве синтеза, такую сферу, где бы права индивидуума
и права общества не были и не могли быть взаимно
нарушаемы. Необходимо, чтобы индивидуум, чем больше он
углубляет свою индивидуальность и чем больше в этом
случае превосходит прочих людей и отделяется от них,
тем более содействовал бы обществу, общему делу, всем.
Такой синтез есть религия, и именно религия в смысле
церкви. Только в религии возможно такое положение,
что отдельный человек, углубляясь в себя до последнего
напряжения и иной раз даже прямо уходя из мира в
отшельничество, этим самым не только содействует
собственному спасению, но спасает и других; его дело важно
и нужно именно для всех, для всей церкви; он повышает
ДИАЛЕКТИКА МИФА
l__l „■
207
духовное состояние именно всей церкви и приближает
других к спасению. Так как только в символе подлинное
слияние идеи и материи и так как символ, воплощенный
в жизни, есть организм (выше, с. 42), то, следовательно,
подлинное слияние общего и индивидуального может быть
только в символическом организме. А Церковь и есть
Тело Христово, т. е. абсолютная истина, данная как
символический организм. Абсолютная мифология,
следовательно, всегда есть религия в смысле церкви.
VII. Свобода и необходимость примиряются в
чувстве, в котором всегда слиты воедино долг и склонность,
заповедь и влечение, долженствование и свободный выбор.
Абсолютная мифология есть жизнь сердца.
VIII. Бесконечное и конечное хорошо синтезируются
в современной математике под именем актуальной
бесконечности. Бесконечность мыслится не
расплывающейся в бездне абсолютной тьмы, так что уже не видно
ни конца ни края этой бесконечности. Эта бесконечность
есть нечто осмысленное и оформленное,— в этом смысле
конечное. Она имеет свою точно формулированную
структуру; и существует целая наука о типах и порядках
бесконечности. Эта теория трансфинитных чисел должна быть
обязательно привлечена для целей абсолютной
мифологии 1
В отношении к мировому пространству здесь
получается следующий интересный вывод. Мы утверждали, что
мир и имеет пространственную границу, и не имеет
пространственной границы. Он имеет пространственную
границу, и в то же время нельзя выйти за пределы этой
границы. Для формальной логики тут безвыходное
затруднение: или мир не имеет никаких границ, тогда нет и
никакого мира; или мир есть, но можно выйти за его
пределы, и тогда нет никаких пределов для мира, т. е., в
сущности, в обоих случаях нет никакого мира. Диалектика
решает этот вопрос иначе. Мир имеет определенную
границу, но выйти за эту границу нельзя. Это возможно
только так, что само пространство около границы мира
1 В отрицательной форме мысль об одновременной конечности
и бесконечности мира выражена, напр., у М. В. Мачинского в статье:
«Принцип относительности конечного мира» («Журн[ал] Р[усского]
физико-хим [ического] о [бщест] ва», ч[асть] физич[еская]. 1929. LXI.
Вып. 3. С. 235—256). Здесь доказывается, что физическими средствами
совершенно невозможно отличить конечного мира от бесконечного.
Α. Φ ЛОСЕВ
208
таково, что оно не дает возможности выйти за пределы
мира, т. е. что пространство это, изгибаясь около
границы мира, заставляет всякий предмет, появившийся здесь,
двигаться по этим изгибам, напр. вращаться по
периферии мира. А если этот предмет действительно хочет выйти
за пределы мира, он должен так измениться физически,
чтобы тело его уже не занимало пространства и чтобы
тем самым ничто не мешало ему покинуть мир. Тут перед
нами самая обычная диалектика: когда перед нашим
взором что-нибудь оформилось и мы провели резкую линию,
отделяющую и отличающую эту вещь от всего прочего,
то тем самым перед нами образуется некая целостность,
в которой можно производить различения уже вне связи ее
с окружающим фоном, но внутри ее самой; диалектика
требует, чтобы и внутри этой вещи была определенная
структура, а не просто смутное и темное безразличное
пятно и дыра. Но всякая структура требует различенное™
и объединенности различенного. Поэтому если мы всерьез
решимся мыслить мир не как черную дыру и смутное
марево, не как головокружение от собственной рассудочной
разгоряченности, а как некоторый реальный и
самостоятельный объект,— мы всегда будем мыслить и его границу,
а если — границу, то и — как целое, а если — как целое,
то и — как координированную раздельность. А так как
речь идет пока только о пространстве, то
координированная раздельность в пространстве будет требовать,
очевидно, 1. неоднородности самого пространства и 2.
определенной системы этих неоднородных пространств ! Итак,
синтезом бесконечности и конечности мирового
пространства является фигурность этого пространства. Кроме того,
наличие конечного мира делает возможным (а с другой
стороны, прямо требует) изменения объема массы тела
1 Тут я не касаюсь другой аксиомы нигилизма — о движении Земли.
Нигилистической астрономии хочется, чтобы ничего не было, чтобы все
было превращено в прах. Поэтому и Земля превращена в незаметную
песчинку, которая затеряна в бедламе бесконечного количества
головокружительных скоростей. О том, что нет ровно никаких разумных
оснований для движения Земли, что столько же оснований и для
абсолютного покоя Земли, что научно можно говорить только о взаимном
перемещении Земли и мира неподвижных звезд — см., напр., в русском
переводе статью Ρ Граммеля, «Механические доказательства движения
Земли» (Успехи физич. наук. Т. III. Вып. 4 [1923]). Здесь
проанализировано до двух десятков разных существующих в науке «доказательству
и ни одно из них, оказывается, не имеет полной достоверности.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
Г——|
209
в зависимости от места в мире, т. е. от движения по миру.
В частности, эта диалектика требует, чтобы на периферии
мира пространство было таково, чтобы оно обеспечивало
превращение объема тела в нуль. Однако ничто не мешает
думать, чтобы объем тела превращался в мнимую
величину. Это будет способом пребывания тела за пределами
мира 1.
Правда, несмотря на то, что математика и физика
давным-давно создали способы мыслить все эти вещи
совершенно реально и без всякой фантазии,— никакие
силы не могут заставить ни толпу, ни самих ученых стать
всерьез на эту точку зрения. Ньютонианский миф
однородного и бесконечного пространства — этот чисто
капиталистический принцип (как выше я уже не раз
указывал)— царит во всем ученом мире. Совершенно ясна
вся невыразительность, нерельефность, бескрасочность,
полная мертвенность такого пространства. И тем не
менее все ученые и не ученые, от мала до велика,
преклоняются пред этим мифом как перед истуканом. Вот почему
какому-нибудь философу, вроде меня, грешного, принцип
относительности более понятен, чем большинству физиков
и математиков, у которых просто нет соответствующих
интуиции. Находятся даже поэты, которые воспевают эти
бесконечные мировые «просторы», на самом деле
равносильные самому обыкновенному сумасшедшему дому.
Говорят: никак не могу помыслить, что мир имеет
пространственную границу. Господи Ты Боже мой! Да зачем
вам мыслить эту границу? Ведь поднимали же вы когда-
нибудь голову кверху или скользили же взором по
горизонту? Ну, какую же вам еще границу надо? Граница эта
не только мыслима. Она совершенно наглядно видима 2
1 Русская литература о принципе относительности приведена мною
в «Античн. косм.», 409—411. Там же подведена диалектическая база
под известные формулы Эйнштейна—Лоренца (212)
2 Не как абсолютную истину, но как пример возможного
приближения современной науки к идеям абсолютной мифологии можно —
из сотен примеров — привести теорию Л. Фегарда (его статья
«Северные сияния и верхние слои атмосферы» переведена в «Успехах физич.
наук», т. IV, вып. 2—3, 1924), который, наблюдая в 1922—1923 гг. спектр
северного сияния, пришел к выводу, что для объяснения азота (водорода
и гелия не оказалось и следов, вопреки общепринятому учению о
наличии этих легких газов выше 100 км от поверхности Земли) надо было
признать или возрастание температуры с высотой, или увлечение азота
кверху электрическими силами. Характер спектра и др. причины делают
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
210
И ровно нет никаких оснований не доверять своим глазам.
Вот тут-то и видно, что позитивизм есть попросту
пошлейший нигилизм и религия дыромоляйства. Говорили: идите
к нам, у нас — полный реализм, живая жизнь; вместо
ваших фантазий и мечтаний откроем живые глаза и будем
телесно ощущать все окружающее, весь подлинный
реальный мир. И что же? Вот мы пришли, бросили «фантазии»
и «мечтания», открыли глаза. Оказывается — полный
обман и подлог. Оказывается: на горизонт не смотри, это —
наша фантазия; на небо не смотри — никакого неба нет;
границы мира не ищи — никакой границы тоже нет;
глазам не верь, ушам не верь, осязанию не верь... Батюшки
мои, да куда же это мы попали? Какая нелегкая занесла
нас в этот бедлам, где чудятся только одни пустые дыры
и мертвые точки? Нет, дяденька, не обманешь. Ты,
дяденька, хотел с меня шкуру спустить, а не реалистом меня
сделать. Ты, дяденька, вор и разбойник.
Итак, диалектика требует фигурности пространства,
конечности мира и превращаемости каждого тела в
другое '. Абсолютная мифология есть теория актуальной
бесконечности всех реальных, возможных и мыслимых
объектов. Это — теория перспективности бытия и рельефности,
выразительности жизни.
Сходна с этим синтетическая природа IX. антиномии
абсолютного и относительного, равно как и X. антиномии
вечного и временного. В первом случае мы получаем
фигу ρ ность абсолютного, его физиономию, его лик;
во втором случае получаем φ игу рность вечности,
ее реальную физиономию, ее живой л и /с. Вместо неясного
черного пятна — и абсолютное и вечное становится зри-
первый вывод невозможным. Второй же вывод приводит к тому, что азот
в условиях наэлектризованной атмосферы в чрезвычайно
ионизированном состоянии должен сгущаться в крупинки, или маленькие кристаллы.
Таким образом, получается учение о твердом кристаллическом тумане
в верхних слоях атмосферы, вполне аналогичное древним учениям
о твердом небесном своде и о нескольких небесах.
1 Относительно этой превращаемости диалектическое обоснование —
в «Античн. косм.», 158—160, о научно-химическом же обосновании
(в связи с учением о геометрических инвариантах, т. е. о нефизических
устойчивых точках, регулирующих химическую однородность всеобщего
вещества и объясняющих взаимопревращаемость химических
элементов) можно прочитать хотя бы у Н. С. Курнакова, «Непрерывность
химических превращений вещества» (Успехи физических наук. Т. IV.
Вып. 2—3. 1924).
ДИАЛЕКТИКА МИФА
I I
211
мым ликом, умной иконой, ведомой истиной.
Новоевропейская мысль потому и перестала мыслить диалектически,
т. е. антиномико-синтетически, что она утеряла видение
абсолютных ликов. И только тогда возродилась
диалектика, когда этот лик снова стал видеться,— на этот раз,
впрочем, во внутренней личности самого человека (в
немецком идеализме и романтизме). Условием
позволительности марксистского диалектического материализма
является поэтому исповедание пролетариата как некоего
абсолютного лика бытия. Впрочем, подобные учения
существуют сколько угодно и без наших формулировок,
хотя обычно принято их не замечать. Так, сущность всей
Каббалы, как сообщил мне один ученый еврей, большой
знаток каббалистической и талмудической литературы
(у которого я, по скверной привычке европейского
наблюдателя, доискивался точно узнать о неоплатонических
влияниях в Каббале), заключается вовсе не в пантеизме,
как это думают либеральные ученые, сопоставляющие
учение об Эн Софе и Зефиротах с неоплатонизмом, а
скорее — в панизраэлизме: каббалистический Бог нуждается
в Израиле для своего спасения, воплощается в него и
становится им, почему миф о мировом владычестве
обоженного Израиля, от вечности содержащегося в самом
Боге, есть такая же диалектическая необходимость, как
для платонического космоса — быть одушевленным
существом и всемогущим, всеблаженным божеством или для
Христа быть ипостасным богочеловеком. Впрочем, и
исповедание мирового еврейства как абсолютного лика бытия
все же есть относительная, а не абсолютная мифология.
Это — одна из логических возможностей. Но так или
иначе, а абсолютная мифология всегда есть определенная
умная иконография бесконечности.
Что касается XI. антиномии целого и части, то явным
синтезом этой диалектической пары является
организм, в котором уже совсем невозможно отрицать ни
цельности, абсолютно неделимой на какие-нибудь
частные моменты, ни наличия частей, реально носящих на
себе это целое. Абсолютная мифология потому есть
организм.
Наконец, все эти антиномии покрываются одной
общей XII. антиномией одного и многого, или сущего
(бытия) и не-сущего (небытия). Первичная и простейшая,
наименее заполненная конкретным содержанием антино-
Α. Φ ЛОСЕВ
212
мия, это — одного и многого. Синтезом одного и многого
является число (или — с другой точки зрения — целое),
а бытия и небытия — становление. Абсолютная
мифология поэтому всегда будет аритмологизмом (т. е. в
ее основе будут всегда виднеться числа и число), тота-
лизмом (учение о всеобщей целостности) и
алогизмом (она всегда будет одинаково признавать и логику
и абсолютную иррациональную неразличимость бытия).
4. На всех этих примерах можно вполне убедительно
удостовериться, как эта абсолютная мифология содержит
в себе и под собою все свои принципы, а не только
некоторые из них и каким методом эти принципы
объединяются между собою. Кроме того, приведенные
примеры почти исчерпывают перечень основных категорий,
без которых не может существовать абсолютная
мифология. Пересмотрим их: гностицизм, персонализм, субстан-
циализм, креационизм, символизм, теория жизни,
религия, теория чувства, иконографизм абсолютного, аритмо-
логизм, тотализм, алогизм. Другими словами, абсолютная
мифология есть религиозное ведение (6) в чувстве (7)
творчески (3) субстанциального (2) символа (4)
органической (11) жизни (5) личности (1), аритмологически-
тоталистически и вместе алогически данной (12) в своем
абсолютном (9) и вечном лике (10) бесконечного (8).
Все это, впрочем, есть не больше (а скорее меньше) чем
просто указание на развернутое магическое имя, взятое
в своем абсолютном бытии.
5. Вышеизложенное вполне выясняет основную
методологическую установку абсолютной мифологии. Хотя ей
посвящено у меня дальнейшее специальное исследование,
но уже сейчас, даже на основании изложенного, можно
яснейшим образом представить себе диалектическую
структуру главнейших основных мифов абсолютной
мифологии. Приведу несколько примеров.
а) В мире как целом и в каждой вещи нетрудно
заметить синтез неподвижной идеи и подвижного
вещественного становления. Простая диалектика требует, что раз
существует нестановящаяся идея, то она должна иметь
и свое идеальное же, нестановящееся тело, ибо ясно, что
дробное и смертное тело, несущее на себе вечную идею,
не может считаться последним выразителем этой идеи.
Как бы ни изумлялись позитивисты, но диалектика
требует это с абсолютной необходимостью, ибо, раз возможна
ДИАЛЕКТИКА МИФА
1 I
213
та или иная степень осуществления идеи,— значит,
возможна предельная и бесконечная ее осуществленное^.
Следовательно, особый идеальный мир есть
диалектическая необходимость; и если дать свободу диалектике
и не втыкать ей палки в колеса, то она потребует именно
этого. Стало быть, уже по одному этому Бог с точки
зрения диалектики, по крайней мере, может быть.
Однако раз есть время, значит, есть вечность (как
если есть черный цвет, значит, есть где-то и как-то и
белый); если есть относительное, значит, есть абсолютное;
и если есть беспредельное, значит, есть предел. Кроме
того, доказано, что для каждой вещи принципиально
должно быть адекватное ей сознание, ибо, если этого
может не быть, значит, возможно, что о вещи нечего
сказать и помыслить, т. е. возможно, что она совсем не
существует. Но для всего бытия, взятого в целом, со всем
его прошлым, настоящим и будущим, как и для всякого
бытия, должно быть адекватное ему сознание. Раз есть
такое вселенское сознание, то ничто не мешает ему быть
и некоей субстанцией, т. е. субъектом. Итак,
диалектически с полной очевидностью вытекает определенная форма
объединения понятий вечности, абсолютности,
бесконечного предела, сознания (всеведения) и субъекта, т. е.
понятие Бога вытекает для мифологии с простейшей
диалектической необходимостью. Даже больше того. Это
понятие, как ясно из предыдущего, является условием
мыслимости вообще. Ибо время мыслимо только тогда,
когда мы, пусть незаметно для себя, оперируем категорией
вечности; относительное мыслимо лишь тогда, когда в
нашем разуме действует категория абсолютного, хотя она,
в порядке недомыслия, и может отрицаться как
необходимая. Словом, понятие Бога есть условие и цель мысли-
мости бытия как всего бытия, как цельного бытия. Вот
почему понятие Бога рушится одновременно с
разрушением интуиции цельности бытия вообще.
Новоевропейская мысль не только отринула реальность Бога.
Одновременно пришлось отринуть и реальность очерченного
и обозримого космоса, т. е., как показано, мира вообще;
пришлось отринуть реальность души, природы, истории,
искусства и τ д.
Но допустим, что Бог существует. В понятии Бога
отнюдь не мыслится ничего мирового. Раз так, то с точки
зрения диалектики Бог уже есть нечто вне-мировое и до-
Α. Φ. ЛОСЕВ
f I
214
мировое. Другими словами, если дать свободу диалектике
и сделать ее абсолютной, то будет исключен всякий намек
на пантеизм. Пантеистическое язычество основано,
очевидно, на относительной мифологии; оно сковано чисто
реальными интуициями, уничтожающими свободу
диалектики» Итак, теизм есть диалектически-мифологическая
необходимость.
b) Другой пример. Если Бог есть, то Он должен как-
нибудь являться, несмотря ни на какую свою
непознаваемость по существу. Если Он никак не является, то
невозможно и говорить об Его бытии. Это — упомянутый выше
синтез IV. Однако Бог идеально вмещает в себе все.
Следовательно, Он должен являться во всем. Отсюда
диалектическая необходимость, напр., иконы. Но как же Он
должен являться? Допустим, что Бог и мир — одно и то же
(пантеизм). В таком случае: 1) богов бесчисленное
количество, ибо бесчисленное количество общих и частичных
проявлений мира; 2) все боги суть, собственно говоря,
субстанциальные богочеловеки, и самые высшие боги и
самые низшие; 3) общение с ними ничем принципиально
не отличается от общения с другим родом богочеловеков,
«людьми», и потому отпадает необходимость церкви и
таинства. Следовательно, пантеизм есть всегда 1)
политеизм, 2) сатанизм, 3) неразличение обряда и таинства. Но
абсолютная мифология есть теизм. Следовательно: 1)
абсолютная внеположность миру единственного личного
Бога диалектически допускает только одно совершенное и
субстанциальное, ипостасное воплощение Бога в
инобытии; 2) абсолютная мифология допускает всех прочих
людей к обожению только благодатному, энергийному, а
не субстанциально-ипостасному; 3) общение с
Богочеловеком возможно лишь в смысле таинства и его внешней
организованности — Церкви.
c) Спорят и всегда спорили о бессмертии души. Весь
вопрос — в том, хотите ли вы рассуждать чисто
диалектически или как-нибудь еще, признавая за диалектикой
только относительное значение. Я, впрочем, вовсе не
настаиваю, чтобы вы рассуждали обязательно чисто
диалектически. Во-первых, это не всегда требуется.
Во-вторых, вы едва ли на это способны. В-третьих, вообще не
важно, как вы хотите рассуждать. Я утверждаю только
одно: если вы хотите рассуждать чисто диалектически
(пожалуйста, не рассуждайте!), то бессмертие души есть
ДИАЛЕКТИКА МИФА
, 1 1
215
для мифологии примитивнейшая аксиома диалектики.
В самом деле: 1) диалектика гласит, что всякое
становление вещи возможно только тогда, когда есть в ней
нечто нестановящееся; 2) душа есть нечто жизненно
становящееся (человек мыслит, чувствует, радуется, страдает
и т. д. и т. д.) ; 3) следовательно, в душе есть нечто
нестановящееся, т. е. жизненно вечное. Душа бессмертна так же,
как бессмертно все на свете, как бессмертна всякая
вещь,— конечно, не сама по себе (ее можно уничтожить),
но именно в своей нестановящейся основе. Если вы
отрицаете бессмертие души, это значит только то, что вы не
понимаете, как «бытие» и «небытие» синтезируются в
«становление». Душа есть ведь только один из видов бытия,
d) Наконец, возьмем из предыдущих синтезов
абсолютной мифологии синтез III (личность), V (жизнь),
VII (сердце), IX (вечность и ее лик) на основе общего
IV (символ). Продумаем ряд таких чисто диалектических
тезисов.
I. а) Вещь, противополагающая себя саму себе же
самой, есть вещь, имеющая самосознание и вообще
сознание.
Ь) Сознание может быть субстанцией и не быть
субстанцией. Возьмем первое и получим сознание как
субстанцию, т. е. вещь, которая является сразу и субъектом
и объектом. Это значит, что она есть личность.
II. а) Личность может быть взята сама по себе, как
голый диалектический принцип и как осуществление. Ино-
бытийное осуществление личности есть ее жизнь.
Ь) Жизнь личности может быть взята с разных
сторон. Возьмем ее с точки зрения синтеза ее свободы и
необходимости. Это значит, что мы взяли личность в ее
сердце. Личность со всей своей жизненной стихией
вращается сама вокруг себя, в своей собственной,
возвращающейся на саму себя чувствительности и ощутимости.
III. а) Но вечное и временное есть, как доказано, одно
и то же. Они синтезированы в вечный лик, в фигурную
вечность.
b) Следовательно, диалектически необходима такая
стадия в жизни личности, когда она сама и все ее инобытие
синтезируется в некое вечное обстояние, где будет вечное
сплошное становление и вечная сплошная неподвижность
и нерушимость.
c) Это все дано, кроме того, сердечно, т. е. ощутимо в
Α. Φ ЛОСЕВ
216
своей алогической динамике, вращающейся вокруг
неподвижного центра.
IV. а) Наконец, характер этого умно-сердечного
состояния должен зависеть от характера взаимоотношения
личности самой по себе и ее инобытийной судьбы. Соот
ветствие инобытия с заданной идеей даже Кант умел
понимать как чувство удовольствия, а несоответствие — как
чувство неудовольствия.
Ь) Следовательно, с полной диалектической
необходимостью вытекают категории Рая и Ада, от которых
нельзя отвертеться никакими усилиями мысли, если только
не перестать мыслить диалектически вообще. Диалектика
вечного блаженства и вечных мук есть только простой
вывод из пяти еще более простых и элементарных
категорий диалектики — личности, жизни, сердца, вечности и
символа.—
Такова абсолютная мифология и такова ее диалектика
Такова и опасность — для многих — быть
последовательными диалектиками. Впрочем, читатель поймет меня очень
плохо, если подумает, что я ему навязываю во что бы то
ни стало повинность мыслить диалектически. Я настаиваю
совсем на другом. Именно, я говорю, что если вы хотите
мыслить чисто диалектически, то вы должны прийти к
мифологии вообще, к абсолютной мифологии в частности и
следовательно, ко всем ее только что намеченным
понятиям. А нужно ли мыслить диалектически и даже нужно ли
мыслить вообще, это — как вам угодно. Если вас
интересует мое личное мнение, то, во-первых, это — не ваше дело,
да и мнение отдельного человека ни к чему не обязывает,
а во-вторых, я глубоко убежден, что чистое мышление
играет весьма незначительную роль в жизни. Вы
довольны?
В дальнейшем нам предстоит огромная задача
диалектического развертывания основных структур абсолютной
мифологии и диалектика главных типов мифологии
относительной.
МИФ-
РАЗВЕРНУТОЕ
J—u
МАГИЧЕСКОЕ
I—1
имя
1
218
З1*. Недостаток места и рамки этой работы не дают
возможности привести другие примеры подобного
мифического развертывания того или другого, а также тех или
других магических имен. Но всякий знает, что таких
примеров можно было бы приводить сколько угодно. В
дальнейшем я хочу заняться другим. Я хочу дать компактную,
резюмирующую диалектику мифа вообще, базируясь на
достигнутом нами обосновании мифа как развернутого
магического имени. Это и будет последней задачей нашего
исследования. Однако, ввиду того что этой диалектики
я касался не раз в других своих трудах, здесь я прибегну
только к тезисам, по возможности кратким и точным.
Чтобы эти тезисы были понятны, сделаем некоторые
терминологические пояснения. Во-первых, имя, сказали
мы, предполагает ту или иную личность. О слове мы можем
говорить в отношении любого предмета; об имени же —
только в отношении или личности, или вообще личностного
предмета. Но тогда лучше противопоставлять не имя и
личность, а слово и вещь; когда же мы говорим об имени,
то его лучше противопоставлять сущности, ибо имя
вбирает в себя от именуемого все его личностные свойства
и оставляет в нем лишь голую субстанциальность,
лишенную решительно всяких качеств. Итак, диалектика мифа
может быть в целях простоты и однозначности сведена
к диалектическому взаимоотношению Имени и Сущности.
Во-вторых, под сущностью, о которой будет речь ниже,
можно понимать вообще любую сущность, ибо всякая
сущность имеет ту диалектическую структуру, которая
тут развивается. Но главным образом и по преимуществу
здесь будет иметься в виду ягрво-сущность, т. е. та,
которая изначала и сама по себе имеет такую диалектическую
структуру. Эти диалектические определения присущи ей
с бесконечною силою, и присущи они именно по природе,
а не по причастию к чему-то высшему. Всякую другую
сущность по отношению к ней я называю инобытием, инобы-
тийною сущностью, или тварью. Детали диалектического
взаимоотношения инобытия и сущности изложены мною
МИФ—РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
I \
219
в других местах. В-третьих, наконец, необходимо иметь
в виду, что в дальнейшем я предлагаю самые общие
положения ономатодоксии, не входя ни в детали, ни в
подтверждение ссылками на соответствующую
религиозно-мифологическую литературу. Этому посвящены мои
другие труды, пока не опубликованные, и здесь — только
кратчайшее резюме основных принципов.
I. Определение имени.
1 а) Сущность или есть, или ее нет.
Если ее нет в абсолютном смысле, тогда нет и
никакого ее определения, или действия, ни в себе
самой, ни для чего другого.
b) Если же сущность подлинно есть, она
необходимым образом отличается от всего иного, от
всякого инобытия, а если ничем не отличается, то ее
нельзя узнать и отличить никаким малейшим
прикосновением ума или чувства.
c) Если же сущность отличается от всего иного, то
она отличается чем-нибудь, а если этого «что-
нибудь» в ней нет, то она ни от чего не отличима
и, следовательно, ее нет.
d) «Что-нибудь», или (назовем так) ипостасность,
должно, следовательно, отличаться от сущности
самой в себе, ибо эта последняя окончательно
непостижима и неприступна, ипостасность же
есть как раз то, чем сущность отличается от всего
иного. Поэтому ипостасность (в свою очередь
имеющая три начала) является на фоне
непостижимой сверхсущей бездны, единообразно
охватывающей и едино-раздельно
объединяющей ипостасное выражение сущности.
2 а) Триипостасное бытие есть различенное единство
сущности, существующее, однако, в самой
сущности при предположении, что есть какое-то
инобытие, окружающее ее, ограничивающее ее,
дающее ей предел и возможность отличаться от
инобытия, т. е. возможность осмысленно
существовать.
Ь) Сущность, однако, есть самодовлеющая и ни от
чего не зависящая сущность. Это значит, что
инобытие, потребное для ее отграничения от
всего прочего и, следовательно, для ее
осмысленного существования» не может существовать как
Α. Φ. ЛОСЕВ
) i^—l ,
220
самостоятельное, не зависящее от нее начало
Иначе получается абсолютный метафизический
дуализм, противоречащий всякому разумению
и осмысленному восприятию.
с) Следовательно, необходимо или чтобы это
инобытие отсутствовало, или чтобы оно было
произведено самой же сущностью. Если инобытие
отсутствует, то отсутствует отличие сущности от
инобытия и, следовательно, отсутствует сама
сущность. Это невозможно. Следовательно,
остается, чтобы триипостасная сущность сама
изводила из себя свое инобытие
à) Изведение сущностью из самой себя своего же
собственного инобытия возможно только при
двух условиях. 1 ) Изведенное должно быть
неотделимо от самой сущности, т. е. оно должно быть
таковым, чтобы ни оно не могло существовать
без нее, ни она не могла ни на одно мгновение
остаться без него,— ибо иначе получается опять
абсолютный дуализм, и небытие получает
абсолютно самостоятельное существование. 2)
Изведенное должно быть отличимо от самой
сущности, ибо иначе нельзя судить, есть ли само
изведение, и, следовательно, нельзя примышлять
инобытие, т. е. нельзя отличать сущность и
утверждать ее существование.
е) Другими словами, триипостасное бытие должно
иметь при себе свое инобытие, от которого оно
отличалось бы как от такового, но необходимо,
чтобы это было таким инобытием, которое бы
утверждало и полагало саму триипостасность,
а не что-нибудь иное, чтобы быть именно ее, а не
чьим-нибудь еще утверждением и определением,
т. е. быть тождественным с нею. Отсюда следует,
что кроме триипостасного бытия необходимы
еще два момента — софийный и ономатический.
3 а) Софийное начало утверждает и полагает саму
триипостасность, а не что-нибудь иное, делает ее
субстанцией, как бы природой и фактом, как бы
телом. Этим достигается то, что триипостасная
сущность, по-первых, осмысленно повторяется
и является себе самой инобытием, т. е. сущность
тут именно сама отличает себя от инобытия,
МИФ-РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
, 1 I
221
осмысленно и самостоятельно производя его в
себе. Во-вторых же, этим достигается то, что мы
вполне обеспечиваем себя от дуализма и
остаемся в пределах одной и той же единой и
нераздельной сущности,— ибо повторяется тут и
гипостазируется, субстанциализируется все та же самая
единая и нераздельная сущность.
Ь) Ономатинеское начало выявляет и изображает
софийно субстанциально утвержденную три-
ипостасность. Это есть образ, начертание не
просто трех ипостасей, но инобытийно
ознаменованных трех ипостасей, софийно
самоутвердившегося триипостасного бытия. Триипостасность
есть различенность сущности внутри себя при
предположении, что есть вне ее самостоятельное
инобытие. Ономатическая стихия есть
различенность сущности вне себя, т. е. различенность
и понятрсть себя как неделимой субстанции от
всего прочего, от всякого инобытия, при
предположении, что нет никакого абсолютно
самостоятельного инобытия, но что это инобытие
заключено в самой же сущности и неотделимо от нее.
Имя сущности есть понятая, уразуменная
сущность, отличенная и узнанная среди всего
прочего. Назвать сущность — значит знать, что она
такое, отличать ее от всего другого и, кроме того,
знать, что знаешь ее и умеешь отличать от всего
другого.
II Место имени.
1. Диалектическое место имени сразу неясно в учении
о пресв. Троице потому, что не было соответствующего
догматического закрепления этого места, подобно тому как
нет до сих пор догматического закрепления софийного
начала, как не было до соборов XIV в. догматического
закрепления момента Световой Энергии, как не было
в свое время, наконец, догматического закрепления места
и смысла самого триединства, а был просто Христос, Сын
Божий и очень неясные намеки на долженствующие тут
быть диалектические уточнения.
2. То, что мыслится под пресв. Троицей, содержит в
себе не только чисто троичные, но и софийные и ономати-
ческие определения. В раздельном виде эту цельную
троичную диалектику можно представить в следующем виде.
А. Ф.ЛОСЕВ
222
Ι. Абсолютно-апофатическая стихия.
II. Первое и основное триадическое определение —
a) Вне-интеллигентное:
1. сверх-сущее одно,
2. граница, предел, смысл, эйдос,
3. становление смысла;
b) Интеллигентное:
1. сверх-интеллигентное единство (экстаз),
2. самосознание, ум как самоявленность,
3. чувство.
III. Софийное определение —
a) Рождающее и нерожденное (Отец),
b) Рожденное (Сын),
c) Исходящее (Дух).
IV. Ономатическое определение —
a) Ум как исток слова,
b) Слово,
c) Святость (благодать).
3. В реальной библейской, богослужебной и патристи-
ческой литературе эта диалектика отнюдь не всегда и не
везде проводится одинаково точно. Так, под словом «Отец»
понимается и вне-интеллигентный момент одного, и
рождающее лоно, и произносящий2* слово; под словом
«Сын» — и Сын, и Слово, т. е. Имя; а под «Словом» —
и Имя, и Сын, и ум, и идея, и многое другое. В глубине же
всей этой терминологии лежит как регулятивный принцип
выше развитая точная диалектика сущности. Мы же
употребляем слово «Имя» в точном смысле, т. е. отделяем от
него и сущностный, и внутритроичный, и софийный
моменты и понимаем его как энергию сущности (а три ипостаси
не есть энергия, но сама сущность, и София не есть
энергия, но субстанция энергии, субстанциализированная,
овеществленная и осуществленная энергия).
4. Имя, таким образом, отличается от второй Ипостаси
тем, что это есть соотнесенная с инобытием вторая
Ипостась, т. е. понятая ипостась (причем никакого инобытия
как самостоятельной реальности тут не мыслится), от всех
трех Лиц — тем же своим свойством (соответственно),
от Софии — тем, что оно не есть субстанция, но смысл ее,
не есть факт и плоть, тело сущности, но образ и выражение,
начертание сущности. Триипостасность содержится в
Софии как смысл и идея тела, в Имени — как смысл и идея
символа. София содержится в триипостасности как ее
МИФ—РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
, I I
223
осуществленность, в Имени — как его картинная оформ-
ленность и изваянность. Имя содержится в бытии три-
идостасном как предел всех возможных его проявлений и
воплощений, всех возможных его начертаний и
изображений, в Софии — как изваянный лик и Смысловая Энергия
пресветлого тела сущности.
III. Имя сущности и сущность.
1. Имя сущности или А) тождественно с самой
сущностью, или В) отлично от нее, или С) и тождественно,
и отлично сразу.
2. А) Если имя только тождественно с сущностью, то:
или а) оно не отличается от нее, и тогда сущность есть
только сущность и никакого имени не имеет, ибо иначе оно
чем-нибудь отличалось бы от сущности; или Ь) сущность
тождественна имени, и тогда имя есть только имя и ни к
какой сущности не относится, ибо иначе сущность чем-
нибудь отличалась бы от своего имени.
3. а) Если сущность есть только сущность и никакого
своего имени не имеет, то она, стало быть, никак не
называется, т. е. она ничем не отличается от окружающего и не
имеет никакой границы, предела и формы, а не будучи
оформленным вообще, она не имеет формы и очертания и
внутри себя, т. е. она превращается в абсолютную
неразличимость нуля. Таким образом, отождествление имени и
сущности, основанное на растворении имени в сущности
и отвергающее одновременную отличениость его от
сущности, ведет к абсолютному агностицизму, что с религиозно-
мифологической точки зрения есть полнейший атеизм
4. Ь) Если имя есть только имя, то оно: или 1. как-
нибудь относится к какой-нибудь сущности, или 2. никак не
относится ни к какой сущности.
1. Если имя есть только имя и никак ни к какой
сущности не относится, то оно не есть и имя, ибо имя
предполагает именуемое, от него отличное. В таком случае
оно оказывается простым субъективно произносимым
звуком; и притом поскольку оно ни к чему не относится
и ни от какой сущности никаких следов на себе не
носит, то безразлично в смысле предметной сущности и
звуки его — абсолютно случайны или связаны не-пред-
метным единством. Тогда безразлично, что произносить
и какие звуки употреблять, ибо все субъективно
произносимые звуки одинаково не связаны с предметной
сущностью.
А Ф ЛОСЕВ
l_^_l
224
2. Если имя есть только имя, но как-то к какой-то
сущности относится, то или а) это есть отношение
именования, называния, или β) это какое-нибудь другое
отношение, например причинно-вещественное.
а) 1. Если имеется в виду первое, то по имени,
следовательно, можно узнать сущность, т. е. в имени
как-то содержится сущность, и притом содержится
не вообще, не частично, но именно сущностно, так
именно, что по имени сущности можно узнать как раз
ее саму, а не что-нибудь иное. Стало быть, уже по
одному этому имя сущности не может быть просто
и только именем.
2. Теперь, содержаться сущность в своем имени
может или так, что, содержась в нем, она нисколько им
не затрагивается и не имеет к нему существенного
отношения (как, например, шар в ящике), или так,
что между ними существенное отношение. В первом
случае по имени невозможно было бы узнать, а
следовательно, и понять сущность, так что это отпадает
Во втором же случае между именем и сущностью
должно быть существенное сходство (раз по имени
узнается сущность). Сходство же между двумя
предметами может быть только тогда когда между
ними есть и какое-нибудь тождество, ибо сходство
есть только частичное тождество, тождество в
определенном отношении, а мы видим, что именно одна
и та же сущность тождественна в одном отношении
и различна в другом. Итак, если имя есть толькр
имя, но в то же время относится к какой-нибудь
сущности и это отношение есть именно отношение
именования и называния, то сущность необходимым
образом должна содержаться в своем имени, что
возможно только тогда, когда она хотя бы частично
тождественна с ним, т. е это значит, что имя,
именуемо относящееся к сущности, ни в каком
случае не может быть только именем,
β) Если же имя относится к сущности не так, что
оно именует ее, но как-нибудь иначе, то оно вовсе
не есть в таком случае и имя, и его можно заменить
любыми другими звуками и даже просто
физическими процессами.
5. Итак, если имя только тождественно с сущностью, то
оно ли растворяется в сущности и не выделяется из нее,
МИФ—РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
'
225
она ли растворяется в нем и не выделяется от него, оба ли
они мыслятся одинаково самостоятельными — все равно
имя оказывается не именем (и может быть заменено
любыми другими звуками) и сущность оказывается не
сущностью (и может быть заменена любой другой сущностью
и даже просто нулем, ничем).
6. В) Если имя только отлично от своей сущности, то
тут опять — или а) оно какое-нибудь имеет отношение к
ней, т. е., прежде всего, именует ее, или Ь) никакого не
имеет отношения и не именует, а) Если именует, то, по
предыдущему, оно не только отлично от нее, но и
тождественно с ней 3*; а Ь) если оно никак не именует, то оно не есть
и имя, а сущность ничем и никем не именуется, т. е. не
имеет отличия от инобытия, т. е. не очерчивается и не имеет
вида и смысла, т. е. есть ничто, т. е. не существует.
7. Сущность и ее имя диалектически необходимо и
тождественны, и различны, сразу, одновременно и притом
в одном и том же отношении.
a) Как вообще «бытие» и «небытие» синтезируются
в становление, где есть и то, что становится, и это «что»
все время есть иное и иное, т. е. все время отталкивается
от себя и становится небытием, так, в частности, тождество
сущности с именем синтезируется с их различием так, что
получается некое новое специфическое становление,
которое мы называем энергией сущности. Энергия сущности
есть, таким образом, диалектический синтез тождества
и различия между сущностью и именем.
b) Ни в коем случае нельзя сказать, что сущность и
имя различны в одном отношении (качественно,
например, или по смыслу), а тождественны в другом отношении
(например, по своему факту, субстанциально, нумери-
чески), и на этом основании опровергать формулу, что
имя есть сама сущность. Если действительно различие тут
в одном смысле, а тождество — в другом, и больше ничего,
тогда получается, что некая одна сторона, или часть,
сущности тождественна с некоей стороной, или частью,
имени, а другая сторона сущности — различна с
соответствующей стороной имени. Но что же, обе эти стороны
в сущности, тождественная и различная, с
соответствующими сторонами в имени, сами-то между собою различны
или тождественны, и также — обе стороны имени между
собою? Если они различны и только различны, тогда целая
сущность утеряна и получается две сущности; и тогда,
8 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 1
226
значит, нельзя было и говорить о тождестве одних частей
и различии других (раз нет самого целого, по отношению
которого части только и могут быть частями). Если же они
тождественны, то, стало быть, нельзя говорить, что
тождество и различие сущности и имени дается в разных
смыслах: то, что в сущности тождественно с некоей
стороной имени, оказывается тождественным с тем, что в
сущности различно с некоей другой стороной имени.
с) Сказать, что тождество и различие имени и сущности
понимается только в разных смыслах, это значит сказать,
что имя и сущность только различны и совсем никак не
тождественны, ибо «тождество в другом смысле» вовсе
не есть тождество, а самое настоящее различие. Нужно же
говорить, что имя отлично от сущности и тождественно
с ней 4* как в разных, так и в одном и том же смысле,
т. е. можно попросту говорить, что имя и отлично, и
тождественно с сущностью, не входя во взаимодополняющие
уточнения, а только поясняя, какое это тождество и какое
различие. Именно, тождество тут — фактическое,
субстанциальное, нумерическое, т. е. имя неотделимо от сущности,
нераздельно с ней 4*. Различие же здесь смысловое, энер-
гийное\ имя отлично от сущности, и сущность отлична от
имени. Согласно же диалектической антиномике, можно
сказать и так. Тождество тут смысловое, энергийное:
сущность является только в своем имени и ничего не содержит
такого, что не было бы открыто в имени. И различие тут
нумерическое, субстанциальное: имя сущности и сама
сущность как различные есть некие два предмета. Обе эти
формулы имеют одинаковый и разный смысл: в одном
случае — различие в нумерическом тождестве, в другом —
тождество в нумерическом различии.
IV5*. Имя сущности и инобытие (тварь).
1. Имя сущности не есть тварное имя, ибо:
a) тварь есть инобытие, и, следовательно, сущность
должна получать свое имя от инобытия, т. е. сущность
получает свое оформление и начертание от инобытия, т. е. без
инобытия она — ничто (это — чистейшее савеллианство);
b) тварность имени сущности защищают или на том
основании, 1. что имен сущности много и на разных языках
они звучат по-разному, или на том основании, 2. что
произнесение имени зависит от субъективных, физиолого-
психологических актов, или — 3. что призывание и
называние имени, а также употребление всяких речений:
МИФ-РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
I—Д
227
«во имя», «от имени», «именем», «под именем» и проч.—
указывает только на то, что тут имеется в виду сама
сущность, а не ее имя, а указание на «имя» есть только чисто
языковая особенность;
с) это все, однако, ложно в самом своем корне, так как
1. имя сущности ни в каком случае не есть имязву-
чие, но — умная и смысловая энергия сущности,
и разнозвучие в языках указывает лишь на
разное понимание и называние одного и того же
имени, а если между разноязычными именами
действительно нет ничего общего, то тогда —
сколько имен, столько и сущностей, и если
сущность — одна, то и имя ее одно, хотя и по-разному
данное в языках;
2. от субъективных физиолого-психологических
актов зависит решительно всякое наше
переживание, и если имя тварно только потому, что мы
субъективно его производим и произносим, то
тварна и сама сущность, потому что ребенок
тоже должен внутренно ее оформить в себе,
чтобы как-нибудь ее понимать в зрелом возрасте,
и должен как-то развиться для этого
субъективно;
3. если речение «во имя сущности» нужно понимать
так, как и «в самую сущность», то это не значит,
что подобное речение есть случайность языка
(в языке нет случайностей), но как раз это-то
и значит, что имя сущности и есть сама сущность.
2. Имя сущности присуще самой сущности по ее
природе и существу и неотделимо от нее, будучи ее
выразительной энергией и изваянным, явленным ликом. Но
сущность сообщает себя инобытию, твари, чистому ничто.
Следовательно, поскольку сущность свое наивысшее
выражение находит в имени своем — сообщается твари и имя
сущности, а поскольку имя сущности есть вообще
принцип осмысления для сущности — сообщение сущности
твари и излияние ее на тварь есть, вообще говоря, процесс
именования твари. Отсюда — творение происходит путем
называния имен, «словом» и словами. Назвать — для
сущности значит сотворить. Помянуть что-нибудь — для
сущности значит спасти его.
3. Существует поэтому диалектика трех начал:
сущности, ее имени и твари.
8*
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J U
228
a) 1. Имя сущности по природе неотделимо от
сущности и потому есть сама сущность, хотя
сущность сама по себе и не имя.
2. Тварь создается, т. е. получает свое имя, от
сущности, т. е. от ее имени, и потому имя сущности
и имя твари принципиально одно и то же (или:
«образ» — один и тот же, раз — «по образу», и
подобие — одно и то же, раз — «по подобию»),
3. Но сущности ее имя присуще природно и по
существу, твари же это имя присуще энергийно
и идеально, т. е. только в смысловом отношении,
«по благодати» и «по причастию»; и,
следовательно, в то время как сущности имя свойственно
всегда в бесконечной степени своего бытия, твари
оно присуще более или менее, в той или другой
степени, с различиями по временам и качествам.
4. Кроме того, сущности имя присуще неотделимо,
твари же это имя сущности присуще отделимо.
Правда, полное отделение имени сущности от
твари тождественно с уничтожением твари и
превращением ее в ничто.
b) Тварь есть становление сущности в инобытии, т. е.:
1. Тварь как чистое «иное» есть ничто.
2. Нечто она есть только как не-одно, не-сущность,
или «в отношении к сущности».
3. Без сущности она — ничто, с сущностью же и
она — нечто, и притом нечто самостоятельное,
т. е. получается уже две сущности, первая и ино-
бытийная.
4. Между нами никогда не может быть общения
в факте, в субстанции, в сущности, ибо всякое
участие инобытия в самой сущности было бы
раздвоением, растроением и, вообще говоря,
уничтожением сущности как сущности.
5. Всякое общение инобытия в самой
субстанциальной природе сущности есть попытка стать на
место, взамен, самой сущности.
6. Итак, общение инобытия и сущности возможно
только в сфере смысла, идеи, энергии, т. е.
прежде всего имени.
7. При этом общение это и есть самое бытие для
твари, т. е. чем больше она общается с
сущностью, тем более интенсивно она существует,
МИФ—РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
I I
229
и чем менее общается, тем более уходит во
тьму и более слабеет в смысле бытийственности.
8. В результате имя есть принцип и предел,
осмысливающая норма и критерий для становления
сущности в инобытии, т. е. для становления
тварного инобытия.
с) Имя сущности есть, таким образом, сфера общения
сущности с инобытием — та сторона сущности, которая
открыта для инобытия.
1 Если имя сущности не есть нечто отличное от
сущности, то общение с именем есть общение
с самой сущностью; тогда сущность — дробима
по мере участия в ней разрозненного инобытия.
2 Если имя сущности отлично от сущности и не
тождественно с нею, т. е. отделимо от нее, то
общение с именем сущности есть общение твари
с тварью, а не твари с сущностью.
3. Если имя сущности только отлично от имени
твари, то общение твари с именем сущности
невозможно, а так как только и возможно энер-
гийное общение, то, следовательно, при данном
условии никакое общение невозможно.
4 Если имя сущности только тождественно с
именем твари, то всякое общение твари с именем
сущности есть общение твари с тварью.
5 При общении твари с инобытием необходимо:
1 чтобы были два общающихся факта, 2. чтобы
общение не приводило к фактическому
уничтожению того или другого, 3. чтобы, следовательно,
общение было только смысловое, энергийное, т. е.
в имени, и, наконец, 4. чтобы кому-нибудь это
имя принадлежало по существу.
4 Итак:
a) общение твари с сущностью возможно только через
ее имя (это одно из средств против пантеистического
обезличивания);
b) общение твари с сущностью возможно, только когда
имя сущности есть не тварь, но сама сущность;
c) по мере приближения твари к сущности имя
сущности становится все более и более присущим твари и
тварь все более и более воплощает на себе это имя и все
более и более свободно им пользуется;
d) есть единственное Исключение, где сущность и
Α Φ· ЛОСЕВ
Ι ι Ι
230
тварь отождествлены субстанциально, а не только
энергийно, и на этом возникает новый род общения, общения в
таинстве,— однако и здесь это отождествление и это
общение возникает лишь как свободный акт любви перво-
сущности, без всякой зависимости от инобытия.
5. Короче, взаимоотношение сущности, ее имени и
твари сводится к следующему.
a) Имя сущности тождественно с сущностью по факту
и субстанции и отлично от нее по смыслу, по идее,
энергийно; имя сущности тождественно с тварью по
смыслу, по идее, энергийно, и отлично от нее по факту
и субстанции, природно.
b) Первая формула говорит об энергийном излучении
сущности, вторая — об отождествлении (смысловом,
конечно) с нею инобытия. Первая указывает на имя как на
исходную смысловую причину, вторая — на него как на
целевое установление. Конечно, то и другое — едино. Из
сущности исходят энергии в инобытие и, осмысливши его,
возвращаются к ней вместе с этим инобытием. Синтез
энергии и телоса (цели), очевидно, есть не что иное, как
магическая, мистериальная атмосфера имени, та сторона
сущности, в которой участвует и, участвуя, круговра-
щается всякая тварь. Вот почему подлинно произнести
и воспринять имя можно только молитвенно.
c) Итак:
a) 1. Имя неотделимо от именуемой сущности и
потому есть сама сущность.
2. Имя отлично от именуемой сущности, и
потому ни имя не есть именуемая сущность, ни
именуемая сущность не есть ее имя (и даже
вообще не имя).
3. Имя и отлично от сущности, и неотделимо от
нее, τ е. оно есть ее энергия.
b) 1. Имя отделимо от именуемой сущности в том
смысле, что оно оформляет и осмысляет,
создает инобытийные, тварные вещи.
2. Имя тождественно с именуемой сущностью
в том смысле, что приводит к смысловому
и энергийному отождествлению с нею и
всякие инобытийные, тварные вещи.
3. Имя сущности и отделимо от твари, и
тождественно с нею, и потому оно есть цель,
к которой стремится всякая тварь.
МИФ—РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
In I
231
с) 1. Имя сущности есть энергия сущности.
2. Имя сущности есть цель (телос) инобытия.
3. Имя сущности есть, стало быть, магическая
стихия сущности.
V 6*. Иерархийная природа имени.
1. Имя сущности есть энергия сущности, а энергия есть
выраженный и понятый смысл; следовательно, что есть в
смысле, то есть и в имени.
2. Смысл сущности — триадический на фоне софий-
ного. То и другое — триада и тетрактида — дано, кроме
того, вне-интеллигентно и интеллигентно. Наконец, сама
интеллигенция мыслится как разная степень
интенсивности самосознания.
3. Вне-интеллигентный, а также чисто софийный
момент нельзя назвать специфичными для имени сущности.
Поэтому, начиная снизу, следующие моменты, иерархийно
восходя к имени сущности, не суть, однако, чисто онома-
тические энергии: физическая, органическая, сенсуальная.
4. Чисто ономатических энергий — три: а)
перцептивная, Ь) имагинативная и с) когитативная. а) На степени
перцептивной энергии имя есть только расчленение
внешней действительности, и в языке это дано как
членораздельность звукового выразительного движения. Ь) На
степени имагинации имя есть не только расчлененная
внешняя действительность, но и осознание этого расчленения,
что в языке отражается как образ самого звука и,
следовательно, произвольного влияния на эти звуки (в связи
со значением слова), с) На степени когитации имя есть
осознание самого образа звука, т. е. свободное
комбинирование с самими значениями, где сущность впервые
выступает как независимая от своего инобытия.
5. Наконец, энергия сущности, проявляясь в
порождении инобытийного тела, в смысловом расчленении его,
в осознании этого расчленения и в осознании этого
осознания, на самой высокой и наиболее синтетической своей
ступени есть чистый акт порождения сущностью всего
инобытия во всех его и вне-интеллигентных, и
интеллигентных судьбах, в той неразличимой точке, когда цельная
сущность еще без всякого самодробления переносит себя
на инобытие и когда инобытие, следовательно, сознает
себя вне себя, когда вся свойственная ему интеллигенция
дана как интеллигенция именно сущности. Это — гипер-
поэтическая энергия сущности, или умный экстаз — наи-
Α. Φ. ЛОСЕВ
высшее проявление имени сущности в инобытии.
6. Таким образом, имя сущности есть не просто энергия
сущности, но именно сверх-интеллигентная и расчлененно-
интеллигентная, т. е. умная, энергия сущности.
7. Так как всякая энергия сущности несет на себе весь
смысл сущности и есть не больше, как его выражение для
всякого инобытия, то имя, как умная энергия, несет на
себе и все различия, свойственные смыслу сущности.
Отсюда:
a) имя есть умно-триадическая энергия, т. е. оно
является, вообще говоря, мифологемой, оно — мифологично;
b) имя есть умно-софийная энергия, т. е. оно —
магично;
c) имя есть умно-выразительная энергия, или энергий-
ность самой энергии, т. е. оно — эвхологично;
d) имя есть умно-сущностная энергия, или энергия того
апофатического истока сущности, где еще нет разделения
на сущность, смысл, софийность и энергию и где все это
слито в одной нераздельной точке, т. е. имя есть единство
мифологически-эвхологически-магической энергии, или
мистическая церковь;
e) таким образом, миф есть имя, развернутое в
направлении смысла и идеи, имя, данное как созерцаемая,
изваянная смысловая картина сущности и ее судеб в
инобытии; магия есть имя, развернутое в направлении софий-
ном, имя, данное как фактически осуществляемая
действительность и жизнь инобытия; эвхология есть имя,
развернутое в направлении чисто энергийном, имя,
осмысленно исходящее от сущности в инобытие, осмысленно и
энергийно, умно преображающее интеллигенцию этого
инобытия и возвращающееся к сущности вместе с умно
преображенным инобытием.
Все усилия нашей мысли были направлены к тому,
чтобы продумать до конца всю диалектическую свявь
идей, характерную для мифологии, и отграничить ее от
соседних и частично совпадающих с ней областей.
Мифология есть вполне закономерное создание человеческого
духа и есть нормальное социальное явление. Однако это
значит, что тут не может не быть своей специфической
диалектики, совершенно не похожей на диалектику
научного сознания. Я и старался показать эту специфическую
диалектику мифа и изложить ее, насколько это было в моих
силах.
ПЕРВОЗДАННАЯ
ОТЦНОСТЬ
1 I
234
2l* Понятие ангела. В первозданной, как и во всякой
другой, сущности ничего не может быть такого, чего бы не
было в мифической перво-сущности. Инобытие есть
только частичное повторение бытия. Говоря о первозданной
мифической сущности, мы должны повторить тут те же
моменты, которые заключаются и в перво-сущности.
Конечно, этих моментов, как мы видели, очень много. И их
нет нужды повторять тут все во избежание слишком
большой громоздкости изложения. Остановимся на основной
диалектической триаде, имеющей значение решительно
везде и во всем, о чем только возможно мыслить. Это —
триада идеи, материи, вещи. Идея, или смысл, есть нечто
осмысливающее, оформляющее; материя — инобытийно
приемлющее, то, что приводит смысл к осуществлению
и воплощению; вещь — синтез идеи и материи,
воплощенная идея и смысл, осмысленная и оформленная материя.
Достаточно ограничиться этой триадой. Только, поскольку
речь идет об абсолютном Мифе, где дана вся полнота
интеллигенции, под идеей, или смыслом, будем понимать
не просто смысл в своей изолированности и, так сказать,
плоскостности, но смысл в его самосоотнесенности, т. е.
смысл в полноте своей интеллигенции. Интеллигенция,
или ум, есть та идея, которую мы и будем
противопоставлять «материи», с тем чтобы потом произвести их синтез
в «вещи». В сущности, та же диалектика содержится
в триаде одного, идеи (смысла) и становления, хотя
предложенная триада имеет здесь свои свойства.
Итак, абсолютный Миф переходит в инобытие и
становится первозданной сущностью. Упомянутая триада
должна найти свое лицо в пределах этой первозданной
мифической сущности. Должна быть, во-первых, такая
сфера, которая воплощает на себе чисто умную,
интеллигентную стихию перво-сущности; должна быть, во-
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
235
вторых, сфера, осуществляющая и воплощающая
материальную сторону сущности; и, в-третьих, сфера,
синтезирующая то и другое. Первая сфера есть умные силы,
или невидимый мир ангельский; вторая — видимый мир,
космос, природа, неодушевленный мир, растения и
животные; третья сфера — человек.
Мифология ангельского мира — необходимейшее
достояние абсолютной мифологии. Что она необходима
вообще, это явствует из ее повсеместного присутствия
в любой мифологической системе. Однако условия
абсолютности накладывают совершенно неизгладимый
отпечаток на всю ангелологию и делают ее даже трудно
сравнимой с ее относительными типами. Прежде всего,
нужно четко усвоить самое диалектическое место
ангельского мира. Если мы перешли в сферу инобытия, то
какая-то телесность, хотя бы и чисто умная, необходимо
должна быть свойственна ангелам. Однако это — именно
чисто умная телесность, и потому наименование их
бесплотными является для них существенным. Это
действительно бесплотные силы, т. е. чисто умные, чисто
смысловые потенции. От Божественных энергий они
отличаются тем, что они — тварны, т.е. субстанциально
инобытийны, в то время как Божественные энергии
субстанциально неотделимы от самого Бога и потому суть
сам Бог. Бесплотные силы, как идея всего дальнейшего
инобытия, осмысливают и оформляют все инобытие, и
потому учение об Ангеле-Хранителе является совершенно
элементарной диалектической необходимостью. Не только
человек, но и все, что существует на свете, каждая
мельчайшая песчинка имеет своего ангела-хранителя.
Любопытны те модификации, которые претерпевает
ангелология, переходя из одного типа в другой. В
язычестве, например, которое в основе всегда является
пантеизмом, т. е. субстанциальным отождествлением Бога и мира,
ангелы, во-первых, ничем существенным не будут
отличаться от Божественной сущности, во-вторых же, это
будет нечто совершенно имманентное миру. Так, у Прокла
диалектика трех основных триад умного мира и есть
диалектика Божества; эти же самые триады и суть то, что
управляет миром и имманентно его осмысливает. В
строгой теистической системе ангелы субстанциально отличны
от Божественной сущности, и умная энергия сущности
именно субстанциально несовместима с бесплотными
А. Ф.ЛОСЕВ
I 1
236
силами, которые при всей своей бесплотности суть все же
тварное бытие. С другой стороны, в этой системе
бесплотные силы, хотя и имеют одной из главных своих функций
осмыслять («охранять») тварь, все же сами по себе вовсе
не нуждаются в прочей твари, субстанциально от нее не
зависят. Можно было бы мыслить здесь в качестве твари
только один мир умных, бесплотных сил; и это совсем
не значило бы, что тут же мы мыслим видимый мир и
человека. Поэтому наибольшей самостоятельности мир
бесплотных достигает именно в абсолютной мифологии.
Здесь ангелы — естественное звено излучений, идущих
от Божества через них к прочей твари Категория
ангельского мира, несомненно, действует, в соответственной,
конечно, модификации, во всякой иной мифологии. Так,
во всякой трансцендентальной философии место
ангельское занимает трансцендентальная схема и вообще вся
смысловая сфера. Только очень часто эта философия
ограничивается смыслом-в-себе, не развертывая его до
степени выразительного и интеллигентного Смысла. Поэтому
«категория» Канта, «понятие» Гегеля, «эйдос» Гуссерля,
«гипотеза» Когена и Наторпа, несомненно, есть только
внутренно опустошенная ангелология Эти структуры, не
сомненно, умны, бесплотны; они осмысливают и оформ
ляют все бытие и в этом смысле суть его «хранители»
Тут — полное тождество с теми же самыми установками
которые заставляли абсолютную мифологию учить о бы
тии ангелов. Но вовсе не обязательно оставаться в
пределах в-себе-смысла. Уже Кант учит о
трансцендентальной природе чувства, а Шеллинг — об образе и символе,
возникающем как объективный коррелят чувства Если
взять смысл в максимальной степени его интеллигентного
и выразительного наполнения, то мы и получим
ангельскую природу. Чтобы существовало нечто текучее, помним
мы, надо, чтобы было нечто нетекучее, остающееся
постоянным в течение всего процесса Это -— элементарное
требование диалектики, и это заставляет нас говорить
об «идеальных» «эйдосах» и «формах» каждой вещи. Но
вещь ведь не только течет; она, допустим, есть еще и нечто
живое, например личность. Она, стало быть, текучая
личность. Чтобы быть и быть познаваемой, такая текучая
личность должна иметь какой-то неподвижный аналог
в сфере смысла, который бы делал возможным это
протекание. Конечно, он уже не может быть просто эйдосом
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
I I
237
он должен быть интеллигентным эйдосом. Далее, ничто
не мешает нам взять все личности, которые только
возможны, все, какие были, есть и будут существовать.
Не следует бояться воя, который при этом поднимут
всякие «эмпирики». Откуда-де вы знаете эти личности,
прошлые, настоящие да еще и будущие? Мы должны
помнить, что этот эмпиризм в сущности своей нигилизм,
так как чистое становление без всякой
идеально-смысловой задержки есть иррациональный хаос, нигилистическая
бездна. Тут одно из двух: или бытие есть нечто
принципиально целое (а иначе оно и не было бы бытием да и
вообще чем-нибудь), то[гда] это целое есть определенная
смысловая («умная», «идеальная», «бесплотная»)
значимость, отличная от самой субстанции бытия; или такой
целости не существует, тогда все бытие рассыпается в
иррациональную полость неизвестно чего. Но бытие есть и
есть нечто, т. е. нечто целое, т. е. и личность есть, и все
личностное в бытии тоже есть, и это личностно-бытийственное,
независимо от протекания времен, тоже есть нечто целое
и не может не иметь своего «идеального», «бесплотного»
коррелята. Так, мир бесплотных сил есть чисто
диалектическая необходимость абсолютной мифологии.
Ясно, что происхождение ангельской иерархии есть
подражание перво-сущности, и подражание максимальное,
которое только возможно для твари. Но максимальное
подражание есть максимальное присутствие
перво-сущности в твари. Эта максимальность есть к тому же чисто
умная максимальность, т. е. тварь умно, сознательно
отождествляет и себя, и все инобытие — с Богом. Тварь
видит себя и все инобытие наполненным со стороны
Божества, и, как по самой своей природе приемлющее, она
только и стремится принять на себя исходящую от
Бога полноту. Однако это значит не что иное, как
непрестанно славословить Имя Божие. Вот почему
непрестанное славословие есть не какая-нибудь акциденция
бесплотного мира, могущая быть или не быть,
существенная или несущественная, но это есть самая последняя
субстанция бесплотных сил: это то, без чего он не мог бы
даже и существовать. Таким образом, подражание Богу,
выраженное в непрестанном взывании: «Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея»,
и есть спецификум бесплотных сил. С другой стороны,
принятие этой полноты славословия (или умного отождест-
Α. Φ. ЛОСЕВ
, \ \
238
вления с Богом) делает возможным сообщение его и всему
прочему. Ангелы — «вестники» Божьих решений и сооб-
щители их всему прочему. Это и понятно, раз тут — чисто
умная сфера.
«Иерархия, по моему мнению, (есть священный чин, знание
и деятельность, по возможности уподобляющаяся Божественной
красоте и при озарении, сообщаемом ей свыше,
направляющаяся к возможному Богоподражанию. Божественная красота,
как простая, как благая, как начало всякого совершенства,
хотя и совершенно чужда всякого разнообразия, сообщает свет
свой каждому по достоинству, и тех, которые делаются
причастниками ее, совершенствует чрез Божественное тайнодействие
сообразно) своей неизменяемости» !.
«Итак, цель (Иерархии есть возможное уподобление Богу
и соединение с Ним. Имея Бога Наставником во всяком
священном ведении и деятельности и постоянно взирая на
Божественную Его красоту, она, по возможности, отпечатлевает в себе
образ Его и своих причастников творит Божественными
подобиями, яснейшими и чистейшими зерцалами, приемлющими
в себя лучи светоначального и Богоначального света так, что,
исполняясь священным сиянием, им сообщаемым, они сами
наконец, сообразно с Божественным установлением, обильно
сообщают оное) низшим себя» 2. «И так все управляется (промыслом
высочайшего Виновника всяческих. Ибо иначе и не существовало
бы, если бы не было причастно сущности и начала всего
существующего. Посему-то и все неодушевленные вещи по своему
бытию причастны сей сущности, потому что бытие всего
заключается в бытии Божества; существа одушевленные причастны
животворной и превышающей всякую жизнь силе Божества;
словесные же и духовные существа причастны
самосовершенной и пресовершенной мудрости Его, превосходящей всякое слово
и понятие. И потому понятно, что близкие к Божеству существа
суть те, которые более всех) причастны Ему» 3.
«Потому святые Чины (небесных существ ближайшим
общением с Божеством имеют преимущество пред существами не
только неодушевленными и живущими жизнью неразумною, но пред
существами разумными, каковы мы. Ибо если они умственно
стремятся к Богоподражанию, духовно,взирают на
Божественный первообраз и стараются сообразовать с Ним духовную
свою природу, то, без сомнения, имеют ближайшее с Ним
общение, потому что они постоянно деятельны и, влекомые Божест-
1 Святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. М., 1898.
III, | 1.
* Там же, III, § 2.
3 Там же, IV, § 1.
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
239
венною, сильною и неуклонною любовию, всегда простираются
вперед, невещественно и без всякой сторонней примеси
принимают первоначальные озарения и, сообразуясь с тем, ведут
и жизнь совершенно духовную. И так небесные Чины
преимущественно и многоразлично причастны Божеству и открывают
Божественные тайны. Вот причина, почему они исключительно
пред всеми удостоены наименования Ангелов: они первые
получают Божественное озарение и чрез них уже даются нам
откровения. Так, по учению Богословия, преподан нам закон
(Галат. III, 19; Деян. VII, 53). Так Ангелы руководили к Богу
(Матф. II, 13; Деян. XI, 13; Дан. VII, 10) мужей, прославившихся
прежде закона, и отцов наших, живших после закона, руководили
или внушая им, что должно делать, и от заблуждения и жизни
мирской приводя их на правый путь истины, или открывая им
священные чины, или объясняя сокровенные видения премирных
тайн и некоторые Божественные) предсказания» 4.
«Если же кто скажет, (что некоторым Святым являлся Сам
Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Священного
Писания (1 Ин. IV, 12; Быт. III, 8; Быт. XVIII, 1), что
сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит; но что Бог
являлся Святым в известных видениях, достойных Его и
сообразных с свойством тех, которым были сии святые видения. А то
видение, которое проявляло в себе, как в образе, подобие ничем
не изобразимого Божества, справедливо называется в Божием
слове Богоявлением; потому что оно видящих возводило к Богу,
поколику просвещало их Божественным озарением и свыше
открывало им нечто Божественное. Сии Божественные видения
славным отцам нашим были открываемы посредством небесных
Сил. Так, Священное Предание не говорит ли, что и святое
законоположение Самим Богом дано Моисею, дабы научить нас
той истине, что оно есть отпечаток Божественного и священного
закона? Но то же слово Божие ясно научает и тому, что сей
закон преподан нам чрез Ангелов, как бы порядок Божественного
законоположения требовал того, чтобы низшие были приводимы
к Богу высшими. Ибо высочайший Виновник чиноначалия
предначертал такой закон, чтобы в каждой Иерархии не только
у высших и низших, но и у состоящих в одном чине, были первые,
средние и последние Чины и Силы и чтобы ближайшие к Богу
были для низших тайнодействователями и руководителями
в просвещении, приближении к Богу) и общении с Ним» δ.
3. Диалектика бесплотных сил. Та же четкость
диалектической мысли, которая заставляет утверждать сущест-
4 Там же, IV, § 2.
5 Там же, IV, § 3.
Α. Φ. ЛОСЕВ
240
вование бесплотных сил, она же приводит и к необходи
мости их внутренней дифференциации.
Прежде всего, бесплотных сил — «тьмы тем», т. е.
неисчислимое множество. Это — бесконечно обширное
бытие, наполненное только одним славословием Бога.
Правда, мир этот также и конечен, т. е. определенен, как
определенна и сама перво-сущность. Это не есть
расползающаяся во все концы бесконечность, не имеющая никакой
фигуры и никакого очертания. Это вполне законченное
царство умных сил, определенно-оформленное и вечно-
устойчивое; и тут нет никакой «потенциальной»
бесконечности. Эту диалектику единого, многого и бесконечного я
мог бы тут повторить еще раз во всей ее диалектической
четкости и определенности, но делать этого в данную
минуту не стоит 6.
Далее, относительно внутренней структуры мира
бесплотных сил необходимо помнить, что так как он есть
подражание перво-сущности (да иначе и некому было бы
подражать), то и структура его есть не что иное, как
повторение все той же основной структуры перво-сущности.
Вырожденческая мысль (она же и «возрожденская»),
не способная мыслить в отчетливой форме бесплотные
силы, тем более уже не умеет мыслить их внутреннюю
структуру. На этом примере мы можем наглядно
убедиться, насколько измельчала и опошлилась европейская
мысль по сравнению со средневеково-античной. Эта мысль
почти уже не может фиксировать внутренно-выразитель-
ные и духовно-рельефные образы. Она хочет благодатное
узрение духовно-выразительного лика мерить аршинами
и пудами, проявляя в этом колоссальную бездарность
и умственное убожество, вырожденство и озлобленное
ремесленничество. Поэтому (то, о чем я сейчас скажу)
внутренняя структура и физиогномика бесплотных сил,
конечно, будут не понятны никому. Но это меня мало
беспокоит. Я вполне учитываю свое «окружение»; и для меня
давно уже не новость, что люди утеряли способность к
постоянному мифологическому мышлению.
Естественнее всего провести в мире бесплотных прежде
всего деление по главной триаде перво-сущности. Там
6 Эту диалектику ангельских сил я уже проводил однажды на
текстах из Прокла, у которого, как у язычника, ангельские силы,
конечно, тождественны с «богами» просто. Диалектика числа у
Плотина. М., 1928.
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
Г ι 1
241
мы находили Одно (Основу), Сущее (Бытие, Форму),
Становление (Действие). Можно и не входить в
дальнейшие подробности этой триады, чтобы не слишком
загромождать изложение (хотя все эти детали,
несомненно, имеют место в ангельском мире и определяют собою
специальные чины ангелов). Эта триада дает первое и
самое большое подразделение ангелов на три основных
чина, а проведение ее в пределах каждого из этих трех
чинов создает структуру из девяти ангельских чинов. На
этом можно и остановиться, памятуя, что бесконечное
число ангелов приводит и к бесконечным их чинам. Мы
остановимся только на этих девяти чинах ангельских,
поскольку о них имеются более или менее ясные указания
в Библии. Эти чины таковы:
I
1. Серафимы
2. Херувимы
3. Престолы (θρόνοι)
II
1. Господства (Κυριότητες)
2. Силы (Δυνάμεις)
3. Власти
III
1. Начала (Έξουσίαι)
2. Архангелы (*Άρχαί)
3. Ангелы
Необходимо помнить, что, поскольку умные силы
находятся уже в инобытии, диалектика здесь уже не может 2*
вращаться сама в себе, как это имеет место в сфере перво-
сущности. В перво-сущности все категории, которые
только тут возможны, не вносят инобытийного различия,
т. е. остаются абсолютно равночестными. Здесь же, в ино-
бытийной диалектике, приходит момент «субординации»,
или иерархии, столь враждебный диалектике самой перво-
сущности. Тут именно иерархия и субординационная точка
зрения. Бесконечная полнота света, об увеличении и
уменьшении которой не может идти и речи в отношении перво-
сущности, здесь действительно начинает уменьшаться.
Мир бесплотных сил облекает Божественную перво-сущ-
ность, со всех сторон заимствуя от нее свет и сияя, чем
дальше, тем меньше, отсветом ее несокрушимой световой
А Ф. ЛОСЕВ
242
бездны. Поэтому первая триада ангелов — ближе всего
к перво-сущности и ярче всего сияет своим умным светом.
Дионисий Ареопагит прямо учит, что Серафимы есть огонь.
Вторая триада — менее светла, и еще менее — третья
триада. Тут, и только тут, начинается субординационизм,
который напрасно все относительные типы мифологии
хотят напялить на саму перво-сущность.
Мне кажется, установленное только что триадическое
строение умного мира вполне совпадает с системой
«небесной иерархии» у Дионисия Ареопагита. Но он
употребляет другие термины. Триаду он понимает как
очищение, просвещение (φωτισμός) и совершение (τελε'ιωσις).
Второй и третий термины по своему значению вполне
совпадают с идеально-смысловой природой второго и усовер-
шительно-восполнительной природой третьего начала
перво-сущности. Что касается первого термина
(«очищение»), то с функциями первого начала перво-сущности
его роднит учение Дионисия Ареопагита о том, что
«очищаемые должны соделываться совершенно чистыми и
чуждыми всякой разнообразной примеси». По-видимому, тут
имеется в виду то «единое», «одно», которое является в
триаде первым началом и которое именно единотворит
собою всю триаду. Прочитаем главнейшие определения
Дионисия Ареопагита.
«Итак, очищаемые, <по моему мнению, должны соделываться
совершенно чистыми и чуждыми всякой разнообразной примеси;
просвещаемые должны исполняться Божественным светом, дабы
возвыситься чистейшими очами ума до созерцательного
состояния и силы; наконец, совершенствуемые, возвышаясь над
несовершенным, должны соделываться участниками в усовер-
шающем познании созерцаемых тайн. А очищающие, так как
совершенно чистые, должны уделять другим от собственной
чистоты; просвещающие, как тончайшие умы, способные
принимать свет и сообщать его, и совершенно полные священного
сияния, должны повсюду обильно изливать свет на достойных
его; наконец, совершенствующие, как способнейшие сообщать
совершенство, должны совершенствуемых посвящать в
священнейшее познание созерцаемых тайн. Таким образом, каждый
чин Иерархии по мере своих сил принимает участие в делах
Божественных, совершая благодатию и силою, дарованною от Бога,
то, что находится в Божестве естественно и что, наконец, открыто
для того, чтобы умы боголюбивые) подражали тому» 7
7 О небесной иерархии III, § 3.
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
I I
243
Относительно того, совпадает или нет предложенная
нами структура умного мира со структурой Дионисия
Ареопагита, могут быть споры. Если брать большую
триаду ангелов, без внутреннего подразделения, то она,
несомненно, совпадает с триадой: идея, материя, вещь.
Как увидим ниже, Серафимы, Херувимы и Престолы
понимаются у Дионисия Ареопагита преимущественно
интеллигентно: это — свет и даже огонь. Вторая триада уже
чисто терминологически говорит о силовых и
материальных характеристиках. Что касается третьей триады, то
понимание ее как синтеза обеих первых не вызывает никакого
сомнения. Как будто несколько иной вид имеет внутри-
триадное строение умных сил. Здесь, пожалуй, образцом
является триада: единое (одно), идея (смысл, бытие),
становление. Это и больше соответствует терминам
Дионисия Ареопагита («очищение», «просвещение»,
«совершение»). Однако смущаться этим расхождением общетриад-
ной и внутритриаднои диалектики отнюдь не стоит. Дело
в том, что обе эти образцовые триады (одна — идея,
материя и вещь, другая — единое, общее, становление)
есть в сущности одна и та же диалектическая триада,
имеющая только разный вид в зависимости от
выдвижения разных моментов. Поэтому единство диалектической
системы умных сил остается вполне соблюденным, и она —
одна и та же и в предыдущем изложении, и у Дионисия
Ареопагита.
Разработкой системы умного мира в ее подробностях
здесь невозможно заниматься. Я приведу только некоторые
весьма малопопулярные материалы из Дионисия
Ареопагита с целью углубления некоторых сторон вопроса.
4. Символика бесплотных сил. 1. Остановимся прежде
всего на характеристике первой триады.
«...Святое наименование (Серафимов, по мнению знающих
еврейский язык, означает или пламенеющих, или горящих, а
название Херувимов — обилие познания, или излияние мудрости.
Итак, справедливо в первую из небесных Иерархий посвящаются
Существа высшие, так как она имеет чин высший всех —
особенно потому, что к ней, как к ближайшей к Богу,
первоначально относятся первые Богоявления и освящения. Горящими
же Престолами и излиянием мудрости называются небесные Умы
потому, что имена сии выражают Богоподобные их свойства. Ибо
что касается до наименования Серафимов, то оное ясно
показывает непрестанное и всегдашнее их стремление к Божествен-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
244
ному, их горячность и быстроту, их пылкую, постоянную,
неослабную и неуклонную стремительность,— также их
способность действительно возводить низших в горняя, возбуждать и
воспламенять их к подобному жару; равно как означает
способность, опаляя и сожигая, таким образом очищать их,— всегда
открытую, неугасимую, постоянно одинаковую светообразную и
просвещающую силу их, прогоняющую и уничтожающую
всякое омрачение. Наименование же Херувимов означает их силу —
знать и созерцать Бога, способность принимать высший свет и
созерцать Божественное благолепие при самом первом его
проявлении, мудрое их искусство — преподавать и сообщать обильно
другим дарованную им самим мудрость. Наконец, наименование
высочайших и превыспренних Престолов означает то, что они
совершенно изъяты от всякой низкой привязанности земной; что
они, постоянно возвышаясь над всем дольним, премирно
стремятся в горняя и всеми силами неподвижно и твердо прилеплены
к Существу истинно Высочайшему, принимая Божественное Его
внушение во всяком бесстрастии и невещественности;
означает также то, что они носят Бога и раболепно выполняют
Божественные) Его повеления» 8.
В этой характеристике примечательно отождествление
Серафимов с пламенем огненным, Херувимов — с
излиянием мудрости и Престолов — с премирным носительством
этого огня и этой мудрости (почему Престолы — тоже
«горящие»). Конечно, огненная природа свойственна
ангелам вообще, и об этом придется еще говорить ниже. Но
первая умная триада есть по преимуществу умный
пламень, т. е. умный пламень в отношении прочих чинов, равно
как и все премирное ангельское чиноначалие есть умный
пламень в отношении мира и мировых сущностей. Эта
огненная природа ума не сразу понятна. Усвоить ее, однако,
совершенно необходимо, так как это — первый шаг к
конкретной мифологии всего умного мира.
2. Отождествление ума со светом вполне понятно.
Начнем с этого, более понятного. Что такое свет? Физический
свет есть условие и принцип физического осмысления и
оформления. Если бы не было света, то вещи погрузились
бы в абсолютный мрак и оказались бы неразличимыми.
Ясно, следовательно, что свет в физических вещах есть
принцип их видимого оформления. Но что такое ум? Ум есть
тоже принцип осмысления и оформления, но только принцип
более широкий, не просто физический. Свет, перенесенный
в сферу смысла, и есть ум. Итак, ум и свет — одно и то же.
8 Там же, VII, § 1.
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
I I
245
Но мы уже много раз видели, как диалектика ума не может
кончиться на умных оформлениях. Оформленность и
осмысленность ума требует, как мы хорошо знаем, сверх
оформленности и сверх-осмысленности. Переход от «ума»
к «одному», или «единому», т. е. переход оформленного
единства к абсолютно неразличимой единичности,—
основное требование диалектики. Или есть абсолютная
единичность — тогда все есть. Или ее нет, тогда все превращается
в абсолютно дискретную и иррациональную пыль
неизвестно чего. Ум предполагает сверх-умную область,
которая уже не есть ум, но порождает самый ум, является
потенцией самого ума, как бы смысловым зарядом ума и
всего вне-умного. Если ум есть свет, то сверх-сущий ум
(а он есть основа самого ума) оказывается источником
и самого света, тем сверх-оформлением бытия, из которого
рождается самый свет. Это есть огонь, пламень огненный.
В то время как свет есть смысл и форма, нечто устойчивое
и определенное, огонь есть нечто, во-первых, не просто
смысловое; он — нечто бытииственное и субстанциальное
и вовсе не просто «идеальное», как свет. Во-вторых, он
вмещает в себя и силу, потенцию, мощь нарастающего и
в то же время уничтожающегося бытия. Это — не мертвое
и стационарное бытие. Это бытие, действительно как бы
вспыхивающее и пламенеющее. В нем — вся диалектика
первоединого принципа, ибо первоединое и есть, с одной
стороны, мир, с другой — все; оно все порождает из себя
как единственно возможный исходный пункт всего бытия,
и все поглощает в себя, охватывая все в своей абсолютной
единичности. Синтезом того и другого в недрах
первоединого является становящаяся потенция первоединого, этот
могучий и неистощимый поток и напряженная взрывность
всякого и всяческого бытия. Если перевести все эти
диалектические заключения на язык физического плана (а
мифология и есть материально-физическая воплощенность
умного символа), то мы и получим категорию Огня,
Пламени 9.
После этого становится совершенно понятной
следующая диалектическо-мифологическая характеристика
умного огня у Дионисия Ареопагита
9 Однажды я уже дал диалектическо-мифологическую формулу
огня, и в чістностн электричества (не механизированного, но естест
венного) См Античный космос. М., 1927·
А.Ф.ЛОСЕВ
I 1
246
«По моему мнению, <вид огня указывает на Богоподобное
свойство небесных Умов. Ибо святые Богословы описывают
часто Высочайшее и неизобразимое Существо под видом огня,
так как огонь носит в себе многие и, если можно сказать, видимые
образы Божественного свойства. Ибо чувственный огонь
находится, так сказать, во всем, чрез все свободно проходит, ничем
не удерживается; он ясен и вместе сокровенен, неизвестен сам
по себе, если не будет вещества, над которым бы он оказал свое
действие; неуловим и невидим сам собой; все побеждает и, к чему
бы ни прикоснулся, над всем оказывает свое действие; все
изменяет и сообщается всему, что к нему каким бы то ни было образом
приближается; животворною своею теплотою все возобновляет,
все освещает ясными лучами; неудержим, неудобосмесим, имеет
силу отделять, неизменяем, стремится вверх, проницающ,
выходит на поверхность и не любит быть внизу; всегда движется,
самодвижен и движет все; имеет силу обымать, но сам не объем-
лется; не имеет нужды ни в чем другом, умножается неприметно
и во всяком удобном для него веществе показывает свою великую
силу; деятелен, силен, всему присущ невидимо; оставленный в
небрежении, кажется несуществующим, чрез трение же, как бы
чрез некоторое искание, в сродном с ним веществе внезапно
появляется и тотчас опять исчезает и, всему обильно сообщая
себя, не уменьшается. Можно найти и другие многие свойства
огня, как бы в чувственных изображениях показывающие
Божественные свойства. Зная сие, Богомудрые мужи представляют
небесные Существа под видом огня, показывая тем их Богоподо-
бие и возможное для них) подражание Богу» ,0.
Ко всему этому я присоединил бы еще аскетическо-
подвижническое учение о сердечной теплоте. Как известно,
по этому учению, душевная настроенность и субъективные
усилия, развиваясь в процессе молитвы, доходят до сферы
умного состояния, где как бы исчезает все душевное и
субъективное и водворяется ровный свет умного
бесстрастия. Однако это — не высшая ступень. Последний «край
желаний» — сведение ума в сердце, которое начинает
пламенно пульсировать, будучи осенено волнами
Божественной благодати. Подвижники тоже говорят о теплоте, о
жаре, об огне, об умном пламени. И то, что достигается
земным человеком очень редко и в результате
многолетнего и строжайшего аскетизма, то — дается ангелам не
только без всякого труда и усилия, но, наоборот,
составляет самую их субстанциальную природу, то, без чего они
не могут существовать. Вот почему монашество и зовется
«ангельским чином».
10 О небесной иерархии XV, § 2,
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
) I
247
3. Из символики бесплотных сил упомяну еще один
фундаментальный факт, это — наименование их небесными
силами.
Думать, что это есть простая метафора,—
противоречит всему духу мифологии. Как уже давно мы убедились,
тут перед нами везде symbola realissima. Наименование
«небесные силы» есть вскрытие глубинной онтологической
символики бытия. Разумеется, для кого бесплотные силы
суть не больше как игрушечные ангелочки, какие-то
амурчики и купидончики, для того и Небо — в буквальном
смысле с овчинку. Однако духовное мещанство и
растление и вся эта пошлая философия куриных мозгов не может
служить образцом абсолютной мифологии, которой я здесь
занимаюсь. Раз миф гласит о небесных силах, то никак
иначе и нельзя понимать эти небесные силы как именно в
виде небесных сил, в буквальном смысле небесных. Но
что же это могло бы значить? Что такое Небо? Нечего и
говорить о том, что пошлый нигилизм астрономов
исключает всякое Небо. Вместо Неба мы имеем некую огромную
и черную дыру без конца и края. Это, конечно, продукт
больного мозга. Подобные кошмарные призраки являются
в случаях, о которых я тут не буду распространяться и
которые изучаются в психопатологии. Для меня критерием
лжи подобных привидений является уже то одно, что все
это противоречит непосредственному чувственному
наблюдению. Никогда я не поверю, чтобы Небо не было синим
или голубым и чтобы форма его не была шарообразной. Я
не хочу сказать, что чувственность есть последняя истина.
Но я боюсь стать на точку зрения абстрактной метафизики,
на которой стоят материалисты. Материалисты обещали
нам стать на почву чувственного восприятия. Но когда
я им говорю: тогда признайте, что 1) существует Небо,
что 2) оно — голубое, что 3) оно — полушарие,— то
поднимается гвалт: никакого Неба нет, ничего голубого в нем
нет, никакого полушария нет, все — чистая выдумка и
субъективная фантазия. Вот тебе и «чувственное
восприятие»! Ясно, что тут нас обманывают; никаких прав
никакому чувственному восприятию никто и не собирался
давать, а только под прикрытием этого «чувственного
восприятия» делается что-то совсем другое, совсем не
«чувственное» и совсем не «воспринимательное». Бог с ними!
Займемся лучше положительными установками.
Итак, мифология (да, кажется, всерьез только она одна
Α. Φ. ЛОСЕВ
248
и может быть тут упомянута) стоит на почве реального
и непосредственного чувственного восприятия. Реальное
же и непосредственное чувственное восприятие требует
признания особой сферы бытия — Неба с очень
разнообразной и многосторонней его характеристикой (между
прочим, и как голубого, и как куполообразного). Кроме
того, самое обыкновенное жизненное восприятие Неба
повелительно заставляет признать, что Небо, как и все,
что наверху, что выше, что возносится вверх да еще стоит
недостижимо и беспредельно, обязательно получает и
соответствующую квалификацию. Небо — один из
символов красоты, возвышенного, вечности, чистоты. Казалось
бы, что тут такого особенно красивого — в особенности
в звездном Небе. Это просто-напросто черная доска, на
которой рассыпаны там и сям, без всякого видимого
порядка, какие-то светлые точки. Подумаешь,— красота!
Посмотреть не на что. А тем не менее Небо, с тех пор как
существуют люди, всегда являлось предметом самых
благородных чувств, самых возвышенных стремлений, самых
торжественных и чистых настроений. Это нужно быть
действительно астрономом, чтобы не восхищаться Небом и
не испытывать при его виде духовного освобождения и
восхождения. Разъедать ведь не значит понимать. Если
моль разъела шубу, это не значит, что она ее поняла.
А мифолог хочет именно понимать Небо; и это ему вполне
доступно, так как он видит то, что хотел бы понимать.
Итак, Небо есть то, что реально в нем видится, и то, что
реально и непосредственно в нем чувствуется.
Но мифология, исходя из чувственного восприятия,
отнюдь не хочет им ограничиться. Мифология есть еще и
диалектика. А диалектика, как мы знаем, всегда исходит из
какого-нибудь опыта. Опыт абсолютной мифологии есть
абсолютный же опыт, т. е. в нем не пропадает ни один
момент — ни чувственный, ни сверхчувственный. Этот
абсолютный опыт и завершается порождением абсолютно
диалектической структуры. Какова же диалектическая
структура Неба и, следовательно, небесных сил?
Небо есть, прежде всего, место горнее и достойнейшее.
Оно — место умное, а потом уже физическое. Из этого
вытекают определенные последствия. Ум есть везде ум.
И кроме того, ум есть самосоотнесенность, отнесение себя
к себе же. Если перевести это на язык тела и материи
(а мир бесплотных сил, в сравнении с бытием высшим, есть
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
249
нечто, умно-телесное и умно-материальное), то мы
получим сразу же символический образ бытия бесплотных
сил — шар, сферу. Бытие самозамкнутое и
самодовлеющее, возвращающееся само к себе и равномерно
центрированное само на себя есть в сфере смысла — ум,
самосознание, а в сфере материи (пока еще только идеальной) —
шар. Итак, мир бесплотных сил облегает первоцентр
бытия концентрическими сферами, расположенными в
соответствии с иерархией ангельских чинов.
Но этот общий символ требует многих пояснений, так
как здесь перед нами не просто геометрический образ, но
умно-символическая структура. Прежде всего, надо
помнить, что все умное в отношении физического есть некий
бесконечный предел, к которому физическое, сколько бы ни
приближалось, никогда не может приблизиться так, чтобы
расстояние между ними равнялось нулю. Умный предмет
есть бесконечность, бесконечно большое число. Но
представим себе шар, у которого радиус бесконечно велик. Чем
больше радиус, тем изгиб окружности круга делается все
меньше и меньше. Когда же радиус круга делается равным
бесконечности, то совершенно ясно, что окружность
превращается в прямую линию. Поэтому мир бесплотных сил,
или Небо, есть такой шар, который имеет окружностью
прямую линию. В умном мире всякая окружность есть
прямая линия, и всякая прямая линия, если ее продолжать до
бесконечности, обязательно сомкнётся, превратившись в
кривую и потом в окружность круга. Далее, проведем в
данном конечном круге два радиуса и соединим
соответствующие точки окружности при помощи хорды.
Получится некий треугольник. Будем теперь увеличивать эти
радиусы. Сразу ясно, чем будет больше радиус круга, тем
угол между двумя радиусами, проведенными нами, будет
все меньше и меньше, и хорда, являющаяся тут
основанием треугольника, будет все меньше и меньше 3* Теперь
возьмем бесконечно большой радиус, являющийся высотой
данного треугольника. Ясно, что оба радиуса, бывшие у
нас двумя сторонами треугольника, сольются в одну
линию, ибо угол между ними будет равен нулю, а основание
нашего треугольника (хорда) тоже превратится в нуль3*.
Значит, в умном мире, на Небе, прямая линия равна
треугольнику равнобедренному, а равнобедренный
треугольник равен прямой линии. Далее, прямая линия,
продолженная в бесконечность, разрастается все больше и боль-
Α. Φ. ЛОСЕВ
1—^1
250
ше в своей длине; наконец, когда она станет
действительно бесконечно большой, она вновь вернется в эту
точку, от которой мы ее стали проводить. Другими словами,
бесконечная прямая линия есть такая прямая,
расстояние между концами которой равно нулю. А это значит,
что на Небе прямая линия равна точке. Наконец, шар,
радиус которого бесконечно велик и окружность которого,
как сказано, превращается в прямую линию, составляет
вместе со своим радиусом, очевидно, две прямые,
пересекающие одна другую под прямым углом. Другими
словами, шар превращается здесь в плоскость, ибо две
взаимопересекающиеся прямые определяют собою именно
не тело, но плоскость.
В общем итоге: Небо, небесное место и умные силы,
обитающие в нем, имеют такую пространственную
структуру, что здесь точка, прямая линия, треугольник, круг и
шар есть одно и то же. Точка есть линия, линия есть
плоскость, и плоскость есть тело.
Где центр Неба? Небо — шар. Этот шар имеет
бесконечно большой радиус. К бесконечности нельзя ничего
прибавить такого, что сделало бы ее еще больше, ибо она
уже охватывает все. Равным образом, ничего нельзя и
отнять от бесконечности, раз она — именно бесконечность.
Но это значит, что как бы мы ни укорачивали радиус
небесного шара, т. е. какую бы точку ни брали на этом
радиусе, она будет вполне равноценна самому центру.
Другими словами, центром Неба является и то, что посредине
его, и то, что вообще внутри его и даже любая точка его
окружности. Центр небесного свода находится решительно
везде, и любую его точку необходимо считать центром.
Далее, Небо, как живое, должно двигаться. Но двигается
оно с бесконечной скоростью. Что значит бесконечная
скорость? Возьмем какое-нибудь тело. Если оно двигается
с бесконечной скоростью, это значит, что оно сразу
находится во всех точках бесконечности. Но если оно сразу
находится везде, то это значит, что больше ему уже
некуда двигаться. Как только оно захочет двигаться дальше,
оказывается, что оно, как везде присутствующее, уже
давно находилось в этом новом месте. Но раз оно никуда не
может двигаться,— значит, оно покоится. Итак, Небо на-
ходится в таком движении, которое есть в то же время и
абсолютный покой. В Небе движение и покой есть одно и
то же. Далее, что можно сказать о весе, плотности и массе
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
I——,\
251
Неба? Переход этих категорий к форме бесконечности
делает Небо абсолютно невесомым, абсолютно неплотним
и абсолютно тонким. Но интереснее всего делается
проблема света и цвета в отношении небесных умных сил.
Энергия, исходящая от самого Первоисточника всякой
энергии, есть, конечно, нераздробленная целостность
Смысла. Она везде ровно и одинаково сияет, не встречая
никаких для себя препятствий. Этот поток энергий,
конечно, может быть только светом, а не цветом. Свет и есть эта
цельная нераздробленная сила смысла, воспринятая
умными очами. Цвет обязательно предполагает переход
света в какое-то инобытие. Это — свет плюс что-то еще.
Цвет есть осложненный свет,— это, надеюсь, понятно
каждому без всяких разъяснений. Но мир бесплотных сил
не есть просто умные Божественные энергии. Это —
энергии совсем в другом смысле — тварные энергии, а не
те, которые суть сам Бог. Но раз это — энергии тварные,
то здесь уже не может идти речь о чистом и беспримесном
свете. Здесь будет такой свет, который не есть абсолютная
бездна и полнота смысла. Этот свет — уже иерархичный,
уже причастный инобытию. Спрашивается, что же это
такое конкретно? Бесплотные силы не есть вещество и
материя, они — чисто смысловые, хотя и инобытийные,
энергии. Но раз это есть инобытие, и притом инобытие
смысловое же, то надо понять дифференции света внутри
его же самого. Дифференциация и, следовательно,
конкретизация света не может здесь получаться от привнесения
несветовых различий, ибо тогда мы уже покинули бы
область бесплотных сил и перешли бы к «плотному»
веществу. Но световые дифференции внутри света же есть,
очевидно, не что иное, как разная степень света, не та
абсолютная бездна и бесконечность света, о степенях и
вообще ó дифференциях которой не может быть и речи,
но свет в его внутреннем инобытии (т.е. разделении) —
другими словами, в его убыли и сокращении. Итак,
ангельский мир имеет только ахроматические различия, т. е. сам
по себе он лишен цветности и содержит в себе только
явления светотени.
4. Спрашивается: почему же нам Небо кажется только
полушарием, а не сразу всеми геометрическими
элементами, движущимися с определенной скоростью, а не с
бесконечной, и цветным, а не бесцветным? Решить этот вопрос
значит войти в рассмотрение не только того участка бы-
А. Ф.ЛОСЕВ
252
тия, которое называется Землей, но еще и взять эту Землю
в ее специфическом аспекте, а именно в аспекте ее
теперешнего, греховного состояния, которое принципиально
отнюдь не является для нее обязательным и необходимым
Полностью входить в рассмотрение этих вопросов сейчас
еще не время; этому будут посвящены особые параграфы
нашего исследования в дальнейшем. Однако кое-что
можно сказать уже и теперь. Тем более, что без рассмотрения
этого вопроса предыдущее изложение неизбежно
оказалось бы слишком отвлеченным.
В этой области прежде всего надо иметь в виду то, что
все решительно, находимое нами в диалектике и
мифологии после первичной троичности, есть только подножие,
престол, вместилище этой троичности. Четвертый принцип
в диалектике, как мы уже много раз убеждались, есть
именно принцип факта, субстанции, тела, носительствую-
щего в отношении триединого смысла. Четвертый принцип
есть принцип носителя, носительства. Таким образом,
София, будучи как бы телом Божиим, есть прежде всего
престол Божий, храм Божий, вместилище, носительница
Бога, «приятелище нестерпимого». Переходя в инобытие,
мы тем более переходим к таким сферам бытия, которые
являются в своей основной функции если не пределом, то
подножием, во всяком же случае — тем или иным
вместилищем бытия.
«Царя всех поднимаем, невидимо копьеносимого
ангельскими чинами». Человек — также вместилище Бога
«Не весте ли, яко храм Божий есте»
Итак, небесный мир есть прежде всего наилучшее и
совершеннейшее в материи, в инобытии носительство Бога
Если к этому прибавить, что небесный мир шарообразен,
то мы получаем некое сферическое вместилище Божества,
сферически углубленный храм и престол Божий Другими
словами, небеса суть некая Чаша, вмещающая в себя
Божество Божество — невместимо ничем и никем. Но ведь
мы — в царстве инобытия и в царстве символов. Эти ино-
бытийные символы должны нам обеспечить не только
невместимость Божества, но и какую-то его вместимость
(иначе абсолютно невместимое Божество превратится в
атеистическую абстракцию) Чаша — диалектически
необходимый символ вместимости Божества, понимаемого
на этот раз конечно, инобытийно же, а не в своей
последней абсолютной сущности. Недаром и античный
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
I — I
253
платонизм видел в Небе — чашу. Недаром и христианская
литургия пользуется Чашей, символизирующей небеса,
полагая в эту Чашу земные стихии, долженствующие
претвориться в небесную субстанцию. Итак, понятно, почему
Небо есть Чаша.
Однако это еще не все. Земля, на которой живет сейчас
человек, находится в отпадении от Неба, хотя уже и
райская Земля онтологически совершенно отлична от Неба.
Быть же в отпадении — это значит не видеть небесных
мест лицом к лицу, но созерцать их косвенно, сквозь толщу
тьмы и вещества. Это темная Бездна порою совсем
закрывает небесные лики. «Бездна последняя грехов обыде мя,
и исчезает дух мой...» Светлая Бездна видна уже как бы
сквозь темное и кошмарное марево; искажены и затемнены
черты ее лика, ослаблена и почти погашена ее
выразительность. Человек видит уже не Бога, но его инобытийный
тварный коррелят — Солнце, не Софию, Премудрость Бо-
жию и вместилище Славы, но — только лишь Небо, не
воинства небесные и умные, бесплотные силы, но — Звез-
ды\ и т. д. и т. д. Отсюда — все особенности наглядной
физиогномии нашего небесного свода и его наполнения.
Во-первых, на Небо мы смотрим с Земли так, как будто
бы смотрели со стороны Бога. Это и должно быть так,
потому что земным и тварным богом (через которого мы
только и можем существовать) является для нас Солнце.
Мы смотрим на Небо так, что между им и нами — Солнце.
Мы, следовательно, смотрим на Небо со стороны Бога.
Вполне понятно, что оно представляется нам опрокинутой
Чашей. Не потому Небо есть Чаша, что это так кажется
нашему субъективному взору, но это так кажется нам
потому, что Небо, в своей внутренней и объективнейшей
сущности, есть не что иное, как именно Чаша.
Во-вторых, объективной природой Неба и объективным
отпадением Земли от Неба объясняется и вся цветность,
характерная для видимого нами небесного свода. Тут мы
касаемся очень важной области, которой, кажется, не
касалась еще ни одна диалектическая мысль п Это —
диалектика цвета. Исходить тут нужно, конечно, из
абсолютного безразличия в смысле цветности, т. е. из категории
белого цвета. Белый цвет есть в сущности просто свет.
11 Очень ценные мысли, впервые предлагающие путь для
диалектики в этом вопросе, процитированы мною выше, стр 4*.
Α. Φ. ЛОСЕВ
'
254
Им сияет несозданная, первоначальная мифическая
сущность. Мы видели, что переход световой энергии в умное
инобытие ведет за собою внутрисветовую
дифференциацию, т. е. явление светотени. Но сейчас мы переходим к
дифференциям вне-световым. Ведь мы поставили вопрос не
о первоначальном Небе, или Небе, взятом в самом себе,
не об умном Небе, где обитают небесные чины. Мы задали
себе вопрос: каким является Небо, если смотреть на него
с Земли, и притом с падшей Земли, земными очами? Эта
постановка вопроса меняет всю картину. Мы спрашиваем
здесь, в сущности, о том, что такое Небо, преломленное
сквозь толщу земного вещества. Мы спрашиваем: что
такое Небо, рассматриваемое сквозь пленку инобытийной
материи? Разумеется, здесь уже не будут просто внутри-
световые различия, т. е. светотень; здесь мы должны
перейти к какой-то совершенно новой категории. Эта
категория и есть цвет.
Цвет — явление вторичное в сравнении со светом. Свет
существует без всякого цвета, в то время как цвет есть
всегда и обязательно свет плюс что-то еще. Это что-то и
есть вне-световая материя, объединяясь с которой свет
и становится цветом. Материя тут — не просто тьма, ибо
принцип тьмы был уже нами использован до материи (и мы
получали при этом светотень) ; принцип тьмы есть все
еще умный принцип, ибо тьма всегда главным образом
видится, умными или физическими глазами видится. Та
материя, которая участвует в произведении цвета, совсем
иная материя. Она противостоит смыслу и свету как
вещество, как субстанция, как вещь и совокупность вещей.
Она потому привносит с собой новый качественный момент.
Здесь свет дробится, так сказать, не физически, но
химически, но для этого нужны качественно различные
вещества, а не просто одно и то же вещество в разных
формах и размерах. Цветность — там, где свет борется с
вещами и сам как бы овеществляется. Потому цвет всегда
насыщеннее и тяжелее света, вещественнее и более
чувствен. В светотени глаз все еще продолжает только смотреть;
в восприятии же цвета глаз уже осязает вещи. Цвет —
принципиально телесен, т. е. трехмерен, в то время как
свет — плоскостей, нерельефен, немассивен.
Можно наметить и более детально диалектику цвета.
Если цвет есть форма объединения света с тяжелой
материей, то тут возможны разные формы. Во-первых, свет,
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
I I
255
исходя из своего первоисточника, может падать на это
вещество и материю, на эту небесную пустоту и не
проникать сквозь нее. Падая на эту телесную пустоту, он уходит
в нее, в глубину ее и там теряется, никуда не выходя в
другое место и не освобождаясь от этого туманного марева
пустоты. Таков именно голубой или синий цвет. В синем
цвете есть уходящая и уводящая вдаль энергия, но это —
холодная энергия; она ничего не дает реального и сама
теряется в пустоте, в глубинах пустоты. С другой стороны,
свет может быть рассматриваем как проходящий и
прошедший сквозь вещественную пустоту и как вышедший из
нее в некоем новом виде. Этот цвет должен быть таким
светом, который является энергией преодоления,
наступления, силового напряжения. Этот цвет сразу выражает и
свет просто, и то, что тут именно наступление, сила,
которая нечто, некую упорную вещественную среду, может
преодолеть и осилить. Это красный цвет Если синий
безболезненно уводит вдаль, то красный нервно наступает
на нас. Наконец, возможен свет и не как уходящий в
глубину пустоты, и не как пронзающий ее насквозь и
выходящий с обратной стороны. Возможен цвет как полная
нейтральность в отношении этих двух направлений. Цвет
тут как бы уходит и туда и сюда, т. е. и от нас, и к нам,
но, в сущности, это и не то и не другое; он как бы
безболезненно играется у водораздела обоих направлений.
Остальные цвета можно приблизить к этим указанным трем
основным цветам.
Предложенная диалектика цвета вполне
удовлетворительно намечает возможности для объяснения столь
странного явления, как цветность видимого Неба. Становится
ясным, и притом диалектически ясным, почему Рай —
зеленого цвета. Первозданный Рай, который еще не
выбрал ни добра, ни зла, должен быть обязательно зеленого
цвета. Понятно, почему Небо, в ясный солнечный день,—
голубого или синего цвета: это освещенная пустота, в
бесконечной глубине которой лучи света теряются и
замирают. Понятно, почему при восходе солнца части Неба,
прилегающие к Солнцу,— розовые или красные (здесь свет
видится проходящим сквозь пленку воздуха над
горизонтом), почему противоположная часть Неба, запад,— го-
лубой или темно-голубой (освещаемая пустота, зримая
от солнца) и почему, наконец, зенит в это время —
зеленоватый или изумрудный (ни восток и ни запад). Ясно
Α. Φ. ЛОСЕВ
'
256
и то, почему Ад обязательно должен быть красного цвета.
Это свет, задавленный и погубленный темнотой вещества,
но не настолько погубленный, чтобы не существовать; он
существует как вечная активность ущерба, как вечное
преодоление того, что уже не может быть преодолено. Так
я объяснил бы мифологическо-символическую природу
Рая, Ада и видимого Неба, его чашеобразность
(опрокинутая Чаша) и его разнообразную и характерную
цветность.
5. Символика бесплотных сил (продолжение). До сих
пор мы указали в применении к бесплотным силам на
символы Огня, Света и Неба, причем различили Небо
внутреннее и внешнее (воздержавшись от более
подробного анализа Неба). Пользуясь материалами Дионисия
Ареопагита, можно дать еще ряд указаний символико-
мифологического характера.
1. Столь же ярко, как и стадия Света или Огня,
бросается в глаза человеческая, или человекообразная,
фигура бесплотных сил. Но мифолого-диалектическую
дедукцию человеческого тела удобнее будет провести
впоследствии, когда мы перейдем специально к мифологии
человека. Тогда в подробностях выяснится и то, почему
ангельский образ есть образ человекоподобный. Сейчас
же да будет позволено указать лишь на ряд частностей.
Прежде всего, ангелам свойственны «внешние» органы
чувств. Это и понятно, раз тут имеется в виду
человекообразная фигура. Но интересно, что, поскольку ангелы
относятся не к физическому, а к умному миру,— их органы
чувств, как и все прочее, должны иметь чисто умное же
значение. Для некоторого пояснения этого факта я опять
сошлюсь на монашеский опыт. Этот опыт яснейшим
образом говорит, что существуют не только физические глаза,
уши, осязание и т. д., но и чисто умные. Ум — так же
выразителен, как и восприятия, и даже бесконечно более
выразителен, чем восприятия. Существует умное зрение,
умный слух, умное обоняние, умное осязание. Я приведу
только единственный пример из аскетической литературы,
хотя этих примеров можно было бы привести немало.
«Кто действие <внешних чувств заменяет внутренними:
зрение — устремлением ума к зрению света животного, слух —
вниманием душевным, вкус — разумным рассуждением,
обоняние— умным постижением (ощущением, чувством), осяза-
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
, 1 1
257
ние — бодренным трезвеиием сердечным — ют Ангельскую на
земле проводит жизнь; для людей он и есть, и видится
человеком, для Ангелов же и есть, и) понимается Ангелом» ,2.
«Умным зрением (приемлем свет Божественный, ведение
сокровенных тайн Божиих; душевным вниманием восхождение
(возникновение) в сердце помыслов располагаем с разумом (или
распоряжаемся ими, различая хорошие от худых); разумным
рассуждением, как вкусом, распознаем виды разумений, и те,
которые произрастают из горького корня, или преобразуем
в сладкую для души пищу, или совсем отбрасываем, а которые
от былий добрых и злачных отраждаются, те приемлем, пле-
няюще всяк разум в послушание Христово (2 Кор. X, 5) ; умным
постижением обоняем мысленное миро благодати Духа,
исполняясь веселием и радованием сердечным; бодренным трезвением
сердца благоумно ощущаем, как свыше Дух орошает пламень
наших добрых вожделений или согревает наши силы,
охладевшие под действием хлада) страстей» 13.
Подобно тому как Свет и Огонь суть реальнейшие
объекты молящегося подвижника и монаха, подобно этому
умное зрение, умное осязание и т. д. есть реальнейшие
акты подвижнического сознания. Они достигаются в
результате большого монашеского опыта, но это-то как раз
и свидетельствует о том, что где-то и как-то должна быть
такая категория существ, которая имеет эти объекты и
акты без всяких усилий, как вечное и блаженное самодов-
ление и беззаботность. После этого нет ничего
удивительного в том, что Дионисий Ареопагит следующим образом
перечисляет символы, относящиеся к «телесной» природе
ангелов (хотя не забудем: в ангелах «тело» и «душа»
взаимопронизаны до последней глубины и суть одно и
единственное умное обстояние).
«Так, можно сказать, что (способность зрения означает их
яснейшее созерцание Божественного света и вместе простое,
спокойное, беспрепятственное, быстрое, чистое и бесстрастное
приятие Божественного озарения.
Распознавательные силы обоняния означают способность
воспринимать, сколько возможно, превышающее ум благоухание,
верно различать от зловония и совершенно избегать его.
Чувство слуха — способность участвовать в Божественном
вдохновении и разумно принимать оное.
12 Никиты Стифата деятельные главы, сотница 1, § 8// Доброто-
любие в русском переводе. М., 1889. Т. V.
11 Там же, § 9.
§ А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
258
Вкус — насыщение духовною пищею и приятие
Божественных и питательных струй.
Осязание — способность верно различать полезное и вредное.
Ресницы и брови — способность охранять Божественные
познания.
Цветущий и юношеский возраст — всегда цветущую
жизненную силу.
Зубы означают способность разделять совершенную
принимаемую пищу; ибо каждое духовное существо, приняв простое
познание от существа высшего себя, со всем тщанием разделяет
оное и умножает, передавая существам низшим себя, сообразно
с их приемлемостию.
Плечи, локти и руки означают силу производить,
действовать и совершать.
Сердце есть символ жизни Богоподобной, которая свою
жизненную силу щедро разделяет с тем, что вверено ее попечению.
Далее,— грудь означает неутомимую силу, которая хранит
животворный дар в лежащем под нею сердце.
Хребет означает то, что содержит все жизненные силы.
Ноги — движение, быстроту и скорость стремления их к
Божественному. Потому-то Богословие изображает ноги святых
существ окриленными. Ибо крило означает быстрое парение
вверх, небесный и выспренний полет, который, по своему
стремлению горе, возвышается над всем земным. Легкость крил
означает совершенное отдаление от земного, всецелое,
беспрепятственное и легкое стремление выспрь; нагота и неимение обуви —
свободу всегдашнюю, ничем неудержимую готовность, отдаление
от всего внешнего и возможное уподобление простоте) существа
Божия» м.
2. Приведу еще примеры символики ангельской
одежды и атрибутов.
«Светлая и огнеподобная (одежда, как я думаю, означает,
подобием огня, их Богоподобие и силу освещать, сообразно с их
состоянием на небе, где обитает свет, который духовно сияет и
сам осиявается. Священническая одежда означает их близость
к Божественным и таинственным видениям и посвящение жизни
Богу.
Поясы означают их способность охранять в себе
плодотворные силы и сосредоточение их действования в одной цели,
утвержденного навсегда в одинаковом состоянии, как) в
правильном круге» ,5.
«Жезлы означают <их царское и владычественное
достоинство и прямое всего исполнение.
14 О небесной иерархии XV, § 3.
45 Там же, XV, § 4.
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
Іи^—I
259
Копья и секира означают силу отделять то, что им не
свойственно, остроту, деятельность и действие различительных сил.
Орудия геометрические и художнические — способность
основывать, созидать и совершать и вообще все, что относится к
действию возведения к Богу и обращения существ низших.
Иногда же орудия, с которыми изображаются святые Ангелы,
служат символами судов Божиих о нас (Числ. XXII, 23; 2 Царств.
XXIV, 17; Апок. XX; Амос. VIII; Захар. III; Иерем. XXIV). Одни
из сих орудий означают исправительное наставление, или
наказывающее правосудие; другие — освобождение от опасностей,
или цель наставлений, или восстановление первого блаженства,
или умножение других даров, малых или великих, чувственных
или духовных. Словом, проницательный ум не усомнится в том,
что видимое употреблено, собственно, для) означения
невидимого» ,6.
3. Своеобразную мифолого-диалектическую дедукцию
получают в применении к ангельскому миру символы ветра
и облаков.
«То, что они (называются ветрами (Дан. VII, 2; Псал. XVII,
11, CHI, 3), означает быстроту их деятельности, которая
безостановочно всюду проникает, их способность переноситься сверху
вниз и снизу вверх, возводящую низших на выспреннюю высоту, а
высших побуждающую к сообщению с низшими и попечению о
них. Можно также сказать, что чрез наименование ветрами
означается Богоподобие небесных Умов; ибо и ветр имеет в себе
подобие и образ Божественного действия (как я довольно показал
это в символическом Богословии при таинственном изъяснении
четырех стихий), по своей естественной и животворной удободви-
жимости, по своему быстрому, ничем неудержимому стремлению
и по неизвестности и сокровенности для нас начала и конца его
движений. Не веси бо, сказано, откуду приходит и камо идет
(Иоан. III, 8).
Далее, Богословие окружает их облаками, означая сим, что
священные Умы непостижимым образом исполняются
таинственным светом, принимают в себя первоначальный свет без
тщеславия и обильно передают оный существам низшим, сообразно
с их природою; что они одарены силою раждать, оживотворять,
возращать и совершать по образу дождя умственного, который
обильными каплями возбуждает к животворному рождению
недро,) им орошаемое» І7.
Свое значение имеет тут, далее, символ меди, янтаря и
разноцветных камней и их цветов.
16 Там же, XV, § 5.
17 Там же, XV, § 6.
9*
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—I
260
(«Если же Богословие применяет к небесным Существам вид
меди (например, Иезек. I, 7. XL, 3; Дан. X, 6), янтаря (Иезек. I, 5.
VIII, 2) и камней разноцветных (например, Апок. IV, 3), то
янтарь, как нечто златовидное и сребровидное, означает
немерцающий, неистощимый, неуменьшенный и неизменяемый блеск,
как в золоте и в серебре, яркое, световидное, небесное сияние.
К меди же должно отнести или свойство огня, или свойство
золота, о которых мы уже говорили.
Что же касается до различных цветов камней, то надобно
думать, что белый цвет изображает светлость, красный —
пламенность, желтый — златовидность, зеленый — юность и
бодрость; словом, в каждом виде символических образов ты найдешь
таинственное изъяснение»)і8.
Я приведу еще символы животных.
4. «И, во-первых, образ льва ((Апок. IV, 7; Иезек. I, 10),
должно думать, означает господственную, крепкую,
непреодолимую силу и посильное уподобление непостижимому и
неизреченному Богу в том, что они таинственно закрывают духовные стези
и пути, ведущие при Божественном просвещении к Богу.
Образ вола (Иезек. I, 10) означает крепость, бодрость и то,
что делает духовные борозды способными к принятию небесных
и плодоносных дождей; рога же означают охранительную и
непобедимую силу.
Далее, образ орла (там же) означает царское достоинство,
выспренность, скорость летания, зоркость, бдительность,
быстроту и искусство в снискании пищи, укрепляющей силы, и, наконец,
способность, при сильном напряжении зрения, свободно, прямо,
неуклонно смотреть на полный и светоносный луч, истекающий от
Божественного света.
Наконец, образ коней означает покорность и скорое
послушание; белые (Захар. VI, 3) кони означают светлость или, лучше,
сродство со светом Божественным; вороные (ст. 2) — тайны не-
доведомые; рыжие (ст. 2) — пламенность и быструю
деятельность; пестрые (ст. 3) — черного и белого цвета — силу,
посредством которой связываются крайности и премудро первое
соединяется со вторым, второе — с первым.
Но если бы мы не заботились о краткости сочинения, то все
частные свойства и все части телесного устройства показанных
животных могли бы приличным образом применить к небесным
Силам, принимая подобие не в точном значении. Так, гневный вид
их могли бы применить к духовному мужеству, которого крайняя
степень есть гнев, вожделение — к Божественной любви и,
коротко сказать, все чувства и части бессловесных животных — к
невещественным мыслям небесных Существ и простым силам. Но
18 Там же, § 7
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
I 1
261
для благоразумных не только сие, но и объяснение одного только
таинственного образа достаточно для того чтобы понять пред
меты) подобного рода» |9
5 Наконец, интересны еще следующие символы
«Огненные реки <(Дан. VII, 10) означают Божественные
истоки, обильно и непрестанно увлажняющие оные Существа
и питающие их животворным плодоносием. Колесницы (4 Царств
И, И VI, 17) означают согласное действование равных.
Колеса же (Иезек. I, 16 X, 2), окриленные, неуклонно и прямо
движущиеся вперед, означают силу небесных Существ идти в
деятельности по прямому и правильному пути, поколику всякое их
духовное стремление свыше направляется по прямому и неуклонному
пути
Можно и в другом таинственном смысле принять изображе
ние духовных колес. Им дано название, как говорит Богослов,
гал, гал (Иезек. X, 13), что на еврейском языке означает
вращение и откровение Огненным и Божественным колесам
принадлежит вращение, поколику они непрестанно обращаются вокруг
одного и того же блага; откровения, поколику они раскрывают
тайны, возводят низших и низводят долу высшее освещение.
Остается нам объяснить радость (Лук. XV, 10) небесных
Чинов. Правда, они совершенно чужды нашего страдательного
услаждения; впрочем, сорадуются, как говорит Писание, Богу о
обретении погибших, по своей Богоподобной тихой радости, по
своему искреннейшему удовольствию при попечении Промысла
о спасении обращающихся к Богу и по тем неизъяснимым
восторгам, которые весьма часто ощущали Святые мужи, когда свыше
нисходило на них) Божественное озарение» .
6 На этом я и закончу характеристику бесплотных сил,
которая, несмотря на свою краткость, дает по-моему,
совершенно определенный метод построения всей ангелоло-
гии и вносит внутренний порядок и логику в область,
которая не одними невеждами считается темной и
запутанной. Для изображения ангельского мира не хватает здесь
главным образом учения о падших ангелах, т. е. о сатане.
Но и этот вопрос я считаю более удобным рассматривать
впоследствии, когда выяснится перед нами вообще вся
диалектическая картина грехопадения. Правда, уже и
сейчас ясно, что ангел может отпасть только раз навсегда,
на всю вечность. И это потому, что он — умная сила.
Человек, например, который не только умен, но и физичен,
19 Там же, $ 8.
29 Там же, J 9.
А Ф ЛОСЕВ
_J—— L-
262
может очень много раз падать и подниматься, ибо
физическое тело по самой своей природе есть нечто текучее и
неустойчивое. Но чистый смысл и ум не может °* течь и быть
в становлении. Он — вне протекания. Поэтому в одно
вневременное мгновение ангел становится или ангелом света
сразу на всю вечность, или ангелом тьмы — тоже на всю
вечность. Это простое и ясное решение вопроса об
ангельском грехопадении, однако, недостаточно для
рассмотрения всей проблемы сатанологии в целом. Дело в том, что
сатана мыслится еще и как активный участник в земной
судьбе человека. Сам собой поднимается вопрос о том,
как же совместить неподвижную вечность Ада с его
непрерывным участием во временном становлении. Впрочем, это
не есть вопрос только об одной сатанологии. В сущности,
тот же вопрос можно поставить и об ангелах света: как они
могут быть вестниками воли Божией и вообще выполнять
те или иные пространственно-временные функции, если
сами по себе они суть самодовлеющее и не уходящее в
тьму становления блаженство вечности? В конце концов,
это есть, может быть, вопрос просто о взаимоотношении
Бога и мира, ибо Бог мыслится тоже как самодовлеющая
вечность: как же вся мифология может состоять из
повествований о делах Божиих, о мыслях Божиих, даже о
чувствах, гневе, милости и т. д. Бога? Все эти вопросы удобнее
всего поставить после изучения системы отпавшего мира
целиком. Мало того. Даже и проблема Рая и первых
людей, прародителей, Адама и Евы, может быть целиком
выражена в удобнейшей форме только в связи с мифологией
грехопадения.
Поэтому, хотя логически от ангелов надо было бы
переходить к райскому космосу, а потом к Адаму и Еве, мы
нарушим этим логический порядок. Большинство различений
и установок понятны нам сейчас только в их греховном
состоянии, т. е. в том их виде, который в науке считается
вполне нормальным и естественным и который поэтому и
наилучше известен. Мы же, изучивши этот «нормальный»
мир и этого «нормального» человека в их естественной
мифологичное™, сможем легче изучить и то «нормальное»
и «естественное» состояние мира и человека, которое уже
не современная наука, т. е. один из видов относительной
мифологии, считает таковым, но которое является
нормальным и естественным уже с точки зрения абсолютной
мифологии.
АБСОЛЮТНАЯ
-Γ=1.
ДИАЛЕКТИКА-
-J=L
АБСОЛЮТНАЯ
J—L
МИФОЛОГИЯ
264
(Катего)рия становится на место перво-сущего. А она
не может не стать на это место, так как все категории
тождественны с перво-сущим. Практически это сводится к
тому, что все категории (в нашем случае выведенные пять)
должны еще раз повториться в каждой из этих категорий.
Однако это не может быть простым повторением уже
полученного ряда, т.. е. повторением его пять раз. Это, конечно,
ни к чему не привело бы. Все дело в том, что здесь каждый
раз получаются совершенно новые категории в
зависимости от особенностей той сферы, в которой происходит это
«повторение» первого ряда. Тут-то как раз и становится
до полной наглядности понятным, что такое абсолютная
диалектика. В абсолютной диалектике каждая
мельчайшая категория должна играть роль первенствующей
категории, роль первоединого, из которого вытекают все
прочие потенции. Относительная диалектика как раз тем и
страдает, что она берет только некоторые категории в
качестве основных, остальные же оставляет в том их
невыразительном, одномерном виде, в котором они предстали
при первом прикосновении диалектической мысли. Так,
например, «диалектик» берет категорию «объекта» и
категорию «субъекта». Пусть даже он и вывел их одну из
другой (что, впрочем, не всякий диалектик умеет делать).
Все-таки этого еще мало. Если он хочет быть
действительно конкретным, он должен 1) объект рассмотреть как
субъект и 2) объект рассмотреть как объект, а еще лучше,
если, кроме того, он 3) субъект-объектное тождество
рассмотрит как объект и 4) субъект-объектное тождество
рассмотрит как субъект. Тогда этот диалектик увидел бы,
как категория «личности», а вместе с тем категория
«искусства» и «религии» вытекают с полной диалектической
необходимостью (как это мы видим в конце Гегелевой
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
\шшшшт\
265
«Энциклопедии»), и никто не посмел бы тогда считать эти
категории ложными или несущественными. А что делает
эту диалектику истинной и существенной? Именно то, что
здесь категории не просто выведены одна из другой, а еще
и рассмотрены одна в свете другой, т. е. каждая категория
повторяет внутри себя весь ряд, в котором она занимает
в одномерной диалектике — лишь одно из многих мест. Это
и есть абсолютная диалектика.
Сделавши теперь ориентировку в достигнутой нами
диалектической стадии, мы теперь сразу же видим, что
мы действительно вступили на путь абсолютной
диалектики и что мы проработали из нее первые три категории, т. е.
достигли трехмерности. Сначала мы дали одномерную
диалектику в виде дедукции пяти основных категорий
(которые можно представить в связи с теми или другими
намерениями и как триаду, и как тетрактиду). Очевидно,
это есть та диалектика, где основную роль играет Одно, так
как наши пять категорий ничего иного и не представляют
собою, как именно диалектическую эволюцию этого
Одного. Далее, мы перешли к интеллигенции. Это и значит,
что мы поставили здесь в центр и основу уже не Одно, а
Сущее, вторую категорию из одномерного ряда. Чистое
Одно как одно — порождает из себя Бытие, Сущее, но
Бытие, если его, это самое Бытие, принять за Одно, даст в
качестве второй категории уже, очевидно, не просто Бытие,
ибо в этом случае не было бы и никакого диалектического
процесса. Одно даст другое бытие, которое будет с ним
соотноситься так же, как в первом ряду Бытие
соотносилось с Одним. Но там Одно было абсолютно раскачест-
венно, здесь же оно заполнено бытийственной
качественностью. Это и заставляет нас трактовать новое Бытие уже
не как просто Бытие, но как Сознание, как Интеллигенцию.
Равным образом наш третий ряд, или трехмерная
диалектика, очевидно, построен по типу третьей категории
первого ряда, Становления, получая общую характеристику
как Стремления, или Влечения.
Тут нам становится воочию ясно, чего еще не хватает
нашей диалектике, чтобы она стала абсолютной (пока в
пределах полученных пяти категорий). А именно,
необходимо, чтобы полученная третья плоскость Стремления
(Влечения) перешла еще в четвертую, по типу перехода
Становления в Ставшее (в Факт, Субстанцию), т. е. чтобы
в центре всех пяти категорий была поставлена четвертая
Α. Φ. ЛОСЕВ
■ 1^—1
266
категория; и необходимо, чтобы эта четвертая плоскость
перешла еще в пятую, по типу перехода Ставшего в
Символ, т. е. чтобы в центре всех пяти категорий была
поставлена пятая категория. Это и приведет нас к желанному
концу, к построению абсолютной диалектики
Субстанции.
11. Две последние плоскости, завершающие
абсолютную диалектику (персонализм и ономатизм). 1. Начнем с
первой плоскости. В чем ее центральный и основной смысл?
Интеллигенция, т. е. чистый ум и абсолютное
самосознание, перешла у нас в некое новое становление, где ум
погрузился в стихию Стремления. В дальнейшем диалектика
требует противоположения этой категории еще новой,
которая была бы ей именно противоположна. Просто
Фактом, или Субстанцией, т. е. просто Ставшим, эта категория,
конечно, не может быть, ибо тут мы вернулись бы к первой,
одномерной, диалектике и игнорировали бы все наши
достижения в двухмерной и в трехмерной диалектике. Надо
подыскать такое Ставшее — такой Факт,— которое бы
вместило в себя и чистый Ум, и чистое Стремление, которое
было бы сразу и Телом и Живым Существом, и
Пониманием и Словом. Я думаю, что это есть, вообще говоря,
категория Личности, получающая разный вид в зависимости
от преломления в разных категориях ряда.
В прямом и чистом виде эта категория относится к
четвертому началу. Вспомним предыдущие формы этого
четвертого начала. Сначала, в наиболее абстрактной и
формальной плоскости, мы имели просто Ставшее. Когда
это Ставшее мы стали мыслить как носителя Ума,
абсолютной интеллигенции, мы уже не могли продолжать
называть его Ставшим просто. Оно предстало перед нами
как Тело. Далее, это Тело наполнилось еще более глубоким
содержанием: оно стало мыслиться как рождающее или
рождаемое. Другими словами, оно превратилось уже
в Живое Существо. Теперь же, наконец, оказывается, что
это Живое Существо берется с точки зрения
законченности и определенности всех своих жизненных устремлений.
Оказывается, что его ум и его стремления даны не просто
сами по себе, но в своей полной определенности,
завершенности, ставшести. Это значит, что Живое Существо
берется во всем своем историческом развитии, со всеми
своими судьбами, которые только ему свойственны. Живое
Существо, оказывается, осуществило здесь свой индиви-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА-АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
1-^—I
267
дуальный лик, и весь его ум, вся его жизненная энергия
дали полную картину своего собственного существа. По-
моему, это есть то, что обычно называется Личностью
Личность есть конкретная осуществленность всего
внутреннего, всей, какая только свойственна данной
субстанции, интеллигенции. Однако это уже четвертое начало;
и мы еще ничего не сказали о новой модификации первых
трех начал.
Первое начало, Одно, Рождающее и Нерожденное,
в аспекте противопоставления своему инобытию, т. е.
в аспекте результата этого Рождения и Нерожденности,
даст Власть. Делать, творить, рождать в аспекте
личностном и завершительном — это значит быть в состоянии
делать, творить и рождать, быть достаточно
могущественным и властным для этого. Но это есть результат и ставшее
Ума, что тоже — Ум сам внутри себя, но в аспекте
завершенности и законченности. Мне кажется, это есть Ведение
(или, быть может, Вера, если ее понимать как умное
Ведение). Влечение и Стремление, данные в аспекте личност
ного завершения, есть Любовь. Однако мы уже видели,
как полезно и как в то же время необходимо
рассматривать первые три ипостаси, с одной стороны, и четвертую —
с другой, как нечто целое и неделимое. Ведь первые три
начала есть не только чисто смысловые начала, которые
реально существуют только на четвертом начале, т. е.
когда есть соответствующий Факт, или Субстанция,
которая их осуществляет и реально, телесно носит на себе.
Что же даст нам Личность (полученное нами в этом ряду
четвертое начало), как именно осуществится и носитель
Могущества, Ведения и Любви? Что такое эта
абсолютная Личность, которая законченно осуществит и
реализует и Власть, и Ведение, и Любовь? Что такое Власть
как Личность, Ведение как Личность, Любовь как
Личность? Что такое Власть как живой организм Личности,
Ведение как живое существо Личности, Любовь как
субстанция и тело Личности? Тут мы подходим к великой
диалектической тайне христианского учения о троичности,
которая только сейчас начинает немного приоткрываться
для нашего изумленного взора. Рождающее и Власть
имущее, Рождающее и Нерожденное, Власть как
Личность есть Отец, довлеющий себе; Рождающее как
Личность есть Отец, и Нерожденное как Личность есть Довле-
ние, и Нерожденное, но Рождающее Власть как Личность
Α. Φ. ЛОСЕВ
268
есть самодовлеющий Отец. Рожденное как Личность есть
Сын, и Ведение как личностная завершенность есть
Мудрость Пневма и Жизнь как Личность есть Дух, и
Любовь как личная завершенность и законченность есть
Святость Субстанциально-личностная завершенность
Жизни как умного ощущения и влечения — как
неиссякаемого Стремления и Творчества есть Дух Святой. Дух
Святой — организм Любви и Святости, Любовь и
Святость как организм
Наконец, в пятой категории, в Символе, который уже
дошел у нас в предыдущей диалектике до степени
Понимания и Слова» (иное) становится в этом общеличност
ном аспекте, очевидно, Словом Личности, Словом,
открывающим сущность Личности. Такое Слово, которое
исходит от живой Личности, очевидно, есть Имя, а это имя,
открывающее и выражающее вовне и довление Власти,
и Мудрость Ведения и Святость Любви, есть не что иное,
как Добро, Истина и Красота. Добро, Истина и Красота
есть внешнее выражение Довления, Мудрости и
Святости, подобно тому как эти три есть внутренняя осущест-
вленность и завершенность тайных внутритроичных
процессов Власти, Ведения и Любви
Такова эта общая плоскость персонализма, возни
кающая под главенством четвертого начала, Ставшего,
получающего здесь форму Личности. Укажем, что
получается на второй из указанных плоскостей, т.е. там, где
главенствует не четвертое, а пятое начало, не Ставшее,
но Символ и где с точки зрения этого Символа не
растраиваются все пять основных категорий Прежде всего
необходимо зафиксировать общий смысл этой новой
плоскости. Если Личность соответствовала Ставшему и была как
бы устойчивым, остановившимся бытием Стремления, то
с Символом мы, очевидно, переходим еще в новое
становление, ибо и всякая категория противополагаясь
своему инобытию, синтезируется с нею в своем
становлении. Тут будет становление уже самой Личности, не
просто, конечно, становление как таковое. Однако тут мы
еще не перейдем в самое инобытие Личность
отождествится с этим инобытием в своем смысле, умно; и потому
она не перейдет в свое инобытие как Факт, чтобы там
заново утвердиться или, быть может, рассыпаться, но
будет умным же становлением, смысловой энергией, эма
нирующей в инобытие, но не становящейся самим ино-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
' s
269
бытием. Три ипостаси, выведенные нами раньше, в
аспекте этого чистого «для иного», станут Силой, Светом и
Благодатью. Четвертое начало, дошедшее в предыдущей
диалектике до степени Личности, превратится здесь в
такую сферу, которая будет местом осуществления и
овеществления инобытийных энергий Личности. Я ее
называю софийной сферой, а основную триаду в ее
воплощении на Софии я мыслю как Царство, Славу, Церковь.
Наконец, пятая категория в свете конструируемой здесь
диалектики, т. е. Символ в свете Символа же, есть
Магическое Имя, а триадическое разделение в нем дает
Энергию Спасения, Эвхологическую (откуда — молитва) и
Мистериальную (откуда — Таинство).
12. Необходимые и основные разъяснения. Только
теперь мы пришли к некоторому более или менее
осязательному концу в смысле своего первоначального
задания (получить абсолютную диалектику, кончая
категорией Магического Имени), и только теперь мы можем
ставить реально вопрос о том, что такое абсолютная
мифология и как она получается на деле. Но и полученный
нами все-таки порядочный диалектический материал все
же не везде одинаково ясен; и не вполне ясны общие
выводы, которые надо сделать для нашей теории абсолютной
мифологии. Все это заставляет нас еще и еще
пересматривать этот материал, выделяя то, что осталось тут в тени,
и стремясь дать по возможности цельную и единую, а
также простую и ясную систему диалектики. Я попросил
бы при дальнейших разъяснениях пользоваться
прилагаемой мною тут таблицей !*
1. При первом взгляде на нашу таблицу мы прежде
всего обращаем внимание на то, что по горизонтальной
линии сверху мы имеем пять основных категорий (Одно —
«В-себе», Сущее — «Для-себя», Становление — «В-себе-
и-для-себя», Ставшее, Субстанция — «Для-себя-и-для-
иного» и Выражение, Символ — «Для-иного»), по
вертикальной же линии слева 2* — только три категории: Одно,
Сущее и Становление 3*. Хотя этот факт и должен быть сам
собою понятен из предыдущего изложения, но, чтобы не
было никаких неясностей, разъясним это здесь еще раз.
Мы хотели построить абсолютную диалектику.
Абсолютная диалектика в пределах данного ряда категорий есть
конструкция всех и каждой категории из этого ряда в свете
всех и каждой, т. е. повторение всех категорий в каждой
Смысл
Одно
Сущее
(Бытие)
Становление
В-себе
(Одно)
станция
Основа
Форма
Действие
Символ
Начало
Образ
Выражение
Для-себя
(Сущее)
лигенция
Сверх.-
инт.
[Сердце]
Ум
Ощущение
Тело
s
s
si
χ
<υ
U
χ
«=:
α>
Η
X
s
a
χ
CL·
О
Понимание
В-себе-и-для-себя
(Становление)
Стремление
(Влечение)
Живое
Существо
(Дыхание)
Рождающее и
нерожденное
Рожденное
Пневма
Исходящее
Слово
шитель]*
Для-себя-и-для-иного
(Ставшее, Субстанция)
Чувство
Власть
Любовь
София *
(Личность)
Довле-
ние
(Отец)
Мудрость
(Сын)
Святость
(Дух
Св.)
Имя
Добро
Истина
Красота
Для-иного
(Выражение, Символ)
I*
Энергия
(Смысловая)*
Сила
Свет
Благодать *
III
Ос-
мысл.*
София
(Лик)
Царство *
Слава *
Церковь
VI
Магич.
Имя
Выраж.
к III*
Спасение *
Эвхоло-
тия
Мистерия
II*
Энергия
(Лик)
чисто
софий-
ная
(Явление)
1.
Знамение
2. Икона
3. Обряд
іѵ* --^
Выражение к I
1.
Изволение
2.
Догмат
3. Миф
/ V* \
Выражение ко II
1 Совет
Предвечный
2. Откровение
3. Священная
История
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
271
из них еще раз. Поэтому наша таблица должна была бы
иметь пять категорий в горизонтальном расположении
и пять в вертикальном, чтобы на схождениях линий от
каждой из них и получались искомые сложные
категории. Почему же наша таблица содержит в вертикальном
направлении только первые три категории? Тут мы
должны вспомнить, что по нашей основной диалектической
конструкции три первые начала резко противостоят чет-
вертому началу. Четвертое начало не есть сфера чистого
смысла, каковой являются первые три начала. Четвертое
начало есть начало осуществления, реализации,
овеществления смысла. Таким образом, реально существуют
эти три начала не сами по себе, но — лишь вместе со
своей осуществленностью, вместе со своей реализацией.
Равным образом пятая категория также не может
мыслиться единосущной с первыми тремя. Пятая категория,
Выражение, или Символ, уже предполагает первые три
начала и только определенным образом выявляет их
вовне, выносит их наружу. Таким образом, первые три
начала являются совершенно своеобразными
категориями; и они как чисто смысловые могут быть
противопоставляемы решительно каждой, любой категории и всем
категориям, взятым вместе. Все прочие категории есть не
что иное, как то или другое усложнение первых трех,
их разрисовка и углубление. Первые три начала в аспекте
четвертого суть осуществленные три начала, а в аспекте
пятого суть выраженные три начала. Та и другая
модификация, как видим, нисколько не нарушает ни самого
количества «три», ни их существенного
взаимоотношения. Вот почему необходимо в вертикальном направлении
нашей таблицы говорить именно о трех ипостасях. Это,
однако, нисколько не мешает тому, чтобы мы
рассматривали как только три ипостаси сами по себе, так и их
модификации в направлении четвертой и пятой категории.
Наоборот, это различение необходимо, если мы вообще
хотим получить диалектическое исследование; и потому
я отвожу этим модификациям вполне определенное место
в своей таблице, но только место это не по вертикали,
но — параллельно трем первым началам в каждом отделе,
соответствующем той или иной горизонтальной
категории.
2. Далее наш взор падает на самую эту первичную
триаду. Мы видим теперь воочию, что христианское уче-
Α. Φ. ЛОСЕВ
Γ=1
272
ние о троичности Лиц Божества вовсе не есть что-то про-
тиво-разумное и не-логичное и какой-то набор
бессмысленных слов, каковым любят его изображать лица,
невежественные в этом вопросе. Даже не «верующий», но
просто честно мыслящий должен сказать, что тут
содержится самое обыкновенное диалектическое учение, самая
обыкновенная диалектическая триада, какую можно
найти в любой диалектической системе. Правда, и честно
мыслящих, и диалектиков достаточно мало, чтобы учению
о троичности была отдана вся дань по справедливости.
Мы воочию убеждаемся, что опять-таки не логика, не
знание и не наука заставляют людей восставать на
троичность. Наоборот, если бы люди рассуждали
диалектически, то убедились бы, что божество только и может быть
триединым, не иным. Разумеется, чтобы вообще
утверждать реальность чего бы то ни было, нужно иметь
соответствующее ощущение этого предмета; а чтобы иметь
ощущение, надо иметь орган ощущения. И это, как я уже
много раз говорил, есть сфера именно не логики и не
диалектики, но жизни. Человек ощущает и имеет объект для
ощущения — в зависимости от того, как он живет. Одна
жизнь предрасполагает к одним ощущениям, другая —
к другим. Чтобы воспринять и ощутить Божество, нужна
соответствующая жизнь, не только внутренняя, но и
внешняя. Ощутить Божество тому, кто раньше не имел этого
ощущения,— значит изменить свою жизнь; и, самое
главное, это значит измениться физически, ибо какое же это
изменение жизни без физического ее изменения? Итак,
логика триединства имеет под собой некоторый
вне-логический опыт, который нельзя насадить и воспитать
никакой логикой и который равным образом нельзя и
опровергнуть никакой наукой и диалектикой. Но допустим на
одну секунду, что Божество существует, допустим хотя
бы только в мысли, хотя бы только гипотетически,— вы
обязаны будете применить к Нему диалектические схему.
Вы обязаны будете ответить на вопрос: если Бог есть, то
чем Он отличается от всего прочего? И если Он чем-нибудь
отличается, Он есть нечто. А если Он — нечто, то это
нечто имеет определенную границу и очертание, и т. д.
и т. д. Словом, вся диалектическая схематика
неминуемым образом окажется реальной также для Божества,
и вы должны будете учить в первую голову о триаде: Одно,
Сущее и Становление. Из этого видно, какая клевета
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
I I
273
и какой вековой обман существует в отношении Средних
веков и христианского вероучения. Люди, потерявшие
веру в Бога, уверяют нас, что ни в неоплатонизме, ни в
средневековом богословии и философии нет ровно никакой
логики и никакой диалектики, что там область «тьмы
и невежества», а вот-де изображение Богоматери в виде
своих возлюбленных есть действительно возрождение
и внутренне прогнившее духовное мещанство, и слепота,
этот жалкий салонный блуд Вольтера и Дидро есть
действительно просвещение. Но явно эта преступная клевета
рассчитана на полную безмозглость и на то, что люди
не станут проверять подобных утверждений
самостоятельным изучением данных исторических периодов.
Конечно, лучше всего запретить изучение
антично-средневековой мысли, чтобы никто не имел даже и возможности
выявить тот свет ума и ту диалектику, которая там
фактически существовала. Но такое запрещение слишком уж
явно дискредитирует само себя и выявляет свое
подлинное лицо. Итак, в учении о Триединстве кроме стихии
ощущений (или, как говорят, «веры») есть еще полнейшее
требование мысли; это — самая обыкновенная триада,
которая существовала у всех «верующих» и
«неверующих», кто только занимался диалектикой.
3. Попробуем теперь войти в разъяснение более
детальных категорий. Мы получили основную
диалектическую триаду, которую путем дальнейших усложнений
можно было бы довести до какого угодно количества
категорий. Но мы остановились на пентаде. Рассмотрим, в чем
суть диалектики, которая хочет рассмотреть каждую из
пяти категорий в свете каждой из пяти категорий. Вот
мы имеем сферу Смысла (разработанную нами в виде
первой триады). Эта сфера Смысла была порождением
первой категории — Одного; это было продвижение в
сфере Одного и средствами Одного. Что же получится,
если мы теперь начнем рассматривать всю полученную
сферу Смысла с точки зрения второй категории —
Сущего, или Бытия. Я утверждаю, что и здесь в
предложенной системе дано построение, которое, безусловно,
непререкаемо, которое обладает самой элементарной
диалектической необходимостью и которое не признают
только потому, что не хотят на это даже обращать
внимания.
Это простейшее, очевиднейшее, примитивнейшее по-
Α. Φ ЛОСЕВ
1 1
274
строение сводится к следующему. Допустим, что мы
получили в своей диалектике сферу Смысла. Допустим, что
все дистинкции, которые можно было здесь произвести,
мы произвели. Допустим, что дальше уже ничего не
остается такого, что было бы Смыслом. Все остальное —
сфера уже вне-смысловая. Что же получится? К какому
выводу придет диалектика, захотевшая производить
с полученным Смыслом свои дальнейшие — обычные —
операции, т. е. противоположения и отождествления?
Мы должны теперь всю сферу Смысла противопоставить
чему-то иному и отождествить с ним. Но где же это
«иное»? Мы ведь только что сказали, что нами
проработана решительно вся сфера Смысла, что, следовательно,
ровно никакого иного, никакого инобытия уже не
остается. Чему же теперь противопоставлять Смысл? Раз мы
условились, что нами исчерпана вся сфера Смысла, то
ведь все остальное, если оно есть, конечно, будет уже вне
Смысла. Но что же можно сказать о том, что никакого
смысла не имеет и что — вне всякого Смысла? Таким
образом, само собой получается, что полученный Смысл
не с чем противопоставить, кроме как с самим же собою,
что единственное инобытие, которое тут мыслимо,— это
сам же Смысл для себя же самого. Мы должны
конструировать такой Смысл, который был бы бытием сам для себя.
Вспомним: мы ведь как раз хотели рассмотреть все
категории под углом зрения Бытия. Но что такое «все
категории»? Это есть вся сфера Смысла, взятая целиком. Где
же теперь будет это Бытие как нечто новое в этом уже
новом противопоставлении всего Смысла своему
инобытию? Это и будет, очевидно, самосознание, а «Бытие»,
которое мы условились положить здесь в центр всего,
превратится в объект самосознания, или, что то же, в
субъект самосознания.
Теперь я спрошу: где тут допущена ошибка? Скажите:
где в этой диалектике допущен такой шаг мысли, который
бы превращал все это рассуждение в неправильное или
фиктивное? Никто такой ошибки указать не сможет. Тут
простое дело: раз исчерпана вся сфера Смысла, то
дальнейшее противопоставление есть уже противопоставление
Смысла ему же самому, самопротивопоставление Смысла,
т. е. субъект-объектное взаимоотношение, т. е.
самосознание, интеллигенция. И заметьте: это не тот вывод,
который можно было бы делать и можно было бы не
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
1 I
275
делать. Это вывод, который нельзя не делать. В самом
деле, диалектика производит свои операции путем
противоположения, т. е. путем отрицания, и — в дальнейшем
отрицания этого отрицания, т. е. утверждения. Вот
получена вся сфера смысловых установок, вся сфера Смысла
целиком. Можно ли не противополагать эту сферу ее
инобытию? Можно ли не отрицать эту сферу и в дальнейшем
не утверждать ее опять снова? Ведь это было бы
равносильно смерти диалектики. Это значило бы закричать на
диалектику: «Молчи!» — и топнуть ногой. Будем ли мы
это делать? Хотя и очень много существует охотников
кричать и топать ногами, мы за этим не пойдем, мы
предоставим диалектике совершать свои операции и
дальше — даже бесконечно, если это потребуется. Разве
может кто-нибудь положить пределы мышлению, если оно
само себе их не положит? Итак, философия сферы Смысла
противополагается — единственно возможному инобытию
(ибо всякое бытие уже исчерпано) — себе самому. А это
и значит, что Смысл перестал быть смыслом просто, но
стал Субъектом и Объектом. Поэтому, как бы ни
бесновались материалисты, желающие свести самосознание
и вообще сознание на безбожную материю,— все это есть
только диалектическое недомыслие и слепота в
определенной сфере действительности. Тут мы еще и еще раз
убеждаемся, что отнюдь не логика и наука приводят
материалистов к отрицанию сознания и души, но нечто совсем
другое. Материалисты прекрасно знают, что существует
и сознание, и душа, но только они хотят сознательно
удушить сознание и душу. Не логика, очевидно, приводит
их к этому, но определенный злобный аффект вопреки
всякой логике и при сознательном игнорировании всякой
логики.
4. С такой же диалектической неумолимостью
вытекают и все прочие выводы, которые сделаны в
предыдущем. Мы получили сферу чистого самосознания и ума
Так как здесь не было ровно никаких привнесений,
которые бы делали это самосознание частичным и
несовершенным, а имеются в виду только голые и простые
категории субъекта и объекта, то, очевидно, это самосознание,
этот ум будет абсолютным. Мы получили, стало быть,
сферу чистого, абсолютно адекватного самосознания и
ума. Что же дальше? Если мы не закричим опять на
диалектику и не станем производить над ней внешнего и
Α. Φ. ЛОСЕВ
276
физического насилия, то она опять, как всегда, поставит
все тот же вопрос о противопоставлении полученной
категории инобытию и о синтезе ее с этим инобытием.
Получено чистое, в себе адекватное самосознание.
Противопоставление, очевидно, должно привести к становлению
этого самосознания, этого субъект-объектного тождества,
как раньше синтез Одного и Сущего мы нашли в
Становлении. Но заметим: становление интеллигенции не может
здесь пониматься как внутри-интеллигентное становление.
Внутри-интеллигентное становление даст сферу
ощущения. Нет, мы берем всю интеллигенцию, всю сферу
самосознания целиком, и — противопоставляем ее новому
инобытию, совершенно не забывая о
внутри-интеллигентных различиях. Это, конечно, не может не привести к новой
диалектической категории, которая бы наглядно выявила
эту становящуюся вовне интеллигенцию. Но что такое
сознание, которое становится во внешней сфере? Это
такое самосознание, которое вышло из своей внутренней
замкнутости и направилось в свое инобытие. Что такое
сознание, которое утверждает себя не внутри себя, но вне
себя, и так как это инобытие есть становление, то —
утверждает себя в становлении, в постоянном
возникновении? Это есть, делаю я вывод, Стремление, или
Влечение (вполне определенная разница обеих категорий меня
здесь не интересует, я беру их пока в общем виде),—
вывод, который опять-таки совершенно не может быть
оспариваем диалектически.
К этому необходимо прибавить еще следующее.
Различая Ум и Стремление, я подхожу вплотную к платонически-
патристической психологии и резко расхожусь с
новоевропейской. Античное разделение на «ум», «тюмос» и «эпи-
тюмию», как всегда, отождествляют с разделением на
«ум», «чувство» и «волю», забывая, что все три последние
сферы помещаются в каждой из трех античных. Античное
разделение есть разделение чисто диалектическое,
зависящее от полагания ума в инобытии. Поэтому ум в моем и
в антично-средневековом понимании отнюдь не есть одна
из способностей души и отнюдь не «помещается» в «душе»,
но именно «душа» «помещается» в уме. Ум не есть
отдельная способность. Это духовное средоточие,
превосходящее самую «душу». «Душа» есть не что иное, как
развертывание «ума», переход ее в инобытие. То, что обычно
именуется «душой», совпадает, таким образом, у меня
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА-АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
I I
277
именно со «стремлением». «Ум» и «душа» (стремление)
вовсе не находятся на одной плоскости, но «ум» выше
«души». «Стремление», как это легко заметить, я
понимаю, следовательно, опять-таки не как одну из душевных
способностей. Например, «стремление» в моем понимании
ничего общего не имеет с «волей» или ее моментами
(в обычном понимании психологов). Это — вообще
душевный поток, психическая слитость, неизменно
движущаяся вперед, то неугомонное и вечно напряженное
алогическое становление, которым «душа», собственно, и
отличается от «ума».
Указанным диалектическим противостоянием Ума и
Стремления тотчас же неумолимо диктуется и еще одна
интеллигентная пара, без которой никак не может
обойтись последовательная диалектика Ведь антитеза Ума
и Стремления есть не что иное, как полное повторение
в интеллигентной сфере основной антитезы Бытия и
Становления. Но мы хорошо знаем, что в диалектическом ряду
Бытию предшествует Одно, а за Становлением следует
Ставшее. Эти категории, конечно, имеют и свои
интеллигентные аналогии. Что касается внутри-интеллигентной
диалектики, то там мы уже наметили антитезу Ума и
Ощущения. Но сейчас нас интересует то, что предшествует
всей интеллигенции и что последует за всей
интеллигенцией со всеми ее внутри-интеллигентными различиями
Когда мы противопоставляли Смысл его инобытию, т. е.
ему самому, мы сразу же получили антитезу Субъекта
и Объекта. Но, подобно тому как в одномерной диалектике
есть бытие и небытие и есть тождество их, которое уже не
может быть ни бытием просто, ни небытием просто, но
которое должно быть уже выше самого бытия и самого
небытия и даже выше их антитезы, т.е. чем-(то) уже
абсолютно неразличимым, так и в интеллигенции Ум
и Стремление должны так отождествиться между собой,
чтобы это тождество уже не было просто Умом или просто
Стремлением, ибо иначе оно и не будет тождеством Ума
и Стремления. Необходимо, чтобы это интеллигентное
тождество было выше самой антитезы Ума и Стремления,
даже больше того, выше самой антитезы Субъекта и
Объекта, т. е. было бы чем-то совершенно неотличным
в смысле Ума и Стремления, или Субъекта и Объекта,
чем-то высшим и не соизмеримым с этой антитезой. Такая
высшая интеллигенция или, вернее, сверх-интеллигентная
А. Ф.ЛОСЕВ
278
точка абсолютной интеллигентности есть Сердце, тот
неисповедимый и неисчерпаемый источник всякой
интеллигенции, из которого проистекают и чистый Ум, и чистое
Стремление Это — Ум, но — такой, который дан вне
субъект-объектного противостояния и есть сплошное
сверх-логическое протекание и Стремление. И это есть
Стремление, но — такое, которое не выходит наружу, не
распределяется вовне, но вращается внутри себя,
неизменно истекая из себя и вновь возвращаясь в себя за
пределами логических и субъект-объектных расчленений.
Этот умный Экстаз, конечно, не может быть понят
современным психологическим и философским мещанством,
знающим только среднее, тепловатое, сероватое,
недалекое существование. Понять это может только иная, не
буржуазно-европейская, возрожденская и
просветительская культура, хотя это и есть опять-таки самое
примитивное диалектическое построение. Добавлю, что как
в Одном мы различали Одно как бесконечную апофати-
ческую бездну и Одно как начало ряда, так и здесь
необходимо различать Сердце как абсолютную неохватную
сверх-интеллигентную бездну, которая есть такая полнота
Света, что он уже теряет всякие границы и формы, всякое
различение и расчленение и, таким образом,
превращается в некий пресветлый Мрак и — Сердце как начало
интеллигентного ряда, как полноту умных обстояний, как
предел умных восхождений и исхождений. Я в таблице
пометил эту категорию просто как Сердце, рассчитывая,
что читатель не забудет этого расчленения, как и вообще
не забудет наличия, при всей диалектике, абсолютно
апофатической стихии, незримо управляющей всем
диалектическим построением.
С другой стороны, интеллигенция, вылившаяся в
Стремление, требует своего завершения и снизу (так
сказать). Как Становление перешло в Ставшее, так и
Стремление, «Душа», должно перейти в свое Ставшее, должно
остановиться, должно перейти в результат этого процесса
становления. Я утверждаю, что это есть сфера Чувства.
И тут мною руководит опять-таки самая обыкновенная,
даже не диалектическая, а чисто жизненная установка.
Чем мы обычно отличаем чувство от ума? Конечно, тем,
что в чувстве — некое движение, некое влечение, которого
нет в уме: ум с этой точки зрения представляется чем-то
статическим. Другими словами, чувство есть синтез ума
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
ГмамшП
279
и стремления. А чем мы обычно отличаем чувство от
стремления? Только тем, что стремление идет вперед, вовне, за
пределы субъекта, чувство же как бы стремится в самом
себе, влечется к самому же себе, внутри себя же самого.
Другими словами, и с этой стороны, чувство есть
диалектический синтез ума и стремления. Чувство стремится как
стремление, но—не выходит за пределы себя самого и
стремится к самому себе, как и чистый ум есть прежде
всего сознание себя самого, самосознание. Чувство как ум
направлено на само себя, имеет объектом само себя, но
как стремление оно не просто адекватно имеет само себя
своим объектом, но еще и постоянно влечется к себе, это
влечение есть подвижное обладание, а не просто
статическая устремленность на себя. Вот почему чувствовать (или
т. о. любить) что-нибудь можно только тогда, когда этот
предмет есть как бы сам субъект или его интимная часть.
Нельзя любить внешнее себя. Любить что-нибудь —
значит отождествлять себя с этим предметом и вращаться
вокруг него в подвижном покое интеллигенции, как будто
бы это был ты сам. Чувство, таким образом, есть
развернутое Сердце, развернутый Экстаз. Раньше это тождество
субъекта и объекта мы имели в виде одной нерасчленен-
ной точки как источника всех интеллигентных энергий.
Теперь имеем эту точку в ее развитии и внутренней
структуре. В ней уже положены все возможные различия, т. е.
положена прежде всего определенная внешняя граница
и положено различие, стремление и жизнь внутри этих
границ. Чувство есть поэтому круговращение
интеллигенции уже в самой себе, подвижный покой ума и
влечения, данных как нераздельное, но развернутое
тождество.
После этого уже нетрудно модифицировать эту общую
сферу Чувства по трем основным ипостасям: Власть,
Ведение и Любовь — с такой диалектической очевидностью
вытекают из этой модификации, что отпадает всякая
надобность и в комментариях. В самом деле, какой же может
быть предел и результат для стремящегося источника
всей интеллигенции, как не Власть, какой предел и
результат для стремящегося Ума — как не Ведение, и для
стремящегося Ощущения — как не Любовь? Сердце хочет все
охватить, Ум хочет все понять, Ощущение хочет все
усвоить себе и воспринять на себя. Ведь Чувство есть, сказали
мы, граница Стремления, есть как бы превращение пря-
Α. Φ. ЛОСЕВ
rüüüfl
280
мой линии Стремления в окружность, как бы возврат
Стремления на себя, как бы Стремление в аспекте само-
довления. Самодовлеющий источник интеллигенции есть,
конечно, Власть. Самодовлеющий источник и
круговращательная жизнь Ума есть, конечно, Ведение.
Самодовлеющий источник Ощущения — круговращение жизни
в Ощущении, Ощущение как неизменно влекущийся
к самому себе субъект и объект есть, конечно, Любовь.
Я не в силах подыскать других терминов, которые бы
с большей ясностью и определенностью выражали
необходимо вырастающие здесь, абсолютно диалектически
необходимо вырастающие тут чисто логические
категории.
Наконец, также, по-моему, очевидны и
внешне-выражающие энергии этой триады Власти, Ведения и Любви.
Что такое Власть, проявленная вовне? Конечно,— это
Сила. Что такое Ведение, проявленное вовне,
направленное к тому, что сообщится всему иному и осмыслит его
своими умными глубинами? Это — Свет. А что такое
Любовь, проявленная вовне? Что такое Любовь, которая не
может же быть просто Силой (для этого ей не нужно было
бы быть влечением к себе) и которая не может же быть
просто Ведением и знанием (для этого ей не надо было
бы быть вечным стремлением и жизнью, вечным 4*
исканием и нарождением, вечным круговращением в себе)?
Конечно, Любовь есть и Власть, Сила, и Ведение, Свет;
даже больше того, она — синтез и слияние Власти и
Ведения, Силы и Света. Это Власть, которая убеждает
Ведение к узрениям и которая просвещает и это Ведение, и
узрение, которая действует как сила. Но тогда и внешнее
выражение, инобытийное излияние Любви должно быть
синтезом и слиянием Власти и Ведения, Силы и Света.
Эта внешняя энергия Любви должна властно и
могущественно насадить вовне ту слиянность с самим собою и
с объектом, какая есть в Ощущении, Стремлении и
Чувстве; она должна просветить инобытие так, чтобы это
инобытие сразу же испытало слияние с тем, от кого исходит
Любовь.
Эта новая сфера должна отличаться от простой Силы
так, как Ощущение отличается от Сердца, как Любовь
отличается от Власти. Эта новая сфера должна быть
развернутой Силой, становящейся Силой, творческой
и творящей Силой. Но эта новая категория должна также
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
і—— !
281
и отличаться от простого Ума, переводя его в Ощущение,
и от Ведения, переводя его в Любовь. Другими словами,
это должна быть такая творчески становящаяся Сила,
которая бы в развернутом виде была бы и внутренним
самоощущением этой Силы, и внутренним любовным
субъект-объектным слиянием. Это и есть Благодать,
которая является 1) Силой, 2) дающей Свет и 3) внутрен-
но-ощущаемую жизнь слияния с этой Силой и этим
Светом.
5. Перехожу к модификации общетриадического
Смысла на Субстанцию. Чем, как только полным отсутствием
диалектики, можно объяснить это упорное непонимание
почти всеми, что триада реально живет и существует
только как тетрактида? Тут виноваты уже не одни
«неверующие», но «верующие». Софийное начало в Боге
оспаривается почти всеми, кроме кучки чудаков, не
побоявшихся «четверить» Троицу. Что тут нет ровно никакого
четверения, это так же ясно, как и то, что нет никакого
дуализма в утверждении антитезы идеи и вещи. Ведь
всякая же вещь имеет свою идею; и всякая идея, если мы
захотим мыслить ее реально, не может не быть в то же время
и вещью. Тут нет ровно никакого дуализма; наоборот,
только тут и достигается полный монизм. Точно так же
обстоит дело и в отношениях, царящих между тремя
первыми началами и четвертым. Четвертое начало
осуществляет первые три. Это не есть четверение, ибо четвертое
начало само по себе — ничто, начинающее жить только
как носитель первых трех начал. «Верующих» смущает
тут отсутствие в патристике специального учения о Софии.
Однако тут полное недоразумение. Дело в том, что учение
о трех Лицах Божества сформулировано в догмате так,
что оно решительно захватывает и всю софийную сферу.
Достаточно указать хотя бы на одно то, что первое Лицо
мыслится рождающим, второе же рожденным. Тут яснее
дня выступает софийная характеристика, ибо понятие
«рождение» отнюдь не есть чисто смысловое понятие, но
оно предполагает некую вещественную, телесную,
жизненную осуществленность этого смысла. Учение, которое
мы находим в догмате, сформулировано слишком
суммарно и цельно; тут сразу дана почти без всякого расчленения
и смысловая, и софийная, и даже ономатическая
характеристика. Потому мы, задавшись целями
диалектического анализа, имеем полное право находить более де-
Α. Φ-ЛОСЕВ
I —I
282
тальные моменты, входящие в эту слишком общую
формулу.
Так или иначе, но наличие момента
субстанциальности в Боге в отличие от момента чисто смыслового так же
необходимо, естественно и очевидно, как и вообще
разделение и отождествление и всякой вещи, и идеи. Кто
отрицает софийность в Божестве, тот вообще отрицает
божество как субстанцию, как реальность; и тот признает в Боге
наличие только идеально-мысленного бытия, без всякого
осуществления и без всякой субстанциальной
самостоятельности.
Но стоит признать это примитивное, даже не
диалектическое, а, я бы сказал, чисто житейское утверждение,
как сразу же возникает необходимость и разделения
различных видов этой субстанциальности и софийности.
Прежде всего, в одномерной диалектике мы получаем
категорию Ставшего, или, что то же, Субстанции. Ставшее
выводится из Становления с такой же элементарной
диалектической необходимостью, как и само Становление —
из Бытия и Небытия. Я уже много раз разъяснял этот
вывод; и, кто не усвоил его раньше, того я не стану
убеждать в этом здесь. Но интересно: может ли эта
Субстанция остаться просто Субстанцией, если мы внесем в триаду
момент интеллигенции? Разумеется, Субстанция навсегда
останется в нашей диалектике Субстанцией. Но только ли
Субстанцией? Разумеется, внесение новых моментов
в Смысл должно сопровождаться внесением новых
моментов и в то, что является носителем этого Смысла. Когда
Смысл стал у нас интеллигентным, я предложил
Субстанцию именовать уже не просто Субстанцией, но — Телом.
Может быть, этот термин не вполне удобен. Однако
совершенно же ясно всякому, что раз Смысл превратился у нас,
например, в познание или ощущение, то носитель этого
Смысла, Субстанция, его осуществляющая, должна также
носить на себе следы этого познания и ощущения. Ясно,
что это будут органы познания и ощущения. Поэтому я и
назвал Субстанцию данного вида Телом. Равным образом,
когда Смысл превратился у нас в Стремление и Влечение,
в теплое дыхание жизни, в жизненный поток сознания
и действия, необходимо придумать такую
субстанциальную категорию, которая бы выразила осуществленность
этой интеллигентно-жизненной полноты самосознания
и самоощущения. Можно сказать, подойдут ли сюда пред-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
і \
283
лагаемые мною термины «Живое Существо» и, в
дальнейшем, «Личность», но совершенно ясен весь
диалектический смысл этой новой субстанциальной модификации.
Обыкновенно, как мне кажется, под Личностью и
понимают как раз осуществленность всего внутреннего
самочувствия и самосознания субъекта. Личность не есть ни
Сердце, ни Ум, ни Стремление и Влечение,· ни Чувство;
она не есть ни познание, ни чувство, ни воля, ни характер,
ни темперамент, ни та или другая частная или общая
особенность или способность жизни. Она есть нечто совсем
другое. Она именно есть осуществленность всего этого.
Личность, «я» есть субстанциальная осуществленность
и реализация и познания, и чувства, и воли; тот их
совершенно неразложимый и единичный носитель, который не
есть ни одно из них, но который сразу воплощает их в
некоем нерушимом идеальном единстве. Так оно и
получается в моей диалектической системе.
После этого уже нетрудно будет понять, почему
субстанциальная осуществленность Троицы в смысле
личностном дает Довление, Мудрость и Святость. Вспомним,
что Троица в предыдущем уже доросла у нас до степени
Власти, Ведения и Любви. Личностный момент, как момент
ставшести, как момент субстанциальности, должен
реализовать Власть, реализовать Ведение, реализовать Любовь,
Что значит, что власть реализована, что она не только
энергетически, идеально, но и практически, реально
существует как некая субстанция? Что такое Власть как
субстанция? Это — независимость, свобода, зависимость
только от себя, самоудовлетворенность, Довление, Что
такое Ведение, реализованное, осуществленное? Что такое
Ведение как субстанция, субстанция Ведения? Я не
нахожу более подходящего слова, чем Мудрость.
«Мудрость» — по-гречески «София». Но это не та София,
которую мы обычно называем софийной стихией, именуя ее
греческим термином. Это — мудрость именно в обычном
смысле слова, как результат Ведения, как то, к чему ведет
знание и разумение. Заметим, что и в патристике термин
«мудрость» относится часто ко второму Лицу пресв.
Троицы, а не к тому общему достоянию всех Лиц, как это
понимаем мы, употребляя греческий термин. Но еще
очевиднее, по-моему, субстанциальный аспект Любви. Любовь,
при всей своей завершенности и самозамкнутости, все же
мыслится как процесс, как становление, как внутри-субъ-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I —1
284
ектное состояние. Необходим его объективно-личностный
коррелят. Необходима такая модификация Любви, чтобы
она оказалась объективной характеристикой личности,
опять-таки результатом и субстанцией этого процесса
Это есть Святость. Святость есть субстанция Любви,
объективный результат Любви. Святость есть
осуществленная, овеществленная Любовь. Святость есть
интеллигентное, умное тело Любви. Истинно любит только святой
И истинно любить можно только святое. Святость и есть
объективация Любви, подобно тому как внутреннее
содержание и смысл Любви есть Святость.
Злобное вырожденство, не способное ни на любовь,
ни на святость, смеется и издевается над этими
категориями. Но, несмотря ни на что, жизнь вся состоит из
стремления к Любви и Святости. Можно на тысячу ладов
понимать Любовь и Святость, вкладывая в эти слова какое
угодно содержание. Но самые категории эти нельзя убить,
нельзя выкинуть из человеческой жизни и, значит, из
мысли. Думают, что диалектика не должна заниматься
этими категориями. Я же думаю, что, если диалектика
вообще хочет быть жизненной, она должна говорить глав-
ным образом о подобных категориях. Наоборот, как
отвлеченны и жизненно бесплодны такие категории, как
«качество» и «количество», и как мертвр и далека от жизни
диалектика, которая ограничивается подобными
категориями!
Выводимые мною на основании этого категории Не-
рожденности (Довления), Рожденности и Святости,
превращающиеся в личностной модификации в Отца, Сына
и Св. Духа, обладают совершенно неумолимой логической
необходимостью, как бы ни злобствовали те, которым не
доступен ни религиозный опыт, ни диалектика.
Как мы видели, и на этом не кончается диалектика
Субстанции. До сих пор мы имели ряд: Субстанция, Тело,
Живое Существо, Личность. Их последовательность и
восходящая сложность совершенно понятны. Субстанция
существует сама по себе, «в-себе»; Тело существует уже
и «для-себя»; Живое Существо объединяет
вне-интеллигентную отвлеченность «в-себе» с интеллигенцией «для-
себя»; Личность впервые поднимает вопрос о
существовании «для-иного». Но конечно, Личность не есть
существование только «для-иного». Личность слишком богата
своим внутренним содержанием; она слишком субстан-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА-АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
I 1
285
циальна, чтобы быть чем-нибудь «для-иного». Чтобы
превратиться в бытие действительно «для-иного», она должна
лишиться своей абсолютной реализации, своего
абсолютного субстанциализирования. Она должна превратиться
только в одну внешне-выражающую энергию. Ведь в
энергии происходят те же самые различия, что и в сущности;
но только это уже субстанциальные, а именно энергий-
ные, различия. Есть в энергии также различие и между
чисто смысловой и чисто субстанциальной сферой.
Энергия может выражать вовне (и, следовательно, насаждать)
смысл субстанции (тоже, конечно, триединый), а может
выражать и насаждать саму субстанцию. Одна энергия
действует умно, другая субстанциально. Мы уже видели,
что дает энергия как выразитель чисто смысловой стихии
субстанции. Это было — Сила, Свет и Благодать.
Попробуем теперь, не выходя из этой общей энергийно-выра-
жающей стихии, отличить в ней чисто субстанциальные
категории. Это, конечно, ни в каком случае не будет
значить, что мы субстанциализируем саму энергию.
Нисколько нет. Это будет значить, что в самой энергии мы отличим
субстанциально выражающие моменты от умно
выражающих. Сила — во что она превратится, когда мы поймем ее
как вовне выраженную энергию, но такую, которая несет
с собой необходимость субстанциального осуществления
этой Силы? Это будет, разумеется, не просто Сила, но —
реализованная Сила, вещественно благоустроенная Сила,
Сила, где сама она будет только принципом
осуществления, осуществление же даст эту Силу в ее вещественной
разрисовке, в ее материальной соотнесенности, в ее телес-
но-оформленном величии. Это — Царство. А что такое
субстанциальный Свет? Что такое световая энергия, если
ее понимать в смысле установки во всяком инобытии этого
Света, в смысле личностного усвоения этого Света
всякой тварью? Это — Слава, или, что то же, Откровение.
Слава и есть Свет (библейское понимание именно таково),
но только особенным образом проявленный и
овеществленный Свет. Если Слава Божия заполняет храм
Соломона таким густым облаком, что перестают быть
видимыми все находящиеся в нем, или если архидиакон
Стефан во время своих мучений видит Славу Божию на небе
тоже в виде облака, то явно, что Слава и есть не что иное,
как Свет, но только Свет не как принцип видения и
видимости, не как общее условие осмысленности всех видимых
А Ф ЛОСЕВ
286
вещей, но как некое вещество, как
субстанциализированный Свет, как некое вещественное носительство Света.
Наконец, субстанциальную модификацию благодати
я вижу в Церкви. Тут такое же взаимоотношение, как и
между Царством и Силой. Царство осуществляет Силу,
Церковь же осуществляет Благодать. Слава овеществляет
и воплощает световую энергию, Церковь же дает
благоустроенную обитель Благодати. Церковь есть Благодать,
данная как субстанция и тело. Это — вещественное
содержание Благодати, Благодать как обитель и храм. Это —
престол и место Благодати, алтарь ее, жертвенник ее,
соборный организм Благодати, умный космос Благодати,
телесно осуществленная в умной сфере субстанция
Благодати. Можно давать здесь очень пространную
характеристику Церкви. Но все это сведется к одной краткой
диалектической формуле, зафиксированной в нашей таблице.
Церковь есть субстанциально выражающая энергия
Благодати (за которой в восходящем порядке стоит Святость,
Любовь, Творчество, Ощущение, Становление, или,
короче говоря, Дух Св.).
Всю эту субстанциально-выразительную сферу
триединства Царства, Славы и Церкви я и считаю
необходимым именовать софийной сферой. Софийная
выраженность и выразительность окутывает триединство со всех
сторон и является умным храмом пресв. Троицы и
престолом величия Ее. Царство Небесное, Слава Божия и
Церковь Небесная есть общее софийное Тело, в котором в
бесконечной степени полноты воплотилась и осуществилась
вся смысловая стихия Троицы. И это есть воплощенность
объективная, т. е. не только существует в себе или для
себя, но она есть воплощенность вообще, т. е. также и для
всего иного, для всего инобытия. По этой софийной стихии
видно, как могло бы существовать и всякое иное бытие.
Это есть выражение реальности Божества как образец,
как норма, как модель, как цель, как маяк для всякого
бытия, которое, исходя из тьмы небытия, хотело бы
приобщиться к божественной жизни и зажить этой
божественной жизнью.
6. Наконец, необходимо сделать пояснения и к
выразительной, символической стороне диалектики. В своем
общем принципе она также содержит нечто чрезвычайно
простое и очевидное. Что смысл, будучи осуществлен
в виде некоей субстанции, уже как-то выходит из своей
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА-АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
'
287
самозамкнутости и как-то выражается вовне — это само
собою понятно. Вопрос может идти только о том, как
именовать эту выразительную сферу. Но сама она и ее
диалектическая необходимость и место — вне всякого
сомнения. Я предложил ряд: Символ, Понимание, Слово, Имя
и Магическое Имя. Можно спорить об этих терминах. Да,
они, конечно, являются, в сущности, условными. Но ведь
совершенно же ясно, например, что когда мы переходим
к интеллигенции, то нельзя ограничиться просто
категорией Символа. Необходимо тут, чтобы Символ имел
интеллигентное же содержание. Интеллигенция мыслится на
первых порах пока только как абсолютное самосознание
и абсолютная самоданность. Что получится, если эту
абсолютную самоданность понимать выразительно? «Знать»
и «понимать» тем и отличаются между собою, что одно
относится к конструктивным, чисто смысловым и потому
отвлеченным сферам, другое же — к выразительным и
как-нибудь специально проявленным. В современной
философии этот термин «понимание» начинает играть большую
роль; и его склонны применять как раз к смыслу не
отвлеченному, но выраженному. Равным образом есть большие
основания «в-себе-и-для-себя» Символа, т. е.
становящееся понимание, именовать Словом. Слово прежде всего
и есть не что иное, как Понимание. Но Слово есть так или
иначе функционирующее Понимание. Надо не только
понять предмет; надо еще и активно куда-то направить свое
понимание, кому-то его сообщить — короче говоря,
наделить его определенной активностью, чтобы Понимание
стало Словом. Слово есть Понимание в действии,
подвижное Понимание, Понимание как становление и
стремление. Но вот это стремление обратилось на самого себя,
и становление пришло к своему результату. Ум и
Стремление синтезировались в Чувстве; а Субстанция и Тело
синтезировались в Личности. Во что должно превратиться
при этих условиях Слово? Что такое Слово, если его
понимать личностно и относить к Личности? Это, конечно, есть
Имя. Имя мы ведь тем и отличаем от Слова, что оно
мыслится отнесенным к Личности. Тут не может быть двух
ответов. Несколько большего разъяснения требует
последний этап символической диалектики.
Чем мы занимались сейчас? Мы занимались тем, что
в недрах каждой из пяти основных категорий производили
диалектическое членение опять-таки теми же пятью спосо-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I >
288
бами. Мы дошли до пятой категории, т. е. до
выразительной сферы. В этой общей сфере Выражения мы должны
были получить свое «в-себе», свое «для-себя» и т. д. и т. д.
Это мы и получили. Остается самый последний и, может
быть, менее понятный этап. Именно, необходимо в этой
общей сфере Выражения установить категорию
Выражения же. Мы нашли «в-себе» Выражения — Символ, «для-
себя» Выражения — Понимание, «в-себе-и-для-себя»
Выражения — Слово, «для-себя-и-для-иного» Выражения —
Имя. Что же такое теперь чистое «для-иного» в
Выражении? Что такое Символ, если в нем самом произвести
модификацию с точки зрения Символа? Другими словами, что
такое Символ Символа, Имя Имени, Энергия Энергии?
Необходимо серьезным образом вдуматься в эту
диалектическую ступень. Получить Символ Символа, Имя Имени
и Энергию Энергии — это значит заново выразить
Символ, Имя и Энергию так, как сам Символ выражал
Субстанцию, Имя — Личность и Энергия — всю триадиче-
скую сферу. Имя выносит Субстанцию и Личность наружу,
активно заставляет признать эту Субстанцию и эту
Личность, что она именно есть, существует и не вообще
существует, но и есть нечто, нечто вполне определенное. Если
теперь само Имя как бы становится Субстанцией, а
какая-то особенная его модификация призвана быть его
энергией, то это значит, что сейчас идет речь о
повелительном признании самого Имени, что теперь Имя получает
такую структуру, где вскроется вся его сила не только
требовать признания бытия Субстанции, но и сила,
повелительно требующая установления этой Субстанции во
всяком инобытии. Что такое было Имя в нашем
предыдущем изложении? Это было энергией объективного
самоосмысления себя Субстанции как некоей Личности. Тут
наличие Имени сводилось к тому, что Субстанция
изводила из себя наружу все свои личностные глубины, и тем
самым всякое инобытие должно было или признавать, что
Субстанция — это есть именно данная личностная
индивидуальность, или совсем отказаться от познания
Субстанции.
Совсем другое происходит в случае, когда мы
говорим об Имени самого Имени. Здесь как бы само Имя
становится Субстанцией, д другое Имя выражает его
вовне, делает необходимым его признание вовне. Там
сила Имени оставалась сама в себе; она только была из-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА-АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
I I
289
вестным выражением Субстанции-Личности. Здесь же эта
сила ринулась как именно сила дальше; и она выражает
здесь не просто Субстанцию, или Личность, как таковую,
но активно насаждает ее в инобытии. Тут инобытие не
просто стоит перед дилеммой признания Субстанции за
определенную личностную индивидуальность и отказа
от всякого ее утверждения, но эта дилемма получает тут
совсем другой вид и смысл: инобытие должно или принять
эту Субстанцию-Личность на себя, т. е. подчиниться ей,
или — смерть и гибель самого инобытия. Вот почему эту
новую модификацию Имени я называю Магическим
Именем, Здесь не просто изливаются Субстанцией наружу и
вовне ее личностные (и всякие) энергии, но эти энергии
таковы, что в своем излиянии они не могут не утверждать
вовне, в инобытии, тех или других (или всех) сторон самой
Субстанции.
В триадическом членении этого Магического Имени
я предлагаю несколько большую детализацию, чем это
было раньше. А именно, раз мы отличаем смысл от вещи
и можем говорить о 1. смысле как таковом, в его чистоте,
2. вещи как таковой, в ее чистоте, и 3. их синтезе, т. е. об
осмысленной вещи, то, переходя в сферу выражения, или
символа, энергии, мы также имеем полное право говорить о
1. выражении энергии чистого смысла, 2. выражении
чистой вещи, или субстанции, и 3. выражении, символе
их синтеза, т. е. об энергии осмысленной субстанции. Это
разделение можно было бы свободно провести и по всем
прочим рубрикам. Но я не стану загромождать свое
изложение дедукцией очень большого количества категорий
и решил полностью провести это деление только в
последней рубрике, т. е. там, где идет у нас речь о Символе
Символа, о диалектике пятой категории с точки зрения пятой
же категории. До сих пор нами были установлены здесь
две триады. В общевыразительной стихии Магического
Имени мы отметили триаду чисто смысловую (Сила, Свет,
Благодать) и софийную вещественную (Царство, Слава,
Церковь), т. е. стихию осмысленной вещественности в этой
общей сфере выражения. Теперь и остается в этой же
общевыразительной стихии Магического Имени дополнить
до-выразительную диалектику умно-софийной триадой
и — дать как энергийное выражение чистого смыслового,
умного ряда, так и энергийное выражение двух других
слоев — чисто софийного и умно-софийного.
10 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
'
290
Сделаем прежде всего добавление во вне-высказитель-
ном ряду. Там мы имели до сих пор чисто смысловую, или
умную, сферу Силы, Света и Благодати и умно-софийную
сферу Царства, Славы и Церкви. То, что хотим добавить
мы сейчас, будет, очевидно, чем-то средним между той и
другой триадой. Что может быть среднего между идеей
и вещью вообще? Конечно, что-то такое, что от идеи
возьмет ее идеальность, а от вещи — ее вещественность.
Между Силой и Царством должно быть то, что идеально,
как сама Сила, и что вещественно и изъявительно выяви-
тельно, как само Царство. Это я называю условно
Знамением. Термин этот, кажется, не вполне удобен. Но я беру
его в условном значении, которое указывало бы на то, что
Сила как-то начинает проявлять себя и что Царство пред
тем, как возникнуть, должно быть приуготовано как та
сфера, где проявится Сила. Свет в этом чисто софийном
явлении представляется мне Иконой, а Благодать —
Обрядом.
В самом деле, нужно ведь взять такую осуществлен-
ность и овеществленность Света и Благодати, которая
бы не обладала полнотой отражения всех умных и всех
софийных энергий Света и Благодати. Надо взять такую
их осуществленность, которая бы была полусофийной,
полусмысловой· В живописи мы как раз имеем такую
осуществленность. По сравнению, например, с поэзией она
есть нечто вещественное, но по сравнению со скульптурой
и архитектурой она есть нечто невещественное,
смысловое.
Триада Знамения, Иконы и Обряда обладает вполне
диалектической природой и сама по себе. В Знамении дан
самый исток богоявления, самая исходная точка всякого
выявления горнего мира в инобытии. В Иконе это
богоявление дано как законченный умный лик. В Обряде этот
умный лик перешел в становление, т. е. в некое
постепенное и последовательное «временное» развертывание.
Это — общедиалектическая триада Одного, Бытия и
Становления.
После этого добавления еще одной вне-выразительной
сферы можно формулировать и выразительные аналоги
всех этих трех триад. Что даст выразительный аналог для
чисто умной триады Силы, Света и Благодати?
Выражение Силы есть, по-видимому, Изволение. Бог должен ре-
шить употребить свою Силу. Изволение есть фиксирова-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА-АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
I I
291
ние и активное направление Силы. Выражение Света,
фиксирование Света в определенной форме даст Догмат.
Выражение и фиксирование Благодати, выразительное
развертывание ее есть Миф, Мифология. Далее, энер-
гийно-выразительная параллель к софийной триаде
Знамения, Иконы и Обряда. Тут мы получаем триаду Совета
Предвечного, Откровения и Священной Истории.
Итак, Совет, Откровение и История есть энергийно-
выразительная стихия Силы, Света и Благодати,
поскольку их воспринимает софийная сфера. Совет
Предвечный есть идеальная выраженность Знамения,
изливающегося из сущности вовне. Это, конечно, так и есть. Совет
Предвечный только тем и отличается от Знамения, что это
есть выраженное Знамение, идеально разрисованное
Знамение. Знамение, кроме того, есть еще и нечто
предварительное, потенциальное, еще только предполагающее свою
осуществленность. Этот момент прекрасно выражен в
понятии Совета. Также очень хорошо подчеркивается в этом
термине не-софийный умный смысл или не чисто софийно-
умный характер данной энергии. Чисто софийно-умной
категорией в данном месте у нас будет Спасение. Самое
понятие Совета Предвечного как раз и указывает больше
на выразительно-софийную, чем на выразительную умно-
софийную, сторону, на выраженность именно софийной
стороны.
Совсем другое находим мы в энергийно-выразитель-
ной модификации другого смыслового аспекта —
Иконы. Икона по сравнению со Знамением есть нечто
выявленное, проявленное; это уже не просто
предположение, или предвестие, но самый смысл в своем
максимальном явлении. Энергийно-выразительной параллелью
здесь является Откровение. Что Откровение относится
к общевыразительной и энергийной сфере — с этим никто
спорить не будет. Что Откровение по самому существу
своему есть нечто умное, смысловое, а не софийное — это
также ясно: Откровение можно получить, и все-таки
жизнь может не послушаться Откровения. Значит,
Откровение относится к области умной, смысловой. Однако это,
конечно, не чистая умность. Это софийная подоснова умно-
сти. В сфере общеэнергийной это есть именно вырази-
тельно-софийная ступень. Ясно, что Откровение не есть
только смысловая категория. Опять-таки самый термин
указывает, что это не просто вообще выразительная сфера
ю*
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
292
наряду, например, с Силой или Светом, но что это есть
выражение в самом выражении, какая-то энергия в сфере
общеэнергийной. Это — энергия энергии, развернутая и
ставшая убедительной энергия самого Света. Так мы
приходим к категории Откровения, которая в
зафиксированном виде дала нам не что иное, как Догмат. Наконец, что
такое энергийно-выразительное проявление Обряда?
Или — иначе — что такое Откровение в процессе своего
Становления? Ведь мы можем подходить тут к искомой
категории именно этими двумя путями. Или можно идти
со стороны чисто смысловой; и тогда нужно решать вопрос,
что делается с Обрядом, если его перенести в сферу нового
энергийного выражения. Или можно идти со стороны
предыдущей категории в сфере этой же выразительной
стихии; тогда придется решать вопрос, что делается с
Откровением при его переходе из идеальной значимости в
текучую стихию становления. В обоих случаях мы получаем
категорию Священной Истории, потому что и Обряд
может выразиться только в известной последовательности
саморазвития, и Откровение для перехода в царство
становления требует некоего последовательно
развивающегося ряда. Эту Священную Историю, если ее понимать
как нечто нефиксированное, можно назвать и
Мифологией. Разумеется, и Откровение с Догматом, и
Священная История с Мифологией здесь могут быть
принимаемы только в пределах той абсолютной мифологии, которую
мы тут взялись строить. Догмат, какой только тут
возможен пока, сводится к фиксированию смыслового строения
Субстанции, а Священная История, какая тут только
возможна, есть не история во времени (ибо самой категории
времени мы еще не получили), но та потенция временного
развертывания всей Триады, которая здесь пока
воплощена только в общедиалектической последовательности
всех основных категорий.
Нетрудно, наконец, усвоить и умно-софийный коррелят
этой выразительности. Вне-выразительным умно-софий-
ным категориям в этой общей энергийно-выразительной
сфере — Царству, Славе и Церкви — мы
противопоставили выразительно-софийную триаду, Сотериологии, Эвхо-
логии и Мистерии, т. е. Спасения, Молитвы и Таинства.
Она станет понятной, как только мы вспомним, что тут
конструируются такие энергии, которые в случае
воздействия на инобытие заставляют его преображаться и
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
Іа^ммі
293
софийно, и умно, т. е. субстанциально, вещественно, и
идеально. В предыдущем случае энергия действовала на
инобытие то ί/ΛΗΟ-преображающе, то софийно-преобра-
жающе, откуда и такие категории, как Откровение или
Мифология. Здесь же энергия и софийноу и умно
преображает тварь. Триада Спасения, Молитвы и Таинства
есть, в сущности, самая обычная диалектическая триада
Одного, Бытия и Становления, или Нерожденного Само-
довления, Рожденной Мудрости и Исходящей Святости.
Спасение относится к Совету Предвечному
соответствующе — как умно-софийное выражение к содержащемуся
в нем смыслу, подобно тому как и сам Предвечный Совет
есть не что иное, как идеальное выражение Божественной
Силы. Молитва — также не есть ли энергийно-софийное
выражение того смысла, который содержится в
Откровении, подобно тому как само Откровение только выражает
божественный Свет? Наконец, Таинство есть также
энергийно-софийное выражение Священной Истории, подобно
тому как сама Священная История есть только
последовательно развернутое действие божественной
Благодати.
Так связывается воедино общая стихия Магического
Имени со своей 1. смысловой стороной (Сила, Свет,
Благодать), 2. софийной стихией (Знамение, Икона, Обряд),
3. осмысленно-софийной (Царство, Слава, Церковь),
4. выразительно-смысловой (Изволение, Догмат, Миф),
5. выразительно-софийной (Совет Предвечный,
Откровение, Священная История) и 6. выразительной умно-софий-
ной (Спасение, Молитва, Таинство).
13. Результат и общий характер абсолютной
диалектики (—абсолютной мифологии). Развернувши
диалектическую систему во всей полноте ее основных категорий
и давши эти категории в их всесторонней
взаимозависимости, попробуем теперь свести воедино общее
достижение этой диалектики и попробуем уже реально, а не только
принципиально убедиться в полном тождестве
абсолютной диалектики с абсолютной мифологией
1. Прежде всего, как можно было бы кратко
формулировать основное достижение развернутой только что
диалектической системы? Мы видели, что все
диалектические переходы, которые мы совершали, сводятся к
одному основному: это триада Одного, Бытия и
Становления.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
294
Кто понял и окончательно усвоил себе эту триаду,
тот без труда поймет все прочие переходы, и если будет
о чем спорить, то, может быть — только о терминологии
в тех или других местах. В самом деле, не говоря уже об
одномерной диалектике, и всякий переход в области
многомерной диалектики, в сущности, повторял переход или
от Одного к Бытию, или от Бытия к Становлению. Итак,
вот что является основным стержнем и основным
скелетом всей диалектики — триада Одного, Бытия и
Становления. Но если это так, то ясно, что не только основной
и стержневой результат, но и окончательный результат
всей диалектики мы также можем сформулировать в виде
этих же трех начал, усложнивши, конечно, их
содержание путем привнесения последующей диалектической
эволюции. Окончательный результат надо сформулировать
тоже в виде этих трех диалектических начал, охватывая
при помощи их все то, что привносят в них прочие
диалектические переходы. Наконец, еще и третье соображение
надо принять во внимание, прежде чем давать
окончательную формулировку. Именно, все ли ступени,
представленные нашей диалектикой, одинаково важны, все
ли они абсолютно монотонны в своей диалектической
значимости? Другими словами, что нам делать с четвертой
и пятой категорией, если и основной и окончательный
результат диалектики удобно формулируется при помощи
основных трех категорий? Мы уже знаем, каково значение
четвертой категории. Она осуществляет первые три. Мы
также знаем и значение пятого начала. Оно выражает
первые три. Имея все это в виду, попробуем теперь дать
окончательную формулу нашим диалектическим
достижениям.
Четвертое начало осуществляет, овеществляет первые
три. Это значит, что для полнейшей формулы необходимо
взять воплощенность трех первых начал на четвертом
в том их диалектическом периоде, где они конструируются
с точки зрения этого четвертого начала. Ведь только там
мы найдем полную и абсолютную воплощенность первых
трех начал на четвертом, где эти три будут рассмотрены
с точки зрения четвертого и это четвертое — с точки
зрения первых трех. Другими словами, необходимо брать
максимальное развитие четвертого начала, т. е. нельзя
брать ни просто Субстанцию, ни просто Тело и Живое
Существо, но необходимо брать Личность, наименован-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА^АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
I 1
295
ную Личность. Это и будет тем, что в максимальной мере
воплощает на себе первые три начала. Однако Личность —
субстанциальна, и воплотить на ней три начала —
(значит) сначала получить три личности при совершенно
самостоятельных субстанциях, которые тем не менее, не говоря
уже об апофатическои бездне, их объединяющей, и чисто
диалектически суть нечто одно неделимое. Так мы
приходим к формуле, которая есть точнейшее выражение всей
абсолютной диалектики, со всеми ее отдельными
диалектическими категориями. А именно, абсолютная
диалектика в своем абсолютном развитии есть Бог Отец, Бог
Сын и Бог Дух Св., Троица единосущная и
нераздельная.
Остается только прибавить к этому энергийную сферу.
Если уже четвертое начало не могло претендовать ни на
какую самостоятельность, то тем более не может на это
рассчитывать пятая категория. Пятая категория, вообще
говоря, есть только внешнее выражение того, что
существует совершенно самостоятельно, не завися ни от чего
другого. Но она именно потому и необходима. Без нее вся
эта диалектика тонет в неисповедимой апофатическои
бездне. Сама по себе диалектика ведь не может
претендовать на абсолютное значение. Абсолютная диалектика
именно в силу своей абсолютности требует абсолютного
апофатизма. Апофатическая неисповедимость и энергий-
ная, явленная именуемость — необходимые
диалектические коррективы ко всей нашей системе; и без них вся эта
система цепенеет и умирает в оковах мертвого
рационализма. Из неведомых глубин Сущности возникают все
новые и новые умные энергии, неистощимо и непрестанно,
и являемый Лик этой Сущности непрестанно сияет неиз-
глаголанными световыми лучами. Поэтому оба момента
необходимейшим образом должны быть внесены в нашу
обобщающую формулу, чтобы она была действительно
подлинным выражением всего предыдущего мифолого-
диалектического пути. Итак, абсолютная диалектика, или,
что то же, абсолютная мифология, в своей
окончательной формулировке есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Св.,
Троица единосущная и нераздельная, неисповедимо
открывающая Себя в своем Имени. Достаточно и этой,
совершенно общей характеристики, так как вместо общего
указания на Имя можно подставить любую категорию из
тех, которые в нашей таблице отнесены в эту рубрику.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
296
Так, то обстоятельство, что Бог является в Имени Своем,
уже необходимо требует Спасения, Молитвы и Таинства.
Другими словами, воспринять Бога можно только в
Таинстве, Молитве и, следовательно, Спасении. Только
участвующий в Таинстве, молящийся и спасающийся
действительно приемлет и познает Бога. Точно так же и обратно:
значимость Таинства, Молитвы и Спасения может быть
обоснована только на путях имяславия. Но, повторяю,
можно и не входить в эти подробности. В обобщающей
формуле достаточно указать просто на Имя.
2. Так как учение о триединстве забыто и почти никем
не принимается всерьез, я позволю себе сделать ряд
замечаний, чтобы приблизить его к популярному сознанию.
Я утверждаю, что это учение есть комплекс самых
простых, самых примитивных и очевидных жизненных
установок. Отвернулись от этого учения только потому, что
отвернулись вообще от простых, примитивных и
очевидных установок жизни и обратились к абстрактным и
нежизненным установкам. Конечно, учение это в своем бого-
словско-философском и диалектическом развитии
представляет сложнейшую систему мысли, построить
которую — значит построить целую систему диалектики.
Однако это нисколько не говорит о том, что самый предмет
этот нежизнен и что самый Троичный Объект есть нечто
философско-сложное. Ведь всякая самая обыкновенная
вещь очень трудна для философского анализа. Можно
даже сказать, что, чем вещи конкретнее и жизненнее, тем
больше отвлеченных категорий в ней действует и тем
труднее дать ее систематический смысловой анализ. Мы
развернули в предыдущем очень сложную диалектическую
систему. Укажем теперь, что под нею кроются самые
простые, самые элементарные и очевидные всякому
младенцу жизненные установки. Абсолютная мифология
отличается от них только тем, что она их именно
абсолютизирует, не внося никакой новой характеристики по
существу.
Прежде всего, зададим себе вопрос: что в жизни
конкретнее всего и реальнее всего? Где максимальная
насыщенность бытия, наибольшая его интенсивность и
наиконкретное объединение наибольшего числа признаков
бытия? Я думаю, что, если отбросить предрассудки, наиболее
конкретна и реальна личность, а также среда, где
личность живет и действует,— общество. Конечно, не мате-
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА—АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
рия и не психика максимально реальны и конкретны. Тут
мне придется разойтись с очень зубастыми противниками.
Я предлагаю стать именно на жизненную точку зрения,
а не на мыслительную, или отвлеченную. Если разложить
жизнь на ряд составных категорий, получится вместо
жизни система абстрактных категорий. Но разве можно
это будет считать жизнью? Жизнь сразу даст массу
отвлеченных категорий, определенным образом
скомбинированных и слитых в одно совершенно нераздельное целое.
С этой точки зрения личность есть максимально
конкретное, максимально реальное, очевиднейшее и
выразительнейшее. Личность и общество, личное и социальное бытие
вмещает в себя и логически-идеальное бытие, и
физически-материальное, и животно-органическое, и
индивидуально-психическое. И в то же время оно есть ни то, ни
другое, ни третье, ни четвертое. Оно — совершенно
особая категория, покрывающая и синтезирующая всех их
и дающая максимальную сгущенность всякого и
всяческого бытия. Пусть для нас выразителен кислород и
водород. Для меня выразительно лицо человека и его личная
жизнь. Пусть для вас выразителен пар и электричество.
Для меня выразительно то, как живут и действуют люди
в обществе. Тут — для меня не может быть ровно никаких
сомнений и споров.
Теперь представим, что мы должны построить
абсолютную мифологию. Вообразим себе человека, который хочет
на место абсолюта поставить именно такое бытие,
которое оказывается максимально реальным и максимально
конкретным. Может ли такой человек не утверждать, что
в основе абсолютного бытия, в Абсолюте самом залегает
Личность, что абсолютная личность и есть первое и
последнее, очевиднейшее и конкретнейшее бытие. Зачем полагать
ему в основу бытия идеально-логическую,
животно-органическую или психическую сферу, если все эти сферы —
абстрактны, несамостоятельны и охватываются одной
категорией личности? Ведь мы же хотим говорить об
абсолютном бытии. Абсолютное бытие есть бытие, ни от чего
не зависимое, самодеятельное, максимально реальное?
Как же может быть абсолютным бытием одна из этих
только что упомянутых сфер, если все они как раз
абстрактны и несамостоятельны и реально существуют
только в своей абсолютной срощенности и единичной объеди-
ненности? Слишком ясно, что всякое мировоззрение,
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι—I
298
утверждающее в основе бытия не-личностное начало, есть
мировоззрение абстрактное, не вполне реальное, оно
утверждает только частичные сферы, одно в ущерб
другому, а не все вместе в неделимой целости. Наиболее кон-
кретное сознание поэтому не может не утверждать
Личность в качестве абсолюта. Заставить молчать людей,
«верящих» в Абсолютную личность, все равно что в
общественной (...)
САМОЕ
1——I
САМО
J L
J——L
300
I
<ВЕЩЬ)
I. ВЕЩЬ НЕ ЕСТЬ HE-ВЕЩЬ
Самое главное это — сущность вещей, самость вещи,
ее самое само. Кто знает сущность, самое само вещей, тот
знает все. Самое главное — это знать не просто внешнее и
случайное, но знать основное и существенное, то, без чего
не существует вещи. То, что пребывает в вещах, а не просто
меняется и становится,— вот к чему стремится и
философия, и сама жизнь. Однако что же такое сущность вещей?
Что такое вещь, именно сама вещь, то в вещи, что не
сводимо ни на что другое, ни на какую другую вещь, что есть
только она сама, самая сама и ничто другое?
1. ВЕЩЬ НЕ ЕСТЬ СОЗНАНИЕ ВЕЩИ
1. Один из обычных ответов гласит: «Вещь есть то, что
нами ощущается, то, что воздействует на наши внешние
органы чувств». Этот ответ коренным образом искажает
реальную действительность и ровно ничего не разъясняет
в том, что такое вещь сама по себе.
a) Во-первых, существует отнюдь не только то, что
ощущается. Существует даже такое чувственное, чего я,
например, не ощущаю. Так, например, я не был в
Австралии и никогда ее не ощущал своими внешними органами.
Тем не менее она существует, и, между прочим, существует
чувственно.
b) Следовательно, имело бы некоторый смысл
говорить, что существует только ощущаемое вообще,
принципиально ощущаемое, то, что кем-то и когда-то вообще,
не только мною и сейчас, ощущается. Но это равносильно
утверждению, что все существующее есть предмет для
ощущения вообще, что оно всегда имеет коррелят в том
или другом ощущающем сознании. Подобное утверждение,
однако, совершенно ничего не разъясняет в том, что такое
вещь сама по себе, так как оно предполагает, что вещи
САМОЕ САМО
Ι ι I
301
уже как-то существуют сами по себе. Сначала вещь
должна существовать сама по себе, а потом уже она будет кем-
то ощущаться.
c) Но если даже вещь впервые только возникает
вместе с чьим-нибудь ощущением, то и в этом случае вещь все
же не есть само ощущение. Если семя, посеянное на сухой
почве, прорастает вместе с поливкой или дождем, то это не
значит, что гвоздика есть вода или семена ржи есть дождь.
Кто утверждает, что вещи возникают вместе с ощущением,
тот не отличает семена от погоды, погоду — от туч и
облаков, облака — от небесного фона, на котором они
появляются, т. е. тот, в сущности, ничего не отличает ни от чего.
Но так оно и должно быть, ибо ощущения есть сплошной
хаос. Можно сказать и так: абсолютный сенсуализм
основан на логической ошибке post hoc ergo propter hoc '*
поскольку временную и фактическую связанность предмета
ощущения с самим ощущением понимает как связанность
причинную.
d) Наконец, сказать, что вещь есть то, что нами
ощущается,— это значит подменить цельное определение
одним из его частичных моментов, причем о существенности
этого момента тоже ничего не известно. Допустим, что
всякая вещь так или иначе, нами или кем-либо, здесь или в
другое время и в другом месте ощущается, или должна
ощущаться, или может ощущаться. Это утверждение было
бы, однако, равносильно тому, как если бы я, исходя из
того, что все деревья — зелены, стал бы говорить, что
дерево и есть сама зеленость. Тогда на вопрос: «Какого цвета
этот стеклянный абажур?» — я должен был бы ответить:
«Он — цвета деревянного» или «Этот стеклянный абажур
есть дерево». Считать такой ответ нелепостью можно
только в том случае, если зеленость не приравнивать деревьям,
абажурам, карандашам и проч. и не считать ее их
определением, а считать только одним из их признаков, причем
этот признак настолько общий и отвлеченный, что он не
дает даже возможности отличать карандаш от моря,
море — от дерева, дерево — от дамской шляпки и т. д. Кто
утверждает, что вещь есть то, что нами ощущается, не
отличает собственной головы от лошадиной, лошадиной —
от собачьей и т. д. и т. д. Мы без всякого опасения можем
согласиться, что все вещи так или иначе ощущаются
(подобно тому, как мы можем согласиться, что все живое
предполагает тепло), но это не значит, что вещность есть
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—I
302
ощущаемость (как жизнь не есть просто тепло, поскольку
тепло может существовать и в мертвой природе). Мы
можем ощущать такое, что вовсе не есть вещь (таковы
образы сновидений, галлюцинаций, разнообразных ошибок
чувств и проч.).
е) Итак: ощутимость вещи есть один из ее способов
данности в окружающем ее инобытии, но — не она сама.
Это — иное, инобытие вещи, а не она сама.
2. Едва ли помогут и все другие определения вещи,
основанные на способах ее субъективной данности Все
вещи, например, так или иначе мыслятся. Можно ли на
этом основании говорить, что вещность есть мыслимость?
Тут, очевидно, возникнут те же нелепости, что и в
отношении ощутимости. Защищать сводимость вещей на их
мыслимость можно только ценою огромного числа отборных
нелепостей, хотя любителей этого типа сведения было
всегда сколько угодно. В конце концов это было всегда
делом вкуса — сводить вещи на ощущения, на мысли, на
эмоции. Ведь так же можно было бы утверждать, что вещь
есть то, что нами эмоционально переживается, например
то, что мы любим или ненавидим. Сказать, что вещи суть
то, что мы любим или ненавидим, с логической точки
зрения ровно в такой же мере основательно, как и говорить,
что вещи есть то, что нами ощущается или мыслится. Чем
эмоции хуже зрения, слуха или воображения? То и другое
в одинаковой мере и субъективно и объективно, в
одинаковой мере соответствует или не соответствует предмету,
в одинаковой мере может иметь или не иметь значения,
ценности, правильности и проч. И хотя фактически вещи,
действительно, либо нам нравятся, либо не нравятся, тем
не менее основывать на этом самое определение вещи было
бы огромной нелепостью. Хотя вещи мы или любим, или
ненавидим, тем не менее существо их не имеет никакого
отношения ни к нашей любви, ни к нашей ненависти, ни
к нам самим. Все это — только способы данности вещи вне
ее самой, в ее инобытии, но не сама вещь. И ясно, что
сначала существует она сама по себе, а потом уже кем-то
чувствуется. И если ее нет самой по себе, то что же тогда
чувствуется, что, собственно говоря, ощущается или
мыслится?
Если ощущение, представление, мышление,
чувствование и т. д. считать формами сознания, то можно сказать,
что вещь или сущность вещи нисколько не определяется ее
САМОЕ САМО
I I
303
сознанием. Всякая возможная здесь путаница рушится
только от одной простейшей установки: чтобы быть
сознаваемым, надо сначала просто быть. Пусть это предшествие
бытия сознанию будет чисто логическим, чисто
отвлеченным; все равно такая установка раз навсегда определяет
то, что вещь не есть сознание вещи, что определить
сознание еще не значит определить вещь, что определять вещь
и ее сущность надо независимо от определения сознания
вещи. Сознание о вещи есть данность вещи в сознании,
а не сама вещь.
2. ВЕЩЬ НЕ ЕСТЬ НИ МАТЕРИАЛ ВЕЩИ, НИ ЕЕ ФОРМА,
НИ СОЕДИНЕНИЕ ТОГО И ДРУГОГО
1. Будем всматриваться в находящуюся перед нами
вещь и будем продолжать искать ее определение. Пусть
мы отвлечемся от способов данности ее в нашем или в
чьем-либо вообще сознании. Будем пристально
всматриваться в нее саму.
a) Всякому бросится в глаза прежде всего материя,
или, яснее говоря, материал, из которого состоит данная
вещь. Вот скрипка, например, состоит из дерева, а окно из
стекла. Есть ли скрипка — дерево? Если бы скрипка была
деревом, а окно — стеклом, то это значило бы, что у меня
в саду сейчас растут скрипки, а в кармане у меня сейчас
ходят окна. Значит, скрипка дереѳянна, но не есть дерево,
ни дерево вообще, ни какое-нибудь данное дерево. Пусть
я великолепно знаю, что такое, например, буковое дерево,
знаю ботанически, знаю эстетически, знаю жизненно, знаю
всячески. Знаю ли я тем самым, что такое скрипка? Ясно,
что, прекрасно зная буковое дерево, я могу даже и не
слышать о существовании того или иного музыкального
инструмента. Пусть мне известно, что такое стекло, известно
научно, технически, практически-жизненно, как угодно
всесторонне и глубоко. Значит ли это, что я тем самым уже
знаю, что такое часы, что такое стакан, что такое окно
и т. д.? Стакан — стеклянный, но не есть стекло; часы
состоят, между прочим, и из стекла, но не есть само
стекло, и т. д.
b) Следовательно, материя, из которой состоит всякая
вещь, не есть сама вещь; это — иное вещи, инобытие вещи.
Раз стол состоит из дерева и в то же время стул состоит
из дерева, то, значит, дерево ровно ничего не определяет ни
Α. Φ. ЛОСЕВ
TSS^S^
304
в столе, ни в стуле или, точнее, определяет в них то, в чем
они то 2* в чем они абсолютно тождественны. Этот момент
нашего рассуждения чрезвычайно важен. Если в
определении вещи исходить из ее материи, то это значит, что мы
достигнем только того, в чем все материальные вещи
совершенно неотличимы. Значит ли это определить данную
индивидуальную вещь? Это значит ее окончательно потерять
для определения, а не определить, ибо мы ищем того, в чем
данная вещь отличается от всякой другой вещи, а не того,
в чем она неразличимо сливается с ними.
с) Итак, никакой материал вещи не есть самая вещь и
тем более не есть ее сущность. Он — абсолютно слеп; и
из него можно сделать что угодно. Из резины можно
сделать мяч, и в этом смысле резина «определяет» мяч. Но
из резины можно сделать пальто; значит, она «определяет»
и пальто. Из резины можно сделать куклу; значит, она
«определяет» и куклу. Но в таком случае чем же
отличается мяч от пальто и пальто от куклы? Очевидно, не резиной.
Но чем же? Стоя на точке зрения резины, ответить на этот
вопрос нельзя. Резина совершенно одинаково определяет
все резиновые вещи. Но есть ведь и не-резиновые вещи.
Что же там их определяет? Пусть это будут металлические
вещи. Очевидно, металличность точно так же мало
определяет собою металлические вещи. Возьмем стеклянные
вещи. Очевидно, стеклянность тоже не даст нам никаких
индивидуальных различий в стеклянных вещах. Возьмем,
наконец, обобщенное понятие материала; оно мыслится
в слове «материя», потому что сюда входят и резиновые,
и металлические, и стеклянные, и всякие иные материалы.
Ясно, что и материальность ровно ничего нам не скажет об
искомой нами индивидуальности материальных вещей,—
по тем же самым простейшим основаниям.
Но ведь существуют еще и нематериальные вещи.
Таковы — сознание, числа, законы и проч. Что же в них мы
определим через материал? Тем более — ровно ничего!
Определять вещи через их материал, повторим еще раз,—
это значит сливать их в одну неразличимую кучу, т. е. как
раз лишать их всякого определения.
2. Но что же есть в вещи такого, что могло бы
приблизить нас к ее пониманию, к фиксации ее индивидуальной
сущности? Материи противостоит форма. Вещи
материальны или, по крайней мере, могут быть материальными;
и вещи как-то оформлены, имеют какую-то форму. Пусть
САМОЕ САМО
1=1
305
стол не отличается от стула материей; зато, скажут, он
отличается формой. Пусть материя во всех стеклянных
предметах — одна и та же и потому ничего не определяет
в их индивидуальности; зато одно и то же стекло получает
разную форму, и — вот перед нами часы, очки,
чернильницы, стаканы, графины и т. п.
Это рассуждение также малокритично.
a) Прежде всего, форма стакана определяет собою
отнюдь не данный стакан, но и все стаканы вообще.
Поэтому определить форму стакана не значит определить
данный конкретный стакан. Значит, приходится весьма и
весьма специфицировать форму стакана. Приходится ее
конкретность доводить до реально-видимой формы стакана,
т. е. до видимости, до вида стакана. Однако и вид стакана,
даже самый реальный, самый конкретный, отнюдь не есть
самый стакан.
b) Произведем простейшую операцию — разобьем
стакан. Спрашивается: можно ли разбить вид стакана?
Если не играть словами и основываться на нормальных
человеческих ощущениях, то нужно прямо сказать: стакан
разбить можно, но вид стакана разбить нельзя. Пусть я
мой стакан совершенно точно нарисовал на бумаге. Будет
ли тут вид стакана? Да, мой нарисованный стакан будет
иметь вид стакана. Можно ли его разбить? Ясно, что вид
нарисованного стакана нельзя разбить. Как же вы в таком
случае утверждали, что вид стакана можно разбить? Еще
можно было бы в этом сомневаться относительно
стеклянного стакана. Но нарисованный стакан, очевидно, нельзя
разбить, и тем более нельзя разбить вид нарисованного
стакана. Скажут: ваш рисунок нельзя разбить, но его
можно разрезать. Значит, сделают вывод, вид стакана все
же можно подвергнуть тому или иному ущербу или даже
уничтожению, и в этом смысле вид стакана, скажут,
ровно ничем не отличается от самого стакана.
Все это, однако, вздор. Если мы присмотримся к
характеру разрушения, то мы прекрасно замечаем, что он
зависит вовсе не от самого вида стакана, но исключительно
от того материала, из которого сделан стакан: стеклянный
стакан бьется, нарисованный рвется, марается или
стирается, металлический гнется, ломается и т. п. При чем тут
вид стакана? Ровно ни при чем! И у стеклянного, и у
нарисованного, и у металлического, и у всякого другого
стакана может быть совершенно одинаковый вид. И если что-то
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 I
306
тут делается, то не с видом, или формой, стакана, но с
материалом, из которого сделан данный стакан, и только в
зависимости от характера такого материала.
c) Итак, вещь можно переделать, изменить, разбить,
погнуть, уничтожить, но вид ее, форму ее, нельзя ни
погнуть, ни уничтожить. Есть ли в таком случае форма вещи
сама вещь? Ни в каком случае. Огнем можно затопить
печь, но можно ли затопить печь видом огня? Кулаком
можно ударить по столу, но можно ли ударить по столу
только одним видом, или формой, кулака? Ведь когда мы
говорим «вид», или «форма», мы тем самым еще ровно
ничего не говорим о той материи, на которой эта форма
воплощена. Мы можем одну и ту же форму вещи иметь на
бумаге, на дереве, на металле, наконец, просто в мысли, в
воображении. Пусть у нас имеется реальная вещь, вот этот
стакан или вот этот стол. Как же я мог бы ударить по
стакану или по столу формой своего кулака, если еще
неизвестно, какая именно это форма? Если это форма — только
мысленная, то, очевидно, и удара никакого не состоится,
никакой стакан не разобьется и ни по какому столу никто
не ударит. А ведь реальный стакан — это именно такой
стакан, который может разбиться; и реальный кулак —
это именно тот кулак, который может ударить.
d) Итак, вещь подвержена реальным изменениям,
форма же вещи по самому смыслу своему не подвержена
изменениям. И потому определить форму вещи не значит еще
определить саму вещь. А ведь мы все время ищем
определения только самой вещи, вот этой вот реальнейшей, пов-
седневнейшей вещи, которую можно делать и уничтожать,
беречь и разрушать, и т. д. и т. д.
Тут мы опять утверждаем, кажется, банальную истину.
Отбросим всякую философию и посмотрим на дело
житейски. Достаточно ли для знания и понимания вещи,
например» видеть, только видеть эту вещь? Согласимся, что иног
да этого вполне достаточно. Но уже из одного того, что
этого достаточно не всегда, с неопровержимостью (и)
ясностью вытекает полная несводимость знания вещи на ее
видение. Чтобы вещь знать, надо не только ее видеть, т. е.
не только воспринимать ее форму. Пусть» например, я вижу
пламя. Видение пламени, несомненно, дает мне форму
пламени. Но достаточно ли этого для того, чтобы знать самый
огонь? Если бы я никогда не обжигался об огонь, то я бы
и не знал подходящих свойств огня. Если бы я не наблюдал
САМОЕ САМО
» 1
307
разрушительного действия огня, то я не знал бы о нем,
может быть, самого существенного. Итак, форма огня,
видимая, осязаемая, чувствуемая, очевидно, ни в каком
случае не есть самый огонь.
Но точно так же и вообще чувственная форма огня не
есть самый огонь. Пусть я знаю зрительные, осязательные
и все прочие чувственные формы огня. Чтобы понимать
самую сущность огня, я, очевидно, должен к этому
прибавить еще физико-химическое знание о воздухе, о
кислороде, об окислении, о превращениях материи и т. д. и т. д.,
т. е. огромную массу совсем уже не чувственных «форм»
и знаний. Но и они не вскроют мне сущности огня, как об
этом будет сказано ниже, ибо и самая сверхчувственная,
самая идеальная, или самая строгая и самая точная,
самая «научная» форма вещи все же еще не есть самая вещь.
Самая вещь — жива и жизненна, всякая же форма по
неизбежности отвлеченна и, так сказать, «формальна».
е) Наконец, и самое чувство языка противится тому,
чтобы форму вещи считать самой вещью. И этого
неумолимого повеления со стороны языка нельзя заглушить
никакими теориями. Раз мы говорим «форма вещи», то уже
одно это значит, что форма не есть вещь, ибо иначе мы
говорили бы не «форма вещи», но «вещь вещи». И что такое
«форма вещи», понимает всякое разумное существо. А что
такое «вещь вещи», этого невозможно себе даже и
представить. Есть вещь, и есть ее форма, и может быть много
разных форм в данной вещи. Но это повелительно значит,
что форма вещи не есть вещь и что вещь не есть ее форма.
А потому знать форму вещи — это еще не значит знать
самую вещь; а понимать вещь — это еще не значит
понимать ее форму. Как бы совершенно мы ни определяли
форму вещи, этим мы нисколько не определяем самую вещь.
Существо нашей вещи не затрагивается ее формой, как бы
мы эту последнюю ни углубляли и ни расширяли.
3. В ответ на все эти сомнения естественнее всего
говорить так: не материя и не форма вещи есть сама вещь,
но — соединение того и другого есть сама вещь. Если
материя определяет вещь только очень отдаленно и если
форма вещи тоже недостаточна для ее определения, то,
скажут, уж во всяком случае соединение формы и материи
вещи есть сама вещь. Что же и есть еще в вещах, если не
их форма и не их материя?
Но и тут мы должны расстаться с философскими пред-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
308
рассудками, хотя они и владели очень большими
философскими умами.
a) Прежде всего, едва ли можно изображать
общение формы и материи в вещи как их соединение. Когда мы
имеем дело с вещью, можно ли сказать, что мы тут
соединяем ее материю с ее формой? Если стоять на позиции
общежизненного реализма, то ни в каком случае нельзя
сказать, что мы имеем дело с материей, с формой или с их
соединением. Мы имеем дело с самой вещью. А есть ли в ней
форма или материя, об этом можно совершенно не
задумываться,— тем более о соединении того и другого. Если
уж говорить о настоящем соединении формы и материи в
вещи, то гораздо точнее было бы сказать, что тут мы имеем
не соединение, а тождество, полное тождество формы и
материи. Когда вы кушаете хлеб, вы кушаете не форму хлеба
и не материю хлеба и кушаете не соединение того и
другого (вы тут даже не фиксируете отдельно формы и
материи), но кушаете самый хлеб.
b) Однако, как бы мы ни изображали общение формы
и материи в вещи, будь оно простое и механическое
объединение, будь оно3* объединение химическое,
физическое, логическое, будь оно самое абсолютное
тождество,— никакой вид этого общения ни в каком смысле не
есть сама вещь. Ведь это же общение есть всегда общение
разобщенного, соединение того, что мыслится или по
крайней мере может мыслиться разобщенным, различным,
В реальной вещи, однако, форма и материя ничем между
собою не различаются, и самая мысль об этом различении
или неразличении ни для кого не обязательна и для
сущности вещи отнюдь не есть нечто необходимое.
Другими словами, соединение формы и материи, как
равно и самая форма и самая материя, есть результат
нашего логического мышления, результат
отвлеченно-научного анализа, и уже по одному этому не есть сама вещь.
Я могу иметь дело с вещью и без всякого анализа, и от
этого она не перестанет быть для меня вещью. Значит,
общаясь с самой вещью, я общаюсь с чем-то таким, что
существует позади или поверх, во всяком случае, вне
соединения ее формы и ее материи. Иначе в общении с нею я
каждый раз отдельно его фиксировал бы. Чтобы войти в
комнату, я должен знать, что такое ключ, что такое замок,
что такое дверь; и без этого я не могу войти в комнату.
Почему? Потому что ключ, замок, дверь и я сам суть некото-
САМОЕ САМО
I 1
309
рые вещи, и мое вхождение в комнату есть некоторое
общение вещей. Но нужно ли мне знать, что такое форма
ключа, что такое материал, из которого сделан замок, и как
соединяется форма моей комнаты с материалом, из
которого она сделана? Ничего этого знать не требуется — для
вхождения в комнату. Почему? Потому что это не есть
сами вещи, между которыми происходит здесь общение, и
тем более не есть то, что для них существенно. Разумеется,
ничто не мешает мне, прежде чем я войду в комнату,
подробно изучить форму моего ключа, или материал (дерево,
железо, краска), из которого сделана дверь, или способ
кладки балок потолка моей комнаты. Но мало ли что я еще
мог бы тут изучить? Я мог бы изучить целые части —
физики, механики, инженерно-технических знаний. Но ясно,
что для того, чтобы общаться с самим замком, с самим
ключом, с самой комнатой, короче говоря, с самими
вещами, для этого не нужно знать ровно никаких наук и не
нужно производить ровно никаких логических анализов.
Чтобы приготовить ключ и замок, надо быть
работником-металлистом и надо иметь определенные знания и навыки.
Но жилищем пользуются не только плотники, столяры,
металлисты. Значит, и сущность вещей, с которыми мы
имеем дело, известна нам не из наук и ремесел, т. е. не из
тех или иных логических или технических процессов, не из
знания того, как определенная форма вещи объединяется
с материалом вещи, но известна она нам исключительно
из самой вещи.
Вещь действительно может быть дана или рассмотрена
с точки зрения своей формы, с точки зрения материи и с
точки зрения соединения ее формы и материи. Но все это
есть только способы данности вещи в инобытии, или с
точки зрения инобытия; и этим не только еще не доказано,
что способы эти — обязательные и необходимые, но,
наоборот, их неопределенное и непонятное количество
предполагает возможность и каких-то иных способов
данностей вещи в инобытии. И этих способов, возможно,
бесконечное количество; и ни один из них не есть сама вещь,
но уже предполагает, что вещь существует сначала сама
по себе, а потом существует так-то и так-то данной. Что же
такое сама-то вещь, этого еще не вскрывает соединение
в ней ее формы и материи, хотя бы это и было одной из
обычных форм данности вещи в ее инобытии.
с) Когда мы говорим, что вещь не есть просто соеди-
Α. Φ. ЛОСЕВ
f \
310
нение формы и материи, но и еще нечто, а именно сама она,
то нам могут сказать: а укажите конкретно, что еще есть
в вещи помимо формы и материи. Что же, это указать не
трудно. Аристотель, например, говорит, что в вещах кроме
«материальной» и «формальной» причин имеются еще
«движущая» и «целевая» причины. В самом деле, ни
форма сама по себе, ни материя сама по себе еще далеко не
тождественны с движением. Форма может быть формой
движущейся вещи, но она может быть и формой вещи,
находящейся в покое. Материя может быть материей
движущейся вещи, но она может быть материей вещи,
находящейся в покое. Форма может быть погружена в
движение и может быть погружена в покой, равно и материя.
Значит, фиксируя в вещи ее форму, материю и соединение
того и другого, мы еще нисколько не фиксируем ее
движения; а известно, что все находится в движении. Подобное
рассуждение можно было бы привести и относительно
«целевой причины».
d) Спрашивается теперь: куда же деть эту «движущую
причину» и в каком отношении она находится к форме и
материи? Однако мы должны ответить на это твердо: какие
бы еще «причины» мы ни находили в вещах и в каком бы
отношении они между собою ни находились, я нисколько не
обязан всего этого знать для целей общения с вещами.
Конечно, вещь, между прочим, и движется; и, конечно, для
всякого движения существуют, между прочим, те или иные
причины; и, конечно, движение вещей, между прочим, как-
то связано с ее формой и ее материей; и, конечно, я могу
рассматривать данную вещь, между прочим, и с точки
зрения ее движения. Но это вот «между прочим» в корне
разрушает все построение относительно существа
рассматриваемой вещи. Она, между прочим, и движется. Но это
значит, что она может и покоиться. Она, между прочим,
рассматривается с точки зрения движения. Но это значит,
что она может и не рассматриваться так и может даже
совсем никак не рассматриваться. А тем не менее вещь
существует, и существует она сама по себе, т. е. как таковая;
и все эти «причины» ее могут фиксироваться в ней, могут
и не фиксироваться.
Во всяком случае, совершенно ясно, что можно
находиться в реальном общении с самой вещью помимо
общения с ее «причинами» и с той или иной связью этих «причин»,
какие бы это причины ни были, как бы они между собою ни
САМОЕ САМО
J—L
311
были связаны и какую бы фактическую роль они ни играли
в конструкции самой вещи. Все это — результат
отвлеченного анализа, т. е. предметы ума или рассудка, а не самые
вещи. Общаться же с вещами могут отнюдь не только
философы или ученые, отнюдь не только те, кто умеет
производить логический анализ вещи. Конечно, мы совсем не
говорим, что предметы ума нереальны. Если угодно, пусть
они будут реальны. Мы даже такого вопроса не ставим.
Но даже если они реальны, то они реальны в вещи.
Предметы ума или рассудка, полученные в результате анализа,
в случае своей реальности, находят в вещи, т. е. уже по
одному тому не есть сама вещь. Если яблоко находится в
вазе, то это еще не значит, что яблоко и есть сама ваза.
Таким образом, материал, форма, движение, цель и прочие
бесконечные существенные или несущественные
«причины», самое большее, только находятся в вещи, но ни в
каком случае они не суть сама вещь.
3. ВЕЩЬ НЕ ЕСТЬ НИ ОДИН ИЗ ЕЕ ПРИЗНАКОВ,
НИ ВСЕ ЕЕ ПРИЗНАКИ, ВЗЯТЫЕ ВМЕСТЕ
1. Если мы вспомним то, что говорилось выше о
мышлении, то нетрудно будет установить, что
констатированная сейчас нами абстрактность определений
сущности 4* есть не что иное, как результат именно их чисто
мыслительного происхождения. Если мы раньше говорили,
что вещь вовсе не есть мышление о вещи, то сейчас мы
нашли, что и результат мышления о вещи, а именно,
абстрактная, рассудочная предметность, даже в тех случаях,
когда она безусловно реальна и является реальнейшим
достоянием вещи, все еще ни с какой стороны не может
считаться самой вещью. Мы можем также
специфицировать и другие наши положения о недостаточности
субъективных форм для получения вещи.
Выше говорилось, что ощутимость и воспринимаемость
вещи не есть сама вещь. Если мышление фиксирует в вещи
ее абстрактно-рассудочную структуру, то восприятие
фиксирует в вещи ее наглядную целость, ее целесообразную
составленность из частей. Эта сторона вещи, конечно, тоже
не может считаться самой вещью. Есть ли целое вещи сама
вещь, и есть ли ее части сама вещь? Ни целое, ни части
вещи не есть сама вещь.
Понятнее всего, что никакая часть вещи не есть сама
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
312
вещь; и тут уже никто не спорит. Однако невозможно
сказать, чтобы это всегда хорошо всеми понималось.
Нечеткость этого с виду общепонятного и банального
убеждения выявляется тотчас же, как только мы заговорим о
сумме частей. Часть вещи не есть вещь, но почему-то думают,
что зато уже сумма всех частей вещи обязательно есть
сама вещь. Забывается то простейшее положение (упорно
выдвигаемое, однако, в других случаях и, по-видимому,
тоже бессмысленно), что из ничего ничего не происходит.
Думают, что если в одной доске нет дома и в одном гвозде
нет дома, то если взять много досок и много гвоздей, то
обязательно появится дом. Откуда же он появится, если
его нет ни в какой отдельной его части, и что это за чудо
должно тут сотвориться? Ясно, что и никакая часть дома
не есть дом; и все части дома, взятые вместе, тоже не есть
дом; и целое дома не есть самый дом, потому что дом — не
только целое, но еще содержит в себе и свои части; и не
есть дом соединение целого и частей, потому что в нем есть
нечто и помимо целого и частей (например, его жизнь,
обветшание или поновление). Самый дом есть, несомненно,
нечто целое, но не только целое. Самый дом есть сумма
определенных частей, но не только одна эта сумма. Самый
дом, конечно, ветшает или обновляется, но он ни в каком
случае не есть само обветшание или поновление, потому
что тогда моя лампа была бы тоже домом, раз она тоже
ветшает.
Таким образом, становление вещи, история вещи уже
предполагает, что до всякого становления и до всякой
истории вещи есть сама вещь. Вещь раскрывается в своей
истории, присутствует в своем становлении. Но она не есть
ни то, ни другое.
2. Все наши предыдущие рассуждения можно
обобщить в одном. А именно, мыслимость, ощущаемость и
вообще сознаваемость вещи, ее форма, материя, движение
и проч. свойства, ее целость, ее составленность из частей
и т. д. и т. д.— все это в широком смысле есть признаки
вещи. Раз мы через эти моменты хотели получить
определение вещи, то ясно, что все это есть только те или иные
признаки вещи. Мы рассматривали все эти моменты как
признаки, входящие в определение вещи. И вот мы отвергли
их как неспособные вскрыть существо вещи.
а) Следовательно, все, что до сих пор мы утверждаем,
сводится к тому, что мы не признаем определения вещи.
САМОЕ САМО
I I
313
через ее признаки. Вещь невозможно определить на
основании ее признаков. И понятие тоже невозможно
определить на основании его признаков.
Доказательство этой сводной формулы — самое
примитивное и общечеловечески понятное. Пусть вещь А
имеет три признака — a, b и с. Признак а не есть сама вещь Л.
Признак Ъ — тоже, и признак с — тоже. Следовательно,
вещь А не определима ни через а, ни через &, ни через с>
ни через ту или иную их комбинацию.
Циркуль есть инструмент (а) для вычерчивания (Ь)
кругов (с). Инструмент сам по себе еще не есть циркуль,
потому что ножницы — тоже инструмент. Вычерчивание
тоже не есть циркуль, ибо можно чертить и без всякого
циркуля. Круг тоже не есть циркуль, ибо кольцо на руке
есть тоже круг. Что же такое самый циркуль? Ясно, что
приведенное определение дало три совершенно разных
вещи, не имеющих никакого прямого отношения к циркулю
как к таковому. Эти три вещи сколько угодно существуют
и вне всякого циркуля. Итак, если мы хотим что-нибудь
определить по признакам, мы тотчас же теряем предмет
определения и ровно ничего не определяем.
Ь) При этом совершенно неважно, существенные ли
признаки мы перечисляем или несущественные, все или не
все, правильно перечисляем или неправильно. Пусть
признаки будут максимально существенные и пусть они будут
абсолютно правильно перечислены и все перечислены.
И даже при этом условии они ровно ничего не дадут нам
для определения вещи. Квадрат есть четырехугольная
фигура с равными и попарно параллельными сторонами. Это
определение содержит только существенные признаки. Но
ни четырехугольность сама по себе, ни наличие равных
сторон, ни параллельность не дают никакого квадрата. И если
все же объединение четырехугольности с равенством
сторон или параллельностью сторон дает нам квадрат, то,
очевидно, о квадрате мы получаем представление откуда-
то из другого источника, а не из этих отдельных признаков
и не из их суммы.
3. а) Можно резюмировать мысли всех предыдущих
рассуждений еще и так.
I. Все существующее и несуществующее, реальное и
мыслимое, возможное <и> невозможное, необходимое и
случайное — словом, все, что есть, абсолютно
индивидуально.
Α.Φ. ЛОСЕВ
314
II. Абсолютная индивидуальность вещи, или ее самое
само, исключает всякое совпадение с чем бы то ни было.
III. Самое само, или абсолютная индивидуальность
вещи, абсолютно невыразимо.
Эти три тезиса доказываются простейшими средствами.
Ь) Возьмем первый тезис. Все — индивидуально, т. е.
не сводимо ни на что другое. Допустим, имеется вещь Л,—
требуется доказать, что она абсолютно отлична от всего
прочего. Пусть в этом А имеется часть а\, которая
тождественна с какими-нибудь другими вещами или частями. Если
это действительно так, то вполне позволительно просто
отбросить это аь как совершенно не принадлежащее к Л,
и не иметь о нем никакого суждения при решении вопроса
об Л. Но тогда возникает вопрос об оставшейся части Л —
а\\ имеется ли здесь что-нибудь тождественное с каким-
нибудь не-Л или нет? Если имеется, то отбросим и эту часть
аг, чуждую, очевидно, самому Л. Однако, произведя ряд
таких изъятий из Л, мы невольно останавливаемся перед
вопросом: до каких же пор мы будем изымать эти чуждые
части? Если этот процесс где-нибудь остановится, то ясно,
что тем самым мы достигли того пункта нашего Л, в
котором оно уже абсолютно отлично ото всего другого. Если же
этот процесс будет совершаться бесконечно, то мы рискуем
уже при достаточном конечном количестве изъятий утерять
самое Л, поскольку всякая конечная величина
когда-нибудь же должна исчерпаться после некоторого числа
изъятий. Итак, или Л абсолютно отлично от всякого не-Л, или
никакого Л вообще не существует.
Попробуем рассуждать еще и так. Пусть в нашем Л
имеется часть αϊ, которая совпадает, отождествляется с
каким-нибудь не-Л. Спросим: в каком же отношении
находится CL\ ко всему Л? Очевидно, оно или тождественно с
ним, или отлично от него. Если оно тождественно с ним,
тогда вся вещь Л абсолютно неразличима в себе в смысле
своего соотношения с не-Л и вся она целиком продолжает
быть абсолютно отличной от всякого не-Л.
4. Я, МИР И БОГ ТАКЖЕ НЕ СУТЬ ИХ СОБСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
Усвоивши себе эту позицию, мы приходим к выводам
весьма странным и, может быть, даже страшным. Где же
окружающие нас вещи, где самый мир, где мы, где я, где
мое собственное Я? Мысль изнемогает в поисках этих пред-
САМОЕ САМО
I——hL.
315
метов и вещей и — все-таки ровно ничего не находит.
1. а) Я задаю себе вопрос: что такое я, мое
собственное Я, где оно, чем оно отличается от всего другого? Я вижу
мои руки, ноги, голову — есть ли это мое Я? Нет, рука —
моя, но не само мое Я, как равно она — белая, но не сама
белизна, круглая — но не сам круг. То же и о ноге, и о
голове. То же и обо всем теле. Тело — мое, но оно — не само
Я. Что же еще есть во мне кроме тела? Во мне есть
сознание и бесконечность видов переживаний. Суть ли они мое
Я? Нет, они — не Я. Моя надежда, мой страх, моя любовь,
моя мысль, мое намерение суть мои, но они — не сам Я.
Я их имеет, как ведро содержит в себе воду. Но ведро — не
вода. Перебравши все возможные мысли, чувства,
поступки, я обобщаю и объединяю все это в одно общее понятие
души. Но, очевидно, и душа не есть я; и это — уже по
одному тому, что она моя. Статуя — мраморная; но это и
значит, что она не просто мрамор. Статуя могла бы быть
металлической, а мрамор мог бы превратиться в
умывальник. «Статуя» и «мрамор» не имеют ничего общего между
собою. И если случайно попадаются мраморные статуи,
то и в этом случае статуи — именно мраморные, а не сам
мрамор. Имя прилагательное здесь как раз и указывает на
некое вполне самостоятельное существительное, от
которого оно образовано.
Но если и душа моя — только моя, а не я сам и если дух
мой — только мой, т. е. только принадлежит мне, а не я
сам, то где же я, что такое это мое Я, самое само, что во
мне есть, я сам, уже ни на что не сводимый и сам в себе,
без всякого инобытия? Ответа нет.
И в то же время так чувствительно, так интимно, так
ясно и бездонно-глубоко переживается каждым его
собственное Я! Никто не спутает себя ни с кем и ни с чем
другим. Всякому нормальному человеку так ясно, так понятно,
что ни его тело, ни его душа, в каких бы видах и
состояниях их ни брать, не есть он сам. Пусть я должен
присутствовать в каком-нибудь общественно-важном месте.
Пусть я присутствовал там только одним телом
(например, пусть я все это время спал или был в обмороке).
Можно ли в этом случае сказать, что я присутствовал на каком-
нибудь заседании? Нет, если говорить по существу, то в
этом случае л (именно как я) там совсем не присутствовал.
Пусть я присутствовал там только своей душой, т. е.
своими мыслями, чувствами, волевыми поступками. Можно ли
Α. Φ. ЛОСЕВ
316
в этом случае сказать, что я там присутствовал именно
как я? Конечно, нет. И т. д. и т. д. Что же такое мое Я и что
значит присутствовать мне где-нибудь, совершенно
неизвестно.
Вчера я пережил большую радость. Я улыбался и сиял
целый день. Есть ли это мое Я? Да, это именно я радовался,
но я — глубже радости, больше радости. Месяц назад я
страдал и плакал. И это было все то же Я, которое,
очевидно, глубже и всякого страдания, глубже и слез.
Сколько я сделал за свою жизнь плохого, ненужного и
преступного! Но мое Я не есть ни один из этих поступков и даже
не просто вся моя жизнь целиком. Даже самое появление
на свет и даже самая смерть моя — не я сам. Это — то,
что со мной случилось, то, что со мной произошло или
произойдет, но это не я. Я — вне рождения, вне жизни и вне
самой смерти. Это Я везде и всегда со мною, что бы я ни
делал и ни мыслил, как бы ни жил и ни умирал. И оно
постоянно оно; оно вечно судит, мыслит, чувствует. Но в
каждом мельчайшем мгновении моего существования оно все
со мною целиком; его некуда деть и некуда от него уйти,
ибо оно и есть я сам, мое самое само, то, что поверх и
позади всяких отдельных своих проявлений, поверх и позади
всяких жизней и смертей. И это яснейшим образом
вытекает из самого обыкновенного человеческого
самочувствия, зафиксированного в таких выражениях, как «я
мыслю», «я действую», «я родился», «я умираю». Если такие
выражения вообще имеют какой-нибудь смысл, то это
возможно только при том условии, что Я не есть мысль, Я не
есть действие, не есть рождение, не есть смерть, не есть
самая жизнь, подобно тому как выражение «голубой
цветок» имеет смысл только тогда, когда голубизна не есть
цветок, а цветок не есть голубизна.
Но что же, что же тогда такое это Я? И мы ровно ничего
не можем ответить на этот вопрос, кроме того, что Я есть
Я. Я есть Я — вот последняя мудрость, которую мы только
можем здесь проявить. О самом самом нашего Я» об
абсолютной самости нашего Я ничего большего мы сказать не
можем. Люди, несомненно, находятся в том или другом
общении между собою. Что значит общаться? Что значит
общаться мне с вами? Я могу вас видеть своими глазами.
Есть ли это общение? Очевидно, это еще не есть общение,
потому что я могу вас не только видеть, но и слышать. А это
значит, что я могу общаться через зрение, через слух; но
САМОЕ САМО
(—1—
самое-то зрение еще не есть общение, и самое слышание
еще не есть общение. Если бы зрение и общение было бы
одно и то же, то видеть значило бы всегда и общаться. Я же
могу кого-нибудь видеть и — совершенно ничего не
понимать в виденном. И могу понимать что-либо без помощи
зрения. И если бы зрение было тождественно с общением,
то слышание уже не было бы общением, а общение при
помощи писем было бы уже физическим зрением. Значит,
общение заключается в пределах зрения или слышания,
или письменного объединения, но оно не есть ни то, ни
другое и ни третье, как и электричество находится в
проволоке, хотя оно через все это и проходит.
Но что же все-таки значит общаться одному человеку
с другим, одному Я с другим Я? Для этого, очевидно, не
обязательно физического объединения. Но, может быть,
для этого необходимо общение души с душой? Я могу
ласкать и гладить ребенка. Есть ли это общение? Да, это есть
общение, но самое-то прикосновение к ребенку ровно еще
ни о чем не говорит, потому что можно касаться и в то же
время никак не общаться. Я, например, касаюсь сейчас
моего стула, сидя на нем, но это или не есть вовсе никакое
общение со стулом, или, во всяком случае, не то общение,
когда я ласкал и гладил ребенка·Значит, когда я ласково
глажу кого-нибудь, то общаюсь я не по причине своего
тела и своих телодвижений, но по причине своей души. Это,
по-видимому, моя душа общается с ребенком.
Но точно ли это так? Что моя душа в данном случае
общается, это — несомненно, как несомненно и то, что, когда
я прикасаюсь к своему стулу, на котором сижу, я его как-
то воспринимаю, т. е. вхожу в общение с ним. Но ведь мы
уже установили, что душа, хотя она и моя, еще не есть
самое Я. Общаться духовно — это еще не значит общаться
одному Я с другим Я. Есть ли душевное общение одного Я
с другим единственно возможная форма взаимного
общения разных Я? В этом позволительно усомниться. Я могу
не только не видеть и не слышать кого-нибудь, но я могу
его и не знать, не любить, ненавидеть и — в то же самое
время находиться с ним в глубочайшем и
существеннейшем общении. Так, например, я не знаю, кто был прадед
моего прадеда. Если я еще знаю (хотя бы по имени) моего
прадеда, то прадеда моего прадеда я уже совсем не знаю
никак — даже по имени. Общаюсь ли я с ним или нет?
Обязательно! На мне лежит весь оставленный им груз наслед-
Α. Φ. ЛОСЕВ
318
ственности. Все, что он делал» чувствовал, мыслил, вся
его жизнь обязательно передавалась так или иначе из
поколения в поколение и дошла — с разными
прибавлениями и изменениями — и до меня, воплотившись в
определенную структуру моего тела, моей души, моего духа, моего я.
Разве это не есть общение? Да, пожалуй, это общение
бесконечно существеннее, глубже и непреодолимей, чем,
например, то общение с людьми, которое испытываю я,
гладя ребенка или покупая фрукты на рынке. А оно
совершенно никак не познается и не воспринимается и ни с какой
стороны не есть общение душевное, психическое.
Итак, что же существенно необходимо для общения
одного Я с другим, если для этого общения не
обязательно ни общение тел, ни общение душ или духа? Неизвестно.
Известно одно, а именно, что одно Я общается с другим Я-
А в чем сущность этого общения, это неопределимо точно
так же, как неопределимо и самое Я. Раз мы признаем, что
никакое Я нельзя определить при помощи тех или иных
признаков, существенных или несущественных, то точно
так же мы должны теперь признать, что невозможно
определить и существо человеческого общения. А ведь тем не
менее, когда я ласкал и гладил ребенка, то я общался с ним
не в силу тех чувств и мыслей, которые я в это время имел,
но как раз в силу вот этой самой неисповедимой сущности
своего и чужого Я и своего общения с этим чужим Я. Самое
обыкновенное, самое простое и понятное в человеческих
отношениях, самое ясное и неотразимое общение одной
личности с другой содержит в себе такую тайну и возможно
в силу такой тайны, которую невозможно и выразить
никакими словами. Такая простая вещь — приласкать и
похлопать ребенка по щечке, и — возможно это только в силу
глубочайшей и невыразимой тайны общения одной
личности с другой.
Так разбиваются все усилия рассудка понять, что такое
Я и что такое общение разных Я. Никакими признаками
и чертами это не изобразимо.
2. Но оставим человеческую жизнь и личность, не
будем углубляться в пучины человеческого Я. Обратимся
к более внешнему и понятному, к миру, к этому вот
окружающему нас, самому обыкновенному чувственному миру.
Где этот мир? Каковы его свойства? Существует ли самый
этот мир?
а) На все эти вопросы я могу только сделать указа-
САМОЕ САМО
f——I _
319
тельный жест, и — больше ничего. Вот он, этот мир,
говорю я, показывая рукой на все окружающее. Каков он, этот
мир? Вот он каков, говорю я, продолжая пользоваться
тем же самым жестом. Но можем ли мы сказать что-нибудь
большее?
Вот Земля, на которой мы живем. Вот Луна, которую
мы видим и движение которой исчисляется с любой
точностью. Вот Солнце, Марс, Юпитер, созвездия. Есть ли
Земля — мир? Ни в каком случае! Она — в мире, но не
есть самый мир. И тут можно повторить всю ту
аргументацию, которую мы уже не раз воспроизводили. Если
Земля — мир, то Луна — уже вне мира или Луна есть тоже
Земля. Если Земля — мир, то нельзя говорить, что Земля
находится в мире, но нужно говорить, что Земля
находится в Земле или мир в мире. И т. д. и т. д. Эти нелепости
очевидны. Но тогда Земля — действительно не есть мир. А
Луна? То же самое, очевидно, нужно сказать и о Луне. А
Солнце? И о Солнце! А Сириус? И о Сириусе! Но если Земля —
не мир, Луна — не мир, Солнце — не мир, Сириус — не
мир, то где же самый-то мир?
Ь) Незрелая мысль сейчас же сделает вывод, что мира
вообще нет никакого, а есть только отдельные мировые
тела. Но этот вздор, очевидно, не нужно и опровергать,
потому что всякий прекрасно понимает, что такое мир, подобно
тому как всякий прекрасно понимает, что такое физическая
вещь, что такое душа, что такое «я» и что такое человек.
Но если нужны доказательства, то вот и доказательства.
Возьмем Землю. Африка есть ли земной шар? Нет, не есть.
Австралия — то же самое. Европа — то же самое. Если
там отрицался мир на том основании, что Земля — не мир,
Луна — не мир и Солнце — не мир, то для логической
последовательности теперь нужно отрицать существование
земного шара, потому что Азия — не земной шар,
Австралия — не земной шар и Европа — не земной шар. Но так
же нужно в этом случае отрицать и существование Азии,
ибо Сибирь — не Азия, Китай — не Азия, Индия — не
Азия. Так все должно превратиться в ничто, если стоять на
такой точке зрения. Но если вы признаете, что Сибирь
существует, Азия существует и земной шар существует, то
этим самым вы должны признать, что и мир существует
Мир — существует, это — несомненно. Но что такое мир,
что такое самый мир, это никакими признаками обозначить
невозможно, ибо он — и не Сибирь, и не Азия, и не Земля,
Α. Φ. ЛОСЕВ
ІмвІ
320
и не Солнечная система, и не все солнечные системы,
взятые вместе. Мир — везде и нигде, как и Сибирь — везде
на всем пространстве Сибири и нигде.
3. Подходя с этой точки зрения к основной проблеме
философии религии, мы сразу видим, что религиозные
предметы отнюдь не находятся в каком-то особенном
положении, не свойственном никаким другим предметам.
Конечно, религиозным предметам свойственно свое,
специфическое, как и физические вещи отличаются одна от другой,
физическая вещь — от сознания, сознание — от «я» и т. д.
Все вообще специфично, но в то же время и все вообще
абсолютно одинаково в одном отношении: никакой предмет
не определим через свои признаки. Все, что мы говорим
о физических вещах, совершенно в одинаковой мере
применимо и к любому религиозному предмету.
a) Бог не есть ни физическая материя, ни душа, ни дух,
ни я, ни личность. Стало быть, Он не есть и ничто из того,
что входит в эти области бытия. Он не есть ни свет, ни тьма,
ни знание, ни мысль, ни чувство, ни сознание, ни вечность,
ни любовь, ни благость, ни совершенство. Ему нельзя
приписать ровно никакого предиката, ровно никакого
признака, совершенно в той же самой степени и мере, как этого
нельзя сделать и для моего дома, для моей скрипки, для
самой малой буквы греческого алфавита, «йоты».
Напрасно бесчисленные философы и нефилософы толковали на
все лады о непознаваемости Бога, противопоставляя это
познаваемости физического мира. Действительно, самый
предмет познания здесь несравним с предметами
чувственного или человеческого мира Но если говорить о
непознаваемости, то она везде совершенно одинаковая. Бога
нельзя определить никаким предикатом точно так же, как
нельзя этого сделать и в отношении вот этого цветка,
растущего у меня под окном. Разумеется, голубое небо
несравненно больше, чем вот этот голубой цветок, но самый
голубой цвет — совершенно один и тот же и в миниатюрном
цветке, и в неизмеримом небе. Такова и непознаваемость
(или, точнее, несводимость на отдельные признаки) во
всех вещах, которые только существовали, существуют или
будут существовать.
b) С полным бесстрашием мы должны сказать, что
Богу тоже нельзя приписать тот признак, что Он есть Бог.
Невозможно сказать даже и то, что Бог есть Бог,—
правда, опять-таки точно в такой же мере, в какой нельзя ска-
САМОЕ САМО
321
зать, что и цветок есть цветок. В самом деле, допустим, что
Бог есть Бог. Это значит, что Бог обладает каким-то
свойством. А это в свою очередь значит, что данное свойство
Бога отлично от самого Бога, т. е. Ему свойственна
категория различия. Но если есть различие — значит, тут есть и
тождество, а если есть тождество и различие — значит,
есть переход от одного к другому, т. е. движение; а если
есть движение — значит, есть и покой. И т. д. В результате
мы получаем все, какие только возможны, логические
категории, и все их мы приписываем Богу. Вместо единого
и нераздельного Бога мы получаем бесконечное множество
отдельных категорий и тем самым теряем предмет нашего
определения. Поэтому: или уже с самого начала мы
отказываемся от суждения, что Бог есть Бог, или это суждение
принимаем, но тогда Бог как предмет нашего определения
исчезает в бездне логических различений.
Точно так же нельзя сказать, что этот цветок есть,
существует. Не только цветок не есть цветок, но даже нельзя
просто сказать, что цветок есть. Ибо из этого «есть», т. е.
из категории бытия, сейчас же вытекают и все прочие
категории, а это значит, что наш цветок мы стали определять
логическими признаками. Нельзя поэтому сказать и то, что
Бог существует. Ибо это значит определять Бога через
признаки, т. е. определять через то, что не есть Он Сам,
т. е. сводить Его на то, что Он не есть, на нечто инобы-
тийное, или Ему чуждое, т. е. терять самый предмет
определения.
II. ВЕЩЬ ЕСТЬ САМА ВЕЩЬ
5. ВЕЩЬ ОПРЕДЕЛИМА ТОЛЬКО ИЗ СЕБЯ САМОЙ
Болезненно, страстно, мучительно искал я человека,
искал мира, искал я Бога и — нигде не находил, нигде не
останавливался в своих исканиях, нигде не обретал
надежной пристани. Безбрежным морем развертывалась
человеческая душа, развертывался мир, и темными далями
разливалось по бытию Божество. И нигде, нигде не было
остановки, ничему и никому нельзя было приказать
остановиться. Все уходит в бездну собственной самости. Где я, где
мир, где Бог? Мысль стоит перед вечной дилеммой,
которую она сама же себе вечно ставит: если стремиться к
самому существу вещи, то оно невыразимо и недостижимо;
11 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
322
а если стремиться к выразимому и достижимому, то это не
есть существо вещи, не есть ее самое само.
Ь) Иначе можно сказать так. Если данная вещь
действительно есть она сама, то она есть некая не сводимая ни
на что другое абсолютная индивидуальность. Все
предыдущие рассуждения были направлены на то, чтобы спасти эту
абсолютную индивидуальность вещи. И нельзя ее не
спасать тому, кто решился философствовать. Ведь это так
понятно, так ясно, так самоочевидно, что каждая вещь есть
она сама, что каждая вещь не есть другая вещь, что она
есть некая абсолютная индивидуальность. Разве можно не
настаивать на том, что каждая вещь есть она сама?
Разве можно утверждать, что дерево есть не дерево, а цветок
и что цветок есть не цветок, а трава? И вот оказывается,
что эта банальнейшая, тривиальнейшая, повседневнейшая
и избитая истина есть требование абсолютной
индивидуальности вещи, а это требование есть требование
несводимости вещи ни на что другое, т. е. требование полной
невозможности получить самую вещь из ее свойств и
признаков. Вещь определима только сама из себя — вот
постулат абсолютной индивидуальности вещи. Но это значит,
что вещь не определима никак.
Тут мы находим удивительную диалектическую
особенность всякого знания и бытия. Покамест вещь берется не
целиком, приблизительно, покамест мы скользим по ее
поверхности, по ее функциям, по ее инобытию, до тех пор
диалектики не видно и невооруженный взгляд не видит
всей оголенной и абсолютно-необходимой антиномичности
вещи. Но как только мы захотим взять вещь целиком, как
только вещь берется нами именно в виде вещи, берется как
таковая и определяется сама из себя, а не из иного, как
тотчас же прекращается всякое определение вещей, вещь
уходит в бездну своей собственной индивидуальности и
ускользает от всякого малейшего захвата и обозначения.
Когда мы определяем вещь по ее свойствам, мы от
инобытия переходим к бытию, потому что из отдельных ее
признаков, которые суть в отношении ее самой инобытие,
мы переходим к самой вещи, которая есть бытие. Когда же
мы определяем вещь не по ее свойствам, но по ней самой,
то мы от бытия переходим к инобытию, потому что сначала
перед нами была вполне определенная реальная вещь, а
потом мы оказались вне всякого определения вещи, т. е.
перешли в ее инобытие. В подобном случае, в определении
САМОЕ САМО
I 1
323
через признаки, инобытие отождествляется с бытием. В
другом — в определении вещи через нее саму, бытие
отождествляется с инобытием.
Однако именно так и должно быть во всяком
определении. Что значит определить? Определить значит положить
предел, границу. Положить предел чего-нибудь значит
предположить, что есть какое-то инобытие вне этого «чего-
нибудь», в которое это «что-нибудь» не переходит. Но это
значит полагать наше «что-нибудь» на некоем фоне, т. е.
частично это «что-нибудь» отождествлять с данным фоном,
а именно, отождествлять в тех пределах, в каких
простирается оно само. А это и значит отождествлять бытие с
инобытием или инобытие с бытием. Принявшись за
определение данной вещи, мы должны были поместить ее мысленно
на некоем мысленном же фоне, чтобы точно отграничить ее
ото всего прочего, провести около нее границу, предел, что
и есть определение. Но поместить нашу вещь на некоем
фоне — значит отождествить ее с этим фоном, т. е.
отождествить ее с тем, что не есть сама она, с ее инобытием. А это
значит утерять ее как предмет определения.
Итак, определить абсолютную индивидуальность
вещи — значит утерять ее как предмет определения. Найти
самое само вещи — значит не иметь возможности
высказать о ней ни одного предиката. Только такая, абсолютно
лишенная всяких признаков и предикатов, сущность вещи
и есть ее абсолютная индивидуальность, ее самое само.
2. а) Можно себе заранее представить, какое
возмущение и негодование вызовет такое рассуждение у всякого
позитивиста, привыкшего иметь дело с «фактами» и с их
«свидетельствами». Тут можно ожидать многочисленных
междометий и весьма внушительных квалификаций.
Однако вся эта суматоха бьет совершенно мимо цели. Разве я
в предыдущем где-нибудь утверждал, что факты не
существуют, что они не имеют признаков и что по этим
признакам нельзя узнавать фактов? Я об этом говорил, правда,
мало, но это — только потому, что эти пошлые аксиомы
меня совершенно не интересовали и разумелись сами
собой, и только потому, что это вовсе не было моей
темой.
Утверждал я совсем другое и настаивал на совсем
другом. Я говорил: вот передо мною реально существующая
вещь со всеми своими реальными признаками — как ее
определить? Говорилось не о существовании вещей и не об
π *
А Ф ЛОСЕВ
I \
324
их признаках, но об определении вещи, о том, что такое
вещь, что такое сама вещь по себе.
Ь) Однако сейчас мы можем уразуметь и еще один
момент, который будет связан именно с позитивным
существованием вещей и их признаков. А именно, сейчас мы
можем сказать, что наше беспредикатное самое само как раз
имеет своею целью спасти позитивную вещь со всеми ее
реальными признаками. В самом деле, ведь никакая одна
сторона треугольника не есть самый треугольник. Пусть
мы знаем только три отрезка прямой и больше ничего.
Поскольку ни один из них не есть самый треугольник и
поскольку сумма трех нулей есть нуль, а не единица и не
тройка, постольку никакими средствами невозможно из трех
отрезков получить реальный треугольник. Пусть мы
действительно не знаем ни из какого другого источника, что
такое треугольник. Мы окажемся в трагическом
положении. Мы так-таки и не выйдем из наших трех отрезков и
никакой фигуры не получим. Стало быть, ясно, что о
треугольнике мы должны знать из совершенно другого
источника, ни в каком случае не из прямых отрезков, по той
простой причине, что отрезок прямой есть отрезок прямой, а
не треугольник. Но что же это за другой источник? Ясно,
что этот источник и есть сам треугольник. Мы просто
определяем треугольник из него самого, так как он есть
определенная абсолютная индивидуальность и не определим ни
через что другое.
И вот, только тогда, когда мы знаем треугольник из
него самого, вне трех отрезков прямой, только тогда, когда
мы знаем треугольник как не сводимую ни на что и ни в чем
не выразимую абсолютную индивидуальность, только
тогда, когда треугольник ровно ни из чего не состоит, ни из
сторон и ни из углов, и вообще не содержит никаких
признаков, никаких предикатов, никаких свойств, никаких
отличий, только в этом случае ваши три отрезка прямых и
можно оценить как треугольник, только в этом случае три
отрезка и являются реальными составными частями
треугольника, только в этом случае и можно воспринимать
треугольник как таковой. Следовательно,
беспредикатное самое само треугольника является тем условием,
которое впервые делает возможным вступать в реальное
общение с треугольником. Беспредикатное неразличимое
самое само впервые делает возможным иметь стороны
треугольника именно как таковые, а не как просто три от-
САМОЕ САМО
I I
325
резка прямой, не имеющие никакого отношения ни к
какому треугольнику. Неопределимое является условием
определимости, абсолютно неразличимое является принципом
различимости, а абсолютно немыслимая индивидуальность
есть условие раздельно-мыслимой индивидуальности.
c) Один из необходимых признаков философской
мысли — это ее независимость и последовательность. Однако
в этом пункте труднее всего стать философом. И эта
простейшая истина самости вещи получает в несвободных
умах самое невероятное, хотя часто, впрочем, и самое
тонкое, самое неприметное искажение.
Так, например, могут согласиться с тем, что всякая
раздельность предполагает нераздельное, но тут же могут
сказать, что это так только для нашей мисли, что на самом
деле вовсе не существует никакой сверх-мыслимой
реальности. Это есть существенная ошибка в суждении о
сущности вещей. В самом деле, допустим всерьез, что
раздельные части вещи — реальны, а сама вещь — нереальна.
«Сама вещь» — это ведь есть то, на чем части вещи
держатся. Ксли «сама вещь» отсутствует в каждой части, не
будет ли каждая часть чем-то совершенно
самостоятельным, не имеющим никакого отношения ни к какой другой
части? Это ведь значит, что, когда мы воспринимаем одну
часть, мы совершенно ничего не знаем и не помним ни о
какой другой части, и, когда мы мыслим другую часть, мы
совершенно забываем о всякой другой части, и в том числе
о предыдущей, только что помысленной. Ясно, что в таком
случае утеривается вещь как целое, утеривается самое
само вещи. Таким образом, допуская 5* что принцип
неделимой самости есть только мысленный принцип, это значит
перестать иметь и самую вещь как таковую.
d) Часто бывал в истории философии еще и такой
соблазн. Говорили: вещь, конечно, не есть просто собрание
отдельных частей; она есть единство этих частей; но это
единство — не вне самой вещи, а в ней же самой, и потому
она вовсе не есть самостоятельная и притом немыслимая
субстанция. На этом пути сбился, как известно,
Аристотель. В чем тут дело?
Прежде всего, утверждение, что сущность вещи — вне
самой вещи, есть утверждение весьма банальное и ничего
философского в себе не содержит. Конечно, раз говорится
о сущности вещи, то она не может быть вне этой вещи.
Далее, что значит это «вне»? Если бы речь шла о физи-
Α. Φ ЛОСЕВ
1 I
326
ческих примерах, это было бы ясно. Но можно ли сказать,
что одна мысль находится налево от другой или что одна
сущность выше, ниже, сзади, спереди другой сущности или
вещи? Все эти вопросы бессмысленны. Утверждать с
пафосом, что сущность вещи — не вне самой вещи, это значит
говорить пустяки, никому и ни для чего не интересные.
С таким же правом можно сказать, что сущность вещи
находится и вне самой вещи; и это — уже по одному тому,
что целое не есть просто механическая сумма частей. Как
целое — и вне и не вне своих частей, так и сущность —
и вне и не вне той вещи, сущностью которой она является.
И долбить, что сущность вещи — не вне самой вещи, это
значит только бесплодно тратить время.
Однако самое главное в приведенном рассуждении —
это отрицание самостоятельности и вышемыслимости
единства вещи. Вне ли самой вещи или в ее собственных
пределах, но совершенно невозможно существенное единство
вещи сводить на единство ее множественных вещей. Надо
строжайше различать раздельное единство
множественных частей вещи и то существенное,
абсолютно-нераздельное (а потому вышемысленное) единство, о котором мы
говорим.
Допустим опять-таки, что существуют части вещи,
существует их раздельное единство, выше которого в вещи
нет ровно никакого другого единства. Если единство вещи
есть раздельное единство, то это значит, что, мысля
единство вещи, мы тем самым по необходимости мыслим и
все ее части. Отличается ли единство всех частей вещи от
самих частей? Если оно ничем не отличается, тогда наша
вещь есть только набор ряда отдельных вещей, никак
между собою не связанных; а, значит, сама вещь теряется.
Если же единство частей вещи отличается от самих частей,
то это значит, что оно не есть они, т. е. единство частей
не есть раздельное единство частей. Итак, или не
существует никаких вещей вообще, или в вещах есть такое
единство их частей, которое выше самих частей и даже совсем
не есть какая-нибудь множественность. Или единство есть
единство множественного, тогда нет никакого единства
вообще. Или единство в вещах есть, тогда оно опирается
на такое единство, которое не есть единство
множественного, а есть единство в себе абсолютно
неразличимое.
Таким образом, великий Аристотель говорил пустяки,
САМОЕ САМО
1 I
327
когда отрицал несводимую субстанциальность единого и
долбил, что сущность вещи — не вне самой вещи.
3. а) Очень важно уметь понимать еще и то
обстоятельство, что упомянутое вышемыслимое самое само
совершенно не связано ни с какими метафизическими, ми-
стическими или потусторонними предметами — по
крайней мере в том смысле, как обычно понимается
метафизическое, мистическое и потустороннее. Часто любят
освобождать себя от размышления путем квалификации
предметов мысли как именно таких предметов. Однако немы-
слимость самого самого, о которой мы говорим, как раз
требуется самой же мыслью. Можно быть не только
немистиком, но даже просто безбожником, и все же никакое
безбожество не может заставить молчать мысль в данном
случае. Требование вышемыслимости самого самого в
вещах носит исключительно логический, почти
математический характер. Когда мы утверждаем, что целого нет ни
в каждой части, ни, следовательно, во всех частях вместе,
то это есть требование даже не логики, а просто здравого
смысла. Когда мы говорим, что вещь неописуема через
свои признаки, то тут нами руководит только трезвая и
деловая мысль — сохранить вещь в ее самостоятельности
и подлинной индивидуальности. Тут, к сожалению, нет
совершенно никакой мистики и вовсе нет никакой
наукообразной метафизики. Это просто требование здравого
смысла, и больше ничего.
Ь) Мистическая предметность рождается совсем не из
этих невинных установок здравого смысла; и
метафизические предметы не имеют ничего общего с этими
наивными «самостями». Чтобы была метафизика, нужна прежде
всего теория, ибо метафизика во всяком случае есть вид
какой-то теории. Но в этой утвержденности самого самого
вещи нет даже и никакой теории. Тут — ровно столько
же теории, сколько и в простом, чисто чувственном
фиксировании вещи. Если я вижу, что это вот есть чернильница,
а не карандаш, то тут еще нет никакой теории. И если я
утверждаю, что это вот сама чернильница, а не просто
стекло и медь, то тут тоже нет никакой теории, ни
мистической, ни реалистической, ни метафизической, ни
материалистической.
Это я должен сказать обеим сторонам — и мистикам,
и позитивистам. Если вы, мистики, хотите говорить о своих
Α. Φ ЛОСЕВ
'
328
действительно мистических предметах, эти установки
здравого смысла о самости вещей ничем вам не помогут, и вы
должны искать для своих предметов другого обоснования.
И если вы, позитивисты, думаете, что этими
рассуждениями уже приуготовлено основание для мистических
предметов, то это просто ваше недомыслие и неосведомленность.
Будет ли предмет мистическим, метафизическим или
обыкновенным чувственно-материальным, везде и всюду будет
эта антитеза — самое само и его внешнее проявление.
Следовательно, различие мистицизма и позитивизма тут ни
при чем.
Разумеется, этим еще совсем не сказано, что можно
равнодушно отнестись к противоположности мистицизма и
позитивизма или идеализма и материализма и совсем
никак не заниматься ею. Заниматься ею не только можно
но и необходимо. К этому с полной неизбежностью
приводит все та же последовательность мысли и в конце концов
все тот же здравый смысл. Но на данной стадии нашего
философствования, на данной ступени учения о сущности,
когда фиксируется только вышемыслимость сущности ради
сохранения абсолютной индивидуальности вещей, здесь
разделение идеализма и материализма не играет ровно
никакой роли. В Боге ли, в мире ли, в душе ли, в
чувственной ли материи, и притом независимо от того, существуют
ли реально эти предметы и как существуют, и как между
собою связаны или не связаны, независимо ни от чего
этого — если какая бы то ни было вещь существует или хотя
бы только мыслится, воображается, чувствуется, реальная,
фиктивная, грубо фактическая или
небывало-фантастическая, везде и всюду, без всякого исключения и
ослабления, самое само вещей есть вышемысленный, абсолютно
неразличимый принцип их раздельного и осмысленного,
конкретно-индивидуального существования.
4. Если начать углубляться в теорию и систему, можно
тотчас же наделить самое само разнообразными
признаками, и — оно предстанет перед нами как строго
обоснованное философское понятие. Однако настоящее наше
рассуждение как раз совершенно нетеоретично, дотеоретично;
оно не наделяет рассматриваемый предмет ровно никакими
признаками, и потому оно вовсе не есть ни философское, ни
даже понятие вообще. Можно и, как показывает
ближайшее размышление, даже необходимо, например, мыслить
себе самое само как что-то вне-временное и вне-простран-
САМОЕ САМО
329
ственное, как что-то неподвижное и нетекучее, как нечто
идеальное и вечное. Однако ничего этого мы пока не
утверждаем. Утверждается только тот простейший факт
всякого здравого смысла, что данная вещь есть именно она
сама, и — больше ничего. Признайте этот простейший
факт, и — вся теория, вся система, вся философия того,
что мы называем самым самим, уже будет тут заключена
в зародыше, но — именно только в зародыше, не больше,
в непонятной и темной глубине сознания и бытия. Конечно
же вещь, раз она меняется, то все же она остается вещью,
и в каждый мельчайший момент своего существования
она есть именно она эюе, т. е. она тут не меняется, и, значит,
она есть нечто неподвижное, устойчивое, изъятое из потока
становления, нечто идеальное. Легчайше также показать,
что самое само вещи — вне-временно и
вне-пространственно. Однако мы пока не хотим делать ровно никакого усилия
теоретической и систематической мысли, оставаясь на
почве абсолютно непосредственного усмотрения, лишенного
всяких теорий и систем, всяких философских и вообще
логических подходов.
Можете не утверждать, что сущность вещи идеальна,
неподвижна и т. д. и т. д. Однако невозможно, не
расставаясь со здравым смыслом, не констатировать, что всякая
вещь есть она сама, что в вещи есть ее самость и что
самость не сводима ни на что другое, если она именно
самость. Пусть неизвестно, откуда эта самость, из
человеческого субъекта, из материи, от Бога или от сатаны. Но зато
всякому известно, что она есть, что она есть непреложный
факт, без которого невозможно ни мыслить, ни говорить,
ни жить.
5. а) Беспредикатное самое само есть великая
простота сознания и бытия. Ее начинает усматривать ум,
воздержавшийся от суеты и пестроты слепой чувственности. Но
как бы ни воздерживался человеческий ум, сама жизнь,
еще до всякого воздержания, возможна только благодаря
этой великой простоте.
Вот вы видели в первый раз человека. Вы еще не
знаете его жизни, его поступков, его воззрений и чувств. Вам
совершенно неизвестно, кто он и что он. Но вот вы его
увидели и несколько минут с ним побеседовали. И — уже вы
что-то знаете о нем. Мало того. Часто вы этим самым
знаете уже самое существенное о нем. Как это случилось? На
основании чего вы это знаете о нем?
Α. Φ. ЛОСЕВ
I —I
330
Тут люди хитрят очень много и непонятными
словечками хотят отвлечь внимание мыслителя от огромной и
самой главной проблемы философии. Говорят: «Я составил
о нем общее впечатление». Что значит это «общее
впечатление»? Это ровно ничего само по себе не говорящее
выражение таит, однако, под собою очень простую и насущно
необходимую, живую жизненную и житейскую вещь, это —
описанную нами выше самость. Когда о человеке
что-нибудь известно, и даже очень многое, но нет вот этого самого
«общего представления», которое можно получить, только
увидевши и услышавши человека, это значит, что о
человеке известно много отдельных частичных моментов, но нет
того единого, нераздельного, абсолютно-индивидуального
и нечастичного, что объединило бы все эти частичные
моменты и потопило бы в себе.
Есть еще одно словечко, при помощи которого люди
прикрывают себе философские глаза, чтобы не видеть
бездны возникающей здесь проблемы. Говорят: «Вот этот
человек — очень хороший человек. Но знаете ли? Дух не
тот... Не того духа человек». Или еще говорят: «Душок
этакий...», или «Наш душок...», или «С душком...» И тут же
прибавляется, с каким именно «душком» данный человек.
Спрашивается: что это такое? Что это за «дух», «душок»
и т. п.? Тут уже и все материалисты, отрицающие
существование каких бы то ни было духов, вероятно, со мной
согласятся, что если не «дух», то по крайней мере «душок»
есть самая настоящая, самая подлинная реальность в
человеке, именно его самое само.
Откуда вы знаете это «общее впечатление», этот «дух»
и этот «душок»? Естественнее всего предположить, что
узнается это по самому же человеку, т. е. по тому, что он
вне себя проявляет. Однако едва ли это так. Я могу знать
очень мало фактическую биографию Ивана и все же,
посмотревши на него и поговоривши с ним несколько минут,
не только получить «общее представление», но и знать весь
его «душок», самый для него интимный. Мало того. Я могу
очень хорошо знать биографию Ивана и быть прекрасно
знакомым с его жизнью и поведением в течение многих
лет. И все же я могу при этом говорить себе: «Душок не
тот-с... С виду все — благополучно и великолепно, а
душок — не тот-с...» Спрашивается: откуда я это знаю, если
вся внешность и вся фактическая жизнь Ивана строится
как раз так, чтобы «душок» был именно «тот», какой надо?
САМОЕ САМО
\шшшштш\
331
Ответ один: я это знаю только из самого самого Ивана.
Я это знаю не из его речей, не из его поступков, не из его
жизни. Я это знаю из того, что есть в нем самое само и что
лежит в основе и его речей, и его поступков, и его жизни,
но не есть ни то, ни другое, ни третье.
Ь) Было бы верхом всякого мыслительного уродства
думать, что мы знаем людей и знаем вещи (и вообще что
бы то ни было) из логических операций мысли. Если бы
судья рассуждал чисто логически, то не только присяжные
заседатели не могли бы иметь никакого мнения помимо
судьи и обвинителя, но и сам судья не смог бы произнести
ни одного суждения, так как все факты, которые он знает
о подсудимом, суть слепые обстоятельства, значимость
которых почерпается не из их внешнего, хотя бы и
фотографически точного, воспроизведения, но только из самого
самого всех этих обстоятельств. Кажется, факт суда в
человеческом обществе является самым бесспорным
свидетельством того, как люди общаются между собою только
через свое самое само. Однако и без всякого суда мы
ежедневно и ежеминутно говорим, мыслим и действуем в
общении с людьми — только при условии существования
самого самого у людей, его безраздельного приятия вещи
и его абсолютной ни на что несводимости. Иной раз
тончайшая и едва заметная улыбка, одна мельчайшая и почти
незримая складка на лбу, одна чуть-чуть промелькнувшая
по лицу легчайшая тень заставляет вас круто изменить
или свое отношение к данному человеку, по крайней мере
в данный момент, или свое поведение, или даже свою
жизнь. После этого не говорите, что тут действовал самый
этот изолированный факт изменения в лице у человека, с
которым вы имеете дело. Факт этот — пустяки, и, взятый
сам по себе, он ровно никакого значения ни для кого и ни
для чего не имеет. А важно то, что тут подействовало или
впервые проявилось самое само вашего человека с той или
другой, важной или неважной стороны.
6. ВСЯКАЯ ВЕЩЬ ЕСТЬ ПРЕДМЕТ БЕСЧИСЛЕННЫХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
1. Философия прошлого времени, часто страдавшая
внутренним недугом рационализма и схематизма, весьма
мало выдвигала это учение о самом самом, входя в
невероятное противоречие с устоями самой жизни и бытия.
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι— Ι
332
Когда мы в начале этого очерка говорили о том, что вещь
есть не только нечто чувственное или мыслимое, то это,
конечно, могло звучать очень отвлеченно для тех, кто
понимает философию рационалистически. Сейчас, подыскивая
более жизненные характеристики для выдвигаемого нами
учения, будем рассуждать еще и так.
Возьмем ли мы какую-нибудь большую и сложную вещь
или событие в человеческой или мировой истории
(Солнечная система, средневековье, Наполеон), или мы возьмем
самые обыкновенные и пошлые вещи и события
повседневной жизни (вот эту голландскую печь, эту кочергу, эти
стоптанные туфли), мы везде находим, что вещь сама
по себе гораздо больше, чем ее проявления. Возьмем вот
эту голландскую печь, которую у меня сегодня не топили,
так как дрова все вышли. Печь, вообще говоря, дает тепло.
Но вот сейчас, например, моя печь дает только холод.
Значит, сама печь — выше тепла или холода. Печь
сложена из кирпичей. Но почему же только из кирпичей?
Бывают и железные печи. Да, кроме того, почему
обязательно надо подходить к печи физически? Печь есть
явление и социального характера. Кто-то над этой печью
трудился, кто-то ее строил или платил за нее деньги. Далее,
кирпич, из которого она состоит, также в свою очередь
где-то, и как-то, и кем-то производился. Я спрошу: сколько
же возможно таких разных подходов к тому простому
факту, что у меня в комнате имеется голландская печь?
Можно подходить физически, химически, механически;
можно подходить к ней с точки зрения печника, делающего
эту печь; домашней работницы, которая эту печь топит;
врача, преследующего здесь гигиенические цели; жильца
комнаты, которого эта печь обогревает; художника,
украшающего ее кафельное зеркало; пожарного чиновника,
заботящегося об ее бытовой безопасности; хозяина
квартиры, берущего ту или иную плату с жильца в зависимости
от удобства и благоустройства сдаваемого внаем
помещения; поэта, услыхавшего вой ночного ветра и создавшего
образ, под которым «хаос шевелится»; мифологически
мыслящего субъекта, для которого через трубу вылетают
ведьмы или черти прячутся в дымоходе. Вот ребенок
стукнулся лбом о печку и получил себе синяк, вот несколько
друзей расположились у камина, чтобы провести вечер
в беседе, вот выпала горящая головешка и наполнила
комнату дымом. Все это есть разные подходы к одному и
САМОЕ САМО
1-^—I
333
тому же предмету, физико-химические, гигиенические,
индивидуальные, социальные, прозаические, поэтические,
мифологические и т. д. Я спрашиваю: сколько же возможно
таких разных подходов к одной и той же печи, сколькими
способами одна и та же печь может быть вообще дана?
Ведь надо иметь в виду, что в пределах каждого из
упомянутых подходов могут быть еще дальнейшие, более
частные подходы, исчислить и даже заранее представить
которые совершенно невозможно.
Едва ли мы ошибемся, если выставим такое положение*
одна и та же вещь допускает бесконечное количество
модусов своей собственной данности; одна и та же вещь
требует или предполагает бесконечное количество своих
разнообразных интерпретаций, причем никакой интерпре-
тативный подход не может исчерпать вещь целиком.
2. Интерпретация — вот то слово и понятие, которое,
к сожалению, до сих пор находило очень мало применения
в философии. Разработка этого понятия, безусловно, стоит
на очереди, и мы должны оказать ей посильную помощь.
Вещь и ее интерпретация, вернее же, самое само вещи и
его интерпретация — вот основная противоположность
мысли и бытия, без осознания которой невозможна ныне
никакая философия. Вещь всегда дана в какой-нибудь
интерпретации. В этом смысле всякая вещь, как бы пуста и
бессодержательна она ни была, есть, безусловно, символ,
и притом обязательно бесконечный символ, символ
бесконечности, допускающий по этому самому и бесконечное
количество разнообразных интерпретаций. Этот
бесконечный символ бесконечности есть первейшая и простейшая
необходимость для того, чтобы вещь была вещью; и это
бесконечно-символическое самое само вещи только и есть
ее подлинная и последняя реальность, так как все
остальное в ней если и реально, то во всяком случае не
необходимо.
3. Зафиксируем здесь эту стихию реальности живого
самого самого, хотя этому вопросу посвящается у нас
отдельное исследование. Легче всего передернуть
развиваемое здесь учение в том смысле, чтобы считать все интерпре-
тативные установки исключительно делом человеческого
субъекта. Тогда получается такое возражение: самое само
лишено всяких предикатов и есть непознаваемый нуль,
а производимая человеческим субъектом интерпретация
остается при нем самом и не имеет никакого отношения
Α. Φ. ЛОСЕВ
-JÏ555SÎT—
334
к самому самому. Такое возражение, конечно, является
результатом передержки. Когда у нас утверждалось самое
само, мы исходили из того очевиднейшего факта, что вещь
не есть ни одно из своих свойств, но нечто большее; и
когда мы говорили об интерпретации, мы тоже исходили
из очевиднейшего факта, что вещь всегда обращена к нам
той или другой своей стороной, сознаваемой и
понимаемой нами. Тут пока даже не поднимается никакого вопроса
о реализме, поскольку фиксируются пока только
непосредственные установки наивного опыта. Конечно, можно
ставить эту проблему и чисто философски: как непознаваемое
самое само совмещается со всеми своими
интерпретациями? Однако, как бы мы этот вопрос ни решали научно и
философски, уже самое обыкновенное человеческое
усмотрение гласит, что интерпретативные формы самого самого
и есть это самое само, что всякая наша интерпретация
есть именно интерпретация самого самого.
4. Могут возражать еще таким образом: да мало ли
чего захочет интерпретирующий субъект? Неужели всякая
интерпретация реальна? На это необходимо сказать, что
если самое само в результате известной интерпретации
наделяется фиктивными свойствами, то это происходит
отнюдь не потому, что тут действовала интерпретация.
Если, например, сказать, что ведьмы не могут вылетать
через трубу, то фиктивность подобного назначения печной
трубы вытекает вовсе не из того, что тут произошла
интерпретация, но из того, что произошла неправильная
интерпретация. Если быть убежденным, что никогда и нигде
никакая труба не служила для такого назначения, то это
убеждение есть тоже определенная интерпретация печи и
трубы, но только другая интерпретация. Самый метод
интерпретации нисколько не страдает от того, что
возможно истинное и ложное интерпретирование. Вопрос же
о том, что такое истина и что такое ложь, имеет к
интерпретации не больше отношения, чем ко всему другому, и нет
никаких оснований решать его именно здесь. Мы его здесь
и не решаем.
Я не знаю, какая еще может быть более реальная
реальность. Я бы сказал, это не просто реальность, но
самое само — это самая подлинная, самая непреодолимая,
самая жуткая и могущественная реальность, какая только
может существовать. Совершенно другой вопрос, как ее
обосновать и как ее объяснить. Тут перед нами с боем
САМОЕ САМО
І_^_ I
335
лезут одна на другую тысячи разных теорий и гипотез.
Но то, что я есмь я, а вы есте вы и что все, что принадлежит
мне и вам, т. е. тело, душа, дух и все, что угодно, не есть
ни самый я, ни самые вы,— это уже не теория и не
гипотеза. То, что дерево есть именно дерево, а не те признаки,
которые ему принадлежат, и что фиксируемые нами признаки
есть именно его, дерева, признаки,— это уже не
философия, не логика, не рассуждения. Тут спорить не о чем, и это
надо принять без всяких дискуссий. Этого не опровергнет,
как равно и не докажет, никакой материализм и идеализм,
никакой позитивизм и мистицизм.
7. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВСЕХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
САМОГО САМОГО
Итак, самое само дается бесчисленными способами
интерпретации. Если задаться вопросом о том, есть ли
какая-нибудь общая основа для этих интерпретаций, то,
пожалуй, ответом на такой вопрос должна служить
не меньше как целая наука логики со всем ее сложным
аппаратом дедукции основных категорий разума вообще.
Этим и должны заняться наши последующие рассуждения.
Сейчас же мы попробуем наметить только самые общие
черты этой основы.
1. Ясно, прежде всего, что всякая интерпретация есть
обязательно символ. Греческое слово «символ» значит
«совпадение», «объединение, сбрасывание в одно».
Можно ли что-нибудь сказать о самом самом, не прибегая
к символам? Не прибегая к символам, можно было бы
говорить только о предметах чистой мысли, потому что
даже обыкновенная чувственная вещь уже всегда есть тот
или иной символ. Ведь всякая вещь что-нибудь значит —
например, хотя бы то, что она есть то-то. Следовательно,
всякая вещь есть всегда обязательно символ. Однако даже
предметы чистой мысли только при очень поверхностной
точке зрения могут казаться лишенными символической
структуры. В последующих рассуждениях мы на каждом
шагу будем убеждаться, что малейшее движение мысли
возможно только благодаря символической природе
разума, заставляющей все «совпадать» в тех или иных
логических структурах. Однако не об этих символах сейчас
речь, не о чувственных и не о логических. Сейчас мы
постулируем самое общее утверждение, что самое само дано
Α. Φ. ЛОСЕВ
_J—^L-
336
только в символах (каковы бы ни были эти символы). И это
утверждение обладает абсолютной ясностью и
достоверностью, если иметь в виду все развитое выше учение о
самом самом.
Мы это должны признать как факт, как неизбежный и
абсолютно необходимый факт — на основании только
одного того, что самое само беспредикатно и в то же время
оно лежит в основе всего существующего. Что такое самое
само, мы не знаем. Как происходит то, что такое абсолют -
но-трансцедентное самое само лежит в основе вещей и
является их имманентной сущностью, этого мы тоже
не знаем. Но мы твердо знаем, что каждая вещь есть она
сама, что каждая вещь выше своих признаков, что каждая
вещь есть некая абсолютная самость и что, следовательно,
каждая вещь есть символ самого самого. Но вещей —
бесконечное количество. Бесчисленное количество и
символов абсолютной самости, не говоря уже о том, что и каждая
вещь есть предмет тоже бесчисленных интерпретаций, т. е.
тоже предмет несчетного числа символов.
2. Что дают нам символи самого самого? Дают ли они
возможность проникнуть в тайны самого самого если
не всех вещей, то хотя бы каких-нибудь отдельных вещей?
а) Разумеется, если бы эти символы не давали
вообще ничего, то не было бы смысла о них и говорить.
Однако их познавательное значение должно быть строго
согласовано с тем, что выше было нами добыто о природе
самого самого. А именно, если читатель этой книги будет
понимать дело так, что познаваемость или
непознаваемость самого самого (а следовательно, и его символов)
кем-нибудь (например, автором этой книги) точно
определена или хотя бы описана, тот, очевидно, ничего не понял
из всей предложенной выше аргументации. Не только
познаваемость (и непознаваемость) самого самого нельзя
точно определить или описать; но нельзя точно определить
или описать даже познаваемость «обыкновенной»
чувственной вещи, как и вообще никакую познаваемость нельзя
ни определить, ни описать. Все наши предыдущие
рассуждения имели единственную цель — указать на самое само,
показать его или намекнуть на него, заставить догадаться
о нем, разбудить его в себе, разыскать его в своем
жизненном и мыслительном опыте, но никакой другой задачи
мы не могли ставить даже принципиально, ввиду
изложенных выше особенностей самого самого.
САМОЕ САМО
\ I
337
b) Кант и агностики учили о непознаваемости вещей-
в-себе и о познаваемости «явлений». Вот пример одного
отношения к проблеме познания. Или познаются
чувственные вещи, или не познается ничего. Спрашивается: как
должно относиться к этому наше учение об интерпрета-
тивном символе?
Рассуждая формально и отвлеченно, самое само
непознаваемо и абсолютно трансцедентно; оно, можно сказать,
есть кантовская вещь-в-себе. Однако по существу между
тем и другим нет совершенно ничего общего. Эта разница
в основе своей неописуема. Ее можно только знать,
ощущать или не знать, не ощущать. Равным образом те
символы самого самого, о которых говорим мы, имеют очень
мало общего с кантовскими «явлениями», хотя, быть
может, фактически в наших «символах» и нет ровно ничего,
кроме «явлений». Эта неуловимая в абстрактных
рассуждениях интерпретация — может быть, даже какая-то
интонация — тем не менее отчетливо ощущается и мыслится
теми, у кого она есть. И смешно было бы требовать
доказательств или логических определений для этих
непосредственно данных фактов человеческого опыта. Иначе мы
потребуем доказательства существования и логических
определений сладкого вкуса, синего цвета, шума морских
волн и проч.
c) Самое само есть тайна. Но кантовская вещь-в-себе
не есть тайна. Вещь-в-себе, как ее понимает Кант, просто
не существует в сознании человека, тайна же —
существует. О вещи-в-себе ничего вообще сказать нельзя; о
тайне же найдется что говорить и целую вечность. Тайна
не есть просто отсутствие, небытие. Она также не есть и то,
что может быть раскрыто или разрешено. Тайна, которая
может быть раскрыта, вовсе не тайна, а только наше
временное недомыслие, более или менее случайная загадка
и незнание ввиду тех или иных обстоятельств. Тайна есть
то, что по самому существу своему никогда не может быть
раскрыто. Но она может являться. Явление тайны не есть
уничтожение и разрешение тайны, но есть только такое ее
состояние, когда она ясно ощутима, представима, мыслима
и сообщима — притом сообщима именно как тайна же.
Символы самого самого суть именно такие явления тайны,
очень понятные и ясные, вполне представимые и мыслимые
явления тайны как тайны. Следовательно, если вещи-в-
себе у Канта суть отрицательные фикции, о которых
Α. Φ· ЛОСЕВ
Г 1
338
совершенно нечего сказать, то символы самого самого,
будучи тайной, суть положительные реальности,
оплодотворяющие собою бесконечное о них размышление и
заставляющие подолгу — и часто мучительно и
напряженно — в них всматриваться. Для формального
рассмотрения эта символическая познаваемость оказывается чем-то
средним между абсолютным незнанием и абсолютным
знанием, а диалектически можно даже в таком виде и
зафиксировать выдвигаемую здесь природу символа: символ есть
синтез и тождество знания и незнания. Однако это
определение ничего не даст тем, кто не имеет в своем
непосредственном опыте самого специфического бытия символа, как
именно бытия.
3. Отсюда должно стать ясным, что все наши
рассуждения о самом самом — пусть то даже чисто логические
или диалектические — всегда в основе суть чисто
символические. Поскольку в буквальном смысле о самом самом
нельзя сказать даже того, что оно есть именно самое само,
и даже того, что оно просто есть, существует, постольку
необходимо согласиться, что решительно все, без
малейшего исключения, мысли о самом самом суть только его
символы. Ведь если ему нельзя приписать в буквальном
смысле даже предикат бытия, а «бытие» есть самая
начальная, самая основная категория всякой логической
мысли, то ясно, что и вся логика становится
исключительно символической дисциплинойу основанной на
символических методах и движимой символическими силами.
Правда, это нисколько не мешает категории бытия
диалектически эволюционировать вполне на свету нашего
человеческого сознания. Но мы теперь знаем подлинное значение
всякой логики. За этой логикой всегда кроется просто
некоторое фактическое и вполне эмпирическое указание
предмета, просто предложение и попытка непосредственно
взглянуть предмету в глаза; и мы хорошо знаем, как
никакая логика и диалектика сами по себе не могут принудить
смотреть тех, у кого нет зрения, на данные предметы.
И в этом всегда неразличимо-иррациональная сторона
всякой диалектики. При видимой логической связности и
убедительности своих аргументов она была призвана
к жизни отнюдь не логическими потребностями и
конкретно живет она отнюдь не просто системой своих
доказательств.
Это мы будем встречать на каждом шагу» когда станем
САМОЕ САМО
пользоваться диалектическим методом. Но, может быть,
стоит сейчас, в заключение предварительных мыслей о
самом самом, наметить — тоже пока в предварительной
форме — учение о символе не просто как о формальном
совпадении понятного и непонятного. Символическое
тождество понятного и непонятного, сопровождающее и
философа, и человека в каждом моменте его исканий и
достижений, мы можем понять и более содержательно, если примем
во внимание все вышеразвитое учение о самом самом.
Намеченное во всех наших предыдущих рассуждениях
самое само, не будучи ни понятием, ни категорией,
ни идеей, лежит в основе и всякого понятия, и всякой
категории, и всякой идеи. Этот абсолютный первопринцип
всего сущего и не-сущего, и в том числе и себя самого,
должен быть продуман до конца с точки зрения интерпре-
тативной символики, и это предполагает уже и некоторую
систему идей, и определенную философскую идею. Не
занимаясь ничем из этого в настоящем очерке специально,
мы, однако, должны наметить переход от самого самого
к его осуществлениям и воплощениям, к тому именно, что
представляется на путях интерпретации, чтобы тем самым
вывести самое само из самозамкнутых глубин и сделать
готовым для положительного и реального — хотя и в то же
время чисто символического — функционирования в
реальных вещах. Для этого зададим себе ряд новых
вопросов и попробуем на них ответить.
4. а) Все — абсолютно индивидуально. Почему?
Самое само предполагает в вещи абсолютную
индивидуальность. Почему же так непреложно все является
абсолютной, т. е. ни на что другое не сводимой,
индивидуальностью?
Если все действительно индивидуально, то и каждый
мельчайший момент, как его ни понимать, в статическом
разрезе или в протекании, тоже абсолютно индивидуален.
Нужно даже сказать, что все абсолютно и индивидуально
именно потому, что каждый мельчайший момент всего,
как бы он мал ни был, тоже индивидуален. Все
индивидуально потому, что все в каждый момент и в каждой
своей части абсолютно ново, абсолютно небывало. Но что
же может значить иное, как не то, что все в каждый новый
момент и в каждой своей части абсолютно заново
возникает} Индивидуальность есть всегда новость, небывалое,
а новость — это всегда есть возникновение. И даже боль-
Α. Φ. ЛОСЕВ
1—^1
340
ше того. Если такое возникновение в чем-нибудь зависит
от предыдущего и в каком-нибудь, хотя бы в мельчайшем
своем, моменте определено этим предыдущим, то оно уже
не будет абсолютной новостью и та индивидуальность,
которая тут возникла, уже не будет индивидуальностью
абсолютной. Значит, возникновение нового, потребное для
индивидуальности, есть возникновение, не зависящее
ровно ни от чего, но зависящее только от себя самого,
только от собственного самоутверждения и от собственной
свободы. Другими словами, абсолютная индивидуальность
предполагает самопроизвольное возникновение, или
самоутверждающееся самое само.
Следовательно, только потому, что самое само есть
возникновение, и притом самопроизвольное
возникновение, и можно говорить об этом самом самом. Но мы
сейчас не замечаем, что нужно говорить не только о
возникновении, но тут необходим и гораздо более общий
термин. Таким термином является «становление». То, что
язык зафиксировал в термине «возникновение», относится
только к первому, начальному моментѵ становления.
Становление есть развитие того, что возникло. Поэтому
становление, кажется, вмещает в себя возникновение, ибо
оно есть и возникновение просто, и все дальнейшее и
дальнейшее возникновение того, что уже однажды
возникло. Итак, самое само есть самопроизвольное,
самопорождающееся становление. И только потому, что оно
есть самовозникающая в каждый мельчайший момент
новость, только поэтому оно и есть оно само, т. е.
абсолютная индивидуальность.
Тут мы опять сталкиваемся с удивительным
диалектическим обстоянием бытия и сознания. В самом деле, мы
искали, что такое абсолютная индивидуальность и почему
все существующее обязательно есть абсолютная
индивидуальность. И что же мы нашли? Абсолютная
индивидуальность есть абсолютная различность во всем, отлич-
ность и отличенность ото всего. Как возможна эта
всеобщая отличность всего ото всего? Как происходит то, что
все и каждое решительно в отношении всего и каждого
является новостью, небывалым, абсолютной
индивидуальностью? Ответ гласит так: это происходит потому, что
новость возникает в каждый мельчайший момент, что
новость везде и всегда, как бы мал ни был промежуток
времени, пространства, числа, смысла, идеи и τ д. и т. д.,
САМОЕ САМО
I I
341
отделяющий одно от другого. Но ведь это значит, что
абсолютная новость, или различенность каждого момента,
предполагает абсолютную сплошность и неотделимость его
ни от какого другого момента. Если бы самое само не было
этим сплошным становлением, то ни оно само не возникало
бы самопроизвольно, ни всякий частичный момент его
не возникал бы самопроизвольно; но это значило бы, что
ни самое само, ни каждый отдельный момент его не был бы
абсолютной новостью,— т. е. не был бы абсолютной
индивидуальностью, т. е. все перестало бы быть тем, что мы
называем «самое само», т. е. перестало бы быть самим
собой. Только потому, что абсолютная различенность и
несравнимость самого самого ни с чем другим есть в то же
время сплошное и ни от чего другого не отличимое
становление, только по этому самому оно и хранит себя как
абсолютную новость как в самом себе, так и во всех своих
моментах.
Допустим, что абсолютная индивидуальность, т. е.
абсолютная отличенность вещи ото всего прочего, в какой-
нибудь момент своего существования перестала быть
самой собой, т. е. <не> отличается от всего иного. Это
равносильно смерти абсолютной индивидуальности, и
только такой ценой достигается уничтожение в ней стихии
сплошного становления. Она всегда и везде отлична
от всего прочего, но эта отличность пребывает в ней сплош-
но и непрерывно, т. е. без 'отличия в ней одного момента
от другого. Абсолютная индивидуальность, или самое само
вещи, есть сплошь неразличимо станооящееся различие и
различно, раздельно пребывающее сплошно-безразличное
становление. Малейший ущерб различенности и неразли-
ченности ведет самое само к гибели, к смерти. Ущерб в
сфере различенности спутывает индивидуальность с тем, что
не есть она сама, т. е. делает ее уже не индивидуальностью.
Ущерб в сфере неразличенности лишает индивидуальность
способности самопроизвольного, самовозникающего
становления во всех его моментах, т. е. делает для нее
невозможным быть новостью и небывалым, т. е. делает ее уже
не индивидуальностью.
Ь) Все это рассуждение можно дать несколько иначе
и притом просто короче. Каждый момент, поскольку он есть
тоже некое самое само, не отличим ни от какого другого
момента. Следовательно, и все моменты всего неотделимы
друг от друга, и это все есть некая абсолютно неразлини-
Α. Φ. ЛОСЕВ
342
мая сплошность. Все есть и абсолютная
индивидуальность, абсолютная определенность, и в то же время
(и именно по этому самому) и абсолютная неотличен-
ность, неразличимость и сплошность. С этим аргументом
мы в дальнейшем встретимся еще не раз.
с) Но теперь мы и спросим себя: как же совмещает
самое само эту противоположность различия и
безразличия? В основной части нашего рассуждения мы все время
указываем на момент отличенности, неповторимости, небы-
валости, обещая в дальнейшем не забыть и момента
сходства 6* повторимости, схематизма (с которыми рождается
и знание взамен констатированной раньше
непознаваемости). Теперь мы на пороге учения о различенном, т. е.
о познании, о раздельно-познаваемом самом самом. И что
же мы видим? Мы видим, что в сущности нет никакой
возможности мыслить обе эти сферы различными в
применении к самому самому (а значит, и ко всему). На вопрос,
как объединяется непознаваемое и познаваемое в самом
самом, надо ответить только так: нет тут вовсе никакого
вопроса\ Точно так, как раньше не было никакого вопроса
о существовании самого самого и не было никакой теории
о том, что самое само существует и ни на что не сводимо,
т. е. непознаваемо, точно так и сейчас не возникает
никакого вопроса о различимости и, следовательно, о
познаваемости самого самого. Теперь уже я скажу так, как в
предыдущем говорили мне предполагаемые возражатели: да
кто ж не знает того, что вещь познается, что она
различима, что она имеет название, что она вовсе не та
непознаваемая бездна, в которой ничто ни от чего не отличимо?!
Да, ответ на вопрос, как совместить непознаваемость
самого самого с его познаваемостью, разрешается не
философией и не теорией и даже не какой-нибудь логической
категорией. И разрешается просто при помощи
указательного пальца: вот, смотрите как! И больше ничего.
5. Однако это только одна сторона вопроса. То, что
в каждой вещи ее непознаваемость и познаваемость сов*
падают, и то, что самое само, общее для всех вещей, тоже
в смысле непознаваемости и познаваемости есть нечто
единое, как раз это самое и говорит за то, что такое
простейшее и общепринятое отношение к вещам только и может
быть символическим. И теперь мы можем говорить о
символе уже более конкретно.
а) Самость каждой вещи, поскольку данная вещь есть
САМОЕ САМО
I I
343
именно данная вещь, и больше ничто иное, оказывается
лишенной всяких различий. Но, вступая в сферу
различений и становления, она не может не оставаться самой
собой, ибо иначе к чему же и будут относиться все
различения и само становление? Но тогда абсолютная
-неразличимость вещи сопутствует этой вещи 7* решительно в
каждом моменте ее существования. А из этого следует, что или
мы должны рационально показать, как из неразличимости
вытекает различимость, или необходимо признать, что
всякая различимость имеет только символическое
значение.
b) Можно ли признать, что различимость вытекает
из неразличимости рациональным путем?
Абсолютная самость охватывает все и есть это все.
Можно ли задавать вопрос о происхождении всего? Самый
этот вопрос уже предполагает, что есть что-то еще кроме
всего, откуда это все происходит. Но это бессмысленно,
потому что если все действительно есть все, то оно
охватывает в себе и источник своего происхождения. А если оно
этого не охватывает, то, значит, оно не есть все. Если же
оно охватывает и источник своего происхождения, то
бессмысленно спрашивать, откуда произошло все.
c) На первый взгляд кажется правильным, если мы
скажем, что все происходит из самого себя. Однако,
в сущности говоря, нельзя сказать и этого. Если мы
скажем, что А есть Л, то это значит, что, по-нашему,
неопределенное А есть определенное А. Другими словами, А
получило свою определенность от самого себя, т. е. А
ограничено самим собою. Однако, поскольку А есть
абсолютная неразличимость и безграничность, даже оно само
ни в каком случае не может ограничить себя самого и
не может ограничить даже хотя бы самим собою.
Существом и природой самого самого является то, что оно
свободно, даже от самого себя, что оно равно ни от чего
не получает ограничения, различности и определенности,
даже и от самого себя. Таким образом, нельзя сказать
даже и того, что самое само происходит из себя самого.
Оно вообще ниоткуда не происходит, ибо само
«происхождение» есть какая-то категория, а самое само — надкате-
гориально.
d) По тем же самым причинам нельзя также задавать и
вопроса о том, что такое самое само. Вопрос «что такое?»
предполагает, что предмет, о котором этот вопрос задается,
Α. Φ ЛОСЕВ
I I
344
может быть и одним, и другим. Самое же само не может
быть ни одним, ни другим, ни вообще чем-нибудь.
e) Таким образом, рационально, т. е. путем логических
определений и выводов, совершенно невозможно понять,
как из неразличимости возникает различимость, из
неопределенности — определенность, из безграничности —
граница.
И тем не менее, как было установлено и как это
прекрасно понимает даже всякий обыватель, вещь А все же
есть именно Л, именно она сама, как бы она ни менялась
во всех моментах своего реального становления. Правда,
чувственная вещь А может оказаться разрушенной. Но мы
говорим не об этом. Мы говорим о том, что, пока вещь
существует, она обязательно остается сама собой,
несмотря на все перемены. А оставаться самим собою —
значит быть самостью, самим самим, быть лишенным
всяких различий. Следовательно, с одной стороны,
устанавливается, что различенность вещи не может быть
порождением самой вещи и не может быть порождением
чего-нибудь другого, и, с другой, различенность и неразли-
ченность вещи спаяны между собою настолько глубоко,
внутренне и крепко, что у обывателя не появляется даже
вопроса об их несоединимости; и если тело в точке А
своего пути то же самое тело, что и в точке В, то о причине
этого невинного тождества ни у кого не поднимается
ни сомнений, ни даже разговоров.
f) Остается, следовательно, одно: признать как факт
совпадение различимости и неразличимости в одном еди-
ном и неделимом обстоянии. Рационально объяснить
этого единства невозможно. Но тем не менее оно —
несомненный факт, и, главное, факт понятный. Вот эту-то
понятность, основанную не на рациональном выводе и не
на слепом эмпирическом обобщении, мы и называем
символической. Символ — там, где, с одной стороны, налицо
два пласта бытия, не имеющие между собою совершенно
ничего общего и сопоставляемые чисто внешне,
механически, без малейшего внутреннего взаимоответствия (как,
например, различимость и неразличимость), а с другой,
оказывается, что эти два пласта бытия есть один и тот же
пласт, что между ними — полное тождество, и
субстанциональное, и смысловое (как, например, тождество
различимости и неразличимости во всяком живом
становлении).
САМОЕ САМО
345
g) Понятность этого символического «совпадения»
вполне специфична. Это не есть понятность логического
вывода, потому что, повторяем, никакими логическими
средствами нельзя вывести различимость из
неразличимости. В этом смысле всякий символ есть абсолютная
иррациональность, абсолютная произвольность
сопоставлений, полная необоснованность и анархия в выборе
отождествляемых моментов. Но это не есть и понятность
чувственного восприятия. Последнее имеет нечто общее
с символом в том отношении, что оно тоже базируется
на вне-логических сопоставлениях. Фактическое
сопоставление тем и отличается от логического, что последнее
основано на смысловых соотношениях, а первое — на
более или менее случайных (и в этом смысле
внешне-механических) сопоставлениях. Так, фактически вполне
случайно пушкинское сопоставление самой обыкновенной
метели и образа беса, потому что бес, как мы его знаем
из народной мифологии, и метель, как мы ее знаем
метеорологически и житейски, не имеют между собою ничего
общего. Логически это — вполне вне-логическое,
иррациональное сопоставление, а чувственно оно может быть так
же обосновано, как и фактическое существование в моей
комнате двух вещей, не имеющих ничего общего между
собою (например, самовара и греческого словаря). Но
символ не есть ни логическое и ни чувственное бытие.
Из чувственности он берет случайно-внешнюю сопостав-
ленность, но без ее произвола неосмысленности; а из
логического он берет обоснованность и осмысленность, но без
рационального аппарата определений и выводов.
Символ есть бытие sui generis 8*. И самое само может
быть дано только символически (хотя само по себе оно
и не символ, ибо оно вообще не есть что-нибудь).
6. Из этого следуют и другие очень важные выводы,
которые могут быть усвоены только в процессе всех
дальнейших рассуждений. Мы отметим пока только один вывод,
без которого не будут понятны и дальнейшие рассуждения.
а) Уже читатель догадался, что в сопоставлении
различимости и неразличимости и в их отождествлении,
которое (пока условно-обобщенно) мы назвали становлением,
действует метод, обычно называемый диалектическим,
В дальнейшем мы на каждом шагу будем убеждаться
в плодотворности, а очень часто и в безусловной
единственности этого метода для философии вообще. Основан
А. Ф.ЛОСЕВ
'
346
он на простом факте: всякая вещь, чтобы быть, должна
отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она тем
самым при их помощи получает для себя определение,
как бы возвращается к себе; а это из неопределенной
делает ее определенной. Этот простой факт, однако,
требует к себе очень внимательного и сознательного подхода.
Ь) А именно, то, что вещь из неопределенной стала
определенной, требует, согласно диалектическому синтезу,
не отмены неопределенности, но сохранения этой
неопределенности (ибо данная вещь и после получения
определений остается самой собой). Но если это так, то
неопределенность и определенность вещи, будучи совершенно
несоизмеримыми, оказываются здесь понятно9*
совмещенными в одной и той же вещи. Можно ли это понять только
логически или только чувственно? Из следующего
вытекает, что это нельзя понять ни логически, ни чувственно,
но только символически.
Далее, уже и первое полагание вещи, еще до всякого
сопоставления с другими вещами, есть ли оно само
полагание, или оно есть нечто иное? Вопрос бессмысленен, так
как всякому ясно, что на него может быть только
положительный ответ. Но тогда самый акт полагания вещи тоже
есть некое самое само, т. е. лишен различий, т. е. познается
только в символе.· Очевидно, то же самое надо сказать
и о том инобытии, которое своим окружением вещи создает
ее понятную определенность и ограниченность, ибо оно —
тоже есть некое оно и больше ничего.
Следовательно, и в своем тезисе, и в антитезисе, и
в синтезе диалектика определенно пользуется методом
символизма; и вообще диалектический вывод бытия только
тем и отличается от его символической данности, что в нем
осознаны и по порядку перечислены все те моменты, из
которых состоит непосредственная символическая данность.
Если мы хотим брать диалектическую категорию как
таковую, вполне непосредственно, она может быть понятной
только в качестве символа (и притом бесконечного, как мы
убедимся в гл. II). Если же мы захотим посмотреть,
из каких моментов она сложена, мы будем рассуждать
диалектически.
Таким образом, диалектика есть не что иное, как логика
символа, символическая логика. Вот почему еще Платон
назвал диалектика «синоптиком», т. е. человеком,
имеющим синтетическое зрение.
САМОЕ САМО
I I
347
Вот какое содержание можно было бы вложить в то
формальное требование о совмещении понятности и
непонятности, к которому приходит развитое учение об
интерпретации. Нечего и говорить о том, что все эти заключения
имеют только предварительное значение. И все эти
категории различия, тождества, становления вещи и т. д., взятые
здесь в некритическом и слишком общем, слишком
описательном виде — только для указания на самый факт
самого самого и его интерпретативной символики,— все эти
категории получат свою подробную разработку и
мотивировку только в результате всего нашего последующего
построения.
7. Теперь остается только зафиксировать
предложенное предварительное учение в максимально кратких
тезисах, которые были бы удобны для обозрения, критики и
запоминания.
I. Самое само, как абсолютная индивидуальность и
определенность бытия, или вещи, может быть только при
том условии, что оно есть еще и сплошно-слитная
неразличимость и неопределенность становления.
Мы доказали, что абсолютная различимость возможна
только как абсолютная неразличимость. Абсолютная
различимость вещи есть различимость в каждом мельчайшем
ее моменте (иначе она не есть абсолютная различимость),
а поскольку этот мельчайший момент нигде не
зафиксирован в качестве наименьшего и неделимого (потому что
иначе для абсолютной индивидуальности образовалась бы
прерывность, и она перестала бы быть повсеместной, т. е.
абсолютной), то получается, что абсолютная
индивидуальность есть неразличимая сплошность как внутри себя, так
и в соотношении с прочими индивидуальностями.
II. Самое само, не будучи символом, может быть дано
только в интерпретативном символе.
Этот тезис непосредственно вытекает из предыдущего,
потому что неразличенность, сплошность самого самого и
его различенность, ясно очерченная индивидуальность
суть моменты, отрицающие друг друга, несоизмеримые
друг с другом и сопоставленные во всей своей взаимной
непроницаемости и случайности, а, с другой стороны, их
взаимное положение, проникновение и даже тождество —
вполне понятно и осмысленно. Такое отождествление
различий, или совпадение противоположностей, есть символ.
С другой стороны, самое само дается в символе интер-
Α. Φ. ЛОСЕВ
348
претатиѳном, поскольку всякий символ мыслится здесь
не просто в своем изолированном и непосредственно-
объективном бытии, но и в своем неизбывном тяготении
выразить самое само. Впрочем, подчеркивание интерпре-
тативности имеет скорее педагогическое значение, так как
в той системе мыслей, которая проводится в настоящих
наших исследованиях, неинтерпретативных символов
вообще не существует.
III. Самое само предполагает бесконечное количество
способов своей данности в инобытии, бесконечное
количество способов интерпретации.
Здесь необходимо только отметить, что это бесконечное
количество способов данности не просто только еще
возможно, но оно необходимо требуется по самому смыслу
этого самого самого. Ведь, с одной стороны, мы уже
признали, что самое само есть становление внутри себя самого
и не может не быть им. Но это как раз и значит, что внутри
себя самого оно должно быть дано бесконечным
количеством способов, поскольку становление есть бесконечно
возрастающая (или, что то же, бесконечно убывающая)
неисчислимая и потому неисчерпаемая сплошность бытия.
С другой стороны, всякому самому самому противостоит
внешнее становление, в которое оно не может не
погружаться. И если ему необязательно размываться и
рассыпаться в этом внешнем становлении, то ему, во всяком
случае, уже необходимо быть положенным, чтобы не быть
чисто теоретическим образом мысли, а это полагание уже
предполагает внешнее инобытие и, стало быть, хотя бы
одну первую точку становления.
Таким образом, хотя самое само и может быть дано
бесконечными способами, т. е. хотя утверждается
относительно него только возможность бесконечных
интерпретаций, но самая эта возможность вполне для него
необходима; она есть и его необходимость. Отсюда вытекает и
четвертое положение, тоже зафиксированное нами выше и
получающее теперь для себя выгодное освещение.
IV. Всякий символ самого самого есть бесконечно
мощный символ, или символ, данный как актуальная
бесконечность, или символ, данный как предел соответствующего
бесконечного ряда интерпретаций.
Что самое само в вещах есть некий смысл, некое
«нечто», не сводимое ни на что другое (ибо иначе оно свелось
бы на другое, т. е. перестало быть самостью), это мы
САМОЕ САМО
349
знаем. Что эта самость вещи всегда так или иначе
проявляется, это знает всякое наивное человеческое сознание.
Что этих проявлений может быть сколько угодно, ясно без
доказательств. Следовательно, бесконечность смысловых
проявлений вещи, бесконечность интерпретативных
подходов к ней, бесконечное количество форм проявления вещи
устанавливаются ясно и просто, без всяких длинных
доказательств. Но ведь если невозможно все эти
интерпретации ограничить пределами только человеческого
субъекта и считать их чисто субъективными, то
единственно, что тут остается, это признать, что все эти бесконечные
формы проявления вещи зафиксированы в самой вещи,
по крайней мере как возможность. И это не просто
фиктивная возможность, которая равна абсолютному отсутствию
(потому что тогда опять придется искать обоснования
всякой формы в субъекте и все снова разрешится в
беспросветный солипсизм), но это есть именно возможность,
т. е. реальная мощь, такая реальная способность вещи,
которая в любой момент действительно может стать
реальностью, хотя и не становится. Таким образом, элементарно
ясно, что самость вещи есть мощь, смысловая мощь,
и притом бесконечная смысловая мощь.
Есть еще одно понятие, которое обязательно должно
фигурировать в специальном анализе бесконечной
смысловой мощи, это — понятие предела. На него мы тоже бросим
здесь некоторый взгляд, так как оно тоже содержится
имманентно в предыдущих рассуждениях. Дело в том, что
бесконечность можно мыслить только при наличии этого
момента предела. Но мы тут не будем вскрывать этого
понятия логически полно, а только сделаем общее
указание. Мы понимаем вещь так или иначе, более или менее
близко к ней самой. Невольно напрашивается мысль,
что возможно ведь и полное ее понимание. Оно
невозможно мне или вам, но ведь это неважно. Речь идет
не о практически-жизненных возможностях, но о
возможности чисто теоретической. Вот вся та бесконечная бездна
пониманий, которую, вообще говоря, допускает данная
вещь,— мыслится ли она как нечто завершенное, целое,
самособранное? Конечно! Вполне ясно мыслятся такие
понятия, как «все», «целое», «вместе» и т. д. Так вот, если
брать все возможные понимания этой вещи как все, как
целое — можно ли сохранить ясность мысли при
мышлении такой возможной целокупности? Вполне! Но это
Α. Φ» ЛОСЕВ
Іам^І
350
значит, что все эти понимания мы берем в пределе.
Бесконечная мощь есть предельное понятие, мыслимое
с полной ясностью и четкостью, на какую только
способна мысль.
Разумеется, найдутся возражатели и здесь. Опять
скажут, что это нереально, что пусть этого требует мысль,
но что этого на деле совершенно нет. Такое возражение
тождественно с тем, как если бы в физике или медицине
говорили о движении тела, но совершенно запрещали бы
говорить о направлении движения. Конечно, иной раз
имеет смысл отвлечься от направления движения и
говорить только о самом движении (например, обсуждая
его скорость). Однако никто не имеет права в механике
запрещать говорить о направлении движения, если о нем
возникла речь, так как всякое движение всегда имеет то
или иное направление, и мы отвлекаемся от него только
в порядке намеренной абстракции. Зачем же
абсолютизировать одну из возможных абстракций вопреки другим
абстракциям и вопреки самому цельному факту движения?
Так и в нашем случае. То или иное количество пониманий
вещи и то или иное приближение к адекватному пониманию
вещи предполагает, что есть абсолютно адекватное
понимание вещи, предельно совершенное ее понимание. Уже
по одному тому, что вещь есть, что вещь есть она сама,
уже по этому одному существует предельное ее понимание,
предел всех возможных интерпретативных к ней
приближений. Если есть кое-что из чего-нибудь, значит, может
быть и все. А то, что это кому-то или когда-то недоступно,
это есть во всяком случае вопрос факта, и решение этого
вопроса в данном случае просто неинтересно. Геометрия
дает теорию своих неевклидовых пространств, совершенно
не считаясь с тем, существуют ли они где-нибудь и как-
нибудь реально или нет. Но тут мы снова сталкиваемся
с термином, к которому мы пришли в результате своих
интерпретативных рассуждений, а именно с «символом».
V. Все существующее (логика с ее категориями,
природа с ее вещами и организмами, история с ее людьми и
их жизнью, космос со всей его судьбой) есть только
символы самого самого, или абсолютной самости, т. е.
только одни символы абсолютной самости и существуют.
Отвергать самость значит отвергать вещи как вещи,
т. е. не понимать вещи как вещи, т. е. понимать вещи не как
вещи, т. е. не понимать вещей, т. е. не принимать их
САМОЕ САМО
Ι—ι—I
351
вообще. Не быть символистом — это значит быть или
только рационалистом, или только эмпириком. Но разум
со всей его логикой и наукой есть только абстракция
живого бытия, и чувственный опыт с его наглядностью и
непосредственной реальностью есть только абстракция
живого бытия.
Каждая вещь есть именно она, а не что-нибудь
другое — значит, существует самость вещи. Но все вещи,
взятые вместе, образуют собою тоже нечто такое, что есть оно
само, т. е. самое само. Отдельные самости тем самым как-
то входят в эту абсолютную самость. Но и в каждой вещи
самость дана символически в виде самой вещи; в ней сама
вещь есть символ ее самого самого. Но самое само
одинаково содержится во всех вещах, являясь поэтому именно
абсолютной самостью. Следовательно, каждая
существующая вещь есть символ абсолютной самости.
Логика с ее категориями не составляет здесь никакого
исключения. Уже мы видели, что настоящая, т. е. цельная и
полная, логика — а это есть диалектика — является не чем
иным, как только развернутой символикой. Тем более
несамостоятельна та частичная и условно-абстрактная
логика, которая именуется «формальной». В силлогизме
тоже нет ничего общего между понятием «человек» и
понятием «смерть», потому что человек сам по себе сколько
угодно мыслим вне времени, так же, как, например, точка,
прямая и проч. геометрические образы; и если из
смертности всех людей выводится смертность Сократа, то это
только потому, что смертность людей установлена отнюдь
не в силу логических доводов, да и существование
среди людей Сократа тоже принимается не в силу
логических доводов; вывод же одного вне-логического
суждения из другого вне-логического суждения сам уже едва ли
может считаться только логическим. Однако эти вопросы
должны быть рассмотрены в своем месте; и единственное,
что мы здесь утверждаем, сводится к общему трактованию
всякого цельного познавательного акта как
символического. Логика, природа, история и космос входят сюда
только по одному этому.
Нечего и говорить о том, что этот символ, или, вернее,
вещь как символ, не понимается нами как аллегория, или
иносказание, когда говорится одно, а имеется в виду
другое. Проводимое здесь понимание символа возвращает
его к этимологии греческого слова «символ», указываю-
Α. Φ. ЛОСЕВ
'
352
щей, как мы знаем, на совпадение двух вещей, или сфер.
Символ — это то, где совпадает самость вещи с той или
иной ее интерпретацией. В таком виде термин этот не
может встретить никаких возражений, потому что иначе
пришлось бы разрушать самое совпадение самости с ее
интерпретацией, что опять не обошлось бы без
субъективистических провалов.
Но независимо от этого термин «символ» важен еще
и потому, что он выражает именно «нечто», «чтойность»
вещи, которая могла бы померкнуть в наших глазах
в связи с выдвиганием в самость ее стихии чистого
становления. Говоря о мощи, да еще о бесконечной мощи,
мы ведь вводим этим самым стихию становления самого
самого. А ведь самое само вещи, как мы уже не раз
говорили, есть прежде всего индивидуальность вещи, ее
абсолютная новость и неповторимость. На первой стадии
нашего исследования, когда мы выдвигали на первый план
идею новости и неповторимости, мы понимали самое само
как именно «нечто», как «это-вот», как различенность,
как индивидуальность. На дальнейшей стадии, когда
оказалось, что различение возможно только как
неразличение, мы стали выдвигать в самости идею становления,
т. е. мощи; отсюда получился риск забыть то, что самость
есть лицо, лик, «нечто», индивидуальность. Понятие
символа уравновешивает обе эти стороны, так как оно, во-
первых, есть указание на лицо, лик, картину, а во-вторых,
оно есть указание на переход к высшему, более мощному
и в более широком смысле смысловому 10*
Наконец, развитая выше теория самого самого и его
символов дает нам право еще на один тезис, без которого
осталась бы в тени одна из самых существенных сторон
этой теории.
Самое само недостижимо и непознаваемо. Его
окутывает бездна становления, которая порождает его
бесчисленные интерпретации. Эти интерпретации то более, то
менее близки к самому самому, то более, то менее
насыщены им. Раз дана свобода становлений — значит, дана
свобода любым интерпретациям. Духовная деятельность
человека, будучи совершенно свободной, даже анархичной
в создавании интерпретаций, является наилучшим
показателем этой безразличной и беспричинной свободы
становления. Спрашивается: где же предел всем этим
интерпретациям самости и где хотя бы некоторая гарантия и
САМОЕ САМО
353
хотя бы относительной истинности этих интерпретаций?
Кроме того, и без привлечения духовной деятельности
человека вещи сами по себе достаточно текучи,
неопределенны и искаженны, чтобы возник вопрос об истинности
этих вещей в качестве символов самого самого.
Этот вопрос, трудный для субъективистской
философии, почти не существует для нас. Дело в том, что всякое
становление, включая и духовную деятельность человека,
всегда есть становление абсолютной самости, ибо
последняя, будучи всем, уже ничего не содержит вне себя. Всякая
становящаяся вещь и весь человек с его свободной
духовной деятельностью есть не что иное, как момент,
выражение, излияние, действие и проч. только абсолютной
самости. И поэтому, как бы капризен ни был человек в
установлении тех или иных интерпретаций, все же сам-то он есть
не более как та или иная интерпретация абсолютной
самости. Интерпретирующая деятельность человека
условна, шатка, гипотетична, капризна, но она есть отражение
абсолютных энергий самого самого. И в этом — гарантия
их осмысленности и правды. Это не значит, что человек
не может ошибаться. Но это значит, что человек может
не ошибаться. Указанное соотношение с абсолютной
самостью есть условие возможности правильных
интерпретаций. Впрочем, термины «истина» и «правильность»
тоже употребляются здесь нами пока только в
общепопулярном и некритическом виде. Критическая же разработка
этих понятий только укрепит нас в целесообразности
указанного только что положения.
Необходимо всячески освобождать духовную
деятельность человека в создании символов интерпретации.
Никакая самость и никакая ее абсолютность не могут
преградить человеку путь свободных символических
интерпретаций. Никакой каприз и никакая прихоть
сознания не остается без своей объективной предметности и,
следовательно, без объективизации символических актов.
Вещь, воспринимаемая в гневе, не та, что вещь,
воспринимаемая в радости; вещь, оказавшаяся предметом наших
волевых усилий, не та, к которой мы относимся безучастно.
Всякий аффект, всякая энергия, всякий мельчайший
познавательный жест или штрих имеют свою
специфическую предметность, которая для соответствующего бытия
есть не что иное, как символ.
Лицо человека, моего друга Петра, мне «кажется»
12 Α. Φ Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
l^—I
354
одним, а Ивану, который ненавидит Петра, «кажется»
совсем другим. Обычно думают, что этой «кажимостью»
все и кончается. Объективно-де Петр вовсе не то, что о нем
думаю я, и вовсе не то, что о нем думает Иван; и думать-де
можно о Петре вообще все, что угодно. Из этого
рассуждения правильно только то, что о Петре действительно
можно думать вообще все, что угодно. Остальное же
совершенно неверно. То, как представляется мне Петр,
есть известная и притом очень определенная
предметность; и также то, как он представляется Ивану. Что эти
предметности — субъективны, это не имеет никакого
значения, потому что вообще все, что мы представляем,
даже когда наши представления «истинны», по
необходимости оказывается продуктом свободной деятельности
нашего духа. Считать же на этом основании, что они
вообще только субъективны, это значит уничтожать и т. п.
«истинные» представления, потому что для определения их
истинности надо знать, что такое объективные вещи,
а объективные свойства тоже надо как-то себе
представлять, т. е. иметь относительно их определенную смысловую
предметность.
Итак, любой акт субъективного сознания обладает
своей собственной — пусть чисто феноменологической, а
не «реальной» — предметностью, а эта предметность,
будучи отнесенной к тому или иному реальному объекту,
оказывается символом. Наличие этой предметности и ее
неизбежность ничего не говорит ни об истинности
соответствующего акта сознания, ни о его ложности (ибо и
истинные, и ложные представления одинаково соотнесены
с соответствующей им предметностью). Но поскольку
сознание, построяющее свой предмет, само не абсолютно,
а есть только результат и одно из частичных проявлений
самости (которая есть не только сознание, но и все вообще
сущее), постольку и всякая предметность, построяемая
сознанием, есть результат и одно из частичных проявлений
абсолютной самости. Отсюда, эта предметность,
становящаяся в условиях отнесения к реальным вещам символом,
может быть истинной или вообще так или иначе
оправданной. Отсюда и — наш последний тезис.
VI. Всякий символ абсолютной самости условен,
относителен, а не абсолютен (поскольку основой его является
алогическое становление), но всякий символ абсолютной
самости смысловым образом обоснован в своем сущест-
САМОЕ САМО
f—Л
355
вовании (поскольку построяющее его становление всегда
есть становление только абсолютной самости).
Все употребляемые здесь у нас понятия мощи, смысла,
бесконечности, символа, истины и т. п. должны быть
подвергнуты специальному анализу. Мы коснулись их
только слегка, чтобы обнаженная бездна самости не
оставалась без всякого прикрытия и чтобы была видна
перспектива и всех дальнейших положительных о ней
утверждений. Однако подлинной и единственной целью этого очерка
было только указание принципиальности самой этой
самости и ее абсолютной ни на что несводимости, ее
непознаваемости, абсолютной неотличимости и в то же время
абсолютной отличенности от всего прочего, той
познавательной бездны смысла, из которой бьет и плещет
неустанная мощь бесконечно разнообразных оформлений. В
старину философы любили подобным образом рассуждать
о самых возвышенных и по преимуществу божественных
предметах. Однако мы теперь убеждаемся, что и самые
обыкновенные, самые простые и даже пустые, самые
бессодержательные и пошлые предметы повседневной жизни
невозможно мыслить иначе, так как всякая вещь есть она
сама, всякую вещь можно как угодно интерпретировать
и к ней применимо решительно все то, что мы раньше
говорили о вещах вообще. Да и самые эти признаки
«простоты», «пустоты», «бессодержательности»,
«пошлости», «повседневности» есть тоже не что иное, как
результат определенной интерпретации вещей. То, что для одного
просто и повседневно, то для другого сложно и редкостно.
Иметь дело с покойниками и вскрывать трупы для
анатома — повседневное и довольно пошлое занятие.
Потерять же близкого человека (хотя бы это был как раз тот
самый, вскрытие трупа которого является для врача
бессодержательным занятием) — для другого человека
явление весьма содержательное и, возможно, совершенно
небывалое или необычное.
Каждая вещь всегда абсолютно нова. Мало того.
Абсолютно нов каждый следующий момент ее существования.
Ничто нельзя подвести ни под какие рубрики, нельзя
уложить ни в какие схемы. Нет нужды, что многие вещи
похожи одна на другую: сходство не есть тождество;
и неважно, что многие вещи повторяются: повторение
предполагает абсолютную новость самого времени. Мы
очень часто пользуемся разными обобщениями и схемами,
12*
Α. Φ. ЛОСЕВ
356
разными классификациями и рационализацией. Но часто
мы и не пользуемся ничем этим, а вещи, как были, так и
остаются самими собой. Звездное небо для многих есть
просто числовая схема, некоторая машинка, впрочем,
не везде исправная. Для других оно (...) п*.
Ни одна из подобных интерпретаций, конечно, не
исчерпывает самого неба. И то, что творится среди нас и что
понимается нами так или иначе, по существу своему есть
нечто совсем другое, не то, как его понимает один, и не то,
как его понимает другой или третий; и никакими
возможными пониманиями оно не может быть исчерпано ни в
какое время. Люди едят и пьют, бодрствуют и спят, дерутся
и целуются, любят и ненавидят, наконец, родятся и
умирают; и все это кажется им то хорошим и плохим, то
ценным или неценным, то глубоким и мелким; и все это
понимается каждым по-своему, по-разному, да и каждый
отдельный человек понимает это по-разному в разные
моменты своей жизни. А на самом деле в этой еде и питье,
в этом сне и бодрствовании, в этой драке и любви, в этих
рождениях и смертях есть свой совершенно другой смысл;
им свойственна никем целиком не понимаемая самость,
совсем не похожая ни на какие отдельные понимания,
хотя и можно приближаться к этой самости с любой
точностью своего понимания.
III. ИЗ ИСТОРИИ УЧЕНИЯ О САМОСТИ
8. НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗ ИСТОРИИ МЫСЛИ
1. Развитое выше учение о самом самом не очень
популярно в истории мысли. Можно даже сказать, оно
довольно редко. Тем не менее им обладает решительно
всякая зрелая эпоха в истории философии. Поскольку
учение о самости обладает последним синкретизмом,
на который только способна мысль, оно попадается
преимущественно или в начале, или в конце существования
того или другого типа культуры, в начале — потому, что
всякая культура вообще начинается с интерпретативного
выявления своего основного мифа, в конце же — потому,
что здесь этот миф получает наиболее полную разработку
и наиболее адекватное отражение в мысли. Не знают
учения об абсолютной самости обыкновенно срединные эпохи
философии, когда сильно проявляет себя аналитическая
САМОЕ САМО
357
мысль и идет разработка деталей в ущерб синтетическому
охвату. Поэтому содержит очень интенсивное учение о
самости индийская философия браманизма и буддизма, но
не содержит его позднейший индуизм. Развитое учение
дает в этом духе неоплатонизм, но его нет ни у досократи-
ков, ни у Аристотеля, ни в раннем эллинизме.
Замечательное учение о непознаваемом Сверх-Мраке у Дионисия
Ареопагита в начале христианской эры и у византийских
мистиков XIV в. (в конце средневекового христианства),
но оно очень слабо дано у Василия Великого и Григория
Богослова, у Григория Нисского и Иоанна Златоуста
(IV в.), у Иоанна Дамаскина (VII в.). В начале
германской философии мы имеем очень интенсивную потребность
в синтетизме этого последнего вышепознавательного
устремления (Мейстер Экгарт и другие немецкие мистики
XIV в., Николай Кузанский, XV в.); и — она совсем
отсутствует у просветителей XVIII в. и только кое-где
пробивается у немецких идеалистов (главным образом
у Шеллинга, но это как раз — конец огромного периода
германской философии вообще). Правда, попадаются эти
учения о непознаваемом первом самом самом и в
срединные эпохи, но зато они всегда начало или конец периодов
менее обширных. Так, Платон (V в.), несомненно, есть
конец классического периода античной философии, а
Максим Исповедник (VII в.) есть начало самостоятельного
византинизма.
Из этих философских построений приведем только
некоторые примеры, или, вернее, сделаем несколько
упоминаний.
2. а) Несомненно, сюда относится древнеиндийский
Брама-Атман, о котором довольно много материалов
в Упанишадах. Это не просто душа мира и душа всего,
охватывающая все и всем управляющая, но, по прямому
заявлению Упанишад, он «не есть сущее, как не есть и
не-сущее» \ он «выше того, что есть, и того, чего нет» 2.
Он есть тот, кто видит во всех существах, имеющих зрение,
и кто слышит во всех существах, обладающих слухом.
Поэтому он есть вечный свет, все освещающий, вечный
огонь, но опять-таки сам по себе он не есть ни день,
ни ночь 3. Он — везде и нигде, в каждой душе и ни в какой,
1 Çvetâçvatara — Upanishad IV 18 (Deussen 303)
2 Mundeka —Up. 2, 2, 1 (Deussen 553).
3 Deussen. Alig. Gesch. d. Phil. II 1. S. 125 ел.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
358
бесконечен и равен одному мгновению, всеопределяем и
не допускает никакого определения. Он только «не то,
не то, не то...» и т. д. или, как говорится в Упанишадах,
«neti, neti, neti...». Одна легенда рассказывает, что, когда
у некоего брамина спросили, что такое Брама, тот
промолчал. То же безмолвие повторилось еще раз при новом
вопросе. Когда же его спросили и в третий раз, то он
ответил: «Я тебе объясняю, но ты не понимаешь. Этот
Атман — тишина» 4.
Не будем умножать этих текстов. Всякий читавший
Упанишады приведет их весьма немало. Но было бы очень
недостаточно констатировать простой факт трансцедент-
ности браманистического первоначала и не попробовать
уловить его живого лика, тем более что те особенности
древнеиндийского духа, которые породили этого Атмана,
вполне общеизвестны и банальны.
Ь) Древнеиндийское мироощущение основано на ин-
туициях чувственной текучести. Как в значительной мере
и весь Восток, это мироощущение не видит никакого
абсолюта вне чувственных явлений. Ему явлена мертвая
материя, но не явлено бытие живой идеи, или живой
личности, живой социальности. Отсюда и — трактовка
того, что оно считает своим абсолютом, Брамой-Атманом.
Заметим, что всякое развитое религиозно-философское
сознание формально содержит всегда всю градацию
бытия, логически необходимую для него, независимо
от тех специфических интуиции, на которых оно вырастает.
Везде мы найдем тут учение о материи, физическом
мире, о душе и человеке, о восхождении человека к
вышнему, этот самый высший мир — например, мировой ум
или мировую душу, ангелов и демонов и, наконец,
непознаваемое божество. Наличие или неналичие всех этих учений
зависит только от степени зрелости данного типа
религиозно-философской культуры. Но это нисколько не
мешает основываться в разработке этих учений на какой-
нибудь одной, вполне частичной интуиции. Наоборот,
все известные нам из истории религиозно-философские
системы всегда базировались только на отдельных интуи-
циях, то более, то менее общих; а эти интуиции
перекрашивают собою и наполняют
жизненно-историческим содержанием решительно все ступени указанной
4 Ibid., 143
САМОЕ САМО
Іі I
359
формальной религиозно-философской системы.
с) То же мы находим и в браманизме. Если последний
внутренно исходит из абсолютизации чувственного потока
вещей, то это не значит, что он отвергает всякий абсолют
за пределами этой чувственности. Но это значит, что такой
абсолют трактован здесь специфически, т. е. именно так,
чтобы он обосновывал собою как раз абсолютность
материально-чувственного процесса. Таков именно и есть Бра-
ма-Атман. Весь материально-чувственный процесс есть
безразличное становление, т. е. слепое возникновение и
уничтожение вещей. Внесение сюда хотя бы малейшей
закономерности и осмысленности уже вывело бы за
пределы абсолютизации только одного чувственного процесса
как такового. Значит, браманистическое сознание должно
было и своего Браму-Атмана толковать не просто как
непознаваемое совпадение противоположностей, но как
такое, которое обусловливает собою именно эту слепую
стихию сплошных возникновений и становлений. А так
как чистое алогически-чувственное становление, когда оно
лишено всякой формы и смысла, снимает и самого себя
(ибо оно в каждом своем моменте настолько же есть,
насколько его и нет), то и Брама-Атман должен вечно то
возникать, то уничтожаться.
Отсюда — знаменитое учение Упанишад о прельщении
Брамы Майей, т. е. «Иллюзией», фикцией, и о тройном
результате этого брака с вселенской Иллюзией —
творении мира, его сохранении и его уничтожении. Когда Брама
вступает в брак с Майей, он погружается в тяжелый сон
и самозабвение, что означает творение мира. Но потом он
медленно просыпается в растениях, животных, человеке,
приходя все больше и больше в сознание, что означает
уже не творение, но такое сохранение мира, которое
тождественно с его постепенным непрерывным уничтожением,
умерщвлением. Наконец, когда он в человеке доходит
до высшей ступени самосознания, то это равносильно
абсолютному уничтожению мира, снятию всей этой стихии
бесконечного становления. Прекращается мир, однако
ненадолго. Скоро Брама-Атман опять попадает в объятия
Майи; и — повторяется снова творение мира, его вечная
и страдающая текучесть, когда бытие то возникает, то
уничтожается, и опять творится мучительное и радостное
освобождение мира от собственного бытия и от самого
себя.
Α. Φ. ЛОСЕВ
Імиі—] .
360
d) Мы видим, что сущность Брамы-Атмана
заключается именно в том, что он есть абсолютное обоснование
абсолютной чувственной текучести бытия. Формально он
есть самодовлеющий абсолют, а не относительность
вечно-неустойчивого и никогда не самодовлеющего
становления. По своему же содержанию, по своему живому лику
он есть именно абсолютизация этого самого становления,
самодовлеющий принцип вечного отсутствия всякого само-
довления. Этот нигилистический абсолют, ничто как
абсолют, когда бытие достигает его только в момент своего
абсолютного уничтожения, обладает — формально —
всеми чертами абсолютной самости, которую мы раскрывали
выше. Это есть именно самое само каждой вещи и всех
вещей, взятых вместе. Макс Мюллер так и переводит
слово «атман» — «я» и «сам», и даже «самость» (ipseitas).
Однако слишком ярко чувствуются специфические и
типические особенности этого самого самого Упанишад, совсем
не обязательные для формальной диалектики самости
вообще. Спецификум же заключен здесь, несомненно, в
мистическом нигилизме и в обожествлении чистой текучести
мертвого вещества. Разумеется, это не просто мертвая
текучесть вещества сама по себе — в этом случае она
не была (бы) и абсолютом, а занимала бы подобающее
себе нормальное место в лестнице бытия вообще. Это
именно абсолютизация такой текучести. А раз так, то тут
образуется весь этот обычный мистический и религиозно-
философский аппарат, который, повторяю, присущ всякой
синтетической культуре, со всей этой интимной и жгучей
жаждой подвига, жертвы, искупления, блаженства и др.
Буддийская Нирвана, развившаяся на этом
мироощущении Упанишад, есть только субъективно-ощутительная
сторона Брамы-Атмана, и Эдуард фон-Гартман вполне был
прав, когда назвал ее «атеистическим раем» 5.
3. а) Совсем иной культурный стиль выступает в
античном учении о Едином. Это учение в основном было
разработано еще у Платона, который дал в отдельных пунктах
почти исчерпывающую диалектику этого построения.
В прекрасных и не допускающих никакого возражения
формулах он показал, как Единое, или одно, взятое как
5 Относительно Нирваны, и притом как раз с интересной для нас
стороны (диалектика единства и множества), см. материалы у Щербат-
ского, The conception of Nirvana in Buddism.
САМОЕ САМО
361
таковое, лишается всяких определений и остается
«превыше сущности и знания», так что нельзя уже сказать
ни того, что оно существует, ни того, что оно есть оно.
Яснейшим образом у Платона показано, как всякая
диалектика возможна только с момента полагания этого
одного, т. е. с его бытия. Показана алогическая природа
иного, или инобытия, и совпадение его с бытием в процессе
становления. Показано, наконец, как нужно диалектически
переходить от лишенного всяких различий единства через
оформленные его отдельные образы к космосу и к
реальной чувственной текучести.
Неоплатоники (III—VI вв. Хр. э.) подвергли это учение
дальнейшей разработке и довели до тончайше
разработанной диалектики. Плотин поставил это Единое в ясную
связь с учением о мировом уме, мировой душе и космосе
(эта связь у Платона была только намечена) и в ярких
красках обрисовал ни на что не сводимую трансцедент-
ность Единого. Ямвлих предложил различать два
Единых, одно — как чистое «Не», как абсолютно
непознаваемое и вышебытийное «Сверх», другое же — как начало
диалектического ряда и, в частности, принцип бытия
чисел. Прокл, стоя на этом различении Ямвлиха, ввел
свои диалектические триады во второе, расчленяемое
Единое. Кроме того, все неоплатоники очень усердно
разрабатывали субъективно-ощутительную сторону
Единого, видя ее в отрешении от всего оформленного и
различающегося, т. е. в экстазе, в абсолютном слитии всех
познавательных актов в одну неразличимую точку
сознания.
Ь) Это античное учение об абсолютной самости резко
отличается от древнеиндийского при формальном сходстве
с ним (а часто и прямом тождестве) в своей
диалектической структуре. Грек влюблен не в безразличную и слепую
текучесть бытия, но, наоборот, в его оформленность.
Чувственно-текучее бытие связано для него твердыми и
резкими формами, и потому здесь оно уже не есть просто
текучесть, но текучесть, рождающая из себя оформленные
и притом живые тела; и сама-то текучесть
абсолютизируется здесь лишь настолько, насколько она порождает
из себя эти оформления. Текучесть тут размерена,
расчислена, упорядочена; и поскольку она все же остается
материально-чувственной текучестью, то размерена и
упорядочена она в виде тел, как мертвых, так и живых.
А Ф ЛОСЕВ
ί 1
362
Живое и даже разумное существо, но данное телесно,—
вот основной пра-символ античного гения. Поэтому
античность отличается от индуизма прежде всего своей
пластикой.
Однако в теле уже есть нечто нетелесное и нетекучее,
это его форма; а в живом теле есть, кроме того, и какая-то
душа, принцип его жизни. Дана ли здесь эта душа как
таковая, как личность? Нет, она здесь так не дана. Она
дана лишь настолько, насколько это надо для оформления
и одушевления мертвой материи,— как, правда, и эта
последняя со всей своей слепой текучестью дана тут
не сама по себе, во всем своем бессмысленном,
несамодовлеющем и вечно снимающем себя самого становлении,
но дана она лишь постольку, поскольку она необходима
для осуществления указанного принципа жизни. Поэтому
душа и личность здесь не абсолютны, и материя здесь
тоже не самодовлеет. Между ними то их абсолютное
тождество, та их знаменитая гармония, которая всегда
отличает в наших глазах любое проявление античного
гения.
Следовательно, античный принцип оформления не
может быть абсолютно-личностным и духовным, но зато он
не может быть и мертво-материальным. Из духовности
он сохраняет только общую и абстрактную,
вне-личностную идеальность, а из мертвой материальности он
составляет вечную тенденцию противополагаться, быть вне себя,
переходить все в другое и другое и никогда не оставаться
самим собою. Вот этот идеальный, но безличный принцип
формы и этот реально-самопротивополагающийся
принцип, но не чувственно и алогично материальный и есть
число, а принцип самого числа есть единица, и — как то,
что делает каждое число числом, и как то, что стоит
в начале бесконечного ряда чисел. А это и есть Единое
Платона и неоплатоников.
В Едином античной философии проявлена эта основная
символика античного гения и постоянная склонность его
все оформлять, но оформлять не больше чем в виде
живого чувственного тела. Тут сказалась та серединность
античного гения, которая не знает ни глубин
самостоятельной личности, ни безразличной свободы и анархизма
телесных протеканий. Она формализирует личность, но
она связывает и чистую текучесть. И вот эта-то античная
пластика, прекрасно-оформленная, но лишенная теплоты
САМОЕ САМО
ι ι
363
и глубин личного опыта, и зафиксирована в величавом
учении о Едином. В то время как диалектически Единое
есть все и ничто, все определяет и само лишено всех
определений, т. е. является тем, что есть самое само каждой
вещи и самое само всего существующего, в то же самое
время оно — культурно-типологически — обладает
совершенно специфической физиономией, и в нем мы не без
удивления узнаём общеизвестные черты античного гения
вообще.
4. а) Дальнейшим примером на учения об абсолютной
самости может служить учение так называемых Ареопа-
гитик, нескольких трактатов, относимых наукою к V в.
Хр. э. и раньше приписывавшихся Дионисию Ареопагиту,
о котором повествуется в «Деяниях апостолов». Здесь мы
находим в такой мере интенсивное ощущение трансце-
дентности абсолюта, что, можно сказать, Ареопагитики
являются в этом отношении непревзойденным документом
человеческой мысли вообще. Никакая буддийская
литература, никакой греческий неоплатонизм, никакая западная
мистика, средневековая или новая, не может и сравниться
с этим по интенсивности трансцедентных ощущений.
Самый язык Дионисия Ареопагита способен производить
даже впечатление риторики. Однако было бы очень грубым
подходом к этим удивительным произведениям, если бы
мы стали выдвигать в них риторику на первый план.
Это не риторика, но это какая-то мистическая музыка,
где уже не слышно отдельных слов, но только слышен
прибой и отбой некоего необъятного моря трансцедент-
ности. Тут мы встречаем подряд массу слов с одной и
той же отрицательной приставкой, указывающей на <то>,
что нельзя приписывать Богу, массу слов подряд с одной и
той же приставкой «сверх», массу слов, на самые
разные лады варьирующих идею сверхсущего единства.
Бог — все, но Бог — и ничто, и по преимуществу Бог есть
ничто. Так и говорится: «Само ничто» (αυτό το ουδέν).
«Как мы можем,— пишет Ареопагит,— познавать
Бога, не мыслимого, не воспринимаемого чувствами и вообще
не являющегося ничем из сущего? Мы познаем Бога,
восходя от установленного им порядка мироздания,
являющего образы и подобия божественных первообразов,
восходя к тому, что находится по ту сторону всего, путем
отвлечения (άφαιρείσθαι) от всего и превосхождения надо
всем. Потому Бог познается во всем и помимо всего;
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
364
и в ведении познается Бог, и в неведении; и Ему присущи и
мышление, и разум, и знание, и осязание, и ощущение,
и представление, и фантазия, и имя, и все прочее, а вместе
с тем Он не мыслится, не высказывается, не именуется
и не есть что-либо из сущего и не познается в чем-либо
сущем. И во всем Он есть все и ни в чем ничто; и во всем
познается всеми и ни в чем никем» 6. «Он есть не то, но
не есть и это; не есть в одном месте, но не есть и где-либо
в другом. Но Он есть все, будучи виновником всего...
и выше всего как пресущественно превосходящий все.
Потому все о Нем одновременно и высказывается, и Он
есть ничто из всего» 7
Хотя «Виновник всего» не лишен «ни сущности
ни жизни, ни слова, ни разума», но, с другой стороны,
«Он не имеет ни тела, ни формы, ни образа, ни качества,
ни количества, ни массы; Он не имеет места, не видится,
недоступен чувственному восприятию, не чувствуется и
неощутим, не имеет нестройности и смятения вследствие
материальных влечений, не немощен вследствие
чувственных порывов, не нуждается в свете; не знает перемен,
разрушения, разделения, лишения, растяжения, ни чего-
либо другого из области чувственного. Но, восходя,
скажем, что Он не есть душа или ум, не имеет ни фантазии,
ни представления, ни слова, ни разумения; не
высказывается и не мыслится; не есть число, или строй, или
великость, или малость, или равенство, или неравенство,
или сходство, или несходство; Он не стоит и не движется,
не покоится и не имеет силы, не есть сила или свет; не
живет и не есть жизнь; не сущность, не вечность и не время;
не может быть доступен мышлению; не ведение, не истина;
не царство и не мудрость; не единое, не единство, не
божество, не благость, не дух, как мы понимаем; не отцовство,
не сыновство; вообще ничто из ведомого нам или другим
сущего не есть что-либо из не-сущего или сущего, и сущее
не знает Его как такового, и Он не знает сущего как
такового; и Он не имеет ни слова, ни имени, ни знания;
не есть ни тьма, ни свет; ни заблуждение, ни истина;
вообще не есть ни утверждение, ни отрицание; допуская
относительно Него утверждения и отрицания, мы не
полагаем и не отрицаем Его самого; ибо совершенная единая
6 De div. nom. VII 3, 872.
7 Ibid. V 8, 824.
САМОЕ САМО
1—1
365
причина выше всякого полагания; и начало,
превосходящее то, что совершенно отрешено ото всего и для всего
недоступно, остается превыше всякого отрицания» 8.
b) Сочинения Ареопагита «О божественных именах»
и «Таинственное богословие» переполнены этой музыкой
апофатизма. Пытаясь уловить культурно-исторический тип
и стиль этого повествования о трансцедентном перво-
принципе, мы, во-первых, замечаем, что тут перед нами
не столько философия и богословие, сколько гимны,
воспевание. Ареопагит так и говорит вместо «богословство-
вать» — «петь гимны» (ύμνεΐν). Во-вторых, несомненно,
это воспевание относится только к личности — правда,
абсолютно-трансцедентнои и ни с чем не сравнимой, но
обязательно к личности. Вся эта необычайно напряженная
мистика гимнов возможна только перед каким-то лицом,
перед Ликом, пусть неведомым и недостижимым, но
обязательно Ликом, который может быть увиден глазами и
почувствован сердцем, который может быть предметом
человеческого общения и который может коснуться
человеческой личности своим интимным и жгучим
прикосновением. Вся эта апофатическая музыка есть как бы
упоение благодатью, исходящей от этой неведомой, но интимно-
близкой Личности, когда человек испытывает жажду
вечно ее воспевать и восхвалять, не будучи в состоянии
насытить себя никакими гимнами и никакой молитвой.
От буддийской жажды самоусыпления это отличается
огромной потребностью достигнуть положительных основ
бытия, положительных вплоть до того, чтобы общаться
уже не со слепым становлением вещей и даже не с самими
вещами, живыми или мертвыми, но только с личностью,
которая ясно знает себя и знает иное и способна к
разумной жизни и к человеческому общению. Такое сознание
уже не имеет нужды в отвлеченной философии. Дедукция
категорий для него очень маленькое и скучное дело.
Обладая колоссальной мощью антиномико-синтетических
устремлений, оно нисколько не интересуется самими
категориями, а просто только воспевает высшее бытие со всеми
его антиномиями и синтезами в такой непосредственной
форме, как будто бы здесь и не было никаких антиномий.
c) В неоплатонизме самое бытие, или абсолютная
самость, в которой фиксируются антиномии, гораздо холод-
8 De myst. theol. IV, V (Migne. S. gr. Ill 1045—1048).
Α. Φ. ЛОСЕВ
< 1
366
нее и абстрактнее, оно не поглощает всего сознания
философа настолько, чтобы уже не оставалось никакой
потребности в планомерной диалектике. У Ареопагита
абсолютная самость, в которой фиксируются антиномии, настолько
живая, личная, богато-жизненная, что сознание философа
занято только тихим же живым общением с нею, так что
только кто-то другой может со стороны наблюдать и
систематически размещать все возникающие здесь антиномии,
но самому философу некогда этим заниматься. Он только
может быть погруженным в эти музыкально-риторические
волны своих гимнов, и об остальном заботиться ему скучно.
Между прочим, это обстоятельство довольно-таки
резко изымает Ареопагитики из контекста греческого
языческого неоплатонизма, в котором их обычно рассматривает
историческая наука. Как бы ни был близок Ареопагит
к Проклу, но Прокл — это старая, престарелая
философская мысль, а Ареопагит — это очень молодая, сильная
и смелая мысль, которая еще не знает искушения
абстрактных методов и которая как бы играет своими юными интуи-
циями и сама забывает себя в музыке неожиданных
откровений.
5. Если бы мы стали искать, где же в истории
философии то учение и та система, которая бы вскрыла в отеле-
ченной мысли содержание ареопагитского апофатизма,
и вскрыла бы так, чтобы не нарушить его онтологической
нетронутости и целомудрия, не превратить в субъективизм
или психологизм, но дать вполне адекватную ему
диалектическую конструкцию, то, пожалуй, мы не могли бы найти
другого более значительного имени, чем немецкий философ
XV в. Николай Кузанский.
а) Николай Кузанский не только часто цитирует
Дионисия Ареопагита, но он и фактически находится на его
почве. «Великий Дионисий говорит, что богопознание
приводит больше к ничто, нежели к нечто. Священное
неведение учит нас, что то, что для разума кажется ничто, именно
и есть величайшее непостижимое» 9. Бог «ни существует,
ни не существуем І0; «Бог не есть это и то, Он не есть там
и тут; Он есть как бы все, но вместе и ничто из всего» и.
Бог есть абсолютное «совпадение противоположностей»;
9 De doet. ign. I 13.
10 De coniect. 7.
11 De doet. ign. I 16.
САМОЕ САМО
|^^! гтят
367
в Нем совпадают прямая линия и кривая и все
геометрические фигуры, бытие и небытие, реальное и идеальное,
прошлое, настоящее и будущее в одном абсолютно
неделимом «теперь»; и т. д. и т. д. Во всех этих заключениях
Николай Кузанский не выходит за пределы Ареопагитик.
Музыке апофатизма у него тоже нет конца. Приведем один
отрывок .
«Господь и Бог мой! Помоги Тебя ищущему. Я вижу
Тебя в начале рая и — не знаю, что вижу, ибо я не вижу
ничего видимого. Я знаю только одно: я знаю, что не знаю,
что вижу, и никогда не смогу узнать. Я не умею назвать
Тебя, ибо не знаю, что Ты есть. И если скажет мне кто-
либо: то или иное есть Твое имя, то потому уже, что он дает
имя, я знаю уже, что это не Твое имя. Ибо всякое
обозначение того или иного смысла имен есть стена, выше которой
я Тебя вижу. Если дает кто-либо понятие, которым Ты
можешь быть понят, я знаю, что это не есть понятие о Тебе,
ибо всякое понятие находит свою границу в пределах
ограды рая. И о всяком образе и сравнении, помощью
которого стали бы мыслить Тебя, я знаю, что это не есть
соответствующий Тебе образ. И также если кто повествует
о разумном познании (intellectum) Тебя, желая дать
способ познания Тебя, он будет далеко отстоять от Тебя. Ибо
высокой стеной отделяешься Ты от всего этого. Высокая
стена отделяет от Тебя все, что можно высказать или
помыслить. Ибо Ты отрешен от всего того, что может
подпадать под чье-либо понятие. Поэтому если я поднимусь
ввысь насколько лишь можно, то вижу я Тебя как
бесконечность. Вследствие же этого Ты недоступен, непостижим,
неминуем, невидим. Кто хочет приблизиться к Тебе,
должен подняться над всеми понятиями, границами и
ограниченным... Следовательно, интеллект должен сделаться
неведущим (ignorantem) и погрузиться во тьму, если хочет
видеть Тебя. Но что же тогда есть Бог мой, это неведение
интеллекта? Не просвещенное ли это неведение? Поэтому к
Тебе, Боже мой, Который есть бесконечность, может лишь
тот приблизиться, который знает, что он не ведает Тебя».
Ь) Редкая страница у Николая Кузанского не
содержит подобного рода размышлений. Но если эти последние
еще не выходят за пределы ареопагитских методов мысли,
то зато у Николая Кузанского существуют целые трактаты,
De vis. Dei 13.
Α. Φ. ЛОСЕВ
368
где ареопагитский апофатизм облечен в очень точную
и разработанную диалектику, до того продуманную и
осознанную, что она вполне является предвестием
последующих систем немецкого идеализма.
Уже в первом своем труде «О просвещенном неведении»
Николай Кузанский дает ряд чисто логических и
абстрактно-диалектических построений своего «совпадения
противоположностей». Тут мы находим ряд очень интересных
философско-математических заключений, делающих эту
идею наглядно понятной. Тут развитое учение о
«свертывании» (complicatio) и «развертывании» (explicatio)
абсолютного единства и о «стяжании» (contractio) как о
внутренней природе творения. Принцип «все во всем» также
показан логически весьма четко.
Однако еще более интересен ряд построений, которые
делал Николай Кузанский в своих последующих
сочинениях об абсолютном единстве. Упомянем два главнейших
из них. Первое, это — Possest, т. е. такая возможность,
которая в то же время является и абсолютным бытием,
абсолютная возможность, основанная на том, что всякая
вещь если она есть, то она может быть. Непознаваемое
«совпадение противоположностей» получает здесь, таким
образом, особую структуру, весьма приближающую ее
к реальным вещам, но в то же время не лишающую ее
прежней апофатической природы.
Другое учение выставляет у Николая Кузанского
понятие Non aliud, Неиного. Всякая вещь есть не иное что,
как именно она сама. Но и все вещи суть тоже не иное что,
как именно сами они. Это Неиное потому есть определение,
которое все определяет и определяет самого себя; оно не
отлично ни от какой вещи, так как оно является ее
определением, но оно в то же время и абсолютно отлично от
всякой вещи и от всех вещей, вместе взятых. На основе такого
учения Николай Кузанский развивает очень интересную
логическую концепцию определения вообще.
с) Николай Кузанский, несомненно, держится в
основном в пределах Ареопагита и всячески старается из них
не выходить. Тем не менее логическая мощь его
философского сознания, его безудержное стремление осмыслить
в понятиях ареопагитскую трансцедентность, его высокая
оценка человеческого субъекта в создавании символов
(которые он называет «конъектурами», «предположениями»),
не говоря уже об его математических и астрономических
САМОЕ САМО
_І I—
369
занятиях,— все это делает его еще и философом
Возрождения. В нем та последняя граница осознания Абсолюта,
когда Абсолют еще остается нетронутым в своей трансце-
дентной субстанциальности. До этого еще могла нарастать
логическая мощь философов, так как в исповедуемой ими
трансцедентности первоначала оставалось еще много
логически неясного. Но после Николая Кузанского уже нельзя
было не трогать саму субстанцию этого трансцедентного,
нельзя было не трактовать ее как в тех или иных
отношениях имманентную человеческому субъекту. Дальнейшее
логицизирование Абсолюта могло приводить только к
такому его очеловечиванию. И если Николай Кузанский
является еще философом, мудро и гармонично сочетающим
апофатизм Абсолюта и его логику, или диалектику, то вся
дальнейшая европейская мысль, и в первую голову родная
Кузанскому германская философия, есть не что иное, как
история освобождения логики от абсолютной
трансцедентности и все большее и большее приближение ее к
человеческому имманентизму, вплоть до того момента, когда Гегель
сам Абсолют начнет понимать не больше и не меньше как
систему диалектических категорий.
6. а) Этот историко-философский процесс германского
имманентизма начался в XIII в. с деятельности Мейстера
Экгарта. От этого великого германского мистика и
философа (и его школы — Сузо, Таулера, «Немецкой
теологии») через Лютера и Якова Бёме, через идеализм конца
XVIII и начала XIX в. к неокантианству последних
десятилетий, к фашистскому неогегельянству и неошеллингиан-
ству наших дней идет одна очень уверенная и мощная
магистраль имманентизма, когда Абсолютное на все лады
трактуется как соизмеримое с человеком, когда вместо
Абсолюта проецируется та или иная человечески пережитая
и человечески осмысленная предметность. Абсолютное
выступает то как мистическая глубина индивидуальной души,
то как красивый вселенский хаос — предмет
романтических чувств и исканий, то как рациональная схема
логически построенных законов или понятий, то как произведение
искусства, то как бессмысленная, но вечно жаждущая
жизни мировая воля, то как возвышенная и моральная
проповедь некоего мирового Я и т. д. и т. д.
Однако во главе и в самом начале этой вековой
симфонии германского имманентизма стоит немецкая мистика
XIII—XIV вв., и прежде всего Мейстер Экгарт.
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι \
370
b) Приведем сначала типичное для Экгарта место,
с общим учением о непознаваемости.
«Бог не имеет имени, ибо никто не может о нем что-либо
высказать или узнать. В этом смысле говорит один
греческий учитель: что мы познаём или высказываем о первой
причине, это скорее мы сами, чем первопричина; ибо
последняя выше познания и высказывания! Итак, если я
скажу: «Бог благ», это — неправда; я благ, а не Бог благ. Я
иду еще дальше: я лучше, чем Бог. Ибо лишь то, что благо,
может быть лучше; и лишь что может быть лучше, может
стать наилучшим. Бог же не благ, и потому Он не может
быть лучше, а если так, то не может стать и наилучшим.
Далеки от Бога эти три определения: «благой», «лучше»,
«наилучший». Он стоит выше всего этого. Если я скажу
далее «Бог мудр», то и это неправда: я мудрее Его. Если
я скажу дальше «Бог есть нечто сущее», это — неправда.
Он есть нечто вполне преизбыточное, Он есть сверхсущее
небытие. Об этом говорит бл. Августин: наилучшее, что
может сказать человек о Боге,— это уметь молчать от
полноты премудрости внутреннего богатства. Поэтому молчи и
не болтай о Боге. Ибо когда ты болтаешь о Нем, то ты
лжешь, грешник. Если хочешь быть без греха и совершенен,
не болтай о Боге. И познать о Боге ты ничего не можешь, ибо
Бог выше всякого познания. Один мудрец говорит: «Имей я
Бога, которого я мог бы познать, я Его не почел бы за
Бога». Если ты познаёшь что-либо о Нем, ты впадаешь в
состояние неведения, а через это в состояние скота. Ибо
твари, лишенные познания, подобны скотам. Если ты не
хочешь опуститься до скота, ничего не познавай о
непознаваемом вовеки Боге. «Ах, как же мне быть тогда?»
Отрешись от всего, что в каком-либо смысле есть ты, погрузись
всецело в покой Его сущности. Что было раньше (там О«,
здесь ты), теперь сольется в единое Мы; где ты, там Они.
Его познаешь ты вечным смыслом: безымянное Ничто, не-
сотворенное «есмь» (Ein namenloses Nichts, ein ungewor-
denes «Bin»). «Ты должен любить Бога недуховно
(ungeistig)». Это значит: твоя душа должна быть недуховной,
лишенной всякой духовности. Ибо, пока душа твоя
сохраняет форму духа, до тех пор она имеет предметом
оформленное (gestaltetes). Пока она такова, она не обладает
ни единством, ни единородностью. А пока она ими не
обладает, она не может по-настоящему любить Бога, потому
что истинная любовь покоится на состоянии врожденности
САМОЕ САМО
-J L-
(Hineingebornsein). Поэтому душа твоя должна стать
свободной от всякого духа, стать бездушной (geistlos). Ибо,
если ты еще любишь Бога, насколько Он есть Бог, есть
Дух, есть Лицо — словом, нечто оформленное
(gestaltetes) , отринь все это. «Но как же я должен любить Его?» Ты
должен Его любить, насколько Он есть не-Бог, не-Дух, не-
Лицо, не оформленное, но одно чистое ясное простое
единство, далекое от всякой двойственности. И в это Единое
должны мы вечно погружаться, из бытия --- в Ничто» І3.
с) В историях философии часто можно встретить
изложение воззрений Экгарта в форме отвлеченного
апофатизма без всяких специфически присущих ему
индивидуальных черт, так что Экгарт оказывается не отличным
ни от буддизма, ни от Ареопагитик. Тем не менее поиски
индивидуального лика этого апофатизма у Экгарта дают
очень важные и выразительные результаты.
Именно Экгарт резко противопоставляет Gott и
Gottheit, Бога и Божество. Божество абсолютно и выше всяких
определений; Бог же гораздо ближе к твари, и Ему
свойственно возникновение и уничтожение. Экгарт так и говорит:
«Gott wird und vergeht» («Бог возникает и
уничтожается») 14. «О Боге говорят и возвещают все твари. А
почему ничего не говорят они о Божестве? Все, что есть в
Божестве, есть Единое, о котором ничего нельзя говорить.
Только Бог делает нечто; Божество же ничего не делает,
Ему нечего делать. Бог и Божество отличаются как
делание и неделание» 15. Поэтому общения с Богом для Экгарта
недостаточно. Когда Экгарт прорывается к Божеству, то,
говорит он, «я становлюсь столь же богат, так что Бог не
может быть мне достаточен всем, чем Он есть Бог, всеми
своими божескими делами; ибо я получаю в этом прорыве
то, в чем Бог и я общи-» 16. «В этом переживании Дух не
остается более тварью, ибо он сам есть уже «божество», он
есть одно существо, одна субстанция с божеством и есть
вместе с тем и свое собственное и всех тварей
блаженство» п В сравнении с таким единством меркнет и сама
троичность Бога. «Душа достигает прежде всего святой
13 Экгарт М. Духовные рассуждения и проповеди. Пер. М. В. Сабаш-
никовой. М., 1912. С. 146—148.
14 М. Eckehart's Schriften u. Predigten. Hrsg. ν. Büttner. I 148.
15 Ibidem.
16 Ibid. I 176.
17 Ibid. I 202.
Α. Φ. ЛОСЕВ
372
тройственности, ставшей единством. Но она может стать
и еще блаженнее — если она взыщет простого (blossen)
существа, о котором тройственность есть лишь откровение.
Вполне блаженной будет она лишь тогда, когда она
бросится в пустыню (die Wüste) Божества» |8. «Всем жертвует
при этом душа, Богом и всеми творениями. Это звучит
странно, что душа должна потерять и Бога! Я утверждаю:
чтобы стать совершенной, нужнее ей в известном смысле
лишиться Бога, чем творений. Во всяком случае, все
должно быть потеряно; существование души должно
утверждаться на свободном ничто. Единственно таково и
намерение Бога, чтобы душа потеряла своего Бога. Ибо, пока она
имеет Бога, познает, знает, до тех пор она отделена от
Бога. Такова цель Бога: изничтожиться в душе, чтобы душа
потеряла и себя. Ибо то, что Бог называется «Богом», это
имеет Он от тварей. Лишь когда душа стала тварью, тогда
только она получила Бога. Когда же она снова отряхнет
с себя свою тварность (Geschöpfseyn), тогда остается Бог
пред Самим Собою тем, что Он есть» Дух «должен быть
мертв и погребен в Божестве, а Божество живет уже не для
кого другого, но только для самого Себя» 20. Эта
«божественная смерть» открывает нам и неведомую до того
тварность самой Троицы. «Троичность есть вместе и мир, ибо
в ней заложены все твари. Внутри же, в Божестве, как
действующий, так и действие остаются без перемены»21.
d) Этих цитат (их число можно легко увеличить)
достаточно, чтобы уловить эту новость, которой Экгарт так не
похож ни на одно из упомянутых выше учений. Мы
констатируем здесь два обстоятельства. Во-первых, Экгарт
проповедует полную Abgeschiedenheit, полную отрешенность
от всего чувственного и нечувственного — вернее, от всего
оформленного и осмысленного, так что достигаемая таким
образом глубина человеческой личности не имеет
совершенно ничего общего с личностью в обычном смысле слова.
Во-вторых же, достигаемая таким образом глубина
человеческой личности и есть у Экгарта само Божество в своей
последней субстанции. Повторяем, эта глубина не имеет
ничего общего с обыденной личностью человека, но она все
18 Ibid. II 186.
19 Ibid. II 202.
20 Ibid. II 207.
21 Ibid. I 184.
САМОЕ САМО
373
же не есть какое-то еще особое бытие, не сравнимое ни
с какой человеческой личностью. В Ареопагитиках, когда
человек опускается в последние глубины своего духа, он
тоже теряет всякое различие и погружен в абсолютное
ничто. Но это ничто все же по субстанции своей не есть само
Божество, а только преисполнено Его энергиями; оно —
божество не по самой субстанции, но по причастию к
Божеству. У Экгарта же здесь полное субстанциальное
тождество, так что необходимо считать, что тут перед нами
подлинный и абсолютный имманентизм.
На основе этой первосущности, которая является
божественной и человеческой одновременно, появляется,
с одной стороны, Бог, а с другой — и то, что обыкновенно
называется человеком. Нечего и говорить о том, что если
эта первосущность соизмерима с человеком и ощутима для
него, то тем более соизмеримо с ним и понятно ему и
появление этих двух новых сфер. Но только первое понятно
на последней глубине, на высоте экстаза, а вторые две
сферы понятны более расчлененному и более дневному, или
земному, сознанию.
Тут мы имеем базу для семивековой истории
германского субъективизма. У Экгарта объективное бытие
понятно и имманентно только мистическому субъекту на
глубине его самоотреченности. Но вся дальнейшая
германская мысль неизменно стремится сделать объективное
бытие соизмеренным со светским, позитивным человеческим
субъектом. В этом, между прочим, и разгадка так
называемых «вещей-в-себе», введенных только потому, что на
очереди стояли задачи абсолютизации рациональной и
эмпирической стороны субъекта и в свете такого субъекта
глубины Экгарта по справедливости предстали в виде никогда
не достижимых вещей-в-себе. Но вот
рационально-эмпирический субъект крепнет все больше и больше; и все дальше
растет его уверенность в своей абсолютности. На стадии
Канта он уже «законодатель природы», хотя все еще не
решается объявить себя создателем Бога, души и мира в
целом. На стадии раннего Фихте упраздняются и
непознаваемые вещи-в-себе, эта последняя тень. Ничто
растворилось в диалектических порождениях одного и единого Я,
возникающего как синтез рационально-эмпирического
единства. Здесь впервые субъективизм Экгарта вышел
из мистических глубин на свет дневного, вполне светского
и притом уже логически ясного, ощутимого уже в абстракт-
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 I
374
ном понятии, бытия и мира; и здесь оказалось возможным
рационально дедуцировать все бытие и мир так, как
раньше <он> эманировал из глубин неведомой трансцедентно-
сти.
7. То, что мы называем немецким идеализмом конца
XVIII и начала XIX в., представляет собою довольно
пеструю смесь субъективизма, объективизма и символизма.
Кульминация субъективизма в деятельности раннего
Фихте находит реакцию в его же собственных писаниях
первого десятилетия XIX в., а также у Шеллинга и Гегеля —
в разных видах и с другими оттенками. Мы укажем только
два-три наиболее интересных факта.
a) Прежде всего, Фихте в «Наукоучении» 1794 г. стоит
на очень яркой и выразительной позиции первоначального
«деяния», или, как он сам выражается, Tathandlung. Он
исходит, как известно, из утверждения Л = Л, в котором,
по исключении самого А как случайного, остается самая
связь любых Л, а она и есть основание для всякого
суждения и есть результат деятельности Я, впервые полагающего
собою эту связь. Но для этого полагания надо, чтобы
сначала существовало само Я, и притом не как вещь, или
объект, который еще надо было бы обосновывать, но
именно как чистое деяние, как простое требование абсолютной
свободы деяния. Это «Я есмь» заложено решительно во
всем, что мыслится и, следовательно, что существует, ибо
само существование есть то первое, простейшее,
абсолютное, с чего вообще все начинается. Даже еще нельзя
сказать, что Я есть, ибо это «есть» уже оказывается полага-
нием Я. Но зато надо сказать, что Я действует.
Вот во что выродилась теория апофатизма и эманации
Мейстера Экгарта, учение об энергиях у Ареопагита и
о Possest y Николая Кузанского. Источник бытия
откровенно называется Я, и эманации этого источника
объявлены действиями Я. Мне кажется, типологическая
особенность такого самого самого совершенно не нуждается
в разъяснении: она — вполне очевидна.
b) Историки* философии обычно проявляют одну свою
скверную привычку — выдвигать на первый план раннего
Фихте и совершенно оставлять в тени ту объективистскую
реакцию, которая постепенно назревала в нем с начала
первого десятилетия XIX в. и дала вполне законченные
результаты уже в «Наукоучении» 1804 г. и в «Наставлении
к блаженной жизни» 1806 г. Тут мы находим весьма любо-
САМОЕ САМО
-J L-.
пытный образчик апофатизма, уже вплотную подошедшего
к объективной символике абсолютного. «Абсолютное
единство,— пишет он,— столь же мало может заключаться
в бытии, как и в противостоящем ему сознании; столь же
мало может быть вложено в вещь, как и в представление
вещи. Оно может заключаться только в открытом нами
принципе абсолютного единства и нераздельности того
и другого, каковой есть вместе с тем принцип дизъюнкции.
Мы назовем его чистым знанием, знанием в себе, никак не
знающим о каком-нибудь объекте, которое уже не было
бы знанием в себе, но для своего бытия, для своего
существования нуждалось бы еще в объекте. Такое знание
отличается от сознания, которое полагает бытие и потому
представляет лишь одну половину. Это открыл Кант и этим
основал трансцедентальную философию. Вслед за
философией Канта и «Наукоучение» полагает Абсолютное не
в вещи и не β субъективном знании но в единстве того
и другого» 22.
На первый взгляд кажется, что своим термином «чистое
знание» он (Фихте) опять приводит постулируемое им
единство знания и бытия к некоему универсальному
знанию, которое хотя в таком виде и перестает быть
субъективным, но все же оно состоит из связи понятий, которая
объективно живет и развивается, порождая из себя и
знание в собственном смысле, и бытие, на манер гегелевского
Мирового Духа. Но Фихте в 1804 г. решительно отвергает
такое понимание его постулата «чистого знания».
Последнее, правда, живет и развивается само по себе, без помощи
какого бы то ни было субъекта или Я (которые сами
появляются впервые только на путях его эволюции). Но
остановиться на этом, говорит Фихте, это значило бы
продолжать считать идеализм за истину, а он отныне вовсе не
хочет быть идеалистом. Оказывается, Абсолютное есть
непонятное, невысказываемое и невыразимое. Оно требует
«понимания непонятного как непонятного». Это не есть просто
иррационализм, типа, скажем, Бергсона. Это особое
специфическое понимание, которое вмещает в себя и все
рациональное наряду со всем иррациональным; это — «единство
живого света», «божественная жизнь». Здесь «мышление
самоуничтожает себя в мышлении, приходя к чему-то, что
существует само по себе». Но и это «само по себе» сущест-
22 Все цитаты из Фихте по Вышеславцеву, Этика Фихте. М., 1914,
231 слл.
Α. Φ. ЛОСЕВ
376
вует не просто. «Само по себе,— пишет он,—если
вглядеться глубже, не есть нечто само по себе, не есть Абсолютное,
ибо оно не есть истинное единство; и, следовательно, даже
наш реализм не проник до Абсолютного. Строго говоря,
в глубине этого единства раскрывается проекция самого
по себе и не самого по себе, которые взаимно полагают
друг друга для возможности их объяснения и понимания».
Если брать просто «само по себе», оно будет предполагать
то, что является «не самим по себе», т. е. будет чем-то
относительным, а не абсолютным. Следовательно, абсолютное
выше всех этих противоположений. «Истинное бытие
в своем единстве непонятно и неописуемо, и не потому, что
оно лежит вне знания — это было бы старым
заблуждением,— а потому, что абсолютное знание непонятно
самому себе и вообще не тождественно с абсолютным
пониманием... Оно лежит в абсолютном прозрении (Sehen) и
только в нем может быть найдено». «Все есть одно в едином
прозрении, которое нельзя описать, но можно лишь
непосредственно пережить».
с) Если бы мы захотели резюмировать философию
Фихте, развитую им в «Наукоучении» 1804 г., мы могли бы
сказать так. Абсолютное не есть бытие как предмет, т. е.
как нечто, лежащее перед нами. Абсолютное не есть
субъект, ни наш, ни чей бы то ни было, ни сознание, частное
или общее. Абсолютное не есть система всех актов
полагания или отрицания, различения и не есть вообще разум.
Абсолютное не есть то, что познается как абсолютная
иррациональность, как слепая, хотя бы и очень яркая и
глубокая интуиция. Абсолютное есть общий и безраздельный
синтез и объекта, и субъекта, и общего разума, и нерас-
члененной, непонятной интуиции.
Таково учение Фихте во второй период его философской
деятельности.
Что это учение есть выход за пределы субъективизма,
в этом не может быть никакого сомнения. Но есть ли это
абсолютный выход, типа Ареопагитик, или это есть только
выход из кантианства к имманентизму мистическому типа
Экгарта, судить об этом можно было бы только после очень
детального исследования. Для нас достаточно сейчас
констатировать, что «самость» у позднего Фихте имеет весьма
мало общего с его субъективистской Tathandlung раннего
периода и что здесь, несомненно, какой-то аналог Экгарта
или Ареопагита.
САМОЕ САМО
Ι^μ,Ι
377
Правда, это снимает с нас обязанность искать стилевые
признаки данного построения, его философский лик. И он
ясен уже потому, что по содержанию своему он мало чем
отличается от раннего Фихте. При всей разнице методов
мысли и при всей несравнимости новой системы с прежним
субъективизмом внутреннее содержание того и другого
довольно сходно. Виндельбанд среди своих неярких писаний
высказал однажды довольно меткое суждение: «Мощная,
неотступно стремящаяся к действию личность Фихте
вылилась в драматическом построении Наукоучения.
Всеобъемлющий мировой взгляд Шеллинга рисует как бы в
эпическом повествовании историю развития вселенной. Тонкая
религиозность Шлейермахера выражается в лирической
красоте его учения о чувстве. Система Гегеля, это —
великое поучительное стихотворение; основной характер.его —
дидактический, и в силу поучительности, присущей
личности ее творца, она по сравнению с другими,
предшествовавшими ей системами, представляется как бы трезвой
прозой». Если присоединить к этому упущенный здесь фихтев-
ский морализм, то, пожалуй, можно будет с некоторой
точностью сказать, что Абсолют трактован у Фихте как
мощная, морально-драматическая личность, и не столько сама
личность, сколько именно мощная и
морально-драматическая личная жизнь вообще. Скорее здесь именно нечто
безличное, какая-то безличная и таинственная жизнь, мораль
и драма. Ведь можно не рассматривать жизнь личности
именно как жизнь, оставляя в тени принадлежность ее
именно личности. Вот эта безличная жизнь кого-то, но
жизнь, полная морали и драмы, и есть Абсолютное Фихте.
И если это так, то стилевая характеристика такого
Абсолюта получает здесь довольно яркое содержание,
целиком отличное не только от Ареопагитик, но даже и от
Экгарта.
8. Ряд концепций Абсолютного дал Шеллинг; и общий
стиль его философии, указанный только что, стиль,
связанный с особенной зоркостью к философской структуре
символа и мифа, очень выгодно дополняет драматическую,
но лишенную художественных красок философию Фихте.
Здесь мы укажем на то, что целый период в творчестве
Шеллинга имеет обычно название философии тождества.
И здесь действительно содержится учение о самотождестве
абсолютного, которое представляет интерес в контексте
учения о самости.
Α. Φ. ЛОСЕВ
378
a) Шеллинг тоже исходит из оппозиции к
субъективному идеализму, но вместо антитезы Я и не-# он берет
более конкретную антитезу Я и природы. Он задается
вопросом и о том, как интеллект приходит к природе, и о том, как
природа приходит к интеллекту, проводя, таким образом,
равновесие обоих принципов вплоть до полного
отождествления их в Абсолюте, откуда они исходят в виде так
называемых потенций. Шеллинг доходит до вполне четкого
учения о том, что хотя идеальное и реальное отождествляются
в Абсолюте, превращаются в так называемую индифферен-
цию, но сам Абсолют не есть эта индифференция, но нечто
высшее.
Больше, однако, имеет для нас значение то, что
Шеллинг дает развитое учение о символе и мифе, а это как раз
верный признак того, что его Абсолют действительно есть
нечто непонятное, нерациональное, потому что только для
такого Абсолюта и нужны символы.
b) Я позволю себе привести (в своем переводе) первые
параграфы из «Философии искусства», которые по своей
краткости и выразительности представляют собою лучшие
страницы из всех произведений Шеллинга вообще.
Сначала Шеллинг выясняет понятие искусства вообще
«§ 1. Абсолютное, или Бог, есть то, в силу чего бытие,
или реальность, следует из идеи непосредственно, т. е.
только в силу закона тождества. Или: Бог есть
непосредственная аффирмация самого себя.
§ 2. Бог, как бесконечная аффирмация самого себя,
охватывает (begreift) себя самого как бесконечно аффир-
мирующего, как бесконечно аффирмированное и как ин-
дифференцию этого; сам же он не есть ничто из этого в
особенности.
§ 3. Бог есть непосредственно в силу своей идеи
абсолютное Все.
§ 4. Бог, как абсолютное тождество, непосредственно
есть абсолютная цельность (Totalität), и — наоборот.
§ 5. Абсолютное есть просто вечное.
§ 6. Абсолютное в себе ни сознательно, ни
бессознательно, ни свободно, ни несвободно (или необходимо).
§ 7. Во Всем схвачено то, что охвачено в Боге.
§ 8. Бесконечная аффирмированность Бога во Всем,
или во-ображение (Ein-bildung) его бесконечной
идеальности в реальность как в таковую, есть венная природа.
§ 9. Вечная природа охватывает в себе снова все един-
САМОЕ САМО
I I
379
ства — аффирмированности, аффирмирующего и индиф-
ференции обоих.
§ 10. Природа, являющаяся как таковая, не есть
совершенное откровение Бога.
§ 11. Совершенное откровение Бога есть только там,
где единичные формы в отображенном мире разрешаются
в абсолютное тождество, каковое происходит в разуме.
Разум, следовательно, есть во Всем сам — совершенное
отображение Бога.
§ 12. Бог как бесконечная идеальность, охватывающая
в себе всю реальность, или Бог как бесконечно аффирми-
рующее есть, как таковое, сущность идеального Всего».
В идеальном, по Шеллингу, опять повторяется свое
идеальное (внешнее здесь знание), свое реальное (дающее
здесь действие) и своя индифференция обоих (или
искусство) (§ 13-—14). То же абсолютное тождество, которое
выше и этой индифференции, дает в этой идеальной
области — философию (§ 15).
«§ 19. Необходимость и свобода относятся между
собою как бессознательное и сознательное. Искусство
поэтому покоится на тождестве сознательной и
бессознательной деятельности.
§ 21. Вселенная (Universum) образована в Боге как
абсолютное произведение искусства и в вечной красоте.
§ 22. Как Бог в качестве первообраза становится в
отображении красотой, так идеи разума, созерцаемые в
отображении, становятся красотой.
§ 23. Непосредственная причина всякого искусства
есть Бог.
§ 24. Истинная конструкция искусства есть
выставление его форм в качестве вещей, как они существуют в себе
или как они существуют в Абсолюте».
До сих пор Шеллинг рисовал общее понятие искусства.
Искусство есть, стало быть, универс как красота. Далее —
речь об особенных формах этого искусства.
«§ 25. Особенные формы существуют как таковые, без
сущности, они — только формы, которые могут
существовать в Абсолюте, не иначе как поскольку они, как
особенные, снова принимают на себя всю сущность Абсолюта.
§ 26. В Абсолюте все особенные формы настоящим
образом разделены и настоящим образом суть одно только
потому, что каждая из них есть универс, каждая есть
абсолютное целое.
Α. Φ. ЛОСЕВ
380
§ 27. Особенные вещи, поскольку они абсолютны
в своей особенности, поскольку они, следовательно, как
особенные, суть одновременно универсы, называются
идеями.
§ 28. Эти же самые во-едино-образования (Ineinsbil-
dungen) общего и особенного, которые, рассматриваемые
в самих себе, суть идеи, т. е. образы Божественного,
являются богами.
§ 29. Абсолютная реальность богов следует
непосредственно из их абсолютной идеальности.
§ 30. Чистое ограничение — с одной, и нераздельная
абсолютность, с другой стороны, есть определяющий закон
всех божественных образов.
§ 31. Мир богов не есть объект ни только рассудка, ни
только разума, но может быть воспринят единственно при
помощи фантазии.
§ 32. Боги в себе ни нравственны, ни не-нравствен-
ны, но независимо от этого отношения абсолютно
блаженны».
§ 33. «Основной закон всех образований богов есть
закон красоты», ибо «красота есть реально созерцаемое
Абсолютное», а «образования богов суть само Абсолютное,
созерцаемое в особенном реально (или синтезированное
с ограничением)».
«§ 34. Боги необходимо образуют между собою опять
некую целостность (Totalität), мир.
§ 35. Единственно только тогда, когда боги образуют
среди себя мир, они достигают для фантазии независимого
существования, или независимого поэтического
существования.
§ 36. Отношение зависимости между богами не может
быть представлено иначе как отношение порождения
(теогония).
§ 37. Целое представление о богах, когда они
достигают совершенной объективности или независимого
поэтического существования, есть мифология.
§ 38. Мифология есть необходимое условие и первая
материя всякого искусства.
§ 39. Изображение Абсолютного с абсолютной индиф-
ференцией общего и особенного в особенном возможно
только символически.
§ 40. Характер истинной мифологии есть характер
универсальности, бесконечности.
САМОЕ САМО
381
§ 41. Создания мифологии не могут быть мыслимы ни
как намеренные, ни как ненамеренные.
§ 42. Мифология не может быть ни произведением
единичного человека, ни рода или поколения (поскольку
последние есть только соединение индивидуумов), но только
произведением рода, поскольку он сам есть индивидуум
и подобен единичному человеку».
с) Приведенные тезисы из Шеллинга впервые дают
логическое ясное развитие понятия символа и мифа на основе
учения об абсолютной самости, которую он именует
Абсолютом. Характерно, что ни немецкие мистики XIII—XV вв.,
ни прочие немецкие идеалисты конца XVIII и начала XIX в.
(не считая поэтов-романтиков) не дают никаких ясных
нитей для учения о символе. Даже неоплатоники занимались
логикой понятия символа очень неохотно, предпочитая
больше заниматься самими символами, чем их теорией.
Нет никакого логического развитого учения о символе и
у Дионисия Ареопагита, хотя самое ощущение символа
и стремление в него вживаться и его понимать так же
могущественно в Ареопагитиках, как их апофатизм. Николай
Кузанский принципиально стоит на почве символизма и
даже дает их общеонтологическое обоснование. Однако
и он не дал специального анализа самого понятия символа,
потому что его «конъектуры» имеют только очень общее
значение и относятся не просто к символу, но вообще ко
всякому знаку, которым оперирует наше сознание. И вот
только Шеллинг — кажется, впервые за всю историю
философии — дает именно понятие символа и мифа, анализ
именно самого понятия символа и мифа. И при том
процитированные нами тезисы есть далеко не единственная
концепция Шеллинга в этой области. Мы ее привели, как и
вообще все в этой главе, только ради примера.
Ради краткого резюме этого учения Шеллинга мы
могли бы предложить такую таблицу.
I. Абсолютное (которое не есть ни утверждающее, ни
утверждаемое, ни их индифференция).
II. Всё (общее).
a) Реальное Всё (вечная природа):
1. материя *)
2. свет > разум
3. организм J
b) Идеальное Всё:
1. знание
Α. Φ ЛОСЕВ
I 1
382
2. действие
3. искусство
с) Абсолютное Всё:
1. истина ^
2. добро V философия
3. красота)
III. Универс (особенное).
a) Идеи
b) Боги
c) Боги как абсолютный целостный мир, или
мифология (индифференция общего и особенного в
особенном, или символ).
Таким образом, исходя из триады: идеальное, реальное,
индифференция, Шеллинг учит о том, что эта триада
несколько раз повторяется в каждом из своих членов. Та
индифференция, которая сливает воедино идеальное и
реальное в самой индифференции, т. е. в третьем члене, есть
красота. Красота — синтез идеального и реального в
индифферентном, или абсолютном, Всё. Но это абсолютное Всё
дано пока вне всякой дифференциации. Если его
дифференцировать, получается Универс, Вселенная, в котором,
однако, каждый частный момент обязательно продолжает
нести на себе все целое. Идеальное в нем, несущее на себе
все целое, есть идеи; а реальное в нем, несущее на себе все
целое, есть боги; а индифференция реального и идеально-
го, несущая на себе все целое, есть символ и миф.
Следовательно, для понятия символа необходимо: 1) абсолютное,
которое вне всяких различий; 2) проявление его в
абсолютном Всё; 3) выделение в этом абсолютном Всё идеального
и реального, но взятых в их тождестве; 4) дифференциация
этого последнего тождества на отдельные моменты, но так,
чтобы они цельно выражали его собою; и, наконец, 5) раз-
деление и этих дифференцированных моментов Всего с
точки зрения идеального и реального, причем символ есть
именно новое тождество идеального и реального.
Еще короче можно сказать так. Символ, по Шеллингу,
есть такое тождество идеального и реального, которое
выражает в данной отдельной вещи тождество идеального
и реального во Всем, причем это Всё есть выражение
лишенного всяких различий абсолютного единства.
Приведенное к такой простой формуле, многосложное
учение Шеллинга обнаруживает свое ясное и вполне
естественное место в системе мирового апофатизма, недоста-
САМОЕ САМО
f >
383
точно четко формулированное в концепциях, приведенных
выше. Ясным становится и то, какая культурная типология
толкала Шеллинга на этот путь. Если Фихте увлекался
моральным драматизмом, а Гегель дидактической прозой,
то Шеллинг жил восторгами перед широчайшим мировым
эпосом, понимая мир как самое совершенное произведение
искусства. Тут Абсолют, это самое само Шеллинга, есть
жизнь художника, подобно тому как у Фихте самое само
есть жизнь морально-волевого деятеля. Ясно при этом и то,
что абсолютное самое само у того и у другого есть нечто
безличное. Оба настолько высоко ставят человеческого
субъекта, что при всем их объективизме и даже апофа-
тизме на долю объективности остается все же в конце
концов нечто безличное.
9. В заключение этого краткого перечня некоторых
учений о самости приведем еще один памятник мировой
мысли, довольно плохо изученный как раз с интересующей нас
стороны, это именно «Каббалу», и в частности книгу «Зо-
гар», окончательное формирование которой относят к
XIII в.
В книге «Зогар» содержится немало текстов о так
называемом Эн-Соф, Не-нечто. Это есть уже известное нам
абсолютное единство, которому совершенно не может быть
приписана никакая предикация. Оно лишено вида, образа,
понятия и т. д. и т. д. Однако тут содержится не только
общий формальный апофатизм, с которым мы встречались
в предыдущих примерах. О характере всякого трансце-
дентного начала надо судить по тем категориям и вещам,
которые служат его проявлением и эманацией. И в этом
отношении «Зогар» дает весьма важный материал.
Дело в том, что первым и основным проявлением Эн-
Соф является некий первочеловек Адам Кадмон, а через
него эманирует 10 зефирот, разделенные на три триады и
на один заключительный член. Первая триада — Корона,
Мудрость, Разум; вторая — Красота, Милость,
Справедливость; третья — Основа, Торжество, Слава. Десятая зе-
фирота объединяет и синтезирует все девять зефирот и
называется Царство. Вот это-то Царство, каббалистический
«Малькут», и есть первое адекватное выражение Эн-Соф·
это — то, во что вырастает Адам Кадмон со своими
девятью зефиротами.
Уже на основании этих учений Каббалы (прочего —
часто гораздо более яркого — приводить не будем) можно
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L-
384
с полной уверенностью сказать, что Эн-Соф имеет свою
подлинную оригинальность как абсолютизация
социального, безлично-социального бытия. Трансцедентность
здесь не пустое становление Индии, не числовое
оформление неоплатоников, не абсолютная личность Ареопагитик
и Николая Кузанского, не мистическое Я Экгарта и не
трансцедентальное Я Канта и Фихте и не индивидуальное
безличие Фихте, Шеллинга и Гегеля. Это есть апофеоз
социального безличия, абсолютность человечества, взятого
в виде вне-личного состояния. Да и самое наименование
«Эн-Соф», «Не-нечто», говорит о некоем активном
нигилизме в отношении личности, в то время как прочие апофа-
тики говорят или просто о Ничто, или, как, например,
Николай Кузанский, о «Неином». «Неиное» Кузанского хочет
именно спасти и утвердить индивидуальность, «Не-нечто»
же Каббалы как раз хочет ее уничтожить.
Этими краткими примерами из истории мысли мы и
ограничимся.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Нельзя пройти равнодушно мимо затронутых
великих памятников всемирно-человеческой мысли и
философии. Не будем смотреть на них свысока, находя в них что
то отжившее, умершее или по крайней мере настолько
устаревшее, что зазорно и вспоминать об этом. Никакая
философская идея, вообще говоря, не умирает. И никакую
философскую идею, вообще говоря, невозможно
опровергнуть. Все великие идеи продолжают жить вечно, в прямом
или косвенном смысле. И настоящее опровержение
философской идеи есть не уничтожение ее, но выставление еще
новой идеи, воспроизводящей еще новую и небывалую
категорию из постоянно заново проявляющейся вечной
истины. Легко поддаться соблазну рассматривать историю
философии в виде какого-то мирового кладбища, на котором
бессильно гниют разные большие или малые покойники.
Гегель пишет: «История философии, по своему
существенному содержанию, имеет дело не с прошлым, но с
вечным и вполне наличным и должна быть сравниваема в
своем результате не с галереей заблуждений человеческого
духа, а скорее с пантеоном божественных образов» ' Бра-
1 Энциклоп. § 86.
САМОЕ САМО
—\—\
385
ма-Атман и Нирвана индусов, Единое неоплатоников,
Самое Ничто Дионисия Ареопагита, Первооснова Мейстера
Экгарта, Неиное Николая Кузанского, Не-нечто
средневековых каббалистов, Я и Абсолютное Фихте, Тождество и
Абсолютное Шеллинга — и все это есть образы вечной
истины, каждый из которых имеет в ней свое нерушимое
обоснование. Опровергнуть их невозможно. Единственная
задача историка философии в отношении их заключается
только в исследовании их внутренней связи и в
определении диалектической последовательности и смысла их
появления на горизонте всемирно-исторической
философии.
Это есть задача историков (которые, конечно, никогда
не могут быть только историками). Мы же сейчас только
бросим беглый взгляд на то, в чем эта история могла бы
быть для нас поучительной.
2. Мы прежде всего убеждаемся, что всегда учение
о самом самом привлекалось для целей весьма
значительных и даже грандиозных. Почти всегда оно было
неразлучно с мистикой, с потребностью в самых широких и
глубоких обобщениях, для которых мало обобщений науки
и повседневной жизни. Это и понятно. Самое само, которое
по своему существу есть наиобщее в бытии, очень хорошо
служило обобщающим тенденциям в философии и
отвечало самым грандиозным и возвышенным стремлениям
человеческого духа.
Должна ли существовать дальше эта связь учения о
самом самом с указанными грандиозными построениями
человеческого духа? Нет никаких оснований отвечать на
этот вопрос отрицательно. Однако тысячелетняя история
этого учения заставляет нас уточнять и дифференцировать
этот положительный ответ. Дело в том, что сознание этих
высоких умов прошлого было настолько занято грандиоз-
ностью открывшегося им видения, что они часто не
находили никакого времени и охоты заниматься его деталями,
давать точные определения и исходить из вещей
обыкновенных и общеизвестных. Эти занятия для них были
скучны и при синтетизме их ума давали им мало. Мы, однако,
рождены в другую эпоху. Игнорирование повседневности и
текучего материала никак не может считаться для нас чем-
то положительным. Для нас не может быть <и речи) о
презрении к этому малому, слабому, временному. И едва ли
для нас может быть обосновано самое само, если его не
13 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
386
видно будет на простейших, обыденнейших и всем
одинаково известных вещах.
Этим продиктовано то, что примеры на самое само
берутся нами из этих презренных для старых философов
обыденных вещей и предметов. Я стараюсь уяснить себе это
самое само на моей домашней печке, на моих стоптанных
галошах, на курносой идиотке, которая среди кухонных
трагедий мнит себя центром вселенной, на крошечном и
слепом котенке, который сегодня только появился на свет,
на всех этих глупых, кривых, тупых, больных, злых и
мелких людях, скотах, вещах и событиях. Хорошо видеть
самое само в космосе, в Боге, во всех вещах, взятых как
целое. Но еще лучше не потерять его из вида в вещах мелких,
частичных, случайных, временных и никому не интересных.
На них-то как раз и выступает с элементарнейшей
очевидностью вся простота, но и вся неприступность, вся
абсолютность этого самого самого. На них-то мы как раз и
учимся понимать всю условность человеческих оценок, всю
эту шаткость и субъективизм общеизвестных
квалификаций. Может быть, вам и не интересны мои стоптанные
галоши. А мне это очень интересно, когда я вижу, что других
галош у меня нет, а на дворе дождь и слякоть, а денег
на покупку галош тоже нет. Галоши, товарищи, это тоже
вещь, тоже какая-то индивидуальность, тоже какое-то
самое само. Вот на этих вещах я и познаю, что такое самое
само.
Итак, первое поучение, которое мы выносим из
предложенного выше обзора, это — включение в сферу
философии всего «обыденного» и обыкновенного, всех этих не-ми-
стических, не-романтических и даже просто не-поэтических
будней жизни. От нас не уйдет более красивая и глубокая,
более роскошная сторона бытия. Но — после столь
кропотливых и детальных логических исследований последних
десятилетий — невозможно игнорировать все эти «низшие»
сферы. Этим наше философствование резко отличается
от перечисленных выше грандиозных образов истории
философии.
3. Однако не только это общее поучение выносим мы
из нашего обзора. Мы можем сейчас же зафиксировать
ряд положений, которые должны считаться совершенно
доказанными — после изучения приведенных нами
философских систем,— но которые ровно ничем не связаны ни
с какой философской системой и даже не связаны вообще
САМОЕ САМО
—J L.
ни с каким мировоззрением. По этому поводу надо сказать,
что люди вообще очень часто спешат в философии с
признанием или отвержением тех или и (иных)
мировоззрений. Еще неизвестно, что такое философия и каковы ее
методы, а уже приступающий к ней заранее очень влюблен
в одно мировоззрение и очень озлоблен против другого.
Никто не хочет знать, что в философии добрая половина
всех учений не имеет ровно никакого отношения ни к
какому мировоззрению или, вернее, имеет одинаковое
отношение ко всем мировоззрениям. Сводить всю философию
на мировоззрение целиком, несомненно, есть
вульгаризация философии, игнорирование значительной — и притом
наиболее научной — части ее содержания. Так же можно
было бы и в механике или в физике находить только одно
мировоззрение, в то время как наряду с несомненно
миросозерцательными моментами в этих науках содержится,
конечно, огромное количество материала, абсолютно
нейтрального к любому мировоззрению.
Вот такие же простейшие и несомненные факты
выносим мы из изучения приведенных философских систем,
наталкиваясь на них как на нечто совершенно общее этим
системам, несмотря на их колоссальное
миросозерцательное расхождение (тоже, как помним, всегда у нас
отмечавшееся).
4. а) Первый такой простейший и несомненный факт
есть факт невозможности определения вещи через ее
признаки. На все лады толкуют эту истину указанные
философы, справедливо находя, что если их трансцедентность
определить хотя бы одним словом, то это уже будет
определение ее не через нее самое, а через иное, т. е.
трансцедентность уже перестанет быть самой собой.
Мы же видим это уже на стоптанных галошах. Галоша
сама по себе не есть стоптанность, поскольку она может
быть и нестоптанной. Стоптанность тоже сама по себе не
есть галоша, поскольку стоптанным может оказаться и
сапог. Как же в таком случае получается представление
о стоптанной галоше? Чем связаны между собою эти два
момента, если между ними нет ничего общего? Ясно, что
их связывает нечто другое, что не есть ни галоша, ни
стоптанность, ни уж тем более не есть нечто постороннее им.
Вот это-то третье в стоптанной галоше, что, с одной
стороны, не есть ни галоша, ни стоптанность, а с другой — не
есть и нечто постороннее стоптанной галоше, это мы и на-
13*
Α. Φ. ЛОСЕВ
388
зываем самым самим стоптанной галоши. И наличие этого
самого самого обязан признать решительно всякий,
независимо ни от какого своего мировоззрения.
Противники подобного утверждения, находя его у
мистиков индусов, греков или немцев, устраняют его на том
основании, что оно есть плод фантазии этих мистиков. Но
вот для констатирования факта стоптанной галоши уже не
требуется никакой мистики (по крайней мере с точки
зрения позитивистов), а, оказывается, это самое само налицо
и здесь, в этой стоптанной галоше. Можно, конечно, это
не называть самым самим, как необязательно называть это
«ничем», «неиным» или «не-нечто». Называйте это как
хотите — богом, индивидуальностью, материей, вещью,
фактом, монадой, идеей, формой, символом и т. д. и т. д. В том-
то и состоит преимущество нашей точки зрения, что именно
независимо от мировоззрения и независимо ни от какой
терминологии этот факт, факт слияния признаков в то, что
уже не содержит никаких различествующих признаков,
этот факт остается непреложным.
Ь) Второй — такой же простейший и несомненный —
факт, выводимый из наблюдения над перечисленными
философскими системами, сводится к установлению полной
специфичности акта схватывания и полагания этого
самого самого. Философские системы тоже все в один голос
свидетельствуют о такой специфичности, взывая опять-
таки к ее необычности, удивительности, чудесности,
божественности и т. д. Попробуем, однако, обратиться опять
к презренным вещам, и — мы тотчас же убедимся, что эти
акты познавания самого самого действительно есть нечто
совершенно специфическое, что нельзя свести ни на какую
другую человеческую способность.
Есть ли это нечто рациональное, логическое,
мыслительное, умственное, выводное? Конечно, нет. Раз мы
нашли в вещи нечто такое, что совершенно неделимо,
нерасчленимо и даже неразложимо,— как же можно говорить
тут о логических заключениях? Логическое заключение
там, где есть расчлененные понятия, которые мы
объединяем в ту или иную систему. Но самое само не есть ни
понятие, ни вообще что-нибудь отличное от чего-нибудь или
в себе расчлененное. Значит, рациональных способностей
человека здесь мало.
Но можно ли сказать, что этот акт полагания или
схватывания самого самого есть акт чувственного восприятия?
САМОЕ САМО
1 щ -I
389
Это можно сказать еще меньше того. И какие бы
способности человеческой души мы ни перебирали, мы ни с одной
из них не сможем отождествить интересующий нас акт
полагания самого самого. Он — совершенно специфический.
И опять-таки: называйте его разумом, рассудком,
чувственным восприятием, интуицией, воображением, мыслью,
фантазией, идеей и т. д. и т. д. — от этого дела не прибудет
и не убудет. Многие, ухватившись за то, что это не есть
рациональный акт, сразу начинают упрекать за то, что это —
иррациональность, необоснованная и произвольная
интуиция, субъективное воображение. Это, конечно, только
беспомощность. Из того, что тут нет логических определений
и выводов, вовсе еще не вытекает, что тут чистая и слепая
иррациональность. Наоборот, это очень зрячий акт —
даже самый зрячий, потому что он-то как раз и ухватывает
вещь как вещь, самое само вещи. Необоснованным тоже
его назвать нельзя; он вполне реален и вполне обоснован.
Нет ничего в нем и фантастического. Наоборот, он же как
раз и схватывает вещь как вещь. Обычно думают, что все
логическое обосновано, а все вне-логическое необосновано
и слепо. Может быть, чистая — животная или иная —
иррациональность действительно необоснована и слепа. Но
акт полагания и схватывания самого самого отнюдь не есть
чистая иррациональность. Повторяю: это совершенно
специфический акт; и его нужно понимать так же
непосредственно и без доказательств, как без доказательства мы
соглашаемся на факт логического построения или чисто
чувственного, животного ощущения.
с) В-третьих, можно не называть символом самого
самого всякую вещь, рассматриваемую как вещь. Имея в
виду то, что самое само не обладает никаким определением,
лишено всяких признаков и категорий и что в то же самое
время вещь расчленима, обладает признаками, имеет свою
оформленную историю, мы на этом основании назвали
каждую вещь символом самого самого. Можно опять-таки
сколько угодно не употреблять такой терминологии.
Можно это называть просто вещами, идеями, знаками и
выражением вещи, реальной или объективной вещью, материей,
конкретностью, действительностью и т. д. и т. д. Факт
остается фактом: реальная вещь есть сразу и
одновременно и нечто неразличимое, и нечто различимое. И
устранить этот факт можно только путем устранения самой
вещи.
Α. Φ. ЛОСЕВ
ι ι
390
d) В-четвертых, из приведенного обзора философских
систем с полной убедительностью, не допускающей
никаких возражений, вытекает и еще одно обстоятельство, о
котором тоже приходится сказать, что оно не зависит от
мировоззрения, а зависит только от желания или нежелания
последовательно рассуждать.
В самом деле, если есть одна, другая, третья и т. д.
вещи, то существуют ли все вещи вместе? Казалось бы,
нечего и отвечать на этот вопрос; но все же этот вопрос
почему-то многим не нравится. Существуют ли все вещи или
не существуют? Я не знаю, как можно было бы ответить
на этот вопрос отрицательно. Ну конечно же существуют.
Раз существуют отдельные вещи, то почему же не
существовать им вместе? Итак, все вещи существуют вместе и,
следовательно, образуют нечто целое. Теперь спросим
себя: а что, у этого целого есть свое самое само или его нет?
Я не знаю и здесь, как можно было бы отвечать на этот
вопрос отрицательно. Раз всякие две в целом есть не то, что
каждая в отдельности и что является их механическим
сочетанием, то как же все-то вещи, в сумме взятые, будут тем
же самым, что и их целое? Ясно, что всё как целое отлично
от всего как простой механической суммы всех вещей. Но
тогда, очевидно, самое само этого всего как целого и
подавно будет от него отличаться. Кроме того, если мы взяли
действительно все вещи и больше уже ничего не осталось,
то это будет то, что с полным правом можно назвать
абсолютно всем, или абсолютным всем. И, значит, обязательно
существует и какая-то абсолютная самость, абсолютное
самое само, которое отличается от суммы всех вещей так,
как индивидуальная самость отличается от суммы всех
признаков и свойств вещи. И ясно, что каждая отдельная
вещь, так же как и все вещи, взятые вместе, есть не что
иное, как символы этого абсолютного самого самого.
Я думаю, что большинство читателей этой книги
глубочайше убеждены, что делать подобные заключения
свойственно только миросозерцанию, и притом очень
определенному миросозерцанию. Я знаю, что эти заключения могут
послужить и уже много раз служили тому или иному
мировоззрению. Но я категорически утверждаю, что два тезиса,
выставляемые здесь, сами по себе никакого отношения не
имеют ни к какому миросозерцанию и суть только
простейшие и элементарнейшие установки самого обыкновенного
жизненного опыта. Первый тезис: если существует не-
САМОЕ САМО
- Ішш.1
391
сколько вещей, то эта совокупность их может быть
рассматриваема как целое. И второй тезис: всякая
совокупность чего бы то ни было, чтобы быть совокупностью,
должна иметь самое само. Первый тезис нельзя опровергнуть,
ибо совокупность вещей только тем и отличается от каждой
такой вещи, взятой в отдельности, что она есть именно
совокупность. Второй тезис тоже нельзя опровергнуть, ибо
самое само тем и отличается от вещи просто, что это есть
именно она сама, что это есть вещь, зафиксированная
именно как данная вещь. Отвергать абсолютную самость
значит не признавать, что вещи могут объединяться, и,
значит, не признавать, что вещи суть именно вещи. Едва
ли, однако, является мировоззрением только та простая
житейская установка, что вещи объединяются в
совокупности вещей и что вещи суть именно вещи.
И опять-таки: назовите это богом, миром, природой,
материей, идеей, личностью, безличным Всем, высшей
монадой, абсолютом, сознанием, интеллигенцией, индифферен-
цией, бытием-возможностью, актуальной бесконечностью,
непознаваемым #, вселенной, демиургом и т. д. — от этого
ровно ничего не изменится. Установленный здесь факт не
есть никакое мировоззрение (хотя и может служить
мировоззрению, и притом чуть ли, кажется, не любому
мировоззрению), но это есть только непосредственное житейское
усмотрение, опровергать которое невозможно без
опровержения элементарных и насущных жизненных реакций
человека.
е12*) Приведенные нами философские системы
сходятся еще в очень многом, но достаточно и указанных
только что немногих пунктов сходства, чтобы представить себе
общее русло и направление возможных совпадений.
Отметим тут еще ряд наиболее простых обстоятельств.
Приведенные системы философии основаны на полага-
нии вещи как именно вещи. Эта простая установка
заставляет нас — и опять-таки до всякого мировоззрения —
квалифицировать длинный ряд философских учений как чисто
абстрактных, как имеющих некоторое значение только
в порядке абстракции, но не в порядке адекватного
отражения в мысли живой действительности. Действительно,
самое само снимает в себе решительно все антитезы,
которые свойственны данной вещи. Оно есть их абсолютный
синтез; и можно только в порядке мыслительной
абстракции выделять в нем те или иные частичные моменты. Но,
Α. Φ. ЛОСЕВ
. » I
392
как мы знаем, самое само может и являться; и в своем
явлении, когда последнее адекватно, оно все же продолжает
содержать в себе все свои антитезы в неразличимом виде.
В таком виде явленное самое само мы называем символом,
или конкретной, живой вещью.
f) В самом деле, возьмем хотя бы антитезу идеального
и реального. Значительная часть всей истории философии
бьется над задачей объединить идеальное и реальное или
предоставить в этой антитезе приоритет какому-нибудь
одному из обоих членов. На самом же деле эти эпохи в
истории философии просто загипнотизированы абстрактными
методами и не умеют видеть простых и живых вещей.
Действительно, можно ли представить себе такую вещь,
которая бы не имела никакой идеи, т. е. не имела бы никакого
смысла и никакого значения. Ведь иметь свою идею — это
и значит быть собою. Если бы вот эти доски, которые я
вижу через свое окно, не содержали бы в себе своей
определенной идеи быть крышей соседнего дома, то они так и
оставались бы кучей досок, и больше ничего. Но вот эти
доски воплощают на себе идею крыши дома, и только при
наличии этой идеи они действительно есть крыша. Далее,
можно ли было бы себе представить, что видимая мною
в окно крыша соседнего дома не состоит из досок, как
доски — из распиленного дерева? Можно ли представить
себе деревянную вещь без дерева, без ее материала, без ее
деревянной материи? Конечно, нет. Следовательно, и идея
крыши, и материя крыши — одинаково необходимы для
самой крыши. Но в то же время сама-то крыша вовсе не есть
ни просто идея крыши, ни просто материя крыши. Она есть
сама крыша, понимать ли ее как некое самое само (тогда
она будет дана в свернутом виде), понимать ли ее как
символ (тогда она будет в расчлененном и развернутом виде).
Но как бы мы ни расчленяли и ни оформляли крышу,
всегда в ней идеальное и реальное слиты в одно
неразличимое бытие; все в ней может быть различно, но, пока
крыша есть крыша, идеальное и реальное в ней —
неразличимо.
Ясно, что если понимать идеализм как учение о голых
идеях, а материализм как учение о бытии только одной
материи, то антитеза идеализма и материализма есть
результат абстрактных философских методов, питаемая страстью
к возвеличиванию мертвых сторон действительности в
угоду той или иной абстрактной метафизике. Оба абстрактных
САМОЕ САМО
r=n
393
метода берут только одну сторону вещей и не берут другой,
а самих вещей вовсе не берут и не могут взять.
g) Родственной этому является антитеза сущности и
явления. Разумеется, в целях анализа установка этих
категорий имеет весьма важное значение, как и изучение
отдельных органов тела необходимо для того, чтобы овладеть
анатомией. Однако это значение отнюдь не бесконечное
и не самое последнее. Можно ли на самом деле представить
себе живую вещь без всякой сущности, но только в виде
явления или без всякого явления, но только в виде сущности?
Если мы хотим определить вещь как вещь, т. е. взять ее как
данное самое само (неразвернуто) или как символ
(развернуто), то не может не быть никакого и разговора о
выборе между сущностью и явлением. Сущность в вещах,
конечно, есть. Без нее вещи были бы ничто, т. е. совсем не
было бы вещей. Какая сущность вот этого стоящего около
стены предмета? Сущность этого предмета заключается
в том, чтобы служить местом хранения книг. Только когда
ши знаете, в чем эта сущность заключается, вы можете
судить о данной вещи. Иначе вы даже не можете шкаф
назвать шкафом. Далее, существует ли шкаф без дерева, из
которого он сделан? Смешно и спрашивать. Итак, только
очень абстрактная философия может не признавать того,
что сущность и явление совпадают в одном неразличимом
тождестве, что сама вещь не есть ни явление, ни сущность
вещи, но просто сама вещь. А эту-то самость мы и
постулируем, исходя из того, что в ней неразличимы как раз
сущность вещи и явление вещи.
h) Еще один предрассудок помогает нам преодолеть
предыдущий обзор апофатических учений. Есть ли вещь
нечто конечное или бесконечное? Нечего и говорить,
решительно все думают, что между тем и другим —
непроходимая бездна, настолько непроходимая, что конечное
никогда и никак, ни при каких условиях не может быть
бесконечным, а бесконечное — тоже никогда и никак не может быть
конечным. В крайнем случае мы можем найти в истории
философии примеры, когда стараются показать, что
бесконечное переходит в конечное или конечное становится
бесконечным. На самом же деле, с точки зрения самого
самого, или символа, конечное и бесконечное опять-таки есть
только максимальные абстракции — правда, часто
удобные для тех или иных целей, но только не для целей
отображения живой действительности.
А Ф.ЛОСЕВ
394
Прежде всего, эти категории несамостоятельны уже
по одному тому, что они соотносительны. Раз вы мыслите
конечное, значит, тем самым вы обязаны мыслить
бесконечное; и — наоборот. Мы говорим не о фактическом
мышлении, но о принципиальном. Имея два рубля денег в
кармане, вы, конечно, можете не мыслить при этом
бесконечное количество рублей; и, мысля бесконечное мировое
пространство, вы фактически тем самым еще не мыслите его
и конечным. Однако эта раздельность конечного и
бесконечного достигается здесь только тем, что сюда
привносится чуждое самим этим категориям случайное
вещественное содержание. Разумеется, иметь два рубля не значит
иметь бесконечное множество рублей. Но отбросим эти
рубли; и отбросим даже самые количества, к которым
применяются здесь категории конечного и бесконечного; и
возьмем самые эти категории. Тогда сразу выяснится, что
одно без другого тут совершенно немыслимо, что одно для
другого является границей, а в границе как раз абсолютно
совпадают ограничивающее и ограничиваемое.
Возьмем бесконечное. Оно отличается от конечного.
Но ведь раз взято бесконечное, это значит, что взято уже
всё, что больше ничего уже не остается. В таком случае
отличие бесконечного от конечного есть отличие
бесконечного от самого себя, т. е. конечное есть не что иное, как
определенным образом оформленное бесконечное. Возьмем
конечное. Конечное отличается от бесконечного. Но отли
чаться с чем-нибудь — значит иметь с ним общую границу.
Но иметь общую границу можно только тогда, когда
ограничивающее действительно совпадает по этой границе
с ограничиваемым. Следовательно, бесконечное в своем
протяжении совпадает с конечным, и бесконечное есть
только определенным образом оформленное конечное.
Абстрактная мысль приводила здесь как раз к
чудовищным выводам, вроде софизма с Ахиллом и черепахой.
Но философы все еще никак не научатся оперировать с
такой категорией, где конечное и бесконечное совпадали бы
«авсегда, до полной неразличимости. Надо было бы
послушать если не приведенных выше мистических философов,
то хотя бы Гегеля с его учением об истинной и дурной
бесконечности, и если не Гегеля, то хотя бы Кантора с его
учением об актуальной бесконечности. Я же предлагаю брать
не мистиков, не Гегеля и не Кантора, а опять-таки мою
старую стоптанную галошу.
САМОЕ САМО
fSS^SX
395
Я вас спрашиваю: стоптанная она или не стоптанная?
К сожалению — да, стоптанная. А значит, она была когда-
то новой? Да — увы! — она была когда-то новой. Так,
значит, что-то тут произошло? Еще бы! Я ее сносил! Но ведь
не сразу же? Ну, конечно, не сразу. Значит, для этого
нужно было время? Ах,— да! Небольшое. И движение?
Конечно, и движение! Надо было хотя бы некоторое время
ходить в этих галошах по улицам. Но позвольте! Я свои
галоши примерял в магазине? Примерял в магазине. И в них
ходил там? Один шаг. Что же, они за это время хоть
сколько-нибудь сносились? Конечно, нисколько не сносились.
Значит, когда я делаю в этих галошах только
один-единственный шаг, от этого они еще не снашиваются? Еще не
снашиваются. Ну, вот вам и критика абстрактного разделения
конечного и бесконечного.
Если галоши не снашиваются во время передвижения
на шаг, то они не снашиваются и при передвижении на
миллион шагов; т. е. это значит, что они вообще не
снашиваются. Это нелепо. Если же они начинают снашиваться
уже при передвижении на один только шаг, то
спрашивается: как же велик должен быть этот шаг, чтобы галоши
как-нибудь снашивались. Допустим, этот шаг равен
половине метра. Если так, значит, шаг в четверть метра еще
не снашивает галош. Ну, так я тогда буду двигаться
шагами в четверть метра, и — моей пары галош хватит
не только на мою жизнь, но и на всю жизнь всех людей,
которые когда бы то ни было существовали или будут
существовать; на всю бесконечность времен хватит
изделия советского «Треугольника». Нелепо. Значит, меру надо
брать меньше, не четверть метра. Но какую же? Ясно, что
такой меры вообще не существует, она все время уходит
в бесконечность, она бесконечно мала и меньше любой
заданной величины, как бы последняя ни была мала.
Но что же оказывается? Оказывается, что эти три
месяца, в течение которых я сносил свои галоши и они
из новых стали стоптанными, я проходил целую
бесконечность мельчайших сдвигов. Оказывается, что три месяца
есть вся бесконечность времени, что в пределах трех
месяцев можно иметь бесконечное множество отдельных
пространственных и временных сдвигов. А иначе я не мог и
сносить своих галош.
Итак, простой факт стоптанных галош, если только
брать его не с какой-нибудь абстрактной стороны, а брать
Α. Φ. ЛОСЕВ
ι—ι
396
именно как таковой, т. е. стоптанные галоши как именно
стоптанные галоши, один этот простейший факт обыденной
жизни уже кричит о том, что в живых вещах бесконечное
и конечное неразличимо, что самое это различие есть уже
признак отхода от живой жизни вещей.
После этого не говорите мне, что совпадение
бесконечного и конечного в едином символе выдумал отец церкви
Дионисий Ареопагит или идеалист Гегель. Совершенно не
зависимо ни от мистицизма, ни от идеализма, не зависимо
ровно ни от какого мировоззрения конечное и бесконечное
совпадают в одной неделимой и живой вещи, которая
поэтому может, если угодно, сразу считаться и символом
конечного, и символом бесконечного. Всякому ясно, что дело
тут не в мировоззрении, а только в желании или нежелании
рассуждать.
і) Мы не будем развивать других антитез, получающих
свое воссоединение в самих вещах, т. е. в самом самом
вещей. Таковы, например, антитезы общего и частного,
сознательного и бессознательного, личного и социального,
времени и вечности. Абстрактность этих и подобных
разделений, а равно и метод их преодоления в свете вещей как
таковых, т. е. в свете самого самого, вполне ясен из
предыдущего изложения. Общий вывод получается сам собой:
раз все мировоззрения, которые касались первопринципа
всякого бытия, формально сходны между собою и даже
совпадают в учении о самости и ее символах — а мы как
раз подчеркиваем оригинальность каждого такого
мировоззрения и несовместимость его со всяким другим,— то,
следовательно, учение о самости и ее символах не зависит
ни от какого мировоззрения, для всякого мировоззрения
может быть использовано и не зависимо ни от какого
мировоззрения должно быть построяемо, усваиваемо и
принимаемо.
5. В заключение необходимо, однако, сказать, что
отмежевание решительно от всякого мировоззрения отнюдь
не нужно понимать в абсолютном смысле. Философия не
должна сводиться на мировоззрение, но она не должна и
целиком от него отмежевываться. Наоборот, философия
должна быть обоснованием мировоззрения, и
мировоззрение только и может быть обосновано при помощи
философии. Не будем отмежевываться от мировоззрения и мы.
Но мы также не будем и спешить с признанием или с отвер-
ганием тех или иных мировоззрений. Мы попробуем
САМОЕ САМО
397
строить нашу философию без всякого мировоззрения до
тех пор, пока только это будет возможно. Мы попробуем
использовать из философских учений все то, что является
для них наиболее общим, наиболее объективным и — тем
самым — наиболее научным. И только после всего этого
мы введем тот принцип, который превратит все эти схемы,
формально общие для всех или для большинства
мировоззрений, в новое мировоззрение, подобно тому как и во всех
перечисленных выше учениях мы всегда отмечали тот
особый принцип, который делал каждое такое учение
оригинальным и самостоятельным историко-философским
типом.
398
II
БЫТИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Все существующее есть символ абсолютной самости.
Это значит, что все существующее и есть, в некотором роде,
сама эта самость. Все частичные моменты бытия есть
только воспроизведение и выявление самого самого. Вся его
полнота и неисчерпаемость почила на бытии. Бытие
повторяет его и заново конструирует его. Но самое само есть
в то же время и величайшая непонятность и даже
непознаваемость. Поэтому все существующее, являясь
символом самого самого, всегда таит в себе нечто непонятное
и непознаваемое. Какая бы отчетливая и ясная логика
его ни сопровождала, оно в то же самое время раз навсегда
есть нечто таинственное и неизъяснимое.
Пусть в правильности таблицы умножения убеждены
все люди, у которых нормально работает мышление; пусть
она абсолютно достоверна, очевидна, пусть она
удостоверяется бесчисленным количеством фактов физических и
нефизических. Однако никто и никогда не ответит на вопрос:
почему дважды два четыре, а дважды три шесть. В
сущности, невозможно ответить и на вопрос: почему один да один
два. Единица и двойка обладают определенным
смысловым содержанием, и в силу этого содержания сумма двух
единиц равняется двум. Но почему данное числовое
содержание ведет именно к такому результату,— этого никто
и никогда не разъяснил и не в силах разъяснить.
И в математике эта непонятность последних основ
особенно заметна. Пусть в логике и вообще в философии люди
напускают много туману; и там если бы люди рассуждали
более научно,— допустим даже это пошлое суждение,—
то было бы все всем понятно и не оставалось бы ничего
таинственного. Но вот математика — уже настоящая
наука, и в достоверности ее никто не сомневается. И все же
многие ее утверждения производят решительно
впечатление чуда, в особенности некоторые замысловатые решения
САМОЕ САМО
f——Ί
399
высшей математики. Что из данной аксиомы или теоремы
или из их ряда вытекает какая-нибудь новая теорема,
это — понятно, т. е. тут понятно содержание этого вывода.
Но почему мысль требует именно этого вывода, а не
другого, этого никто разъяснить не может. Вникая в
содержание математического анализа, мы быстро начинаем
замечать, что математики творят вовсе не свое человеческое
дело, что они описывают свои видения какого-то
непонятного им мира; и вся их задача сводится к тому, чтобы как
раз устранить все свое человеческое, субъективное,
случайное, чтобы послушествовать этому таинственному
велению рассуждать именно так, а не иначе, чтобы списать
с явленной им непонятной картины возможно больше и
возможно точнее.
То же самое надо сказать и о всем человеческом
знании, а в частности и о логике. Как бы она ни была
очевидна, убедительна и ясна, за ней копошится некая бездна
непонятного, алогичного, таинственного, чем она питается
и откуда получает свою структуру, но о чем нельзя ни
говорить, ни мыслить. Как никогда ни один биолог не сможет
разъяснить причудливых форм растений и животных,
далеко выходящих за пределы биологически исследуемых
факторов, и как никакие объяснения не в силах уничтожить
нашего удивления перед разнообразными причудливыми
формами растений и животных, так никогда и логика не
разъяснит нам своих логических форм и не заставит нас
перестать им удивляться, как бы они ясны и очевидны ни
были сами по себе.
Это мы сможем констатировать с первых же шагов
логической мысли вообще.
I. ТАЙНА ПЕРВОГО ЗАЧАТИЯ МЫСЛИ
1. Самое само непознаваемо и дологично. Но вот пусть
мы хотим зафиксировать самое первое, самое примитивное
движение мысли после этого самого самого. Прежде всего,
что это будет за движение?
а) Начнем «снизу», с вещей. Что в вещи есть наиболее
примитивного, наиболее абстрактного, наиболее
необходимого? Вот ветка сирени. Она может быть разного цвета
Значит* цвет не есть что-нибудь основное. Она может быть
разных размеров. Значит, размер также не есть что-
нибудь первоначальное. И т. д. и т. д. Доходя так до самого
Α. Φ. ЛОСЕВ
первого, чем характеризуется эта ветка сирени, мы
столкнемся с одной категорией, которая уж во всяком случае
должна в ней быть, как бы и чем бы ни определялась
сама сирень. Это именно ее бытие. Сирень прежде всего
должна быть, чтобы мы о ней что-нибудь утверждали.
Сирень есть — вот что есть то первое, пусть самое бледное
и абстрактное,— без чего сирень не есть что-нибудь и что
является как бы базой и стержнем для всех ее реальных
свойств и качеств и для всей ее конкретной жизни. Бытие,
т. е. первое полагание,— вот на что потом будет
навертываться вся жизнь данной вещи и вот последнее основание
для всякой вещи за все время ее существования. Сирень
есть нечто. Но чтобы быть этим нечто, она сначала должна
просто быть. Сирень эта расцвела несколько дней назад
и будет еще цвести две недели. Но чтобы расцветать и
отцветать, она должна сначала просто быть. Вот этот куст
сирени — простой, а вон то — персидская сирень. Но
чтобы быть простой или персидской, сирень сначала должна
просто быть. Вот у меня цветок сирени в три, четыре
лепестка, а вот после долгих поисков я нашел цветок сирени
с пятью лепестками. Однако, чтобы иметь три, четыре или
пять лепестков, сирень должна сначала просто быть.
И т. д. и т. д.
Бытие, или — что то же,— полагание, утверждение,
очевидно, есть самое первое, самое основное, что
утверждает мысль, без этого не существует ничего прочего.
Ь) То же самое получится, если мы начнем рассуждать
«сверху», т. е. с самого самого. Самое само не существует,
ему не свойственна категория бытия. Но ясно, что это-то
и есть в нем самое разительное и самое оригинальное. Что
оно не обладает ни одним из известных нам свойств, это
усваивается гораздо легче. Но то, что его даже не
существует, это подрывает всякую его характеристику в самом
корне. И если начать что-нибудь о нем говорить, то прежде
всего, конечно, надо начинать с бытия. Если самое само
не есть, не существует, то бесплодной будет решительно
всякая его характеристика. И если, наоборот, есть бытие,
то тогда обеспечена возможность и всякой другой
категории, ибо всякая другая характеристика должна прежде
всего существовать, а потом уже существовать в качестве
такой-то.
Итак, с разных сторон бытие есть первичная и
необходимейшая категория, с которой должна начинать филосо-
САМОЕ САМО
401
фия, если она хочет вскрыть символическое содержание
самого самого в порядке строгой постепенности.
2. а) Но что же мы получаем? Бытие есть первое пола-
гание, первая точка, возникающая на неисповедимом лоне
самого самого. Мы утверждаем: никогда никто и нигде
не понял и не поймет подлинного смысла этой первой
вспышки мысли на темном фоне абсолютной самости.
Отношение этого первого полагания мысли к абсолютной
самости равносильно или появлению первой черной точки
в том абсолютном свете, в котором до сих пор не было
ровно никакого различия, или появлению первой светлой
точки в той абсолютной тьме, в которой тоже не было до сих
пор никакого просвета. Что можно сказать по этому
поводу? Можно с уверенностью сказать, что, пока существует
абсолютный свет или абсолютная тьма, т. е. пока дается
такая — бесконечная — сила света или тьмы, что
последние не отличаются ни от чего другого (ибо ничего другого
нет, и они охватили уже все), ни от себя самих (ибо они
абсолютно нетронуты в себе, и здесь уже погасло всякое
различие), пока, говорим, существует такой свет или тьма,
до тех пор не возникает никакой мысли, никакого слова,
никакой характеристики этого света или этой тьмы. С
другой стороны, можно еще с уверенностью утверждать, что
мысль, слово, какое бы то ни было изображение или
описание требуют различия, отличенности одного момента от
другого, а эта последняя требует, чтобы данные моменты
были, существовали, т. е. требует, прежде всего, категории
бытия. Однако совершенно невозможно сказать, почему,
из каких причин, на каком основании и как именно
появляется этот первый удар молнии смысла; и невозможно
сказать, что заставило абсолютную самость, которая и без
того есть абсолютное самодовление, еще порождать из
себя те или другие категории, в том числе и категорию
бытия, или различия.
Ь) Можно сделать вид (как это делают философы
рационалистического склада), что тут все вполне
благополучно и понятно и что в таком первом появлении мысли
нет ровно ничего удивительного. Этому не удивляется даже
великий Гегель, который начинает свою логику с категории
бытия, совершенно не задаваясь вопросом, откуда же и
зачем появилась самая эта категория. Действительно,
сказать на эту тему нечего, но удивиться здесь есть чему.
Вспомним, что мы исходили из конструирования до-
Α. Φ ЛОСЕВ
f^=ïl
402
категориального самого самого. Было ясно, что от этого
самого самого уйти совершенно некуда, так как всякое
место, куда мы ушли бы, будет также такое «само», да и мы
тоже будем продолжать оставаться «самими» собой.
Однако если всерьез абсолютная самость, непонятная и
вышекатегориальная, присутствует неизменно во всяком
малейшем акте бытия, то ведь ясно, что всякий малейший акт
бытия есть, прежде всего, это самое само, т. е. эта
непонятность и до-категориальность, а уже потом нечто
специфическое. Везде перед нами тайна этого первого зачатия
мысли, потому что везде, где есть живая мысль, эта мысль все
зачинается и зачинается, везде все рождается и
рождается, везде расцветает или увядает, возникает или
уничтожается. Тайна первого полагания мысли, т. е. тайна ее
первого зачатия, сопровождает мысль на протяжении
решительно всего ее существования, ибо она не может вечно не
зачинаться и не может вечно не возникать или не расти. При
возникновении любой ее категории, при малейшем трепете
разума, при мельчайшем акте сознания или смысла —
повторяется целиком и торжествует свою властную победу
эта абсолютная неисповедимость первых смысловых
зачатий.
Что может сказать об этом даже самая просвещенная
философия? Ведь нельзя же всерьез относиться к
объяснениям происхождения разума и смысла, и в частности
категории бытия, из разного рода «фактов», будь то
физические или биологические, психические или социальные
факты, раз сами эти факты существуют только благодаря
категории бытия. Это наивное и бездумное petitio princi-
piiІ3* не может удовлетворить философскую мысль.
Однако то, что после этого остается,— выведение категорий
разума (и, в частности, категории бытия) из
до-категориальной основы несет с собою неразрешимую тайну,
отбросить которую нельзя (так как мысль неистово требует
«разъяснить происхождение» категории бытия), а превра·
тить ее в ясно и раздельно решаемую задачу тоже нельзя
(ибо такова сама природа постулируемой здесь до-кате-
гориальности).
И эта тайна есть настоящая и подлинная тайна, т. е. не
та временная загадка и неясность, которая разрешается
с течением времени и в связи с прогрессом науки и методов
мысли. Это — такая тайна, которая не может не быть
тайной, которая не будет разрешена никем и которую невоз-
САМОЕ САМО
Ішшш^ші
403
можно и разрешать, но которой можно только дивиться.
Самое же главное, это то, что она не возникла случайно,
ввиду тех или иных недостатков знания или бытия. Она
обоснована самими знанием и бытием как необходимая.
Она — абсолютная необъяснимость знания и бытия, ибо
если ее нет, то это значит, что нет самого самого, а тогда
все рассыпается в нигилистическое марево и безумие.
Чтобы был ум, требуется тайна его первого зачатия, и тайна
эта уже не есть тайна только ума... Это — тайна самого
самого и тайна его эманирования. Она —абсолютно
неразрешима, но она в то же время и абсолютно необходима.
Ею сужается вся жизнь всеохватного разума и смысла, и
она являет себя на всяком месте его проявления. Но она
являет себя как тайну, и она ощутима как тайна, без
всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой надеждой
на оплодотворение ею любых проявлений разума и смысла
вообще.
с) И не только таинственно первое зачатие мысли.
Таинственна и вся ее конкретная жизнь. Мы должны
искать ее так, чтобы соединение характеризующих ее
моментов было для нас необходимостью, ясностью и
очевидностью и чтобы разум и рассудок в ее конструировании
действовали с полной свободой, не испытывая ни малейшего
препятствия ни с какой стороны. Но тут-то и начинает
говорить о себе тайна, подобно тому как она ощущается и в
математике, как раз в силу убедительной очевидности того
или другого построения.
Почему именно та, а не иная связь является
необходимой? Ведь мысль, казалось бы, могла иметь совершенно
другое строение. Пусть действительно имеется какая-
нибудь связь логических или математических посылок, не
имеющая ничего общего с той логикой и математикой,
которая существует у людей. И пусть она и есть истинная,
а та, которая теперь у нас, та пусть будет неистинной или
пусть даже совсем не существует или остается никому не
известной. Эта новая связь положений была бы научной,
истинной, очевидной, наглядной; и ни у кого не возникло
бы даже и мысли о возможной условности такой логики и
математики, как теперь не возникает сомнений о таблице
умножения. Однако это-то и есть в мысли самое
замечательное, что она имеет данную необходимую структуру, а
не другую. Пусть никакая другая структура для нас
немыслима и даже невообразима. Но вот это-то и есть тайна,
Α. Φ. ЛОСЕВ
■ Ι—^l —.
404
что мыслима для нас только какая-то одна определенная
структура.
3. а) Можно, конечно, совсем не задаваться таким
вопросом, и тогда мы не зафиксируем никакой тайны, а
дадим только чисто рационалистическое изображение того
содержания мысли, которое нам реально дано. Но
невозможно заглушить в себе этого вопроса. И он оправдан не
слепо психологически, а, главное, еще и чисто логически,
поскольку фактически находимая нами структура мысли,
отвлеченно говоря, есть только один из возможных видов
структуры мысли вообще. Или мы должны сказать, почему
именно та, а не эта структура мысли обладает логической
необходимостью, или мы должны зафиксировать
невозможность ответа на этот вопрос. Мы не можем ответить
на этот вопрос. Но мы не только не отвечаем на этот
вопрос. Мы еще указываем пальцем на туманную бездну
самого самого, которая есть последний виновник и
абсолютный обоснователь того, что бытие именно таково, а не
иное. Но это и значит зафиксировать факт тайны, тайны
как первого зачатия мысли вообще, так и всякой ее
реальной структуры и жизни.
Ь) Эту же самую мысль — и притом оставаясь на чисто
логической позиции — можно представить и иначе. Бытие
есть бытие. В этом виде оно, конечно, не есть ни свет, ни
тьма, ни моя комната, ни Америка, ни вообще что-нибудь
другое. Оно есть оно, и больше ничего. Но если это так,
если действительно нет ничего такого, с чем бы оно — хотя
бы частично — совпадало, то ведь это же значит, что оно
не содержит в себе ровно никаких различий. Будь оно хотя
бы чем-нибудь, то это уже было бы частичным совпадением
его с тем, что оно не есть. Но оно не есть что-нибудь. Оно
есть только оно само, и больше ничего. В таком случае оно
не содержит в себе ровно никаких различий,— оно ни от
чего не отличимо, и оно неразличимо также и внутри себя
самого. Но в таком случае бытие есть тайная неисповеди-
мость и безымянность, полная непознаваемость и
непонятность, в том же роде, как и самое само также выше
всякого различения и познавания. Но раньше мы говорили
вообще о самом самом, а теперь говорим специально о
бытии. Оказывается, что в бытии тоже есть свое самое само
со всей той его характеристикой, которая нам уже знакома.
И со всей этой неожиданностью бытие существует
абсолютно везде, ибо везде оно есть оно, и везде оно, прежде
САМОЕ САМО
I 1
405
чем быть тем или другим и прежде чем обладать тем или
иным качеством, везде оно является сначала самим собою,
т. е. сверхразумной, дологической самостью бытия.
Таким образом, эта дологичность бытия
(усматривается) не только из общих рассуждений о самом самом, но
вполне доказуема и чисто логическими аргументами.
4. Выше мы сказали, что не только самая категория
бытия обладает характером таинственности, но и вся
конкретная жизнь разума и бытия — такая же. Однако
формулируем то самое важное обстоятельство, которое наряду
с категорией бытия является основой всей категориальной
жизни разума.
a) Именно, как только мы положили и утвердили
бытие, так в то же мгновение мы оказались в целой системе
полаганий, учесть которую на первых порах даже
невозможно. Покамест у нас было самое само до всяких
полаганий, не было, естественно, и никакой системы полаганий,
т. е. не было и самого метода этих полаганий. Но стоило
только положить хотя бы бытие, как вся картина сразу
переменилась, и — мы очутились под перекрестным огнем
целой тучи труднейших категорий, вдруг откуда-то
появившихся вокруг нашего «бытия» и властно потребовавших
своего признания.
Всматриваясь в эту новую и небывалую картину, мы
начинаем замечать, что наше дологическое самое само
вдруг исчезло как такое, т. е. оно вдруг перестало быть
непознаваемой и недоступной бездной. Как только
возникла категория бытия, т. е. как только утвердилась
первая смысловая индивидуальная точка, так тотчас же вы-
шебытийственное самое само превратилось в окружающий
эту точку бесконечный и клокочущий хаос бесчисленных
смысловых возможностей. О самом самом как таковом мы
не могли сказать даже этого, а если это и говорили, то
только в порядке иносказательных описаний. Теперь же в
самом буквальном смысле самое само, еще не становясь
никакой логической категорией, превращается в живое и
неиссякаемое лоно бесчисленных смысловых возможно-
стейу в ту бесконечно плодородную и тучную почву, в
которую попадает наше первое зерно разума — категория
бытия. Из взаимоотношения с этой бездной возможностей
категория бытия породит и все прочие категории разума.
b) Эта величественная и потрясающая картина жизни
разума, вдруг возникающая неизвестно откуда при первом
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 \ ,
406
появлении бытия, также не может не вызывать, по меньшей
мере, удивления. Покамест не было бытия — ничего не
было. Но вот случилось первое чудо: внебытийственное,
дологическое, сверх-смысловое самое само неизвестными
путями породило из себя бытие. И в то же мгновение —
появилась и целая неисчерпаемая бездна еще нерасчле-
ненных возможностей, и наше бытие оказалось
окруженным этой непроглядной ночью и животворным хаосом
бесконечных смысловых оформлений.
Оказывается, что бытие для того, чтобы быть, должно
быть окружено этим небытием. Если есть бытие, то есть и
небытие,— вот та новая и неожиданная истина, которая
вдруг явилась нам вместе с первой молнией
расчленяющего разума. Бытие, чтобы быть, должно отличаться от
того, что не есть бытие, отличаться от небытия. А это
значит, что небытие тоже должно существовать. Но ведь
бытие есть полагание, утверждение, т. е. ясное расчленение,
противоположение, координация. Следовательно, небытие
есть отсутствие расчленения и различения; это —
неразличимый хаос. С другой стороны, однако, раз появилась
категория бытия, то уже все, что есть или может быть, по
необходимости рассматривается с точки зрения бытия. Это не
значит, что все обязательно есть само бытие; но это значит,
что все обязательно рассматривается с точки зрения
бытия. Рассматривать же ту или иную область с точки зрения
бытия — это значит рассматривать ее с точки зрения бы-
тийных возможностей. Так мы смотрим темною ночью на
небо, покрытое тучами и не содержащее в себе никакого
различения и никакой формы. Это есть не просто
отсутствие бытия (тогда не о чем было бы и разговаривать), но
это есть присутствие бытия только в его чистой
возможности. Раз где-то есть хоть какое-то бытие, значит, есть
категория бытия; а если есть категория бытия, то отныне
уже все существующее и несуществующее обязательно
несет на себе печать бытия (ибо такова вообще всякая
категория- она не может не присутствовать везде, прямо
или косвенно); а печать бытия для того, что еще не
существует, т. е. для того, что является пока небытием, это и
есть возможность бытия. Отсюда полученный нами выше
неразличимый хаос есть именно неразличимый и
бесконечный хаос смысловых и бытийственных возможностей.
с) Можно и тут сделать вид, что ничего особенного не
случилось, что нет ничего естественнее этой антитезы бы-
САМОЕ САМО
I I *
407
тия и небытия. Для Платона и Гегеля это очень понятно и
просто: если есть бытие, то должно быть и небытие, так как
если бытие ни от чего не отличается, то оно не есть и бытие.
И действительно, если брать это элементарное
диалектическое утверждение само по себе, в нем нет ровно ничего
загадочного или странного, оно — элементарнейшее
требование всякой рассуждающей мысли. И тем не менее это
никогда не перестает нас поражать и удивлять. Кант во
введении к «Критике способности суждения» рассуждает
приблизительно так. Когда мы из частного выводим общее
и потом на этом основании продолжаем частное подводить
под это общее, тут нет ничего удивительного. Но когда мы
априорно нашли некоторое общее, а потом по проверке
оказывается, что все фактическое частное, несмотря на
свою абсолютную случайность, существует именно так,
как мы замыслили наше общее, то это обстоятельство не
может не вызывать в нас удивления. Нечто в этом роде
происходит и при конструировании этих первых полаганий
бытия и небытия. Почему это так? Почему бытие должно
противополагаться небытию и почему так происходит
абсолютно везде, где только есть зародыши мысли,— этому
не перестаешь удивляться, как бы проста и понятна ни
была указанная элементарная схема. В сущности,
указанное взаиморазличие и взаимоотождествление бытия и
небытия нисколько не менее понятно, чем античное
стоическое учение о том, что мир вдыхает в себя окружающую
его пустоту и тем создает внутри себя жизнь и всякое
оформление. Это, в основе своей, то же самое, что
противоположение бытия и небытия, которое сопровождается
вбиранием в бытие смысловых возможностей, заключенных
в небытии.
5. Итак, первое зачатие мысли происходит в
таинственной и какой-то волшебной — без преувеличения можно
сказать, мифической — обстановке. Откуда-то заблистала
вдруг первая светящаяся точка бытия, и откуда-то вдруг
закопошилась, заволновалась, забурлила вокруг
напряженная бездна и хаос бытийных возможностей, не
явленных, но настойчиво требующих своего включения в бытие,
своего участия в бытии. И эта первая светящаяся точка,
как искра от ветра и от горючего материала, тут же
начинает расти и распространяться, поглощать этот горючий
материал небытия, который сам стремится к огню и свету,
начинает превращаться в пламя, в пожар, во вселенское
Α. Φ. ЛОСЕВ
408
игрище воспламененного разума, где уже снова исчезла
антитеза бытия и небытия и как бы восстановилась
нетронутость самого самого, но восстановилась не в виде
первобытной слитости и доразумности, а в виде последнего и
окончательного оформления. Может быть, периодические
мировые пожары, о которых грезил Гераклит,
продиктованы тоже этими холодными интуициями бытия,
отличающегося от небытия только для того, чтобы потом снова
с ним слиться и воссоединиться.
В дальнейшем мы научимся понимать, как абсолютная
нерасчлененность и абсолютная расчлененность есть одно
и то же и как то, что находится посредине между этими
последними крайностями, и является живой и реальной
картиной разума и бытия. Бытие вечно раздваивается,
дифференцируется, и оно же вечно превращается в
единство, интегрируется. В этой борьбе различений и
отождествлений и состоит вся реальная жизнь разума и бытия.
IL ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПЕРВОГО СИМВОЛА
1. БЫТИЕ, НЕБЫТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ
Итак, мы зафиксировали первое наше утверждение
вообще. Это есть само утверждение, или бытие. Еще мы
не знаем, какое будет это бытие и чем оно будет заполнено,
но уже нам ясно, что без бытия нигде не обойтись. Теперь
спрашивается: что же имеем мы дальше?
1. а) Старые философы часто допускали роскошь
систематического дедуктивного изложения, начиная с самых
абстрактных основ разума и кончая его конкретными и
эмпирически данными образованиями. Этой роскоши, к
сожалению, мы не можем сейчас допустить, хотя она
требовалась бы планом всего нашего рассуждения в целом. Мы
опять будем прозаически исходить из обыкновенных
чувственных вещей, соглашаясь с обывателями,— конечно,
пусть условно,— что чувственные вещи действительно для
нас понятнее всего. Раз всякая чувственная вещь есть
символ абсолютной самости, то, очевидно, она как-то
повторяет и воспроизводит эту самость. И, значит, в своем
конструировании первого символа мы имеем некоторое
право исходить из общих наблюдений за самыми
обыкновенными чувственными вещами. Поэтому вникнем в эту
обывательскую прозу.
САМОЕ САМО
ІммІ
409
b) Что есть в вещи кроме ее бытия и что такое вещь
как нечто целое?
Всякий скажет, что вещь не только есть, существует,
но что она еще и движется, меняется, становится,
возникает и уничтожается. В результате этих изменений она
получает самые разнообразные качества, которые,
объединяясь в одно целое, создают индивидуальность вещи.
Кроме того, всякая вещь находится в некоторой среде,
которая заново перестраивает всю ее индивидуальность
и в которой она себя так или иначе проявляет, причем эта
последняя м* обладает в данном отношении, конечно, теми
или иными весьма определенными границами своих
возможностей. Вот что обывательская и повседневная мысль
находит в каждой вещи характерного и существенного.
Собственно говоря, никакой философ в перечислении
основных категорий, из которых конструируется вещь, не
сказал ничего большего. Указываемые повседневною
мыслью свойства вещи можно употребить то более удачно,
то менее, то более складно и стройно, то менее, то более
учено и диалектично, то менее. Но нет никакой
возможности выйти за пределы этих простейших установок; и даже
всякое такое выхождение, когда оно возможно, происходит
только на их основе и при их жизни. Следовательно, и вещь
как символ абсолютной самости тоже не может, в
основном, выйти за эти пределы. Надо только уметь понимать,
почему здесь говорится о символе абсолютной самости.
c) Философы-диалектики, вскрывая многосложную
логическую структуру вещи, хотя и базировались на
указанных простейших наблюдениях, очень часто увлекались
этими невылазными дебрями мысли настолько, что ни о
каких простейших положениях уже не могло быть и речи
ни у них самих, ни у их читателей. Возражать против
сложности и тонкости диалектической мысли не приходится;
эта сложность и эта тонкость действительно велики. И тут
нельзя просто отвернуться и употребить ругательное
выражение «схоластика». Однако мы совершенно вправе
требовать, чтобы всякая сложность и тонкость диалектически
отвечала простейшему жизненному опыту и чтобы при
всех своих усложнениях и утончениях мысль имела прямую
и очевидную связь с обывательскими и повседневными
наблюдениями.
2. Основываясь на приведенных элементарных
свойствах любой чувственной вещи, попробуем сначала ввести
Α Φ· ЛОСЕВ
1 Ι
410
необходимые здесь философские категории, а потом
попробуем и формулировать их необходимую взаимосвязь,
или диалектику.
a) Вещь есть, существует. Это — первое, и это уже
зафиксировано нами в самом начале. Далее, вещь,
сказали мы, движется, меняется, становится, возникает и
уничтожается. Тут можно было бы употребить еще длинный
ряд аналогичных выражений, но все они будут обладать
частным характером (так, о живом существе можно
сказать, что оно ест, пьет, имеет стремления, влечения,
чувства, молодеет, стареет и проч.; о камне можно сказать,
что он раскалывается, выветривается, грубеет или
полируется, красится, обесцвечивается, растворяется и проч.).
Спрашивается: какое выражение из всех этих несомнен-
нейших свойств каждой вещи является наиболее общим,
наиболее подходящим ко всем видам бытия и
существования? Таким показателем является, несомненно,
становление. Изменение, движение, рождение и умирание —
словом, любой процесс, так или иначе происходящий с
вещами, живыми и неживыми, есть не что иное, как вид станов-
ления. Можно ли отказаться от этой категории при
описании элементарной структуры вещи? Конечно, нет. Без
становления в том или ином виде вещь даже вообще непред-
ставима.
b) Но что такое становление в сравнении с
зафиксированным нами в самом начале бытием? Не достаточно ли
для вещи просто бытия и что нового дает нам становление?
Что одного бытия недостаточно, это легко понимает
всякий, потому что с одной категорией бытия вещь не
двигалась бы с места ни в каком отношении. Все покоилось бы
на месте, и все застыло, оцепенело бы. Значит, явно, что
становление дает нечто новое. Но что же именно?
Что значит, что вещь становится? Это значит, что она
перестает быть одной и делается другой. Так, если под
становлением понимается движение, то вещь перестает
быть в точке А и оказывается в точке ß; если идет речь
о качественном изменении, то становление означает, что
какое-то качество вещи перестало существовать и
образовалось другое. И т. д. Следовательно, и бытие, раз оно
вовлечено в стадию становления, должно из одного стать
другим. Но что же значит для бытия стать другим? Ведь у нас
пока нет совершенно никакой другой категории, кроме
бытия. Бытие, чтобы оказаться в становлении, должно стать
САМОЕ САМО
I >
411
другим: это значит, что «другое» может быть только
отрицанием самого бытия и более ничем, ибо иначе надо было
бы выдвигать действительно другую, т. е. новую,
категорию, а у нас, кроме бытия, нет пока ничего. Но отрицание
бытия есть небытие. Это — единственная категория,
которую мы еще могли бы выставить, в условиях отсутствия
всякой другой. Но ее вполне достаточно. Бытие должно
переходить в небытие. Если это имеется, то категория
становления для нас обеспечена.
c) В самом деле, возьмем движение. Вот тело прошло
точку А и пришло в точку В. Точка А миновала и
заменилась точкой В, Точка А для точки ß уже не существует, а
точка В для точки А еще не существует. В движении, стало
быть, каждая точка не существует для каждой другой
точки, хотя в то же время она не может не существовать
вообще. Если бы ни одна точка проходимого телом пути не
существовала вообще, то ясно, что не существовало бы и
самого движения. Значит, эти точки сами по себе
существуют. Но они в то же самое время и не существуют, они все
время снимаются, уничтожаются. В тот самый момент, как
точка возникла, она тут же и исчезла, ушла в прошлое; и
притом — не в какой-нибудь другой момент, а именно в
этот самый, в это самое мгновение. Пусть тело пришло в
своем движении в такую точку пути, которая бы только
возникла и наступила, но тут же еще и не исчезла бы, не
ушла бы в прошлое. Ясно, что наступление этой точки
означало бы остановку движения. Пусть какая-нибудь точка
пути только уходит в прошлое, а еще, кроме того, не
наступает, не возникает. Это было бы нелепостью, так как
уходить в прошлое и исчезать может только то, что наступило
и возникло. Итак, движение с полной очевидностью
свидетельствует о том, что возникновение и уничтожение
существуют в нем абсолютно одновременно и в отношении
одного и того же его момента.
d) Теперь отвлечемся от специфических свойств
движения и будем говорить только о становлении. Если там
мы говорили о возникновении отдельных моментов
движения и о том, что это возникновение совпадает с их
уничтожением, то теперь мы должны говорить о возникновении
бытия и об уничтожении бытия. Становление, согласно
этому, будет происходить так: 1) бытие возникает; 2) в
то самое мгновение, когда оно возникает, оно
уничтожается, т. е. переходит в небытие; 3) небытие, таким обра-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
412
ЗОМ, тоже возникает; 4) но это инобытие постигает та же
судьба, ибо в самый момент своего возникновения оно
переходит в другое, т. е. уничтожается. Становление,
таким образом, есть одностороннее совпадение бытия и
небытия: бытие переходит в небытие, и небытие переходит
в бытие. Или, прямо можно сказать: становление и есть
совпадение бытия и небытия.
е) На это нельзя возражать указанием на
раздельность реально существующих качеств, которые остаются-
де даже тогда, когда одно из них переходит в другое. Пусть
черное переходит в белое или наоборот (напр., пусть
светает или смеркается). Это же не значит, говорят, что белое
есть черное, а черное есть белое. Тут — путаница
понятий. Во-первых, белое и черное не есть просто бытие и
небытие, но определенная окачествованность бытия и
небытия. Мы же говорим вовсе не о том, что одно качество есть
другое качество, но о том, что бытие есть небытие и
небытие есть бытие. Во-вторых, белое и черное не есть
становление бытия или небытия, но результат становления. А о
результате становления мы тоже еще не сказали ни слова.
Результаты становления, возможно, и не совпадают. Мы
говорили только о бытии и небытии. А бытие, если только
оно вообще может выйти из своего неподвижного и
окаменелого состояния, необходимо должно становиться именно
как бытие, без перехода в какую-нибудь другую категорию.
Но при таких условиях оно, по необходимости переходя
в иное себе, в отрицание себя, становится только небытием,
равно как и небытие, по необходимости переходя в иное
себе, обязательно становится бытием.
О Тут уже начинается непростая диалектика. Но
всякому вполне ясно, что под ней лежит простейший факт
сравнения, без которого немыслимо ничто живое, да,
пожалуй, и ничто мертвое. Чтобы осознать уже такой простой
факт, как становление, надо уметь понимать, как это бытие
есть небытие и небытие есть бытие. В сущности, это
тождество тоже есть простейшая вещь, хотя и требует для
своего признания некоторой культуры ума. Обыватель,
конечно, весьма удивляется ей. Но почему бы не удивляться
тому, как в движении каждый новый момент наступает
как раз в то самое время, когда он уходит в прошлое? Ведь
всякому же ясно, что это — один и тот же момент,
абсолютно одно и то же мгновение, когда тело приходит в
данную точку своего пути и когда оно ее покидает. Однако
САМОЕ САМО
I I
413
отсюда ясно должно быть и то, что возникновение и
исчезновение совершается в одно и то же мгновение, что бытие
данного момента времени и его небытие совпадают в одном
и том же мгновении. Если обыватель не возражает на это
в чувственном движении, так это только потому, что он
привык к этим чувственным наблюдениям. Если бы он
также привык пользоваться чистым мышлением, как он
привык пользоваться чувственными восприятиями, то он не
возражал бы и на то, что категории бытия и небытия не
только различны и раздельны, но что есть такие категории, в
которых бытие и небытие совпадают в абсолютной
неразличимости.
3. В учении о становлении мы имеем первый пример
того всепоглощающего действия бытия и такого же
действия небытия, о чем мы говорили выше. Это первый пример
на дифференциацию и интеграцию, из которых состоит
реальная жизнь разума и бытия. Эти две категории —
бытия и небытия — сначала предстали перед нами во всей
своей противоположности и взаимораздельности, во всей
своей несовместимости. Потом оказалось, что они должны
взаимно уничтожиться, погибнуть одна в другой, совпасть
в одном неразличенном единстве. Еще, правда, далеко до
гераклитовского пожара, но предвестие его вполне
ощущается уже тут, на самых первых порах диалектической
мысли.
Прежде чем, однако, перейти к дальнейшему,
рассмотрим ряд чрезвычайно важных деталей, которые помогут и
самое становление представить в гораздо более богатом и,
главное, понятном виде.
В учении о становлении мы формулировали, как
категории бытия и небытия предстали перед нами в своем
полнейшем, чистейшем совпадении. А между тем самое это
совпадение предполагает некоторые детали их
взаимосвязи, которые мы еще не затронули. Оказывается, между
ними существует взаимосвязь, предшествующая полному
совпадению в безразличии.
Первая такая взаимосвязь исходит из их взаимозамены
и взаимообоснования. Вторая и третья — из фиксирования
результатов взаимосвязи в пределах одной и другой
категории. Четвертая — из фиксирования взаимосвязи после
проведения второй и третьей операции.
а) Итак, во-первых, спросим себя: поскольку все
начинается с бытия и все судьбы этого последнего, как и его
А Ф.ЛОСЕВ
414
небытия, определены каким-то одним источником, то как
этот источник можно было бы выразить? Этот источник
в абсолютном смысле есть самое само, в котором бытие и
небытие слиты в одно нерасчлененное сверхъединство. Но
мы сейчас покинули среду самого самого и говорим о
бытии и небытии в их раздельности. Следовательно, их
абсолютное тождество должно как-то выразиться и на стадии
расчленения. Оно и выражается тем, что обе эти категории
безразлично одна другую обосновывают, так что
оказывается безразличным, какую из них ставить во главе и какую
из какой выводить. Это мы и зафиксируем в следующем
рассуждении.
I. Небытие не есть бытие. Но в данном случае бытие
в отношении небытия является тем, что не есть оно, бытие,
т. е. оно является небытием. Следовательно, небытие не
есть небытие. Значит, из того, что небытие не есть бытие,
вытекает, что небытие не есть небытие. Допустим, однако,
что небытие не есть небытие. Но то, что не есть небытие,
есть бытие. Следовательно, небытие есть бытие. Итак, из
того, что небытие не есть бытие, вытекает, что небытие есть
бытие. Итак, бытие есть, существует именно потому, что
его нет, что оно не существует.
II. Бытие не есть небытие. Но небытие тоже есть некое
бытие. Следовательно, бытие не есть бытие, т. е. бытие не
есть оно само. Значит, из того, что бытие не есть небытие,
вытекает, что бытие не есть бытие. Допустим, однако, что
бытие не есть бытие. Но то, что не есть бытие, есть небытие.
Следовательно, бытие есть небытие. Итак, из того, что
бытие не есть небытие, вытекает, что бытие есть небытие.
Итак, небытие есть, существует именно потому, что его
нет, что оно не существует.
III. Бытие есть бытие. Но бытие как предикат не есть
тут бытие как субъект, ибо иначе было бы бессмысленно и
самое это утверждение. А то, что не есть бытие, есть
небытие. Следовательно, если утверждение, что бытие есть
бытие, имеет хоть какой-нибудь смысл, то только потому, что
бытие не есть бытие.
IV. Небытие есть небытие. Но небытие как предикат не
есть тут небытие как субъект, ибо иначе было бы
бессмысленно и самое это утверждение. А то, что не есть небытие,
есть бытие. Следовательно, если утверждение, что небытие
есть небытие, имеет хоть какой-нибудь смысл, то только
потому, что небытие не есть небытие.
САМОЕ САМО
415
Эти четыре аргумента можно было бы, конечно,
выразить и иначе. Но их содержание всегда сведется к одному:
бытие и небытие есть и не есть одно и то же; и эти
категории взаимно обусловливаются и обосновываются.
Ь) Заметим только одно обстоятельство,
высказываемое иной раз представителями формальной логики.
Говорят, что «бытие» и «небытие» берутся тут в разных
смыслах и что поэтому вся аргументация основана здесь на
недоразумении. Это, однако, совершенно не так.
Пусть, когда мы говорим, что бытие не есть небытие,
а небытие тоже есть некое бытие и что поэтому бытие не
есть бытие, пусть при этом предикат первого
утверждения — «небытие» — есть некое качество, или смысл, а
когда мы его называем — во втором утверждении — бытием,
то «бытие» тут не качество, а самый факт этого качества.
Тогда получится, что в первом утверждении «небытие»,
будучи названо, не будет никаким фактом, т. е. самое
утверждение, что бытие не есть небытие, вообще не будет
говорить ни о каком предикате, т. е. ни о каком небытии,
т. е. вовсе ничего не будет утверждать о бытии и вообще не
будет утверждением. Следовательно, тут-де ни в каком
случае нельзя различать «факт» и «качество факта».
Упомянутая формально-логическая критика исходит из
путаницы бытия как такового с бытием определенным,
т. е. из путаницы бытия с содержанием бытия. Когда мы
говорим, что белый цвет не есть не-белый, то мы
действительно не можем сказать, что не-белое есть тоже белое и
что поэтому-де белый цвет не есть белый. Однако это
происходит так исключительно потому, что в белом и не-белом
можно различать самый факт цвета и качество, или смысл,
цвета, т. е. бытие цвета и его качество, определенность.
Но когда мы говорим о бытии или небытии просто, то тут
уже нельзя различать какой-то факт бытия и какое-то
качество, или смысл, бытия. В бытии как таковом (а также
и в его определении) еще нет никаких качеств или
содержаний; бытие просто есть и больше ничего, а небытие
просто не есть и больше ничего. Следовательно, нельзя и
представить себе, что это бытие или небытие употреблялись
тут в каких-нибудь разных смыслах. Тут еще нет и самих-
то разных смыслов вообще. Если это твердо себе усвоить,
то станет вполне очевидной недопустимость указанного
формально-логического возражения.
4. От самотождества и самообоснования категорий
Α. Φ. ЛОСЕВ
416
бытия и небытия перейдем к фиксации результатов этого
тождества для них самих в отдельности. Поскольку мы
сейчас не стоим на почве чистого и безраздельного
становления, а разыскиваем только разные формы взаимосвязи
бытия и небытия, постольку нам остается только прибегать
к разным комбинациям того и другого. А тут есть и нечто
новое.
Действительно, тогда получается, что в небытии его
факт есть одно, а его смысл есть что-то другое или в
бытии — его факт есть одно, а его смысл есть что-то другое.
Получается, что небытие как факт имеет смысл бытия, а
бытие — смысл небытия. Какое же это бытие, если оно по
своему смыслу есть небытие, и какое это небытие, если оно
по своему основному и решающему качеству есть бытие?
Когда мы говорим в указанном аргументе, что «небытие
тоже есть бытие», то ни в каком случае, очевидно, при
этом нельзя думать, что «бытие» здесь употребляется в
каком-то другом смысле, чем «бытие» в термине «небытие».
Если мы скажем, что «небытие» (предикат) тут есть
«бытие» только по своему факту (как является этим бытием
решительно все, что существует), т. е. в абстрактном
смысле, но не по своему конкретному смыслу и содержанию
(как и «белое», являясь бытием вообще, в частности вовсе
не есть бытие вообще, но только — бытие внешне
определенное, с определенным качеством), то такое разделение
общего и частного, абстрактного и конкретного, или факта
и смысла, формы и содержания, является вполне вздорным
в отношении бытия и также в отношении небытия.
Получится, что небытие есть общее, а частным в отношении
его является бытие; или абстрактно мы имеем небытие, а
его конкретное проявление есть бытие; или факт бытия,
оказывается, содержит в себе такой смысл, что это вовсе не
есть бытие, а совсем наоборот,— небытие; и т. д.
Представим себе, что существует такая вещь, смысл
которой есть «самовар». Что же это за вещь? Очевидно, эта
вещь и есть самый самовар. Пусть я держу в руке
некоторый предмет и на вопрос: «Что это за предмет?» —
отвечаю: «Это — рублевая кредитка». Очевидно, при таких
условиях то, что я держу в руке, это и есть самая рублевая
кредитка. Как не может бытие оставаться бытием только
до тех пор, пока я зажал его в руке и никому не показываю,
а когда у меня спросили: «Что это такое?», то оказалось,
что это уже не есть бытие, а как раз наоборот — небытие?
САМОЕ САМО
I 1
417
Итак, уже самое то возражение, что небытие есть бытие
только по общему факту, абстрактно, а конкретно, по
содержанию, оно есть небытие, доказывает, что возражатель
сам отождествляет бытие и небытие и сам понимает обе эти
категории в одном и том же смысле.
Можно сказать еще и так. Пусть в утверждении
«небытие есть бытие» термин «бытие» употребляется в двух
разных (каких бы то ни было) смыслах. Пусть один какой-
нибудь момент «небытия» вполне тождествен с бытием, а
другой — отличается от него. Спрашивается: а как же
относятся между собою эти два момента в «небытии»? Они
также или тождественны, или различны. Если они
тождественны, тогда и все «небытие» тождественно с «бытием».
Если же они различны^ то пусть и в них мы выделим те под-
моменты, которые совпадают и которые не совпадают.
О несовпадающих возникнет, соответственно, тот же
вопрос, что и относительно двух основных, на которые мы
разбили «небытие». И опять: или восторжествует общее
тождество бытия и небытия, или придется исследовать еще
дальнейшие под-моменты. Следовательно, или «бытие» и
«небытие» тождественны уже с самого начала, или мы эти
категории раздробляем на бесконечное количество
дискретных одна другой частиц, о которых не может быть
никакого определенного суждения.
Итак, при взаимоотождествлении чистых категорий
бытия и небытия термин «бытие» употребляется абсолютно в
том же самом смысле слова; и «бытие» имеет то же самое
смысловое содержание и тогда, когда оно употребляется
как таковое, и тогда, когда оно входит в качестве
составного момента в «небытие».
а) Итак, исходя из того, что наше становление может
быть рассмотрено и более детально — а детали здесь
весьма существенны,— спросим, какие же детали тут можно
было бы привести? У нас нет ничего, кроме бытия и
небытия и кроме их окончательного синтеза — становления,—
дальше которого мы пока не идем. Как сказано выше,
новое могло бы получиться здесь только с привлечением тех
же самых категорий бытия и небытия и с различным
комбинированием их с полученной категорией становления.
Можно само становление рассмотреть как бытие и само
становление рассмотреть как небытие. Тут мы никуда не
уйдем дальше становления, а тем не менее несомненно
получится нечто новое.
14 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
418
b) Будем рассматривать становление как бытие. Бытие
для нас есть покамест только чистое полагание, без
малейшей качественности. Значит, стихия становления, т. е.
постоянного возникновения и уничтожения, должна
предстать перед нами как акт или акты чистого
бескачественного полагания. Поскольку становление не имеет ни
начала, ни конца, постольку и акты полагания, получаемые
здесь, тоже не будут иметь ни начала, ни конца, и они бут
дут все время возникать и уничтожаться. Другими
словами, мы получим расчлененное становление, в котором,
однако, не будет ровно никакой качественности, а только
одни акты полагания.
Можно сказать еще и так. Бытие полагает себя. Раз оно
полагает себя, оно полагает его где-то, в какой-то среде,
в каком-то «месте»,— говоря вообще, в небытии. Но пусть
в этом небытии для него важно только, «куда ступить»,
а не все прочее (напр., неважна его непрерывность, его,
так сказать, расползаемость и т. д.). Это будет значить, что
бытие полагает себя в своем ограничении со стороны
небытия. Каждый акт его полагания будет не только самим
собою, но, будучи иным себе, вместе с собственным полага-
нием будет полагать и иное себе,— пусть не фактически,
но во всяком случае в виде требования. Короче говоря,
бытие тут полагает себя не просто как себя, но себя как
совпадение бытия с небытием, себя в своем совпадении
со своим инобытием. Тогда получается, что бытие,
противореча самому себе, полагает свои все новые и новые акты.
И все становление распадется на бесконечный ряд
абсолютно бескачественных актов полагания, в которых
каждый акт будет в то же время и актом полагания другого
акта, если не фактического полагания, то требуемого и
принципиального.
Это есть число.
c) С другой стороны, становление может быть
рассмотрено и в свете небытия. Чистое небытие было у нас просто
отрицанием бытия и больше ничего. Ему нельзя было
приписать ровно никакого качества, поскольку всякое
качество есть уже некоторое бытие. Но ведь в становлении до
некоторой степени зарождается качественность. Правда,
эта качественность далека от какой бы то ни было
определенности; она основана только на участии здесь чистого
и качественного бытия и больше ничего. Но все же здесь
некое зарождение качественности. Что же получится, если
САМОЕ САМО
I I
419
мы эту бескачественную качественность будем строить по
типу небытия? Когда мы рассмотрели ее с точки зрения
бытия, т. е. с точки зрения актов чистого желания, мы
получили, на почве становления, разные комбинации актов
полагания, τ, е. числа. Когда же рассматриваем
бескачественную качественность становления с точки зрения
небытия, мы подчеркиваем в ней именно отсутствие раздельных
актов полагания и выдвигаем в ней самое небытие. Но
ясно, что это небытие уже не будет здесь просто небытием.
Это небытие тоже должно будет стать такой
бескачественной качественностью, не прекращая быть небытием и не
переходя в настоящее качество. Это уже не просто
небытие, но инобытие, т. е. такое небытие, в котором
подчеркивается качественность, но не полная и настоящая
качественность, а только та, которая идет не дальше своего
безграничного совпадения с бытием, с актами чистого
полагания, т. е. не дальше становления.
d) Наконец, в становлении остается не рассмотренной
нами и еще одна сторона. Мы можем говорить о
совпадении бытия и небытия не только в бытии или в небытии, но
η бытии и небытии сразу. Это еще не будет тем
безразличным совпадением бытия и небытия, когда они сплошно
переходят одно в другое и образуют тем самым
становление, но таким совпадением, которое будет продолжать
раздельно фиксировать то и другое. Совпадение бытия и
небытия будет рассматриваться не в применении к сфере бытия
и не в применении к сфере небытия, но в применении к их
совокупному обстоянию, так, чтобы самые эти сферы
применения не сливались бы безразлично, как в становлении.
Тогда мы получаем категорию границы.
Это не есть граница в полном смысле слова, так как
в своей завершенности она вообще выходит за пределы
простой категории становления (и, как мы увидим ниже,
конструируется только при помощи «наличного бытия»).
Однако зарождается граница между бытием и небытием,
несомненно, уже на стадии становления.
В самом деле, бытие не есть небытие, отличается от
небытия, от иного. Но раз это так, между бытием и небытием
проходит четкая граница. Спрашивается: все ли бытие
имеет границу с небытием или не все? На этот вопрос, если
он поставлен, можно ответить только положительно,
потому что если «часть» бытия не граничит с небытием, то это
значило бы, что известная «часть» бытия и не отличается
14*
Α. Φ. ЛОСЕВ
f_l
420
от небытия, что было бы бессмысленным. Однако самое
главное, что самого вопроса так нельзя ставить. Что такое
здесь «все» или «не-все», если мы имеем здесь дело только
с голым бытием (или его отсутствием), которое не имеет
пока еще ровно никаких определений, никаких свойств
или признаков? Несомненно одно, что бытие просто имеет
границу с небытием, граничит с небытием, и больше ничего
тут сказать о границе совершенно невозможно.
Но если так, то это значит, что бытие и небытие,
выражаясь фигурально, одинаково растягиваются по своей
границе, одинаково примыкают к ней, что граница совершенно
одинаково соответствует и бытию и небытию, подобно тому
как берег озера может совершенно одинаково оказаться и
линией берега озера, и очертанием самого озера. Другими
словами, совершенно ясно, что в границе бытие и небытие
совершенно совпадают, так что граница бытия и небытия
совершенно одинаково и принадлежит и не принадлежит
тому и другому. В раздельной форме можно зафиксировать
следующие положения:
I. Граница бытия принадлежит бытию, потому что
в противоположном случае бытие не имело бы своей
границы с иным, т. е. ничем не отличалось бы от иного, т. е. не
было бы самим собою.
II. Граница бытия не принадлежит самому бытию.
Действительно, она или тождественна с бытием, или
отлична от него. Если она тождественна с ним, то бытие,
выходит, не имеет своей границы, т. е. ни от чего ничем не
отличается, т. е. не является бытием. Значит, граница бытия
отлична от бытия, т. е. не принадлежит ему.
III. Граница бытия принадлежит небытию, потому что
в противном случае она принадлежала бы бытию, а
принадлежать бытию значит от него не отличаться, т. е.
бытие потеряло бы свою границу, т. е. перестало бы быть
бытием.
IV. Граница бытия не принадлежит небытию, потому
что в противном случае граница принадлежала бы самому
бытию, а принадлежать бытию значит не отличаться от
него, т. е. в этом случае бытие не имело бы своей границы,
т. е. не было бы бытием.
Такова в общих чертах диалектика границы. Она
сводится к тому, что граница тоже есть совпадение бытия и
небытия (как и «число» и «инобытие»), но с одним
специфическим отличием: это совпадение происходит не в преде-
САМОЕ САМО
лах бытия и не в пределах небытия, но в совокупном обсто-
янии того и другого.
Остается полное совпадение и самих этих сфер
совпадения бытия и небытия. Но это будет уже чистым
становлением.
е) Итак: 1. совпадение бытия и небытия в бытии есть
число; 2. совпадение бытия и небытия в небытии есть
инобытие; 3. совпадение бытия и небытия в совокупном обсто-
янии бытия и небытия есть граница; 4. совпадение бытия
и небытия в сфере безразличного совпадения бытия и
небытия, или совпадение бытия и небытия как такое, т. е. как
именно совпадение бытия и небытия, есть становление.
В таком более детальном виде можно было бы представить
полученную нами общую категорию становления. Однако,
чтобы добиться последней ясности в вопросе о
всестороннем взаимоотношении бытия и небытия, попробуем дать
единую картину этого взаимоотношения, имея в виду, что
уже и самые первоначальные категории бытия и небытия
отнюдь не свободны от той или иной формы
взаимосовпадения.
Действительно, бытие мы отличили от небытия и бытие
у нас совпало с небытием. Уже это одно обстоятельство
способно запутать ум, не владеющий тонкостями
диалектического метода. Пусть бытие есть бытие. Но если
правильно то, что мы установили выше, то ведь тут бытие как
предикат отлично от бытия как субъекта, т. е. является
небытием. Но бытие-предикат, оказавшееся небытием,
очевидно, совпало с небытием. Следовательно, наш тезис «бытие
есть бытие» есть то же самое, что и тезисы «бытие есть
небытие» и «бытие есть совпадение бытия и небытия».
Возьмем небытие. Аналогичная операция легко приводит к
тому, что и тезис «небытие есть небытие» вполне
равнозначен двум другим тезисам: «небытие есть бытие» и «небытие
есть совпадение бытия и небытия». Наконец, возьмем это
самое «совпадение бытия и небытия». Во-первых, оно,
очевидно, есть оно самое. Во-вторых, оно есть, существует,
т. е. оно есть бытие. А так как бытие есть то же, что и
небытие, то «совпадение бытия и небытия» есть также и
небытие. Другими словами, совпадение бытия и небытия есть
и совпадение бытия и небытия и небытия и бытия.
Что же получается? Получается, что три
диалектические установки — «бытие», «небытие» и «совпадение
бытия с небытием» — могут вполне заменять одна другую,
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
422
потому что значат они абсолютно одно и то же. Точнее:
они значат одно и то же и не одно и то же. Каждая из этих
установок и есть две другие, и не есть ни вторая, ни третья.
Поскольку они абсолютно различны и не совпадают, мы
можем брать каждую из них в отдельности и — быть
уверенными в том, что это будет именно новая и особая
категория. Поскольку же все они совпадают, мы тотчас же
убедимся, что, взявши одну из них, мы найдем
отождествленными с нею и другие две.
Возьмем бытие. Оно ни в каком случае не есть ни
небытие, ни совпадение бытия с небытием. Это дает нам право
фиксировать эту категорию как таковую и не сводить ее ни
на какую другую. Но вот мы спрашиваем: так, значит,
наше бытие есть именно бытие? И как только мы так
спросили, мы тотчас же убеждаемся, что бытие-предикат
отличается от бытия-субъекта (чтобы суждение о тождестве
бытия с самим собою имело какой-нибудь смысл), а то,
что отличается от бытия, есть небытие, и, следовательно,
наше бытие есть небытие; и т. д. То же случится и с двумя
другими категориями. Следовательно, вопрос сводится
только к тому, какая категория главенствует, а остальные
две тут же примыкают к ней и отождествляются с нею.
И вот бытие, которое есть небытие и совпадение бытия
с небытием, есть именно бытие. Небытие, которое есть
бытие и совпадение бытия с небытием, есть именно небытие.
И совпадение бытия с небытием, которое есть и бытие и
небытие, есть именно совпадение бытия с небытием.
После этой схематичности должно быть вполне ясным,
как за бытием и небытием тотчас же следует число,
инобытие, граница и становление. Поскольку совпадение бытия
с небытием есть бытие, оно — число. Поскольку оно есть
небытие, оно — инобытие. Поскольку совпадение бытия с
небытием берется как именно совпадение бытия с
небытием, то при совокупном обстоянии и бытия, и небытия
оно есть граница. И наконец, данное совпадение как
таковое, но при абсолютно неразличимом совпадении бытия
и небытия (при отсутствии их противостояния) оно есть
становление.
5. Особенно интересной категорией является здесь,
конечно, число. Оно здесь нами не разрабатывается,
поскольку ему посвящено у нас особое сочинение. Однако
некоторые примечания к нему будут небесполезны и здесь.
а) Прежде всего, мы видим, что число есть самое пер-
САМОЕ САМО
f—1
423
вое и самое основное оформление вообще. В сущности,
тут даже еще нет никакой формы, а только самый принцип
формы, потому что всякая форма основана на
расчленениях и объединениях, а они не могут существовать без
категории числа. Когда мы говорим просто о бытии или
небытии, мы еще далеки от всякого фиксированного
расчленения. Число впервые дает это расчленение, впервые
полагает те или иные акты, которые необходимы для
всякого расчленения и формы. Поэтому число — не после
качества, но предшествует всякому качеству или, по крайней
мере, сопровождает его. Вот почему невозможно говорить
о переходе качества в число, но только о переходе качества
в количество, ибо качество уже само по себе немыслимо
без числа, а количество действительно возникает после
качества, так как оно не есть число само по себе, не
зависимое ни от какого качества, но оно есть сосчитанность чего-
то качественного. Количество есть именованное число,
т. е. оно, не будучи само качеством, все же сосчитывает те
или иные качественные моменты. Число же в нашем смысле
есть число само по себе, или, как говорят в учебниках
арифметики, отвлеченное число. И это, несомненно, выше
и прежде всякого качества, ибо для него нужны только
чистые акты полагания, но совершенно не нужно то, чего
именно полаганием эти акты являются.
b) Вот почему заблуждался Гегель, поместивши число
после качества и смешавши его с количеством. И сам же
Гегель вносит в сферу категории для-себя-бытия такие
категории, как «одно» и «многое». А это, несомненно,
категории числовые. Но не только для-себя-бытие невозможно
без числа. Без числа невозможно уже первое
противопоставление бытия и небытия. Самое это
противопоставление, поскольку бытие мыслится здесь исключительно в виде
чистого и голого акта полагания, есть не что иное, как
числовое противопоставление. И только преодолевши это
число, можно прийти к непосредственно данному
становлению, в котором зародыш всех будущих качественных
оформлений.
c) Ввиду отсутствия у Гегеля категории числа перед
категорией самостоятельного становления последнее
оказывается у него обоснованным не очень ясно. Именно,
здесь чувствуется какой-то пропуск и скачок. Почему
синтез бытия и небытия есть становление? Разумеется, синтез
этот формулирован правильно, поскольку становление
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—I L л
424
действительно есть в каждый свой момент и бытие и
небытие. Но тут чувствуется скачок, который для полной
ясности должен быть чем-то заполнен. Перейдем от бытия и
небытия к числу. Число есть та или (иная) комбинация актов
полагания. Если число действительно таково, то, значит,
оно есть, прежде всего, некая расчлененность, т. е. нечто
отличное от просто бытия тем, что оно не есть ни просто
одна неопределенная точка, ни просто полагание
вообще, но нечто распространенное и в своей распростерто-
сти — расчлененное. Противопоставим теперь этому
инобытие и будем искать синтеза полученной расчлененной
распростертости с ее инобытием. Мы получаем не что иное,
как становление. И мы ясно понимаем, почему именно
становление. Раньше было распространение расчлененное
(на стадии числа); теперь же, ввиду синтеза с инобытием,
данное распространение должно стать нераснлененным.
А это нерасчлененное распространение и есть
становление.
Пропустивши число в начале своего учения о бытии,
Гегель весьма затруднил понимание диалектики своего
«становления». Будучи совершенно правильной, она не
получила у него достаточной мотивировки. И только взявши
его не просто как синтез бытия и небытия, но как синтез
бытия и небытия в бытии (число) с бытием и небытием
в небытии (инобытие), только при такой детализации
диалектического вывода мы и получаем категорию
становления во всей ее отчетливой, яснейшей форме. Гораздо
правильнее в этом отношении рассуждали античные
платоники, помещавшие число не между эйдосом и вещью, но
между первопринципом и эйдосом, полагая, что для
конструирования эйдоса необходимы предварительные акты
чистого полагания, а эти последние есть не что иное, как
дробимое Единое. Такова точка зрения Платона, Плотина,
Ямвлиха, Прокла и др. платоников. Позитивист
Аристотель, отрицающий Единое как субстанцию и хорошо
понимающий, что число все же есть некая бескачественность,
полагает его между эйдосом и вещью. Он берет от эйдоса
его идеальность и бескачественность, а от вещей их
расчлененность и — получает категорию числа. Однако он
просмотрел, что бескачественность вполне
удовлетворяется уже самим чистым бытием, и что в расчлененности
нуждаются не только вещи, но и сами эйдосы, и что,
следовательно, принцип этого расчленения, или число, по
САМОЕ САМО
425
крайней мере, сопутствует эйдосу, если не прямо ему пред
шествует.
d) Мы здесь не даем никаких подробностей диалек
тики числа, так как эта обширнейшая область
заслуживает самостоятельной разработки. Но если бы мы вошли
в эти подробности, мы сразу могли бы заметить, что и
структура самого числа, и взаимоотношение разных чисел
несет на себе те же общие категории, которые характерны
и вообще для мысли. Мы тут нашли бы свое «бытие»,
свое «инобытие», свое «становление», свое «ставшее» и
т. д. и т. д., но только с одной фундаментальной
особенностью: все это относится не к качеству и вообще не к
какой-нибудь содержательной заполненности бытия, но
исключительно к актам полагания. Таким образом, число
есть как бы формальная сторона бытия, и в частности
качества.
e) В связи с этим может возникнуть мысль, не есть ли
уже число тот первый символ вообще, который мы здесь
ищем. Формально это, конечно, есть первый символ. Число
есть первая законченная конструкция бытия, первый его
лик; и в этом смысле мы не ошибемся, если станем его
считать первым символом вообще. Однако такое число ничем
внутри не заполнено, оно состоит только из чистых актов
полагания и равнодушно ко всякому содержанию и
качеству. Едва ли поэтому целесообразно этот символ
считать действительно первым полным синтезом. Попробуем
изучить бытие также и со стороны его качества и
внутренней определенности — тогда первая законченная
конструкция с гораздо большим правом сможет считаться
первым полным символом вообще.
6. Наконец, вооруженные полной интуицией
становления, на основании всех предыдущих разграничений, мы
можем теперь дать и развернутую характеристику самого
становления.
а) Из предыдущего мы можем извлечь, главным
образом, два принципа становления или, вернее, две
формулировки одного и того же его принципа. Во-первых,
становление есть граница границы. И, во-вторых, становление
есть синтез (или совпадение) бытия с небытием или,
точнее, бытия, уходящего в небытие, с небытием,
уходящим в бытие.
Что касается первой формулировки, то происхождение
ее очень ясно. Бытие, чтобы быть, отличается от небытия и
Α. Φ. ЛОСЕВ
f I
426
тем предполагает для себя определенную границу;
небытие, чтобы быть, отличается от бытия и тем самым также
предопределяет для себя границу. Возьмем теперь самую
границу. Чтобы быть, она тоже должна отличаться от
всего иного. Однако ничего иного у нас пока нет. Есть
бытие, небытие и их совпадение, образующее границу. От
чего же граница должна отличаться и в нем, собственно
говоря, она должна полагать свою собственную границу?
Этой областью может быть только она сама, т. е. она сама
полагает свою границу в самой себе. Но полагать границу
в таком виде значит нигде не полагать никакой границы,
потому что двигаться по замкнутой границе тела — это
значит никогда не находить никакой границы. Вот почему
граница границы есть безграничность. И вот почему
становление есть прежде всего безграничное достигание
границы и всегдашняя невозможность ее определенно
достигнуть.
Собственно говоря, ничего иного не значит и то, что в
становлении бытие не уходит в небытие, а небытие уходит
в бытие. Если бытие уходит в небытие, то это значит, что
бытие самим актом своего полагания тут же себя и
снимает; и если небытие уходит в бытие, то это значит, что
небытие самим актом своего полагания тут же и снимает
себя, или, что то же, бытие самим актом своего снятия
бытия тут же и полагает себя. Отсюда получается
характерная для становления сплошность и непрерывность.
Достижение границы тут не только безгранично, но оно
еще и сплошно, непрерывно, абсолютно неразличимо
в себе.
Вот в чем природа становления. Но отсюда немало
разных существенных подробностей.
Ь) Безграничная сплошность становления, прежде
всего, запрещает примышлять здесь всякую малейшую офор·
мленность и различимость.
На этом основании необходимо записать, что
становление не может иметь ни начала, ни середины, ни конца, ни
какой бы то ни было вообще различимой точки внутри
себя. Становление не состоит ровно ни из каких точек. Оно
все время алогически плывет, расплывается; и в тот самый
момент, когда вы движетесь за какую-нибудь
определенную его точку, в этот самый момент ваша точка исчезает,
уходит в прошлое и заменяется бесконечностью новых
точек. В этот поток не только нельзя войти два раза, как
САМОЕ САМО
I I
427
учил Гераклит, но нельзя войти уже и однажды, ибо он
все разный, и разный не только в несколько разных
моментов времени, но уже и в один-единственный.
В становлении не может быть совершенно ничего
отличено или названо. Все, что получит хоть какое-нибудь
наименование, уже тем самым будет извлечено из этого
сплошного потока и уже будет вне его. Все это уже будет
иметь какую-то форму и будет ставшим, т. е. результатом
становления, а не самим становлением.
c) Это, однако, не значит, что становление есть просто
отсутствие бытия. Кто рассуждает так, тот ничего не
понимает в становлении. Как раз все дело тут в том-то и
заключается, что становление есть синтез и совпадение бытия
и небытия. Мы не можем указать в становлении ни одной
раздельной точки. Но самое становление только потому
и возможно, что оно переходит от одной раздельной точки
к другой такой же. Однако фактически переходить от
одной точки к другой — это не значит четко фиксировать эти
точки. Самому становлению неизвестны никакие
раздельные точки, оно в отношении их совершенно слепо. Эти
точки, рассуждая отвлеченно, можно было бы и сосчитать,
подобно тому как мы считаем раздельные секунды,
несмотря на сплошность и непрерывность временного потока.
Однако ясно, что такая исчисляемая сетка становления
отнюдь не есть само становление, и эта сетка должна
быть еще залита этим сплошным и неразличимым
потоком или погружена в эту мглу непрерывных
возникновений.
Таким образом, становление есть не просто отсутствие
бытия, но отсутствие такого бытия, которое должно было
бы быть. Кажется, что это бытие, эти раздельные и
осмысленные акты полагания находятся где-то тут же возле, что
вот-вот становление их достигнет. Однако само существо
становления заключается в том, чтобы вечно искать формы
и никогда ее не находить. Даже все эти слова,
привлеченные для его характеристики,— «вечно», «искать», «не
находить» и проч.— не есть то, что свойственно
становлению предметно, ибо всякая такая предметность уже
превратила бы его в совокупность раздельных признаков
и тем лишила бы его самого главного — быть
нерасчленимым потоком. Эти слова есть только продукт какого-то
сознания, смотрящего на становление со стороны.
d) Отсюда, становление есть некое вечное беспокой-
Α. Φ. ЛОСЕВ
428
стѳо и как бы вечная тревога. Его неопределенность полна
ожиданий и надежд. Но она никогда не кончается, не
переходит в определенность, в форму, никогда не
насыщается, никогда не прекращает своих исканий. Оттого
неопределенность становления мучительна и тосклива.
Становление живет именно этой неизвестностью, этой вечной
и неизбывной неизвестностью, ибо не известно здесь ни
того, кто стремится, ни того, как стремится, ни того, куда
стремится. В становлении слышны какие-то числа, ибо
становление есть какой-то переход, а переходить можно
только от одного к другому, т. е. только тогда, когда можно
считать. Но эти числа здесь погашены, запрятаны в бездну
неразличимости, размыты и растворены. И поэтому в
самом становлении числа эти слышны только как некоторый
пульс какого-то неведомого и непредставимого вселенского
сердца. Эти глухие и тайные удары и толчки становления
совершенно непонятны; неизвестно, кому они принадлежат
и в силу чего происходят. Но так оно и должно быть,
ибо иначе мы уже вышли бы за пределы абсолютной
неразличимости становления.
е) Становление живет неизвестностью раздельных и
числовых пунктов своих переходов, неизвестностью тех
актов полагания бытия, из сплошного заполнения которых
оно и образуется. Однако в нем не только бытие и число;
в нем также и небытие, инобытие. А инобытие вносит в
структуру вещей свою, вполне специфическую стихию, не
имеющую ничего общего с отвлеченной раздельностью
числовых актов полагания. И когда мы получаем полную
вещь, то мы можем легко выделить и ее отвлеченную
числовую сетку, и ее инобытийную, качественную
наполненность. Но вот мы в пределах чистого становления, т. е.
мы не знаем ни той вещи, которая становится, ни тем
более деталей ее структуры. И мы сразу начинаем видеть,
к какому результату приводит эта неизвестность.
Если бы мы знали те качества, которыми заполнены
здесь переходы от одного пункта к другому, то мы
понимали бы и то, откуда происходит та «неравномерность», та
разнообразная «скорость», которая характеризует здесь
разные протекания. Когда бурлит поток, то, наблюдая
высоту его падения, условия его протекания (характер дна
и берегов) и проч., мы можем вполне обоснованно
сказать, почему в одном месте он образует водопад, в
другом — водоворот, в третьем — крутой поворот своего рус-
САМОЕ САМО
I—■ I
429
ла и т. д. и т. д. Но пусть мы ничего этого не знаем, а знаем
только самое течение потока. Это будет равносильно
пониманию потока как некоего необоснованного хаоса. И вот
поэтому становление есть для нас всегда бурлящий поток,
об условиях протекания которого мы ничего не знаем;
или, вернее, это всегда необоснованный и мучительный
хаос противоречий, который, однако, имеет вполне
самостоятельное и, при непосредственной оценке, в некотором
смысле абсолютное существование.
f) Даже больше того. Мы можем наблюдать в
становлении весьма интенсивное противоречие между этой его
инобытийной качественностью и внутренним числовым
скелетом. Мы можем наблюдать, как становление борется
с самим собою, что ведь вполне естественно, поскольку
каждый его момент (как сказано выше) настолько же
полагает себя, насколько и снимает себя, и поскольку,
очевидно, все его моменты сразу и полагают, утверждают
себя, и тут же снимают, отрицают себя. Становление
обязательно есть самопротивоборство, которое в иных видах
и периодах становления может ослабевать и быть
незаметным (хотя уничтожиться оно не может никогда, стремясь
к существу самого становления), но которое в других своих
типах и на других этапах может обладать колоссальной
силой и весьма интенсивным выражением. Таким образом,
хаос становления есть хаос самопротивоборства, которое
тут обязательно должно быть непонятно и необоснованно,
чтобы сохранилась чистота самой категории.
И, наконец, самопротивоборство достигает тут еще
большей своей силы тогда, когда мы вспомним, что
становление существует как обоснованное на самом себе,
что оно само себя и порождает и полагает. Хотя понятия
«рождения» и «смерти» относятся не к чистому
становлению как таковому, но к тому его типу, который мы ниже
именуем «жизнью», все же привлечение этих терминов
к чистому становлению делает и здесь многое понятным
и выразительным. Становление: 1) само рождает себя,
2) само поглощает себя, 3) само порождает все иное,
4) само и поглощает все иное. Это — простой перифраз
того основного принципа становления, который мы выше
характеризовали как переход и гибель бытия в небытии и
как переход и гибель небытия в бытии. Это чудовищное и
всесильное самопорождение и самопоглощение, это
звериное порождение всего и одновременное его уничтожение
Α. Φ. ЛОСЕВ
430
страшно именно тем, что его нельзя назвать и определить,
что оно принципиально безымянно и неопределенно, что
неизвестны и его порождения, которые оно поглощает и
уничтожает в самый момент их появления, что невозможно
и представить себе, для каких целей, по каким причинам
и как именно происходят эти порождения и
уничтожения, это ежемгновенное самовозникновение и
самоубийство.
g) He надо удивляться этой жуткой противоречивости
категории становления. Удивляется тот, кто думает, что на
свете существуют только расчлененные формы и
рациональные схемы и что не существует никаких противоречий,
никаких разрушений, смятения, смерти и вообще
иррационального. Однако нетрудно показать, что и всякая
расчлененная форма, или рациональная схема, возможна
только как сравнение или как наличное бытие (об этом —
в дальнейшем), а сравнение есть не что иное, как
результат становления. Таким образом, не говоря уже о
специфически иррациональном, само рациональное громко
кричит о наличии вполне иррационального в бытии, о том,
что реальное бытие — не рационально и не иррационально,
но в нем до неразличимости совпадают обе эти стихии.
Становление же есть очень высокий принцип
действительности; выше его только «бытие» и «небытие». Как
же этот принцип, долженствующий осмыслять всю
действительность, не будет принципом рационального и
вместе иррационального? Как он может не быть принципом
совмещения и совпадения того и другого, если вся
действительность как раз и есть это совпадение? Тут можно
возражать только путем перехода «в другой ряд». Можно
сказать, что действительность — не только становление
или не только иррациональность. Однако мы и не
утверждаем, что действительность — только становление; и еще
менее того мы утверждаем, что она есть только
иррациональность, или только рациональность, или только
совпадение того и другого. Действительность содержит в себе
еще десятки и сотни других категорий, не имеющих с этими
ничего общего. Однако становление есть все же некий
момент, некая сторона действительности; и поскольку оно в
качестве такого момента и стороны реально, постольку оно
обладает всеми теми свойствами, которые указаны у нас
выше.
В связи с этим можно и вполне определенно говорить о
САМОЕ САМО
1 I
431
становлении как о перѳопринципе сущего вообще. Самое
само не есть даже и первопринцип. Оно выше всего.
«Бытие» и «небытие» суть первопринципы. Но первопринципу
надлежит быть одному, единому. Поэтому «бытие» и
«небытие» лучше не считать первопринципами в
собственном смысле слова, а лучше считать таковым именно ста-
новление. Тут ведь содержится и бытие и небытие и, с
другой стороны, конкретно не содержится еще пока ничего
другого. Следовательно, тут мы имеем, с одной стороны,
все (и как раз с точки зрения его полагания и неполага-
ния), а с другой — не все в его конкретном выявлении
(ибо тут конкретно еще нет ничего), но все именно только
еще принципиально. Становление обеспечивает только
появление вещей, их уничтожение и связь того и другого.
А это достаточно для того, чтобы становление считать
первопринципом.
h) В связи с этим мы как раз нередко и встречаем
в истории философии трактование первопринципа как
чистого становления. Так, уже Гераклит выставил этот
принцип в достаточно определенной форме. Плотин очень
часто толкует свое Единое как потенцию, как мощь
становления всякого бытия. Фихте нечто вроде этого
становления мыслил в своей «Tathandlung» первого Науко-
учения. Шопенгауэр нарисовал на ней свою грандиозную
картину Мировой Воли, а неокантианцы выставили
принцип «происхождения» (Ursprung), который они тоже
понимали как совпадение «нечто» и «ничто» для первоопре-
деления всякой логической формы вообще. Конкретный
анализ всех этих учений показал бы всю их мировоззри-
тельную несовместимость и полную оригинальность их
историко-культурного стиля и физиономии. Однако
нетрудно было бы полагать и то, что по существу и чисто
логически они сводятся только к одному простейшему и
основному тезису, который можно формулировать
по-разному и который нам нельзя забывать при всех картинных
и поэтических выводах, невольно возникающих у всякого
при всматривании и вслушивании в природу становления:
становление есть совпадение бытия, уничтожающегося
в небытии, с небытием, возникающим в качестве
бытия; или — граница границы (т. е. безграничная и
сплошная длительность, или распространенность); или —
совпадение числа и его инобытия в чистую нерасчленимую
инаковость; или — попросту — совпадение бытия и небы-
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι—^l
432
тия, данное как такое, в чистейшем и
непосредственном виде.
После всей этой диалектики становления мы можем
перейти к следующей категории в пределах первого символа,
к «ставшему».
2. СТАВШЕЕ И ДЛЯ-СЕБЯ-БЫТИЕ
а) Вернемся к тем прозаическим чувственным
установкам, с которых мы начали строить наш первый символ
абсолютной самости.
Мы говорили, что вещь характеризуется не одними
текущими процессами своего существования, но что
существует в ней и некоторый определенный результат этих
процессов в виде тех или иных устойчивых качеств вещи.
Едва ли можно возражать на это невинное
утверждение. Ведь в самом деле, не может же вещь только меняться.
Как бы она ни менялась, но в ней всегда есть что-то
устойчивое, благодаря чему эта вещь есть нечто, есть какое-то
качество или сумма качеств. Если бы она только менялась,
т. е. еслл бы она в каждое мгновение становилась все
новой и новой, то, естественно, самая вещь перестала бы
и существовать как вещь, или, по крайней мере, о ней
ничего нельзя было бы сказать определенного. Что можно
сказать о вещи, если она в каждое новое мгновение
своего существования уже не та, что была раньше, а
совсем другая, и другая — не по какому-нибудь своему
качеству, но другая по самой своей субстанции, нумерически
другая. Это было бы равносильно тому, что перед нами
не какая-нибудь определенная вещь, но — перо,
карандаш, чернильница, пресс-папье, радиоприемник и еще
бесчисленное множество вещей, о которых ничего не известно,
кроме того, что они непрерывно переходят одна в другую.
Явно, что это нелепость.
Вещь есть вещь. Она есть нечто, и притом нечто
определенное. Она устойчива, сама с собой согласна, имеет
свои определенные границы, очертания, вид, как бы она ни
менялась и как бы ни становилась. На нее можно
указать пальцем в расчете, что она не исчезнет в то же самое
мгновение, в какое мы на нее указываем, но что она есть
именно она, предмет нашего рассмотрения или
размышления, что она хотя бы относительно устойчива и
постоянна. Однако поскольку все же невозможно представить
САМОЕ САМО
I-—I
433
себе, что она хотя бы на одно мгновение перестала
изменяться, то нам естественнее всего представлять себе ее
устойчивые качества как результат ее изменений, как то,
к чему пришло ее изменение и что более или менее длится
в настоящем и не сразу уходит в безвозвратное прошлое.
Так возникает новая логическая категория —
ставшего.
b) Можно по-разному понимать и изображать эту
категорию. Как результат становления, она есть ставшее—
то, что стало. Как нечто устойчивое и постоянное (хотя бы
относительно), она есть качество. Как то, что можно
зафиксировать и обозначить и что не просто вечно
появляется и исчезает, она есть нечто. Как то, что есть не просто
пустое и абстрактное бытие, которое еще должно
переходить в небытие и в нем теряться, но бытие
устойчивое и определенное, фиксированное, закрепленное, она
есть наличность, наличное бытие. Все эти моменты
ставшего с большой подробностью и в строжайшей
последовательности изложены в «Логике» Гегеля, в главе о
«наличном бытии», и нам нет нужды повторять здесь то,
что в гениальной (хотя и — внешне — в несколько
туманной) форме продумано и изложено раньше. Но нам важно
отметить то главнейшее, без чего эта категория не может
войти в нашу систему.
c) Прежде всего, как получается такая категория? Она
получается тем обычным способом, каким возникает и
всякая другая категория, в том числе и бытие. Ведь бытие
не могло остаться у нас в том абстрактном виде, в каком
мы его зафиксировали вначале. Бытие обязательно
противополагается небытию. Бытие есть только тогда, когда есть
небытие. Следовательно, и становление есть только тогда,
когда существует и не-становление. Но что такое не-ста-
новление? Мы уже не можем привлечь для этого
использованные нами категории бытия и небытия по той простой
причине, что они вовсе не есть противоположность
становления. Бытие и небытие включены в само становление,
и становление из них строится — как же оно может быть
их противоположностью? Противоположностью должно
быть здесь нечто такое, что указывало бы на превзой-
денность становления, т. е. свидетельствовало бы о том,
что мы действительно вышли за пределы становления.
А бытие не выводит нас за пределы становления; оно —
внутри самого становления. И также не выводит нас и не-
Α. Φ. ЛОСЕВ
\ Ι
434
бытие,— по той же причине. Значит, не-становление может
быть только отрицанием, прекращением становления.
А это и есть ставшее, результат становления.
Так диалектически получается категория ставшего.
d) Далее, очень важна эта модификация категорий
бытия и небытия, которая образуется на стадии этой новой
категории. Если вначале они резко противопоставлялись
и в становлении они совпали в безразлично-текучем
смешении, то — что сделалось с ними теперь? Погибнуть
ведь они не могут, ибо никакая логическая категория
вообще не погибает, ввиду неприложимости к ней
никаких временных характеристик. Однако в какой же тогда
она форме здесь выступает? Ответить на этот вопрос надо
еще и потому, что Гегель, давший здесь по существу дела
исчерпывающий анализ, не постарался быть для нас ясным
и не дал ту простейшую формулировку, которая избавила
бы и его от массы разнообразных пояснений и
примечаний, и нас самих от необходимости десятки раз его
перечитывать и интерпретировать.
Простое и ясное положение дела с этими категориями
внутри категории ставшего сводится к следующему.—
Бытие перешло в инобытие и там растворилось, исчезло.
Спрашивается: окончательно ли оно там исчезло? На
стадии становления — да. Но становление само переходит
в свою противоположность, перестает быть становлением.
Следовательно, и бытие, которое перешло в нем в небытие,
должно испытать противоположную судьбу. А это
значит из небытия вернуться в бытие. Но бытие уже и без
того есть бытие. Значит, если бытие после своего
исчезновения в небытие опять становится бытием, то можно
сказать, что в ставшем бытие возвращается к самому себе,
или — что то же — на стадии ставшего бытие,
устремившись в небытие, находит себя самого в этом инобытии,
наталкивается на самого себя.
Вот какая простейшая истина кроется в диалектике
ставшего. Гегель изложил эту диалектику очень трудно
и сложно. И ее гораздо проще и понятнее понял Фихте
в своем учении о том, как Я находит себя в Не-#.
Из нашей диалектики ставшего сразу становится
понятным самое основное, что характеризует эту категорию.
Ясным является, почему ставшее есть, напр., качество.
Покамест бытие уходило в небытие при полном забвении
себя самого, в условиях как бы полной слепоты, оно окон-
САМОЕ САМО
1^—1
435
чательно теряло себя, и не могло быть и речи ни о каком
определенном качестве. Но вот теперь бытие вернулось
к себе, как бы описавши некоторый круг, встретилось
с самим собой; и — стало возможным говорить уже об
определенном бытии, о качестве. Понятно и то, почему наше
бытие стало теперь «чем-то», почему оно получило какую-
то границу и стало как бы конечным,— хотя точнее
говорить пока не столько о конечном, сколько об
определенном. Раньше чистое бытие вообще не определялось
никак, а бытие становления имело постоянно скользящую и
неопределенно-текучую границу и предел. Теперь эта
граница перестала уходить в неопределенную даль, вернулась
к себе, т. е. очертила определенную фигуру. Почему бытие
стало и качеством, и чем-то, и конечным, ограниченным
и определенным.
е) Наконец, в категории ставшего необходимо
отметить еще одну очень важную черту, развивать которую
здесь мы не станем подробно, но указать на которую
совершенно необходимо, поскольку она очень будет
помогать нам в анализе многих других категорий.
А именно, ставшее получилось у нас в результате
встречи бытия в небытии с самим собою в результате как
бы очерчивания им некоей замкнутой линии. Для первого
взгляда это есть дедукция конечного вообще: раз очерчена
граница чего-нибудь, значит, последнее конечно. И этот
вывод не лишен правильности. Но только он односторонен.
Как мы только что заметили, речь идет здесь, собственно
говоря, не столько о конечном, сколько об определенном.
А определенное может быть не только конечным.
В самом деле, бесконечное обычно трактуется как то,
что не имеет конца, как то, конца чего невозможно
достичь. Мы не будем тратить многих слов для критики
этого взгляда, так как подробное учение о бесконечности
развито нами в другом месте. Но мы кратко отметим, что
упомянутая потенциальная бесконечность вовсе не есть
бесконечность, а есть только противоречие в пределах
конечного. Ставить одну границу, потом ее снимать и ставить
другую границу немного подальше (немного — в смысле
определенного, вполне конечного числа единиц длины) —
это нисколько не значит иметь дело с бесконечным. Это
значит иметь дело только с конечным. Поэты и философы
прошлых времен затрачивали массу времени и бумаги на
восхваление этого, как им казалось, очень возвышенного
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
436
предмета — потенциальной, т. е. нигде не имеющей
никакого предела, бесконечности. На самом же деле воспарение
по такой бесконечности у каждого кончается очень скоро;
и это совершается, говорит Гегель, не ввиду возвышен*
ности такого воспарения, а ввиду его скуки, потому
что всякому быстро надоедает делать одно и то же,
т. е. ставить себе произвольную границу и тут же ее
снимать.
Настоящая бесконечность вовсе не есть что-нибудь
неопределенное и абсолютно лишенное всякой конечности.
Настоящая бесконечность как раз и есть синтез чистого
ставшего, т. е. чистой качественности бытия, с ее
конечностью. Конечность остается как такая, но в ее определенных
границах начинает биться и трепетать то небытие, которое
никогда и не исключалось нами из ставшего, а только,
может быть, в связи с теми или другими установками,
не ставилось на первый план. Ведь ставшее есть
нахождение бытием в небытии самого себя. Стало быть, небытие
тут есть, а с ним и — вся та неопределенная и
неразличимая текучесть, которая для него существенна. Поэтому
ставшее есть не только определенность, не только
наличие границ, но еще и понимание этих границ как
прошедших все небытие, всю его безразличную, т. е. не имеющую
ни начала, ни конца, текучесть. А это и есть та
бесконечность, которую мы назвали настоящей, поскольку она не
барахтается только с одним конечным, но 16*
действительно включает в себя всю неопределенность (в смысле
начала и конца) небытия и становления. С этой точки зрения
и нужно понимать указанное выше определение
бесконечности как синтеза (или тождества) качества и конечного:
качественность рождается у нас в результате становления
бытия по беспредельному полю небытия, конечное же
рождается в результате встречи бытия, прошедшего все
это небытие, с самим собою.
Эта теория актуальной бесконечности не развивается
здесь у нас подробно. Но необходимо было указать ее
место в системе диалектики первого символа.
2. Пойдем далее. Что еще не приняли мы во внимание
из нашей обывательской прозы по поводу общих свойств
обыкновенной чувственной вещи? Если помним, там мы
отметили, что разнообразные качества вещи не
существуют в ней совершенно раздробленно, но что все они
объединяются в нечто целое, в некую определенную инди-
САМОЕ САМО
-J L-
437
ѳидуальность вещи. Посмотрим, как можно было бы
закрепить этот момент категориально.
a) Что нужно для того, чтобы вещь была цельною
и определенною индивидуальностью? Для этого, очевидно,
надо, чтобы все ее качества объединялись между собою
настолько близко и глубоко, чтобы все они как бы тонули
в том целом, что собою вещь представляет. Покамест мы
фиксируем каждое качество вещи отдельно или покамест
мы объединяем все ее качества вместе, но так, что они не
образуют нумерического единства вещи как таковой, до
тех пор, ясно, не может идти разговор о цельной
индивидуальности вещи. Но как сделать так, чтобы все качества
вещи действительно слились в некое отдельное нумериче-
ское единство? Первое решение этого вопроса,
возникающее у нас необдуманно, гласит, что качества вещи вообще
должны перестать существовать как отдельные. Этого,
однако, не должно быть. В том-то и состоит вся наша
задача, чтобы создать из качеств одно нумерическое
единство, не уничтожая самих качеств. Как это сделать?
b) Это можно сделать так, чтобы создать для всех
качеств вещи одно общее лоно, поместить их как бы на
одном определенном фоне вещи. До сих пор мы имели,
косвенно говоря, лишь очерченный контур вещи. Когда
бытие встретилось в небытии с самим собою, оно, в
сущности, только описало некую замкнутую границу. Это и дало
нам возможность говорить о качестве, о нечто, о конечном
и бесконечном. Но мы еще совершенно не знаем, что же
находится внутри этого контура. Скажут: вы нарисовали
круг,· естественно, что внутри этого круга находится
просто пустое место и больше ничего. Конечно, с этим
нужно реально согласиться: внутри круга действительно
только пустое место и больше нет ничего. Однако наши
категории еще никакого «пустого места» внутри контуров
вещи не зафиксировали. Наше внимание все время шло
за бытием, которое чертило в небытии свой круг. Мы как
бы все время смотрели на острие карандаша, чертившего
круг, и единственная новость, которую мы на этом пути
усмотрели,— это встреча проводимой нами линии с нею же
самой, т. е. получение замкнутой линии. Ни о каких
пунктах, ни о каком внутреннем содержании очерчиваемых
нами границ мы до сих пор не имели ровно никакого
представления, хотя эта пустота и получалась фактически
в результате нашего черчения. Теперь настало время и это
Α. Φ. ЛОСЕВ
438
содержимое полученных нами границ зафиксировать
категориально. Это ведь и есть то общее лоно, тот фон, на
котором могут существовать любые качества вещи.
Сколько бы этих качеств ни было и какие бы они ни были, раз
есть возможность их поместить в очерченных границах,
значит, они не нарушат индивидуальности данной вещи.
Данная вещь все равно будет стоять перед нашими
глазами как такая.
с) Чтобы подойти к новой диалектической категории,
получаемой здесь, вплотную, заметим, что эта «пустота»
есть ведь не что иное, как отсутствие различий, а
отсутствие различий есть отсутствие бытия, т. е. присутствие
небытия. Следовательно, необходимо, чтобы выведенная
нами раньше категория ставшего получала внутри себя
свое небытие. Раньше мы говорили, что в ставшем бытие
возвращается к самому себе, т. е. бытие, перейдя в
небытие, заканчивается опять бытием же. Теперь же, в
результате нового диалектического движения, должно
получиться не бытие, но небытие; и получиться оно должно вместе
с получением самого ставшего, ибо оно существует не где-
нибудь вообще, но именно внутри самого ставшего.
Откуда же могло бы получиться диалектическим путем нужное
нам специфическое небытие? Раз бытие в ставшем
получилось в результате его определенного диалектического
развития, то, очевидно, и небытие должно получиться так
же. Можно поискать истоков этого небытия только в той
единственной категории, где оно выступило перед нами
в своей активной форме, т. е. в категории становления.
В самом деле, становление возможно только
благодаря небытию, которое совпало с бытием. Но бытие,
исчезнувшее в небытии на стадии становления, снова вернулось
к себе на стадии ставшего. Не та же ли судьба постигла
и небытие? Ведь в становление обе категории вошли
вполне равномерно, и бытие, и небытие. Бытие,
погрузившись в небытие, вновь нашло себя в качестве бытия.
Очевидно, и инобытие, погрузившись в бытие, вновь нашло
себя в качестве инобытия. Ведь когда мы, идя от
становления к ставшему, очерчивали первый контур бытия, мы ведь
не только шли от бытия к небытию, т. е. не только наша
точка, которую мы поставили карандашом на бумаге,
двигалась по неопределенному белому полю бумаги. Точно
так же необходимо сказать и то, что здесь мы от небытия
шли к бытию, ибо неопределенное белое поле бумаги по
САМОЕ САМО
I 1
439
мере движения нашего карандаша все больше и больше
оформлялось и все более и более законченно появлялась
очерчиваемая фигура. А когда бытие достигло степени
ставшего, то, очевидно, не только бытие, пройдя поле
небытия, вернулось к самому себе (ибо наш карандаш
пришел в исходную точку и тем замкнул очерчиваемую им
фигуру), но и небытие, превратившись в бытие, тоже
вернулось к самому себе (ибо когда карандаш только еще
огибал свою кривую, то небытие уходило на оформление
получаемой таким образом фигуры, т. е. превращалось в
бытие; а когда фигура замкнулась, то процесс завоевания
бытием небытия кончился, и внутри полученных границ
вновь разверзлась бездна все того же небытия, какое было
и раньше).
Несомненно, это новое диалектическое движение очень
выгодно восполняет ту прореху, которую мы до сих пор
не замечали. Мы раньше показали, как бытие находит себя
в небытии. Но существует не только бытие, и в становлении
как раз бытие и небытие представлены совершенно
равноправно. Следовательно, и небытие тоже находит себя в
бытии. И если раньше мы получили категорию ставшего, то
сейчас получаем, несомненно, нечто новое, новую
категорию, которую надо теперь же зафиксировать
терминологически.
d) О терминологии здесь можно спорить. Мы поступим,
может быть,не очень строго, но зато внесем
непоколебимую ясность в предмет, если назовем эту новую
категорию категорией индивидуальности, индивидуальной вещи,
или просто категорией факта. В самом деле, что приносит
нам нового фиксация небытия внутри самой вещи? Она
приносит с собой ту удивительную особенность вещи,
которая переносит наше внимание именно на саму вещь. Ведь
когда мы получили ставшее (наличное бытие, качество,
нечто), мы неизбежно были связаны с категорией
границы, так как ставшее тем и отличается от становления,
что это становление описало некоторую замкнутую кривую
и породило таким образом определенную границу. Но мы
не стали специально излагать диалектику границы. Если
бы мы это сделали, то было бы отчетливо ясно, что
граница совершенно так же принадлежит кругу, как и тому
фону, на котором он начерчен. Да это ясно и без всякой
диалектики уже для простейшего чувственного
восприятия. Если бы граница принадлежала только кругу, то круг
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
440
не имел бы никакой границы с окружающим его фоном,
т. е. не был бы кругом. А если бы она принадлежала
только окружающему фону, то круг тоже оказался бы
лишенным всякой границы и, значит, тоже не был бы кругом.
Ясно, что граница сразу и одновременно принадлежит как
ограничиваемому, так и ограничивающему, как, впрочем,
это вытекает уже из того, что граница возникает путем
становления, а в становлении бытие и небытие как раз
совпали. Но тогда ясно и то, что наше ставшее (наличное
бытие, качество, нечто) определяется не только самим
собою, но и своим окружением, т. е. небытием, оставшимся
на свободе после получения нами замкнутой границы,
т. е. осталось вне полученных нами границ. Чтобы ясно
мыслить себе ставшее (наличное бытие, качество, нечто),
мы по необходимости должны примышлять и окружающий
его фон. Пусть перед нами красный цвет. Если мы хотим
представить себе его как индивидуальное явление, т. е.
как пятно, мы по необходимости должны мыслить его фон,
где это пятно находится, ибо иначе мы не уловим
контуров этого пятна, т. е. не уловим самого пятна. Однако
одних контуров мало. Сами по себе контуры еще не
создают красного пятна, поскольку пространство,
находящееся внутри данного контура, может быть заполнено
и не красным, а другим цветом и может даже вообще не
заполняться ничем. Значит, чтобы мы фиксировали именно
красное пятно, необходимо отвлечься от фона, на котором
существует пятно, и сосредоточить свое внимание на нем
самом. Граница и контур пятна от этого совершенно не
пострадают, потому что для существования контура важна
его определяемость через небытие, а небытие одинаково
может фиксироваться как извне нашего пятна, так и
изнутри. Ведь можно же пробегать глазами по окружности,
находясь как бы внутри самого круга. Мы можем
определить форму палатки, которую мы раскинули во время
путешествия в лесу, или обходя ее кругом извне, или обходя ее
кругом изнутри. Таким образом, при помещении небытия
внутри нашего ставшего его определенность (как качества,
как наличности, как «чего-то») вполне остается на месте,
а зато мы получаем несомненное преимущество: мы
заодно фиксируем и саму качественность вещи, само
качественное содержание вещи, уже не привлекая для
этого свободного и никак не окачествованного небытия,
находящегося за пределами самой вещи и всех ее качеств
САМОЕ САМО
I——J
441
Я думаю, можно без всяких опасений признать, что тут
перед нами действительно индивидуальность, абсолютная
определенность вещи, вещь как индивидуальность, вещь
как то, что является предметом чьего бы то ни было
внимания само по себе, не косвенно, но вполне
непосредственно, то, что определено независимо ни от чего, что само
дало себе свою определенность,— стало быть, то, что есть
абсолютная определенность.
е) На этом можно было бы и кончить рассмотрение
данной категории, если бы Гегель не употребил для нее
одного выражения, которое имеет для нас большую
ценность, несмотря на свое внешнее неудобство. А именно,
то, что мы рассматриваем здесь под именем
индивидуальности, Гегель рассматривает под именем «для-себя-бытие».
Хотя предложенная нами диалектика индивидуальности по
существу не отличается от гегелевской (являясь, впрочем,
несравненно более простой и ясной), все же самый
термин «для-себя-бытие» способен вызывать в нас
недоумение. Зачем понадобилось Гегелю такое сложное
выражение?
Внимательно перечитывая главу о «для-себя-бытии»
у Гегеля, мы в конце концов начинаем отчетливо видеть,
что заставило Гегеля выражаться именно так. Вспомним
диалектику, проведенную выше: ставшее не есть абсолют
ная определенность, потому что его границы (т. е. то
самое, что делает его определенным) зависят от внешнего
окружения (или небытия); но когда ставшее начинает
зависеть только от себя, т. е. быть уже абсолютной опре
деленностью, тогда его границы должны быть определены
изнутри его самого; а это как раз и есть специфическая
особенность индивидуальности вещи. Таким образом, есть
все основания понимать эту индивидуальность как «для
себя-бытие». Здесь бытие получило значение само по себе,
как таковое. Здесь мы соотносим его с ним же самим.
Когда говорилось просто о качестве, то обязательно мыс
лился при этом и окружающий его фон, от которого оно
должно было резко отличаться, т. е. обязательно мысли
лось и его окружение. Не сравнивая данное качество
с окружающим его фоном, т. е. с его небытием, или с его
отрицанием, или, другими словами, не соотнося данного
качества с его небытием, или отрицанием, мы не смогли
бы познать и самого этого качества. Теперь же мы ера в
ниваем наше качество с ним же самим, соотносим с ним
Α. Φ. ЛОСЕВ
1^—1
442
же самим. А это и значит, что оно получает для нас
самодовлеющую ценность и поэтому превращается в
бытие, существующее «для себя».
Можно сказать еще и иначе. Качество, впервые
полученное при помощи замыкания круга, содержит в себе
только один план, один слой. Поэтому сравнивать его
можно только с чем-нибудь другим. «Для-себя-бытие»
содержит в себе два плана, или слоя, поскольку качество
здесь соотнесено с самим же собою. Мы как бы говорим:
«Этот зеленый цвет есть именно зеленый цвет». И наше
качество, или ставшее, перекрывается новым слоем —
тем именно, что мы о качестве утверждаем. Один слой —
это качество как такое, качество до нашей специальной
фиксации — то, о чем мы утверждаем, что оно есть именно
данное качество. Второй слой — качество, впервые
фиксируемое нами,— то, что именно мы о данном качестве
высказываем. При этом оба слоя суть абсолютно одно
и то же, ибо совершенно одно и то же — то, о чем здесь
говорится, и то, что именно здесь говорится.
f) Необходимо, наконец, отметить еще и то, что для-
себя-бытие, или абсолютная индивидуальность вещи, ни-
сколько не мешает существовать тому, что мы популярно
называем внешним фоном и что в диалектике называется
небытием, или отрицанием. Если вещь есть абсолютная
определенность, т. е. если всякое свое небытие она
включила в себя саму, это еще не значит, что вокруг нее отныне
уже не может быть никакого небытия. Оно останется
в полной силе, но оно уже потеряло определяющую
способность для качества. Качество уже теперь не
заинтересовано во внешнем небытии, не зависит от него, не
соотносится с ним, не определяется им. Само же по себе это
небытие, конечно, существует; и для-себя-бытие,
абсолютная определенность вещи, по-прежнему продолжает
выделяться на его фоне своими резкими и яркими очертаниями.
3. ЭМАНАЦИЯ
Остается еще один момент, не принятый нами во
внимание из обывательского отношения к чувственной вещи.
Именно вещь есть не просто абсолютная
индивидуальность, данная сама по себе. Она еще и действует,
страдает. Тот самый ее фон, который, по только что
изложенному, остался нетронутым, он может теперь сам подверг-
САМОЕ САМО
|—^мі „
443
нуться действию вещи, равно как и может сам
воздействовать на вещь (но, конечно, уже не в смысле
определения ее как абсолютной индивидуальности, потому что
в этом она уже не нуждается). Такое пребывание вещи
с ее абсолютной определенностью в некоей среде заново
перекрывает вещь каким-то невидимым нам смысловым
слоем, и его-то мы и должны изучить сейчас досконально.
1. Прежде чем выставить соответствующую
категорию, напомним, что мы должны пока оставаться в
пределах наиболее основных и первоначальных определений
вещи и не уходить от них настолько далеко, чтобы
терялась из вида сама абсолютная определенность вещи. То,
что мы в обывательской практике понимаем под
действиями и страданиями вещи, часто уходит очень далеко
от самой вещи, рассыпаясь в разных мелочах и
многочисленных частичных подробностях. На той стадии нашей
системы, которой мы заняты сейчас, необходимо
рассуждать только о самой вещи; и если мы заговариваем теперь
о действиях или страданиях вещи, то это надо по
возможности не отрывать от самой вещи; и надо рассуждать так,
чтобы это продолжало быть характеристикой самой вещи.
О действии же и страдании как таковых рассуждать здесь
не место, поскольку это есть задача последующих, и
притом весьма отдаленных, исследований.
2. При таком подходе к изучаемому предмету
получается следующая диалектическая картина.
Как это мы делали и раньше, не будем говорить ни
о каких частичных и специфических действиях или
страданиях вещи. Обсудим все это, как и раньше, под одной
категорией становления, потому что всякое действие и
страдание, как равно и всякое другое изменение или
движение, уже во всяком случае есть вид становления. Итак,
полученная нами абсолютная определенность должна
перейти в становление, подобно тому как некогда в это
становление переходило чистое бытие. Но если бы абсолютная
определенность перешла в становление, т. е. объединилась
бы с небытием так, как некогда чистое бытие, то она
в этом инобытии себя потеряла бы, и наступило бы вновь
безразличное царство становления, которое мы уже давно
преодолели и отринули. Кроме того, мы должны были бы
совершенно забыть не только о какой-нибудь
определенности вещи, но и о самой вещи, чего как раз мы только
что условились не делать. Значит, из этого становления
Α. Φ. ЛОСЕВ
, I ' *
444
должен быть найден выход, и выход, разумеется, опять
аналогичный тому, как находило себе выход чистое
становление. Выход этот найден был через ставшее, т. е.
становление не ушло тут в бесконечную бездну окончательно,
но вернулось назад, очертивши известную замкнутую
границу: и бытие вновь встретилось здесь с самим собою.
Следовательно, и абсолютная определенность, уйдя в
чистое становление, должна вернуться к себе самой,
образовавши тем самым новое качество, новое нечто и новое
наличное бытие, аналогично с полученным раньше.
3. Вот элементарный диалектический очерк нашей
новой категории. Что он дает нам?
a) Мы видим, что наша абсолютная определенность
не осталась тут сама по себе, какой мы получили ее
раньше, не осталась в своем чистом и абстрактном виде.
Она вышла к своему окружению и вступила со своим
небытием в очень глубокую связь. Эта связь действительно
очень глубока и интимна, потому что абсолютная
определенность перешла в становление, а становление для
всякого бытия есть прямое и окончательное отождествление
с небытием. Значит, интимнее и глубже нельзя и
объединиться. Но отсюда следует, что отныне наша абсолютная
определенность уже ни в каком смысле не будет чуждой
своему отрицанию и небытию, т. е. всему своему
окружению. Отсюда следует также, что отныне будет обеспечено
любое проявление абсолютной определенности вещи в ее
инобытии, любое ее изменение и движение в нем, любое
ее действие и страдание. Раз возникло указанное
тождество абсолютной индивидуальности вещи с ее окружением,
то уже ни в чем и никогда эта вещь не будет отчуждена
от этого окружения и ни в чем никогда не будет ей и ее
окружению никакого запрета во взаимообщении. Значит,
любые действия и страдания вещи этим диалектически
уже обеспечены.
b) Но мы нашли, что простым становлением дело не
может здесь ограничиться. Становление, если его брать
в чистом виде, разрушило бы вещь. Становление вновь
порождает из себя свой результат и вновь приходит к
определенному концу — к новому ставшему. Это значит, что
полученная полнота общения с окружающим инобытием
становится чем-то определенным и оформленным. Она
становится определенным качеством, определенным
фактом. О ней мы вновь можем говорить, что она есть она, что
САМОЕ САМО
I I
445
она есть нечто. Сначала мы охватили всю полноту
взаимообщения вещи с окружающим ее инобытием. Теперь же мы
оформим эту полноту как некое простое и ясно очерченное
качество; и вся бездна углублений вещи в окружающее
ее инобытие предстала перед нами в живом, охватном
и простом очерке. Абсолютная определенность, или
индивидуальность, вещи не потеряла себя, не потонула в
самозабвении, не исчезла в туманных далях небытия и
абсолютного отрицания; но она вернулась к себе, неся с собой
богатство всех своих инобытийных судеб, всех своих
взаимообщений с небытием, и притом — без всякого ущерба
для себя, с прочным и непоколебимым утверждением
себя как себя, с бесконечной мощью своих бытийно-смыс-
ловых возможностей для всякого возможного небытия.
Теперь всякое небытие и инобытие уже предусмотрено
в абсолютной определенности вещи, как бы вобрано в нее.
Теперь для нее уже ничего не может быть нового в
инобытии. Теперь образовался верный и неуничтожимый
залог для всякого, для любого общения вещи со всем
прочим, нерушимая арена и поле для всех бесчисленных
по числу и качеству встреч со всяким возможным
инобытием.
Теперь абсолютная определенность вновь соотнесена
со своим инобытием, но эта соотнесенность не есть то
прежнее, что впервые только еще формировало вещь, что
впервые только еще отграничивало ее от всего прочего
и делало определенной. Теперь вещь уже не нуждается
в таком соотнесении, будучи взамен этого соотнесенной
не с чем иным, как именно с самой собой; и эта
соотнесенность — выше, богаче той, первоначальной, она создает
из вещи абсолютную определенность.
Совсем другое — наша теперешняя определенность.
Она вовсе не определяет вещь как такую. Но зато она
определяет общение вещи со всем прочим. Абсолютная
определенность вещи, зафиксированная в ее для-себя-
бытии, не нуждалась ни в каком инобытии, не нуждалась
и в общении с ним. Наоборот, она вырвалась из этого
инобытия, порвала общение с ним, углубилась в себя,
забыла все прочее и стала только сущим для себя. Но вот,
абсолютное хочет общения, и общения не ради
эгоистических целей самооформления, но ради самого же
инобытия. Пусть абсолютная индивидуальность не нуждается
в общении с инобытием Однако в этом общении нуждается
Α. Φ. ЛОСЕВ
446
само инобытие. И если так, то возможность такого
взаимообщения должна быть обеспечена в самой абсолютной
индивидуальности. Ведь небытие есть ничто, и, само по
себе взятое, оно не может обеспечить своего общения
с для-себя-бытием, как не может оно и вообще ничего
обеспечить. Но это обеспечение создается в недрах самой
же абсолютной индивидуальности — правда, для этого она
перекрывается еще новым бытийно-смысловым слоем,
слоем нового соотнесения.
c) Эту же диалектику взаимообщения вещи со всем
окружающим мы можем выразить и иначе. Пусть имеется
две вещи — Л и В. А не есть ß, и В не есть А. Пусть между
ними существует какая-нибудь связь, какое-нибудь
общение, которое мы назвали «а». Это «а» также не есть ни Л,
ни ß. Спрашивается: как же может произойти общение А
с ß? Само по себе А есть только А\ оно — не В и не «а».
Само по себе В тоже не есть ни Л, ни «а». Наконец,
и «а» тоже не имеет никакого отношения ни к Л, ни к В. Как
же образуется тут общение? Единственно только таким
способом, что «а» присутствует в Л и в ß так, что оно уже
неотделимо от них, так, что оно уже отождествляется
с ними, так, что Л и β абсолютно тождественны между
собою в смысле этого «а». Л должно предвосхищать
в себе это ß, заключать его в себе в виде возможности.
Вот точно так же и наша абсолютная определенность
должна включать в себя свое инобытие в виде
возможности, чтобы при случае эта возможность могла стать и
действительностью. А если надо, чтобы она была способна
принципиально ко всякому общению и с любым инобытием,
то необходимо, чтобы оно принципиально и вмещало
в себя все эти возможные общения, чтобы оно было
пределом всех возможных общений, абсолютной возможностью
всех общений.
d) Нетрудно понять и то, что такая абсолютная
возможность есть и предел всех возможных проявлений вещи,
всех возможных ее действий и страданий, как и в пределах
вышевыведенной категории ставшего слились вместе
конечность, или определенность, вещи и ее вечное
становление, или неустанное стремление, и слились в одну общую
актуальную бесконечность. Поэтому та категория,
которую мы здесь анализируем, есть не что иное, как
абсолютная определенность вещи, но данная в виде актуальной
бесконечности всех своих проявлений, в виде бесконечного
САМОЕ САМО
I I >
447
предела всех своих взаимоотношений со всяким
возможным бытием.
4. Ради ясности и последней четкости диалектического
рассуждения формулируем еще раз получаемую нами
новую категорию вместе со всеми окружающими ее
категориями.
Мы знаем, что на этой стадии для-себя-бытие, или
абсолютная определенность, проделывает ту же
диалектическую эволюцию, что и раньше само бытие. Как раньше
бытие переходило в становление и возвращалось к себе
в ставшем, так и теперь для-себя-бытие переходит в свое
становление и возвращается к себе через свое ставшее»
Но ведь само для-себя-бытие было только становлением
небытия, переходившего через бытие к небытию, т. е. к
самому себе. Следовательно, тут мы имеем переплетение
двух процессов становления: один — от бытия через
небытие к бытию, и другой — от небытия через бытие к
небытию. Абсолютная определенность уже сама по себе есть
результат становления инобытия через бытие к инобытию.
Теперь этот результат сам вовлекается в новый процесс
становления бытия через небытие к бытию. То новое, что
от этого получается, и есть наша новая категория,
выставляющая такую абсолютную определенность,
которая дана в соотношении со всем своим возможным
инобытием.
Заметивши это, мы теперь легко можем восстановить
всю схематику категорий, рассмотренных у нас выше.
Именно: в становлении бытие переходило в небытие, и
небытие переходило в бытие; когда бытие в небытии нашло
себя само, то становление превратилось в ставшее; когда
небытие нашло в бытии себя самого, становление
превратилось в абсолютную определенность для-себя-бытия;
когда, наконец, оба эти процесса совпали и
отождествились, т. е. процесс бытие — небытие — бытие и процесс
небытие — бытие — небытие, то наше становление
превратилось в эманацию. Так мы предлагали бы назвать эту
новую форму становления, и так мы предлагали бы
понимать абсолютную определенность для-себя-бытия,
несущего отныне на себе печать своей соотнесенности со
всяким своим возможным инобытием.
5. Можно спорить о термине «эманация», который
означает, собственно, «выхождение», «выступление
вперед», как можно спорить и о термине «для-себя-бытие»
Α. Φ. ЛОСЕВ
448
{приложимом скорее, может быть, к самосознанию, к Я,
чем к этим — пока еще очень абстрактным — моментам
окачествованной вещи). Однако дело, разумеется, не в
термине, который при случае можно и легко заменить
другим. Это есть, собственно говоря выразительная
форма, выражение. Однако, в более точном смысле слова,
выражение связано не с чисто бытийными категориями, но со
смысловыми, так же, как и слово связано с сознанием,
а имя — с личностью. Выражение есть эманация смысла,
слово — эманация сознания, а имя — эманация личности.
Но сама эманация относится только к бытию, а не к
смыслу, не к сознанию и не к личности. Это — наиболее
абстрактная выразительная форма, где категории пока еще
не соотносятся сами собою, не мыслятся, или
осознаются, и тем более еще сами не мыслят и не осознают, но
только полагаются, бытийствуют. В этом смысле термин
«эманация», пожалуй, не является плохим.
Не плох сам по себе еще один термин
антично-средневековой философии, это — «энергия* (по-гречески) или
«акт» (по-латыни). Но первый термин вызывает ненужные
и вредные физические ассоциации, а второй мыслится
обыкновенно как противоположность «потенции», что
тоже в данном случае является ненужным. Поэтому мы
останавливаемся на термине «эманация».
6. Следовательно, в эманации мы находим, прежде
всего, становление. Она есть становление. Однако это не
то чистое становление, которое вначале образовалось
только из взаимоотождествления бытия и небытия. Это
такое становление, которое всесторонне развило в себе
категории бытия и небытия, из которых оно
первоначально возникло. Это — становление, которое не просто
лишено начал и концов и которое поглощает в своей бездне
решительно все раздельное и оформленное. Оно само дано
тут как такое, оно здесь зафиксировано, и потому,
продолжая быть по содержанию все тем же безначальным и
бесконечным, оно приобрело форму определенности, и
даже абсолютной определенности. Ведь в эманации
абсолютная определенность вернулась к себе. Значит, она тут
сохранилась, не погибла в бесконечном рассеянии, но
утвердилась как таковая и гарантировала себя от всякого
ущерба. Эманация поэтому, несмотря на то, что она
есть арена взаимообщения вещи со всем ее инобытием,
остается в полной мере для-себя-бытием. Но только преж-
САМОЕ САМО
I \
449
нее для-себя-бытие освобождалось от всякого инобытия
для своего самосохранения, теперешнее же наше — эма-
нативное — для-себя-бытие освобождается от всякого
инобытия для своего же общения с этим инобытием.
Эманация гарантирует нам, что при всех возможных видах
взаимообщения вещи с ее инобытием она остается в своей
абсолютной определенности — абсолютно независимой от
этого инобытия. Ведь мы так привыкли думать, что вещь
зависит от своего общения с другими вещами. Здесь же
диалектика абсолютно повелительно требует признать,
что есть такая форма общения одной вещи с другой, когда
первая вещь совершенно не зависит от этого общения, так
что если даже фактически и не состоялось общения с нею
другой вещи, то все равно принципиально это общение уже
всегда есть, и оно скрыто в густых и вечных волнах ее
эманативного излучения. Не так интересно и более обычно,
если вещь, чтобы остаться самой собой и быть не
зависимой ни от чего другого, уходит в себя, сама определяет себя
и отказывается от всякого общения с чем бы то ни было.
Но гораздо удивительнее и несравненно богаче и глубже
такая структура вещи, когда она при всем своем общении
со всем прочим, при всем своем взаимосоответствии с
небытием, при всех своих инобытийных судьбах все же
продолжает определять себя, и определять абсолютно,
определять себя как абсолютную определенность и
индивидуальность, как совершенно нетронутое и нерушимое для-
себя-бытие.
Эманация, таким образом, не есть распыление, или
рассеяние, как это внушают нам различные физические
аналогии. Эманация не есть нечто отдельное от вещи или
могущее существовать самостоятельно. Эманация есть
только определение самой же вещи, но определение —
в ее абсолютной явленности всему иному, причем она
несет в себе решительно всю определенность вещи, ее
бытие, ее небытие, ее становление, ее ставшее (т. е. ее
качество, ее конечность, ее актуальную бесконечность),
ее факт, ее абсолютную индивидуальность. Когда
наступит фактическое общение с вещью того или иного ее
окружения, то это общение будет совершаться при
помощи эманации по одному из этих пунктов, по одной или
нескольким таким энергиям (или по разновидностям и
тем или иным частичным моментам этих энергий). Отсюда
и всякая иная вещь, вступающая в общение с первой
15 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
f^—l
450
вещью, может в результате эманации быть или не быть,
возникать или уничтожаться, быть чем-то или ничем,
иметь качества, быть конечной или бесконечной, быть
фактом или фикцией, быть индивидуальностью или ею не
быть — наконец, иметь или не иметь свои эманации. Все
это возможно только потому, что вещь уже хранит на
себе печать и мощь всех подобных эманации.
7. Заметим, что эта категория целиком отсутствует
у Гегеля. И это очень характерно. Для рационалиста
Гегеля отсутствует как самое само, так и всякая
символическая, выразительная форма. И поскольку без этих
конструкций все-таки невозможна никакая зрелая
диалектика, то они вводятся у него только случайно и косвенно,
но не в виде самостоятельно фиксированных и
законченных категорий.
4. ФОРМУЛЫ
С категорией эманации заканчивается диалектика
первого символа — символа бытия, или бытийного
символа. Остается теперь только резюмировать ее в
максимально сжатых и не содержащих ничего лишнего
тезисах.
1. 1. а) Бытие есть бытие.
Если бытие есть только бытие и больше ничто другое,
то это значит, что бытие вообще не есть нечто, т. е.
что оно есть ничто, или небытие.
Ь) Точно так же: если бытие есть бытие, т. е. в этом
суждении бытие-предикат не есть бытие-субъект, то,
поскольку оно не есть бытие, <но> есть небытие,
оказывается, что бытие есть небытие.
2. а) Но бытие не только есть бытие, но оно еще и
просто есть.
Если бытие есть, существует, оно обязательно
отличается от того, что не есть бытие, т. е. от небытия.
Следовательно, если бытие есть, то существует и небытие.
Другими словами, небытие тоже существует, т. е.
небытие есть бытие.
Ъ) Точно так же: если небытие есть небытие, то это
значит, что оно есть нечто, т. е. небытие есть нечто; а в
таком случае небытие есть бытие.
Или: если небытие есть небытие, то небытие в
предикате отличается от небытия в субъекте; а то, что отлича-
САМОЕ САМО
I—J
451
ется от небытия, есть бытие; следовательно, небытие
есть бытие.
3. а) Итак,— бытие есть небытие, и небытие есть
бытие (другими словами, «бытие» и «небытие» являются тут
понятиями одного и того же содержания и одного и того
же объема). Это значит, что бытие и небытие совпадают.
b) Совпадение бытия и небытия, вообще говоря, есть
граница, откуда получается тождество трех
диалектических установок — бытия, небытия и совпадения бытия с
небытием — при любой их взаимной перестановке. А именно:
бытие есть (и не есть) и бытие, и небытие, и их совпадение;
небытие есть (и не есть) и небытие, и бытие, и их
совпадение; совпадение бытия с небытием есть (и не есть) и оно
само, и бытие отдельно, и небытие отдельно.
c) Совпадение бытия с небытием в бытии, т. е.
полагание бытием для себя своей собственной границы, есть
число.
Совпадение бытия с небытием в небытии, т. е.
полагание бытием границы для небытия, есть инобытие.
Совпадение бытия с небытием, данное в самом себе,
т. е. как полагание границей границы для себя самой, есть
становление. Другими словами, становление есть
совпадение бытия с небытием в бытии и бытия с небытием в
небытии, т. е. совпадение числа (или расчлененной распростер-
тости) с инобытием, откуда и — нерасчлененная распрос-
тертость становления.
II. 1. Но бытие, превращаясь в небытие, остается
самим собою, т. е. встречается в небытии с самим собою,
воплощается в небытии целиком и полностью.
Это значит, что оно очерчивает некоторую
замкнутую границу в небытии и тем самым образует наличное
бытие, или ставшее.
Ставшее, резко отличаясь от всего иного, т. е. от
всякого небытия, образует качество (или нечто). Этому
качеству противопоставляется наличие самих его границ,
т. е. конечное. А поскольку это конечное не исключает
чистой качественности, но вмещает ее со всем его "
становлением, то ставшее оказывается актуальной
бесконечностью.
2. В становлении (см. I 3) бытие переходит в инобытие,
но и инобытие в бытие. Оно тоже, перейдя в бытие,
остается там самим собою, т. е. встречается в бытии с самим
собою, воплощается в бытии целиком и полностью.
15*
Α. Φ. ЛОСЕВ
452
Это значит, что небытие, подчиняясь бытию, когда
последнее описывает определенные границы, в момент
появления ставшего вновь освобождается от этого
подчинения, но оказывается включенным в эти границы.
Отсюда ставшее получает новое определение, но —
уже через небытие, включенное в него самого, что
заставляет его вступить в соотношение с самим собою.
А это означает, что внешнее небытие уже не
используется для определения ставшего, и ставшее производит
свое определение из самого же себя, т. е. становится
абсолютной определенностью, индивидуальностью, или
для-себя-бытием.
III. 1. Однако становление (см. I 3) есть не только
переход бытия в небытие и небытия в бытие, но и
существенное единство этих процессов, совпадение их в одном
едином процессе.
Это значит, что процесс бытие — небытие — бытие (а
это есть ставшее) должен быть наложен на процесс
небытие — бытие — небытие (т. е. на абсолютную
определенность). Или: абсолютная неопределенность должна
проделать процесс бытие — небытие — бытие.
Переход абсолютной определенности, или для-себя-
бытия, в небытие есть новое становление, но уже
специфическое (а именно, становление не вообще, но —
абсолютной определенности). Обретение же им в этом небытии
снова себя, т. е. возвращение к самому себе, закрепляет
это становление в твердых и определенных «ставших»
пределах.
Другими словами, это есть эманация.
2. Эманация, следовательно:
a) включает в себя всякое возможное инобытие
абсолютной определенности и отождествляет себя с ним;
b) остается при этом абсолютно независимым ни от
какого инобытия;
c) является пределом всех возможных проявлений
вещи в инобытии;
d) обосновывает и делает возможным всякое общение
вещи со всяким ее инобытием;
e) несет с собою все предыдущие категории,
обеспечивая их появление — в том или ином виде — в том или
другом инобытии.
IV. Эманация бытия есть, таким образом, первый сим-
вол бытия вообще, обеспечивающий и делающий воз-
САМОЕ САМО
I I
453
можным появление и всякого другого символа вообще.
Вместе с тем это есть, разумеется, и первый символ
самой абсолютной самости.
Это именно символ — бытийный (в отличие от других
символов, более сложных, как-то: смысловой, или
сущностный; интеллигентный, или самосознательный;
личностный, природный, социальный, мифический).
Эманация, будучи первым символом вообще, или
бытийным символом, символом бытия, может быть
охарактеризована и любой категорией из тех, которые его
конструируют. Поэтому можно сказать, что эманация есть
символ наличного бытия, качества, или символ
актуальной бесконечности, или абсолютной определенности, или —
просто — символ становления (в котором положены и
развиты все его составляющие категории).
III. ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОГО СИМВОЛА И ПЕРЕХОД
К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
Рассмотревши общую диалектическую структуру
первого символа, поставим еще ряд более детальных
вопросов, относящихся к этому символу как целому.
1. Во-первых, почему это — символ и, во-вторых,
почему это — первый символ?
a) Проведенная выше диалектика бытия уже много раз
сталкивала нас если не с понятием символа, то во всяком
случае с фактом символа. Уже первое совпадение бытия
и небытия привело нас к становлению, которое в полном
смысле слова может быть названо символом, если
придерживаться понимания символа, данного у нас в гл. 1, § 7.
Здесь ведь полное и окончательное совпадение бытия
и небытия, так что можно с полным правом сказать, что
становление есть символ бытия и становление есть
символ небытия, или что становление есть символ совпадения
бытия и небытия. Такими же символами бытия, небытия
и их совпадения являются наличное бытие, для-себя-бытие
и эманация. Но эманация является символом по
преимуществу. И почему?
b) Под символом обычно понимается некоторый знак
вещи, и притом цельной вещи. Было бы странно, если бы
символ указывал только на какой-нибудь частный или
случайный момент вещи, а не на всю вещь и не на цельную
ее значимость. Следовательно, первым настоящим симво-
Α. Φ. ЛОСЕВ
454
лом мы не можем считать, напр., число или становление,
которые не содержат в себе не только никакой вещи, но
даже и никакого качества, или, напр., качество, которое
само по себе еще не есть абсолютная определенность.
Первый настоящий символ, очевидно, может появиться
только тогда, когда уже формулирована абсолютная
определенность вещи, когда есть то, что можно
символизировать. С другой стороны, совершенно излишне идти в
конструировании первого символа дальше эманации. Ведь
символ должен указывать на то, как вещь является своему
инобытию. А эту функцию с успехом выполняет уже
эманация. Следовательно, мы имеем полное право считать
именно эманацию первым настоящим символом бытия, а
стало быть, и первым настоящим символом вообще.
2. Далее, почему мы остановились именно здесь, на
эманации, на первом символе бытия? Пусть эманации
достаточно для построения первого символа бытия. Но ее
ведь совершенно недостаточно для завершения диалектики
вообще. Какой же смысл делать здесь перерыв и видеть
в этом какой-то один специальный отдел философии
символа? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
еще с другой стороны посмотреть на наш первый символ
и необходимо фиксировать его совсем в другом смысле,
а) Поставим такой вопрос: что случилось бы с
эманацией, если бы мы продолжали ее диалектику, оставаясь
на той же самой плоскости бытия и не переходя ни в какие
другие сферы символа вообще? Мы знаем, что всякая
новая категория происходит под воздействием инобытия
предыдущей категории; так именно получается само
небытие (из отрицания бытия), ставшее (из отрицания
становления), для-себя-бытие (из отрицания того отрицания,
которое является определяющим для ставшего) и
эманация (из отрицания для-себя-бытия и превращения этого
последнего в бытие-для-иного). Будем теперь отрицать
саму эманацию, т. е. будем понимать ее как небытие, как
не-сущую. Если бы она не была для-себя-бытием, а
только качеством, то новое небытие пошло бы лишь на
превращение ее в для-себя-бытие. Если бы она не была
эманацией, а только для-себя-бытием, то привлечение нового
небытия только сделало бы ее именно эманацией и больше
ничего. Но теперь всякое такое небытие, конструирующее
внутреннюю и внешнюю самостоятельность бытия, уже
использовано. Бытие предстает как такое, в абсолютной
САМОЕ САМО
455
полноте своих бытийных определений. Чего же еще может
теперь достигнуть небытие и отрицание бытия?
Естественно, теперь остается отрицать и превращать в небытие саму
абсолютную определенность бытия со всеми ее эманацион-
ными излучениями. Другими словами, теперь остается
разрушать, дробить полученную полноту бытия и
рассматривать получающиеся при этом его разбитые куски в
отдельности.
Везде, как мы знаем, небытие было тем источником,
откуда почерпались новые категории. Всякая категория,
уходя в небытие, возвращалась из него к себе в качестве
уже новой категории. Взявши во всем объеме эманацию
и погружая ее в чистое небытие, мы можем получить в
качестве нового достижения только ее дробление и
разрушение, вплоть до полного рассеяния и распыления.
Ь) Вот почему имеет полный смысл считать эманацию
первым законченным символом. Выше мы отметили, что
для символа нужна абсолютная определенность; и это
было отграничением категории символа сверху, откуда
и наше понимание эманации как именно первого символа.
Теперь мы видим, что дальнейшая история эманации
привела бы к ее разрушению; а это значит, что мы
отграничиваем здесь категорию символа снизу. Раньше мы
определили границу, до которой нельзя искать символа; а
теперь мы определяем границу, после которой нельзя искать
символа. В обоих случаях нам приходится
останавливаться на категории эманации.
3. Итак, первый полный символ нами определен: он
есть эманация бытия. Двигаясь дальше в поисках
последующих, более сложных символов, мы сталкиваемся,
прежде всего, с указанной только что стихией дробления
и разрушения бытия. Спрашивается: должны ли мы
сейчас перейти в эту сферу разрушения, или еще до этого мы
можем констатировать те или иные символы?
а) Уже небольшое размышление обнаруживает, что
тут содержится длинный ряд промежуточных символов.
Ведь переход в сферу разрушения был бы переходом в
сферу чувственного, пространственно-временного бытия, в
сферу природы. Но между природой и чистой эманацией
бытия содержится многое другое.
Поставим вопрос так. Можно ли, имея в виду
полученную нами сферу дробления, остаться в плоскости
чистого бытия? Можно ли говорить о дроблении бытия
Α. Φ. ЛОСЕВ
il
456
так, чтобы это не было переходом ни в пространство,
ни во время, ни в природу, ни вообще в чувственную
текучесть? Для того, чтобы ответить на этот вопрос,
припомним, что бытие было для нас только чистым полага-
нием, актом чистого полагания. Возьмем теперь
полученную сферу дробления и разрушения, отбросим всякое
возможное его вещественное содержание и будем понимать
эту сферу исключительно как сферу чистых полаганий.
Что получится? Мы отбросили полное бытие, т. е. бытие как
качество и как абсолютную определенность; и мы
отбросили чувственное, вещественное бытие со всеми его
качествами и определениями. Оставили только одни чистые
полагания бытия, без наполнения какой бы то ни было
качественностью. Мы получаем число или, вернее,
количество, т. е. тут мы совершаем знаменитый
диалектический переход от «качества» к «количеству».
Ь) Заметим, однако, что здесь мы дедуцируем именно
количество, а не число. Число понимается нами как
самостоятельное, т. е. как так называемое отвлеченное число.
Количество же есть число, примененное к исчислению
чего-нибудь. Количество вовсе не есть качество; наоборот,
оно — его диалектическая противоположность. Но
количество вовсе не есть и число. Количество живет числом
и приобщением к числу. Число же вовсе не нуждается ни
в каком количестве и есть вполне самостоятельный
принцип, предшествующий и количеству и качеству.
Количество есть результат применения числа к тому что
подлежит счету. Оно потому вторично и предполагает, что
уже есть что считать.
Количество есть не что иное, как такое качество,
которое, перейдя в небытие, все же осталось в сфере
чистого бытия. Когда качество переходит в свое небытие, оно,
очевидно, перестает быть качеством, т. е. теряет всякую
свою определенность, и общую, и абсолютную. Но ведь
качество содержит в себе не только чисто качественную
определенность. Оно есть еще и какое-то бытие, просто
бытие. И вот, отрицая чистую качественность, мы
оставляем в этом ее отрицании только самую ее абстрактную
форму, т. е. бытие, акт полагания. Этот чистый акт
полагания в сфере небытия качества и создает нам
количество.
Таким образом, количество так же чисто от качества,
как и число; оно так же относится к сфере бытия, как
САМОЕ САМО
Г=1
457
число; и, наконец, оно так же, уходя в дробление и
разрушение, не превращается в чувственное и преходящее
но остается столь же вне всякого ущерба и гибели, как
и вообще бытие. И тем не менее между числом и
количеством— огромная разница: число — до качества, или
есть его формальная, абсолютно имманентная ему
структура, принцип, определяющий само качество, будучи
актом полагания вообще всего (и качественного и
некачественного); количество же — позже качества и есть
принцип, определяющий проявление качества еще в
дальнейшем инобытии.
418* Вместе с тем вполне очевидно, что количество
не представляет собою чего-нибудь совершенно нового.
Новость будет заключаться здесь только в том, что мы
несколько подробнее представим себе бытие, т. е.
эманацию, причем это есть именно скорее подробности, а не
существо дела; в более кратком изложении они могли бы
быть и пропущены. Что же дает нам нового в этом смысле
количество?
а) Прежде всего, совершенно понятно, что качество и
количество, являясь противоположностями, должны
вступать также и в синтез. Не входя в детали обратного
перехода количества в качество (весь этот отдел «Логики»
Гегеля о качестве и количестве вообще наиболее известен,
воспроизводить его тут не стоит), мы скажем только, что
по уже знакомой нам схеме качество, вступая в инобытие,
находит там себя, возвращается оттуда к самому себе.
Это создает новую категорию, которую Гегель не совсем
удачно называет мерой. Вернее, это — размеренность,
расчисленность, распределенность качества согласно тем
или иным количественным мерам. Так, нагревание или
охлаждение воды, происходящие только до известной
меры, а потом превращающие воду в пар или в лед, есть
«мера», потому что качество и количество оказываются
тут связанными. Трата или приобретение денег тоже
связаны (в моральном и сознательном смысле) определенно
некоторой мерой, вызывающей в жизни те или иные
существенные перемены. Расширение территории государства
также полезно государству только до известной «меры»,
после превышения которой государство может потерпеть
крах. Ясно, что везде тут действует не одно количество
и не одно качество, но действует нечто такое, в чем оба
они совпадают.
Α. Φ. ЛОСЕВ
458
b) Естественно и то, что наш первый символ —
эманация — в связи с кристаллизацией в нем категорий
количества и, следовательно, меры получает более
детальную структуру. Наша эманация оказывается
расчисленной, размеренной, распределенной, подобно тому как
энергия в механике исчисляется эргами. Кроме того, она
содержит в себе именно мерность, т. е. определенную
связанность качеств и количеств, как можно было бы по аналогии
сказать, что энергия данного источника энергии не только
исчислена в эргах, но что это количество (или
определенные комбинации количеств) эргов связано также с
характером самого источника этой энергии.
Кажется, можно довольно близко выразить существо
дела, если мы эту размеренность качества или окачество-
ванность количества, которую Гегель назвал мерой,
назовем образом, а эманацию, в которой определены все
эти качественно-количественные определения,
первообразом. Ведь под образом, насколько можно судить по чутью
языка, понимается по преимуществу определенная
структура качеств и количеств. А «первообраз» указывает на
бытие, являющееся максимально вместившим в себя те или
иные подражания ему со стороны. Если эманация бытия
вбирает в себя все возможные судьбы этого абсолютно
определенного бытия в инобытии, то с проведением в ней
качественно-количественных распределений ее, пожалуй,
не худо будет назвать первообразом, или первообразом
эманации, или эманирующим, эманационным
первообразом. Всякая подобная терминология, конечно, только
условна.
c) Таким образом, если бы мы захотели более подробно
формулировать наш первый полный символ, истекающий
из неведомых глубин абсолютной самости, то мы должны
были бы выдвинуть в нем три таких момента, располагая
их в восходящем порядке (в порядке смыслового
наполнения):
I. Число (символ чистых актов полагания бытия).
II. Эманация (символ абсолютной качественной
определенности бытия).
III. Первообраз (символ абсолютной качественно-
количественной определенности бытия).
Эти три символа налагаются один на другой, чтобы
образовать собою первый полный символ. И конечно,
значение этого первого полного символа вскрывается только
САМОЕ САМО
ί I
459
с приведением к ясности этих трех моментов. Кроме того,
не забудем, что и эти три частичных символа, и весь первый
полный символ вообще есть символ бытия — вернее, он
и есть само бытие, наиболее отвлеченный и полный
символ, который, с одной стороны, наиболее богат — по
своей близости к непознаваемой и нерасчленимой бездне
абсолютной самости, а с другой — наиболее беден — по
своей отдаленности от реальных и наполненных фактов
и событий мировой и человеческой жизни.
5. Теперь позволительно и расстаться с бытийным
символом вообще, и поискать новых путей для эволюции
нашего символизма.
а) Выше (§2а) мы уже попробовали выйти за пределы
эманации вообще. Ей, поскольку она символизирует собою
все инобытие, собранное воедино, противостоит инобытие,
не собранное воедино, рассыпанное, разбитое. Мы, однако,
не перешли к этому последнему, потому что оказалось
возможным, хотя и с косвенным его привлечением,
остаться все еще в сфере бытия. Теперь же, когда бытие
определено качественно и количественно, когда оно определено
и, так сказать, изнутри, и, так сказать, извне, теперь уже
невозможно далее оставаться на почве только общих актов
полагания и существующих между ними переходов. Нужна
совсем иная диалектическая плоскость. И может ли она
быть природой, если строго соблюдать постепенность
диалектического перехода?
Обратимся к нашему всегдашнему руководству, к
житейским чувственным вещам. Все ли мы в них приняли во
внимание, когда говорили об их бытии, т. е. об их качестве
и количестве? Мы ведь еще не отметили самого главного,
а именно того, что такое данная вещь. Пусть вы знаете,
что вещь эта красная и что размером она в один
кубический сантиметр. Но сказано ли этим, что тут перед нами
ягода, напр. клубника? Конечно, нет. Сколько бы актов
полагания мы ни совершали, мы нисколько не
приблизимся к значению, к смыслу вещей, а будем все время
вращаться только в сфере бытия вещей. Однако пора знать
и то, что такое данная вещь. Это еще не есть природа,
но это уже и не просто бытие.
Так мы приходим к значимости бытия со стороны
наблюдения над чувственными вещами. Но к ней же мы
приходим и со стороны самого бытия, и приходим — на
этот раз — уже диалектически.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—I
460
b) На чем мы остановились? Мы остановились на
бытии, которое получило полную определенность. Эта
определенность была достигнута тем, что мы сравнили это
бытие и с тем, что оно не есть, с инобытием («наличное
бытие», «качество», «нечто»), и с тем, что оно есть само по
себе, т. е. тоже с инобытием, но уже вошедшим внутрь его
самого, когда оно само стало для себя инобытием («для-
себя-бытие», или абсолютная определенность). Мы,
наконец, сравнили его и с тем инобытием, которое могло бы
возникнуть, если бы наше бытие стало действовать и
проявлять себя вовне («эманация»). Мы видим, что везде
существенным принципом было сравнение одного с другим.
Одно переходило в другое, различалось или
отождествлялось с ним, и из сравнения их друг с другом мы и делали
свои выводы. Теперь мы исчерпали все бытийные
определения, произвели все необходимые для определения бытия
акты полагания. Что же еще остается делать? Что в этих
актах полагания нами не изучено? И есть ли что-нибудь
в этих актах полагания, что не является актом полагания?
Ясно, что указанное только что сравнение, сравнивание
актов полагания отнюдь не есть самые акты полагания.
А тем не менее без этого сравнения мы не могли ступить
и шагу. Ведь мало было того, что акт полагался,
утверждался или переходил в другие акты. Надо было это
оценить и понять; надо было произвести сравнение старой
категории с новой, чтобы понять их взаимоотношение.
Ведь переходить не значит еще соотноситься. Один
предмет фактически может перейти в другой; но это еще (не)
значит, что установлено какое-то соотношение между
старым и новым предметом. Вот это соотношение актов
полагания бытия и не есть самое бытие, и его стоит
изучить отдельно.
Пока не совершены все нужные для определения бытия
переходы от одного к другому, качественные и
количественные, мы можем совершать эти переходы, т. е.
продолжать полагать акты бытия, и тем самым оставаться
в сфере бытия, добиваясь возможно более полного его
определения. Но вот мы совершили все акты полагания
бытия, которые необходимы для определения этого бытия,
совершили все нужные здесь бытийные переходы.
Естественно, что остается теперь подвергнуть специальному
рассмотрению эти именно переходы, эти установленные нами
связи. До сих пор эти связи мы совсем не устанавливали
САМОЕ САМО
I I .
461
как такие. Мы устанавливали само бытие в его определен-
ности\ мы смотрели на это бытие как на некий первообраз
и рисовали на бумаге это бытие. Но теперь бытие
нарисовано. Спрашивается: что же это за бытие? Связи бытия,
установленные нами в целях определения бытия, возникли
сами собой, без нашего ведома, вместе с установлением
бытия и с поисками его определенности. Эти связи и
переходы бытия до сих пор были неотличимы и неотделимы от
самого бытия. Это были бытийные связи и переходы.
А теперь мы ищем новых категорий, которые и здесь, как
всегда, получаются только единственным путем, путем
перехода к отрицанию старой категории, путем перехода
в ее инобытие. Что же такое инобытие бытийных связей
и переходов? Очевидно, не-бытийные связи и переходы.
Но что такое связь и взаимопереход актов бытия без самих
актов бытия? Это есть, очевидно, соотношение актов
бытия, смысловое (а не бытийное) их соотношение, или,
попросту говоря, смысл, сущность бытия, а не само бытие.
Вот как мы приходим к новой диалектической сфере,
к сущности.
с) Этот изложенный в простейшей форме переход от
бытия к сущности надо уметь понимать как вообще
типичный диалектический переход, не раз использованный нами
в предыдущем изложении.
В самом деле, вспомним, как мы переходили, напр.,
от числа к становлению. Мы погрузили число в его
инобытие. Инобытие от этого определенным образом устроилось,
а именно, оно распростерлось, вытянулось в некое
исчисляемое «протяжение». Потом мы забыли о самом числе
и — посмотрели, что случилось с нашей исчисляемой
«протяженностью». Оказывается, она перестала быть ис
числяемой. А это и есть становление, новая категория. На
языке Гегеля это значит «снять» старую категорию.
Вспомним, далее, как мы переходили от наличного бытия к для-
себя-бытию. Мы взяли антитезу внешнего инобытия
определявшего бытия. Она по необходимости оказалась его
внутренним инобытием. А потом мы забыли прежнее,
внешнее инобытие. Это значит, что мы его «сняли», и —
отсюда еще новая категория, для-себя-бытие. Вспомним,
как мы переходили от качества к количеству. Мы
погрузили качество в его инобытие. Оно стало там себя
полагать. А потом мы забыли, что есть на свете качество,
и стали только наблюдать те следы, которые оно успело
Α. Φ. ЛОСЕВ
ί Ι
462
сделать в инобытии. Оказалось, что здесь не осталось
ничего, кроме голых актов полагания неизвестно чего. А это
и есть количество.
Точно так же переходим мы от всего бытия к сущности.
Бытие достигло у нас последней определенности и стало
всесторонне определенным бытием. Погружаем его в
инобытие, начинаем его отрицать, объединяем с небытием.
Это значит, что определенное бытие становится чем-то
другим. Стать иначе определенным оно у нас уже не может,
так как все возможные виды и формы определения мы
уже исчерпали. Стать совсем неопределенным оно тоже
не может, так как абсолютно неопределенное бытие мы
тоже имели, оно вошло в систему наших определений,
и потому оно не может стать чем-то противоположным этой
системе. Но в чем же тогда инобытие, отрицание
определенности бытия, и что мы, собственно говоря, должны
«забыть», чтобы тут действительно оказался переход в
инобытие? Ничего другого не остается отрицать и забывать,
как само бытие. Ничего нового мы со своим инобытием
не можем получить, как перейти к такой определенности
бытия, которая сама уже не есть бытие, оторвана от
бытия, не связана с теми актами полагания, имманентно
которым (и независимо от нашего специального усилия
или внимания) она до сих пор фактически и слепо
возникала. Но определенность бытия, взятая вне самого бытия,
есть его смысл, его сущность. Акты полагания будут теперь
уже не актами полагания, но актами смысла, смысловыми
актами; и акты переходов от одного полагания к другому
будут теперь не актами перехода бытия и внутри бытия, но
соотношениями чисто смысловых моментов.
Эту диалектику как диалектику сущности мы сейчас и
формулируем.
Заметим, что ради ясности речи мы и раньше
употребляли термины «соотношение», а также «тождество» и
«различие» (входящие, как мы увидим в III главе, в
структуру «соотношения» и «сущности»). Теперь необходимо
твердо установить, что во всех этих выражениях имелись
в виду именно бытийные акты и переходы, а никак не
соотношения в собственном смысле слова. Когда мы говорим,
напр., что бытие отличается от небытия, и при этом
высказывании мы хотим остаться в сфере именно учения о бытии
и не переходить в сферу учения о сущности, то слово
«отличается» нужно понимать не как указание на вид ло-
САМОЕ САМО
Im^l
463
гического отношения, но как констатирование того факта,
что между бытием и небытием лежит, положена граница,
т. е. указанное «различие» мы должны понимать бытийно,
как некий акт полагания, не больше того. И когда мы
говорим «бытие тождественно с самим собою» и остаемся
в сфере учения о бытии, то и здесь мы еще не
устанавливаем ровно никакого логического соотношения тождества,
но опять-таки констатируем факт, что бытие полагает
само себя. Без этого четкого понимания разницы между
бытийными (онтическими) и сущностными, смысловыми
(в частности, так называемыми логическими) категориями
невозможно вообще строить учение о бытии и учение о
сущности.
Так диалектика сущности связывается с диалектикой,
уже использованной нами выше, и так она от нее
отличается.
464
III
СУЩНОСТЬ
I. ВСТУПЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ
1. Термин «сущность» имеет свою длинную
историю, и очень трудно перечислить все его значения. Уже
Аристотель насчитывал четыре его значения. Однако мы
с самого начала условимся понимать его только в одном
и определенном смысле; а те значения, которые он будет
принимать в порядке нашего диалектического
исследования, будут ясны сами собою, и они будут достаточно
мотивированы. Таким образом будут охвачены и многие из тех
значений, которые этот термин имел в истории философии.
Под сущностью мы понимаем смысл, значение, ответ
на вопрос «Что это такое?». Если нам нужна, напр.,
сущность дома, то она будет заключаться в том, что это есть
сооружение, предназначенное для защиты человека от
атмосферных явлений. Если нам нужна сущность сапога,
то она есть кожа, обработанная так, чтобы служить
человеку для защиты ног от холода и ушибов. И т. д. Сущность
эту можно назвать и смыслом, значением, идеей. Однако
«смысл» мы условимся понимать как момент сущности.
Это будет, как мы сейчас увидим, сущность в своем бытии.
То же — более узкое — понимание будет относиться у нас
и к «значению». Что же касается «идеи», то ее мы —
условно, конечно,— понимаем, наоборот, гораздо шире, чем
просто «сущность». И в контексте «сущности» мы даже не
будем употреблять этого термина.
2. а) В отношении сущности вообще Гегель
употребляет одно выражение, которое не мешает иметь в виду, так
как оно вносит весьма интересный для нас момент. Это —
«рефлексия». Гегель учит, что сущность есть отражение,
рефлексия бытия в иную область. И действительно, если
мы вспомним дедукцию сущности в конце предыдущей
главы, то ведь сущность была у нас определенностью
бытия, но без самого бытия, совершенно так, как в зеркале
предмет отражается, но не существует там реально. Сущ-
САМОЕ САМО
1 \
465
ность в этом отношении вполне подобна зеркалу. Она
«снимает» с бытия его план, как бы фотографирует его, дает
зеркальное отображение. Но она ничего не говорит о самом
бытии, не содержит самого бытия как бытия, как актов
полагания. Это есть именно смысл бытия, а не самое бытие.
При таком понимании сущность только и делается
оригинальной и самостоятельной областью философии.
Сущность есть именно отраженное бытие; она есть только
бытие, которое светится изнутри и видимо изнутри; это бытие,
ушедшее вовнутрь, отразившееся в самом себе. Оно в этом
смысле всегда двупланово, всегда перспективно и рельефно
в противоположность плоскостному характеру чистого
бытия. Оно всегда само говорит о себе, свидетельствует о
самом себе. Сущность есть такое бытие, которое всегда что-
нибудь требует о нем признать, в то время как чистое бытие
ничего не требует, а кто-то посторонний (напр., я, мы, вы)
усматривает то, что ему необходимо для его определения.
Сущность есть выраженное требование у бытия
признавать его таким, а не другим. Поэтому чистое бытие как бы
гаснет перед чистой сущностью; мы на него уже не
обращаем внимания, так как всецело заняты именно
сущностью. Но ясно в то же время, что эта наша позиция на
стадии сущности весьма условна. Ведь мы же говорим
о сущности не чего иного, как бытия же, мы хотим понять,
что значат эти глухие и слепые акты полагания бытия,
совершенные раньше. Бытие присутствует тут же, около
сущности, присутствует отрицательно, присутствует как
инобытие, которое хотя и отсутствует, но как раз своим
отсутствием и определяет, ограничивает то, в отношении
чего оно является инобытием. А скоро настанет время,
когда это бытие — на стадии «жизни» и «сознания».—
будет снова вобрано в сущность, и получится сущность
уже не как нечто отраженное, но как отраженное и
отражающее вместе. Сейчас же надо помнить только то, что
сущность всегда обязательно двупланова, перспективна,
что она сама повторяет себя, ибо сама требует своего
признания с той или иной стороны. Как изображение в зеркале
есть прежде всего само зеркало, а потом то, что в нем
отразилось; мы видим, что изображение в зеркале то ближе
к его поверхности, то дальше от нее, в то время как
отражающийся предмет сам по себе вовсе не содержит в себе
никакой двуплановости. Всякое «значение», «смысл»,
«сущность» обязательно содержит в себе обозначаемое
Α. Φ. ЛОСЕВ
■J L-
466
бытие отрицательно, косвенно указывает на него —
словом, рефлектирует о нем или, даже лучше сказать,
рефлектирует его.
b) С такой точки зрения сказать, что Бог есть
сущность, или существо, значило бы выдвинуть в Нем только
момент осмысления действительности, ее создания и
оформления, что является совершенно недостаточным,
по крайней мере для христианства. Гегель правильно
замечает, что такое толкование Бога как Господа
свойственно, главным образом, еврейской и магометанской религии.
Оно, несомненно, основано на абстрактном выделении
сущности из всего живого организма разума и на
игнорировании всех прочих («жизнь», «сознание», «личность»
и проч.).
c) Отметим одно важное терминологическое явление,
упоминаемое Гегелем в отношении немецкого языка, но
допускающее применение его к греческому языку, по
крайней мере к Аристотелю. По-немецки Wesen (сущность)
указывает на прошедшее время: сущность есть как бы то,
что было (gewesen). Такая связь сущности с прошедшим
нисколько не случайна. Ведь что такое прошедшее?
Прошедшее не значит абсолютно переставшее быть.
Прошедшее — то, что лишилось только возможности быть в
настоящем. Оно очень даже продолжает быть, но только
не в качестве бытия, и в частности наличного бытия, но
именно в качестве сущности. Вещи миновали, умерли,
исчезли; но — осталась их сущность. И в качестве сущности
они существуют и теперь, хотя в качестве бытия их уже нет.
Мне кажется, нечто вроде этого представлялось и
Аристотелю, когда ои свою сущность назвал το τί ην είναι — «тем,
что было быть». Он тоже, по-видимому, хотел этим
достигнуть только того, чтобы отделить смысл бытия от самого
бытия и говорить именно о смысле бытия, а не о самом
бытии во всей его наивной и абсолютной непосредственности,
d) По поводу «рефлективной» природы сущности
можно вспомнить феноменологов первой четверти XX века,
исследовавших, во главе с Гуссерлем, именно смысл
вещей, а не сами вещи. При всей плодотворности и глубине
этих исследований они всегда страдали одним
органическим пороком: их «смысл» констатировался чисто
описательно, независимо от его отношения к бытию; и —
получался метафизический дуализм между бытием и смыслом
или смыслом и явлением; получался противоестественный
САМОЕ САМО
I I
467
разрыв между мыслью и действительностью, трагический
для феноменологии, потому что она-то как раз и хотела
описать действительность как таковую. Эта
беспомощность в проблеме смысла, когда под именем
«объяснительных» методов отбрасывалась всякая попытка установить
связь «смысла» с «бытием», может быть устранена только
путем возвращения к какой-нибудь классической системе
философии, где эта проблема разрешена, и, прежде всего,
к Гегелю. У Гегеля при сложнейших (как всегда)
формулировках и доказательствах содержится простейшее и
яснейшее (решение) этого вопроса. Это простейшее и
яснейшее зерно мы и использовали выше при переходе от
«бытия» к «сущности».
3. Для более подробной диалектики сущности мы
должны помнить, что и в «сущности», и в «жизни», и
вообще в любой философской области мы должны следовать
образцу первого символа, если хотим формулировать все
самое основное и конструктивное. Мысль всегда есть
мысль, как бы ни менялось ее содержание, и развивается
она всегда по одним и тем же законам. Правда, новое
содержание часто делает общеформальную структуру мысли
совершенно неузнаваемой. Однако искусство философа
в том и заключается, чтобы при любом содержании разума
не потерять из виду структуру самого разума. Поэтому
нам нечего стесняться этого формализма или схематизма.
Гегель при помощи триады — метода, гораздо более
узкого и стеснительного,— получал самые замечательные
результаты, так что это только очень редко было
действительным схематизмом, т. е. чем-то пустым и
бессодержательным. Чаще же всего эти триады удивительным
образом группируют у него разнородный материал и делают
ясным и связным то, что до этого времени казалось
несвязным и необъединимым. У нас же схема, гораздо более
пространная и гибкая, вмещает целых пять членов (или
даже шесть, если разделять «наличное бытие» и «для-себя-
бытие»). Такая схема гораздо полнее и разностороннее
охватывает материал, так что при разумном ее
использовании она должна давать гораздо более богатый
результат, чем метод триад.
Попробуем и мы применять наш первый полный символ
ко всем последующим областям мысли. Ведь какая бы это
область ни была и каково бы ни было ее содержание, она
всегда, прежде всего, есть, она в себе обязательно как-то
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
468
расчленяется или, наоборот, нерасчлененно становится;
она всегда есть какое-то — специфическое для данной
области — качество и абсолютная определенность; она
всегда как-то проявляет себя вовне («эманирует»). Можно ли
избежать этих простейших подходов к чему бы то ни было,
если мы всерьез хотим получить здесь все главное и все
необходимое? И можно ли живые глаза считать схемой,
схематизмом? Да, такова схема, посланная нашим глазам
судьбой, что они должны смотреть и видеть. Видение
только в порядке остроумия можно называть схемой. А разве
не есть видение предмета, когда мы фиксируем его
качество и его образ, когда мы стремимся узнать все его
очертания, которыми он от всего отличается, и когда мы узнаём,
как и на что он действует? Это вовсе не схема. И наш
первый (символ) вовсе не схема, а только лишь то, что
открывает наши глаза на предмет и заставляет его
видеть.
Соответственно с этим посмотрим теперь, что же дает
нам первый символ в применении к сущности.
4. а) Прежде всего, задаем вопрос: что такое
сущность в своем бытии? Сущность должна быть, прежде
всего, бытием, или актом полагания, т. е. актом полагания
сущности же. Условно эту сущность в ее собственных актах
полагания мы называем смыслом. Здесь сущность пока
фиксируется как таковая, еще вне всяких своих
проявлений и действий. Сущность тут просто есть и больше ничего.
Тут еще нет никакой конкретной структуры, или формы
сущности. Она берется лишь в самых общих своих
функциях. Однако полного уединения сущности не может быть,
конечно, и здесь, так как мы помним, что сущность есть
всегда соотношение. Следовательно, даже и в своем
простом полагании она есть какое-то соотношение. Вернее же,
поскольку сущность есть соотношение, а смысл есть
сущность в ее бытии, то смысл и есть не что иное, как полагание
самого соотношения.
Далее, сущность переходит в свое инобытие. Если она
бралась в своем бытии, то ничто не мешает и даже,
наоборот, совершенно необходимо, чтобы она бралась теперь
и в своем инобытии. Сущность в своем инобытии есть
явление. На стадии смысла она была сама по себе или сама
в себе. Теперь она перешла в свое инобытие. Но ведь и в
инобытии она должна что-то значить и иметь какой-то
смысл. Вот этот смысл и есть явление.
САМОЕ CAMé
469
Сущность переходит в свое становление, как и в первом
символе бытие и небытие совпадают в едином и
нераздельном становлении. Это значит, что смысл должен
переходить в явление и в нем растворяться, и точно так же
явление должно переходить в смысл и в нем растворяться. Этот
становящийся смысл, или (что то же) становящееся
явление, мы называем существованием.
Сущность переходит в свое ставшее, становится
наличным бытием. Как в бытии становление имеет свой
результат, приходит как бы к некоему концу, встречается с самим
собою, так и в сущности смысл, перейдя при помощи своего
явления в существование, не задерживается в этом
существовании окончательно, не забывает себя навсегда, но,
наоборот, встречается с самим собою, но уже в обличий
явления, как некая определенная явленность. Этот
результат существования мы называем вещью.
Сущность становится для-себя-бытием, или абсолют-
ной определенностью. Для-себя-бытие вмещает всякое
свое возможное инобытие, необходимое для своего
определения в самом же самом, почему оно и отличается полной
самостоятельностью в самоопределении, или абсолютной
определенностью. То же происходит и с сущностью. Ее
наличное бытие — вещь — вполне определена, но эта
определенность дана ей извне. Что будет, если она станет
сама определять себя и уже потеряет нужду в определении
со стороны. Такая самодовлеющая вещь есть
действительность.
Наконец, сущность, вполне самодовлеющая в своем
определении, должна в этом виде выйти и наружу, стать
сущностью, открытой для всего иного. Она должна эмани-
ровать. Но она не бытие; она не просто полагает себя или
переходит во что-нибудь. Она соотносится — сама ли
с собой или сама с чем-нибудь другим. Такое эманирующее
вовне соотношение, в котором сущность открывается в
полноте своих определений всему другому, есть выражение.
Ь) Итак, вот предварительный результат применения
первого символа к сфере сущности и вместе с тем план
нашего последующего изложения.
I. Сущность в своем бытии есть смысл.
II. Сущность в своем инобытии есть явление.
III. Сущность в своем становлении есть
существование.
IV. Сущность в своем ставшем есть вещь.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
470
V. Сущность в своем для-себя-бытии есть
действительность.
VI. Сущность в своей эманации есть выражение.
Тем самым уже предрешены все диалектические
переходы в сфере сущности. Но все же мы будем анализировать
эти переходы и сами по себе независимо от применения
метода первого символа.
J I
471
IV
смысл
1. ВСТУПЛЕНИЕ
Что всякая вещь есть или может пониматься как сама,
как сама по себе, это не требует никаких доказательств;
и наличие самого самого, как мы видели, не только нечто
понятное, простое, общедоступное и очевидное, но можно
смело сказать, что оно есть наиболее понятное и простое
из всего, что вообще знает человек. К числу таких же
абсолютно понятных и не требующих никакого доказательства
своего существования вещей относится и смысл. Можно
прикинуться, что мы не понимаем, как это данная вещь или
бытие имеет свой собственный смысл, так же, как можно
прикинуться, что вещь не имеет своей собственной самости.
И хуже всего то, что такое отрицание смысла совершенно
неопровержимо, как неопровержимо и его признание. И
люди много потратили усилий на то, чтобы доказать
несуществование смысла. И тут уже ничего не поделаешь, так как
никаких пределов для попрания самых насущных и самых
необходимых человеческих идей вообще не существует.
Нам не остается ничего, как опять утвердить, без всякого
доказательства, тезис, что смысл есть, существует, что
вещей нет без смысла вещей, как раньше мы исходили из
того, что самость вещей есть, существует, исходя из
предпосылки об абсолютной понятности и общечеловеческой
доступности и даже необходимости этой самости, этого
самого самого. Еще можно было бы до некоторой степени
спорить о том, как есть этот смысл, субъективен он или
объективен, материален или идеален, первичен, невыводим
или вторичен и выводим, и т. д. Но спорить о том, что эта
комбинация балок, досок, кирпича и т. д. имеет смысл
дома, что этот вот цвет, который я сейчас вижу, имеет
смысл зеленого цвета, спорить об этом значило бы вообще
сомневаться, что дом есть дом и что зеленый цвет есть
зеленый цвет. Об этом спорить нельзя. Это — пустословие.
Итак, мы исходим из некоего априорного, аксиомати-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
472
ческого, совершенно бездоказательного и даже
принципиально недоказуемого утверждения: вещь обладает
смыслом, каждая вещь имеет свой смысл. При этом
предполагается также и то, что всякий с полной ясностью и
отчетливостью понимает и принимает это утверждение;
и если встречаются на эту тему возражения, то, полагаем
мы, происхождение этих возражений — несущественно,
неинтересно и не имеет никакого отношения к самой
философии. Можно с полным правом сказать, что эти
возражения есть не больше как человеческая патология, с которой
не нужно спорить, но которую надо лечить.
Итак, вещь имеет смысл.
Нечего и говорить о том, что рассуждение о смысле
должно непосредственно следовать за рассуждением
о самом самом. Самое само не есть смысл и не имеет
никакого смысла. Однако это не помешало нам построить о нем
целое рассуждение. Если мы, построивши целое
рассуждение о самом самом, будем и после этого стоять все на той
же точке зрения чистого самого самого, то эта позиция
не может не вызывать недоумений. Что самое само выше
всякого бытия, сущности и смысла, это ясно. Но если мы
привели об этом целое рассуждение, то ясность самого
принципа уже тускнеет. Как же это можно говорить так
много о том, что выше всякого слова и никаким словом
не затрагивается? Как можно строить длинное
рассуждение о том, что по самой своей сути выше всякого рассудка
и рассуждения и выше всего того, к чему может
прикоснуться мысль? Разумеется, избежать этих вопросов или
по достоинству ответить на них можно только тогда, когда
мы признаем, что самое само не только выше всякого
смысла и не только не есть какой-нибудь смысл, но что
оно еще и обладает каким-то смыслом, что оно еще и есть
какой-то смысл, позволяющий раскрывать его в понятиях
и словах и как-то прикасаться к нему мыслью.
Раз мы сказали, что самое само выше смысла и не есть
смысл, не имеет смысла, то одно из двух: или само это наше
утверждение о вышесмысленности самого самого имеет
какой-нибудь смысл, или оно не имеет никакого смысла.
Если оно не имеет никакого смысла, то напрасно мы
тратили время на доказательство того, что не имеет никакого
смысла; и вся наша работа в этом случае есть просто
пустословие и ничего не значащее шалопайство. Но если
наше утверждение о том, что самое само не имеет никакого
САМОЕ САМО
смысла, само имеет хоть какой-нибудь смысл, то мы стоим
перед новой и колоссальной задачей: понять, что такое
смысл, и смысл — во всем его отличии от самого самого;
согласовать смысл вещи с ее самостью, которая выше
всякого смысла; и, наконец, так построить учение о смысле
и о самости, чтобы ни в одном мельчайшем пункте не
пострадала выше-смысленная чистота самого самого и чтобы
ни в одном мельчайшем пункте не пострадала смысловая
чистота самого смысла.
Так рассуждение о самом самом неизбежно переходит
в рассуждение о смысле. Самость вещи и смысл вещи есть
вообще то самое первое, самое простое, самое понятное,
что мы встречаем в вещи. Но известно, что труднее всего
говорить о самом первом, самом простом и самом
понятном.
В дальнейшем мы сначала забудем все то, что выше
говорилось о «бытии», «сущности» и о переходе «бытия»
в «сущность». Станем — для ясности языка с
нефилософами — на гораздо более «наивную» и «простую» точку
зрения: существуют вещи, и эти вещи имеют значение, смысл,
И в этом утверждении будем пока понимать каждое слово
в обычном и некритическом смысле: и «существование»,
и «вещь», и «значение», «смысл». Не будем только
покидать наших рассуждений о самом самом. И посмотрим, к
каким выводам можно было бы прийти так. Потом же
вернемся к диалектике сущности в критическом и
философском смысле этого слова.
2. ОТГРАНИЧЕНИЯ
Чтобы быть в состоянии в дальнейшем понять смысл
философски, надо, прежде всего, отграничить его от того,
что не есть смысл и что по близости к нему (действительной
или мнимой) часто принимается за самый смысл.
1. Что смысл не есть самость, это едва ли требует
пояснений. Самость, несомненно, предшествует смыслу, ибо
самость включает в себя и вне-смысловое содержание.
Когда мы говорим «сама вещь», то тут, конечно, имеется
в виду, прежде всего, смысл вещи. Однако не только он.
Увидевши знакомого человека на улице и сказавши себе:
«Это — сам Петров», я этим самым зафиксировал не
только его смысл, его сущность, т. е. его внутреннюю
сущность, но всего его во всей его конкретности, со всей его
Α. Φ ЛОСЕВ
474
биографией и историей. А это значит, что сюда включено
все и вне-смысловое, а может быть, даже и бессмысленное,
что так или иначе характерно для Петрова. Это именно
«сам» Петров, его «самость», а не его «смысл». Потому,
когда я сказал: «Это — Петров», я воспринял и осмыслил
Петрова совершенно без всяких различений и расчленений,
совершенно сразу и моментально. Смысл же Петрова —
вовсе не это. Когда я говорю о смысле чего-нибудь, я
всегда обязательно нечто различаю, расчленяю,
противополагаю, во всяком случае как-то обдумываю, в то время
(как) для восклицания «Это — Петров!» ровно никакого
обдумывания не потребовалось, а потребовалось только
взглянуть на данного повстречавшегося человека.— Итак,
самость — выше всяких различений, смысл же требует
отличения себя от всего иного и требует различений внутри
себя.
Этим смысл достаточно отграничивается сверху.
Попробуем отграничить смысл снизу.
2. Тут нас осаждает целая туча клеветнических теорий
смысла, копаться в которой не входит в план этого
рассуждения. Но необходимо раз навсегда разграничить смысл
вещи от самой вещи, и это — только потому, что данное
разграничение будет иметь большое значение для всего
последующего рассуждения.
В истории философии были две — одинаково
нелепые — крайности, которые необходимо сейчас отвергнуть.
Существовала масса теорий, признававших только смысл
и трактовавших вещь как продукт смысла, как нечто
в сравнении с ним несущественное. И существовала масса
теорий, признававших только вещь и отрицавших
самостоятельность и несводимость смысла, сводивших его на
придаток вещей. Обе эти концепции в корне искажают
природу смысла, и без их устранения невозможно правильно
отразить то, что для смысла существенно. Поскольку же,
однако, мы не можем входить в реальный анализ
отдельных построений, как они существуют в истории философии,
мы укажем только на основную ложь самой структуры
этих концепций.
3. а) Допустим, что существует только смысл вещи,
а самая вещь хотя и существует, но есть не что иное, как
только придаток смысла, тот или иной момент смысла, то
или иное состояние, качество, свойство и проч. смысла.
Если это так, то ясно, что все существующее будет только
САМОЕ САМО
1 1
475
смыслом; и то, что называется вещью, будет не
существовать, но только мыслиться (не обязательно человеком).
Это, однако, противоречит общечеловеческому опыту:
чтобы зажечь эту лампу, мало было только мыслить лампу;
и если какой-нибудь волшебник зажег бы мою лампу
только одною своею мыслью, то ясно каждому, что эта лампа
уже не есть просто мысль, а перешла в некое вещественное
действие.
Ь) Далее, всякий смысл есть смысл чего-нибудь. Если
существует только смысл вещи, а самой вещи, отличной
от ее смысла, не существует, то, очевидно, наш смысл не
будет смыслом чего-нибудь, т. е. он будет лишен своей
основной функции осмысливания, т. е. он перестанет быть
смыслом вообще. Итак, смысл вещи отличен от самой вещи
и невыводим из нее.
4. а) Однако самый основной аргумент по этому
вопросу заключается в другом.— Допустим, что есть смысл,
а вещи (которая бы глубочайшим образом отличалась от
смысла) не существует. Если нет вещи, противостоящей
смыслу вещи, то нет никакого инобытия для смысла. Но
это значит, что смысл ровно ни от чего не отличается.
Однако то, что ни от чего не отличается, то не обладает
ровно никакими признаками, ни существенным, ни
несущественным. А то, что не обладает никакими признаками,
то не обладает и признаками бытия, т. е. его просто нет.
Следовательно, если существует только один смысл и нет
никаких вещей, то это значит, что вовсе не существует
никакого смысла. Тогда нельзя сказать: «Эта лампа издает
свет», потому что слова «эта», «лампа», «издает», «свет»
возможны только потому, что они обладают каким-то
смыслом.
Ь) На это нельзя возражать так, что смысл хотя и не
отличается ни от чего внешнего (ибо ничего вообще нет
помимо смысла), но различается внутри самого себя,
и этим вполне охраняется в нем наличие признаков,
качеств, свойств и проч., необходимых для всякой
осмысленности. Спросим: по какому принципу происходят всякие
различия и противопоставления внутри самого смысла?
По тому ли, что тут смысл противопоставляется чему-
нибудь не-смысловому, т. е. <речь> идет именно о смысле
как таковом, или по какому-нибудь другому принципу?
Пусть в сорванной фиалке я отличил стебелек от цветка,
а видимую форму всего этого растения — от его запаха.
Α. Φ ЛОСЕВ
476
На основании чего произошло это противопоставление?
Ясно, что мне надо было знать, что такое стебель и что
такое листья, что такое цвет и что такое запах. Но есть ли
это противопоставление смысла или смыслов? Конечно,
нет. Это есть противопоставление вещей, хотя вещи эти
и обладают каким-то смыслом.
Можно, правда, сказать, что мы тут противопоставили
один смысл другому смыслу. Однако речь идет у нас не о
каких-то смыслах, но о смысле вообще, о смысле как
таковом. А этот смысл совершенно везде одинаков, и в стебле,
и в корне, и в листьях, и в цветовых и обонятельных
свойствах растения. Нельзя сказать, что в стебле растения
один смысл, а в его корне — другой или что в стебле —
больше смысла, а в корне — его меньше. Как бы ни
различались между собою эти «смыслы» по своему «качеству»
или «количеству», всему этому противостоит некий общий
смысл растения как таковой, подобно тому как если есть
много цветков, то это значит, что есть цветок вообще, и
подобно тому как в данном цветке его «цветковость»
одинаково разлита по всем его отдельным частям.
Тем более мы получаем право говорить о смысле
вообще, когда мы берем все бытие как целое и весь смысл всего,
что только было, есть и будет, и всего действительного,
возможного и необходимого. Ведь при таком общем
понимании смысла становится уже совершенно ясным, что
смысл присутствует везде совершенно одинаково и что
различие родов или степеней смысла не только не мешает
такой всеобщей одинаковости, но, наоборот, самым
категорическим образом его требует. Смысл обязательно везде
одинаков; и если он фактически не одинаков, то это и
значит, что сначала он везде абсолютно одинаков, т. е.
сначала смысл есть просто смысл, просто он сам, а уже потом
он — везде разный.
с) Но тогда и оправдывается вышеприведенная
апория. Чем бы смысл ни был и каким бы он ни был, но смысл
как смысл обязательно требует для себя, для своего
существования, для своей реальности, того, что не есть смысл,
требует инобытия смысла, того, от чего бы он отличался.
Если это инобытие есть, есть и смысл; и тогда он может
принимать разные виды, формы и степени, варьируясь до
бесконечности. Если этого инобытия смысла нет, тогда он
ни от чего не отличается, т. е. не обладает никакими
признаками, т. е. не обладает признаками смысла, т. е. не есть
САМОЕ САМО
І«я>1
477
смысл, т. е. не существует и никаких его видов, форм и
степеней т. е. в растении неотличимы корень от ствола, ствол
от листьев, лист от цветка и т. д. и т. д.
d) Но инобытие смысла есть вещь. Следовательно,
если нет вещей как чего-то абсолютно отличного от их
смысла, то не существует и никакого их смысла, т. е. не
существует и никакого раздельного познания, мышления,
наименования и общения. Пусть хотя бы в малейшей, в
бесконечно малой доле мы определяем вещь так, что она
есть момент ее смысла или его проявление, категория,
качество, свойство и т. д. Это значит, что нет и самого ее
смысла. Смысл вещи существует только тогда, когда
существует и самая эта вещь, и притом только тогда, когда эта
вещь, взятая сама по себе, не имеет ровно ничего от своего
собственного смысла, когда она абсолютно вне и своего
собственного, и всякого иного смысла, когда она
абсолютно вне-смысленна, когда она абсолютно бессмысленна.
Что каждая вещь как-то осмыслена и что она обязательно
имеет какое-то отношение к тому или иному смыслу, это
значит все и это выдвинуто на первый план и у нас,
поскольку мы утвердили выше, что вещь, не имеющая
никакого смысла, вообще даже не есть вещь. Но вот что вещь
есть нечто абсолютно вне-смысловое, совершенно
неосмысленное и даже бессмысленное, это усваивается с трудом,
и для усвоения этого требуется известная диалектическая
культура ума. Требование же это — неумолимо и
абсолютно: если угодно, чтобы смысл (какой бы то ни было)
вообще существовал, надо, чтобы существовало нечто
бессмысленное, причем этим еще не дается ровно никакая форма
существования бессмысленного.
e) Итак, вещь невыводима из смысла. Наоборот,
самый смысл вещи существует только тогда, когда
существует и сама вещь. В крайнем случае из сферы смысла или,
вернее, в сфере смысла наряду с прочими категориями
может быть выведена и категория вещи. Однако категория
вещи ни в каком случае не есть сама вещь, и относится она
не к вещи, но к смыслу. Это — момент в сфере самого же
смысла. И никакая логическая категория вещи никогда не
обеспечит нам существования самих вещей, и, будучи
взята в чистом виде, она лишается, вместе со всей сферой
смысла, противоположения вне-смысловому и,
следовательно, по предыдущему, тоже теряет право на
существование.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
478
f) Здесь может подняться вопрос: не является ли
достаточным для существования смысла признание самого
самого? Ведь самое само тоже вне смысла, а нам для
полагания смысла как раз и требуется нечто вне-смысловое.
Рассуждать так значит совершенно не усваивать природы
самого самого. Ведь самое само в том и заключается, что
его нельзя ничему противопоставить. Самое само не только
выше смысла и бессмыслицы, но оно еще и абсолютно вне-
категориально, вне каких бы то ни было расчленений и
противопоставлений. Что же касается смысла, то смысл как
раз требует этих расчленений. Где нет различий и
противопоставлений, там нет и не может быть и никакого смысла.
Смысл противопоставляется вне-смысловому, так как он
есть нечто, он обладает рядом свойств и признаков и он
должен четко отличаться от всего прочего. Но от самого
самого он (как и ничто вообще) не может отличаться,
поскольку это отличение поставило бы его в какое-то
определенное отношение к самому самому, а к самому самому
вообще ничто не может стоять ни в каких отношениях.
Самое само выше всяких отношений и взаимоотношений с чем
бы то ни было. Следовательно, его наличие в нашем
предыдущем рассуждении нисколько не поможет нам в
установлении смысла. Самое само устанавливает смысл ровно
в такой же мере, как и все прочее, как и бессмыслицу.
g) Итак, для установления смысла требуется вне-
смысловое бытие, но такое, чтобы смысл можно было ему
противопоставить, и такое, чтобы смысл упирался в него
как в абсолютно чуждую ему стену, чтобы оно во всех
смыслах, во всех отношениях противостояло ему и ни в
каком своем мельчайшем моменте из него не выводилось бы,
не вытекало и не появлялось, ни логически, ни причинно,
ни вещественно-силовым образом, ни как бы то ни было
еще иным способом.
h) Если Гегеля понимать как чистый панлогизм и если
признать, что он признавал только реальность понятия
и его диалектическое развитие, то надо со всей
решительностью сказать, что гегельянство есть полный нигилизм,
что Гегель не имел логического права говорить о
реальности понятия и что диалектическое развитие понятия у него
есть не больше как необоснованная пустая фикция. Однако
можно ли действительно считать Гегеля абсолютным пан-
логистом, это тот вопрос, который мы не можем
дискутировать в данном месте.
САМОЕ САМО
я I I
479
і) Наконец, необходимо сделать еще одно замечание —
по поводу категории вещи, хотя эта категория будет у нас
рассматриваться специально. Именно, может возникнуть
сомнение и вопрос: почему инобытие смысла есть вещь?
Согласимся, что смысл для своего существования требует
вне-смыслового, требует своего инобытия. Но почему же
это инобытие есть обязательно вещь?
На это мы должны сказать следующее. Разумеется,
в самом строгом значении слова вещь не есть просто
инобытие смысла, поскольку всякая вещь как-то осмыслена
(иначе она не была бы вещью), т. е. уже содержит в себе
какой-то смысл. Настоящим и полным инобытием смысла
может быть только абсолютное отсутствие всякого смысла,
только чистая и ни в одном своем мельчайшем моменте не
осмысленная бессмыслица. Никакая вещь, конечно, не
может быть в такой степени вне-смысловым бытием,
поскольку — логически — это было бы равносильно
отсутствию самой вещи. Вещь содержит в себе смысл, как равно
содержит в себе и вне-смысловое бытие; и потому она не
есть абсолютная противоположность смыслу.
Если рассуждать так, то предыдущий тезис о бытии
смысла мы должны выразить в следующей форме: если
нет вне-смыслового бытия как чего-то абсолютно
отличного от смысла, то не существует и никакого смысла. Однако,
поскольку мы еще не вскрывали категории вещи и
поскольку пока еще точно о ней не условились, вполне допустимо
слово «вещь» понимать в этом расширительном смысле,
понимая под ней вообще противоположность смыслу, без
вникания в подробности этого противоположения. И тогда
еще обнаженнее выступает истина, что «вещи» невыводи-
мы из смысла и не есть его свойство или какой-нибудь
результат.
5. Однако, пожалуй, еще нелепее противоположное
учение — о том, что существуют только вещи и что смысл
не есть самостоятельное бытие, что он только придаток,
свойство, качество, результат самих же вещей. Раньше мы
защищали самостоятельное бытие вещей и отводили
ничем не оправданные претензии смысла поглотить
вещественное бытие и лишить его права на самостоятельное
существование. Теперь же мы должны защитить права
смысла и отвергнуть ничем не оправданные претензии на
главенство над смыслом, претензии поглотить его и лишить
права на самостоятельное существование. Людям всегда
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
480
очень нравились всякого рода уродства, и еще неизвестно,
чего больше в жизни, «естественного» или
«противоестественного». К числу такого же рода противоестественных
уродств относится и стремление признавать только бытие
вещей и отрицать бытие смысла.
К чему ведет признание самостоятельности вещей и
отрицание самостоятельности смысла?
a) Допустим, что существуют только вещи, а их смысл
есть их результат, все равно какой: физический,
психический, сознательный, метафизический, логический и т. д.
и т. д. В таком случае получится одно из двух: или все
будет смыслом, или все будет вещами. Если все будет
смыслом, то эту нелепость мы уже отвергли выше. Она
требует от нас, чтобы мы занимались только мышлением
и чтобы смысл ни к чему не относился и ничего не
осмысливал. Согласиться на это невозможно без впадения в
безумие. Если же все будет вещами, то одно из двух: или вещи
будут как-нибудь осмыслены, или никак не будут
осмыслены. Если они как-нибудь осмыслены, то, следовательно,
они сами требуют для себя смысла, а не порождают его
впервые. Нельзя выводить смысл из вещей, если сами вещи
впервые только появляются благодаря своему смыслу.
Невозможно понятие треугольника получить из самого
треугольника, если сам треугольник стал впервые возможным
благодаря тому, что три прямых получили откуда-то извне
совершенно чуждый и не принадлежащий им самим смысл
треугольника. Но тогда остается, чтобы вещи вообще
никак не осмыслялись. Раз нет смысла как бытия
самостоятельного, а есть, в конце концов, только вещи, то ясно,
что вещи вообще окажутся лишенными смысла. Но тогда
о цветке нельзя сказать, что он — цветок, о дереве, что
оно — дерево, и т. д. Тогда вообще ничего ни о чем нельзя
будет ни сказать, ни помыслить.
b) Позитивность ухищряется здесь бесчисленными
способами, чтобы только не признать самостоятельности
смысла. Так как невозможно отрицать существование
смысла в вещах, то говорят, что мы-де и не думаем отрицать
существование смысла в вещах, мы только утверждаем,
что он не есть самостоятельное бытие и что он есть продукт
самих вещей. Но можно ли согласиться, что смысл в вещах
есть, но что в то же время он есть результат, продукт вещей
или вывод из них? Совершенно невозможно.
Спрашивается: а что этот самый продукт вещей — веществен или неве-
САМОЕ САМО
I I
481
ществен? Если он веществен, то вопрос не двигается с
места, так как мы ищем не вещь в вещах, но смысл в вещах.
Если же он невеществен, то как из вещественного
получилось невещественное? Как из суммы нулей может
появиться единица или другое значащее число? Следовательно,
ни в каком отношении смысл вещей не может быть их
продуктом или результатом. Или надо признать, что в вещах
на самом деле, всерьез, нет никакого смысла (и тогда о них
нельзя ничего ни помыслить, ни высказать), или надо
признать, что смысл вещей существует самостоятельно и
независимо от самих вещей.
Обыкновенно думают, что житейскому или
общечеловеческому признанию того или иного предмета совершенно
не мешает понимание его в философии как не обладающего
самостоятельным существованием. Так же и отрицающие
существование души наивно думают, что это вполне
совместимо с практически-житейским отличением
одушевленного от неодушевленного. На самом деле, однако, если
бы эти люди рассуждали последовательно, то они и в
житейском быту должны были бы не отличать собаки от
палки, себя от собаки, палку от человека и т. д. и т. д. Точно
такое же положение дела и с признанием
несамостоятельности смысла. Если нет смысла как чего-то абсолютно
не сводимого ни на какие вещи, то нет никакого смысла
вообще, и ни о чем нельзя ничего ни высказать, ни
помыслить.
с) Одно из обычных рассуждений на эту тему гласит
так. Электричество не есть свет, и свет не есть теплота. Тем
не менее электричество, свет и теплота суть проявления
одного и того же принципа. Когда мы говорим, что смысл
вещей порожден самими вещами, то мы же и не думаем,
возражают позитивисты, отрицать, что смысл есть нечто
совершенно самостоятельное и не сводимое ни на что
прочее. Но ведь свет тоже есть нечто совершенно
самостоятельное и не сводимое на электричество и теплоту, а тем
не менее все эти три феномена есть не что иное, как
движение эфирных волн. Так и смысл вещей есть порождение
самих вещей; и это, говорят, нисколько не мешает его
самостоятельности. Что такое душа или мысль? Это есть
результат и продукт особой стадии высокоорганизованной
материи, но это не значит, что слова «душа» и «мысль»
не имеют никакого значения и смысла и что мы не можем
ими пользоваться в своем житейском обиходе.
16 А. Ф. Лосев
Α. Φ, ЛОСЕВ
482
Это наивное воззрение падает от одного вопроса: а что,
этот свет, это электричество и эта теплота — значат что-
нибудь или ничего не значат, имеют какой-нибудь смысл
или никакого смысла не имеют? Если все это бессмысленно»
то ссылка на бессмысленность сама есть нечто
бессмысленное. Если же это имеет какой-нибудь смысл, то это значит,
что смысл подобных феноменов чем-нибудь отличается от
того, что называем смыслом мы. О свете, электричестве
и теплоте физик точно скажет, что «значат» эти феномены,
указавши, напр., на число колебаний волн в секунду. Но
где та «высоко» или не «высоко» организованная материя,
которая являлась бы базой для смысла? Чем должна
отличаться данная вещь от всякой другой, чтобы она стала
смыслом? Ответа на этот вопрос не может быть никакого.
Но, может быть, гораздо важнее другой аргумент.
Именно, самая эта «база», эта «материя», «вещество» или
вещи — осмыслены или не осмыслены? Если они не
осмыслены, то как из не осмысленного может появиться смысл?
Это так же невозможно, как получение какого-нибудь
числа из суммы нулей. Если же вещество осмыслено, то
получение и выведение нужного смысла есть операция
вполне фиктивная, поскольку самое вещество в этом
случае возможно только благодаря смыслу.
На это возражают: вот потому-то и можно вывести
смысл из вещей, что он в них содержится. Однако в таком
возражении кроется существенная неясность. Спросим:
содержащийся в вещах смысл связан с ними существенно
или несущественно, т. е. могут ли вещи существовать без
всякого смысла, или смысл впервые делает возможным
существование самих вещей (один и сам по себе или с
участием других — вне-смысловых — факторов)? Если
вещество в основе своей не осмыслено и для своего
самостоятельного и чистого существования не нуждается ни в каком
смысле, то как из неосмысленного появляется смысл, т. е.
как из суммы нулей появляется единица? Если же смысл
в какой-то мере существен для вещей и входит в самую
конструкцию их бытия, то, следовательно, смысл вещей
не есть продукт самих вещей, поскольку сами вещи
возможны тут только благодаря наличию смысла.
d) Кратко упомянем и другой излюбленный у
позитивистов способ обходить самостоятельную природу смысла.
Не желая фиксировать смысл как он есть, в его не
сводимой ни на что другое сущности, строят разные теории
САМОЕ САМО
I Π
483
об его происхождении. Думают, что этим способом можно
отвертеться от анализа вопроса по существу. Отсюда —
бесконечные по числу теории о психических,
физиологических, физических и социальных процессах, ведущих к
появлению смысла. Думают ли, напр., что если по ассоциации
несколько идей объединилось определенным образом, то
возник смысл вещи, или что если животная и растительная
форма эволюционировала до такого-то определенного
вида, то тем самым появился и смысл соответствующего
вида; и т. д. и т. д. Все эти теории построены на самом
беспомощном petitio principii: надо показать источник, откуда
появляется смысл, а фактически для узнавания и
констатирования самого этого источника уже надо знать
соответствующий смысл. Хотят объяснить происхождение статуи,
напр., из камня, который пошел на ее изготовление. Но
никакой камень не есть статуя. Поэтому самое подробное
описание того, как произошла статуя, может привести
только к одному: в момент появления статуи откуда ни
возьмись, каким-то чудом вдруг появляется смысл статуи,
раньше не бывший ни в материале статуи (ибо камень
не статуя), ни даже в сознании художника (ибо то, что
было в сознании художника, часто совершенно не
совпадает с фактически возникшим художественным
произведением, а если и совпадает, то все же мраморная статуя не
есть только мысленная идея или переживание статуи).
Следовательно, можно только прикинуться, что мы не
знаем существа смысла, и, фактически зная, что такое
данный смысл, можно только делать вид, что мы занимаемся
происхождением данного смысла. Эта наивная позиция не
выдерживает самого простого напора: если вы не знаете
того, что у вас произошло, то как же вы можете заниматься
происхождением этого неизвестного предмета?
Происхождение чего же, собственно говоря, изучается, если никакого
такого предмета, который бы тут происходил, не имеется?
Самое изучение происхождения данного предмета,
очевидно, предполагает известность этого предмета. Иначе что же
и изучать?
На это тоже были разные возражения, ныне
наскучившие и устаревшие. Говорили, что рассуждать так — это
значит считать, что если неизвестен предмет изучения, то
тем самым нельзя его и изучать, а если предмет изучения
известен, то тем самым не нужно его изучать. Путаница
в этом аргументе абстрактного предмета, взятого по его
16*
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
484
смыслу, с конкретной историей и жизнью этого предмета,
взятого в его фактическом существовании, не раз
указывалась в истории философии, и нам едва ли целесообразно
дискутировать ее здесь еще раз.
Итак, из вещей, как бы их <ни> понимать, статически
или генетически, невозможно полунить их смысла.
Наоборот, сами вещи могут существовать только благодаря
самостоятельному существованию смысла. Смысл есть
бытие sui generis, не сводимое ни на самое само, ни на вещи
или материю. Смысл вещи не есть ни самость вещи, ни
сама вещь.
3. ПЕРВАЯ УСТАНОВКА:
СМЫСЛ ЕСТЬ РАЗЛИЧИЕ И ТОЖДЕСТВО
Отграничивши смысл от чуждых ему, хотя и соседних
с ним областей, попробуем дать ему положительную
характеристику. Разумеется, что такое смысл вещи,
совершенно ни в каком разъяснении не нуждается. Да в этих
рассуждениях мы только и занимаемся такими
предметами, которые не требуют никакого разъяснения. Однако
разные предметы могут иметь разную сложность; и
философия, может быть, и состоит в сведении предметов на то,
что уже больше ни на что не сводимо, и в сведении, однако,
ясного, но сложного (не говоря уже о неясном) к другому
ясному, но простейшему.
1. а) Смысл бытия есть все то, что можно о нем вы-
сказать, помыслить, почувствовать, представить и т. д.
и т. д. То, что в нем возбуждает нашу мысль, наши
переживания, то или иное наше отношение к ней, то и есть
смысл.
Это описание смысла, однако, не может считаться
точным. Уже одно наличие в этом описании слов «и т. д.»
указывает, что такое описание далеко от точности. Что дает
такое описание? Оно перечисляет ряд модусов или
состояний сознания. Но сознание — это есть такой предмет,
который требует разъяснения и диалектической фиксации, что
мы еще не сделали. Таким образом, указанное описание,
являясь, вообще говоря, верным, не отвечает философской
потребности в точных выражениях.
Ь) Всмотримся в природу смысла. Что значит «иметь
смысл»? Вот эта скрипка имеет свой смысл в том, что она
есть именно скрипка, а не шкаф и не диван. Но что это
САМОЕ САМО
I—-I
485
значит? Очевидно, это значит, что данный предмет
наделен какими-то признаками, резко отличающими его от
всякого другого предмета. Скрипка есть определенным
образом вырезанная дека, определенным образом
приготовленный гриф, четыре колка и четыре струны, подставка
и проч. Этого нет в таком виде и в таком размере ни в одной
другой вещи. Смысл скрипки, очевидно, заключается в том,
что она отличается от всего прочего. Смысл вещи есть то,
чем она отличается от всего прочего.
Эта установка уже гораздо точнее. Здесь мы не
оперируем с философски неясными категориями мысли,
представления, чувства, переживания и проч. и проч., но
указываем нечто действительно простейшее, что хотя и
предупреждает собою возможные состояния сознания по поводу
смысла вещей, но не касается никаких темных и трудных
проблем самого сознания.
с) Однако и эта установка еще не вполне точна. Пусть
скрипка есть то, чем она отличается от всего другого. А что
такое смысл шкафа? Ясно, что это есть опять то, чем шкаф
отличается от всего другого. А что такое смысл дивана?
Ясно, что это тоже есть то, чем диван отличается от всего
прочего. Но то, чем отличается скрипка, то, чем отличается
шкаф, и то, чем отличается диван,— одно ли и то же или
не одно и то же? Ясно, что это — разное. То, чем
отличается скрипка, вовсе не есть то, чем отличается шкаф; а то,
чем отличается от всего прочего шкаф, вовсе не есть то,
чем отличается от всего прочего диван. Спрашивается:
что же такое тогда смысл, если он везде разный? Если то,
чем отличается данная вещь от всего другого, везде
разное, то как же нам получить смысл вообще, тот смысл,
который хотя и везде разный, но который в то же самое время
везде есть именно он сам, а не что-нибудь другое, т. е. в то
же самое время еще и везде одинаковый?
Очевидно, смысл — как общая категория —
заключается не в том, чем данная вещь отличается от всякой иной
вещи, а в том общем, что заставляет все вещи вообще
отличаться одна от другой. Другими словами, смысл есть не
то, чем данная вещь отличается от всякой другой, а самое
это отличие, самая категория различия. Ведь мы говорим
не об осмысленных вещах, но о самом смысле, о том, что
именно их осмысливает. Потому и в области
вещественных различий мы должны говорить не о различающихся
вещах, но о том, что впервые делает возможным сущест-
А.Ф.ЛОСЕВ
I^MMMl
486
вование различающихся вещей, т. е. о самой категории
различия. Различие — вот тайна того предмета, который
мы до сих пор именовали смыслом.
Несомненно, такая концепция делает нашу основную
установку гораздо более точной и в то же время достаточно
общей, отбрасывая всякие неясные и сложные термины
и базируясь на самом примитивном, элементарном и
общепонятном.
d) Наконец, введем еще одно уточнение или дополнег
ние, и наша основная установка будет очерчена полностью.
Будем исходить из вышеуказанного положения, что смысл
вещи есть то, чем она отличается от всякой другой вещи.
Мы получили отсюда — как главную — категорию
различия. Но все ли исчерпали мы этим из такого положения?
Только ли о различии говорится, когда смысл вещи видят
в том, чем она отличается от прочих вещей? Размышление
показывает, что категорией различия тут исчерпано еще
далеко не все.
В самом деле, то, чем отличается скрипка от всего
прочего, есть дека, гриф, струны, колки, подставка и проч. Но
дека есть ли сама скрипка? Очевидно, нет, ибо иначе
можно было бы сонату Баха сыграть на одной деке. Гриф —
есть ли сама скрипка? Очевидно, нет, ибо иначе можно
было бы играть на одном грифе, без помощи деки, струн,
колков и проч. Но тогда где же сама-то скрипка? Мы
взялись найти смысл скрипки, то, чем она отличается от всего
прочего. Но дека вовсе не есть то, чем скрипка отличается
от всего прочего. Наоборот, раз дека еще не есть скрипка,
то дека есть как раз то, что не относится к смыслу скрипки,
а относится к тому, что не есть скрипка. Кобылка сама
по себе тоже еще не есть скрипка. Но в таком случае она
вовсе не есть то, чем скрипка отличается от всего прочего,
а как раз, наоборот, она есть то, чем скрипка не отличается
от другого предмета. Раз кобылка может существовать
вне скрипки и без всякой скрипки, то, поскольку кобылка
входит в состав скрипки, необходимо сказать, что этой
своей частью скрипка отличается не от какого-нибудь
другого предмета, но отличается от себя самой и, наоборот,
отождествляется с каким-то другим предметом, который
хотя и входит в ее состав, но не есть она сама и по существу
чужд ей. И таковы все части, из которых состоит скрипка,
т. е. таково все то, чем скрипка отличается от всего
другого, если здесь базироваться только на категории различия.
САМОЕ САМО
I I
487
Ясно, что определение смысла вещи как «того, чем
данная вещь отличается от всякой другой», таит в себе еще
нечто новое в сравнении с категорией различия. В чем же
оно заключается? Чего не хватает нам для установления
смысла вещи?
Слишком ясно, чего не хватает. Не хватает самой вещи.
Перечисляя то, чем данная вещь отличается от всякой
другой, мы опять упустили то, что есть сама-то вещь.
Однако, может быть, это есть то самое само, о котором шла у нас
речь в первом рассуждении? Ни в каком случае! Ведь
самое само исключает категорию различия, а мы только что
перечислили по порядку все те элементы вещи, которыми
она отличается от всего прочего. Следовательно, самое
само существует до всякого различия, а смысл существует
после различия или, по крайней мере, одновременно с ним.
Следовательно, надо искать такое в оещи, где все ее
различествующие элементы были бы ею самою, но не
переходили в ее абсолютную самость, в самое само, не теряли бы
сами себя, но целиком сохраняли бы себя, объединялись
так, чтобы образовать слитное и неразличимое единство,
но без утери полученных различий.
Эта новая категория есть тождество.
Только с получением категории тождества мы можем
более или менее точно вскрыть природу смысла. Тождество
не есть самое само, потому что самое само не определяется
никакой категорией и никакой категории вообще не
содержит, в том числе и категории тождества. Тождество
уже предполагает свою противоположность, различие,
в то время как самое само никакой противоположности
не предполагает и не содержит. Тождество есть только там,
где есть различие. Отождествлять можно только разное,
различное или то, что кажется таковым. Если мы,
перечисливши все то, чем скрипка отличается от всякой другой
вещи, сумеем в то же время и отождествить это в один
и единственный предмет, в скрипку, то мы, очевидно, этим
самым и вскроем то, что называется смыслом скрипки.
Покамест мы только различали, вещи мы не могли
получить. Вещь, определяемая только с точки зрения
различия, вовсе не есть вещь, но распадается на ряд чуждых
одна другой вещей, которые только различны между собою
и больше ничего. Но наше исходное определение смысла
вовсе и не основывается только на одной категории
различия. Когда мы говорим, что смысл вещи есть то, чем она
Α. Φ. ЛОСЕВ
I——I
488
отличается от всякой другой вещи, то категория различия
относится только к словам «она отличается от всякой
другой вещи», но она совершенно не затрагивает слов «то,
чем». Это «то, чем» не есть просто сумма различествующих
моментов. «То, чем» есть нечто одно, простое, неделимое,
не содержащее никаких частичных моментов. Оно есть
просто «го». Ведь когда мы говорим «то» или «это», мы
ведь нисколько не указываем ни на какие моменты данного
предмета. «Эта» скрипка есть просто вот та, которая лежит
в футляре на крышке рояля. «Этот» пюпитр есть просто
вот этот вот, который сейчас стоит вправо от меня, и таким
обозначением я еще ровно ничего не сказал о том,
деревянный он или металлический, сложенный или
расставленный, выкрашенный или невыкрашенный, на одной ножке
с тремя разветвлениями или без всяких ножек, но стоит
как раздвинутая книга на высокой подставке и т. д. и т. д.
Это есть просто «этот», этот вот пюпитр и больше ничего.
Точно так же и слова «то, чем что-либо отличается от
другого» содержат в себе указание не только на категорию
различия, но и на то, что снимает все различествующие
моменты в общем простом и нераздельном, неразличест-
вующем предмете, в одном тождестве. Все части моей
вещи и различны между собою, и отождествлены в том
едином и нераздельном, что есть эта вещь. Вскрывая смысл
этой вещи, я говорю о различных моментах этой вещи
и о том, как они отождествляются в одно неделимое целое
вещи. Без этого тождества вещь рассыпалась бы в прах,
и я уже больше не узнал бы ее и не смог бы зафиксировать
ее смысла.
Итак, смысл есть тождество и различие. Смысл вещи
есть то, чем она отличается от всего другого и при помощи
чего она отождествляется сама с собой, т. е.
отождествляет с собою все те моменты, которые отмечены в ней как
отличающие ее от всего другого. Смысл вещи рождается
в то самое мгновение, когда к ней оказались применимыми
категории тождества и различия.
е) Разумеется, эти категории есть то, без чего
невозможно ничто иное, но они отнюдь не исчерпывают всей
сложной и богатой природы смысла, которой мы сейчас
и не можем заниматься в полном объеме. Однако
тождество и различие есть самое последнее, самое глубокое и
максимально принципиальное основание смысла. Это не есть
смысл в его полном расцвете и диалектической зрелости,
САМОЕ САМО
I—I
489
не есть красивые и пышные плоды и цветы, не есть еще,
может быть, и самый ствол или стебель. Но во всяком
случае это есть корень, его последнее основание. И потому
все наши дальнейшие рассуждения о нем будут
базироваться одновременно на этих двух понятиях.
2. а) Можно в определении смысла идти несколько
другим путем, беря соседние с ним сферы, от которых мы
его уже отграничили. Так, можно идти сверху и начать
с самого самого. Что такое смысл в сравнении с самым
самим? Ведь он тоже есть некая самость вещи, равным
образом как и самое само тоже есть в некотором
отношении смысл вещи. Смысл вещи как будто бы и есть самое
само, а самое само как будто бы и есть смысл.
Чтобы избежать этой путаницы и вместе дать ясный
подход к смыслу, можно сказать так. Самое само не
определяется никакой категорией и никакую категорию не
содержит в себе в качестве своей характеристики. Но если
мы возьмем это самое само вещи, эту ее последнюю
самость и представим ее отличною от всякой другой самости,
то это и будет то, что мы называем смыслом. Смысл вещи
есть, таким образом, самое само вещи (или самость вещи),
отличное от всякого другого самого самого. Другими
словами, смысл вещи тоже есть в некотором роде ее
абсолютная самость, но только эта самость определенно отлична
от всякой другой самости. Эта абсолютная самость,
данная вне всяких различий, уже вместила в себе эту
относительную самость со всеми ее отношениями и
отождествлениями, которые ей присущи как таковой. Смысл же, или
относительная самость, как развертывает эти
различествующие и тождественные моменты, <так> и на них, только
на них, и строит свою структуру.
Ь) Можно подойти к смыслу снизу, со стороны
вещественной сферы. Будем рассуждать так. Вещь обладает
известным числом признаков. В отличие от своей абсолютной
самости она, поскольку в ней выражен тот или иной смысл,
есть развернутая картина определенных свойств, качеств
и признаков. Спросим себя, как уже спрашивали не раз:
что же такое сама-то вещь? Уже не раз мы
констатировали, что, несмотря на множество своих частичных моментов,
всякая вещь есть нечто совершенно простое и неделимое,
самотождественное. Когда мы попросту говорим: «стена»,
«портрет», «ковер», «карандаш» и т. д., то, как бы сложны
и разнообразны эти вещи ни были, все же при каждом та-
Α. Φ. ЛОСЕВ
490
ком наименовании мыслится всегда нечто простейшее,
лишенное всякой сложности и пестроты, всяких
подразделений и структуры. Этим нисколько не уничтожается
многосторонность вещи, но этим достигается возможность
пренебрегать такой многосоставностью, или мыслить
полную простоту, несмотря ни на какую многосоставность.
Вот смысл вещи и есть тождество всего того, из чего она
состоит. Смысл вещи есть то, что объединяет, собирает,
отождествляет все признаки и свойства вещи в одну
неделимую, компактную вещь, когда мы можем сказать о ней
только одно слово или сказать: «она», «эта» вещь, «та»
вещь, «лампа», «ковер», «шкаф» и т. д. Обычно признаки
вещи мыслятся в своей раздельности и
противоположности. Смысл же вещи собирает их воедино и превращает в
общее тождество — правда, не в то абсолютное тождество,
где уже рухнет всякое противоположение, но в такое
тождество, которое можно назвать единораздельностью, или
таким тождеством, которое существует одновременно с
различностью.
с) Итак, смысл вещи есть или ее абсолютная самость,
данная в отличие от всякой другой самости, или тождество
всех ее раздельных признаков, данное наряду и
одновременно с этими последними. Смысл есть или
саморазличающаяся самость вещи, или тождество всех различий вещи.
Нетрудно заметить, что оба эти определения есть в
сущности одно и то же. Если самость вещи саморазличается,
то это значит, что здесь мы переходим от слитного
тождества внутри вещи к ее ясной раздельности, к различию;
и если различествующие признаки отождествляются, то
это значит, что в данном случае мы идем от различия
к тождеству. Там и здесь центральное место занимают эти
две категории — тождества и различия, и только в
зависимости от точки зрения акцентируется то одна категория,
то другая. Обе эти категории как бы витают между
запредельной бездной самого самого и областью
вещественности и не дают смыслу ни ухода в бесконечность самостно-
собранной точки, ни в бесконечность бессамостного
вещественного распыливания.
3. При всех этих определениях и уточнениях не будем,
однако, забывать того основного, с чего мы начали (гл. II,
(464—465) ) 19* и что лежит в основе решительно всего
смысла как сущности. Сущность есть определенность бытия,
взятая без самого бытия, или рефлексия бытия. Приведен-
САМОЕ САМО
I I
491
ные только что определения и описания смысла надо
понимать в свете именно этих предварительных установок. Ибо
две основные категории, использованные нами, тождество
и различие, есть именно один из видов определенности
бытия, взятой без самого бытия, или один из видов
рефлексии бытия, взятой без самого бытия. Ведь в категории
«тождества» ничего не сказано о качестве и количестве
тех актов полагания, между которыми устанавливается
это тождество; и «различие» ничего не говорит о характере
самих вещей, относясь к любым вещам и к любому их
характеру. И категории эти именно не «полагаются», но
«рефлектируются» и не «переходят» одна в другую, но
«соотносятся». Также нужно сказать, что и с бытием они
не просто «сополагаются», но именно «соотносятся».
Эту диалектику как уже диалектику сущности мы
сейчас и формулируем.
4. ДИАЛЕКТИКА ТОЖДЕСТВА И РАЗЛИЧИЯ
В СФЕРЕ СМЫСЛА
1. Именно, хотя предыдущее изложение достаточно
освещает вопрос о природе смысла, но оно не может не
оставлять некоторого беспокойства по следующему
обстоятельству.
Смысл вещи есть нечто в ней простейшее и неделимое.
Смысл вещи, если он в ней есть, должен постигаться в одно
мгновение, сразу и совершенно непосредственно. Ничто
не мешает ему постигаться и в развернутом виде. Но
необходимо, чтобы он в то же время мог постигаться и сразу.
Это-то и есть смысл вещи, когда все ее признаки даны
сразу, как существует сразу и она сама. Но, пересматривая
полученный результат, мы, к удивлению своему, находим
не одну, а две категории — различие и тождество. Почему
их две и как объединяются они вместе для того, чтобы
породить из себя смысл? В точности этого наше предыдущее
рассуждение не дает. Правда, мы говорим: различие
и тождество. Но что значит это «и»? «И» обозначает
присоединение. Но что значит «присоединить» тождество
к различию или, наоборот, различие к тождеству? Явно,
что термин этот — кустарный и за ним не кроется никакой
философской ясности.
Необходимо раскрыть взаимоотношение категорий
тождества и различия так, чтобы стало совершенно ясным
Α. Φ. ЛОСЕВ
492
то их полное единство, в виде которого они только и могут
характеризовать собою сферу смысла. Покамест в
точности неизвестно, как объединяются эти категории, до тех
пор обязательно будет оставаться у нас
неудовлетворенность, и сфера смысла не перестанет зиять каким-то
кричащим противоречием.
Это значит, что мы должны перейти к диалектике
категорий тождества и различия.
2. Что тождество не есть различие и различие не есть
тождество, это знают все. Если одна вещь отлична от
другой, то, очевидно, она с ней не тождественна. И если две
вещи тождественны, то, очевидно, это вовсе не две вещи,
а только одна, и единственная, вещь. Все эти безопасные
истины никем не подвергаются сомнению, и все же
философу тут очень даже есть в чем усомниться. Ведь мы же
пришли к выводу как раз диаметрально
противоположному. Мы пришли к заключению, что различествующие
моменты вещи отождествляются в одном неделимом целом,
что и есть данная вещь. Сначала мы сказали, что данная
вещь имеет, предположим, пять признаков; а потом вдруг
признали, что каждый из этих признаков вполне
тождествен с целым, так что никаких пяти признаков, в сущности
говоря, и не осталось. Как тут быть?
Действительно, несовпадение тождества и различия
характерно только для определенной сферы бытия, причем
границы этой сферы не так уж трудно наметить. Вещи,
находящиеся у нас перед глазами, т. е. вещи чувственные,
конечные, никогда не существующие целиком и полностью,
но всегда только отчасти и до некоторой степени, эти вещи
как будто действительно не допускают совпадения
тождества и различия. Впрочем, и это — только на первый
взгляд (вспомним апории движения). Но пусть мы примем
в виде гипотезы, что это именно так. Однако сферу смысла
мы уже достаточно отграничили от сферы вещей.
Следовательно, в становлении смысла уж во всяком случае дело
не обстоит так просто, чтобы два момента только
различались, а еще и в то же время не отождествлялись или чтобы
они только отождествлялись, а еще и не различались
между собою.
Но в чем же дело? Что заставляет два момента в сфере
смысла и отождествляться, и различаться одновременно?
В чем тайна этих непрерывных самоотождествлений и
саморазличий, из которых состоит жизнь смысла?
САМОЕ САМО
1 1
493
Тут-то мы, наконец, и дадим формулы категорий
тождества и различия с точки зрения диалектики сущности.
3. а) Сущность есть бытие рефлектированное, т.е.
оно поставлено в соотношение с самим собою, т. е. по нему
видно, в каком соотношении оно находится со всем прочим,
т. е. оно тут само свидетельствует о своих соотношениях.
В то время как чистое и непосредственное бытие само по
себе не выражает никаких соотношений и вообще получает
свою значимость откуда-то извне (и именно неизвестно
откуда), сущность сама начертала на себе свою
соотнесенность с бытием. При этом чистое бытие перед лицом
сущности погасло, ушло в какую-то мнимость, в видимость.
Оно не уничтожилось абсолютно, но оно оказалось за
пределами сущности. Сущность содержит его отрицательно,
как свое небытие. И это очень важно, потому что если это
чистое бытие продолжает существовать за пределами
сущности, то сущность вобрала в себя не его факт или
субстанцию, а только его смысл, или, выражаясь нашим прежним
языком, не самое бытие как акт полагания, но только его
определенность. Поэтому сущность содержит в себе бытие,
но такое, которое дано в виде только своей определенности,
причем эта определенность, как сказано, свидетельствует
сама о своих связях и соотношениях. Другими словами,
сущность полагает себя как внешнюю себе, или
соотносится с собою как с внешней себе. И эта внешность
сопутствует сущности решительно на всех стадиях ее развития,
вплоть до ее перехода в «жизнь», где только впервые она
соотнесется с самой собой как именно с самой собой и где
поэтому самое соотношение станет уже не сущностным, но
бытийным и потому превратится из соотношения в
самопорождение.
Итак, сущность есть соотношение с самим собою как
с внешним себе, или сущность не сама рождает из себя
свои соотношения фактически, а только содержит в себе
свои соотношения (в то время как чистое и
непосредственное даже и не содержит их, но они кем-то привлекаются
извне для их распознания в нем).
Ь) Таким образом, чтобы формулировать виды
соотношения, из которого состоит сущность, надо смотреть опять-
таки на оставленное нами чистое и непосредственное
бытие, которое тут представлено только внешне и
отрицательно, на те связи и переходы, которые мы там
констатировали, и — спрашивать, как эти связи и переходы отражены
Α. Φ .ЛОСЕВ
1 1
494
в сущности, что равносильно вопросу: какой их смысл, что
они значат?
Вспомним, какие связи и переходы констатировали мы
в первом символе (гл. II, <450>) 19* Что делалось там с
бытием и какие превращения оно испытывало?
c) Прежде всего, бытие полагало там себя самого; и
мы говорили, что бытие есть бытие. Без этого нельзя было
утверждать ничего другого. Спросим: какой смысл того,
что бытие есть бытие? Как отражается в зеркале сущности
то, что бытие полагает себя самого? Что это значит?
Согласно вышесказанному, на это надо ответить так, чтобы
при этом само бытие было внешним, чтобы оно
присутствовало только отрицательно, чтобы устанавливаемое здесь
соотношение само-то не было непосредственно данным
бытием. Если из утверждения «бытие есть бытие», или
«бытие полагает самого себя», исключить самое бытие,
то тут совершенно ничего не останется, кроме тождества.
Вот это тождество и есть такое соотношение бытия с самим
собою, которое дано в виде единого акта полагания, когда
бытие просто есть, т. е. когда бытие есть бытие и больше
ничего.
Бытие с собой соотносится, т. е. оно есть соотносимое
и соотносящее. Но вот соотносимое и соотносящее даны
сразу вместе как один акт полагания, как бытие. Это
значит, что рассматриваемое соотношение есть тождество.
d) Далее, бытие полагало у нас в первом символе не
только себя как себя. Оно полагало еще и свое иное,
небытие. Без этого, мы видели, невозможно было существовать
и самому бытию. Спрашиваем: что значит^ что бытие
полагает небытие как небытие? Какой смысл того положения
дела, что бытие истребовало небытие? Опять-таки
отбросим самое бытие. Останется то, что здесь выражено
различие. Различие, очевидно, есть такое соотношение бытия
с самим собою, когда бытие полагает свое небытие как
небытие. Тут мы берем бытие и видим, что его соотношение
с самим собою заключается только в том, что оно
указывает на иное, чем оно само.
Бытие с собой соотносится, т. е. оно есть соотносимое
и соотносящее. Но вот соотносящее есть бытие, а
соотносимое есть небытие. Это значит, что рассматриваемое
соотношение есть различие.
Это и даст нам теперь в руки нить для построения
диалектики тождества и различия как категорий сущности.
САМОЕ САМО
I I
495
4. Эта диалектика, по общему правилу, должна
«отражать» те связи и переходы, которые царят в соответствую-
щей области учения о бытии. Для этого вспомним
диалектику бытия и небытия, данную в гл. II, § 1, п. За, и
попробуем выразить ее в категориях сущности.
a) I. Небытие отлично от бытия. Значит, это бытие
в отношении небытия тождественно с небытием. Значит,
небытие отлично от небытия. Допустим, однако, что
небытие отлично от небытия. Но то, что отлично от небытия,
есть бытие. Следовательно, небытие тождественно с
бытием. Итак, различие между небытием и бытием
существует лишь постольку, поскольку между ними существует
тождество. Или: когда между членами отношения
существует различие, то это происходит только потому, что
между ними существует тождество. Другими словами,
различие возможно только там, где есть тождество; и оно
возможно только потому, что там же есть и тождество.
II. Бытие отлично от небытия. Но небытие тоже есть
некоторое бытие. Следовательно, бытие отлично от самого
себя. Допустим, однако, что бытие отлично от бытия. Но
то, что отлично от бытия, есть небытие. Следовательно,
бытие тождественно с небытием. Итак, тождество бытия
с небытием вытекает из различия бытия с небытием.
Тождество возможно только там, где есть различие, и
оно возможно только потому, что там же есть и различие.
III. Бытие тождественно с самим собою, т. е. с бытием
Но бытие как предикат отлично тут от бытия как субъекта,
ибо иначе было бы бессмысленно и самое это утверждение.
А то, что отлично от бытия, есть небытие. Следовательно,
если утверждение, что бытие тождественно с самим собою,
имеет хоть какой-нибудь смысл, то только потому, что
бытие отлично от самого себя. Итак, тождество есть
различие.
IV. Небытие тождественно с небытием. Но небытие как
предикат отлично тут от небытия как субъекта, ибо иначе
было бы бессмысленно и самое это утверждение. А то,
что отлично от небытия, есть бытие. Следовательно, если
утверждение, что небытие тождественно с небытием, имеет
хоть какой-нибудь смысл, то только потому, что небытие
различно с небытием. Итак, тождество есть различие.
b) Эти четыре аргумента имеют одно и то же
содержание: тождество есть не что иное, как различие; и различие
есть не что иное, как тождество; однако при этом тожде^
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
496
ство не есть различие; и различие не есть тождество.
Бытие и небытие тождественны только в том случае и
только потому, что тому и другому тождественно присуще
различие со своим другим. И также бытие и небытие
различны между собою только в том случае и только потому,
что тому и другому присуще тождество с самим собою.
Отбросим отличие бытия от небытия, нечему будет и
отождествляться. Отбросим тождество бытия и небытия с
самим собою, нечему будет и различаться. Это нужно твердо
запомнить раз навсегда всякому, желающему разбираться
в диалектике сущности: тождество всегда обязательно
есть тождество различия (и только различия),
тождественно данного где бы то ни было; и различие всегда
обязательно есть различие тождества, различно данного где бы
то ни было.
Так можно было бы представить в самом кратком и
элементарном очерке диалектику категорий тождества и
различия как категорий сущности.
5. Однако мы не удовольствуемся и этим.
Формулированная диалектика построена по платоно-гегелевскому
типу. Можно, однако, подойти к ней и несколько иначе,
И хотя по существу это будет та же самая диалектика,
но с привлечением точного разграничения с чувственной
действительностью она, пожалуй, будет более понятна с
обывательской точки зрения. Это20* — применение метода
бесконечного перехода, образец которого тоже содержался
в первом символе, а именно в области наличного бытия.
Используем его, прежде чем перейти к деталям в
диалектике тождества и различия.
Всмотримся в те чувственные и конечные вещи, в
отношении которых обыватель так охотно признает
несовпадение тождества и различия. В чем их наиболее
разительное отличие от изучаемой нами сферы смысла? И
почему обыденная мысль так не может расстаться с тем,
что в старой логике называли «законом противоречия»
(и что гораздо яснее можно было бы назвать «законом
непротиворечия»)?
а) Может быть, мы не ошибемся, если скажем, что в
этой чувственной и конечной сфере все вещи существуют
только отчасти и до некоторой степени. В самом деле,
мой приятель Иванов сначала учился в школе, что
является во всяком случае чем-то неполным и недостаточным,
так как после того он поступил в университет. Учение
САМОЕ САМО
1—1
497
в университете и жизнь в течение университетских лет,
очевидно, тоже еще не есть все то, что должен был и
мог проявить мой Иванов, потому что он жил еще много
лет после университета и имел массу всяких занятий и дел.
И т. д. и т. д. Ни Иванов, ни Петров, ни эта чернильница,
ни этот неизменно урчащий у меня на столе кот никогда и
нигде не проявляют себя целиком и полностью, но всегда
только отчасти и до некоторой степени. Ни одна
чувственная и конечная вещь, живое существо или человек не в
силах проявить себя целиком, но всегда они проявляют
себя по частям, постепенно, то более, то менее полно,
всегда только до некоторой степени.
Ь) Если это так, то ничто не мешает нам мыслить такое
бытие, которое проявляет себя сразу и целиком, такое
бытие, которое действует не постепенно и в течение долгого
времени, но моментально, абсолютно цельно и собранно, в
одно неделимое мгновение времени. Тут нельзя возражать,
что такого бытия фактически нигде нет, что это только
наша фантазия. Пусть его фактически нет, но это — не
наша фантазия, а наша мысль; и эта мысль требует, что
если дано что-нибудь отчасти, то оно должно мыслиться и
как данное целиком. Если я прошел половину своей улицы,
то это значит, что можно пройти (мне или кому-нибудь
другому) и остальную половину. Пусть фактически я
сегодня не смог ее пройти, так как ввиду ремонта
водопровода проход по ней был закрыт. Но речь идет не о
фактической возможности, но о принципиальной. Принципиально
же вторую половину улицы не только можно пройти, но
эта возможность совершенно необходима. Если ее нет в
мысли, то необходимо возникает вопрос, можно ли пройти
и первую половину.
Итак, если что-нибудь существует отчасти, то оно
может (пусть хотя бы только мысленно — смысл ведь и
есть нечто мысленное) существовать и полностью. И если
нечто существует только до некоторой степени, то это
значит, что нечто (пусть хотя бы только в мысли) существует
и в полной степени. И, может быть, проще и яснее будет
сказать так: если что-нибудь существует в конечном виде,
то это значит, что оно может существовать и в бесконечном
виде. И не только «может», но для мысли оно обязательно,
необходимо существует. Как прочтение нескольких
страниц книги обязательно предполагает возможность
прочтения всей книги, так и представление о конечных вещах
Α. Φ. ЛОСЕВ
f >
498
требует представления о бесконечных вещах. Если есть
конечное, то существует и бесконечное. А если не существует
бесконечное, то не существует и конечное, как не
существует круг, если у него нет окружности, которая бы
отделяла его от того, что не есть круг. Если есть круг, то есть и
не-круг. А если нет не-круга, то нет и самого круга,
с) Итак, наши обывательские рассуждения о
несовпадении тождества и различия, столь понятные в
применении к сфере конечных вещей, очевидно, должны претер*
петь какое-то существенное изменение, если мы захотим
перейти в сферу бесконечных вещей. Во всяком случае
вопрос этот требует исследования.
6. а) Прежде всего, можно ли в отношении сферы
смысла говорить о целости и бесконечности? На этот
вопрос приходится отвечать безусловно положительно.
Действительно, всякая конечная чувственная вещь всегда
проявляет то один, то другой свой признак, то два, то три, то
очень много из своих свойств. Тем не менее когда заходит
речь о смысле этой вещи, то все ее признаки мыслятся
сразу и целиком, без всяких перерывов и промежутков.
В самое понятие смысла входит эта целость и эта момен-
тальность, эта бесконечная плотность (так сказать) и
прочность объединения всех его моментов. В сфере смысла
нет никаких протеканий времени, никаких пауз,
промежутков, никаких степеней или колеблющихся количеств.
Тут все собрано сразу вместе, в одну точку, вне всякого
пространственно-временного процесса; тут в полном и
точном смысле этого слова все дано в бесконечной форме,
все выражено в бесконечной степени, все дано бесконечно
уплотненно и незыблемо, бесконечно неразрывно.
Значит, бесконечность играет какую-то очень большую
роль в конструировании смысла; и эта роль настолько же
велика, насколько и таинственна. Бесконечность есть как
раз тут наиболее яркий принцип, который отличает
смысловое бытие от вещественного. Однако тут для нас пока
очень много неясного.
Ь) Чтобы дальнейшее было понятно, необходимо
усвоить сначала одну — довольно простую — истину.
Именно, можно в любой категории видеть только то, как она
применяется для обыденной или научной практики мысли,
и больше ничего. И можно задаваться вопросом о самой
этой категории, вникая в ее смысл и анализируя ту ее
собственную жизнь, которая не видна при утилитарных
САМОЕ САМО
I—-I
499
подходах. Я могу надеть себе на нос очки и в течение
целого дня носить их, пользуясь ими как некоторым орудием
для лучшего видения, но совершенно не обращая
никакого внимания на них самих. Я, пусть, без очков не могу
читать; но думаю я об очках только тогда, когда они
снимаются или разобьются и когда приходится менять стекла.
То, как пользуется очками обыватель, и то, как относится
к очкам оптик,— совершенно разные вещи. Для одного это
есть только орудие в совершенно иных целях, для другого
же это является предметом вполне самостоятельного
интереса. Точно то же самое происходит в отношении к смыслу
и к составляющим его категорию, т. е., прежде всего, в
уточнении тождества и различия. Можно пользоваться
этими категориями совершенно без всякого внимания к их
собственной внутренней структуре и жизни и даже ничего
не зная о самом их существовании. Но можно отбросить
такой утилитарный и инструментальный подход (конечно,
в целях только исследования и нисколько не мешая их
обыденному функционированию), и можно сосредоточиться
на их собственной значимости, на их собственной
внутренней жизни. И немудрено, что такой категориальный
«оптик» найдет в этих категориях нечто такое, что совсем
неизвестно тем, кто их практически использует, но не
подвергает самостоятельному исследованию.
Если эта невинная истина будет усвоена (а усвояется
она, надо сказать, с очень большим трудом), то это весьма
расширит наш исследовательский путь и придаст нам
бодрость там, где мы при другой точке зрения готовы были бы
остановиться.
Итак, на данной стадии нашего исследования
категории различия и тождества суть не механические
инструменты и объекты, а как бы самостоятельные субъекты,
жизнь и историю которых мы описываем.
7. а) Возьмем категорию различия. Она как-то живет
и действует, как-то себя проявляет. Но, припоминая
сказанное выше о конечном и бесконечном, мы можем здесь
говорить не о «как-то», но о чем-то вполне определенном.
А именно, если мы действительно находимся в сфере
смысла, то ведь в сфере смысла нет никаких конечных степеней
или количеств и нет никаких частичных или
прерывающихся проявлений, но все действует здесь сразу в
бесконечной форме. Следовательно, и различие, если оно
мыслится в сфере чистого смысла, проявляет себя бесконечным
Α. Φ. ЛОСЕВ
_J^—L-
500
способом, в бесконечной форме, с бесконечной силой.
Отсюда мы можем зафиксировать два первых тезиса
диалектики различия и тождества, которые надо усвоить
возможно тщательно и в которых надо добиться последней
ясности.
I. Различие есть чисто смысловая категория.
II. Различие действует с бесконечной силой.
Различие — как мы условились его рассматривать на
данной стадии нашего исследования — есть обязательно
нечто живое, самостоятельное и действующее. Это,
повторяю, не просто очки, которые носятся без всякого
внимания к ним; но это — такие очки, в которых выверяется
малейшая выпуклость или вогнутость, в которых все
размеры, формы и изгибы конструируются при помощи точных
математических положений. И этот предмет живет и
проявляет себя сам по себе (для оптика, механика или врача)
еще до всякого его практического применения (хотя это
применение не только принято здесь во внимание, но ради
него-то и проводится самостоятельный подход к предмету).
Это — раз. Но как только зашел разговор о
самостоятельной жизни и функциях различия в качестве чисто
смысловой категории, так тотчас же возникает требование —
мыслить эти функции как бесконечные, как такие, которые
абсолютно всесильны. И какое бы количество вещей ни
подпало под эту категорию, она с абсолютной легкостью
определит их со своей собственной точки зрения, и притом
в одно мельчайшее, едва заметное мгновение. Таковы
действия всех смысловых категорий.
Теперь посмотрим, что же получается в результате
бесконечно мощных действий категории различия.
Ь) Итак, различие — бесконечно мощно. Что это
значит? Мы уже сказали, что это означает применимость и
действенность категории различия для вещей любого
количества и любого качества. Однако раз мы хотим взять
категорию различия как таковую, то для нас будет уже
недостаточно брать «любое количество» осмысляемых ею
фактов. Мы должны взять все факты и вещи, которые
только были, есть и будут (и притом со всем их
разнообразием и комбинированием), т. е. мы должны взять всю
бесконечность вещей, так что уже нельзя было бы
прибавить сюда ровно ничего нового. И вот эту бесконечность
осмысляет категория различия, действуя с бесконечной
силой и в одно мгновение.
САМОЕ САМО
I I
501
Однако представим себе реально, что из этого
получается (разумеется, и мы пока допускаем, что в отношении
вещей действует только эта одна категория различия и
больше никакая другая). Получается, что всякая вещь
только отлична от всякой другой вещи и больше ничего.
Получается, что маленький элемент в бытии, в вещах, все
разный и разный. Получается, что каждый наш малейший
сдвиг по полю бытия приводит нас к чему-то абсолютно
новому, небывалому, отличному. Получается, что в бытии
все находится вне всего, все одно другому внеположено,
одно с другим различно и абсолютно различно. И только
так и можно себе представлять бесконечно сильное
действие категории различия. Зафиксируем это.
III. Различие требует абсолютной смысловой
различности, или внеположности всего и каждого со всем и
с каждым.
c) Тут, однако, кроется новая большая идея.
В самом деле, все по смыслу своему внеположено
всему. Возьмем какую-нибудь вещь А. Она абсолютно вне-
положена всему. Это значит, что она абсолютно ни на что
не похожа. Это значит, что она не содержит в себе ровно
ничего такого, что отличало бы ее от всего другого.
А это значит, что наша вещь А не содержит в себе никаких
отличий, т. е. что вещь А не содержит в себе никаких
таких моментов, которые были бы взаимно различны. А это
значит, наконец, что к вещи А применима только категория
тождества. Но если мы возьмем вещь ß, то, очевидно,
данное рассуждение нужно будет только повторить. И если
возьмем вещь С,— то же самое. И если бесконечное
количество вещей, то — то же самое. Следовательно, различие,
если оно берется как бесконечно мощная смысловая
категория, есть не что иное, как тождество. Или в тезисах —
IV. Абсолютная отличность каждой вещи от всего есть
абсолютное отсутствие в ней каких бы то ни было
различествующих моментов. И абсолютная отличность всего от
всего есть абсолютное отличие во всем каких бы то ни
было различествующих моментов.
V. Абсолютное отсутствие в вещи каких бы то ни было
различествующих ее моментов есть тождество всех
моментов вещи.
VI. Следовательно, если различие есть чисто смысловая
категория, то она то же самое, что и тождество.
d) Нетрудно сообразить, что аналогичный же ход рас-
Α. Φ. ЛОСЕВ
502
суждения ожидает нас и в том случае, если мы захотим
начать с тождества и изучить форму его адекватного
проявления в инобытии.
Пусть тождество действует так, как того требует его
смысловая природа. Это значит, что тождество целиком
воплотится решительно на всем том, из чего состоит
бесконечность. Но произойти это может только в том случае,
если образуется абсолютное отсутствие в каждой вещи и
во всех вещах вместе каких бы то ни было различествую?
щих моментов. А это, в свою очередь, возможно только
тогда, когда каждая вещь абсолютно отлична от всякой
другой вещи, т. е. когда категория различия царствует
решительно над каждой вещью и, следовательно, над
всеми вещами вместе, т. е. когда не существует никакой
категории тождества, а вездесуща и всесильна только
категория различия. Так тождество превращается в
различие.
VII. Применяя обратный ход заключения, необходимо
также сказать, что если тождество есть чисто смысловая
категория, то она то же самое, что и различие.
е) Вот когда мы добрались, наконец, до желанного
конца, до полной логической завершенности; и вот когда
мы смогли, наконец, разъяснить причину и смысл
совпадения тождества и различия. Предложенные семь тезисов
рисуют замечательную картину жизни чистого смысла, и
без их понимания и уяснения нечего и думать приблизиться
к диалектике и овладеть ею. Эти краткие тезисы есть
формула удивительной истины смысла, о которой не
догадывается обыватель, всегда занятый утилитарной практикой
смысла, а не вниканием в его самостоятельную глубину.
И они, конечно, содержат в себе нечто гораздо большее,
чем то, что в них выражено буквально. Раскрытием
некоторых идей, кроющихся здесь, мы сейчас и займемся.
7. а) Прежде всего, чем отличается инструментально-
практический подход к этим категориям от нашего
непосредственного и самостоятельного подхода?
Мы взяли категорию различия не в ее абстрактной
значимости, но в ее живом действии. Однако это не значит,
что мы ее взяли так, как она действует в научном или
житейском обиходе. Наука и житейский обиход, как мы
сказали выше, оперируют с конечными вещами и
конечными процессами. Те факты и те события, с которыми чело*
век имеет дело в науке и жизни, являются, как сказано,
САМОЕ САМО
—I L-.
фактами и событиями отчасти, не целиком, понемногу,
постепенно, с перерывами и промежутками, до некоторой
степени — попросту говоря — конечными и текучими
фактами и событиями. Если бы мы стали изучать действия и
проявления категории различия на этих конечных и
текучих фактах, то мы заслонили бы от себя ту подлинную
жизнь и действия этой категории, которые принадлежат
ей как ей. Мы изучали бы эти действия частично,
случайно, внося в исследование этой нетекучей категории всю
ту текучую случайность, которая для нее, как для нее, для
нее, как она дана сама по себе, совершенно чужда и
нехарактерна. Надо было посмотреть, как эта категория
действует сама по себе, как она действует в тех условиях, когда
ничто ей не мешает, когда ничто не тянет ее в чуждую ей
сферу и ничто не искажает ее собственных требований.
А это и значило посмотреть, как она действует на
бесконечном числе вещей.
Можно сказать еще и так. Мы взяли категорию
различия не уединенно, не изолированно, но захотели
посмотреть, как она действует в вещах, в окружающем ее
инобытии. Это инобытие мы взяли так, чтобы для категории
различия был полный простор. Ведь категория различия,
говорим мы, есть не вещественная, но чисто смысловая
категория. Это значит, что к смыслу не приложимы
никакие определения времени и пространства. Другими
словами, смысл существует так, что он не проявляет себя сейчас
одним образом, а потом — другим, и не так, что сейчас он
есть, а потом его нет, и не так, что тут у него оказалась
дыра или прорыв, а там эти дыры заштопались. Все эти
характеристики взяты из вещественного, пространственно-
временного мира, и они не имеют никакого применения
к сфере смысловой. Другими словами, просто
бессмысленно говорить, что, напр., таблица умножения один раз
значима, другой раз незначима или что прямую линию можно,
напр., взвесить, понюхать,разорвать, создать или
уничтожить и т. д. и т. д. Сфера смысла — совершенно
невещественна; и смысл действует сразу целиком» весь и
полностью в одно мгновение.
Ему соответствует и результат. То инобытие, в котором
живет смысл, и в частности категория различия, целиком
и сразу воплощает на себе все действия этой категории.
Что она значит сама по себе и на что она только способна
по собственной значимости, то и воплощено целиком на
Α. Φ. ЛОСЕВ
504
ее инобытии. Мы постарались взять жизнь этой категории
не частично и разорванно, но целиком и полностью. И при
этом смысл имеет значение не только для чего-нибудь
одного; он имеет значение сразу для всего, для всех
возможных и невозможных вещей, для всей бесконечности.
В этом отношении не существует ни малейшего
ограничения ни для смысла вообще, ни для категории различия
в частности.
Ь) И вот оказалось, что различие, понимаемое не в
своей абстрактной изоляции, но в своем активном
значении, и притом в таком значении, когда оно проявляет себя
именно как себя, т. е. абсолютно адекватно себе, такое
различие есть не что иное, как тождество, неотличимо
от тождества. Чтобы это положение дела не ускользнуло
от нас и чтобы мы не забыли тех причин, благодаря
которым различие превращается в тождество, попробуем
зафиксировать это терминологически.
Когда что-нибудь переносится в свое инобытие и там
воплощается, мы по этому инобытию можем узнать и само
то, что воплотилось. Это узнавание может быть точным
или неточным — в зависимости от того, как и в какой мере
данный предмет воплотился. Если он воплотился в своем
инобытии целиком и если ни одна существенная его черта
не осталась без надлежащего коррелята в инобытии, то мы
целиком узнаём этот предмет, хотя он дан тут инобытий-
ными средствами. В таком случае предмет и его
воплощение неразличимы между собою; и нам все равно, иметь ли
дело с одним или с другим. И тогда это инобытие мы
называем символом. Совершенно ясно, что тождество есть
символ различия, и различие есть символ тождества,
поскольку тождество мы получили как результат
адекватного инобытийного воплощения различия, а различие —
как результат адекватного инобытийного воплощения
тождества.
Однако в нашей операции вскрытия живой жизни
смысла мы руководствовались не только воплощением и
воспроизведением различия или тождества. Мы все время
подчеркивали, что тут имеется в виду адекватное
воплощение, а адекватность здесь равносильна бесконечной
значимости, бесконечной мощи воплощаемого смысла.
Следовательно, нам нужно говорить не просто о символе,
если мы захотели действительно показать мощь смысла в
ее реальном и адекватном проявлении, но о бесконечном
САМОЕ САМО
505
символе, или о символе бесконечности. Отсюда точная и
логически безукоризненная формула взаимоотношения
различия и тождества может быть представлена в
следующем виде:
VIII. Различие есть бесконечный символ тождества, и
тождество есть бесконечный символ различия.
Заметим, что применение метода бесконечного
перехода к взаимоотношению категорий тождества и различия
не надо понимать так, что этот метод специален именно для
данных категорий. Мы можем вообще применять любой
из переходов, найденных нами в первом символе (гл. II,
<494> ) 19*. Переход от конечного к бесконечному
проводится, как мы помним (гл. II, <450> ) 19*, в пределах
«наличного бытия», или «ставшего». Но можно было бы рассуждать
о взаимоотношении тождества и различия и так, как мы
рассуждали, напр., о взаимоотношении бытия и небытия
(что мы и провели в § 3) или о взаимоотношении
становления и ставшего, ставшего и для-себя-бытия и т. д. В
сущности, это ведь везде совершенно один и тот же переход,
переход от утверждения к отрицанию и от отрицания к
отрицанию этого отрицания, или к новому утверждению.
В данном случае, в применении к тождеству и различию
нам представился удобным метод бесконечного перехода.
Но, строго говоря, это — только способ демонстрации
диалектического исследования, а не модификация самого
исследования.
с) Итак, если рассматривать сферу смысла в ее живой
жизни, а не в ее абстрактной изоляции, то, собственно
говоря, мы не имеем права говорить ни просто о различии,
ни просто о тождестве. Зная о том, что обыватель резко
противопоставляет различие тождеству, мы только введем
обывателя в заблуждение, если скажем, что функции
смысла ограничиваются различием, или что они
ограничиваются тождеством, и даже что они характеризуются
различием и тождеством. Как мы помним,
неопределенность этого «и» как раз и заставила нас предпринять
разработку диалектики различия и тождества; и, пока этой
диалектики нет или пока она не усвоена, простое
объединение этих категорий будет только вводить в обман и
ничем не сможет даже намекнуть на истинное положение
дела.
Поэтому если уже останавливаться на этих терминах
и в диалектике различия и тождества видеть природу смыс-
Α. Φ ЛОСЕВ
506
ла вообще, то мы можем сказать так. Смысл есть само-
тождественное различие, или саморазличающееся
тождество. Конечно, и это словоупотребление не объяснит и
не заменит обывателю подлинной диалектики различия и
тождества; но, по крайней мере, оно21* хотя бы пресечет
или затруднит обывательское легкомыслие в оперировании
с этими ходовыми терминами философии.
В самом деле, когда мы говорим «самотождественное
различие», то это уже во всяком случае значит, что тут
имеется в виду такое различие, которое само же, своими
собственными средствами, и никем и ничем не
принуждаемое, свидетельствует о превращении себя в тождество.
И когда мы говорим «саморазличающееся тождество»,
то ясно, что мы говорим здесь не просто об абстрактном
тождестве вообще, но о таком тождестве, которое опять-
таки само по себе, своими же собственными средствами,
никем и ничем не принуждаемое, свидетельствует о
перерождении у себя различия и в него превращается.
Вот почему так трудно изобразить природу смысла.
Смысл есть просто смысл — вот что говорит всегда
обыватель и вот что хочет сказать своими определениями и
философ. Однако сказать так мог бы только очень
высокий ум и очень совершенный философ, который уже не
нуждается ни в наших описаниях и ни в наших
определениях для того, что он мыслит. Мы же принуждены
сейчас остановиться только на предложенной выше
формуле. Будем только помнить, что смысл не есть ни только
разница, ни только тождество, а то их абсолютное
совпадение, где они уже и не тождество, и не различие.
Смысл есть и тождество, и различие, т. е. и утверждение
того и иного, и отрицание того и иного. Отмена хотя бы
малейшего штриха из этой диалектики разрушает всю
эту проблему, и смысл уже теряет весь свой «смысл».
5. ПРОТИВОРЕЧИЕ, ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ И РАЗНОСТЬ
1. Исчерпали ли мы всеми предыдущими формами
диалектических построений все учение о тождестве и
различии, если эти категории понимать как «отражение»,
«рефлексию», «смысл» взаимосвязей, царящих в сфере
бытия и небытия? Если мы вспомним наши заключения
в гл. II, § 1, п. ЗЬ — d, то станет ясным, что до сих пор
мы отразили в сфере сущности только такие бытийные
САМОЕ САМО
I—I
507
акты: бытие есть бытие (это дало нам категорию
«тождества», п. Зс), бытие полагает небытие (отсюда —
«различие», п. 3d), бытие есть небытие, и небытие есть бытие
(отсюда — диалектика «самотождественного различия»,
п. 4ab), Однако кроме этого общего учения остаются еще
очень важные детали, а именно — применение принципа
совпадения бытия и небытия к разным сферам, т. е.
отдельно к сфере бытия, отдельно к сфере небытия и отдельно к
сфере их совокупного обстояния. Необходимо дать
сущностный коррелят и этих бытийных актов. А отсюда уже
открыта будет дорога и к неразличимому совпадению
бытия и небытия, т. е. к становлению (с соответствующей
«рефлексией» и «осмыслением»),
a) Совпадение бытия и небытия может быть само
рассматриваемо как бытие. Оно может осуществляться в
сфере бытия и средствами бытия. В этом нет ничего
удивительного. Ведь так бывает всегда, что если два момента
отождествляются или совпадают в третьем, то каждый из
них обязательно несет на себе смысл этого третьего.
Стоит только допустить, что на них это третье никак не
отражается, как рушится и самое это совпадение.
Получится, что эти два момента как были сами по себе вне всякого
взаимного совпадения, так и остались. Если же они
вступили в некую связь, то следы этой связи без сомнения на
них заметны; и, следовательно, не только можно, но и
нужно говорить о том, как совпадение бытия и небытия
отражается отдельно на бытии и отдельно на небытии.
b) Итак, совпадение бытия и небытия отражается
отдельно на бытии, дается средствами бытия, выражается
как бытие, существует для бытия. Что тут делается с
бытием, средствами которого и в целях которого выражается
рассматриваемое совпадение бытия и небытия? Оно,
конечно, уже не может остаться в своем прежнем виде, неся
на себе смысл совпадения бытия с небытием, оно
перестраивается и получает новую структуру. В чем же
заключается эта новость? Бытие отражает на себе совпадение
бытия с небытием. Это значит, что бытие отражает на себе
свое совпадение с небытием. Другими словами, оно
полагает себя уже не просто как себя, но себя, вообще говоря,
как небытие, себя как иное себе, себя как не-себя.
c) Спрашивается: какой же это имеет смысл, как это
отражается в сфере сущности? Ясно, что тут не годится
ни тождество, ни различие. Категория тождества «отра-
Α. Φ. ЛОСЕВ
508
жает» собою то, что бытие просто полагает себя, т. е. себя
как себя, а вовсе не себя как не-себя. Различие тоже тут
выражает еще далеко не. все, так как категория различия
переносит в сущность только то, что бытие полагает
небытие, или иное себе, а не специально себя как иное себе.
Где же та категория сущности, которая была бы смыслом
этого нового положения дела, когда бытие заключается
только в полагании себя как не-себя, т. е. в полагании
границы, когда акт полагания бытия свидетельствует и о по-,
лагании небытия, когда бытие само громко кричит о своем
собственном отрицании, о своей собственной границе?
Это есть противоречие.
d) Под противоречием обычно понимается в логике
такое отношение между двумя моментами, когда один из
них является Л, а другой не-Л (белый — не-белый,
продолговатый — не-продолговатый и проч.). Вскрыть смысл
этого соотношения было бы очень интересно, но авторы
руководств по логике обычно не занимались этим, считая,
что это понятно и без всяких разъяснений. Тем не менее
дело тут вовсе не в понятности или непонятности. Философ
вскрывает смысл именно того, что понятно; и только
потому он и может вскрыть смысл предмета, что этот предмет
понятен. Если бы он не был понятен, было бы невозможно
говорить и об его смысле. Итак, что такое противоречие,
всем понятно. Стало быть, законно спросить: а что оно
значит?
Значит оно вот что. Когда мы говорим «не-Л», мы,
прежде всего, как-то полагаем самое Л. Но как?
Исключительно только в отрицательном смысле, полагаем его
небытие. Но и этого мало. Если бы мы просто говорили, что
никакого Л нет, это еще далеко не значило бы, что мы
полагаем не-Л. Пусть я говорю, что здесь нет белого цвета.
Это еще не значит, что здесь есть что-то не-белое. Это
значит только то, что белого цвета здесь нет, и больше ничего.
А для противоречия надо, чтобы не только отрицался факт
данного Л, но и признавался еще некий новый факт или
множество фактов, выходящих за пределы отринутого Л.
Надо, чтобы в то же самое время признавался факт
зеленого, синего и проч. цветов. Значит, в противоречии
появляется такое небытие, которое есть в то же время и бытие,
не просто отсутствие бытия, но присутствие того, что не
есть само бытие. Оказывается, бытие полагает себя, но
полагает себя не как просто себя (тогда мы говорили бы
САМОЕ САМО
1——■ I
509
просто «белое» или «белое есть белое»); и оно полагает
небытие, но не как просто небытие (тогда мы говорили бы
просто «белого нет»). Оказывается, что бытие полагает
себя как иное себе и полагает иное себе в его тождестве
с самим собою. Бытие совпало тут с небытием, но,
оказывается, само же бытие и произвело это свое совпадение
с небытием. He-Л есть не что иное, как А, полагающее себя
в своем совпадении со своим небытием, или — совпадение
бытия и небытия Л, данное средствами самого же Л.
е) Для ясности диалектики противоречия будем
рассуждать, исходя из более понятной категории различия.
Ясно, что противоречие есть вид различия, потому что там,
где есть противоречие, обязательно имеется и различие, но
там, где есть различие, еще не обязательно присутствие
противоречия. Что же надо теперь прибавить к различию,
чтобы получилось противоречие? Пусть А отлично от В.
Что надо для того, чтобы А противоречило В? Очевидно,
надо, чтобы не кто-то другой утверждал, что А отлично
от 5, но чтобы само А активно свидетельствовало о своем
отличии от В. А не только будет отличаться от /?, но оно
еще будет специально подчеркивать это самое отличие от
Б, будет кричать об этом отличии. Однако выражения
«свидетельствовать», «подчеркивать», «кричать» являются
здесь, конечно, фигуральными; и как же можно было бы
выразить это в строгих диалектических категориях?
Свидетельствовать о том, что бытие есть именно бытие,
а не что-нибудь иное, само бытие может только путем
фиксирования своей твердой границы с этим иным. Бытие
здесь как бы доходит до своей границы, останавливается
на ней и, показывая на дальнейшее, как бы произносит:
а что дальше, то уже не бытие. Другими словами, для
получения не-белого надо 1) фиксировать само белое,
2) фиксировать все белое целиком, т. е. фиксировать его
с его собственной границей, и при этом 3) так фиксировать
белое с его границей, чтобы это было фиксированием
того, что находится за этой границей. Надо, чтобы мы
совершали акт полагания, но чтобы в то же время этот акт
полагания белого имел совершенно новый смысл, а именно
смысл полагания того, что за пределами белого. Что это
значит, выясняется тотчас же, как мы только привлечем
понятие границы. Ведь граница бытия и небытия есть, как
мы хорошо знаем, сразу и бытие и небытие. Но границей
можно пользоваться как некоторым слепым фактом, спе-
Α. Φ ЛОСЕВ
1 I
510
циально его не фиксируя, не осмысляя и не подчеркивая.
В таком виде ею и пользуется различие. Когда мы говорим,
что А отличается от В, то здесь мы фиксируем не
специально границу между А и В (хотя она фактически здесь не
может не быть), но фиксируем и сравниваем самое
качество А и В. Противоречие же подчеркивает именно самую
границу, полагает, осмысливает, делает своим предметом
именно границу. Следовательно, наше белое, положенное
вместе со своей границей, должно теперь полагаться
только как граница, а не как белое со всем своим
положительным содержанием, но именно как отрицание всего
прочего. Сама граница не есть ни просто белое, ни просто
не-белое, ни бытие, ни не-бытие. Но если мы эту границу
зафиксируем как такую, сделаем своим предметом, или,
попросту, положим как бытие, тогда она превратится в
кричащее отрицание. А это и есть противоречие.
f) В противоречии, стало быть (подчеркнем еще раз),
фиксируется ни просто бытие, ни просто не-бытие, но —
граница между тем и другим. Кроме того, граница эта не
просто тут имеется, существует, дана (т. е. не есть акт
полагания, не есть категория бытийная), но имеется как
таковая (т. е. «отражается» в «сущность», берется как
смысловая, а не бытийная категория). И вот когда мы
совершаем акт полагания, когда мы полагаем бытие, но
так полагаем, что по смыслу оно оказывается только
границей, то это и создает для нас категорию противоречия.
А так как граница есть совпадение бытия и небытия, то,
следовательно, противоречие и есть не что иное, как
совпадение бытия и небытия, осуществленное как бытие,
выраженное средствами бытия, положенное в сфере бытия,
данное для самого же бытия.
2. Такова смысловая характеристика того совпадения
бытия с небытием, которое само взято как бытие. Но, как
мы знаем (гл. II, <451>) 19* совпадение бытия и небытия
есть также и небытие, может рассматриваться как
небытие. Что получается отсюда?
а) Совпадение бытия и небытия, вообще говоря, есть
граница между бытием и небытием. Будем, как сказано,
рассматривать эту границу как инобытие, как положенную
в инобытии, для инобытия. В этом случае мы должны
представить себе, что не является белым, и представить
себе границу этого инобытия, т. е. тот крайний пункт,
до которого оно доходит. Когда мы имеем в виду противо-
САМОЕ САМО
ί=Γ)
511
речие, мы сначала берем само белое, потом берем его все,
чтобы стало видно, где оно кончается и где начинается
иное, и затем уже, фиксируя эту границу, активно
отбрасываем все это иное. Теперь же у нас совсем другая
картина. Мы берем все целиком не бытие, но инобытие и
говорим о границе не бытия, но инобытия. Как и в
противоречии, мы здесь достигаем границы бытия, но фиксируем
ее уже не как границу бытия, но — как границу инобытия.
Это ведь легко сделать, потому что бытие и небытие
вполне граничат одно с другим, так что одну и ту же
границу можно рассматривать и как границу бытия, и как
границу небытия. И вот мы, опять-таки фиксируя не что
иное, как именно границу, понимаем ее теперь уже как
границу небытия.
Отсюда, вместо прежнего противоречия получается
противоположность.
Ь) В самом деле, какая смысловая категория
соответствует тому соотношению, когда мы говорим: «белое —
черное», «светлое — темное», «сильное — слабое» и т. д.?
Черное, конечно, не является белым. Следовательно,
черное есть небытие белого. Но абстрактным небытием, т. е.
простым отсутствием, оно не может быть. Даже
противоречащее не есть просто отсутствие, а тем более —
противоположное. Наоборот, когда мы фиксируем черное, мы
фиксируем присутствие некоего вполне определенного бытия.
В инобытии белого цвета мы фиксируем некое
определенное бытие. Какое же? То, которое является крайним
пунктом этого инобытия, когда оно, максимально удаляясь от
бытия и пройдя себя всего, доходит до своей последней
границы, дальше которой идти уже невозможно. А это и
есть черное, если бытием для нас было белое.
Значит, противоположность, как и противоречие, тоже
базируется на выдвижении границы, т. е. совпадения
бытия и небытия, но, в отличие от противоречия,
фиксирует эту границу не для бытия, но для небытия, в целях
инобытия, в сфере инобытия, средствами инобытия, с
точки зрения инобытия. Поэтому можно просто сказать, что
противоположность есть совпадение бытия с небытием в
небытии.
3. а) Далее, остаются и еще не использованные для
сущности возможности, формулированные выше, в
диалектике чистых и непосредственных категорий бытия и
небытия. Именно, совпадение бытия и небытия может быть дано
Α. Φ. ЛОСЕВ
512
не для бытия и не для небытия, а сразу для них обоих, для
их одновременного и равнозначного совокупного обстоя-
ния. Поскольку совпадение бытия и небытия мыслится
нами, вообще говоря, как граница, и эту границу мы теперь
мыслим сразу и в бытии, т. е. для бытия, и в небытии, т. е.
для небытия, то здесь ни одна из этих различествующих
категорий нисколько не будет перевешивать над другой.
Здесь ни бытие не будет кричать, что оно есть именно
бытие, а не небытие (на манер противоречия); и небытие
не будет здесь успокаиваться в своем достижении
крайнего пункта и пребывать в своем самодовлении (на манер
противоположности). Мы будем здесь спокойно
фиксировать наше совпадение бытия с небытием, т. е. границу, и
будем спокойно озирать с ее точки зрения горизонты бытия
и небытия.
Это будет разность.
Ь) Разность уже предполагает и тождество (ибо то,
что разнится с бытием, должно быть, прежде всего,
тождественно самому себе, как й то, с чем разница), и различие
(ибо если что-нибудь разнится от другого, то оно уже и
подавно от него отлично) ; но она 22* сдерживает
смысловые тенденции противоречия и противоположности.
Она 22* именно их уравновешивает, принимая
превалирующее значение бытия в противоречии и небытия в
противоположности. Из всех этих категорий она 22* ближе всего
подходит к категории различия — однако совершенно с
ним не совпадая. Различие есть смысловое отражение
бытия, когда оно переходит в небытие; при этом в различии
хотя и подразумевается переход через границу (иначе
оно не было бы отличием одного от другого), но он
тут специально не фиксируется. В разности же, наоборот,
фиксируется именно самый переход в полагаемой им
границе, причем тут оказывается неважным, что во что
переходит и что от чего отличается, а важно только то,
чем они между собою отличаются, т. е. фиксируется их
граница при равновесном (и в то же время безразличном)
присутствии обеих сторон. Различие есть смысл самого
акта перехода от бытия к небытию; разность же есть
смысл, получающийся в результате этого перехода
границы. Точно: разница есть совпадение бытия и небытия,
данное как таковое и для бытия, и для небытия.
4. а) И вот только теперь, наконец, мы вплотную
пришли к становлению в чистом виде и к его отражению в
САМОЕ САМО
Г=1
513
сфере сущности. Какое-то отвлеченное становление есть
уже и просто в совпадении бытия и небытия, т. е. в границе,
ибо тут тоже есть характерная для становления сплошная
и неразличимая процессуальность. Однако она здесь еще
не развернута и дана как таковая в своей цельности. Она
есть или как слепой факт (в тождестве и различии),
или как осмысленный факт (в противоречии,
противоположности и разности), но осмысленный в своем
фактическом обстоянии, в своей, так сказать, абстракции, а не в
развернутом осмыслении. В противоречии бытие само
полагало себе границу, и — мы видим бытие в его
развернутом виде, дальше чего оно уже не могло идти, дальше
чего уже наступало небытие. В противоположности само
небытие полагало себе границу (или бытие наполняло
границу для своего небытия), и — мы получили
возможность пройти все инобытие до его крайнего пункта и тем
самым развернуть это инобытие. В разности мы
зафиксировали саму границу, но и тут мы развернули не ее, но
опять-таки прежние области бытия и небытия. И вот,
наконец, возникает вопрос: может ли существовать
граница для самой границы? Граница бытия есть, и граница
небытия тоже есть. Но есть ли граница самой
границы?
Сначала такой вопрос кажется бессмысленным, потому
что граница всегда что-нибудь отличает от чего-нибудь,
т. е. ограничивает то, чем сама она во всяком случае не
является; здесь же, явно, получается так, что граница
ограничивает сама себя. Однако затруднение это мнимое.
Действительно, граница не может быть границей для
самой себя в том смысле, чтобы отличать собою что-нибудь
другое. Граница является границей самой себя внутри
себя — не в смысле границы в бытии или небытии (тогда
она была бы границей самой себя), но в смысле самой этой
границы как таковой. Если мы возьмем ради примера круг,
то нужно будет представить, что мы полагаем (или ищем)
границу, скользя по самой его окружности. Границей
границы тут будет не граница в отношении внутреннего
соединения круга и не граница в отношении фона, на котором
нарисован круг, но — границей, отделяющей одну часть
этой окружности от другой. Ясно, однако, что такой
границы достигнуть невозможно, так как, сколько бы мы ни
двигались по окружности в поисках конечного пункта,
мы никогда такого пункта не найдем. Поскольку граница
17 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
514
чего-нибудь есть некое отношение этого последнего (ибо
она есть совпадение с иным) и отрицание границы есть
отрицание определенности, т. е. вечное достигание конца,
определенности, и вечное его ненахождение, постольку
здесь мы переходим уже к совершенно новой категории,
которую необходимо назвать становлением. Вот почему
граница самой границы есть бесконечное и сплошное
искание границы, или, попросту, становление.
Какой же сущностный аналог этого становления, как
оно «отражается» в сфере смысла?
К этому мы сейчас и перейдем.
6. СМЫСЛОВОЕ «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
1. Категории тождества и различия вскрывают
природу смысла только с очень общей стороны. Ведь категория
тождества «отражала» в «сущности» только ту простую
установку, что «бытие есть бытие». Другими словами,
категория тождества была в сфере сущности только
бытием, чистым актом полагания, непосредственно данным
и еще никак не оформленным. Категория же различия
была «сущностью» небытия, или перехода в небытие.
Сейчас мы можем не говорить о прочих категориях смысла,
выведенных нами раньше, потому что все они есть, как мы
видели, не больше как детали (или подготовка)
становления или детали (и разработка) тождества и различия.
Будем говорить об основном; и это есть тождество и
различие. И вот это самотождественное различие есть не
больше как только бытие в сфере сущности. Как в учении
о бытии сама категория бытия (и небытия) является
самой первой и самой абстрактной (а это для нас пока и
значит, что — наиболее бедной), так и в учении о сущности
категории тождества и различия есть только самый акт
полагания смысла и далеко еще не его оформление или
определенное конструирование. Сказать, что нечто
существует, и тем только и ограничиться в характеристике
данной вещи — это значит дать очень бедную, очень
абстрактную ее характеристику; это — та характеристика,
абстрактнее и общее которой уже не может быть ничего. Вот
чего мы достигли во всех предыдущих рассуждениях.
Ясно, что, положивши такое начало учению о смысле
(и о сущности вообще), мы должны и дать его конкретное
развитие. Наше самотождественное различие должно за-
САМОЕ САМО
515
цвести еще новыми красками, чтобы «смысл» в конце
концов получил свою настоящую физиономию.
2. а) Чистое бытие (в качестве первой категории
учения о бытии вообще) было только первой точкой на
некоем неведомом фоне. Небытие противопоставило ему
другую точку, в которую оно — в качестве первой точки —
перешло. Становление впервые рассматривает самый этот
переход, самый этот путь от одних точек бытия к другим.
Наше самотождественное различие, возникшее как
«отражение» разных точек непосредственно данного бытия,
теперь тоже погружается в становление,— и, конечно, уже
в свое собственное, специфическое становление, которое,
в отличие от чисто бытийного становления в пределах
первого символа, теперь именуется у нас смысловым.
Ь) Каждая эпоха или школа в истории философии
всегда выдвигает ту или иную категорию, ту или иную
интуицию, в которой она оказывается наиболее
компетентной или наиболее понимающей. Было, по крайней мере,
две таких мировых школы философии, которые выдвигали
на первый план проблему смыслового происхождения,
что и надо считать выражением нашего принципа
смыслового становления. Это — неоплатонизм и неокантианство.
Обе эти школы дают обильный материал для установления,
констатирования и понимания этого чрезвычайно важного
принципа. Но сначала попробуем вглядеться в него сами.
3. Если мы припомним «бытийные» категории, то
определенность и качественность бытия возникала у нас только
с категорией ставшего, наличного бытия. Значит, на
стадии становления мы еще не имеем законченного
оформления смысла. Здесь смысл именно только еще становится,
возникает. Тут еще нет лица, физиономии смысла, нет его
картинного и фигурного вида (или, как мы будем
выражаться в дальнейшем, тут еще нет эйдоса). Есть только
движение карандаша по бумаге; и при этом еще
неизвестно, какую фигуру этот карандаш вычертит. Таким образом,
смысловое становление нельзя преувеличивать со стороны
его оформления; оформленности здесь нет никакой.
Однако не надо и преуменьшать значения смыслового
становления. Оно есть все же становление смысла, т. е.
оформление смысла тут уже зародилось, в то время как простые
категории тождества и различия были только еще
наложением карандаша на бумагу и совсем еще не были реальным
движением этого карандаша.
17*
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—I
516
С другой стороны, смысловое становление мы получили
как границу границы. Это тоже рисует с большей яркостью
природу рассматриваемой категории. В смысловом
становлении, следовательно, уже поставлен вопрос о границе, и
даже поставлен очень специфически. Выше (<420>) 23*
мы уже видели, в чем заключается эта специфичность.
Граница полагает границу для самой себя: это значит,
что граница ищет своей определенности, двигаясь сама
вдоль себя. Но так как ясно, что на этом пути мы никогда
не можем найти никакой границы (а будем все время
двигаться, напр., по окружности круга, вечно проходя через
одни и те же точки), то граница границы есть не что иное,
как безграничность, сплошно становящееся искание
границы и вечное ее ненахождение. Отсюда и характеристика
смыслового становления.
4. а) Смысловое становление, или, как его называли
неокантианцы, «происхождение», прежде всего есть такое
состояние смысла, когда мы не можем найти в нем ни
начала, ни середины, ни конца. Ведь в становлении бытие
ежемгновенно гибнет. Правда, будучи совпадением бытия
и небытия, оно тут же и возникает. Тем не менее, однако,
становление есть сплошная неразличимость. Поэтому к
наиболее существенным чертам этого «происхождения»
относится то, что оно ни в какой степени не содержит в себе
ни начала, ни середины, ни конца, ни вообще какой бы то
ни было различимой точки. В тот самый момент, когда
выступает та или иная точка этого становления, тут же
происходит и ее уничтожение, ее снятие, как бы уход в
прошлое. Нам нужно решительно расстаться со всеми
предрассудками рационализма и раз навсегда перестать
думать, что какие-нибудь схемы, или формы, или какие-
нибудь завершенные системы имеют первичное значение.
Под всякой схемой, формой и системой кроется ее
«происхождение», ее, как мы говорим гораздо яснее, смысловое
становление. Поэтому смысл здесь является не чем-нибудь
устойчивым и постоянным, но вечно текучим, неугомонно
бурлящим источником; он именно сплошное и вполне
алогическое становление. Обычно всякое живое движение и
протекание люди относят к чувственному миру, а мысль и
понятия понимают сугубо статично, мертвенно,
неподвижно. Повторяем, с этими предрассудками необходимо
покончить раз навсегда. Есть подвижные и неподвижные
элементы в вещах; есть текучие и нетекучие состояния и в
САМОЕ САМО
I 1
517
области мысли, в области «сущности». Даже больше того.
Рассматриваемая категория, вообще говоря, не раз будет
фигурировать в области сущности, так что мы с полным
правом будем говорить именно о текучей сущности, или
о текучих моментах сущности.
b) Не только нельзя указать начала, середины и конца
смыслового «происхождения». Нельзя о нем и вообще
ставить какие бы то ни было вопросы. Наоборот, всякий
вопрос уже предполагает свое «происхождение». Кроме
того, ставя вопрос, смысловое происхождение тут же и
решает его или, по крайней мере, ведет к решению. Ведь
во всяком становлении скрыто и бытие и небытие. И
смысловое происхождение точно так же, с одной стороны,
выставляет ту или иную смысловую структуру, а с другой —
тут же ее и снимает, сливая тем самым эту структуру
в одно неразличимое становление, о котором решительно
ничего нельзя сказать определенного. «Нечто» и «ничто»
слиты здесь раз навсегда, и ни о каком их разъединении
не может быть и речи.
c) Неокантианцы, страдая многочисленными
философскими недугами, все же сделали очень много для
распространения правильных взглядов на этот Ursprung —
«происхождение». Что они отделили его от всякой бытийной
«данности», от всяких психических переживаний, от
всяких фактических «причин» и «законов», об этом едва ли
стоит и упоминать; это ясно. «Происхождение»
фиксируется ими только в сфере чистой мысли и только для
самой мысли. По Когену, в нем заложено и всякое нечто,
и переход этого нечто ко всему другому, совершаемый
при помощи ничто. В этом «происхождении» познание
само рождает себя. Здесь чистое сознание само себя
питает. Это — чистая деятельность мысли, которая сама для
себя является и окончательным содержанием, так что
«форма» и «содержание» слиты здесь в одну общую
деятельность чистой мысли. В «происхождении»
неокантианцы видели чистую самодеятельность сознания, его чистое
самопорождение.
d) Однако диалектически чище и прозрачнее их
рассуждали неоплатоники. У неокантианцев, исходивших все
же главным образом из гносеологии, мы находим
некоторую изначальную узость основной позиции. Они имеют в
виду, главным образом, интересы гносеологии, интересы
обоснования научного познания, почему вся их термино-
Α. Φ. ЛОСЕВ
ι ι
518
логия и все методы несут на себе следы этой
специфической точки зрения. Неоплатоники же хотели обосновать
бытие вообще, и потому их смысловое становление
гораздо общее и диалектичнее, в нем нет никаких следов
специально физико-математических и гносеологических
интересов в философии. Кроме того, неокантианцы в
классическую пору своего существования не доходили до
первопринципа в собственном смысле слова, и их
«происхождение» относится, главным образом, к логическим
процессам мысли. Они еще не знали, что существует перво-
принцип всего логического и алогического одновременно.
«Смысл» представлялся им главным образом как
логический смысл. Но в конце своей философской деятельности
П. Наторп дошел и до этой — уже чисто
неоплатонической — концепции, что означало, собственно говоря, конец
неокантианства и переход его уже на совсем небывалые
рельсы.
е) В нашей концепции смысловое происхождение,
связанное, как и все эти начальные категории бытия и
сущности, с самым самим, на деле резко отделено от него.
Самое само стоит у нас выше всех категорий и ни с какой
стороны не есть категория. Его 24* первые символы как
бытия — бытие, небытие и становление или, можно
сказать, становление просто (ибо оно и есть совпадение
бытия и небытия), и, значит, его24* первый сущностный
символ — смысловое становление, или «происхождение».
Таким образом, эта категория (или источник категории)
стоит у нас тоже выше всего, но над этим у нас
бескатегориальное самое само, которое в неоплатонических
характеристиках часто сливается с источником категорий, а в
классическом неокантианстве, вообще говоря, как таковое
просто отсутствует, что и самое это «происхождение»
делает происхождением, главным образом, логического и
рационального.
Для тех, кому непонятна природа самого самого, может
быть, более понятным будет в качестве первопринципа
становление. Оно ближе (правда, для нефилософов) к
реальному содержанию знания, и правду его поняли даже
рационалисты-кантианцы. В самом деле, смысловое
происхождение несет с собою все отождествления и все
различения, подобно тому как бытийное становление несет с
собою все акты полагания бытия/ и все его отрицания.
Тут в едином принципе заключена вся индивидуальность
САМОЕ САМО
Іі^—I
519
вещи и все ее инобытийные судьбы. Но только в самом
самом это дано в виде одной неделимой точки; тут же
это развернуто, так сказать, в целую линию. Принцип
смыслового происхождения, следовательно, обеспечивает
собою все те различения и все те отождествления, которые
необходимы для того, чтобы вещь была вещью. И тут в
одном смысловом потоке (или, если угодно, источнике)
заключены все те волны смысла, из которых состоит вещь;
тут сосредоточена вся та смысловая тревога и сущностное
беспокойство, которое предшествует оформлению вещи и
ее предопределяет. Очень важно научиться понимать
стихию смысла в ее текучести, напряженности, хаотичности,
в ее вечном творческом беспокойстве, в ее мощи создавать
самые условия для оформления. Смысл отнюдь не просто
устойчивость и неподвижность, окаменелость, не просто
оцепенелое понятие, которое старые метафизики понимали
в виде раз навсегда данной и мертвой вещи. Он тоже
бурлит, и прыгает, и пенится, и рыдает. И когда мы говорим
о смысловом происхождении, мы как раз имеем в виду
категорию, играющую роль принципа всякого осмысления,
в этом отношении даже не категорию, а скорее категорий-
ность самих категорий, тот первопринцип осмысления,
который обеспечит нам в вещи и все ее рациональное
содержание, и всю ее принципиальную текучесть. С одной
стороны, тут еще пока нет ничего, кроме сущности бытия
в ее собственном бытии и небытии, т. е. ничего, кроме
самотождественного различия, того первого, с чего вообще
начинается всякое осмысление. С другой стороны, тут еще
нет никакой законченной структуры смысла, нет никакого
ее оформления, а есть только самая сила, осмысляющая
всякую структуру, смысловая нить всякого сущностного
оформления. Если так, то, очевидно, вполне законно
именовать смысловое происхождение неким первопринципом,
и неокантианцы в этом случае тысячу раз правы.
f) Однако картинно изображать природу
«происхождения», так же как и становления вообще, очень большой
соблазн у тех, кто понял, в чем тут дело. Гераклит, Плотин,
Фихте, Г. Коген и П. Наторп, Шопенгауэр истратили здесь
очень много поэтических красок и дали ряд замечательных
и незабываемых образов и фигурных идей. Поэтому, чтобы
не сбиться с толку во всех этих увлекательных картинах,
необходимо не терять из виду нашей основной
диалектической установки. А она совершенно точно гласит: смыс-
А. Ф.ЛОСЕВ
ловое становление, или «происхождение», есть
самотождественное различие, данное как становление. Это
становление несет с собою все различения и все отождествления,
необходимые для конструирования вещи, но пока еще не
конструирует самую форму вещи.
5. В дальнейшем нам хотелось бы для иллюстрации
анализируемой категории привести реальные примеры из
рассуждений на эту тему в истории философии 25*
7. ЭЙДОС
1. Изучая философские системы в истории, нельзя
поддаваться вражде и ненависти, царящей между такими
направлениями, которые базируются на диалектически
связанных между собою основаниях. Казалось бы, и
враждовать тут совершенно не из-за чего. А однако, в первой
четверти XX в. рознь между кантианцами-трансцедента-
листами и гуссерлианцами-феноменологами была очень
велика, хотя принципы обеих школ таковы, что они
взаимно вполне предполагаются и требуются. Представители
«происхождения» (и связанных с этим понятий «гипоте-
зис», «метод», «чистая возможность») не понимали или
не хотели понять, что такое «эйдос» Гуссерля, как, правда,
и, наоборот, все подобные утверждения кантианцев
трактовались у феноменологов как метафизические и
произвольные. Попробуем рассуждать немного более спокойно
и не столь злободневно, и — мы тотчас же убедимся, что
кантианский «Ursprung» и гуссерлианский «эйдос» не
только не противоречат один другому, но скорее, наоборот,
они требуют друг друга и друг из друга выводятся.
Будем, однако, рассуждать, продолжая нить нашего
собственного диалектического исследования.
2. Мы знаем из диалектики первого символа, что
становление переходит в ставшее, что мы именовали также
наличным бытием и качеством. Переход этот совершается
так, что бытие, ушедшее в небытие и там исчезнувшее на
стадии становления, теперь, на стадии ставшего, вновь
находит себя, как равно и небытие, исчезнувшее в бытии,
теперь тоже вновь находит себя. Эти процессы достаточно
были изучены нами прежде. Теперь посмотрим, что
понимается из этого для «сущности», или «смысла», имея в
виду, что сущность есть в отношении бытия его
«отражение».
САМОЕ САМО
, I I .
521
a) Итак, до сих пор в сфере смысла мы имели, вообще
говоря, самотождественное различие. Это
самотождественное различие у нас становилось. Как в становлении
бытия бытие уходило в небытие и оставалось там
безвозвратно, так и в становлении смысла самотождественное
различие уходило в небытие и там оставалось
безвозвратно. Но вот мы сделали скачок к ставшему. В ставшем
бытие, ушедшее в небытие, вновь находит себя, и,
следовательно, самотождественное различие, уйдя в небытие,
вновь теперь находит себя. Однако в сфере досущностного
бытия бытие, чтобы превратиться в ставшее, находило
себя вполне слепо; оно просто слепо сталкивалось здесь
с самим собою и неожиданно натыкалось на само себя. Для
досущностного ставшего ничего другого и не нужно было.
Но сейчас мы находимся в сфере сущности, а сущность
есть рефлексия бытия. Мы, следовательно, должны
спросить себя: каков же смысл того обстоятельства, что
тождество, уйдя в небытие, встречает там себя, и какой смысл
того, что различие, уйдя в небытие, наталкивается там
на само себя, или, другими словами, возвращается там
к самому себе?
b) Как возникло ставшее? Оно возникло так, что в
чистом становлении, которое было до того времени только
сплошной неразличимостью, ввиду образования
остановки, оказалась возможность различения, оказалась
возможность различить начальный и конечный пункт
становления и вновь их отождествить, но отождествить уже
после различения, а не так сплошно, как до сих пор, до
различения. Следовательно, и в сфере смысла сначала, на
стадии становления, мы имеем тождество, которое сплошь
становится, так что еще не видно, что же именно и с
чем именно тождественно; и мы имеем здесь сплошь
становящееся различие, или, скажем, сплошь
наступающее, беспрерывно создающееся все заново и заново
различие, и — мы тут еще не знаем, к чему же ведет это
различие, откуда оно исходит и что именно является для
него целью. Необходимо совершить скачок от сплошного
и неразличимого становления к отдельно и расчлененно
ставшему, тогда — мы получаем, по крайней мере, две
точки нашего становящегося пути, о которых мы и сможем
сказать, что они тождественны и что они различны.
c) Следовательно, смысл как ставшее, как наличное
бытие, всегда есть некоторая структура, потому что он
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
522
всегда на этой стадии содержит несколько раздельных
точек, между которыми и разыгрывается диалектика
самотождественного различия. Сначала мы получили просто
самые категории тождества и различия, и ни о какой
структуре и даже вообще определении не возникало и речи.
Потом эти категории были пущены на сооружение некоего
здания, для которого они были бы определяющими; и,
пока это здание строилось, мы находились в сфере
смыслового становления, или смыслового происхождения. Но вот
здание окончено, выстроено. Наше внимание привлекают
теперь уже не просто сами по себе отвлеченные категории
тождества и различия, которые ни к чему не применялись
бы, и не просто самое строительство из этих категорий
чего-то нового. Мы теперь смотрим на самый результат
строительства. И мы видим: категории тождества и
различия остаются совершенно на том же месте, между ними —
та же диалектическая игра взаиморазделения и
взаимосовпадения; однако рассматриваются тут они нами не
самостоятельно, не сами по себе, но лишь как надетые
на особый костяк, полученный нами после скачка
становления к ставшему, так что мы отныне говорим не просто
«тождество», но «тождественное» и не просто «различие»,
но «различное», т. е. говорим о том, что приняло на себя
эти категории, что оформилось через них, что получило от
них свое определение. Вот почему перед нами здесь, по
крайней мере, две точки, о которых мы говорим, что они
тождественны или различны. А это значит, что этих точек
бесчисленное количество, ибо между каждыми двумя
всегда можно наметить еще третью. А это значит, что перед
нами тут уже некая структура — «нечто», или «качество»,
в котором проведено различение отдельных моментов.
Такую структуру мы и называем эйдосом.
3. а) Греческое слово «эйдос» означает «вид» в самом
широком смысле этого слова. Это по-гречески и чисто
чувственный вид, фигура, форма, картина, и чисто
сущностный «вид», т. е. наглядно, оптически данная сущность.
Почему необходимо привлечь для анализируемой здесь
категории как раз этот греческий термин? Дело в том, что
здесь действительно рождается нечто наглядное или,
вернее, воззрительное, хотя мы и находимся здесь только
в пределах сущности и даже только в пределах смысла.
Говорить о том, что наглядно и созерцаемо не только
чувственное, мы не будем. Весь этот труд в значительной своей
САМОЕ САМО
I I
523
части посвящен доказательству и просто обнаружению
того, что предметы ума, смысловые, сущностные предметы,
тоже наглядны, воззрительны, созерцаемы, видимы очами
ума. И здесь, в учении об эйдосе, мы только более
мучительно встречаемся с этой пресловутой и многообразной
«интеллектуальной интуицией». На самом же деле без нее
невозможно никакое выведение категорий, поскольку для
того, чтобы диалектически перейти к какой бы то ни было
последующей категории, необходимо первую категорию
o-граничить, о-предметить, отличить ото всего прочего;
а это проведение границы есть операция всецело воззри-
тельная. Кто не понимает, что совпадение бытия и небытия
есть, вообще говоря, граница, тот, можно сказать, ничего
не понимает в диалектике бытия и небытия; а граница дана
чисто зрительно, хотя и в то же время чисто
интеллектуально.
b) Что же касается эйдоса, то эйдос — на стадии
смысла как наличного бытия — тем только и отличается
от границы, что это есть законченная самозамкнутая
граница, в которой начальный пункт, от которого ее стали
вести, совпал с конечным пунктом, до которого она дошла;
та же граница, о которой мы говорили выше, в главе о
тождестве и различии (или о бытии и небытии), есть только
граница вообще, граница как принцип, граница, ведомая
пока неизвестно откуда и куда, граница без формы, без
определенной своей качественности. Эйдос есть поэтому
первое о-пределение смысла вообще, т. е. первое полагание
для него точных пределов, точных границ, в результате
чего перед нами здесь и появляется первая и наиобщая
структура смысла, в то время как до сих пор был только
вечно бьющий источник смыслового оформления, но не
самое оформление.
c) Для уяснения того, что эйдос есть первая структура
смысла вообще, т. е. первая его законченная
наглядность, необходимо иметь в виду следующее.
Вернемся к общей дедукции эйдоса. Он получился у нас
как результат встречи тождества и различия с самими
собой в бездне становления. Всмотримся в этот процесс
несколько пристальнее. Что значит, что тождество
встретилось с самим собою в своем становлении? Ведь это
может значить только то, что здесь произошла не просто
слепая встреча каких-то двух моментов становления
(начального и конечного). Это значит, что указанные два
А Ф. ЛОСЕВ
524
момента отождествились, раз идет речь именно о категории
сущности. Но раз они отождествились, это значит, что они
вступили в какую-то общую для них цельность. Они не
просто слились в прежнюю неразличимость. Они
отождествились после различения. А это значит, что различение
осталось, ибо вообще никакая прежняя категория не
исчезает, но она всегда остается — в том или в другом
виде — во всех последующих категориях. Но если
различение осталось, то ведь это и значит, что мы вступаем здесь
в некую наглядно данную цельную структуру. Ведь
структура — это и есть, говоря вообще, некая раздельная
совокупность моментов, находящихся между собою в том или
другом отношении.
Что тут перед нами совокупность моментов, это
совершенно ясно: ведь мы же начинали чертить свой круг
с какой-то одной точки и пришли к какой-то другой точке,
совпавшей с первой; кроме того, между первой и второй
точкой тут, разумеется, еще неисчислимая бездна точек.
Далее, что эта совокупность дана сразу, это — тоже
должно быть ясным, так как процесс становления круга
вовсе не совершается во времени, хотя бы мы фактически
и чертили его, скажем, полминуты. Круг ведь есть некое
цельное понятие, или — что в данном случае одно и то
же — геометрическая фигура; а то и другое дается сразу,
мгновенно, без всякого перерыва в своих моментах, без
всякого своего физического или временного разрыва.
Наконец, должно быть ясным на основании этого, что все
входящие в данную совокупность моменты должны быть
отождествлены в своей отнесенности к тому целому, что
представляет собою данная совокупность. Если бы этого
не было, совокупность не проявлялась бы сразу, т. е.
совокупность была бы в зависимости от того, как она
существует и является, т. е. она не была бы совокупностью как
ступенью смысла и сущности (ибо смысл, взятый сам
по себе, не подчинен никаким фактам и никаким
явлениям). Однако если смысл есть совокупность различенных
моментов, данных, однако, абсолютно одновременно и
потому с тождественной отнесенностью их к самой
совокупности, то ясно и то, что эта совокупность вполне сущност-
на и вполне интуитивна одновременно.
4. а) Мы раскрываем природу смысла. Эйдос и есть
смысл. Эйдос есть как раз ответ на вопрос: что такое
данная вещь или что значит данная вещь?
САМОЕ САМО
I——I
525
b) Эйдос есть смысл различенный, раздельный; внутри
его мы различаем те или иные подчиненные ему моменты.
Стало быть, эйдос построен на категории различия,
c) Но могут ли моменты эйдоса быть только
различными? Если бы это было так, то каждый такой момент
просто существовал бы сам по себе, без всякой отнесенности к
чему-нибудь и — больше ничего. И весь наш эйдос
рассыпался бы на множество абсолютно дискретных и не
имеющих никакого друг к другу отношения вещей, вещей, не
создающих из себя ровно ничего цельного. Итак, моменты
эйдоса должны между собой не только различаться. Но
что же есть еще кроме различия? Есть еще тождество или,
по крайней мере, сходство.
Возьмем сходство. Сходство есть не что иное, как
частичное тождество. Если я говорю, что Иван похож на
Петра, то это значит, что 1) во множестве своих признаков
Иван и Петр различны, но что 2) в некотором количестве
своих признаков они тождественны. Теперь возьмем не
Ивана и Петра, но наш отвлеченный эйдос, в котором
содержатся различествующие между собою моменты.
Возьмем каких-нибудь два из них, А и В. Пусть А и В
сходны между собою. Это, следовательно, означает, что
одной своей стороной — назовем ее Al—А тождественно
с ß, а другой — назовем ее А2 — оно различно с В.
Спросим: а в каком же отношении находятся А2 и Л, т. е.
та сторона Л, которая различна со, и всё А? Допустим
опять, что какая-нибудь часть этой части, напр. A3, в свою
очередь различна с целой частью Л2, а все остальное, что
есть в Л2, вполне тождественно с А2 (и тем самым,
очевидно, с Л и с ß). Тогда возникнет снова вопрос: а в каком
отношении находятся между собою A3 и А2? Нетрудно
заметить, что мы стоим тут перед дилеммой: или надо уже
с самого начала признать, что А целиком тождественно В,
без всякого разделения в этом отношении на Al, A2 и т. д.,
или надо раздробить все А на бесчисленное количество
дискретных частей и тем самым признать, что никакого А
как А не существует. Или А вполне и абсолютно
тождественно с 5, или нет вообще никаких А и В,
Другими словами, или эйдос состоит из каких-нибудь
раздельных моментов — тогда эти моменты абсолютно
тождественны между собою; или они только различны
(или хотя бы только сходны, а не тождественны)— тогда
в эйдосе вообще нет никаких моментов, т. е. эйдос вообще
А Ф ЛОСЕВ
не есть совокупность, т. е. эйдос не есть эйдос. Итак,
эйдос построен на категории тождества.
d) При этом совершенно нетрудно заметить, что в
пределах эйдоса совершается та же самая диалектика
тождества и различия, которую мы констатировали и раньше,
в учении о границе и становлении. Тут, стало быть, самое
обыкновенное самотождественное различие, но только
дано оно не средствами становления, а средствами
ставшего. Там оно было только принципом возникновения формы,
здесь же оно принцип самой формы. Там оно тонуло в
бездне неразличимого наплывания тех моментов, между
которыми устанавливались отношения тождества и
различия; здесь же оно применено к раздельно возникшему
целому, в котором все подчиненные моменты не тонут и не
исчезают, но остаются самими собой. Итак, эйдос есть
самотождественное различие, данное как ставшее, как
наличное бытие, как определенное качество, т. е. как
ставшее, как наличность, как качество смысла.
КРИТИКА
—н I—I
ПЛАТОНИЗМА
J L
У АРИСТОТЕЛЯ
fill ί
528
ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда профан берет в руки критическое издание какого-
нибудь греческого или римского классика или научный
перевод его на тот или иной язык, ему не приходят и в голову те
трудности, которые пришлось преодолеть издателю или
переводчику. Взять ли издательскую и редакционную задачу
с ее трудной, кропотливой и тонкой работой по сличению
рукописей и установлению правильного текста, взять ли
переводческий труд с необходимо требуемым здесь
хорошим знанием языка и терминологии писателя и умением
найти соответствующие аналоги в другом языке — все это
чрезвычайно ответственные вещи, и в особенности —
относительно античных текстов. Но, как признано почти всеми,
из античных текстов самый трудный и ответственный это —
текст Аристотеля. Я, переведший сотни страниц из
греческих философских текстов, могу прямо сказать, что
наибольшего труда требует именно Аристотель. Его текст очень
часто переходит просто в какую-то загадку. Гораздо легче
Платон, при всех поэтических приемах его языка и
диалектической утонченности его мысли, или Плотин и Прокл, при
всей их местами совершенно головоломной эквилибристике
понятий. Плотин и Прокл трудны не столько языком,
сколько своеобразием логической системы и тонкостями
диалектической антиномики понятий. Аристотель же,
кроме всего прочего, до чрезвычайности сух своим языком,
лапидарен, разбросан, фрагментарен, лаконичен. С каждой
его фразой приходится выдерживать в буквальном смысле
сражение, чтобы понять ее со всем ее контекстом и,
понявши, передать на русский язык. Хорошо переводить
сейчас Аристотеля немцам, у которых существует почти до
десятка прекрасных переводов Аристотеля с
комментариями и подробными примечаниями. Переводить же по-
русски, не имея никакой русской переводческой традиции и
работая в условиях, когда нет не только специалистов по
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
529
Аристотелю, но даже просто людей, достаточно в нем
осведомленных, это — настоящее мучение. Единственно, кто
мог оказать мне помощь, это — классические филологи.
И эта помощь огромная; без нее, конечно, нельзя было и
браться за античные переводы. Но всякому младенцу ясно,
что переводить можно, только понявши текст, что перевод,
собственно, и есть понимание. А как филолог поймет
Аристотеля, если сами философы спорят между собою в оценке
этого мыслителя? Можно ли переводить с немецкого языка
сочинение по дифференциальной геометрии лицу, которое
прекрасно владеет немецким языком и знает его научно,
но мало или ничего не понимает в математике? А между
тем многие «филологи» грешат именно этим. Не имея
философской школы ума, такие филологи переводят и Платона,
и Аристотеля, и что угодно другое и думают, что они тут —
авторитеты. Этому способствует еще обычный взгляд
обывателей на философию как на достояние всех и каждого,
доступное кому угодно, лишь бы только захотеть
философствовать. И что же получается? Получается, что очень
ученая филология, соединяясь с обывательской философией,
превращается в очень обывательскую филологию; и лучше,
конечно, было бы таким филологам сидеть за
историческими или политическими текстами и не браться за тексты
философские.
Имея все это в виду, я поставил себе цель, может быть,
даже невыполнимую. А именно, я хотел дать текст
Аристотеля без всяких изменений, т. е. дать не пересказ, а именно
перевод, максимально точный перевод Аристотеля, и в то
же время сделать его понятным. Собственно говоря, это
почти невыполнимо. Кто изучал, например, перевод Бо-
ница (изданный Велльманом), тот, конечно, удивлялся,
во-первых, необычайной точности этого перевода, а во-
вторых, его чрезвычайной непонятности. И ведь это не кто
иной, как Бониц, лучше которого, мне кажется, никто на
свете не знал Аристотеля. Перевод его очень точный, но,
по совести говоря, читать его иной раз почти невозможно.
С другой стороны, возьмите перевод Лассона. Это — очень
понятный перевод, данный не на каком ином, а на
человеческом языке, так что читается он простым смертным все
же без всяких сверхчеловеческих усилий. Но стоит
сравнить несколько фраз этого перевода с греческим
подлинником, чтобы сразу же найти всю разгадку этой
понятности. Именно, это — вовсе не перевод, а пересказ. И на этом
Α. Φ .ЛОСЕВ
530
пути, разумеется, можно достигнуть ясности всего, что
угодно. Мне не хотелось идти ни по одному, ни по другому
пути, но хотелось иметь преимущества обоих путей. И вот я
решил переводить так. Прежде всего, я стараюсь,
поскольку позволяет язык, передать точно фразу Аристотеля.
Затем, когда это выполнено, я всячески стараюсь сделать
ее максимально понятной. Для достижения такой
понятности я широко пользуюсь методом квадратных скобок, как я
его называю, т. е. начинаю вставлять пояснительные слова
после каждого выражения, содержащего в себе какую-
нибудь неясность или двусмысленность. Затем я всячески
стараюсь расчленить текст путем красных строк,
параграфов и всяческих подразделений. Обычно издатели
греческих текстов печатают их совершенно без всяких
подразделений (кроме основных, т. е. книг и глав), что составляет
огромные трудности при овладевании этими текстами. Я
же считаю f-лавнейшей своей задачей — дать максимально
понятный текст и потому не облегчаю себе труд
игнорированием абзацев и курсива. Получается (или, вернее,
должно получиться), что желающие иметь точное отражение
текста Аристотеля получают это отражение, а желающие
иметь удобочитаемый текст получают этот удобочитаемый
текст. Этот метод я широко использовал в многочисленных
переводах из Плотина и Прокла в своих книгах «Античный
космос и современная наука» (М., 1927 г.) и «Диалектика
числа у Плотина» (М., 1928 г.).
Тут, конечно, много неудобств. Не говоря уже о том,
что эти квадратные скобки чрезвычайно затрудняют и
усложняют переписку, набор и корректуру, они не могут не
представить некоторых трудностей в таких, например,
случаях, как цитирование. Получается не столько перевод,
сколько искусственный препарат перевода. Но что же
делать! Давать русскому читателю перевод вроде Боница —
еще рано. Давать пересказ — тоже не хочется. Нужно уж
примириться с этими небольшими неудобствами, тем более
что если бы читатель обратился к самому подлиннику, то
там его встретили бы трудности и неудобства (даже при
хорошем знании языка), совершенно несравнимые с этими
мелкими и внешними неудобствами; и он там нашел бы еще
худший «препарат», но только без ясного его уразумения.
А самое главное, это то, что я, давая перевод XIII и XIV
книг «Метафизики», рассматриваю свою теперешнюю
работу как предложение русскому ученому миру и как пробу.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
* 1 I
531
Пусть люди, знающие дело, выскажутся, какой именно
перевод Аристотеля нужен современной русской литературе:
точный ли, приблизительный ли, с многочисленными
пояснительными вставками или без них. При издании цельной
«Метафизики» (если «природа» еще пощадит мои силы) я,
конечно, приму во внимание все замечания и пожелания; и
возможно, что меня убедят идти только методом Боница,
или только методом Лассона, или еще каким-нибудь иным.
Предупреждаю, однако, что одна из самых центральных
книг «Метафизики», Ζ (VII), без пояснительных вставок
представит огромные трудности для понимания.
Нечего и говорить о том, что, пользуясь методом
квадратных скобок и постоянно прибегая к членению на
параграфы, отделы и подотделы, я, конечно, навязываю свое
собственное понимание и всего Аристотеля, и отдельных
его текстов, я даю этим свой анализ Аристотеля. Но тут
стыдиться нечего. Филология и есть, как говорил Бек,
понимание понятого. Только очень узкие филологи наивно
думают, что можно переводить как-то без своего
понимания, «объективно». Для меня тут нет никакого вопроса.
Конечно, я понимаю Аристотеля по-своему, и, конечно, это
понимание считаю правильным, ибо иначе я и не стал бы
считать его своим. И каждый переводчик также понимает
и считает свое понимание правильным, хотя часто
переводчики и любят прятаться за какую-то мифическую
«объективность» и думают, что сами они тут ни при чем. О моем
понимании можно спорить. Пусть, кто углублялся в это
дело, спорит и опровергает меня, а я буду опровергать его.
Это и будет значить, что русская наука наконец стала
заниматься Аристотелем.
В заключение скажу, что после стольких немецких
переводов и комментариев «Метафизики» (семь немецких и
один французский бессменно лежали у меня на столе во
время работы над Аристотелем), не говоря уже о всей
необъятной литературе по Аристотелю, я не мог и помышлять
о том, чтобы быть вполне оригинальным. Свое понимание
аристотелизма как системы (смею думать, оригинальное)
я уже выразил в специальном исследовании о понятии
«чтойности» у Аристотеля (см. в моей книге «Античный
космос и современная наука», стр.463—528) и в ряде
других очерков. Что же касается филологического аппарата
и толкования отдельных текстов, не зависящих от общего
понимания аристотелизма, то в этой области я не смел не
Α. Φ. ЛОСЕВ
532
быть послушным учеником Боница, Швеглера, Кирхмана,
Лассона, Рольфеса, Бендера, Б, С.-Илера и мн. др.
Местами я прямо использовал их комментарий и примечания,
где тот или иной текст находил у них свое классическое
разъяснение. Местами я воздерживался от этих
комментариев и кое-где спорил. Но судить меня за чисто
филологическую работу — значит не попадать в цель, так как я
работал здесь прежде всего как философ, а уже потом —
как филолог, насколько эти сферы могут быть отделены
одна от другой в современной науке.
А. Лосев
Москва, 8 августа, 1928 г.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I—I
533
1. Вступительные замечания. Вопрос о взаимном
отношении систем Платона и Аристотеля — большой и
трудный вопрос, на который все еще не дано ответа,
способного одинаково удовлетворить всех исследователей. В
предлагаемой мною сейчас небольшой работе этот вопрос,
конечно, тоже не может получить вполне достаточного
разъяснения. Это задача во всяком случае отдельного
специального исследования. Необходимо раньше этого
отнестись критически к тем обычным точкам зрения и к той
типичной терминологии, которые, к сожалению, до сих пор
остаются характерными для отношения большинства к
сравнительной оценке Платона и Аристотеля. К числу
таких квалификаций относится прежде всего оценка
Аристотеля как «эмпирика» в отличие от Платона как
«рационалиста». Правда, такая квалификация навеяна многими
рассуждениями и словесными выражениями самого
Аристотеля. Но это — чрезвычайно упрощенная и почти
грубая оценка. Она получается потому, что Платона обычно
излагают, так сказать, «сверху», с «идей», переходя далее
к чувственности, Аристотеля же, следуя его собственным
рассуждениям, излагают «снизу», анализируя в первую
голову учение о форме и материи, о движении и покое и т. д.
На деле же, если не поддаваться гипнозу
распределения материала в «Метафизике» Аристотеля, а давать
изложение аристотелевской системы в ее логическом порядке,
то придется начать тоже «сверху», а именно анализировать
сначала, напр., XII книгу «Метафизики», где дано учение о
Нусе, мировом Уме, вполне аналогичное
соответствующему учению Платона в «Политике» и «Тимее» и, как
известно, целиком влившееся в неоплатонизм. Этот Ум, Эйдос
эйдосов, излучает свои энергии и тем осмысливает и
оживотворяет все бытие. Уже одно это простое наблюдение
должно поколебать обычную убежденность в «эмпиризме»
Α. Φ ЛОСЕВ
534
Аристотеля и «рационализме» Платона. Однако я не
ставлю здесь своей задачей полную сравнительную оценку
Платона и Аристотеля, принципы которой я уже наметил \
а развивать которую предполагаю в особом специальном
труде. Я только хочу указать на то, что проблема
взаимного отношения платонизма и аристотелизма — очень
трудная и ответственная проблема и что разрешение ее
возможно только после преодоления длинного ряда
предрассудков, тяготеющих над всей исторической наукой в
области античной философии.
Предлагаемая работа хочет дать материалы для
возможного разрешения указанного трудного вопроса. Эти
материалы могли бы быть двоякого рода. Во-первых,
необходимо привести в полную известность и отчетливейшим
образом проанализировать все те тексты из Аристотеля,
которые сознательно преследуют задачи размежевания с
философией Платона и вообще задачи поставления себя в
то или иное к ней отношение. Во-вторых, необходимо дать
систематический анализ и сравнительную оценку всех
основных проблем и методов, занимающих внимание обоих
философов. Это — две совершенно разные задачи; и
возможно, что в конце концов их решения будут отчасти или
целиком противоречить друг другу. Тогда возникнет третий
вопрос о том, как их согласовать и почему получилось
такое противоречие. Настоящая работа ставит себе только
первую задачу, да и ту она разрешает не с исчерпывающей
полнотой. Как известно, Аристотель говорит о Платоне и
явно, и намеками очень часто. И часто это очень
интенсивная и агрессивная критика. Но больше всего эта критика
содержится все-таки в двух последних книгах
«Метафизики» — XIII и XIV — и отчасти в девятой главе I книги.
Вот эти тексты мне и хотелось бы в первую голову изучить
и преодолеть в них те трудности, которые обычно в корне
пресекают всякую научную, основанную на
первоисточниках попытку дать сравнительный анализ платонизма и
аристотелизма. Трудности эти велики, и разрешить их
случайно, походя, без специального исследования совершенно
невозможно. Поэтому я и ставлю здесь себе целью не
решение вопроса о взаимоотношении Платона и Аристотеля, но
лишь обследование критики платонизма у Аристотеля, как
она дана в упомянутых сейчас книгах «Метафизики».
1 Античный космос и современная наука, 393—398.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
Ін^ѵІ
535
2. Разделение XIII книги. XIII книга «Метафизики»
вполне отчетливо распадается на три основные части, не
считая вступления и заключения: 1) вступление (1-я
глава), 2) учение о математических предметах (гл. 2 —
критика платонизма и гл. 3 — собственное положительное
учение), 3) учение об идеях (гл. 4—5 — критика
платонизма), 4) учение об идеальных числах (гл. 6 —
классификация учений, гл. 7—9 — критика платонизма и
пифагорейства), 5) заключение (гл. 10). Попробуем дать
отчетливый обзор основных мыслей этих частей.
Вступление ставит основные вопросы всего
исследования. А именно, речь идет преимущественно об «идеях». Так
как и сам Платон, и в особенности его ближайшие ученики,
Древняя Академия, отождествили идеи и числа, то
Аристотель не находит возможным обойти молчанием эту
модификацию учения об идеях, тем более что она
претендовала быть единственной формой учения об идеях. Но
вопрос о числах имеет и самостоятельное значение, и потому
Аристотель выбирает такой путь для исследования.
Прежде всего, он хочет рассмотреть число и идею в отдельности,
а уже потом разобрать те учения, которые их
отождествляют. Действительно, это — наиболее естественный путь.
Раз о числах можно рассуждать и часто рассуждали
(напр., так и бывает всегда в математике) без
привлечения проблемы идей, и раз, с другой стороны, числа тоже
суть нечто своеобразное, совершенно отличное от идей, то
вполне естественным является сначала рассмотреть то и
другое в отдельности, а потом рассмотреть их как нечто
единое. Аристотель и посвящает 2-ю и 3-ю главы числу, или
«математическому предмету» самому по себе, 4-ю и 5-ю
главы — идеям самим по себе, а гл. 6—9 — идеальному
числу, где идея и число отождествляются и совпадают.
Итак, 2—3-я главы посвящены учению о чистом числе,
причем, как сказано, 2-я глава посвящается критике
платонической концепции, а 3-я — собственной
положительной установке.
3. 11 аргументов против «математического предмета».
Против Платона в рассматриваемом вопросе Аристотель
направляет во 2-й главе следующие 11 аргументов:
1) Математический предмет не может находиться в
чувственности потому, что «двум телам невозможно
находиться в одном и том же месте» (1076b 1).— Этот
аргумент, конечно, несостоятелен. Во-первых, ни Платон, ни
А. Ф.ЛОСЕВ
, 1 1
536
сам Аристотель не думают, что математический предмет
имеет чувственное значение, а только при этом условии
аргумент Аристотеля о несовместимости двух тел в одном
месте имел бы силу. По Платону, предмет математики —
идеален, а по Аристотелю, тоже «математические знания
относятся не к чувственному» (XIII 3, 1078а 3—4).
Во-вторых, это есть критика и всего учения самого же Аристотеля
о форме, которая есть не сама чувственная вещь, но ее
«смысл определения» (VII 4, 1030а 6), т. е. тогда не
существует реально и аристотелевская «форма». В-третьих,
Аристотелю принадлежит великолепная теория
совмещения идеальной «целости» с материальными частями 2, так
что он тут только притворяется, что не понимает Платона 3.
2) Если математический предмет существует в
чувственности, то тогда существуют в ней и все «прочие
потенции и природы» (1076b 1).— Этот аргумент также
несостоятелен в устах Аристотеля, по которому, всякая «чтой-
ность» и в чувственном не есть сама по себе чувственность,
будь то белый цвет, человек, круг и т. д. и т. д. (Ь 2—4).
3) Если математический предмет неделимо (и
идеально) присутствует в чувственной вещи, то неделимой
оказывается и сама чувственная вещь. Или делим и дробим
сам математический предмет (тогда делимость тела
сохраняется), или неделима никакая физическая вещь (тогда
остается идеальная неделимость чисел, геометрических
фигур и т.д.) (1076b 4—11).— Этот аргумент, очевидно,
есть модификация первого и основного; отличие его
заключается только в том, что тут взята не сама идеальность
тела как таковая, а лишь один частичный ее момент —
неделимость. Ясно, что, по крайней мере чисто
феноменологически (если не диалектически), эта апория неделимой
сущности и делимой материальности прекрасно разрешена
опять-таки самим же Аристотелем в указанной выше
проблеме отношения «чтойности» к целому.
4) Следующий аргумент выражен у Аристотеля
трудно, хотя его смысл и его ошибочность — совершенно при-
2 Напр., в вопросе об отношении «чтойности» к «целому» (изложено
в «Античн. косм.», 475—480) или в вопросе о перводвигателе (Античн.
косм., 456—463).
3 Тем более что Аристотель умеет очень хорошо говорить именно в
отношении к математике о совмещении умного и чувственного, напр.,
Met. VII 10, 1036а 11: «Умная материя присутствует в чувственном не
в силу (μή ή) чувственности,— как, напр., предметы математические*.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
537
митивны. Если геометрическая фигура, рассуждает
Аристотель, существует отдельно от чувственного тела, то
это можно признавать только в целях сведения более
сложного на менее сложное. Действительно, геометрическая
фигура проще и чище чувственной. Но тогда необходимо,
говорит Аристотель, и геометрическую фигуру сводить
на более простые элементы, т. е. на поверхности, линии и
точки, которые тоже окажутся все в абсолютном
разъединении. И тогда возникает вопрос: раз тел два, чувственное
и геометрическое, и они абсолютно разделены, то чем же,
собственно, занимается математика? И далее,— если
поверхностей три, т. е. чувственная, геометрически-телесная
и поверхность сама по себе, то не существует ли три
абсолютно различных геометрии поверхности? И если линий
четыре (чувственная, линия в геометрическом теле, линия
в поверхности и линия сама по себе), а точек — пять
(чувственная, точка в теле, точка поверхности, точка линии и
точка сама по себе), то не распадается ли такая точная и
определенная по своему предмету наука, как геометрия, на
совершенно несоединимые и абсолютно противоречивые
части? Итак, существование геометрической фигуры
отдельно от чувственной вещи — невозможно (1076b 11 —
39).— Этот аргумент страдает по крайней мере двумя
ошибками. Во-первых, Аристотель совершенно ошибочно
ставит в один ряд разницу между физическим и
геометрическим телом и разницу между теми или другими
моментами в пределах одного геометрического построения. В то
время как физические свойства тела нисколько не
способствуют математической точности, а, наоборот, всячески
уводят от нее, и вследствие этого необходимо совершенно
отвлечься от чувственных свойств и сосредоточиться на
одних геометрических,— в это самое время не только не
обязательно, но просто даже невозможно «сводить»
геометрическое тело на составляющие его поверхности,
поверхности — на линии и линии — на точки. Переход от
чувственного к геометрическому не имеет ничего общего с
переходами, происходящими внутри геометрического.
Постулировать первое еще совсем не значит постулировать
второе. И Аристотель тут опять забывает свое же
собственное учение о предмете математики (см. ниже, XIII 3) и свое
собственное учение об эйдетической и физической
цельности. Во-вторых, и в пределах геометризма он рассуждает
слишком формалистично. У него выходит так, что раз мы
А Ф ЛОСЕВ
538
говорим о теле, то о поверхности мы уже не имеем никакого
права говорить; получается, что у тела одна поверхность, а
та поверхность, которая берется без тела, но сама по
себе,— она уже совсем другая поверхность, не имеющая
ничего общего с первой. Если я имею в виду точку саму по
себе, то она, по Аристотелю, уже не имеет ничего общего с
точкой, взятой не сама по себе, но на линии или на
поверхности. Ясно, что это — чисто отвлеченная и
рационалистическая точка зрения, страдающая полным отсутствием
всякой диалектики. В таком случае цельная математика
разрушится даже и тогда, если смотреть на нее по
Аристотелю. Пусть мы согласимся, что математический предмет
неотделим от чувственного,— все равно Аристотелю
придется ведь считать поверхность чем-то более простым, чем
тело, линию — более простым, чем поверхность, и точку —
более простым, чем линию. Другими словами, и при его
собственной позиции придется считать, что нет единой
математики, и затрудняться вопросом, каков же
подлинный предмет математики.
5) Если предмет математики — вне чувственности, то и
предмет астрономии, Небо, и предмет оптики, зрение
(вернее, Аристотель хочет сказать, зримое), и предмет
гармоники, голос, звук,— окажутся все вне чувственности. Но
как же это может быть, если Небо, напр., движется? (1077а
1—9).— Этот аргумент также есть частный случай первого
и основного. И его опровергать нечего. Можно только
сказать по поводу астрономии, что опять-таки сам же
Аристотель нашел не только возможность, но и полную
необходимость учения о первом двигателе, который сам по себе
пребывает вне движения и в покое. А он есть ведь «эйдос эйдо-
сов» 4. Если Аристотелю понятно, как неподвижный эйдос
всего мира объединяется с мировым движением, то также
должно быть понятно ему и совмещение частичных эйдосов
мира с его частичными движениями.
6) Кроме чисел, фигур и проч. математики выставляют
еще различные общие суждения, напр. аксиомы и теоремы,
которые сами по себе уже не есть просто числа и фигурь^
Следовательно, если числа и фигуры — посредине между
чувственным и идеальным, то аксиомы и теоремы —
посредине между числами и фигурами, с одной стороны, и иде-
4 См. тексты из Met. ХП 6, приведенные у меня в «Античн. косм.»,
459—463.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 I ·
539
альным — с другой. Но срединное математическое,
говорит Аристотель, невозможно. Следовательно, невозможно
отдельно от чувственности и срединное в смысле аксиом и
теорем (1077а 9—14).
7) Несовершенная вещь по времени раньше
совершенной, ибо последняя из нее происходит. Но это — только
по времени, а не по субстанции. Субстанциально
предшествует целое, совершенное; и если нет (в принципе) целого,
то не может быть и его несовершенных частей.
Математический предмет, как абстрактный, а не просто
чувственный,— несовершенный. Следовательно, он только по
времени может предшествовать чувственности, но никак не по
субстанции ( 1077а 17—20).— Здесь — двусмысленность
термина «субстанция». Если это — в каком-то смысле
факт, вещь, то такое утверждение в отношении
математического предмета нелепо, потому что последний вовсе не
есть «субстанция» рядом с чувственными вещами и не
может предшествовать им по такой «субстанции». Если же
это — смысловая сущность, то математический предмет,
без всякого сомнения, «предшествует» чувственному, ибо
не чувственность его осмысляет, но он — чувственность.
Кроме того, совершенно непредставимо временное
предшествие математического предмета чувственному, как это
утверждает Аристотель. Математический предмет — не
вещь, но идея; и совершенно непредставимо, как он мог бы
быть охарактеризован при помощи временных или
генетических моментов. Он предшествует чувственной вещи, но
именно не по «времени» и не по «происхождению», но —
чисто логически.
8) Что делает математическую величину единой?
Чувственная вещь приводится в движение и функционирует
единообразно, напр. душой. Математическая же
величина — делима и количественна: как же она может быть
единой без чувственности? (1077а 20—24).— Этот
странный аргумент также противоречит философии самого
Аристотеля. Во-первых, единство даже чувственной вещи, по
Аристотелю, не зависит от чувственности, но от эйдоса и
«чтойности». Во-вторых, замечательное по ясности и
простоте решение вопроса о том, «чем достигается единый
смысл определения», дано в Met. VII 12, где это единство
опирается на «последнее различение» в роде, на тот
неделимый уже дальше эйдос, к которому приходит дробление
данного рода на виды (см. такое же решение этого вопроса
Α. Φ ЛОСЕВ
540
в VIII 6). Тут, стало быть, единство достигается не
чувственными, но чисто логическими и феноменологическими
средствами. Почему же мы должны иначе вести себя в
математике? В-третьих, упоминание о математическом
предмете как «делимом и количественном» страдает явным
смешением терминов. Число и геометрическая фигура
«делимы и количественны» вовсе не в чувственном смысле; и
эта «делимость и количественность» вовсе не делает вопрос
о единстве более трудным.
9) То, что позже по времени,— раньше по субстанции,
по сущности. Раньше всего — точка; позже по
происхождению следуют — линия, поверхность, тело, одушевленное
тело. Следовательно, по сущности раньше всего —
одушевленное тело. Теперь, если математический предмет
реально раньше чувственности, то он должен быть
одушевленным, т. е. должны быть одушевленные точки, линии
и т. д. А это невозможно (1077а 24—31).— Этот аргумент
опять предполагает, что кто-то учит о
вещественно-гипостазированном математическом предмете. На деле же
математический предмет только логически раньше
чувственного, он — проще в смысле абстракции. Поэтому он и не
обязан содержать в себе всю полноту бытия, включая
одушевленность.
10) Математический предмет не есть ни движущая
форма, или эйдос, ни материя, т. е. физическая вещь.
Следовательно, он не есть и самостоятельная субстанция,
сущность. Представим, что точки, линии и т. д.—
чувственны. Они окажутся чем-то мертвым, из чего нельзя ничего
построить (1077а 31—36).— Действительно, тут можно
согласиться с Аристотелем, что математический предмет не
есть ни эйдос, ни материя. Но это еще ничего не говорит
против его самостоятельности. Выше я привел текст из
самого же Аристотеля, указывающий на то, что в основе,
напр., геометрической фигуры лежит умная материя,
которая еще не есть умный эйдос, но уже не есть и чувственная
материя. А умная материя — вполне самостоятельный
принцип 5.
11) Последний аргумент этой главы есть вариация
аргумента № 7. Субстанциально предшествует то, что
«превосходит по бытию» (это неясное выражение я понимаю
5 Ср. тексты Аристотеля об умной материи, приведенные в «Античн.
косм.», 481—483.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
„ I I
541
натуралистически, т. е. субстанциальное превосходство
есть то, что выше, в аргументах № 7, 1077а 19, и № 9, 1077а
24, 26, называлось первенством по «происхождению»,
γενέσει) . Логически же предшествует то, что выделено из
цельного и конкретного как более простое и абстрактное,
могущее быть мыслимым и без этой конкретной цельности.
Математический предмет, рассуждает Аристотель,
конечно, предшествует чувственным вещам только
логически, а не субстанциально. Невозможно, чтобы одно и то же
предшествовало чему-нибудь и логически, и
субстанциально. Напр., белый цвет логически раньше, чем «белый
человек», потому что последнее предполагает белизну, а
белизна не предполагает «человека». Но это нисколько не
значит, что белизна есть самостоятельная субстанция,
предшествующая «белому человеку» субстанциально же
(1077а 36—Ы1).— Тут Аристотель, конечно, прав. Он не
прав только в том, когда думает, что вещественное гипо-
стазирование математического предмета есть учение
Платона.
4. Их сводка. Рассмотревши все эти 11 аргументов
главы XIII 2, попробуем выразить их в более краткой форме и
вместе с тем формулировать принципы, лежащие в их
основе. Внимательно сравнивая их между собою, мы
получаем возможность распределить их по отдельным группам.
а) Во-первых, аргументы № 2, 5 и 10 почти не имеют
характера именно аргументов. Что не только фигуры и
числа, но и все прочее эйдетическое должно, согласно учению
Платона, присутствовать и функционировать в
чувственности (№ 2), что астрономический предмет также
окажется вне чувственности (если вне ее всякий
математический эйдос) (№ 5) и, наконец, что математический
предмет не есть ни эйдос, ни материя (№ 10),— это все есть
одинаково учение и Платона и Аристотеля; и потому
аргументы эти у Аристотеля имеют только чисто словесный
характер. Они кажутся возражениями и сформулированы
как возражения, но они вовсе не есть возражения.
Во-вторых, аргументы № 1, 3 и 9 можно объединить с
той точки зрения, что все они предполагают
несовместимость гипостазированно-вещественного бытия
математического предмета с бытием чувственным. Именно: 1) два
тела не могут в таком случае занимать одно и то же место
(№ 1), 2) идеальная неделимость числа и фигуры приводит
к неделимости физического тела (№ 3) и 3) математический
А.Ф.ЛОСЕВ
, 1—1
542
предмет, как самый ранний по развитости субстанции,
должен быть одушевленным (№ 9). Тут, стало быть,
Аристотель имеет в виду противника, который представляет себе
числа и фигуры как вещи и, скажем для полной ясности,
как своеобразные чувственные вещи. Такие особые
чувственные вещи, как чувственные, и в особенности как особые,
конечно, несовместимы с обычной чувственностью.
В-третьих, аргументы № 4, 6 и 8 также представляют
собою заметно одну группу. Эти три аргумента основаны
на той мысли, что гипостазированно-вещественное бытие
математического предмета абсолютно отлично от
чувственного бытия. В самом деле, 1) Аристотель думает, что, по
учению его противников, точка, взятая сама по себе, не
имеет ничего общего с точкой, взятой на линии, а точка,
взятая на линии, не имеет ничего общего с точкой на
поверхности и т. д. и что, таким образом, геометрическое
тело абсолютно не имеет ничего общего с чувственным
телом (№ 4). 2) Он думает также, что не могут существовать
изолированно от чувственности и аксиомы, и, таким
образом, навязывает своему противнику учение о полной и
абсолютной метафизически-дуалистической раздельности
числа и вещи, аксиомы и фактического события (№ 6).
3) Аристотель думает также, что математический предмет
настолько далек, по противному учению, от чувственности,
что он не может сам определять свое собственное единство,
ибо предполагается, что только чувственность может
создать в предмете его единство (№ 8).
Наконец, в-четвертых, в аргументах № 7 и 11
Аристотель пытается вскрыть подлинную природу превосходства
математического предмета над чувственным. Именно,
числа и фигуры раньше по времени и происхождению и
позже по своему логическому совершенству (№ 7); и, с
другой стороны, они, будучи позже по своему
вещественному воплощению, раньше чисто логически, как логически
более простые формы (№ 11). Другими словами, логически
раньше — математика, вещественно — физические вещи;
а если представить себе, что математика и вещественно
раньше, то числа и фигуры должны иметь максимум
вещественной полноты, т. е. быть одушевленными.
Ь) Можно еще короче выразить аргументы,
развиваемые Аристотелем в Met. XIII 2. А именно, платонизм,
по учению Аристотеля, есть абсолютный метафизический
дуализм идей и материи, так что математический предмет,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
543
как относящийся к идеям, будучи совершенно отличным от
чувственных вещей (аргументы 4, 6, 8), ни в какой мере не
может с ними совместиться (аргументы 1, 3, 5). Таково ли
в действительности учение Платона, и если не таково, то
что же могло заставить Аристотеля рассуждать именно
таким образом,— об этом мы будем говорить
впоследствии.
Теперь же, накануне собственной положительной
концепции, Аристотель констатирует, что во всех предыдущих
критикуемых им случаях плохо было, собственно говоря, не
то, что математический предмет не мыслился как
чувственный, но то, что он мыслился в отделении от чувственности.
Другими словами, надо так «отделять» математическое от
чувственного, чтобы это было не вещественным, а чисто
логическим отделением. Аристотель не только не против
такого логического «отделения», но, наоборот, оно-то и
является основным в его собственной концепции
математического предмета. Стало быть, тут мы убеждаемся еще раз,
что Аристотель направляется, собственно говоря, против
метафизического дуализма, но не против логической
чистоты математического предмета (1077b 14—17).
Теперь перейдем к его собственной концепции.
5. Собственное учение Аристотеля о математическом
предмете, а) Эта концепция выражена у Аристотеля в XIII
3 совершенно просто и ясно, и Аристотель в данном месте
не дает никакого детально развитого учения. Она сводится
к тому, что математический предмет ровно не теряет ничего
в своей ясности, отчетливости и самостоятельности, если
мы перестанем его овеществлять и гипостазировать.
Математический предмет не имеет никакого особенного, только
ему одному свойственного осуществления и воплощения,
которое отличалось бы от чувственных вещей.
Существуют, говорит Аристотель, чувственные вещи; и этого
достаточно, чтобы субстанциально существовали числа и
фигуры. Никакого иного бытия не требуется признавать для
утверждения бытия математического. Итак, бытие
математическое — абстрактное бытие. И в этом смысле оно
вполне реально и самостоятельно. Без всякого специального
гипостазирования числа и фигуры продолжают оставаться
вполне определенным и самостоятельным предметом; и для
них существует особая, такая же определенная и
специфичная наука. Как факт, как вещь — они суть чувственные
вещи, и никакие другие. Но чтобы изучать именно их, а не
Α. Φ,ЛОСЕВ
-J L-
544
что-нибудь иное, мы должны начать рассматривать
чувственные вещи не постольку, поскольку они чувственны, но
поскольку они — тела, поверхности, линии, точки и т. д.
Мы отвлекаемся в этом цельном чувственном факте от его
чувственности и сосредоточиваемся на его абстрактном
контуре, на его фигуре и числе, и — мы становимся
математиками. Полученный таким образом предмет — прочнее
и точнее чувственного: он менее случаен и уже не содержит
в себе той постоянной текучести и неустойчивости,
которая так характерна для всего чувственного. Никогда
однофутовая линия не есть на самом деле однофутовая;
эмпирически и телесно она всегда гораздо сложнее и
изменчивее. Тем не менее математически геометр в полном праве
считать данную линию именно однофутовой и данный
несовершенно нарисованный круг — правильным и идеальным
кругом. Это возможно только благодаря абстракции.
Конечно, такую абстракцию уже нельзя считать полным и
цельным бытием: она — не «энтелехийна», она — чистая
потенция, бытие только в возможности. Тем не менее она в
этом своем качестве вполне реальна, вполне определима;
она — вполне определенный предмет специфично
направленной мысли. И все это — без всяких сверх-чувственных
фактов числа, без всякого вещественного
гипостазирования фигуры (кроме того фактического гипостазирования,
которое свойственно всему чувственно-сущему).
Ь) Таково это простое учение Аристотеля о
взаимоотношении математического и чувственного предметов. И
мы можем сейчас же определить его характер в сравнении
с учением платоновским. Мы теперь отчетливо видим, что
критика платонического «отделения» отнюдь не есть
утверждение полной неотличимости математического
предмета от чувственной вещи. Хотя местами критика
Аристотеля и получает такой вид, как будто бы математическая
и чувственная вещь есть логически одно и то же,— на
самом деле аристотелевская «форма», аристотелевская
«чтойность», аристотелевское «единство», аристотелевские
«математические предметы» совершенно отличны от
чувственной вещи и логически они даже несравнимы с нею. Тут
Аристотель вполне стоит на точке зрения платоновского
«отделения». Разногласие с Платоном начинается с той
поры, как только возникает вопрос о гипостазировании
отделенного. В проблеме этого гипостазирования и кроется
все существенное расхождение платонизма и аристотелиз-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I——1
545
ма. Однако тут надо быть очень точным в изображении
этого расхождения.
Мне не хочется сейчас вдаваться в анализ
платоновских текстов, так как это, чувствую, слишком расширит
мой очерк. Но, ссылаясь на свои другие труды, я
категорически утверждаю, что у Платона нет такого гипостазирова-
ния идей и чисел, какое приписывает ему Аристотель, Но
вот интересный вопрос: почему Аристотель приписывает
такой математический дуализм Платону? Указание на их
эмпирическое и личное расхождение, конечно, ни о чем не
говорит; это не есть факт историко-философский. Должны
быть указаны какие-то существенные свойства самих
систем Платона и Аристотеля, которые обусловливают такое
расхождение и делают понятной критику Аристотеля.
с) После вышеприведенного краткого изложения
доктрины самого Аристотеля мы ясно видим, что позиция
Аристотеля в отношении математического предмета чисто
описательная, феноменологическая в современном смысле
этого слова. Он не отрицает фактов, а, наоборот, признает
их, как они существуют, но он воздерживается от суждения
о них, когда заговаривает о математическом предмете. Он,
в сущности, продолжает оперировать все с теми же
реальными фактами, но рассматривает их не как таковые, но
со стороны их смысла, и притом специфического смысла,
т. е. со стороны чисел и фигур. Смысл этот есть реальный
смысл, но он не есть факт, не есть «естественная
установка». Он дан только в возможности. К нему, собственно
говоря, даже неприменимы предикаты реальности,
нереальности, вещи, времени, вообще чего-нибудь из
«естественной установки». Это не значит, что он не реален. Он
вполне реален. И все-таки он не есть фактическое бытие.
Такую позицию Аристотеля я могу понять только как чисто
описательную и феноменологическую.
Совсем другую картину представляет собою
платоническая концепция формы, идеи или числа, фигуры. Для
Платона нет никакого разделения на чувственные вещи и
идеи: чувственные вещи для него — тоже некая
модификация идеи. Для Платона все решительно одинаково
«идеально» и «реально». «Вещи» и «идеи» суть для него прежде
всего не описательные, а чисто диалектические принципы.
Они пребывают в антиномико-синтетическом равновесии и
взаимообщении. Вещь не есть идея, но она же и есть идея;
идея не есть вещь, но она же и есть вещь. Вещь реальна, но
18 Α. Φ Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—— I
546
она есть и нечто идеальное; идея — идеальна, но она есть и
нечто реальное, вещественное. Тут диалектическая антино-
мика и равновесие, в то время как у Аристотеля
вещественно гипостазированы и единственно реальны факты
чувственной действительности, а фигуры и числа — только
абстрактны и идеальны, только невещественны; и строжайше
запрещается у него говорить о каком-нибудь их гипостази-
ровании, кроме чувственного.
d) Легко понять теперь, в каком виде должны
предстать друг пред другом обе философские системы.
Аристотель, отвергающий диалектику в смысле сущностного
метода и ставящий ее на одну доску с риторикой, конечно,
рассуждает формалистически: бытие есть бытие, и больше
ничего, т. е. чувственное бытие и есть единственное бытие;
идеи же суть только смысл в возможности, и всякое
оперирование с ними как с самостоятельными принципами уже
трактуется им как натуралистическая метафизика, и
притом как дуализм. Платон и не думал гипостазировать идеи
и числа так формалистически и натуралистически, как это
только и может быть понятным Аристотелю. Он требовал
антиномики: если вещь имеет идею (а это со всеми
здравомыслящими утверждает и Аристотель), то вещь и есть, и не
есть эта идея, а также и сама идея и есть, и не есть вещь,
причем «есть» употребляется здесь везде в одном и том же
смысле (не только в разном). Аристотель же
принципиально стоит на точке зрения закона противоречия, и потому
раз уж вещь есть вещь, то идея не может быть вещью, и раз
идея есть идея, то она не может быть в одно и то же время и
в одном и том же смысле вещью. Понятно, что всякое гипо-
стазирование идеи и числа (кроме чувственного) есть для
Аристотеля дуалистическая метафизика.
e) От Платона не осталось возражений на учение
Аристотеля. Но, ставши на его точку зрения, мы могли бы так
говорить с Аристотелем. Вот вы говорите, что в математике
вы изучаете чувственную вещь не в меру ее чувственности,
но в меру ее фигурности, количественности и т. д. Что же,
вы изучаете ту же вещь или не ту же? Если вы изучаете
чувственную вещь со стороны ее не-чувственных свойств,
то все же вы продолжаете изучать ту же самую
чувственную вещь или что-нибудь другое? Если вы продолжаете
изучать (после перехода в область математики) ту же
чувственную вещь, то почему вы не скажете, что математика
есть учение о чувственных вещах, т. е., напр., физика или
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
547
биология? Если же вы после перехода в область
математики стали говорить уже не о той чувственной вещи, с
которой начинали, но о чем-то совершенно другом, то почему
вы говорите, что предмет математики неотделим от
чувственности? Другими словами, аристотелизм стоит перед
дилеммой: или надо растворить все математическое в
чувственном и сказать, что математика есть физика; или надо
признать, что математический предмет не имеет ничего
общего с чувственным бытием, и гипостазировать числа
как особые своеобразные метафизические субстанции.
Перед этой дилеммой стоит всякая формальная логика; не
выпутывается из нее и Аристотель. Перед этой дилеммой
стоит, конечно, и всякая феноменология. С точки зрения
феноменологии, эйдос, конечно, не есть вещь. Но когда вы
скажете феноменологу: «Значит, вы оторваны от вещей и
сознательно не изучаете их?» — он вам ответит:
«Помилуйте, эйдос и есть эйдос вещи, и через эйдос я вижу самую
вещь». И непонятно: что же, в конце концов, эйдос и вещь
есть абсолютная единичность и неразличимость (а только
при этом условии и можно говорить, что эйдос есть эйдос
вещи и что в эйдосе дан смысл вещи) или они есть нечто
различное (а только при этом условии феноменология есть
нечто, и только так можно через эйдос иметь самую вещь) ?
Описательно — и да, и нет. Но для формальной логики (из
пределов которой феноменология не выходит) это —
противоречие, т. е. ошибка. Надо выбрать или одно, или
другое. И совсем другая позиция диалектики. Для диалектики
это — тоже противоречие, но это — не ошибка, а
логически необходимая антиномико-синтетическая система
понятий: вещь и идея и абсолютно различны, и абсолютно
тождественны между собою, и притом — в одно и то же время
и в одном и том же отношении. Развивать эту диалектику
я не стану, а отошлю интересующихся к другим своим
работам, излагающим Платона 6.
Теперь нам должна стать ясной вся несовместимость
платонизма и аристотелизма; и мы видим, что тут дело
вовсе не в эмпиризме Аристотеля и рационализме Платона,
вовсе не в позитивизме Аристотеля и мистицизме Платона,
но единственно в том, что аристотелизм, это —
формальная логика и описательная феноменология, платонизм
6 Напр., вся основная антиномнка Платона изложена в «Античн.
косм.», главы 4—6.
18*
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
548
же — диалектика и объяснительная теория. Для
Аристотеля учение о том, что в математике полагается
«неотделенное отдельно» (1078а 21—22), не выходит из пределов
формальной логики; для Платона же оно может быть
понято и принято только чисто диалектически.
6. Критика «идей» Платона Теперь нам легче будет
разобраться и в аристотелевской критике учения Платона
об идеях. Как мы помним, Аристотель собирался сначала
говорить только о математических предметах, потом —
только об идеях и, наконец, об идеально-математических
предметах. Первое мы усвоили. Теперь на очереди критика
«идей» в XIII 4—5.
Прежде всего, Аристотель указывает на историческое
происхождение учения об идеях. Оно получилось как
синтез гераклитизма с сократовским учением об общих
определениях. Бытие, которое только течет и меняется, не
может быть предметом знания. Это и заставило Сократа
перейти именно к проблеме предмета знания. Платон же,
объединивши обе концепции, назвал то, что посреди
сплошного потока становления остается неизменным и
нетекучим, идеями. При этом Сократ не отделял своих общих
определений от вещей и не гипостазировал их, Платон же
сделал и этот шаг. Так возникло знаменитое учение
Платона об идеях (XIII 4, 1078b 12—32).
1) Это учение несостоятельно потому, что получается
бессмысленное нагромождение принципов для каждой
чувственной вещи требуется своя идея, для каждой группы
и класса вещей — опять своя собственная идея; или: роды
вещей имеют свою идею, группы идей — опять новую идею,
и т. д. (1078b 32—1079а 4).— Этот аргумент, разумеется,
ничего не доказывает Пусть у каждого дома своя идея,
у отдельной группы домов — опять своя идея, у всех
домов — опять новая идея: что же тут особенного?
По-видимому, Аристотель и здесь продолжает стоять на точке
зрения формалистического дуализма, подобно тому как он
рассуждал выше, в критике чисел, напр. в аргументе № 4,
т. е., по его воззрению, идея дома не имеет ничего общего с
самим домом, идея определенной группы домов не имеет
ничего общего с идеей отдельного дома, и т. д. и т. д. Но
этот дуализм совершенно преодолен в диалектике, и
Аристотель напрасно приписывает его Платону.
2) Идеи существуют для всего, что познается как
общее. Но тогда есть идеи отрицания, идеи преходящего, от-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
549
носительного и даже уже исчезнувшего, так как общее
представление имеется и обо всем этом (1079а 4—11).—
Тут тоже нет ничего страшного для Платона. А почему же
не быть идеям отрицания, исчезновения и прошлого? Это
страшно для Аристотеля потому, что он, овеществляя идеи,
думает, что раз дана идея отрицания, то она сама себя
отрицает, или раз дана идея исчезнувшего, то это значит,
что исчезла сама идея. Но такой натурализм совершенно
не свойствен платонизму, и последний может совершенно
без всяких противоречий с самим собою говорить о сущей
идее не-сущего, о неисчезнувшей идее исчезнувшего и т. д.
3) Платоники говорят, что раньше реальной двойки
существует идея двойки. Но они же говорят, что еще
раньше идей существует отношение. Таким образом, они сами
не знают, что же, собственно говоря, является у них
первичным бытием (1079а 14—19).— Это уже совсем не есть
какой-нибудь аргумент. Если Аристотель имеет в виду
платоническое учение о первоедином, то это — вполне
правомерная проблема диалектики. Если Аристотель имеет в
виду проблему «общения» идей, то это тоже один из
пунктов платонической диалектики. Во всяком случае
удивляться тут нечему, и удивляться тут может опять-таки
только формальная логика.
4) Вещи, по Платону, существуют только через
причастие к идеям. Но это значит, что существуют идеи только
для субстанций, так как вещь через участие в идее
определяется именно субстанциально. По Платону же,
существуют идеи не только субстанций, но решительно всего, о
чем только возможно знание. Значит, платонизм
противоречит сам себе (1079а 19—31).— Этот аргумент также не
имеет серьезного значения, потому что если все
чувственное участвует в идее, то это касается и субстанций и
акциденций; и в идее есть аналоги решительно для всего, что
только существует в чувственном. Черта формализма в
мышлении Аристотеля видна и здесь. Раз утверждается
субстанциальное определение, то, значит, думает
Аристотель, уже не допустимо никакое акциденциальное или
субстратное определение.
5) Далее, Аристотель в тройном смысле понимает
взаимоотношение идеи и вещи и повергает критике каждый из
этих трех способов понимания.— а) Во-первых, допустим,
что между идеей и вещью есть нечто общее. Это вполне
допустимо, потому что платоники сами же говорят, что
Α. Φ. ЛОСЕВ
550
идея есть нечто единое и общее для разрозненного
чувственного: да и почему эта общность и тождество существует
в вещах, существует в идеях и в то же время не может
существовать сразу для вещей и идей? (1079а 31—36).—
Тут, по-видимому, Аристотель делает упрек в т. н. третьем
человеке (ср. выше, 1079а 14). Этот упрек совершенно
несостоятелен. Конечно, раз идея есть идея вещи, а вещь
несет на себе идею,— между ними не может не быть чего-то
общего. Но зачем же это общее представлять себе опять в
виде какой-то одинокой, изолированной и метафизически
гипостазированной вещи? Вовсе тут не получается
никакого «третьего человека», а получается некая новая форма,
средняя между идеей и вещью, которая уже не есть ни
чистая идея, ни чистая вещность. В платонизме тут мы
находим учение о символе, у самого же Аристотеля тут дается
великолепная концепция «чтойности», являющейся как раз
тождеством идеи и материи 7. Аристотель, вероятно,
понимал свое учение о «чтойности» и «метаксю», но
платоновского «метаксю» он не понимает.
b) Во-вторых, можно допустить, что между идеей и
вещью совершенно нет ничего общего. Но тогда их
объединяет только имя, как если бы назвали человеком и Каллия,
и кусок дерева (1079а 36—ЬЗ).— Этот случай, конечно,
нелепый. Но ведь и Платон не думает так. Наоборот, весь
платонизм есть не что иное, как теория «участия» вещей в
идеях и диалектика взаимосвязи того и другого.
c) В-третьих, высказывается еще одна возможность,
которая выражена у Аристотеля так отвратительно, что
нужно целыми часами сидеть над этими девятью
строчками, чтобы уразуметь то, что имеется здесь в виду. Смысл
этого аргумента, как я понимаю, сводится к следующему.
Вещь и идея имеют нечто общее, и это общее есть общее
понятие. Что такое общее понятие в отношении к вещам,
это известно и малоинтересно. Но что такое общее понятие
в отношении к идее? Оно, говорит Аристотель, приписывая
эту мысль, очевидно, Платону или платоникам, вполне
соответствует идее, но только для получения идеи к
понятию надо прибавить один момент. Этот момент сводится к
тому, что мы начинаем примышлять, чего именно, какой
вещи данное понятие является понятие. Надо сказать, что
такими словами Аристотель вполне правильно описывает
7 Это вскрыто мною в «Античн. косм.», 480—483.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
»——— ι
551
отличие идеи от понятия, но только это выражено у него
чересчур популярно и нетехнично (для Платона).
Действительно, идея отличается от понятия своей картинностью,
смысловой образностью; и она, конечно, содержит в себе не
просто отвлеченный смысл, но как-то и самую вещь (правда,
в умном смысле). И вот Аристотель следующим образом
возражает против такого понимания идеи. К чему,
собственно, вы будете прибавлять «вещь», спрашивает он. Пусть
мы имеем общее понятие (или, что то же, определение)
круга. «Вещь» круга можно прибавлять к «центру», к
самой поверхности круга или ко всем моментам определения
круга. Куда вы будете прибавлять? Ведь каждый момент
понятия должен быть превращен в идею; тут все только
идеи. Во-вторых, неизвестно, рассуждает Аристотель, как
же осуществится такое прибавление, если «прибавка»
будет внешним родом в отношении отдельных моментов
понятия, которые станут тогда для него уже отдельными
видами (1079b 3—11).— Если я правильно разобрался в
большой словесной неясности, которой отличается этот
аргумент, то его легко подвести под общую характеристику
аристотелевской критики как
формалистически-дуалистической. Первое затруднение Аристотеля сводится к тому,
что он никак не может понять, как отдельные моменты
определения соединяются в одно целое и неделимое.
Отсюда ему непонятно, к чему именно прибавляется
«прибавка». Во втором же случае затруднение его состоит в том,
что ему непонятно, как род может объединиться с своими
видами. Таким образом, оба этих возражения есть отказ
от понимания того, как объединяются и отождествляются
общее и частное. Аналоги подобных рассуждений у
Аристотеля многочисленны. И мы уже видели, что
феноменологически Аристотель очень хорошо умеет отождествлять
общее и частное. Мы приводили и некоторые тексты. Но
это, конечно, недоступно ему антиномико-диалектически; и
отсюда вся неясность для него проблемы отличия «идеи» от
«общего понятия».
7. Продолжение. Таковы аргументы XIII 4. В главе
XIII 5 они продолжаются.
6) Допущение идей совершенно бесполезно, потому
что: а) они, будучи отвлеченными сущностями, не есть
причина ни движения, ни вообще какого-нибудь изменения
(1079b 14—15); b) они, не будучи субстанциями вещей,
нисколько не объясняют знания о вещах (15—17); с) будучи
А. Ф.ЛОСЕВ
f I
552
вне того, что участвует в них, они не объясняют и бытия
этого участвующего (17—18); d) не суть они причины
вещей и в смысле определения их акциденций (18—23).—
Все эти аргументы основаны на дуалистической
метафизике идей, против которой сам Платон привел
неотразимые доводы в «Пармениде». «Причину» Аристотель
понимает слишком натуралистически. В этом смысле идея,
конечно, не есть причина. Но если вдуматься в платоновскую
диалектику, то станет ясным, что идея есть причина и в
этом смысле, хотя прежде всего она — причина в смысле
идеальном, причем такая идеальная причина отлична и от
метафизической вещности, и от отвлеченного понятия.
Она — символична, будучи средней сферой между
отвлеченным смыслом и вещественными изменениями. Таким
образом, Аристотель совершенно не прав, что
платоновская идея не захватывает ничего изменчивого и не есть
причина изменения. Она осмысливает все, в том числе и
изменение. Знание также не может обходиться без идей,
потому что сам же Аристотель доказывает, что оно
относится всегда к неподвижному и общему. «Бытие»
находится во взаимно-антиномическом равновесии с «идеей»;
и нельзя, с точки зрения Платона, определенно сказать, что
чем определяется. Бытие и «идея» взаимно определяют
одно другое, причем получается совершенно определенный
синтез этой антиномики — в бытии мифолого-символиче-
ском.
7) Вещи не могут происходить из идей, даже если
они суть результат «подражания» этим идеям (23—26).
а) Ведь подражание чему-нибудь еще ничего не говорит о
реальности этого предмета подражания. Подражать
можно тому, что только мыслится и вовсе никак не существует
(26—30). Ь) Это учение о подражании идеям приводит
к тому, что у одной и той же вещи оказывается несколько
образцов, как, напр., если человека определять как
«животное двуногое», то «человек» должен «подражать» и
«животности» и «двуногости», не говоря уже о «человеке-
в-себе» (31—33). с) Кроме того, если идея есть «образец»
для вещи, то для определенного класса идей есть свой
особый «образец», уже родовой, так что и «образец» и
«отображение» оба окажутся в идеальной области и, стало
быть, будут одним и тем же (30—35).— Все эти
аргументы — явная, само собой понятная нелепость, а)
Подражать так или иначе можно только нему-то. Значит, это
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1^—1 ь.
553
что-то как-нибудь существует; и существует оно прежде
всего как смысл, А это и утверждает в первую голову
Платон. Ь) Понятие, как бы ни расчленяли его содержание,
есть нечто совершенно простое, единичное и неделимое; и
надо уметь объединять эту единичность его смысла с
множественностью признаков. Аристотель в своих
положительных конструкциях умеет это делать очень хорошо, но,
как только он переходит к критике Платона, он совершенно
отказывается это понимать, с) Наличие логических
расчленений в сфере идеи вполне реально, и нельзя думать, что
раз признается существование идеи, то в ней все
абсолютно неразличимо, смутно и одинаково. Весь платонизм есть
не что иное, как учение об «общении идей».
8) Идея не может быть сущностью того, вне чего она
находится. Или она — сущность вещи, тогда она
находится в самой вещи; или она — вне вещи, тогда она не есть
ее сущность, или субстанция (1079b 35—1080а 1). На это
мы уже дали разъяснение: для Платона нет
формалистического и изолированного «да» или «нет» и у него идея и вещь
и находятся одна в другой, и не находятся.
9) Если даже признать существование идей — все же
необходимо признавать еще и нечто иное, что будет
реально двигать вещами, в то время как признание этого
двигателя отнюдь не влечет за собой признания идей (1080а 2—
8).— Это — сплошная ложь. Во-первых, Платон признает
не только идеи, но еще и Мировую Душу, которая гораздо
ближе, чем голые идеи, определяет текучую сферу бытия.
При этом идеи, или Ум, и Мировая Душа связаны между
собою в платонизме точнейшим диалектическим
взаимоотношением. Во-вторых, признание перводвигателя даже у
самого формалиста Аристотеля соединяется с учением об
«Эйдосе эйдосов». Почему же этого соединения не может
делать диалектик Платон?
Аргументы изложенных нами глав Met. XIII 4—5
относительно платоновских идей могут быть разбиты на две
группы, не совпадающие с пределами самих глав. А именно,
аргументы № 1—4 касаются характера самих идей,
аргументы же № 5—9 касаются отношения идей к вещам. В
первой группе мы находим прежде всего недоумение по
поводу взаимоотношения идей с точки зрения рода и вида
(№ 1), а затем недоумение по поводу содержания идей, где
отвергается существование идей отрицания, отношения
(№ 2) и всего не-субстанциального (№ 4); и, наконец, не
Α. Φ. ЛОСЕВ
ι——J
554
совместимым с идеями почему-то представляется
превосходство «отношения» над «идеей» (№ 3). Вторая
группа аргументов касается проблемы взаимоотношения идей
и вещей, сначала в общей форме (№ 5), затем в частной
(№ 6, 7, 9). В общей форме отрицается объединение идеи
и вещи в родовое целое (а), отрицается абсолютная
метафизическая раздельность идеи и вещи (Ь), отрицается
возможность охвата вещи в идее (с). В частных случаях
отвергается нужность идей в смысле объяснения (№ 6)
реального и эмпирического изменения (а), знания (Ь),
бытия (с), акциденции (d), a также в смысле объяснения
подражания вещей идеям (№ 7) и реальной движимости
вещей (№ 9). Общим резюме всей аргументации может
явиться аргумент № 8: сущность не может находиться вне
того, чего сущностью она является.
8. Классификация учений об идеальных числах. До сих
пор из намеченного Аристотелем плана осуществлено два
пункта — анализ учения о математическом предмете и
анализ учения об идеях. Остается третий пункт,
представляющий собою как бы объединение первых двух,
анализ идеальных чисел. Как сказано вначале, Аристотель
посвящает этому три большие главы XIII 7—9. Но этому
предшествует у него глава XIII 6, в которой содержится
предварительный обзор и классификация различных
учений о числе. Конечно, с исторической точки зрения прежде
всего интересно точно знать, кому принадлежат эти учения
и как и когда они развивались в форму законченного
философского учения. Но мы не будем решать этого вопроса в
настоящем месте, так как этим я занимаюсь в специальном
исследовании <о> понятии числа в античной философии; и
здесь такое отвлечение внимания было бы совсем
неуместно. Кроме того, и сам Аристотель не называет авторов
анализируемых им учений. И даже больше того. Он прямо
заявляет, что его классификация имеет в виду исчерпать
все логически возможные учения об идеальном числе; и
быть может, и сам он не смог бы всегда точно приурочить
то или иное учение к тому или другому автору. « [Ясно], что
названы [тут] все способы» (1080b 34—35); и — «таковые
единственно необходимые способы, какими можно
существовать числам» (1080b 4—5).
Классификация, предлагаемая Аристотелем в XIII 6,
очень проста; но, чтобы понять ее, надо предварительно
усвоить одну мысль. Если мы попытаемся схватить самое
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
555
общее отличие числа от идеи, то это будет та его
особенность, что оно есть некая счетность, т. е. что в нем есть
некая последовательность ряда мысленных или иных пола-
ганий. Идея и есть идея; она — абсолютно единична, и в
ней мы не мыслим обязательно перехода от предыдущего
к последующему. Число же есть именно такая
последовательность и такой переход; и оно не мыслимо без того,
чтобы мы не могли его сосчитать. Число «пять»
обязательно указывает на то, что было или есть каких-то пять
полаганий, что могло быть, следовательно, четыре или
шесть и что имеется фактически именно пять. Теперь
обратим внимание на то, что сейчас у нас речь идет не о числах
как таковых, т. е. тех, которыми оперирует математика, и
не об идеях как таковых, которые суть не что иное, как
понятия, но отделанные в виде модели или рисунка. Речь идет
об идеальных числах. После предыдущего замечания это
может значить только то, что мы тут выставляем такие
числа, в которые входит некое идейное содержание, т. е.
некая уже несчислимость, неспособность к счету, некая
сплошная качественность, которая не выразима никакими
количественными переходами и рядами. В зависимости от
степени вхождения в число этого не-числового содержания
и можно разделять получающиеся таким путем идеальные
числа.
Именно, первая группа чисел будет та, где «никакая
единица не счислима ни с какой [другой] единицей»
(1080а 19—20). Это будет, конечно, полной
противоположностью обычным арифметическим числам, в которых,
наоборот, «все они [находятся] в прямой
последовательности и всякая из них счислима со всякой [другой] »; «в
математическом [числе] ни одна единица никак не отличается
от другой» (20—23). Это — одна группа чисел и одно фи-
лософско-математическое учение. Другая группа чисел
отличается тем, что в ней «одни счислимы, другие же нет»
(23). Наиболее простая форма этих чисел заключается в
том, что мы имеем ряд чисел совершенно несчислимых
между собою, в то время как внутри каждого из этих чисел
отдельные единицы вполне счислимы. Здесь получается,
что единицы, счислимые внутри определенной числовой
структуры, не счислимы с единицами другой числовой
структуры, как несчислимы и самые эти структуры (23—
30). Обычное математическое число, конечно, таким не
может быть. В нем всегда и везде, при всяких возможных
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
556
условиях, «один» да «один» дают «два», «два» да «один»
дают «три», «три» да «один» дают «четыре» и т. д. и т. д.
Тут голая монотонная последовательность, и нет
никаких скачков из одной качественной сферы в другую
(30—35). Наконец, существует учение, которое
утверждает, что существуют числа всех трех упомянутых только
что родов, т. е. числа в условиях чистой несчислимости, в
условиях абсолютной и непрерывной счислимости и в
условиях прерывной счислимости (35—37).— Эти три типа фи-
лософско-математических учений совершенно ясны сами
по себе и не требуют никакого специального комментария.
С философской точки зрения, имеет значение еще и
другое разделение теорий числа. А именно, одни теории
отделяют число от вещи, т. е. полагают его как совершенно
самостоятельную природу, независимую от вещей. Другие
теории, не отделяя число от вещи, а, наоборот, внедряя
его в вещи, полагают, что вещи, собственно, и есть не что
иное, как числа. Эту теорию Аристотель резко отличает от
своей теории, по которой числа тоже внедрены в вещи, но
они не отождествляются с ними, а являются их
абстракцией. Наконец, есть теории, признающие, что одни числа
отдельны и независимы от вещей, другие же внедрены в
самые вещи (1080а 37—1080b 4). Однако эта вторая
классификация имеет более общий характер, и Аристотель ее
уже касался. Первая же классификация имеет более
предметный характер, и Аристотель посвящает разбору
установленных тут теорий свое дальнейшее изложение.
9. Счислимость и несчислимость. На очереди критика
абсолютной и относительной несчислимости. Ей
Аристотель посвящает большой текст с XIII 7, 1081а 17 до конца
этой главы XIII 7. Этому предшествует, однако, одно
замечание о счислимых числах (1081а 5—17). Сводится оно к
следующему.
Полная счислимость, т. е. полная взаимная
однородность и качественное безразличие единиц, есть, очевидно,
принадлежность чисто математического, или, точнее,
арифметического числа. Аристотель доказывает, что такие
арифметические числа ни в коем случае нельзя считать
идеями; и идеи, если они существуют, не могут, по
Аристотелю, сводиться на такие числа. Пусть мы имеем идею
человека, т. е. пусть имеется «человек-в-себе». Она
необходимо так или иначе качественна и неповторима. Какое же это
число и что тут, собственно, количественного? Допустим,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
557
что «человек-в-себе» есть «три». Но мы условились, что
все числа чисто количественны и никакого качества в себе
не содержат. Стало быть, «человек-в-себе» не может быть
определен через «три»; таких «безразличных» троек —
сколько угодно, и «человека-в-себе» можно определять
через какую угодно тройку, и никакого качественного и
неповторимого определения все равно не получится (1081а 5—
12). Но если идеи не суть числа, то они вообще не
существуют. Платоники учат, что числа получаются из
объединения двух принципов — Единого и Неопределенной
Двоицы. Если так, то куда же деть идеи? Или из этих
двух принципов действительно происходят идеи — тогда
эти идеи есть просто самые обыкновенные числа; или из
них происходят числа — тогда нет места ни для каких
особенных идей (а12—17).
Итак, абсолютно счислимые, взаимно-однородные и
качественно-безразличные числа не могут считаться идеями,
т. е. не могут быть идеальными; а так как из платонических
принципов Единого и Двоицы выводятся, по их мнению,
именно числа, то для идей вообще не остается никакого
места. По поводу этой аргументации Аристотеля надо
заметить, что последнее соображение может нами и не
приниматься в расчет в данном контексте. Именно, из того, что,
по учению платоников, числа происходят из Единого и
Двоицы и что, по их же опять-таки учению, отсюда
происходят и идеи,— вовсе ничего не следует относительно
превосходства арифметического числа над идеями. Вероятно,
платоники как-нибудь увязывали происхождение из
названных принципов и числа, и идеи; и не может быть, чтобы
они сами не знали, что же именно отсюда происходит,
числа или идеи. Если идея не число, то это еще ровно ничего
не говорит о положительном содержании идеи; и тем более
это ничего не говорит о том, что идей вообще нет. Тут у
Аристотеля не ошибка в аргументации, а просто отсутствие
аргументации, недостаточное ее развитие, так как
заявление, что идеи «нельзя поместить ни раньше чисел, ни
позже» (1081а 16—17), просто бездоказательно и неясно
(неясно, напр., в каком смысле раньше или позже). Что же
касается первого соображения (1081а 5—12), то, судя
безотносительно, с ним, конечно, можно вполне согласиться.
Если существует только арифметическое число, то,
разумеется, нет никакой нужды ни в каком «идеальном» числе,
так как это было бы только заменой одного словесного обо-
Α. Φ. ЛОСЕВ
. Імаммі
558
значения другим. Однако, во-первых, платоники и не
думали, что существует только арифметическое число, а во-
вторых, утверждение это правильно лишь в силу своей
тавтологичности: если есть только арифметическое число,
то, значит, нет никакого не-арифметического числа. Таким
образом, этот отрывок 1081а 5—17 мог бы быть без ущерба
выпущен из общей критики платонизма у Аристотеля.
10. Критика абсолютной несчислимости. Далее мы
находим, как сказано, ряд аргументов против несчислимых
чисел. Эти дальнейшие тексты имеют часто весьма
мудреное словесное выражение, так что перевод и анализ их
являются самой настоящей исследовательской работой,
превосходящей трудности всякого самостоятельного научного
построения. Все эти аргументы могут быть разделены
прежде всего на две группы. Одна имеет в виду такие не-
счислимые числа, которые несчислимы во всех отношениях,
т.е. тут критикуется абсолютная неснислимость (1081а
17—Ь35). Другая группа аргументов относится к числам,
несчислимым между собою, но счислимым каждое внутри
себя, т. е. тут критикуется прерывная счислимость, или
относительная, прерывная несчислимость (1081b 35—
1082b 37 и даже начало следующей главы — 8, 1083а 1 —
17). Рассмотрим каждую группу в отдельности.
а) Первая группа содержит три аргумента.
1) При абсолютной несчислимости чисел отпадает уже
всякая возможность говорить о приложении их в целях
математики. Арифметические числа «монадичны», т. е.
состоят из голых отвлеченных и абсолютно бескачественных
единиц; идеальное же число — абсолютно качественно,
откуда и его несчислимость со всяким другим идеальным
числом (1087а 17—21). Но и как чисто идеальная
структура это абсолютно несчислимое число совершенно
немыслимо. В самом деле, если тут абсолютная
несчислимость, то Единое и Неопределенная Двоица, из которых, по
учению платоников, происходит число, тоже абсолютно
несчислимы, т. е. абсолютно диспаратны, и тогда нельзя
говорить, что числа происходят из Единого и Двоицы. Это
«и» уже указывает на какую-то счислимость.
Следовательно, оставалось бы утверждать, что все числа даны из
одной Двоицы (а 21—25), из одного принципа
множественности, т. е. даны сразу и одновременно. Но если даже
и признавать какую-нибудь последовательность в этих
числах, какое-нибудь «раньше» и «позже» в единицах,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
559
составляющих, напр., двойку или тройку, то получится та
нелепость, что эта двойка или тройка будет раньше одного
своего составного момента и позже другого (а 25—29).
В этом аргументе надо отдать себе отчет, чтобы не стать
в тупик и перед последующими аргументами. Уже тут
бросается в глаза одна особенность аргументации Аристотеля,
когда он оперирует с платоническими понятиями Единого
и Неопределенной Двоицы. Дело в том, что Аристотель,
верный своему формализму, понимает формалистически и
эти два принципа, не видя всей их диалектической
принципиальности, и считает их просто тем же самым, что и все
вообще числа. Между тем, чтобы не ходить далеко, уже
«Филеб» Платона прекрасно показывает, что «предел» и
«беспредельное», из синтеза которых рождается «число»,
суть для Платона принципы чисто диалектические. А
«Парменид» развивает эту тему со всей обстоятельностью.
Единое, чтобы быть, предполагает свое инобытие, от
которого оно отличалось бы. Это инобытие, как именно
инобытие, есть уже не-единое. Его-то платоники и называют
Неопределенной Двоицей. Двоица вовсе не есть самая
простая двойка, как и Единое вовсе не есть обыкновенная
счетная единица. Это суть необходимые диалектические
принципы, из которых образуется решительно всякое
число, и «идеальное», и «арифметическое», и в
арифметическом — и единица, и двойка, и тройка, и всякое другое
число. Аристотель же думает, что Единое и
Неопределенная Двоица суть просто первые числа в натуральном ряду,
за которыми должны следовать тройка, четверка, пятерка
и т. д. Или же это — формальные принципы всякого
единства и всякой множественности. Отсюда и происходит ряд
недоразумений, вполне понятных на почве
аристотелевского формализма.
Именно, Аристотелю непонятно, как же могут быть
несчислимыми числа, происходящие из счислимых и
«уравниваемых» Единого и Двоицы? Во-первых, Единое и
Двоица не только счислимы; диалектика требует, чтобы они
были одновременно и несчислимыми. Это ведь только
частный случай общедиалектического взаимоотношения
«одного» и «иного». Во-вторых же, свойства этих основных
принципов образования числа и эйдоса — Единого и
Двоицы — совершенно несоизмеримы со свойствами
отдельных арифметических или «идеальных» чисел. Допустим,
что они счислимы: из этого нельзя делать никакого вывода
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
560
для чисел. Это ведь не числа, и ничего общего с числами не
имеют. Это — принципы самого числового структурообра-
зования. Поэтому аргумент Аристотеля 1081а 21—25
построен на ошибочном понимании принципов диалектики и
на игнорировании самой диалектики. На той же
формалистике построен и аргумент 1081а 25—29. Аристотелю
тут непонятно, как совмещается качественная несчисли-
мость с количественной последовательностью. Пусть мы
имеем, говорит он, какое-нибудь идеальное число, напр.
два. Оно состоит из двух единиц. Допустим, что «два» не-
счислимо с «тремя», «четырьмя» и т. д., но счислимы обе
единицы, входящие в «два», т. е. одна из них «первая», а
другая — «вторая». Тогда получится, говорит Аристотель,
что наше идеальное «два» будет позже первой единицы,
входящей в ее состав, и раньше второй. Это — сущая
нелепость, по поводу которой можно только пожать плечами.
Во-первых, «раньше» и «позже» в отношении к числам
может иметь только логический, а не временной характер.
А во-вторых, даже и логически первая единица есть такая
же первая, как и вторая, потому что совершенно
безразлично, откуда начинать счет, и к структуре числа это
никакого отношения не имеет.
2) Второй аргумент, с трудом откапываемый из-под
груды непонятных выражений, гласит следующее. Пусть
все числа несчислимы. Это значит, что в Едином мы
получаем некую одну единицу, одно-в-себе; далее, в Двоице мы
имеем первую входящую в нее единицу, которая, если
считать первое Единое, будет уже второю, другая,
входящая в Двоицу, будет по общему счету уже третьей. Стало
быть, уже для сформирования Двоицы требуется три
единицы, т. е. число «три». Другими словами, «единицы будут
раньше чисел, из которых они образуются» (1081а 29—
35). Это выражено туманно. Для ясности надо было бы
говорить не о «единицах», но о порядковых числах, а вместо
термина «число» нужно было бы сказать «количественное
число». Правда, сам Аристотель признает, что платоники
не понимают свою теорию несчислимости именно этим
способом. Для них, можем мы добавить от себя, существуют
отдельные несчислимые, качественно определенные числа;
и они вовсе не решают вопроса об отдельных единицах.
Тем не менее, по Аристотелю, они должны так рассуждать
(а35—37). Но истина против них. Можно рассуждать
двояко, говорит Аристотель. Можно, во-первых, считать,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I—— 1
561
что существуют разные единицы, поставленные в один ряд;
тогда получится ряд: первая единица, вторая единица,
третья единица и т. д. Можно, во-вторых, сказать, что
существуют разные двойки, поставленные в один ряд; тогда
получится ряд: первая двойка, вторая двойка, третья
двойка и т. д. Единицы в первом ряду и двойки во втором ряду
будут, очевидно, какими-нибудь именованными, окачество-
ванными единицами и двойками, что и даст возможность
им различаться. Но нельзя, говорит Аристотель,
объединить эти два ряда и брать их одновременно. Если мы взяли
первый ряд, то первым членом у нас явится единица.
Следовательно, нельзя уже будет говорить, что первым членом
является двойка (и брать, стало быть, уже второй ряд). А
платоники поступают именно так. У них Единое есть
первый принцип, а Двоица — тоже первый принцип. При этом,
имея Единое как первое, они не имеют второго, третьего
и т. д. Единого; имея Двоицу как первую, не создают
второй, третьей и т. д. Двоицы. Но раз нет второго и третьего
чего-нибудь, как оно может быть первым (1081b 1 —10)?
Нетрудно заметить ошибочность всей этой
аргументации. Ясно, что Аристотель продолжает стоять на точке
зрения чистого формалистического представления о числе.
«Единое» и «Неопределенная Двоица» являются для него
не диалектическими принципами, конструирующими
всякое число, включая единицу и двойку, но просто лишь
числами в обыкновенном натуральном ряду. Поэтому ему
кажется странным, почему это — первые принципы, а
никаких вторых чисел, следующих за ними, не имеется. Это,
конечно, первые принципы, но не количественно первые, не
в натуральном ряду чисел первые, ибо они даже и вообще
не суть числа. Они — диалектически первые и
диалектически же имеют за собой вторые, третьи и т. д. принципы.
Так, напр., можно с полным правом сказать, опираясь на
платоновского «Филеба», что если «предел» и
«беспредельное» есть первые принципы, то «число», появляющееся из
их синтеза, или «смесь» (как говорит Платон), есть,
несомненно, второй принцип. Но это — счет совершенно в
особом, не в арифметическом смысле. Аристотель же, не
понимая диалектически-принципной природы Единого и
Двоицы, берет их в чисто арифметическом смысле. И тогда
действительно становится непонятно, как же за первым
Единым следует не вторая, но опять первая же Двоица и
как после первой Двоицы нет второй, третьей и т. д. Двои-
Α. Φ. ЛОСЕВ
562
цы. Ясно, что здесь двусмысленность термина «первый».
К тому же сводится и первая половина аргумента (о
том, что «единицы раньше чисел»). Если Единое и Двоицу
ставить в качестве начала натурального ряда, тогда
действительно в Двоице уже будет заключаться тройка, ибо
единица плюс две единицы в Двоице есть уже 3, а не
2. Но это полная путаница понятий. Единое и Двоица вовсе
не числа, и их невозможно складывать с обычными
числами натурального ряда. Есть только очень маленькая
частица истины в рассуждении Аристотеля, но она вовсе не
против Платона, а — за него: именно, всякое «идеальное»
число, напр. пятерка, всегда больше, чем просто сумма
пяти единиц. Это не только пять абстрактных и совершенно
однородных полаганий, но это есть некоторая их картинная
расположенность, не заключающаяся в пяти единицах как
таковых. Такое привнесение вне-количественного момента,
конечно, делает число гораздо более богатым, так что
вполне понятно, что мы можем иметь отдельные единицы и их
суммы, т. е. дойти в порядковом счете до определенного
числа, и — все же еще не получить «идеального» числа.
Но эта «истина» в рассуждении Аристотеля не есть
возражение платоновской теории, а только ее отдаленное
изложение.
3) Наконец, третий аргумент, относящийся к
абсолютно несчислимым числам, сводится к следующему. Когда
мы имеем дело с арифметическим числом, то тут
натуральный ряд возрастает путем прибавления единицы к
предыдущему числу. К сущности арифметического числа
относится его складываемость, сложенность из отдельных
единиц. Платоники говорят то же о двойке, тройке, четверке
и т. д. Значит, они тоже в каком-то смысле складывают
единицы, в каком-то смысле счисляют числа и делают их
однородными. Этого, однако, они не имеют права делать, так
как вместо прибавления (πρόσθεσις) они говорят о
порождении (γεννάν, γέννησις) чисел из Единого и
Неопределенной Двоицы. Или числа абсолютно несчислимы — тогда в
них нет первого, второго, третьего и т. д.; или в них есть
действительно единица, двойка, тройка и т. д., и — тогда
они не происходят из Единого и Неопределенной Двоицы.
В самом деле, возьмем, напр., число четыре. Арифметик-
практик просто скажет, что четверка состоит из четырех
единиц — конечно, совершенно однородных и абсолютно
бескачественных. Платоник скажет иначе. Для него чет-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1—1
563
верка будет «происходить» из ряда потенций. Сначала он
будет иметь Единое само в себе, потом найдет другое одно;
отсюда он получит через прибавление свою Двоицу. Но эта
Двоица еще не будет даже и идеальной двойкой.
Идеальная двойка, или двойка-в-себе, получится путем перехода
еще к новому числу. И только когда сюда присоединится
еще третья двойка, мы получаем четверку. Значит, для
получения четверки платоникам нужны три двойки:
Неопределенная Двоица, идеальная двойка (или двойка-в-себе) и
та двойка, прибавление которой к идеальной двойке дает
четверку. Такая нелепость получается только потому, что
платоники одновременно утверждают и полную несчисли-
мость чисел, и их складываемость. Если бы они стояли
только на точке зрения чистой несчислимости, то тогда не
было бы этой нелепости, но тогда вообще не было бы
никакой последовательности в числах. А если бы они стояли на
точке зрения чистой складываемости, тогда им незачем
было бы утверждать существование Неопределенной
Двоицы, а достаточно было бы иметь одно Единое и —
потом путем «прибавления» получать все прочие числа;
тогда четверка не состояла бы из трех двоек (1081b 10—
26).
Так я понимаю этот аргумент Аристотеля. В нем есть
доля истины, сводящаяся к тому, что идеальные числа не
могут обойтись без складываемости, т. е. без счислимости.
В каком-то смысле они — неисчислимы, но в каком-то —
счислимы. Таким образом, не может быть полной и
абсолютной несчислимости. Но это едва ли противоречит
платонизму. Что же касается упрека о трех двойках,
входящих в четверку, то этот аргумент опять основывается на
игнорировании диалектически-принципной природы
Двоицы и на поставлении ее в обычный натуральный ряд. К
этому припутывается у Аристотеля еще неотличение
идеального числа от арифметического, так что «двойку-в-се-
бе» он находит нужным «складывать» с двумя, или
«помножать» на два, чтобы получить четверку. Отсюда и —
нелепый вывод, что 4 = 6. На этом же основании я мог бы
сказать, что 1 = 2, так как в понятие единицы входят понятия
тождества и различия, т. е. два момента. Раз в единицу
входит два логических момента, то, след., она и равна
двум. А если при достаточной подробности анализа мы
найдем в единице пять логических моментов, то, значит, мы
должны считать, что 1 = 5. Это слишком явная нелепость.
Α. Φ. ЛОСЕВ
564
Ничего не говорит также и заключение предыдущего
аргумента, 1081b 27—32. Тут Аристотель утверждает, что
если существует идеальная двойка» то не может
существовать никаких других двоек. Непонятно, о каких, собственно,
других двойках говорит тут Аристотель. Швеглер (IV 319)
понимает это так, что тут имеются в виду двойки, входящие
в четверку, шестерку, восьмерку и т. д., и весь аргумент
получает в его интерпретации такой смысл: числа — несчи-
слимы; след., несчислимы и двойки; след., несчислимы и
числа, составленные из двоек (то же — относительно
троек). Эта интерпретация — очень складная, и я ничего
не могу придумать лучшего. Но тогда это есть не больше
как повторение предыдущего аргумента, так как и здесь
все зависит от того, что Аристотель не понимает
совмещения счислимости и несчислимости в платоновском
«идеальном» числе.
Ь) Таковы три основных возражения Аристотеля
против «идеальных» чисел. Попробуем теперь сравнить эти
три аргумента между собою и посмотрим, нельзя ли
уловить в чем-нибудь их логическое единство или взаимную
последовательность.
Вопрос идет об абсолютной несчислимости, о
несводимости чисел на чисто количественные моменты Аристотель
отвергает абсолютную несчислимость и пытается доказать,
что числа счислимы. Как он это делает? Он берет те
принципы, из которых Платон конструирует понятие числа, и —
их рассматривает. Это — принципы Единого и
Неопределенной Двоицы, определенного (или предела) и
беспредельного. «Одно» требует иного, отличаясь от него; и оно
же с ним отождествляется, порождая отсюда натуральный
ряд чисел. Аристотель анализирует эти принципы
единичности и расплывающейся множественности и утверждает о
них такие мысли, которые явно свидетельствуют о
невнимании его к диалектической природе этих принципов. Но
уступим ему в этом и не будем требовать от него адекватного
отражения теории Платона. Зададимся целями чисто
имманентного его анализа и станем на его собственную точку
зрения. Что получится? Получится, что упомянутые
принципы числа Аристотель понимает чисто счетно,
арифметически. Пойдем и в этом за ним, ибо ничто не может нам
помешать относиться счетно-арифметически к любому
предмету, который только существует на свете. Но, ставши
целиком на такую имманентную точку зрения, мы вдруг за-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I \
565
мечаем, что Аристотель действительно если не возражает
Платону, то во всяком случае интересно его дополняет.
Именно, пусть число есть такая структура,
появляющаяся из определенного взаимоотношения каких-то двух
принципов. Какие бы это принципы ни были и как бы они
между собою ни относились, но уже один тот факт, что
они — разные, т. е. что их — два и что они как-то
относятся один к другому,— уже этот один факт твердо
обнаруживает какую-то их соизмеримость, какую-то сравнимость и,
значит, счислимость. Допустим, что эти два или несколько
принципов совершенно никак не похожи друг на друга, что
они совершенно никак не соизмеримы, никак и ни с какой
стороны не сравнимы. Как же они могли бы тогда
совокупно породить нечто целое и единичное, да еще такую
целую, единичную и определенную структуру, как число?
Явно, что эти два принципа, какие бы они ни были и как бы
они один к другому ни относились, должны как-то
отождествиться, чтобы породить нечто целое. Поэтому можно
отбросить все те нелепости, которые Аристотель возводит
на платонизм, и все же найти долю истины в его
возражениях. Надо только отказаться от привычки искать у
Аристотеля обязательно точного и адекватного
воспроизведения и понимания платонических учений. Надо в конце
концов перестать удивляться искажениям, которые допускает
Аристотель. Раз навсегда установим: Аристотель
совершенно не понимает Платона. Но, будучи не прав трансце-
дентно, а равно очень часто будучи не прав и имманентно,
он все же иногда бывает прав имманентно; и у него есть
точки зрения, которые, будучи очищены от всякого
отношения к платонизму (что только затемняет все дело), сами
по себе имеют большую ценность, составляя или важное
дополнение к платонизму, или подчеркивание сторон,
оставшихся там в тени.
Это и есть общая идея всех трех аргументов Аристотеля
против Платона. Аристотель не прав, признавая только
арифметические числа. Но он прав, когда утверждает, что
чистая несчислимость немыслима, что о каких бы числах ни
говорить, они всегда кроме всего еще и счислимы.
Обращаясь к Платону, мы действительно находим, что и
диалектика того же требует. Тут — то же отношение между
Аристотелем и Платоном, что и в проблеме логики.
Аристотель отвергает диалектику Платона и выдвигает на ее
место формальную логику с «законом противоречия» в осно-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
566
ве. Но по существу дела формальная логика, если не брать
ее в ее полной и абсолютной исключительности, а брать
как таковую, не только не противоречит диалектике, но,
наоборот, есть один из ее диалектически необходимых и
подчиненных моментов. Диалектика вся ведь стоит на
одновременном принятии положений, что А есть Л и Л не есть
А. Первое из них есть основание формальной логики; и,
значит, последняя есть только тезис в диалектике, к
которому уже сама диалектика прибавляет антитезис и синтез.
с) Установивши общую платформу аристотелевской
критики абсолютной несчислимости, попробуем установить
логическое сравнение трех основных аргументов, в которых
она выражена.
Первый аргумент в последнем своем основании
сводится к тому, что оба принципа, входящие в структуру
числа, уже составляют собою некую двойку, т. е. что они по
этому самому сравнимы. Отсюда: или числа действительно
несчислимы, тогда несчислимы и эти два принципа между
собою и тогда все числа появятся сразу из того принципа,
который определяет собою множественность вообще, т. е.
из одного второго и Двоицы; или числа происходят
подлинно из двух принципов, не из одной Двоицы — тогда эти
принципы счислимы и возможной оказывается их
последовательность. Ясно, что этот аргумент детализирует общую
идею критики в направлении взаимоотношения обоих
принципов. Этих принципов — два; значит, они (а за ними
и числа) счислимы.— Второй аргумент, далее,
основывается на том, что в самой Двоице наблюдается двойство,
т. е., говоря вообще, множественность. Если число
образуется из принципа единичности и принципа
беспредельного становления, или множественности, то счислимость
наблюдается не только тогда, когда берутся оба принципа,
но и тогда, когда берется один второй. Раз —
множественность, «Двоица» — значит, счетность имманентно уже
введена в самую структуру этого принципа. Поэтому
Аристотель и утверждает, что раньше, чем мы образуем
тройку, четверку и т. д.,— все эти числа уже будут крыться в
Двоице (так можно было бы в обобщенной форме
выразить то, что Аристотель, как мы помним, выразил
несколько уже и частичнее).— Наконец, третий аргумент
вскрывает необходимость в каждом числе момента
«прибавления», или момента складываемости. Если его нет, тогда нет
и вообще никакого «первого», «второго», «третьего» и т. д.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
. I I
567
А если он есть (а он обязательно есть и для всякого
платонизма), то и оба принципа числа и, следовательно,
сами числа как-то складываемы, т. е. как-то можно перейти
от одного из них к другому путем прибавления отдельных
единиц. Я думаю, что здесь Аристотель детализирует свою
общую антиплатоновскую идею в направлении
констатирования счислимости в образовании отдельных чисел из
двух первопринципов.
Из этого сопоставления трех аргументов на почве
объединяющей их идеи вытекает, мне кажется, с полной
ясностью и их логическая связь. Числа должны быть счи-
слимы внутри, себя и друг с другом. И эта счислимость
видна 1) на взаимоотношении разных принципов их
структуры, на 2) характере каждого из них или по крайней мере
одного принципа (так как один из принципов числа вообще
должен указывать на стихию его множественности), на
3) способе конструирования отдельных реальных чисел из
этих принципов. Счислимость есть, другими словами, 1) в
каждом логическом моменте, входящем в понятие числа,
2) в их взаимоотношении и 3) в продукте этого
взаимоотношения, или в реальном числе. В такой яснейшей форме
я мог бы представить себе логическое содержание того
грамматического и философского сумбура, из которого
состоит вышепроанализированный текст XIII 7, 1081а 17—
ЬЗЗ.
d) К этому я прибавил бы, во-первых, то, что нельзя,
конечно, вполне поручиться, что все неясное содержание
этого текста обязательно войдет в эту стройную
логическую формулу. Трудности и неясности текста таковы, что я
не удивлюсь, если на самом деле в отдельных местах
окажется нужным проводить совсем другое понимание. Во-
вторых же, полученная мною формула дает возможность
срезюмировать содержание разобранной критики в одной
фразе: идея (а идеальное число и подавно) предполагает
различенность, раздельность внутри себя и вне себя; и,
значит, она всегда так или иначе включает в себя счет-
ность, счислимость. Это и есть последний смысл всей
аристотелевской критики учения платоников об абсолютной
несчислимости идеальных чисел.
11. Критика прерывной счислимости. Теперь мы можем
перейти к критическому обзору аргументов Аристотеля
против другой теории или других чисел. Как уже было
установлено, в платонизме выставлялись такого рода иде-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
568
альные числа, что они являются несчислимыми между
собою, но счислимыми внутри себя, т. е. внутри их счислимы
входящие сюда единицы. Эту теорию мы назвали выше
теорией прерывной счислимости. Аристотелевская критика
этой теории распадается на ряд отдельных пунктов.
1) Пусть имеется «идеальная» десятка, или «десятка-
в-себе», которая не счислима ни с каким другим числом, но
зато счислимы между собою входящие в нее единицы.
Такую десятку можно представить или состоящей из десяти
единиц, или состоящей из двух пятерок. Единицы в ней
счислимы — это наше условие. Но раз десятка несчислима
с пятеркой (это — тоже наше условие), то, значит, она тем
более несчислима и с двумя пятерками, т. е. несчислима
(как это тоже вытекает из условия) с единицами,
входящими в эти пятерки. Стало быть, десятка, которую мы
вначале мыслили как внутри-счислимую, оказывается внутри-
несчислимой. Другими словами, раз единицы счислимы
внутри десятки, то тем самым они счислимы и с единицами,
входящими в пятерку, так как пятерка входит в десятку, и
мы уже проходим, пересчитываем пятерку, чтобы получить
десятку; если же десятка и пятерка действительно несчис-
лимы между собою, то тем самым несчислимость вносится
в сферу самой десятки, и тогда уже нельзя говорить, что
десятка счислима внутри себя (1082а 1—7).— Аристотель
мог бы и ограничиться в изложении данного аргумента
тем, что я сейчас изложил; в его собственном изложении
это, правда, менее понятно, чем у меня, но все же это —
относительно ясно выраженная мысль. Тем не менее
Аристотелю понадобилось прибавить к этим словам еще
ряд фраз; и эти фразы снова вносят туман в
аргументацию.
Именно, во-первых, он говорит, что если единицы в
десятке несчислимы, то другие пятерки, кроме двух входящих
в десятку, могут или быть, или не быть. Было бы абсурдно,
если бы их не было. Но если они есть, то какая же
получится из них десятка, если в десятке только и есть одна,— та,
которая именно и есть десятка (а 7—11)? — Эту
аргументацию нельзя считать вполне ясной. По-видимому, речь
идет о пятерках, входящих в другие числа; они ведь по
одному этому мыслятся как разнокачественные. Если так,
то недоумение Аристотеля вполне правомерно. В самом
деле, раз мы решились на то, чтобы ввести неоднородность
в десятку, и именно неоднородность пятерок, то с необхо-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
569
димостью должен возникнуть вопрос: какие же это будут
пятерки?
Во-вторых, с трудом усваивается еще следующее
замечание. Четверка тоже, говорит Аристотель, не составляется
из каких попало, качественно-безразличных двоек. Нужна
для этого прежде всего Неопределенная Двоица; затем
эта последняя должна воспринять на себя еще другую
двойку; воспринявши, она тем самым удвоила ее. Так, по
изображению Аристотеля, платоники представляют себе
четверку (а 11 —15).— Это и все, что говорит тут
Аристотель. Спрашивается: зачем Аристотель говорит об этом?
Что это? Если это — возражение, то против чего оно и что
оно, собственно, хочет опровергнуть? Если это — не
возражение, а просто изложение платонической теории, то к
чему оно в контексте критики платонизма? Бониц (II 550)
пытается связать это замечание с предыдущей критикой
так: подобно тому как четверка получается при удвоении
двойки — и десятка получается через удвоение пятерки;
след., предположение, что десятка состоит из двух пятерок,
вполне соответствует духу платонизма. Конечно, это —
только чистая догадка Боница (он и сам сознается: «Ipsam
Ar. mentem num sim assecutus dubito» '*). Более
определенны два толкования, предлагаемые Рольфесом (II 419,
прим. 42). Первое: «Как двойки в четверке, а стало быть, и
единицы имеют особенный характер, который хотя и
отличает их от других единиц и чисел, но делает их между
собою однородными, так же получается и в составных частях
других перво-чисел». Второе: «Если четверки распадаются
на две двойки, которые допускают сложение, то почему не
распадается также и десятка на столь же многие пятерки,
так, чтобы допускали сложение также и единицы и
использованный аргумент мог быть применен без задержки и тут?»
Швеглер (IV 320) понимает этот отрывок в качестве
самостоятельного аргумента, утверждающего якобы, что у
платоников, согласно их предпосылкам, сначала должны были
бы идти четные числа, а потом нечетные, но не так, как
они фактически говорят: единица, двойка, тройка и т. д.
(между прочим, таково же толкование и Александра).
Ввиду полной оторванности этого замечания (а 11 —15)
от всей аргументации всякое его толкование будет
неизбежно произвольным. Но относительно Боница нельзя не
заметить, что он дает слишком общее толкование; оно
подошло бы к отрывку а 1—7, где как раз и шла речь о раз-
Α. Φ. ЛОСЕВ
570
делении десятки на две пятерки. Отрывок же а 7—11
содержит уже новую мысль, не просто о разделении на пятерки,
но о характере этих пятерок. Ввиду этого отрывок а 11 —15
в толковании Боница был бы несколько запоздавшим. Что
же касается толкований Рольфеса, то первое из них, мне
кажется, придает всему отрывку смысл не
аристотелевского возражения, а платоновского ответа на возражение,
чему способствует и его грамматическое начало: άλλα μην
και ανάγκη γε 2* Второе же толкование, как и у Боница,
слишком разрывает этот отрывок с предыдущей
аргументацией. Что касается меня, то я положительно
затрудняюсь высказать тут что-нибудь определенное.— Стараясь
во что бы то ни стало сделать непонятное понятным, я мог
бы понимать это место еще так. Предыдущий отрывок
содержал недоуменный вопрос: пятерок — много, а данная
десятка — одна; — из каких же, собственно, пятерок
составлять десятку? Естественно было бы ожидать на это
такой ответ: но ведь раз десятка — одна определенная, то
тем самым диктуется и признак, по которому можно
выбрать из всех пятерок те, которые именно тут нужны. И это
было бы ответом платоников на поставленный только что
вопрос. Однако скорее надо ожидать, что Аристотель тут
высказывает не платонический ответ на свои возражения
(ибо иначе ему нечего было бы и браться за критику, раз он
заканчивает ответом платоников), но углубляет
высказанное недоумение. Углубить же его можно лучше всего путем
приведения еще более очевидного примера. Таким
примером и является структура четверки. Платоники, во всяком
случае, должны согласиться, что в четверке нет этого
противоречия между определенностью ее общей сущности и
неопределенностью двоек, входящих в ее состав. Тут же
совершенно ясно, что четверку платоники получают путем
помножения Неопределенной Двоицы. Значит, и в десятке
указанного противоречия не должно быть. А оно есть.—
Это мое толкование, кажется, объединяет толкование
Боница с первым толкованием Рольфеса. Но все это —
чистейшие догадки; и я еще с большей искренностью могу
сказать: «Ipsam Aristotelis mentem num sim assecutus du-
bito». Поэтому лучше просто прекратить бесплодные
разговоры на эту тему.
Итак, первый аргумент Аристотеля против прерывной
счислимости гласит: прерывная счислимость немыслима
потому, что всякое число можно представить как сумму
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
571
других, более мелких чисел; а так как все числа считаются
между собою несчислимыми, то несчислимость будет, через
эти более мелкие числа, введена и в сферу каждого числа;
и тогда, кроме того, еще окажется неизвестным, как же из
этих разнокачественных мелких чисел составляются одно-
качественные крупные числа.
Подвергнуть этот аргумент критике нетрудно. Уже
Кирхман (II 267, прим. 1196) вполне основательно заметил,
что, поскольку каждое идеальное число мыслится у
платоников качественно своеобразным, оно ни в каком случае не
может быть разложено ни на какие составные части, и
десятка ни в каком случае не может составляться из двух
пятерок. Напрасно Аристотель «делит» десятку-в-себе на
две пятерки. Делить можно только арифметические числа.
Идеальная же десятка, при всей своей арифметической
счетности, содержит в себе еще некое качество, которое
уже ни из каких единиц не состоит и даже вообще не
обладает характером счетности; это качество вполне
индивидуально и своеобразно. Поэтому «деление» его немыслимо.
Следовательно, аргумент о противоречии счислимости и
несчислимости внутри числа отпадает окончательно.
Вместе с тем отпадает и необходимость решать вопрос, из
каких, собственно, пятерок составляется десятка. Если
десятку брать так, как берут ее критикуемые Аристотелем
платоники, то она совсем ни из каких пятерок не состоит.
Если же ее брать так, как берет Аристотель, т. е. чисто
арифметически, то самый вопрос теряет смысл:
арифметически есть только одна десятка и одна пятерка и дважды
пять всегда будет равно десяти, какие бы эпитеты ни
приписывались пятеркам и десяткам. Следовательно, основой
критики Аристотеля и здесь остается невнимание к
феноменологическому своеобразию платонических чисел.
2) Второй основной аргумент касается, по-видимому,
не специально прерывной счислимости, а относится вообще
к идеальным числам. Его даже трудно назвать аргументом
Это есть, собственно говоря, перечисление того, как нельзя
понимать отношение арифметического числа к идеальному,
откуда является вывод о том, что идеальных чисел вообще
не существует. Именно, а) отношение это можно было бы
представлять по типу отношения эпитетов «белого» и
«человека» к «белому человеку» (1082а 17—18).
По-видимому, Аристотель имеет здесь в виду отношение акциденции к
субстанции. Если считать, что «белый человек» —субстан-
Α. Φ. ЛОСЕВ
572
ция, то можно сказать, что эта субстанция участвует и в
«белизне», и в «человечности». Действительно, хотя
арифметическое и «участвует» в идеальном или они вообще
одно в другом участвуют, все же отношение между ними
никак не есть отношение субстанции и акциденции. Ь) Это
отношение, говорит далее Аристотель, нельзя понимать и
как отношение рода и вида. Идеальное число, конечно, не
есть род в отношении арифметического числа, как есть
род, например, «животное» или «двуногое» в отношении
«человека» (19—20). Наконец, отношение идеального и
арифметического числа не есть ни один из видов физико-
химического смешения; оно не есть ни соприкосновение,
ни смешение, ни объединение по пространственному
положению (20—22). Это совсем неприложимо к идеальным и
арифметическим числам, не обладающим никакой
физической природой. Жаль, что Аристотель не развил этих
аргументов. Он прав, что ни какое-нибудь
формальнологическое отношение, ни вещественно-физическое
отношение не может претендовать на то, чтобы принять его в
качестве подлинного взаимоотношения идеального и
арифметического числа. Но платоники в этом с ним только
согласятся. То же отношение, которое они считают подлинным,
Аристотель даже и не затрагивает в этом кратком перечне
возможных отношений. Аристотель прибавляет тут только
одно, ничего нового не привносящее замечание. Он
говорит, что раз мы не считаем, что для двух человек нужна
какая-то особая их сущность или субстанция, как именно
двух, так и идеальная двойка совершенно излишня по
сравнению с двойкой арифметической. Скажут: но ведь тут
мы имеем дело с неделимыми целыми, в то время как
два человека и «человеки» вообще делимы. Это, однако, не
есть возражение, говорит Аристотель. Геометрические
точки тоже неделимы, а пара их тоже не имеет никакой
идеальной пары рядом с собою (22—27). Тут мне прежде
всего не совсем понятно, почему указание на неделимость
могло бы служить возражением. По-видимому, это нужно
понимать так, что рядом с двумя физическими вещами
нельзя представить себе новую физическую же сущность
этих двух; рядом же с двумя физически неделимыми, т. е.
логическими, моментами, например единицами, такую
идеальную двойку можно представить. Если это понимание
правильно, то ответ Аристотеля говорит слишком мало,
потому что точка все же достаточно идеальна, чтобы мы
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
573
могли представить себе некую пару точек, имеющую тот
или иной вид, причем вид этот как таковой может быть
свободно отделен от самого количества «двух».
3) Третий аргумент также, пожалуй, не имеет прямого
отношения к прерывной счислимости; по крайней мере это
отношение не выявлено тут в словах. Но есть возможность
интерпретировать его как аргумент против прерывной
счислимости. Тут Аристотель выдвигает в идеальном числе
момент предшествия и последствия; именно, идеальные
числа находятся в определенной последовательности, так
что имеются предшествующие и последующие числа. Но
если так, то предшествующее, говорит Аристотель, должно
быть для последующего идеей. Так, Двоица — идея для
всех чисел, ею порождаемых. Однако из идей могут
появиться только идеи. Где же тогда тут числа? Идея или
состоит из идеи же — тогда мы не сможем вывести из
Двоицы (например) прочих двоек, входящих в четверку,
восьмерку и т. д.; или идея состоит из того, что само по себе не
есть уже идея,— тогда выведение чисел из Двоицы
возможно (случай, недопустимый с точки зрения
платонизма). Аристотель «поясняет» это примером, который только
затемняет дело; но распутать его можно. Платоники,
говорит он, рассуждают тут так, как если бы кто-нибудь,
ссылаясь на то, что «живое существо» есть некая идея, стал бы
доказывать, что эта идея разлагается на ряд идей, из
которых каждая тоже есть идея «живого существа» (1082а
26—Ы).— Понять весь этот аргумент можно, только
раскритиковавши его. Аристотель думает, что порождение
«предшествующими» числами «последующих»
противоречит само себе. Если Двоица есть некая идея, то выводимая
из нее четверка есть тоже идея, и, значит, она уже не число;
а если она — число, то Двоица — не идея. Ошибочность
этого заключения становится еще более ясной, если весь
аргумент выразить таким способом. Существует идея
человека. Но «человеки» бывают разные: есть русские, немцы
и т. д. Отдельные народы происходят из области или в
области «человеков». Значит, русские, немцы и т. д. не есть
люди. Или: вы не то, что я; я — человек; следовательно,
вы — не человек. Четверка — не то, что Двоица;
Двоица — идея; следовательно, четверка не есть идея. Это
слишком известная ошибка силлогизма.
Аргумент этот, по-видимому, находится в серии
аргументов против прерывной счислимости чисел. Нельзя ли
Α. Φ. ЛОСЕВ
574
дать ему интерпретацию в этом направлении?
По-видимому, можно. «Предшествующее» число — идея
«последующего». Значит, «последующее» уже не идея, не
неделимая идея, оно — «сложно», т. е. неоднородно. Отсюда
вывод: наличие «предшествующих» и «последующих» чисел
противоречит их внутренней однородности и счислимости.
По-видимому, такой именно смысл имеют неясные слова:
«То, идеями чего они, [«предшествующие» числа],
являются, будет сложно» (1082а 36—37).
4) Четвертый аргумент: в идеальной десятке
платоники находят единицы взаимно безразличными и счисли-
мыми; но безразличие и равенство есть одно и то же;
значит, в десятке все единицы равны между собою, т. е. равны
они и вне десятки, и просто — взятые как таковые (1082b
1 —11).— Здесь непонятно, почему Аристотель
заговаривает о тождестве «безразличия» и «равенства». И без этого
отождествления он мог бы рассуждать, пользуясь только
понятием безразличия. Платоники говорят, что десятка
несчислима, например, с пятеркой или двойкой, различна с
ними. Но ведь пятерка и двойка входят в самую десятку.
Следовательно, «различие» вносится тем самым и в сферу
десятки; и десятка вопреки предположению оказывается
внутри себя несчислимою и «различною». Это —
повторение аргумента № 1 (1082а 1—7). Едва заметный оттенок
вносится только тем, что там Аристотель критиковал
прерывную счислимость имманентно, доказывая
несовместимость между-числовой несчислимости с внутри-числовой
счислимостью; здесь же он подходит к этой теории извне,
заранее объявляя, что «ни по количеству, ни по качеству
мы не видим, чтобы единица отличалась от единицы»
(1082b 4—5). С этой точки зрения тоже непонятно
Аристотелю: «Какую [особенную] причину сможет выставить
[для себя] тот, кто говорит, что они — безразличны»
(10—11)? Для него ведь все различия исчерпываются
понятиями «больше» и «меньше» (7).
5) Еще Аристотель говорит так. Мы всегда можем
складывать одну единицу с другой. Но что получится, если мы
одну единицу возьмем из идеальной двойки, другую же —
из идеальной тройки? Будет ли она раньше тройки или
позже? С одной стороны, она, несомненно, раньше, так как
она есть именно двойка а не тройка. А с другой стороны,
она должна быть позже ее, потому что одна из ее единиц
взята из тройки, и, следовательно, тройка должна уже су-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I ' ' I
575
ществовать, чтобы получилась двойка. Но видимо, говорит
Аристотель, новая двойка все-таки раньше тройки, так как
она находится как бы посредине между двойкой и
тройкой, или так как в ней (привожу неясные слова самого
Аристотеля) «одна из единиц — вместе с тройкой,
другая же—вместе с двойкой» (1082b 11 —19).— В этом
аргументе Аристотель, по-видимому, хочет именно уличить
в противоречии и не просто сказать, что новая двойка —
раньше старой тройки. Если это последнее так ясно и
определенно, то тогда не о чем и спорить. Главная же суть
аргумента — в том, что для Аристотеля именно неясно,
куда деть эту новую двойку. Кроме того, если иметь в виду
общую позицию Аристотеля в этих аргументах, т. е.
критику прерывной счислимости, то открывается более
выпукло намерение Аристотеля в этом замечании. Именно,
платоники ведь говорят о внутри-числовой счислимости.
Хорошо, говорит Аристотель. Ну а если мы составим
двойку из разных единиц? «Двойка» и «тройка» несчисли-
мы, а их единицы внутри каждой из них счислимы. Но
возьмем одну единицу из «двойки» и одну из «тройки».
Получится новая двойка, в которой отдельные единицы будут
между собою уже несчислимы, как взятые из сферы несчис-
лимых между собою чисел. Следовательно, Аристотель
доказал существование внутри-числовой несчислимости,
обязательное для платоников.— Этот аргумент тоже не
колеблет платонической теории прерывной счислимости.
Он тоже основан на невнимании к природе идеального
числа. Выражаясь математическим языком, можно взять
из двух «множеств» по одному «элементу» и образовать
из них новое «множество». Это нисколько не помешает
существованию первых двух множеств, и новое множество
займет среди них вполне определенное место. Только не
надо сводить «множество» на простое арифметическое
число. В множество входит еще идея порядка, которой нет
в арифметическом числе. Ее-то и игнорирует все время
Аристотель. Получивши — фиктивно для себя — новую
качественную двойку, он начинает и к ней опять относиться
арифметически. Получается только нелепость. Эту двойку
некуда деть; для нее нет места (раз уже есть одна двойка).
6) Подходим к последнему аргументу этой главы XIII 7.
Тройка во всяком случае должна быть больше двойки.
Пусть это есть идеальное число. Все равно тройка больше
двойки, и двойка входит в тройку. Но это значит, что
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J U
576
двойка, входящая в тройку, и двойка сама по себе — одно
и то же. Если же это не так, то лучше тогда просто не
говорить о числах. Тогда получится идея, а не число. В
отношении идей действительно нельзя говорить о «первом» или
«втором», ибо все идеи суть индивидуально неповторимые
единства, данные совершенно сразу и одновременно. Тут
не будет уже никакого «раньше» или «позже», никакой
счетности, никакого «прибавления» по единице. Числа
будут самыми настоящими идеями, и больше ничего.
Но раз числа суть именно числа, хотя бы и идеальные, они
всегда счетны и всегда счислимы через «прибавление»
(1082b 19—33).— Этот аргумент есть своеобразная
комбинация аргументов № 1 и 3. Из аргумента № 1 взята
мысль, что меньшее число, входящее в большее, должно
было бы разрушить однородную счислимость в большем
числе. Из аргумента № 3 взята мысль, что идеальные числа
суть, собственно говоря, не числа, а идеи. Отличие этого
аргумента от первого и третьего заключается в том, что он
не есть имманентная критика платонической теории чисел,
но дает совершенно новую платформу для рассмотрения
всего вопроса. Эта платформа есть учение о
«прибавлении», т. е. о чистой и абсолютной счислимости. С этой точки
зрения Аристотель и рассматривает здесь противоречие
между внутри-числовой счислимостью и между-числовой
несчислимостью, а также противоречие между понятиями
«идеи» и «числа».
Таковы шесть аргументов, приведенных Аристотелем
против теории прерывной счислимости чисел. Чтобы не
оставить их в сыром виде, необходимо их тщательно
сравнить один с другим и, если возможно, объединить под
одной идеей. Внимательно всматриваясь в них, мы замечаем,
что сделать это не так трудно.
Ь) Прежде всего, аргумент № 4, как мы уже заметили,
есть не больше как вариация аргумента № 1. В последнем
говорилось, что более мелкие числа, будучи отличены
в более крупных числах, превращают их в
разнокачественные и лишают их внутренней однородности. Аргумент
же № 4 говорит, что сделать это и невозможно, так как
существуют только абсолютно однородные числа. Далее,
аргумент № 6 есть также не более как вариация
аргумента № 3 и даже аргумента № 1. В № 3
утверждается, что идея, распадаясь на идеи, не может превратиться
в числа и что поэтому то, что происходит из Единого и
КРИТИКА ПЛЛТОШЮМА У АРИСТОТВЛ*
577
Неопределенной Двоицы как идей, не может быть числами.
Аргумент же № 6 устанавливает, что это и невозможно, так
как числа происходят не путем «порождения» из идей,
но путем «прибавления» по единице. Аргумент № 2 имеет
более общее значение и высказывает то, чем не может быть
отношение между идеальным и арифметическим числом.
Наконец, аргумент № 5 аналогичен аргументам № 1 и 4
в том отношении, что тоже констатирует возможность
внесения в число, с точки зрения самих же платоников,
разнокачественности и несчислимости. Таким образом,
основными аргументами остаются № 1 и 3. Первый гласит,
что несчислимые числа обязательно входят в каждое
число уже по одному тому, что каждое большее число
состоит из суммы меньших. Другой же аргумент
утверждает, что несчислимые числа находятся между собою,
собственно говоря, не в числовом отношении, но в
идеальном. Ясно, что эти два аргумента также могут быть
сведены к одному. Платоники утверждали, что между-число-
вая несчислимость нисколько не мешает существованию
внутри-числовой счислимости. Аристотель же доказывает,
что если проводить последовательно платоническую точку
зрения, то необходимо говорить об абсолютной
несчислимости, что и есть на самом деле уничтожение самой
природы числа и замена числовых отношений идейно-логически-
ми\ если же стать на его, Аристотеля, точку зрения, то
нужно говорить об абсолютной счислимости и отказаться
от самого намерения признавать какие-нибудь иные числа,
кроме арифметических.
Итак, основным возражением Аристотеля является
упрек в замене числового принципа логическим и идейным
(№ 3 и 6) ; отсюда вытекает немыслимое для Аристотеля
внесение разнокачественности в самую структуру числа
(№ 1, 4 и 5); и, наконец, результатом этого оказывается,
что от обыкновенных арифметических чисел нет
совершенно никакого перехода к числам идеальным (№ 2).
12. Обобщение обеих критик. На этом Аристотель
заканчивает свою критику несчислимости чисел, с тем чтобы
в дальнейшем перейти к критике еще иных концепций
Однако, прежде чем последовать в этом за ним, попробуем
сравнить два основных отдела критики несчислимости
чисел. Аристотель, как мы помним, сначала критиковал
абсолютную несчислимость, потом перешел к прерывной
счислимости, В первом случае его критика, если мы при-
19 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
I —I
578
помним, сводилась к указанию того, что уже самое
оперирование принципами структуры несчислимого числа
предполагает использование чисто количественной точки
зрения, чисто арифметической раздельности. Нельзя
построить самую структуру числа, говорил там Аристотель,
без того, чтобы не воспользоваться однородной счисли-
мостью чисто арифметического числа. И это он показывал
как на принципах структуры числа, так и на результате
этой структуры — на самих числах. Теперь в критике
прерывной счислимости, как мы видим, он упрекает Платона
в замене числового принципа идейным и в вытекающей
отсюда внутренней разнокачественности числа. Нельзя
ли как-нибудь объединить эти два основных аргумента
против двух основных типов несчислимости и нельзя ли
вывести их из единого принципа?
а) Я думаю, что это возможно сделать, если мы
пожелаем тщательно проанализировать сравнительное
значение того и другого. Мне кажется, что второй аргумент,
т. е. вся критика прерывной счислимости, представляет
собою лишь развитие первого аргумента, главным же
образом его третьего аспекта. Вспомним: в этом третьем
аспекте первой критики Аристотель ставил перед
Платоном дилемму абсолютной несчислимости чисел и
невозможности счета, с одной стороны, и, с другой —
возможности счета и невозможности происхождения чисел из
Единого и Неопределенной Двоицы, т. е. из идей. Это,
кажется, та же самая дилемма, которую развивает
Аристотель и в аргументах № 3 и 6 в критике прерывной
счислимости. Но этот аргумент есть лишь третий аспект
более общего принципа, а именно возражения
относительно имплицитного использования арифметической
счислимости в оперировании с логической структурой числа.
Значит, и вся критика прерывной счислимости основы-
вается все на том же аргументе об имманентной
свойственности счислимого числа самой его структуре. Отсюда
всю вообще аристотелевскую критику несчислимых чисел
можно изобразить в следующем виде.
1. Несчислимое (так или иначе) число есть нечто, т. е.
нечто одно. Состоит оно из чего-то, т. е. по крайней мере
из чего-то одного или двух. Стало быть, самая структура
его уже предполагает в себе чисто арифметическую счет-
ность и абсолютное взаимное безразличие единиц. Так,
Платон производит числа из Единого и Неопределенной
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
579
Двоицы. Но эти принципы суть, конечно, нечто, а именно
их тут два. Кроме того, Двоица, отличаясь от Единицы,
уже не может быть просто единицей. Она сама по себе есть
некое «два». Значит, начиная производить числа из
Единицы и Неопределенной Двоицы, мы уже оперируем по
крайней мере с двойкой или тройкой в чисто
арифметическом, т. е. в чисто счислимом, смысле. Итак, абсолютная
несчислимость — немыслима.
2. Не только каждый принцип из тех, которые лежат
в основе числа, но и их результат также предполагает
арифметическую счислимость. Можно закрыть на это
глаза, но тогда мы останемся в области чисто логических
операций и никогда не выявим специфическую природу
именно числа. Если же не закрывать глаза на это, то станет
ясным, что мы уже с самого начала имеем число, вывести
которое только еще собираемся. Это также опровергает
абсолютную несчислимость. Но это дает и нечто большее.
Именно, раз уже каждое число требует арифметической
счислимости, то невозможен такой ряд чисел, который бы
был сам по себе несчислим, а отдельные числа в нем были
бы внутри себя счислимы. Другими словами, этим
опровергается и прерывная счислимость.
3. Естественным следствием игнорирования внутри
структурной (в числе) однородной счислимости является
подмена числового принципа логическим и идейным, а
отсюда обоснованным кажется и появление в числах
качественной структуры. А между тем если не делать этой
главной и основной ошибки и не ослеплять себя логикой
числовой структуры, то ни для какой качественности не
останется в числе ровно никакого места.
Таким образом, мы в яснейшей форме видим теперь
единство позиции Аристотеля в отношении платонической
теории несчислимости и понимаем, как на этой основной
позиции появляются один за другим отдельные аргументы
в их логической связи и последовательности.
Ь) Со своей стороны мы не станем сейчас критиковать
изображенное здесь отношение Аристотеля к Платону, да
эта критика уже и ясна из наших предыдущих замечаний.
Но стоит отметить только то, что Аристотель просто не
о том говорит, о чем Платон. Ведь и раньше мы видели, что
Аристотель, например, приписывает Платону метафизику
абсолютного дуализма, в которой тот совершенно
неповинен. И здесь тоже приписывается платоническим числам
19*
Α. Φ. ЛОСЕВ
580
такая «качественность», о которой сам Платон, конечно,
и не думал. Вот почему Аристотель, делая заключительное
замечание после всей вообще своей критики теории не-
счислимости, находит нужным указать — как на самое
главное — на неясность понятия качества, на неясность
для него вопроса, в чем же заключается подлинное
различие между единицами. Этот именно отрывок 1083а 1—20,
представляющий собою начало уже следующей главы
XIII 8, нельзя вместе с Боницом (II 552 — 553) считать
последней аргументацией против прерывной счислимости.
Этот текст имеет гораздо более общее значение; и он есть,
мне кажется, заключение всей вообще критики как
абсолютной несчислимости, так и прерывной счислимости.
Содержание его совершенно общее, и оно показывает, что
самое главное расхождение между обоими философами
заключается именно в понимании подлинного различия
между единицами. Это есть исходный пункт всего
расхождения. Если бы удалось уладить его, то все прочие
аргументы отпали бы сами собой.
Аристотель тут рассуждает так. Я знаю, говорит он,
различия только по качеству и по количеству. По
количеству могут различаться только чистые и отвлеченные
числа. Но это предполагает, что все единицы совершенно
одинаковы между собою количественно. Бессмысленно
было бы говорить, что более ранние числа и единицы —
одни, а более поздние — другие (1083а 1—8). Невозможно
также представить себе, чтобы единицы и числа
отличались между собою по качеству. Для этого надо, чтобы они
имели какое-нибудь вещественное свойство, какую-нибудь
«аффекцию». Это свойство, кроме того, все равно
предполагало бы самое число, свойством которого оно является.
Могут сказать, что качество появляется благодаря
принципам Единого и Неопределенной Двоицы. Но Единое
совсем не есть какое-нибудь качество; это — количество.
А Двоица, правда, содержит некое качество, но это
качество не обладает самостоятельной природой, отличной от
количества, т. е. это есть качество количества же,
количественным образом данное качество. Поэтому, говорит
Аристотель, надо было бы, чтобы авторы теории
несчислимости с самого же начала точно определили, что они,
собственно говоря, понимают под качественностью чисел.
Иначе же вся теория колеблется в основании. А приговор
Аристотеля остается суровым и непреклонным: «Если
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 I
581
только идеи суть числа, то никакие единицы не могут
ни быть счислимыми, ни каким-либо способом быть друг
с. другом несчислимыми» (8—20).
с) Аристотель сам проговорился и показал, что ему
известно, какое именно различие имеют в виду платоники,
когда говорят о несчислимых числах. Они, конечно, не
превращают их просто в идеи. Тогда ведь нечего было бы
и строить теорию. Раз это есть теория идеальных чисел,
то, как они ни идеальны, они не могут быть просто идеями;
они суть именно числа. Но все-таки от арифметических
чисел они отличаются тем, что они «идеальны»,
содержательны, качественны, взаимно-разнородны. Понимать же
это нужно так, что они суть количественно и числовым
образом построенное качество. Они — не просто идеи, но
числовые образы идеи. На них везде лежит отпечаток
Неопределенной Двоицы, от которой они происходят,
печать той сплошной множественности непрерывно
становящегося континуума, который и превращает
арифметическое число в число, как бы материально воплощенное,
в рисунок, в фигурность. Это, конечно, не физическая, а
умная, интеллигибельная материя, которая привносит в
голую счетность разную направленность отдельных единиц
счета, вносит в них идею порядка и превращает их в
особую «Gestaltqualität», в числовую фигурность и
картинность. Все это именно потому, что числа — из Единого
(принцип единичности и оформленности) и
Неопределенной Двоицы, которая, по 1083а 13,— ποσοποιόν,
«количественно-качественна» (принцип умно-материального
воплощения голой арифметической счетности в числовую
фигурность), Аристотель же никак не может понять такого
происхождения и притом таких чисел. И неудивительно.
Понять это значило бы стать диалектиком.
13. Критика других теорий. Итак, мы
проанализировали критику несчислимости у Аристотеля. Теперь на очереди
еще ряд концепций числа, о которых Аристотель говорил
в главе XIII 6.
а) И прежде всего, на очереди то оригинальное учение,
вопрос об авторстве которого трудно решить с полной
определенностью, но которое обладает вполне определенным
характером. В его авторстве колеблется и Александр. Он
приписывает его то Ксенократу (722, 28), то Ксенократу
и Спевсиппу (761, 31), то «некоторым пифагорейцам»
(700, 3; 744, 15), то просто ничего не говорит об этом (793,
Α. Φ. ЛОСЕВ
'
582
13). Можно думать, следовательно, что это учение во
всяком случае очень близко к Древней Академии. Сводится
оно к тому, что тут отрицается существование идей как
самих по себе, так и в виде чисел, но утверждаются
математические предметы (т. е., надо полагать,
арифметические числа) как подлинные принципы вещей. Тут
арифметические числа ставятся на место идей, и вполне
сохраняется платоническая «отделенность» от вещей. Критикуя
это учение, Аристотель использует тот его пункт, по
которому числа все имеют свое происхождение от Единого-в-
себе. Если существует Единое-в-себе как нечто отличное от
единицы просто, то должна существовать и Двойка-в-себе
для всех двоек, и Тройка-в-себе для всех троек, и т. д. Или
Единое есть принцип для всех чисел — тогда это не число,
а идея и тогда надо исходить из идей, а эти философы как
раз их отрицают. Или Единое есть принцип для единиц —
тогда для двоек должна быть принципом Двойка-в-себе,
для троек — Тройка-в-себе и т. д. Но первого не может
быть. Следовательно, эти философы проповедуют не что
иное, как все то же самое учение Платона, по которому
каждому арифметическому числу соответствует свое
идеальное, т. е. проповедуют учение об идеальных
числах — со всеми свойственными ему трудностями и
неясностями (1083а 21 —Ы). Получающиеся таким образом
принципы бытия, одновременно математические и
идеальные, страдают неясностью в двух отношениях. Во-первых,
они слишком отвлеченны и не доведены до вскрытия
именно числовой природы. Во-вторых, они несут с собой
все те ошибочные выводы, которые свойственны и
платоновским идеальным числам (1083b 1—8).
b) Другая концепция, затрагиваемая здесь, есть та,
которую сам Аристотель называет пифагорейской. Она,
устраняя разделение числа и вещи, избегает многих
затруднений, в которые впадают выше разобранные учения.
Но зато ей свойственны свои собственные трудности.
Пифагорейцы учат, что тела составляются из чисел;
в то же время они утверждают, что числа эти — вполне
математические. Для Аристотеля это, конечно, ни в каком
случае неприемлемо. Тут он повторяет один из своих
прежних аргументов (вспомним его третий аргумент
относительно «отделения» «математических предметов» — XIII 2,
1076b 4—11): «Не может быть истиной утверждение, что
[пространственные] величины неделимы» (1083b 13—14).
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
583
Другими словами, числа мыслятся им в пифагорействе
неделимыми; и в то же время Аристотель мыслит их
телесными, так что они свою телесную неделимость
переносят и на обыкновенные тела. Это действительно нелепо
(1083b 8—19).
Основная же ошибка всех этих теорий, заключает
Аристотель, т. е. и платонической, и «академической»,
и пифагорейской, заключается в том, что они мыслят число
бытийственно самостоятельным принципом (των δνττωυ τι
καθ'αυτό, b 20). Благодаря этому им приходится отделять
числа от вещей. Разобранные выше ошибки этих теорий,
думает он, обнаруживают ложность этой их основной
исходной позиции (1083b 19—23).
14. Критика детальных моментов платонической теории
чисел, а) Разбросанность и несистематичность отдельных
аргументов Аристотеля против платонизма и
пифагорейства очень затрудняет анализ его текста. До сих пор
разобраны в общем четыре отдельные теории, из которых
первые две обладают чисто платоническим характером и
принадлежат, вероятно, самому Платону, третью я
называю (условно) академической и четвертую сам
Аристотель называет пифагорейской. Теперь в дальнейшем мы
находим целый ряд аргументов, которые представляют
собою, с одной стороны, параллель и дополнение к
критике Платона, с другой же, дают нечто новое.
Исследователи (Бониц, Швеглер) уже не раз указывали на
неувязку последних двух книг «Метафизики» в смысле четкости
в разделении отдельных аргументов. То, что мы находим
после критики пифагорейства, за невозможностью
объединить более существенно мы соберем в один большой отдел,
с тем чтобы потом уже дать этим аргументам
сравнительный анализ. Этот текст очень большой; он выходит за
пределы 8-й главы —XIII 8, 1083b 23—9, 1085b 34.
Единственно, что мы можем вынести из
предварительного ознакомления с этими аргументами,— это то, что они
все касаются более детальных вопросов платонической
теории чисел. Поэтому и назовем данную часть XIII книги
«Метафизики» «критикой детальных моментов
платонической теории чисел». Тут расчленимы 5 аргументов.
Ь) 1) Второй (материальный) принцип числового
образования, как мы уже указывали, именуется различно.
Кроме анализированного выше наименования
«Неопределенная Двоица» еще употреблялся термин «Большое-и-
Α. Φ. ЛОСЕВ
584
Малое». Числа, по этой теории, происходят через взаимное
уравновешивание Большого и Малого. Аристотелю это
непонятно. Числа могут происходить, рассуждает он, или все
из этих двух принципов как из чего-то одного, или одни —
из Большого, другие — из Малого. Последнее недопустимо
потому, что числа, получающиеся таким способом, будут
разнородны и несчислимы, поскольку разнородны и самые
эти принципы. Например, возьмем тройку. Пусть одна
единица в ней будет от Большого, другая — от Малого.
Но что такое третья единица в ней — неизвестно. Она есть,
с точки зрения Аристотеля, прежде всего нечто нечетное.
Но что такое есть чет или нечет с точки зрения теории
Большого и Малого — неизвестно. Может быть, поэтому
сторонники такой теории и делят каждое нечетное
число на две половины, одну производя из Большого,
другую же из Малого, и помещают посредине между
этими половинами Единое (1083b 23—30). Но допустим,
что каждое число происходит сразу из Большого-и-Малого
как некоего единого принципа. Тогда непонятно: 1) как из
этого принципа (а он есть ведь некая
противоположность) может получиться двойка, которая как раз не
двойственна, а единична; 2) чем она будет отличаться,
например, от единицы (Ь 30—32) и 3) каково происхождение
единицы, которая ведь раньше двойки и всех других
чисел и является их идеей и пред собою имеет только
Неопределенную Двоицу Большого-и-Малого, которая
есть сила удвоения, а не единения (Ь 32—36).
Вся эта аргументация есть сплошное недоразумение.
Аристотель не понимает, что «Большое-и-Малое» не есть
какие-то два, хотя и очень тесно связанные один с другим
принципа, но — один, совершенно неделимый принцип
алогического становления, в котором «большое» и «малое»
антиномически слиты в одно сплошное меональное бытие.
Тут у Аристотеля та же нелепость, как если бы «бесконечно
малое» математического анализа стали понимать как два
отдельных принципа—1) бесконечности и 2) малости,
игнорируя то самое, что как раз объединяет эти два числа
в одно, совершенно определенное и неделимое понятие
становления («то, что может стать меньше любой заданной
величины»). Поэтому первая альтернатива, что одни
числа — из Большого, другие — из Малого, имеет
совершенно вздорный характер. Вторая же альтернатива
стоит, в сущности, тоже на почве такого же «понимания»
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
585
Большого-и-Малого и отличается от первой тем, что берет
эти «два» принципа в их взаимной связи (в то время как
их нельзя брать и в связи, так как их вообще не два,
а один). В частности, последнее критическое замечание
Аристотеля (о том, что при теории Большого-и-Малого
нельзя объяснить происхождение единицы) указывает на
то, что Аристотель забыл теорию, им же самим
излагаемую. По Платону, числа происходят не из Большого-и-
Малого, но из Единого и Большого-и-Малого. Большое-и-
Малое есть только материальный принцип (см. прим. 70
к переводу).
2) Аристотель доказывает, что с точки зрения
идеальных чисел не может быть ни бесконечного числа, ни
конечного (1083b 36—1084а Г). Бесконечным число не может
быть, во-первых, потому, что бесконечное вообще ни четно,
ни нечетно; у Платона же числа, по определенным
законам, делаются то четными, то нечетными (1084а 1—7).
Во-вторых же, всякая идея есть идея чего-нибудь, т. е.
бесконечное число (как идея) есть идея бесконечного,
бесконечных по количеству вещей. Бесконечное же
невозможно ни по их собственному (платоников) убеждению,
ни по разумным основаниям (а 7—10). Конечным же число
у Платона тоже не может быть. Во-первых, неизвестно,
где находится этот конец, или предел, числа. Хотя Платон
и считает таким пределом свою Десятерицу — она
слишком мала 3*. Если, например, тройка есть человек-в-себе,
то что же такое, например, лошадь-в-себе? А ведь живых
существ очень много, не только эти два вида существуют
(10—15). Кроме того, во-вторых, возникают явные
нелепости: если тройка есть человек-в-себе, то и все другие
тройки будут «человеки», и человеков окажется
бесчисленное количество; если человек — двойка, а лошадь,
допустим, четверка, поскольку двойка есть часть четверки,—
человек окажется частью лошади (15—25). В-третьих,
неизвестно, почему именно берется Десятерица и почему
нет идеального числа «одиннадцать». У Платона, говорит
Аристотель, получается почему-то так, что числа до Деся-
терицы более идеальны и совершенны, чем сама
Десятерица; в то же время, чем дальше от единицы, тем более
сложен процесс происхождения числа; а где более сложное
происхождение, там и меньше совершенства. Наконец,
Десятерица считается у них совершенной потому, что все
основные категории порождаются у них внутри Десяте-.
Α. Φ. ЛОСЕВ
586
рицы, включая и геометрические тела. Это все тоже
нелепо (а 25—Ь2).
По поводу этой аргументации я замечу, что возражения
относительно четности или нечетности, равно как и
относительно конечности и бесконечности, не имеют никакого
отношения специально к отделенным числам, Аристотель
пишет (1083b 37—1084а 1): «Ведь они делают число
[субстанциально] неотделимым [от вещей], так что
(ώστε) не может не наличествовать один из этих
[способов существования]», т. е. или предел, или
беспредельность. Я не понимаю, что нового вносит в проблему
предела или беспредельности то обстоятельство, что числа
мыслятся субстанциально самостоятельными. Допустим
даже, что Аристотель доказал невозможность совместить
бесконечность с четом или нечетом. Это, однако, еще
далеко не есть доказательство невозможности
«идеальных» чисел. Итак, проблема конечности и бесконечности
притянута сюда за волосы, если иметь в виду тезис
«отделенное™». Но мало и этого. Отбросим «отделение» и
сосредоточимся на самом существе дела. Четность и нечетность
имеют для Аристотеля исключительно арифметический
характер. Это не имеет ничего общего с соответственными
платоновскими терминами. Здесь нечет — принцип формы
и устойчивости, единичности; чет же тут— принцип
становления, алогического ухода в беспредельность,
бесформенной множественности. Применение этих принципов
к идеальным числам не только вполне допустимо, но и
совершенно необходимо — конечно, совершенно не в
аристотелевском смысле. Смешны также аргументы
относительно Десятерицы. Ни Десятерица, ни числа, входящие
в ее состав, совсем не есть арифметические числа. Это,
с одной стороны, чистые основные категории разума (и
бытия) вообще, с другой же — это качественно-числовые
символы, не имеющие никакого отношения ни к
«человекам», ни к «лошадям».
3) С точки зрения платоновских принципов неясно,
как понимать Единое и в чем его природа как принципа?
С одной стороны, раз всякое число имеет в себе несколько
единиц, Единое должно быть раньше всякого другого
числа. С другой стороны, реальным ведь является эйдос,
т. е. то целое, что появляется из сложения с материей;
тогда раньше будет отдельное число и Единое будет
позже его. Аристотель не знает, как это совместить.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
ІвмІ
587
Он поясняет это примером с углами. Прямой угол по
определению, т. е. по смыслу,— раньше острого, ибо
последний именно от него и получает свое определение.
Но по материи, вещественно, он позже острого, потому
что острый меньше его и является его частью.
По-видимому, говорит Аристотель, Единое есть у Платона принцип
в обоих смыслах, т. е. и как материя (как острый угол для
прямого), и как форма, смысл (прямой угол для острого).
Но это невозможно. Можно тут говорить в известном
смысле еще о потенциальном Едином. Но в
действительности, энтелехийно, ни Единое как материя, ни Единое как
форма вовсе не суть единицы (1084b 2—23). Причину всех
этих нелепостей Аристотель видит в том, что платоники
путают математику и общелогические рассуждения. С
точки зрения чистой математики Единое, конечно, есть не
что иное, как самая обыкновенная единица или точка —
материя для чисел. С точки же зрения логики Единое
превращается только в один из моментов сущего, который
может иметь то одну, то другую характеристику (Ь 23—32).
В противоположность всему этому Аристотель выставляет
категорическое требование: Единое есть просто единица,
за которой следует не что иное, как двойка, в каком бы
смысле мы ни брали единицу и двойку. У платоников же
это вовсе не так. У них идут сначала идеальные числа,
а потом уже арифметические, так что получается, двойка
существует у них раньше двух счетных, арифметических
единиц (1084b 27—1085а 2).
Возражать против этого аргумента — значит повторять
уже высказанные мысли. Я укажу только на то, что тут
перед нами одно из центральных расхождений платонизма
и аристотелизма вообще. Дело в том, что и Единое, как
и все прочее, имеет в платонизме чисто диалектический
смысл. Как первопринцип и первоипостась, он есть полное
и абсолютное тождество во всем одного и иного, та перво-
сила, которая энергийно порождает из себя и всякое
оформление, и всякую бесформенность. Это гениально
предначертано уже в рассуждениях Платона об Идее
Блага в «Государстве». С диалектическими деталями это
развито у Плотина. Для такого Единого, разумеется, не
подойдет ни предикация формы, ни предикация «материи».
Оно не есть «форма», ибо — выше всякого бытия и
познания. Но оно не есть и материя, ибо оно есть всеобщий
смысл и идея всего сущего и не-сущего, формы и материи.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
588
Оно есть абсолютное тождество и неразличимость формы
и материи. И этого, конечно, не понять Аристотелю. Для
него Единое есть одна из обыкновенных
несамостоятельных предикаций; и ему не свойственна никакая
самостоятельная, субстанциальная и ипостасийная природа 8.
Он не может увидеть того первопринципа, который в одной
неразличимой точке сливает и «форму» и «материю» и
энергийно порождает их из себя, будучи сам их полным
преодолением и превосходством. Отсюда его и
формальнологическая позиция в отношении платоновского принципа
Единого. Понятным делается также и то, почему
Аристотель недоумевает по поводу происхождения и
последовательности отдельных чисел, по поводу, например, того,
непосредственно ли за Единым следует двойка или нет (9,
1085а 3—7). Бесполезно Платон стал бы ему доказывать,
что Единое вовсе не есть число и единица и что самый
вопрос о «следовании» двойки за таким Единым не имеет
никакого смысла.
4) Аргументация по отдельным проблемам
продолжается и в XIII 9. На очереди — вопрос о принципах
геометрических построений, а) Чтобы получить эти
последние, платоники, говорит Аристотель, не могут
удовлетвориться одним Большим-и-Малым и пользуются
различными его видами — Длинным-и-Коротким, Широким-и-Уз-
ким, Глубоким-и-Ровным (1085а 7—15). Но ведь эти
принципы различны. Значит, раздельны и самые построения,
т. е. отрешены друг от друга. А если эти принципы
совпадают, то поверхность станет линией, а тело —
поверхностью. Следовательно, нелепость получается в обоих
случаях (аіб—19).— Тут Аристотель продолжает смешивать
логическую и числовую точку зрения. Логически линия
не есть поверхность, но геометрически и арифметически
линия вполне совпадает с поверхностью и может даже
измерять эту последнюю. Структурные моменты поверхности
и тела — различны, но все они могут совпасть в одной
общей и неделимой геометрической фигуре. Ь)
Затруднения с геометрическими построениями аналогичны
затруднениям с числами. Платоники тут тоже хотят телесное кон-
8 Желающих более подробно ознакомиться с проблемой единства
у Аристотеля я отослал бы к своему специальному анализу этого в
«Античн. косм.», а желающих знать платоническую критику на это
учение Аристотеля — к «Диалектике числа у Плотина». М., 1928, 172—
178, ср. 84—96.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
'
589
струировать из нетелесного (а 19—23). с) Затруднения
с геометрическими построениями — те же, что и с идеями,
говорит Аристотель. Как для идей недопустимо их
отдельное от вещей существование, так и для
геометрических построений — общее не отдельно от того, чего общим
оно является (а 23—31). Нельзя следовать также и за
теми учениями, которые делают материю множественной.
Если материя, откуда происходят геометрические фигуры,
одна, то совпадают и эти последние; а если материй —
много, то и геометрические построения друг другу диспа-
ратны. Это — тот же аргумент, что и выше о различии
видов материи (а 35 — b 4). Слова Аристотеля тут
маловразумительны. То, что понятно, есть прямое повторение
вышеприведенного аргумента (1085а 16—49).
5) Последний аргумент касается выведения чисел из
Единого и Множества. «Множество» — одно из
платонических названий второго, материального, принципа
образования чисел (наряду с Неопределенной Двоицей, Боль-
шим-и-Малым и др.)· По мнению Аристотеля, тут — те же
трудности, что и в случае с Неопределенной Двоицей
(1085b 4—7). а) От платоновского учения о
Неопределенной Двоице данная концепция отличается только тем,
что там мыслится неопределенное множество, множество
предицируемого вообще, тут же — данное, определенное
множество; и двойка тут есть именно эта первая
определенная множественность. Поэтому, как там не подходил
ни один термин для характеристики взаимо-общения обоих
принципов (смешение, соположность, слияние,
происхождение и пр.), так не годится ни один из них и здесь (Ь 7—
12). Ь) Далее, непонятно, как же получается отсюда
каждое отдельное число и единица. Просто Единым-в-себе
единица, конечно, не может быть. Просто Множеством
она тоже не может быть, раз она есть нечто определенное
и, следовательно, неделимое. Значит, она должна
происходить из Единого и Множества. Но Множество тут не может
быть ни просто Множеством, ибо отдельная единица
именно не множественна, а едина, ни частью, или моментом,
Множества, ибо момент в свою очередь или един, или
множествен, и апория, следовательно, остается. В результате,
говоря о происхождении чисел из Единого и Множества,
платоники уже оперируют числом именно в понятии
Множества, так как число и есть не что иное, как множество
неделимых единиц (Ы2—22).— Тут обычная аристотелев-
Α. Φ. ЛОСЕВ
590
екая ошибка — арифметическое и формально-числовое
понимание принципа, который («Множество») в устах
его автора является принципом чисто логическим и
диалектическим, с) Множество может быть и предельным и
беспредельным. Какое именно Множество объединяется с
Единым, чтобы породить числа,— платоники не говорят.
Неизвестен также характер этого «Множества» и в
образовании геометрических величин. Допустим, что оно есть
некое расстояние. Но это расстояние может быть только
делимым, так как это не числа и не единицы просто, но
именно геометрические величины. Значит, его нельзя
объединить с точкой (являющейся здесь «формальным»
принципом наподобие «Единого» в числах), которая именно
отличается тем, что она неделима (Ь 23—34). Здесь —
продолжение той же общей ошибки Аристотеля в
отношении Платона.
с) Сравнивая изложенные нами 5 аргументов,
содержащихся в XIII 8, 1083b 29—9, 1085b 34, мы действительно
убеждаемся, что это есть не что иное, как детализация
более общей критики платонического учения о числах.
Во-первых, эта детализация касается принципа Единого
(№ 3) : доказывается противоречивость этого понятия,
поскольку оно дано в платонизме и как «форма», и как
«материя». Во-вторых, детализация касается принципа
Двоицы: критикуется учение о нем как о Болыиом-и-Малом
(№ 1) и как о Множестве (№ 5). В-третьих, дается анализ
понятий конечного и бесконечного в отношении
платоновских чисел (№ 2) и, в-четвертых,— анализ геометрических
дедукций (№ 4). Можно сказать еще и так. Детализация
касается Единого (№ 3), материального принципа (№ 1
и 5) и их совокупного результата — а) чисел, с точки
зрения конечности и бесконечности (№ 2), и Ь)
геометрических величин (№ 4). Общей характеристикой отношения
Аристотеля к Платону остается и здесь непонимание
платонического диалектического метода. Если бы Аристотель
владел диалектическим методом, то он не затруднился бы
увидеть 1) в Едином тождество «формы» и «материи»,
2) в Большом-и-Малом, или Множестве,— диалектический
принцип становящегося меона, 3) в идеальном числе —
тождество конечности и бесконечности, а 4) в
геометрических величинах — одну из закономерных стадий обще-
диалектического процесса мысли.
15. Вопрос о конце XIII книги, а) На этом заканчи-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
591
вается у Аристотеля критика платонизма в смысле учения
об идеях и числах. Малозначительное заключение (1085b
36—1086а 21), представляющее собой перефразировку
общей характеристики разобранных учений, можно здесь
и не излагать. Интересно, однако, что с XIII 9, 1086а 21
начинается какое-то новое исследование, о котором не
сразу догадаешься, какова его тема и каково его
отношение к предыдущей критике платонизма. Ближайшая
тема — ясна. Это не что иное, как повторение 7-й апории,
об антитезе общего и единичного, которую можно найти
и в других местах «Метафизики», и прежде всего в III 4
(ср. также 14-ю апорию в III 6, 1003а 5—-17). Однако
постановка и разрешение этой апории должно быть
понято нами не само по себе, но в связи со всем контекстом
данной главы XIII 9.
Радикальнее всего и, на мой взгляд, лучше всего судил
СириаНу который сообщает, что некоторые доводят
XIII книгу до сих пор и далее начинают XIV книгу
«Метафизики». Этому противоречит Александр, который,
несомненно, XIV книгу начинает там же, где и наши издания.
Швеглер (IV 334) думает, что этот отрывок (до конца
главы) отнесен сюда диаскевастами по ошибке, что это
есть не больше как вариант к XIII 4, причем
разнохарактерность этого отрывка по сравнению с контекстом не
сглажена, так как в 1086а 30 вновь говорится о теориях,
которые уже изложены. («Позже должны быть
исследованы те, кто создает одни числа и притом [делает] их
математическими»,— о теории, которую мы общо и
условно назвали «академической».)
Ь) Я думаю, что для нас важно не столько то, откуда
начинать XIV книгу и где кончать XIII, сколько вопрос о
логическом содержании всего анализируемого нами
контекста. Сириан говорит, что некоторые рукописи в его
время начинают XIV книгу с места XIII 9, 1086а 21; Александр
начинает ее там же, где и наши издания, т. е. с 1087а 26.
Пусть эта невыясненность останется сама при себе. Вопрос
этот и допускает, очевидно, двоякое решение, и в конце
концов не столь существен. Правда, важнее вопрос о том,
может ли конец нашей XIII книги, т. е. 1086а 21 — 1087а
26, быть логическим завершением всей XIII книги.
Достаточно хотя бы бегло ознакомиться с этим отрывком,
чтобы убедиться в его полной несоединимости с
содержанием XIII книги. Наоборот, он явно гармонирует с содер-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
592
жанием XIV книги. Но если так, то мы должны найти
такую тему, которая действительно бы объединила этот
отрывок с XIV книгой и которая бы ясно показала все
своеобразие содержания этой книги в сравнении с XIII.
Мне кажется, Бониц (II 565) прав, когда думает, что новое
исследование посвящается вопросам о принципах, в то
время как прежнее исследование занималось проблемами
субстанций. В самом деле, прочитаем в начале XIII книги
слова: « [Теперь] предстоит рассмотреть, существует ли
наряду с чувственными субстанциями какая-нибудь
неподвижная и вечная или не существует, и если существует,
то что она такое» (1076а 10—12). И сравним с этим самое
начало предполагаемой XIV книги: «То, что говорят о
первых принципах, первых причинах и элементах те, кто
ограничивается одной чувственной субстанцией, отчасти
сказано в книгах о природе, отчасти не относится к
теперешнему исследованию. Учение же тех, кто утверждает кроме
чувственных [еще] другие субстанции, можно рассмотреть
как примыкающее к сказанному. Именно, если некоторые
говорят, что существуют такие идеи и числа и что их
элементы есть элементы и принципы сущего, то нужно
рассмотреть относительно этого, что они говорят и как
говорят» (1086а 21—29). Эти слова есть не только типичное
начало каждой аристотелевской книги, но, кроме того,
сравнение с началом XIII книги явно свидетельствует о
переходе к новой теме и показывает, что это есть тема
именно о принципах и элементах. XIII книга
рассматривала идеи и числа как субстанции. Это значит, что там
решался вопрос: что такое идеи и числа у Платона и
существуют ли они? Теперь же вопрос ставится совсем иначе.
Теперь рассматривается их функциональная природа, не
то, что такое они сами по себе, но то, как они
функционируют в себе и во всем другом. Ведь идеи и числа, по Платону,
есть не просто неподвижные, статические образования.
Они суть идеальные причины сущего, элементы, из
которых созидается сущее, принципы его смыслового строения.
Вот этой критике идей и чисел как принципов и
посвящается XIV книга и отрывок XIII книги, начиная с 1086а 21.
Пойдем нашим обычным методом. Расчленим все
содержание этого материала на отдельные пункты и потом
подвергнем их сравнительному анализу. Таких основных
больших пунктов я нахожу в этом материале по крайней
мере семь.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I _
593
16. Критика учения о принципах. 1) Первый вопрос
касательно принципов является важнейшим и
труднейшим; это — вопрос о взаимоотношении общего и
единичного. Аристотель трактует эту антитезу сначала как
вытекающую из самых основ платонизма (XIII 9, 1086а 31 —
ЫЗ), затем дает ей общую формулу: если принципов нет
отдельно от вещей, тогда нет и самих вещей, а если они
существуют как отдельные от вещей, то они уже не есть
принципы вещей (10, 1086b 14—20); наконец, он
раскрывает и детально (1086b 20—1087а 4), чтобы потом дать
ее разрешение (1087а 4—25). В детальном раскрытии он
рассматривает две возможности — что а) принципы есть
только частное и единичное и что Ь) принципы есть
только общее. Если принципы суть нечто только частное
и единичное, то 1. «сущего [тогда] будет существовать
столько, сколько есть элементов». Действительно, пусть мы
имеем слог из двух букв. Одна буква есть буква сама по
себе и никакого слога не образует, и другая буква есть
буква сама по себе и тоже никакого слога не образует.
Спрашивается: как же может получиться при таких
условиях слог} Да и сам слог будет опять так чем-то
единичным и уединенной, изолированной от всего прочего вещью,
так что и в нем мы не найдем никакой расчлененности.
Явно, что (если) принципы — только единичны, тогда нет
вообще ничего, даже и единичного (Ь 20—32). Кроме
того, 2. при этих условиях элементы вообще не могут быть
предметом знания, так как знание относится всегда только
к общему. Откуда я знаю, что сумма углов треугольника
равняется двум прямым углам? Только из того, что всякий
вообще треугольник таков. Но если я этого не знаю, как
была бы возможна геометрия (Ь 32—37)? Но также
невозможно допустить, что принципы есть нечто только общее.
Ведь общее (рассуждает Аристотель со своей точки
зрения) не есть субстанция. Если принципы суть общее, а
всякий принцип, конечно, раньше вещи, для которой он
является принципом, то получится, что не-субстанция
раньше субстанции (1086b 37—1087а 4). Стало быть,
остается некий третий путь к пониманию подлинной
природы принципов, путь, который отказывается считать их
и только единичными, и только общими. К сожалению,
в указании этого пути Аристотель чрезвычайно краток.
Однако искомое решение дается тут вполне ясно. Именно,
Аристотель прибегает здесь к своим понятиям потенции
Α. Φ. ЛОСЕВ
f I
594
и энергии. Общее — существует, действует, оно —
реально. Но оно — потенциально существует, потенциально
действует, потенциально реально. В то же время
единичное — энергийно; оно есть как энергия и результат
энергии. Таким образом, вопрос о том, как совместить общее,
необходимое для спасения знания, и единичное,
необходимое для спасения бытия, сводится на вопрос о том, как
совместить потенцию с энергией. Это совмещение и
охарактеризует собою подлинную природу принципного бытия.
«И не будет ничего отдельного от вещей, и не будет
никакой [только единичной] субстанции» (1087а 4—25).
Таков первый вопрос, относящийся к теории принципов.
В нем две стороны. Мы находим тут прежде всего критику
платонизма. Во-вторых, Аристотель пытается тут дать
какую-то свою самостоятельную теорию.— Что касается
критики платонизма, то нельзя сказать, чтобы эта критика
била в цель. Аристотель думает, что принципы у Платона
имеют только общее значение и не имеют никакого
отношения к единичному. Едва ли это так. Для чего же и учил
Платон об идеях, как не для изображения способа
осмысленного существования вещей? У Платона идеи
осмысливают вещи, и уже по одному этому они не могут быть
в полном отрыве от вещей. Если бы Аристотель понимал
диалектику, то он понял бы то, как у Платона принцип,
будучи чем-то общим, в то же время осмысляет единичного
и как эта проблема общего-единичного есть только один
из видов общего вопроса о диалектическом
взаимоотношении сущего (эйдоса) и не-сущего, меона (материи).
Что же касается собственной теории, устанавливаемой
тут у Аристотеля, то специфичной для нее, в отличие от
Платона, является только то, что она —
формально-логична и в лучшем случае феноменологична. В самом деле,
отличается ли она от Платона тем, что отрицает
специфическую природу общего? Отнюдь нет. Аристотель сам
прекрасно понимает, что без этого невозможно обосновать
знания. Отличается ли эта теория от Платона тем, что
общее тут не осмысливает частного? Конечно, нет. Даже
больше того. Аристотель, как известно, строит целую
теорию мирового Сознания, которое есть Эйдос всех эйдосов
и энергийно осмысливает все сущее. Так в чем же разница
между аристотелевской теорией общего и платоновской?
Только в том, что для Платона общее и единичное есть
диалектические принципы, которые один другому противо-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 111
595
положны и в то же время взаимно тождественны; для
Аристотеля же их взаимное отношение отнюдь не обладает
этим свойством, но они находятся между собою в
феноменологическом отношении (существует единичная вещь, и в
ней — потенциально в сравнении с самой
вещественностью— общий эйдос). Для Платона «общее» и
«единичное» есть одинаково «абстрактные» принципы (по своей
мыслительной обработке) и одинаково «реальные» (по
своей применимости к бытию). Для Аристотеля же
«Единичное» есть «реальный» принцип, а «общее» есть
результат теории «абстракции». Вспомним, как в XIII 3 он и числа
определял как бытие абстрактов. То же самое делает в
наше время в своей феноменологии Гуссерль. Для него
существует основная антитеза смысла и явления. «Смысл»
он изучает и анализирует, а «явление» вовсе не есть
предмет феноменологии; это— «естественная установка».
Получается несомненный дуализм и
формально-логическая метафизика, как будто бы «явление» тоже не есть
смысл и категория, а «смысл» — не явление и вещь.
Возьмем логику Гегеля: там мы увидим, что «Wesen» и
«Erscheinung» есть одинаково «реальные» и одинаково
«логические» категории: они даны в диалектической
взаимосвязи. У Аристотеля же и у Гуссерля одно почему-то
удивительно как «реально», другое почему-то удивительно
как «идеально».
2) Второй большой вопрос, поднимаемый Аристотелем
в целях критики учения о принципах, есть вопрос о
понятии противоположности, Платон, как диалектик, учил, что
принципы находятся между собою в отношении
противоположности. Аристотель это отвергает, посвящая критике
платонизма в данном направлении большой отрывок
XIV 1, 1087а 29—2, 1090а 2. Разобьем эту длинную критику
на отдельные пункты и попробуем отдать себе в них отчет.
а) То, что находится в противоположности с чем-
нибудь, для своего определения нуждается в этом
последнем. Принцип же бытия есть то, что выше и логически
раньше всего. Следовательно, принципы не могут быть
в отношении противоположности. Кроме того, принцип
нужно отличать от вещи, находящейся в том или другом
субстрате. Принцип не нуждается в субстрате и есть
субстанция. А это тоже значит, что ему ничто не
противоположно (1, 1087а 29—b 4).— Аристотель здесь допускает
двусмысленность термина «раньше». Принципы действи-
А.Ф.ЛОСЕВ
I 1
596
тельно раньше бытия. Но это нисколько не мешает
принципам находиться между собою в отношении
«раньше» или «позже». По Платону, «сущее» раньше, чем
«иное», но оно же и одновременно с ним, ибо не только
различествует с ним, но и отождествляется с ним.
b) Платоники, далее, сами хорошенько не знают, что
с чем в принципах находится в отношении
противоположности. Вторым членом отношения является материя, но
материю эту они понимают весьма различно. Одни
противополагают Единое и Неравное, другие — Единое и
Множество, третьи — Единое и Большое-и-Малое,
четвертые — Единое и Многое-u-Немногое, пятые — Единое и
Π ревосходящее-и-Превосходимое, шестые — и Единое, и
Иное. Согласования этих воззрений найти невозможно.
Так, Неравное и Большое-и-Малое хотя и тождественны
по смыслу, но различны нумерически; Превосходящее-и-
Превосходимое, допустим, раньше Большого-и-Малого,
и потому оно — принцип; но число раньше еще его самого,
так что оно уже не есть принцип числа. Из
вышеприведенных пар, быть может, правильнее всего антитеза
Единого и Множества, но она имеет тот недостаток, что
раз Единое противоположно многому, то, стало быть,
вместо Единого надо бы говорить о Немногом, и т. д.
(1087b 4—33).— Все эти соображения Аристотеля имеют
очевидно слишком непринципиальный характер, так что и
критиковать их не представляет особого интереса.
c) Не только материальный, но и формальный принцип
в платонизме подозрителен для Аристотеля. Именно,
Единое ни в коем случае не есть какая-то особая субстанция
наряду с вещами и не есть даже число. Как всем лошадям
обще нечто абстрактное — «лошадь» и эта «лошадь» не
есть число — так же и всем предметам свойственно
единство; и это не значит, что Единое есть число. Единое
есть просто мера для измеренного количества (четверть
тона — единица, пять вершков — единица, такт или
ритм — некая единица, и т. д.) (1087b 33—1088а 14).—
Тут Аристотель просто снимает платоническую проблему
Единого. Сущность Единого в платонизме сводится к тому,
что в нем мы находим единство логических и
вне-логических определений вещи, ту ее исходную смысловую
точку, в которой вышебытийственно предопределены как ее
логическая неподвижная структура, так и все ее
алогические судьбы. Потому оно и — «выше сущности», «выше
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I \
597
знания». Все эти вопросы совершенно чужды Аристотелю,
и он в Едином Платона, в сущности, ничего не видит, кроме
арифметической единицы.
d) Такие принципы, как Неравное или Большое-и-
Малое, есть не принципы, или субстрат, на лоне которого
появлялись бы числа, но лишь их внешнее качество. Так,
мы говорим: «Эти числа равны или неравны, велики или
малы» и т. д. Это — в том же смысле, как мы говорим
о вещи, что она, например, гладкая или шероховатая
(1088а 15—21). Эти принципы, далее, имеют значение
только тогда, когда они берутся в отношении к чему-
нибудь, т. е. они существенно зависят от категории
отношения. Но отношение — категория очень поздняя; она
позже субстанции, качества и количества. Следовательно,
принципы эти, определяемые более поздними категориями,
не могут быть принципами. Отношение — это только
внешнее свойство чего-то уже существующего-, и притом
в данном качестве и количестве. Отношение само по себе
не может, например, возникать или уничтожаться; оно
всегда результат чего-то другого, что возникает и
уничтожается. Отношение не есть ни потенция, ни энергия
(а 21—b 4). Наконец, если Большое и Малое суть не что
иное, как те или иные предикаты числа, то нельзя
Большое и Малое считать элементами и принципами.
«Элементы не предицируются относительно того, для чего они
являются элементами*. Одно число мы называем
небольшим, другое — большим, да и одно и то же может быть
с одной точки зрения большим, а с другой — небольшим.
Значит, эти определения слишком внешни, чтобы быть
принципами внутреннего образования чисел (Ь 4—13).—
Явно, что и в этом пункте Аристотель игнорирует
диалектику Платона. Для Платона, повторяю, Большое-и-
Малое есть диалектический принцип. Аристотель же
понимает эти термины совершенно обывательски, разрывая,
кроме того, единый принцип на две, действительно
совершенно внешние, предикации.
e) Вечное, продолжает Аристотель, вообще не может
складываться из тех или других элементов, ибо в этом
случае оно было бы сложным, т. е. распадалось бы на
части, и эти части были бы раньше самого вечного бытия.
Вечность тогда содержала бы в себе потенциальное
бытие. А это значит, что она могла бы быть, могла бы и не
быть, т. е. она не была бы вечностью (2, 1088Ы4—
Α. Φ. ЛОСЕВ
I——I
598
35).— Тут — та же ошибка, что и в начале всего этого
второго пункта о принципах. Аристотель думает, что
«сложность» нужно понимать только в одном смысле —
в чувственно-вещном. Сложность, однако, может быть и в
логическом, идеальном; и от этого последнее не станет ни
менее логическим, ни менее идеальным. Правда, тогда
приходится допустить существование в вечном некоей
потенции, а не просто только субстанции. Но это делает и
платонизм, это делает и сам Аристотель (в вышеприводив-
шемся учении об умной материи).
f) Самой важной причиной всех заблуждений в
вопросе о принципной противоположности является, по мнению
Аристотеля, то, как платоники исправляли Парменида.
Парменид учил, что существует только одно, единое
сущее, а не-сущего ничего нет. Платоники же захотели
объяснить множественность сущего, так как они перестали
думать, что существует только единое сущее. Для этого
они и ввели принцип не-сущего. He-сущее, объединяясь
с сущим, должно, по их мнению, объяснить
множественность сущего (1088b 35—1089а 6). Аристотелю это все
кажется непонятным. Прежде всего, если говорится, что
сущее — едино, то о каком сущем идет речь? Сущее может
быть качеством, количеством и проч. И если сущее
множественно в силу привхождения не-сущего, то о каком
несущем идет тут речь? Кроме того — как себе представлять,
что не сущее вдруг стало принципом множественности
сущего (1089а 7—19)? Платон, вводя в своем учении о
материи понятие лжи, думает, что эта «материя» и «ложь»
играет ту же роль, что и неточность фигур, над которыми
оперирует геометр (и притом совершенно правильно
оперирует). Однако для геометра эта неправильность
фактически нарисованных фигур никакого значения не имеет, а в
возникновении или уничтожении вещей она ничего не
объясняет. Пусть, в самом деле, это «ложное»,
«материальное», «потенциальное» не-сущее как-то участвует
в возникновении и уничтожении вещей, и пусть даже через
него мы стали понимать, как из единого сущего появилось
множество отдельных субстанций. Но разве это
действительно значит, что мы поняли множественность вещей?
Нужно, чтобы это Большое-и-Малое и проч. объяснило
нам множественность реальных вещей, т. е. имеющих
определенные качества, количественную характеристику
и т. д. Ничего подобного у платоников нет. Но этого у них
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
599
и не может быть, потому что у них на первом плане
в принципах стоит отношение и отрицание, а не цельные
вещи; а из отношения и отрицания ничего и нельзя вывести
реального (а 20—Ы5). Остается один выход — признать,
что принципом бытия является потенциальное бытие.
Это признал и сам Платон. Но к сожалению, это свое
«не-сущее», или материю (что он правильно назвал
потенциальным), он стал трактовать впоследствии как
отношение и отрицание, т. е. дал тем самым ему уже специальное
качество и тем лишил его потенциальности. Получилось,
что это «потенциальное» есть просто одна из категорий.
Кроме того, не расчленивши понятие сущего, Платон, при
помощи своего материального принципа, достиг, как
сказано, только того, что объяснил лишь чистую
множественность вещей и ничего не сделал для объяснения
реально-качественной множественности.
Множественность — везде разная, в зависимости от того, с точки
зрения какой именно категории устанавливается
множественность. Одна множественность — с точки зрения качества,
другая — с точки зрения количества и т. д. Наконец,
Платон дает, можно сказать, чисто количественные
дедукции. Если не отождествлять «субстанции» и «количества»,
то дедукция на основе взаимоотношения сущего и
несущего есть чисто количественная дедукция, и отсюда еще
ровно ничего не получается для характеристики реальной
качественности дедуцируемого. А если отождествлять
«субстанцию» и «количество», то Платон запутается в еще
большие противоречия (1089b 15—1090а 2).— Можно
сказать, что весь этот большой отрывок 1088b 35—1090а 2
трактует об одном: принципы сущего и не-сущего не
объясняют реальной качественности вещей. Доказывается это
тем, что Платон исходит из единого, которое
обрабатывается у него при помощи понятий отношения и
отрицания. Эту не везде ясную аргументацию можно выразить
так: Платон оперирует с единым, но — Единое есть чисто
количественная категория; Платон, далее, в сфере этого
Единого производит расчленения на основании того или
иного отношения между расчленяемыми элементами или
их взаимного отрицания, но — отношения внутри
количества остаются чисто количественными; Платон
противопоставляет Единое — материальному принципу (из
взаимного отношения и отрицания которых он и выводит все
вещи), но — и этот материальный принцип получает у нас
А. Ф.ЛОСЕВ
I I
600
свою качественность все от того же Единого, т. е. никакой
материальной качественности в нем нет, а продолжает
быть все та же количественность.
Что сказать об этой аргументации Аристотеля?
Формально тут есть нечто правильное. Если исходить
из понятия единства в буквальном смысле, получается
действительно чисто количественная дедукция. Но все дело
заключается тут в том, что Аристотель, как везде,
вкладывает в платоновскую терминологию свои
собственные идеи. Есть ли платоновское Единое действительно
некое количество} Это не только не количество, но,
собственно говоря, даже и не форма. Единое — выше
сущности и, следовательно, выше формы, выше
количества. В платонизме, в особенности в позднем, очень резко
различается объединенность множества и неделимая
единичность этого множества. Единое же Платона есть не
только не объединенность, но даже и не единичность. Это
есть единичность идеального и материального, сущего и
несущего, т. е. абсолютная единичность всего необходимого,
возможного и действительного. Считать его количеством
никак не возможно. Оно — настолько же количество,
насколько и качество, или, лучше: оно — неделимая
единичность качества и количества, превышающая и всякую
отдельную качественность, и отдельную количественность.
Поэтому платоновские дедукции из единого отнюдь не
обладают специально количественным характером. Тут
выводятся решительно все категории, не только
количественные. «Парменид» Платона прекрасно показывает,
как из внешнего и количественного, а по существу из
принципа, превышающего всякую количественность и
качественность, выводятся все вообще основные категории
мысли и бытия. Следовательно, Аристотель и тут
продолжает стоять на своей обычной точке зрения:
диалектические категории Платона он понимает
формально-логически, количественно и арифметически. В частности,
неправильно мнение Аристотеля, что у Платона отрицание
и отношение выше всех категорий. Прежде всего,
отрицание вовсе даже не есть категория у Платона. Меон —
не категория, но — принцип образования категорий.
Всякая категория образуется через отграничение от инобытия,
т. е. через отрицание и отношение; и поэтому не-сущее,
меон — именно принцип образования категорий, а не
категория. У Плотина это развито в целую теорию. Аристо-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I—— I
601
тель же считает, что раз отрицание есть нечто, оно
есть уже как бы некое качество, т. е. одна из категорий.
Тут одна из крайностей и извращений формалистического
понимания (или, вернее, непонимания) диалектики.
Этим можно закончить характеристику последнего
момента в разбираемом большом аргументе о
противоположностях. Что можно сказать об этом втором
аргументе о противоположностях в целом? Аристотель говорит,
что принцип по самому своему понятию не может быть
противоположностью (а), что «материальный» принцип
у Платона противоречив (b), a «формальный» (Единое)
вообще не субстанциален (с), что оба они зависят от
категории отношения и являются не принципами бытия, а лишь
его внешним качеством (d), что вечное вообще не может
содержать в себе противоположность (е) и что, наконец,
и принципы, и все зависящие от них отдельные категории
обладают чисто количественным характером (f). Моменты
а) и е), очевидно, объединяются: принцип, как нечто
вечное, есть нечто самостоятельное и ни от чего не зависящее,
и потому он не зависит и ни от чего противоположного.
Затем говорится о них более частно: они d) внешне-
качественны и f) чисто количественны. Наконец, о
каждом в отдельности: Ь) один противоречив, а с) другой
несубстанциален. Объединяющей идеей всей этой
аргументации является то, что Аристотель понимает Единое и
материальный принцип — буквально: Единое для него просто
количественная единица, а материя, меон — просто одно
из качеств, т. е. одна из категорий. Отсюда ясным делается
и аристотелевское возражение: надо брать не одну
категорию (Единое), но все категории, и только тогда будет
достигнута полнота в описании принципов.
Итак, второй аргумент о принципах гласит так:
принципы не противоположны между собой, и все существенное
для противоположности вторично, а не принципно,
17. Продолжение. 3) Третий аргумент о принципах
касается чисел, и притом в самой общей форме. Более
детально принципная природа чисел будет рассмотрена
у Аристотеля в дальнейших, шестом и седьмом,
аргументах. В этом отрывке 2, 1090а 2—3, 1091а 12 не
содержится никаких новых интересных аргументов, которых бы
мы не встречали в предыдущем изложении. Интересно
только то, что числа здесь рассматриваются именно как
принципы, и в этом новизна данного отрывка.
Α. Φ. ЛОСЕВ
■Jm^— Ι—
602
a) Те, кто учит об идеях и считает число идеей, знает
подлинное основание своей веры в идеальные числа. Но
что делать тому, кто является противником учения об
идеях? У него нет никаких оснований верить в такие
числа, тем более что обычные числа одинаково
применимы решительно ко всем предметам опыта (1090а 2—15).
Мало этих оснований, собственно говоря, и у всех других.
«Идеалисты» существенно связаны со своими «идеями»,
и недопустимость этих последних ведет к опровержению
и идеальных чисел как принципов. Пифагорейцы,
отождествившие вещи и числа, тоже ошиблись, принявши
свойства за субстанцию. Погрешают и те, кто признает
существование только математических чисел: раз
существует действительно только математическое число, то оно
одно как таковое еще не уполномочивает на признание
за ним вещественно-метафизической реальности. Отпадает
и аргумент о невозможности знания без самостоятельных
математических величин, потому что для знания
достаточно признавать потенциальное общее, а самостоятельность
чисел даже разрушила бы знание, ибо получилось бы,
что принципы вещей — вне самих вещей. Пифагорейцы,
признающие телесную природу числа, не подпадают под
это обвинение, но они виновны в другом: они конструируют
физическое из нефизического. Далее, отпадает аргумент
и об отнесенности аксиом к предмету нефизическому,
так как тут в свою очередь поднимается новый вопрос:
как же это нефизическое, предмет мысли и математики,
связано с реально-физическими вещами. Наконец, нелепо
признавать за субстанции пределы геометрических фигур,
так как границы эти неотделимы от самих фигур и они
необходимо чувственны (2, 1090а 2—3, 1090b 13).
b) Погрешают иные, в особенности те, кто идеи
отрицает, а признает в качестве наивысших принципов только
математические числа, еще и в том, что они раскалывают
сущее на ряд самостоятельных разорванных сфер. У них
числа — сами по себе, геометрические величины — сами
по себе, душа или чувственное тело — само по себе.
Природа вовсе не страдает таким эпизодическим
характером наподобие плохой трагедии, как это думают данные
философы. Но если и признавать идеи, все равно учение
о математическом числе как принципе — уязвимо, потому
что число это продолжает быть оторванным от
чувственности и кто-то еще должен привести его в реальное движе-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
f I
603
ние. Какой же это «принцип» (1090b 13—32)?
c) Плохо рассуждают и те, кто расчленяет идеальное
и математическое число. Именно, Платон учит, что
математическое число находится посредине между идеальным
и чувственным. Но как это понимать? Если оно —
посредине и в то же время, как всякое число, происходит из
Большого-и-Малого, то это, по-видимому, другое Большое-
и-Малое, не то, из которого происходят идеальные числа.
Явно, что получается больше принципов, чем
утверждалось вначале. И Единое должно покрывать и обобщать
все эти принципы. Как же они могут, при всем своем
разнообразии, происходить из этого Единого (1090b 32—
1091а 5)?
d) Наконец, раз Двоица есть именно двойка, то
никаких других чисел кроме как через постепенное удвоение
и не может получиться из Единого. Платоники же
расточают слова, думая, что таким путем можно произвести
насилие над своими числовыми принципами и произвести
из них все сущее (1091а 5—12).
Все это давно знакомые нам аргументы, и они не
требуют никакого специального комментария. Аристотель
имеет в виду те же три основные концепции числа, что и в
XIII 1: «пифагорейскую» (число есть вещь, и вещь есть
число), «академическую» (идей нет, а принципом бытия
является математическое число) и платоновскую
(существуют идеи и идеальные числа, а математические
числа — «посредине» между идеальными и
чувственными). Таким образом, весь этот третий аргумент может
быть выражен так: принципы не могут быть числами, если
эти числа понимать как тела, как «самостоятельные»
математические и как «самостоятельные», «отделенные»
идеальные числа. Короче: принципы не могут быть
числами, если эти числа понимать как субстанции (телесные,
математические, идеальные). Основное доказательство —
то же: принципы — не вне того, чего они — принципы.
4) Четвертый аргумент, относящийся к учению о
принципах, трактует о становлении в сфере вечности.
Платонические принципы именно таковы, что они вносят
становление в сферу вечности. А это нелепо. Пифагорейцы — те
уже явно оперируют со своими «вечными» принципами
как с временными категориями, рассказывая, как Единое
привлекло к себе беспредельное и образовало Предел.
Это — прямая физика, а не какое-нибудь учение о принци-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
604
пах. В физике его и надо рассматривать. Но
физический характер подобных учений не всегда ясен. Так,
напр., твердо устанавливается, что становление относится
к чету, а нечет — вне всякого становления, или говорится,
что Большое-и-Малое для произведения из себя числа
должно уравняться. Это значит, что они неравны, т. е.
Неравное раньше Большого и Малого как таковых. Другими
словами, хронология введена и сюда. След., и тут вовсе нет
чисто идеального рассмотрения предмета, а становление
внесено в сферу самой вечности (3, 1091а 12—4, 1091
29).— Итак, принципы, как бытие вечное, не должны
содержать в себе становления. Аристотель и здесь во власти
своей формально-логической стихии. Для него
платонические принципы становления есть становящиеся принципы.
Но в таком случае он сам подпадает под свое
осуждение, потому что его мировой Ум тоже преисполнен
энергиями, содержащими весь космос и все, что его наполняет.
5) Пятый вопрос посвящается рассмотрению Блага и
Красоты как принципов (4, 1091а 29—5, 1092а 17).
Являются ли Благо и Красота принципами, или они — более
позднего происхождения (1091а 29—33)? Древние
мифологи, рисуя свою космогонию и космологию, начинают
с принципов более общих, и Благо у них не является
вначале. Многих пугает платоновское Единое, и потому они
следуют этим мифологам и не помещают Благо и Красоту
вначале. Этим следует возражать, что Благо тут ни при
чем. Если Единое не может быть вначале, то это еще
ничего не говорит о принципности Блага (а 33—b 3).
Древние поэты хотя и выставляют на первый план Зевса
вместо Ночи и Неба или Хаоса и Океана, но этот Зевс
все равно у них получается в результате ряда
мифологических периодов. Положительно у них то, что эти
принципы, предшествующие Зевсу, трактуются все же как Благо
и Красота. Такова «Дружба» Эмпедокла и «Ум»
Анаксагора (Ь 3—12). Наконец, платоники прямо отождествляют
свое Единое с Благом, но, в сущности, на первом плане
у них все-таки остается Единое, а не Благо (Ь 12—15).
Итак, какой же из двух способов рассуждения нужно
признать? Благо и Красота суть ли принципы, или это —
не принципы, а нечто вторичное и позднейшее? Ответ для
Аристотеля ясен: «Было бы удивительно, если бы первому,
вечному и высочайше-самодовлеющему это Первое-в-
себе, самодовление в себе и вечность не были бы
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 — 1
605
присущи как Благое» (Ы5—18). Но не через Единое
он благо, а через благо само по себе. Пусть даже
признается это Единое только относительно математических
чисел. Все равно отождествление Единого и Блага
недопустимо (Ь 18—25). Если Единое — Благо, то и всякое
число — благо. Получается уж слишком много благ
(Ь 25—26). Все идеи — тоже благи. Если идеи — благи
только в том случае, когда относятся к благим вещам,
то не все идеи, стало быть, субстанции. А если все
идеи субстанции, то благость можно приписать, напр.,
растениям (Ь 26—30). Кроме того, если Единое — Благо,
то противоположный ему принцип будет злом. «Неравное»,
«Большое-и-Малое» и т. д.— зло. Все — зло, кроме
Единого. Числа — участвуют в зле. Зло будет вообще
потенцией блага (1091b 30—1092а 5). К этому ряду мыслей
надо отнести и отрывок из начала 5-й главы. Нельзя,
говорит Аристотель, проводить аналогию между
принципами и живой природой в том отношении, что последняя
переходит от низших форм к высшим. Другими словами,
нельзя мыслить себе принципы как ряд последовательных
эманации. И в живой природе дело вовсе не обстоит
так, что совершенное всегда появляется из
несовершенного. Нельзя, напр., сказать, что человек появляется из
семени, так как само семя уже предполагает человека
(1092а 11 —17).— Весь этот отрывок носит характер
скорее излагательный, чем критический. Критических
замечаний, собственно говоря, три: 1) если Единое — Благо,
то все числа — благи; 2) если идеи — благи, то они не
для всего, и 3) если Единое — Благо, то второй
принцип — Зло. Все три замечания основаны, как это легко
заметить, на обычных аристотелевских недоразумениях.
В первом аргументе предполагается, что Единое есть
единица, первое число натурального ряда, в то время как
оно имеет у Платона очень отдаленное отношение к этому.
Второй аргумент игнорирует диалектику меона и переход
от идеи к вещи. Третий аргумент не страшен для
платонизма потому, что он там предусмотрен. В «Тимее» материя
действительно трактуется как «трудный и темный вид», как
начало «случайности» и т. д.— Итак, по Аристотелю, среди
принципов первое место занимает Благо и Красота.
6) Шестой пункт опять возвращает нас к проблеме
происхождения идеальных чисел (5, 1092а 21 — b 8).
Третий пункт, как мы помним, тоже касался чисел (2, 1090а
Α. Φ. ЛОСЕВ
, 1—^1
606
2—3, 1091а 12). Но там шла речь о числах в общей форме,
о числах как готовых и цельных принципах. В шестом
же пункте Аристотель рассматривает самую структуру
чисел как принципов. Он хочет сказать, что платоники не
раскрыли эту структуру, ибо ни один из известных
способов происхождения любой вещи из чего-нибудь
другого неприменим к числам (1092а 21—24). Таких способов
Аристотель указывает в рассматриваемой главе три. 1)
Число не может произойти из принципа в результате
химического слияния, потому что: а) далеко не все
допускает такую химию; Ь) результат этого слияния отличен от
сливаемых элементов; с) Единое, вместо отъединенное™,
сольется со вторым элементом до неузнаваемости (а 24—
26). 2) Число не может произойти из принципов в
результате механического смешения, потому что: а) оба основных
первопринципа останутся раздельными вещами в каждом
числе; Ь) если они вещественно наличны в смеси, то это
значит, что числа появляются в результате вещественного
становления (чего платоники не имеют права думать);
а с) если они не наличны в смеси (как семя, из которого
вырастает организм), то и это невозможно, раз Единое не
может наподобие семени взбухать и произрастать (а 26—
33). 3) Наконец, число как принцип не может появиться
и из противоположностей, потому что: а)
противоположности сливаются в неразличимую сущность и первый член
гибнет во втором, а надо, чтобы он пребывал и чтобы
пребывающее вместе с его субстратом и порождало вещь
(а 33—b 3); b) не только в противоположности взаимно
уничтожаются оба члена, но и то, что состоит из
противоположностей, также уничтожается, что противоречит
самому понятию числа (число неуничтожимо, b 3—8).—
Критиковать всю эту аргументацию Аристотеля не стоит
после всего, что мы говорили выше о формализме его
философии. Числа происходят из принципов, по Платону,
не в результате химического соединения, не в результате
механического смешения и не в результате
натуралистического слияния противоположностей. Числа происходят
чисто диалектически. Поэтому все предлагаемые
Аристотелем «способы» происхождения отпадают для Платона
a priori.
7) Наконец, седьмой пункт рассуждения Аристотеля
о принципах вновь посвящен учению о числах (5, 1092b
8—6, 1093b 24). Нужно только не смешивать содержание
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
этого пункта с пунктами третьим и шестым. Как
отличается третий пункт от шестого, мы это сейчас видели.
Какое же теперь отличие настоящего, седьмого пункта от
них? Он тоже не трактует, как и шестой, вопроса о
структуре чисел, но, как третий, касается чисел в их целости и
готовом виде. От третьего он отличается тем, что тут не
ставится вопрос о его самостоятельной принципной
природе, но специально рассматриваются самые функции этих
числовых принципов в материи. И третий, и седьмой
пункты дают общее учение о числах как принципах, не
вникая, как шестой, во внутреннее строение числа. Но
третий берет эти числовые принципы в их субстанциальной
природе, самостоятельно; седьмой же рассматривает, как
действуют эти принципы в вещах, если последние
действительно мыслятся получающими от них свое
определение.
a) Прежде всего, Аристотель полагает, что этот вопрос
просто недостаточно выяснен в платонизме. Если
отношение числовых принципов к вещам представить себе как
огранинивание этих вещей (наподобие геометрических
фигур или «чисел» Эврита) или если мыслить его по
аналогии с числовой структурой музыкальной гармонии, то
здесь будет допущена ошибка смешения чисел с внешними
качествами вещей (напр., с белым, сладким, теплым
и проч.) (1092b 8—16). На самом же деле, единственно,
что есть тут «субстанциального», это — отношение между
составными частями вещи, находящимися в том или
ином отношении. Число есть только материально
выраженное отношение. Наличие определенного числового
отношения между составными частями смеси ничего не
говорит ни о субстанциальности самого числа, ни о
зависимости данной смеси от такого субстанциального числа
(Ь 16—22).
b) Далее, пусть числа действуют в вещах. Это опять-
таки ничего не говорит существенно важного.
Разбавленный мед полезен для здоровья. Но можно точно соблюсти
ту или иную пропорцию в количествах меда и воды,
и смесь окажется бесполезной. А можно и без точного
числового расчета произвести смесь, которая окажется
полезной (Ь 28—30). Кроме того, если бы смесь зависела
действительно от числа, то она была бы однородна,
т. е. не была бы смесью, потому что сами числа однородны;
и умножение одного на другое не рождает никакого нового
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
608
качества, кроме того, которое уже было дано с первым
числом (1092b 30—1093а 1).
с) Если числа определяют вещи, будучи их
принципами, то необходимо, чтобы предметы, содержащие в себе
одно и то же число, были бы тождественны между собой.
Так, Солнце и Луна имеют одно и то же число сфер.
Значит, Солнце есть Луна (а 1 —13). У пифагорейцев
и платоников каждое число имеет особое мистико-мета-
физическое значение. Таково, напр., 7. И вот они
устанавливают ряд: 7 гласных, 7 струн или звуков на
инструментах, семь Плеяд и т. д. и т. д. На самом же деле,
никакой необходимой и существенной связи между этими
предметами совершенно нет. Плеяд семь потому, что мы
сами определенные звезды скомбинировали в определенное
созвездие. В Б. Медведице, напр., не 7, а 12 звезд (а иные
насчитывают еще больше того) (а 13—26; другие примеры
в а 26—Ь6). d) Все эти числовые операции основаны
на чисто случайных признаках и являются результатом
чистой аналогии. В каждой категории существующего
нетрудно ведь установить такие аналогии: прямая в длине
равна гладкости в ширине, нечету в числе, белизне
в краске и т. д. (Ь 7—21). е) Наконец, нельзя привлекать
для подтверждения принципных функций числа и
гармонического соотношения. Последнее обладает чисто
арифметической природой, потому что числовые отношения тонов
одно и то же, если тоны одни и те же. Числа же, о которых
говорят пифагорейцы и платоники, несчислимы и
несравнимы между собой. Стало быть, в гармонии — не те
идеальные числа (Ь 21—24).
Что сказал Аристотель всеми этими аргументами
против принципного функционирования чисел в вещах? Его
аргументация имеет тут убийственный для пифагорейства
и платонизма вид. Но не надо поддаваться внешнему
виду. Во-первых, приравнение числовых функций в вещах
к чисто вещественным же свойствам вроде белого, теплого
указывает на грубость мысли самого Аристотеля. Эврит
в этом отношении имеет бесконечно более отчетливую
феноменологию. Впрочем, мы уже говорили раньше, что
это феноменологическое огрубение наблюдается у
Аристотеля только в тех местах, где он критикует платонизм.
Феноменология же собственной его философии —
удивительно тонка и глубока и на свой манер превосходит
субтильности Платоновой диалектики. Во-вторых, аргумент
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
609
о разбавленном меде и смесях имеет скорее
юмористическое значение; убожество его ясно само собой. Более
интересен, в-третьих, аргумент о тождестве вещей,
определяющихся тождественными числами. Аристотель и не
подозревает, что то, в чем он упрекает пифагорейство,
и есть подлинное достояние этого последнего. Именно,
пифагореец и платоник так и скажут Аристотелю: да,
правильно! Если Солнце и Луна тождественны по
количеству сфер, то тождественны и они сами. Если хотите,
можно сказать, что они тождественны между собой в
отношении количества сфер, но можно и прямо сказать: они
тождественны вообще. Правда, это будет только одним
членом антиномии, при котором должен быть
обязательно и другой: они — не тождественны. Однако все
это — только одно из первых диалектических
установлений: одно, ставши иным,— и отлично от иного, и
тождественно с ним. Там, где Аристотель видит только
случайность и аналогию, там для Платона подлинное тождество;
но только надо установить, какое это именно тождество и в
чем оно. Зависимость количества звезд в Плеядах от
нашего произвола и условности рисунка данного
созвездия ничего не говорит на тему о числах. Пусть в Плеядах
не 7, а 27 звезд: все равно и 27 звезд являются
вещью, с которой легко снять определенную
числовую структуру и сравнивать ее (а если надо, то и
отождествлять) с аналогичными структурами в других вещах.
Наконец, в-четвертых, отпадает аргумент и о числовой
структуре гармонических созвучий. Пусть гармония
определяется чисто арифметически. Раз тут есть
арифметические числа, то, след., есть и идеальные, ибо идеальное
число есть не что иное, как то же арифметическое, но
определенным образом упорядоченное. Все зависит от
точки зрения. Аккорд можно рассматривать арифметически,
но его же можно рассматривать и «идеально». И если
брать числовое отношение не абстрактно, а в совокупности
со всеми прочими свойствами тона, напр. с тембром, то
отнюдь нельзя будет сказать, что это числовое отношение
везде остается одним и тем же. Реально оно будет звучать
совершенно различно.
18. Обобщение критики учения о принципах. Пора
теперь отдать себе отчет вообще во всей этой части
аристотелевской критики, т. е. во всем учении о принципах, или
во всей XIV книге «Метафизики* (с присоединением и
20 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
610
конца XIII книги). Что мы тут находим существенного
и как можно было бы кратко срезюмировать этот
длинный ряд аристотелевских аргументов?
а) Семь аргументов, на которые мы расчленили всю
эту аргументацию, легко делятся сами собой на два отдела.
Именно, одни говорят о принципах вообще (№ 1, 2, 4 и 5),
другие же —о принципах как числах (№ 3, 6 и 7).—
Последовательность и связь аргументов о числовых
принципах мы уже отметили. Она сводится к тому, что
Аристотель рассматривает а) внутреннюю структуру числового
принципа (№ 6), Ь) его общую и цельную природу как
нечто самостоятельное (№ 3) и с) способ его
функционирования в вещах (№ 7). Числовой принцип, след.,
рассмотрен Аристотелем внутри себя (№ 6), в себе как в
неделимой целости (№ 3) и вне себя, т. е. как действующий
вне себя (№ 7). Вспоминая изученные нами отдельные
более мелкие соображения Аристотеля, мы видим, что в
первом случае (№ 6) Аристотель свел платоновскую
диалектику «одного» и «иного», или «предела» и
«беспредельного» (откуда и происходит «число»), на химическое
слияние, механическое смешение и вещественное
соединение этих принципов. Во втором случае (№ 3), мы помним,
Аристотель свел платоновское учение о Едином и Двоице
как о первопринципах и о самих числах на учение о
вещественно-метафизических сущностях, абсолютно
отъединенных от чувственного бытия. В третьем случае (№ 7)
Аристотель понял оформление бытия числами у Платона
и пифагорейцев или как вещественное гипостазирование
самих чисел (так что сами числа уже как бы перестают
существовать), или как уничтожение реального различия
вещей, т. е. как уничтожение самих вещей.
Всматриваясь в эти три момента аристотелевского учения о
числовых принципах» нельзя не заметить их сходства, равно как
и различия. Сходство их в том, что Аристотель везде
упорно диалектику понимает как формально-логическую
метафизику. Везде в противоречии ему чудится
абсолютный метафизический дуализм, а в синтезе он видит или
повторение тезиса, или повторение антитезиса, или нечто
третье, не имеющее никакого отношения ни к тезису, ни
к антитезису. Видно и различие этих моментов. Различие
это прямо вытекает из характера той сферы, в которой
производится упомянутая подмена диалектики
формальной логикой и метафизикой. Первый вопрос относится
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
611
к принципному происхождению самого числового
принципа: Аристотель утверждает, что взаимоотношение перво-
принципов (предел и беспредельное) можно было бы
понять только химически, механически и вообще
вещественно. Второй вопрос рассматривает числовой принцип как
самостоятельную природу: Аристотель упрекает Платона
в вещественном гипостазировании чисел. Наконец, третий
вопрос рассматривает вещественные функции числового
принципа: Аристотель понимает их то как уничтожение
природы числа, то как уничтожение природы вещей»
Таким образом, сфера применения одной и той же
формально-логической концепции вносит в нее свою местную
модификацию, но сама концепция остается неразличимой:
для мысли несущественно ни противопоставление внутри
мыслимого (и, след., противоречие), ни систематическое
преодоление силой самой мысли этого противопоставления
и противоречия; и употребление подобных принципов
есть метафизика.
Ь) Остается дать сравнительный анализ первой группы
аргументов о принципах (№ 1, 2, 4 и 5). Это — учение
не о числовых принципах, а о принципах вообще. Каково
взаимное отношение этих аргументов, в чем их связь и
последовательность и можно ли это установить? — Среди
этих аргументов один обладает непосредственно
положительным содержанием. Это № 1 — о потенциальности
общего и энергийности единичного. Остальные имеют
главным образом критическое значение, но из них легко
сделать и положительные выводы. Естественнее всего их
расположить в таком порядке. Сначала отрицается всякое
становление в сфере вечности, а те, кто его утверждает,
трактуются как вносящие вещественную временность
в вечное (№ 4). Затем отрицается первый и главнейший
вывод платонического учения о становлении в сфере
вечных принципов — учение о противоположностях;
последнее трактуется как овеществление чистого принципа и
внесение чувственного в принципное (№ 2). Наконец,
отрицается и главнейший вывод из этого учения о
противопоставлении, что Единое есть Благо, причем утверждается,
что первопринципы — благи, но не потому, что они едины
и охвачены, порождены Единым (№ 5). Легко и тут
увидеть общую склонность аристотелевского ума формализи-
ровать диалектические схемы, варьирующуюся в
зависимости от сферы проявления этой склонности. В положи-
20*
Α. Φ. ЛОСЕВ
612
тельной части своего учения о принципах (№ 1) эту свою
склонность Аристотель проявил в толковании Нуса как
абстрактной потенции; в учении о становлении вечности
(№ 4) формализм сказался в отрицании всякого
становления в вечности; в учении о противоположностях (№ 2
и 5) — обычные натурализмы и отсутствие антиномико-
синтетического метода.
с) В конце концов, отбрасывая детали и
сосредоточиваясь на основных направлениях аристотелевской мысли,
можно найти общее в самом главном и при сравнении
обеих половин учения о принципах. Очень четко три точки
зрения различаются в учении о числовом принципе. Но,
собственно говоря, те же три точки зрения мы находим
и в учении о принципах вообще. И я мог бы, в заключение
анализа всей XIV книги «Метафизики» Аристотеля, дать
такую ее отвлеченную схему.
I. Положительная часть: учение о потенциальности
общего и энергийности единичного в принципном бытии
(№ 1, XIII 10, 1087а 4—25).
II. Критическая часть. А. Принципы внутри себя:
а) принципы вообще (№ 6), Ь) числовые принципы
(№ 2 и 4).
B. Принципы как самостоятельные целости: а)
принципы вообще (№ 1; XIII 9, 1086а 31 — 10 1087а 4),
Ь) числовые принципы (№ 3).
C. Принципы в их действии вне себя: а) принципы
вообще (№ 5), Ь) числовые принципы (№ 7).
19. Общая характеристика критики платонизма у
Аристотеля, а) Анализ труднейшего сочинения — XIII и
XIV книги «Метафизики» Аристотеля — нами закончен.
Мы приняли все меры, чтобы внести ясность в хаотический
и варварски туманный текст Аристотеля. От истолкования
некоторых мест, как показывают мои примечания,
пришлось отказаться почти окончательно. Наука не в силах
сделать ясным то, что, может быть, с самого начала не
содержало в себе никакой ясности (и, след., было ничем,
пустым местом). Другие места удалось понять условно,
допуская на свой риск и страх те или другие изменения
в греческом тексте (к последнему средству, правда, я
прибегал только в самом крайнем случае, придерживаясь,
как только возможно, ближе вульгаты). Наконец, и т. н.
«понятные» места содержат такой плохой и странный язык,
что только очень редко можно было обойтись без своих
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
613
вставок и пояснений. Кто перевел из Аристотеля хоть
несколько страниц, тот совершенно наглядно убедился, что
такой текст намеренно не мог быть дан
писателем-философом. Это какие-то заметки, нотабены, подобные тем,
которые мы наспех делаем в своих записных книжках. Кому
бы ни принадлежал этот текст, самому ли философу или
его более или менее отдаленным ученикам,— все равно
этот текст не имеет характера литературной работы. Это,
несомненно, черновик. И вот, приходится теперь
барахтаться в этом море малоосмысленных фраз и слов, с
которыми часто не может справиться даже самая изощренная
филология. Достаточно указать хотя бы на тот факт, что
Швеглер в своем комментарии на «Метафизику»,
напечатанном через год-два после издания и перевода
«Метафизики», вносит нередко исправления в свой же собственный
перевод — изменивши, таким образом, свой взгляд на то
или иное место в течение самого незначительного
промежутка времени. И это очень понятно. Со мною также
случалось не раз и не два, а очень много раз, что текст,
переведенный одним способом, потом, через несколько страниц
перевода, при сличении с общим контекстом всего
аристотелевского рассуждения в XIII—XIV книгах, приходилось
менять и — иной раз весьма существенно. Но так или
иначе, а работа по анализу текста теперь у нас закончена.
Хорошо ли, плохо, но отдельные части большого рассуждения
Аристотеля об идеализме Платона предстали перед нами
во всей их ясности, на какую они только способны. В
заключение мне хотелось бы, однако, сделать еще один шаг
в целях ясности и раздельности всего рассуждения.
Именно, я не раз указывал и сам текст Аристотеля неоднократно
свидетельствовал, что не только отдельные аргументы, но
и их расположение — чрезвычайно спутаны. В отдельных
частях рассуждения я всегда старался вопреки их
локальной разбросанности и логической несвязанности найти
в них внутреннюю логическую связь, даже если сам
Аристотель такой связи в тексте не устанавливает. Мне
кажется, что сейчас остается нам проделать еще одну операцию,
это — дать связный логический анализ всего содержания
XIII и XIV книг «Метафизики», а не только их отдельных
глав и частей. Эта операция совершенно необходима. Если
бы у нас был не Аристотель, а Гегель, то нечего было бы
стараться приводить текст в ясную логическую систему;
надо было бы брать уже готовую систему и только ста-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I——I
614
раться ее понять. К сожалению, такой метод совершенно
неприменим к Аристотелю. Мы вот проанализировали все
отдельные части его изложения, а все еще хочется этот
анализ продолжить, все еще остается что-то
недосказанное и недоуясненное. Я надеюсь, что «критика платонизма
у Аристотеля» станет окончательно ясной тогда, когда мы
покажем то ядро, из которого вырастают все остальные
мелкие пункты этой критики, и когда эти отдельные пункты
предстанут пред нами в строгой взаимосвязанности и
системе. Этой работы Аристотель не проделал. Это за него
должен сделать современный филолог и историк
философии. Попробуем отнестись к тексту XIII и XIV книг
«Метафизики» с этой точки зрения.
Ь) Прежде всего, отметим ряд мест, которые без
ущерба можно выкинуть из текста и которые, по тем или другим
соображениям, можно считать или не подходящими к
данному рассуждению Аристотеля, или не обладающими
достаточной ясностью. Я бы выкинул следующие 10 текстов.
1) XIII 2, 1076Ь2—4 (арг. № 2 в критике
«математических предметов») — о том, что эйдосы, числа и фигуры
существуют в чувственности. Это не есть аргумент против
Платона, потому что и Платон учит об этом же, и
Аристотель сам от этого не отказывается.
2) XIII 2, 1077а 1—9 (арг. № 5 в критике
«математических предметов») — о том, что Небо не может быть
идеей, раз оно движется. Это — пустые слова, потому что ни
Платон, ни Аристотель так не думают.
3) XIII 2, 1077а 31—36 (арг. № 10 в критике
«математических предметов») — о том, что математический
предмет не есть ни эйдос, ни материя. Это не возражение,
потому что и Платон так не думает.
4) XIII 4, 1078b 12—32 — о связи платонизма с
Гераклитом и Сократом. Этот отрывок интересен исторически,
но к критике платонизма он ничего не прибавляет.
5) XIII 7, 1082а 7—15 (в арг. № 1 критики прерывной
счислимости) — темный текст, о попытках истолковать
который см. выше стр. 568—571.
6) XIII 8, 1083b 8—19 — критика не платонической, а
пифагорейской теории чисел (числа — не идеи, а тела).
7) XIII 8, 1084а 27—29 относится не к числам, а к
идеям и есть дублет к XIII 4—5.
8) XIV 5, 1092а 17—21 — не относящееся ни к идеям,
ни к числам, ни к принципам замечание о «месте».
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
П^
615
9) Вся XIV 6, кроме общего заключения (1093b 24—
29), также критикует не столько платоников, сколько
пифагорейцев.
10) Не являются собственно критикой платонизма, но
лишь подготавливают эту критику — XIII 1 (предмет и
разделение всего исследования), XIII 3 (собственная
положительная теория числа) и XIII б (классификация учений
о числе).
О других, более мелких сокращениях говорить не стоит.
Конечно, мы не имеем права выкидывать эти тексты,
раз они есть в вульгате. Но мы сейчас занимаемся не
текстами (как тексты я их в своем месте проанализировал),
а логической связью и системой аристотелевской критики
платонизма. А с такой точки зрения можно выкинуть и еще
кроме этого много другого, хотя я и ограничился самыми
главными исключениями.
Итак, сделавши эти сокращения, попробуем бросить
общий взгляд на критику платонизма в XIII—XIV кн.
«Метафизики».
с) Два основных вопроса должны быть поставлены в
первую очередь. Первый: каков предмет этой критики, или
что именно Аристотель имеет в виду в платонизме? И
второй: с какими презумпциями Аристотель подходит к этой
критике? Решение этих двух вопросов приведет нас к
рассмотрению в определенной системе и самой критики.
Итак, каков предмет аристотелевской критики и какие
стороны в платонизме она выделяет? Я думаю, что все
наше предыдущее изложение с достаточной ясностью
показало, что Аристотель имеет в виду две основные
проблемы платонизма, I. учение о субстанциях и II. учение о
принципах. Как указывалось выше, есть даже основание
считать, что различие этих двух проблем и есть различие
XIII и XIV книг. Но так или иначе, а это, несомненно, есть
то основное, что Аристотель выделил во всей
платонической философии и чему посвятил свое почти
исключительное внимание. Дальнейшие разделения вытекают из
нашего анализа аристотелевского текста. Ясно при первом же
беглом ознакомлении с содержанием XIII книги, т. е. с
критикой учения о субстанциях, что эта критика движется
в трех направлениях. Именно, критикуется учение о ІА.
математических, IB. идейных и 1С. математически-идейных
субстанциях. То же, хотя и в несколько менее пространной
форме, находим мы и в критике учения о принципах. Тут
Α. Φ. ЛОСЕВ
616
у Аристотеля — критика НА. математических, IIB.
идейных и ПС. математически-идейных принципов.
Наконец, каждый из всех этих отделов также может
быть рассматриваем более расчлененно. А именно, каждую
субстанцию и каждый принцип можно рассматривать как
в их внутренней раздельной структуре, так и в их целостной
структуре как таковой, независимо от деталей ее
конструкции. Также можно отдельно говорить о внешних функциях
этой субстанции, или принципах,— например, о функциях
среди вещей, о причинном, осмысляющем и т. д. отношении
к вещам. Поэтому возможны такие отделы: ІА
математические субстанции а) внутри себя, Ь) в своей целости в
себе, с) вне себя; IB идейные субстанции а) внутри себя,
Ь) в себе, с) вне себя; 1С идейно-математические
субстанции а) внутри себя, Ь) в себе, с) вне себя. То же разделение
возможно и в учении о принципах: IIAa, IIAb, IIAc; IIBa,
IIBb, ІІВс; ІІСа, IlCb, IICc.
Что предмет аристотелевской критики взят правильно,
об этом едва ли приходится сомневаться. Платонизм
действительно заключается главным образом в определенном
учении о субстанциях и принципах. Здесь — самый центр
всей платонической философии.
d) Таково формальное значение предмета критики. Но
что такое этот предмет в своем существе? О чем учит
Платон в своей теории субстанций и принципов?
Эта теория есть диалектика. Принципы прежде всего —
два взаимно противостоящих момента одного и иного.
Одно, или «Единое», берется как наиболее абстрактное,
как первичная и минимальная точка смысла. Чтобы быть,
оно отличается от «иного», «не-одного», «многого»,
неопределенного, «Неопределенной Двоицы», т. е. порождает это
инобытие, самопротивополагается с ним. Однако это
самопротивоположение возможно только тогда, когда есть и
самоотождествление, ибо Единое, отличаясь от иного,
получает границу, а граница есть настолько же Единое,
насколько и неопределенное; граница не мыслима ни без
Единого, ни без Двоицы, хотя она сама в себе не есть ни
то, ни другое, а нечто третье. В границе, таким образом,
синтетически совпадает точка Единого с антитезисом
инобытия, или Неопределенной Двоицы. Итак, из двух перво-
принципов мы получаем определенное единое, или делимое
единое, саморазличающееся единое, или число. Число
есть, таким образом, диалектический синтез Предела и
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I—I
617
Беспредельного, Единого и Неопределенной Двоицы. Это,
конечно, еще не арифметическое число. Это — очерченная
раздельность чистого смысла, чисто смысловой рисунок,
чисто умное саморазличающееся единство. Это —
идеальное число, или, как говорит Платон, «эйдетическое», т. е.
«видовое» (вид = рисунок, статуя), число. Но это число,
подобно Единому, в свою очередь вступает в
диалектическое взаимоотношение с инобытием, отличаясь от него и,
затем, отождествляясь с ним. Раньше число было просто
раздельным единством, без дальнейшего содержательного
наполнения. Теперь это уже готовое, сформированное
число, вступая в диалектическое взаимоотношение с
инобытием, получает новое содержание, материал, который и
начинает наполнять формальную структуру числа.
Получается содержательно наполненное число, или раздельное
единство, обладающее определенным характером
содержательного смысла. Это значит, что мы получили идею.
Идея богаче числа, ибо последнее — формально, она же
есть наполненный содержанием смысл. Наконец, число и
идея в свою очередь вступают во взаимоотношение с
инобытием. Получаются дальнейшие категории диалектики.
Так идеальное число, вступивши в диалектическую связь с
инобытием, переходит, между прочим, в структуру, в
которой отдельные точки мы начинаем представлять отдельно,
не в их общей картинной совокупности; мы смотрим, как
функционирует идеальное число в вещах, и видим, что на
вещах могут отражаться иногда только одни эти
изолированные точки. Получается уже не число, а количество, или
арифметическое число. Мы можем также говорить о
функционировании идеи в материи — получается категория
качества вещи. Наконец, получается и сама вещь, как тоже
один из результатов диалектического взаимоотношения
идеи и инобытия, или материи. Поэтому можно, следуя
самому Аристотелю в том, как он излагает Платона (I 6,
9), установить такой иерархический и диалектический ряд:
1) Единое («иное»), 2) Число, 3) Идея, 4)
Арифметическое число (или количество) и Качество, 5) Вещь.
Систему платонизма можно излагать с любой степенью
детализации, но для наших целей достаточно и сказанного.
То, что Аристотель называет субстанциями у Платона,
это есть, очевидно, идеи-, а то, что он называет принципами,
есть, очевидно, Единое и Двоица. Мы теперь знаем предмет
аристотелевской критики по его существенному содержа-
Α. Φ. ЛОСЕВ
618
нию. С какой же презумпцией подошел Аристотель к этому
предмету? В чем заключается его собственная
философская позиция в анализируемых вопросах? Без уяснения
этого пункта содержание и происхождение самой критики
не может быть усвоено с достаточной отчетливостью,
е) Аристотель подходит к миру с живейшей
потребностью описать его смысловое богатство. Его мало
интересуют теоретические дедукции сами по себе. Логика сама
по себе его очень интересует. Но она не есть для него, как
для Платона, учение о бытии со всем его содержанием.
Она для него — учение о мысли как инструменте науки.
Только в этом смысле она онтологична и реальна. Логика
же как учение о содержательном бытии для него не
существует. Он берет не логику, а живой опыт, и — хочет его
описать. Правда, и Платон хотел описать свой живой опыт.
Но у Платона это не было описанием некоей данности, но
само описание и было имманентной стихией этой данности:
диалектика для него и есть единственно возможное учение
о бытии. Для него нет диалектики и онтологии. Аристотель
же исходит именно из абсолютной данности космоса, не
вовлекает его в систему своих логических дедукций, но
лишь описывает его, твердо зная, что космос — это одно,
а его описание — это другое. Для Аристотеля существует
вещь как абсолютная данность, как абсолютный упор;
и он их ниоткуда не дедуцирует. На фоне этих вещей —
единственно возможных субстанций — он выделяет
существенное из моря несущественного, находит тут формы,
эйдосы, или смыслы вещей. Как и у Платона, эти эйдосы
противостоят текучему многообразию вещей и являются
подлинным предметом знания. Но они не отделены от
вещей; их нет как самостоятельных субстанций; они есть
лишь абстрактно выделяемые из вещей их смысловые
очертания. Они не суть действительность. Они — мысленно
выделяемые потенции реальных вещей. Таковы же и числа.
Единое, число, идея, форма — все это абстрактно
выделяемые смысловые потенции вещи, на самом деле не
существующие, но лишь мысленно данные тому, кто задался
целью разложить вещь на ее логически составные
моменты. Для Платона эти абстрактно выделяемые моменты не
только суть нечто, но это нечто находится во всесторонней
диалектической взаимозависимости. Для Аристотеля же
чистая мыслимость не есть реальность. Реально для него
только чувственное. Поэтому реальность мыслимого он
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I [
619
понимает лишь как значимости мыслительной абстракции.
Чтобы отчетливо понимать аристотелевскую критику
платонизма, надо раз навсегда усвоить себе эту
философскую платформу Аристотеля. Тут царит полная
спутанность в большинстве изложений Аристотеля, и надо в ней
уметь ориентироваться. Нельзя, как это обычно делается,
излагать Платона «сверху», забывая, что конечная цель
его дать теорию космоса и отдельных чувственных вещей,
а Аристотеля излагать «снизу», забывая, что его конечная
цель есть возведение всех чувственных вещей космоса
к мировому Нусу и его мышлению. Если мы сумеем
уберечься от столь несправедливого сравнения обоих
мыслителей и станем на какой-нибудь один общий, или
дедуктивный и индуктивный, путь, тогда отчетливо выяснится
и все их расхождение. Иначе это расхождение будет
затемнено разными случайностями внешней формы, в
которой дошли до нас сочинения обоих мыслителей.
Возьмем, например, дедуктивный путь (в обратном
порядке это будет индукцией). У Платона на этом пути по-
строяется упомянутый выше ряд: 1) Единое («иное»),
2) Число («идеальное»), 3) Идея, 4) Арифметическое
Число, 5) Вещь (Космос). У Аристотеля: 1) Нус и его
мышление, энергия, эйдос эйдосов, чистая форма и смысл; 2)
Космос и отдельные входящие в него вещи; 3) идеи и числа,
или отдельные формы, абстрактно выделяемые из вещей.
В чем тут разница между Платоном и Аристотелем?
Единое Платона не есть для Аристотеля особая субстанция.
Оно растворено в Нусе. Нус — одинаковый у Платона и
Аристотеля. Он одинаково есть там и здесь форма форм,
или смысл. Он одинаково там и здесь есть чистое и
абсолютное самосознание и мышление. Там и здесь одинаково
мышление Нуса создает энергийно весь космос и все
входящие в него вещи. Там и здесь одинаково Нус содержит
в себе вечные идеи или формы, являющиеся прообразами
для чувственных вещей. Но тогда в чем же дело? В чем
подлинная разница между платонизмом и аристотелиз-
мом?
f) Я могу сказать только одно: вся разница в том, что
вместо платоновской диалектики мы имеем у Аристотеля
формальную логику и феноменологию.
Первый вопрос: почему у Платона Единое — особая
субстанция и принцип, а у Аристотеля оно как бы
расплавлено в Нусе и не есть нечто особое? Это понятно только
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
620
сточки зрения противопоставления диалектики и
формальной логики. Разница между обоими мыслителями вовсе не
в том, что Платон признает Единое, а Аристотель его
отрицает, и вовсе не в том, что для Платона оно принцип, а для
Аристотеля — чистый нуль. Оба они признают это понятие
совершенно необходимым; и без него не мыслим ни
платонизм, ни аристотелизм. Но все-таки разница тут весьма
велика. Именно, Платон, рассуждая диалектически, никак
не мог остановиться только на Нусе, или на сфере идей,
ибо этим идеям диалектически необходимо
противопоставляется инобытие. Раз оно противопоставляется, то это
значит, что должен быть такой момент, где они не
противопоставляются, но где они отождествляются, где не
совпадают в одной неделимой точке. Эта единственная,
единичная и абсолютно неделимая точка уже не может быть не
только Нусом, но и только материей, или меоном 4* Она
есть сразу то и другое и потому выше того и другого. Она
не есть они, но порождает их. Так диалектически Платон
неминуемо приходит к проблеме Единого. И вот это
совершенно необязательно для Аристотеля. Аристотель не
выводит, но созерцает, не объясняет, но описывает. Свой Нус он
воспринимает созерцательно. Поэтому Единое у него
имманентно слито с Нусом. И для
созерцательно-описательных целей достаточно видеть этот Нус точно и резко
очерченным и оформленным, т. е. мыслить его формою форм.
В очертании, в границе, в форме уже ведь дан синтез
(т. е. различие и тождество) идеи и меона. А больше ничего
Аристотелю и не надо. Ведь это только диалектически
граница распадается на более первоначальные логические
моменты. Созерцательно же она дана совершенно прямо и
непосредственно, и для созерцающего, описательно
устремленного ума нет никакой нужды в логическом расчленении
понятия границы.
Второй вопрос: почему у Платона идеи существуют
отдельно от вещей и суть их прообраз, а у Аристотеля они
имманентны самим вещам и суть лишь их абстрактные
потенции? Объяснить это расхождение двух великих
философских систем я могу только исходя из
противопоставления диалектики и формальной логики. Нельзя говорить,
что у Платона есть идеи, а у Аристотеля их нет. Явно, что
и тот и другой учат об идеях, так как Аристотель везде
подчеркивает разницу между эйдосом и чувственным
качеством, энергией и движением и т. д. Следовательно, оба
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
621
учат об идеях. Нельзя говорить, что у Платона идеи
существуют отдельно от вещей, а у Аристотеля — вместе. И
Платон своими идеями объясняет реальную текучесть
вещей и переносит их также и в недра вещественного бытия,
и Аристотель учит об отличии эйдоса от качества, «чтой-
ности» — от «наличного что». Наконец, нельзя говорить,
что у Платона идеи суть гипостазированные абстракции,
а у Аристотеля они — имманентно-причинные энтелехии
вещей. Ведь и у Платона идеи суть причина и душа вещей;
и у Аристотеля они восходят к форме форм, которая
лишена всякой материальности, а есть чистое мышление. Но
если все это так, то почему же платоновские идеи —
«отделенные» «первообразы», а аристотелевские формы —
«имманентные», «абстрактно» выделяемые «потенции»,
или «энтелехии»? Вся разница тут только в том, что
Платон рассуждает диалектически, а Аристотель с теми же
самыми принципами оперирует чисто формально-логически.
А именно, направим свой взор на самое бытие с
имманентно присущим ему смыслом, будем его неустанно
созерцать, откажемся от всяких логических дедукций — что
мы увидим? Мы не увидим ни чистых идей, ни чистых
вещей. Мы увидим единое осмысленное бытие, в котором
невещественные идеи и несмысленная, пустая материя
слиты в одно нераздельное бытие, в котором находятся то
более существенные и выразительные, то менее
существенные и выразительные явления. Нужно ли будет нам судить
отдельно об идеях и отдельно о вещах? Конечно, нет. Это
было бы так же неуместно, если бы мы вместо созерцания
цельной художественной картины стали сначала отдельно
говорить о той абстрактной идее, которая была тут у
художника, а потом отдельно, отвлекаясь от этой идеи,
говорить только об одних красках как таковых. Таким путем
мы, конечно, до картины не дошли бы. Но до какой
картины? До той полновесной, художественно-законченной,
непосредственно воспринимаемой картины, в которой идеи
и материал слиты в одно совершенно неделимое целое.
Ясно, что «идея» в такой картине всегда была бы
абстракцией, которую можно выделять, а можно и не выделять.
А вместо «идеи» мы просто говорили бы о самой «душе»
этой картины, об ее цельном, непосредственном,
художественном впечатлении. Для описательно-созерцательных
целей учение о голых идеях — ненужно и бессмысленно.
Описательно-созерцательная видимость картины сама по
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
622
себе не дает никакого метода для оперирования с голыми
идеями, и всякая «идея» для нее имеет значение только
лишь как абстракция из целого. Но перестаньте
наслаждаться непосредственной видимостью нераздельного и
цельного художественного предмета. Представьте себе,
что вы интересуетесь той же самой картиной не с точки
зрения ее картинности или созерцательной явленности и
данности, но с точки зрения того, как она дана в мысли.
При этом пусть мы поставили себе задачу не просто дать
общий коррелят картины в сознании (это ведь мы делали
и в предыдущем случае), но дать именно мысленный
коррелят, дать логику этой картинности, дать смысловую
структуру ее, и не в аспекте чисто художественном же,
а в аспекте именно логическом и мыслительном. Конечно,
можно этого и не делать; картина от этого не пострадает.
И конечно, это ничего нового к художественной и
созерцательной стороне картины не прибавит. Картина
останется, как была, самостоятельной вещью, и без ее наличия
по-прежнему не сможет осуществиться ни ее
непосредственное художественное восприятие, ни какой бы то ни
было ее логический анализ. Логика нисколько не посягает
на реальность и самостоятельность картины. Но логика
требует, чтобы не мешали и ее собственной реальности
и самостоятельности. Логика путем анализа найдет ряд
абстрактных моментов, причем абстракция эта будет,
конечно, произведена на основании все той же
непосредственно данной картинности. Логика, опять-таки под
руководством все той же непосредственной данности,
объединит определенным образом абстрактно выделенные
моменты. Получится, в результате, некая абстрактная структура
картины, которая сама по себе, конечно, не будет
картиной, но которая будет совершенно полным ее мыслитель-
ным коррелятом, которая, будучи основана на вещи, по
смыслу своему будет совершенно самостоятельна, будет
достойна отдельного рассмотрения и, в отношении вещи
являясь вторичной по времени (ибо мы ее намеренно
выделили из готовой же вещи), логически будет
предшествовать картине как ее план, как ее образец, как ее
первообраз. Чтобы перейти от этой идеальной структуры к самой
вещи, надо будет существенно переключить чисто
мыслительную установку на непосредственно чувственную.
Может ли такая логика удовлетвориться непосредственным
созерцанием картины? Конечно, нет. Она обладает своими
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
( I
623
собственными законами, которых не знает
непосредственное созерцание. Наблюдая эту самостоятельно данную
мыслительно-смысловую картину вещи, мы замечаем, что
отдельные моменты в ней находятся в очень интересных и
совершенно специфических взаимоотношениях, которые,
конечно, даны и в самой картине, но там они даны
созерцательно, а тут они мыслятся. Мысль, получивши ту или
иную идеальную структуру вещи, уже не относится к ней
как к абстрактной потенции. Когда мысль начинает
констатировать тут специфические законы структурообразо-
вания, она не имеет ни малейшего ни желания, ни права
трактовать свой предмет как только абстрактный и только
потенциальный. Он для нее — полная реальность и
настоящее самостоятельное бытие, совершенно специфическое
и ухватываемое только путем мыслительной диалектики.
Вот и получается, что один и тот же космос с одним
и тем же Нусом, с одними и теми же идеями, с одним и тем
же взаимоотношением идеи и вещи — Платон понимает
как подражание текучей чувственности вечным
первообразам-идеям, а Аристотель — как самостоятельное
художественное и, следовательно, чувственное бытие с
имманентно наличными в нем энтелехийными формами и
абстрактно-потенциальными идеями и числами. Не
религия, не мистика, не художественное восприятие, не
рационализм, не эмпиризм, не метафизика разделяют Платона
и Аристотеля, но — исключительно логика и логическая
установка. Один — чистый диалектик, другой — чистый
феноменолог и формалист.
g) Только теперь, после констатирования
глубочайшего методологического расхождения обеих систем,
вытекающего из последних оснований творческого сознания
того и другого философа,— только теперь мы можем
формулировать исходный принцип для всех аристотелевских
аргументов против платонизма. Как Аристотель может,
исходя из собственных интуиции и собственной
философской системы, оценивать платоновское учение? Так как
ему непонятна имманентная и специфическая логика чисто
мысленных структур, так как ему понятна только такая
логика, которая, исходя из «закона противоречия», может
осмыслить лишь непосредственно воспринимаемую,
вещественную действительность, то он должен все
диалектические схемы Платона понять как формалистическое
указание на ту или иную натуралистическую, непосредственно
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
624
воспринимаемую, говоря вообще, связанность фактов и
событий, В изображении Аристотеля Платон должен
предстать не в своих синтезах, но или только в тезисах, или
только в антитезисах, или только в том, что для Платона
хотя и является синтезом, но для Аристотеля есть только
натуралистически констатируемая вещь или
формальнологическое понятие.
Для Платона Единое: 1) абсолютно отлично от
инобытия, 2) абсолютно тождественно с ним и 3) одновременно
различно и тождественно, причем знаком этого синтеза
является новая категория — число. Для Аристотеля
Единое тоже есть. Но оно — фактически — есть только само
бытие, не больше, а абстрактно оно выделимо в некую
несуществующую потенцию; и тут нет никакого синтеза
ни с чем. Единое просто видится на вещах, и больше
ничего.
Для Платона число: 1) отлично от инобытия, 2)
тождественно с ним, 3) отлично и тождественно с ним; в
результате — синтез, идея. Для Аристотеля число тоже
существует. Но оно существует как абстракция из вещей.
Оно, конечно, в этом смысле не тождественно с вещью.
Но это только абстракция. А субстанциально чисел нет.
Они просто видятся в вещах.
Для Платона идея 1) абсолютно отлична от
инобытия, материи, 2) абсолютно тождественна с ней, 3)
одновременно и абсолютно, в одном и том же смысле и в разном
и отлична, и тождественна. В результате — новая
категория, вещь. Для Аристотеля идея тоже обязательно отлична
от вещи, но — как всякая абстракция. Реально же есть
только вещи; и на них, в них видятся эйдосы и идеи
h) Этот принцип аристотелевского понимания
платонизма дает нам теперь возможность наполнить реальным
содержанием те формальные пункты критики платонизма,
которые мы отметили выше в общем виде.
Начнем с критики учения о субстанциях.
ІАа есть учение о математических субстанциях, взятых
с точки зрения их внутреннего строения. Сюда,
несомненно, относятся аргументы о математических предметах
№ 4, 6, 8. В арг. № 4, как мы помним, Аристотель отрицает
внутреннее единство геометрической фигуры у Платона.
Так как всякое единство определяется только вещью, а
геометрическая фигура не вещественна, то точка, напр.,
должна быть везде разной (в линии, в поверхности, в теле).
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
625
В арг. № 6 Аристотель на том же основании отрицает
единство аксиом и теорем, с одной стороны, и чисел и
фигур — с другой. В арг. № 8 отрицается возможность
единства всякой математической величины. Итак,
Аристотель, не видя, как обосновывается единство чего бы то ни
было мыслительно и диалектически, и в то же время зная,
что платоники отделяют математическую субстанцию от
вещи,— думает, что в таком случае невозможна самая
структура математической субстанции как единая. Всякое
единство — от вещей; понятия бессильны обосновать
единство.— ІАЬ есть учение о математических субстанциях,
взятых как самостоятельные неделимые целости, т. е.
взятые в себе. Сюда вполне подходят аргументы о
«математических предметах» № 1,3,9. Apr. № 1, гласящий, что двум
телам невозможно быть в одном и том же месте,
предполагает, очевидно, что диалектическое полагание вполне
натуралистично. Apr. № 3 гласит, что присутствие неделимой,
идеальной математической субстанции в вещи означает
неделимость самой вещи. Натурализация диалектического
принципа — очевидна. Apr. № 9 высказывает, что
субстанциальное предшествие математической величины
равносильно тому, что она одушевленна. Слишком ясно, что
в вопросе о математической субстанции как о чем-то целом
Аристотель эту целость и самостоятельность просто
отождествляет с вещественностью.— ІАс есть учение о
математических субстанциях, взятых с точки зрения их
внешнего функционирования. Сюда, по-видимому, можно
отнести аргументы № 7 и 11 о «математических предметах».
Apr. № 7 утверждает, что математические субстанции
могут предшествовать вещам только во времени, а арг.
№ 11 гласит, что эти субстанции предшествуют им только
логически и потенциально. Стало быть, Аристотель не
опровергает предшествия арифметических чисел вещам, но
это предшествие он может понять или
вещественно-натуралистически, или абстрактно-логически. Учение о
диалектической связи числа и вещи ему чуждо.
Далее — критика идейных субстанций.— ІВа, учение
об идейных субстанциях, взятых в своей внутренней
структуре. Сюда относятся аргументы № 1—4 из критики идей.
Именно, в арг. № 1 отрицается возможность родовых-
видовых отношений среди идей, так как всякое отличие
рода от вида или наличие разных видов для одной и той же
вещи как группы вещей Аристотель понимает как абсо-
Α. Φ. ЛОСЕВ
626
лютную разорванность идеальной сферы. На почве
натурализации «идеи» отрицается, далее, в арг. № 2, идея
отрицания, отношения, в арг. № 3 — превосходство
«отношения» над «идеей», в арг. № 4 — идея всего
несубстанциального. Ясна полная аналогия критики ІВа с критикой
ІАа. Как число и числа там, так идея и идеи здесь мыслятся
абсолютно распавшимся бытием, раз они — вне
чувственности.— ІВЬ, учение об идейных субстанциях, взятых в
себе. Сюда относится арг. № 8 из критики «идей», гласящий,
что субстанция не может быть вне того, чего субстанцией
она является. Аналогия с ІАЬ — вполне очевидна. Там
математические субстанции мыслятся как занимающие
место в физическом мире; а здесь идеи, ввиду невозможности
совмещения двух тел в одном пространстве, требуется
мыслить как не занимающие никакого места абстракции.—
ІВс, учение об идейных субстанциях вне себя, в своих
внешних функциях. Сюда — аргументы № 5, 6, 7, 9 из
критики «идей», специально трактующие именно эту проблему
(см. выше стр. 554).
Наконец, перечислим аргументы, относящиеся к
критике идейно-математических субстанций, или т. н.
идеальных чисел. ІСа есть учение об идейно-математических
субстанциях внутри себя. Для случая абсолютной несчи-
слимости сюда относится, очевидно, арг. № 1, трактующий
о взаимоотношении принципов логической структуры
идеального числа. Для случая прерывной счислимости —
арг. № 3 и 6, трактующие о замене в платонизме
числового принципа логическим. В арг. № 3, опять-таки в
параллель с ІАа и ІВа, критикуется применение понятия
«предыдущего» и «последующего» к идеальным числам,
т. е. Аристотель опять диалектическую разнородность
категорий понимает как вещественную разнокачественность.
В арг. № 6 также отрицается возможность говорить об
идеальных числах — «первый», «второй» и т. д. Словом,
ясно, что в этих аргументах речь именно о внутренней
структуре прерывно счислимых чисел. Сюда же,
по-видимому, относится и критика «академической» теории числа,
так как выставляемый против нее аргумент у Аристотеля
касается вопроса происхождения этих чисел из Единого.
Наконец, к ІСа, несомненно, относятся из критики
детальных моментов платонической теории чисел аргументы
№ 3 (о двусмысленности Единого) и № 1 и 5 (о ложности
материального принципа), потому что здесь затрагива-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
627
ются вопросы именно о происхождении внутренней
структуры числа.— ІСЬ содержит учение об
идейно-математических субстанциях в себе. Для абсолютной несчислимости
сюда, конечно,— аргумент № 2. Тут, как мы помним,
Аристотель находил количественность в материальном
принципе идеального числа, т. е. говорил не о сложении
отдельных элементов структуры в целую структуру (как в арг.
№ 1), но о Двоице как цельной структуре множества.
Впрочем, если рассматривать тут Двоицу именно как один
из принципов структуры идеального числа, то этот
аргумент отойдет к ІСа. Для прерывной счислимости сюда
очень хорошо подходят аргументы № 1, 4, 5 (из критики
прерывной счислимости), доказывающие, что прерывно-
счислимых чисел просто не существует, так как в существе
своем, с точки зрения Платона, они все равно должны быть
абсолютно несчислимыми, т. е., с точки зрения Аристотеля,
вещественно-разнокачественными. Сюда же надо отнести
и аргументы № 2 и 4 из критики детальных моментов
платонической теории чисел, так как один из них касается
вопроса о конечности и бесконечности числа, другой —
природы геометрической величины, т. е. оба оперируют
с уже готовыми математическими структурами.— ІСс
охватывает учение об идейно-математических субстанциях
в их внешних функциях. Для абсолютной несчислимости
сюда остается отнести только аргумент № 3 о необходимом
присутствии арифметически-счетного начала в
образовании отдельных чисел. Но он относится сюда не вполне.
Вернее, он относится сюда, если смотреть на него глазами
Аристотеля, так как, постулируя счетность и складывае-
мость для каждого числа, он разумеет, конечно, обычные
арифметические числа (ибо иных он вообще не знает), и
тогда, следовательно, в этом аргументе идет речь о
внешних функциях идеального числа. Но если смотреть на
него глазами Платона, то этот аргумент, как, вероятно, и
все три аргумента об абсолютной несчислимости, войдет
в ІСа. Что же касается прерывной счислимости, то в арг.
№ 2 (в критике этой последней) прямо доказывается
невозможность перехода от идеального числа к
арифметическому, т. е. <он) вполне относится к теории внешних
функций идейно-математической субстанции.
Распределение по данным рубрикам критики учения о
принципах нами уже произведено в конце предыдущего
параграфа. Здесь нужно заметить только то, что в этой
Α. Φ. ЛОСЕВ
628
критике Аристотель не разделяет отчетливо
математических и идейно-математических принципов, а критикует их
сразу под одним названием числовых субстанций, чисел.
і) Итак, я предложил бы след. таблицу для
удобнейшего и систематического обзора всей аристотелевской
критики платонизма.
I. Критика учения о субстанциях.
A. Субстанции математические:
a) внутри себя —
XIII 2, 1076b 11—39,
XIII 2, 1077а 9—14,
XIII 2, 1077а 20—24;
b) в себе —
XIII 2, 1076b 1,
XIII 2, 1076b 4—11,
XIII 2, 1077а 24—31;
c) вне себя —
XIII 2, 1077а 17—20,
XIII 2, 1077а 36—b 11.
B. Субстанции идейные:
а) внутри себя —
XIII 4, 1078b 32—1079а 4,
XIII 4, 1079а 4—11,
XIII 4, 1079а 14—19,
XIII 4, 1079а 19—31;
b\ в себе —-
XIII 5, 1079b 35—1080а 1;
с) вне себя —
XIII 4, 1079а 31—b 11,
XIII 5, 1079b 14—23,
XIII 5, 1079b 23—35,
XIII 5, 1080а 2—8.
C. Субстанции идейно-математические:
а) внутри себя —
XIII 7, 1081а 17—29 (абсол<ютная> несчи-
слимость),
XIII 7, 1082а 26—b 1 (прерывная счисли-
мость),
XIII 7, 1082b 19—33 (прер. счисл.),
XIII 7, 1083b 1—8 (дет<альный>
аргумент)),
XIII 7, 1083b 23—36 (дет. арг.),
XIII 7, 1084b 2—1085а 2 (дет. арг.),
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1^—1
629
XIII 7, 1085b 4—34 (дет. арг.);
b) в себе —
XIII 7, 1081а 29—35 (абсол. несчисл.),
XIII 7, 1082а 1—7 (прер. счисл.),
XIII 7, 1082b 1 — 11 (прер. счисл.),
XIII 7, 1082b 11 — 19 (прер. счисл.),
XIII 8, 1083b 36—1084b 2 (дет. арг.),
XIII 9, 1085а 7—b 4 (дет. арг.);
c) вне себя —
XIII 7, 1081b 10—26 (абсол. несчисл.),
XIII 7, 1082а 17—27 (прер. счисл.).
II. Критика учения о принципах.
A. Числовые принципы:
а) внутри себя —
XIV 1, 1087а 29—b 4,
XIV 3, 1091а 12—4, 1091а 29;
Υ\\ β себе ——
XIV 2, 1090а 2—3, 1091а 12;
с) вне себя —
XIV 5, 1092b 8—6, 1093b 24.
B. Идейные принципы:
а) внутри себя —
XIV 5, 1092а 21—b 8;
Υ\\ β Qf>6e
XIII 9, 1086a 31 — 10, 1087a 4;
с) вне себя —
XIV 4, 1091a 29—5, 1092a 17.
k) В заключение всего нашего анализа
аристотелевской критики платонизма рассмотрим еще один пункт,
который обычно нужен тем, кто плохо ориентируется в
диалектическом методе вообще.
Аристотель — формальная логика, Платон —
диалектика. Диалектика отличается от формальной логики тем,
что она отрицает «закон противоречия». Точнее надо
говорить так: диалектика не просто отрицает закон
противоречия, но считает его только тезисом. Этому тезису она
противопоставляет его антитезис и затем синтез. Таким
образом, закон противоречия, собственно говоря, не
отрицается, а сохраняется, но сохраняется как момент более
общей структуры. Он отрицается, но отрицается
диалектически; а это значит, что он утверждается хотя и не
изолированно, но синтетически с другими структурами. Однако
так или иначе, а отрицание закона противоречия входит
Α. Φ. ЛОСЕВ
J—L.
630
в диалектику как ее необходимое утверждение. И вот
этого-то и не может понять ни Аристотель, ни всякая
другая формалистическая мысль. Поэтому, кто не уяснил себе
этой особенности диалектического метода, тот не поймет
и нашего общего утверждения, что Аристотель искажает
платонизм, и искажает в направлении формальной логики.
Стало быть, необходимо яснейшим образом представлять
себе эту особенность платонизма и диалектики, чтобы
разобраться в основах аристотелевской критики этого
предмета.
Итак, диалектика и утверждает, и отрицает закон
противоречия и делает это одновременно. Будем, однако,
лучше говорить для простоты не о законе противоречия, но
о законе тождества. Формальная логика гласит: А всегда
есть Л, если брать его одновременно и в одном и том же
отношении. Диалектика тоже это утверждает. Но, как
сказано, это для нее лишь тезис, которому она тотчас же
противопоставляет антитезис, тоже утверждаемый ею с той
же безусловностью. Как это возможно?
Одно существует. Это значит, что оно отличается от
всего иного. Одно отлично от иного, и иное отлично от
одного. Ясно также, что одно, чтобы отличаться от иного,
должно быть тождественно с самим собою, как иное, чтобы от
него отличалось что-нибудь, должно быть тождественно
с самим собою. Но докажем, что одно тождественно не
только с собою самим, но и с иным и не только отлично от
иного, но отлично от самого себя. Доказательство
сводится к следующему. 1 ) Одно тождественно с собою и отлично
от иного. 2) Но иное — тоже есть некое одно. 3) След.,
поскольку одно тождественно с самим собою, оно
тождественно с иным себе, т. е. отлично от самого себя. Еще
ярче станет предмет из такого сопоставления.
ТЕЗИС
1. Одно есть нечто.
2. Нечто есть не-иное.
3. След., одно есть
иное, т. е. отлично
иного.
Так легко можно доказать, что одно тождественно с
собой и отлично от себя, отлично от иного и тождественно
с ним.
іе-
от
1.
2.
3.
АНТИТЕЗИС
Одно отлично от иного.
Иное тоже есть некое
одно.
След., одно
тождественно с отличным от се*
бя, т. е. с иным.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
631
Но тут-то и начинает спорить формальная логика. Она
говорит: одно тождественно с собою в одном отношении
(нумерически, по субстанции), а с иным оно тождественно
в другом отношении (по качеству); поэтому закон
тождества остается незыблемым. На это диалектика отвечает
так. Допустим, что Л тождественно с собою и с не-Л
в разных отношениях. Это значит, что одна часть Л
тождественна с Л, другая часть тождественна с не-Л, т. е. вместо
единого и цельного Л мы имеем две части Л, разные между
собою, т. е. попросту не Л, но какие-то два разных
предмета. Немудрено, конечно, что два разных предмета
находятся в разных и противоположных отношениях к другому
предмету. Вы должны сделать так, чтобы одно и то же Л
в разных отношениях было и тождественно с собою, и
тождественно с иным. Тут-то и заключается крах формальной
логики. Я утверждаю, что Л отлично от не-Л и
тождественно с не-Л — одновременно и в одном и том же
отношении. А вы говорите, что один элемент из Л отличен от не-Л,
а другой (т. е. отличный от предыдущего) тождествен с
не-Л. Против этого спорить, разумеется, нельзя: очень
естественно, что две разные вещи находятся в
противоположных отношениях к одному и тому же не-Л. Но эта
невинность достигается тем, что цельное А разбивается на
совершенно дискретные друг другу части, просто на разные
вещи. А если вы будете утверждать, что упомянутые две
части Л суть именно части целого Л, что вы не забываете
цельности этого Л, то я в свою очередь спрошу: а откуда
видно, что это суть именно части А? Если это части, то по
одной из них я должен догадаться о целом, т. е. целое
должно как-то почить на нем, должно как-то
отождествиться с ним. Об этих частях я и задам опять вопрос:
различны они или тождественны? Если они только различны,
то, значит, цельное Л — вы утеряли и превратили в
дискретное множество новых вещей. А если они не только
различны, то они хотя бы в каком-то отношении
тождественны. Но раз они хоть в каком-то отношении
тождественны, то, значит, хоть в каком-то отношении
тождественно между собою и то, что отлично от не-Л, и то, что
тождественно с не-Л, т. е. все равно получается, что если
не Л, то отдельная его часть и тождественна, и отлична
с не-Л. Итак, или Л уничтожается как Л, т. е. мы перестаем
мыслить целое, тогда наступает царство формальной
логики. Или мы мыслим целое Л, но тогда для этого нужна диа-
Α. Φ. ЛОСЕВ
632
лектика. Конечно, нужно иметь в виду, что диалектика
доказывает тождество и различие Л и не-Л не только в
одном и том же отношении. Л и не-Л тождественны и
различны также и в разных отношениях. Но быть
тождественными только в разных отношениях — это значит попросту
быть различными. Диалектика обязательно утверждает
это различие А и не-Л, без какового не может состояться
само различие, т. е. сама мысль. Но диалектика
одновременно с этим требует и тождества, т. е. того положения,
когда тождество и различие А и не-Л берутся в одном и том
же отношении. Тут-то и протестует формальная логика.
Не знаю, убедительны ли для читателя эти аргументы.
Однако повторяю: без усвоения логики противоречия и без
понимания того, как Л и не-Л и тождественны, и различны
между собою в одном и том же и — одновременно —
в разных отношениях, без этого не может осуществиться
понимание платонизма, а след., не может осуществиться
и правильное понимание аристотелевской критики
платонизма. Если читатель до настоящей страницы не понял
этого существенного свойства диалектического метода, то
напрасно я писал для него эту книгу и напрасно он давал
себе труд читать ее. И он поступит наилучше, если закроет
мою книгу на этом же месте и не станет вникать в трудную
аргументацию и текст Аристотеля.
633
«МЕТАФИЗИКИ» АРИСТОТЕЛЯ КНИГИ XIII—XIV
(перевод)
«МЕТАФИЗИКИ> АРИСТОТЕЛЯ КНИГА XIII
ВСТУПЛЕНИЕ (ГЛ. 1)
1. Предмет и разделение исследования. 1. Итак, мы уже
сказали о субстанции 1 чувственных вещей, что она такое,
в исследовании 2 физических предметов 3— о материи и —
позже 4—- об энергийной субстанции (κατ'ένέργειαν) [о
субстанции по энергии]. Так как [теперь] предстоит
рассмотрение, существует ли наряду с чувственными субстанциями
какая-нибудь неподвижная и вечная или не существует, и
если существует, то — что она такое, то сначала необходимо
взвесить утверждения других, чтобы не подвергнуться тем
же самым [ошибкам], если они утверждают что-либо
неосновательно, и, если у нас какое-либо учение общее с ними,
чтобы мы не были недовольными собою в том, что мы одни его
защищаем. Надо ведь радоваться, если кто-нибудь, с одной
стороны, утверждает лучшее, с другой же — [хотя бы по
крайней мере] не худшее.
2. Существует два мнения по этому предмету. А именно,
одни говорят, что математические предметы 5 суть субстанции
(как-то: числа, линии и родственное этому), другие же
[говорят] то же самое об идеях. Но так как одни утверждают
эти два рода, [т. е.] идеи и математические числа, другие
же — [только] одну природу для того и другого, а еще другие
говорят, что существуют только математические
[субстанции], то а) сначала нужно произвести исследование
относительно математических предметов, не прибавляя к ним
никакой иной природы, напр., [не решая вопроса], суть ли они
идеи или нет, суть ли они принципы и субстанции сущего или
нет, но относительно [них] как только математических
предметов — существуют ли они или нет, и если существуют, то
как,— а затем [уже], после этого, Ь) отдельно относительно
самих идей, самостоятельно6 и насколько этого требует
обычай 7, потому что многое рассказано и в эксотерических
лекциях 8.
3. За этим рассмотрением необходимо приступить к более
пространному рассуждению в целях рассмотрения, с) суть ли
субстанции и принципы сущего — числа и идеи. Это именно
остается третьим исследованием после идей. Необходимо,
если действительно существуют математические предметы,
чтобы они или были в чувственном, как говорят некоторые,
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L
634
или находились в отделении от чувственного (говорят некото-
35 рые и так), или если не так и не так, то они или не существуют,
или существуют другим способом. Поэтому дискуссия у нас
будет не о бытии [математического], жко способе [этого
бытия] э.
I. О МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТАХ (ГЛ. 2-3)
2. Критика «отделения*10. 1. Однако, что
[математические предметы] не могут находиться по крайней мере в
чувственном [как особые субстанции] п и что вместе с тем та-
1076b кое рассуждение есть выдумка, об этом сказано и в
«Апориях» 12, [а именно], что а) двум телам невозможно
находиться в одном и том же месте. Ь) Еще же [сказано], что
с тем же правом [могли бы] существовать в чувственном
и прочие потенции и природы и не одна [из них] — отдельно 1?
Об этом, стало быть, сказано раньше, с) Но сверх того ясно,
5 что никакое тело не могло бы быть разделено. В самом деле,
оно должно разделиться на поверхности, поверхность — на
линии и линия — на точки, так что если невозможно разделить
точку, то [невозможно разделить] и линию, а если — ее, то
и прочее. Какая же разница между тем, чтобы существовать
этим [чувственным] природам, [точкам, линиям и пр.],
таковыми, [т. е. неделимыми], и между тем, чтобы существовать
не им, но таковым [идеально-математическим] природам в
іо них? Ведь получится одно и то же, потому что если
разделяются чувственные [точки, линии и проч.], то они или
разделяются [тоже], или чувственные вещи не [делятся вовсе].
2. а) Но уже во всяком случае невозможно быть таковым
природам отдельно [от чувственного]. В самом деле, если
наряду с чувственными телами окажутся отдельные от них
15 другие, предшествующие чувственным, то ясно, что и рядом
с [чувственными] плоскостями необходимо быть другим
плоскостям, отдельным и [также] точкам и линиям — на том
же основании. А если так, то опять рядом с плоскостями,
линиями и точками математического тела окажутся другие —
отделенные [от них]. Ведь несложное раньше сложного; и если
20 чувственным телам действительно предшествуют
нечувственные, то на том же основании и плоскостям в неподвижных
[математических] телах предшествуют они же, [но взятые
уже] сами по себе, [отдельно]. Поэтому они будут иными
плоскостями и линиями, чем те, которые существуют вместе
с отделенными [от вещей математическими] телами; именно,
одни — вместе с математическими телами, другие же пред-
25 шествуют математическим телам. В свою очередь, однако,
у этих плоскостей будут линии, которым по необходимости
будут предшествовать другие линии и точки, на том же
самом основании, и [точкам) м в предшествующих линиях —
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 I
635
другие предшествующие точки, в отношении которых уже нет
других предшествующих. Стало быть, получается
бессмысленное нагромождение [выводов]. Действительно, рядом с
чувственными [телами] окажется [всякий раз] по одному [мате- зо
матическому] телу, рядом с чувственными [плоскостями] —
по три [различных] плоскости, [а именно], те, что рядом с
чувственным, [и, следовательно, в чувственном], те, что в
математических телах, и те, что в этих [взятых как сами по
себе]. [Точно так же окажется] линий по четыре и точек по
пяти. Следовательно, к чему же из этого будут относиться
математические знания? Очевидно, не к плоскостям, линиям
и точкам в неподвижном [математическом] теле, потому что 35
знание всегда относится к более первоначальному.— То же
рассуждение и о числах. Именно, рядом с каждой точкой
будут другие единицы, [как] и рядом с каждым чувственно-
сущим; затем [то же относительно] умного. Поэтому
получаются бесконечные ряды математических чисел.
b) 1. Кроме того, как можно разрешить то, в
рассмотрение чего мы вошли и в «Апориях»15? 'А именно, предмет Ю77а
астрономии будет 16 подобным же образом вне чувственного,
как и предмет геометрии. Как же может быть [при таких
условиях] , чтобы существовало Небо и его части или что бы то ни
было другое, раз оно имеет движение ,7? 2. Подобное же нахо- 5
дим и в оптике и в гармонике. Именно, голос и зрение
окажутся вне чувственного и единичного, так что ясно, что и
другие чувственные восприятия, и другие чувственно
воспринимаемые предметы [будут в том же положении]. Почему, в
самом деле, одно [тут будет] больше другого? Но если так, то
и живые существа [будут подчиняться тому же закону], раз
и чувственные восприятия [таковы же].
c) Еще выставляют 18 математики рядом с этими [чув- ю
ственными] субстанциями иное общее, [напр., аксиомы,
общие понятия и пр.]. И это будет, стало быть, некая новая
субстанция посредине между идеями и [упомянутыми выше]
срединными предметами [математики], [субстанция],
которая не есть ни число, ни точка, ни [пространственная]
величина, ни время. Если же это [срединное] невозможно, то
ясно, что невозможно и им [общему] быть в отделении от
чувственного.
3. Но вообще получается противоположное и истине и і5
обычным предпосылкам, если будут утверждать, что
математические предметы существуют таким образом как некие
отделенные природы. В самом деле, благодаря такому их
бытию необходимо, чтобы они предшествовали чувственным
величинам; по истинному же [положению дела J они —
позже: несовершенная величина по происхождению раньше,
по субстанции же позже, как, напр., неодушевленное в отно- 20
шении одушевленного І9.
Α. Φ. ЛОСЕВ
636
4. Далее, в силу чего и когда 20 математические величины
будут единствами (εν)? Здешнее, [чувственное, становится
единым] в силу души или момента души или какого-нибудь
другого подходящего [начала]. А если — нет, оно
[становится] многим и разрушается. Но какова причина бытия
в качестве единства и пребывания для тех вещей, [к тому же
еще] делимых и количественных?
5. Еще показывают, [где истина], и процессы
становления. Сначала возникновение происходит относительно длины,
затем — относительно ширины, наконец — относительно
глубины, и [потом уже] цель достигается. Следовательно, если
по происхождению позднейшее — раньше по субстанции, то
тело, надо полагать, раньше плоскости и длины и оно —
более совершенное и целое в меру того, насколько оно
становится одушевленным. Но как может быть одушевленной
линия или плоскость? Это требование было бы ведь выше наших
чувственных восприятий.
6. Далее, тело есть некая субстанция, так как оно в
известной мере уже содержит [в себе] совершенное 2|. Но как могут
быть субстанциями линии? Действительно — и не как некая
форма и образ (είδος και μορφή) (как, напр., душа — такова),
и не как материя (напр., тело). Ничто ведь не оказывается в
состоянии составиться ни из линий, ни из плоскостей, ни из
точек. Если бы они были материальными субстанциями, то [и]
обнаружилось бы, что это с ними не может случиться.
7. Итак, пусть они, [математические предметы], по смыслу
раньше [чувственных]. Но не все предшествующее по смыслу
предшествует и по субстанции. Предшествует по субстанции
то, что, несмотря на отделение, имеет превосходство
[временное?] по бытию, [в сравнении с тем, от чего оно отделено] 22;
по смыслу же [предшествует то], смыслы чего
[абстрагированы! из [среды] смыслов [других более цельных
предметов] 3. Это, однако, не наличествует одновременно. Если
не существует аффекций рядом с субстанциями
[самостоятельно], как, например, что-нибудь движущееся или
белое, то «белое» раньше «белого человека» по смыслу, а не
по субстанции, так как оно не может быть в
отделении, но всегда существует вместе с целым. Целым же я
называю «белого человека». Ясно поэтому, что ни отвлекаемое,
[абстрактное] (το εκ αφαιρέσεως), не раньше, ни возникающее
от прибавления, [конкретное] (το εκ προσδέσεως) 2\ не позже
[по субстанции]. От прибавления ведь белизны 25 человек
называется белым 26.
8. Итак, достаточно сказано о том, что [математические
предметы] не суть ни более субстанции, чем тела, ни первона-
чальнее чувственного по бытию, но что они [первоначальнее]
только по смыслу и что никак невозможно им быть в
отделении. Но так как невозможно им существовать также и в чув-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 > >
637
ственном, то ясно, что они или вообще не существуют, или 15
существуют каким-то [особенным] способом и потому не
просто существуют. Действительно, о бытии мы говорим в
разных смыслах.
3. Положительная теория числа. 1. Как именно общие
положения в математике относятся не к тому, что существует
отдельно вне величин и чисел, но к этим последним, хотя и не
постольку, поскольку они имеют величину и суть делимы 27, 20
[так же] ясно, что и относительно чувственных величин могут
быть понятия и доказательства не постольку, поскольку они
чувственны, но поскольку они таковы, [т. е. поскольку они —
величины] 28. Действительно, подобно тому как существуют
многие понятия [относительно вещей], только поскольку
[последние] находятся в движении 29, независимо от того, чем
каждая из таковых является, и [независимо] от их
акциденций, и нет необходимости через это или быть чему-либо дви- 25
жущемуся из чувственного в отделении, или быть какой-
нибудь особенной природе в нем,— так же могут существовать
понятия и знания и относительно движущегося, не поскольку
оно — движущееся, но только поскольку оно тело и в свою
очередь поскольку оно—только плоскости или только длины,
и поскольку делимо, и поскольку неделимо, но имеет
[пространственное] положение или поскольку просто неделимо, зо
Поэтому если истиной [будет] просто 5* говорить, что
существует не только отделенное, но неотделенное, что, напр.,
существует движущееся, то истиной также будет просто сказать, что
существуют математические предметы и что они именно
таковы; какими их считают. И подобно тому как истиной
оказывается просто сказать, что и прочие знания являются
[знаниями] этого [определенного предмета, т. е. относятся к опре- 35
деленному предмету], [знаниями] не [его] акциденции, как,
напр., что — белого, если здоровое — бело (а имеется в виду,
[скажем, наука] о здоровом) 30, но того [самого], к чему отно- Ю78а
сится каждая [наука], здорового, если оно—здоровое, [и]
о человеке, если оно —человек; точно так же [обстоит дело]
и с геометрией: если ее предмет акциденциально оказывается
чувственным и [как таковой] существует он не поскольку
он — чувственный, то математические знания относятся не
к чувственному, но, конечно, и не к другим отделенным [от них
существующим] рядом с ними. Многое самостоятельное акци- 5
денциально присуще вещам31, поскольку каждая является
из таковых, как, напр., существуют специальные аффекции,
поскольку живое существо является женского или мужского
пола, хотя и не существует ни женское, ни мужское отдельно
от живых существ. Поэтому [можно изучать вещи] и
поскольку они являются одними длинами или поскольку —
плоскостями.
2. Далее, очевидно, чем к более первоначальному по смыс- ю
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L-
638
лу и простому относится [наука], тем более она содержит
точности. Последнее есть простота 32. Поэтому [наука,
оперирующая с вещами] без величины, более [точна], чем с
величиной, и больше всего [точна, если они берутся] без движения.
Если же [брать] движение, то [наука о нем] в особенности
[точна], если [имеется в виду] первое [движение, т. е.
круговое] , ибо оно — простейшее и притом из этого [последнего] —
равномерное33. Таково же рассуждение и относительно
15 гармоники и оптики. Ни та ни другая не рассматривают
[своего предмета], поскольку он — зрение или поскольку
звук, но — поскольку линии и числа. Однако это их
собственные свойства. Точно так же и механика. Поэтому, если,
положивши [математические предметы] в отделении от
акциденций, рассматривать что-нибудь относительно них
[постольку], поскольку они [именно] таковы,— от этого не
произойдет никакой погрешности, подобно тому как не
[происходит никакой погрешности], когда пишут на земле и
называют однофутовой линию, которая [вовсе] не имеет
20 длины один фут Э4. [Тут] именно нет ошибки в предпосылках35.
Лучше же всего можно рассмотреть каждую вещь так, чтобы
положить неотделенное отдельно 36, как делает арифметик и
геометр. Именно, человек, поскольку он — человек, един и
неделим. Первый положил его как единого неделимого и затем
25 исследовал, что свойственно человеку, поскольку он неделим.
Геометр же [рассматривает его] не поскольку он человек и не
поскольку неделим, но поскольку он — тело. Ясно,
действительно, что свойственное ему, даже если он никак и не был
неделимым, может быть присуще ему и без этого, [как] по-
тентное (το δυνατόν)37. Ввиду этого геометры, след., говорят
правильно и высказываются они о [реально] существующем,
зо и [их предмет] есть [реально существующий]. Ведь сущее
двояко: одно — энтелехийно (το εντελέχεια), другое —
материально 38.
3. Так как благое и прекрасное — различны (одно —
всегда в действии, прекрасное же — ив неподвижном), то
утверждающие 39, что математические знания ничего не говорят
о прекрасном или благом, впадают в ошибку.
[Математические предметы] именно больше всего говорят [об этом] и об-
36 наруживают [это]. Если они [этого] не называют по имени,
[но] показывают результаты и смысл [этого], то [уже] нельзя
сказать, что они об этом [совершенно] не говорят. Самые
крупные виды прекрасного — строй, симметрия и наличие
Ю78Ь предела, на что больше всего указывают математические
знания. И уж если оказывается это причиной многого
(назову, примерно, строй и наличие предела), то ясно, что
[математические знания] могут говорить и о такой причине, [дей-
5 ствующей] некоторым образом как прекрасное 40. Яснее мы
будем говорить об этом в другом месте .
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I——1
639
II. ОБ ИДЕЯХ (ГЛ. 4-5)
4. Критика платоновского учения об идеях. Итак, пусть
это будет сказано о математических предметах, [именно],
что они — сущее и как сущее, в каком смысле они — раньше
и в каком — не раньше [чувственного]. [Теперь же]
следует рассмотреть относительно идей — сначала самое уче- ю
ние, относящееся к идее, не ставя с этим в связь природы
чисел, но так, как с самого начала предположили те, которые
впервые заговорили о существовании идей 42.
1. Учение о видах43 получилось у тех, которые благодаря
убеждению в истине слов Гераклита 44 утверждали, что все
чувственное вечно течету так что если знание и разумение
к чему-нибудь относится, то надо, чтобы вне чувственных су- is
ществовали [еще] некоторые другие природы, пребывающие,
так как не может быть знания в отношении вещей текучих.
Сократ 45, занимаясь [вопросами] об этических добродетелях
и первый стараясь дать их общие определения, с полным
основанием 46 разыскивал «что» [вещей] (το τί έστιν)47. Из
физиков немного касался [этого] только Демокрит и
некоторым образом пытался определить теплое и холодное. (Пифа- 20
горейцы же [еще] раньше [делали то же] относительно
немногого, понятия чего они сводили на числа, как, напр., что
есть [удобный] случай, или справедливое, или брак 48.)
Именно, Сократ старался пользоваться умозаключениями, а
исходный пункт умозаключений — «что», [отдельное понятие]. 25
Диалектического искусства тогда ведь еще не было [в такой
мере], чтобы было возможно и рассматривать
противоположности вне «что» вещи, и [исследовать], то же ли самое знание
относится к противоположностям, [т. е. антиномичен ли самый
акт знания или нет] 49. Именно, две вещи могут
быть по справедливости приписываемы Сократу —
индуктивные доказательства и общие определения 5 . То и другое
действительно относится к принципу знания 51. Но Сократ ни зо
общее, ни определения не делал отделенными [от вещей] ;
другие же отделили и \вот] это из сущего [и] объявили идеями .
2. а) Отсюда й почти [только] на том же самом
основании им пришлось говорить, что существуют идеи всего
высказываемого общо; и это [получилось у них] так же уместно, как
если бы кто-нибудь, желая сосчитать [несколько вещей],
подумал бы, что он не может [это сделать] на том основании, что 35
их — меньше, и сосчитал бы их, сделавши [так, чтобы их
было] больше. Действительно, видов, так сказать, больше, Ю79а
чем единичных чувственных вещей, исследуя
причины которых они, [платоники], пришли от них, [чувственных
вещей], туда, [к идеям]. Именно, и соответственно каждой
единичной вещи существует, [по их мнению], одноименное
[ей, идея], и во [всем] другом, [т. е. уже общем], также суще-
Α. Φ. ЛОСЕВ
640
ствует наряду с [соответственными] общими субстанциями
[особое] единство во множестве [общего], [причем то и
другое] как на этих, [чувственных], так и на вечных, [небесных,
вещах]54.
b) Далее, какими способами они ни доказывают, что
существуют виды, никаким из них не обнаруживается [это
существование], потому что на основании одних [аргументов]
не необходимо получается вывод [об идеях], на основании же
других возникают виды также и того, о видах него они и не
думают. 1. Именно, с точки зрения понятий, образующихся
на основании знаний, получаются виды [решительно] всего,
относительно чего существуют знания; и с точки зрения
единства во множестве — [получатся виды] и отрицаний; с точки
же зрения мышления чего-нибудь исчезнувшего — [виды]
преходящего, так как некое представление возможно
[и] об этом. 2. Далее, что касается наиболее точных [их]
доказательств, то одни создают идеи относительного, о
котором они [сами] говорят, что не существует [для них] рода
самого по себе; другие же утверждают [существование]
«третьего человека» .
c) И вообще аргументы о видах уничтожают то,
существование чего говорящие о видах хотели бы [даже] больше,
чем существование идей. Именно, [у них] получается, что
раньше всего существует не двойка, но число, и [раньше]
этого последнего 56— отношение (το προς τι), и это —
[раньше] того, что само по себе, [т. е. того, что не есть
отношение] ; [и так —] все [другое], в чем некоторые
последовавшие за учением о видах впали в противоречие со [своими
же собственными] принципами.
d) Далее, по предположению, по которому
утверждают существование идей, окажутся виды не только
субстанций, но и многого другого, ибо мысль едина,
[приводит в единство], не только относительно
субстанций, но и для не-субстанциального и знания относятся
не только к субстанциям. Получаются [у них] и
бесчисленные другие подобные [нелепости]. Если же принять
во внимание [логическую] необходимость и [самые] учения
об этом предмете, то, если существуют сообщимые виды,
[те, в которых что-нибудь участвует],— надо, чтобы
существовали идеи только субстанций. Ведь участие [вещей] в них
происходит не по акциденции, но необходимо, чтобы каждая
вещь участвовала [в идее] в том отношении, в каком она
высказывается не по [своему] материальному субстрату.
Приведу пример: если что-нибудь участвует в самом по себе
двойном, [в двойном-в-себе], то участвует и в вечном, но —
по акциденции, так как двойное — вечно по акциденции.
Поэтому виды будут [только] субстанцией, [т. е. виды должны
быть только для субстанций].
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
641
3. а) [Однако] одно и то же является признаком
субстанции здесь, [в чувственном] , и там, [в идеях]. Или что еще иное
могло бы значить говорить, что существует нечто вне этих
[чувственных] вещей [как] единое во многом? Именно, если
вид идей и участвующего [в них] — один и тот же, то [между
ними] окажется нечто общее. Да и почему двойство будет в
большей мере самотождественным в преходящих,
[чувственных] , двойках и в двойках [математических], хотя и много- 35
численных, но [одновременно] — вечных, чем в ней, [идее
двойки вообще], и [чем] в ней [как в идее] некоей
[определенной чувственной двойки, если брать ту и другую
сразу вместе] ? Ь) Если же вид [тут] не один и тот же, то [идея
и участвующая в ней вещь], надо полагать, имеют [лишь] ш?9Ь
общее имя. И [здесь произойдет] подобное тому, как если бы
Каллия и кусок дерева назвали бы человеком, не обращая
внимания ни на какое их взаимоотношение, с) Если же мы
допустим, что в иных отношениях общие понятия согласу- 5
ются, [совпадают] с видами, как, напр., относительно самого
круга, [т. е. «вида» круга],— плоская поверхность, [т. е.
общее понятие плоской поверхности] и прочие
моменты этого понятия, и [только кроме того] должно [каждый
раз] прибавляться [для получения идеи] то, чего [именно
идеей или первообразом являются эти понятия] 57,— то надо
смотреть, чтобы это не оказалось совершенно пустым. В самом
деле, к чему, [к каким моментам общего понятия это] должно
прибавляться? К центру, к [самой] плоскости, [кэйдосу
плоскости] или ко всем [моментам круга]? Ведь в субстанции,
[охватываемой при помощи понятия] , всё есть идеи, как,
напр., [в определении «человека»] — «живое существо» и
«двуногое». Кроме того, ясно, что ему, [этой прибавке], необ- ю
ходимо быть чем-то, некоей природой (наподобие плоскости),
что было бы свойственно всем видам, [куда она
прибавляется] ,— как род 59, [внешний и отдельный от них].
5. Продолжение. 1. Больше же всего может доставить
затруднений [вопрос], а) какое значение имеют виды для
[вещей] вечных из чувственных, [т. е. для Неба], или для
становящихся и уничтожающихся, так как они не являются
для них причиной ни движения, ни какого-нибудь изменения. \ь
Ь) Однако они нисколько не помогают [также] ни в смысле
знания о прочем, потому что они не есть субстанция
последнего ([иначе] они существовали бы в них), с) ни для бытия,
потому что они во всяком случае не наличны в том,
что участвует в них. d) Правда, можно подумать, пожалуй, что
они суть причины так, как белое, когда оно находится в
смешении с белым [предметом]. Но этот аргумент, высказанный го
сначала Анаксагором, а потом (не без трудностей) Эвдок-
сом 60 и некоторыми другими, слишком неустойчив [в смысле
правильности], потому что нетрудно привести для [опровер-
21 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
I >
642
жения] этого учения и многие невозможные [для него
выводы].
2. Однако нельзя никаким обыкновенным способом
говорить, что прочее, [чувственные вещи, происходит] из видов,
а) Говорить, что [идеи] суть образцы и прочее в них
участвует,— значит пустословить и высказывать поэтические
метафоры. В самом деле, что это такое, что действует «взирая на
идеи»? Ведь что угодно может и быть и становиться подобным
без подражания [образцу], так что Сократом, напр., можно
становиться [независимо от того], существует ли Сократ
[сам по себе] или не существует. Подобным же образом
ясно, что было бы то же самое, если бы даже существовал
вечный Сократ. Ь) Именно, окажется множество образцов
одного и того же, а след., и [его] видов, как, напр., для
«человека» — «живое существо» и «двуногое» и вместе с тем
еще человек-в-себе. с) Кроме того, виды будут
образцами не только чувственного, но и самих себя, как, напр., род —
образец того, что является как виды рода. Поэтому образец
и отображение [его] будет одним и тем же.
3. Далее, по-видимому, невозможно думать, что
субстанция может быть вне того, чего субстанцией [она является].
След., как же идеи, будучи субстанциями вещей, могут
находиться вне их? 61 В «Федоне» [Платона] 62 говорится, таким
образом, что виды суть причины и бытия, и становления.
Однако, [даже] если существуют виды, все-таки [ничто] не
возникает, если нет двинувшего-, и, [напротив того], возникает
многое другое, как, напр., дом и кольцо, видов чего, по их
мнению, не существует. Таким образом, ясно, что может и
быть, и возникать то, виды чего они признают, при помощи
тех же причин, о которых сейчас сказано, но не при помощи
видов.
Однако относительно идей и в этом смысле и при помощи
более логичных 63 и точных аргументов можно было бы
привести [еще] многое подобное рассмотренному.
III. ОБ ИДЕАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ (ГЛ. 6-9, 1085b 36)
6. Классификация учений о числе. После того как дано
определение об этих [предметах], будет уместно вновь
рассмотреть выводы о числах у тех, кто говорит, что они суть
отделенные [от вещей] субстанции и первые причины сущего.
1. а) Если действительно число есть некая [реальная]
природа и субстанция его, по утверждению некоторых, есть не
иная, как та самая, [чисто числовая],— то необходимо [одно
из трех. Во-первых] 64, [надо], чтобы в нем или было некое
первое [число] и [некое] последующее, каждое по виду
разное, причем это 1. [различие или] прямо присутствует на
[всех] единицах, и никакая единица не счислима ни с какой
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
643
[другой] единицей; или 2. все они [находятся] в прямой после- 20
довательности, и всякая из них счислима со всякой [другой],
каковым, напр., считают математическое число (так как в
математическом [числе] ни одна единица никак не отличается от
другой). [Во-вторых, возможно предположить, что] 3. одни
счислимы, другие же — нет, как, напр., в том случае,
если за одним [-в-себе] существует сначала двойка [-в-себе],
затем тройка [-в-себе], и так, стало быть, всякое число, и [да- 25
лее] в каждом числе единицы — счислимы, как-то: в первой
двойке они счислимы с самими собой, в первой тройке
счислимы сами с собой, и так, значит — в прочих числах; в
двойке же самой по себе единицы [эти] несчислимы в отношении
к единицам в тройке самой по себе, и подобным образом
[обстоит дело и] в прочих последовательных числах. Отсюда, зо
математическое [число] счисляется [так, что] за «одним»
[следует] «два» [через прибавление] к предыдущему одному
другого «одного» и «три» — [через прибавление] к этим
«двум» еще «одного»; так же и прочее число. Это же
[идеальное] число [счисляется так, что] за «одним» [следуют] другие
[особые] «два» без первого «одного», и тройка — без двойки, 35
и прочее число — одинаково. [В-третьих, 4. возможен род
чисел, где] одно из чисел таково, как упомянутое вначале,
[чистая несчислимость], другое — как то, о котором говорят
математики, [непрерывная счислимость], третье же — как
высказанное в последнем пункте, [прерывная счислимость].
Ь) Кроме того, числа эти [могут] быть или 1. отдельными юѳоь
от вещей, или 2. неотдельными, но [присутствующими] в
чувственном, однако не так, как мы рассматривали сначала 65,
но так, что чувственное является состоящим из чисел; или,
[наконец] — 3. так, что одно — отдельно, другое — неотдель* ь
но 66.— Таковы единственно необходимые способы, какими
можно существовать числам.
2. а) Можно сказать, что и те, по которым Единое
есть принцип, субстанция и элемент всего и число
происходит из него и еще чего-то 67, говорят каждый одним из этих
способов, кроме [тех, которые учат, что решительно] все
единицы несчислимы. И это происходит по праву, так как не мо- ю'
жет быть никакого еще другого способа [существования
чисел], кроме указанных. Поэтому одни, [Платон], говорят,
что числа существуют в обоих смыслах, а именно, что одно
[число, т. е.] содержащее в себе моменты «раньше» и «позже»,
[или последовательный ряд], есть идея, [идеальное число],
а другое, математическое, [число] — помимо идей и
чувственности, причем то и другое — отдельно от чувственного.
Другие же, [Спевсипп и Ксенократ? — утверждают, что]
только математическое число есть первое из сущего, нахо- is
дящееся в отделении от чувственности. Также и
пифагорейцы признают одно — математическое — [число], но только
21 *
Α. Φ. ЛОСЕВ
644
не в отделении, а [говорят, что] чувственные субстанции
составлены из них. Именно, целое Небо они образуют из
чисел, но только не из составленных из единиц (μοναδικών) 68,
20 [чистых отвлеченных], а предполагают, что единицы имеют
[телесную] величину. Однако как возникло первое единое
с величиной, они явно затрудняются решить. Еще один
говорит, что существует [только] первое число, [как] один из
видов, [т. е. как идеальное]. Иные же [считают], что именно
математическое — это самое [одно] 69.
Ь) Подобным же образом [разделяются мнения] и
относительно длин, поверхностей и тел. Именно, одни [говорят],
25 что математические предметы отличаются [тут] от того, что
[образуется] по идеям, [от идеального]. Из рассуждающих
иначе — одни допускают математические предметы и в
математическом смысле, те [именно], которые не делают идей
числами и [даже] отрицают существование идей. Другие
допускают [тут] математические предметы, но [уже] не в
математическом смысле, так как, [по их мнению], ни всякая
любая величина не делится на величины, ни всякие любые
зо единицы не составляют двойки. За исключением
пифагорейцев, все, которые говорят, что Единое — элемент и принцип
сущего, утверждают, что числа составлены из единиц. Те же
[пифагорейцы], как сказано раньше, [утверждают, что числа]
имеют [протяженную] величину.
Ясно из этого, сколькими способами можно говорить
о них, [о числах и фигурах]; и [ясно], что названы [тут] все
35 способы. Все они невозможны; [только], пожалуй, один [еще]
в большей мере, чем другой.
7. Критика платоновских идеальных чисел. Итак, прежде
Ю8іа всего надо рассмотреть, счислимы ли единицы или несчисли-
мьіу и если несчислимьіу то каким из разобранных нами
способов. Именно, возможно, что каждая единица несчислима
с каждой [другой] единицей, [абсолютная несчислимость].
Возможно, что [несчислимы] единицы, заключенные в самой
двойке, [двойка-в-себе], с единицами, заключенными в самой
тройке, [тройка-в-себе] ; и, таким образом, значит, несчисли-
5 мы единицы в каждом первом числе одни с другими, [—
прерывная счислимость].
1. Если, [во-первых], все единицы счислимы и [взаимно]
безразличны, то возникает математическое число, и только
одно, [один тип числа] ; и — тогда невозможно, чтобы идеи
были [такими] чиолами 70. а) В самом деле, какое же это
будет число — человек-в-себе или живое существо и другой
любой из видов? Ведь у каждого [предмета] — одна идея, как,
ίο напр., одна — человека-в-себе и другая одна — живого суще-
ства-в-себе. [Взаимно] подобные и безразличные [числа] —
беспредельны [по количеству] 7І, так что эта тройка нисколько
не больше человек-в-себе, чем любая [другая] 72. Ь) Если же
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
І^^мІ . ,
645
идеи не суть числа, то и вообще их не может быть. В самом
деле, на основании каких принципов будут существовать
числа? Число, [говорят], существует на основании Единого
и Неопределенной Двоицы 73, и эти принципы и элементы 15
утверждаются [как принципы и элементы] числа. Но иху
[идеи], нельзя поместить ни раньше чисел, ни позже.
2. а) Если же, [во-вторых], единицы несчислимы, а
именно так несчислимы, что [это касается] всякой в отношении
всякой, то это число не может быть ни математическим, го
ибо математическое [число состоит] из безразличных
[однородных единиц] и, что о нем доказано, применяется [только]
к такому [же числу], ни одним из видов, [т. е. ни идеальным
числом], ибо !. [тогда] первая двойка не будет из Единого
и Неопределенной Двоицы, и затем [также не будут и]
последовательные числа, как их называют,— двойка, тройка,
четверка. Ведь в первой Двоице, или, как сказал первый
[учивший об этом, Платон], из Неравного (ибо они возникли 25
через уравнение [неравенств]), или же еще как-нибудь74,—
рождаются [при такой точке зрения] все единицы вместе.
2. Затем, если одна единица будет [признаваться в двойке]
раньше другой, то она будет раньше и получающейся отсюда
двойки, потому что когда одно — раньше, другое же —
позже, то возникающее из этого будет раньше одного и позже
другого 75.
Ь) Далее, так как сначала является Одно-в-себе,
затем — какое-нибудь первое одно из прочего, [из Двоицы] 76, зо
второе после первого, [Единого], и далее — третье, второе
после второго и третье после первого «одного», то, таким
образом, 1. единицы, надо полагать, будут раньше чисел,
из которых они образуются 77; как, напр., в двойке должна
быть третья единица прежде, чем будет «три», и в тройке будет
четвертая и [далее] пятая до этих чисел7В. 2. Конечно, 35
никто из них, [платоников], не сказал, что единицы
несчислимы этим способом, но с точки зрения их принципов можно
с полным правом [рассуждать] и так. Тем не менее, с точки 108ІЬ
зрения истины это — невозможно. 3. В самом деле, правильно
утверждать, что существуют единицы предшествующие и
последующие, если только существует и некая первая единица
и первое «одно»; равным образом — что двойки, если только
существует и первая двойка. Ведь правомерно и необходимо, 5
чтобы за первым существовало нечто второе, и если — второе,
то [и третье], и так, след., все последовательные числа. Но
невозможно высказывать [одновременно] то и другое, [т. е.]
и что существует за «одним» первая и вторая единица,
и что Двоица — первая. Они создают, с одной стороны,
единицу и первое «одно», с другой же стороны, второе
и третье уже не [создают], а [создают] первую Двоицу, но ю
вторую и третью уже нет.
Α. Φ. ЛОСЕВ
646
с) Явно, что если все единицы — несчислимы, то не
может существовать ни двойка-в-себе79, ни тройка и так
же — прочие числа. 1. Действительно, если единицы будут
[взаимно] безразличны и притом каждая будет отличаться
от другой, то необходимо, чтобы число счислялось по
прибавлениям, как, напр., двойка — через прибавление к
«одному» второго одного, и тройка — через прибавление к «двум»
еще одного, и таким же образом — четверка. Если это так, то
невозможно, чтобы было такое происхождение чисел, что они
рождаются от Двоицы и от Единого. Ведь [в случае
происхождения через прибавление] двойка становится моментом
тройки и тройка — четверки; и тем же путем происходит
[счисление] и в последующих [числах]. Однако [у них]
четверка происходила из первой [идеальной] двойки и
Неопределенной Двоицы, [т. е. у них] кроме двойки-в-себе еще
две двойки. Если же не [так они учат], то двойка-в-себе
будет моментом [четверки] и должна прибавиться [к ней]
еще одна двойка, и двойка [эта] будет [состоять] из
Единого-в-себе и другого «одного». А если так, то другой
момент не может быть Неопределенной Двоицей, так как он
рождает одну единицу 80, а не определенную двойку. 2. Далее,
как могут существовать рядом с тройкой-в-себе и двой-
кой-в-себе другие тройки и двойки? И каким способом они
составляются из предыдущих и последующих [качественно
несоизмеримых] единиц? Ведь все это — фиктивное
[измышление] ; и невозможно, чтобы была первая двойка, затем —
тройка-в-себе. А это необходимо, если только Единое и
Неопределенная Двоица будут элементами. Но если невозможны
эти выводы, то невозможно также, чтобы существовали
эти принципы.
Эти и другие такие же выводы по необходимости
получаются, если единицы различны [как единицы], всякие в
отношении всяких.
3. Если же единицы 81 [только] в другом [числе-в-себе]
различны, единицы же в том же самом числе — одна к
другой безразличны, [— прерывная счислимость], то и таким
образом возникает нисколько не меньше трудностей.— а) 1.
В самом деле, [пусть], напр., в десятке-в-се бе содержится
десять единиц; составляется же десятка как из них, так и из
двѵх пятерок. Но так как десятка-в-себе не есть случайное,
[бескачественное], число и составляется не из каких попало,
[взаимно безразличных], пятерок, равно как и не из [каких
попало] единиц82, то необходимо, чтобы единицы,
находящиеся в этой десятке, [между собою качественно]
различались 83, [а не были бы безразличными, как то было условлено
вначале], потому что если они не различаются, то и пятерки,
из которых состоит десятка, не будут различаться; а так как
[пятерки] различаются, то и единицы будут различаться.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1—1
647
2. Если же они различаются, то могут ли быть 84 другие
пятерки, чем только эти две, или не могут? Если не могут, то
[это] — бессмысленно 85 Если же могут, то какой будет сос- ю
тавленная из них десятка? Ведь в десятке нет другой десятки,
кроме этой. 3. Однако ведь во всяком случае необходимо,
чтобы и четверка не составлялась из любых, [из любого
качества], двоек. Ведь, как они говорят, Неопределенная
Двоица, воспринявши определенную двойку, создала две
двойки, так как она была [по своей природе] удвоительни-
цей воспринятого 86
b) Далее, как можно быть [идеальной] двойке наряду 15
с двумя единицами некоей [особой] природой и — [также]
тройке наряду с тремя единицами? — 1. В самом деле, или
одно будет участвовать в другом, как «белый человек»
рядом с «белым» [цветом] и с «человеком» (ибо он в этом
участвует), или так, что одно есть некое [видовое]
различие в другом, как, напр., «человек» рядом с «живым суще- 2о
ством» и «двуногим». 2. Кроме того, одно единое через
соприкосновение, другое — через смешение, третье — через
положение [в пространстве]. Ничто из этого не может
наличествовать в единицах, из которых [состоит идеальная]
двойка или тройка. 3. Но как два человека не есть что-нибудь
одно вне обоих, так же, по необходимости, и единицы.
И через то, что они неделимы, [нисколько] не вносится в них
различие. Ведь и точки неделимы; однако же двойка их 25
нисколько не иная, кроме [уже существующих] двух [точек].
c) Однако нельзя оставлять без упоминания и того, что
приходится быть [у платоников] как предшествующим, так
и последующим двойкам, одинаково же и прочим числам.
Правда, пусть в четверке двойки будут одновременно одна зо
с другой. Но [двойки] эти — раньше заключающихся в
восьмерке [двоек]; и, как Двоица [породила] эти [отдельные
двойки], так эти [последние] породили четверки,
заключенные в восьмерке-в-себе. Поэтому если первая Двоица —
идея, то и эти [двойки] будут некоторыми идеями. То же
рассуждение и относительно единиц. Именно, единицы,
заключенные в первой Двоице, порождают четыре единицы в четвер- 35
ке, так что все единицы становятся идеями, и идея должна
составляться из идей. Поэтому ясно, что и то, идеями чего они
являются, будет сложно, [т. е. уже не будет неделимыми
числами], как, напр., если бы кто-нибудь сказал, что живые
существа составляются из живых существ, если существуют іоѳгь
их идеи 87
d) Вообще нелепо и фантастично делать единицы как-то
отличными [друг от друга] (фантастичным я называю то, что
насильственно привлечено к [защищаемому] предположе- 5
нию). Ни по количеству, ни по качеству мы не видим, чтобы
единица отличалась от единицы. Необходимо, чтобы число
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
648
было или равно, или неравно [другому] ; и [необходимо это]
всякому, больше же всего — составленному из однородных
единиц (μοναδικόν)88, так что если оно не больше и не
меньше, то — равно [другому]. Мы предполагаем, что равное
и вообще безразличное, [качественно однородное] в числах —
одно и то же. Если же это не так, то и двойки, заключенные
в десятке-в-себе 89, будучи равными, не смогут быть
безразличными, ибо какую [особенную] причину сможет выставить
[для себя] тот, кто говорит, что они — безразличны?
e) Далее, если всякая единица составляет со всякой
другой две, то единица из двойки-в-себе и [единица] из тройки-
в-себе составит двойку из различных [единиц] и будет ли она
раньше тройки или позже? Видимо, больше необходимо, чтобы
она была раньше, так как одна из единиц — вместе с тройкой,
другая же — вместе с двойкой. И мы вообще предполагаем,
что одно да одно, равны ли они или неравны, составляют
два, как, напр., благо и зло, человек и лошадь. Говорящие
же таким образом не утверждают [этого] о [своих] единицах.
f) Удивительно, если число тройка-в-себе не больше числа
двойки. Если же оно больше — ясно, что [в нем] должно
содержаться и [число], равное двойке, так что последнее
безразлично [в отношении к] двойке-в-себе. Но этого не может
быть, если есть какое-то первое и второе число 90. И идеи не
могут быть [в этом случае] числами. Это самое именно
правильно говорят те, которые требуют, чтобы единицы были
разные, если только должны быть идеи 91 (как сказано раньше 92),
Ведь вид — [всегда только] один, [единственный]. Если же
единицы безразличны, то и двойка и тройка будут
безразличны. Поэтому им необходимо [было бы] говорить также
и то, что счет происходит так, [именно] — один, два [и
т. д.],— без прибавления [единицы] к наличному [числу],
[При условии такого прибавления] не будет ни
происхождения [чисел] из Неопределенной Двоицы, ни того, чтобы
[число] было обязательно идеей. Именно, одна идея будет
содержаться в другой, и все виды [будут] моментами одного
[вида]. Поэтому, с точки зрения [своего] предположения,
они говорят правильно, вообще же — не правильно, так как
они многое снимают, поскольку 93 они [сами] станут
утверждать, что как раз это самое и составляет определенное
затруднение: когда мы счисляем и говорим «раз, два, три» —
счисляем ли путем прибавления [единиц] или по [отдельным
и несогласованным] отделам 94? Мы делаем то и другое,
почему [и] смешно это различие возводить к столь значительному
различию в субстанции.
8. Более детальная критика платонизма и других учений
о числе. І. Раньше всего хорошо было бы [для наших
противников] определить, какое [вообще] существует различие в
числе и какое в единице 95, если оно есть, а) Необходимо,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I——I
649
очевидно, чтобы различие было или по количеству, или по 5
качеству. Но оказывается, что не может наличествовать ни
одно из этих различий. Ь) [Только чистое число], поскольку
оно — число, [может различаться] по количеству. Если же,
след., и единицы [уже] различались бы [между собой]
количеством, то число отличалось бы от числа даже при равном
множестве [входящих в него] единиц. Затем, [можно ли
сказать, что] первые числа — больше или меньше и
последующие [числа] прибавляют или, наоборот, [уменьшают]? Ведь
все это бессмысленно, с) Однако и по качеству [единицы]
не могут различаться, так как им совершенно не может быть ю
присуща аффекция, [пассивное свойство]. Да они [сами]
говорят, что качество присуще числам позже количества.
Кроме того, в них, [единицах], это [качественное различие]
не может возникнуть ни от Единого, ни от Неопределенной
Двоицы, так как одно — не качественно, другая же —
количественно-качественна, [т. е. качественна только как
количество] 96, ибо природой ее [является] причина того, чтобы
сущее было множественно, d) След., если дело обстоит как-
нибудь иначе, то в самом начале это нужно было бы сказать is
и дать определение относительно различия [в типах]
единицы, в особенности же также [сказать], почему необходимо
присутствие [этого различия]. А если [этого] нет, то о каком
[различии] они говорят?
Ясно, конечно, что если только идеи суть числа, то не
могут все единицы ни быть счислимыми, ни каким-либо
способом быть друг с другом не счислимыми.
2. Однако нехорошо говорится и на манер некоторых го
других, рассуждавших о числе, [Спевсипп и Ксенократ?].
Есть такие, которые хотя и думают, что идеи не существуют
ни просто [сами по себе], ни как какие-нибудь числа, но
[считают, что] существуют математические предметы и числа
[как] первые из сущего и что Единое-в-себе — их принцип.
а) Именно, нелепо, [нужно сказать на это], чтобы Единое 25
было чем-то первым для [отдельных] единых, как они говорят,
а Двоица не была бы [тем же самым] для двоек и Троица —
для троек. Ведь все это [подчиняется] одному и тому же
закону. Если действительно дело обстоит таким образом с
числом и [если] можно полагать, что существует только
математическое [число], то Единое не есть принцип, потому что
[тогда] необходимо, чтобы такое Единое отличалось бы
от прочих единиц. А если так, то [надо, чтобы] и некая Двоица зо
была первой из двоек, равно же и прочие числа по порядку.
Если Единое — принцип, то необходимо, чтобы с числами дело
обстояло так, как говорил Платон, а именно, что существует
и некая первая Двоица, и Троица и что при этом числа друг
с другом несчислимы. Если же кто-нибудь опять станет снова 35
это утверждать, [эти Двоицы и Троицы], то [уже] сказано,
Α. Φ. ЛОСЕВ
650
что [тут] получается много невозможного. Однако
необходимо во всяком случае поступать или так, или этак, так что если
не так и не этак, то [тогда вообще] невозможно и то, чтобы
число было отделено. Ь) Ясно также отсюда, что этот
третий способ [философствовать о числах] 97, а именно, что
число, относящееся к видам, [идеальное число], и
математическое — одно и то же,— наихудший. Действительно, [тут]
в одном учении с необходимостью встречаются две ошибки.
А именно, [во-первых], математическое число не может
существовать таким способом, но предположенное [здесь]
мнение должно быть доведено 98 до специальных
предположений ". [Во-вторых же, им] необходимо и то утверждать, что
получается у тех, по которым число существует как виды.
3. Пифагорейский же способ [философствовать о числе]
в одном отношении содержит трудности, меньшие ранее
высказанных, в другом же отношении [содержит] еще
собственные ίυ0. Именно, трактование числа неотделенным [от
вещей] устраняет многие из невозможных [выводов]. Но,
с другой стороны, невозможно, чтобы тела были составляемы
из чисел и притом чтобы это число было математическим.
Действительно, не может быть истиной утверждение, что [про-
странственные) величины неделимы ,01. И даже если дело
обстоит именно таким образом, то единицы во всяком случае
не имеют [пространственной] величины. А как может
величина составляться из неделимого?102 Однако уж во всяком
случае арифметическое число есть [число], составленное из
отдельных единиц. Они же, [наоборот], говорят, что число есть
[реально, чувственно] существующее. По крайней мере свои
положения они так стараются применить к телам, чтобы
последние состояли |03 из упомянутых чисел.
4. Итак, если необходимо, чтобы был какой-нибудь из
названных способов (при условии, что число есть
действительно нечто само по себе из сущего), и если [все-таки] ни один
из них не возможен, то ясно, что не существует никакая
подобная природа числа, которую конструируют те, кто делает ее
отделимой.
5. а) Далее 10\ происходит ли каждая единица из
Большого и Малого 105, когда они [взаимно] уравниваются, или
же одна происходит из Малого, другая же — из Большого?
\. Очевидно, если —- так, [если — последнее], то а) ни какая-
нибудь не происходит из всех [обоих] элементов, ни
единицы не будут [взаимно] безразличны, потому что в одной
налично Большое, в другой же — Малое, в то время как они
противоположны по природе, β) Кроме того, как же
[существуют единицы] в тройке-в-себе? Ведь [только) одна
[единица здесь] нечетна 106. Но вследствие этого они, пожалуй,
[и] делают Единое-в-себе средним в нечетном [числе], 2. Если
же та и другая единицы состоят из обоих [элементов, т. е.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 I
651
Большого и Малого], при условии их уравнения 10;, то а) как
может получиться в качестве некоей одной [особой] природы
двойка из Большого и Малого? β) Или чем она будет
отличаться от единицы? γ) Затем, единица раньше двойки. Если
уничтожать [ее], будет уничтожаться и двойка. След.,
необходимо, чтобы она была идеей идеи, так как она во всяком 35
случае раньше идеи, и чтобы она произошла раньше. Но
откуда же? Ведь Неопределенная Двоица была, [по их
мнению, только] удвоительницей 10в, [а не силой единящей].
Ь) Далее, необходимо, чтобы число было или
беспредельно, или предельно. Ведь они делают число {субстан- Ю84а
циально] отделимым [от вещей], так что не может не
наличествовать один из этих [способов существования]. 1. Однако
ясно, что оно не может быть беспредельным, так как а)
бесконечное [число] ни нечетно, ни четно; происхождение же
чисел всегда есть [происхождение] или нечетного числа, или
четного. Одним способом [возникает] нечетное, когда
«одно> прибавляется к четному; другим способом — [чет- 5
ное], когда с умножением на двойку [возникает число],
удвоенное от «одного», и третьим способом — другое четное,
когда [происходит умножение на какие-нибудь] нечетные
[числа] * . β) Далее, если всякая идея есть идея чего-нибудь,
а числа — идеи, то и беспредельное число будет идеей чего-
нибудь, или чувственного, или чего-нибудь другого. Хотя это
не может быть ни по |их пред] положению, ни по разуму,
[все-таки] они строят IÎ0 идеи таким образом, [как будто бы ю
они были числами].
2. Если же число предельно, то а) до какого количества?
Это именно надо сказать не только в смысле того, что [такой
предел есть], но и в смысле того, почему [это так]. Однако
если число, как говорят некоторые, [простирается] до
десяти ІН, то, во-первых, виды [слишком] быстро будут
исчерпаны; как, напр., если тройка есть человек-в-себе, то каким
числом будет лошадь-в-себе? Ведь каждое число до десяти
есть «в-себе» [как идея]. След., оно должно быть каким-то п2 і5
из чисел среди них [десяти], потому что [только] они —
субстанции и идеи. Однако числа все-таки исчерпываются,
[хотя] уже видов живых существ больше [десяти], β) Вместе
с тем ясно, что если таким способом тройка есть человек-в-себе,
то и другие тройки [суть люди], потому что в числах-в-себе
они [друг другу] подобны. Поэтому будет беспредельное
количество людей. А именно, если каждая тройка — идея, то каж- 20
дый [такой] человек будет [человеком-] в-себе пз, а если нет,
то во всяком случае человеком [просто]. И если меньшее
[число] есть часть большего, состоя из находящихся в том же
числе счислимых единиц, то в случае, стало быть, когда чет-
верка-в-себе есть идея чего-нибудь п\ напр. лошади или
белого [цвета], человек будет частью лошади, поскольку 25
Α. Φ. ЛОСЕВ
652
человек — двойка, ν) Нелепо и то, что, хотя идея десятки
существует, идеи одиннадцати не существует и [также
идеи] последующих чисел. *3атем, существует и возникает
иное, видов чего и не существует, так что почему же не
существуют виды и этого? Виды все-таки И5 не могут быть
[сами по себе этому] причиной. *116 Ô) Далее, нелепо, если
[каждое] число до десятки есть больше сущее и [больше]
вид, чем сама десятка 117, хотя ему, как Единому, не
свойственно происхождение, ей же — свойственно П8. ε) Они
пытаются [аргументировать тут тем, что каждое] число до
десяти совершенно. Во всяком случае они порождают
[все] последующее, как, напр., пустое, пропорцию, нечетное
и прочее подобное, внутри десятки. Одно они приписывают
принципам, [Единому и Неопределенной Двоице] и9, как,
напр., движение, покой, благое, дурное <119>, прочее же —
числам. Отсюда Единое [у них] — нечетно, потому что если
бы последнее было [только] в тройке, то каким же образом
[могла быть] нечетной пятерка? Далее, [протяженные]
величины и все подобное [идет у них только] до
[определенного] количества, как, напр., первой, [т. е. единицей 120,
идет] неделимая линия, [или точка] 12!, затем линия как
двойка, а затем и это [все] до десятки ,22.
с) Затем, если число отделимо [от вещей], то можно
затрудниться, раньше 123 ли «одно», чем тройка и двойка.
1. Именно, поскольку число сложно— [первым является]
«одно»; поскольку же раньше общее и вид — [первым
является то или другое] число. Действительно, каждая из
единиц есть момент числа в качестве его материи, оно же
[само] есть как вид. Дело обстоит так, как прямой [угол]
раньше острого, потому что [последний] и по смыслу имеет
определение [от прямого]. С другой же стороны, острый
[раньше прямого], так как он часть [его] и [тот] переходит
в него через разделение. Следовательно, как материя, острый
[угол], элемент и единица — раньше; если же [брать] по
виду и смысловой субстанции (την ούσίαν την κατά τον
λόγον), [раньше] — прямой [угол] и целое из материи и вида.
И то и другое, [т. е. целое 124], именно ближе к виду и к тому,
смыслом чего [они являются], по происхождению же они —
позже. 2. Так вот, как же Единое [может быть]
принципом? Говорят, так, что оно неделимо. Но неделимо и общее,
и особенное 125, и элемент, но — разным образом, одно — по
смыслу, другое — по времени. В каком же смысле Единое —
принцип? Ведь, как сказано, [и то и другое — правильно],
а именно и прямой [угол] оказывается раньше острого, и по-
*Слова, стоящие в «звездочках» (1084а 27—29), настолько
нарушают ход мыслей, что я, вслед за Боницом, нахожу возможным их
исключить совсем. См. прим. 115.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
І^^І _
653
следний раньше того, и притом каждый из них — один
[и тот же]. Значит, они делают Единое принципом в обоих
смыслах. Но это — невозможно, потому что в одном смысле
Единое [дается] как вид и субстанция, в другом же — как 20
часть и как материя. 3. На деле же 126 и то и другое Единое
существует, в известном смысле, конечно, [только]
потенциально !2 , если только число есть нечто единое и [существует]
не как куча, [не как чистый агрегат], но если, как говорят,
каждый раз состоит из разных единиц. Энтелехийно же ни
то ни другое [единое] не есть единица,— 3. Причиной
получающейся ошибки [является] то, что они охотились
[вывести свои принципы] одновременно из математики и из
общих рассуждений 128, почему на основании одного, [матема- 25
тики], они положили Единое и принцип как [неделимую]
точку, ибо единица есть точка без полагания (как и
некоторые другие, [Левкипп и Демокрит], составляли сущее из
мельчайшего, так и эти,— в результате чего единица
становится материей чисел и одновременно — раньше двойки, хотя
в свою очередь и позже, поскольку двойка есть как бы нечто зо
целое, единое и вид) ; вследствие же разыскания общего они
делали Единое — предицируемым [вообще] и так [толковали
его], как подчиненный момент [и акциденцию] 129. Это,
однако, не может быть свойственно одному и тому же
одновременно.— 4. Если только Единое-в-себе должно быть вне
[пространственного] положения (ибо оно ничем не отличается,
кроме того, что оно — принцип), причем двойка делима, а
единица — нет, то единица, надо полагать, будет более
похожа на Единое-в-себе. Если же единица [более похожа на Еди- 35
ное-в-себе], то и последнее [ближе] к единице, чем двойка,
так что та и другая единица [в этой двойке] будет раньше
[самой] двойки. Однако [этого] они не утверждают, так как
во всяком случае они заставляют сначала появляться двойку. ю85а
Кроме того, если одна какая-то двойка-в-себе и [еще одна]
тройка-в-себе [составляют] обе [опять двойку], то откуда же
тогда эта [последняя] двойка?
9. Продолжение. Учение о принципах. Общее и единичное.
Так как в числах нет соприкосновения, а есть
последовательный ряд |30, то можно затрудниться вопросом: в
единицах, не содержащих никакого промежутка 131, напр. в
единицах, в двойке или в тройке, последовательный ряд следует 5
ли [непосредственно] за Единым-в-себе или нет, и двойка —
раньше ли по порядку, чем любая из единиц?
1. Одинаково получаются трудности и относительно родов
более поздних, чем число і32,— [относительно] линии,
плоскости и тела. Одни создают [их] из видов Большого-и-
Малого, как, напр., из Дли иного-и-Короткого — длины, из ю
Широкого-и-Узкого — поверхности, из
Глубокого-и-Ровного — массы [тела]. Это — виды Большого-и-Малог· ,33.
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι \
654
Принцип же такой [геометричности] в смысле «Единого» ш
устанавливается [философами] по-разному 135. И в них
оказывается бесчисленное множество [всяких] невозможностей,
15 фикций и противоположности всему правомерному, а)
Именно, если и принципы не согласуются (так что Широкое-и-
Узкое не [может быть] Длинным-и-Коротким), то [все эти
геометрические построения] окажутся отрешенными друг от
друга. А если — это, [т. е. если согласуются], то поверхность
будет линией и тело — поверхностью. Ь) Далее, как будут вы-
20 ведены углы, фигуры и подобное? [Тут] то же случается, что
и относительно чисел. Именно, эти свойства относятся к
[телесной] величине; но [сама] величина не состоит из этого,
как и длина не [состоит] из прямого и кривого и тела не
[состоят] из гладкого и шероховатого 1Э6. с) Во всем этом
встречается затруднение, общее с видами, [трактуемыми] как
25 [виды] рода, когда утверждается общее, [как
самостоятельная субстанция І37, а именно] — присутствует ли живое суще-
ство-в-себе в живом существе [как факте], или оно отличается
от живого существа . Если оно — не отдельно, это не
создает никакого затруднения. Если же Единое и тела
существуют отдельно, как они это утверждают, то [тогда] не
зо легко разрешить [возникающие здесь вопросы], если не нужно
называть легким невозможное. Действительно, когда в двойке
и вообще в числе мыслится Единое,— мыслится ли само нечто
[в себе] или другое І39? d) Одни заставляют происходить
[телесные] величины из такой материи, другие — из точки
(точка же у них оказывается не единым, но как бы единым,
[т. е. аналогичной единому] ) и из другой материи, подобной
множеству, но не из [самого] множества мо. Относительно
этого те же самые затруднения возникают нисколько не
35 с меньшей силой, а) Именно, если материя одна, то линия,
поверхность и тело — одно и то же, потому что из тожде-
1085b ственного и возникает тождественное. Ь) Если же материй
больше, и одна [будет материей] линии, другая —
поверхности и еще иная — тела, то или они покрывают друг друга,
или нет, так что то же самое произойдет и при таком условии,
т. е. или поверхность не будет иметь линии, или будет [сама]
линией.
2. Далее, они никак не пытаются показать, каким же обра-
5 зом число происходит из Единого и Множества. То, как они
говорят, встречает те же затруднения, что и выведение
[числа] из Единого и Неопределенной Двоицы, а) Именно,
один, [Платон], производит число из предицируемого в
смысле общего, и притом не из какого-нибудь [определенного]
множества. Другой — из какого-нибудь [определенного] мно-
іо жества, и притом первого, [думая, что] двойка есть некое
первое множество. Поэтому нет, собственно говоря, никакой
разницы, но будут [все равно] сопровождать эти U1 трудно-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
655
сти, [называть ли это] смешением, [со] положением,
слиянием, происхождением и др. подобным 142. Ь) В особенности
можно спросить: если каждая единица, [т. е. число],— одна,
[особая],— откуда она? Ведь не может же во всяком случае
каждая быть Единым-в-себе. Необходимо, чтобы она была
или из Единого в себе и Множества, или — из момента \ъ
(μορίου) Множества. 1. Говорить «эта единица есть
множество» — невозможно, раз она именно неделима. 2. [Говорить
же, что она] —из момента [множества], содержит многие
другие трудности, потому что каждому из моментов
необходимо быть [или] неделимым, или множеством (т. е. быть
единицей делимойу и [тогда] — Единое и Множество не есть
элементы, так как каждая единица [тогда] не [будет состоять] 20
из Множества и Единого). Кроме того, рассуждающий так
не создает ничего другого, как [только] другое число 143,
потому что число есть [просто] множество неделимых [единиц].
с) Затем, надо против говорящих так |44 поставить вопрос:
беспредельно ли число или предельно? 1. Именно, как
кажется, [у них] есть и предельное множество, из которого, 25
[равно как] и из Единого, [происходят] предельные единицы.
[Однако] Множество-в-себе и беспредельное множество —
разное. Какое же множество является с Единым как элемент?
2. Подобным же образом можно спросить и о точке как 145 об
элементе, из которого они создают [геометрические]
величины, потому что эта точка во всяком случае не только одна.
Но тогда откуда же каждая из других точек? Во всяком зо
случае, очевидно, не из некоего же расстояния плюс точка-
в-себе. Но ведь и части этого расстояния не могут быть
неделимыми частями, как [части] множества, из которого состоят
единицы. Число составляется именно из неделимых [единиц],
величины же [в геометрии] не составляются [так] ,46.
Итак, все это и другое подобное делает явным, что невоз- 35
можно числу и величинам быть отдельными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1085b 36-1086а 21)
3. Далее |47, разногласие первых философов о числах
[является] признаком того, что эти вещи 148, не будучи истин- Ю8ба
ными, доставляют им беспокойство. Именно, создающие
только математические [предметы] рядом с чувственными, видя
трудность и фиктивность относительно видов, отошли от видо- 5
вого числа и создали математическое. С другой стороны,
желающие создавать одновременно виды и числа, но не
видящие, как при условии утверждения этих принципов могло бы
математическое число существовать помимо видового,
сделали тождественным по смыслу видовое и математическое
число, в то время как на деле [таким образом] как раз уничто-
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι \
656
жается математическое число, потому что они говорят о
[своих^ собственных, а не о математических предпосылках.
Первый утверждавший, что и виды существуют, и что виды
суть числа, и что существуют математические [предметы], с
полным правом разделил [виды и математические предметы].
Поэтому получается, что все в каком-нибудь отношении
рассуждают правильно, но не вообще правильно. Да и сами они
признаются [в этом], утверждая не одно и то же, но
противоположное. А причина этого то, что [у них самые]
предпосылки и принципы — ложны. Трудно говорить хорошо на
основании нехорошего [Эпихарм] 149. Действительно, только что
выставленное учение и — тотчас же оказывается
несостоятельным.
Но о числах [уже] достаточно исследованного и
установленного [в предыдущем]. Кто [в этом] убедился, тот на
основании более многочисленных [аргументов] может
убедиться [еще] больше. Кто же не убежден, тому нисколько
[это не поможет] больше для убеждения.
4. *То, что говорят о первых принципах, первых
причинах и элементах те, кто ограничивается одной чувственной
субстанцией, отчасти сказано в книгах о природе , отчасти
не относится к теперешнему исследованию '61. Учение же тех,
кто утверждает кроме чувственных [еще] другие субстанции,
можно рассмотреть как примыкающее к сказанному. Именно,
если некоторые говорят, что существуют такие идеи и числа и
что их элементы есть элементы и принципы сущего, то
нужно рассмотреть относительно этого, что они говорят и как
говорят. Позже 152 должны быть исследованы те, кто создает
одни числа и притом [делает] их математическими.
Ь) Относительно же допускающих идеи можно увидеть
сразу и способ [их доказательства], и присущие им
трудности. Именно, они одновременно признают идеи и общим и как
субстанции, и — в свою очередь — как отделенные и [как]
относящиеся к единичному |53. Но [уже] раньше исследовано ,5\
что этого не может быть. Причина же того, что это связывается
в одно и то же у тех, кто считает идеи общими, заключается
в том, что они не признавали эти субстанции [как
существующие в] чувственности. С одной стороны, они полагали, что в
чувственности единичные вещи текут и что у них ничего не
остается; с другой же — что общее существует помимо этого
и есть нечто другое. Как мы говорили в предыдущем 155, повод
к этому дал Сократ [своими] «определениями*. Однако он
*Сириан думает, что отсюда начинается XIV книга. Если это
трудно доказать чисто локально, то по смыслу, несомненно, это не
есть конец критики о числах, но начало нового исследования,
примыкающего к XIV книге. См. выше, стр. 590—592.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
657
во всяком случае не отделил общее от единичного 156. И тем,
что не отделил, он помыслил об этом правильно.
с) Да это ясно 157 [и] на деле. Ведь, с одной стороны, без 5
общего невозможно получить знания. Отделение же, с
другой стороны, [общего и единичного] является причиной
затруднений, происходящих с идеями. Эти [сторонники идей,
думая], что если действительно должны существовать
какие-то субстанции помимо чувственных и текучих, то они
отделены [от последних, все-таки], не имея других
[субстанций] , утверждали 158 эти высказываемые вообще [в виде ю
самостоятельных], почему и случилось, что приблизительно
одни и те же природы есть и общие и единичные. Это, след.,
можно считать затруднением самостоятельным в отношении
[уже] названных.
10. Продолжение об антитме общего и единичного,
і. Теперь скажем о том, что и у признающих идеи и у не-
признающих имеет некоторую [немалую] трудность и что
принципиально было раньше затронуто в «Апориях» 159. Имен- is
но, если не утверждать существования субстанций в
отделении [от вещей], т. е. [не утверждать их] таким путем, как
[это] говорится относительно единичного из сущего, то
уничтожится, как мы пытаемся говорить |6°, и [сама] субстанция.
Но если утвердить отделенные [от вещей и самостоятельные]
субстанции, то — как можно было бы [тогда утверждать
существование] их элементов и принципов, [если
субстанции — вне того, чего они субстанции]? 20
2. а) В самом деле, если [сказать, что они] — единичное
и не-общее, то сущего [тогда] будет существовать столько,
сколько есть элементов, и притом непознаваемых элементов,
[поскольку смысл их мыслится вне их]. 1. Напр.161, пусть
имеются, с одной стороны, слоги языка в качестве субстанций,
[т. е., кроме самих звуков, пусть не будет мыслиться
никаких субстанций звуков], а) Тогда необходимо, чтобы
слог ba был одним и каждый слог был одним, поскольку 25
они ведь не есть общее и поскольку самотождественны они
[только] по виду, но каждый нумерически один и есть
[определенная! этость, и не по имени 1в2 только [один и этость]. β)
Далсе , каждый [слог], как он есть [сам по себе],
утверждают в качестве [именно] одного, [по числу, а не чего-то
общего] . γ) Но [если это имеет значение относительно] слогов,
то [это относится] также и к тому, из чего они состоят.
Следовательно, не будет [звук] «а» больше одного [и не будет
больше одного] ни один элемент из прочих по той же самой причи- 3d
не, как и тот же самый слог из прочих [не будет] другим и
другим. Но если так, то, разумеется, рядом с элементами [уже] не
будет ничего иного, но [будут] только элементы, [т. е. слог
как слог разрушится]. 2. Кроме того, [эти] элементы не
будут предметом знания, ибо они не есть общее, а знание
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
658
относится [как раз] к общему. Это ясно как из
доказательств, так и из определений, потому что не получается
силлогистического вывода, что сумма углов этого
треугольника равняется двум прямым, если не всякий треугольник
[вообще] равняется двум прямым, или что вот этот человек
есть живое существо, если не всякий человек — живое
существо.
Ь) Напротив того, если принципы есть действительно
общее или субстанции, [возникающие] из этих принципов,
суть общее, то не-субстанция (μή ουσία), [т. е. в данном
случае общее, не единичные факты], окажется [по смыслу]
раньше субстанции, так как общее не есть субстанция, а
элемент и принцип [были признаны в качестве] общего, так что
элемент и принцип — раньше того, элементом и принципом
чего они являются 164.
3. а) Все эти выводы, очевидно, оказываются
правомерными всякий раз, когда идеи заставляют происходить
из элементов, и наряду с субстанциями, содержащими в себе
самотождественный вид, и идеями допускают существование
некоего одного в существовании, отдельном [от вещей] 165.
Если же представляется возможным, напр., чтобы в элементах
звука были многие «а» и «Ь», чтобы, кроме [этого] множества,
[уже] не было бы никаких «а»-в-себе или «Ъъ-ѳ-себе, то
именно в силу этого получаются бесконечные [по числу,
друг другу] подобные слоги І66. Но из всего сказанного
наибольшей апорией является то, что всякое знание
[относится как раз к] общему, почему и необходимо принципам
сущего и быть общими, и [в то же время] не быть
отдельными [от вещей] субстанциями. Тем не менее это положение
в одном отношении [должно считаться] истинным, в другом
же — не истинным. Ь) Именно, знание, равно как и
познавание (το έπίστασθαι), двоякого рода: одно — потенциальное
(τό δυνάμει), другое—энергийное (το ενεργείς). Потенция,
будучи в качестве материи общим І67 и неопределенным,
относится к общему и неопределенному; энергия же, будучи
определенной и [энергией] определенного, есть этость и относится
к этости. Однако [и] в акциденциальном смысле зрение
видит краску вообще (τό καθόλου χρώμα), потому что эта
вот видимая им краска есть краска [вообще] ; и то, что
видит грамматик, эта вот альфа, есть альфа [вообще].
Поэтому если принципы должны быть общими, то и
[зависимое] от них, [хотя бы и данное в чувственном], должно
быть общим, как это имеет место и в доказательствах І68.
А если так, то — и не будет ничего отдельного от вещей, и не
будет никакой [только единичной] субстанции; но ясно, что
знание в одном отношении относится к общему, в другом — не
относится 1б9.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
659
«МЕТАФИЗИКИ» АРИСТОТЕЛЯ КНИГА XIV
1. Вечному не свойственны противоположности. Итак,
столько да будет сказано об этой субстанции. Все же, [одна- зо
ко], признают принципы противоположными как и в
физических вещах1, так и одинаково относительно неподвижных
субстанций.
1. Если не может быть ничего более раннего, чем принцип
всего, то, надо полагать, невозможно, чтобы этот принцип был
принципом как нечто другое, [т. е. как принцип,
противоположный чему-то другому] 2, как если бы, напр., кто-нибудь
сказал, что белое есть принцип не постольку, поскольку оно —
другое, [т. е. противостоит другому, указывает на нечто
другое] , а поскольку оно [именно] белое, но что оно, однако,
существует [только] в субстрате и есть белое, [только] когда
оно [указывает на ** нечто «другое» 3. Ведь последнее,
[субстрат], будет [тогда] раньше [самого принципа белого].
Однако из противоположностей как некоего субстрата, [по
учению платоников], происходит все. Стало быть, надо, чтобы
это, [субстрат], было максимально налично в
противоположностях, так что всегда все противоположное находится в суб- Ю87ь
страте и никоим образом не отделено [от него]. Но как и
оказывается, ничто не противоположно [по своей] субстанции 4,
да и рассуждение об этом свидетельствует . Стало быть,
ничто из противоположного не является воистину принципом
всего, но [этот принцип] — другой 6.
2. а) Они же делают другим [членом обеих]
противоположностей материю7, [а именно] одни — Неравное для 5
Единого [как] Равного, так что оно является природой
множества, другие для Единого [делают материей само]
Множество. Именно, числа рождаются у одних из Двоицы Неравного,
[или] Большого-и-Малого, у других же — из Множества,
но и у тех и других — при помощи субстанции Единого,
потому что также тот, кто называет Неравное и Единое
элементами, а Неравное — Двоицей из Большого-и-Малого, тот ю
считает одной вещью Неравное и Большое-и-Малое и не
различает того, что [они — одно] по смыслу и не [одно] — по
числу 8. Ь) Однако они также неправильно определяют
принципы, которые у них называются элементами, если одни [из
них] называют Большое-и-Малое рядом с Единым (эти,
[стало быть], три элемента чисел: два — как материю іб
и один — как форму ( μορφή ν ), другие же —
Многое-u-Немногое на том основании, что Большое-и-Малое по своей природе
более свойственно [телесной, геометрической] величине, и,
[наконец], третьи — более общее, [стоящее] над этим,
[а именно], Превосходящее-и-Превосходимое. Никакой из
этих [взглядов] не отличается [от другого] в отношении тех
или иных выводов, а [отличается] только в отношении логи- 20
Α. Φ. ЛОСЕВ
■660
ческих трудностей, которых они стараются избегать ввиду
того, что и сами они пользуются логическими
доказательствами. Кроме того, с одним и тем же основанием можно во
всяком случае утверждать и что Превосходящее и Превосходимое
есть принципы, но [не принципы] — Большое и Малое, и —
что число [происходит] из элементов раньше Двоицы,—
потому что то и другое, [Превосходящее-и-Превосходимое и
число], более обще. Исходя же из своей точки зрения, они
25 одно утверждают, а другое — нет. с) Одни, далее,
противополагают Единому «Различное» и «Иное», другие —
[противополагают, как сказано], Множество и Единое, d) Если, как
они хотят, сущее [должно состоять] из противоположностей,
а Единому или ничто не противоположно, или если уж, стало
быть, действительно [так] должно быть, то [противоположно]
зо Множество, Неравное же — Равному, Различное —
Тождественному и Иное — самому [одному], то, конечно, больше
всего придерживаются некоторого [правильного] мнения те
[из них], которые противополагают Единое Множеству;
однако даже и они недостаточно основательно, потому что
[тогда] Единое было бы малочисленно, [мало, а не едино]
(раз Множество противолежит малочисленности, а многое —
малочисленному)9.
3. а) Ясно, что Единое обозначает [на самом деле только]
меру. Именно, во всем есть нечто отличное [от него] в качестве
субстрата, [для которого оно и есть мера], как, напр., в музы-
35 ке — четверть тона, в величине — вершок или фут или что-
нибудь подобное, в ритмах — такт или слог. Подобным же
образом и в тяжести есть определенный вес, и точно так же
Ю88а и во всем; в качествах — нечто [одно] качественное, в
количествах — нечто [одно] количественное, [определенное
количество как мера]. Ь) При этом мера неделима, по виду ли,
в отношении ли восприятия, так как данное Единое не есть
само по себе субстанция. И это — основательно, потому что
Единое обозначает меру некоторого множества и число —
5 измеренное множество и множество мер. Поэтому и [вполне]
правомерно, что Единое не есть число °, как и мера ведь не
есть меры, [т. е. множество мер], но и мера, и число есть
принцип, с) Необходимо, чтобы в качестве меры было нечто одно
и то же присуще всем [измеренным вещам], как, напр., если
мера — лошадь, [т. е. если сосчитываются лошади], то она
относится к лошадям, и если человек,— к людям п. Если
человек, лошадь и бог [есть измеренное, то мерой будет],
пожалуй, «живое существо» и число их будет живыми
существами, [т. е. будет числом живых существ]. Если же
[счисляется] человек, белое и идущее, то [скорее получается
единичность и] меньше всего получится число для этих вещей,
вследствие наличия всех [этих признаков] в одном и том же
по числу предмете, все равно, будет ли [такое] число числом
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
661
этих родов или [числом] какой-нибудь другой подобной
предикации ,2.
4. а) [Принимающие, далее], Неравное как нечто единое, і5
[как одно понятие, равно как и] 13 создавая Неопределенную
Двоицу [из] Болылого-и-Малого, слишком уже удаляются
в своих высказываниях от допустимого и возможного, ибо это,
скорее, есть [страдательные] качества и акциденции, нем
субстрат, для чисел и величин («Многое-и-Немногое» — для
числа, «Большое-и-Малое» — для величин) — так же, как
[можно им приписать] четное и нечетное, гладкое и шерохова- 20
тое, прямое и кривое м. Ь) Далее, сверх этой ошибки, Боль-
шому-и-Малому и всему подобному необходимо быть в
отношении к чему-нибудь, а 1. понятие отношения наименьше из
всех категорий есть природа, [вещь], или субстанция, а
именно оно — позже «качества» и «количества» 15. 2. При этом
отношение есть, как сказано, некое [пассивное] состояние
количества, но не [логическая] материя [его], поскольку 25
и для отношения в целом вообще, и для его частей и видов
[всегда должно лежать в основании] что-нибудь другое 16.
Ведь не существует ничего ни большого, ни малого, ни
многого, ни немногого и вообще ничего относительного, что не было
бы чем-то, в различии [с другими вещами], многим или
немногим, или большим или малым, или находящимся в [том
или другом] отношении. 3. Признаком того, что отношение
есть меньше всего некая субстанция и нечто сущее, является
также и то, что для него не существует ни возникновения, зо
ни уничтожения, ни изменения, как [существует] увеличение
и уничтожение для количества, изменение — для качества,
движение — для места и просто возникновение и гибель —
для субстанции. [Ничего этого] нет для относительного —
потому что без приведения в движение оно будет один раз
больше, другой раз — меньше или равно [по сравнению с дру- 35
гим членом отношения] в зависимости от движения [этого]
другого [члена] по количеству ,7. 4. Также должна быть ма- юв8ь
терия для каждого [предмета] потенциально таковая, так что
и для субстанции [она должна существовать]. Отношение же
не есть субстанция ни по потенции, ни по энергии.— Нелепо,
следовательно, а скорее [просто] невозможно не-субстанцию
делать элементом и предшествующим [элементом]
субстанции 18. Ведь все категории — позже [«субстанции»] .
с) Далее, элементы не предицириются относительно того,
для чего они являются элементами . 1. Но Многое-и-Немно-
гое предицируется и без [числа], и вместе с числом; и
Длинное-и-Короткое — [без и при помощи] линии, и плоскость
может быть и широкой, и узкой. [Стало быть, Многое-и-Не-
многое и проч. не есть элементы]. 2. Отсюда же вытекает и то,
что если существует также некое множество, о котором всегда
[говорится, что оно] — небольшое, напр. двойка (ибо если
А. Ф.ЛОСЕВ
'———«
662
[последняя] —велика, то небольшим была бы единица), то
может существовать и то, что является просто большим, как
ю велика, напр., десятка (именно2|, когда не имеется числа
больше нее) или десять тысяч. Как же может получиться
таким способом число из Немногого и Многого? Ведь нужно
было бы или чтобы и то и другое было предицируемо [о числе],
или [чтобы] ни то и ни другое. В действительности же преди-
цируется [тут] только одно из двух.
2. Продолжение. Принципы как числа. 1. Вообще надо
15 рассмотреть, может ли вечное складываться из элементов,
а) В этом случае оно будет содержать материю, потому что
все, состоящее из элементов, сложно. Если, однако,
необходимо, чтобы [состоящее из элементов] происходило из того,
из чего [оно состоит] (вечно ли оно существует или
происходило 22 [постепенно] ), а то, что происходит, то все — из
потенциально-сущего (так как из непотентного оно не произошло бы
и не существовало бы), и если, [наконец], потентное может
и быть энергией (ενεργεΐν), и не быть,— то, даже если [до-
20 пустить], что по преимуществу вечно число или что бы то ни
было другое, имеющее материю, [все равно] оно может и не
быть, как [может совсем не быть] имеющее один день [жизни]
и любое количество лет, а если так, то и такое время, которому
нет предела. Следовательно, нельзя допустить существование
вечного, если не вечно то, что может не быть, как [уже]
25 оказалось установленным в других рассуждениях23. Если
утверждаемое теперь истинно в общем смысле, [именно], что
никакая субстанция не вечна, если она не будет энергийной,
а элементы суть материя субстанции, то не существует, надо
полагать, элементов ни для какой вечной субстанции, из
имманентного наличия которых она состояла бы 24. Ь) Существуют
некоторые, делающие Неопределенную Двоицу элементом
после Единого, Неравное же справедливо отбрасывающие
зо ввиду образующихся невозможных [выводов]. У них
устраняются только те трудности, которые необходимо получаются
в их словах через превращение неравного и относительного
в элементы 25; те же, которые вне этого взгляда,— они
необходимо присущи и им, создают ли они из этих [элементов]
видовое число или математическое.
35 2. Хотя существует много причин впадения в эти [ошибоч-
Ю89а ные] принципы, однако больше всего [имеет значение тут]
одно старинное затруднение. Именно, они полагали, что если
не разрешится и не будет опровергнуто26 изречение Парме-
нида: «Никогда ты не докажешь того, что существует
несущее» 27,— то всё сущее должно быть едино, сущим-в-себе.
5 Однако, [по их мнению 28], необходимо показать, что 29 не-су-
щее [именно] существует, потому что [только] таким путем
может произойти сущее из сущего, [т. е. из одного сущего],
и чего-то другого (поскольку это сущее — множественно).
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
Іі^—1
663
а) Но, во-первых, если сущее имеет много значений (именно,
одно [таково], что обозначает субстанцию, другое —
качество, третье— количество и, след., прочие категории), то как
это всё сущее есть едино 30, если не будет не-сущего31? Суб- ю
станции ли [это] или [их пассивные] свойства и, стало быть,
равным образом прочее или все [категории вообще], и именно
единым будет «это», «таковое», «столь великое» и проч., что
[еще] обозначает нечто сущее 32? Однако нелепо, скорее же
[просто] невозможно, чтобы некая одна [особая] природа,
[именно не-сущее], стала причиной того, чтобы сущее было
один раз «этим», другой раз «таким», третий раз «столь
великим» и четвертый раз — «где». Ь) Затем, из какого не-сущего
(и сущего) [состоят] сущие [вещи] ? Раз сущее, то ведь и не- is
сущее имеет много разных значений. Не-бытие человеком
обозначает не-бытие тем-то; не-бытие быстрым — не-бытие
таким-то; не-бытие трехлоктевым — не-бытие столько-то
великим. Из какого же сущего и не-сущего — множественное
сущее?
с) [Платон], очевидно, хочет [иметь тут в виду свою] 20
«ложь» и природу эту называет не-сущим, из которого, да еще
из сущего, [происходит] множественно сущее. Поэтому и
говорилось, что надо предположить [тут] такую ложь, как и
геометры считают футовой линию, которая не есть
[действительно] однофутовая. Однако это не может быть в таком виде.—
1. В самом деле, ни геометры не предполагают никакой
ошибки (так как упомянутая посылка [о фактически измеренном
нисколько] не [содержится тут] в [геометрическом] силло- 25
гизме)33, ни из не-сущего таким образом не возникают и не
уничтожаются сущие [вещи]. 2. Но так как, с одной стороны,
[во-первых], не-сущее высказывается по словесным формам 34
в таком же количестве значений, что и категории, с другой же
стороны, [во-вторых], рядом с этим не-сущее называется
ложью и, [в-третьих], сущим в потенции Зб,— то
возникновение [получается у них] из этого [последнего, в третьем
смысле, т. е.] из не-человека — а потенциально человека — чело- зо
век, из не-белого — а потенциально белого — белое
(произойдет ли что-нибудь одно или многое). Образуется [как
будто] исследование того, как [может] сущее,
высказываемое в смысле субстанций, быть множественным,— потому
что то, что происходит [тут], есть числа, длины и тела.
а) Явно, однако, нелепо [в вопросе об основаниях
множественности] исследовать, как [может быть] многим сущее,
[понимаемое в смысле] «чего-то», [субстанции], а каково —
[качество] — оно или сколь велико — [количество] — не 35
[исследовать]. Именно, Неопределенная Двоица и Большое-
и-Малое, очевидно, не есть причина бытия двух или многих
белых красок или соков, [осязательных качеств], или фигур, ювэь
так как [иначе] и эти [вещи] были бы числами и единицами.
Α. Φ. ЛОСЕВ
664
Однако если бы они по крайней мере подошли к этому, то они
увидели бы причину и в них, [в единичных субстанциях] Зб,
потому что причиной [множественности и для субстанций,
и для качеств является] то же самое, т. е.37 аналогичное,
β) Ведь это отступление [от логики является] виною и того,
5 что они, ища противоположения сущего и Единого, из чего
и каковых [происходят у них] сущие [вещи], предположили
[как основу и принцип для всего] отношение и неравенство,
которые [на самом-то деле вовсе] не являются ни
противоположностью, ни отрицанием, [т. е.— сущего наперекор
единому], но суть одна природа сущих [вещей] 38, как и «что»
и «какое». След., и надо было бы исследовать то, как
множественно, а не [только] едино относительное. При их же поста-
іо новке вопроса исследуется, как [существуют] многие единицы
рядом с первым Единым, а как многое неравное рядом с
Неравным [самим по себе], уже не [исследуется], γ) Однако
они все-таки пользуются [этой множественностью] и говорят
о Большом-Малом, Многом-Немногом, откуда — числа,
Длинном-Коротком, откуда — длина, Широком-Узком, откуда —
плоскость, Глубоком-Ровном, откуда — [телесные] массы.
15 И еще больше называют видов отношения. Какая же в самом
деле причина множественного бытия для этих [отношений] ?
d) Итак, нужно, как мы говорим, предположить для
каждой [вещи] потенциально-сущее. 1. Это в дальнейшем
подтвердил и высказавший разбираемое [учение о том], что
такое есть потенциально «это* и [потенциально]
субстанция, не будучи сущим самим по себе (так как [последнее
у него в смысле материи] есть отношение). [Этот вопрос он
разрешил так], как если бы он признал, [что материя, не-су-
щее, есть какое-то] качество, которое [тоже ведь] не есть ни
потенциально единое или сущее, ни отрицание единого и суще-
20 го, но [просто] нечто одно из сущего, [одна из категорий].
2. Кроме того, если вопрос стоял о том, как множественны
сущие [вещи], то, как сказано, гораздо больше [нужно было
бы] спрашивать не в пределах одной и той же категории, как
множественны субстанции или множественны качества, но
как множественны [вообще] сущие [вещи], ибо одно сущее
есть субстанции, другое — свойства, третье — отношение.
3. Действительно, в разных категориях [вопрос оі способе
25 множественности имеет некую и разную установку 3 , именно,
ввиду своего неотделения [от субстанции], через то, что
субстрат становится и пребывает множественным, качество и
количество также множественны, [но — в специальном смысле].
Между тем в каждом роде во всяком случае необходима
материя; только невозможно, чтобы она была отделена от
субстанций. 4. Впрочем, в отношении [категории] «некоего что» (τάδε
τι), [т. е. в отношении единичных субстанций], имеет некото-
зо рое основание вопрос, как множественно это «некое что»,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
665
если это «некое что» не будет чем-нибудь и [если] не будет
никакой подобной природы40. Но эта трудность больше
[относится] к тому, как множественны субстанции, а не [как
существует просто] одна [субстанция]. Ведь если не одно
и то же [категория] «это» и количество, то, конечно,
[подобными рассуждениями еще] не говорится, как и почему
множественно сущее, но [только] — как множественно
количество. В самом деле* всякое число обозначает некое количест- 35
во, равно как единица, если она — не мера, [обозначает],
что [существует] нечто по количеству неделимое. Если же
количество и «что» различны, то (теми же рассуждениями
также еще] не говорится, из чего [состоит] это «что» и как оно
множественно. А если они — одно и то же, то утверждающий юэоа
[это также] претерпевает многочисленные противоречия.
3. Относительно чисел можно поставить исследование
также и о том, откуда нужно почерпнуть веру в их [реальное]
существование. Именно, в глазах утверждающего идеи [числа
еще] доставляют некоторую причину для существующего, s
поскольку каждое из чисел есть некая идея, а идея есть для
прочего причина бытия в том или ином, стало быть, смысле.
Поэтому пусть у них это будет [подлинной] опорой [их
убеждений] . Но тому, кто не думает таким образом, ввиду
усмотрения внутренних трудностей касательно идей, и именно несоз-
давания в силу этого чисел [как субстанций], а признающему
[самое обыкновенное] математическое число,— на основании ю
чего нужно поверить, что такое число существует, и какая
[для него] польза в числе в смысле прочих [вещей] ?
Утверждающий [впервые] его существование говорит, что оно ни
к чему не относится, но есть некая природа сама по себе. И оно
не оказывается [к тому же] и причиной. [Что же оно тогда
такое, если] все арифметические положения, как сказано 4\
должны иметь приложение и к чувственным [вещам] 42? is
3. Продолжение. Невозможность становления в вечных
принципах. 1. а) Итак, те, которые утверждают, что
существуют идеи и что они суть числа, стараются все-таки в
соответствии с намерением брать рядом с множественными [вещами]
каждое [как род сам по себе] 4\ говорить, как и почему
существует каждое «нечто одно». Но так как, разумеется,
это ни необходимо, ни возможно, то нельзя и говорить, что
числа как раз поэтому существуют. Ь) Пифагорейцы же, 20
видя, что многие числовые свойства присущи чувственным
телам, сделали сущее хотя и числами, но не отделенными,
а так, что сущее у них происходило из чисел. Но почему же
[это так]? А потому, что числовые свойства существуют
в музыкальной гармонии 4\ в Небе и во многом другом, с) Тем 25
же, кто утверждает существование только математического
числа, совсем [уже] нельзя ничего высказать подобного
с точки зрения своих предположений; говорилось, впрочем»
Α. Φ. ЛОСЕВ
l^^—l
666
что [без этого) невозможны у них [о числах] науки, d) Мы
же утверждаем, как говорили выше 45, что [математические
знания] существуют [и без этих предположений]. А именно,
ясно, что математические [предметы] не находятся в отделе-
зо нии [от вещей], так как свойства [чисел], в случае их
отделения, не были бы присущи телам. Пифагорейцы, стало быть,
в этом отношении не подвергаются никакому [заблуждению]
В отношении же того, что они из чисел создают физические
тела, из не имеющего тяжести и легкости — имеющее
легкость и тяжесть,— они, по-видимому, говорят об ином небе
35 и иных телах, но не о чувственных, е) А те, которые делают
[число] отделенным на том основании, что аксиомы не могут
применяться к чувственности (хотя [эти аксиомы]
высказываются правильно и дают душе непосредственный материал),
допускают, что числа существуют и что существуют как отде-
і090Ь ленные; одинаково — и математические величины. Ясно, след.,
что такое противоположное [нам] рассуждение [само]
должно высказывать противоположное [себе] и, кто так говорит,
должен решить трудность, о которой шла речь раньше 46:
почему присутствуют в чувственном свойства этого
[математического бытия], если [само] оно никак не присутствует в чувст-
5 венном, f) Есть же такие, которые думают, что таким
природам необходимо существовать на том основании, что точка
есть граница и конец линии, эта [последняя] — поверхности и
эта [последняя] — тела 47. Нужно, очевидно, быть
внимательным и относительно этого рассуждения, чтобы оно не
оказалось слишком слабым. В самом деле, крайние точки не есть
субстанции, но скорее все это — границы [чего-то другого],
іо потому что какая-то граница есть и для хождения, как вообще
для движения. Они, след., были бы «чем-то этим»,
[определенной индивидуальностью], и некоей субстанцией. Но это —
нелепо. Однако если даже [такие субстанции границ] и
существуют, то они все должны быть [границами) чувственных
[вещей], потому что рассуждение относится [именно] к этим
[последним]. Так почему же они должны быть
отделенными 5*?
2. а) Далее, кто-нибудь, не очень склонный легко [удов-
іб летворяться], может спросить относительно всякого числа
и математических [предметов] : почему [в них] никак не
влияют взаимно предшествующее и позднейшее? Именно,
если не существует число [в вышеуказанном смысле] 48, то
у тех, кто утверждает только математические [предметы],
нисколько не меньше будут [продолжать существовать]
пространственные величины, а если и они не существуют, то —
душа и чувственные тела 49. Но, как видно из ее явлений, при-
20 рода не обладает [таким бессвязным] эпизодическим
характером, на манер плохой трагедии 50. Ь) У тех, кто утверждает
идеи, это [рассуждение] избегает [упрека], потому что они
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I і
667
создают [протяженные] величины из материи и числа, из
Двоицы — длины, из Троицы — пожалуй, поверхности, из
Четверицы или из других чисел (тут нет никакой разницы) —
тела. Однако — должно ли [всё] это быть раньше именно 25
идеями? Или какой [же] вообще способ их [существования],
в чем они связываются с [реально] существующим? Конечно,
ни в чем они не связываются — как и математические
[предметы вообще]. Но в отношении их, [этих идеальных длин
и т. д.], во всяком случае, не имеет значения и никакое
положение, если кто-нибудь, [конечно], не захочет привести в
[физическое] движение математические [предметы] и создавать
какие-нибудь собственные мнения . Нетрудно же взять
какие бы то ни было предположения и расточать [отсюда] зо
слова, придумывая произвольные сплетения <52>.— Итак,
эти [философы] допускают ошибку, сливая описанным
образом математические предметы с идеями.
3. Те же, которые впервые создавали два числа, одно —
относящееся к видам и другое — математическое, никак не
объяснили и, пожалуй, не могли бы объяснить, как и откуда
должно возникнуть математическое [число] (ибо они его по- 35
мещают между [числом] видовым и чувственным). Другими
словами, если оно — из Большого-и-Малого, то оно будет
тождественно с тем идеальным числом, [в то время как, по
их учению], оно — из какого-то другого Малого-и-Большого
(ибо создает [пространственные] величины)53 Если же
пойдет речь о каком-то [еще] другом [Большом-и-Малом], юэіа
то будет названо большее число элементов. И если существует
принцип для того и другого как некое одно, то Единое
окажется для этого [двойного] чем-то общим. И тогда нужно
спросить: как же Единое [становится] этим множественным, [если]
одновременно к тому же, по нему, [по Платону], число не может
произойти иначе как из Единого и Неопределенной Двоицы? s
4. Все это, очевидно, бессмысленно борется с самим
собою и с здравым смыслом [вообще], и в этом, похоже,
содержится Симонидова «длинная болтовня» 54. Тут ведь
получается длинная болтовня, как у рабов55, когда они не могут
сказать ничего здравого. И сами эти элементы, Большое и Ma- ю
лое, можно подумать, кричат, как будто бы их тащили [за
волосы] , потому что никаким способом не могут они породить
число [иное], чем удвоенное от Единого 5б.
5. Нелепо также (скорее же это — нечто [прямо]
невозможное) утверждать становление относительно того, что
вечно. Относительно пифагорейцев не может быть никакого
сомнения, утверждают ли они становление или не
утверждают,— потому что они говорят, что по образовании Единого is
(они затрудняются сказать, из поверхностей ли, из красок,
из семени или чего другого)57 тотчас же были привлечены
[Единым] ближайшие [области] Беспредельного и получили
Α. Φ. ЛОСЕВ
668
границу от Предела. Но так как они строят [тут] космос
и хотят рассуждать физически, то правильно [будет] так или
20 иначе исследовать их в отношении природы™ и исключить
из нынешнего рассуждения 59. Мы ведь ищем принципы в
неподвижному поэтому и надо исследовать происхождение таких
[неподвижных] чисел.
4. Продолжение. О Благе и Красоте как принципах.
1. Итак, они не утверждают становления относительно
нечетного, потому что, ясно, становление [у них] относится к чету.
25 Первое же четное [число] некоторые конструируют из
Неравного, [т.е.] Большого-и-Мал ого, после их уравнения. Поэтому
необходимо, чтобы им, [Большому и Малому], неравенство
было свойственно раньше уравнения. Если бы они всегда
находились в равенстве, то Неравное не было бы раньше,
так как ничего не может быть раньше вечного. Поэтому ясно,
что они создают происхождение чисел не ради исследования 60
[подлинного их взаимоотношения].
зо 2. Но содержит в себе трудность и — для легко
справляющегося с препятствиями — упрек [вопрос] : как относятся
элементы и принципы к добру и к прекрасному61? Трудность
эта [заключается в том], существует ли что-нибудь из этого
[среди принципов] наподобие того, как мы хотим говорить
о Добре-в-себе и наилучшем или — нет, но оно — более
позднего происхождения, а) [Древние] богословы 62, по-видимому,
согласны с некоторыми из нынешних, которые отрицают
[принципность блага], а [говорят, что] благо и красота
появились [впервые] 63 с развитием природы [самого] сущего. Это
35 делают те, кто64 остерегается истинной трудности,
случающейся с теми, кто, как иные, [Платон], утверждают в качестве
1091b принципа Единое. Трудность эта [образуется], однако, не
потому, что они приписывают благо принципу в качестве
имманентно наличного, но потому, что [у них] Единое есть принцип
и принцип в смысле элемента б5, так что число [получается]
из Единого. Ь) Древние же поэты [рассуждают] одинаково
с [этими] в том отношении, что говорят о царствовании и на-
5 чальствовании не первых [богов], как то Ночи и Неба 66, или
Хаоса, или Океана 6 , но — Зевса w. Однако делать подобные
утверждения приходится им вследствие перемены властителей
сущего69, в то время как по крайней мере те [из них], которые,
занимая среднюю позицию (напр., Ферекид70 и некоторые
ю другие), ввиду того что71 не обо всем говорят мифически,
полагают первое родившее наилучшим, как и маги 7 или из
позднейших мудрецов, напр. Эмпедокл и Анаксагор 73,
которые сделали: один Дружбу — элементом, другой Ум —
принципом бб. с) Из тех же, кто утверждает существование
неподвижных субстанций, одни 7І говорят, что Единое-в-себе есть
Благо-в-себе; однако они думают, что его субстанцией по
преимуществу является Единое, [а не благо].
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
ІямммІ
669
3. а) Стало быть, трудность эта [заключается в вопросе], і5
каким из названных [двух] способов надо выражаться. Было
бы удивительно, если бы первому, вечному и
высочайше-самодовлеющему это Первое-в-себе, самодовление и спасение,
[вечность] , не были бы присущи как Благое. Однако оно
не через иное что лишено гибели и самодовлеюще, как через
то, что оно находится в благом состоянии. Поэтому истиной
является говорить, что этот принцип правомерен. Но невоз- 20
можно [думать], что такой [принцип] есть Единое или, если
не это, что оно — элемент, а именно элемент чисел. Именно,
получается большая трудность, от которой иные в целях ее
избежания отказываются тем, что признают Единое первым
принципом и элементом, но [только] относительно
математического числа. Ведь 76 [в переносном смысле] все числа стано- 25
вятся каким-то благом по существу, так что образуется
большой избыток благ. Ь) Далее, если виды суть числа, то все виды
благи по существу . Однако пусть утверждают идеи как
хотят. Если же [их утверждают] только в отношении благих
[вещей], то идеи [уже] не могут быть субстанциями. А если
также — и относительно субстанций, то все живые существа
и растения и причастное им окажется благим, с) След., и это зо
оказывается нелепым, и противоположный [Единому] элемент
(есть ли это Множество или Неравное и Большое-и-Малое)
является [с такой точки зрения] плохим-в-себе. Поэтому один
[из них) 78 избегал соединять Благо с Единым, потому что,
раз становление — из противоположностей, злое необходимо
было бы природой множества. Другие79 же говорят, что зб
Неравное есть природа злого. Отсюда получается, что все
сущее, кроме одного Единого-в-себе, причастно злу 80 и что
числа участвуют в более чистом [зле], чем
[пространственные] величины, что зло есть место 8І блага , что оно при- Ю92а
частно губительному [началу] и стремится [к нему]. Ведь
противоположность для противоположности — губительна.
Кроме того, если [так обстоит дело], как мы говорили — что
материя есть каждое в потенции (напр., огонь в потенции —
в отношении огня в энергии),— то зло будет само потенциала- 5
ным благом.—
Все это, след., получается потому, что они делают то
каждый принцип элементом, то противоположности принципами,
то Единое — принципом, то числа — первыми и отделенными
субстанциями и видами.
5. Продолжение. Происхождение идеальных чисел.
Функции принципов чисел в материи. 1. Итак, если невозможно
не полагать благо среди принципов, [хотя] и [невозможно] ю
полагать [его] таким способом, то ясно, что принципы и
первые субстанции выставляются [тут] неправильно.
Неправильно делает допущение также и тот, кто уравнивает принципы
Целого, [космоса], с принципом живых существ и растений
Α. Φ. ЛОСЕВ
■J L-
670
в том отношении, что [в живой природе] всегда из
неопределенных [и] несовершенных [форм развивается] более
совершенное, почему и утверждает, что такое же положение дела —
и в первых [субстанциях], вследствие чего Единое-в-себе уже
не есть что-то сущее 83. [На это, однако, надо сказать], что
и здесь, [в живой природе], существуют [некоторые]
совершенные принципы, из чего [образуются] эти [явления] :
человек рождает человека, а [вовсе] не семя есть первое .
2. * Далее, нелепо заставлять происходить вместе с телами
и а5 математическими [предметами] еще и место. В самом
деле, место — специфично для единичной вещи, почему они
и отделены по месту, а математические [предметы как раз]
не [занимают определенного места]. Нелепо также сказать,
где будет [тело], не сказавши, что такое [само] место.*
3. Тем, кто утверждает, что сущее — из элементов и что
первое из сущего есть числа, нужно было быг расчлененно
выяснивши, как [тут по-разному происходит] одно из другого,
при 7* помощи таких аргументов сказать, каким же путем
число получается из принципов 86. а) Не путем ли смешения Ѳ7?
Но не все допускает смешение; и возникающее [из смешения]
отлично [от смешиваемых элементов], да и Единое не будет
отделенной и особой природой, как они хотят. Ь) Тогда,
[может быть] — путем [внешнего] сложения 88, как слог [— из
букв]? 1. Но [для этого] было бы необходимо, чтобы [число]
имело полагание [еще до сложения] 89 и чтобы тот, кто мыслит
[себе данную вещь], мыслил бы отдельно единое и
множество 90. Тогда число будет этим [агрегатом], единицей и
множеством, или Единым и Неравным. 2. При этом, если «быть из
чего-нибудь> значит отчасти быть из имманентно наличного
[в вещи — как ее фактический состав], отчасти из
неналичного 91,— то каким же из этих способов [возникает] число? Так
[возникать] из наличного возможно ведь [только тому,
относительно] чего существует возникновение. 3. Но не так ли, как
из семени 92? Однако ничто не может выйти из неделимого,
[которым в данном случае является Единое] 93. с) Но [может
быть] — как [нечто] из [своего] противоположного, когда
последнее [уже] не остается [таковым и им поглощается, τ е.
первым]? 1. Но что так существует, то [происходит] также
и из чего-нибудь другого, что пребывает . Однако если один
утверждает Единое как противоположное Множеству,
другой же — [как противоположное] Неравному [пользуясь
Единым как Равным], то число будет происходить из [этих
принципов, как из] противоположностей. След., существует 9* не-
* Отрывок 1092а 17—21, отмеченный «звездочками», как
правильно указывает Бониц (II 589), нельзя объединить ни с
предыдущим, ни с последующим. Вероятно, он внесен сюда из какого-то
другого места (может быть, из XIII 8 или 9).
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
671
что иное, из чего как из пребывающего и еще иного,
[субстрата, число] состоит или происходит. Стало быть, и далее,
[наконец],— почему гибнет все иное, что [состоит] из
противоположностей или чему противоположности [свойственны],
даже если оно [происходит из них как из всего, [т. е.
исчерпывает их], число же не [гибнет] ? Об этом как раз ничего не го- 5
ворится. И все-таки противоположность является [началом]
уничтожения — все равно, присуще оно [вещам] или не
присуще,— как Раздор [у Эмпедокла влияет на] смесь
[элементов] , хотя он именно не должен бы [влиять], так как она во
всяком случае не есть противоположность именно для него 96.
4. Совсем нет никакого определения также того, каким
образом из этих двух числа суть причины субстанций и
бытия,— а) не так ли, как границы (напр., как точки в отноше- ι о
нии [пространственных] величин), а именно, как
устанавливал Эврит , [поставивший вопрос], какое число каждой вещи
(напр., это вот [число] — человека, это вот — лошади),
причем он, подобно тем, которые применяли числа к фигурам 98
треугольников и четырехугольников, таким же способом
изображал при помощи камешков формы растений ". Ь) Или
[числа так должны быть причинами], как гармония есть
отношение чисел 10°, одинаково же — и человек, и каждая из
прочих вещей? Но как же это, [пассивные] качества, суть і5
числа — белое, сладкое, теплое? с) Ясно, что числа не суть
субстанции и не суть причины формы. Именно, субстанция,
[которая только может иметься тут в виду], есть отношение,
а число — [только] материя 10\ Напр., относительно тела или
кости субстанция есть число в том смысле, что [здесь] 3 части
огня и 2 — земли, так что число всегда, каким бы оно ни было,
есть число некоторых вещей , или огневое, или земляное, 20
или [вообще] относящееся к каким-нибудь единичным вещам
(μοναδικός). Напротив того, субстанция [обозначает, что]
такое-то количество [чего-нибудь присоединяется] в смеси
к такому-то количеству. Но это еще не число, а отношение
[в] смеси телесных или каких бы то ни было других чисел 103.
Итак, число не есть ни причина в смысле действия (ни как
вообще число, ни как составленное только из математических
единиц); не есть оно ни материя, ни смысл [отношения] ,04,
ни вид вещей. Но конечно, оно и не целевая причина (το ου 25
ένεκα) .
6. Продолжение и окончание. 1. Может быть, кто-нибудь
также спросит: что такое благо, которое [происходит] от чисел
благодаря тому, что ,06 имеется смешение в числе с
сохранением ли правильного отношения в числе [делимом] 10' или
в нечетном, а) В самом деле, смесь меда и воды нисколько
не становится фактически здоровее, если [их отношение]
будет равняться 3:3. Скорее можно допустить, что она будет зо
полезнее, если без всякого [числового] отношения окажется
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—I
672
несколько разбавленной водой, чем если при помощи числа
будет [слишком крепкой], неразбавленной. Ь) Далее,
отношения смеси заключаются в складывании [вещественных] чисел,
а не в числах [самих по себе, т. е. не в умножении чисел] ,—
напр., 3 + 2, а не 3X2 108. В умножениях должен ведь
оставаться один и тот же род, так что ряд ABC нужно измерять
35 при помощи А, а ряд DEF — при помощи F. Поэтому все
[произведения измеряются тут] одним и тем же [множителем].
След., [число] огня не 109 может быть [произведение] В.C.E.F.
1093а И ЧИСЛО ВОДЫ — 2Х 3 П0.
2. Если же необходимо, чтобы все общалось с числом,
то необходимо, чтобы многое оказывалось тем же самым
и чтобы то же самое число было свойственно и тому и
другому 1П. а) Но есть ли это причина, и вещь [действительно]
ли благодаря этому существует? Или же [тут просто] неясные
[и многозначные] выражения? Напр., существует некоторое
число в движениях Солнца и в свою очередь в движениях
5 Луны и даже жизни и возраста каждого живого существа:
что же мешает иным из них быть квадратными, иным —
кубическими, также одним 1І2 — равными, другим — двойными?
Совершенно ничто не мешает, но [прямо] существует
необходимость вращаться в отношении этого в круге, если [действи-
ю тельно] все причастно числу и различающееся [между собою]
должно было подпадать под одно и то же число. Поэтому если
бы чему-нибудь свойственно было одно и то же число, то
[вещи] те, имеющие один и тот же вид числа, были бы взаимно
тождественны, как, напр., тождественными были бы Солнце
и Луна пз. Ь) Но почему же [все] это — причины? —
[Существуют] семь гласных, семь струн или звуков на инструментах,
семь Плеяд; в семилетнем возрасте [дети] меняют зубы (по
15 крайней мере иные, иные же — нет); семь [героев шло]
против Фив. Но потому ли [действительно], что это вот число
таково по природе, получилось семь тех [вождей] или Плеяды
состоят из семи звезд? Не потому ли [семь вождей], что было
[семь] ворот или по какой-нибудь другой причине; а [семь
Плеяд] — не потому ли, что мы их считаем ? Ведь в
[Большой] Медведице мы считаем по крайней мере— 12, а иные
го больше. Так же считают они звуки «кси», «пси» и «зету»
созвучными [консонансами] и думают, что если их,
[консонансов в музыке], три 115, то и этих [букв должно быть тоже] три.
А то, что таких [звуков и букв] может быть бесчисленное
количество, [это их] нисколько не заботит. [С таким же
успехом] мог бы быть один знак и для «гаммы» с «ро». Если
они [утверждают], что только эти [три] двойные [согласные]
существуют из прочего, а других [таких] нет (причиной этого
[является то], что существуют только три места [в языковом
аппарате], в которых произносится одна «сигма»), то только
25 в силу этого их три, а не потому, что [в музыке] три созвучия,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
U—1
673
так как созвучий, во всяком случае, больше, а здесь, [в языке],
уже не может [быть больше двойных согласных].
с) Очевидно, и эти [философы] подобны древним
истолкователям Гомера, которые видели мелкие сходства и
пропускали большие. Некоторые высказывают еще п6 многое
подобное же. Так, из средних [струн] одна [дает] девять [звуков],
другая — восемь; и эпос, [эпический стих, содержит] 17 [ело- зо
гов], равных по числу этому [количеству струн], потому что,
скандируя направо, [получают] 9 слогов, а налево — 8. [Го- юэзь
ворят] также, что расстояние в алфавите от альфы до омеги
равно [расстоянию звуков] во флейтах от самого низкого до
самого высокого, а число этого расстояния равно небесной
целокупности.— Необходимо констатировать, что, пожалуй, 5
никто не затруднится ни высказывать, ни находить эти
[отождествления] в вечном, если [их легко увидеть] и в
преходящем.
3. Но эти хваленые природы М7 в числах и их
противоположности и вообще [все] относящееся к математике, как
некоторые говорят [об этом] и делают [этоі причинами
природы,— все это, по-видимому, [совершенно] — по крайней m
мере при таком рассмотрении — пропадает118, потому что
ничто из этого не может быть причиной никаким из
установленных относительно принципов способов. Конечно, они
делают ясным 119 то, что существует благое и что находятся
в ряду красоты нечетное, прямолинейное, ровное, потенции
известных чисел. Именно, [совпадают] вместе времена года
и такое-то число, [количество таких-тѳ свойств]. Да, очевидно,
и все другое, что они берут из математических положений, 15
имеет это значение. Но поэтому такие выводы имеют также
вид случайных совпадений. Именно, это — случайности, пусть
даже все это [действительно] взаимно родственно 12°;
[тут] единство — [только] по аналогии. Ведь в каждой
категории сущего есть аналогия [с чем-нибудь, напр.],—как
[существует] прямая в длине, так гладкое — в ширине, не- го
четное — в числе и белое — в краске.
4. Кроме того, числа, [находящиеся] в видах, [идеальные
числа], не суть причины для гармонических соотношений и
[прочих] подобных [явлений], потому что они, [числа, даже]
будучи равными, значит, отличаются друг от друга по виду
(раз [несчислимы] и единицы). След., нельзя создавать
видов именно из-за этого [только, т. е. из-за гармонии] т.—
Таковы, стало быть, следствия этого [учения об идеях],
и их можно было бы привести еще больше. Но многочисленные
злоключения относительно происхождения их, [чисел], и не- 25
возможность никаким образом согласовать [все воедино уже]
является признаком того, что математические предметы и не
отделены от чувственных (как утверждают иные), и не
являются они [и] принципами.
22 А. Ф. Лосев
J L
674
ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ; ИЗДАНИЯ, ЛИТЕРАТУРА
И ПРИМЕЧАНИЯ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ХП1 И XIV КНИГ
«МЕТАФИЗИКИ» АРИСТОТЕЛЯ
I. Критика платонического учения о субстанциях (XIII 1,
1076а 8—9, 1086а 21).
Вступление (XIII 1, 1076а 8—32): предмет и разделение
исследования.
A. О математических предметах (критика математических
субстанций) (XIII 1, 1076а 33—3, 1078b 6).
a) Вводное замечание (1, 1076а 33—37).
b) Критика «отделения» (2, 1076а 38—1077b 16): 1.
аргументы о пространственной несовместимости (2, 1076а 38—b 1), о том
же отделении всего прочего (Ь 1—4), о невозможности деления
тел (Ь 1 — 11); 2. аргументы о нагромождении бесконечных рядов
чисел (Ь 11—39) и прочих предметов науки (1076b 1 —1077а 9) и
об общих основах науки (а 9—14); 3. субстанция, как
совершенное бытие, позже абстракции (а 14—20) ; 4. «отделение» не
объясняет единства субстанции (а 20—24); 5. аргумент о «процессах
становления» (а 24—31); 6. математические субстанции не эйдос
и не материя (а 31—36); 7. не все предшествующее по смыслу
предшествует и по субстанции (а 36—b 11); 8. заключение и
вывод (Ь 11 — 16).
c) Положительная теория числа (3, 1077b 17—1078b 6):
1. число — не чувственно, но и не отделимо от вещей (1077b 17—
1078а 9); 2. число потенциально, а не энтелехийно (а 9—31);
3. число и принципы блага и красоты (а 31—b 6).
B. Об идеях (XIII 4, 1078b 7—5, 1080а 11).
a) Критика платоновского учения об идеях (4, 1078b 7—
1078b 11): 1. происхождение учения об идеях из
философии.Гераклита и Сократа (1078b 7—32); 2. аргументы об излишнем
количестве принципов (1078b 32—1079а 4), о несуществовании
идей отрицания отношения и пр. (а 4—13) и противоречия между
первопринципами (а 13—19), о несуществовании идей не-суб-
станциального (а 19—31); 3. аргументы о тождестве признака
субстанции в идее и в вещи (а 31—b 11).
b) Продолжение (5, 1078b 12—1080а 11): 1. аргументы о
необъяснимости движения и изменения при помощи идей (1079b
12—15), также — знания (Ь 15—17), бытия (Ь 17—18) и качеств
(Ь 18—23); 2. вещи не происходят из идей как образцов (Ь 23—
35); 3. субстанция не вне того, чего она —субстанция (1079b
35—1080а 11).
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1——1
675
С. Об идеальных числах (XIII 6, 1080а 12—9 1085b 36).
a) Классификация учений о числе (6, 1080а 12—1080b 36):
I. теории чистой несчислимости, чистой счислимости и прерывной
счислимости (1080а 12—37), также — отделимости и
неотделимости от вещей (а 37—b 5); 2. теория Платона, Спевсиппа и
пифагорейцев (Ь 5—23) и геометрические теории (Ь 23—36),
b) Критика теории идеальных чисел (7, 1080b 37—9,
1086а 21).
1. Невозможность идей-чисел при абсолютной счислимости
(7, 1080b 37—1081а 17).
2. Критика абсолютной несчислимости (1081а 17—b 35):
а) невозможность выведения чисел из Единого и Двоицы и
невозможность последовательного ряда (а 17—29); Ь) единицы
были бы раньше чисел, из которых они образуются (а 29—10);
с) необходимость складываемости и для идеальных чисел (Ы0—
26) и невозможность всяких других чисел (Ь 27—32);
заключение (Ь 32—35).
3. Критика прерывной счислимости (7, 1081b 35—1082b 37):
а) необходимость составления внутри-однородных чисел и
разнородных чисел (7, 1081b 35—1082а 15); Ь) отношение между
идеальным и арифметическим числом не есть ни отношение
субстанции к акциденции, ни рода к виду, ни физико-химическое
смешение, и неделимость не есть идеальность (а 15—27); с)
невозможность последовательного ряда в идеальных числах (а 27—
b 1); d) равные внутри числа единицы равны и вообще (Ь 1 —
11); е) противоречивость числа, составленного из разных единиц
(Ь 11 —19); f) необходимость счетности в числах, входящих одно
в другое (Ь 19—33); заключение (Ь 33—37). Заключение всей
критики разных родов счислимости и несчислимости:
нерасчлененность количества и качества и невозможность для числа быть
качественным (8, 1083а 1—20).
4. Критика «академической» теории (8, 1083а 21—b 8):
a) принципы-числа этой теории суть те же платоновские идеи
(1083а 21—b 1); b) они абстрактны и противоречивы (Ь 1—8).
5. Критика пифагорейской теории (1083b 8—19):
взаимонесовместимость телесности и арифметичности. Общее замечание:
число не может быть субстанциально самостоятельным (Ь 19—
23).
6. Критика детальных моментов платонической теории числа
(8, 1083b 23—9, 1085b 34): а) невозможность происхождения
чисел одновременно из «большого» и «малого» (8, 1083b 23—36) ;
b) идеальное число не может быть ни конечным, ни бесконечным
(1083b 36—1084b 2); с) неясность Единого как принципа в связи
с проблемой материи (1084b 2—1085а 1); d) затруднения с
основами геометрии (9* 1085а 2—b 4); e) неясность множества как
принципа (1085b 4—36). Заключение (1085b 36—1086а 21).
II. Критика платонического учения о принципах (XIII 9,
1086а 21-XIV 6, 1093b 29).
22*
Α. Φ. ЛОСЕВ
676
Вступление (XIII 9, 1086а 21—30)
A. Общее и единичное (9, 1086а 31 — 10, 1087а 25): а)
антитеза эта вытекает из самых основ платонизма (9, 1086а 31
b 13); b) общая формула ее: необходимость отдельности и неот
дельности общего от частного (Ь 14—20) ; с) детальное раскрытие
ее (1086b 20—1087а 4), d) решение ее (а 4—25).
B. Принципы не находятся в отношении противоположности
(XIV 1, 1087а 29—1090а 2): а) принцип не может быть
противоположен тому, что позже него, будучи к тому же лишенным
субстрата (1, 1087а 29—b 4); b) неясность второго члена основной
противоположности у платоников (Ь 4—33); с) Единое также не
есть субстанция, но — только мера (1087b 33—1088а 14),
d) материальный принцип платоников есть просто внешнее
качество (а 14—b 13); e) вечное вообще не может состоять из
элементов (2, 1088b 14—35); f) принципы сущего и не-сущего не
объясняют реальной качественности (1088b 35—1090а 2)
C. Принципы как числа (2, 1090а 2—3, 1091а 12): а) о
различных формах понимания таких принципов (2, 1090а 2—3,
1090b 13); b) математический принцип не объясняет движения
(Ь 13—32); с) невозможность происхождения столь разнородных
принципов из Единого (1090b 32—1090а 5); d) противоречия
в вопросе о происхождении натурального ряда (а 5—12)
D. Невозможность становления в сфере вечных принципов
(3, 1091а 12 4, 1091а 29).
E. Благо и красота как принципы (4, 1091а 29—5, 1092а 17).
перечень мнений по этому вопросу (4, 1091а 19—b 15); принцип-
ность Блага и недопустимость отождествления его с Единым
(4, 1091b 15—5, 1092а 17)
F. Проблема происхождения чисел как готовых и цельных
принципов (5, 1092а 21—b 8): число не есть результат ни
химического слияния (1092а 21—26), ни механического смешения
(а 26—33), ни появления из противоположностей (а 33—b 8)
G. Функции принципов-чисел в материи (5, 1092b 8—6,
1093b 24): а) числа суть не вещи и не качества, но отношения
(5, 1092b 8—22); b) оперирование с числами не дает никаких
новых реальных качеств в вещах (5, 1092b 22—6, 1093а 1),
с) тождество принципов вело бы к тождеству вещей (6, 1093а
1 —13) и о случайности числовых комбинаций у пифагорейцев
и платоников (1093а 13—b 6); характер аналогии (Ь 7—21) и
e) невозможность пропорций в идеальных числах (Ь 21—24)
И. ИЗДАНИЯ, ПЕРЕВОДЫ И ЛИТЕРАТУРА
Издания.
1 Aristotelis Metaphysica. Ed Brandis. Berl., 1823.
2. Die Meiaphysik des Aristoteles. Grundtext, Obersetzung
und Commentar ν A. Schwegler I—IV Tübingen, 1847—1848.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
/—— \
677
3. Aristot. Metaphysica. Recogn. et enhar. H. Bonitz. I—II.
Bonnae, 1848—1849.
4. Arist. Met. Rec. W. Christ. Lips., 1906 (Teubner).
Переводы.
1. Ук. изд. Швеглера (Bd II).
2. Arist. Metaphysik. Übers, v. H. Bonitz. Aus d. Nachlass
herausgb. ν. Ε. Weilmann. Berl., 1890.
3. Die Metaphysik d. Aristoteles. Übers, v. H. Bender. Berl.,
Schöneb (1911?).
4. D. Metaphys. d. Aristot. Obers, v. J. H. v. Kirchmann.
I—II. Berl., 1871.
5. Métaphysique d'Aristote. Trad, par J. Barthélemy-Saint-
Hilaire. I—III. Paris, 1879.
6. Aristoteles Metaphysik. Übers, v. A. Lasson. Jena, 1924.
7. Arist. Metaphys. Übers, ν. Ε. Rolfes. I—II. Lpz., 1920—
1921 (Philos. Bibl. Meiners. Bd 2—3).
8. Metaph. of Arist. Transi, by W. D. Ross. Oxf., 1908.
9. Латинский перевод в изд. Didot.
Литература (специально по темам XIII—XIV кн.
«Метафизики»),
Zeiler Ed. Platon. Studien. Tübing., 1837, 197—300; Kluge О
Darstell, u. Beurteil, d. Einwendungen d. Aristot. gegen die
platonische Ideenlehre. Greifsw., 1905; Siebeck H. Plat, als
Kritiker aristotelischen Ansichten. Zeitschr. f. Philos, u. philos. Krit,
107. Bd (1896), 1—26, 167—176; 108. Bd (1896), 1 — 18, 109 ел.;
Wilbrandt R. Plat. Ideenlehre in d. Darstell, u. Kritik d.
Aristoteles. Berl., 1899; Gans E. Psychol. Untersuch, zu der von Aristot.
als plat, überliefer. Lehre von der Idealzahlen aus dem Gesichtsp.
d. plat. Dialektik u. Ästhetik. Wien, 1901. Progr.; Robin L. La
théorie platonicienne des idées et des nombres d'après Aristote.
Par., 1908; RUter С. Plat. Ideenlehre nach d. späteren Sehr. Verh.
der 49. Vers, deutsch. Philos, u. Schuim, in Basel, 1907. Lpz., 1908;
Hartmann Mor. Darstellung des Untersch. zwischen der plat.
Idee u. der aristot. Entelechie. Hatting (Ruhr), 1908. Progr.;
Stenzel J. Zahl u. Gestalt bei Plat. u. Arist. Lpz.—Berl., 1924;
Lindsay J. Plat. a. Aristotle on the problem of efficient causation,
Arch. f. Gesch. d. Philos. 19 Bd (1906), 509—514; Natorp P.,
Plat. Ideenlehre. Lpz., 1921 2, 384—456 l
1 Основным текстом для перевода служило мне издание Боница, но
использованы все помеченные выше тексты и комментарии.
η—L
678
ПРИМЕЧАНИЯ
ΠΙ. ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ XIII КНИГИ «МЕТАФИЗИКИ»
АРИСТОТЕЛЯ
1 Это ουσία, доел, «сущность», я везде перевожу как
«субстанция». Об этом можно очень много спорить, но здесь это было
бы неуместно. Сам Аристотель дает такие различения разных
пониманий этого слова: 1) «Субстанцией называются и простые
тела, как, напр., земля, огонь, вода и т. п., т. е. вообще тела, и
составленные из них живые существа, и небесные тела
(δαιμόνια, ср. комментарий у Швеглера, III 215), и части их. Все это
называется субстанцией потому, что оно не высказывается о
субстрате (ου καύ4' υποκειμένου), но всё [прочее высказывается]
о нем» (Met. V 8, 1007b 10—14). 2) Второй смысл — «причины
бытия наличной в том, что не высказывается о субстрате, как,
напр., душа в живом существе» (14—16). 3) «Еще [субстанцией
называется] то, что является присутствующим в качестве
моментов (μόρια) в подобных вещах и ограничивающим [их], равно
и обозначающим [их] определенную единичность (τόδε τι), с
уничтожением чего уничтожается и целое, как, напр., тело —
с уничтожением поверхности, по словам некоторых, и
поверхность — [с уничтожением] линии. И, по мнению некоторых,
таково вообще число, ибо все становится ничем с его уничтожением
и оно все ограничивает» (17—21). 4) «Кроме того, чтойность,
смысл чего есть определение, и что называется субстанцией для
каждой вещи» (21—22). К этим четырем дистинкциям А.
прибавляет: «Получается, следовательно, что о субстанции говорится
двумя способами — [как о] крайнем субстрате, который уже не
высказывается [ни] о [чем] другом, и [как о] том, что есть
определенная единичность и [существует] отдельно,
[самостоятельно] ; такова именно форма и вид каждой вещи» (22—26). По-
видимому, А. объединяет четыре понимания субстанции по два,
так что первые два указывают на υλη 8*, на последний субстрат,
который уже не может быть ни для чего предикатом, вторые же
два — на смысловую сущность, форму, эйдос, «вид» вещи. Ясно,
что «усию» можно переводить по-русски и как «субстанция», и
как «сущность». «Субстанцию» я предпочитаю потому, что А.
как раз хочет оперировать с абсолютно данными вещами и
склонен, в особенности в полемике с Платоном, придавать всяким
«сущностям» почти фиктивное значение. Но тут, конечно, можно
спорить. Немцы переводят различно, Hengstenberg и Бониц
переводят «Wesenheit», излишне подчеркивая не-метафизический,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1——— I
679
чисто смысловой характер усии. Кирхман, хорошо подчеркивая
один момент, упускает другие — «das Selbstständige»9* Швег-
леру (III 215) перевод «субстанция» кажется спинозизмом, и он
предлагает переводить «Reelles», «Ding», «Einzelwesen» l0*. Бен-
дер и Рольфес переводят «субстанция».
2 1076а 9, εν τη μεθόδω. О более широком употреблении этого
слова у Аристотеля см. Бониц к I 2, 983а 22 (ср. Waitz к An.
post. I 1, 71а 1).
3 Phys. I 8, § 5 и 10, § 8.
4 По Швеглеру (IV 297). Met. VII—VIII и, может быть,
«О небе»; по Боницу (II 527 — отчасти вслед за Александром) —
Phys. II и вообще о перводвигателе.
6 Τα μαθηματικά — перевожу так, потому что подлинный
предмет нижеследующих рассуждений действительно предмет
математики, хотя в самом термине содержится нечто меньшее,
как в немецком «Mathematisches».
6 1076а 27, απλώς, т. е., как сказано в 1076а 23, «не прибавляя
к ним никакой иной природы».
7 Правильнее у Александра (700, 13)*: «Поскольку закон
и обычай, когда кто говорит о чем-нибудь, рассматривать
относительно этого и мнения других...», чем у Biese, Philos, d. Arist.
I 566, видящего здесь указание на «авторитет» платоновского
учения.
0 Об этих «эксотерических» лекциях написано очень много.
Старая литература по этому вопросу приведена у Швеглера
(IV 298). Ср. Е. Zeller. Phil. d. Gr. * II 2, 123 пр. 1. Вслед за Цел-
лером и Stahr, Aristotelia. II 235—279. Быть может, и нет
необходимости напирать на эксотеризм в собственном смысле. Тут
возможно указание просто на другие труды, чем «Метафизика».
Бендер переводит (322) : «an den betreffenden Orten» .
9 Последние две фразы (1076а 33—37) по смыслу относятся
скорее к следующей главе.
10 По изображению Аристотеля, Платон признает три особых
плана бытия: чувственность, математические предметы и идеи.
Об этом Аристотель говорит часто: I 9, 992Ь 14; III 1, 995Ь 16;
2, 997Ь 12; 6, 1002b 12; VII 2, 1028b 19; XI 1, 1059b 4; XII, 1 1069а
34. От чувственности математические предметы отличаются
неподвижностью (I 6, 987Ь 16), от идей же — бесконечностью
приложения (ср. III 6, 1002b 12 слл.). Аристотель так и называет это
срединное бытие — το μεταξύ (I 9, 991b 29; 992b 16; III 2, 997b 2,
13; 998a 7; 1002b 13. 21; XI, 1059b 6; XIII 2, 1077a 11). Мыслить
ли это «метаксю» присутствующим в самой чувственности или
отдельно от нее, оно все равно, по Платону, есть особая
субстанция, «отделенная» от чувственности.
11 Последнее добавление необходимо сделать потому, что и
* Комментарий Александра цитирую везде по старому изданию
Боница.
А Ф ЛОСЕВ
6*0
сам Аристотель не думает, что математические предметы
находятся в чувственном. «Умная материя,— пишет он,— находится
в чувственном не постольку, поскольку она — чувственна, напр.,
[таковы] математические [предметы]» (VII 10, 1036а 11 —12).
Аристотель критикует тот взгляд, по которому математическое
существует в чувственном именно как «отдельная природа» (см.
ниже XIII 3, 1077b 26, φύσις άφωρισμένη). Свое учение
Аристотель отличает также и от того (пифагорейцы), по которому числа
«не отделены, но находятся в чувственном» и в то же время
тождественны с самими вещами (XIII 6, 1080b 16 слл.)
12 Met. Ill 2, 998а 7—19.
,3 Под этими δυνάμεις και φύσεις (1076b 2) Александр
понимает границы, поверхность, линии и проч. Однако вернее тут
иметь в виду именно идеи, потому что такой именно смысл
указывается в том месте, которое тут вспоминает Α.,—III 2, 998а 12:
«Очевидно, что виды (είδη) могут существовать в чувственных
вещах, потому что то и другое вместе — одного и того же смысла
(λόγου)». Так—Бониц (II 528).
и Вм<есто> τούτων 1076b 27, Бониц с Александром—των
(можно было бы читать также и τούτων των)
15 Ср. Met. II 2 997b 12—34.
16 По Александру, εσται вм<есто> εστί12*. Так читает и Бониц.
17 Ср. 1076b 21. Движение понимается тут как синоним
чувственности.
18 1077а 9, γράφεται — по-видимому, предполагается
аналогия с такими выражениями, как νόμον γράφειν, ψήφισμα γρά-
φειν |3* и проч.
19 De coelo I 2, 269a 19: «Совершенное по природе раньше
несовершенного». Degen. an. II 1, 646а 25. Met. IX 8, 1050а 4—7.
De part. anim. II 1, 646a 25 слл., b 4 слл.
20 Бониц читает вм(есто) τίνι και πότ' εσται вульгаты —
τίνι καί ποτ' εσται, ссылаясь на то, что тут задается вопрос о
причине, а не о времени и что πότε м* как раз говорит о том, что
такую причину трудно найти. Мне кажется, πότε вовсе нет
необходимости понимать в философском контексте обязательно темпо-
рально. Мы часто говорим: «Когда же это возможно?» вместо
«возможно ли?» или вм(есто) «почему это, собственно,
возможно?»
21 О совершенстве тела, как ограниченного тремя
началами,—De сое!. I 1, 268а 22—23.
22 Или, как в V 11, 1019а 3, «это может существовать без
другого, а то без этого — нет».
23 Злостная краткость речи 1077b 3—4 δσων οι λόγοι εκ
των λόγων, где εκ 15* надо понимать интенсивно, чтобы не
получилось значения: «смыслы, составленные из смыслов». Тут можно
вспомнить V 11, 1018b 35: «По смыслу же акциденция раньше
целого», причем очень разъясняет комментарий Боница к VII 10,
1035b 3—31. Упомянутое εκ вообще трудно понять. Если его пони-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
681
мать буквально, то получится как раз противоположное тому,
о чем говорит Аристотель, ибо Швеглер (IV 303) прав, что
выводимое из другого понятия по смыслу своему не раньше, но позже
другого. Предположение Швеглер а, что εκ первоначально
отсутствовало, также ни к чему не ведет: получается смысл, что
логически первоначальнее то, «смыслы чего [первоначальнее]
смыслов» (по-видимому, смыслов других предметов). Едва ли
Аристотель дает тут такую тавтологию. Гораздо естественнее было
бы читать вместо εκ слово μέρη, базируясь на VII 11, 1037а 3,
где говорится, что вещественные отрезки круга не есть μέρη,
«части» общего круга. Тогда получился бы смысл: логически
предшествует то, что есть «часть», момент смысла, что входит
в смысловое определение вещи. Это было бы вполне
по-аристотелевски, но я противник таких конъектур. Иначе, подражая
своим некоторым западным собратьям, я перекроил бы весь текст
Аристотеля по-своему, ибо таких мест у Аристотеля сколько
угодно. Думается мне, что спасение данного текста кроется в
интенсивности значения этого έκ, τ. е. я понимаю его как указание на
активный выбор из смысла тех или других моментов его
определения. Тогда без перемены текста смысл получается такой же, как
если бы стояло μέρη. Швеглер (II 224) переводит: «dessen
Begriff aus Begriffen abgezogen ist» І6*. Это или таггология, или
особое непонятное понимание термина λόγος. То же и у Кирхмана
(II 235). У Риккхера (IV 370) правильный смысл, но далекий
перевод: «dem Begriff nach früher sind die Merkmale des
Begriffes» 17*. Правильно и точно у Боница (273) : «dessen Begriff, aus
dem der andern abstrahirt ist» ,8*. Вновь неясно у Рольфеса
(II 320): «die Momente... aus deren Begriffen die Begriffe
bestehen» . Бендер (326), выбрасывая έκ,—«das, dessen Begriff
dem Begriffe des anderen zugrunde liegt» 20* т. е. он хочет
сказать, что понятие математического принадлежит как признак к
понятию целого и есть часть его. Б. С.-Илер (234): «elles sont
logiquement antérieurs, toutes les fois que leur notion logique se
compose d'autres notions purement logiques» 2l*
ІА Относительно этой 1077b 10 πρόσΦεσις, противоположной
к το έκ αφαιρέσεως — IV 2, 1003b 31; VII 4, 1029b 30; 5, 1031a 2.
4; XI 4, 1061a 29. Trendelenburg, Kategorienlehre, 83, прим. 2.
Waitz к An. part. I 18,81b 3. Бониц к Met. I 2,982a 25—28. Если же
Бониц в нем. пер. (273) пишет: «durch Abstraction... durch
Determination» 22*, то, мне кажется, этот последний термин
совсем не передает смысла, выраженного тут Аристотелем. Гораздо
проще и понятнее другие переводчики. Швеглер (II 225), Кирх-
ман (II 235) и Бендер (326) — «durch Hinzufugung», как и
Б. С.-Илер (234) — «par addition»; Риккхер (IV 372) и Рольфес
(II 320) —«das Konkretere»23*. Может быть, толыю Лассон
вскрывает то, что Бониц имел в виду при таком переводе.
Лассон (241) переводит: «das mit der Bestimmung verbundene das
Abgeleitete» *4*
Α. Φ. ЛОСЕВ
682
25 Интересно отметить колебание А. в употреблении термина
ουσία в этом аргументе (1077а 36—b 11) в сравнении с
аналогичным аргументом, высказанным раньше (1077а 24—31). Там
говорилось так: то, что раньше по происхождению,— позже по
субстанции (1077а 26—27). Здесь же говорится так: то, что
раньше логически,—позже по субстанции (1077а 36—b 4).
Явно, что в первом случае «субстанция» имеет значение
смысловой сущности, или логического понятия («человек», напр., с этой
точки зрения раньше, чем «рука», «нога» и т. д.); во втором же
случае «субстанция» есть вещь, факт (в этом смысле «человек»
позже, чем «рука», «нога»). То, что раньше называлось γενέσει,
«по происхождению» (1077а 26), теперь называется ττ| ουσία
(1077b 2), или κατά την ούσίαν (1077b 7) ; а то, что раньше
называлось τη ουσία (1077а 27), называется τω λόγω (1077b 1, 3),
или κατά τον λόγον (1077b 6).
26 Чтение вульгаты странно: 1077b 11 εκ προσδέσεως τώ
λευκώ, как будто бы не «белое» присоединяется к «человеку»1,
но «человек» — к «белому». Александр (710, 14) читает прямо
του λευκού. Так делает и Бониц, если не в самом тексте, то в
смысле понимания.
27 Таково и общее учение А. о доказательстве. Ср. Anal. post.
Ill, 77a 5: «Итак, если должно получиться доказательство, не
необходимо, чтобы виды (εϊοη) были чем-то одним наряду с
многим; необходимо, однако, правильно сказать, что [тут] одно в
соответствии с многим (κατά πολλών)» и далее.
28 Как и выше, в 1077b 28: «Только поскольку оно — тело и,
в свою очередь, поскольку оно —только поверхности», или как
в 1077b 33: απλώς αληθές ειπείν 2δ*. Вместо такого απλώς 26* А.
говорит еще πρώτως, «первично», или τη φύσει, «по природе»,
противополагая это таким выражениям1, как «по случайности»,
κατά συμβεβηκός, или πως. πη, τρόπον τίνα, δυνάμει (ср. у Бо-
ницак I 7, 988b 15; IV 6, 101 lb 22; V 11, 1018b 11 и др.). Иногда
это απλώς равняется δλως, καθ' δλου, «вообще» (Бониц — к
V 15, 1020b 33; VII 10, 1035b 1 и др.). Ср. ко всему — Бониц,
II 414.
29 См. выше, прим. 17.
30 Читаю так вместе с Боницом и большинством
комментаторов 1077b 36 ή ό' εστίν υγιεινού вместо нелепого чтения
рукописей η δ' εστίν ύγιεινόν, «поскольку [белое] здорово».
3 1078а 5—6, συμβέβηκε καθ' αυτά. Ясно, что συμβαίνω тут
имеет особое значение, тут не просто «случайная акциденция»,
как это мы находим постоянно у Α., но «то, что с необходимостью
выводится из допущенных предпосылок». Так, теорема о
равенстве трех углов треугольника двум прямым не заключается прямо
в самом понятии треугольника, хотя и выводится с полной
необходимостью. Как раз этот пример очень ясно трактуется в Anal,
post. I 4, 73b 30—74a 3; 74a 25—b 4; Top. II 3, 110b 22—25. Это
συμβαίνει прямо нужно переводить как «выводится», или «еле-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I 1
683
дует», в таком тексте Anal. рг. I 1, 24а 18: «Силлогизм есть
умозаключение (λόγος), в котором при наличии полагания чего-
нибудь иного в отношении данного выводится (συμβαίνει) по
необходимости...» и т. д. Бониц (II 534) говорит, что так как эта
«в-себе-акциденция» содержится в предикате, a ύπάρχειν
говорится о том, о чем — предикация, как πάθος есть общая
квалификация для субстанций, качеств и аффекций, то вместо «акци-
денция-в-себе» А. говорит также υπάρχοντα καθ' αυτά или πάθη
καθ' αυτά. Для первого — Met. IV 1, 1003a 21—22: «Существует
некое знание, которое рассматривает сущее, поскольку оно —
сущее, и то, что ему само по себе присуще*-, VI 1, 1025b 10—13.
Для второго— III 2,997а 7; IV2, 1004b 5; 11,1019а 1; VII 5, ЮЗОЬ
19. 31. В этом же смысле попадается οικεία — X 9, 1058а 37. b 22;
XIII 3, 1078а 7 (οικεία πάθη). Ср. Бониц, II 181.
32 Интересные тексты о «точности» приведены у Боница
к I 2, 982а 13.
33 1078а 12—13—не очень ясный текст: απλούστατη γαρ,
και ταύτης ή ομαλή.
34 Вместо: «Не называет однофутовой линию, которая имеет
длину в один фут» — по Казавбону и Боницу (на основании
Александра) и др.
35 Тот же пример в An рг I 40, 49Ь 35.
36 Phys. II 2, 193b 31—35 (о математике, который
отвлекается в мысли от тел и от их акциденций и тем не менее у него нет
никакой ошибки), Ср. De an. 431b 16 (та же мысль о
необходимости отделенного в мысли для математ. целей).
37 Велльман, вставивший эти последние три строки на место
лакуны в рукописи Боница, понял это το δυνατόν как «der
Möglichkeit nach» (Бониц, нем. пер., 276, прим. 1), прибавивши в
примечании: «so nach dem Index Aristotel. 209a» . На самом же
деле справка в Индексе тут ничего не дает. Смысл простой: по
Александру, тут имеется в виду трехмерное пространство; Швег-
лер (IV 306) считает это приложением. Δύναμις не только —
«возможность». В математике это — квадрат («потенция»
числа), в геометрии — линия (так Met. IX 1, 1046а 8). Можно
привести сюда — Plat. Theaet 147d, 148b; R. P. IX 587d; Epin. 990e.
38 Это 1078а 31 ύλικώς, конечно, нужно понимать не в смысле
«чувственной» материи, но в смысле «умной» (VII 10, 1036а
8—12: умная — иная как раз та, которой оперирует математика,
в частности геометрия)
39 Имеется в виду, очевидно, Аристипп, которого А. уже
упоминал в III 2, 996а 32 и который, по Сексту Эмп. (Adv. math. VII,
p. 4 Mutschm.), признавал, что «физическое» и «логическое»
не способствует счастливой жизни (ср. Diog. L. II 92) — Alex.
716, IL
40 Об аристотелевском понимании красоты — Е. Müller.
rGesch. d. Theorie d. Kunst bei d. Alten. Bresl. 1837. II 95—107.
О красоте неподвижного действия — Met. XII 7 1072а 34—35,
А. Ф.ЛОСЕВ
ί I
684
ср. прим. 57 к XIV кн. «Метаф.»; De an. 433b 16 ακίνητον τό
πρακτόν αγαθόν 29*
41 Где именно — трудно сказать, Швеглер, опираясь на то,
что гармония и строй вселенной относится к предмету
астрономии, думает, что А. имеет тут в виду преимущественно De coelo.
Можно тут вспомнить также Met. XII 7.
42 Это — весьма важное место, где отчетливо утверждается,
что вначале (по-видимому, у Платона) учение об идеях не
соединялось с теорией чисел и что последняя появилась у него только
в позднейший период.
43 Είδος я везде перевожу как «вид» и никогда не перевожу
как «идея». Это потому, что 1) у Α., как это видно из дальнейшего
текста, везде «эйдос» и «идея» употребляются promiscue; и мне
хотелось оставить в переводе след этого словесного различия —
είδος («вид») и ίδεα («идея»), которое в конечном счете не есть
просто словесное различие. 2) «Эйдос» благодаря своей воззри-
тельной природе больше всего соответствует русскому
буквальному переводу «вид» в смысле картины, панорамы, видимого
рисунка. 3) В учении о «видах» имеется в виду или прямо Платон,
или А. строит некое понятие, родственное платоновскому.
Платоновский же смысл, как и общегреческий, содержит в основе
воззрительно-оптические элементы. См. мое исследование об
«эйдосе» и «идее» у Платона в кн. «Очерки античного символизма
и мифологии», I 135—281, а также — «Учение Аристотеля о чтой-
ности» в кн. «Античный космос и современная наука». М.,
1927, 463—528.
44 1078b 13—14, δια τό πεισΦήναι περί της αληθείας τοις
Ήοακλειτείοις λόνοις. Бониц (II 537) понимает: τό πεισθήναι
τοις λόγοις ώς αληΦέσι ούσι и переводит (277): «Durch die
Überzeugungen von der Wahrheit der Herakleitischen Lehre,
dass...» * Бендер (330): «Darin, dass man die Lehren des
Heraklits als wahr annahm und seinem Satze, dass...»31* В. S.-
Hilaire (244): «Par la persuasion où ils étaient de la vérité des
opinions d'Heraclite» . Это старое понимание отверг Лассон
(244): «Indem sie sich, was die Wahrheitserkenntniss anbetrifft,
durch die Ausführungen Heraklits davon überzeugen Hessen,
dass...»33* За ним последовал и Рольфес (323):·«Weil sie sich
bezüglich der Frage von der Wahrheit an die Herakliteische
Lehre hielten» 34*. Я остался при старом понимании.
45 О Сократе в этой связи кроме нижеследующего (после
парентезы о физиках и пифагорейцах) — 1078b 23—32, а также
XIII 9, 1086b 2—3; ср. Part. anim. I, 1,642a 24 (о том, что это
учение начал Анаксагор, но неудачно, а продолжил Сократ,
отбросивши физику). Diog. Laert. VIII 48. Хеп. Mem. IV 6, 1.
46 Слова: «с полным основанием разыскивал «что» [вещей]»
(1078b 23) стоят в тексте после рядом стоящей парентезы.
Стилистически ее удобнее поставить впереди, чтобы не прерывать
цельности смысла. Ευλόγως 1078b 23 большинство переводит:
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I
685
«mit gutem Grunde», а не как Лассон (245): «mit dem Wege
strenger Erörterungen» 35*.
47 Το τι έστιν, 1078b 23, о значении какового термина у А. см. в
«Античн. косм.», 468—469
48 О том, что Анаксагор и Эмпедокл начали рассуждать об
«эйдосе» и «чтойности», читаем и в Phys. 194а 20. О
пифагорейцах-Met. I 5. Magn. Мог. I 1, 1182а 11
49 Под диалектикой А. понимает вопреки Платону искусство
делать умозаключения на основании вероятного (об
аристотелевском понимании диалектики ср. «Античн косм.», 263, 394,
396). Поэтому диалектика не занимается сущностью вещей, их
«что», и не занимается, стало быть, и антиномиями. У Сократа
же были рассуждения, претендовавшие именно на диалектику
понятий и сущностей, «что», и не было еще аристотелевского
отношения к диалектике.
50 О Сократовой «индукции» — Хеп Mem IV 6, 13 слл. Diog
Laert. Ill 53 слл. Λόγοι έπακτικοί — выражение в Top. 108b 7
51 Met. VII 9, 1034a 30—31: «В силлогизмах начало всего —
сущность (ουσία), ибо силлогизмы строят из «что» (του τι),
[из индивидуальной сущности] ». Anal. post. I 8, 75b 31:
«Определение есть или начало доказательства, или доказательство,
отличающееся своим положением, или какое-нибудь заключительное
суждение». Тут имеются, однако, в виду не всякие силлогизмы,
но только «аподейктические» (Anal. post. 74b 10), не
диалектические. Тор. 100а 30. Поэтому А. и прибавляет перед этим
(1078b 25): «Диалектического же искусства тогда ведь еще не
было...»
52 Учение Платона об идеях А. связывает с гераклитизмом
и софистикой также в Met. I 6, 987а 32—b 10. Ср XIII 9, 1086а
37—b И.
53 Почти дословно те же аргументы, что и в этом тексте
(1078b 32—1080а 11, т. е. до конца 5-й главы), А. приводит и в
I 9, 990Ь 6—99lb 9. В первой книге нет только аргумента 1079b
3—11.
54 А. устанавливает три ряда сущностей: 1) чувственная
вещь, 2) одноименная с ней идея (по Александру, так называл
идею и Платон) и 3) третье, объединяющее то и другое, родовое
объединение вещей. Это очень понятно, когда поймешь, но понять
эту тарабарщину, которая дана здесь в тексте, можно только
после мучительных усилий. Мое понимание и анализ даны при
помощи слов в квадратных скобках. В частности, «субстанции»
1079а 3 можно понимать, вместе с Боницом (II 108) и Рольфесом
(II 414), как «Arten» и как «Gattungen»36* (вспомним, что по
Cat. V 2b 7 род преимущественно есть усия), т. е. как чувственные
роды. Другими словами, смысл тот, что отдельным родам
чувственных вещей соответствуют определенные идеи, от которых те
получают свои имена. «Для каждой единственной вещи» по-
гречески — 1079а καθ* εκαστον Конечно, лучше бы читать тут,
Α. Φ. ЛОСЕВ
1 1
686
вместе с Сирианом, παρ* εκαστον. Но Александр принимает
чтение рукописей, и Бониц следует за ним. Тем более должны делать
это и мы. Вся фраза допускает немало толкований. Я ее
выписываю по изданию Боница (1079а 1—3): καθ* εκαστον τε γαρ
όμόνυμόν έστι και παρά τας ουσίας των [τε] άλλων εν έστιν
επί πολλών, και επί τασδε και έπί τοις άιδίοις. Во-первых, можно
читать, ставя запятую после ουσίας (как делает Беккер): «для
каждой единичной вещи существует одноименное и отдельно от
субстанций, и из другого [для другого?] одно для многого,
чувственного и вечного». Здесь выгода та, что не надо
вычеркивать τέ в словах των άλλων. Во-вторых, такую запятую можно не
ставить, и тогда: «существует одноименное, и — отдельно от
субстанций для другого одно для многого». Тут, вместе с Бони-
цом, пришлось бы выкидывать это τε, что, разумеется, совсем
нежелательно: тут против Боница Рольфес (цит. стр.). В-третьих,
непонятно, что такое των άλλων. Бониц толкует так (II 109):
«Singulorum rerum generum ponuntur ideae cognomines, et
praeter substantias etiam reliquorum, quorumcunque multitudo unitate
notionis continetur etc.» . Но это толкование предполагает
прежде всего в 1079а 3 вместо άλλων чтение άλλων ων, что, между
прочим, мы и находим в той же самой фразе, содержащейся в
I 9, 990Ь 7. Это еще можно допустить, тем более что оно есть и в
одной рукописи. Но какой же тогда получится смысл? «Для
каждой отдельной вещи существует идея, одноименная ей, и отдельно
от субстанций того другого, множество чего объединяется в
единство [или, точнее: чего единство существует] во множестве и для
чувственного, и для вечного». Чего же это «того другого»? Не
есть ли это опять все то же εκαστον, единичная вещь? Тогда это
было бы почти простым повторением слов, в то время как των
άλλων явно противопоставляется к εκαστον. Та же неясность и в
нем. пер. у Боница (277): «Denn für jedes Einzelne giebt es etwas
Gleichnamiges, und getrennt von den Wesenheiten (каких же
именно?) giebt es fur die andern (опять неизвестно, каких) Dinge
ein Eins über der Vielheit»38*. У Швеглера (И 228) яснее —
«субстанции» («neben und ausser dem Einzelsubstanzen»39*),
но прочее все, как у Боница, хотя в комментарии гораздо яснее
(см. ниже). Бендер (331) читает, по-видимому, с ών: «Und
neben den Substanzen giebt es Ideen auch für das andere, was
eine Einheit von vielem bildet», хотя дает к этомѵ очень важное
примечание — «die Gattungsbegriffe» 40*. Пожалуй, правильнее
понял В. S.-Hilaire (247), хотя и дал не перевод, а пересказ:
«D'abord, pour chaque objet, on reconnaît une Idée de même nom,
et an independente des substances réelles» (след., запятая
ставится тут, по Беккеру, и ούσίαι не просто какие-то
«Wesenheiten»); «puis, il y a l'idée qui reste. Une, quelque grande que soit
la foule de ses objets» (здесь не переведено των άλλων, но зато
подчеркнуто отличие второго члена деления от первого, от
εκαστον) ι*. Лассон (245) вводит в перевод интересный момент
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 ■ 1
687
противопоставления οΰσίαι и τα άλλα, но не доводит его до
последней ясности: «Und nicht bloss neben den selbstäntiges
Wesen, sondern auch für das übrige, soweit es irgend in einer
Vielheit einen einheitlichen Begriff gibt»42*. Рольфес (II 324)
в тексте ничем не оттеняет ни τα πολλά, ни ουσίαι («und dann
gibt es auch für das Andere ein Eines im Vielen»), в примечаниях
же (II 414) «другое» понимает, как Бендер и Швеглер —
«Gattung» 43*.— Я думаю, что 1) решающим здесь является
противопоставительное объединение εκαστον и των άλλων 44*, данное
при посредстве τέ... τέ. Но чему же противопоставляется у А.
το καθ' εκαστον 45*? Очевидно — το καθόλου 46*. След., смысл
такой: единичному соответствует одноименная идея, а «другому»,
т. е. общему,— своя идея. 2) Но что же тогда такое «субстанции»
1079а 3? Чувственными они не могут быть, потому что греческому
языку не свойственно такое повторение одного и того же понятия
в разных описательных формах, καθ' εκαστον и παρά τάς
ουσίας 47* (а уж εκαστον — явно единичная чувственная вещь).
Идеальными они тоже не могут быть, потому что здесь речь идет
все время у А. не о том, что признается нечто «рядом с идеями»,
но о том, что «рядом с вещами», или «реальным» вообще. 3) Вы·
ход к пониманию «субстанций» (1079а 3) дает Александр.
Приведу его комментарий дословно (58, 1): «Рядом с здешними
субстанциями существуют одноименные с ними виды, равным
образом и рядом с другим сущим — то, что рядом с субстанцией,
что есть [не что иное, как] другие роды, в которых существует
нечто одно и общее для многого единичного». Усия, таким
образом, есть здесь родовая сущность. Поэтому вся мысль А. в
исследуемой фразе сводится к установлению двух параллельных
рядов: 1) единичные чувственные вещи и одноименные им идеи
и 2) родовые сущности, или роды, и их идеи (т. е. родовые
субстанции также имеют свои особые единства, или идеи, как и
единичные вещи — свои единства и идеи). Των άλλων я понимаю
как genet, praedicat., a επί πολλών — как γενών или ουσιών
(т. е. γενικών)48*. А. ведь и хочет сказать, что у Платона
получается идей вещей больше, чем самих вещей; это и зависит от
того, что Платону приходится признавать особые идеи еще и
родовых объединении вещей. В сущности это же самое хочет
сказать и Бониц, соединяющий свое толкование с комментарием
Александра, и Швеглер (IV 309), идущий за Александром, и
Бендер, сделавший приведенное выше ценное примечание о
«родовых понятиях». К сожалению, это правильное понимание или
совсем не отражается в самих переводах, или отражается с
разной степенью ясности. В-четвертых, можно сохранить такое
понимание, сохраняя пунктуацию Беккера, и тогда получается: «Для
каждой отдельной вещи существует одноименная ей идея,
отдельная от субстанций [каких?], и существует из другого, [в
другом], одно для многого». Тут непонятны ни «субстанции», ни
«другое».
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L.
55 «Третий человек» — аргумент, сводящийся к тому, что
между идеей и вещью необходимо признавать нечто третье, что
будет родом в отношении того и другого. Ср. VII 13, 1038b 30—
1059а 8. О разных истолкованиях этого аргумента см. отчетливое
изложение у Robin, 609—612, и А. Spielmann. Die Aristotelischen
Stellen vom τρίτος άνθρωπος. Brixen, 1891. Progr.
56 По-моему, совсем не обязательно выкидывать (1079а 17)
τούτου, «[раньше] этого» и και τοΰτο, «и это— [раньше]», как
это делает Крист в своем издании и Рольфес в своем переводе.
Единственный аргумент для такого изменения — буквальное
соответствие с I 9, 990Ь 20—21. Однако такая буквальность отнюдь
не обязательна. Что же касается красоты и легкости слова, то все
эти требования совершенно неприменимы к аристотелевскому
тексту.
57 То δ* ου εστί προστεθήσεται, 1079b 6. Чрезвычайная
краткость этого выражения затемняет смысл. Что к чему должно
«прибавляться»? Рольфес (II 326) : «Das Moment der
Vorbildlichkeit hinzukommen muss»49*—понимает правильно, но слишком
общо. Кирхман (II 248): «Hinzugesetzt werden muss, auf welches
Sinnending sich die betreffende Idee bezieht»50*— ошибается,
потому что, по Α., идея от логического определения отличается
вовсе не тем, что она относится к какой-нибудь чувственной вещи.
Лассон (247) гораздо правильнее и точнее: «Hinzufügen ist, was
das ist, dessen Idee sie ist» 51*. Однако это, по-моему, не совсем
точно. Ведь тут устанавливается отношение между эйдосом (или
идеей) и общим понятием, или определением, и говорится, что
одно другому соответствует. Но платоники, говорит Α., хотят
идею поставить выше определения и считают ее отдельной
субстанцией. Для этого надо, чтобы отдельные моменты понятия,
или определения, были объединены в некую субстанцию, как бы
вобравшую в себя и самую вещь, ср. и ниже 1079b 8: «В
субстанции все — идеи». След., ου εστί52* не может иметь подлежащим
«идею», но именно понятия, определение, сумму признаков. Это
и заставило меня, чтобы сделать текст понятным и не оставить
перевод в сыром виде, прибавить в скобках слова: «для получения
идеи» и — «эти понятия». К общему понятию, стало быть, должна
прибавиться та смысловая, но уже вещественно-смысловая
определенность, по отношению к которой понятие и берется как
понятие.
58 Тут тоже неясность: стоит почему-то (1079b 8) τα èv τη
ουσία. Поскольку только что говорилось о «центре [самой]
плоскости или всех [моментах круга]», здесь может иметься в виду
только определение, или понятие, т. е. сумма признаков. Почему
же это есть ουσία, субстанция? Идеальной субстанцией эта
«усия» не может быть потому, что тогда получался бы нелепый
смысл: неизвестно, к чему в понятии относить «прибавку»,—
так как в идее всё есть только идея. По-моему, тут возможно два
толкования: или ουσία А. здесь понимает просто в смысле бѵ,
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
689
т. е. в смысле существования, и тогда «все в субстанции» надо
понимать как все существующее (однако в этом случае вместо
έν лучше было бы περί, κατά с вин. или хотя бы επί 53* с дат.);
или А. имеет в виду здесь именно «субстанцию», но ту, которая
получается, когда чувственная вещь или отдельный признак
понятия берутся не сами по себе, но как сознаваемые и
понимаемые, формулируемые. Последнее лучше. Лассон (247) прямо,
без оговорок переводит: «was in dem Begriff vereinigt ist», в то
время как Кирхман (II 248) оставляет, наоборот, без
интерпретации: «was in dem seldstständigen Dinge ist», равно как и Роль-
фес (II 326) : «alle Momente der Substanz» (ср. аналогичный
перевод у В. S.-Hilaire (251): «tous les éléments, qui entrent dans la
substance»54*). Не вносит ясности и перевод Боница (279):
«was sich in der Wesenheit findet», и тем более Бендера (332) :
«was in der Substanz enthalten ist» 55* Такие переводы как
хочешь, так и понимай. Не находя возможным выкидывать из
текста эту «усию», я делаю вставку, поясняющую, что она
относится именно к сфере понятия (см. выше в комментарии
стр. 549—551).
59 Тут новая неясность: «прибавку» А. мыслит почему-то
«наподобие поверхности», и, кроме того, она «свойственна как
род» каким-то видам. Первое уясняется, по-видимому, на почве
воззрительности и картинности платонической идеи. Соотносясь
с вещью, одноименная ей идея как бы покрывается новым слоем,
воплощается в какую-то умную фигуру; отсюда, я думаю, и
сравнение с «поверхностью». Ни Бониц, ни Швеглер, ни Кирхман,
ни Бендер, ни Рольфес не поясняют это место никак. Только
Б. С.-Илер (251) дает объяснение, по которому под этой
«поверхностью» можно понимать все, что угодно: «Le mot de surface est
une terme universelle qui s'applique, comme genre, à tous les
surfaces particulières, quel que soit l'objet dont il est question» б6*.
Впрочем, это толкование и прямо неверно, если под «видами»
в разбираемой фразе Б. С.-Илер понимает виды поверхностей.
Что же касается второй неясности, о том, что «прибавка»
«свойственна как род» «видам», то единственно, что я могу тут
допустить, это то, что под «видами» подразумеваются все те
отдельные моменты общего понятия, о которых идет речь в этом абзаце.
А. сначала затруднялся, к каким же моментам общего понятия
надо присоединять «прибавку». Теперь он затрудняется, что же,
собственно, мы будем прибавлять. Раз этих моментов много, то и
прибавляемое окажется в отношении к ним родом. А если так,
то никакого прибавления реально не произойдет. Собственно
говоря, трудно понять, почему для А. плохо то, что эта
«поверхность» окажется родом. По-видимому, он считает, что «род»
нереален и прибавление его ничего не дает, т. е. никакой «идеи» из
общего понятия не получится. Тогда это было бы в устах А.
обычным формализмом.
60 Ср. опровержение Анаксагора в Met. I 8, 989а 33 слл. и
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
690
Phys. I 4. Эвдокс — известный астроном из школы Платона,
тяготевший к Анаксагору.
61 Это классическое возражение Аристотеля против
платоновской философии, к которому можно свести все его прочие
возражения, повторяется еще в Met. VII 6, 1031а 31; 1031b 6;
14 (вся глава); Anal. post. I 11
100 cd: «Теперь я не знаю и не хочу знать никаких мудрых
причин, и если кто скажет мне, что прекрасное прекрасно или от
красивого цвета, или от вида, или от чего иного, то я боюсь
потеряться во множестве подобных оснований, распрощусь со
всеми ними и просто, безыскусственно, пожалуй, даже и глупо
буду держаться одного, что прекрасное происходит не от чего
другого, как или от присутствия, или от общения, или от иного
участия в нем того прекрасного». (Ср. выше 100b: «Есть нечто
само в себе прекрасное, доброе, великое и иное прочее...»)
63 Здесь, ввиду маловажности места, не стоит анализировать
аристотелевского употребления слов λογικός, λογικώς.
Интересующихся я отослал бы к Waitz, Organon, 82b 35, Швеглеру,
IV 48—51, и Bonitz, Ind. Ar.
64 Несомненное тройное деление математических теорий А.
чрезвычайно затруднил нагромождением фраз и разделением
первого типа еще на два вида, причем везде стоит безразличное
ή...ή...ή... После внимательного перечитывания и анализа
становится совершенно ясным, что основное деление имеет члены:
ήτοι είναι, 1080а 17 (с двумя подвидами — ή επί των μονάδων,
18 и ή ευθύς, 20), ή τάς μεν συμβλητας, 23 и ή τον μεν είναι, 35
(причем ясно видны тут асе. с inf. в зависимости от начального
ανάγκη δ', 15, в то время как при других — indie.) 57* Хорошо
эти длинные вставки, затемняющие общую структуру фразы,
ставить в скобки или прямо ставить в начале каждого деления
«во-первых», «во-вторых», и т. д. Последнее я и употребляю
в переводе.
бЬ XIII 2, 1076а 38Ь 11.
66 Неуместное ή πάντας (1080b 4) пропускаю вслед за
некоторыми рукописями, Александром, Боницом, Рольфесом и др.
Это «все» уже имеется в виду в начале фразы 1080а 37: «Числа
эти могут быть или... или...»
67 1080b 7, «еще чего-то»: Аристотель делает вид, что не
знает, чего именно. Сам же он (см. ниже) обозначает этот второй
принцип разными именами: «Беспредельное»,
«Большое-и-Малое», «Неопределенная Двоица» и др.
68 «Монадический» у А. значит чисто смысловой, счетный,
состоящий из таких единиц, которые суть только единицы, и
больше ничего, решительно в себе не содержа ничего материального.
Оно — то, в котором «ни одна единица ни в чем не отличается от
другой» (1080а 22). Ср. тексты ниже — XIII 7,1082b 5—7:
«Необходимо, чтобы число было равно или не равно [другому]; и
[необходимо это] всякому, больше всего составленному из одно-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I -
691
родных единиц (μοναοικόν), так что если оно не больше и не
меньше, то — равно [другому]»; XIII 8, 1083b 15—17 (по поводу
пифагорейского овеществления чисел): «А как может величина
составляться из неделимого? Однако уж во всяком случае
арифметическое число есть [число], составленное из отдельных
[бескачественных] единиц (μοναδικός)»; XIV 5, 1092b 17—25. Также
о «монадической точке» читаем в De an. 409a 20.
69 Две мало отличные одна от другой теории. Первая
утверждает, что существуют только идеальные числа и что
(по-видимому) математических чисел вообще нет. Другая же — что
существуют и те, и другие, но что математическое нельзя
отличить от идеального.
70 1081а 7, τάς ίοέας... τους αριθμούς. Яснее было бы, если бы
τους отсутствовало, чтобы предикатом считать, как того требует
контекст, именно «числа», а не «идеи». Однако вовсе не всегда
имя сказуемого ставится без члена; и Бониц прав (IV 547), что
тут в качестве сказуемого имеются в виду не просто «числа», но
именно счислимые и математические. Поэтому я и ставлю в
квадратных скобках «такие* (числа).
71 Это нужно понимать в том смысле, что абсолютно
отвлеченные числа, будучи лишены качественного содержания,
останутся теми же, с каким качественным содержанием их ни брать.
Поэтому таких двоек или троек — неисчислимое количество:
два яблока, два стола, два дома, две улицы и т. д. и т. д.
72 Этот аргумент становится понятным в свете известного
учения А. об общем различии идей и чисел; числа, несмотря на
множественность, однородны (III 6, 1002b 15), идеи же — просты
и абсолютно единичны (ср. 1002b 12—30).
73 В платонизме существует целый ряд таких пар первоприн-
ципов числа и идеи. Тут, 1081а 14, упоминается пара — Единое
и Неопределенная Двоица; ср. еще 1081b 17 (без эпитета
«неопределенная»); 1081b 21—25, 32; 1082b 30; XIII 9, 1085b 7, 10
(тоже без эпитета). Несомненно, о Неопределенной Двоице идет
речь в I 9,990Ь 19—21. Другое наименование: Единое и Большое-
и-Малое (I 6 987Ь 20—22, 25—27, 988а 8—14; 7, 988а 23—26).
Также —πλήθος (XIV 1, 1087b 27—30; 4, 1091b 31 ел.); πολύ
και ολίγον (Ι 9, 992а 16 ел.; XIV 2, 1089b 11 — 14); ύπερέχον
και ύπερεχόμενον (XIV 1, 1087b 17 ел.); просто άλλο или έτερον
(1087b 26—28 ел.); еще — ανισον 58* (X 5, 1056а 10 слл.: XII 10,
1075а 34 ел. и мн. др.). Все эти антитезы восходят к знаменитому
диалектическому выведению «числа» из «предела» и
«беспредельного» — Plat. Phileb. 23e—25e.
74 Совершенно непонятно, почему Бониц переводит (289):
«indem er durch Gleichmachung desselben (по-видимому,
Единого) die Zweiheit entstehen liess» 59* Правда, краткость текста
1081a 25 есть какая-то абракадабра. Но и Швеглер (II 233), и
Кирхман (II 264), и Риккхер (IV 384), и Рольфес (II 230), и
Ласеон (251) имеют в виду здесь единицы, возникающие на лоне
Α. Φ ЛО(!ЕВ
■J L_
Единого через уравнение неравенства, вносимого Двоицей, а не
самую Двоицу Относительно Неравного см прим. 73.
5 Странный и неясный аргумент. Еще можно было бы
согласиться, что продукт всегда позже своих частей, независимо от
того, позже или раньше существует одна часть, чем другая Но
трудно понять, как это продукт позже одной своей части и раньше
другой (на том основании, что одна часть раньше другой части)
Кирхман (II 264—265) метко указывает на то, что А. базируется
здесь на пространственном воззрении: продукт из двух элементов
будет как бы срединой между ними, раньше одного и позже дру
гого. Хорошо толкует это место и Рольфес (II 419, прим. 37), но
в то время как Кирхман ограничивается неопределенной переда
чей текста через «Zwei», Рольфес думает, что тут идет речь спе
циально об идеальной перводвойке, которая, состоя, как и все
числа, из Единого и Неопределенной Двоицы, имеет перед собой
еще неисчислимую единицу, так что она есть двоица двух единиц,
и в этом ее серединность.
76 Это των άλλων, 1081а 30 путает все дело. Что это такое за
«иное», или «прочее»? После самого внимательного вдумывания
в этот текст можно остановиться только на одном. Это, именно,
не что иное, как то, что выше, 1001 а 14—15 и 22, было названо
«Неопределенной Двоицей». Оно же — «Неравное», а 25.
77 πλέκονται заменено в рукописи Ε через λέγονται6ϋ*. Этому
следует Рольфес (II 331)—однако без достаточных оснований
78 Смысл такой: по Платону, числа возникают из Единого и
Двоицы; след., раз тут абсолютная неисчислимость, то Двоица
уже содержит в себе два элемента плюс само Единое. Значит,
в Двоице уже есть три. По той же причине содержится уже четы
ре единицы в тройке — и т. д. Как же, спрашивает Α., число еди
ниц может быть раньше самого этого числа?
79 Огромная путаница вносится в текст тем, что А. одним и
тем же термином δυάς обозначает и обыкновенную арифмети
ческую двойку, и идеальную двойку, и Неопределенную Двоицу
Если бы я стал переводить везде этот термин одним и тем же
словом, то моего перевода не стоило бы и читать: все равно никто
ничего не понял бы. Приходится каждый раз переводить, сообра
жаясь с обстоятельствами. «Двойка-в-себе» — это не перво-
принцип Неопределенная Двоица, но именно идеальная двойка
80 Точнее — одну единичность а именно Неопределенную
Двоицу, а не число «два».
81 μόναι, 1081b 37 я понимаю вместе с Боницом и Швеглером
как μονάδες 6|*
82 Иначе платоникам пришлось бы отбросить то основание, на
котором строится вся эта теория (счислимость внутри числа и
несчислимость между числами), т е. десятка и ее единицы не
были бы счислимы с пятеркой и ее единицами.
83 Подразумевается: «когда мы эту десятку мыслим
составленною из двух разнокачественных пятерок»
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
693
84 Вместо совершенно непонятного ένέσονται, 1082а 8 (как и
еще дважды на а 9), почти все комментаторы, вслед за
Александром, читают έσονται62* причем Швеглер (IV 320) понимает так:
существует много разных пятерок (ибо пятерка — разная в
разных числах, в шестерке, семерке, восьмерке и т. д.); раз так, то
десятка, состоя из двух пятерок, будет каждый раз иная, в
зависимости от характера привходящей пятерки; след., это
противоречит платоническому учению о том, что существует только одна
идеальная пятерка.
ос А â
А. мыслит идеально-качественное число просто
именованным, вещественно-метафизическим числом, а таких чисел
существует столько же сколько существует вещей на свете. Ближайшим
образом тут имеются в виду, вероятно, пятерки, входящие в
разные другие числа. Они ведь тоже мыслятся
разнокачественными.
86 Какое отсюда вытекает возражение против платонизма —
неизвестно. См. комментарий, стр. 569.
87 Смысл: если в числах одни раньше других, то
предшествующие из них являются идеями последующих; а это значит,
что последующие суть уже не эти числа. Напр., Двоица —
прототип и идея всех двоек; значит, эти двойки — уже не двойки,
а есть нечто «сложное», как и животное, раз оно — идея для
того, что в нем содержится, состоит уже не из животных,
но из таких частей, которые сами по себе уже не есть
животное. Ср. к этому рассуждение А. в VII 14, 1039b 7—16: «Но
допустим, [то] другое существует в каждом. Тогда то,
субстанцией чего является живое существо, окажется, можно сказать,
беспредельным [по количеству], потому что «человек»
[происходит] от живого существа не акциденциально. Далее,
множественным окажется и живое существо-в-себе, потому что и живое
существо, [находящееся] в каждом, есть [уже] субстанция (так
как называется не соответственно [чему-нибудь] иному). А если
нет, то «человек» окажется из того [другого] и то [другое будет]
его родом. И далее [будет] все, из чего [состоит] «человек»,
идеями. Но невозможно, чтобы то, что есть идея одного, было
субстанцией другого. След., живое существо-в-себе окажется
каждым [отдельным представителем] из живых существ. Далее, из
чего [состоит] это, [«человек»], и как из «живого существа»
получается [«человек»] ? Или — как это возможно, чтобы живое
существо, субстанция, как таковое, [существовало] рядом с
живым существом-в-себе? На чувственных же [вещах] случается и
это, и еще больший абсурд. След., если это невозможно, то ясно,
что не существуют виды так, как некоторые говорят».
88 См. прим. 68. Ср. XIII 6, 1080b 19.
89 Вместо рукописи, ταύτη rjj δεκάδι большинство, вслед за
Александром (138, 11) и Боницом (II 551), читает αύτη δη
δεκάδι63*.
Т. е. если идеальные числа качественно различны.
Α. Φ. ЛОСЕВ
91 Едва ли правильно переводят это εϊπερ ίδέαι έσονται,
1082b 25—26, Бониц (288 — «sofern sie Ideen sein sollen»),
Швеглер и Бендер. Вернее Рольфес (II 334): «sofern... Ideen sein
sollen» , потому что, как правильно замечает тут же Рольфес
(II 420), по контексту выходит, что не единицы, а числа должны
быть идеями.
92 XIII 4.
93 Начиная с этого слова и до конца главы (1082b 34—37),
Бониц (II 552) считает текст неудобовразумительным: слова
«когда счисляем и говорим» есть повторение слов о «счислении
через прибавление»; слова «мы делаем то и другое»
предполагают более полный текст, который, по-видимому, и был перед
Александром (ср. 741, 3); наконец, слова «смешно это
различие» никак нельзя соединить с контекстом. Я думаю, можно и не
быть столь придирчивым к этому тексту. Иначе придется похерить
половину всего аристотелевского текста. По-видимому, Α.,
выставляя трудности совмещения «прибавления» и качественной
«несчислимости», указывает на то, что эту трудность сознавали
и некоторые платоники. Мы же, говорит, вообще не различаем
этих двух способов счета и не возводим их на степень
принципиального различия так, чтобы получились особые идеальные
числа. Этот текст сравнительно еще сносен, хотя его и с успехом
можно было бы выбросить из этой главы и заменить словами
πολλά άναιροΰσιν 6б* 1082b 33.
94 ΆριΟμείν κατά μερίδας Александр (740, 20) объясняет:
«брать из декады по разделению (κατά διαίρεσιν)». Как
правильно замечает Кирхман (II 271), это объяснение довольно
темно. Предположение самого Кирхмана — смешное: «через
умножение» (в противоположность прибавлению по единице).
Его перевод «nach Teilen» ^* маловыразителен. Бониц (288)
и Бендер (342): «durch Teilung»67*. Яснее всего у Рольфеса
(II 235): «getrennt Zahl auf Zahl folgen lassen» 68* Ясно, что это
противопоставляется «прибавлению». А «прибавлению» здесь в
тексте противопоставляется деление по идеальным
разнокачественным числам, которые хотя и счислимы сами внутри себя, но во
взаимных отношениях они являются, в представлении Α.,
совершенно разорванными и несогласованными отделами, или
группами, единиц.
95 1083а 1—2, τίς άριφμοΰ διαφορά και μονάδος — не надо
понимать в смысле различия между числом и единицей, но в смысле
различия между одним числом и другим и — далее — между
одной единицей и другой единицей.
96 Едва ли уже так прямо можно перевести ποσοποιόν,
1083а 13, вместе с Боницом (288): «Ursache der Quantität»69*.
Швеглер (IV 324) видит здесь «eine multiplicative Wirkung» 70*
Бендер (343): «quantitatives Erzeugen» 71*. Хитрее всего у
Рольфеса (II 335): «als abgestufte Quantität qualitativ»72*
97 Т.е. Спевсиппа и Ксенократа (по Александру).
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I I -
695
98 Μηκύνειν, подраз. λόγον. В таком же употреблении —
Plat. R. Р. IV 437а («растягивать свою речь») и Menex. 244d
(«долго рассказывать»). Ср. μακροποιεϊν 73* XIV 3, 1090b 30.
99 1083b 5, ср. XIII 6. 1080b 28 — «не математически».
100 Об отличии пифагорейского учения о числе от
платоновского — ср. XIII 6, 1080b 16.
101 Ср. De coelo III 4, 303а 2: «Ясно, что элементам
необходимо быть определенными». De gen. et согг. I 2, 315b 32: «Более
правомерно, что элементы неделимы».
102 Ср. Met. Ill 4, 1001b 17—25: «Но как, след., величина
составится из такого одного или из большего числа таковых?
Одинаково ведь [надо] говорить, что и линия состоит из точек. Но
ведь если кто и предполагает (как утверждают некоторые), что
число произошло из одного-в-себе и некоего другого не-одного,
то [все равно] нисколько не меньше нужно решать вопрос,
почему и как происшедшее один раз окажется числом, другой
раз — величиной, если действительно ни одно было неравенством
и самотождественной природой. В самом деле, не ясно ни то, как
величины произошли от одного и этой [природы], ни то — как
из некоего числа и этой [природы]». XII 10, 1075b 28—30:
«Затем, как из невеличинного получится величина и
непрерывность? Ведь число не может создать непрерывности ни как
движущее, ни как эйдос». Phys. VI 1, 231а 24—26: «Невозможно, чтобы
нечто непрерывное состояло из неделимого, как, напр., линия —
из точек, если только линия непрерывна, а точка — неделима».
103 1083b 18—19, стоит τοις σώμασιν ώς — δντων вместо
ожидаемого ούσι — конструкция, не редкая у А. Примеры см. у Waitz,
Org. к 19b 37, 57а 33 и Швеглер III 83.
104 Как характерную особенность небрежности
аристотелевского текста можно отметить это невинное ёті74*, 1083b 23,
которым начинается ни больше ни меньше как целый большой
отдел изложения, не имеющий ничего общего с только что данной
критикой пифагорейства.
105 Как указывает и Бониц (II 556), Платон не хотел
обозначать этим «двух различных и отделенных между собой
принципов», но нечто единое («unam eandemque potentiam, quae et
augendo et diminuendo in infinitum idonea...» 75*). На этот момент
беспредельного увеличения в данном принципе указывает и сам
А. в Phys. I 4, 187а 16, прямо называя Платона. Поэтому, опять-
таки в целях ясности, в местах, где имеется тут в виду у А. этот
именно один и единственный принцип, я пишу его наименование
так: «Большое-и-Малое».
106 Нужно добавить: так одна половина тройки — из
Большого, другая — из Малого.
107 См. выше, 7, 1081а 25.
,оа Явно, что А. в данном месте забыл, что Большое-и-
Малое есть только материальный принцип образования чисел,
что есть еще Единое (см. прим. 73).
Α. Φ. ЛОСЕВ
696
109 Этот последний род чисел Александр (748, 7) называет
четно-нечетными.
110 1084а 10, τάττουσι δ\ по-видимому, в смысле τάττουσι γ'
11 ! Что, по Платону, идеальные числа простираются только до
десяти, читаем у А. не раз. В более общей форме ср. Met. XII 8,
1073а 18—21: «Те, кто утверждает идеи, называет идеи числами.
О числах же говорят один раз, что они определены до
беспредельности, другой раз, что — до десятки». В Phys. Ill 6, 206b 32:
«Он создает число до десяти», где «он» есть не кто иной, как
прямо Платон (ср. выше, 206Ь 27).
112 Странно было бы читать с рукописями τινας, а не по
Александру τίνα 76* ибо речь не может тут идти о нескольких
числах из десятки. Бониц (291) следует Александру, а за Бони-
цом Крист, Рольфес и др.
113 1084а 21, αυτό έκαστος άνθρωπος вместо нелепого αύτο-
έκαστος (по Боницу — так как αυτό явно относится к
«человеку») .
11 1084а 23—24, ει όή ή τετράς αυτή вм. ει δ' ή τετράς αυτή
(Бониц), что значило бы «если же эта четверка» (тут была бы
неясная зависимость этого предложения от соседних).
115 ουκ δρα, 1084а 28, Лассон (259) и Рольфес (II 421,
прим. 59) понимают не в смысле «следовательно, нет, но в смысле
«все-таки не». Действительно, перевод Кирхмана (II 277): «Die
Ideen können deshalb keine Ursachen sein» 77* совершенно не
вяжется со всем контекстом.
116 Этот отрывок, 1084а 27—29, несмотря на авторитет
Александра и Сириана представляющий собой рассуждение не о
числах, но об идеях, явно внесен сюда из какого-то другого места
(напр., из XIII 5), и он резко нарушает ход всего рассуждения.
Бониц (II 558) предлагает его прямо не считать относящимся
сюда. За ним Швеглер (IV 328), который указывает даже точно
место, где этот отрывок мог бы быть помещен — I 9, 99lb.
117 В тексте не очень ясно 1084а 29—30: ει ό αριθμός...
μάλλον τι δν και εΖοος αυτής τής δεκάδος. Куда относить «эйдос»?
В одном случае: «Число до десятки есть больше сущее и [больше]
вид, чем сама десятка». В другом: «Число до десяти есть скорее
сущее и вид десятки». Бониц, читая после δν — το εν (ср. Alex.
749, 30 и Сириана) и становясь на эту вторую точку зрения,
переводит (292): «Ferner ist es ungereimt, wenn die Zahl nur bis
zur Zehnzahl reichen soll, während doch das Eins in höheren Sinn
Seiendes ist, die Formbestimmung ist für die Zehnzahl» 7e*. Без
этого το εν, но с тем же отнесением «эйдоса» у Швеглера (II 240) :
«...das die Zahl bis zur Zehnzahl mehr seyend und Idee der
Zehnzahi-an-sich seyn soll» 79*. Кирхман (II 278) стоит, наоборот,
на первой точке зрения: «...mehr seiend und Idee... als die
Zehnzahl» 80*. Так же Бендер (346) и Рольфес (II 339). Второе
понимание имеет то преимущество, что эти слова можно было бы тогда
тесно связать с отрывками 1084а 25—27 (а отрывок 27—29 нужно
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
697
считать вставкой, см. прим. 116). Первое же понимание
обосновывало бы непосредственно следующую за этим фразу (30—31),
которая противополагает «число как единое» и «десятку». Я
думаю, что шансы того и другого понимания одинаковы, и выбирать
очень трудно.
118 Это довольно неожиданное трактование всех чисел до
десяти (исключительно) как Единого Рольфес (II 421) объясняет
так, что тут не просто имеется в виду Единое, но «so und so viele
Einer» 81*. А десятка будет тогда уже принципиально новой
категорией. В подтверждение того, что числа (по-видимому, 1— 9)
по преимуществу есть картина и совокупность всего сущего,
можно привести De an. I 2, 404b 27: «Эти числа суть эйдосы
вещей». Ср. также VII 11, 1036b 14—17: «Из утверждающих идеи
одни [считают], что двойка есть линия-в-себе, другие, что —
эйдос линии». См. XIV 3, 1090b 22.
119 Ср. XIV 4, 1091b 13—15, ср. 33—35, и—IV 2, 1003b 32—
34, 1004а 16—20, Ь27—29, 1004b 33—34.
120 1084b 1, ή πρώτη — надо разуметь «единицу», потому что
дальше противополагается этому «двойка». Или же надо
исправлять текст, напр., как у Швеглера (IV 328): πρώτη ή γραμμή
ατομος 82*.
121 Что такое «неделимая линия» у Платона, см. у Боница
II 122.
122 Смысл: единица соответствует точке, двойка — линии,
тройка — поверхности, четверка — телу. Всего 1 + 2 + 3 + 4 =
= 10. Ср. XII 8, 1073а 20 (в прим. 108).
123 Более подробное рассуждение о «раннейшем» и
«позднейшем» — VII 10, 11 (см. тексты в «Античн. косм.», 477—480).
124 1084b 12, το άμφο, т.е. το συναμφότερον (σύνολον) το
εξ ύλης και είδους 83*. Об этом понятии см., между прочим,
«Античн. косм.», 478—483.
125 1084b 14, το επί μέρους. Хорошее разъяснение этого
термина дает Швеглер (III 73). Он обозначает то, что в новой
философской терминологии дано как «das Besondere»84*. Оно —
посредине между общим (το καθόλου) и единичным (το καΦ'
εκαστον). У Швеглера приведены важные тексты.
126 Вводное νάρ (1084b 20) совершенно непонятно. Может
быть, прав Швеглер (IV 329), предполагающий, что весь этот
отрывок взят из другого места.
127 Ср. VII 14, 1039а 9—14: «Ибо говорят, что невозможно,
чтобы из двух произошло одно или из одного — два, потому что
неделимые величины создают субстанции. Одинаково ясно, след.,
что и в числах — [то же самое], если только число есть
соединение единиц (как говорят некоторые)».
128 Бониц (II 560) прямо думает, что это — диалектика
(1084b 30). Для этих οί λόγοι в смысле диалектики я привел бы
еще I 6, 987Ь 31—32: «Введение видов произошло через
рассмотрение в смыслах*; XIII 8, 1084b 25.
Α. Φ. ЛОСЕВ
J—L
698
129 По-видимому, что-то неладно в греческом тексте. Трудно
понять.
130 Phys. V 3, 227а 19—21: «Поэтому последовательность —
в предшествующем по смыслу, как, напр., в числах,
прикосновения же [тут] не существует».
131 Met. XI 12, 1069а ^5—14.
132 1085а 7, περί των ύστερον γενών αριθμού. Genet, αριθμού
зависит от ύστερον, а не от γενών Bs*. Что геометрические
величины — позднейшие, ср. I 2,982а 26—28, а также I 9,992Ь 13—15.
133 Ср. I 9, 992Ь 10—11: «Ибо [субстанциальным]
утверждением [единого] единое не становится всем, но чем-то единым по
себе, даже если присоединить [это] всё».
134 1085а 13, την κατά το ёѵ άρχόν, т. е. «с точки зрения
Единого» (Бониц, II 562: «in statuendo principio îormali, quod unitati
respondeat» 86*).
135 Разные типы этих учений указываются А. и в других
местах — I 9, 992а 10—15; VII 11, 1036b 12—15; XIV 2, 1089b 11;
3, 1090b 20; De an. I 2, 404b 18—21 и ел.
136 Α., след., упрекает платонизм в том, что он акциденции
полагает как принципы. Ср. I 9, 992Ь 1—6; XIV 1, 1088а 17.
137 1085а 25, δταν τις Щ τα καθόλου. Это непонятное
выражение хорошо поясняет Александр (757, 25): «если кто полагает
общее отдельно (χοριστά)».
438 Ср. VII 14, где во всей главе развивается тот же пример.
139 Вм. «или другое» понятнее было бы «или иначе».
140 Что значат все эти слова (1085а 31—34) —трудно
понять. «Одни заставляют происходить [телесные] величины из
такой материи»; тут еще можно догадаться, из какой именно
материи. По-видимому, имеются в виду указанные раньше «виды
Большого-и-Малого» (1085а 12). «Другие же — из точки»; кто
такое другие, неизвестно. Все комментаторы молчат; только
Б. С.-Илер (305) почему-то думает, что «ce sont sans deute les
disciples de Platon, Xénocrate et Speusippe» 87* не приводя для
этого ни одного основания. «Точка же у них оказывается не
единым, но как бы единым». Это я тоже отказываюсь понимать.
«Из точки и из другой материи, подобной множеству, но не из
[самого] множества»: ничего не понимаю. Так как и Бониц, и
Швеглер, и Кирхман, и Бендер, и Рольфес обходят это место
молчанием, то куда уж мне, грешному, нарушать это молчание!
Только я честно заявляю, что ничего тут не понимаю.
141 1085b 11, вм<есто> αί άπορίαι αύται хотелось бы at άπ.
αύται88*.
142 По-видимому, имеется в виду XIII 7, 1082а 20.
143 Т. е. попросту повторяет одно и то же число, то самое,
которым оперирует уже с самого начала. Ср. то же самое —
в I 9, 990Ь 2—4 .
144 1085b 23, παρά τους ούτω λέγοντας. Παρά89* имеет здесь
причинное значение. Лучше было бы περί90*
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 1
699
145 1085b 28, καί имеет значение не и (как переводят все
переводчики), но — значение экспликативное. Ср. VII 12, 1038а 7
(«виды как элементы»). Тексты для такого значения καί у А. см.
Waitz, Org, к 93b 25 (ср. и Швеглер, III 113).
146 Phys. VII 1, 231а 24: «Невозможно, чтобы сплошное
состояло из неделимых [моментов], как, напр., линия — из точек,
если действительно линия сплошна, а точка неделима», Ь16:
«Всякая делимая сплошность делима до бесконечности (εις αεί) ».
232а 23: «Всякая величина делима на величины, так как показано
[уже], что ничто сплошное не может состоять из неделимого, а
всякая величина — сплошна».
147 Так как весь следующий за этим отрывок есть заключение
всей критики теории чисел, то это ετι 6έ (1085b 36) смазывает и
нивелирует самую возможность языкового перехода к
заключению.
148 Под τα πράγματα ταΰτα, 1086а 1, разумеется τα περί των
άριΟαών δόξαντα, т. е. учения о числах.
9 Подобное суждение Эпихарма А. приводит в Eth. Nie.
IX 7, 1167b 25 (Швеглер). Данный фрагмент входит в собрание
Lorenz, Leben u. Sehr. d. Koers Epicharmos. Berl., 1864, 272.
Фрагм. В 47.
150 Александр говорит, что имеется в виду Phys. II 3
(дедукция четырех элементов). Бониц (II 566) думает, что скорее —
I 4-6, а Швеглер (IV 334) к этому присоединяет в виде
возможности еще и De coelo HI 3 и De gen. et согг. I 1.
151 1086a 24. См. прим. 2.
152 1086а 30. Это ύστερον91*, если данный отрывок считать
находящимся на своем месте, совершенно непонятно, поскольку
речь об этой теории уже была и А. ее закончил. Явно, что или
весь отрывок взят из другого места, или рассмотрение
платонизма идет с этих пор в совершенно иной плоскости.
153 Как известно, по Α., общее не есть усия и усия — не
общее. Ср. III 6, 1003а 5—17: «Если [принципы будут] общим,
они не будут субстанциями, ибо ничто из общего не обозначает
индивидуального «что» (τόδετι),Ηθ [лишь] таковость (τοιόνδε),
а субстанция есть индивидуальное «что»» (1003а 7—9).
154 1086а 34, διηπόρηται. Вследствие слова διαπορείν 92* надо
иметь в виду книгу «Апорий», т. е. III 6, 1003а 5, но Бониц
колеблется, не относится ли эта апория и к XIII 4—5. См. также
VII 13 и III 997b 3—8.
155 Ср. XIII 4.
156 Ср. XIII 4, 1078b 30.
157 1086b 5. δηλοΐ в переходном смысле.
158 1086b 10, εξέθεσαν. Эта εκθεσις имеет у А. специальное
значение — утверждать в качестве самостоятельной субстанции,
гипостазировать, объективировать. Ср. I 9, 992Ь 10: «Через
объективирование (εκθέσει) все не становится единым». III 6,
1003 а 10: «Если (принципы] будут индивидуальным «что» и
Α. Φ. ЛОСЕВ
-Ι ι L·.
обще предицируемое станет самостоятельной вещью (εκΦέσΦαι),
то Сократ станет многими живыми существами...» и т. д. Другие
тексты см. Waitz, Org. 26b 7; 28а 23; bl3; 179a 3 (ср. и у Швеглера
III 99). Такое понимание находим еще у Александра (765, 32).
159 Тут начинается изложение знаменитой апории общего и
единичного, или, что то же, знания и бытия, которая ставится А.
вообще не раз (ср III 4, 999Ь24—1000а 4; 112; VII 13; XI 2) и
находит себе принципиальное разрешение, кажется, только в XIII
10. Из книги апорий имеется в виду III 6, 1003а 5—17 или
еще III 4.
160 1089b 19, ώς βουλόμεύΝχ λέγειν — непонятное выражение.
Ср. возражения Рольфеса (II 423) против перевода Боница,
Бендера и Швеглера. Может быть, понятнее всего передано
у Александра (767, 25): «уничтожится субстанция, чего мы не
хотим (όπερ ου βουλσμεθα) ».
161 Тот же пример и в III 4, 1000а 1—4.
162 1086а 26, όμώνυμον в более широком смысле Здесь μη
όμώνυμον тождественно с άριΟμφ εν 93*.
163 1086b 27. Это «далее» совершенно ни к чему. Вместо
ετι δε ожидалось бы что-нибудь вроде επειδή 94*.
164 Ср. VII 13, 1038b 25—27: «Еще же невозможно и абсурдно,
чтобы «этость> и сущность, если они из чего-нибудь состоят,
создавались бы не из сущности и не из индивидуальных этостей,
но из качества, ибо [тогда] не-сущность и качество будет раньше
сущности и «этости»».
165 1087а 4—7 — трудный текст. «Из элементов» —
по-видимому, значит из первоначальной платонической пары — Единого
и Неопределенной Двоицы (или Большого-и-Малого). «Наряду
с субстанциями, содержащими в себе самотождественный вид,
и идеями» — можно понять; или — «наряду с чувственными
субстанциями*, и тогда «и идеями» придется выкинуть, а
«существование некоего одного» будет «существованием идей»; или —
«наряду с идеальными субстанциями», и тогда «некое одно» будет
указывать на платоническое первоединое. Последнее толкование
едва ли уместно, так как εν τι (аб) не представляется в этом
случае удобным и самый вопрос о первоедином тут едва ли уместен.
Поэтому Бониц (II 569) склоняется к тому, чтобы выкинуть
«и идеям» и понимать в первом смысле.
166 Т. е. получается возможность объединения группы
элементов в нечто общее вместо их изолированного существования,
сопротивляющегося всякому обобщению.
167 1087а 16—17, в рукоп. стоит ώς ΰλη του καθόλου. Это
совершенно уродливо. Получалось бы, что потенция есть материя
общего, в то время как, по Α., потенция и есть общее, хотя,
поясняет Александр (772, 2) : «Ум есть материя для сущего». В
действительности, по Α., ум есть материя не для общего, а для
единичного. Это του, вместе с Боницом и Швеглером, необходимо
ι о -«г ' 95*
вычеркнуть, равно как и дальше, а 18, слова και ωρισμενου
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
\ I
701
необходимо переставить. Иначе ничего разобрать невозможно.
168 Так как если посылки общи, то и выводы общи.
169 Ср. De an. 431b 26: «В душе чувствительное и
познавательное потенциально одно и то же». 430а 6: «У имеющих
материю каждое из умного существует потенциально». Александр
вспоминает относительно познавательной потенциальности ума
известное место De an. 429b 30: «Как ум может быть
потенциально умными предметами, а в действительности ничем, прежде
чем не начал думать? А так, нужно [думать], как на доске, на
которой в действительности нет ничего написанного. То же
выводится и для ума»
IV. ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ XIV КНИГИ жМЕТАФИЗИКИ»
АРИСТОТЕЛЯ
1 III 2, 1004b 29—30: «Почти все признают, что сущее и
субстанция состоит из противоположностей». IV 2, 1004b 27—34;
XII 10, 1073а 27—Ы6; Phys. I 5, 188а І9 слл.
2 1087а 33, ή αρχή ετερόν τι ούσα, т. е. субстратно, как ниже,
1087а 35Ь 1, или акциденциально.
3 Тот же способ выражения — в Anal post. I 22, 83а 30:
«Что не обозначает субстанцию, то должно предицироваться о
некоем субстрате; и не должно быть ничего белого, что не было бы
белым как нечто другое». Ср. 4, 73Ь 5—10. Нельзя сказать, чтобы
этот пример с «белым» (1087а 33—36) был очень понятен. «Он
не очень служит к уяснению мысли»,— говорит Б. С.-Илер (324).
Смысл его сводится к тому, что белое может существовать не
вообще, а только на чем-нибудь, откуда оно всегда требует для
себя тот или иной субстрат, т. е. уже не может быть раньше всего,
или принципом.
4 1087b 2 Waitz, Org. к Cat. 5, 3b 24; напр., Met. XI 12,
1068a 10—11: «Субстанциального движения не существует
потому что субстанции ничто не противоположно»; XII 10, 1075b 24:
«Первому ничто не противоположно»
1087b 2 один из частых оборотов речи у Α., когда он в
добавление к прочему делает ссылку еще и на непосредственный
опыт. Ср. I 6, 988а 3 (φαίνεται) (ср. 5, 986Ь 31); XII 7, 1072а 17
(о движениях), а 32 («ясно не только в слове, но и на деле»);
9, 1074b 16; De gen. 336b 15 (то же φαίνεται и далее δρώμεν 96*);
De an. II 7, 418b 24 (норма разума и истина являемого); Anal,
post. I 38, 89а 5.
6 К этому аргументу можно привлечь: XII 2, 1069b 3—24
(о связи между изменением и принципом противоположности)
и 10, 1075а 28—Ы6.
7 Что, по Α., неправильно, ибо противоположны не форма и
материя, но форма и «лишение». Материя — не
противоположность формы, но — субстрат ее. Ср. XII 10, 1075а 23—24:
«Материя одна, [сама по себе], ничему не противоположна»
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
702
8 1087b 12. Трудно понять. Александр (776, 16), по-видимому,
понимает: одно — по числу и не одно — по смыслу. Но и это едва
ли понятнее. Бониц (571) прав, что едва ли это различение («по
числу» и «по смыслу») применимо к чистым понятиям. Можно
вспомнить виды тождества, установленные А. Он устанавливает
их по-разному — V 9, 1018а 6; Тор. I 7, 103а 6; VIII 1, 152Ь 31,
Я приведу — Met. X 3, 1054а 33—ЬЗ (нумерическое, нумерически-
понятийное и понятийное тождество).
9 Важно иметь в виду при этой аргументации общее
противоположение единого и многого у А. в Met. X 6.
10 Что Единое не есть число (понимаемое им как множество
единиц), находим также в X 1, 1052b 20—24 (вообще вся эта
глава X 1 очень интересна, и ее необходимо проштудировать
всякому, кто хочет понять, что такое Единое у Α.).
11 1088а 9. Текст — по Боницу и Александру.
12 Гораздо подробнее вся эта аргументация — в X 1 и 2. В
частности, измеряющее число потому не может стать числом (т. е.
общей мерой) различных категорий, что различные категории не
имеют ничего общего (XII 4, 1070b 1—2: «Нет ничего [более]
общего наряду с субстанцией и другими предикаментами»),
13 1088а 15 — не очень понятное соединение двух
противоположных мнений (одно — о Неравном как одном понятии,
другое — о Большом-и-Малом, которое А. упорно понимает как два
принципа) через ôé. Тренделенбург прямо выкидывает его,
понимая так: «Те, которые превращают Неравное как нечто единичное
в Двоицу Большого-и-Малого».
14 Ср. XIII 9, 1085а 21.
15 Ср. XII 4 и о том, что для различных вещей существуют и
различные элементы, хотя и для всех вещей одни и те же
элементы. В особенности 1070а 33—ЬЮ — о том, что общий элемент
не может быть ни вне категорий, ни среди категорий и это
отношение не есть ни субстанция, ни элемент (ср. VII 13, 1038b 27).
16 1088а 25 — не очень понятный текст (βϊ τι 2τερον...)
я разъяснил вставками в квадратных скобках. Мысль, таким
образом, здесь та же, что и ниже, 1088а 28: «что не было бы чем-
то в различии [с другими вещами] многим или немногим» и т. д.
1 Отношение не есть материя ни для какого вида движения.
Известны 4 вида μεταβολής (ср. VIII 1, 1042а 32), три вида
κννήσεως97* (без рождения и гибели) (Phys. II 1, І92а 13; IV 7,
214а 26, и т. д.; De coeL IV 3, 310а 23, De an. I 3, 406a 12). Ср.
Бониц к Met. XII 2, 1069b 3 (472).
18 Сюда — рассуждения о несубстанциальности общего в
VII 13, 1038b 16—1039а 2.
19 Ср. VII 1, 1028а 10—Ь2 о том, что из различных родов
сущего субстанция есть первая и по времени, и по понятию, и по
познанию. Eth. N. 1096а 21: «Само-в-себе и субстанция по
природе раньше отношения: последнее похоже на побочный отросток
и акциденцию сущего». Ср. Met, I 9» 990b 19—22.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
'
703
20 Вспомни XII 4, 1070b 4—10: элементы отличны от вещи,
к которой они относятся, наподобие отличия букв от слога
(ср. VII 17, 1041b 12); след., если элементы будут общими для
всех категорий, то никакой из этих элементов не будет ни
субстанцией, ни отношением (ср. 1070b 1), так как, кроме категорий,
нет никаких иных родов. Ср. также известные рассуждения
в VII 7 (в особ. 1032b 30—1033а 1) и IX 7 (вся глава).
21 1088b 10 — Бониц опускает тут και, жалуясь, что его
нельзя объяснить. По-моему, ему можно приписать вполне
определенное экспликативное значение — «именно».
22 1088b 16. Эти последние слова лучше (вместе с Боницом,
574) относить к словам «из чего она состоит», чем (вместе
с Александром и Швеглером) к словам: «[вещь] происходила».
23 Можно иметь в виду IX 8, 1050b 6 (откуда начинается
доказательство, что «вечное по субстанции раньше преходящего»
и что «ничего не существует потенциально вечного») (Александр
ссылается тут на De coel. I 7 слл.).
24 Хорошее резюме всего этого аргумента у Александра:
«Числа — из элементов. То, что из элементов,— сложно.
Сложное имеет материю. Числа, след., имеют материю. Имеющее же
материю — не вечно. След., числа не вечны» (789, 4 слл.).
1088b 32—почему-то приплетено сюда «относительное»,
хотя только что говорилось о замене Неравного Неопределенной
Двоицей и об «отношении» речи не было. Можно вспомнить 1,
1088а 21: «Большому-и-Малому и всему подобному необходимо
быть в отношении к чему-нибудь»; т. е., по Α., второй принцип
всегда — «в отношении-» к первому. Но тогда ко всякому
обозначению второго принципа можно прибавить наименование
«отношение».
26 1089а 3, όμόσε βαδιεΐται. Ср. Saallb. ad. Plat. R. P. X 610c
(ссылка на Евстафия).
27 1089a 4, «никогда ты не докажешь (δαμη)» в рукоп. Ε
и у Симплиция. Бониц же читает: «никогда ты не узнаешь»
(δαης).
28 1089а 5. Эта добавка необходима для ясности мысли.
Бониц (575) в тех же целях предлагает читать вм<есто) ανάγκη
εϊναι, «нужно»,— ανάγκην εϊναι, «нужно было бы».
29 Имеется в виду диалектика сущего и не-сущего,
развиваемая Платоном — главным образом в Soph. 237 слл., 266е.
«Большое-и-Малое» отождествляется у А. с «не-сущим» (Rhys. I
9, 192а 7).
30 1089а 9, перевод по Боницу (575): «какое (ποια) это все
сущее едино?» вместо «какое это единое (ποίον) есть все
сущее?».
31 В разных типах «сущего» см. главным образом V 7, сюда
же —VI 2, 1026а 33—Ь2, IX 10, 1051а 34—Ь2.
32 1089а 12, δν τι вм<есто> εν τι.
33 1089а 24—25, ου γαρ έν τφ λογισμφ ή πρότασις. Текст
А Ф. ЛОСЕВ
704
неясный. Александр (785, 34) поясняет: «Не написанная линия
берется в силлогизме и доказательстве, но мыслимая», т. е. он
понимает ή π^ότασις в более широком смысле.
34 1069а 26, κατά τας πτώσεις, ср. тексты у Waitz, Org. 16b 1.
Обычно у А. это — производные формы в широком смысле, как,
напр., выше различие в не-сущем, как в «этом», «таком», «столь
великом» и т. д. (1069а 11 — 12). Эта πτώσις, Eth. Eud. 1217b 30.
имеет значение прямо категорий. Бониц свободно (306): «nach
den einzelnen Ableitungen» 98*.
35 О трех видах не-сущего (не-сущее по категориям, как ложь
и как потенция) — ср. XII 1069b 26—32, с комментарием Боница
(474) и V 7 (о видах сущего). А. тут искажает Платона. Платон
говорит (237а, 240а), что если нет меона, то ложь невозможна.
А. же, различая три вида меона (из которых один — «ложь»),
прямо отождествляет платонический меон, или Φάτερον, с ложью
(Бониц, 576).
36 1069b 2, это неясное έν εκείνοις Швеглер (349) правильно
понимает как υλη, потому что «материя» есть, по Α., истинная
причина того, что сущее множественно. Ср. XII 8, 1074b 33—34:
«То, что множественно нумерически, имеет материю»; De coelo
278а 18: «Так мы видим во всем, субстанция чего находится в
материи, одновидное (τα όμοιοειδή) более многим и [даже]
беспредельным». 1
3 1089b 3, καί в экспликат. смысле.
38 1089b 7 — то же, что ниже (Ь 20) «нечто одно из сущего»,
т. е. одна из категорий.
39 1089b 25, έπίστασιν Александр (789, 13. 22) понимает как
άπορίαν (ср. έπιστήσαι την σκέψιν "*, 1090а 2). Боницу (578)
представляется более удобным другое понимание того же
Александра (790, 27): άπόκρισις ιο°*. Рольфес (II 425), производя это
слово от έπίστασθαι, а не от έφίστασϋαι, переводит (II 355):
«Auffassung» 10'*.
40 1089b 30, по Александру (790, 19) : «Именно материя,
которая потенциально содержит в себе виды».
41 XIII 2, 3.
42 Стало быть, добавляет Бониц (II 579), нельзя ради нее
признавать реальность чисел.
43 1090а 17, κατά την εκΦεσιν... λαμβάνειν. Совершенно
нельзя понять места, если την не заменить вместе с Боницом
(579) на τό. Другие конъектуры сложнее (см. Бониц, ук. стр.).
О значении εκθεσις см. прим. 158 к переводу XIII кн.
44 1090а 24, εν αρμονία — Александр понимает тут
музыкальную гармонию. Сходное выражение — в I 5, 985Ь 30—31: «видя
аффекции и отношения гармоний в числах». Едва ли это Платон.
Вероятно, какие-нибудь пифагорейцы.
45 Выше, 1090а 27—29.
46 То же учение — в VII 2, 1028а 15—18; III 5, 1002b 10—11.
47 Помимо всего прочего критика А. нелепа здесь еще и пото-
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
1 ι і
705
му, что «граница», о которой он говорит, по всей видимости,
имеет в излагаемом учении не статическую, а энергийно-созида-
ющую природу; это, как говорит Бониц (589), скорее
«определяющая природа* (как, по-видимому, и ϊσον 10^* выше, 1,
1087b 5).
48 Надо полагать, в идеальном смысле.
49 Швеглер (IV 352) удачно приводит к этому месту текст из
VII 2, 1028b 21—24: «Спевсипп утверждает особые принципы
каждой сущности, один — для чисел, другой — для
[геометрических] величин, затем для — души». Этот текст, по-видимому,
имеет решающее значение в смысле авторства Спевсиппа.
50 С этим можно ставить XII 10, 1076b 37—а4, где тоже
выставляется необходимость соблюдать единство и
непрерывность бытия: «Утверждающие же, что первое число есть
математическое и что таким образом субстанция имеет следующую
за ней и принципы каждой [субстанции имеют еще] другие
[принципы], делают субстанцию вселенной прерывной (επεισο-
διώδη) — ибо одна [субстанция] не совпадает [тут] с другой,
[независимо от того], существует она или нет,— и умножают
принципы*. Быть может, здесь критикуется Спевсипп (ср. VII 2,
1028b 21 с комм. Боница, II 298). Об «эпизодическом» мифе,
где последовательность эпизодов не оправдана ни вероятностью,
ни необходимостью — Poet. 9, 1451b 34.
51 Ср. XIII 6, 1080b 26—29: «Другие допускают [тут]
математические предметы, но [уже] не в математическом смысле*.
52 1090b 30: «Нетрудно же взять какие бы то ни было
предположения и расточать слова, придумывая произвольные
сплетения». Ср. XIII 8, 1083b 6.
53 1090b 37—1091а 1. Текст темный. А. спрашивает: что такое
математическое число, если платоники помещают его посредине
между идеальным и чувственным? Если оно — из Большого-и-
Малого, то оно 103* ничем не отличается от идеальных чисел;
и тогда оно — из какого-то другого Большого-и-Малого. Это явно
нелепый оборот мысли. А. хочет сказать, что математическое
число будет в этом случае именно из одного и того же Большого-
и-Малого. Но если даже допустить, что А. требует здесь от
платоников признания еще и другого Большого-и-Малого, то совсем
уже нелепо это требование базировать на том, что (1091а 1, γάρ)
оно, идеальное число, «создает [пространственные] величины».
Чтобы внести хоть какой-нибудь смысл в эти слова,
комментаторы, начиная с Александра (796, 11) и с одобрения Боница
(II 582) и Швеглера (IV 353), выкидывают это γάρ в 1091а 1 и
читают так: «Если оно — из Большого-и-Малого, то оно будет
тождественно с тем идеальным числом, [в то время как Платон]
создает [пространственные] величины из какого-то другого Ma-
лого-u-Большого*. Тогда упоминание о «каком-то [еще] другом
Большом-и-Малом» в следующей фразе придется понимать как
указание на третье Большое-и-Малое. Смысл, впрочем, останется
23 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J ι L
очень ясный: Платон уже признал два Больших-и-Малых
(одно — для чисел, другое — для геометрических фигур) ; след.,
если для математического числа требуется тоже Большое-и-
Малое и оно к тому же отлично от идеального числа, то, значит,
нужно говорить уже о трех Больших-и-Малых. Я оставил в
переводе текст вульгаты.
54 Τί ταΰτα μακρών Ôià λόγων άνέοραμεν 104* Poet. lyr. gr.,
Bergk. II4, Simon. 10.
^ О длинных речах рабов в том же смысле — в Rhet. Ill 14,
1415b 22.
56 Об этом удвоении мы уже читали в XIII 8, 1084а 6; и что
Двоица — δυοποιός 105*, мы тоже знаем уже (XIII 7, 1082а 15).
57 То же указание на неясность, что и выше, XIII 6, 1080b 20.
58 1091а 19—20, έξετάζειν τι περί φύσεως. Это περί ι06* тут
едва ли уместно. Швеглёр (II 359) предлагает читать έξετ. εν τοις
περί φ. , что весьма вероятно, так как εν легко могло" выпасть
ввиду окончания предыдущего слова (έξετάζειν) и τι получиться
вместо τοίς.
59 1091а 20, μεθόδου, см. прим. 2 к XIII кн.
60 1091а 28, ου του αεωρήσαι ένεκα, так как некоторые ученики
Платона хотели защитить своего учителя тем, что говорили
вместо временного становления о становлении внутри самих идей
(De coelo I 10, 279b 33—280а). А. говорит, что они все же не для
чистой теории выставляли свои учения, но вводили как раз
хронологический момент.
61 Имеются в виду Спевсипп и пифагорейцы, отделившие
благо и красоту от принципов. У Спевсиппа, как платоника, благо
выше «идей». Ср. XII 7, 1072а 34—35: «Прекрасное и само через
себя достойное выбора в самотождественном соприсутствии, так
что первое есть всегда наилучшее или аналогично [ему]»;
1072b 27—34: «Энергия ума — жизнь, а он [сам] —энергия.
Энергия же его сама по себе — жизнь наилучшая и вечная. Мы
утверждаем, что бог есть вечная, наилучшая жизнь, так что богѵ
присуща жизнь, непрерывная и непрестанная вечность, так что
это и есть бог. Те же, кто, как пифагорейцы и Спевсипп,
предполагают, что высшая красота и добро не находятся в
первоначале, основываясь на том, что принципы являются причинами
и растений, и животных, а красота и совершенство в них —
[впервые] из этих принципов, думают неправильно*. Plat. Tim.
29е: «Бог был благ. Благой же свободен от всякой зависти; и бог
хотел, чтобы все в мире было ему подобно, насколько только
возможно».
62 Под «богословами» А. понимает, как и в III 4, 1000а 9,
«мудрствующих мифически» (III 4, 1000а 18), т. е. не мыслящих
в понятиях. То же значение этого слова и в XII 6, 1071b 27; 10,
1075b 26; Meteor. II 1, 353а 35.
63 1091а 36, εμφαίνεσθαι Бониц (II 585) хорошо понимает,
как φαίνεσθαι ένυπάρχον 108* (подобное — в VII 1, 1028а 28).
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
I \
707
64 Т. е. те самые «некоторые из нынешних», о которых речь
в 1091а 34.
65 Текст предполагает, что есть разница между στοιχεΐον
(я перевожу «элемент») и αρχή (я перевожу «принцип»). В каких
смыслах понимает А. эти термины, см.— «Античн. косм.»,
стр. 484—485. Сейчас же достаточно кратко указать на их
разницу (ср. Швеглер к Met. XII 4, комм. IV 246). Три принципа —
материя, форма и «лишение» — суть «имманентные причины»,
«элементы». Но еще есть извне действующие причины. Последние
есть уже не «элементы», но «принципы». «Принцип», след.,
шире «элемента». Отец — «принцип» для ребенка, но не
«элемент» его. Можно сказать так. Принципы делятся на
имманентные принципы, или элементы, и на извне действующие принципы,
«действующие принципы», или просто «принципы». Таким
образом, у А четыре принципа, три элемента и принцип движения
(το κινούν).
66 1091b 5, ср. XII 6, 1071b 26—27: «Богословы, рождающие,
[т. е. заставляющие рождаться], из Ночи».
67 I 3, 983Ь 27—32: «Есть некоторые, кто сделал Океан и
Тефиду отцами становления» и т. д.
68 Александр (800, 9 слл.) относит все эти учения к «Орфею»
(как и Сириан). Но Швеглер (IV 356—367) хорошо говорит, что
расположить все перечисляемые тут начала в один
последовательный ряд, как это хочет Александр, запрещает частица ή
(1091b 5). Если Ночь и Небо относятся к орфической
космогонии, то Хаос взят из Гесиода, а Океан — из Гомера.
69 Эту «перемену властителей» (1091b 7) Александр тоже
относит к орфическому учению, утверждая (800, 18), что нет
нужды следовать здесь за Александром. Имеются в виду,
вероятно, смены богов обычной мифологии.
70 Ферекид, по Α., занимает, стало быть, среднюю позицию
между мифологией и философией. В качестве принципа признает
он Зевса. По Diog. Laert. I 119, начальными словами его
сочинения были: «Зевс, Время и Земля стали навсегда».
71 1091b 8, και τώ... λέγειν. Это και портит конструкцию и
должно быть выброшено.
72 Об этих «магах» читаем у Diog. Laert. prooem. 8:
«Аристотель в первой [книге] о философии говорит, что маги были
еще старше, чем египтяне. При этом у них два принципа, добрый
дух (δαίμονα) и злой дух, и одному имя — Зевс и Оромазд,
другому — Аид и Ариманий. То же говорит и Гермипп в первой
[книге] о магах, и Эвдокс в «Периоде», и Феопомп в восьмой
[книге] «Филиппик». Делавшиеся отсюда некоторыми (напр.,
Рётом) выводы о монизме персидской религии едва ли
основательны, потому что далее у А. идет указание на Эмпедокла и
Анаксагора в этом же ряду, а они — скорее дуалисты.
73 Об Эмпедокле и Анаксагоре ср. известные рассуждения
в Met. I 8.
23*
А Ф.ЛОСЕВ
ІнніІ
708
74 1091b 13, οι μέν. Хочется, чтобы дальше было οι δέ, но
этого нет, почему весь отрывок обладает какой-то неполнотой
Впрочем, Бониц (586, прим. 1) этим не смущается.
75 1091b 18, σωτηρία, «спасение», можно понимать тут только
как пребывание вне гибели и ущерба, т е. как вечность.
76 1091b 25, вместо этого γαρ хочется читать «однако»
77 1091b 27, δπερ αγαθόν. Хорошее разъяснение к этому
δπερ дает Бониц при истолковании IV 2, ЮОЗЬ 33, приводя слова
Александра к Тор. III 1, 273а 14: «Όπερ выявляет в предмете
то, что [отличает его] в собственном смысле (του κυρίως), и
к чему это δπερ присоединится, то обозначает в собственном
смысле, как, напр., δπερ άνθρωπος, есть человек в собственном
смысле», и т. д. Waitz. Org. 467 очень сужает значение этого
δπερ, когда говорит, что им обозначается род по отношению к
виду. Όπερ τόδε (очень часто у А.) не просто обозначает род,
γένος, но и субстанцию, как видно из Тор. VI 5, 142Ь 27: «Род
хочет обозначать индивидуальность (το τί εστί) и предполагает
первое из того, что высказывается в определении». О
субстанциальном, сущностном значении δπερ ср. Тор VI 4, 141а 35—37,
Soph. el. 22, 179а 4, 6; Phys. I 3, 186а 32 и др. Таким образом,
δπερ противоположно акциденциальным признакам, или κατά
συμβεβηκός.
78 Как видно из XII 7, 1072b 30—34,—Спевсипп и какие-то
пифагорейцы.
79 Целлер видит тут Ксенократа, Бониц (II 588) —самого
Платона.
80 XII 10, 1075b 34: «Далее все, кроме Единого, причастно
худому»
81 1092а 1, χώρα, т. е. материя блага, ср. Phys. IV 2, 209b 11
«Платон утверждает в «Тимее», что материя и место (χώρα) —
одно и то же, ибо одно и то же — принимающее и материя»
82 Так как материя есть потенция формы и определяется
формой — ср. Phys. I 9, 192а 18—25: «Материя по природе
стремится и жаждет блага, как женское — мужского и безобраз
ное — прекрасного».
83 1092а 15. Тут вместо «сущего» ждалось бы «благое» (или
«прекрасное»).— Имеется в виду, очевидно, Спевсипп (если
принять во внимание указание А. на то, что он ввел несколько
последовательных принципов, «начиная с Единого», VII 7, 1028b
21—22). По Спевсиппу, след., Единое не может быть сущим
потому, что оно стоит в начале ряда и еще не развилось до
совершенства.
84 Т. е. и в живых существах не бывает так, что вначале мы
имеем несовершенное, а потом совершенное. Так, человек
происходит из семени, но семя все же предполагает человека, и, след.,
оно вторично. Ср. IX 8, 1049b 19—27: «Я утверждаю то, что по
времени материя и семя, и способное видеть, что потенциально
есть человек, хлеб и видящее, а энергийно еще не есть, раньше
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
709
вот этого человека, уже существующего по энергии, и [вот этого)
хлеба, [вот этого] видящего. Но другое энергийное по времени
раньше этого, из чего оно произошло. Действительно, всегда из
потенциально сущего происходит энергийно сущее через энер-
гийно сущее, как, напр., человек из человека, образованный —
из образованного,— если есть что-нибудь первое движущее, а
движущее уже есть энергийное». Ср. еще XII 7, 1072b 30—
1073а 3, приведенное выше в прим. 78.
85 1092а 18 — это κτχί нелепо и должно быть опущено. Иначе
получится, что тела не есть геометрические фигуры.
6 Тут важно знать, в каких значениях А. понимает το εκ
τίνος είναι. Этому анализу посвящена V 24: 1) «быть из чего-
нибудь» берется в отношении к материи, из которой что-нибудь
состоит, т. е. а) в смысле первого рода (все расплавленное —
из воды) и Ь) в смысле последнего вида (статуя — из меди)
(Ю23а 26—29); 2) «быть из чего-нибудь» берется в отношении
к движущему принципу (драка — из бранных слов) (29—31);
3) — в смысле происхождения частей из целого, из объединения
материи и формы (отдельных песен — из Илиады, камней — из
дома) (31—34); 4) — в смысле происхождения вида из
частичных моментов (человек — из бытия двуногим, слог — из звуков)
(34—36); понятие тоже ведь имеет свое содержание, т. е. свою
материю, из которой оно состоит (1023а 26—b 5); 5) — во
временном смысле (изо дня — ночь, из хорошей погоды — буря)
(1023b 5—11). Другие различения значений того же термина
находим в I 9, 991а 20, II 2, 994а 22; VIII 4, 1044а 23; De gen.
an. I 18, 724a 20. А. упрекает платоников в том что они не рисуют,
каким же из этих способов идеальные числа происходят из
элементов. Однако перечисляемые здесь виды происхождения
(«смешение», «соединение», как из имманентно-наличного, так и из
противоположного) не покрываются теми, которые он расчленяет
87 1092а 24—26, μΐξις. Под «смешением» А. понимает такое
соединение, когда из двух противоположных элементов
(одного — пассивного и другого — активного) появляется нечто
третье, отличное от этих элементов и όμοιομερές 109* само внутри
себя. Мы называем такое «смешение» химическим (ср. De gen.
et согг. I 10).
88 1092а 26—29, σύνθεσις — механическое смешение.
89 Надо добавить: а «единица не имеет полагания» (XIII 8,
1084а 26—27, 33)
90 Надо добавить, в то время как множество определено тут
силою единства.
91 Т. е. из противоположностей
92 Слова эти стоят так, как будто тут выставляется новое
значение «происхождения». Так думает, между прочим,
Александр (804, 12), по которому А. здесь имеет в виду искусственно
приготовленные вещи. Швеглер (IV, 360) цитирует тут Алек-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I——1 .
710
сандра без всяких добавлений от себя — по-видимому,
сочувственно. Однако, не говоря уже о том, что А. различает γένεσις и
ποίησις именно так, что первое указывает на естественное
происхождение, а второе — на искусственное (VII 7, 1032а 16—17:
«Акты естественного становления (γενέσεις) — те, становление
которых происходит от природы»; 26—28: «Другие акты
становления называются творческими (ποιήσεις); все же творческие
акты — или от искусства, или от силы, или от разума»),—
такое понимание оставило бы без разъяснения предыдущую
фразу, т. е. осталось бы непонятным, почему возникновение из
наличного возможно только там, где существует возникновение.
Если упоминание о «семени» относить к предыдущей
альтернативе, а не считать указанием на новый способ происхождения
чисел (наряду со «смешением»), то становится понятным, что
«возникновение наличного», т. е. фактическое вещественное
возникновение, неприменимо к числам, ибо если это возникновение
понимать на манер происхождения из семени, то все числа были
бы также разъединены с Единым, как зрелый организм — с
семенем.
93 Т. е. семя, развиваясь, делится, дробится, разбухает и т. д.,
а Единое есть чистая неделимость, к которой неприменимы эти
категории.
94 Происхождение из противоположностей возможно только
тогда, когда есть субстрат, в котором совершается это
происхождение (ср. Phys. I 7 слл.). Но субстрат предполагает нечто
пребывающее, для чего он и является субстратом (ср. De gen. et
согг. I 10, 328а 30: «Не становится другое, но среднее и общее»).
95 1092b 2, вм<есто> εστίν αρα хочется читать εσται αρα,
«должно быть».
96 Слова эти можно объяснить из сказанного об Эмпедокле
в III4,1000а 26 слл. Раздор, будучи противоположностью Любви,
не есть противоположность смеси. Тут он, наоборот,
порождающий и формальный принцип всего, кроме бога Сфера, т. е.
небесных тел.
97 Эвритово учение см. у Дильса, Fragm. d. Vors.3 33,
фр. 1—3.
98 1092b 11 —12, οίτούς αριθμούς άγοντες εις τα σχήματα.
Вместо этого хочется читать οι εις άριΦμούς άγοντες τα σχήματα IIQ*
При чтении вульгаты άγειν приходится понимать в смысле
«приписывать».
99 Швеглер (IV 363), а за ним и Рольфес (II 428, прим. 38)
понимают это так, что Эврит будто бы просто нумеровал вещи
при помощи ψήφοι ш*. Такое понимание в корне искажает смысл
Эврита. Эврит давал при помощи камешков именно «формы»
растений, т. е. их идеальные контуры, их «Gestaltqualitäten» І12*.
100 1092b 13—14, ή δτι ό λόγος ή συμφωνία αριϋμεΐν, «как
отношение есть гармония чисел» — бессмысленная фраза,
требующая изменения. Вслед за Боницом (II 592) я читаю: ή δτι λόγος
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
Ι ι 1
711
αριθμών ή συμφωνία. С этим можно сравнить аналогичные
места в I 9, 991Ь 13—14: «Если — как отношения чисел, напр.,—
созвучие, то ясно, что...» и в Anal. post. 90a 18: «Что такое
созвучие? Отношение чисел в высоком или низком. Вследствие чего
созвучно высокое с низким? Вследствие того, что высокое и
низкое имеет соотношение чисел».
101 1092b 18, ό ό'άρι/θμός ΰλη. Тут что-то непонятное. Как это
понять, что число есть материя? Во всяком случае, очевидно, оно
тут не в том смысле «материя», в каком читаем ниже, b 24: «ни
материя, ни смысл, ни эйдос» (ибо в последнем случае явно
материя понимается обычно, т. е. как противоположность эйдосу, чего
не ожидается в первом случае, поскольку ждется
противоположность «отношению»). Следуя парафразе Александра (806,
24 слл.), Швеглер (IV 364) предлагает читать ό Ο'άριΦμός ύλης,
т. е. «число же есть число материи». Тогда эти слова будут
подтверждать предыдущую мысль, что всякое число есть число чего-
нибудь. Кроме того, о том, что числа суть λόγοι ΰλης, читаем в
I 9, 991Ь 14—16 (приведено ниже в прим. 98). Бониц (II 529) не
считает эту конъектуру обязательной.
102 Ср. X 1, 1052а 15—b 1 —о четырех способах предициро-
вания единства вещам; 1052b 1 — 1053а 14 —о природе единства
как неделимой природе и мере вещей. I 9, 991Ь 14—16: «Числа
суть отношения одной вещи к другой; скажу, напр., что Каллий
есть отношение в числах между огнем, землей, водой и
воздухом...»
103 I 9, 991Ь 10 слл.
104 Тут А. уж очень размахнулся. Если число не есть, по его
же собственной теории, смысл отношения, абстрактно
выделяемый из вещей, то что же оно тогда такое, в самом деле?
105 Об этом подробнее в следующей главе-.
106 1092b 29, τφ, по Александру, вм. то вульгаты.
107 1092b 27, еѵ εύλογίστω. Александр (807, 25) понимает это
слово прямо как «четное». Но Бониц (II 593) толкует его шире —
как вообще всякое число, получаемое через умножение. Рольфес
же (II 429), цитируя De sensu et sensib , 3, 439b 32, переводит:
«Mit Wahrung des rechten Verhältnisses» мз*
108 Т. е. чтобы получить именно смесь (а значит,
разнородное) , надо элементы складывать. Умножение же одного элемента
дало бы уже не смесь, а нечто однородное, «подобочастное».
109 1092b 35, οΰκονν необходимо вместо ούκοΰν вульгаты.
110 Потому что качество дано тут (если только дано) в первом
члене. Остальные члены нового качества не привносят, а лишь
увеличивают прежнее. Поэтому смесь не может быть продуктом
числа: смесь — всегда из «сложения», а не из «умножения», и ее
нельзя измерить каким-нибудь одним слагаемым.
111 Так как, по 1084а 17, мирообразующие числа
простираются только до 10.
112 1093а 7, και ίσους — хочется, чтобы перед ΐσους было
Α. Φ ЛОСЕВ
712
τους μέν, ибо далее стоит τους δε. Однако, кто вчитывался в Α.,
тот, несомненно, замечал, что такой пропуск у него весьма част.
Примеры его можно найти у Швеглера, III 10—11.
113 По XII 8, Солнце и Луна имеют одно и то же число сфер.
114 Т. е. мы более или менее произвольно объединяем
отдельные звезды в цельные созвездия.
1,5 Древние устанавливали три «консонанса» — кварту,
квинту и октаву.
116 1093а 28. Вм<есто> δτι читаю ετι.
117 Единое (Нечетное, Благо и т.д.) и Двоица (четное,
злое и т. д.).
118 1093b 10, διαφεύγειν (как и εκφεύγειν 1М* — 3, 1090b 21)
почему-то стоит с дат. пад.
119 Швеглер (IV 368) считает это иронией, и с этим трудно
не согласиться.
120 1093b 17. οικεία. Слово, мало подходящее сюда. Вероятно,
порча какого-то другого слова. Швеглер (IV 368) предполагает,
напо., έοικότα 115*.
"! Мысль выражена незаконченно. Предполагается:
одинаково звучащие тоны — одинаковы по числовой структуре; а
идеальные числа, даже если они равны (напр., тройка просто и
тройка в девятке), не одинаковы (они, как мы знаем, несчис-
лимы); след., гармонические сочетания определяются не
идеальными числами, а идеальные числа не суть для них принципы.
ДИАЛЕКТИКА
ЧИСЛА
У ПЛОТИНА
'
714
I. АНАЛИЗ ТРАКТАТА ПЛОТИНА «О ЧИСЛАХ»
Учение Плотина о числе есть тема труднейшая не
только в истории греческой, но и в истории всеобщей
философии. Мне кажется, я чуть ли не первый решился взять это
учение всерьез и попытаться перевести его на язык
современного философского сознания. В огромной научной
литературе, касающейся греческой философии и Плотина, я не
нашел не только ни одного удовлетворительного
изложения этого вопроса, но даже и ни одной попытки взяться
за этот вопрос. Все исследователи, как бы сговорившись,
указывают, прежде всего, на трудность этого учения, а во-
вторых, тайно или явно считают его просто несерьезной
фантастикой, о которой нечего и рассуждать в научном
труде. Такая точка зрения есть уничтожение самых основ
научной методологии. Во-первых, история философии, как
и вообще всякая история, не может заниматься только
избранными вопросами, отвечающими какому-нибудь
специфическому вкусу. На этом основании нельзя отвергать
при историческом изучении хотя бы даже и фантастику,
ибо фантастика — тоже принадлежит истории и тоже есть
ее закономерное явление. Во-вторых, во всякой фантастике
есть своя внутренняя логика, которую надо вскрыть и
точно проанализировать. Пусть это болезнь, но и болезни
изучаются на специальных факультетах. В-третьих, не
анализируя данного в истории философии учения, как
можно ручаться, что все это — фантастика и бесплодная
игра ума? Я предпочитаю стоять на другой точке зрения.
Как историку философии, мне любы все мировоззрения,
какие только есть в истории. Я не выбираю только ягодки,
не выбираю даже и цветочки. Мне интересны и все сорные
травы и навоз, на котором растут те или другие цветы
философии. Поэтому, отбрасывая традиционное
игнорирование и нежелание понять, я изучаю общепифагорейское,
и в частности Плотиново, учение о числе, совершенно не
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1 I
715
решая вопроса о том, навоз ли это или прекрасные и
ароматные цветы философии.
Я развертываю один из главных трудов по Плотину,—
книгу Кирхнера. После долгих поисков я нахожу о числе
только несколько строк, причем и тут совершенно не
используется специальный трактат Плотина о числах — VI 6,
а только говорится !: «Учение об идеях как числах
образует главное содержание всей 6-й книги шестой Эннеады,
может быть труднейшей из всего, что Плотин написал».
Я беру другой, не менее основоположный труд по
Плотину,— А. Рихтера. О числах нет тут даже упоминания ни
в параграфе о «принципе и основных понятиях философии
Плотина» , ни в параграфе о «категориях идеального
бытия» 3 во второй части труда. Небольшой абзац о
понятии числа находится лишь в третьей части «Штудий», где
в главе о понятии разума содержится несколько строк
о числе, причем, изложивши кое-что из VI 6, Рихтер
оставляет все, что он «пропустил», «любителям бесплодных
тонкостей». А между тем труд Рихтера — основной труд по
Плотину, и каждый из нас с великой пользой для себя
штудировал его весьма нужные анализы и расчленения
трактатов Плотина, не находимые ни у какого другого
исследователя. Тут нет почти никакого научного прогресса в
интересующей нас проблеме в сравнении с каким-нибудь Тиде-
маноМу у которого довольно длинное изложение Плотина,
но у которого, сколько я ни читал его, не мог я найти даже
намека на учение Плотина о числе 4. Пожалуй, русские
исследователи относятся к учению Плотина о числе более
серьезно. М. Владиславлев 5 пытается даже дать
некоторое изложение трактата VI 6, правда чересчур общее
и краткое для специального исследования о Плотине. Но
и Владиславлев отказывается понять его до конца. Он
пишет: «Нужно признаться, что учение о числе не доведено
Плотином до желанной ясности, оно понимается им в
весьма различных смыслах». Я. П. Блонский серьезно
вознамерился изучить и изложить трактат VI 6. Он сетует на
легкомыслие Рихтера, Гартмана и Древса в отношении
1 Kirchner С. Я. D. Philos, d. Plot. Halle, 1854, 49, прим. 18.
2 Richter Α. Neupiaton. Studien. Halle, I — IV. 1864—1867, II
22—35.
8 Ibid., 78—93. Die Theologie u. Physik des Plotin Halle, 1867, 72—73.
4 Tiedemann D. Geist, d. Spekulat. Philos. Marb., 1793, 263—433.
5 Владиславлев M. Философия Плотина. СПб., 1868, 90—92.
Α. Φ. ЛОСЕВ
Γ=Ί
716
VI 6 и пишет: «Не касаясь вопроса, насколько «странны»
«пифагорейские парадоксы», мы усматриваем в трактате
Плотина ряд очень важных проблем и ответов» 6. Но стоит
только прочитать его — тоже чересчур краткое —
изложение на стр. 241—243, чтобы убедиться, что П. П. Блонский
совершенно не использовал и не изложил всего огромного
богатства мыслей в VI 6. Это не изложение, а —
оглавление отдельных частей трактата, по которому можно судить
не о конкретном содержании последнего, но лишь об
основных его темах. Заметим, что книга П. П. Блонского,
солидная во многих отношениях, как раз в этом пункте
проявляет свою наибольшую уязвимость. Нечего уже и говорить
об известных французских исследователях середины
прошлого века, настолько же подвинувших вперед науку
о Плотине, насколько и задержавших ее. Бартелеми Сен-
Илер 7, сведя и Плотина, и всю «александрийскую школу»,
к которой он неправильно причисляет и Плотина, на
мистицизм, конечно, не задался и ни одним
конструктивно-логическим вопросом по Плотину, не говоря уже о проблеме
числа или, напр., о диалектике. Не лучше, в сущности,
поступают Жюль Симон 8 и Вашро 9. Древе ,0 также не
удостоил проблему числа у Плотина своим вниманием, равно
как и недавние труды Инджа и Мелиса и
6 Блонский П. П. Филос. Плотина. СПб., 1918, 243.
7 Достаточно привести эти слова Бартелеми Сен-Илера: «Le
mysticisme néglige donc la science: il n'en veut point, parce qu'il n'en a pas
besoin. Mais par une autre sorte d'orgueil, bien plus intolérable que celui
qu'il blâme, il méprise la science et il la proscrit pour l'homme»
(Barthélémy Saint-Hilaire J. De l'école d'Alexandrie Paris, 1895, p. XXXIX), чтобы
понять всю его неспособность проанализировать подлинное учение
Плотина.
8 Не будѵчи в состоянии формулировать все принципиальное
различие между Платоном и Аристотелем в области диалектики (ср. резюме
длинной главы о диалектике: «La seule différence entre Platon et Aristote
est que Platon admet la reminiscence, et qu'Aristote la nie». Simon Jules.
Histoire d'école d'Alexandrie. Paris, 1895. I, 223), Жюль Симон излагает
и всю философию Плотина без привлечения теории чисел.
9 Сочинение Вашро местами довольно полно излагает всю
философию Плотина. Однако и этот исследователь сумел изложить без теории
чисел и проблему интеллигенции (Vacherot E. Histoire critique de l'école
d'Alexandrie. Paris, 1846. I 410—431), и космологию (442—523), и логику
(523—534).
10 Drews A. Plotin u. d. Untergang d. antik. Weltansch. Jena, 1907.
11 В особенности это жаль для книги W. R. Inge, The Philos, of Plo-
tinus. 1923, I — II, где учение о числах досадно отсутствует в ноологии
(II 37—103). Что же касается G. Mehlis, Piotin. Stuttg., 1924, то, кажется,
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
FSm*1
717
Не везло трактату VI б и в смысле переводов, тем более
комментированных. Огромный труд Фичино 12, прекрасно
переведшего всего Плотина на латинский язык и
снабдившего свой перевод ценными примечаниями, всегда будет
с благодарностью изучаем каждым исследователем
Плотина, равно как и французский перевод Буйе (Bouillet) 13,
изучать который доставляет прямое наслаждение. Ценна
работа и известного знатока Плотина Герм. Фр.
Мюллера м, давшего свой тоже весьма нужный немецкий
перевод всего Плотина. Итак, только четыре человека нашлось
таких, которые решились переводить VI 6; это — Фичино
в XV в., Буйе и Мюллер в XIX в и я — в XX в.10 Все
остальные переводчики отступили перед твердыней VI 6.
Тейлор ,6 не перевел VI б, хотя и коснулся основных трактатов.
Энгельгардт |7 не дошел до VI 6. Кифер 18 тоже выкинул
его из своего собрания, вероятно, по той же причине, что
и VI 4 и VI 5 («...die dunkeln, dem Verständnis beinahe
unzulängliche Bücher», Vorwort). Малеѳанский 19 тоже
испугался трудностей перевода и не перевел, хотя и
потрудился над главнейшими трактатами V и VI Эннеад20.
кроме неясного замечания на стр. 71, автор ровно ничего не дал на
интересующую нас тему.
12 Plotini opera omniae, graeco in latinum translata a Marsilio Ficino.
Florentiae., MCCCCLXXXXII. (Также изд. 1540 и 1559 и послед, до Кирх-
гоффа.) Теперь доступно в изд. Didot — Plotini Enneades. Parisiis, 1896.
13 Les Enneades de Plotin, trad, par N. Bouillet. Paris. I t. 1857. II t
1859. HI t 1861
14 Die Enneaden des Plotin, übers ν Herrn Friedr Müller Berl. I
Bd 1878. II Bd 1880.
15 Перевод VI 6 должен появиться еще раз на французском языке,
но это, вероятно, будет не скоро. Мне известны только три первые тома,
содержащие три первые Эннеады — Plotin. Les Ennéades, trad, par
E. Bréhier Paris, I — III. 1924—1925. Нет еще этого перевода и в изд.
Plotinus, transi, by G. Mackenna. London. I. 1926. IL 1921 III. 1924.
16 Select Works of Plotinus, transi by Th. Taylor. A new edit, by
G R. S. Mead. London, 1912.
17 Die Enneaden des Plotinus, übers, ν J. G. V. Engelhardt. Erlangen,
1823. 2 Abtheil.
18 Plotin. Enneaden in Auswahl, übers, u. ein gel. ν О Kiefer. I — IL
Jena u LpzM 1905.
19 «Избранные трактаты Плотина», под ред. Г В. Малеванского.
«Вера и разум» Отд. филос. Харьков, 1898; том II, ч 1, стр 320—326,
344—374, 450—466; ч. 2, стр 28—42, 63—84, 175—198, 282—298. 1899;
τ II, ч. 1, стр. 51—78, 147—164, 353—370, 389—414.
20 Там же, стр. 353, прим. «Шестая книга трактует о числах. Мы
оставляем пока без перевода эту специальную и в иных местах
неудобопонятную метафизику числа и чисел»
Α. Φ. ЛОСЕВ
ί_^1
718
При таких условиях, т. е. не имея почти никакой
научной традиции в смысле интерпретации VI 6, приступаю я
к анализу этого действительно труднейшего во всей
философии текста. Я не буду пренебрегать никакими
средствами для достижения полной ясности и связности мыслей
этого трактата. Я разбиваю сложную мысль на мелкие
звенья и слежу за ее малейшим движением. Я не скуплюсь
на цитаты из Плотина, давая их в своем переводе, часто
доставлявшем мне истинные муки и страдания в силу своих
трудностей. Однако, как испытывалось мною
удовлетворение после достижения ясности и раздельности суждения
по поводу того или другого места, так, надеюсь, и
образованный читатель оценит трудности перевода и
интерпретации и разделит со мной радость по поводу достижения
ясности. Впрочем, достигнуть ясности в понимании VI 6
значит достигнуть ясности в понимании всего Плотина.
Вот почему мои мечты вполне удовлетворить читателя
могут осуществиться только в специальных случаях.
Необходимо заметить, что чтение предлагаемого
исследования может иметь смысл только при одновременном
анализе самого трактата Плотина о числах VI 6, так как
все исследование построено в виде связного комментария
к этому трактату. Мною ставится также задача точного
обследования всей связи понятия числа с диалектикой
Плотина вообще. Это весьма усложняет и расширяет
рамки работы, но это необходимо, так как число, по Плотину,
пронизывает все, что есть, всю сферу бытия; и без этого
мы были бы обречены на то непонимание и игнорирование
Плотинова учения о числе, которое является, к несчастью,
традицией в нашей науке. Изложить учение о числе
у Плотина значит изложить всю диалектику Плотина, со
всеми ее центральными понятиями — различия,
тождества, покоя, сущего, материи, движения, времени, вечности,
становления, тела, потенции, энергии и эйдоса.
Волей-неволей придется говорить о всех этих основных категориях;
и если прибавить к этому необходимость частого
приведения в русском переводе непереведенного и почти забытого
философа, то изложение в общем не может не оказаться
пестрым. Этот путь, однако, избираю я сознательно, веря,
что возвращаемое мною впервые на память современности
учение будет другими усвоено и изучено настолько, что
в дальнейшем, после моих нестройных усилий и на
основании их, удастся излагать Плотина с его диалектикой числа
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1 I
719
в более стройной и компактной форме.
Для удобства обзора и анализа трактата Плотина
«О числах» попробуем разбить содержание его на
основные части.
Ясно, прежде всего, что главы 1 и 18, трактующие о
вопросах более основных и общих, чем учение о числе, должны
быть рассматриваемы как вступление и заключение.
Вступление трактует вообще о величине, не в специфически
вещном смысле, но в смысле вообще определенности.
Беспредельное множество само по себе есть нечто
расплывающееся, неустойчивое; и потому оно — дурно; благим является
только то, что имеет твердые и определенные границы,
что не выходит из себя и не теряет себя самого. Об этом
же самом, в сущности, трактует и заключение. Тут тоже
говорится о самодовлении и самосовершенстве
общемировой жизни и об умной его определенности.
Центральное же содержание трактата, по выключении
первой и последней главы, может быть разбито на три
главные части.
Первая часть, обнимающая главы 2—6, трактует о том,
что не есть число. А именно: а) оно не есть нечто
беспредельное и бесформенное (2-я гл.), ибо самая
беспредельность мыслима только в связи с эйдосом (3-я гл.);
Ь) оно не есть просто чувственная вещь, но нечто сущее
(4-я гл.); с) оно не есть нечто субъективно-психическое
(6-я гл.); d) но и в сфере сущего оно — не просто спутник
чего-нибудь другого, но существует само по себе (5-я гл.).
Вторая часть, обнимающая главы 7—11 и 14—17,
решает вопрос, что такое число в своем существе.
Содержание ее таково, а) Число, которое есть, как выяснилось из
предыдущего (гл. 4—6), нечто умное и сущее, есть, прежде
всего, все во всем (7-я гл.). Эту общую и пока неясную
мысль Плотин дальше развивает в двух направлениях.
Во-первых, Ь) говорится о числе как умной сущности самой
по себе (8, 9, 10, 11, 15-я гл.) и, во-вторых, с) говорится
о числе как умной сущности в отношении к чувственному
миру (14-я и 16-я гл.). Завершается вся эта вторая часть
d) принципиальным рассуждением о числе как
оформленной бесконечности (17-я гл.).
Наконец, третью часть составляют главы 12—13,
критикующие другие точки зрения на число.
Имея в виду этот анализ трактата, перейдем к
комментированию основных его мыслей.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
720
I
Вступление (1-я гл.: 1—3). Плотин начинает с указания
на центральную идею своей философии, на проблему добра
как оформления и зла как рассеяния. Чтобы усвоить себе
эту проблему, необходимо отчетливо представлять себе
принципы философии Плотина. Как известно, первая
ипостась у Плотина есть Благо, Αγαθόν. Почему философ
избрал именно этот термин, а не иной? «Благо» есть
абсолютное единство всего. Плотину предносится законченная,
строго и точено оформленная вселенная; она для него есть
некое прекрасное и изумительное изваяние. Приступая
к такой вселенной с аппаратом философской мысли,
Плотин должен был, прежде всего, решить вопрос: как
мыслить эту вселенную, какие категории необходимо пустить
в ход, чтобы эта вселенная оказалась мыслимой?
Разумеется, вселенная эта не может не быть единством. Но каково
это единство? Единство мы можем мыслить просто как
объединенность частей. Это будет единство
множественного. Однако такого единства недостаточно. Если каждая
часть несет на себе энергию других частей, то, поскольку
эти последние множественны, постольку множественной
по смыслу оказывается и каждая отдельная часть. Равным
образом, и все целое, как состоящее из множественностей,
само будет не чем иным, как опять-таки
множественностью. Однако мы видим, что вселенная и каждая
отдельная вещь, входящая в ее состав, есть не множественность,
а единичность; это — условие целости. Ясно, значит, что
недостаточно единства как объединенности. Необходимо
другое единство, высшее. Заключается оно в том, что, как
цельна и единична данная вещь, так же цельна и единична
каждая отдельная часть ее, т. е. помимо отличия каждой
части от целого необходимо, чтобы каждая часть в это же
самое время еще была и тождественной с этим целым.
Необходимо, чтобы данная вещь была неделимой
единичностью, чем-то одним определенным и отличным от всего
другого. Только тогда она мыслима как именно данная,
определенная вещь. Если мы теперь имеем в виду всю
вселенную, со всем ее пространством и временами, то,
поскольку она есть нечто мыслимое, нечто находящееся
в мысли, она и должна быть такой абсолютной
единичностью, абсолютно самотождественной во всех своих
пространственных, временных и всяких иных частях. Если нет
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
'
721
такой абсолютной единичности всего, то вселенная
рассыпается на бесчисленное количество исчезающе-малых
и уходящих в бесконечную дробность частей, к тому же
абсолютно дискретных друг другу. Итак, условием мысли-
мости мира является тождественность каждой вещи с
миром в целом и пребывание вселенскости в каждой
мельчайшей вещи, принадлежащей ко вселенной. Это значит,
что мир абсолютно единичен, что он пребывает в себе и
держится собой, что он не рассыпается и не уходит в дурную
бесконечность беспредельного раздробления 21 Это и
значит, что мир — Благо, что Благо — первая необходимая
ипостась бытия вообще.
Таким образом, предикат благости берется Плотином
в смысле некоей крепости, прекрасной отделанности,
спаянности, оформленности, нерушимости, композиции.
Разумеется, Благо полно для Плотина и глубочайшего
мистического смысла. Оно — и божество, и экстаз и т. д.
и т. д.22 Однако уже довольно и без нас говорено было о
мистике Плотина, и слишком мало анализировали
собственно философское и диалектическое содержание его
философии. Мы должны выявить именно философско-кон-
структивную сторону этой философии, оставляя мистику
как таковую до другого раза; и с этой точки зрения Благо
Плотина, как первая ипостась, есть не что иное, как
абсолютная единичность мира, являющаяся принципом его
устроенности и целостности, мешающая его распадению
и исчезновению во мгле. Нельзя не видеть в этом понятии
некоторых эстетически-созерцательных моментов,
характерных для греческого мироощущения вообще. Их мы
должны выдвинуть против того унылого и абстрактно-
21 Я бы указал тут на VI 7, 16, где говорится о том, что ум имеет своей
причиной Благо, не будучи в состоянии удержать его целиком, так как
Благо — то, что обще всем умным сущностям, являясь причиной и бытия
и мысли; VI 7, 20 — о том, что в Благе лежит причина и основание всех
благ, и мы стремимся не к уму обязательно, но всегда именно к Благу.
22 Как более яркие в этом смысле места можно было бы привести:
VI 7, 34 о том, что единение души с Благом — окончательное, не
имеющее различий и что некогда ей и нельзя обращать внимание на иное,
ибо это любовь и блаженство безудержного слияния; VI 7, 35 о том, что
восхищение души к Благу приводит к полному забвению ума, когда
все это — выше ума и мысли, и здесь ум не мыслящий, но любящий;
VI 7, 36 о том, что в этом блаженном созерцании душа оказывается и
созерцаемым и созерцающим, единым светом, освещающим и освещаемым;
VI 9, 7. 9—11.
Α. Φ. ЛОСЕВ
I—»t
722
метафизического морализма, который связывается обычно
с понятием блага или благости. Хорошая сготовленность,
благоустроенность и связанность воедино всех вещей мира
и их процессов, их смысла и их стремлений, нерушимая
единичность всего и присутствие ее в каждом мельчайшем
факте мира — вот что такое Благо Плотина 23.
С этой точки зрения становится вполне понятным,
почему бесформенное множество — дурно, а оформленное —
благо.
(1-я гл.: 4—-6). Вместе с этим делается понятной
и мысль Плотина о том, что «нет ничего ужасного в
величине». Пусть каждая отдельная величина не есть та ипо-
стасная перво-единичность, которая охватывает все и сама
не охватывается ничем. Тем не менее она тоже единична
и пребывает в себе. И чтобы быть большой или малой, она,
прежде всего, должна быть сама собой. Как ипостасийное
первоединство пребывает в себе и не разрушается, так
и отдельная величина остается сама собой, поскольку
энергия первоединства, как мы установили, почиет на всяком
отдельном единстве, подобно тому как любое число, хотя
и не есть единица, напр. 10, все же существует как нечто
одно, т. е. все-таки продолжает быть единицей, и эта
единичность тождественна во всех возможных числах.
Разумеется, каждая вещь, или величина, не только
тождественна с первоединым. Если бы это было так, то тогда
ничего и не существовало бы, кроме абсолютного первоединого,
и не существовала бы и никакая отдельная вещь. Чтобы
быть, отдельная вещь, или величина, должна еще и
отличаться от этого первоединого, т. е. быть не в той же мере
единым, быть в той или иной мере отчужденной от себя.
Только это совмещение в одной вещи ее тождественности
и ее отличенности с первоединым и делает мыслимой
отдельную вещь. Прекрасное рассуждение об этом находим,
между прочим, в III 9, 3:
«Как из единого [образуется] множество? Тем, что
23 Из огромного количества соответствующих текстов Плотина я бы
привел VI 9, 1 о том, что все вещи существуют только благодаря единству
и приобщению к Единому — Благу, хотя сами не суть это единство; VI 9,
2 о том, что Единое ни в коем случае не тождественно с сущностью, с
бытием, с умом, ибо все это —- множественно; VI 9, 5 — мир не держится
одними вещественными причинами, но душой и умом, и в этом его
единство; но выше идет — Единое, которое не есть предикат чего-нибудь
иного, не есть единица как начало ряда, но — совершеннейшая сила.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
) I
723
[единое] везде, ибо нет [нигде ни одной точки], где бы его
не было. Оно, значит, все наполняет. [Этим], стало быть,
[и дано уже] множественное или, лучше [сказать, дано]
уже все. В самом деле, если только оно одно везде
существует, то оно и было бы [этим] всем. Однако так как оно
[еще, кроме того], и нигде не существует, то, с одной
стороны, [получается то, что] возникает все через него, так как
оно везде, а с другой — [возникает все через него как]
различное с ним, так как само оно — нигде. Но почему же
оно не только везде, но опять сверх того еще и нигде? Это
потому, что единое должно быть [по смыслу] раньше всего.
Оно должно все наполнять и все создавать и не быть всем
тем, что создает».
Поскольку вещь тождественна с единым, она — добра.
Поскольку она отлична от него, она — дурна. В меру
удаления, т. е. в меру отличия от единого, она — дурна.
Потому если с одной точки зрения можно сказать, что мир зол
и полон отступничества от блага, то с другой точки зрения
нужно одновременно же сказать, что мир — благо, и
притом совершенство его абсолютно. В этом отношении
замечательны главы III 2, 15—18 и III 2, 7.
Основная мысль вступления, значит, такова.
Бесформенное множество — дурно, так как оно возможно лишь
в силу потери самого себя и самозабвения; оформленное
множество — благо, так как оно содержит себя и все свои
части в одной абсолютно неделимой единичности.
II
Іа (2-я гл.). «Число не может быть беспредельным
множеством».
Установивши понятия «добра» и «зла» в отношении
к множеству, Плотин переходит к рассмотрению частного
вида множества, к числу. Еще до определения числа по
существу ясной оказывается невозможность для него быть
беспредельным. Число не беспредельно — потому, что и
чувственное, и умное одинаково является оформленным
и имеющим предел; куда бы число ни относилось, оно везде
имеет свою определенную смысловую границу. В самом
деле, для Плотина не может быть никакой бесконечной
чувственной вещи. Греческий философ вообще есть
созерцатель законченной художественной вселенной, и потому
бесконечность чувственного мира не умещалась в сфере
Α. Φ ЛОСЕВ
724
греческого мироощущения24. Тем более противоречит
опыту бесконечность числа в смысле числовых операций.
Сколько бы мы ни умножали или ни делили, мы всегда
получаем вполне определенные числа, пусть весьма
большие или весьма малые. Бесспорна смысловая
ограниченность и умного мира. В умном мире, или в мире чистой
мысли, всякий момент, чтобы быть, должен отличаться от
иного, от окружающего его фона. Если он ни от чего не
отличается, он, значит, и вообще не существует в мысли. Это —
старая мысль еще древнепифагорейской диалектики,
целиком перешедшая в платонизм и не уходившая из него в
течение всей его истории. Пусть мы наделяем какой-нибудь
момент умного мира всевозможными свойствами и
качествами. Этот момент остается все равно — как
единичность — тем же самым, отличным от всего, что его
окружает, и, следовательно, имеющим определенную границу.
Мы ошибаемся, если свой процесс счета прямо перенесем
на вещь и станем думать, что если в данной вещи
содержится десять признаков, то перед нами и фактически
находится десять вещей. Вещь продолжает быть единичной
вещью, какое бы множество признаков мы ей ни
приписывали. Она всегда строго определенна и оформленна,
поскольку она — она. Итак, число не может быть
беспредельным.
Но что такое само беспредельное? «Самая
беспредельность немыслима сама по себе и мыслима лишь в связи
с эйдосом» (3-я гл.).
(3-я гл.: 1, а—Ь). Плотин обращает, прежде всего,
внимание на то, что фактически мы имеем дело всегда с
определенными множествами. Как они ни далеки от первоеди-
ного, все же каждое из них есть нечто одноу т. е. нечто
определенное, и потому оно так или иначе участвует
обязательно в единстве.
(3-я гл.: 2, а-—Ь). Куда же нам деть беспредельное?
В сущем оно не может быть, потому что все сущее строго
определенно, а не беспредельно. Если что-нибудь есть, то
оно обязательно отличается от всего иного, и,
следовательно, в нем налична некая твердая граница, отделяющая его
от всего прочего. Беспредельное в этом смысле не есть
нечто сущее. Оно только поддается сущему, принимая то
24 Из Плотина я бы привел тут трактат II 2, переведенный мною
в книге «Античный космос и современная наука». М., 1927, 213—216.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I 1
725
или другое его определение. Во всяком, стало быть, опре-
деленном предмете мы находим, во-первых, беспредельное
и определяемое и, во-вторых, то, что именно определяет
и осмысливает эту бесформенную беспредельность.
Беспредельное есть поэтому не сущее, но лишь субстрат
сущего.
Чтобы усвоить себе учение Плотина о беспредельном,
или материи, необходимо ясно представлять себе
содержание трактата II 4, где в главах 1—5 мы находим учение об
умной, в главах б—16 — учение о чувственной материи.
В данном случае нас интересует последнее 25 Рассмотрим
и формулируем точное содержание этих глав.
II 4, 6. 1) Необходимость материи, или субстрата,
вытекает из факта взаимной трансформации элементов. Раз
то, что перешло в иное, не уничтожилось совершенно, то
осталось неизменным то, что из одного перешло в другое,
что приняло другой эйдос. 2) Без этого субстрата
невозможно было бы и уничтожение, ибо оно относится к
сложному. Отделяя одно от другого и превращая одно в другое,
мы имеем неизменный эйдос плюс наличие его как
изменяющегося. Последнее не есть ни эйдос, ни первая
материя, ни реально становящееся.
II 4, 8. 1) Будучи бескачественной, материя не есть
ни тело, ни какое-нибудь телесное качество, ни
окрашенность, ни тепло, ни легкость, ни тяжесть, ни плотность,
ни разреженность, ни вообще фигурность. 2) Она по
природе своей абсолютно проста и неделима, и нет в ней
никакой формы, которая бы отличалась от нее самой.
3) а) А если свойственна ей величина, то так, что нельзя
думать, что материя ей не подчиняется, делая с этой
величиной то, что ей угодно; и было бы абсурдно думать, что
величина или форма совпадает в своем волении с
материальной величиной. Ь) Если же действующее начало
раньше материи, то оно делает ее способной ко всему,
а стало быть, к величине, т. е. и к фигуре. Но тогда еще
труднее будет понять самостоятельную качественность
материи. 4) Только эйдос сообщает материи величину
и прочие качества, связанные с тем или иным смыслом,
25 Учение Плотина о материи изложено и проанализировано в
исследовании «Античный космос»: II 4, 2—5 переведены на стр. 322—325, II
4, 6—16 даны в резюме на стр. 399, и, кроме того, II 4, 6 переведено на
стр. 320, II 4, 7 на стр. 415—416, И 4, 8 на стр. 364, II 4, 13 на стр. 355—356,
II 4, 14 на стр. 366, II 4, 15 на стр. 366—367 и II 4, 16 на стр. 291—292.
Α. Φ. ЛОСЕВ
ι ι
726
так что даже в родовых понятиях определенная отграни-
ценность 26 зависит от эйдоса, поскольку различны между
собою эйдосы человека, птицы и вот этого человека. И
нисколько не удивительнее эта зависимость материи от ино-
природного ей начала в этом «количестве», чем в качестве,
и нельзя говорить, что качество есть смысл, а «количество»
не есть ни эйдос, ни мера, ни число.
II 4, 9, 1) Но как можно воспринимать сущее, если оно
не имеет никакой величины? а) Надо помнить, что сущее
вообще не тождественно с количественным, и есть многое
вне количественного. Ь) Вообще всякая нетелесная
природа — не количественна, а материя как раз
неколичественна, с) «Количество (ποσότης) само неколичественно (ου
ποσόν), но [количественно]—то, что поучаствовало в
нем, так что и отсюда ясно, что количество есть эйдос».
d) Это ясно на примере. Как становится что-нибудь белым
через присутствие белой краски, а то, что произвело белую
или разноцветную краску в живом существе, не есть сама
разноцветная краска, но если угодно,— разноцветный
смысл,— так же не обладает никакой количественностью
и то, что создало в данном случае количественность, но
есть оно только смысл (λόγος). 2) Количественность,
попадая в материю, отнюдь не превращается в определенную
величину, ибо материя не была от этого сосредоточена
на малом пространстве, но она дала тут величину, которая
раньше в ней не существовала, как не существовало в ней
и качество.
II 4,10. 1) Но что значит мыслить в материи
невеличинное и бескачественное? Что это за мышление и какова тут
направленность (επιβολή) мысли? а) Это —
неопределенность (αοριστία), b) Как подобное познается подобным,
так неопределенное — неопределенным. «Ведь смысл
относительно неопределенного может стать определенным,
[мыслительная] же направленность на него —
[обязательно] неопределенна», с) «Если каждая вещь познается
при помощи смысла и мышления — а здесь высказывается
смыслом то именно, что о ней, [материи,] высказывается,
мышление же, желающее быть тут [таковым], не есть
26 В этой неясной фразе, которую поправил Кирхгоф, το ποσόν я
понимаю не специально, как Н. F. Müller, 1 106 и за ним О. Kiefer, I 198
«Quantität», или как Th. Taylor, 31, «quantity», и даже не как Фнчино, 75,
«propria quantitas», но широко, как у E. Bréhier, II 62 — «une dimension
définie».
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I \
727
мышление, но скорее отсутствие мысли,— то
представление о ней, надо думать, не-настоящее и несобственное,
сложенное из не-истинного инобытия и с [самым] смыслом
инобытия», d) Отсюда и Платон назвал ее
воспринимаемой через «ненастоящий [незаконнорожденный] смысл».
2) Более подробно эта неопределенность познается душою
следующим образом, а) Это не просто отсутствие знания,
но — некое положительное утверждение. Как глаз
воспринимает тьму в качестве материи для всякой невидимой
краски, так и душа, отвлекая все чувственное и
являющаяся как бы светом и уже ничего не имеющая для
определения, уподобляется зрению, которое, пребывая в темноте,
как-то тождественно с видимым тут. Ь) Она видит здесь
так, что предметом этого видения является не-фигурность,
не-красочность, не-светность и то, что уже не имеет
величины; и если это не так, то она уже должна быть признана
как созидающая эйдосы. с) Раз тут нет мышления, нет тут
и соответствующей аффекции души: она ничего тут не
высказывает и ничем не аффинируется, d) Но душа может
мыслить материю, и в таком случае она претерпевает аф-
фекцию как бы отображения бесформенного (οίον τύπον
του άμορφου). Мысля пребывающее в форме и в величине,
она мыслит это уже как сложное, т. е. как окрашенное
и вообще окачествованное, а не просто как чистую
материю. 1. Именно, тут мыслится уже целое и совокупное об-
стояние материи и ее эйдоса как материи. 2. Мышление
и восприятие всех привходящих тут качеств — ясно, а
самый субстрат, бесформенное — темно, ибо — не эйдос.
Темный предмет, получающийся в результате анализа
цельного лика, и мыслится темно, и душа тут мыслит не
мысля. 3. «И так как сама материя не кажется
бесформенной, но пребывает оформленной в вещах, то душа и
набрасывает на себя тотчас эйдос вещей, страдая от [чистой]
неопределенности, как бы от страха перед бытием вне
сущего и не вынося долгого пребывания в не-сущем».
II 4, 11. 1) Для конструкции тела необходима, кроме
величины и всех качеств, еще материальная
протяженность (δγκος= масса) ; и могут сказать, что если последней
нет, то нет и величины, а если нет в них величины, то нет
того, что именно могло бы принять на себя все свойства,
равно как не имеющее величины тело, к тому же не
содержащее ни эйдоса, ни качества, ни проч., не имело бы совсем
никакого значения, не имея и протяжения и величины, про-
Α. Φ ЛОСЕВ
728
исходящих в телах, как известно, от материи. И вообще,
раз мы имеем не чистое бытие, но тела, то они и должны
составляться не только из умных эйдосов. Поэтому,
говорят, не-величинность материи есть пустое слово. 2) На это,
однако, надо возразить, а) Не необходимо, чтобы
приемлющее было какой-нибудь протяженной массой (δγκον),
так как душа, например, есть нечто всеприемлющее, а
величина ей несвойственна. Ь) Материя есть приемник,
и приемник протяженного, но не так, как растения и
животные суть приемники тех или иных величин и качеств, ибо
их материя не есть материя вообще, но материя этих
единичных предметов, с) Следовательно, восприемлющее
эйдос не должно быть массой, но оно должно принимать
массу и проч. качества только лишь вместе со
становлением и иметь образ массы для нового расположения к ней,
т. е. быть пустым от массы. 3) Это и заставило многих
отождествить материю с пустотой, в то время как для нас
она только мнимый образ (φάντασμα) массы, потому что
душа, встречаясь с материей и не находя в ней объекта
для определения, растекается в неопределенности, теряет
в ней '* всякое очертание и обозначение, что уже и было бы
определением. 4) Ввиду этого ее нужно называть не
«большим» или «малым», но «большим» и «малым»: она —
такая масса и так не-величинна, что является скорее
материалом (υλη) для массы, сокращением большого в малое,
и обратно, отчего она как бы пронизывает массу, пробегает
по ней. 5) Эта ее неопределенность и есть настоящая
масса, восприемница величины в ней. 6) Если иметь в виду,
что из предметов не-величинных эйдосы суть то, что
возникло в результате определения, то ясно, что о такой массе
невозможно никакое реальное представление, так как она
неопределенна, не покоится сама по себе, а носится туда
и сюда, от одного эйдоса к другому, уклончива в любую
сторону, пребывая становящейся, и только в этом она
содержит подлинную природу массы.
II 4, 12. 1) Надо различать величину и то, что есть
результат величины тела, а) Величина делает тело
величинным, но сама по себе она не-величинна. Ь) Если же и она
величинна, то эта величинность не будет относиться к
материи, а будет только чистым смыслом (λόγος μόνος),
и тела останутся без соответствующего определения,
с) Поэтому тела относятся к иному единству, а именно
к единству результата величинности (μβμεγεΟυσμένον).
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
729
d) Хотя смешение тел происходит лишь благодаря материи
и не нуждается ни в чем ином, так как все, что входит
в смесь, несет с собой свою материю, все-таки необходимо,
чтобы тела и смесь их имели некое единое приемлющее
начало, сосуд, или место, е) Место, таким образом, позже
материи и тел, так что тела еще только нуждаются в
материи. 2. « [Таким образом, надо различать эйдос и
материю — как чисто умные принципы, как логосы и то третье,
что из них образуется], а) Если акты, созидающие тело,
нематериальны, то это не значит, что и тела
нематериальны: последние сложны, акты же просты. Ь) И если материя
и создает во время действия этих актов субстрат, сама
оставаясь в них, то она не себя саму отдает в действие,
и акты к этому не стремятся, [как чисто смысловые].
с) Кроме того, ни один акт не превращается в другой, так,
чтобы была и в них чувственная материя, но акт сам
переходит от одного действия к другому, оставаясь по существу
неизменным, так что он сам оказывается материей для
своих действий. 3. Итак, существует действительно
материя для качества и величины, а следовательно, и для тел,
и не пустое она слово, но есть некий такой субстрат, хотя
и невидимый и не-величинный. а) Отрицая это, мы на том
же основании должны были бы отрицать и качество и
величины, так как все это, взятое само по себе, также не
существует, [а есть абстракция]. Ь) И если все это существует,
хотя и в неясном виде, то тем более существует материя —
пусть она не очевидна для чувственного восприятия. 1. Не
очевидна она ни для глаз, ибо бесцветна, ни для слуха, ибо
она — не звук, ни для обоняния, почему ее не
воспринимает ни нос, ни язык, ни для осязания, ибо она — не тело,
а осязание относится только к телу, плотному или
разреженному, мягкому или твердому, влажному или сухому».
2. Воспринимается она рассуждением, да и то пустым,
откуда оно и — «ублюдочное», как сказал Платон, с) Не есть
она и вообще телесность, ибо последняя есть некий смысл,
и, следовательно, инобытийна в отношении материи; а если
имеется в виду осмысленная телесность, то это уже не
просто материя.
II 4, 13. 1) Но если субстрат есть некое общее качество,
наличное в каждом из элементов, то нужно выяснить, что
это за качество, как оно оказывается субстратом, как
созерцается качественное на том, что лишено величины,
и как оно — материя, если есть оно определенное качество.
Α. Φ. Л0СЕ8
730
2) Если нечто неопределенно, то оно, по-видимому, не
качество, но — субстрат и искомая материя, а)
Некачественна она также и в том смысле, что лишенность эйдоса не
есть определенное качество, ибо тогда все было бы
превращено в одни качества. Ь) Нельзя наделять материю
качественностью также и в смысле ее инобытийности, ибо, если
она есть только инобытие, то таковой она является не
в силу своих качеств, но в силу причастия к эйдосу. с)
Лишенность, таким образом, есть отрицательное определение,
качество же положительное; и у материи как таковой нет
совершенно никакой своей формы. 3) Спецификум материи
заключается в том, что она находится в определенном
отношении к вещам, а именно есть их иное, инобытие. Она
не содержит в себе эйдоса этой инаковости, но есть только
иное, вообще иное, инобытие само по себе.
II 4, 14. 1) Но есть ли материя сама некая лишенность
или лишенность только предицируется о ней,
приписывается ей в качестве атрибута? 2) Никак нельзя утверждать,
что материя и лишенность признаков суть по субстрату,
по факту, одно, а по смыслу — разное, так как нужно еще
показать, в чем именно состоит разница этих смыслов, т. е.
так показать, чтобы материя была определена без помощи
указания на лишенность, а лишенность не имела ничего
общего с материей, а) Тут возможно троякого рода
отношение. 1. Один смысл никак не содержится в другом: тогда
тут перед нами два разных начала, и материя отлична от
лишенности, хотя последняя и есть ее акциденция, и один
смысл не может содержать другого даже потенциально.
2. Один смысл так содержится в другом, как другой в
первом: тут опять два начала, как, напр., «кривой нос» и «кри-
вость». 3. Один смысл, и только один, и притом
безразлично какой, содержится в другом: если смысл теплоты
содержится в смысле огня, а смысла огня нет в смысле теплоты,
то материя будет лишенностью так, как огонь есть теплое,
т. е. лишенность будет видом материи, а субстрат, что и
должно быть материей, будет иным, отличным от
лишенности. Значит, и этим способом не получится единства.
Ь) В противоположность всем этим отношениям
необходимо утверждать, что лишенность и материя абсолютно
тождественны, <а> не так, что первое является только
атрибутом второго. 3) Именно, эти два начала так тождественны
по субстрату и различны по смыслу, что лишенность
указывает не на присутствие, но на отсутствие признаков,
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1 I
731
и лишенность сущего есть его отрицание, а) Это не значит,
что лишенность есть просто фактическое отсутствие, так
как здесь имеется в виду только то, что она есть нечто иное
в сравнении с сущим, Ь) Тождество по субстрату и
различие по смыслу надо понимать так, что наряду с сущим
ровно не возникает никакого нового факта, но факт,
возникший как результат лишения эйдоса, перестает быть
просто устойчивым эйдосом, а превращается в
неопределенно и безгранично становящееся, где эти два смысла —
материя и лишенность — оказываются по смыслу своему
слитыми воедино.
II4,15. 1) Лишенность не есть акциденция материи еще
и потому, что материя есть беспредельное, ибо раз она
определяется числом и пределом, то сама она по существу
своему есть беспредельное, а акциденция всякой вещи есть,
прежде всего, некий смысл, т. е. уже нечто определенное.
2) Материя не есть лишенность и беспредельное в качестве
субъекта каких-то особых предикатов, но лишенность
и беспредельное и есть материя; материя не беспредельна,
но сама и есть беспредельность: беспредельное, будучи
предикацией предела, уничтожило бы его как предел.
3) Также следует определять и умную материю — с теми
общими модификациями, которые претерпевает предмет,
переходя из чувственной сферы в умную, а) Материя в уме
есть также беспредельное, порожденное беспредельностью
единого, вечной потенции, не присутствующей в ней, но
действующей в ней. Ь) Беспредельность умной материи
отличается от беспредельности чувственной материи как
прообраз от отображения (άρχέτυπον και εΐδωλον). 1. Это
не значит, что чувственная беспредельность меньше умной
беспредельности, ибо, насколько она дальше от последней,
от истинного бытия, настолько она более беспредельна,
подобно тому, как меньшая степень добра есть большая
степень зла, и, чем меньше определенность, тем больше
беспредельность. 2. Умная беспредельность более суща
в смысле формы беспредельности, чем чувственная,
которая менее причастна бытию, более удалилась от истинного
бытия, расплылась в призрачное существование и в более
истинном смысле слова беспредельна. 4) В связи с этим
решается и вопрос о тождестве и различии
беспредельности с бытием в качестве беспредельности, а) Эти начала
различны там, где смысл и материя суть разное. Ь) Там же,
где имеется только материя,— или просто это тождествен-
Α. Φ ЛОСЕВ
I I
732
но, или, лучше, бытие в качестве беспредельности вообще
отсутствует, ибо оно будет уже смыслом, а смысла нет
в беспредельном, если оно именно таково. 5) Материя,
таким образом, есть беспредельное само в себе, в
противоположность смыслу. Как смысл есть смысл, и только он,
так и беспредельность есть только беспредельность, и
больше ничего.
II 4, 16. 1) Однако нельзя сказать, что материя просто
тождественна с инаковостью, но надо утверждать, что она
тождественна с тем моментом инаковости, который
противостоит смыслу, т. е. инаковость есть более широкое
понятие, чем материя. 2) В этом смысле можно говорить о
бытии этого небытия, ибо: а) лишенность никак не
уничтожится с присоединением того, чего лишенностью она
является, и Ь) присоединение предела к беспредельности
отнюдь не разрушает ее природы, так как мы говорим о
беспредельности отнюдь не в количественном смысле;
с) предел, наоборот, «спасает беспредельное в сфере
бытия, приводя его в существенном смысле слова к энергий-
ному проявлению и усовершению», подобно тому, как
«женское начало, оплодотворяясь от мужского, не
погибает, но становится более женским». 3) Однако даже при
условии участия в благе материя продолжает оставаться
дурной, ибо она не имеет блага, но только еще нуждается
в нем. а) Она не занимает среднего места между благом
и злом, но является абсолютной лишенностью и скудостью
и есть сама скудость. Ь) Эта скудость есть скудость в
разумении, в добродетели, в красоте, в форме, в эйдосе,
в качественности, вообще говоря — в сущем, с) Поэтому,
она безобразна и дурна.
Таково учение Плотина о чувственной беспредельности,
или о материи, противопоставляемое им учению об умной
беспредельности и об умной материи. Главы II 4, 6—16
можно было бы кратко резюмировать так. Материя,
необходимость которой явствует из необходимости единого субт
страта для трансформации элементов (6-я гл.), не есть
какое-нибудь телесное качество, величина или фигура
(7-я гл.), не есть она и какая-нибудь протяженная масса
(11-я гл.), место или величинность (12-я гл.), но является
она чистой неопределенностью, воспринимаемой через
особое «ублюдочное умозаключение» (9—10-я гл.), и чистой
лишенностью, которую ни в коем случае нельзя понимать
как ее атрибут, фактически от нее отделимый (13—
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
733
14-я гл.), но как субстратно тождественную с ней инако-
вость чистого смысла, порождающую собою беспредельное
становление предела, эйдоса, сущего (15—16-я гл.).
(3-я гл.: 3, а—с; 4, а—Ь). Само собой вытекает из
учения о беспредельности, что она избегает идеи и смысла
не в каком-нибудь пространственном смысле. Ведь
эйдос — внепространственен, и материя также внепрост-
ранственна. Не забудем, что для Плотина все это — лишь
диалектические принципы, вступающие в ту или другую,
опять-таки чисто диалектическую, связь. Об этом и
напоминает Плотин, отстраняя грубое наивно-метафизическое
воззрение 27
(3-я гл.: 5, а—Ь). Однако Плотин не останавливается
на простом констатировании первоначальной
диалектической антитезы эйдоса и меона (или смысла и материи,
беспредельного). Желая дать точнейшую формулу числа
и отвергая применимость к числу понятия
беспредельности, Плотин теперь спрашивает себя, как же вообще
мыслимо беспредельное. Беспредельное не есть какая-нибудь
акциденция, которая могла бы быть чему-нибудь
приписана. Следовательно, нельзя приписать ее и числу. Но
уже сказано, что беспредельное не есть просто указание
на отсутствующий факт. Меон не есть укон 2*.
Беспредельное не мыслится само по себе, но функции его —
колоссальны; и, значит, какой-то след оно должно оставлять
в мышлении вещи и, стало быть, в самой вещи. В гл. 3,
в § 5, а—Ь, Плотин дает краткую формулу своего учения
о взаимоотношении эйдоса и меона. Чтобы понять эти
немногие строки, необходимо углубиться в другие места
из сочинений Плотина.
Однако сначала формулируем самое учение. Итак,
существует определенный смысл, или эйдос, который,
чтобы быть вполне определенным, отличается от иного,
инобытия, от материи, или меона. Эйдос — смысл и сущее;
меон — отсутствие смысла и не-сущее. Эйдос —
законченное и оформленное целое; меон — неустойчивая и
бесформенная неразличимость. Могут ли оба эти начала — эйдос
и меон — оставаться чуждыми друг другу, в том
абсолютном про^востоянии, в котором мы их застаем вначале?
Нет. Мы установили их различие. Но могут ли они быть
27 Тут интересно учение Плотина о неаффицируемости и даже веч
ности материи в III 6, 7—19.
Α. Φ. ЛОСЕВ
734
только различными? Если они только различны, то они
не имеют никакого отношения друг к другу; и — уж
подавно нельзя говорить о том, что они оформляют друг друга.
Если материя есть подлинное иное эйдоса, а эйдос
подлинно оформляется материей, то должно быть нечто единое,
что объединяет собою и эйдос и материю. Должен быть
такой момент в том и другом, который конструировал бы
абсолютную тождественность эйдоса и меона. Если нет
такого тождества между ними, то нет и никакого различия
между ними, ибо они друг другу абсолютно чужды и
дискретны. Этот момент есть становление.
Чистый эйдос не подвержен становлению, он —
неизменен и, стало быть, вечен. Но жизнь реального мира имеет
временной характер: мир — становится. Это значит, что
временная длительность вещи совмещает в себе и
неподвижность эйдоса, ибо должно же быть то неизменное,
что именно меняется и длится, и — неустойчивость меона,
ибо перед нами не чистый эйдос, но именно неустойчивый
эйдос, длящаяся вещь, временное бытие. Таким образом,
если беспредельное непознаваемо само по себе, ибо само
по себе оно — неразличимая тьма, ничто, то оно
оказывается познаваемым на зйдосе, ибо, соединяясь с эйдосом,
оно превращает неподвижность эйдоса в становление,
вечность — во время, абсолютную одновременность — в
растянутость и длительность времен. Получается реально-
текучая вечность, или попросту реальная вещь живого
мира.
Это учение Плотин излагает во многих местах. Дело
в том, что это учение о меонизированном эйдосе совпадает
у него с учением о движении и, в частности, о душе. Вместо
неясных абстрактно-метафизических учений о душе он
дает ей кристально ясное, чисто диалектическое
определение, по которому она есть именно становление, движение,
отличающееся от ума и эйдоса именно этой временностью,
конкретностью и напряженностью бытия (III 7, И)28. Из
подобных учений Плотина ясно, что становление возможно
только лишь как совмещение противоположностей и,
прежде всего, как совмещение единого и многого. Это — то, что
вносится меоном в эйдос 2Sl.
(3-я гл.: 5, с—d). Отсюда понятным делается и
Переведено мною в «Античн. косм.», 305—306.
О становлении эйдоса — Античн. косм., прим. 46—49.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
735
утверждение Плотина, что «с точки зрения отличия от
наших представлений беспредельное есть движение, а с точки
зрения того, куда направляются наши представления,—
покой». В самом деле, беспредельное само по себе
непознаваемо. Оно познается только как полагание эйдосом для
себя своей собственной границы. Ясно, что, если мы,
заметивши эйдос, станем обращать внимание на то, что с ним
делается и что привходит в него нового с меоном, мы
должны увидеть его становление, в частности, напр., движение.
Это — то, чего не было в чистом эйдосе. Но мы можем
проделать и обратную операцию. Пусть перед нами реальная
фактическая вещь, напр. физическое тело. Оно все время
меняется и течет. Если мы сосредоточимся на этой
непрерывной текучести и будем соображать, куда она
направляется, какие смысловые цели преследует, что появляется
в результате этой текучести,— мы увидим в вещи нечто
устойчивое и постоянное, что обнимает собой все ее
изменения и осмысливает их. Это и будет то, что Плотин
называет покоем беспредельного. Беспредельное действует
в вещи как становление ее. Рассмотренное с точки зрения
того, что именно становится и появляется в результате
инаковости и изменений, оно есть некий покой, некая
устойчивая осмысленность определенной системы качеств.
В результате всех этих рассуждений можно было бы
сделать не только тот вывод, что числу несвойственно быть
беспредельным, но и тот, что оно может быть
беспредельным, т. е. может беспредельно становиться, как и всякий
эйдос, существует не только в чистом виде как умный
предмет, но и в меонизированном виде — как фактическая
вещь. И тогда мы должны были бы различить число как
умный предмет и как исчисленную фактическую вещь,
напр. как психический процесс или как чувственную вещь.
Но Плотин пока не делает этого различения, а остается при
том, что только что выяснил, а именно, что числу, если его
брать как самостоятельное начало, нельзя приписать при-
знака беспредельности, что беспредельность ведет за собой
специфические элементы в числе, делающие его уже не
самостоятельным началом, но всецело зависимым. Плотин
же хочет сначала исследовать число само по себе.
Α. Φ. ЛОСЕВ
736
III
lb (4-я гл.: 1, а — с). Итак,— что такое число само по
себе? Отвергнувши предикат беспредельности — как
вторичный, необходимо отвергнуть далее предикат вещности.
В самом деле, весьма заманчиво объяснить природу числа
изменениями, царящими в вещном мире. Просто, скажут,
существуют чувственные вещи, которые сами собой и
обусловливают наличие отмеченных чисел; стоит только начать
их считать.
(4-я гл.: 2, а — d). Разумеется, если рассуждать
эмпирически, это совершенно правильно. Ребенок, напр., учится
считать на физических вещах. По изображению Платона,
люди приходят к понятию числа при помощи конкретных
наблюдений за изменяющимися вещами. В Tim. 38с—39d
дано изображение того, как время (и след., число)
воплощено в видимых движениях космоса и как по последним
можно судить о времени и о вечности. В Tim. 47а Платон
прямо пишет, что зрение есть источник великой пользы
для человека, потому что мы ничего не могли бы сказать
о мире, если бы не видели ни звезд, ни солнца, ни неба.
«При посредстве же зрения день и ночь, месяцы,
годовые обороты открыли нам теперь число и понятие о
времени и дали возможность исследовать природу
вселенной».
(4-я гл.: 3, а—с). Но можно ли остаться при таком
наивном эмпиризме? Действительно ли для получения
понятия числа необходимо только чувственное наблюдение
за чувственными вещами? По крайней мере, сам Платон
так не думал. Плотин вспоминает его место из «Пармени-
да», где (144а) дана диалектика числа и где ясно, что
число не есть что-нибудь случайное, но оно необходимое
определение самой сущности; число должно быть прежде
всего сущим, т. е. наличным в мысли, в уме, умным числом;
или, как говорит Плотин, употребляя свой технический
термин, число должно быть ипостасью. Любопытные
рассуждения находим мы на сходные темы в III 7. Здесь,
между прочим, критикуются различные неправильные
учения о времени, причем доказывается, что временное
возможно только в том случае, если есть не-временное, вечное,
и что временное есть только подвижное вечное. Поэтому
не правы те, кто, напр., приравнивает время движению
(III 7, 8) или мере движения (III 7, 9) или вообще мыслит
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
737
его как некий придаток движения (III 7, 10) 30.
Обывательская мысль судит о времени не по его существу, но по тем
инобытнйным результатам, которые от него получаются,
когда оно начинает функционировать в той или иной,
чуждой себе, среде. Равным образом, и число мы в обыденной
жизни обсуждаем не по существу, но по его приложениям;
и тогда получается, что само исчисленное движение,
чувственно нами воспринятое, или исчисленное пространство,
измеренное чувственными мерами, мы принимаем за самое
число. Число и время суть не чувственные, но смысловые
конструкции, и их надо обсуждать как таковые. Плотин
на это и указывает в анализируемых параграфах VI 6, 4.
Разумеется, этот пункт учения о числе есть не что иное,
как приложение общего воззрения Плотина на
взаимоотношение «эйдоса» и «качества». Посвященный этому
у него специальный трактат II б31 содержит следующие
мысли.
II б, 1. 1) В субстанции необходимо строжайше
различать сущее и качество, так что можно говорить о
различиях сущностных и различиях качественных, т. е. о
различиях смысловых, с одной, и, с другой стороны, о различиях
вещных, об индивидуально-смысловой окачествованности
и о качестве как внешнем обстоянии и прибавлении вещи.
2) Качество, т. е. вещные различия, даже и в том случае
не могут заменить различий сущностных, если они по
смыслу своему являются конструирующими данную сущность.
Так, если для огня существенна его видимая огненность
или для белил — белый цвет, то и в этом случае
необходимо отличать огненность и белый цвет как сущностные
и смысловые конструкции от огненности и белил как
чувственных качеств. 3) Одни являются «смыслами,
создающими сущность*, и, следовательно, всецело сущностными,
другие же — только производными явлениями тех; одни —
чистая сущность, другие — аффекция ее. 4) О сущности
и сущностном качестве нельзя сказать, как она происходит
из не-сущности, так как она вообще ниоткуда не
происходит; и прибавление внешних качеств к ней, хотя и
увеличивает ее как сущность, тем не менее приводит, в конце
концов, к обеднению ее, поскольку она лишается своей
предшествующей умной и чистой простоты.
Переводы и анализы этих глав — в «Античном космосе», прим. 85.
Переведен мною в «Античн. косм.», 243—248.
24 Α. Φ Лосев
А Ф. ЛОСЕВ
I —I
738
II 6, 2. 1) Сущностное качество не есть ни его внешняя
и случайная окачествованность, ибо это есть не сущность,
но тело, и последнее только еще должно получить
отличную от себя как от такового окачествованность, ни
телесные три измерения и материя. 2) Подлинная сущность есть
эйдос, а эидос есть смысл (логос). 3) Чистый смысл,
объединяясь с субстратом, дает нечто третье, что не есть
ни чистая сущность, изменчивое качество, но преизбыто-
чествующая перед сущностью ее энергия, являющаяся
смысловым выражением сущности; треугольность —
сущность, а не качество, качеством же будет отреуголенность
той или другой вещи. 4) Качество есть, стало быть,
внешнее обстояние, наличное в сущностях, уже существующих
в качестве таковых и независимых от прибавления
подобных обстояний.
II 6, 3. 1) Всякое качество сущности предполагает
существующую эйдетическую энергию ее, определяемую ее
собственным индивидуально-смысловым построением.
2) Чистый смысл, свойственный этой энергии, овладевает
ее специфической стихией в целях порождения инобытия,
что и является началом уже новой окачествованности,
некоего следа, тени и отображения чисто эйдетического
качества. 3) Чистый эйдос является, поэтому, первообразом
для инобытийного качества, последнее же — акциденцией
эйдоса. 4) Они, будучи по смыслу тождественными,
являются, однако, совершенно различными по субстрату,
и никогда эйдос не может стать качеством и качество —
эйдосом.
Этот трактат II 6 достаточно ясен, чтобы еще дальше
анализировать и комментировать его содержание. В
применении к числу он так же ясен и отчетлив, как и сам по
себе. Число можно трактовать как эйдос, как эйдетическую
конструкцию, и — как окачествованность, как внешне-
чувственное проявление и обстояние. Чтобы говорить о
последнем, необходимо, учит Плотин, дать конструкцию
чисто эйдетического, чисто смыслового числа, числа как
смысла и как эйдоса. Число как смысл — мыслимо само
по себе. Число как качество — мыслимо лишь как
осмысленное со стороны числа как смысла.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
IV
Іс (6-я гл.: 1, а—с). Мы отграничили бытие числа от
бытия чувственной вещи. Но мы должны отграничить его
также и от бытия субъективно-психического. Плотин здесь
является резким противником
спиритуалистически-натуралистической метафизики, отвергая всякий малейший
намек на психологизм. Его аргументы просты, как всегда,
но неопровержимы.
Первый аргумент сводится к тому, что в случае
субъективности наших понятий «мысль была бы одновременно
и позже помысленного предмета и раньше его». Что
значит этот аргумент и в чем его сила? Плотин выдвигает
здесь основное возражение против всякого психологизма
вообще. В самом деле, зададим себе вопрос: содержится ли
в самом понятии числа что-нибудь
субъективно-психическое? Всякий разумный человек должен сказать, что не
содержится. Пусть я высказываю какое-нибудь
математическое суждение, напр. а + Ь = с. Высказал ли я в нем что-
нибудь из своей психической жизни, напр. что я сыт,
голоден, весел, учен, глуп, что я имею черные или светлые
волосы, имею или не имею жену, детей и т. д.? Конечно,
нет и нет. В этом суждении говорится только о вечной и
совершенно мысленной, умной природе чисел, и больше ни о
чем. Теперь, ясно также и то, что для высказывания этой
истины нужны разнообразные, уже чисто эмпирические
условия, т. е. условия отнюдь не вечные и не умные. Чтобы
рассуждать математически и высказывать математические
суждения, я должен быть и сытым (хотя бы до некоторой
степени), и предварительно проходить все случайности
математического обучения, и иметь тело с головой, руками,
теми или другими волосами, и родиться и т. д. и т. д. Там
я говорил об умном смысле чисел, здесь же говорю об
эмпирическом происхождении рассуждений об умном смысле
чисел. Если умные числа для меня существуют сами по
себе, независимо от моего рассуждения, то я могу строить
эмпирическую судьбу своих рассуждений о числах; и все
случайности и искажения, претерпеваемые умными
числами в моей психике, не нарушат чистоты и абсолютной
правильности самих чисел, ибо моя психика — только сфера,
где проявляются числа и где они могут и не проявляться.
Если же умных чисел нет самих по себе и они суть только
мои психические процессы, то я должен признать, что им
24*
Α. Φ ЛОСЕВ
740
свойственна та же текучесть, то же непостоянство, та же
случайность и капризность, какая характерна и для моей
психики. Но так как подобные текуче-неразличимые числа
не могут считаться числами, то пришлось бы одновременно
считать числа устойчиво-правильными, независимыми от
капризов психики, и сплошь текучими и иррационально-
длительными, как сама психика. Имея это в виду, Плотин
и возражает: «Тогда мысль была бы одновременно и позже
помысленного предмета, и раньше его». Как выясняется,
это — основной антипсихологистический аргумент.
Второй аргумент, также выраженный чрезвычайно
кратко, гласит, что в случае субъективизма понятий и
чисел всякое мышление понятия и числа было бы
одновременно и мышлением несуществующего понятия и числа.
Это — тоже великолепная критика психологизма. Пусть
все наши понятия есть всецело продукт нашей психики,
и объективно им ничего не соответствует. Спросим тогда:
откуда же вы узнали, что понятия есть именно нечто
субъективное? Ведь объективного, по-вашему, вообще нет
ничего. Может ли в таком случае субъективное быть
субъективным? Тогда оно одно только и есть, и к нему уже
нельзя применять категорию объективности или
субъективности. Тогда нет не-сущего. Раз все бытие порождается
нашим субъектом, тогда только и есть одно бытие,
никакого не-бытия нет и не может быть. Вы же, говорит Плотин,
продолжаете еще различать существование от не-сущест-
вования, на что не имеете никакого права. Впрочем, если
бы вы и имели право это делать, то, говорит он, все
понятия, создаваемые психикой, вы должны были считать уже
по одному этому не-существующими и к числам должны
были бы относиться как к нереальным выдумкам. Но это
было бы, конечно, противоестественно.
Третий аргумент направлен против субъективного
идеализма. Можно рассуждать так. Быть — значит быть
отличенным, т. е. бытие равно мысли. Это точка зрения и
самого Плотина 32. Но если так, то, скажут, отсюда
вытекает, что бытия вообще нет вне мысли, т. е. нет предмета
вне субъективной мысли. Я мыслю какой-нибудь умный,
«сверх-гилетичный», предмет, напр. число. Если никакого
предмета нет вне моей мысли, то, значит, и число — на-
32 Напр., VI 2, 8: «[Ум] сразу и мыслит и полагает, если только
мыслит, и они, (роды, уже] суть, если только находятся в мысли»; V 1, 4, 8, 10;
V 4, 2.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
741
сквозь субъективно и есть не что иное, как моя мысль о нем.
Таким образом, диалектика ведет к субъективизму. Вот
это-то и критикует Плотин. Прежде всего, откуда вы взяли,
спрашивает Плотин, что бытие равно субъективной мысли?
Когда мы утверждаем, что одно, для того чтобы быть
одним, должно отличаться от иного, говорится ли этим,
что кто-то должен произвести это отличие? О
субъекте тут еще нет ровно никакого разговора. Скажут, но кто
же иной производит это отличение, как не вы? Это
возражение, однако, nimium probat и потому nihil probat3*. Ведь
вообще все, что мы мыслим, как-то должно пройти сквозь
нашу психику. Однако если обучение математике
проходило у меня с головной болью, то это еще не значит, что
математика сама по себе говорит о головных болях или вообще
о психике. Я, математик, психичен, а математика по своему
содержанию не имеет ничего общего с психикой. Так и
различенное^ в сфере бытия отнюдь ничего еще не говорит
о психичности или субъективности бытия. И когда Плотин
утверждает, что бытие равно мышлению, то тут нет ровно
никакого субъективизма. Ум, нус, о котором учит Плотин,
существует до всякого субъекта 33. Субъект и психика —
только «логосы» мировой души 34 и, следовательно, по
сравнению с нусом — вторичного и даже третичного
образования. Значит, из того, что мысль и бытие — одно и то
же, не вытекает субъективности числа. Это и говорит
Плотин в § с, 1—4.
Но это отрицательное учение он сопровождает и
положительным указанием в § с, 5 и дальше. Не узрение здесь
обращается на самого себя, замыкаясь в круге
субъективных понятий, говорит он, но «сама вещь не может оставить
в умном мире узрение отличающимся от вещи, каково
узрение гилетической вещи, т. е. она сама создает
истинное узрение, другими словами, не чувственный образ вещи,
33 Это — фундаментальное учение во всей философии Плотина.
Ум у него в своем первоначальном и принципиальнейшем смысле ни
в каком случае не есть «момент», или «способность» души, как это думают
современные психологи. В V 1, 3 душа трактуется только как подобие ума
и в V 2, 1—2 — как его порождение; в порядке самосознания мы также
восходим от души (V 3, 2) к уму (V 5, 6, ср. V 5,9,10), так что душа
мыслит другое, а ум — самого себя (V 6, 1 ), и не ум в душе, но душа в уме.
34 Ср. III 2, 11 о логосе в связи с разнообразием существующего
и III 2, 12 — логос обусловливает миф, и, наконец, прямо IV 3, 5 — о
душах, которые суть «логосы умов» (интересный текст об отделении души
от ума и о дроблении ума)
А. Ф.ЛОСЕВ
ІшвнмвІ
742
но саму вещь». Что значит это странное нагромождение
слов? В чувственной сфере узрение вещи всегда отлично
от самой веши, ибо чувственное узрение вещи возможно
только лишь как проявление вещи в ином, в материи. Вещь,
погружаясь в материю, производит тот или иной эффект.
Одно из таких погружений создает чувствующего
субъекта. Пока нет меона, материи, нет и чувственного познания
вещи. Но вот вещь перешла в иное, ее окружающее, в
материю. Это значит, что иное стало отображением вещи,
воплощением вещи. Одно из таких отображений и есть
чувственное узрение вещи в возникающем при этом
субъекте. Итак, чувственная вещь и чувственное познание
всегда различны между собой, как две разных вещи, два
субъекта. Совсем другое — в умном мире. Если
созерцается умная вещь, то созерцание ее уже не может быть так же
отличным от самой умной вещи, как чувственное узрение
отлично от чувственной вещи. Если в последнем случае
мы получаем в результате отображения вещи в меоне
чувственный образ — как нечто новое в сравнении с самой
вещью,— то в умном созерцании роль отображения
принадлежит самой же вещи, так что умный предмет является
сам для себя субъектом и объектом. Тут мы встречаемся со
знаменитым учением Плотина о том, что
«умно-созерцаемое не вне ума», которое только и может сделать понятным
этот краткий параграф в VI 6, 6, обозначенный нами как
1, с5.
(6-я гл.: 2, а—Ь). Но прежде чем вникнуть в это
учение, не мешает обратить внимание также и на
заключительные строки 6-й главы, где утверждается тождество
сущего и мыслимого и на этом основании отождествляется
всякое движение в умном мире с мышлением.
Непрерывная умность не может быть таким движением, которое не
было бы умным движением, т. е. мышлением. С другой же
стороны, такая максимальная умность где-нибудь
обязательно должна существовать, так как раз есть прерывное
мышление (наше субъективно-психическое), то это может
быть только тогда, когда одновременно есть и мышление
непрерывное и бесконечное.
Комментарием ко всему этому могут служить
следующие мысли начальных глав трактата V 5.
V 5, 1. 1) Истинный ум был бы не умным, если бы он
не обладал всегда полным знанием, не гадательным или
вероятным, не заимствованным и выводным, а всецелым
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
743
и абсолютным. 2) Если ум не содержит в себе абсолютно
полного знания себя, то: а) никто и никак не мог бы
отличить знание, присущее самому уму, от знания,
приходящего извне; Ь) он сам для себя не был бы достоверным
и не мыслил бы (полностью) того, что мыслит. 3) Если есть
какая-нибудь неопределенность и неясность в ощущениях,
то об этом может судить ум и размышление, которое и
обнаруживает, что в ощущении дан не сам предмет, но образ
его, предмет же сам вне ощущения; если же есть неясность
или недостаток в самом уме, то это значило бы, что
мыслимое вне мыслящего; и тогда возникают следующие
трудности: а) если в уме мыслящее не встретится с мыслимым,
то, следовательно, ума не окажется; Ь) если же ум —
случайно— и окажется умом, то: 1. неизвестно, не
ограничится ли познание лишь моментом встречи мыслящего
и мыслимого; 2. раз мыслимое — извне, то в мыслящем
получается копия и остаток, о долговечности которых тоже
ничего сказать нельзя; 3. мышление будет всецело равно
ощущению. 4. Если мыслимое — вне мыслящего, то
последнее не имеет ничего такого, что давало бы ему полную
уверенность; раз сам для себя он — не абсолютная истина,
то истина — вне его, и он в ней не может быть уверен.
5. Да и что такое мыслимое? а) Если мыслимое само имеет
ум, то в нем все равно придется признать и истину, и ум,
и мыслимое,— тогда ясно, что все предыдущие вопросы
здесь повторятся. Ь) Если же мыслимое само лишено ума
и жизни, то это могут быть только какие-нибудь суждения,
или аксиомы, или словесные высказывания, которые,
однако, сами по себе не суть же действительно какие-то
предметы, и тогда что же такое сами-то предметы? с) Если
только мыслящее объединяет его, само же по себе
мыслимое есть нечто иное, то и потому оно существует не
отдельно от мыслимого, ибо само в себе оно не будет содержать
единство, и ум, перебегая от одного к другому, не может
пребывать в себе неизменным, и предмет его исканий —
тождественным, d) Нельзя определить, какую форму могло
бы иметь мыслимое, если оно находится вне мыслящего.
1. Если оно — наподобие статуй, то мышление его было бы
простым ощущением. 2. Если же нет — вообще нельзя
было бы в мыслимом установить какие-нибудь различия
и одно отличить от другого. 3. Если мыслимое вне ума, то
ум может и не находить его, т. е. заблуждаться, т. е. быть
вне истины. Если же истина вне ума, то в уме нет истины,
Α. Φ ЛОСЕВ
744
и в истине нет ума, или, что то же, совсем нет и никакого
ума и никакой истины, нигде и ни в чем.
V 5, 2. 1 ) Если ум есть знание и истина и мыслимое есть
сам ум и истина, то мыслимое не вне ума, а в самом уме,
и только при этом условии ум будет обладать не просто
знанием, но истинным знанием, не будет подвержен
забвению, не будет теряться в поисках познаваемого, но будет
обладать всею полнотою жизни и мысли. 2) Поэтому он
не требует ни доказательств, ни веры, что он таков; он сам
для себя абсолютно ясен; и ясно ему то, что раньше его,
ибо он — из этого последнего, и то, что позже его, ибо
это — он сам; и никто для него в этом не достоверен более,
чем он сам. 3) Таким образом, истина в нем — не в
согласовании с иным, но — с самим собой; он сам для себя
истина. 4) Ничто иное не может ему возразить, ибо это
возражение уже будет предполагать его в себе.
Эти главы Plot. V 5, 1—2 лучше всего рисуют
непрерывность и самодовление умности.
Следует обратить внимание на 6-ю гл., 2, Ь, где Плотин
называет умный предмет, а стало быть, и число «некиим
смысловым изваянием, предстоящим как бы после выхож-
дения из глубин самого себя или проявления в самом себе».
Это — весьма характерное учение для такой четкой и
математической мистики, как у Плотина. Она избегает всякого
мистического тумана и неопределенных настроений. Она
зрит четкие и резко очерченные линии. Число для Плотина
есть именно такой четкий, строго оформленный, как бы
художественно изваянный лик. Этот лик и есть тот эйдос,
είδος, который играет в платонизме столь основную роль.
В «Античном космосе» я в прим. 24 привел некоторые
тексты, которые достаточно вразумительно свидетельствуют
об эйдосе как смысловой и световой изваянности. Эйдос
и число для Плотина суть некие смысловые изображения,
которые он сравнивает (V 8, 6) с пиктографическим
письмом, противопоставляя то и другое — дискурсивному
мышлению, или буквенному письму.
Плотин всецело стоит на точке зрения этих
«изображений», считая формально-логические «логосы» — началом
производным. Здесь перед нами вопрос высочайшей
важности. Есть ли число — понятие, или оно — эйдос? Плотин
утверждает, что первоначально и по существу число есть
именно эйдос, а уже потом, «подражая» своему эйдосу,
оно — логос, «понятие» числа. Не мешает иметь в виду
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
745
рассуждения о том, что дискурсивное мышление требует
эйдетического и что первое — только производное от
второго. Плотин об этом много пишет в V 3, 4—6 35.
Все эти фундаментальные воззрения Плотина о
самопознании ума решительно переносят всю проблему числа
на новую, совершенно оригинальную почву. Если число —
умный эйдос, то — 1) оно есть некая абсолютная
смысловая явленность и 2) эта явленность не нуждается ни в чьем
осмыслении или познавании со стороны. Это — смысловое
изваяние, которое абсолютно самостоятельно, т. е.
целиком знает и осмысляет себя как таковое,— не по частям
или по порядку, но — сразу, без распределения внимания
по частям и по отдельным временам.
V
Id (5-я гл.). Итак, число не есть ни чувственная вещь,
ни психический процесс, ни вообще что-нибудь
неопределенное и беспредельно-растекающееся. Оно — в уме и
потому есть строжайшая оформленность; оно — умное
начало, предстоящее нашему умному взору как некое
смысловое изваяние. Остается еще одно разъяснение, и
мы получим в чистоте ту сферу, где нужно будет искать
истинное определение числа. Это разъяснение заключается
в том, что в умной сфере число не есть только спутник
умности, который при ней только присозерцается. Если
мы это усвоим, то искомая форма бытия числа будет нами
определена в полной точности.
(5-я гл.: 1,а). Понятнее всего кажется не-философам
рассуждать так. Существуют вещи, которые я могу
сосчитать. Если я их считаю, я употребляю понятие числа и
количества. Если я их не считаю, то где находятся числа?
Их нет. Отнимите вещи — исчезнет и число. Начните
считать — и число оказывается в наличности. Нет, значит,
никакого числа без вещей. Этот взгляд и отвергает Плотин.
Он рассуждает так. Пусть «один человек» есть то же
самое, что и просто «человек». Тогда «один бык» есть то же,
что и «бык» просто; «одна лошадь» есть то же, что и
«лошадь» просто. Но что общего между человеком, быком,
лошадью, орехом, деревом, городом, солнцем, километром
и пр.? Все это совершенно раздельные, дискретные друг
другу вещи, едва ли сравнимые. «Человечность» нельзя
Резюме — в «Античн. косм.», 257—259.
Α. Φ. ЛОСЕВ
746
мерить «лошадностью», «лошадность» ничего общего не
имеет с «ореховостью» и т. д. Спрашивается: как же вы
будете считать, счислять эти несравнимые вещи? Если
единица у вас везде одна и та же, несмотря на различие
«человечности», «лошадности» и пр., тогда вы можете сказать,
сколько предметов вы сосчитали. Но тогда это и будет
значить, что единица отлична от «человека» и от «лошади»
и от всего счисляемого, ибо она — одна и та же, а эти
вещи — различны. Если же «один человек» ничем не
отличается от «человека» просто, то счет невозможен ни
в отношении совокупности лошадей и других предметов,
ни в отношении только одних лошадей, так как и лошади
достаточно различны между собой и не могут быть
измерены одной общей единицей, не отличающейся от них
самих по существу.
(5-я гл.: 1, b—d). Разбираясь в этом пункте,
обывательская мысль пытается найти новый выход. Она
рассуждает так. Пусть единица отлична от «одного человека» и
существует вне его. Но как быть с двойкой, тройкой и т. д.?
Если в вещи нет никаких разных моментов, объединяемых
в количество двух, трех и т. д., может ли существовать
двойка, тройка и т. д.? Если я имею стол о четырех ножках,
то, естественно, в результате счисления этих ножек и
объединения их в одно я получаю число четыре. Но если
этих четырех ножек нет, то где же тут число «четыре»? Его
нет. Числа «четыре» вне этих четырех ножек совершенно не
существует. И, значит, то обстоятельство, что единица
отлична от «одного стола», еще ничего не говорит о том,
что числа существуют и без вещей. Отличие единицы от
«одной вещи» приводит только к тому, что единица
объединяет отдельные моменты вещи.. Однако если сама
физическая вещь не содержит в себе этих различествующих
между собой моментов, то и объединять будет нечего,
никакого числа все равно не возникает. Плотин отвергает
все это рассуждение следующим образом. Пусть «десять
человек» есть только объединенность десяти человек.
Пусть в числе «десять», как в самостоятельном начале,
наличен только этот момент объединенности единицы,
а то, что объединяется, пусть зависит не от самой десятки,
а от тех вещей, к которым она применяется, к людям,
быкам, лошадям и пр. Мы получаем тогда, что 10= 1, равно
как и 2= 1, 3= 1, 4= 1, и т. д. и т. д. Всякое число есть
некая объединенность, и всякое число есть одно, стало
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I 1
747
быть, и единица. Мало того, лошадь — тоже некая
единица, бык — тоже некая единица, и т. д. Получается, что
перед нами везде только одни единицы. Откуда же нам
получить другие числа? Разбираемая теория ответа не
дает. А между тем нам важна не та десятка, которая есть
просто нечто одно (в этом отношении она, как и всякое
число, ничем не отличается от лошади, быка и т. д.), но та
десятка, которая есть специфически-раздельное единство,
а именно единство десяти смысловых моментов. Как
определить такую десятку, эта теория не говорит.
(5-я гл.: 2, а). Остается признать, что не только
единица имеет свое смысловое бытие вне всяких вещей, к
которым она применима, но и всякое число есть совершенно
самостоятельная, до всяких вещей данная цельная
собранность множественного у или раздельное единство смысла.
На языке Плотина это значит, что число имеет ипостась,
т. е. самостоятельную смысловую подпорку, ипостасииную
реальность.
(5-я гл.: 2, b—с). Тут мы встречаемся с понятием ипо-
стасийного вообще. Числа мы созерцаем на вещах и
отсюда сделали вывод о самостоятельной ипостасийности
числа. Но ведь в вещах мы созерцаем и белизну, и
движение, и проч. качества. Значит, и эти все качества ипоста-
сийны. Для Плотина здесь не может быть двух ответов.
Конечно, все чувственные качества безусловно имеют свою
ипостасииную реальность, но тут необходимо проводить
существенное различие. Во-первых, не все вещи белые и
не все вещи движутся. Тем не менее все белые и небелые
вещи суть некие единицы, и все движения и стояния
счисляемы. Ясно, значит, что ипостасийность числа по смыслу
первее ипостасийности чувственных качеств. Во-вторых,
говоря о белизне или движении, мы уже покинули умную
ипостасийность и перешли в сферу зависимого от нее быва-
ния, в то время как число есть именно чистая
ипостасийность. Значит, ипостасийность числа есть ипостасийность
сама по себе, ипостасийность же чувственных качеств
есть ипостасийность сокращенных и затемненных сфер
бытия. При этом чувственные качества не суть даже
акциденции, т. е. эйдолы, ибо и эйдолы есть все же частичные
моменты умного мира; они именно качества (ποιότης)
в специфически Плотиновом смысле, как он развивается
в II 6,2, и потому представляют собой нечто иное и эйдола,
и эйдоса, и умного мира, и, значит, числа. Стало быть,
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
748
уже здесь у Плотина намечается восходящий ряд: 1)
чувственное качество вещи (белизна, движение и т.д.);
2) соответствующий эйдол его, или явленный смысл его
сокращенного проявления в чувственном мире; 3)
соответствующий эйдос этого качества, или предельное
выражение чувственного смысла в умной сфере; 4) умное число
как первоначальное оформление самого эйдоса,
конструирующее его как некое смысловое раздельное единство.
(5-я гл.: 3, а). Разъясняется, следовательно, и учение
Плотина о том, что «число есть нечто предшествующее
каждой отдельной определенности». Число есть эйдос,
а вещи, которые счисляются, есть только материя,
«восприемница эйдосов», неопределенное множество,
становящееся оформленным, эйдетическим единством. И, значит,
также и к числу относятся великолепные рассуждения
Плотина об эйдетическом осмыслении материи, в
результате которого она как бы созерцает в себе эти умные лики:
III 8, 2 — о творчестве природы; III 8, 7 — о творчестве
как эйдетическом осмыслении; III 8, 8 — о творческих
созерцаниях ума.
Число, как умное начало, гласит общий вывод 5-й
главы, созерцается само по себе, не нуждаясь ни в каких ни
в чувственных, ни в умных предметах. Оно — не спутник
эйдоса, но — самостоятельная эйдетичность.
VI
На (7-я гл.: 1—5). Предварительная, отрицательная
часть философии числа закончена. Отброшены все
затрудняющие путь конструкции; и точно установлена та сфера,
где пребывает число. Разумеется, сделать это без
установления хотя бы некоторых положительных мыслей было
невозможно. Поэтому в предыдущем не только
расчистился путь для решеиня проблемы, но in nuce4* оказалась
решенной и сама проблема. Дело последующего
изложения сделать это решение четким и осознанным до конца.
Как бы в качестве некоторого вступления Плотин
резюмирует всю свою философию и напоминает ее основные
принципы. Сводятся они к следующему. Возможны, думает
Плотин, две формы построения системы, одна —
индуктивная, другая — дедуктивная. В главе 7 изложение
основ философии слишком беглое, чтобы преследовать
какую-нибудь определенную методологию. Но во всей массе
своих писаний Плотин фактически дал и индуктивное
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
'
749
построение и дедуктивное. Укажем кратко на тот и на
другой путь мысли.
Начнем с индуктивного пути.
1. Мы наблюдаем вокруг себя текучую
множественность чувственных вещей. Можем ли мы остановиться на
этом наблюдении? Нет, это было бы слишком грубым и
примитивным воззрением. Уже с самого начала ясно, что
текучее не может быть только текучим. Если есть
что-нибудь текучее, то это значит, что есть и нечто неподвижное.
Если есть только одно текучее, то уже сама текучесть
неподвижна. Значит, мы фиксируем, во-первых, текучие
качества вещей и, во-вторых, устойчивые смыслы текучих
вещей, к которым не может быть применима категория
времени и которые, след., вечны.
2. Всмотримся ближе во взаимоотношение вечного
смысла и временного качества вещей. Как вечное связано
с временным? Временное все время становится, т. е.
становится вечным. Временное есть сплошное и текучее
становление вечного и достижение его. Временное, значит, есть
степень вечного и то или другое подражание ему. Вечное
есть то, что присутствует абсолютно во всех моментах
временного, ибо движение предполагает, что движущееся
остается самим собой во все моменты своего подвижного
изменения; иначе движение и изменение рассыплется на
бесчисленное количество абсолютно дискретных друг
другу мельчайших частиц. Отсюда — вывод, что
становление ничего нового не привносит в вечное, а только дает
его в аспекте сплошной размытости и текучести. Это
значит, что по преимуществу сущим надо считать
неподвижный смысл, а становящаяся вещь (или становящийся
смысл) есть уже смесь сущего с не-сущим, так как
становление есть лишь степень сущего, а именно только еще до-
стигание его. Но тогда не-сущее в своем абсолютном
качестве не-сущего есть не просто отсутствие сущего, но —
принцип оформления сущего как своей степени, принцип
воплощения сущего в ином., которое, не будучи чем-нибудь
самостоятельно-субстанциальным, есть акт самополагшния
сущего в качестве становящегося сущего. Не не-сущее
имеет силу, но сущее добровольно отказывается от части
своей силы. Это и значит, что сущее вступает во
взаимоотношение и взаимо-определения с сущим. Итак,
взаимоотношение вечного смысла и временного становления
сводится к диалектике сущего и не-сущего, или — эйдоса
Α. Φ. ЛОСЕВ
750
и материи, или — «одного» и «иного», или — умного и
чувственного.
3. Итак, вся пестрота чувственного мира и его вечное
движение и изменение содержит в себе обязательное
эйдетическое единство, к которому сводится все становящееся
и которое управляет всеми качествами, движениями, всею
«жизнью». Это — первое единство, на которое
наталкивается мысль, начинающая изучать окружающий
чувственный мир. Однако тут же оказывается необходимым
установить и вторую форму единства. Мы сказали, что
«жизнь», или движение, управляется умным, или
эйдетическим, и неподвижным. Может ли не быть единым вся
совокупность эйдосов, или ум? Она — тоже едина. И эта
объединенное^, в противоположность единству жизни,
должна быть названа как единство ума (или эйдетически-
неподвижного мира). Сущность этого единства сводится
к тому, что каждый момент, т. е. эйдос, умного мира
должен содержать в себе также и смысл всего целого ума.
Когда мы говорим о единстве чувственного мира, то тут
мы фиксируем прежде всего абсолютную дискретность
одного другому. Солнце не есть Луна, Луна не есть Земля,
и т. д. и т. д. Объединение в сфере «жизни» происходит
лишь на почве внешней связанности того, что по смыслу
своему и по факту абсолютно дискретно одно другому.
Другое дело — объединенность умного мира. Здесь
говорится уже не о вещах, совершенно дискретных друг другу,
но об их чистых смыслах; и имеется в виду не внешняя
связанность вещей, но осмысленная и, стало быть,
внутренняя связанность смыслов. Каждый смысл несет на
себе смысловую энергию целого ума; и каждый эйдос,
значит, есть одновременно, во-первых, нечто тождественное
с целым умом, во-вторых же, нечто отличное от него.
Только так и можно конструировать эйдетическую целостность
мира. Ум — смысловая изваянность вещи, раздельное
тождество вечно пребывающего в себе смысла. Наконец,
мы переходим к установлению третьей — и последней —
формы единства, которая только и может осмысленно
завершить всю систему. А именно, если ум есть подлинно
координированная раздельность, то общий смысл ума
должен абсолютно целиком присутствовать в каждом
мельчайшем моменте ума. Если ум не будет представлять
собой такой абсолютной единичности, которая во всех его
мельчайших моментах абсолютно самотождественна и
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
ІнннмаІ
751
неразложима, то он опять рассыпается на бесчисленное
количество дискретных друг другу частиц. Нужно
утверждать такое единство, вернее же, единичность, которая,
как охватывающая все, уже ни от чего иного не будет
отличаться и которая будет конструировать целостность
и нераздельность всего. Однако раз эта единичность ни
от чего не отличается, то ее не с чем и сравнивать, нельзя
приписать ей никакого признака; она — выше самого
бытия и выше смысла, ибо охватывает и сущее и не-сущее,
и смысловое и неосмысленное. Это — то абсолютное
единство, которым завершается система Плотина.
4. До сих пор мы рассматривали мир в одной
плоскости, если хотите, в горизонтальной, и — мы получили
учение о «трех ипостасях»: 1) жизнь (совокупность всего
чувственно меняющегося и становящегося, охватывающая
космос и управляющая его движением); 2) ум
(смысловая оформленность вечно-неподвижных ликов, служащих
как бы пределами для вечного приближения становящихся
вещей); 3) единое, или первоединое (стоящую выше
всякого наименования единичную силу, держащую на себе
все и все осмысливающую). Эти «ипостаси» Плотин
рассматривает и в другой плоскости — в вертикальной, если
хотите,— фиксируя отнесенность этих ипостасей к самим
себе. Получается: 1) вместо чувственной жизни — учение
о мировой душе и об отдельных душах, из нее
истекающих, т. е. о самоощущающей жизни, направленной в своем
созерцании к уму; 2) вместо учения об уме как
совокупности эйдосов, осмысляющих отдельные моменты мира и
весь мир целиком,— учение об абсолютности
самосознания ума, благодаря которому он одновременно для себя
и мыслимое, и мыслящее, так что представляет как бы
вращающееся в себе, т. е. на себя обращенное
созерцание; и, наконец, 3) вместо учения о едином как силе,
держащей все,— учение о внутренней экстатичности и выше-
мысленности единого, так как оно охватывает и
объединяет и мыслимое и мыслящее и потому первее их.
Вот краткое и, надеюсь, точное резюме философии
Плотина, излагаемое в индуктивном порядке. То же самое
резюме можно дать, излагая Плотина дедуктивно, что он
и сам делает по преимуществу в V — VI Эннеадах, в то
время как II — IV Эннеады стоят по преимуществу на
точке зрения индуктивного анализа. Дедукция — в
кратком резюме — свелась бы к следующему.
Α. Φ. ЛОСЕВ
752
Наиболее общее понятие — это единство. Анализируя
его, мы находим, что единое, одно, если оно есть только
одно, т. е. ни от чего не отличается,— совершенно
непознаваемо, неименуемо, выше бытия и сущности, выше
смысла. Но, рассмотревши его в его абсолютном качестве
единства, необходимо его проанализировать в отношении
к его бытию. Если оно действительно есть одно, то оно
отличается от иного. Значит, как-то есть это иное. Входя
же во взаимо-определение с иным, единое превращается
в некую очерченность, получает, как различествующее с
иным, свою границу в отношении этого иного, т. е.
превращается в смысл. Смысл есть нечто устойчивое и вечное.
Когда же этот очерченный и изваянный смысл входит
в дальнейшее взаимоотношение с иным, или материей, он
превращается в становящийся смысл, т. е. в ту или иную
свою степень, или во временное течение. Ум превращается
в абсолютную жизнь. Дальнейшая меонизация приводит
к конструкции разных степеней жизненности, или
одушевленности. Однако все это выхождение единого из себя
в иное есть не что иное, как утверждение единым себя
самого в ином, так что распадение есть подлинное
самоутверждение и самособранность. На эту дедукцию трех
ипостасей легко нанизать все остальное содержание
философии Плотина, так что она оказывается как бы основным
стержнем всей системы.
Глава 7 напоминает все эти основные принципы, так
как без них невозможно проанализировать понятие числа,
связанное одинаково глубоко со всеми тремя ипостасями.
VII
IIb. Только теперь мы подошли вплотную к
принципиальному анализу понятия числа. Относящиеся сюда
главы 8, 9, 10, 11 и 15 настолько глубокомысленны и
трудны, что необходимо следить за каждым отдельным
поступательным движением мысли Плотина, неизменно следя
за нарастанием общей доктрины. Иначе мы собьемся в
самом же начале, и поневоле придется вместе с прочими
комментаторами Плотина признать все это учение
бессмыслицей и неудобовразумительным набором темных и
запутанных представлений.
Общий ход мыслей в этой основной и положительной
части всего трактата (главы 8—11, 15) следующий.
I. Число не может быть непосредственно соединено ни
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
753
с одной из трех ипостасей, но связь эта каждый раз
совершенно специфическая, так что, в частности, положение
числа в умном мире тоже совершенно специфическое
(8-я глава).
II. Какова же эта связь числа с тремя ипостасями?
а) С первой ипостасью связь та, что число, хотя и есть
раздельное тождество, существует только лишь на фоне
неразличимого единства. Ь) Со второй ипостасью, умом,
связь та, что число существует только как нечто,
конструирующее умные предметы; поэтому хотя оно и раньше
сущего, но существует как принцип конструкции сущего.
с) Наконец, с третьей ипостасью число имеет то общее, что
оно должно быть беспредельно возникающим числом,
бесконечно повторяющейся умной конструкцией (9-я глава).
III. Следовательно, число, относясь преимущественно
к сущему миру, занимает там совершенно специфическое
место, будучи основой и как бы предображением для
любых умных и вне-умных конструкций (10-я глава).
IV. Все сказанное имеет значение как для единицы,
так и вообще для любого числа (11-я глава).
V. В качестве принципа умного конструирования число
оказывается принципом конструкции и всякой вещи
вообще, чувственной и не-чувственной (15-я глава; здесь
переход к следующей части, главам 14 и 16, рассматривающим
эту проблему более специально).
Рассмотрим теперь эту труднейшую часть всего
трактата более подробно, пользуясь этим расчленением ее на
пять основных тезисов.
(I: 8-я гл., 1—2, а—с). Переходя к проблеме
специфического определения числа, Плотин напоминает основное
правило всякого философствования, это — пользоваться
умом, а не ощущением. Едва ли стоит указывать на то,
что это — старая Платонова мысль, которая легла в
основание всей позднейшей философии эйдосов и чисел. Это
знаменитое учение Платона составляет конец VI книги его
«Государства». Тут мы находим: принципиальное
различение умного и чувственно-видимого (VI 509d — 510а);
загадочное, но, как выясняется, фундаментальное для
Платона разделение «гипотезисов» на дианоэтические и
диалектические (510Ь — Slid); и, наконец,
соответствующее деление умосозерцания на умное ведение (νόησις) и
мыслительное конструирование (διάνοια) и чувственного,
доксического созерцания — на принятие факта, «веру»
Α. Φ. ЛОСЕВ
754
(π'ιστις) и сравнивающее размышление о нем,
чувственный анализ (εικασία) (511de) 36.
(I: 8-я гл., 3, а—Ь). Итак, нужно пользоваться умом
и стремиться к умному. Но тут-то и начинается
определение числа. Пользуясь умом и стремясь к уму, мы сразу же
замечаем, что число сконструировано не просто как «ум»,
равно как и не просто в соответствии с «жизнью». Как
же оно есть в уме и как в жизни?
IIb (II: 9-я гл.)· Тут мы переходим к труднейшей главе
во всем Плотине, к VI б, 9. Я должен сказать, что это —
труднейший текст вообще в истории греческой философии.
Ясно формулировать мысли этой главы — тяжелая задача
комментатора и интерпретатора; она может считаться
решительным пробным камнем для узнавания, способен ли
занимающийся древней философией проникать во
внутренние изгибы античной мысли и переводить их, вопреки всем
трудностям языка и сложности логических конструкций
мысли, на язык современного философского сознания. Не
имея никакой научной традиции в истолковании этой
принципиальнейшей главы (излагатели Плотина, как я сказал,
старательно обходили эти темы), попробуем все-таки
добиться ясности в понимании этой доктрины, так как
нельзя же допустить, чтобы гений Плотина, кристально
ясный в большинстве мест, оказался бы в самом
ответственном месте своего философствования беспомощным
и бессильным перед взятой на себя задачей.
(II: 9-я гл., 1, а—-е). Не ясен, прежде всего, основной
вопрос, который ставится Плотином в начале главы:
«...породила ли сущность число собственным разделением
[саморазделением], или же само число раздробило
сущность?» Что это значит? Не все ли равно, что раздробило
и что раздроблено? И далее — что значит само это
«порождение»? Необходимо иметь в виду, что порождение здесь
обозначает взаимоотношения исключительно в области
умности, или, вообще говоря, только диалектические
взаимоотношения 37. Вопрос о порождении числа сущностью
или сущности числом имеет смысл вопроса о том, что
в смысловом отношении является более первоначальным,
36 О взаимоотношении между ощущением и логосом в процессе
познания — V 3, 3 и между логосом и умом — V 3, 4, так что в познании
выше всего ум — V 3, 5.
37 Наиболее общее рассуждение о порождении ипостасного бытия
из первоединого — V 2, 1—2.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
755
сущность ли требуется для конструкции числа, или число
требуется для конструкции сущности. Плотин спрашивает:
раздельность, какая есть в числе, содержится ли уже
в сущности, так что еще до числа как ипостасийного
начала сущность уже есть координированная раздельность,
или же без числа сущность не была бы этой раздельностью,
и только само число, и только оно одно, способно внести
в сущность разделение, так что тогда придется признать
смысловой приоритет смысла перед сущим и сущностью.
Понимаемый так, этот вопрос вполне ясным образом
примыкает к предыдущему подготовительному изложению.
Поставивши вопрос в такой форме, Плотин тут же и
специфицирует его весьма существенным образом.
Другими словами, спрашивает он, пять ли основных категорий
(сущность, движение, покой, тождество и различие)
породили число или число — их. Остановимся, прежде всего,
на этих пяти категориях.
Как известно, Плотиново учение о категориях строится
на основании критики, с одной стороны, Аристотелева
учения о категориях (VI 1, 1—24), с другой стороны,—
стоического (VI 1, 25—30). Великолепны эти критические
рассуждения Плотина. Аристотель предстает, после этой
критики, как собрание противоречивых и непродуманных
понятий, каковым он и в действительности является в
области учения о категориях. Основное же возражение
Плотина, формулируемое им уже в VI 1, сводится к тому, что
Аристотель не понял принципиальной разницы между
умными и чувственными категориями и свалил их в одну
непроанализированную кучу. Сходным характером
обладают и возражения против стоического учения о
категориях. Взамен того и другого Плотин дает свое
собственное построение системы категорий, вернее «родов», и
посвящает ему 2-й и 3-й трактаты VI Эннеады. Нас
интересует сейчас только VI 2, как трактующий специально об
умных категориях.
Впрочем, фундаментальной ошибкой надо считать, что
для изложения учения Плотина об умных категориях
привлекается именно VI 2, а не весь Плотин в целом. Всем ведь
известна манера письма Плотина, отличающаяся довольно
большим разбрасыванием мыслей и частым их
повторением. Однако что дает нам VI 2? Центральной частью
является VI 2, 4—8. Чтобы разобраться в этих главах,
отличающихся многословием, необходимо, во-первых,
Α. Φ ЛОСЕВ
756
иметь в виду, что в данном месте Плотин дает
своеобразную индуктивную дедукцию умных категорий, начиная
с анализа не чего иного, как чувственного тела, а
во-вторых, кратко и точно формулировать все эти довольно
несистематичные мысли 38. В общем, однако, учение это не
выходит из рамок Платонова «Софиста», где оно, если
угодно, выражено в некотором отношении даже яснее. Так
как учение Плотина об умных категориях уже однажды
излагалось мною, то пусть позволено будет резюмировать
здесь соответствующее учение Платона, лежащее в
основании Плотиновых конструкций. Это приводит нас к
анализу всей второй части «Софиста» 39, т. е. глав 25—47.
А) Трудности, лежащие в понятии небытия (гл. 25—29)
1. 25. 237Ь—е. Небытие нельзя приписать в качестве
предиката чему-нибудь одному, ибо все, что есть
что-нибудь, есть нечто одно, есть нечто. Следовательно, говоря
«не-нечто», мы ничего не говорим, и даже нельзя назвать
нас в этом случае говорящими.— 26.238а — 27.239с.
Равным образом, и сущее не может быть приписано в качестве
предиката небытию; и так как число есть сущее, то
небытие, не-сущее, не есть ни единство, ни множество. Но чтобы
быть не-сущим, чтобы быть помысленным и
произнесенным, не-сущему необходимо быть чем-то одним или
многим; следовательно, не-сущее немыслимо и не
произносимо. Однако уже это последнее утверждение несет в себе
противоречие, ибо, утверждая, что не-сущее, или не-сущие,
не произносимо, мы соединяем с небытием бытие и такие
понятия (напр., понятие числа), которые принадлежат
только области бытия. Значит, попытка говорить о
небытии, без примышления признаков, свойственных
исключительно лишь бытию, неосуществима.
2. а) 27. 239d—28.240с. Этими противоречиями и
пользуется софист для оправдания своего мнимого знания.
Если мы будем продумывать понятие подражания, или
образа, до конца (а софист, как Платон определил выше,—
подражатель), то получим то же противоречие, что и в
рассуждении о бытии и небытии. В самом деле, образ подобен
38 Учение Плотина о категориях в связи с анализом VI 2, 4—8 дано
мною в «Античном космосе», прим. 41, 43, 45.
39 Следуя разделению, как и во всем анализе, в исследовании
H. Bonitz, Platon. Studien Berl 18863, 159—176.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
757
своему предмету; и все-таки он не есть этот самый предмет.
Значит, небытие в известном смысле существует.
Ь) 28. 240с—24lb. Если же софист есть тот, кто при
помощи видимости вводит нас в обман, то это значит, что
мы признаем факт лжи, ошибки, т. е. считаем не-сущее
сущим и сущее — не-сущим. Но, по предыдущему, это
невозможно.
3. 29. 24lb—242b. Вот насколько трудно понятие
софиста. Это указывает на то, что самое основание наших
рассуждений, а именно учение Парменида о небытии
небытия, является неправильным. Небытие как-то должно быть,
и бытие как-то должно не быть. Это не значит, что мы
непочтительны к Пармениду. Нам нужно теперь перейти
от понятия небытия, в котором мы констатировали такие
трудности, к понятию бытия, а для этого необходимо
пересмотреть философские учения о числе и качестве сущего.
В) Трудности, лежащие в учениях о бытии
(гл. 30—36, 250е).
1. 30. 242Ь—243с. Философы мало заботились о том,
чтобы мы их понимали. Один рисует какой-то миф о трех
сущностях, дружащих одна с другой или враждующих;
другой говорит о двух сущностях: влажном и сухом или
теплом и холодном,— приводя их в сожительство и
супружество, и т. д. Все это заставляет нас внимательно
проанализировать эти учения.
2. Учения о числе (количестве) сущего (гл. 31—32).
a) 31. 243d—244b. Говорят, что все — из двух начал,
напр. из теплого и холодного. Но что же они называют
бытием, сущим? Если оно — нечто третье, помимо этих
двух, то тогда получается уже не два начала, а три. Если
же сущее — какое-нибудь одно из двух, то оба начала
окажутся неравными; и все равно опять получится не два
начала, а одно. Но положим, что оба начала суть сущие.
Ясно и тогда, что оба становятся одним.
b) 31. 244Ь—d. Напротив того, учение, утверждающее,
что все — одно и одно-то и есть сущее, тем самым
различает одно и сущее, именуя то и другое разными именами.
Но раз два имени — два и сущих, а не одно. А раз сущее
есть одно, то тогда и имени-то у него никакого нет, ибо,
кто положил имя, отличное от наименованного предмета,
тот говорит о двух. Однако если бы даже и возможно было
Α. Φ .ЛОСЕВ
I 1
758
положить имя неотличное от предмета, то оно оказалось бы
именем ничего; а если и в этом случае будут продолжать
утверждать, что оно — имя чего-нибудь, т. е. к чему-
нибудь имеет отношение, то оно окажется просто именем
имени, а не чего иного, и «одно»-то будет одним одного,
а не имени. Переводя этот аргумент, выраженный
платоновским языком, на современный язык, следует сказать:
бытие не есть нечто только абсолютно единое;
абсолютное единство, поскольку мы его мыслим и именуем,
превращается в раздельность, хотя и в раздельность целого; наши
идеи, если они вообще к чему-нибудь относятся, должны
быть отличны от предметов; бытие предполагает
мышление, и притом раздельное; значит, бытие — не просто
абсолютное единство и неразличимость.— 31.244d—32.245е.
С другой стороны, философы, признающие единство,
приписывают бытию и цельность. Что такое целое? Целое
обязательно предполагает части. Правда, это части одного
целого. Значит, абсолютно чистого одного не существует,
но лишь раздельное одно; и единство есть некое
определение (πάΦος), свойство сущего, а не его сущность. Но если
цельность не принадлежит к сущности и сущее будет не
целое, то ясно, что сущему будет недоставать себя самого,
т. е. сущее перестанет быть сущим, перестанет быть и
бывающим. Бывающее, становление всегда есть тоже целое,
так что нельзя наименовать ни сущности, ни рождения —
как сущего, не полагая в существующем целого. Даже
и количественно нельзя существовать чему-нибудь, не
будучи целым, ибо при каком-либо количестве, насколько
оно есть, настолько необходимо быть ему целым.
3. Учение о качествах сущего (гл. 33—35).— 33.245е—
246d. Переходя к учениям о качестве, мы находим два
основных учения: одни считают истинным только телесное
и чувственное, другие видят истину лишь в
интеллигибельном мире, постигаемом только одним умом. Надо
исследовать обе эти школы.
а) 34.246е—248а. Сторонники телесности не могут не
признать, что тело есть нечто живое. А это значит, что они
признают и душу чем-то существующим. Однако душа
может быть справедливой и несправедливой, разумной и
неразумной и т. д. Все это, равно как и самую душу, уж
во всяком случае нельзя назвать видимым и осязаемым.
А раз есть хоть в некоторой степени нечто нетелесное, то
все учение оказывается ниспровергнутым. Значит, необхо-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
759
димо для опровержения учения о телесности только
добиться признания, что бытие действует и страдает и что
определение бытия есть сила, т. е. сила действовать и
страдать.
Ь) 35.248а—249d. Обращаясь к «влюбленным в
интеллигибельный мир» (των ειδών φίλοι), мы анализируем их
учение так. Они признают раздельное существование
становления и сущности; со становлением мы приходим в
общение через чувство, с сущностями — через мышление;
становление — всегда иное, сущность всегда
тождественна и равна с самой собой. Но что значит приходить в
общение? Что значит познавать? Познание есть прежде всего
некая деятельность, и познанность — некая аффицирован-
ность. Следовательно, сущему должно быть приписано
движение хотя бы в той мере, в какой оно познается. И если
это так, то неужели можно признать, что бытию не
принадлежит ни движение, ни жизнь, ни душа, ни разумность, что
оно и не живет и не мыслит, не имеет ума и стоит
неподвижно? Поэтому надо допустить, что сущее
одновременно и покоится, и движется. Тождественное, само себе
равное и находящееся в том же отношении, не может ни
стоять, ни покоиться. Но, с другой стороны, одно стояние
убило бы жизнь, и было <бы> не объяснимо ни бытие, ни
знание.
4. Противоречия в полученных выводах относительно
бытия (гл. 36. 249d—251а). Итак, мы достигли того, что
признали необходимость учения о бытии и как о покое, и
как о движении. Можно ли на этом результате
остановиться? Стояние не есть движение, и движение не есть
стояние. Оба они не могут быть объяты ни голым покоем, ни
голым движением. Но тогда бытие не есть ни то и ни
другое, а нечто третье, которому мы приписываем и покой,
и движение. Значит, бытие по своей природе и не стоит,
и не движется. И как же тогда его мыслить? Поскольку
оно не движется, оно должно быть признано покоящимся;
а поскольку оно не покоится, оно должно быть признано
движущимся.
Мы пришли к неразрешимому противоречию,
напоминающему то противоречие, к которому привел нас раньше
анализ понятия небытия. Оба понятия — сущего и не-су-
щего — запутываются в противоречиях; и надо искать
иного пути, где возможно произвести анализ сразу по
отношению к обоим.
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L·
С) Диалектика эйдосов (κοινωνία των γενών) (<гл.>
36 кон.— 47)
1. Задача диалектики (36. 251а—39. 254Ь). Говоря о
чем-нибудь одном, мы именуем его разными именами. Мы
приписываем человеку цвета, формы, величины, пороки,
добродетели и проч. Что это значит? Тот же вопрос в
отношении к сущности можно поставить так: общаются ли
между собой покой и движение? Тут ведь тоже идет речь
о предмете и признаке его. Можно ли сказать, что ни один
предмет не общается с другим предметом или что все
предметы имеют общение со всеми предметами? Или, быть
может, одни предметы таковы, другие не таковы? Если
признать, что ничто не общается ни с чем и, в частности, что
покой и движение не общаются с сущим, то это значит,
что ни то, ни другое не может ни в каком случае мыслиться
сущим. Явно, что это нелепо. С таким предположением
нельзя ничего говорить о бытии. Но так же нелепо и
обратное утверждение, ибо при нем самое движение вовсе
остановилось бы, и самое стояние двигалось бы. Итак,
возможно только учение о частичном общении и необщении
идей. Искусство распознавать такое общение (или
необщение) и есть диалектика,— подлинная философия,
противоположная софистике. Софист убежал во тьму
несущего, с трудом усматриваемую умом. Философ же,
всегда приближаясь мыслью к идее сущего, не поддается
ослеплению от тьмы, ибо только толпа, живущая во тьме,
не выдерживает божественного света.
2. Диалектика пяти основных категорий (гл. 40.254Ь—
260а).
а) 40. 254с—е. До сих пор мы установили три
необходимых категории — покой, движение и сущее. Как теперь
мы должны рассуждать об их общении} Движение,
оставаясь движением, не может быть покоем, равно как и покой
не может быть движением. Следовательно, они не могут
сойтись в одно. Сущее же сходится и с покоем и с
движением, ибо покой и движение действительно существуют.
Но каждый из этих родов в свою очередь отличен от двух
других; рассматриваемый же сам по себе, он есть тот же
и согласен сам с собой. Взятые относительно, эти понятия
различны, а взятые абсолютно, тождественны. Отсюда
к трем указанным родам необходимо прибавить еще два:
тождество (το ταύτόν) и различие (το Φάτερον).
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
761
40. 254е—255е. а) Если бы тождество и различие не
отличались от покоя и движения, а просто сводились бы на
эти последние, то покой, не отличаясь от движения, был бы
одновременно и движением, а движение, не отличаясь от
покоя, было бы и покоем. Поскольку же они различаются,
они причастны тождеству и различию, а то, что в них
общее, не может быть ни тем, ни другим из них (255а—Ь)·
β) Сущее и тождественное не есть одно и то же еще и
потому, что покой и движение оба — сущие; и раз тождество
равносильно сущему, то покой и движение тождественны,
т. е. тогда получилось бы, что покой движется, а движение
покоится (255Ь). у) Но и различие не может
отождествляться с сущим, ибо различие всегда требует
отношения к иному; и тогда получилось бы, что и всякое сущее
тоже имеет отношение к иному, а мы знаем, что одно
сущее относительно, другое безотносительно к иному
(255с—d). Таким образом, различие присуще всем родам,
ибо одно отличается от иного не своею природою, но тем,
что оно причастно идее отличного (255е).
Ь) 41. 255е—44. 260а. а) Движение отлично от покоя;
следовательно, оно не покой, т. е. не-сущее; но оно и есть,
ибо соединяется с сущим (255е—256а). Далее, оно отлично
от тождественного; следовательно, оно не тождество и
в этом смысле опять не-сущее; но через общение с
тождественным оно — тождество, ибо оно сохраняет свою
природу тождества. Само по себе движение — то же, но,
отличаясь от иного, оно не то же. Этому не мешает
фактическое объединение покоя и движения, напр. в устойчивом
движении (256а—с). Наконец, движение отлично от
различия, поскольку оно отличалось от тождества и покоя;
но оно и не различно с различием, поскольку оно
различно с различием и прочими родами (256с—d). ß)
Следовательно, а) движение существует и не существует, Ь) то же
и не то же, с) различно и не различно. По всем родам
проходит сущее и не-сущее. Природа отличного, существуя
повсюду как отличная от существующего, каждое особое
делает не-существующим, почему и все вообще есть
несуществующее, хотя опять-таки, приобщаясь к
существующему, оно также и существует. Существующее, поскольку
оно существующее, множественно, раздельно (ибо
причастно различию); не-сущее же, поскольку прилагается
к бесконечным сущим, бесконечно. Существующего у нас
столько раз нет, сколько есть прочих эйдосов, ибо, не
Α. Φ. ЛОСЕВ
762
будучи этими, оно — одно; прочие же, в которых его нет,
по числу беспредельны (256d—257b). y) При всем этом
надо помнить, что не-сущее (το μη δν) не есть просто
отсутствие бытия, оно не противно сущему; оно есть лишь
различие, утверждение того, что есть нечто иное (257Ьс).
В ином одно просто иное, другое — иное по отношению
к данному эйдосу, т. е. не-прекрасное, не-великое, не-спра-
ведливое; и вот это не-прекрасное, не-великое и т. д.
должно одинаково существовать с прекрасным и великим.
Противоположность природы, которою обладает тот или иной
вид иного, отличного, не-сущего, и природы сущего,
поскольку они поставляются одна против другой, ничем не
меньше, можно сказать, есть сущность самого сущего,
означающая не противоположное ему, а только в
некоторой степени различное от него. Следовательно, по
сущности не-сущее ничем не уступает сущему (257с—258с).
Итак, не-сущее есть просто результат общения эйдосов.
Роды, эйдосы смешиваются между собою; и как скоро
сущее и различное разошлись по всем родам и одно по
другому, различное, приобщившись к существующему, через
это общение уже есть, хотя есть не то, чему приобщилось,
а различное; будучи же иным, чем существующее, оно,
по очевидной необходимости, есть не-существующее. И
существующее опять, приобщившись отличному, должно
было сделаться отличным от прочих родов, а будучи не
таким, каковы все роды, оно не есть ни каждый из них
в отдельности, ни все, взятые вместе, за исключением его
самого, так что существующее, без всякого противоречия,
становится тысяча тысяч раз не-существующим. Таким
же образом и прочие роды, взятые порознь и все вместе,
в одних отношениях существуют, в других не существуют
(257Ь—259Ь). Вот в этом точном разграничении сущего
и не-сущего и заключается подлинное общение. Надо уметь
тождественное не называть отличным, отличное —
тождественным, великое — малым, подобное — неподобным
и т.д. (259d—260а).
3. Небытие причастно речи и знанию (гл. 44—47).
Отрешение каждого слова от всех есть
совершеннейший способ уничтожения речей, ибо речь происходит у нас
от взаимного сплетения эйдосов (259е). Не-сущее есть
один из родов сущего, распространяющихся по всему
сущему. Смешивается ли этот род также и с мнением (δόξα)
и логосом? Если не-сущее не смешивается с ними, то все
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
Ι ι il
763
они необходимо истинны, а когда смешивается,
происходят мнение и логос (логическое суждение, речь) ложные,
потому что мнить или говорить не-сущее — это есть ложь,
проявляющаяся в мышлении и слове (259е—260d).
Софист и прячется в этом месте, утверждая, что лжи не
существует на том основании, что не-сущего нельзя ни
мыслить кому-либо, ни произносить. Нам надо твердо
исследовать общение не-сущего с мнением и логосом, ибо
здесь, вероятнее всего, спрятался софист от нашего
определения (260d—261с). У нас существует два рода
словесных выражений относительно сущности. Один называется
именем, прилагаемым к тому самому, что производит
действия, другой — глаголом, прилагаемым к действиям.
Речи (мышления) не получается ни из голых имен, ни из
голых глаголов. Только в соединении их (напр., «человек
учится») рождается мышление (261с—262е). С другой
стороны, каждое мышление, или речь, имеет то или иное
отношение к какому-нибудь предмету. Суждение «Теэтет
сидит» имеет для себя вполне определенный предмет, как
и суждение «Теэтет летит». Одно из этих суждений ложно,
т. е. говорит о не-сущем как о сущем и, значит, ни к чему
не относится (262е—263d). Но что же такое мысль
(διάνοια), мнение (δόξα) и представление (φαντασία)? Все
различие мышления (διάνοια) и речи (λόγος) заключается
в том, что первое есть как бы внутренний, безгласный
разговор нашего ума с самим собой, в то время как логос —
внешнее его выражение при помощи слова. Дианойя,
соединенная с утверждением или отрицанием, как некое
внутреннее, безмолвное решение ума, есть докса, а если при
этом мы пользуемся еще материалом ощущений, то
возникает «представление» (φαντασία), соединение ощущения
с доксой. Значит, если мы доказали действительность
ошибки в речи, то такой же вывод надо сделать и о 1 )
мышлении, которое есть тот же разговор и речь, только внутри
души, 2) о доксе, мнении, которое есть только
заключительный момент утверждения или отрицания в этой
внутренней речи, и, наконец, 3) о представлении, которое есть
опять-таки та же докса с прибавлением только ощущения
(263d—264b).
Пять категорий «Софиста» — сущее различие,
тождество, покой и движение — и есть умные категории
Плотина. Они выведены антиномико-синтетически, т. е. чисто
диалектически.
Α. Φ. ЛОСЕВ
764
Итак, Плотин поставил вопрос: пять ли основных
категорий порождают число или число — их? Как его
разрешить? Надо сказать, что решение этого вопроса дается
Плотину не сразу, но им занято несколько глав, и,
пожалуй, только в 15-й главе мы получаем более или менее
ясную формулу числа. Тем не менее, чтобы понять 9-ю
главу, необходимо иметь в виду конечное решение
проблемы. В этом и состоит главная трудность в понимании
центральной части трактата. Разумеется, это нельзя
считать явлением положительным в философии Плотина.
Здесь создана некая внешняя трудность, которую легко
можно было бы избежать при более последовательном
изложении. Впрочем, разновременность написания разных
трактатов и разнородность их целей вполне оправдывают
эти сравнительно непринципиальные недостатки. Итак:
категории ли порождают число или число — их?
Мы уже отвергли понимание числа как счисляемости.
Такое понимание слишком связывает число со счисляемой
вещью и представляет собой явную ошибку, так как число
существует и без вещей и до них, вещи же уже
предполагают наличие числа. Это отвергнуто; числа существуют
сами собой и мыслимы вне связи с вещами. Но как только
мы это допустили, сейчас же становится ясным, что число
существует до отдельных сущих вещей, до отдельных
проявлений сущего. Это — факт, который не может быть
отвергнут или забыт. Число в смысловом отношении пред-
шествует счисляемым сущим. Но что такое счисляемое?
Обязательно ли представлять тут чувственные вещи?
Конечно, нет, ибо счислять можно и должно, что угодно.
Ни чувственное, ни сверх-чувственное, ни вообще что-
нибудь не может претендовать на специфическую осмы-
сляемость. Все, всегда и везде, счисляемо. Значит, для
счисляемости необходима только одна мыслимость. Если
вещь налична в мысли, в уме, то этого уже достаточно для
ее счисляемости. Не важно, какая вещь есть в мысли.
Важно, что вообще нечто есть в мысли, что вообще есть мысль
и смысл. Значит, предыдущее заключение о предшествии
числа счисляемым сущим можно варьировать следующим
образом: число как таковое предшествует счисляемой
мыслимости, или — число как таковое, сущность числа,
предшествует расчленяемому смыслу.
Тут мы получаем глубочайшей важности вывод,
который таит в себе и много опасных сторон. Вдумаемся в него
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
765
глубже: хотя Плотин в разбираемом месте (9-я гл.: 1,а—с)
и не развивает этих мыслей, а почти только молчаливо их
предполагает, относя развитие их к дальнейшему
изложению, необходимо тут же представить их себе в полной
ясности, чтобы не сбиться потом.
Итак, мы пришли к выводу, что число — до
расчленения смысла. Посмотрим, что такое «расчленение смысла».
Всякому ясно, что тут речь поднимается о двух или, по
крайней мере, одной категории из тех пяти, которые для
Плотина являются основными. Если о двух, то это —
различие и сущее, и если об одной, то это — различие. Но из
самого существа диалектического метода, да из
собственных утверждений Плотина явствует, что ни одна из этих
пяти категорий не может быть взята в отдельности от
другой. Если мы взяли какую-нибудь одну, то в этой одной
заключены уже все остальные. Все категории, во-первых,
различны, во-вторых же, абсолютно тождественны.
Вспомним хотя бы VI 2, 1540. Ясно, что сущее и различие и все
прочие категории — одно и то же. Но тогда ясно и то, что
если число существует до раздельного смысла, т. е. до
различествующего сущего, то оно существует так же и до
сущего вообще, равно как и вообще до всех пяти
категорий. Сущее, различие, тождество, покой и движение —
основные «роды» мыслимого — уже предполагают число;
и число, таким образом, их порождает; они из него
выводятся. Для Плотина достаточно уже того одного
основания, что число предшествует сущим. Для него ясно отсюда,
что оно предшествует и сущему вообще, т. е. вообще всем
умным категориям.
(И: 9-я гл., 2, а—Ь). Число предшествует сущему.
Психологистическая метафизика в этом пункте готова опять
предложить свои услуги и говорит: тогда признайте, что
если сущее не зависит от вас, то зато числовое оформление
сущего зависит от вас и есть результат вашего
субъективного примышления. Плотин, много говоривший о
примышлении, не упускает удобного повода опять с прежней
энергией отвергнуть психологизм. На этот раз он предлагает
рассмотреть самую структуру числового осмысления и
посмотреть, нуждается ли она в каком-нибудь
примышлении или нет.
В самом деле, какими категориями оперируем мы, когда
счисляем? Вот лошадь и собака. Мы говорим: два
существа. Как это может быть? Самое главное тут то, что я
Α. Φ. ЛОСЕВ
766
перешел от лошади к собаке. Но важно ли для числа два,
что я наблюдал именно лошадь и именно собаку? Конечно,
нет. Счислять я могу что угодно, и числа мои вовсе не
зависят от лошадей и собак. Как уже сказано, для числа нужно
только, чтобы нечто было в мысли вообще, и что именно —
не важно. Но важно ли, далее, для числа два, чтобы
наблюдал именно я, а не кто-нибудь другой? Конечно, не важно.
На двойке как таковой нет и следов меня как меня, и никто
не может по отвлеченной двойке судить о том, что тут
как-то замешан я. Но тогда, в чьем же уме и в чьей мысли
должно быть налично нечто, чтобы быть счисляемым?
Ровно ни в чьей. Двойка не зависит ни от кого и ни от чего,
и бытие ее и не «объективное» и не «субъективное». Ум,
в котором налично число, никому не принадлежит. Он —
ум вообще, и всякие человеческие умы суть только
отдельные, более или менее значительные его проявления. Не
он от них зависит, но они от него. Итак, при счислении
лошади и собаки не имеет существенного значения ни
сами лошадь и собака, счисляемые здесь, ни я,
счисляющий, т. е. не важен ни субъект, ни объект. Но что же
важно? Уже было сказано, что существенную роль играет сама
мыслимость. Но как детализировать это общее суждение?
Из вышеприведенного определения числа мы, отбросивши
собак и лошадей, оставили без рассмотрения момент
перехода. Значит, важно, чтобы была мыслимость и чтобы
был переход в сфере мыслимости. Что же теперь такое этот
переход и кто его делает? «Объект» мы отвергли,
«субъект» — тоже. Остается предположить, что мыслимость
сама себя создает и двигает, сама собой переходит от
одного своего момента к другому. Стало быть, тут не просто
переход, но — созидание мыслью своей собственной
структуры. Плотин такие термины и употребляет — γενναν,
ποιεΐν, μερίζειν, ενεργεΐν и проч. Вот, стало быть, где
подлинное лоно рождения числа: это — энергия, энергий-
ность мыслимого, энергийность самопорождающегося
смысла.
Но и это для нас еще слишком общо. Ведь в этой сфере
вообще все зарождается: умное, не-умное, настоящее,
будущее и т. д. и т. д. Как нужно специфицировать эту
сферу, чтобы получить именно число? Плотин рассуждает
так. Пусть я перешел от «собаки» к «лошади». Если в «ло-
Переведено мною в «Античн. косм.*, стр. 299—300.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1——I .
767
шади» не осталась как-то «собака», и «лошадь» есть
просто «лошадь», то никакого понятия «два» или «второго»
у меня не получится. Надо, чтобы при фиксировании
«лошади» я помнил также и о «собаке», т. е. чтобы «собака»
несла на себе и смысловую энергию «лошади». Но так как
мы отвергли необходимость фиксирования вещей и
утверждали необходимость лишь наличия мысленных умных
«это», то мы можем сказать так. Когда «это» созидает
«иное», необходимо (для возникновения числа), чтобы
на «ином» была смысловая энергия «этого», или «сущего».
Необходимо, чтобы, перейдя от «сущего» («этого») к
«иному», мы это «иное» поняли как «сущее» же. Это
значит: необходимо, чтобы «сущее» и «иное» фиксировались
бы с точки зрения своего взаимного тождества, т. е. чтобы
при всем различии «иного» с «сущим» в них продолжало
пребывать нераздельное самотождественное единое,
абсолютная единичность.
Таким образом, число, понимаемое как энергия перво-
единого, как самосозидание смысла, сводится к
конструкции категорий 1) сущего, 2) различия, 3) тождества, 4)
покоя и 5) движения. Число требует перехода и порождения
смыслом самого себя: оно есть энергия
первобытно-единичной сущности, единого. Число требует порождения,
созидания, кроме первоединого, еще и иного: оно есть
энергия различия в едином. Число требует, чтобы порождение
было тождественно с единым: оно есть энергия тождества
множественного в едином. Число требует, чтобы созидание
смысла не ограничивалось выделением только двух
моментов из первоединого, «этого» и «иного», но чтобы в «ином»
было какое угодно количество «этостей» (в этом ведь
смысл всего числа): оно есть энергия смыслового
движения, подвижности первоединого. Число требует, чтобы
порождаемое тождество в различии, несмотря на всю свою
смысловую подвижность, все-таки пребывало само в себе
как первоединое, не выходило бы из себя самого (ибо,
если бы первоединое только выходило из себя и в то же
самое время не оставалось пребывающим в себе, оно —
рассыпалось бы, не будучи в состоянии обнять свои части) :
число есть энергия смыслового покоя первоединого.
Наконец, число, устанавливая категории тождества,
различия, покоя и движения, тем самым очерчивает
определенные границы в первоедином, как бы набрасывая на егр
сплошную и неразличимую массу смысловую сетку и
Α. Φ. ЛОСЕВ
768
соотносящие координаты: число есть энергия сущего,
в которое превращается беспредельное первоединое,
оформляя и осмысляя себя, путем саморазделения, через
соучастие в нем «иного»
Так нужно понимать эти неясные выражения Плотина
(9-я гл., 2, с) : «Нужно идти [при переходе от одного к
другому] к одному и [затем] переходить к другому одному
и [тем] создавать два и создавать также и еще иное в
отношении нас».
После всего этого не стоит уже дольше
распространяться о том, что «примышление» и субъективный
процесс счета не играет никакой роли в конструкции числа.
Мы нашли подлинную сферу зарождения числа и
определили в этой сфере его подлинное место, и нигде нам не
понадобилось прибегнуть к помощи психологизма и
субъективизма.
(II: 9-я гл., 3, а—с). Но что же мы теперь получили?
Мы нашли, что число — до сущих и до сущего. Число
созидает сущее. Невольно возникает вопрос: куда же мы
должны поместить число, если единственное, что по праву стоит
выше сущего, это, как мы видели раньше в диалектике
трех фундаментальных ипостасей,— только первоединое,
т. е. первая ипостась? Первоединое, соединяясь с «иным»,
или материей, создает прежде всего сущее единое, или
смысл, умный мир. Куда же мы должны поместить число,
если оно и раньше умного, сущего и не может быть
всецело первоединым, потому что последнее есть сплошная
неразличимость, а число — координированная
раздельность. Если мы решим этот вопрос, то, можно сказать,
все принципиальные трудности проблемы числа могут
считаться преодоленными. Однако это заставляет нас принять
во внимание еще одну пару понятий, без которой такой
вопрос будет неразрешим. Это — понятия потенции и
энергии.
Волей-неволей приходится анализировать специальный
трактат о потенции и энергии — II 5, несмотря на его
значительные трудности. Его основные мысли сводятся к
следующему (перевод — в «Античн. косм.», 235—242).
II 5, 1. 1) Необходимо различать понятия потенции
и энергии и также — понятия потенции и энергии, с одной
стороны, и потенциально и энергийно-данного — с другой.
2) Потенциально-данное возникает тогда, когда имеется
возможность происхождения чего-нибудь иного, кроме
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
Іі 1
769
данного; потенциально-данное есть возможность
созидания иного. 3) Однако потенциально-данное еще не есть
потенция просто, так как оно есть только субстрат для тех
или иных страдательных состояний, внося свои
специфические дифференции в воплощаемый смысл, потенция же
должна быть сопоставляема с энергией, т. е. с чисто
смысловой (умной) конструкцией.
II 5, 2. 1) Потенциально-данное не есть и энергийно-
данное и не становится им, потому что энергийно-данное
есть нечто обоюдо-совокупное, т. е. сложенное из эидоса
и материи, потенциально же данное есть только
возможность эидоса. 2) Когда мы имеем энергийно-данный
предмет, напр. человека, владеющего грамматикой, то это не
значит, что он перестал быть потенциально-данным
предметом. Последнее содержится в первом как подчиненный
смысловой момент или как субстрат. 3) Потенциально-
данное, не будучи ни потенцией, ни энергийно-данным, еще
дальше отстоит от эидоса и энергии, так как последняя
имеет энергийность от себя самой, потенциально же
данное — только от энергии и тем более от эидоса, который
есть не просто энергия, но энергия определенной
смысловой единичности, или энергия как единичность —
индивидуализированная энергия.
II 5, 3. 1) Потенциально-данное и энергийно-данное
предполагают, следовательно, осуществленность чистого
эидоса в материи. Но можно ли говорить об этих понятиях
в отношении к чистому эйдосу и уму? Поскольку эти
понятия предполагают чувственную материю, постольку в
умном мире нет ничего потенциально-данного, ибо там нет
ни материи, ни перехода в инобытие, ни вообще времени.
2) Однако чистой умной сфере свойственна своя
собственная материя, уыная же, смысловая, ибо там одно так же
отличается от иного, и, следовательно, есть там и потенция,
и энергия, и обоюдо-совокупное, или эйдос. 3) Разумеется,
материя там не отлична от эидоса, и материя и есть сама
сущность; она превращает отвлеченный смысл в эйдос
души, или живое существо ума, которое, не будучи во
времени, оказывается и потенциальным, и энергийным, и эйдо-
сом. 4) Ум как живое, но умно-живое существо есть, таким
образом, неусыпаемая прекраснейшая жизнь, полная
вечных энергий жизни, принцип и исток души и ума.
II 5, 4. 1) В противоположность чисто умной природе
потенции и энергии, потенциально- и энергийно-данное
25 А. Ф. Лосев
Α. Φ ЛОСЕВ
I 1
770
связано с материей, причем сама материя, хотя она и есть
условие всего потенциально-сущего, сама по себе не есть
ни определенное потенциально-сущее, ни тем более энер-
гийно-сущее. 2) Она есть не-сущее, не имея места в
эйдетической сфере и не имея места даже среди лжи. 3) Она —
теневой образ смысла, а не сам смысл.
II 5, 5. 1) Подлинная сущность материи есть то, что
она является чистым потенциально-данным, не каким-
нибудь определенным, индивидуально-данным
потенциальным предметом, но потенциальным вообще, тем, что
может стать всем. 2) Она есть вечно не-сущее и никогда и не
была ни при чем сущем и энергийном, появляясь лишь
с прекращением умного бытия в чувственных вещах, да и
в них — на последнем месте. 4) Она есть сущно не-сущее,
энергийно-данное не-сущее\ ее бытие — в не-бытии, и
всякое прикосновение бытия уже мешает той ее подлинной
ипостасийной природе, которая заключается в не-сущем.
Трактат II 5 содержит фундаментальнейшее для всего
Плотина учение об уме. Дело в том, что материя
оказывается свойственной и умному миру, чистому эйдосу.
Правда, тут она чисто умная же, смысловая материя. В эйдосе
мы находим, стало быть, не только строго очерченные
лики и формы, но также и алогическое протекание,
непрерывность и сплошную процессуальность и становление,
хотя и без перехода в реальное время. Это легко понять
математикам, которые мыслят свои понятия, связанные
с учением о бесконечно малом, так же процессуально и
так же отвлеченно, вне-временно. Итак, эйдос содержит
в себе материю. Но тогда в нем надо различать
отвлеченный эйдос, эйдос, данный без материи, без умной
осуществленное™, как чистый метод и задание, как чистый
принцип, и — осуществленный эйдос, умно-материальный
эйдос, а между ними — самое это умное и эйдетическое
становление, приводящее отвлеченный эйдос к умному
осуществлению. Так рождаются понятия чисто
эйдетических, чисто смысловых, чисто умных потенции, энергии
и эйдоса (в узком понимании). Я бы добавил, что этот
последний эйдос (в узком понимании) есть не что иное,
как символ, так, как его понимает Прокл, и вообще эта
триада, устанавливаемая тут Плотином, есть в точном
смысле позднейшая триада Прокла («сущее», «жизнь»,
«ум», или интеллигибельная,
интеллигибельно-интеллектуальная и интеллектуальная сфера). Но дальнейшее анало-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА Y ПЛОТИНА
771
гизирование завело бы нас далеко; и мы ограничимся тут
простым констатированием того, как рождается проклизм
на лоне философии Плотина 41.
После этого отступления вернемся к определению числа
VI 6, 9. Мы пришли к выводу, что число созидает сущее.
И мы затруднились, куда поместить такое число, если
выше сущего — только сплошная неразличимость перво-
единого. Теперь, и только теперь, мы сможем разрешить
и этот вопрос. Число есть потенция сущего, умная
потенция чистого бытия. Или, привлекая только что
произведенные различения, мы должны сказать так.
1) Число есть потенция умно-сущего, или принцип
(смысловая возможность, закон и метод, задание)
собственно смыслового оформления предмета; точнее, это —
принцип категориального осмысления сущего, ибо оно
созидает пять основных категорий сущего — тождество,
различие, покой, движение и сущее.
2) Число есть энергия умно-сущего, или конструкция
предмета, получающаяся в результате соотнесенности
смысла предмета с принципом умной раздельности и
материи, т. е. внесение в смысл изваянности и как бы
оптической картинности; точнее, это — категориальная скон-
струировшнность умного предмета, категориальная
осмысленность сущего (при точном значении категорий,
установленном выше).
3) Число есть эйдос умно-сущего, или
индивидуальная конструкция предмета, обладающая чертами
раздельности и как бы изваянности; точнее, это —
индивидуально, т. е. неповторимо и неделимо, данная категориальная
сконструированное^ умного предмета. Здесь
отождествляется отвлеченная заданность числа с материальной
массой умности, т. е. получается уже символ, число как
символ — не в номиналистически-психологистическом
значении этого слова, но — в предметно-ипостасийно-реаль-
ном.
Во всех трех смыслах число есть сущее или, точнее,
«как» сущего, смысловой «как» смыслового конструкции
смысла. Но так как оно, в точном смысле, не вообще сущее,
а — категориально сущее, то можно сказать, что оно до
сущего, или, как говорит Плотин несколькими строками
41 Об этом зарождении проклизма на лоне философии Плотина —
см. «Античн. косм.», 522—528.
25*
Α. Φ. ЛОСЕВ
772
ниже, оно «одновременно и в сущем, и с сущим, и до
сущего». «В сущем» я понимал бы как указание на эйдос
числа, «с сущим» — на энергию числа, «до сущего» — на
потенцию числа.
Общее же определение числа, данное с предельной
точностью и четкостью, таково.
Число есть потенция (отвлеченная заданность),
энергия (умное становление этой заданности) и эйдос
(ставшее этой заданности, или осуществленный символ)
раздельного тождества в подвижном покое сущего; или —
единичность, данная как подвижной покой самотождест-
венного различия.
Теперь нам открыто все основное учение Плотина о
числе, и дальнейший анализ уже не представит таких
трудностей. Сам Плотин формулирует свое учение везде по
частям, и наши формулы суть формулы — сводные по
отношению к весьма разбросанному и обширному
материалу. Но в анализируемой части трактата (VI 6, 9) мы
находим точную, хотя и не вполне строгую формулу:
ή του αριθμού δύναμις ύποστασα έμέρισε το ον και οίον
ώδίνειν έποίησεν αυτό το πλήθος. Здесь мы находим
указание на: 1) δύναμις — потенцию; 2) ύποστάσα — умную
реальность; 3) έμέρισε и έποίησεν — момент созидания,
становления; 4) το δν — созидание категории сущего и,
стало быть, всех прочих категорий умного мира; 5) το
πλήθος — появление индивидуальных эйдосов сущего.
Это — формула точная, хотя, может быть, и стоило бы ее
дать несколько в более строгих выражениях, чтобы
обобщить все, что говорится в трактате относительно
сущности числа. Впрочем, тогда нечего было бы делать
комментаторам Плотина.
(II: 9-я гл., 3, d)· Ясно теперь из предыдущего, почему
сущее есть число и сущие — числа. Числом является сам
ум; и если душа зависит от ума и живет его смыслом, то и
душа есть число. Так как душа, по Плотину, охватывает
все и сдерживает от распыления в беспредельности, то
она — «вокруг охватывающее число», в то время как ум,
который сдерживает не что-нибудь иное, но — себя самого
и на себя самого направляется (по Плотину, он сам для
себя и мыслимое и мыслящее), то он — «само в себе
движущееся число».
(II: 9-я гл., 4, a—d). Умное, т.е. потенциально-энер-
гийно-эйдетическое, число резко должно отличаться от
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
Ш^ш^\
773
числа, как оно является и функционирует за пределами
ума. Плотин называет первое число сущностным, второе —
вещно-определенным (μοναδικός — т. е. составленным из
отдельных единиц счета) Последнее — только эйдол, т. е.
сокращенный эйдос, лишенный своей чистой ипостасийно-
сти. Хорошо сказано у Плотина и то, что «сущностное
число — присозерцается при эйдосах и имманентно
порождает их; в первоначальном же смысле оно одновременно
и в сущем, и с сущим, и до сущего». Это тоже звучит почти
как формула. Не забывает Плотин напомнить в конце
9-й главы и о первоедином как принципе сущего, о
котором легко забыть, увлекшись числом, которое есть тоже
принцип сущего. Это, между прочим, заставило меня в
формулировке своего второго тезиса (в указании общего
хода мыслей всей этой части трактата) выдвинуть прежде
всего связь числа с каждой из трех ипостасей. Если не
прибегать к подробной интерпретации, а просто кратко
передать содержание VI 6, 9, то это сделать, мне кажется,
можно только путем указания на положение числа в связи
с тремя ипостасями.
VIII
(III: 10-я гл.). После всего вышеизложенного 10-я
глава не представляет никаких трудностей. Отметим здесь
сначала некоторые мысли, которые являются основными.
Прежде всего, вполне в согласии со своим общим учением
о числе, Плотин называет его предустановкой, предобра-
жением, местом появления сущего, причиной количества.
Также, в соответствии со своими принципами, он учит
в конце главы о тождестве энергии и сущности. Хотя
энергия и отлична от сущности, но отлична лишь по смыслу,
составляя с нею, однако, тот же самый факт. Середина
главы посвящена критике субъективистического
психологизма, в которой дана прежняя аргументация, с
прибавлением, пожалуй, только одного нового аргумента: «тогда
счисление происходило бы [лишь] в силу случайности»
(2, а). Это — солидное, хотя и немногословное,
возражение релятивизму: если все — относительно, то откуда же
абсолютная общезначимость и общеобязательность
понятий числа и единообразия всех операций над ним? Все
остальное сводится к следующим аргументам. Чтобы
считать, надо иметь то, с точки зрения чего можно было бы
Α. Φ ЛОСЕВ
774
считать и получать количества (2, Ь: αίτιος προών του το-
σαυτα). Счет вещей возможен не просто так, как
восприятие окрашенных поверхностей, но лишь в силу действия
дианоэтического разума (2, с). Всякая акциденция
предполагает свою ипостасийность; следовательно, и число,
как признак вещи, предполагает ипостасийность числа
(3,а).
(IV: 11-я гл., 1, а—е). Установивши твердое понятие
числа, Плотин в дальнейшем дает необходимое
расширение этому понятию, без которого оно не могло бы быть
полным и законченным. А именно, к природе числа
относится, как мы говорили, бесконечное смысловое созидание.
Это необходимо сейчас подчеркнуть, и Плотин в 11-й главе
дает аргументацию о том, что не только единица есть
нечто ипостасийное, т. е. имеет свою умную реальность.
Аргументация эта чрезвычайно проста и сводится к
следующему. Что такое единое и единица? Может ли оно и она
быть свойством какой-нибудь отдельной специфической
вещи? Конечно, нет. Вещей много, а тем не менее каждая
из них одинаково одна; и десятка, и сотня, и все проч. суть
некие единства и единства. Значит, единое не есть одно
из чисел в натуральном ряде чисел, но есть нечто общее
всем числам натурального и всякого иного ряда. Но
единое скрепляет и обусловливает осмысленную
ипостасийность любого множества. Всякое множество, если оно при-
частно единого, имеет ипостасийную реальность. Отсюда
само собой вытекает, что любое число обязательно тоже
ипостасийно. Следовательно, аргумент Плотина сводится
к тому, что: 1 ) единое только тогда могло бы претендовать
на исключительную ипостасийность, если бы оно
содержалось среди прочих множеств как какое-нибудь
специфическое множество; и что, 2) на самом деле, единое
имманентно любому множеству, и потому любое множество,
в меру причастия единому, обладает ипостасийной
природой.
(IV: 11-я гл., 2, а—Ь). Да и что, собственно, значит, что
абсолютная единица ипостасийна, а никакое реальное
число не ипостасийно? Пусть мы имеем такую абсолютную
единицу. Одно из двух: она есть или только нечто одно,
или есть еще и нечто сущее. В первом случае она
продолжает оставаться как абсолютно первоединое, трансцедент-
ное всему, в частности, также и числу, и ни в каком числе
она не нуждается, и никакого числа из нее не получается.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
775
Во втором случае получается забавное вытаскивание себя
из болота за волосы. В самом деле, если единое есть сущее
единое, т. е., если оно действительно есть, оно отличается
от всего прочего и содержит в себе определенную границу,
причем, по условию, мы утверждаем, что только это сущее
и есть ипостасийное, а все, что вне его, уже не обладает
ипостасийным бытием. Тогда все, что вне этой сущей
единицы, собственно говоря, не может быть единицей и
совокупностью единиц. И тогда, собственно, ни о чем, кроме
первой единицы, нельзя ни помыслить, ни сказать, ибо
всякая малейшая мысль и слово уже предполагают
расчленение и, следовательно, число. Но, разумеется,
утверждающий специфическую и исключительную ипостасий-
ность первой, абсолютной, единичности все-таки как-то
мыслит то или иное множество и, следовательно, какие-то
числа этим множествам приписывает. Но тогда остается
признать, что, во-первых, эти числа несоизмеримы с той
единичностью, ибо она отделена при таковом воззрении
непроходимой пропастью от всякого множества, и,
следовательно, мышление таких множеств все равно состояться
не может, а, во-вторых, если все-таки мышление здесь
и происходит, то необходимо признать, что каждое число
здесь состоит из разных единиц, ибо от них отделяется как
раз то самое, что должно было бы всем единицам и их
совокупностям придать характер самотождественности.
Значит, абсолютная единичность, конструирующая
ипостасийное бытие, должна быть присуща всякому
множеству; и потому всякое множество ипостасийно.
(IV: 11-я гл», 3, а—с). Отсюда ясной становится и
общая картина ипостасийного зарождения чисел. 1 ) Перво-
единое не есть число, но выше его, как и выше вообще всего
сущего и мыслимого. 2) Первоединое есть вечное
самопорождение и самоутверждение. 3) Первоединое порождает
себя, прежде всего, как раздельность, оставаясь самим
собой в каждой отдельной своей части (γεννήσασα εΐη ου
στάσα καθ' &ν ων έγέννα, οίον συνεχή ενα ποιούσα) ; это
и есть порождение себя как числа. 4) Порождает оно числа
путем смыслового очерчивания себя самого в том или ином
пункте самовыявления (περιγράψασα μέν και στάσα Φαττον
εν ττ| προόΟω). 5) Все сущее подчинено этим числам и
имеет их принципом своего осмысленного бытия (έκάστοις
άριΦμοΐς έφαρμόσαι τα πλήΦη έκαστα). 6) И все числа,
стало быть, ипостасийны (ср. тут же в конце главы ύπο-
А Ф ЛОСЕВ
776
στήσαι, είδυια и проч.), ибо каждое из них есть нечто
едино-множественное (πολλαί μονάδες, πολλά εν).
(V: 15-я гл., 1—2, a—b). Наконец, нас ждут
завершительные формулы 15-й главы, заканчивающие
центральную часть всего трактата и принципиальное определение
числа. Высокое положение числа в сфере ипостасных
определений дает полное право заключить, что все вообще есть
число. И жизнь и ум есть число, ибо и то и другое есть
координированная раздельность.
(V: 15-я гл., 3, а—Ь). Но тут же мы обязаны сделать
и тот вывод, что числа раньше жизни и ума. Ум
проявляется в своих энергиях. Могут ли энергии существовать без
предварительного расчленения сущего? Конечно, нет. Все
энергии ума, справедливость, напр., знание и т. д.,
существуют ипостасийно, неразрывно с тем, к чему они
направляются; все они находятся в уме «вместе». Но если бы все
было только «вместе», ничто не было бы различимо. Но
все еще и различимо. Значит, подействовала на сущее
какая-то иная природа, и эта природа и есть число. Как,
значит, есть число в сущем? А так, что «сущее порождает
сущие вещи, приводя их в движение в соответствии с
числом», т. е. число — ранее ипостасийности вещей и есть
принцип их расчлененности. Сущее, если оно стало числом,
скрепляет возникшее множество сущих с самими собой,
т. е. число есть нечто скрепляющее специфические
раздельности с целым сущим, как раньше мы указывали на
число в смысле принципа разделения. «[Сущее]
раздроблено благодаря [смысловым] потенциям числа; и [оно]
породило столько частей [себя самого], сколь велико
[соответствующее] число». Это нам теперь уже известно.
Но далее следует та самая формула числа, которая,
содержа все существенное, превосходит по краткости все, что
мы встречаем в трактате в смысле определения числа:
«Число, первое и истинное, есть принцип и источник ипо-
стасийного бытия для сущего*. О значении слова αρχή
как принципа, в связи с понятием потенции, мы много
говорили выше. Что такое ипостасииное бытие, тоже было
разъяснено. Теперь Плотин говорит: число есть принцип
самой ипостасийности, ипостасийности как таковой.
Раскрывая скобки, мы не можем интерпретировать это учение,
иначе как в том смысле, что число есть принцип
категориальной осмысленности сущего, о чем мы трактовали
выше. Ибо ύπόστασις и возникает только в связи с тем,
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
777
что мы называем «категориями». Эта формула —
великолепна по своей выразительности и краткости. Однако она
насыщена столь широким и глубоким содержанием, что
вмещает в себя почти все главнейшие понятия
философии Плотина — в их специфической комбинации.
Насколько трудно расшифровать эту краткую формулу,
настолько испытывается наслаждение от ее силы,
отчетливости и краткости — после преодоления всех трудностей
шифра.
Таким образом, можно сказать, что число есть начало,
ближайшее к первоединому. Для него требуется только
взаимодействие единого и материи, причем достаточным
оказывается уже одно смысловое содержание только
самого взаимоотношения, не более. Об этом, между прочим,
хорошо сказано в V 1, 5:
«Кто же есть тот, родивший [умную сферу], простой
и до ума существующий, причина и его бытия, и
множественного его бытия, [ибо он есть] создающий число? Ведь
число — не первое, так как раньше диады — единое, а
второе — диада, возникшая от единого и получающая от него
определенность (όριστήν); сама же по себе она —
неопределенное. Как только она определится, она уже число.
Число же — сущность (ουσία). И душа — число. Ведь
массы и величины не суть первые [сущности]. Эти
плотности суть нечто вторичное, и [только] ощущение мыслит
их как сущее. Также и в семени не [сама] влага есть
достойное, но то, что невидимо, а это — число и смысл
(λόγος). Таким образом, т. н. число там и диада — смыслы
и ум. Но диада — неопределенная, так как берется здесь
как субстрат; число же, происходящее из нее и из единого,
есть эйдос каждого [предмета], как бы оформленного
(μορφωϋ.έντος) возникшими в нем эйдосамиж
Другими словами, число есть первое произведение
единого и материи, когда еще нет эйдосов и когда есть
только, так сказать, эйдос самого процесса произведения,
самого взаимоотношения единого и двоицы, эйдетическое
«как» эйдоса, или смысл смысла 42.
42 И тут мы также видим, как зарождается проклизм на почве
философии Плотина. Последний, как это ясно из нашего изложения, уже
вполне сознает необходимость водвинуть триадическую конструкцию в самое
Единое. Об эволюции этой проблемы у Плотина, Ямвлиха и Прокла см.
«Античн. косм.», 522—528.
Α. Φ. ЛОСЕВ
778
В пояснение и дополнение всего предыдущего
необходимо коснуться одного общего вопроса, который, в силу
обычных его искажений, может исказить до
неузнаваемости и всю нашу проблему. Это вопрос об отношении
категориально-осмысленного, или числового, бытия к
эйдетическому, или, как обычно прозаически выражаются, об
отношении «родов» и «видов». Если число есть принцип
самой ипостасийности, то каково же число в аспекте
самой ипостасийности? Другими словами, каково
отношение числа как потенции к числу как эйдосу? Это есть
вопрос об отношении пяти основных «родов» сущего к эйдо-
сам. Так как формально-логические предрассудки
окончательно исказили всю эту проблему, так что в «свете»
такой логики совершенно затемнилось и Плотиново и
вообще античное и средневековое учение об
«универсалиях», то нам необходимо отдать себе точнейший отчет по
подлиннику в том, как сам Плотин решал для себя эту
проблему. Это требует изучения глав VI 2, 19—22,
которые я уже однажды перевел и проанализировал («Античн.
косм.», 284—285, 309—314) и которые тут необходимо
только вспомнить. Основной мыслью этих глав является
диалектико-антиномическое учение о взаимоотношении
«родов» и «видов»; и в особенности очень важно учение
в VI 2, 22 о диалектико-энергийной иерархии
индивидуального.
После изучения VI 2, 19—22 мы обладаем всеми
данными, чтобы вопрос об отношении числа как потенции к
числу как эйдосу разрешить полностью. Число как
потенция есть потенция всех мыслимых индивидуальных чисел
и эйдосов, которые суть все вместе энергия числа вообще,
т. е. основополагающей категориальности вообще. Число,
рассматриваемое в себе, есть принцип категориальности.
Число, или принцип категориальности, в своей энергии
есть «то, что» он есть, т. е. энергийно он проявляет себя
как вездесущая категориальность. Число же,
рассматриваемое не в себе, т. е. не как принцип категориальности,
но с точки зрения «иного», хотя все еще умного иного, т. е.
как потенция, есть принцип бесконечных
категориальных воплощений, или бесконечно разнообразных в своей
индивидуальности чисел и эйдосов. Каждое число, т. е.
1, 2, 3, 4 и т. д. до бесконечности, есть энергия данного
числового эйдоса и вместе с тем потенция
категориальности вообще. Каждый индивидуальный эйдос несет в себе
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
779
потенцию всего, и в частности всего категориального. Роды
бытия, данные как потенция всего сущего, есть как бы.
максимальная сгущенность и насыщенность, смысловая
напряженность бытия, так как дальше остается только
первоединое, напряженность которого уже не вмещается
ни в какое оформление и осмысление. Эти роды бытия суть
во взаимном проникновении и объединении некое родовое,
универсальное Число, первый эйдос сущего — еще до
образования отдельных, индивидуальных эйдосов и чисел.
Ведь само общее имеет в себе некий эйдос общности,
прототип и принцип всего эйдетического вообще — с
бесконечными степенями и оттенками последнего. И этот над-
эйдетический эйдос, эйдос общности как таковой, катего-
риальность как эйдос и есть число. Оно остается
нетронутым во всех «подражаниях» ему, и оно — вне «смешения».
За ним в иерархической последовательности идут: умные
эйдосы чисел, число как жизнь, числа как живые силы,
числа как чувственные вещи. И все это есть убывающая
степень общности при возрастающем смысловом
оскудении, и все это есть только безмолвный покой
вечно-нетронутой беспредельности и насыщенности перво-числа
в себе.
Мы видим теперь, как плодотворно изучение
замечательных глав VI 2, 19—22 для понимания основного тезиса
Плотина, что число — принцип ипостасийности вообще.
Теперь вернемся к дальнейшей интерпретации VI 6, 15.
(V: 15-я глм 3, Ь, 4, а—Ь). Что же происходит, когда
числа направляются на осмысление чувственных и иных
вещей? Как только мы установили эйдос числа (с
привходящими понятиями потенции и энергии), так мы можем
посмотреть на него извне, с точки зрения чувственного
меона. Последний заставляет нас, по существенному
свойству своей природы, переходить в числовом эйдосе от
одного момента к другому. Эйдос есть нечто неделимое
целое. Тем не менее, его вполне возможно рассматривать
по отдельным частям и как бы счислять. Тогда потенциа-
льно-энергийно-эйдетическое число, не теряя своей умно-
ста, превращается в το αριθμητό ν. Это — не число,
но нечто, принимающее форму числа, или, как я
осмеливаюсь переводить, нечто очисленное. Сказать
«сосчитанное», «вычисленное» и т. д. не выражает того, что надо здесь
Плотину. Тут ведь противопоставление αριθμός и
αριθμητά — число и — то, что аффицировано числом, не переходя
Α. Φ. ЛОСЕВ
I
780
в сферу чувственного. Понять так этот термин заставляет
и весь исторический контекст платоновского учения о
числе. Итак, в сфере умности мы находим число и очислен-
ность.— Что же происходит при переходе этой числовой
и очисленной умности в чувственную сферу? Во-первых, в
чувственной сфере мы можем наблюдать оформления,
сконструированные по типу числовой и очисленной
умности, т. е. в соответствии с умными числами (παρά τούτων).
Естественно, что в таком случае мы и на чувственных
вещах будем созерцать числовые и очисленные оформления,
т. е. те же числовые эйдосы, но — с необходимым меональ-
ным сокращением, или т. н. эидолы. Эти эйдолы
необходимо должны быть очислены, так как получены они в
результате счета частей или, по крайней мере,
последовательного обзора частей целой чувственной вещи. Мы
сосчитали, соотнесли части, потом представили сосчитанное как
нечто целое. Получается очисление, и получается эйдол.
Но мы можем, во-вторых, вполне отвлечься от целокупного
узрения появляющихся в результате счета чисел,
отвлечься от чисел как смысловых изваянностей, хотя бы и
сокращенных, а можем заниматься только самим счетом,
только переходом от одного к другому, т. е. только
количеством. Тогда умное число уже не рассматривается не только
с точки зрения потенциально-энергийно-эйдетической
природы числа и очисления, но не рассматривается и с точки
зрения эйдологического числа и очисления. Тогда мы
всецело в сфере количества. Однако и здесь мы, в сущности,
не обходимся ни без чисел, ни без очисления. «Мы,—
говорит Плотин,— считаем и измеряем тут и числа и
очисления». Числа, добавлю я, измеряем мы здесь потому, что с
отнятием умного числа соответствующая чувственная
вещь потеряла бы свое осмысление и вообще перестала бы
существовать, так что в счисляемой вещи продолжает
оставаться то, с точки зрения чего происходит счет. Очи-
сление же измеряем мы потому, что нам приходится в
конкретном вычислении переходить от одного пункта к другому,
исчислять, выбирая одно и отбрасывая другое, расчленяя и
объединяя; не будь в исчисляемой вещи очисленного, не
было бы и самого счета, потому что даже в умном мире
очисленность есть та сторона, которой он, умный мир,
обращен к чувственному, и то, чем он с ним соотносится.
Вся эта часть 3, а—Ь, 15-й главы вплотную подводит
нас к третьему отделу разбираемой части трактата, изла-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
інінві
781
гающему учение о сущности количества, т. е. к 16-й и
14-й главам.
IX
Не (16-я гл., 2, 3, а, Ь). Что такое количество и каково
его отношение к проанализированному нами понятию
умного числа? Когда мы что-нибудь считаем и получаем в
результате счета то или другое «число», то это число уже не
будет чисто умной сущностью, как не будет и чисто
чувственной вещью. Умной сущностью не будет потому, что оно
предполагает счет; умная же сущность по смыслу своему
не имеет никакого отношения к счету. Чувственной же
вещью оно не будет потому, что чувственная вещь есть нечто
гораздо более сложное: тут множество всяких и
случайных, и неслучайных моментов. Что же такое «число»
счета? Оно, говорит Плотин, есть чистое количество. Как
же можно было бы точнее определить его отличие от умных
чисел? «Поскольку ты пробегаешь [определенный ряд
вещей] и [их] считаешь, ты создаешь количество». Но ведь
считать, пробегая ряд, значит расчленять и соединять,
причем это значит расчленять и соединять не кому иному, а
мне самому, счисляющему. Разумеется, вещи расчленены и
объединены до меня и без меня. Если бы я никогда не
счислял вещей и даже не умел бы счислять и никто другой не
умел бы и не мог счислять,— все-таки вещи, по Плотину,
были бы и расчленены и объединены. Тем не менее,
расчлененное единство вещей не может оказаться таковым для
меня, если я сам не могу их расчленять и объединять. Я сам
должен уметь пробегать ряд вещей и их считать. Таким
образом, необходимы одновременно и ипостасийное бытие
числа, и субъективная его счисленность. Вот передо мною
хор из 10 человек. Взглянувши на него мимолетно, я
отмечаю только то, что хор есть хор, т. е. нечто определенное
одно. Был ли он десятью человеками в тот момент, когда я
на него взглянул и нерасчлененно его отметил как
собрание неизвестного количества людей? Разумеется, он и без
моего счета был и определенной единицей, и, в частности,
десятью человеками. Тут не я создал единство десяти, а
«сама по себе» существовала «ипостасийная» и
чувственная десятка. Но вот я начинаю всматриваться в хор и
считать людей. Вот я получил «число» 10. Что это значит? Это
значит, что «ты [сам] создаешь [в таком случае] десять
Α. Φ. ЛОСЕВ
I——>
782
в процессе счета, обращая это десять в [простое]
количество». Отсюда выясняется природа количества.
Количество есть, скажем мы, сводя все рассуждения Плотина в
одну формулу, меональное, а именно
субъективно-психическое, осмысление умного числа, или меональная
осмысленность очисленного предмета. Или, в терминах Плотина, это
есть умное το άριφμητόν, которое, находясь в το μη δν,
теряет свой целокупно-целостно созерцаемый το είδος и
рассматривается со стороны του άριθμοΰντος в процессе του
διεξοδεύειν. Отличие количества от числа сводится, стало
быть, к тому, что: 1) необходимая для числа категориаль-
ность (т. е. различие, тождество и т. д.) конструируется в
количестве не само собой, в порядке общеипостасийной
значимости, но — субъектом; и 2) рассматривается не как
неделимая цельность умного эйдоса, но — как дискретная
разделенность чувственной и иной вещи. Разумеется, число
не нуждается в количестве, в то время как количество
только одна из форм функционирования числа в материи.
(16-я гл., 4, а—Ь). Теперь укажем, в чем заключается
сущность взаимоотношения количества и считающего. Как
условие всего рассуждения на эту тему Плотин
предполагает, что числа ипостасийно существуют и в нас,
счисляющих. Если бы мы не обладали ипостасийным бытием чисел,
то как мы могли бы применять эти числа для счисления, раз
чувственные вещи — как таковые — тоже о них ничего не
говорят? Но тогда сразу выясняется вся разница чисел,
ипостасийно в нас сущих и производимых нами в процессах
счета количеств. Как из «чисел в нас» — количества? Этот
вопрос сразу получает достаточное освещение, если
принять во внимание, что считающий, субъект, «душа», как и
вообще все на свете, есть тоже число. Я, считающий,—
тоже число; и немудрено, что я, как некое число, проявляю
свои числовые энергии в той или другой форме, и в
частности считаю, произвожу счет. Если нам понятно, как
получается количество при существовании умного числа, то
также должно быть понятно и то, как мы можем считать и
каково отношение счета к считающему. Второе есть
частный случай первого. И как там, так и здесь мы должны
утвердить: количество, во-первых, отлично от числа, или от
умной природы счисляющего, так как она есть функция
умности в материи, а во-вторых, абсолютно тождественно с
ним, или с нею, ибо здесь функционирует в материи не что
иное, как та же самая умность, и если бы ее здесь не было,
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
Г=1
783
то исчезло бы и самое количество. Таким образом, сразу
становится ясным отношение «счисляющего субъекта» и к
умному числу, и к количеству — на основе общего учения
об отношении числа к меону и к количеству.
(16-я гл., 5, а—Ь; 6). Как было сказано раньше (15-я гл.,
§ 2, Ь), число само по себе есть принцип сущего. Только в
своем полном оформлении и функционировании оно
делается энергииным эйдосом или сущностным числом. Вот
будучи таким сущностным числом, каждый из нас и
изливает из себя различные числовые и счетные энергии,
объединяя энергийно-рожденные нами конструкции с ипоста-
сийными числами, в нас сущими и нам имманентными.
Количество представляет собою некоторую аналогию с
качеством — в обоюдном отношении своем к эйдосу. Если мы
вспомним трактат II 6 (см. выше, стр. 31—33), мы увидим
все оттенки отношения качества к сущности. Отсюда ясней
и детальней представится также и взаимоотношение
количества и сущности. Вместо резюмирования трактата II 6
достаточно привести следующий дистинктивный ряд
понятий, который является подлинной «теорией абстракции»,
созданной гением греческого языка и закрепленной в
твердом философском осознании у Плотина: 1) эйдос, который
есть умное и сущее, с присущими ему «сущностными», или
эйдетическими, дифференциями; 2) эйдол, тоже умное,
сущее и сущностное, но данное в некотором перспективном
сокращении; 3) качество, которое есть внешнее состояние
сущности, становящееся и уже не умное, а ощущаемая аф-
фекция сущности; 4) окачествованное тело, факт
сущности, носитель эйдоса, эйдола и качества. Все четыре
момента суть непрерывное энергийное выхождение за свои
пределы в «иное», в материю. Эйдос — иное умной сущности;
эйдол — иное эйдоса; качество — иное эйдола; вещь —
иное качества. Это значит, что все четыре момента,
представляющие собою жизнь умной сущности в ином, связаны
между собой нерушимой диалектической связью.
Нетрудно вывести отсюда, путем аналогизации, и все
существенные моменты в понятии числа и количества. Мы
получаем: 1) умно-сущностный эйдос числа; 2)
осмысляющий чувственную вещь эйдол числа; 3) количество вещи и
4) вещь как носителя своего числового эйдоса, эйдола и
количества. И каждый момент здесь — иное в отношении
другого момента; и все они энергийно и диалектически
одно и не одно, тождественное и различное.
Α. Φ. ЛОСЕВ
784
(14-я гл., 1, a—d). Добавочные размышления к
проблеме количества дает 14-я глава. Здесь два главных
вопроса: о неделимой раздельности единого и о парусийном
бытии чувственного.— Помещая единое в ряду всего прочего,
легко смешать его с меональным бытием и приписать ему
только акциденциальную значимость. В самом деле,
обыденная мысль оперирует только с количествами. Число для
нее есть только количество. Но количество есть нечто
каждый раз устанавливаемое — при помощи случайных
субъективных процессов и случайно попавшихся
чувственных, текучих вещей. Еще один шаг — и мы должны
признать, что все числа суть такие же чувственные и случайно-
субъективные качества, как и белое, красное и т. д., и что
единого никакого нет самого по себе; оно — раздроблено в
отдельных количествах. Плотин отвергает все это
воззрение. Прежде всего, единое — принцип и исток всего сущего
и всякого числа — не может быть только аффицируемо.
Возьмите, говорит Плотин, тело определенной массы. Тело
вы можете раздробить на какое угодно число частей, но
как можно раздробить массу как таковую? Получится две,
три и т. д. массы же, т. е. в каждой из полученных частей
вы получаете всё массы и массы. Значит, дробится не
масса, а дробится единство определенного тела с определенной
массой, т. е. дробится так-то и так-то количественно
определенная масса. Точно так же не дробится и то единое,
абсолютная единичность, которая является принципом и
скрепой всего бытия. Бытие может как угодно дробиться
и испытывать ущерб, аффекцию, уменьшение и
увеличение; единое же, как таковое, остается абсолютно неаффи-
цируемым ни в какой из своих частей, ибо в каждой своей
малейшей части оно пребывает целиком без всяких
изменений. Основные рассуждения по этому вопросу находим в
VI 4 и VI 5 трактатах, которые выше уже цитировались
нами.
Единое и всякое число, значит, остаются вечно сами
собой и ни от чего не зависят. Никакое фактическое
сложение или деление не имеет к ним никакого отношения.
Только в самом умном мире, где всякое движение есть
движение ума и где все — «вместе»,— разделение и соединение
тождественно с происхождением чисел. В чувственном же
мире такое отождествление являлось бы ошибкой. В самом
деле, из того, что разделение разделяет, не вытекает же,
что само разделение разделено. От огня — жарко; это не
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
Ім^нмІ
785
значит же, что самое понятие огня жжется. Так и двойка,
разделяющая и объединяющая два предмета, сама по себе
отнюдь не есть процесс разделения и объединения. Сама по
себе она не имеет ничего общего с фактическим обстоянием
деления или сложения или разделенных и сложенных
вещей. Если брать голое фактическое обстояние, то
достаточно иллюстрировать полную его бессмысленность (если
брать его в чистом виде) тем, что двойка из единицы
получается одинаково и от деления надвое, и от умножения
надвое. Значит, ни деление, ни умножение и, добавим,
вообще никакой процесс в субъекте или в объекте не
относится к понятию двойки, и, какие бы количества мы ни
нагромождали, ни единое, ни любое число не
затрагивается этими операциями и этими количествами.
(14-я гл., 2, а—Ь). Второй важный вопрос,
затрагиваемый в 14-й главе, это — вопрос о парусии. Тут он совсем
не разрабатывается, но его надо было коснуться, чтобы
проблема количества получила свое завершение. Плотин
говорит, что числа в этом отношении вполне тождественны
с эйдосами. Как чувственное качество образуется в
результате парусии эйдосов, так и количество образуется в
результате парусии чисел.
X
lid (17-я гл.). Наконец, мы переходим к
завершительной главе всего центрального учения о числе, это — к
учению об умной бесконечности числа.
(17-я гл., 1, а—с). Итак, нами давно уже отвергнута
бесконечная увеличиваемость числа в качестве его
существенного признака. То, что мы имеем натуральный ряд
чисел, который может быть беспредельно продолжаем, не
имеет никакого существенного отношения к самому
понятию числа. Это признак меонально-определенного числа, а
не числа вообще. Тем не менее, можно ли окончательно
расстаться с понятием беспредельности в учении о числе?
Не входит ли признак беспредельности в число
существенных признаков числа как-нибудь в другом смысле, с другим
содержанием? Анализ обнаруживает, что этот вопрос
должен быть решен в положительном смысле.
Беспредельность действительно есть существенный признак числа,
хотя и не чувственно меональная беспредельность.
Обратимся к исследованию этого вопроса.
Α. Φ ЛОСЕВ
1 I
786
Число, как категориальное осмысление предмета,
наравне со всяким эйдосом есть нечто очерченное и
ограниченное. Ум не знает ничего вне оформления. Если что-
нибудь есть в уме, оно должно точно отличаться от всего
другого. Значит, все умные числа ограничены. Это мы
должны все время иметь в виду, чтобы не сойти с
правильного пути к отысканию подлинной беспредельности числа.
Умное число и всякое, какое угодно, умное число —
ограничено и строжайше оформлено. Стало быть, если числу и
свойственна какая-нибудь бесконечность, то она должна
быть вполне совместима с его ограниченностью и
строжайшим оформлением. Мы должны получить в результате
оформленную бесконечность, или актуальную
бесконечность. Как же она получается? Пусть мы имеем прямую
линию. Как известно, ее можно увеличивать сколько угодно.
Но зададим себе вопрос: можно ли увеличивать или
уменьшать линию как таковую, самый смысл линии, понятие и
эйдос ее? Относится ли к самому смыслу линии — быть
уменьшаемой или увеличиваемой? Когда я говорю о линии
или мыслю прямую линию, значит ли, что тем самым я
мыслю уменьшаемость ее или увеличиваемость? Конечно,
нет и нет. Как линия не содержит в своем смысловом
содержании ни того, что она начерчена мною, а не вами, ни того,
что, мысля о ней, я испытывал радость или тоску, так точно
она не содержит в себе и признака увеличиваемое™,
уменьшаемое^ и вообще какой бы то ни было прибыли или
убыли. К смысловому содержанию ее относится ее вечная
неподвижность, неподверженность никаким изменениям и
независимость ни от каких ни вещных, ни психических
событий или фактов. Попробуйте мыслить эту линию
принципиально изменчивой, не фактически изменчивой
(фактически— все изменчиво), но именно принципиально, по
своему смыслу и существу изменчивой и текучей. Это
значило бы нарушить принцип самой мысли и впасть в
сумасшествие. Следовательно, линия по своему смыслу
неподвижна, вечна, неистощима в своей значимости,
бесконечна по силе значимости, беспредельна по выявлению
себя именно как линии. Это не есть беспредельность и
бесконечность продления линии в пространстве (тут мы
перешли бы от логического существа линии к ее меональным
судьбам), но — беспредельность и бесконечность смысла,
значимости, эйдоса линии. Но что мы сказали о линии, то
применимо и к числу вообще. Разумеется, числа можно
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
*——ш\
787
увеличивать сколько угодно. Но какие числа? Только те
меонально-определенные числа, или количества, которые
возникают в результате меональных же, в частности
субъективно-психических, операций. Числа же, если их
брать сами по себе, неувеличиваемы и неуменыиаемы. Как
можно увеличить или уменьшить тройку? Три яблока я
могу уменьшить, съевши одно из них. Но сама по себе
тройка не зависит ни от каких яблок и ни от какой еды.
Она — по смыслу своему вечна и беспредельна, к чему бы
временному и конечному и как бы временно и конечно она
ни применялась. Признавать число бесконечным лишь в
смысле беспредельной увеличиваемости значит видеть в
числе только количество. А мы уже доказали, что
количества нет самого по себе без умного числа. Количество есть
только одно из проявлений умного числа в меоне. Стало
быть, необходимо признавать умное число. А тогда
необходимо признать, что ему свойственна своя беспредельность,
не потенциальная, но актуальная. Она вполне мирится там
со смысловой ограниченностью числа и его точно
очерченным оформлением, и не только мирится, а то и другое
вполне взаимно обусловливается и взаимно требуется. Можно
сказать, что умная беспредельность числа так относится к
беспредельной количественной увеличиваемости меональ-
ного числа, как вообще умная материя — к чувственному.
Умная материя есть раздельность в сфере самой умности, и
потому она сама есть ум и сущность. Чувственная же
материя есть раздельность в сфере временной текучести, и
потому она не ум и не сущность, а — принцип расслоения
(или становления) ума и сущности. Отсюда —
беспредельная количественная увеличиваемость и уменьшаемость как
подобие умной, не-количественной беспредельности
проявления числом себя в смысле числа.
(17-я гл., 2, а—Ь). Все это сведено в очень простую
формулу: «мыслительная концепция границы не содержится в
[самом] смысле линии-в-себе». Линия-в-себе, т. е. эйдос ее,
смысл ее, сам по себе беспределен, хотя это и есть
беспредельный смысл предельного. «Малое» — мало, но смысл
«малого» вообще не мал; он одинаково мал и велик, как и
все смыслы вообще. Предельное — предельно, и число —
ограничено, но это не значит, что самый смысл предельного
и числа ограничен; он так же беспределен и вечен, как и
любой взятый смысл и эйдос. Надо бояться также и того
вывода, что линия и число, в себе будучи беспредельны,
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι—»Ι
788
определяются и, следовательно, существуют только в
мыслительном определении. С точки зрения Плотина, не
может быть такого мыслительного определения, которое было
бы только субъективным процессом. Всякая вещь и
определена умно, и есть вещь независимо от субъективного
мыслительного определения. Это — и исходный пункт, и
конечный вывод всей системы Плотина. Если мы сами
определяем вещи, то как мы могли бы определить (и,
значит, создать) форму мира, если мы сами только часть мира
и мир — «раньше» нас? Значит, даже и физические
формы — «раньше» нас и для своего бытия не нуждаются в
том, чтобы мы их мыслительно определяли.
(17-я гл., 3, a—d). В чем конкретно сказывается умная
беспредельность числа? Ум раньше жизни, ибо он дает ее
смысловые скрепы и скелет; он — вечное и неподвижное в
постоянном течении и изменении живого мира. Одного
движения не может быть. Необходимо, чтобы оставалось
неподвижным то, что движется. Ум и умное число и есть
это неподвижное. Но ум и число в нем суть идеальные цели,
законы, смыслы, картинные типы всяческих движений и
изменений. В бурных и мутных потоках живой жизни они
остаются нетронутыми и как бы невесомо пронизывают
своими лучами тучи жизненных устремлений бытия. Умная
бесконечность числа проявляется в живой жизни как
неистощимая смысловая сила становлений, порывов,
рождений и смертей, как вечно-подвижная смысловая опора,
закон и цель непрестанно стремящегося потока бытия.
Жизнь мира и есть подлинное выявление умной
бесконечности числа.
(18-я гл., 1). О независимости умного числа от всякого
материального ущерба и прибыли говорит и то, что только
в конкретно-субъективной жизни мы сначала пользуемся
одним числом, а потом — другим. В уме же все числа даны
сразу, раз навсегда. И стоит только подумать нам о каком-
нибудь числе, как — оно уже налично; и это потому, что в
уме оно было всегда и до нашего процесса мысли. Его ум-
ность и беспредельность в том и заключается, что оно есть
оно, в то время как в чувственной и конечной сфере оно —
не только оно, но еще и бесконечное нарастание тех или
других мельчайших функций. Для чувственных вещей быть
ограниченным значит быть во времени, быть конечным и
разрушающимся. Для умных же вещей быть
ограниченным значит быть самим собой, не растекаться в чувствен-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
\ \
789
ной беспредельности и быть беспредельно сущим,
бесконечно мощным, в проявлении себя как определенного
смысла. Вот почему бесконечность ума и ограничение есть для
умного числа одно и то же. Число — актуальная
бесконечность.
В качестве подспорья к пониманию этого учения
Плотина об актуальной бесконечности можно привести немало
крупных и мелких текстов, но для наших целей достаточно
ограничиться следующими указаниями.— Очень важны,
прежде всего, главы III 7, 2—5 43, где показывается
различие отвлеченного смысла и вечности. Конечно,
отвлеченный смысл и ум, напр. любая категория, есть нечто
общезначимое и в этом смысле вечное. Но спецификум вечного
отнюдь не в том, что оно есть нечто чисто смысловое, т. е.
не чувственное, ибо мир, по Плотину, тоже вечен (ср.
отрицание «логисмоса» при создании мира в III 2, 14, также в
VI 7, 1—3 и в др. местах). И смысл — вечен, и мир —
вечен, но это и значит, что вечность мыслится Плотином как
нечто более широкое, чем отвлеченная идея и чувственные
вещи. Вечность, как учат главы III 7, 2—5, есть не просто
ум, но — анергия ума, умная энергия. А так как энергия
предполагает материю, инобытие (ибо она не есть эйдос, но
его осуществление) (ср. II 5, 3), и материя в данном случае
может быть только умной (ср. II 4, 3 и вообще II 4, 2—5),
то и энергия, и, стало быть, вечность есть не что иное, как
умно-материсиьное становление смысла, эйдоса, ума,
идеи. Это есть алогическая мощь самой идеи, но не
чувственно-алогическая, а умно же алогическая. С этой точки
зрения должно стать понятным учение Плотина в VI 7, 3,
которое иначе едва ли может быть разумно усвоено, а
именно, что в уме вещь и причина ее слиты в одно и что в
уме присутствует своя чувственность, В уме содержатся в
несравненно большей силе и жизненности все стихии,—
растения, земля, огонь, вода, воздух и проч. (VI 7, 11). Ум -
прообраз всего и сам есть жизнь, содержа в себе живое
небо и звезды, растения, живое море, дивные запахи, цвета
и звуки (VI 7, 12), так что наш мир — только
отображение ума, который есть «благозрачный архетип» (VI 7, 15) и
содержит в себе «предначертание» всех будущих
возможных воплощений (VI 7, 7). Вещи красивы не от симметрии
и не от красок, но этой жизненностью, этой живой энергией
43 Перевод и анализ — в «Античн. косм.», 342—348.
Α. Φ ЛОСЕВ
-J L·
790
ума и души (VI 7, 22), восходящей к световому началу,
которое выше самого эйдоса (VI 7, 32). Диалектика
энергий на фоне учения о трех ипостасях великолепно
проведена в VI 7, 13—14 (перев. в «Античн. косм.», 292—294).
Наконец, учение об умно-энергийном становлении ума, или об
актуальной бесконечности, помогает понять концепцию
ума в III 9, другими способами трудно локализируемую
на фоне всей философии Плотина. Попробуем сначала
прочитать этот загадочный текст, весьма трудный для
понимания, в нашем переводе.
III 9, 1. [Платон] говорит: «Ум видит идеи,
[имманентно] присущие живому существу как таковому (δ έστι ζώσν)»,
и затем: «Демиург размыслил, что и эта вселенная должна
иметь то, что ум увидит в живом существе как таковом.
Не говорит ли, следовательно, он, что эйдосы существуют
[еще] до ума и что ум мыслит их как [уже] сущие? Итак,
прежде [всего] необходимо исследовать, есть ли оно (я
говорю о живом существе) не ум, а иное ума.— [Мы знаем,
что] созерцающее есть ум. Значит, живое существо само не
есть ум, но мы назовем его умным, [а не просто умом] и
скажем, что ум имеет то, что он видит,— вне себя самого.
Стало быть, содержит он в себе отображения, [эйдосы,
истины], а не истину, если там [в уме как в живом
существе] — истина. В самом деле, он и утверждает, что истина
находится в сущем там, где каждое [явление оказывается)
самим [собою]. Кроме того, если даже то и другое, [ум и
живое существо], есть разное, то они отнюдь не
[пребывают] отдельно один от другого, кроме как только в смысле
[взаимного] отвлеченного различия. Затем, если [только]
придерживаться сказанного [в вышеприведенном тексте],
то ничто не препятствует тому, чтобы оба [эти начала]
были [чем-то] одним, [с одной стороны], с другой —
разделялись в мысли, если действительно только так сущее
есть, с одной стороны, мыслимое, с другой — мыслящее.
[Платон] ведь не говорит, что то, что [ум] видит, [то]
всецело имеет он в другом, но [именно] то, что мыслимое
имеет он в себе [же] самом. Кроме того, ничто не
препятствует тому, чтобы мыслимое было умом в покое, единстве
и безмолвии, а природа ума, видящего тот,
[пребывающий] в себе самом ум некоей энергией [этого последнего],
из него [исходящей], которая его [поэтому самому также]
видит. Видя его, он и оказывается как бы его
[собственным] умом, раз он его мыслит. Если же он его мыслит, то
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
791
вследствие подражания [ему] сам [является] и умом, и
мыслимым [уже] в другом смысле. Это и есть то, что [ум],
видя там, [в живом существе как таковом], размыслил
создать в этом мире [именно] четыре рода живых существ.
Во всяком случае, размышляющее [Платон],
по-видимому, скрытым образом делает отличным от тех двух
[начал] , т. е. от живого существа в себе и [ума]. У иных же
оказываются [эти] три начала одним,— живое существо
как таковое, ум и размышляющее. Кроме того, [возможно,
что] он мыслит три [начала] различными [только] потому»
что исходит [тут] из разных предпосылок, как это [и
случается с ним] во многих местах.
Итак, мы сказали о двух началах. Что же такое [то]
третье, что со своей стороны замыслило произвести,
создать и раздробить, видимое умом в качестве
покоящегося в живом существе? Возможно, что в одном смысле
ум есть тот, который раздробил живое существо; в другом
же смысле тот, который раздробил, [вовсе] не есть ум. В
самом деле, поскольку от него [исходит] то, что
раздроблено, он сам есть тот, кто раздробил; поскольку же сам он
остался неделимым, а то, что раздроблено, [изошло] от
него, т. е. души, то [не он, а общая] душа есть то, что
раздробило [умно-живое существо] на многие души.
Вследствие этого [Платон] и говорит, что дробление
принадлежит третьему [началу] и [находится] в третьем [начале],
так как он думал, что это не дело ума, но души, которая
обладает в дробной природе дробной энергией».
После первого чтения эта глава способна только
запутать понимание Плотина. Всем известно учение Плотина о
трех ипостасях. Их именно три, и средней является ум.
Теперь оказывается, что есть еще какое-то «живое существо
как таковое», или «живое существо-в-себе», которое не
есть ни одна из трех ипостасей и есть то, что имманентно
уму. Кроме того, ум сам трактуется здесь Плотином как
начало, созерцающее эту жизнь, или эти «идеи,
имманентные живому существу как таковому». Что это значит и как
нам отнестись к этому учению?
Тут надо, прежде всего, обратить внимание на то, что
ум, данный как самосознание, трактуется у Плотина как 1 )
мыслимое и как 2) мыслящее. Если есть в уме то, что
мыслится, то с полным правом можно сказать, что «эйдосы
существуют [еще] до ума», что ум их как бы заново
конструирует и понимает. Есть в уме отвлеченная, как бы вне по-
Α. Φ. ЛОСЕВ
I - I
792
нимания данная сущность, сущее, и есть понимание ее,
мышление ее, новое конструирование ее. Есть ум как
потенция, и есть ум как энергия. Разумеется, разделение это —
чисто мысленное, и фактически есть только один и
единственный ум. Один ум — «в покое, единстве и безмолвии», и
другой ум — тот, который его созерцает, его понимает. Они
абсолютно различны и абсолютно тождественны. Но чтобы
уразуметь полностью мысли III 9, 1, необходимо обратить
внимание на понятие «размышляющего» (το διανοούμε-
νον), которое, как это сразу видно, совершенно отлично от
понятия «мыслящего» (το νοοΰν). Сам Плотин говорит, что
это — третий принцип в сравнении с вышеупомянутыми
двумя — умом мыслимым и умом мыслящим. Но какой это
третий? Что это не та основная третья ипостась, видно
уже из того, что и упомянутые два начала не есть Плоти-
новы первые две основные ипостаси, и здесь, стало быть,
счет идет совершенно в ином смысле. Кроме того, сам
Плотин противопоставляет в конце главы это «третье» начало
своему основному третьему, душе, как неделимую ум-
ность — дробным энергиям. Остается, следовательно, и
«размышляющее» поместить все в ту же основную сферу
ума как второй ипостаси. От души оно отличается тем, что
оно есть умная цельность, в то время как душа — начало
становления и дробления ума в инобытии. Чем же
отличается это «размышляющее» от «мыслимого» и
«мыслящего»? Тут основной текст такой: «...то, что со своей стороны
замыслило произвести, создать и раздробить видимое умом
в качестве покоящегося в живом существе». Значит: есть
1 ) живое существо, которое видимо умом; есть 2) ум,
видящий это живое существо; и есть 3) ум, который это свое
видение и видимое недробимо мыслит дробящимся и
проистекающим из себя. Или: есть 1) потенция сущего в уме, 2)
энергия сущего в уме и 3) сам ум как результат энергийно-
го мышления сущих потенций, результат хотя и все еще
чисто умный же и потому недробный, но уже
долженствующий раздробиться и заново воплотиться в космосе, в
инобытии. Таким образом, Плотин трактует свою вторую
основную ипостась 5* ум, в III 9, 1 как состоящую из трех
умных сфер: «мыслимое», «мыслящее» и
«размышляющее». И для «живого существа как такового» нет в уме
никакого другого места, кроме «мыслящего», т. е. кроме
энергии ума, пребывающей в сфере самой же умности.
Имея в виду эту интерпретацию, можно понять и весь
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
793
темный текст III 9, 1 Именно, в начале главы и
приводимые слова Платона, и собственные слова Плотина имеют в
виду ум в «третьем» смысле слова, т. е. не как потенцию, не
как энергию, но как результат энергии ума, как синтез
энергийного становления ума и его потенциальной
отвлеченно-смысловой сущности. «Ум видит идеи, [имманентно]
присущие живому существу как таковому». Из этого,
между прочим, видно, что ум в третьем смысле есть не что
иное, как идея, т. е. как законченный лик энергийно
ставшей потенции. Идея есть то, что видимо в «живом существе
как таковом». Далее, понятным оказывается, почему
«эйдосы существуют [еще] до ума и что ум мыслит их как
сущие»,— так как ум здесь трактуется не как совокупность
эйдосов, но как энергийная их проявленность и воплощен-
ность в уме. Понятно и то, что такой ум диалектически
позже «живого существа» и отличается от него. Как само
живое существо есть энергийное становление и, стало
быть, мышление отвлеченно- и потенциально-сущего
(заметим, для Плотина каждое движение ума есть
мышление), так и ум («третий», «идея») есть мысль о живом
существе; и в этом смысле последнее, конечно, не мыслит,
но само является предметом мысли. Ум тут только
«отображение истины».
Однако как раз в проблеме различия и тождества
«живого существа» и ума (как «идеи») Плотин сталкивается с
проблемой мыслимого и мыслящего вообще — той
антитезой, которая, конечно, тождественна с антитезой «живого
существа» и «идеи», но по существу своему гораздо беднее
ее и отвлеченнее, в диалектической системе элементарнее и
первоначальнее. В дальнейших рассуждениях Плотин
называет «мыслимое» «умом в покое, единстве и
безмолвии», что, разумеется, уже не приложимо к «живому
существу как таковому», а представляет некую более
отвлеченную категорию, именно ум в смысле только потенции и вне-
выразительной умности. Кроме того, ниоткуда не видно,
что Плотин тут утверждает, что ум в смысле идеи есть
«некая энергия», «исходящая» из «живого существа»; но
очень понятно, что «живое существо» есть энергия
потенциально-сущего ума, пребывающего в «покое, единстве и
безмолвии». Только после краткого зафиксирования этого
взаимоотношения мыслимого и мыслящего Плотин
вскрывает подлинное взаимоотношение «живого существа» в
уме и «идеи». Идея есть недробный, неделимый смысл энер-
Α. Φ ЛОСЕВ
794
гийно-дробимого и делимого живого существа, подобно
тому как само живое существо есть неделимый смысл
делимого, т. е. становящегося и воплощаемого
потенциально-сущего.
Резюмируя эту темную, но очень важную главу, я бы
сказал так. 1) В уме необходимо различать: а) эйдосы, или
сущее, являющиеся предметом мышления; Ь) живое
существо и с) имманентно присущие ему идеи. 2) Между живым
существом и идеей существует отношение чистого и
абсолютного различия и тождества; они различны по смыслу,
но неотделимы по сущности и по факту. 3) Это
взаимоотношение — то же, что и вообще взаимоотношение мыслимого
и мыслящего, которое дается а) как отношение
безмолвного покоя в единстве и энергии, Ь) как взаимное
отражение в мышлении и с) как взаимоподражание. 4)
Поэтому идея есть, и по Платону, по-видимому, нечто
отличное от живого существа и тем более от вообще
мыслимого и мыслящего, хотя это и проводится у него неясно, а у
других совсем отрицается. 5) Именно, она есть то, что
ведет эту умно-созерцаемую живую жизнь к становлению в
сфере инобытия, где эта жизнь превращается уже в
дробную энергию отдельных душ, но вместе с тем и — то, что
само пребывает в нераздроблении, в чистой нетронутости
умного смысла.
Короче говоря, идея есть синтез и тождество мыслимого
и мыслящего, умно-неподвижного и
жизненно-становящегося смысла (или сущего) и жизни. Ум в конечном счете
есть тождество предела и смысла, с одной стороны, и
беспредельного, алогического,— с другой.
Так глава III 9, 1 оказывается учением об актуальной
бесконечности 44.
44 Тут очень отчетливо видно, как Плотин близок к тем конструкциям,
которые потом будет развивать Прокл. Учение последнего о ноэтическом,
ноэти чески-ноэрнческом и ноэрическом уме (напр., Inst. Theol. 101—103,
161, 163, 197), равно как и развитие учения Платона о пределе и
беспредельном (Phileb. 23e—26d, напр., в Inst, theol. 89—90, ср. 91—92, 105
и др.), есть не что иное, как философия актуальной бесконечности, что,
однако, требует особого изложения и анализа. Между прочим, подобные
тексты Плотина показывают, как близко подошел к подлинному
пониманию платонической идеи P. Natorp, который существенным моментом ее
считает тождество «смысла» и «души». «Der Logos ist auch ihm» (для
Платона, как и идея Гераклита) «Logos der Psyche, der Logos «selbst»
auch die Psyche «selbst»»6* (Plat. Ideenl. 1921 2, 468, ср. мое изложение
новых взглядов Наторпа на Платона — в «Античн. косм.», 517—522).
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
. I 1
795
Из философии числа, которую построил Плотин в
главах 7—11 и 14—18 своего трактата VI 6, вытекает и вполне
определенная критика учений Аристотеля и перипатетиков.
Эта критика, занимающая 12-ю и 13-ю главы, сводится, в
кратком резюме, к следующему.
(12-я гл., 1, а—Ь). Во-первых, пусть существует только
индивидуальное, а все общее, как, напр., единое, возникает
в нас только чисто субъективно, в результате аффицирова-
ния наших чувств. Спросим: а полученная аффекция и
всякий субъективный образ есть нечто единое и раздельное
или нет? Если нет, тогда о них ничего сказать нельзя, ибо
они неразличимы, и тогда напрасно вы ссылаетесь на то, о
чем ничего сказать нельзя и что немыслимо. Если же
субъективные образы едины и раздельны, то это единство и
раздельность или получены от вещей (т. е. сами вещи
таковы), или мы их создали, пользуясь постоянно
существующими в нас понятиями единого и раздельного. Так как
зависимость от вещей вы отвергли сами, то вы должны
признать, что единое и числа существуют ипостасийно,
независимо ни от каких индивидуальных фактов.
(12-я гл., 2, а—Ь). Во-вторых, нельзя утверждать, что
числа создаются самой мыслью. Создать можно только
текуче-психическое явление, затративши те или другие
психические усилия. Но создать самый эйдос нельзя, ибо
эйдос — вечен, несоздаваем и обладает ипостасийной
природой. Сама мысль требует для себя ипостасийности своего
эйдоса, как и все движущееся требует смысловой
неподвижности того, что движется. Но, признавая только вещи и
психическое аффицирование, невозможно принять ипоста-
сийность эйдоса.
(13-я гл., 1, а—Ь). В-третьих, единое число, если бы
оно создавалось человеком, оно обладало <бы> всеми
чертами текучести, что, однако, противоречит смыслу единого
и числа, и не имело бы никакого значения вне аффицирова-
ния, а мы применяем числа решительно ко всему, что и не
имеет никакого отношения ни к аффекции, ни даже к
человеку.
(13-я гл., 2, a—d). В-четвертых, если мы говорим
вообще о чувственных качествах на основании реального
Хороший комментарий на III 9, 1 можно найти у Фичино (Plot. орег. omn,
Mars. Ficini interpr. Basil 1480, p. 353), который также полагает, что
Плотин следует тут за «viam Jamblichi Proculique».
Α. Φ. ЛОСЕВ
796
расчленения и видения, то такое же расчленение и видение
мы имеем и в отношении чисел, с тою только разницей,
что числовое расчленение есть нечто гораздо более
основное и первоначальное. Или признайте, что все насквозь
субъективно, и тогда нечего говорить об аффицировании,
или признайте, что все объективно, но тогда не говорите,
что числа не обладают ипостасийной природой.
(13-я гл., 3, a—d). В-пятых, в чувственном мире мы
находим разные степени единого; мы находим, что одно
«больше» или «меньше* другого. Это может быть только в
том случае, если есть единое вообще, которое вне всяких
«больше» или «меньше». Если уничтожить то, о чем что-
нибудь говорится» то бессмысленно будет и говорить то, что
говорится. Если есть степень чего-нибудь, то должно быть
и оно само. Поэтому, видя кругом себя единичности и не
видя самого единого, мы можем говорить о разных единич-
ностях только потому, что абсолютное единое мы знаем
сами, до наблюдения отдельных единичностей.
(13-я гл., 4, а—с). В-иіестых, числа первее не только
чувственно-сущего, но и умно-сущего, ибо всякое умно-
сущее уже предполагает единство и раздельность. Не
сущее порождает числа, но само число все порождает. Это
есть само первоединое в своем творчестве и порождении
нового.
XI
В заключение своего трактата Плотин восхваляет
вечную жизнь мирового целого, высказывая свои обычные
любимые мысли.
(18-я гл., 2, a—d). Основанная на числе и его красоте и
соразмерности мировая жизнь прекрасна и всесильна; она
не прибывает и не убывает. «Она знает, почему она живет и
для какой цели, [являющейся для нее опять тем самым],
откуда она истекает для жизни, ибо исток ее и есть цель
ее». Сходные мысли высказывает он в главах VI 7, 2—3,
которые важны как раз с этой точки зрения. Содержание
этих глав показывает, что тут перед нами одна из основных
проблем философии Плотина.
(18-я гл., 3, а—е). Заключительное рассуждение
Плотина о вечности и силе ума, вполне понятное после всех
наших комментариев, может быть иллюстрировано,
пожалуй, только в двух направлениях, особенно тут, в заключе-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
797
нии, выдвигаемых. Это — учение о неаффицируемости
умного и о вэаимо-имманентности умного и живого, сущего
и жизни.— Для первого учения, кроме всего прочего, я
привет бы специальные рассуждения в IV 6, 1—5. В IV 6, 1
неаффицируемость души прямо ставится в зависимость от
того, что сущность ее — число и смысл; και δη είτε αριθμός
είτε λόγος,... ή ουσία αυτής, πώς αν πάθος έγγένοιτο έν
αριθμώ ή λόγ<ρ; в VI 6, 2 — важная мысль о том, что умное
тотчас Іже уничтожилось бы, если бы изменилось, и т. д. Для
второго учения характерны: приведенные места из VI 4
и VI 5, а также: VI 7, 6 (о разных иерархиях душ и о
восхождении к уму); VI 7, 7 (о πρόδρομοι έλλάμψεις умной
души εις την ΰλην и о возникновении ощущений как άμυδ-
ραι νοήσεις и мыслей — как εναργείς αισθήσεις); VI 7, 8
(очень важное рассуждение о том, что ум не мог
остановиться на уме же и не породить чувственность, и о том, в
каком смысле ум есть тоже живое существо); VI 7, 9 (о
том, как согласуется неразумие и неживость чувственных
вещей с полнотой смысла и всеобъемлющей жизнью ума);
VI 7, 10 (наибольшая полнота жизни в чувственной сфере
достигается бесконечными различиями эйдосов ее и
степеней, что нисколько не умаляет достоинства ума, но,
наоборот, выражает его); VI 7, 11 (великолепное рассуждение
на тему о том, как в уме присутствуют и растения, и земля,
и огонь, и воздух, и вода,— наилучшая иллюстрация для
VI 6, 18); VI 7, 12 (все, в чем состоит существо неба, и
море, и вода, и все живые существа, и ветер, и теплота, и
запахи, и цвета — все налично в уме в своей умной
природе); VI 7, 13—14 (лучшее место по диалектике ума и
жизни). Эти главы VI 7, 6—14 — лучшая во всем Плотине
иллюстрация к проблеме взаимо-имманентности ума и
жизни.
XII
Мне остается теперь, после анализа VI 6 и после того,
как я уже достаточно показал всю центральность для
Плотина учения о числе, сделать такие выводы, которые бы в
немногих словах дали точное изображение и учения о
числе, и связь этого учения с прочими основными
принципами философии Плотина. Эти выводы я формулирую в
немногих тезисах для большей отчетливости изложения.
I. а) Теоретическая философия, которая есть не что
Α. Φ. ЛОСЕВ
798
иное, как диалектика, есть учение о том, как бытие
присутствует в мысли, в уме 45.
b) Приступая к анализу бытия в мысли, мы начнем с
фиксирования первоначальной точки, или одного, единого,
которая необходима для всяких различений и соотнесений
вообще.
c) 1. Если одно рассматривается как именно одно,
оно — неразличимо, неименуемо и выше всякого бытия и
мысли, ибо ни от чего не отличается.
2. Если же одно, единое, рассматривается не просто
как таковое, но и как сущее, с точки зрения бытия, т. е.
когда оно полагается, то оно отличается от иного, материи,
которая, однако, не есть новая вещь, но лишь принцип
осмысления одного как сущего одного.
d) Итак, конструкция бытия, сущего в уме
предполагает два принципа: 1) одно, единое, и 2) иное, материю,
меон. Это суть именно принципы, а не сущности и не вещи.
Они ниоткуда не происходят, и бессмысленно спрашивать
об их появлении, ибо сама мысль, напр. сам этот вопрос
«откуда», уже их предполагает. Они зависят сами от себя и
порождают сами себя. От остального же они не зависят,
но, наоборот, сами являются потенциями его.
II. а) Эти два принципа, взятые в раздельности, в
абсолютном противоположении, были бы, однако,
чистейшей бессмыслицей, если бы в них не было точки
абсолютного тождества, так как инаковость не есть нечто
абсолютно независимое от единого, но есть лишь принцип
оформления его из неразличимости в раздельно-сущее.
Другими словами, единое и иное не суть только смысловые
потенции, но еще и энергии. Единое есть умная смысловая
энергия, которая как таковая есть энергия
саморазличения, или самопорождения, единого и, стало быть, энергия
« самой инаковости. Единое, которое потенциально есть
все, в энергии становится этим воем; инаковость же,
материя, которая тоже потенциально есть все, но только все
иное в отношении единого, также становится в своей
энергии этим иным всем. В результате рождается смысл, или
ум, который есть определенным образом раздельное (т. е.
причастное инаковости единое), или единое не как сверх-
45 Плотину принадлежит лучшая во всей античной философии
формула диалектики — I 3, 4—5 (переведено мною в «Античн. косм.»,
прим. 25).
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1—»I
799
сущая потенция единичности, но как объединенность всего
осмысленного в единстве энергийно-сущего
b) Итак, кроме единого (как потенции и принципа) и
меона (как потенции и принципа), мы получаем еще новую
потенцию и принцип, что представляет собою уже их
объединенность, внутреннюю взаимопронизанность и как
бы новую неделимую цельность. Эта потенция и принцип,
являющиеся здесь потенцией и принципом уже не единого,
но сущего, бытия, ипостасийности, есть число. Число —
принцип ипостасийности и бытия, потенция энергийно-
сущего, потенция смысла и ума, энергийно-возникших из
перво-потенции единого.
c) Раскрывая более подробно сущность числа, мы
видим, что оно порождает собою прежде всего энергий-
ность в едином, или 1 ) движение. Но движение возможно
только относительно чего-нибудь покоящегося; и энергий-
но движущийся смысл должен во все моменты своего
движения оставаться и самим собой, покоиться, быть
определенно положенным. Стало быть, число порождает 2)
покой в едином. Но покой может только тогда быть наряду с
движением, когда он отличается от него, хотя, если он
только отличается и абсолютно ни в чем не тождествен с
ним, тогда немыслимо и само различие. Стало быть, число
порождает также 3) различие и 4) тождество в едином.
Итак, число превращает нерасчленимое и сверх-сущее
единое в такое единое, которое есть вместе с тем 1 ) сущее,
2) движущееся (в чистом смысловом и умном движении),
3) покоящееся, 4) раздельное и 5) самотождественное.
Число как принцип и потенция сущего порождает пять
категорий чистого ума — сущность, покой, движение,
тождество и различие,
d) Число есть, таким образом, принцип объединения
единого и иного, единого и материи. Если мы будем
рассматривать не результат этого объединения, но самый
процесс и метод объединения, то это будет именно число.
Число есть умное «как» конструирования смысла,
смысловой метод конструирования бытия вообще. В этом
отношении число как принцип и потенция сущего противостоит
энергийно-возникшему сущему и, следовательно,
индивидуально-сущему, или эйдосу. Число есть принцип самой
категориальности смысла и может быть определено как
1) раздельное 2) тождество 3) в подвижном 4) покое 5)
сущего, или — подвижной покой раздельной самотождест-
Α. Φ. ЛОСЕВ
Іттштш\
800
венности сущего, или — единичность, данная как
подвижной покой самотождественного различия.
III. Итак, единое, меон (материя) и число — три
основных принципа сущего. Что же получается в результате
этих принципов и этих потенций?
a) Прежде всего, мы получаем некоторую границу
сущего, точное и резкое оформление, ибо все, что есть
смысл и что есть в уме, точно и резко отличается от всего
иного. Сущее, оформленное числом, предстает перед нами
как некая умная картина, как смысловая изваянность,
конкретно осязаемая умом, как некоторая индивидуально
проявленная энергия, или как эидос, лик. Число как бы
ваяет умные статуи из неразличимого материала умности.
b) Эйдос есть чисто умная осмысленность сущего,
отличная как от энергии сущего (ибо энергия есть принцип
действия сущего на меон, а не лик сущего), так и от
потенции сущего, или числа (ибо потенция сущего есть тоже
только принцип приятия меоном на себя сущего; при этом
заметим, что в уме потенция и энергия — одно и то же), и
уже тем более отличная и от потенции, и от энергии
сверхсущего единого самого по себе. Но, будучи такой оформ-
ленностью и умно-оптической изваянностью, эйдос требует
двух других — тоже эйдетических — начал, это — умной
материи и умного времени.
c) Под материей и временем обычно понимаются
чувственные данности. Однако как чувственные данности они
возможны лишь в смысле отражения, «подобия»
соответствующих умных данностей. Что же такое материя? Что
такое чувственная материя, подробно излагается в II 4, 8—
16, в главах, с которыми мы встречались выше. Она есть
принцип определения смысла, а именно принцип
частичного определения смысла. Смысл есть смысл. Что такое
факт смысла? Факт смысла есть та или иная воплощен-
ность смысла, та или иная, следовательно, частичная его
данность. В этом и заключается вся феноменологическая
сущность материи. Она — иное, инаковость смысла,
«восприемник» смысла. И потому ясно, что материя, хотя она
сама по себе и не элементы, и не атомы, и вообще не
факт, все-таки есть абсолютно необходимый принцип для
конструирования факта. Но «чувственная» материя есть
инаковость, данная в функции частичного осмысления
смысла. Что получится, если мы отбросим эту функцию, а
будем рассматривать инаковость саму по себе, инаковость
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
801
как эйдос? Мы получим тогда «умную» материю, которая
как таковая, конечно, раньше чувственной материи, ибо
последняя есть только производное и частичное
применение первой.
Равным образом и время есть не только чувственно
воспринимаемое время, напр. движение и его моменты. Мы
должны спросить себя: как возможно самое движение в
качестве показателя времени? Что такое время в своем
эйдосе? Ибо время как факт, психический или
чувственный, всегда есть лишь применение и следствие умного
времени. Как для счета десяти лошадей нужно иметь понятие
числа вообще и числа десять в частности, так и для
измерения чувственного времени нужно время вообще, время как
чистый смысл и эйдос. Что такое время как чистый смысл и
эйдос? Что такое чисто умное время, если отбросить
всякую чувственную и материальную характеристику?
Оказывается, что такое чистое время есть не что иное, как
вечность, а именно вечная неистощимая энергия и жизнь,
свершающаяся за пределами звездного времени. Отсюда
Плотин учит, что вечность есть мерило времени; отнявши
вечную жизнь, вы должны будете давать времени только
тавтологическую характеристику, сводящуюся к тому,
напр., что «время есть движение во времени». И только
умное движение вечности способно осмыслить чувственное
становление времени.
d) Если в уме существуют эйдосы, то есть то, что имеет
эти эйдосы. Другими словами, в чистом уме должен быть
принцип различия, чтобы получилась раздельность и из-
ваянность. Однако, поскольку эйдос есть нечто
умно-оптическое, и различенность должна быть здесь тоже умно-
оптической а не простым принципом (т.е. потенцией). В
уме и эйдосе должна быть такая различенность, которая
сама по себе есть эйдос, ум и сущность. Это и есть умная
материя.
Понятие умной материи — огромно по своей важности.
Обывательское сознание мыслит смысл и умные сущности
только лишь как раздельные и самостоятельные понятия.
Плотин учит, что в сфере самой умности и понятийности
содержится как бы умный материал, понятийная масса, из
которой уже получаются самостоятельные и законченные
понятия. Это, однако, не физический и не психический и
вообще не фактический материал, но — умный и
смысловой. Такое понятие умной материи — залог ценности ирра-
26 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
802
ционального. Мы привыкли думать, что только
рациональные понятия имеют ту или иную значимость. Но жизнь
убеждает, что все страсти, эмоции, припадки бешенства и
злобы, все аффекты, чувства и т. д. и т. д.— все это имеет
тоже свою осмысленность, уже алогическую, и, чтобы быть,
все это, как текучее, должно управляться нетекучим умным
аналогом, который и есть умная материя. Он — иное
эйдоса. Эйдос — точен и осмыслен. Материя — текуча,
размыта, алогична, инаковостна. Но эта инаковость, как
умная, сама есть эйдос, особый инаковостный эйдос.
Такова умная материя 46.
e) Но умная материя есть эйдетическая инаковость
статически данного эйдоса. Мы же сказали, что число,
оформившее ум и эйдос, есть принцип не только
статического различия, но и подвижного различия. Другими
словами, в уме и эйдосе должно существовать то начало,
которое конструирует их неистощимость и энергийность. Без
этого в эйдосе мы имели бы одну и ту же картину, которая
застыла и умерла бы раз навсегда, без малейшего
проявления жизненности и новизны. Иначе говоря, в уме должно
существовать умное время, г. е. вечность, или время как
эйдос 47 Оно предстоит как неистощимо являющая себя
универсальная целокупность законченного бытия.
f) Итак, если мы имеем ум, или мир эйдосов, то:
1. Принцип, или потенция, самой умности как таковой,
или эйдетичности, или принцип самой умности сущего (в
уме) есть число (как целостный результат двух других
высших принципов, единого и меона);
2. Принцип, или потенция, самой умности как таковой,
данный как выполнение умности (сам принцип есть только
исток и корень, задание, в то время как должно быть, в
силу значимости самого же принципа, еще и истекшее,
выросшее, выполненное), есть энергия умности, а энергия той
или другой умной индивидуальности есть эйдос (стало
быть, эйдос есть индивидуализированное число);
3. Эйдос, данный как смысловое полагание, вернее,
положенность, или как покой, есть умный факт, как
наличие смысла, отличного от всего, что не есть эйдос; данный
как смысловое движение, он есть порождение и смысловое
46 II 4, 2—5, посвященные умиой материи, переведены мною в
«Античн. косм.», 322—325.
47 Учение Плотина о вечности изложено с соответствующими
переводами в «Античн. косм.», 342—348.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1 I
803
творчество, энергия умности, что при соотнесении с не-
эйдетическим бытием, с иным, с не-сущим и не-умным, есть
время ума, умное время, или вечность, неистощимость
эйдетических воплощений и становлений; эйдос, данный
как умная различенное™, как инаковость и восприемник,
носитель смысла, вносящий в него умные различия, есть
умная материя-, данный как самотождественность смысла
везде и во всем, есть осмысленность как таковая, смысл
эйдоса, и, наконец, данный как сущее, т. е. как
трансформированное в категориальную структурность сверх-сущее
одно, сверхкатегориальное единое, есть единое смысла, или
смысловая индивидуальность, смысл как
индивидуальность.
g) Умный предмет, энергийно порожденный числом,
есть, стало быть, /) индивидуальность (сущее) 2) смысла
и ума (тождество), 3) полагающая себя (покой) как
4) умно-телесный, т. е. расчлененно-множественный
(различие), факт 5) живой вечности (движение). Или: умный
предмет есть смысловая выраженность числа, символ
числа. К этому необходимо прибавить, что число, доселе
рассмотренное как умный принцип, может быть само
рассмотрено как эйдос, т. е. как эйдос того или другого
определенного числа (1, 2, 3, 4 и т. д.); и тогда такое число
разделяет все свойства только что формулированного
эйдетического умного предмета, т. е. число как эйдос будет
порождением числа как принципа, или потенции (при посредстве
числа как энергии).
Отсюда мы видим, какой интимной основой своей
связано все сущее с числом. Число — порождает все, и прежде
всего умные предметы. Разница между всяким эйдосом и
числом только та, что число, если его брать тоже как эйдос,
есть как бы умный контур, силуэт и смысловой скелет
эйдоса вообще. Вещь и есть число, рассмотренное как контур
умной индивидуальности. Каково, далее, отношение числа
и времени? Число и есть время, рассмотренное в
неподвижности своего умного движения, движения — как эйдоса. А
что такое время? Время и есть число, рассмотренное в
подвижном разнообразии своего умного покоя. Число —
неподвижный образ вечно-движущейся умной жизни.
Время — подвижной образ вечно-покоящейся умной
жизни в себе. Каково, наконец, отношение числа к материи?
Число и есть материя, рассмотренная с точки зрения
порождения ею все новых отличных друг от друга ликов,
26*
А Ф.ЛОСЕВ
804
или с точки зрения ее покоящейся самотождественности.
Материя и есть число, рассмотренное с точки зрения
результата его осмысливающих функций или, точнее, с точки
зрения его подвижной различенности.
IV. а) До сих пор говорилось о числе, как потенции,
энергии и эйдосе исключительно умного мира,
исключительно сферы чистого смысла. Но этим роль числа не
кончается. Поскольку все умное не только самоосмысляется,
но осмысляет и все иное, число продолжает играть
первенствующую роль и в дальнейшем.
b) Для этого необходимо, чтобы сконструированные
нами умно-оптические эйдосы в свою очередь стали играть
роль принципа и потенции, но только уже не в отношении
ума же (для последнего мы формулировали выше другие
принципы), а в отношении иного, в отношении того, что не
есть ум, а только степень и часть его, т. е. в отношении
души и далее — тела.
c) Тут совершается существенное изменение всех
умных начал на том основании, что меон рассматривается
здесь уже не как умное же начало, т. е. не как
различенное^ в сфере самого смысла, но — как различенность
смысла с точки зрения того, что не есть смысл, т. е. в
результате нового взаимоопределения смысла (эидоса, сущего) и
меона получаются уже разные степени смысла. (Так,
душа — степень ума, ибо это становящийся только ум, а
тело — степень души, ибо это — только чувственно
становящаяся душа.) А именно: 1) вместо покоя мы получаем
здесь чувственный, или психический, факт и вещь; 2)
вместо движения — наше звездное, солнечное время; 3)
вместо тождества — чувственное осмысление вещи; 4) вместо
различия — темное и мертвое пространство; 5) вместо
сущего — индивидуально-данную чувственную вещь.
d) Число — уже как умный эйдос,— превращаясь при
осмысливании такого чувственного мира снова в принцип,
а именно в принцип чувственного осмысления, не может
быть называемо по-прежнему эйдосом, так как, действуя
в материи и через нее сокращаясь, оно есть уже
сокращенная энергия и эйдос. Назовем потому его эйдолом, а также
энергизированным сущим (ενεργεία), а не просто
энергией. Стало быть, число как принцип чувственного
осмысления есть энергийно-данный эйдол.
e) Наконец, в ином отношении окажется также энер-
гийно-данное к потенциально-данному. В то время как в
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1—1
805
умном мире энергийно-данное (функция смысла) и
потенциально-данное (функция материи) были тождественны,
ибо сама материя была там сущностью, здесь материя
мыслится именно как иное смысла (а не просто в виде иного
единого), и потому энергийно-данный эйдол здесь
существенно противостоит потенциально-данной материи.
f) Но в уме мы различили число как принцип (чистая
потенция) от числа как эйдоса (где потенция и энергия
одно и то же). Что же соответствует этому в чувственном
мире? — Тут мы находим, что числу как принципу
чувственного осмысления, или эйдолу, энергийно-сущему,
противостоит количество — как выполнение и чувственное
выражение этого принципа. Количество, качество время
(пространственное), пространство (чувственное) и
чувственная вещь суть порождения числа как эйдола. Это — то
потенциально-данное, которое, воспринимая на себя эйдо-
лическую энергию числа, есть последний результат
действия числа вообще. Число, стало быть, и здесь есть принцип,
но только принцип чувственного осмысіения и катего-
риальности сущего, как там, в уме,— принцип умного
осмысления и умной категориальности.
V Всю конструкцию бытия, данную Плотином, и место
числа в ней можно представить, следовательно, двумя
способами — или как принципно-трансцедентальную, или
как эйдетически-феноменологическую. В первом ряде мы
получаем следующие принципы:
А. 1. Единое'.
a) как чистое «сверх» (выше смысла и бытия);
b) как потенция (абсолютная единичность всего,
или все — как ни от чего не отличимая, ибо и нет
ничего иного, единичность);
c) как энергия (здесь единое порождает из себя свое
осмысление и оформление, или материю,—
противопоставляя себя как сущее — не-сущему).
2. Материя, меон — как чистая инаковость, вне
квалификации умности или чувственности.
3. Число:
a) как целостная объединенность единого и
материи, энергийность перехода единого в иное;
b) это же — как принцип сущего вообще, т. е.
принцип осмысленности как таковой,
категориальности, принцип смыслового объединения одного и
иного.
Α. Φ. ЛОСЕВ
-J L-
806
4. Логос, или смысл вообще, не только числового, т. е.
смысл не в качестве только «как», но
индивидуально-данный смысл — в противоположность везде одинаково
действующему числовому принципу.
5. Этот логос (как принцип и индивидуального
осмысления вообще, и индивидуального числа) существенно
один и тот же, рассматривать ли его как чувственный или
как умный, ибо принцип говорит только о нем как о
задании, но отнюдь не о выполнении и тем более не о характере
выполнения.
Во втором ряде мы получаем следующие эйдосы (и их
степени):
B. 1. Число как индивидуальный эйдос.
2. Эйдос вообще, как изваянно данный, оптически-
умный смысл.
3. Эйдол, или сокращенный частичный эйдос, и вообще,
и числа в частности.
4. Чувственное количество и качество.
Только объединение этого трансцедентального и прин-
ципного «гипотетического», с одной стороны, и
феноменологического, эйдетического, умно-оптического ряда,— с
другой, в один целостный диалектический ряд выражает
вполне то, что Плотин старается изложить с такими
усилиями, с такими повторениями, с такой глубиной,
тонкостью и блеском. Этот ряд следующий:
C. 1. Единое — как чистое «сверх».
2. Единое энергийно полагает себя как сущее, т. е. как
раздельное, причем методом этого осмысления является
число.
3. Единое, рождая из себя число, полагает себя
(оставаясь в абсолютной нетронутости) как неповторимую
индивидуальность смысла и ума, данного в виде умно-
целостного (т. е. расчлененно-множественного) факта
живой вечности.
XIII
На этом мы можем закончить анализ учения Плотина
о числе. Нам теперь ясна, и притом диалектически ясна,
вся картина как природы самого числа, так и осмысления
им всего сущего. Однако, прежде чем поставить
последнюю точку, я хотел бы выдвинуть еще один вопрос — уже
не по самому Плотину, но по такому философу, который и
по времени и чисто логически явился завершением неопла-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
807
тонизма и главой его последнего, наиболее продуктивного
и удивительного периода. Историки философии всегда
избегали этот период, и тут тоже приходится сейчас идти
почти по целине. Эта неоплатоническая школа —
афинская, и этот философ — Прокл. Его хочется затронуть в
этой книге, потому что как раз у него все, что дано у
Плотина в зародыше и что приходится тут додумывать самому,
то самое нашло последнее свое философское осознание и
логическую формулу. Он договаривает Плотина и
завершает его.
Мы видели, что число у Плотина очень высоко. Оно не
только не физично и не психично, но даже и не умно; оно —
«выше ума и сущности». Оно — чуть-чуть не само Единое.
Оно — посредине между Единым и Умом. Но что же это
тогда такое? Что оно по самой своей природе символично
(как совмещающее и отождествляющее в себе первую и
вторую ипостась, Единое и Ум) —это мы уже знаем. Но
ведь Единое есть максимальная насыщенность бытия и
неистощимая, изначальная бездна света; и Ум есть
абсолютное ведение и абсолютное самосознание. Что это такое
на языке более конкретном? Сфера чисел есть сфера боже-
ственная — вот что вполне содержится у Плотина и что
Прокл договорил со всеми последними выводами. Это —
сфера не только символическая, но и мифическая. И вот,
философия мифологии у Прокла и содержит в качестве
одного из первых своих пунктов диалектику числа. Равным
образом Плотин, уча о трех ипостасях, еще не умеет с
последней ясностью говорить о числе, поскольку число не
есть ни первая, ни вторая ипостась. Прокл же вводит
триадическое деление в сферу каждой из трех Плотиновых
ипостасей 48 и тем самым получает возможность указать
более точное место для числа, так как число у него есть как
раз третий член первой триады (т.е. триады в Едином).
Далее, у Плотина в принципе, конечно, совершенно ясна
плероматическая природа числа, его «совершенство» и
«полнота», но только Прокл дал эту теорию
«совершенства» в подробном и разработанном виде. Наконец, только
у Прокла и ясна детальная диалектика «участия»
чувственного в умно-божественном, в то время как Плотин
разработал тут только общие принципы.
48 О триадах Прокла более подробно см. в «Античн. косм.», стр. 522—
528.
А Ф-ЛОСЕВ
I I
808
Поэтому, чтобы понять Плотинову диалектику до
конца, попробуем всмотреться в Прокла. Прочитаем хотя
бы несколько его замечательных отрывков, чтобы
закончить естественный путь истории философии, шедшей от
римского неоплатонизма к афинскому.
Так как философии Прокла посвящается мой большой
и специальный труд, то я позволю здесь нарисовать лишь
самые общие линии развития философской мифологии
числа у Прокла, совершенно не гоняясь ни за полнотой
приводимых текстов, ни за детализацией основных
построений . Скорее это будет краткий конспект, так как было
бы странно помещать тут большой историко-философский
аппарат при наличии моего специального исследования о
Прокле.
1. Прокл следует общеплатонической традиции,
трактующей миф как среднее между умным, идеальным,
бытием и бытием чувственным. В мифе идеальное дается сред-
стѳами чувственности и чувственность дается средствами
идеального, умного. Прокл предостерегает, однако, от
чисто чувственного понимания мифа, хотя он и содержит
в себе чувственное. Так, рождение Эрота от Пороса и
Пении в известном мифе у Платона отнюдь нельзя
понимать в смысле ординарного, чисто чувственного и
фактического рождения, так чтобы весь рассказ был только
изображением некоего определенного во времени и
пространстве события. Этот миф надо понимать умно, идеально,
вне времени. Тем не менее в мифическом мире
наличествует своя подчиненность и соподчиненность, своя иерархия
божеств, τ н. чины (τάξεις) богов, отличающиеся друг от
друга не разным происхождением по времени, не разной
степенью совершенства, не какой-нибудь вещественной
прибылью или убылью, но исключительно чисто умными
же, смысловыми признаками.
Таким образом, миф есть прежде всего умный символ
сущего. Как таковой миф есть объединение и синтез
познаваемого и непознаваемого. Приведу один пример из сотен
способов выражения Прокла 49: «единовидная и скрытая
наличность», «потенция породительная в отношении цель-
ностей» и — «ум совершенный и исполненный мыслей».
Скрытая наличность излучает себя в световых потенциях,
49 Ргосі. in Cr at. 29, 28—30. Все цитаты из Прокла даны в моем
переводе.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
809
с тем чтобы свершиться в некоторых устойчивых ликах,
или символах. Текст Прокла пестрит указаниями на
«символы всецелой демиургии», на имена как световые
символы неизреченного, на мифы и символы как умные
изваяния (αγάλματα) сущего . Понятие символа у Прокла
совершенно ясно. Это — умный эйдос, соотнесенный, одна-
ко, с чувственным инобытием и получивший от этого новую
структуру, не переставши быть умным же, так что наличие
чувственности привело только к разрисовке отвлеченного
дйдоса и к превращению его в «изваяние», С другой
стороны, это — самая обыкновенная чувственная вещь,
однако взятая со стороны чисто смысловой и чисто умно
же, идеально, так что идеальная осмысленность привела
тут только к переводу чувственной конкретности в ум без
уничтожения этой чувственной картинности как таковой.
Вот к сфере такой символической действительности и
относятся мифы. Миф есть символ. Однако это еще очень
широкое определение, и оно требует уточнения.
2. Прежде всего, отметим необходимую деталь в
строении символа как такового. Именно, символ получается
у Прокла как диалектическая необходимость. Диалектика
же Прокла есть завершение платонической диалектики,
ясный и в себе законченный, хотя и не вполне
детализированный, образец каковой находим у Плотина, Это, как
известно, есть диалектика трех ипостасей, которую можно
излагать, как и по Плотину, и индуктивно и дедуктивно.
Тут—полное повторение Плотина
В первом случае мы имеем такой ряд мыслей.
Непосредственное наблюдение говорит о том, что все течет и
меняется. Но течь и меняться может только то, что есть нечто.
Если то, что меняется, не есть нечто, то, значит, оно есть
ничто, т. е. ничто тут и не меняется, или, попросту,
нет никакого изменения и протекания. Итак, есть течение
и изменение (а об этом говорит непосредственное
чувственное наблюдение), есть и нечто, что именно течет и
меняется, т. е. то, что пребывает во всех моментах течения и
изменения, т. е. то, что не течет и не меняется. Течет и
меняется состояние вещи, но вещь как таковая, т. е. ее
смысл, совершенно не меняется; и самая категория време-
50 Многочисленные тексты на эту тему я уже приводил в «Античн.
косм.», прим. 65, 71, 75.
61 Вся эта неоплатоническая диалектика, включая Прокла, подробно
изложена мною в «Античн. косм.», главы 4—10 (с примечаниями).
А.Ф.ЛОСЕВ
I 1
810
ни и движения тут неприменима. Однако если есть
неподвижный смысл и подвижное, текучее его состояние и
характер, то тут же необходимо и нечто третье. Смысл —
неподвижен, вещь — подвижна; но если смысл только
неподвижен, тогда он не может осмыслить подвижной и
текучей вещи; и если вещь только подвижна, текуча, тогда
она не может воплотить на себе неподвижного смысла.
Итак, есть нечто третье, что их объединяет. Это третье есть
становление смысла, становящийся смысл, который
осмысливает становящуюся вещь, не переходя сам в вещное
состояние (иначе он не мог бы и осмысливать). В
восходящем порядке мы, следовательно, имеем: 1)
реально-чувственную, становящуюся, текучую вещь, 2) ее смысловое
становление и 3) ее неподвижный смысл. Но вот перед
нами все вещи, все возможные вещи, всё вообще, что
может быть, все смыслы вещей. Если это есть именно все,
то, значит, больше ничего нет, больше нет ничего помимо
этого всего. Но если нет больше ничего, то это все ни от
чего не отличается. Не отличаясь, оно не имеет и никакой
границы, никакого очертания, т. е. не имеет никакой
формы. Что же оно в таком случае есть? Оно, конечно,
есть что-то, но это что-то совершенно не охватываемо
никаким разумом, никаким постижением. Оно есть корень
и исток всего, единство всего, но не есть это самое все,
не есть сущее. Оно — выше сущего и порождает его,
высшая потенция всего и абсолютная, неразличимая в себе
единичность всего, наивысшая полнота смысла.— Так
рождается платоническая диалектическая триада —
первоединое (высшее бытия и познания), ум (смыслы,
идеи, сущее, совокупность неподвижных смыслов всего),
душа (становление смысла, смысл в модусе соотнесения
с инобытием, но еще не превратившийся в это инобытие).
Вся эта триада несома вещью и вещами, тем, на чем
осуществлена вся эта смысловая триада, космосоч (и его
отдельными областями, частями и участками).
Вот пример индуктивной диалектики Прокла.
Inst, theol. 129. «Всякое божественное тело —
божественно через обоженную душу. Всякая же душа
божественна через божественный ум. Всякий же ум божествен по
участию в божественной единичности (ένάδος). При этом
единичность есть бог сам в себе; ум — наибожественней-
шее; душа божественна; тело же — боговидно.
Действительно, если всякое число богов существует и превыше
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1 I
811
ума, то самые акты участия [в них] свершаются через
сродное и подобное. Неделимая же сущность должна
первично участвовать в пресущественных единичностях.
Вторично же [участвует сущность], прикосновенная
становлению. Третично — само становление. И каждое
[сущее] — через непосредственно вышележащее. И само
своеобразие богов выступает вплоть до крайних
[пределов] в участвующих Через посредство же — то, что
сродно себе самому.
Первичность, именно, дарует первому уму избранную
в богах свою собственную потенцию и усовершает тот ум
таким, какова и она сама по своей единичной
множественности (κατά το ένιαΐον πλήθος). Она присутствует при
помощи ума и при душе, совокупляя ее с умом и совоспла-
меняя, если ум сообщаем таким способом. При помощи
же отзвука души она дарует телу его собственное
своеобразие, если, допустим, как-нибудь тело участвует в душе.
И таким способом возникает не только одушевленное и
умное тело, но и божественное, приявшее от души жизнь
и движение, от ума — нерушимую устойчивость, от участ-
вуемой же единичности — божественное единение. Всякое
[сущее], значит, свою собственную субстанцию
(υπάρξεως) передает последующему».
Эту же самую основную триаду (или, если хотите,
тетрактиду) можно получить, как и у Плотина, также и
дедуктивным путем, и Прокл всегда любил пользоваться
и этим способом. Именно, берем наиболее общую
категорию — не качества, не вещи, не свойства, а простого чего-
нибудь, т. е. чего-то одного. Одно как одно есть чистое
одно. Оно, если изучать его в чистом виде, ни от чего не
отличается, не имеет границы, т. е. непознаваемо и сверх-
суще. Но оно все-таки есть нечто. И если так, то оно
отличается от всего иного, имеет форму и вид, познается.
Но если оно есть нечто и имеет форму — стало быть, оно
есть некий объем и величина, т. е. его можно дробить.
Это одно сущее дробится, делается, становится. Кроме
того, его окружает некое инобытие (иначе оно ни от чего
не отличалось бы), и это инобытие само получает
определение через него. Так возникают другие единичности,
получившие смысл от первоначального одного. Так
возникает та же самая диалектическая триада-тетрактида,
которую мы только что получили и индуктивным путем.
Такова в общих чертах основная триадическая диалек-
А.Ф.ЛОСЕВ
I 1
812
тика Плотина и Прокла. Какое же место в ней занимает
символ? Если мы решим этот вопрос, то ясно будет —
и притом диалектически ясно — то место, где нужно искать
мифы.
Поскольку символ есть среднее между умным и
чувственным, постольку место его — между τ н «душой» и
«космосом». Он есть их смысловое тождество — эйдос,
ставший, через «душу», умным изваянием мира, и —
мир, превратившийся через смысловую модификацию в
неподвижную и картинную осмысленность. Но основной
закон диалектического развития в платонизме гласит, что
каждая категория появляется в результате осмысления
некоего инобытия предыдущей категории, т. е. в результате
перехода предыдущей категории в свое иное, воплощения
предыдущей категории в своем ином, или «подражания»
этого иного своему предшествующему эйдосу. Другими
словами, каждая диалектическая категория несет на себе
смысловую энергию всех предыдущих категорий, хотя и
является чем-то совершенно новым, особым, неделимым,
совершенно не сводимым ни на что предыдущее. Она
подчиняет себе все эти предыдущие моменты, и они получают
в ней существенно новое значение и структуру. Она заново
их освещает и по-новому комбинирует Поэтому в символе
есть свое первоединое, свой эйдос (ум), свое смысловое
становление эйдоса (душа), свой космос. Однако это не
просто то первоединое, с которого начиналась диалектика
вообще, но первоединое символа, исходная и неделимая
потенция, абсолютная единичность символа. Эйдос тут не
просто эйдос сам по себе, но символический эйдос, т. е.
изваянность целого, где есть не только голый эйдос как
чистая и изначально самостоятельная категория, но и
соотнесенность его с инобытием, смысловая картинность и
упорядоченность. То же нужно сказать и о всех прочих
категориях, из которых состоит диалектика вообще. Они все
содержатся в символе, но символ их освещает заново и
понимает в свете символа же. Будучи взяты сами по себе,
они просто вскрывают общий диалектический ход. Будучи
же взяты в пределах символа, т. е. как подчиненные
моменты символа,— они вскрывают его структуру, хотя он,
конечно, ни в каком случае на них не сводится.
Так мы получаем диалектическое место и
диалектическую структуру для символа. Теперь обратимся к более
детальному рассмотрению.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
813
3. В систему мифологии Прокла входят, в нисходящем
порядке, боги, ангелы, герои и души. Над ними
возвышается абсолютная непознаваемость, которая даже не является
ни в каком божеском и проч. виде. Под ними — миф
физический, являющийся крайним пределом эманационного
ослабления первоединого. Изложить всю эту систему было
бы тут затруднительно, и потому я остановлюсь только на
числовой мифологии богов. Какое место этих богов в выше-
обрисованной стихии символического бытия вообще и где
тут число? Для этого нужно сначала спросить: что такое
боги?
Из многочисленных текстов Прокла на эту тему
приведем такие три. «Всякий бог существует [как субстанция]
(ύφέστηκε) в высшем единении сущего»52 Боги суть
«первейшие принципы сущего и в высшей мере
самодовлеющие» (πρώτισται άοχαί των δντων και αύταρκέστα-
ται)53. Они — «пресущественные единицы, породительные
в отношении сущностей, усовершительные и размеритель-
ные, связуя с собой все первейшие сущности» (ένάδες
ύπερούσιαι, γεννητικαί των ουσιών και τελειωτικαί και
μετρητικαί και πάσας ουσίας τας πρωτίστας εις έαυτάς
άναδησάμεναι)54. Не будем увеличивать количество таких
текстов; их масса. Ясно одно, что боги занимают в
символическом бытии самое первое и принципиальное место.
Они — принципы всего сущего, высшая точка, единящая
все сущее; они — исход и корень, потенция всякого и
всяческого бытия. В символе, как мы видели, дана вся система
категорий, начиная с первоединой потенции и кончая
космосом, телом, вещью. Так вот боги занимают в
символическом бытии наиболее высокое и первое место. Они —
«первейшие принципы сущего». Таков «бог», по Проклу,
как категория.
Тут, однако, возникает целый ряд вопросов. Прежде
всего, спрашивается: если первоединое есть непознаваемое
и пресущественное, то как оно может признаваться спе-
цификумом для богов, раз сами боги суть расчлененные
символы и умные изваяния сущего? Решение этого
вопроса необходимо приводит к существенному уточнению
самого принципа богов в общем символическом бытии. Именно,
Прокл производит расчленение в самом первоедином.
52 In Plat, theol. I 27, p. 63.
53 Ibid. 1 3, p. 5.
54 Ibid. I 27, p. 63.
Α.Φ ЛОСЕВ
_J—— L-
814
Отчасти это делалось уже и Плотном, поскольку, напр.,
числа занимают у него, как мы видели, место как раз
принципов сущего (а не самого сущего), хотя это еще не
есть само первоединое; другими словами, они тоже
занимают у Плотина среднее место между первым и вторым
диалектическим началом. Ямвлих закрепляет это до-сущее
дробление первоединого уже терминологически 55.
Наконец, Прокл проводит его систематически. Он рассуждает
так. Единое, или одно, отличается от инобытия и получает
границу, форму, т. е. объем, т. е. величину, т. е. дробление,
т. е. части, т. е. становится множеством. Но так как оно
все-таки не перестает быть единым, то каждое множество
есть некая определенная единичность. Получается своя
триада в недрах одного только первого диалектического
начала, т. е. в недрах единого, до перехода его в
сущее и эйдос: 1. голое, неразложимое единое, 2.
множество и беспредельное дробление и 3. отдельная единичность.
Первое Прокл называет единым-в-себе (αύτοέν),
второе— объединенным (ηνωμένα) и множеством (πλήθος),
третье — единицей или единичностью (ένας). Тут у него
замечательные по тонкости, глубине, ясности и полной
неопровержимости диалектические построения о
взаимоотношении единого и многого. По его учению, множество
по смыслу своему позже единого и живет причастием к
нему. Иначе множество рассыпалось бы на бесконечное
число дискретных друг в отношении друга частей 56. Чтобы
быть многим, надо прежде всего быть чем-то, т. е. чем-то
одним 57. И, таким образом, надо строго различать единое
как такое и объединенность. Объединенность, или
причастное к единому, не просто едино, но оно одновременно и
едино и не-едино 5\ Такая объединенность — не просто
единое, но — определенное единое 59 С другой стороны,
в едином как таковом нет никакого объединения. Стоит
только это допустить, как единое превращается из
единого в бесформенное множество 60.
Указанная триада внутри единого подчиняется, как
это ясно видно, общему диалектическому закону о пребы-
55 О Ямвлихе в том смысле см. «Античн. косм.», стр. 522.
56 Inst, theo!., 1.
57 Ibid., 5.
58 Ibid., 2.
59 Ibid., 3.
60 Ibid., 4, 6. Главы 1—6 из Inst, theol. переведены мною в «Античн.
косм.», 55—59.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I——1
815
вании (μονή), или наличном существовании (ΰπαρξις),
выступлении, или, как говорят, эманации (πρόοδος), и
возвращении, или синтезе, первых двух начал
(επιστροφή). Но только надо твердо помнить, что все это
совершается здесь в недрах единого, до перехода в сущность и
эйдос. Прокл очень точно формулирует господствующие
тут отношения. Выступление, или выхождение, Прокл
именует также продуцированием, изведением (προάγειν).
Такое продуцирование всегда происходит путем
уподобления продуцирующего продуцируемому 61 Последнее,
выходя из продуцирующего, остается необходимо
тождественным ему, т. е. остается в нем по-прежнему. Если оно было
бы только тождественно, оно — не вышло бы из него 62.
Если же оно только различалось бы, оно было бы не
подобно ему и, следовательно, опять не вышло бы из него.
Выхождение из себя и возвращение в себя необходимым
образом связаны одно с другим и не существуют одно
без другого. Происходит вечное круговращение единого
через инобытие к самому себе 63.
Конкретно говоря, от первоединого через триадическое
различение порождаются числа, те самые
«пресущественные единицы», которые представляют собою не чистое
единое, но и не чистую бесконечную множественность, а
множественность определенную, множество как единичность.
Боги суть, следовательно, пресущественные единицы, или
числа. Они не суть само сущее. Они — принцип сущего,
порождающее лоно сущего, принцип появления сущего и
появления самой категориальности, смысл самого смысла.
В общем символическом бытии они — не единое и не ум,
не сущее, но потенция сущего, при переходе единого во
множественность.
§ 115 е4. «Всякий бог пресуществен, прежизнен и пре-
умен. В самом деле, если каждый [бог] есть
самосовершенная единица, каждое же такое [начало, т. е. сущее,
жизнь и ум], есть не единица, но объединенность, то ясно,
след., что всякий бог — превыше всех названных [начал],
сущности, жизни, ума. Если именно [все] это отличается
одно от другого и все заключается во всем, так что каждый
61 Inst, theol. 29, 32.
62 Ibid., 30, 35.
63 Ibid., 33. Перевод гл. 29—35 в «Античн. косм.», 81—84.
64 В дальнейшем вместо.Inst theol. я буду писать просто §.
А*Ф ЛОСЕВ
816
момент есть всё, то оно [уже] не может быть только
одним.
Кроме того, если первое пресущественно, всякий же бог
относится к первому [члену] в [соответствующем] ряду
[взаимозависимостей], поскольку он— [именно] бог, то
каждый [из богов] должен быть пресуществен. Но ведь
именно очевидно, что первое пресущественно, ибо не одно
и то же быть одним и быть сущностью и не одно и то же
«существует» и «объединяется». Если же [это] не одно и
то же, то или оба суть первое, и будет не одно только,
но нечто и другое наряду с «одним», и притом, конечно,
в дальнейшем участвующее в одном, а не одно-в-себе
(αύτοέν). Или [будет] другое, чем это. Но если —
сущность, то оно окажется нуждающимся в одном, что
невозможно, [ибо невозможно, чтобы] благо и первое [в чем-
нибудь] нуждалось. Поэтому то [первое] есть только
одно и потому пресущественно; и если оно дает каждому
ряду свойство того, что каждое есть изначала, то и всякое
божественное число пресущественно, так как каждая из
причин-принципов (των αρχικών αιτιών) продуцирует
подобное раньше неподобного. Если же первейший бог
пресуществен, то и все боги пресущественны, ибо они
будут во всех смыслах [ему] подобны. Будучи сущностями,
они, надо полагать, продуцируются от первой причины как
монады (μονάδες), [единицы] сущностей».
§ 118. «Все, что существует в богах, предуставлено
в них по своеобразию (ιδιότητα) их; и своеобразие их
единично и пресущественно (ενιαία και ύπερούσιος).
Следовательно, все в них единично и пресущественно.
В самом деле, если каждое [сущее] существует трояко —
по причине, по наличной сущности (ΰπαρξιν) или же по
участию, божественное же число есть число первое из
всех, то в них ничего не будет по участию, но все по
сущности (ΰπαρξιν) иш по причине. Но что боги наперед
получили в качестве виновников сущего, то они получили
наперед в виде, свойственном их собственному единству
(ενώσει), ибо и все главенствующее с точки зрения
причины над вторичным содержит причину нижайшего, так
как оно само существует по природе. Следовательно, β
богах все существует единично и пресущественно».
§ 119. «Всякий бог существует [как субстанция]
(ύφέστηκε) по [своей] пресущественной благости, и благ
он не по участию и не по сущности [своей], ибо состояния
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
'
817
и сущности получили в удел от богов вторичный и
множественный порядок, но — пресущественно. В самом
деле, если первое едино и есть благо, и, поскольку едино,
оно — благо, и, поскольку благо,— едино, то и весь
[иерархийный] ряд (σειρά) богов — единовиден и
благовиден соответственно с единой, [данной здесь]
особенностью, а не соответственно с [чем-нибудь] иным — еди-
ница и благость. В противоположность последнему
[всякий бог], поскольку — единица, постольку — благость, и,
поскольку — благость, постольку — единица. И, как
исшедшие от первого, те, что после первого,— благовидны
и единовидны, если, конечно, то — едино и есть благо; и,
как боги, все они суть единицы и благости. Стало быть,
как единое из [числа] богов — пресущественно, так и
благо их пресущественно, не будучи чем-нибудь иным, кроме
[все того же] единого, ибо каждый [бог] не есть [нечто]
иное, а потом — благо, но просто — благо, как и не есть
[нечто] иное, а потом — единое, но просто — единое».
Все эти замечательные рассуждения можно свести к
следующим тезисам: I) Всякий бог есть число как
абсолютная единичность, совершенно нераздельная и
неразличимая в себе, ибо она — самый исток и корень,
порождающий принцип соответствующей сферы бытия. 2) Всякий
бог, как число, существует не по участию в чем-нибудь и
даже не по собственной сущности, ибо он — выше и всего,
и своей собственной сущности. 3) Благость богов нужно
понимать именно как эту абсолютно единичную числовую
осмысленность. Благость не есть нечто отличное от
единства. Быть благим — это значит быть абсолютно единично
осмысляющим и полагающим началом.
§ 111. «Во всяком умном [иерархийном] ряду одни
суть божественные умы, приявшие участие в богах,
другие — умы просто. И во всяком ряду душ одни суть умные
души, зависящие от собственных умов, другие — души
просто. И во всей телесной природе одни природы имеют
души, возникшие свыше; другие суть только [телесные]
природы, не участвуя в наличии душ. В каждом
[иерархийном] ряду не целый род по природе своей зависит от
предыдущего, но совершеннейшее в нем [оказывается] и
удобным для соприродности с вышележащим
[принципом]. Стало быть, не всякий ум зависит от бога, но —
лишь] высшие и единичнейшие из умов (ακρότατοι και
νικώτατοι των νόων); эти именно сродственны божест-
Α. Φ. ЛОСЕВ
ІнмІ
818
венным единицам. [Равно] не все и души участвуют в
сообщаемом уме, но — [лишь] умнейшие [из них]. Не все
и телесные природы вкушают присутствие и причастие
души, но — совершеннейшие и разумнейшие. И таков же
способ доказательства и в отношении всех [родов бытия
вообще] ».
Резюмирующее определение божественной единицы
находим в следующем рассуждении.
§ 113. «Всякое божественное число единично. В самом
деле, если божественное число имело предшествующую
причину, [т. е.] единое, подобно тому как умное [число]
имеет ум, психическое — душу и [как] везде множество
существует в соответствии со [своей] причиной, то ясно,
что и божественное число единично, если только единое
есть бог. А это так, если благо и единое — тождественны,
ибо тождественны благо и бог. То, выше чего ничего нет
и к чему все стремится, есть бог. Кроме того, от чего и
к чему все, то — благо. Стало быть, если существует
множество богов, то множество [это] единично. Однако ясно,
что оно существует, если действительно всякая начальная
(άρχικόν) причина управляет собственным множеством,
подобным ему и сродственным».
4. Итак, всякий бог есть символическая
пресущественная единица, или число. Всмотримся в ряд существенных
деталей этого определения.
Боги отличаются друг от друга, подчиняясь и соподчи-
няясь друг другу. Если они — пресущественные числа,
то как это может происходить? Каков принцип различия
божеств между собою? Разумеется, здесь, конечно, не
чисто мифический, но диалектический принцип, ибо и все
излагаемое нами учение Прокла есть не просто мифология,
но философия мифа. Чтобы формулировать этот принцип,
обратим внимание на то, что единое-в-себе и чистая
множественность, вступающие во взаимное тождество в
единицах, противоположны между собою именно в смысле
единого, одного. Другими словами, они
противополагаются как абсолютная единичность и абсолютная
множественность, как определимость и беспредельность, как предел
и беспредельное. Это установлено еще в «Филебе»
Платона. Итак, число есть синтез и тождество предела и бес-
предельного-, а значит, и все сущее есть также этот самый
синтез и тождество.
§ 89. «Все истинно сущее состоит из предела и бес-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
Г^—1
819
предельного. В самом деле, если оно беспредельно-потент-
но, ясно, что оно — беспредельно и потому состоит из
беспредельного. Если же оно не имеет частей и одновид-
но — по этому самому причастно предела, ибо получившее
участие в едином — предельно. Однако оно одновременно
и не имеет частей и беспредельно-потентно. Следовательно,
все истинно сущее [состоит] из предела и беспредельного».
§ 90. «Раньше всего, составившегося из предела и
беспредельного, предшествует первый предел и первая
беспредельность сами по себе. Именно, если раньше чего-
нибудь из сущего предуставлено сущее само по себе как
общие для всего и началоводительные причины не чего-
нибудь, но просто всего, то необходимо, чтобы первый
предел и первое беспредельное существовали раньше
[составленного] из обоих, так как в смешанном предел есть
результат участия в беспредельности и беспредельное —
в пределе. Каждое же первое есть не что иное, как то
[именно], что оно есть. Следовательно, нет необходимости,
чтобы пределовидное было изначала беспредельным и бес-
пределовидное — первым пределом. Изначально, стало
быть, они — до смешанного, [смешения] ».
Отсюда, смешиваясь, они частично разрушают природу
самих себя. Чем ближе к пределу, тем ближе к единому,
тем цельнее и сильнее, тем первичнее и полнее.
§ 126. «Всякий бог, чем ближе к единому, тем цельнее
(όλικώτερος), и чем дальше, тем частичнее (μερικώτερον).
Тот, кто более многочисленных вещей причина, ближе к
тому, кто производит все; и тот, кто — менее, дальше.
Потому тот, кто — причина более многочисленных вещей,
тот цельнее, и кто — менее, тот — частичнее, причем тот
и другой — единицы. Но один потенцией своей больше,
другой — по потенции меньше. И более частичные
рождаются от более целостных, причем последние ни дробятся
(ибо они единицы), ни меняются (ибо неподвижны), ни
увеличиваются от своего состояния [в данный момент]
(ибо несмешиваемы), но [дело обстоит так, что] они из
себя порождают через переполнение потенцией вторые,
[вторичные], эманации, нижайшие тех, которые им
предшествуют».
Итак, изначально сущие в лоне первоединого, предел
и беспредельное (как несмешиваемые начала) начинают
смешиваться в числах. Ясно, что различие в числах может
зависеть исключительно только от способа смешения этих
Α. Φ. ЛОСЕВ
820
начал, ибо больше в них и нет ничего. Прокл учит
о преобладании то одного, то другого начала, отчего и
образуется иерархия чисел.
§ 159. «Всякий чин богов [происходит] от первых
начал — предела и беспредельности (απειρίας). Но один
чин больше [относится] к причине предела, другой —
беспредельности. Все [чины], конечно, происходят от того
и другого, так как передача первых причин проходит через
все вторые, [вторичные], причины. Но в одном месте
главенствует предел через смешение [множества в
единство] , в другом — беспредельное. И таким образом,
следовательно, свершается, с одной стороны, род, содержащий
в себе форму предела (περατοειδές), в котором
преобладает момент предела, с другой — [род], имеющий в себе
форму беспредельности (απειροειδές), в котором
преобладает момент беспредельности».
Таким образом, каждое число и предельно, конечно, и
беспредельно, бесконечно. Лучше сказать, оно есть именно
тождество того и другого. Это теперь называется в
математике актуальной бесконечностью, т. е. такою
бесконечностью, которая сама по себе есть нечто определенное и
конечное.
§ 91. «Всякая потенция или предельна, или
беспредельна. Но всякая предельная существует через потенцию
беспредельного, а беспредельная потенция — через пер-
вую беспредельность. Потенции, существующие некогда,
предельны, отпавши от беспредельности вечного бытия.
Потенции же вечно сущего беспредельны, [как] никогда
не покинувшие своей собственной сущности».
§ 92. «Всякое множество беспредельных потенций
зависит от, [привешано к], одной первой беспредельности,
которая существует не как участвуемая, [сообщаемая],
потенция и не существует [как субстанция] в потентном,
но существует сама по себе, будучи не потенцией чего-
нибудь участвующего, но причиной всего сущего. И хотя
само первое сущее имеет потенцию, она не есть потенция-
в-себе (αύτοδύναμιν), потому что она имеет и предел.
Первая же потенция есть беспредельность, ибо
беспредельные потенции беспредельны через общение с
беспредельностью.
Итак, беспредельность-в-себе (αύτοαπειρία) будет до
всяких потенций, через каковую и сущее — беспредельно-
потентно, и все приняло участие в беспредельности. Ведь
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
1—^1
821
ни первое не есть беспредельность (ибо оно, наличествуя
как благо и как единое, есть мера всего), ни сущее. Оно
именно беспредельно, но не беспредельность. Стало быть,
беспредельная причина всего беспредельно-потентного и
причина всякой беспредельности в сущем находится по-
средине между первым и сущим».
Итак, беспредельность есть потенция Первоединого,
переходящего из сверх-сущего в сущее, в бытие. Всякое
сущее, след., поэтому самому необходимо беспредельно;
и только отпадение от чистого сущего в дурную и
отъединенную множественность ведет к тому, что вещи перестают
быть беспредельно-потентными. Тут, стало быть, иерархия
бесконечностей. Но можно также сказать, что это есть и
иерархия конечностей.
§ 93. «Всякое беспредельное в сущем не беспредельно
ни для вышележащих [начал], ни для себя самого, ибо
от чего каждое беспредельно, от того оно и лишено
очертания. Все же в нем, [в сущем], предельно и для себя самого,
и для всего предшествующего ему. Следовательно,
остается только для более слабого беспредельному в нем быть
беспредельным, что [уже] настолько превзойдено в смысле
потенции, что [беспредельное] оказывается для него всего
[действительно] неохватимым. Ведь сколько оно ни
стремится к нему, все же оно имеет нечто совершенно из него
изъятое. И даже если оно входит в него, все же оно имеет
нечто тайное для вторичного и невоспринимаемое. И хотя
оно развертывает находящиеся в нем потенции, все же оно
имеет, в силу единения, нечто непревосходимое, сомкнутое
и вышедшее из [сферы] развертывания того,
[вторичного]. Само себя содержащее и определяющее не может
оказываться беспредельным для себя самого и гораздо
более [того] —для вышележащих [начал], раз оно
[только еще] имеет участие в их беспредельности. Именно,
и более цельные 7* из потенций оказываются более
беспредельными, как более цельные и более близко
расположенные к первейшей беспредельности».
§ 95. «Всякая потенция, если она более единична
(ένικωτβρα),— беспредельнее множественной В самом
деле, если первая беспредельность — ближе всего к
единому, то и из потенций та, что сродственнее к единому,
более беспредельна, чем удаленная от него. Ведь
множественная [потенция] уничтожает [свою] единовидность,
пребывая в которой она имела бы преимущество перед
А Ф.ЛОСЕВ
822
другими, будучи сплоченной в силу лишенности частей.
Надо иметь в виду, что в делимом потенции через
соединение умножаются, через деление же слабеют».
§ 179. «Всякое умное (νοερός) число предельно,
[конечно] . В самом деле, если после него есть другое
множество, [ему] по сущности подчиненное и таким образом более
удаленное от единого, а то — [к нему] более близкое, и
ближайшее к одному — меньше по количеству и удален-
нейшее — больше, то и умное число, надо полагать,
меньше всякого множества, следующего за ним.
Следовательно, оно — не беспредельно. И значит, множество умов
предельно. Ведь меньшее чего-нибудь не [может быть)
беспредельным, раз беспредельное, поскольку оно —
беспредельное, не [может быть] меньше чего-нибудь».
§ 149. «Всякое множество божественных единиц
предельно (πεπερασμένον) по числу. Если оно — ближайшее к
одному, оно — не беспредельно, ибо беспредельное не со-
природно с одним, [единым], но чуждо [ему]. Если в
самом деле множество само по себе отстоит [на
известном расстоянии] от одного, то ясно, что бесконечное
множество совершенно лишается его. Потому оно и
бессильно и вяло. След., множество богов не беспредельно.
Оно как раз одновидно и предельно, и предельно больше
всякого другого множества. Если же [самый] принцип
есть множество, то ближайшее к принципу по
необходимости было бы больше множеством, чем удаленнейшее
[от него], ибо ближайшее есть [и] подобнейшее. Так как
первое есть одно, то множество, соединенное с ним, меньше
множества более удаленного. Беспредельное же есть не
менее множество, но более множество».
Можно, таким образом, сказать, что каждый бог есть
все боги целиком и единично, предельно, содержит в себе
всю бесконечность божественного бытия. Но каждый бог
есть и неделимая индивидуальность, отличная от каждого
другого бога и от всех богов вместе. Оно не есть Благо-в-
себе, но некая одна, отдельная, индивидуальная,
единичная благость.
§ 173. «Всякий бог есть благодетельная единица, или
единотворная благость, и имеет таковую сущность,
поскольку каждый [из них] есть бог. Но первейший есть
просто Благо и просто един. Каждый же из следующих
за первым есть некая [определенная] благость и некая
[определенная] единица. В самом деле, божественное
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
823
своеобразие, [спецификум, так] различило единицы и
благости богов, что каждый [бог] через некую частность
(ιδίωμα) благости все удобряет, как, напр., усовершает,
содержит, охраняет. Каждое такое [благо] есть некое
[одно] благое, но не всё благо. Первое [благо] предуста-
вило [одну-] единственную причину. Поэтому оно и есть
Благо как подоснова (ύποστατικόν) всякой благости. Ведь
не все божеские сущности одновременно уравниваются
с единым. Таковое, [стало быть], превосходство получило
последнее в удел в сравнении с множеством богов».
Каждый бог — индивидуален, единичен и абсолютно
неделим. Это его специфическое свойство и заставляет его
индивидуально отражать на себе все целое божественное
бытие. Он — целостен в смысле общего божественного
бытия, но эта целостность — единична.
§ 180. «Всякий ум целостен, так как каждый [из умов]
состоит из частей, находится в единении (ήνωται) с
другими и в различии с ними. Но несообщаемый ум есть просто
целостен, как содержащий в себе самом все части целостно
(ολικώς). Каждый же из частичных [умов] содержит
целое как [данное] в части, [т. е. в частях]. И таким
образом, все [в уме] существует частично. Ибо если все
существует в соответствии с единым (καθ' εν),
существующее же в соответствии с единым есть не что иное, как
[существующее] частично, то, след., целое этим способом
присутствует в каждой из этих [частей] частично,
определяясь в соответствии с чем-нибудь частичным,
преобладающим во всех [частях данной частичной цельности]».
Эти индивидуально-целостные единичности
объединяются рядами, однородными иерархийными сериями,
причем все эти роды иерархий стекаются, со всеми своими
иерархийно расположенными членами, в одно
неразличимое лоно Перво-Единого.
§ 132. «Все чины богов находятся в связи
опосредствованно (μεσότητι). В самом деле, и все эманации сущего
свершаются через подобное, и гораздо больше [того] ;
очевидно, порядки (διακοσμήσεις) богов находятся в
обладании неразрешимой сплошности, как единовидно
существующие [в своих субстанциях] и определенные через
(κατά) единое [как] свою началоводительную причину.
Следовательно, акты ослабления происходят объединенно
и больше, чем по подобию вторичного в сущем с
первичным Тем более, значит, и субстанция богов состоит в
Α. Φ. ЛОСЕВ
1
824
соединенности сущего. Поэтому все божественные роды
связаны собственным посредством, и не без посредства
направляется первичное к совершенно различествующим
эманапиям, но через общие тому и другому роды, от
которых они и происходят и для которых они суть причины
непосредственно. Именно это соединяет крайние пределы
одним единством, будучи одному соприродно подчинено,
из другого же ближайшим образом изъято, и сохраняет
благоустроенное порождение божественного».
Выше мы формулировали основное определение богов,
по Проклу. Они суть символические пресущественные,
или числовые, единицы. Теперь мы рассмотрели форму их
взаимного отношения и нашли, что они суть такие
единицы, которые являются конечно и предельно данными
бесконечностями, или единично-общими цельностями,
расположенными в иерархическом порядке нарастания
бесконечности. Короче говоря, боги суть иерархийно истекающие
из лона первоединства актуальные бесконечности.
5. Продвинемся теперь несколько далее в
характеристике божественно-числового бытия, по Проклу.
Боги суть бытие совершенное. Это затасканное и ничего
не говорящее слово имеет у Прокла совершенно точное
терминологическое значение. И потому если угодно
понимать то, что хотел сказать именно Прокл, то нужно
отбросить весь туман и пустоту, связанные с этим словом в
его обыденном употреблении, и вникнуть в рассуждения
Прокла.
§ 114. «Всякий бог есть и самосовершенная единица,
и всякая самосовершенная единица есть бог. В самом деле,
если число единиц, как показано раньше, двояко, т. е.
одни — самосовершенны, другие же суть излучения из них,
божественное же число сродственно и соприродно
Единому и Благу, то боги суть самосовершенные единицы.
И — наоборот: если есть самосовершенная единица, то
есть бог.
Именно, как единица она выдающимся образом
максимально сродственна Единому и как самосовершенная —
Благу; и в обоих отношениях она участвует в
божественных особенностях и есть бог. Если же она — единица, но
не самосовершенна или самосовершенная ипостась, но еще
не единица, то она поместилась бы в другом чине, от
перемены [своей основной] особенности».
Всякий бог есть единица самосовершенная. Что это
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
Ім^—1
825
значит? Уже в приведенных словах самосовершенство
богов соединяется с Благом в параллель их числовому и
единичному характеру, соединяемому с первоединым.
Другими словами, уже тут содержится прямое указание на то,
что совершенство есть сочетанность бытия со всем иным,
с инобытием, сочетанность, которая делает просто сущее
бытие — потенциально насыщенным бытием; и бытие это
становится как бы зарядом, потенцией, неразрешенным
и не вылившимся наружу обилием бытия. Таковы эти
божественные единицы. Они суть не просто они. Но в них
заложена бесконечная потенция внешних
самопорождений, эманации и воплощений.
Прочитаем следующие прекрасные рассуждения Прок-
ла о совершенном.
§ 25. «Все совершенное выходит, [эманирует,] в
порождениях того, что оно может продуцировать, само
подражая единому началу [всего] целого. Именно, как это
[начало] через свою собственную благость единственным
образом подосновно для всего сущего (ибо Благо и
Единое — тождественны, так что и благовидность
тождественна с единственностью (τω ένιαίως), так же и
последующее за ним через свое собственное совершенство спешит
порождать другое, слабейшее собственной сущности,
потому что и совершенство есть некая часть (μοΐρά τις)
Блага, и совершенное, поскольку совершенное, подражает
Благу. Последнее же было для всего подосновой.
Поэтому и совершенное по природе [своей]
продуктивно в отношении того, что оно может. И более
совершенное, насколько оно совершеннее, настолько и большею
является причиной, так как более совершенное больше [и]
участвует в Благе (оно ближе к Благу, оно сродственней
с причиной всего, оно — причина большего). Менее же
совершенное, насколько менее совершенно, настолько
более слабого оказывается причиной, так как оно дальше от
того, что продуцирует все и в отношении меньшего
является подосновой.
Именно, способности все утверждать, или
упорядочивать, или совершенствовать, или содержать, или
животворить, или создавать сродственна способность делать
каждое из этих [дел] на большем [объеме бытия], и более
чужда ей [способность действовать] на меньшем.
Следовательно, из этого очевидно, что наибольше удаленное от
начала всего неплодно и не есть причина чего-нибудь.
Α. Φ·ЛОСЕВ
Ι \
826
Именно, если оно что-нибудь и порождает и имеет нечто
после себя, ясно, что оно уже не может быть [тогда]
наибольше удаленным, но продукт его дальше от начала,
само же оно по причине продуцирования ближе и что есть
[еще] другое [дальнейшее], подражающее причине,
продуктивной в отношении всего сущего».
Еще яснее рисуется понятие совершенства в
следующем рассуждении.
§ 64. «Всякая начальная монада, [единица] (αρχική
μονάς), полагает двоякое число: одно — самосовершенных
ипостасей и другое — излучений, имеющих [свою]
ипостась в инобытии (εν έτέροις). Действительно, если
эманация происходит по ослаблению через то, что
свойственно подосновным причинам, и совершенное — от всесовер-
шенного и через это посредство благоустроенно
выступает несовершенное, то [ясно, что] одни будут самосо-
вершенными ипостасями, другие — несовершенными,
причем последние оказываются уже среди участвующих [в
высшем], так как, будучи несовершенными, они
нуждаются для своей собственной субстанции (ΰπαρξιν) в
субстрате. Другие же [ипостаси] делают своим собственным то,
что [в них] участвует. Именно, будучи совершенными, они
наполняют сами себя и утверждаются на самих себе и
не нуждаются для собственной ипостаси ни в нем
слабейшем. Поэтому самосовершенные ипостаси через
различение на множественность уменьшаются в сравнении со
своей начальной монадой и некоторым образом
уподобляются ей через [свою] самосовершенную субстанцию.
Несовершенные же [ипостаси] и по причине бытия в
другом, [в инобытии, удалены] от существующей самой по
себе и по причине несовершенства удалены от той, которая
усовершает все. Эманации же [таких ипостасей доходят]
через подобное до совершенно неподобного.
Итак, каждая из начальных монад полагает двойное
число. А отсюда ясно, что и единицы — одни, будучи
самосовершенными, исходят от единого, другие же —
[только] излучения единства и ума. Одни — сущности
самосовершенныеу другие — только мечтания
одушевленных душ. И таким образом, не всякое единение (ενωσις)—
бог, но лишь самосовершенная единица и не всякая умная
(νοερά) особенность есть ум, но только сущностная
(ουσιώδης); и не всякое излучение души—душа, но
существуют и теневые образы (είδωλα) душ».
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
827
Ясно, что «совершенство» мыслится Проклом как
максимальная продуктивная насыщенность сущего, когда
сущее берется не в своих акциденциальных функциях,
но в своей изначальной сущностной простоте и
единичности.
§ 160. «Всякий божественный ум единовиден и
совершенен. При этом первый ум [существует] из себя самого
и продуцирует и другие умы. Действительно, если
существует бог, он полон божественных единиц (ένάδων) и —
единовиден. А если это — [так], то он — и совершенен,
потому что существует как исполненный божественной
благости. А если это — [так], то [бог] первично есть ум,
как единый с богами. Всякого ведь ума сильнее обоженный
ум, так как он — первично ум и сам дарует другим
ипостась, [сущностное существование] : все вторичное от
первично сущего имеет свою субстанцию (ΰπαρξιν)».
Совершенство, благость и простота — синонимы. Вот
отрывок, изъясняющий тождество простоты и самодов-
ления.
§ 127. «Все божественное, будучи простым, существует
в высочайшей степени первично (πρώτως) ; и потому оно —
в высочайшей степени самодовлеюще. А что оно просто,
ясно из единения [бытия вообще], ибо все в высочайшей
степени единично (ένικώτατον). Что же касается этого,
[божественного], то оно выдающимся образом просто.
И что оно в высочайшей степени самодовлеюще, можно
узнать из того соображения, что сложное нуждается если
не в другом, в отношении чего оно находится вовне, то по
крайней мере в том, из чего оно состоит. Простейшее же
единичное и то, что предуставлено в Благе, есть и в
высочайшей степени самодовлеющее. Таково все
божественное. Оно, след., не нуждается ни в другом, будучи
благостью в себе, ни в том, из чего само состоит, будучи
единичным».
А вот отрывок, изъясняющий тождество благости и
простоты, доходящей до голой единичности.
§ 13. «Всякое благо единяще (ένοτικόν) в отношении
участвующего в нем; и всякое единение — Благо, и Благо
тождественно с Единым. Именно, если Благо спасительно
(σωστικόν) для всего сущего (почему оно для всего и есть
предмет стремления), то спасительное и сдерживательное
(συνεκτικόν) для каждой сущности есть Единое.
Действительно, все спасается Единым, и рассеяние изъемлет каж-
А. Ф.ЛОСЕВ
ί 1
828
дую вещь из [ее] сущности. Благо, чему бы оно ни было
присуще, соделывает его единым и содержит в единении.
След., если Единое для сущего сводительно и сдержива-
тельно, то оно усовершает каждую вещь через собственное
присутствие. И потому Благо есть в этом отношении всему
объединение. А если такое объединение — Благо и
[Благо] -в-себе и Благо — единотворно, то просто Благо и про-
сто Единое тождественны, одновременно единя и ублажая
сущее. Отсюда, след., отпадающее каким-нибудь образом
от Блага лишается одновременно и участия в Едином.
И то, что оказывается непричастным Единому и полным
разделения [с ним], лишается тем же способом и Блага.
Стало быть, и благость есть единение, и единение —
благость, и Благо — едино, и Единое первично благо».
Совершенство и самодовление, как умно вместившее
в себе все инобытие, отличается от просто сущего Венное
не есть просто сущее. Сущее — проще, абстрактнее.
Вечность — такое сущее, которое умно вместило в себя все
свои инобытийные судьбы. Вечность — максимальное
вмещение сущим в себя всех своих инобытийных
возможностей. Это и значит, что сущее самодовлеет.
§ 87. «Все венное есть сущее, но не все сущее есть
венное. Ведь и рождающимся, [становящимся] вещам как-то
свойственно участие в сущем; поскольку оно не есть то,
что вовсе никак не существует. Если же становящееся
не есть никак не сущее, то оно есть как-то сущее. Вечное
же никак не свойственно вещам рождающимся; и в
особенности [не свойственно] то, что не имеет участия в
вечности, состоящей из всецелого времени. А ведь все
вечное именно вечно существует.
Участвует в вечности тот, кто дает участвующим в
нем вечное бытие в качестве чего-нибудь. Следовательно,
в сущем участвует большее, чем в вечности. И, след.,
сущее выше вечности. То, что участвует в вечности,
участвует и в сущем; то, что — в сущем, не все — в
вечности».
§ 88 «Все истинно сущее существует или до вечности,
или в вечности или [только еще] участвует в вечности.
Что раньше вечности, показано. Однако [оно же] и в
вечности, ибо вечность содержит «всегда» «вечное»
(το αεί) с [самим] сущим, [равно как и] то, что участвует
в вечности. Именно, все вечное будет участвовать и во
«всегда», и в сущем. Вечность же [содержит] «всегда»
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
829
первично, сущее же [содержит она] по участию. Само же
сущее есть сущее первично».
Таким образом, совершенство, или самодовление, есть
не только умная, но и вне-умная собранность сущего.
Однако тождество того и другого дано все-таки чисто
умными же средствами. Вот почему ум, не переходя
во временной поток, содержит в себе не только сущность,
но и потенцию, и энергию (раз он дан как совершенное
самодовление).
§ 169. «Всякий ум имеет в вечности и сущность, и
потенцию, и энергию. В самом деле, если он мыслит себя
самого, то ум и мыслимое тождественны и мышление
тождественно с умом и с мыслимым. Будучи именно средним
между мыслящим и мыслимым, при тождестве этих
последних, окажется тождественно с ними обоими, след., и [само]
мышление. Однако [ясно], что сущность ума вечна, так
как она одновременно [вся] целостна, и точно так же —
мышление, если оно действительно тождественно с
сущностью.
Если ум неподвижен — он не может измеряться
временем ни по бытию, ни по энергии. Так как оба этих
начала существуют [всегда] одинаково, то и потенция —
вечна».
§ 172. «Всякий ум существует ближе всего к вечным
вещам и есть основатель (υποστάτης) вещей, по сущности
своей неизменных. В самом деле, все продуцируемое от
неподвижной причины — по сущности [своей] неизменно.
Ум же вечно неподвижен и в вечности пребывает и, что
продуцирует, то продуцирует [самим] бытием [своим].
Если же он вечно есть и существует самотождественно,
то и продуцирует он вечно и тождественно. След., он не
есть причина один раз сущего, другой раз не-сущего, но
[всегда — только] вечно сущего».
6. Далее, боги, которые суть единовидные,
самосовершенные, вечные и самодовлеющие числа-умы, истекающие
из пресущественного перво-света Единого, суть также
абсолютное самосознание.
§ 167. «Всякий ум мыслит самого себя, но первейший
[ум] — только себя самого; и в нем ум и мыслимое — одно
по числу. Каждый же из последующих [умов мыслит]
одновременно и себя самого, и предшествующее ему.
И мыслимым из этого является отчасти то, что есть [сам
ум], отчасти то, от чего он есть. В самом деле, всякий ум
А. Ф.ЛОСЕВ
-J L
мыслит или самого себя, или высшее себя, или
последующее за ним.
Но если [он мыслит] последующее за ним, то, будучи
[все-таки] умом, он обратится к худшему, причем даже
и таким образом он не познает того, к чему обратился, раз
он не находится в нем, но вне его 65, а [познает] только
отпечаток его, [т. е. то], как он в нем самом от него
появился. Ведь он знает [только] то, что [уже] имел и от чего
у него аффекция, а не то, чего не имел и от чего нет аф-
фекции.
Если же [ум мыслит] высшее себя, то, если через свое
собственное знание — он одновременно будет знать и
себя и это; если же он [будет знать] только это одно, то
себя самого он не узнает, хотя он и есть ум. Познавая
же вообще высшее себя, он знает, след., что оно есть и
причина, и то, чего оно причина. В самом деле„ если он
этого не будет знать, то также не будет знать и то, что
[сам] он продуцирует [самим] бытием все продуцируемое,
не зная и того, что он продуцирует. Познавая же, что
[сам] он полагает и причиной чего является высшее его,
он отсюда будет познавать, что и сам он отсюда
произошел. След., со всех сторон [получается, что], познавая
высшее себя, он будет познавать и себя самого.
Итак, если какой-нибудь ум мыслим, [умен] (νοητός),
зная сам себя, то он знает и умный [ум], будѵчи [сам]
умным, что и есть [сам] он.
Каждый из тех [умов], которые следуют за тем
[первейшим] , мыслит мыслимое и в нем самом, и высшее его.
След., [и тут], в уме, существует мыслимое, и в
мыслимом — ум. Но один [ум] тождествен с мыслимым, другой
тождествен с мыслящим, который именно в нем. С высшим
же себя он не тождествен, ибо просто мыслимое — одно,
а в мыслящем мыслимое — другое».
§ 168. «Всякий ум энергиино (κατ' ένέργειαν) знает то,
что он мыслит, и [не так, что] одному свойственно
мыслить, а другому мыслить то, что оно мыслит,— так
как если ум существует энергиино и мыслит он себя самого
не как иного в отношении к мыслимому, то он знает себя
самого и видит себя самого.
Видя же себя мыслящим и познавая себя видящим,
66 Portus неправильно понял: «Non fuerit in se ipsa, sed extra se
ipseum».
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I 1
831
он знает, что ум — энергией. Зная же это, он знает, что он
мыслит, а не то только, что имеет в уме. След., он знает
одновременно то и другое: и мыслимое, и то, что он
мыслит; и мыслится он самим собою, мыслящим».
В другом месте я уже дал перевод § 166 66, где
рисуется то, что «всякий ум мыслит все сразу», но мыслит
специфично, и § 174 67, где доказывается, что в чистом уме
мышление и действие, бытие, есть окончательное и абсолютное
тождество.
7. Для завершения картины самомыслящих,
самодовлеющих вечных умов-чисел-богов-мифов еще следует
указать на то, что указанное «совершенство» не может не
выражаться в излияниях умных энергий на инобытие. Раз
ум-число есть максимальная насыщенность бытия как
самим собою, так и инобытием, то это же самое
диалектически значит и то, что всякая такая сущность потентна
к выявлению скрытых в ней глубин инобытия. Отсюда
эманация — диалектически необходимая категория всей
этой числовой мифологии.
Эманативно, как мы знаем, уже само Единое, или
Благо.
§ 12. «Начало и первейшая причина всего сущего есть
Благо. Именно, если все происходит от одной причины,
то эту причину необходимо называть или Благом, или
сильнейшим Блага. Но если она сильнее Блага, то идет
ли также что-нибудь из нее в сущее и в природу сущего
или ничто? И если ничто — нелепо, потому что мы уже
не сохраняли бы ее в ряду причины. Необходимо, чтобы
везде присуще было результатам причины нечто, [если
оно] — от причины 68, и в особенности от первейшей, от
которой все зависит и через которую существует каждое
сущее. Если же этому сущему [свойственно] общение [с
первой причиной], как и [в нашем случае свойственна
причина] Блага, то окажется в сущем нечто сильнейшее
благости, исходящее от первейшей причины. Ведь если
она сильнее и выше Блага, то никаким образом она не дает
вторичному что-нибудь худшее из того, что она [вообще]
дает после себя 8*.
66 «Античн. косм.», 330—331.
67 Там же, 290.
68 Совершенно правильно пишет Крейцер: «Suspicor legendum esse
τοις αιτιατούς».
Α. Φ. ЛОСЕВ
—I L
832
Но что же могло бы стать сильнее благости, раз и само
сильнейшее, как мы говорим, [соответственно] в большей
мере причастно Благу? След., если не-Благо не считается
сильнее, то во всяком случае оно — вторично в отношении
Блага. Если же и все сущее стремится к Благу, то как же
может что-нибудь быть еще раньше этой причины? Или
оно действительно стремится к нему; [тогда] — как оно
[стремится] больше всего к Благу? Или оно не стремится;
[тогда] — как же оно не стремится к причине всего, если
оно [само] от нее произошло? Если же Благо есть то,
от чего зависит все сущее, то Благо есть начало и
первейшая причина сущего».
Однако Прокл прямо постулирует логическую и
диалектическую взаимосвязанность вообще всего подвижного и
неподвижного.
§ 14. «Все сущее или неподвижно, или движимо.
И если — движимо, то или самим собою, или другим
И если самим собою, то — самодвижно; если же другим,
то — инодвижно. След., все или неподвижно, или
самодвижно, или инодвижно.
Поэтому, если есть инодвижное, необходимо быть и
подвижному и посреди них — самодвижному. Именно,
если все инодвижное движется, двигаясь иным, то
движения эти или круговые, или [идут] в беспредельность.
Но они ни круговые, ни [идут] в беспредельность, если
только сущее ограничено началом и движущее сильнее
движимого. След., должно существовать нечто
неподвижное, изначально движущее. Но если — это,— необходимо,
чтобы существовало и самодвижное, так как если
предположить, что все — остановилось, то что же будет
изначально движимым? Оно не есть неподвижное (ибо оно не
[таково] по природе), ни инодвижное (ибо оно <не>
движется иным). Остается, след., чтобы первично
движущее было самодвижным, так как оно есть то, что
объединяет инодвижное с неподвижным, будучи некоторым
образом средним, движущим вместе и движимым. Одно из них
только движет, другое же только движется.
Итак, все сущее или неподвижно, или самодвижно,
или инодвижно. Отсюда ясно из этого и то, что
самодвижное — первично в отношении движимого, а
неподвижное — в отношении движущего».
Итак, неподвижное, оставаясь таковым, движется,
«выступает», эманирует. Об этом «выступлении» ценней-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
^
833
шие §§ я уже дал в своем переводе. Отмечу только то, что
«выступление» из себя в инобытие, диалектически
рассуждая, есть в то же время и утверждение себя в себе,
самоутверждение. Нахождение себя в инобытии есть не что
иное, как нахождение себя в себе же, все новое и новое
утверждение себя в себе же. Так получается у Прокла
знаменитое учение о диалектическом «выступлении» и
«возвращении». Относящиеся сюда § 29—39 я уже дал в
своем переводе. Сейчас я только добавлю несколько
штрихов к этому учению Прокла о самовозвращении и приведу
несколько новых отрывков. Эти мысли и их выражение так
ясны, что почти не требуют для себя никакого
комментария.
§ 15. «Все обращательное (έπιστρεπτικόν) к самому
себе бестелесно, так как никакое тело по природе не
обращается к самому себе. Именно, если обращающееся к
чему-нибудь соединяется с тем, к чему обращается, то
ясно, значит, что и все части тела должны соединиться
со всеми [частями] того, которое обратилось к самому
себе. Действительно, обратиться к самому себе — это
значило стать обоим единым, обратившемуся и тому, к чему
было обращение. Но для тела это невозможно, да и
вообще для всего, содержащего части. Ведь целое, имеющее
части, не может соединиться с целым самим по себе,
ввиду отделения частей, из которых одни находятся в
одном месте, другие — в другом. След., ни одно тело по
природе своей не обращается к самому себе так, как
обращалось бы целое к целому.
След., если есть нечто обращательное к самому себе,
оно бестелесно и не имеет частей».
§ 16. «Все обращательное к самому себе имеет
сущность, отдельную от всякого тела. Действительно, если
она не отделена от всякого тела, она не будет иметь и
никакой отдельной от тела энергии, потому что, если
сущность неотдельна от тела, невозможно и энергии быть
отдельной от тела. В таком случае энергия окажется
сильнее сущности, так как последняя — нуждается в теле, та
же — самодовлеюща и не относится к телам. Поэтому
если что-нибудь неотдельно по сущности, то — одинаково
неотдельно и по энергии и еще больше [того]. Если же
оно не обращается к самому себе (обращающееся, будучи
отличным от тела, имеет энергию, отдельную от тела и
не через тело, не с телом, если действительно энергия и
Ѵг 27 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
I 1
834
то, в отношении чего — энергия, нисколько не нуждается
в теле), то обращающееся к самому себе во всех
отношениях, след., отдельно от тела».
§ 17. «Все первично движущее самого себя обраща-
тельно к самому себе. Действительно, если оно движет
самого себя и его двигательная энергия — к самому себе,
то и движущее и движимое есть [тут] вместе одно. Или
оно движет [одною] частью, частью же и движется; или
[тут] движет и движется целое, или обратно, [т. е. одно
тут целое, другое же — часть] Но если движущее есть
одна [его] часть, а движимое — другая, то оно не будет
само по себе самодвигательным, так как состоит из не-
самодвигательного, но [лишь] имеет вид
самодвигательного, не будучи таковым по сущности. Если же [в нем]
движет целое, а движется часть, или наоборот, то в том и
другом будет некая часть, движущая и движимая сразу
в одном и том же смысле (καθ' εν). Это и есть первично
самодвигательное. Если же движет и движется одно и то
же, то оно будет иметь энергию движения к самому себе,
будучи двигательным в отношении самого себя. К чему
оно энергийно направляется, к тому оно [и] обращено.
След., все, первично движущее самого себя, к самому себе
[и] обращательно».
§ 145. «Особенность (ίδιότης), [спецификум],
каждого божественного чина проходит через все вторичные
[природы] и отдает себя всем родам, более бедным.
Именно, если сущее подвигается до тех пор, до каких
прошли и порядки (διάκοσμοι) богов, то эта особенность
божественных потенций содержится в каждом роде,
просветляемая свыше. Каждый [род] получает от ближайшей
к нему причины особенность, соответственно с которой
ему достается [определенная] ипостась.
В качестве примера приведу то, когда имеется какое-
нибудь очистительное божество, так что и в душах есть
очищение, и в живых существах, и в растениях, и в
камнях. И [если имеется божество] охранительное — то
же самое, и если — обратительное, усовершительное и
животворное,— одинаково. И камень участвует в
очистительной потенции, [но] только телесно, и — растение, еще
яснее [того, но] по жизни; и живое существо имеет вид
этот, [но еще] и по стремлению; разумная душа —
разумно, ум — умно; боги же — пресущественно и единично.
Так всякий [иерархический] ряд имеет одну и ту же по-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
835
тенцию от одной божественной причины. То же
рассуждение и об остальном, ибо все зависит от богов; и одно
освещается одним, другое — другим.
И ряды проходят до крайних [пределов]. И одно
зависит от них непосредственно, другое — через большее
число посредствующих [звеньев]. Все полно богов; и что
каждое имеет по природе, имеет оттуда».
§ 146. «Концы всех божественных эманации
уподобляются своим собственным началам, сохраняя
безначальный и нескончаемый круг, через возвращение к началам.
Именно, если каждое из выступивших вперед
возвращается к собственному началу, из которого выступило, то,
след., гораздо больше того цельные чины, выступившие
из своей вершины, вновь обращаются к ней. Возвращение
же конца к началу делает всякое возвращение единым,
определенным, с собой самим согласующимся и через
согласование обнаруживающим во множестве начало еди-
новидности».
8. Наконец, я коснусь вопроса о классификации
божественных чисел, по Проклу. Относительно этой
классификации нужно сказать, что она или требует для себя целого
огромного исследования (до такой степени она детальна
и в отдельных своих категориях тонка), или лучше ее не
касаться совсем. Я, собственно говоря, и не думаю здесь
хоть сколько-нибудь ее «касаться». Но мне хотелось бы
для полноты картины и в целях указания того, как
числовая мифология у Прокла несравненно более развита, чем
у Плотина, только назвать несколько Прокловых терминов
и привести два-три соответствующих параграфа. Это
необходимо сделать только ради примера соответствующих
рассуждений у Прокла.
Уже было отмечено, что Прокл вставляет триаду в
каждую из трех Плотиновых ипостасей. Триада в Едином
нами отмечена. Триада в Уме такова: сущее («онтиче-
ский предмет»), жизнь (внутри-сущностное становление)
и ум в собственном смысле, или эйдос (онтическая форма,
выразившая себя через свое внутри-сущностное
становление). Число, или единица, выразившая себя в «сущем»,
в «жизни» и в «уме», порождает и три чина «умных богов»:
1) поэтический, или интеллигибельный, 2) ноэтически-но-
эрический и 3) ноэрический, или интеллектуальный. Их
Прокл называет также богами 1) отчими, 2) материнскими
и 3) демиургийными. Далее, существует чин богов, соот-
7г 27 *
Α. Φ. ЛОСЕВ
ветствующий Душе, третьей основной ипостаси
(разделений касаться не буду); их Прокл называет богами пре-
мирными. И наконец, существуют божественные числа,
составляющие переход от Души к Космосу, т. е.
выявляющие специально космические функции Мировой Души.
Их Прокл называет богами мировыми. Я и ограничусь
здесь приведением параграфов для характеристики
различия богов отчих и демиургийных, интеллигибельных и
интеллектуальных, а также для определения богов пре-
мирных и мировых.
§ 151. «Все отчее (πατρικόν) в богах перводейственно
(πρωτουργόν) и предуставляется в чине Блага по всем
божественным порядкам (διακοσμήσεις). Действительно,
оно продуцирует субстанции (υπάρξεις) вторичного и все
потенции и сущности (ουσίας), согласно единственному
несказанному превосходству. Потому и именуется оно
отчим, являя объединенную и благозрачную потенцию
Единого и основательную причину вторичного.
В каждом чине богов отчий род предводительствует,
продуцируя все из самого себя и приводя в порядок, ибо
он [сам] находится в устроении соответственно Благу.
И отцы — одни бывают более целостные, другие — более
частичные, как и сами чины богов различествуют более
целостной и более частичной [природой, смотря] по
смыслу [соответствующей] причины. Поэтому, сколько
целостных эманации богов, столько различий и в отцах.
Действительно, если что существует в каждом чине
соответственного Благу, то необходимо есть отчее в каждом [чине] и
каждый [происходит] из отчего единения».
§ 157. «Всякая отчая причина водительствует для
всего в смысле бытия и утверждает субстанции сущего.
Всякая же демиургийная [причина] видотворчества
(είδοποι'ιας) [субстанциально] предшествует сложному
и чину, и их разделению по числу и является [причиной]
того же самого сопряжения для отчего [начала] в родах
более частичных. Действительно, то и другое относится к
чину предела, так как и субстанция, и число, и вид
(είδος)— все пределовидны, [имеют форму предела].
Отсюда, они сродственны между собою в этом отношении.
Однако демиургийная [причина] продуцирует творчество
во множество; единовидное же доставляет эманации
сущего. Поэтому одно — видотворно, другое же,
[отчее],— сущностнотворно (ούσιοποιόν). Итак, поскольку
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
837
это, эйдос и сущее, отстоят друг от друга, постольку отчее
отстоит от демиургийного. Эйдос существует как причина.
След., отчее, будучи более целостным и более причиной,
превыше (έπέκεινα) демиургийного рода, как сущее
[выше] эйдоса».
§ 161. «Все истинно сущее, зависящее от богов,
божественно и несообщимо. Действительно, так как истинно
сущее есть, как доказано, первое из того, что участвует
в божественном единении, то оно и наполняет ум от
самого себя. Поэтому ум есть сущее, как сущим
наполняемый. След., божественное — интеллигибельно. Как
обожаемое оно — божественно, <а как способное наполнять
собой ум и допускать его причастность себе оно —
умопостигаемо)9*. И ум — сущее, по причине первично
сущего.
Само же первично сущее — отдельно от ума, так как
ум существует после сущего. Несообщимое же —
[субстанциально] раньше сообщаемого. Поэтому само по себе
несообщимое сущее предшествует даже тому, что
соединено с умом, но потому, что отменно усовершает ум, так
как и передает ему бытие, и наполняет его сущностью,
истинно сущей».
§ 162. «Всякое множество единиц (ένάδων),
освещающее [собою] истинно сущее, тайно и интеллигибельно.
Тайно — потому, что сопряжено с Единым;
интеллигибельно же потому, что в нем участвует сущее.
Действительно, все боги именуются от того, что зависит [от этого],
так как и ипостаси их, различествующие, хотя и
непознаваемые, можно познать через это. Ведь все божественное
само по себе несказанно и непознаваемо, как соприродное
несказанному Единому. Получается же, что свойства их
познаются — через изменение, происходящее в том, что
участвует. След., интеллигибельны те, кто освещает
истинно сущее, так как, очевидно, истинно сущее есть
интеллигибельное божественное и несообщимое, уму
[субстанционально] предсуществующее. Оно именно не зависело бы от
первейших богов, если бы и эти последние не имели перво-
действенной потенции и потенции, усовершительной в
отношении прочих богов (раз уж как [относятся] взаимно
[предметы] участвующие, так существуют и субстанции
участвуемого)».
§ 163. «Всякое множество единиц, в котором участвует
неучаствуемый ум, интеллектуально (νοερόν). Именно,
27 Α. Φ Лосев
А» Ф.ЛОСЕВ
» I ——,
838
как ум относится к истинно сущему, так эти единицы
относятся к интеллигибельным единицам. Если, стало
быть, те, освещающие ум, интеллигибельны, то потому
же и эти, освещающие божественный и неучаствуемый
ум, интеллектуальны. Но они не потому интеллектуальны,
что [субстанциально] существуют в уме, но потому,
что предсуществуют уму в смысле причины и его
породили».
§ 164. «Всякое множество единиц, в котором участвует
всякая неучаствуемая душа, пре-мирно. Именно, неучаст-
вуемая душа первично выше мира, и боги, в которых она
участвует, пре-мирны, находящиеся в том же отношении к
[богам] интеллектуальным и интеллигибельным, какое
душа имеет к уму и ум — к истинно сущему. След., как
всякая душа зависит от ума и ум обращен к
интеллигибельному, так, очевидно, и пре-мирные боги зависят от
интеллектуальных, подобно тому как и эти последние —
от интеллигибельных».
§ 165. «Всякое множество единиц, в котором участвует
какое-нибудь чувственное тело,— мировое. В самом деле,
оно освещает части мира через посредство ума и души,
так как ни ум не присутствует при каком-нибудь мировом
теле без души, ни божество и душа не сопрягаются без
посредства. Акты участия происходят ведь через подобное.
И сам ум участвует в Единице по своему собственному
интеллигибельному и высочайшему [бытию]. Единицы
же — мировые потому, что они наполняют целый мир и
что они — нечто из бога и явленных тел. Действительно,
божественно каждое и из них, но <не> через душу
(ибо она не есть бог первично) и не через ум (ибо этот
последний не тождествен с Единым), но оно одушевлено
и движется им через душу и, с другой стороны, всегда
самотождественно, носясь в наилучшем строе при помощи
ума. А божественно оно — через единение. И если оно
имеет промыслительную потенцию, то оно таково — через
эту причину».
Всеми предыдущими рассуждениями и переводами я
мало коснулся Прокла и его диалектики 69 Но так как
69 Замечу, что я не касался также чисто математических теорий
числа у Прокла, излагаемых мною в другом месте, да и мало подходящих
к отвлеченно и диалектически философскому характеру изложения в
«Inst, theol.».
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
'
839
рассуждение о Прокле является у меня только
заключительной главой сочинения о Плотине, то я имею полное
право на допущенную краткость и фрагментарность. Тем
не менее и на предложенном материале уже достаточно
видны те линии, по которым Прокл восполнял Плотина,
и те формы, в которые преображалась Плотинова
диалектика числа в гениальной философской системе последнего
великого неоплатоника.
А. Ф.ЛОСЕВ
-J L
840
II. ТРАКТАТ ПЛОТИНА «О ЧИСЛАХ»
(перевод и примечания)
Предлагаемый перевод трактата Плотина «О числах» («Эн-
неады» VI 6) появляется на русском языке впервые. Кто
занимался Плотином, тот знает, чего стоит перевести из Плотина тот
или иной его трактат. Если Платон труден помимо своей
терминологии разговорным и отчасти болтливым языком,
Аристотель — лаконичностью и фрагментарностью языка, доходящих
до загадок вместо ясных фраз, то Плотин труден и в смысле
терминологии, и в смысле широкого и многостороннего потока
философской прозы, и в смысле краткости и отрывочности
выражения. Если прибавить к этому весьма отвлеченный и трудный
характер самого предмета, излагаемого в VI 6, то станет
понятным, почему большинство переводчиков обходило этот трактат
мимо и даже и не пыталось раскрыть все его изумительное по
глубине и тонкости содержание. Все это должно быть принято
во внимание при оценке моих переводческих достижений. Скажу
далее два слова о существе моего перевода. Я значительно
упростил бы свою задачу, если бы дал стереотипный корректный
перевод, с использованием обычного словарно-грамматического
опыта, который есть у каждого, кто знаком с греческим языком
и умеет читать на нем философскую или хотя бы историческую
прозу. Но дело-то в том и заключается, что в отношении к
Плотину в особенности верно то правило, что переводить можно
только то, что понимаешь. Переводить Плотина значит владеть
всей философией Плотина, значит уметь расчленить, и
философски расчленить, любой отрывок из его обширного текста.
Поэтому я даю то, что я назвал бы интерпретирующим переводом.
Наполовину или даже больше того — это обыкновеннейший
перевод, стремящийся в полноте передать мысли автора. Но
отличием его от обычной манеры переводить являются два пункта.
Во-первых, текст передается в расчлененном виде — так, что
новая мысль начинается и с новой строки, и подчиненные мысли
отмечаются как таковые особыми обозначениями. Просидевши
много лет за греческой философской прозой, я теперь прекрасно
понимаю, что значит срезюмировать или сформулировать какую-
нибудь главу из Аристотеля, Плотина или Прокла, и знаю, что
без этого детального расчленения мыслей и, стало быть, фраз
не может быть ровно никакого понимания текстов. Разумеется,
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
841
чтобы произвести эти деления, надо известным образом понимать
и интерпретировать Плотина, я бы даже сказал, толковать. И я
это ставил принципом своего перевода. Пользуясь моим
переводом, каждый может сформулировать мысли любой главы с
любой степенью детализации содержания. Во-вторых, я ставил
своим принципом сделать текст Плотина во что бы то ни стало
ясным, даже ценою привнесения в текст моих собственных
дополнений, пояснений, толкований и резюме. Тексту Плотина это
нисколько не вредит, потому что все принадлежащее в тексте
лично мне я заключаю в квадратные скобки, так что, кому не
угоден я в качестве комментатора и интерпретатора, тот может
остаться только с одним Плотином, не читая того, что я заключил
в квадратные скобки. Пусть издатели и переводчики Плотина
хвалятся тем, что они дают сплошной текст, не прибегая ни к
красной строке, ни к курсиву, ни к своим текстуальным
добавлениям. Я же три четверти своего труда положил на эти вот
квадратные скобки, в которых иногда только одно добавленное слово
способно запутаннейший текст сделать ясным. Отсюда
единственная моя претензия сводится к тому, что мой перевод
кажется мне философски точным, т. е. он адекватно передает мысли
философа и их логическую связь. А есть ли тут филологическая
точность, это должно иметь второстепенное значение, хотя я не
пренебрегал и ею. Должен, впрочем, заметить, что перевод VI 6
(наряду с II 5 и 6, переведенными мною в «Античн. косм.», 233—
248) был сделан мною уже очень давно и является вообще
первым моим переводом из Плотина. Поэтому остальные мои
переводы из Плотина (в большом количестве данные в «Античн.
косм.») представляются мне в настоящее время более
совершенными. Но и здесь отступлений от текста почти нет, если не
считать таких, напр., незначительных фактов, как замена длинного
ряда условных периодов более разнообразными конструкциями
ради ясности и более гладкой речи.
Тексты и переводы, которыми я пользовался, следующие:
1. Plotini Enneades cum Marsilii Ficini interpretatione
castigata iterum ediderunt F. Creuzer et G. H. Mozer. Parisiis,
1896 (в ссылках у меня — «Фичино»).
2. Plotini opera, recogn. Α. Kirchhoff. Vol. I—II. Lipsiae, 1856.
3. Plotini Enneades, ed. R. Volkmann. Lipsiae, 1883—1884.
4. Les Ennéades de Plotin, trad, par N. Bouillet. T. III. Paris,
1861 (в ссылках у меня — «Буйе»).
5. Die Enneaden des Plotin, übers, ν. Herrn. Eriedr. Müller.
II Bd. Berlin, 1880 (в ссылках — «Мюллер»).
Нумерация и основной текст — по изданию Фолькмана, с
привлечением и двух других указанных изданий.
ВСТУПЛЕНИЕ
1. (Бесформенное множество — дурно, оформленное —
благо].
А. Ф.ЛОСЕВ
842
1. Есть ли множество отступление, [отпадение], от единого
и безграничность (απειρία) — окончательное отпадение, ввиду
того что оно — бесчисленное множество, и потому
безграничность [есть ли нечто] дурное и мы — дурны ли, поскольку
являемся множеством?
2. [Да,] именно — всякое [явление становится]
множественным, когда, бессильное оставаться в себе, разливается и
растягивается в своем рассеянии; совершенно лишаясь при этом
в [своем] растекании единого, [единства], оно становится
[таким] множеством, в то время как, [ибо], одна часть [уже] не
единится с другой частью.
3. Если же что-нибудь в своем растекании всегда останется
пребывающим [самим собою], то оно становится величиной.
4. А что ужасного в величине? а) [Это ужасное] было бы
здесь, если бы [эта вещь] его ощущала; именно, она ощущала
бы себя как ушедшую от самой себя и [как]
распространяющуюся вовне. Ь) [Однако] ведь всякая вещь ищет не чего-нибудь
иного, но себя саму; поход же вовне [всегда] или тщетен, [и
тогда его, собственно говоря, нет], или он необходим, [и тогда
он безвреден], с) Скорее же, всякая вещь существует не потому,
что она стала многой или большой, но потому что остается при
себе, [принадлежит себе], а быть при самом себе значит быть
согласным с самим собой, d) Исход же, [стремление], к тому,
чтобы стать большим в той или иной мере, есть принадлежность
уже того, что не знает истинной природы большого и что
направляется не туда, куда следует, [на себя самого], но вне; а
[стремиться] к себе значит быть внутри себя, [в своем отечестве,
дома], е) Доказательством этого является [все], что возникло
при помощи [осмысления себя как] величины: если [вещь]
отделяется [от самой себя так], что [начинает] существовать
каждая из ее частей, то получаются [именно] эти отдельные [части],
а не она сама, [какой она была] вначале, [т. е. когда она была
не величиной, или воплощенным эйдосом, но — эйдосом просто] ;
если же она будет [именно] самой собой, то необходимо, чтобы
все [ее] части имели отношение к единому, [что она собой
представляет] . f) Таким образом, самой собой она существует не
потому, что она большая, а потому, что она так или иначе — [нечто]
одно, [единое].
5. Тем не менее становится [вещь вещью] благодаря
величине; и притом постольку [она становится], поскольку в этой
величине теряет из самой себя; поскольку же содержит в себе
единство, она продолжает содержать саму себя.
6. Но ведь Все, [вселенная], именно велико и прекрасно,
а) И это только потому, что оно не могло устремиться в
бесконечное рассеяние (εις την απειρίαν), но охвачено единым; Ь) и
прекрасно оно не потому, что велико, но благодаря прекрасному,
и нуждаться-то стало в прекрасном потому, что стало великим,
ибо и без него, [прекрасного], оно оказалось бы настолько без-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
843
образнее, насколько больше объемом, с) И таким образом,
«большое» — [только] материя для «прекрасного», ибо [оно, будучи
просто] множественным, нуждается в красоте, так что [само
по себе] большое и более нестройно, и более безобразно.
I. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ О ЧИСЛЕ
а
2. [Число не может быть беспредельным и бесформенным
множеством].
Что же сказать о т. н. беспредельном числе (αριθμού της
απειρίας)? Но прежде всего, как [возможно] число, если оно
беспредельно? — 1. [Бесконечного числа нет в чувственном мире,
потому что], в самом деле, а) ни бесконечных чувственных вещей
не существует (так что нет и соответствующего им числа); Ь) ни
счисляющий не счисляет беспредельность, но, даже если
удваивает он [вещи] или [вообще] умножает, он [все равно] полагает
для них предел и, даже если относит [их] к будущему или к
прошедшему или также туда и сюда, он [все равно и в этом случае
так или иначе] полагает для них предел, [ограничивает] (ορίζει
ταΰτα). Но может быть, число беспредельно не просто, но так,
что [его беспредельное число раз], всегда можно применять?
[И это невозможно, так как числовое] созидание, [применение
числа], зависит не от счисляющего, но оно определено уже [само
по себе] и предстоит [в законченном и оформленном виде, будучи
установлено свойствами самого числа).
2. [Нет бесконечного числа и в умном мире, а) ибо], как
имеет [четкий] предел сущее, так же количеством сущего
определено в умном [мире] и число. Ь) Мы же, в каком смысле делаем
множественным одного человека, многократно применяя [к нему
те или другие свойства] и красоту и прочее, так же и с образом,
[эйдолом] \ каждой [вещи мы соответственно] устанавливаем
1 Так как мною подготовлено особое терминологическое
исследование по Плотину, то сейчас нет настоятельной нужды приводить
соответствующий аппарат. Большинство из шіотиновских, как и вообще
античных, терминов почти не переводимо ни на какие новоевропейские языки,
если не махнуть рукой на передачу их специфически античного
содержания. Наибольшую трудность представляют термины είδος, είδωλον,
μορφή, δύναμις, ύπόστασις. «Эйдос», строго говоря, нужно было бы так
и оставить без перевода, как равно и «эйдол»,— настолько специфично
содержание этих терминов. Кое-где я так и делаю. Но я согласен, чт
термин этот для всякого, кто чужд современной феноменологии, звуч«.
дико и почти безобразно. Кое-где я передавал «эйдос» как вид и «с*:·
дол» — как «образ». Но это — ничего не стоящие, совершенно услови-
переводы. «Ипостась» я также оставлял почти без перевода, заме"
только иной раз — исключительно ради внешних стилистических цслс
«ипостась» через «ипостасийное бытие» . Δύναμις у меня везд<'
Α. Φ. ЛОСЕВ
844
одновременно и образ, [эйдол], числа 2; и, как мы можем
увеличивать некий город не субстанциально 3, [но оставляя его той же
единичностью, что и раньше], таким же образом производим
и увеличение чисел, с) И [нам кажется при этом, что] мы,
исчисляя, положим, промежутки времени, [правильно поступаем],
перенося на эти времена числа, благодаря которым мы эти
времена получаем, а [на самом деле] числа пребывают в нас
[совершенно самостоятельно вне всякого увеличения и вообще
изменения] .
3. [Однако и самая беспредельность (απειρία) немыслима
сама по себе как сущая и мыслима лишь в связи с эйдосом].
1. Но как, следует спросить, субстанциально есть
беспредельное в качестве сущего беспредельного? Ведь все, что есть
некая субстанция (ύφέστηκε) и [вообще] есть, уже [тем самым]
охвачено числом.— а) Но прежде всего, [спросим] : если
множество действительно пребывает в сущем, как множество может
быть дурным? Ь) [Мы знаем уже, что множество не может быть
дурным], раз оно объединяется, и, так как будучи единичной
множественностью (εν δν πλήθος), [тем самым) уже испытывает
препятствие быть множественностью во всех отношениях.
И вследствие этого оно, поскольку содержит множество, менее
[значительно], чем единое, и в отношении единого — хуже; и
не имея его, [единого] природы, но находясь в отрыве [от нее],
оно уменьшается [в значимости]. Тем не менее благодаря
своему единству оно получает от него определенную ценность,
[значение], обращает множественность к единству и [таковым]
пребывает и [дальше].— [Так существует определенное множество.
Но тогда наш вопрос повторяется].
2. Как же [все-таки существует] беспредельность,
[беспредельное множествоі ? а) Именно, если [онаі —в сущем, то
[этим] она уже ограничена, [определена] ; а если она — не огра-
ция», хотя часто это значит нечто весьма специальное, напр. «значение»,
«сила» и т. д. Везде в таких случаях перевод может иметь только
условное значение и для понимания этого перевода необходимо подробное
терминологическое исследование философии Плотина.
2 У Мюллера формально точнее, но по смыслу бледнее, чем у Буйе
Мюллер (344): «So erzeugen wir mit dem Abbilde eines jeden auch ein
Bild des Zahl»; <Буйе) (366): «...à l'image de chaque essence intelligible
nous faisons correspondre une image de nombre»; Фичино (458), как
всегда, сухо и точно: «...ita simul cum quolibet simulacro numeri quoque conci-
pimus simulacrum» 10*.
3 ούχ ύφεστώς оба новых переводчика поняли буквально и неверно
Мюллер (ibid.) : «ohne dass sie besteht»; Буйе (ibid.) : «une ville qui n'existe
pas»; плохо и y Фичино (ibid.): «multiplicamus non existentem»11* Не
надо забывать, что ύπόστασις, ύφίστημι l2* у Плотина — технический
термин. Подобное сведение технического термина на
общераспространенное в языке неглубокое понятие мы находим у всех трех переводчиков и в
других местах.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
845
ничена, то, значит, ее нет в сущем, но она, пожалуй,— в
становящемся, равно как и о времени [можно сказать то же], Ь) Но
даже если она определена, то именно в силу этого [она]
беспредельна, ибо определяется [только] беспредельное, а не
предельное. Да и нет ничего, как известно, другого, [кроме
становления], между пределом, [как определяющим], и беспредельным,
что принимало бы природу, [значимость], определения,
[границы].
3. Отсюда — вывод, что беспредельное само бежит идеи,
[цельного лика] предела (την του πέρατος ίδέαν) и
схватывается лишь внешним охватом, а) [Но это не значит, что] оно бежит
из одного места в другое [пространственно], ибо оно [вообще]
никакого места не занимает, а — наоборот — место образуется
там, где оно схватывается. Ь) И вследствие этого нельзя
утверждать относительно него никакого т. н. пространственного
движения и никакого другого движения в нем из тех, которые имеются
в виду в разговоре, так что надо предположить, что оно, надо
полагать, и не движется, с) Но [тогда] оно также и не покоится,
ибо где же оно покоится, если самое «где* возникает только
впоследствии?
4. Похоже, скажут, что движение свойственно
беспредельному в том смысле, что оно не пребывает [постоянно
неподвижным] . а) [Но если так, то] так ли оно существует, что
возвышается в одном и том же [месте], или [так, что] носится туда и
сюда, [вверх и вниз]? Ь) Ни то, [конечно], и ни другое, ибо там
и здесь оно относится к [определенному] тождественному месту,
в одном случае — как носящееся в вышине [и] не склоняющееся,
в другом случае — как склоняющееся.— Но в таком случае за
что же ее считать, [беспредельность, в умном мире] ?
5. [Беспредельное существует тогда,] когда мы мысленно
(ttj διάνοια) определяем, [ограничиваем], вид, [эйдос]. Что же
мы, собственно, тут будем мыслить? а) Мы мыслим одновременно
противоположное и не-противоположное, как, напр., большое и
малое, ибо [беспредельное] становится и тем и другим, [и
мыслим одновременно] и покоящееся и движущееся, так как [оно]
становится и этим. Ь) Однако ясно, что ни то ни другое, до того
как [беспредельное] становится [тем и другим одновременно,
ни в какой мере] не определенно, а если определенно, то это мы
сделали сами, [независимо от всей системы взаимоопределения
эйдоса и меона]. Стало быть, то и другое [мыслится], надо
полагать, именно тогда, [или беспредельное только тогда становится
совмещающим противоречия], когда [природа беспредельного]
и [сама] беспредельна, и все то, [что получается в результате
взаимоопределения эйдоса и беспредельности, тоже обстоит]
беспредельно и неопределенно \ [Это видно также и из следую-
Это трудное место — ει ούν άπειρος και ταύτα απείρως και
αορίστως, φαντασθείη ν'άν έκάτερα,— в котором непонятно, куда относится
Α. Φ. ЛОСЕВ
846
щего]. Именно, подойдя к беспредельному без накладывания
определенных границ, как бы без набрасывания сетки, ты
увидишь, что оно ускользает [как бы сквозь пальцы], и не найдешь
его чем-нибудь одним [определенным], ибо иначе — оно уже
было бы определенным, [а не беспредельным]. Подойдя же
к чему-нибудь как к единому, мы обнаруживаем его как многое,
а, назвавши его многим, мы, в свою очередь, опять ошибемся,
ибо раз нет каждой отдельной единичности, то нет и ничего
многого. [След., оно должно быть одновременно и единым и
многим] . с) [Ясно, что] самая природа ее [беспредельности] с точки
зрения отличия от [наших] представлений (καύ·* έτερον των
φαντασμάτων) есть движение, а с точки зрения того, куда
направились наши представления (καθ' δ προσήλθεν ή φαντασία),—
покой5. Или: то обстоятельство, что ее, [беспредельность],
нельзя увидеть через нее саму, [конституирует собой] движение
и отправление (άπολίσθησις) от ума, и то, что она не может
исчезнуть, сдерживается отвне [некиим] кругом и не может выступить
[за пределы себя самой, т. е. разлиться и рассеяться], есть покой.
Таким образом, ни в коем случае нельзя сказать, что
беспредельности свойственно только движение, [d) Беспредельности
свойственно, значит, одинаково и движение и покой; и потому мыс-
απειρος и куда ταΰτα, и -неясно сказуемое условного предложения, оба
новых переводчика скорее перелагают, чем переводят. Мюллер (345):
«Wenn nun iene Natur (по-видимому, имеется в виду беспредельное,
άπειρον,— слово, которое было употреблено у Плотина не менее как
30 строками выше!) unendlich und dies (что именно — неясно; из
предыдущего напрашивается то, о чем сказано, как о совмещающем
противоположности) in unbegrenzter und unbestimmter Weise ist, so könnte
sie (тоже не совсем ясно; по-видимому, iene Natur) beides wohl schei-
nen> 13* Буйе (368) уже совсем отказывается от перевода, давая лишь
домысл «En vertu de sa nature, l'infini est donc ces choses d'une manière
indéterminée, infinie; c'est à cette condition seulement qu'il paraîtra être
les contraires»14*. Фичино (459): «Si ergo natura ilia est infinita, atque
haec, quae modo dicebam, infinite et indeterminate sunt ibi, sic ibi nimirum
utraque apparebant» '5*. В правильности моей интерпретации я сам не
вполне уверен.
5 И тут оба новых переводчика не уловили самого главного. Мюллер
(ibid.): «So ist diese ihre Natur von der einen Seite gesehen Bewegung
(т. обр., έτερον остается без перевода) und insofern die Vorstellung an
sie herantritt Ruhe» (несмотря на то что Vorstellung есть и в первом,
случае и там не вызывает покоя; не обращено внимания на καϋ' δ προσήλ-
θεν). Буйе (369): «Telle est encore la nature de l'infini que, selon une
manière de le concevoir (y Плотина именно обратное: поскольку вещь
не соотносится с представлением), il est mouvement et selon une autre
(но какой же именно?), stabilité». Фичино (459) передает гораздо точнее,
но все-таки не вполне точно: «Secundum alteram quidem imaginationern
(какого же именно представления?) motus sit; quatenus autem accessit
imaginatio, status».
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
847
литься она может не сама по себе, но лишь в связи с эйдосом,
который только один и может, входя во взаимоопределение с
беспредельностью, одновременно и двигаться и покоиться].
b
4. [Беспредельное число немыслимо]. Необходимо
рассмотреть, каково положение чисел в умном [мире].
1. Существуют ли они а ) в результате присоединения к
другим видам, [эйдосам], или в качестве их постоянных спутников,
напр., когда мы, поскольку сущее [уже само по себе] таково,
что оно есть первое, уже [тем самым] помыслили единицу и
затем уже — «три», так как из него, [из сущего, появляется]
движение и покой и [вообще] отдельный [новый эйдос] при каждом
[новом числе]; другими [словами, числа тут оказались
количествами других вещей, других — в отношении к ним самим].
Ь) Или не так, но каждому [эйдосу] имманентно была присуща
одна единица, т. е. первому сущему — единица, последующему
же, если есть [последовательный] ряд,— двойка [и вообще]
такое число, каково множество каждого [эйдоса], как-то
десятка, если [дано] десять [последовательных вещей] ; с) или же,
[наконец, и] не так, но число мыслится само по себе, и в таком
случае [возникает вопрос]: до или после других [эйдосов оно]
так мыслится? [Значит, или число — исчисляемое количество
вещей, или оно — созерцается цельно с исчисляемой вещью,
или оно — созерцается само по себе, как и всякий эйдос].
2. [Платон уже пытался разрешить эти вопросы. А именно],
а) Платон, сказавши, что люди пришли к понятию числа
благодаря [наблюдению за] сменой дня и ночи, поставил мышление
[чисел в связь] с инаковостью вещей и тем самым Ь) должен
был утверждать, что исчисляемые предметы создают число,
прежде [всего] именно через [свою] инаковость, так что с) число
составляется при переходе души, идущей от одного предмета,
[т. е. в моменты психического процесса счисления], d) т. е.
проходя их, [ряд вещей], и отличая в самой себе одну вещь от
другой, в предположении, что она, по крайней мере пока мыслит
одно и то же, а не другое что-нибудь, следующее за ним, [так и]
называет его «одним».
3. Однако [тот же Платон], говоря, что в истинном числе
заключена сущность (ουσία) и в сущности — число, должен
опять-таки в свою очередь утверждать, а) что есть некая
ипостась, [чистая существуемость], числа самого в себе (ύπόστασίν
τίνα... εφ' εαυτού του άριΦμοΰ) b) и что оно существует не
[только] в счисляющей душе, но с) впервые понятие числа
возбуждается в ней благодаря [объективному] различию чувственных
вещей [самих по себе].
Α. Φ. ЛОСЕВ
ί«^—I
848
с
5. [Итак, если число — не просто субъективно-психический
процесс, определяемый эмпирическим воздействием чувственных
вещей, то что же оно такое само по себе? Прежде всего, число
само по себе не есть только спутник и нечто как бы только
присозерцаемое при сущности]. Итак, какова природа его?
Спутник ли оно [эйдосов] и как бы [нечто] присозерцаемое
в каждой сущности?
1. Если мы положим, что «человек» и «один человек» или
«сущее» и «одно нечто сущее» — одно и то же, и [так же
точно] — относительно всякого умного предмета и каждого числа,
[то возникает ряд недоразумений]. а) Как тогда возможно было
бы двойку, тройку и как все [другое] [измерять единицей] (καθ'
εν) и как [возможно было бы] такое число свести к единому?
Ведь при этих условиях получится [лишь] множество единиц
и — в то же время ничто не будет в соответствии с единым (εις
εν), кроме простой [первоначальной] единицы, Ь) если только
не скажут, что двойка и есть сама вещь, скорее нечто
созерцаемое в вещи, состоящей из двух в совокупности взятых потенций,
[смысловых возможностей], как бы соединенных в одно, или
если [не будут иметь в виду числа], о которых говорили
пифагорейцы, по каковым, как известно, числа есть результат
пропорциональности (έκτου ανά λόγον) 6 [вещам], как, напр.,
справедливость есть четверица и другие вещи — другое число, с) Но
ведь подобным способом скорее [можно достигнуть только того,
что] некое множество, образующее одну [определенную] вещь,
соединится вместе с числом, которое, соответственно [с этой
вещью], есть [тоже нечто] единое, как, напр., десятка, d) A ведь
мы не то называем десяткой, [о чем можно сказать только то,
что оно есть одно], но [мы изучаем сейчас десятку], соединяя
[в одно именно] десять раздельных [моментов и именно их
называя десяткой].
2. [Но не признать ли, что] десять мы называем десяткой
тогда, когда из многого возникает одно, подобно тому как и там,
[в умном мире, существуют] такие же [раздельные цельности,
соединяемые в одно]? а) Но если так, то, раз созерцается
в вещах число, должна ли уже существовать ипостась, [умно-
смысловая сущность], числа? Ь) Скажут: тогда ничто не мешает
существовать в вещах и ипостаси белизны на том основании,
что белизна созерцается в вещах; а равно существовала бы и
ипостась движения, наличного в сфере сущего, раз [само]
движение созерцается в сфере сущего, с) [Разумеется, и это все
имеет свои ипостаси. Но тут существенная разница). Число
[устанавливается] не так, как движение. Но ввиду того, что дви-
6 Мюллер (347): «Nach der Analogie». Буйе (371): «Par analogie».
Фичино (460): «Secundum analogiam».
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
f—I
849
жение есть нечто, то так же и единичность, говорим, в нем
созерцается, [и потому единичность первее движения, белизны и пр.].
Затем, [во-вторых], ипостась, подобная [ипостаси движения,
белизны и пр.], отрывает число от пребывания в качестве
сущности и делает его скорее акциденцией и даже, вообще [говоря],
не вполне и акциденцией, ибо акциденция тоже должна быть
чем-нибудь [самим по себе] до акцидентирования [собою]
вещей; и даже в случае нераздельности [с вещью] в ней все
равно есть некая самостоятельная природа, как, [напр.], белизна:
и служить в виде предиката другой [вещи] она [может только
тогда, когда в ней] уже будет то, что должно быть
предикатом.
3 [Итак, если к числу относиться как к умному числу и
созерцать его ипостась, то, выходит, число есть нечто
предшествующее каждой отдельной определенности], а) Поэтому если
каждой [вещи можно приписать] предикат единства Ь) и [стало
быть], «человек» и «один человек» — не одно и то же, но
«человек» и «одно» — разное и «одно» — обще и в каждой прочей
вещи, то с) «одно», [«единое», по смыслу], надо полагать,
раньше «человека» и каждой другой вещи, чтобы и «человек» и
каждая другая вещь могли оказаться отдельной вещью,
[причастной] категории единого, d) И конечно, [единое] — раньше
движения, если только само движение — едино, и раньше сущего,
чтобы и это последнее могло оказаться [причастным]
категории единого (под единым же я понимаю не то единое, которое,
как известно, мы называем трансцедентным сущему, но то,
которое предицируется о каждом виде, [эйдосе] ). е) И десятка,
разумеется, [по смыслу своему] — раньше того, о чем десятка
предицируется, и [в этом случае] она будет самодесяткой, [десят-
кой-в-себе] (αύτοόεκάς); ввиду этого самодесяткой будет,
очевидно, не та десятка, которая видится в [чувственной] вещи,
f) Стало быть, самодесятка имманентна сфере сущего и по
происхождению и по реальности (συνενένετο και συνυπεστη τοις
ουσιν). Но если она имманентна сущему как [его] акциденция,
[а не как сущее же], как, напр., здоровье — человеку, то и
[в этом случае] ему необходимо быть [предварительно] самим
по себе, и, если единое [трактуется как] элемент сложного,
необходимо сначала самому единому существовать в качестве
единого, чтобы быть [потом] и с другим [элементом]. А затем,
смешавшись с [этим] другим [элементом], который через него стал
ед'йным, он уже только по ложной [видимости] может создавать
единство, [на самом же деле] создает из него два [предмета].
Так же обстоит дело и с десяткой. Какую, в самом деле, нужду
имеет в десятке то, что окажется десяткой в результате столь
великой потенции, [превращающей его в чисто умную десятку] ?
[Десятка-в-себе есть эйдос в отношении к десяти вещам; это —
умный смысл, оформляющий внесмысленную материю]. Но если
[умная десятка] эйдетически осмысляет их, [реальные десять
Α. Φ. ЛОСЕВ
Ι \
850
вещей], как материю (ειδοποιήσει... ως υλην) и десять
[реальных вещей] могут быть десятью и десяткой — именно в силу
присутствия (παρουσία) [умной] десятки, то необходимо, чтобы
самой по себе десятка1 была, не иначе как десяткой просто
[существующей до всякого воплощения в материи и до осмысления
ею чувственных вещей].
d
6. Но если само «единое» и сама десятка, [единое-в-себе и
десятка-в-себе], [существуют по смыслу своему] без вещей и
затем умные вещи, по исключении из них
содержательно-качественного момента (μετά το είναι δπερ έστι), остаются то как
единицы, то [как] двойки и тройки и т. д., то какова же и как
конструирована собственная природа этих умных чисел?
Необходимо, конечно, признать, что происхождение их создается сила-
ми, [или в сфере], смысла (λόγω... ποιεΐσθαι).
1. Но прежде [всего], однако, нужно согласиться
относительно общей сущности [чисел, как и вообще] видов, [эйдосов],
что существует она не в результате принадлежности тому, кто,
владея мыслью, помыслил каждый [из этих эйдосов и чисел]
и затем [только] самым мышлением доставил себе их [умную]
ипостась (δτι εστίν ουχί νοήσαντος εκαστον του νενοηκότος, ειτ'
αύτη τη νοήσει την ύπόστασιν αυτών παρασχομένον). Не потому,
в самом деле, появилась справедливость, что [человеческий
субъект] помыслил, что такое справедливость; и не потому дано
движение, что [некто] помыслил, что есть движение, а) Тогда эта
мысль (νόημα) могла бы быть одновременно и позже самой по-
мысленной вещи, как, напр., мышление справедливости позже
ее самой, и мышление в свою очередь опять — раньше [вещи],
возникшей из мышления [же], если она [вообще впервые]
дается через мыслительное овладение; Ь) [во-вторых], если
справедливость и подобное мышление [справедливости] — одно и
то же, то, прежде всего, нелепо [думать], что справедливость
[сама по себе] не есть что-нибудь, кроме как только [одноі ее,
примерно сказать, определение, ибо что значило бы тогда иметь
мысль о справедливости или движении или овладеть их
индивидуальной сущностью (το τί έστιν) ? Это было бы тождественно
с овладением смысла (λόγος) несуществующей вещи, что
невозможно, [так как сущее и не-сущее выражаются в мысли
вполне определенным и притом совершенно различным способом].
с) [В-третьих], если кто-нибудь скажет, что узрение (επιστήμη)
тождественно с [узренной] вещью в сфере вне-материальной,
[т. е. в умных предметах], то тут надо мыслить сказанное не в том
смысле, что узрение есть сама вещь, и не то, что понятие,
созерцающее вещь, есть сама вещь, но — наоборот; вещь, будучи
сама вне-материальной, есть и предмет мысли и мышление, хотя,
конечно, и не то * которое представляет собою [субъективное]
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
понятие (λόγος) вещи и ее схватывание (επιβολή προς αυτό) 7.
Но — вещь, сущая в умном мире, является не чем иным, как
умом и узрением. И не узрение здесь, в самом деле, обращается
на само себя, [замыкаясь в круге субъективных понятий], но
сама вещь не может оставить там, [в умном мире], узрение,
отличающимся [от вещи] (каково узрение вещи, находящейся
в материи) 8, т.е. [она сама создает] истинное узрение, [или],
другими словами — не [чувственный] образ вещи, но саму вещь,
[так что узрение есть сама вещь, но не потому, что вещи нет как
самостоятельного начала, а потому, что узрение есть только
жизнь вещи в окружающей ее среде и, след., лишь известная ее
модификация].
2. [Итак, мысленный предмет появился не в результате
субъективного мышления, но в результате самостоятельного
бытия предмета].— Стало быть, не мышление, [осмысление],
движения создало самодвижение (αύτοκίνησιν), [движение
само-в-себе], но самодвижение создает мышление, так что оно,
[самодвижение, создает себя] и как движение, и как мышление
[самого себя]. а) Ведь движение там есть в то же время и
мышление его, [т. е. бытие в качестве соответствующего
осмысления] , а это последнее есть движение, поскольку оно — первое,
[иервее всего], так как нет другого [мышления] раньше его,
и совершенней всего (δντως), так как оно не акциденция чего-
нибудь другого, но — энергия движущегося предмета, сущего
энергийно; и, значит, оно в свою очередь — и сущность (ουσία),
а примышление (έπίνοια) —отлично от сущего. Ь) [Равным
образом] и справедливость не есть мышление справедливости,
но некая диспозиция (οιάθεσις), [состояние], ума, или скорее
такая энергия, лик (πρόσωπον) которой ,8* воистину прекрасен,
и ни вечерняя звезда, ни утренняя, ни любая чувственная вещь
не прекрасны так, как она. Она — как бы некое смысловое
изваяние, предстоящее словно после выхождения из [глубин] самого
себя и проявления в самом себе, или скорее она — [просто]
само-в-се бе-суще е (οίον άγαλμα τι νοερόν, οίον εξ αύτοΰ έστηκός
και προφανέν εν αύτώ, μάλλον δε ον εν αύτώ).
7 У Мюллера строже (349): «Begriff oder Ergreifen des Sache», у
Буйе свободнее, но, пожалуй, точнее (374): «une définition ou une
intuition de la chose> 16*. Фичино (461): «Non earn, inquam, intellegentiam,
quae rei ipsius sit ratio quaedam, vel aliquis in hanc ipsam intuitus» ,7*
8 У Мюллера (ibid.) непонятно: «Die Sache macht es (т.е. Wissend
dort zu einem bleibenden (immanenten), nicht zu einem verschiedenen»19*.
Прекрасно передано у Буйе (ibid.): «C'est la chose elle-même qui fait la
connaissance [que la raison en a] ne demeure pas différente d'elle (comme
la connaissance d'un objet matériel demeure différente de cet objet)»20*.
Хорошо и у Фичино (ibid.): «Non enim scientia illic ad rem vergit intelli-
gendam, sed res ipsa illic efficet, ut scientia illa non ita sit ab ipsa diversa,
sicut rei materialis scientia esse solet» 2I*
А* Ф. ЛОСЕВ
Г=П
852
II. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ О ЧИСЛЕ
а
7. [Но если числа вообще принадлежат к умному миру, то
они и во всем прочем разделяют свойства этого мира. Так, к
числам относится и свойство умного мира быть единым во всем и
всем во едином].
1. Вообще все вещи необходимо действительно мыслить в
одной природе; и [необходимо мыслить] одну природу, имеющую
в себе все и [все] как бы охватывающую, не так, как в
чувственном мире,— одно вне другого (солнце, напр., в одном месте,
другая вещь — в другом),— но все вместе в едином; такова ведь
природа ума.
2. Точно так же подражает [уму] и душа и т. н. природа,
сообразно и благодаря которой рождается всякая вещь, в то
время как при всеобщем разнообразии она — целокупно
пребывает сама в себе. С другой же стороны, при целокупном
объединении всего каждая вещь в то же время существует и
отдельно от других вещей.
3. Ум видит находящиеся в уме и в сущности [предметы],
не взирая на них, [как на нечто чуждое себе], но [просто]
содержа их [в себе] и не разъединяя их порознь, ибо они вечно
пребывают в нем уже разделенными, а) В отношении к тем
людям, которым это кажется [слишком] удивительным, мы считаем
это достоверным по вещам, участвующим [в уме] 9. Ь) Вели-
9 Это место у Плотина неясно. Первую фразу: «πιστούμεΦα δε προς
τους τεϋαυμακότας εκ των μετειληφύτων» одним образом понимает Фичи-
но (462): «Apud illos igitur, qui haec nimium admirantur, fidem nobis ab
iis quae participant, comparamus» 22*. Мюллер понимает это другим
образом (349): «Wir machen das gegenüber den erstaunten Leuten
glaubhaft durch die daran Theil habenden Dingen*23* Буйе (375): «Nous
croyons à Pexistence de choses sur la foi de ceux qui les admirent, parce
qu'ils y ont participé»24*. Разногласия и в понимании второй фразы:
«το δε μέγεθος αυτοί; καί τό κάλλος ψυχής έρωτα προς αυτόν και των
άλλων τον εις ψυχής έρωτα δια την τοιαύτην φύσιν καί τω εχειν κατά τι
όμοίωται». Фичино (ibid.): «Magnitudinem vero mundi illius et pulchritu-
dinem et amore animae ipsius ad illum coniectare et asseverare solemus:
quin etiam illorum amore, quae ad animam annituntur (добавление не
обязательное и, быть может, имеющее в мысли Плотина совсем другое
значение), ob quandam eius modi naturam, atque etiam ex eo, quod per
earn illius similem aliquam ad ilium similitudinem consequantur
(много лишнего)». Буйе (ibid.): «Quant à la grandeur et à la beauté du monde
intelligible, nous en pouvons juger par l'amour que l'âme éprouve pour
lui; et si 1er autres choses éprouvent de l'amour pour l'âme (след.,
начиная со слов — «καί των άλλων» в таком понимании начинается новая
фраза), c'est parce qu'elle a elle-même une nature intellectuelle, et que
par elle les autres choses peuvent dans une certaine mesure devenir
semblable à l'Intelligence» Мюллер (ibid.): «Ebenso die Grösse und
Schönheit desselben durch die Liebe der Seele zu ihm, und die Liebe der
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I 1
853
чину же его и красоту [ума мы считаем достоверной] по любви
к нему души или по любви других людей к душе, [именно]
благодаря такой природе [души] иметь то, чему они следуют в силу
подражания.
4. Кроме того, в особенности было бы, конечно, абсурдным,
если бы существовало некое прекрасное живое существо, а
живое существо-в-себе, удивительное и невыразимое по своей
красоте, не существовало бы.
5. Значит, в се со вершенное живое существо состоит из всех
живых существ или, лучше, обнимает в себе все живые существа
и пребывает настолько единым, сколь [велики и разнообразны]
все вещи, как и это [чувственное]. Все едино и [есть] все
видимое, обнимая все в видимом.
Ъ
8. [Однако положение числа в умном мире вполне
своеобразное].
1. Так как, значит, и живое существует исперва (πρώτως)
[в умном мире] и потому существует живое-в-себе и ум и
истинная сущность, и так как [живое-в-себе] содержит, по-нашему,
[в себе] и все живые существа, и целокупное число, и само
справедливое, прекрасное и пр. т. п. (причем иначе существует [там]
человек-в-себе, иначе само число [-в-себе] и иначе само (в-себе-j
справедливое), то необходимо исследовать, как же [именно]
существует каждое [из этих начал] и что именно
[существует] ,— насколько можно что-нибудь относительно этого
изыскать.
2. Прежде всего, необходимо, конечно, отбросить всякое
ощущение и — ум созерцать и обсуждать при помощи ума же,
так как а) и в нас жизнь и ум существуют не в виде
материальной массы, но в виде непротяженной [смысловой] потенции
(εν δυνάμει αόγκω). b) При этом истинная сущность совлекает
с себя [все] это, 1[материальное], и, будучи [смысловой]
потенцией, основанной на самой себе, не есть некая бессильная вещь,
но нечто живейшее и разумнейшее из всего; и нет ничего более
живого, разумного и сущностного (ούσιωδέστερον), чем она; и
соприкасающееся с этим миром обладает этими [свойствами]
согласно смыслу касания: более близкое — ближе и более
далекое — меньше, с) Стало быть, если только нужно стремиться
к бытию, то в большей степени надо стремиться к высочайше-
сущему и больше всего к уму, если только [вообще надо
стремиться] к мышлению. И также и к жизни.
3. Итак, если сначала брать сущее как первое, затем —ум
и далее жизнь (το ζώον) (она ведь, как известно, все уже
охватывает), а ум есть второе (как энергия сущности), то а) число,
andern zur Seele wird uns klar aus einer solchen Natur (значит, как
у Буйе) und aus dem Umstände, das sie hat wonach sich ähnlich
geworden 27* (проще и лучше, чем у Фичино и Буйе)».
Α. Φ. ЛОСЕВ
I^MMl
854
можно сказать, не существует ни в соответствии с жизнью
(κατά το ζώον) 10, ибо «один» и «два» уже существовали до нее,
Ь) ни в соответствии (κατά) с умом, ибо еще до него сущность
была и едина и множественна. [Стало быть, число существует
в уме так, что оно раньше полного эйдоса; число — только кон-
тѵр умного эйдоса] и
9. Поэтому остается рассмотреть, породила ли сущность
число собственным разделением, или же (само] число
раздробило сущность, и также, [более детально, пять ли основных
категорий —] сущность, движение, покой, тождество и различие —
сами породили число, или число — их? Начало [нашего]
рассмотрения [будет] таково.
1. а) Число или может существовать само в себе [и, значит,
созерцаться само по себе, самостоятельно], или необходимо,
чтобы два также созерцалось на двух вещах, равно как и три
[на трех]. Так же и единое, [одно], находящееся в числах.
Ь) В самом деле, если [число] может быть и само в себе, без
счисляемых предметов, то оно может быть [и] до сущих
предметов, с) Но [может ли оно быть] также и до сущего [как
такового], или же надо это оставить и — [признать, что сущее] —
до числа, и согласиться, что число происходит из сущего. Но
[нет, число раньше сущего], d) [В самом деле:] если единое
есть сущее единое и два есть два сущих [предмета], то единое
уже будет предшествовать [в смысловом отношении] сущему,
равно как и число [вообще предшествует] сущим [и
счисляемым вещам], [е) Стало быть, число раньше сущего].
2. [Тут числа —] по [субъективному ли] примышлению
и конципированию или также и по своему ипостасийному бытию
(τη επινοία και τη επιβολή ή και τη ύποστάσει)? Будем
рассуждать так. а) [Пусть, в самом деле! кто-нибудь счисляет], пусть
мыслит сущего человека [как некую единицу] и одно [что-
нибудь] прекрасное [также как единицу]. Явно, что
впоследствии он мыслит единое, [одно], там и здесь [одинаково] Точно
так же, [счисляя в мысли] лошадь и собаку, [мы] тут, очевидно,
[мыслим] после [этого чистое и самостоятельное] «два». Ь) Но
пусть мы создаем [в мысли, с одной стороны], человека, а [с
другой], создаем лошадь и собаку, или проецируем их вовне, в то
время как они [уже] находятся в нас самих, и при этом и создаем
10 У Буйе (377) прямо: «ne saurait exister dans Г Animal», как и
дальше: «dans l'intelligence»28*. Фичино (462): «secundum animal» и —
«intellectum».29*.
11 Буйе (ibid.), желая, как и я, пояснить заключительные слова этого
параграфа, вставляет замечание совсем не-плотиновского характера,
относя числа на долю сверх-сущего первоединства. Он пишет в
квадратных скобках: «Le Nombre doit donc exister dans l'Etre premier»30" Из
дальнейшего текста Плотина видно, что в конструкции числа участвуют
одинаково и первая и вторая природа.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
855
и проецируем не по случайному стечению обстоятельств ,2. с) Мы
тогда скажем: нужно идти к одному и [затем] переходить к
другому одному и [тем] создавать два и создавать также и еще
иное в отношении нас, [т. е. мы видим сначала единичность на
человеке, потом двоичность на совокупности лошади и собаки
и затем видим на совокупности этой единичности человека с дво-
ичностью лошади и собаки еще новую единичность,
противостоящую нам, счисляющим]. Однако нельзя [сказать, что тут]
исчислено сущее в моменты своего возникновения; но, наоборот,
когда оно должно было возникнуть, уже было ясно, сколько
именно должно возникнуть, [т. е. отвлеченное число возникает не из
процесса счисления вещей, но самое счисление предполагает,
что числа уже существуют]
3. Итак, [ясно, что] общее число было до самих сущих
[вещей]. Но [что это значит?] а) Если оно — do сущих [вещей],
то оно не есть сущие [вещи, и, значит, оно было в сущем как
в таковом] Ъ) А если оно было в сущем [как таковом], то оно
не было числом [этого] сущего, ибо сущее уже есть одно сущее,
[т. е. сущее уже предполагает единство]. с) Но, [стало быть,
смысловая] потенция, [сила], числа ипостасийно-самостоятель-
но раздробила сущее и как бы заставила его родить само
множество, d) Потому сущность его [множества], или энергия
[его], должна стать числом и само живое и ум [есть также]
число. Не есть ли сущее — число в своей объединенности
(ηνωμένος), сущие же [вещи] —число в своем распределении,
[раскрытии] (έξεληλιγμένος), ум — само в себе движущееся
число, а жизнь — вокруг охватывающее число (περιέχων)? Раз
и сущее возникло от единого (ибо оно стало этим единым) —
необходимо поэтому ему быть числом, а отсюда и видам, [эйдо-
сам],— называться [теми или иными] единичностями и числами,
4. Вот каково сущностное (ουσιώδης) число. От него
отличается сокращенное проявление (εΐοωλον) его, т. н. монадическое
число (μοναδικός) , [т. е. число, которое созерцается на какой-
12 Строже всего у Фичино (463): «Neque utcumque evenit>, понятнее
у Мюллера (351): «Nicht nach dem zufälligen Anblick», кратко и ясно
у Буйе (378): «au hasard»31*.
13 У Фичино (463) сначала интерпретация, потом с подробным
разъяснением: «...qui monadicus dicitur, id est, ex quibusdam unitatibus con-
gregatus» 32* Ему же, по-видимому, последовал и Буйе (379): «qu'on
appelle nombre composé d'unités» 33*, в то время как Мюллер (351)
оставил без всякой интерпретации: «die sogennanten monadische (seil.
Zahl34*)». Надо сказать, что эта интерпретация Фичино и Буйе вполне
уместна и правильна. Ведь Плотин в этой главе занимается только одним
вопросом: в каком отношении находятся между собой число и сущее? Он
приходит к выводу, что число как оформление сущего — до сущего и
что оно по той же причине — имманентно ему. Значит, есть число как
умный принцип и есть число как умное изваяние формы, прообраз всего
счисляемого по единицам; и хотя и то и другое одинаково «состоит из
Α. Φ. ЛОСЕВ
l_l
856
нибудь вещи и вместе с нею и состоит из отдельных единиц,
монад, появляющихся в результате счета], а) Сущностное
[число]— присозерцается при видах, [эйдосах], и имманентно
порождает (συγγεννών) их, в первоначальном же [и
собственном] смысле оно [одновременно] — ив сущем, и с сущим, и до
сущего. Ъ) Сущие [вещи] имеют в нем свое основание, исток,
корень и принцип (βάσιν και πηγήν και ρίζαν και αρχήν).
с) Поэтому для сущего — единое есть начало, [принцип],
и в нем оно само — сущее (ибо в противном случае сущее
рассыпалось бы), d) но единое не при сущем (ибо в противном
случае сущее уже было бы единым до встречи с единым; и то, что
встречается с десяткой, уже было бы десяткой до достижения
десятки).
10. [Число, таким образом, в основе своей есть предобра-
же ние и как бы место пребывания для сущего].
1. Итак, сущее, обстоящее во множестве, есть число тогда,
когда оно, с одной стороны, проявилось в качестве многого,
а с другой стороны, когда оно послужило как бы установкой
(παρακσευή) для сущих [вещей] и как бы предображением
(προτύπωσις) их, когда оно есть как бы единичности, [т. е.
совокупность единичностей], содержащие [в себе] место для [всего]
того, что на них должно быть основано. [Это ясно на таком
примере.] Говорят и теперь: «Мне хочется [иметь] такое-то
количество (πλήθος) золота или домов». Хотя золото [здесь] едино,
[одно, т. е. есть некое число), желается, [однако], не число
сделать золотом, но — золото числом, [и притом большим] ; и лицо,
уже обладающее числом, пытается перенести его на золото, так
чтобы золото получило качество (συμβήναι), [т.е. в виде
акциденции], стать [именно] столь великим.
2. Если бы сущие [вещи] произошли раньше числа, число
же только присозерцалось при них в результате [известных]
движений природы, [т. е. нашей субъективно-психической
деятельности], счисляющей соответственно [количеству]
счисляемых [вещей], то а) счисление происходило бы [тогда лишь]
в силу случайности (κατά συντυχίαν) м, а не в силу
[повелительной] предустановки (κατά πρόϋεσιν) счисляемого, b) Если же
счисление происходит не впустую, то число должно предсущест-
вовать в качестве основы для счисляемого количества, т. е.
возникшие вещи приняли участие в количестве уже при наличии
числа [как такового] ; и каждая вещь приняла участие в едином,
[сущем до него], чтобы стать [именно] единым, [или одним]
Сущей [такая вещь] является благодаря сущему [как
таковому], ибо и [само] сущее является сущим благодаря самому
единичностей», все-таки во втором случае имеется в виду эта
специальная счетная составленность из единиц.
14 Мюллер (352) добавляет: «secundum contingentiam» к своему
переводу: «durch Zufall>36*.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I 1
857
себе; единой же [она является] благодаря самому единому.
И если единое есть в этих [вещах] сразу многое, как едина,
напр., тройка, и единое в этом смысле все сущее, то и каждая
вещь едина не как единство в соответствии с единицей, [с
монадой] (κατά την μονάδα), [т. е. в соответствии с абсолютно
нераздельной единичностью], но как едина мириада или какое-нибудь
другое число, с) Далее, если [кто-нибудь], считая десять тысяч
раз, скажет, что уже нашлось десять тысяч вещей, то это он
говорит не потому, что вещи сами от себя обнаруживают себя
в качестве счисляемых при помощи числа 10 000, подобно тому
как [они показывают] свои окрашенные поверхности, но потому,
что это говорит сам [счисляющий] разум (της διανοίας λεγού-
σης). Именно, если [разум] этого не говорит, то [счисляющий]
и не узнал бы, как велико [исчисленное] количество. В самом
деле, как он мог бы [это] сказать? [Сказать это можно] только
при умении считать, т. е. при знании чисел; а знать числа можно
только при наличии самих чисел. Не знать же, [игнорировать]
(άγνοεΐν) ту природу [вещи] с точки зрения количества ее
в смысле множественности — абсурдно, скорее же [прямо]
невозможно.
3. Значит, если кто-нибудь говорит о хороших вещах, то
[этим самым] или говорит он о хороших вещах самих от себя,
[самих по себе], или предицирует хорошее в качестве их
акциденции; и, если кто говорит о вещах в первом смысле, он говорит
о первой ипостаси, [т. е. о первой умной реальности] ; если же —
об акциденциально хорошем, то необходимо, чтобы была [самая]
природа, [т. е. умная природа], хорошего для акцидентирования
и прочих вещей, или чтобы была причина, заставляющая быть
[акциденцией] и в другой вещи, т. е. благо само по себе, или
благо как [самостоятельное само] порождение в собственной
природе, а) Так же [точно] говорящий в отношении сущих
[вещей] о числе, напр. о 10, [согласно вышесказанному], будет
говорить или о самой ипостасийной десятке, [т. е. о десятке как
эйдосе умного мира], или, если он говорит о том, чему десятка
свойственна в виде акциденции, он будет принужден утвердить
десятку как именно десятку, сущую самой по себе. Стало быть,
если кто говорит о сущих [вещах] как о десятке, [т. е.
насчитывает десять вещей], то или необходимо, чтобы эти вещи были
именно десяткой, [т. е. числом 10], или [необходимо], чтобы до
этих [десяти] вещей была другая десятка — в качестве не чего
иного, как именно этой самой [по себе] десятки. Ь) Да и вообще
следѵет ввиду всего этого сказать, что все, что предицируется
о чем-нибудь другом, или пришло сюда от другого, [«сюда> тогда
значит — «в чувственный мир»], или, [в случае когда мы имеем
в виду чисто умные эйдосы], есть энергия этого [предицирован-
ного предмета] И если иметь в виду это последнее, т. е. не те
условия, когда [энергия, т. е. предицируемое], то налична, то не
налична, но [те, когда] она постоянно с тем, [чего она энергия,
28 А. Ф. Лосев
Α. Φ. ЛОСЕВ
_J——1_
858
то — необходимо признать], что если последнее — сущность,
то и эта [энергия] — сущность^ и — не менее сущность, чем сама
сущность. Если же [и] не признавать [энергию за] сущность,
[то во всяком случае надо признать, что она] — принадлежит
к сущему и есть сущее. И если та вещь и может мыслиться без
своей энергии, то, во-первых, от этого энергия ничуть не менее
существует со своей вещью, а, во-вторых, энергия [в таком
случае] конструируется у нас позже путем примышления. Но если
вещь не в состоянии мыслиться путем примышления без нее,
[своей энергии], как, напр., немыслим человек без [бытия в
качестве некоей] единичности, то [энергия существует] не позже
[энергийно осмысляемой вещи], но одновременно с ней или
раньше ее, чтобы вещь [могла] существовать [именно] через
нее [и чтобы она могла осмыслять вещи]. [Отсюда] мы и
заключаем, что единое и число — раньше [того, что им причастно].
11. [Нельзя, однако, думать, что только единое имеет ипо-
стасийную природу. Ее имеет также и всякое другое число].
1. Пусть кто-нибудь скажет, что десятка есть не что иное, как
столько-то единиц. [Спросим] : если он признает существование
единицы, почему он будет признавать существование только
одной единицы, а не будет признавать еще и, [кроме того], десять
[единиц]? а) В самом деле, как одна единица имеет ипостасий-
ное бытие, так имеют его и другие [единицы], ибо, как ясно,
Ь) нельзя соединить одну единицу [как таковую, т. е. как именно
одну], с чем-либо одним из сущего; с) иначе ведь каждое из
прочих [сущих единичностей] уже не было бы единичностью (εν).
А если каждое из прочего — по необходимости единичность (εν),
то, [значит], d) единичность [как таковая] обща [для всех
сущих] . е) Это и есть одна предицируемая о множестве [сущих
вещей] природа, о которой мы и сказали, что она должна
наличествовать сама по себе, прежде созерцания ее на множестве
вещей.
2. Если же единица созерцается в этой [вещи] и в свою
очередь в другой, [на других вещах], то — а) если и она
наличествует [в этих других вещах] — тогда не только одна единица,
[т.е. первая единица в ряду чисел], будет иметь ипостасийное
бытие, и, таким образом, будет [целое] множество единиц —
[т. е. будут существовать и все другие числа в качестве особо
сформированных единиц] ; Ь) если же [предположить, что]
существует [только] одна первая [единица], то она — будет
связана (συνοΰσαν) [имманентно] или по преимуществу с
сущим, или попросту с по преимуществу единым. Но если
[единица будет связана] с по преимуществу сущим, то другие
единицы будут существовать под тем же названием, [т. е. будет
только сущее и сущее], и их нельзя будет поместить в
[последовательный] ряд с первой единицей; в противном случае число
[вообще] будет состоять из неравных единиц, [если мы станем
принимать во внимание разницу в сущем и отождествлять ее
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I \ —
859
с числовой разницей], и будут существовать разницы между
этими единицами в силу [одного того], что они — единицы.
[Тогда двойка, тройка и т. д. суть только два, три и т. д.— без
объединения двух в одну единичность двойки и трех в одну
единичность тройки; числа будут все диспаратны, несравнимы, и
разница будет состоять не в количественном эйдосе, а в самой
эйдетичности числа как таковой.] Если же [единица будет
связана] с по преимуществу единым, то зачем по преимуществу
единое будет нуждаться в такой монаде, чтобы быть единым,
[если оно уже есть единое во всех смыслах] ? Так как это, стало
быть, невозможно, [невозможно, чтобы все числа были
абсолютно диспаратны друг с другом и чтобы абсолютное единое
нуждалось в одной определенной единице], то необходимо,
чтобы единое было не чем иным сущим, как единым обнаженным
(ψιλόν), уединенным по своей собственной сущности [от
всякого общения с прочим],— до того, как отдельная вещь будет
названа или помыслена единой. [И тогда-то выясняется
необходимость признать, что эта единичность присутствует в любом
множестве и что существует, стало быть, ипостасийное бытие
и прочих чисел].
3. А именно, если единое будет и там, [в умном мире], без
вещи, называющейся как единая, то почему не утвердится там
ипостасийно и другое единое, [т. е. всякое другое число] ? а) Ведь
в отдельности каждое [единство, или число, представляет собою
некое] множество единиц (πολλαί μονάδες), которые и суть
множественное единство (πολλά εν), b) Если же предположить, что
природа, [первоединствоі, как бы последовательно рождает —
больше того, породила— [уже все бытие], не оставшись при
[абсолютной] единичности (καθ' εν) того, что она порождала,
но как бы творя непрерывно [возникающее] единство, то она
должна бы породить, [с одной стороны], меньшие числа,
описывая их [эйдетические контуры] и пребывая неподвижной в этой
[эйдетической] эманации, и, [во-вторых], ипостасийно утвердить
большие числа — своим продвижением в дальнейшем
направлении, не на основе других вещей, но в своих собственных
[эйдетических] движениях, с) И таким образом, [природа первоети-
ного] приспособила, следовательно, каждому числу
определенные множества (πλήφη) вещей, зная о каждом сущем, что если
оно не подчинится определенному числу, то оно или вообще не
будет существовать, или из него произойдет нечто иное,
лишенное числа и разума.
[4. Отсюда, стало быть, вся проблема числа как эйдоса
разрешается на том, что: а) есть сверх-сущее первоединство, не
содержащееся ни в какой определенности и осмысленности, и
Ь) есть эйдетическое движение этого первоединства,
порождающее отдельные осмысленности и оформления, так что с) число как
эйдос есть и сверх-сущая единичность, всегда равная себе и
невыразимая, и — определенное множество таких единичностей,
26*
Α. Φ. ЛОСЕВ
860
ставших поэтому уже выразимыми и счисляемыми, d) Такое
эйдетическое число существует до вещей и не нуждается в них, хотя
сами вещи не существуют без чисел и нуждаются в осмыслении
сих стороны).
III. КРИТИКА ДРУГИХ УЧЕНИЙ
12. | Разбор возражений против ипостасийности единого
и числа].
1. Могут, впрочем, сказать, что единое и монада, [единица],
не имеют ипостаси иного бытия, потому что нет никакого единого,
кроме индивидуально данного (τι εν), представляющего собою
определенную аффекцию (πάθημα τι) души ,5 в отношении
каждого сущего, а) Но тогда ничто не мешает, во-первых, и сущее
считать всякий раз, когда заходит о нем речь, аффекцией души
и [на деле, значит], ничем. Если полагают бытие сущего на том
основании, что оно раздражает и действует, вызывает в
отношении сущего образное представление [в душе], то и в отношении
единого мы видим душу и раздражающейся, и получающей
представление. [И таким образом, и сущее, и единое, с точки зрения
аффицирования души, есть одно и то же]. Ь) [Но если это так,
то, во-вторых, следует затем [задать вопрос]: что же сама-то
аффекция и мысль души есть ли нечто единое или множество? Но
всякий раз, как мы говорим, что это не есть единое,— единство
это [или, вернее, мысль о нем] мы получаем не из самой вещи,
потому что мы [тут как раз] говорим, что в [вещах и, стало быть,
в] ней нет этого единства, [что оно — всецело результат аффек-
ции]. Но [это и] значит, что мы [уже] обладаем единством и что
в душе оно налично без индивидуально данного единства. [Об
отдельном, индивидуальном предмете говорит только аффекция;
но если мы станем сравнивать аффекции между собой, то
увидим, что и каждая из них едина, и все они объяты одним
единством, которое тем самым уже выше индивидуально данной
единичной аффекции, не говоря уже об аффицирующей вещи].
2. [Скажут, однако] : мы обладаем единством при помощи
овладения неким мышлением и неким отображением внешних
[вещей], подобно тому как [вообще мы обладаем]
мыслительным представлением (έννόημα) вещи на основании ее
восприятия (έκ) 1б а) Однако те, которые полагают эйдос чисел и
единого в качестве одного из так называемых у этих [философов]
представлений в мысли (έννοήματα), [должны] утвердить и соот-
15 Буйе (385) : «une simple modification éprouvée par nôtre âme» 36*.
Мюллер бледнее (354): «ein Verhalten des Seele» 37* Буквально и точно
у Фичино (466): «affectio animae» 38*
16 Фичино (ibid.): «velut aliquem mentem ex re ipsa concept urn » 39*.
Буйе (ibid.): «une conception fournie par cet objet»40* Бледнее Мюллер
(ibid.): «als Begriff aus der Sache»41*.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
'
861
ветствующие ипостасийные аналоги (υποστάσεις), если, конечно,
вообще что-нибудь из них существует в ипостасийном бытии,
о чем будет с ними разговор в свое время. [Ибо не может быть
только субъективно-психического акта — без осмысляющего
умного эйдоса]. Ь) Но [как раз этого они и] не [могут сделать],
если они утверждают, что понятие [числа и единого] таково, что
аффекция, или мысль, [впервые] появляется в нас как результат
[аффицирования нас] со стороны вещей, наподобие понятий
«этого», [или непосредственной данности], или «нечто»,
[индивидуальной данности] и также «толпы», «праздника», «войска»,
[вообще] «множества» [и прочих совокупностей]. [Они
утверждают, что], как множество вещей есть ничто, если отделить
[самые] вещи, называемые [в данном случае] многими, и как ничто
есть праздник, если отделить [из этого понятия] собранных
определенным образом и ликующих пред священными действиями
людей,— так ничто есть и единое, если мы, называя его единым,
мыслим его как только некое [неопределенное] единое,
удаленное [от прикосновения] со [всем] прочим. [В качестве
иллюстрации не-ипостасийности] они приводят много и других подобных
[понятий], каковы, напр., понятия «направо», «сверху» и
противоположные им. [Они спрашивают] : что же можно найти ипо-
стасийного в «правом» или в том, что одна вещь здесь, другая там
стоит или сидит? И также относительно понятия «наверху» дело
обстоит, конечно, не иначе: одно есть скорее соответствующее
положение и находится в определенном месте вселенной, что мы
и называем «верхом», другое [по той же причине] называется
«низом».
3. На все эти аргументы нужно прежде всего возразить,
очевидно, то, что некая ипостасийность находится [также и] в
каждом из высказанных понятий, [несмотря на их чувственную
случайность и вещную очевидность] ; только она не одинакова везде,
ни в сравнении одного из них с другим, ни в сравнении всех их
с единым. Однако следует войти в анализ каждого из очерченных
аргументов в отдельности.
13. [Продолжение разбора аргументов против ииостасийно-
сти единого и числа].
1. а) Учение о том, что мышление о едином произошло
благодаря [воздействию] субстрата [на человека], в то время как
субстратом является также [все тот же] человек, пребывающий
в сфере [только] ощущаемого, или любое другое живое
существо, или даже [неодушевленный] камень,— [учение это], надо
полагать, неразумно, потому что появившееся [в качестве
субстрата постоянно] есть одно, а единое — [совсем] другое и
нетождественное [с этим], так что тут не может быть никакого
отождествления. Ь) К тому же и разум (διάνοια) [в таком
случае] не мог бы предицировать единое относительно
вне-человеческой сферы, [т. е. относительно того, что не аффицирует
человеческую чувственность].
Α. Φ ЛОСЕВ
__|ι^—1_
862
2. Далее, [во-вторых], как в отношении к правой стороне
и подобным [моментам разум человеческий] говорит «здесь»,
не впустую приводясь [к некоей аффекции], но [на самом деле]
видя отличное [от прежнего] положение [вещи], так и [о
едином] он говорит здесь на основании некоего [фактического]
видения [вещей] и, значит, а) говорит о едином не как о пустой
аффекции, и не без основания, и, [кроме того], Ь) не потому, что
[тут налично] только это и не другое, так как в этом самом
выражении «и не другое» он [только] говорит о другом как о едином;
с) затем [не надо забывать, что все] «иное» и «другое» [по
смыслу своему] есть позднейшее, [чем «одно»], так как, не
опираясь на единое, разум не может говорить ни об ином, ни о
прочем; и как только он высказывает [вообще что-нибудь] только
[одно определенное], он говорит [уже] об этом «только [одном»]
как о едином, и, значит, [просто] единое [по смыслу] раньше
«толькоодного», [или единственного], d) Затем, [и сам] говоря-
щий, [т. е. предицирующий субъект], един, прежде чем он
преди цирует единое о другом 17; и то, о чем он π реди цирует,— едино,
прежде чем [субъект] скажет или помыслит о нем что-нибудь
[единое] : [предицируемое] или едино, или больше одного и
множественно; и, если множественно, необходимо, чтобы [ему]
предшествовало единство; и потому, когда [разум] предицирует
множество, он предицирует [только] больше одного [момента], и
когда [говорит] о войске, мыслит многих и соединенных [опять-
таки] в одно вооруженных людей; и если разум [ранее наличное]
множество не допускает [больше] быть множеством, то ясно,
что и здесь как-то обнаруживает он [единое], или создавая
единое, [уже] не имеющее [в себе] никакого множества, или сводя
в единое природу многого путем четкого (οξέως) узрения (ίδοϋ-
σα) единства из сферы упорядоченной множественности (εκ της
τάξεως). Стало быть, и здесь [разум] не обманывается
относительно единого, как [не обманывается он] в отношении к жилищу
об едином, состоящему из многих камней, не обманывается,
конечно, в большей мере относительно единого в жилище, [чем
в случае с войском]. [е) Мы видим в результате, что единое
фактически созерцаемо на вещах и не есть пустая аффекция
субъективной чувственности человека].
3. [Можно считать, стало быть, установленным, что единое
созерцается больше на неделимом и на непрерывном, т. е. умном.
Но если это так, то] из большей [созерцаемости] единого на
17 В издании Creuzer и Moser (Didot) другая пунктуация: «πριν
ειπείν περί άλλου, δν εστίν εν» (согласно с чем и у Фичино, 467: «prius-
quam dicat de alio, unum existit unum» 42*). Текст Фолькмана, с которого
перевожу я, тождествен здесь с текстом Кирхгофа: «πριν ειπείν περί
άλλου εν, εστίν εν». Так как в этой главе доказывается независимость
понятия единого от вещей, правильнее, пожалуй, пунктуация Крейцера
и Мозера.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
863
непрерывном и неделимом [как раз и] следует, что природа
единого существует [как нечто особое] и [притом как] ипостасий-
ная. а) В самом деле, [если бы эта природа была не ипостасийна,
но была бы не-сущая, то]43* «больше» [или «меньше»] не в
состоянии пребывать в не-сущем, [ибо это — умные эйдосы и
единое не могло бы наличествовать в не-сущем в виде тех или иных
своих степеней]. Ь) Однако, подобно тому как мы, предицируя
категорию существования о каждой чувственной вещи и
предицируя ее также и в отношении умного мира, создаем по
преимуществу эту категорию в связи с умными [моментами],
утверждая «больше» [или «меньше»] по преимуществу в отношении
сущего, и сущее [со всеми эйдосами большего или меньшего]
полагаем больше в чувственной субстанции, чем в других родах
[чувственного бытия], точно так же мы, видя чаще и больше
всего, что единое различно по степеням 18ив чувственном, и в
умном мире, должны признать, что оно существует всеми
[возможными] способами — однако всегда с возвращением [этих
всевозможных способов] к единому, с) Как субстанция (ουσία) и бытие
(το είναι) [в основе своей] есть [нечто] умное, а не
чувственное, хотя чувственное участвует в умном, так и единое должно
созерцаться относительно чувственного соответственно своему
участию [в чувственной вещи] ; разум же пользуется им, однако,
как умным и умно, мысля, таким образом, на основании одного,
[чувственного],— другое, [умное], что он не видит [и что],
следовательно, знал [уже] заранее, d) Если же он [в
действительности] знал [это единое] раньше [чувственного аффицирова-
ния], то оно — нечто сущее [и притом] тождественное с
«сущим», [которое он признал за таковое], и если [знал заранее]
определенную единичность, то, наоборот, называет [теперь ее]
единой. То же и в случае каких-нибудь двух или каких-нибудь
многих вещей.
4. а) Теперь, если без «одного», или «двух», или какого-
нибудь [другого] числа нельзя ни помыслить что-нибудь, ни
назвать, то как же может не быть то, без чего невозможно ни
мышление, ни речь? Невозможно говорить, что не есть то, без чего
невозможно ни мышление чего-нибудь, ни называние. Наоборот,
то, что везде необходимо для [смыслового] происхождения
всякой мысли или слова, [необходимо] должно предшествовать и
слову, и мышлению. Ибо [только] таким образом можно
овладеть происхождением этого 19. Ь) К тому же, если [необходимо
иметь дело] с ипостасийным бытием каждого сущего,— ибо нет
ничего сущего, что не было бы единым,— то [необходимо, чтобы
18 Формальнее и буквальнее всего Фичино (467): «cum in ipsis
sensibilibus differens secundum magis» 44* ( что, собственно, не вполне
понятно). Буйе (388), по-видимому, совсем не переводит: «κατά τα
μάλλον». Мюллер (356) правильно: cgradweise verschieden» 45*
,g Эту последнюю фразу Буйе почему-то пропускает (389)
Α. Φ. ЛОСЕВ
I I
864
единое и все числа] были [в смысловом отношении] раньше
сущности и порождали сущность, с) Потому и есть [единое] —
единое сущее, а не [так, что сначала] сущее, а потом [уже]
единое. Если мы возьмем «сущее», то в нем будет [уже]
едино-множественное (εν πολλά). В одном же «едином» [как таковом] нет
«сущего» 20, если оно в то же время не творит его, склоняя себя
к порождению [нового]. [Стало быть, единое раньше сущего и
раньше единого сущего].
5. а) Также и понятие «этого» не есть пустое [понятие], так
как оно говорит о некоей обнаруживающейся ипостасийности,
заменяя самое имя «этого», [т. е. оно есть энергийный эйдос,
лежащий в основе самого имени], и говорит о некоей наличности
(παρουσιαν), существовании (ούσιαν) и проч. [признаках]
сущего. Ь) Поэтому такое понятие не должно обозначать что-
нибудь пустое и не есть [простая] аффекция разума, не имеющая
под собой никакого объективного основания, но есть оно некая
субсистентная вещь, [т. е. некое объективное основание для
разума],—точно так же, как если бы высказывалось и собственное
имя какой-нибудь самой вещи.
IV. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ УЧЕНИЕ О ЧИСЛЕ
а
14. [Из всего предыдущего вытекает, что единое и вообще
числа имеют, с одной стороны, умную природу, с другой же,—
чувственно-акциденциальную и все числовые явления и операции
в чувственном мире возможны лишь благодаря присутствию в
нем умных чисел].
1. С точки зрения отношения, [существующего между
единым и многим 21], не без основания можно заметить, что единое
[вовсе] не таково, что при аффекции [всего] иного, [из него
образующегося], само оно без всякой аффицированности имеет
свою природу потерянной и что, если оно собирается выйти [из
своей сферы] единого, необходимо ему потерпеть ущерб (στέρη-
20 Поучительны переводческие варианты этого не вполне ясного
выражения — «εν μεν γαρ τώ δν και ёѵ πολλά αν είη, εν Οέ τώ ёѵ ουκ ενι
το δν». Мюллер (357): «...clenn in dem Seienden und Einen liegt ein
Vieles...»46* (δν και εν, стало быть, здесь объединяются через τώ).
Фичино (468), читая, очевидно, между δν и και εν запятую, a και
понимая экспликативно, переводит: «nam in ео, quod ens est, existit et unum,
fdeoque multa» 47*. Ему же, по-видимому, следует и Буйе (389), еще более
подчеркивающий экспликативность και: «...саг dans l'être il faut qu'il
y ait un pour qu'il y ait plusieurs...* 4Ъ*.
21 весьма неясное выражение Плотина «προς δε κατά προς τι
λεχθέντα» хорошо передает Фичино (468): «...adversus ilia vero, quae a qui-
busdam dicuntur unum, in quadam relatione ponentibus...» 49*. За ним
и Буйе (389). Мюллер (357) неясно: «gegen die Aussage der Relation» 50*
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I 1
865
σιν) единого путем разделения на две или более частей.
[Другими словами, можно было бы думать, что единое при переходе во
многое и аффицируется, и теряет свойство единого, перестает
быть единым. Это, однако, не так].— а) Именно, если одна и та
же масса, разделенная надвое, становится двумя массами без
утери себя как именно массы, то ясно, что помимо субстрата в
ней привходило единство, которое она утеряла в течение
приведшего к уничтожению разделения. [И, значит, масса — один
момент, а единство ее — совсем другой момент. Масса остается, а
единое — то есть, то его нет]. Ь) Следовательно, то, что иногда
присуще одному и тому же [субъекту], иногда же отходит от
него,— каким же образом не поместить в сфере сущего, где оно
было бы [уже без перемен и где оно уже не испытывало бы никакой
аффекции] ?— [Мы должны признать, что], с одной стороны,
оно, [т. е. единое], акциденталъно для вещей, с другой стороны,
существует само по себе, проявляясь как в чувственных, так и в
умных вещах,— в одних, как во вторичных,— акциденциально,
в умных же — само по себе, первому [началу] принадлежа —
как единое и затем [второму] — как сущее. [Стало быть, единое
в известном смысле не аффицируется]. с) [Но оно также и не
перестает быть единым при переходе во многое]. Могут сказать, что
единое, если к нему привзойдет иное без всякой аффекции,
[просто] , не есть уже единое, но станет двумя. [В самом деле, только
когда единое нечто потерпело, а именно стало «двумя», может
идти речь о том, что есть нечто, кроме единого. Но тогда надо
признать, что единого вообще нет,— как чисто отдельного от всего
прочего; оно — рассыпается в прочем]. Это рассуждение, однако,
неправильно. В самом деле, [в данном случае] ни единое не стало
двумя, ни то, к чему было прибавлено [иное], ни, [наконец], то,
что было прибавлено; наоборот, все это остается единицами (2ѵ),
как было [и раньше]. [Если же мы стали говорить теперь о двух,
то] предикат «два» высказывается [сразу] об обоих [моментах,
т. е. о том, к чему прибавлено, и о том, что прибавлено], в то время
как в отдельности категория единичности (εν) остается [не
тронутой] по отношению к каждому [из этих двух моментов].
2. а) Стало быть, два, равно как и двойка, по природе своей
не заключается в [натуралистическом] обстоянии [вещи] (έν
σχεσει) 22. b) Только если бы [два и двойка были бы] в соответ-
22 цт0 такое σχ^αις? Фичино, любящий буквальный и формальный
перевод, не стесняется, где это необходимо, прибавлять кое-что и от себя.
Как и в большинстве случаев, он прав и здесь (ibid.): «Suapte natura in
quadam habitudine et relatione» δι* т.е. он имеет в виду именно
натуралистические операции над числами, их психологическую и физическую
обстановку, вне идеальной фигурности и значимости. Буйе (390) уже
менее прав, оставляя «une relation» б2*,— это упускает момент природной
вещности, который тут необходим. Лучше Мюллер, но хуже, чем у Фичино
(358): «ein Habitus von Natur» ™*.
А Ф ЛОСЕВ
. I I
866
ствии со сложением [двух предметов, т. е. равнялись бы
сложению двух предметов], и если «быть в сложении» было бы
тождественно с созданием «двух», то, пожалуй, такое [вещное] об-
стояние было бы «двумя» или двойкой. Но в нашем случае
двойка в свою очередь созерцается и при противоположной аф-
фекции, ибо «два» получается [и] при делении одного.
Следовательно, [число] два еще не есть ни сложение, ни деление, чтобы
быть ему [простым] обстоянием [вещи]. Таково же
рассуждение и в отношении всякого числа: если то, что рождает нечто [из
себя, т. е. в нашем случае то, что рождает собою числа], есть
[только] обстояние [вещей], то невозможно, чтобы
противоположное [обстояние] рождало из себя то же самое, [т. е.] так,
чтобы эта [порожденная] вещь была [самим] этим обстоянием.
[d) Итак, единое, при переходе во многое, никогда не
перестает быть единым; и если появляется вместо единицы — два,
то это — не в результате вещных обстояний и операций и,
следовательно, не в результате простого аффицирования или ущербле-
ния единого].
3. Какова же основная причина [того, что вещам
свойственны числа и числовые отношения] ? — а) [Основная причина] та,
что единое, [единство, единицы вещей], существует в силу при-
сутствия единого [как начала умного], два — [в силу
присутствия] двойки, как белое — [в силу присутствия] белого [как
умного эйдоса], и прекрасное — прекрасного, и справедливое —
справедливого. В противном случае вообще нельзя утверждать этих
[понятий] ; и тогда необходимо находить в них [только одни
вещные] обстояния, полагая, напр., что справедливое является
таковым в силу такого-то обстояния в отношении к таким-то вещам,
что прекрасное существует потому, что мы таким-то образом аф-
фицируемся, в то время как в самом субстрате нет ничего, что
нас [соответствующим образом] аффицировало бы и что было бы
основанием для того, что является в виде прекрасного зрелища.
Стало быть, всякий раз, когда ты что-нибудь увидишь единое и
назовешь таковым, то оно, конечно, и существует [для тебя]
вполне как великое и прекрасное, и можно приписать ему
бесчисленное количество [признаков].
4. Ведь если есть в вещи «большое» и «величина», и
«сладкое», и «горькое» и др. качества, то почему же там нет также
единого? а) Отнюдь ведь нельзя, очевидно, [сказать, что] качество
может быть какое угодно, а количества не окажется в сфере
[необходимо] сущего или что, хотя и существует сплошное,
[непрерывное] количество, раздельного количества не может быть
[там], несмотря на то что непрерывность требует раздельности
в качестве масштаба. Ь) Значит, как большое существует в силу
присутствия величины, так и единое — [в силу присутствия]
единого, и два — [в силу присутствия] двойки, и так — все прочее.
5. Исследование же того, как происходит это участие, обще
с исследованием этого участия и в случае всех [вообще] эйдо-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I
867
сов.— Нужно, однако, сказать, что десятка, наличная в
дискретных вещах, созерцается одним способом, в непрерывном —
другим способом и в стольких-то многих потенциях, сведенных в
единство,— еще [третьим] способом [Также надо помнить, что
далее] уже необходимо восходить в сферу умного мира и что там
числа уже не созерцаются больше на других вещах, но что там
они существуют сами по себе в качестве истиннейших, что там
десятка-в-себе, а не десятка тех или других умных предметов
b
15. [Число — начало и исток ипостасийного бытия|.
1 Возвращаясь к тому, что было сказано уже вначале, опять
скажем: то целокупно-сущее, истинное, есть сущее, ум и
совершенное живое существо — [ибо тут] все вместе живые
существа,— единству которого подражает, как известно, и это, [т. e
мировое], целокупное живое существо при помощи единства,
какое для него было возможно, ибо природа чувственного [мира
намеренно] избежала тамошнего единства, вознамерившись
быть [именно] чувственной.
2. Это значит, что есть оно, [целокупное живое существо
мира], необходимым образом универсальное, [целокупное] число
(αριθμόν σύμπαντα), а) Если бы оно не было совершенным
числом, то ему не хватало бы какого-нибудь числа; и если бы в нем
не было всего числа живых существ, то оно не было бы всесовер-
шенным живым существом. Ь) Значит, число существует до
всякого живого существа и всесовершенного живого существа. Ведь
человек явно существует в умном мире, как и все прочие живые
существа, поскольку (καθ1 δ) они — живые и поскольку эта
сфера [умного мира] есть [подлинно] всесовершенное живое
существо. Поэтому и здешний, [чувственный], человек, поскольку Все,
[вселенная], есть живое существо, есть часть Всего, равно как и
каждая вещь, поскольку она — жива, там находится [также]
в сфере живого.
3. [Далее], в уме, поскольку он ум, отдельные умы все
являются частями [целокупного ума], и, [значит], существует
число и в отношении их, [умных моментов]. а) Однако даже и в уме
число не существует первично, [так как], поскольку [число
существует] в уме, оно равно количеству энергий ума. И эти энергии
ума суть справедливость, благомудрие (σωφροσύνη) и другие
добродетели, также узрение, обладание чем делает ум воистину
умом. А как существует [в уме] узрение не применяясь ни к
чему другому, [но существуя в самом себе и для себя] ? Да только
тем, что узревающий, узренное и узрение тождественны [здесь]
и находятся вместе; и так же проч. Благодаря этому каждая вещь
существует [сначала] первично (πρώτως) [в умном мире], и
справедливость не есть [простая] акциденция; и [только] для
души% поскольку она — душа, она — акциденция, ибо эти [свой-
А Ф.ЛОСЕВ
-J U
868
ства] существуют главным образом потенциально, энергийно же
[существуют они], поскольку имеют отношение к уму и ему
имманентны. Кроме того, налицо уже и сущее и в сущем — число,
с которым сущее порождает сущие вещи, приводя их в движение
в соответствии (κατά) с числом, установивши числа ранее ипо-
стасийности вещей, как и единое этого сущего — [ранее самого
сущего] и объединяет само сущее с перво[единым], в то время
как [отдельные] числа уже не присоединяют все прочее к перво-
единому. Следовательно, для сущего достаточно, чтобы оно
объединялось [с числами, в то время как сами числа — ранее
сущего, ранее ума] Ь) Сущее же, ставшее числом, скрепляет сущие
[вещи] с самим собой, так как дробится оно не потому, что
оно — единое, но единство его пребывает [перманентно, вне
всякой связи с дроблением] ; дробясь же в соответствии с своей
собственной природой, на сколько захотело частей, оно увидело, на
сколько [именно частей оно раздробилось] и [какое именно] оно
породило число, в нем, стало быть, существующее. В самом
деле, [сущее] раздроблено благодаря [смысловым] потенциям
числа и породило столько частей [себя самого], сколь велико
[соответствующее] число. Следовательно, число, первое и истинное,
есть принцип и источник ипостасийного бытия для сущего (αρχή
ουν και πηγή υποστάσεως τοις ούσιν ό αριθμός ό πρώτος και
αληθής).
Отсюда, и в здешнем мире для каждой вещи становление
происходит при наличии чисел, [регулируется числами] ; и если что-
нибудь примет другое число, то оно или рождает [из себя] другое,
[т. е. имеет другую структуру становления], или превращается
в ничто.
4. При этом такие первые числа [функционируют] как очис-
ленные (αριθμητοί); те же числа, которые существуют в других
вещах, [а не рассматриваются сами по себе — как умные
сущности] , обладают уже двоякой природой: а) поскольку они
[происходят] от этих [первых чисел], они — очисленны; Ъ) поскольку
же они [только еще] конструируются в соответствии [с первыми
числами как нечто новое и вторичное], они измеряют другие
вещи, очисляя и [самые] числа, [существующие в умном мире], и
очисленное, [становящееся здесь уже числовой определенностью
чувственных вещей], ибо как же еще можно было бы назвать
десять [вещей], как не при помощи чисел, которые присущи этим
[умным вещам и которые сами по себе не нуждаются ни в каких
вещах и существуют до них] ?
с
16. ( Нужно строго различать число как п р и н ц и п, т. е. как
сущее (смысл), и как количество].
1. Иной скажет: куда же вы помещаете эти вот числа,
которые у вас именуются первыми и истинными, и к какому роду бы-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
869
тия относите? [Обычно] все думают, что число относится к сфере
количества, да и вы в предыдущем упоминали о количестве,
утверждая, что раздельное помещается, одинаково с непрерывным,
в сфере сущих [вещей]. Потом вы, [с одной стороны], снова
говорите, что эти числа принадлежат к первосущим [сущностям], а с
другой стороны, другие числа вы называете счисляющими, ставя
их вне тех [первых чисел]. Скажите же нам, как вы это
примиряете? Тут ведь большие трудности. [Те же вопросы стоят не только
вообще о числах, но и о едином]. Что, единое, наличное в
чувственных вещах, есть ли некое количество (ποσόν τι), или, хотя
многократно единое есть количество, само оно только принцип
количества и не количество? И принцип — имманентен (συγγενές)
ли [численной вещи] или есть нечто иное? Будьте любезны,
[скажут нам], все это разъяснить.
2. Итак, необходимо сказать об этом, начавши отсюда, [с
чувственного мира], и рассудить прежде всего в отношении
чувственных вещей следующим образом. Когда ты, взявши одно с
другим, скажешь, стало быть, «два», напр., [когда возьмешь]
собаку и человека или двух, или нескольких человек, говоря о
десяти или о десятке человек, то это число не есть ни [умная]
сущность, ни находится в чувственных [вещах], но [представляет
собой] чистое количество. К тому же, если ты и делишь [вещь] в
соответствии с единицей (κα#' ενα), [т. е. как единую, и — на
части, которые в свою очередь также едины], и создаешь части этой
десятки, ты единое делаешь и полагаешь [смысловым]
принципом количества, [оставляя его в каждой из десяти частей]. И
конечно, одна из десяти частей не есть единое само по себе.
3. Когда же ты назовешь каким-нибудь числом самого
человека как такового, напр. двойкой,— живым существом и
разумным,— то уже метод [заключения] будет тут не единственный,
а) Но, поскольку ты пробегаешь [определенный ряд вещей] и
[их] считаешь, ты создаешь некое количество; Ь) поскольку же
[для тебя самый] субстрат есть «два» и каждое в отдельности —
одно, то ты будешь говорить уже о другом числе, и именно о
сущностном (ουσιώδης), если каждое одно конструирует [собою]
(συμπληροΰν) сущность и [общая] единичность (ένότης)
присутствует в обоих. И двойка эта [в последнем случае] не есть
нечто позднейшее и не говорит только о количестве за пределами
вещи, но — о [количестве, находящемся] в [самой] сущности и
[осмысленно] объединяющем природу вещи, [т. е. уже об умном
числе]. Именно, тут не ты создаешь число, постепенно перебирая
ряд вещей 23, которые бы существовали самостоятельно и
возникали бы [лишь] в процессе счета. [Но тут сами вещи суть числа
и без них вообще не существуют]. Ибо [зададим себе вопрос] :
что делается с сущностью при соединении одного человека с
другим в процессе счета? [Явно, что считающий тут ни при чем].
Хорошо у Буйе (397) : «parcourez par la raison discursive»M*.
Α. Φ ЛОСЕВ
870
Ведь тут будет иметь свое ипостасийное бытие в тебе, считающем,
уже не [просто] какая-нибудь [вообще] единица, как в случае с
хором, но — сама десятка человек, А если эти десять человек,
которые ты считаешь, не объединены в одно, то в отношении к ним
нельзя говорить и о десятке, но ты [сам] создаешь [в таком
случае] десять в процессе счета, обращая эти десять в [простое]
количество; а в хоре, как и в войске, [если они — некоторые
единства] , есть нечто и помимо этого [количества, и помимо твоего
счета, а именно есть такая единичность, которая есть десятка,
и притом независимая от десяти вещей].
4. Как же [нужно понимать то, что число ипостасийно
существует] в тебе? а) С одной стороны, число, [ипостасийно]
находящееся [в тебе] до счета, сконструировано (έγκείμενος) [совсем]
иначе, [чем то, которое ты производишь в процессе счета], а, с
другой стороны, число, вытекающее из внешних явлений, есть в
отношении к числу, существующему в тебе, энергия тех [умных
чисел], или энергия, сообразная (κατά) им, ибо ты одновременно
и считаешь, и производишь число, создавая в этой энергии, [в
этом энергийном осуществлении числа], ипостасийное бытие
количества, подобно тому как в хождении создается ипостасийное
бытие того или другого движения. Но как же тогда [число,
наличное] в нас [до счета, существует] иначе, [чем то, которое в
процессе счета только конструируется]? Ь) [Мы должны сказать,
что] число [в нас] есть число, конституирующее нашу
сущность 24. [Или, как] говорит [Платон, сущность наша]
«участвует в числе и гармонии> и в свою очередь есть [сала] число и
гармония. [Как он говорит], она — не тело и не протяженная
величина (μέγεθος), и, значит, душа есть [просто] число, если
только она [действительно] есть [некая] сущность. [А отсюда],
значит, и число тела, с одной стороны, есть сущность, [данная] как
тело, и, с другой,— [числа души есть] сущности души, [данные]
как [бестелесные] души.
[с) Таким образом, на вопрос о том, как наличны ипостасий-
ные числа в нас в своем отличии от чисел фактического счета,
следует ответить, что числа, находящиеся в нас, тоже имеют ипо-
стасийную природу, что и умные числа вообще, и числа счета —
проявление и чисел в нас, и тем самым умных чисел; отсюда же
вытекает и то, что числа и необходимым образом лежат в основе
субъекта, конституируя его, и осмысленно конституируют счет,
хотя все это и разные сферы бытия числа].
5. И вообще, конечно, в отношении умных предметов [мы
должны помнить, что] если тамошняя жизнь сама множествен-
24 Формально и буквально у Фичино (471): «nostrae essentiae
numerus» 55*. Однако так переводить — значит отказываться от вникания в
подлинный смысл текста. Правильное понимание обнаруживает Буйе
(398) : «le nombre constitutif de nôtre essence», равно как и Мюллер (361 ) :
«die unser Wesen constituirende Zahl»56*
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
'
871
на, как, напр., тройка, то: а) тройка эта, [функционирующая] в
живом существе, сущностна (ουσιώδης), [τ. е. в своем
осмыслении всего живого она пребывает в полной смысловой
независимости от него] ; Ь) тройка же, еще не свойственная какому-нибудь
живому существу, но являющаяся вообще тройкой в сфере
сущего, есть [только] принцип сущности, [принцип сущностного
осмысления] (αρχή ουσίας).
6. Если же, однако, ты считаешь: «живое да прекрасное» —
то, хотя каждое из них одно, ты все-таки производишь в себе
число и энергийно конструируешь (ενεργεί) количество и
[именно] двойку. И если ты добродетель называешь четырьмя, то,
[стало быть], она есть некая четверка, поскольку части ее
[соединяются] в одно; и четверка эта есть [к тому же] и единица, с
точки зрения субстрата, [т. е. как некая определенная вещь,
другими словами, четверное по смыслу может быть по вещной
определенности едино], и ты приспособляешь к [этой] четверке
лежащую в тебе четверку.
[7. Итак, необходимо строжайше различать: 1) число как
принцип сущностного осмысления (тут оно — непрерывная
потенция прерывно возникающего первоединого); 2) число как
само сущностное осмысление, как умный эйдос (тут оно — ипо-
стасийное, смысловое изваяние,— в таком виде оно осмысляет
все живое, истекающее из умного мира); 3) число как новый
принцип — уже чувственного осмысления и принцип количества
(тут оно возникает как начало фактического счисления меональ-
ных вещей с точки зрения числа как умного эйдоса); и, наконец,
4) число как вещную величину (тут оно — сама меональная,
напр., чувственная вещь, исчисленная с точки зрения умных
чисел), причем, если угодно, можно и здесь, по «подражанию»
умным взаимоотношениям, различать — а) умный эйдос
чувственного конструирования категориальной ипостасийности, или эй-
долу и Ь) результат этого конструирования — чувственное коли-
чество].
d
17. [Число в основе своей бесконечно не в смысле
непрестанной увеличиваемо сти, но в смысле умного предмета,
служащего смысловым основанием для бесконечных проявлений
жизни. Оно одновременно и бесконечно и ограниченно,
определенно).
1. Как существует так называемое бесконечное число? а) Ведь
[все] эти, [предыдущие], рассуждения дают ему [определенную]
границу, [как и вообще всякий умный эйдос есть нечто строго
ограниченное и резко определенное]. Это, конечно, и правильно,
если только [у нас] будет действительно число, потому что
беспредельное противоречит [самому понятию] числа. Ь) Но тогда
как же все-таки мы говорим: «беспредельное число»? Может
Α. Φ. ЛОСЕВ
, 1 Ι .
872
быть, мы здесь говорим это так же, как и в отношении
беспредельной линии (беспредельной мы называем линию не потому, что
она имеет [действительно] это свойство [бесконечности], но
потому что возможно примыслить для [данной линии, хотя и]
наибольшей, напр. для линии, охватывающей всю вселенную, линию
еще большую)? Ибо, кто узнал количество данных вещей, может
его удвоить [в] своей мысли [τη διάνοια), не прибавляя для этого
к прежнему числу [нового], потому что как, [в самом деле],
можно было бы присоединить к [внешним] сущим [вещам] мысль и
представление, находящиеся только в тебе, [в твоем субъекте]?
[Значит, мысль допускает бесконечное увеличение независимо от
фактов опыта].
2. [Если же мы вообще допускаем в мысли бесконечное
увеличение линии, то], значит, мы скажем, что линия [вообще] в ум-
ном мире беспредельна, так как [без этого] она была бы там
только [чисто] количественной, [количественно-беспредельной].
Наоборот, если [мы допустим, что она там не просто]
количественна, то — она беспредельна по [умному] числу, [и] беспредельна
в ином смысле, не в том, что она не имеет границ, которые бы
нельзя было перейти 25. [Но если линия в уме беспредельна, и
беспредельна не количественно, но по своему числу, то опять
спрашиваем:] как же [надо понимать], что [линия и число]
беспредельны [в умном мире] ?
3. [Это нужно так понимать, что] мыслительная концепция
границы (προσνοούμενον πέρας) не содержится в [самом]
смысле (εν τώ λόγω) линии-в-себе (της αύτογραμμής). [Стало быть,
линия беспредельна не в силу фактической способности своей
к увеличению, но потому, что она по смыслу своему беспредельна.]
а) [Если линия — в умном мире, то] как и где она
содержится там? [Ясно, во-первых, что] она [по смыслу], конечно, позже
числа, ибо единое [уже] созерцается в ней [и, стало быть, уже
предполагается ею], и, кроме того, она [отправляется] от
единого, [одной точки], и проходит до одного [определенного]
размера. Но, [во-вторых], масштаб этого размера не содержит в себе
количества. [Как мы установили раньше, число предшествует
количеству: число — в умном мире, количество — результат счета
чувственных вещей. Но вот, исследуя понятие линии, мы
находим, что ей, как и всегда, предшествует умное число, но в ней,
оказывается, нет никакого количества; она — не количество
чувственных вещей и процессов]. Но [в таком случае] где же эта линия
находится? Ь) Уж не в мыслительном ли определении только
(εν τη νοήσει οριστική)? [Не только это, однако]. Она — еще и
вещь, но, конечно, вещь разума (νοερόν). Ибо и все [обстоит]
таким же образом: оно и умно, [мыслительно] (νοερά), и как-то
есть и вещь. И относительно поверхности, тела и всех фигур, [ее-
25 Фичино (472): «Quod non liceat pertransire> 57*# Мюллер (362);
«unermesslich lang> "*. Буйе (401) —как у меня.
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I 1
873
ли они существуют в умном мире], есть также [соответственное]
«где» и «как» [в виде умных определений], так как, очевидно, не
мы [сами] примышляем [от себя] эти фигуры. Доказательством
этого является то, что фигура мира предшествует нам, равно как
и прочее, что является физическими формами в вещах природы и
что, стало быть, необходимым образом существует до тел в
качестве вне-фигурных [оформлений] умного мира и первых фигур.
Ибо это — формы (μορφαί), которые не существуют в других
вещах, но, будучи сами при себе, не нуждаются в
[пространственном] протяжении, так как протяженное [есть признак уже] иных,
[инобытийных вещей].
4. Следовательно, везде существует в сущем единственная
фигура, расчленена же она или в живом, или до живого, а) Под
расчленением я понимаю не то, что она стала величиной, но то,
что каждый [момент] ее разделен в отношении к каждому
[другому моменту] в соответствии с [определенной] живой
[субстанцией, т. е. я имею здесь в виду чисто смысловое расчленение,
расчлененность смысла в себе], и придана она телам умного
мира, как, напр., умная пирамида, если угодно, придана [в качестве
оформляющего принципа] умному огню. Ь) Вследствие этого,
[т. е. такого строения универсальной фигуры мира], наш мир
хочет подражать [ей], хотя он и не может [этого достигнуть] по
причине материи, [в которую он погружен], и [хочет подражать]
прочим [фигурам] по аналогии, поскольку это имеет значение
для чувственных вещей, с) Но [фигура эта] находится в живой
[субстанции только] потому ли, что это — живая [субстанция] ?
[Нет, не потому,] В уме она находится раньше. Конечно, она
находится [и], в живой [субстанции]. Однако если бы живая
[субстанция] содержала в себе ум, то [фигуры были бы] в ней испер-
ва. Если же ум по [смысловому] порядку раньше, то [фигуры]
раньше [существуют] в уме. Во всяком случае, если и души
находятся во всесовершенной живой [субстанции], все же ум раньше.
Но ум, говорит [Платон], видит все это во всесовершенной живой
[субстанции, т. е. так, как все это налично в живой субстанции].
Если, значит, видит, то он [по смыслу] — позднее. Но это «он
видит» можно высказать в том смысле, что в этом видении
[впервые] возникает [самая] ипостась [живой субстанции]. И в
самом деле, [видящий ум] не есть [нечто] иное, [чем видимая
жизнь], но все — едино, и мышление содержит в себе чистую
[смысловую] сферу, живая же [субстанция] — сферу жизни 26.
26 Και ή νόησις ôè φιλήν Ιχει σφαΐραν, το 6έ ζώον σφαΐ^α-ν. Мюллер
(363), можно сказать, издевается над Плотином, внося в свой перевод
пошлость избитой и искаженной терминологии: «Das Denken hat eine
rein abstracte Sphäre, das lebende Wesen aber ist die Sphäre des [con-
creten] lebenden Wesen»59* Фичино (472): «ipsaque intelligentia nudam
habet sphaeram» 60*. Буйе (403): «pure et simple> 6I*. Надо подчеркнуть
свободу ума именно от жизненного меонизирования.
Α. Φ. ЛОСЕВ
[5. В итоге: число в основе своей умно, но так как умное
беспредельно по своему смыслу (ибо ничто конечное и меональное
его не затрагивает), то и числа беспредельны; и потому
беспредельность их не имеет ничего общего с бесконечной увеличивае-
мостью; беспредельность числа есть беспредельное «всесовер-
шенство» умной жизни, вырастающей на его основе].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18. [Продолжение учения об умной предельности и меональ-
ной беспредельности числа].
1. Во всяком случае, [умное] число имеет там определение
[себя как числа]; мы можем примышлять число и большее того,
которое дано, так что беспредельное [в числе] есть результат
[только] счисляющего [субъекта], а) В умном мире, [где все
строго оформлено и все дано сразу], нельзя примыслить число,
большее [уже] примышленного, так как [то самое, что мы его
стараемся примыслить, указывает на то, что] оно уже есть [в
умном мире], ибо не было и не будет [там] недостатка [ни в каком
числе] — так, чтобы нельзя было ничего к нему прибавить.
Ь) Можно, [значит], считать умное число беспредельным
потому, что оно не вымерено [считающим субъектом, что оно —
источник беспредельных меональных увеличений], ибо чем же [оно
могло бы быть вымерено]? Число, которое существует [там],
существует как нацело единое, единосовокупное и, конечно,
целое, как не охваченное никакой [меонально-чувственной]
границей. Но существует оно для себя тем, что оно есть [на самом
деле] . [В этом заключается умная определенность его
бесконечности]. Да и вообще из сущего ничто не находится в
[чувственных] границах, но быть ограниченным и быть измеренным [для
умного числа] значит испытывать препятствие к уходу в
[чувственную] беспредельность и не нуждаться в [чувственных] мерах
[для порождения нового из себя бытия наряду с собою].
[Поэтому] умные числа [не есть нечто измеримое, но] сами есть
[умные] меры, откуда и все, [как размеренное ими], прекрасно.
[Рассмотрим теперь, какое отношение существует между числом
как умной мерой и жизнью как размеренностью на основании
этих умных мер].
2. [Жизнь, как числовая размеренность,— совершенна].
Жизнь (ζώον), поскольку она — [нечто] живое, прекрасна,
содержа [в себе] наилучшую [жизнь]; и никакой вид жизни в ней
не отсутствует. И с другой стороны, не содержит она жизнь и в
смешении со смертью, ибо нет [в ней] ничего ни смертного, ни
умирающего. Эта жизнь живого в себе не есть нечто бессильное,
но жизнь — первая, очевиднейшая и содержащая [в себе]
цельную силу жизни (το τρανόν του ζην) 27, как и первый свет, от кото-
27 Редкое το τρανόν Фичино (473) переводит так: «habens integrum
vitae vigorem» w*. Буйе (404), по-видимому, это место просто пропу-
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
I I „
875
рого, [истекая], и живут тамошние души, и существуют идущие
сюда. Она знает, почему она живет и для какой цели,
[являющейся для нее опять тем самым], откуда она истекает для жизни,
ибо исток ее (έξ ου) и есть цель (εις δ) ее.
3. [Но ум еще выше жизни, ибо осмысляет и размеряет ее].
Всеобщая мудрость и универсальный ум, имманентный [жизни]
и сосуществующий [ей] и целокупно объединенный с нею (επών
και συνών και όμοΰ δν), творит ее еще лучшей при помощи
[некоего умного] расцвечивания и, соединяя с мудростью,
заставляет ее красоту являться еще более достойной почитания. Если
уже и здесь мудрая жизнь есть поистине нечто достойное чести
и прекрасное, хотя оно и видится, [является], здесь в
затемненном виде, то там она является во всей чистоте, ибо там она дает
видящему [самое] видение и способность жить с высшей
интенсивностью и с большим напряжением видеть живые [существа]
и, наконец, [прямо] стать тем, что он видит. Здесь, [в
чувственном мире], наш взгляд часто падает также и на неодушевленные
[предметы] ; и даже всякий раз, когда он и падает на живое, все
же ему видны раньше неживые моменты из живого, и
сокровенная жизнь [живого] находится в смешении [с тьмой и
умиранием] . Там же, [напротив], все — живо и живые существа живы
целиком и чисты; и даже если возьмешь что-нибудь как не живое,
то [тем самым оно уже] блеснуло тотчас же во всей своей жизни.
Созерцавший сущность, проникающую собою [умный мир] и
доставляющую ему жизнь, не подверженную изменениям, равно как
доставляющую ему [имманентно] присущее ему знание и
мудрость и узрение, уже не сможет без улыбки смотреть на весь
дольний мир, взятый целиком, из-за его потуг быть [истинной]
сущностью. В умном мире пребывает жизнь, пребывает ум, и сущие
[предметы] покоятся в вечности. Ничто [там] не выходит [из
сферы сущего], ничто не меняет его и не сдвигает, ибо, кроме
него, нет ничего сущего, что могло бы касаться его, а если
что-нибудь и было бы, то оно было бы ниже его, [подчинено ему], и если
бы существовало что-нибудь противоположное ему, то оно
осталось бы неаффицированным со стороны этого противоположного,
ибо, будучи [только] сущим, [это противоположное все равно]
не могло бы определить его как сущее, но [делает это] другой
[принцип], общий [для всего сущего и не-сущего],
предшествующий ему [по смыслу], и он-то и есть сущее-в-себе. Поэтому прав
Парменид, сказавший, что сущее есть единство. И не аффици-
руется сущее — не в результате [простого] отсутствия [всего
иного], но потому, что оно — сущее. [Другими словами, сущее
есть эйдос и ум, который, как бы ни менялся, должен оставаться
екает, потому что его перевод «pleine de vigueur et d'énergie» 63*
относится, скорее, к предшествующему εναργέστατη, хотя это было бы тоже
неверным переводом. Мюллер (364) произвольно усложняет: «die
durchdringende Kraft des Leben besitzenden Lebens» .
Α. Φ. ЛОСЕВ
876
самим собою, иначе невозможно будет и никакое изменение ни
его, ни чего-нибудь иного]. Только ведь этим сущее есть-в-себе.
В самом деле, как можно было бы отнять у него, [у сущего-в-се-
бе], сущее или что-нибудь другое, что воистину энергийно,
существует и что [зависит] от него? Пока оно существует, [оно все
это] принимает на себя. Оно существует всегда, отсюда — и все
это, [ему свойственное, существует всегда] Так велико [сущее]
в своей силе и красоте, что очаровывает [нас] и все
подчиняется ему, радуется [одному] тому, что имеет след его [на себе],
и по нему ищет благо. Ибо бытие раньше блага, если иметь в
виду наши стремления к благу, [т. е. стремясь к благу, мы должны
пойти сквозь сферу чистого сущего]. И весь этот [наш] мир
стремится и жить и (мыслить для того, чтобы быть, как и всякая душа
и всякий ум стремится быть) 65* тем, чем есть [само сущее].
[Только] само по себе бытие довлеет самому себе.
[4. Следовательно, становится совершенно ясным, почему
умное число выше живого числа и почему первое — принцип
благоустроенности второго, а вместе с тем и всего прочего, напр.
чувственного, что рождается на основе мировой души и жизни].
ПОСЛЕСЛОВИЯ
J—»L
ПРИМЕЧАНИЯ
JM^L
УКАЗАТЕЛЬ
J— L
ПОСЛЕСЛОВИЕ
878
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА 1
Если в начале и середине 20-х гг. оригинальный лосевский синтез
русской и западноевропейской философии на основе православного
энергетизма еще не был до конца проработан во всех его деталях, то к концу
20-х — началу 30-х гг. религиозно-философская концепция Α. Φ Лосева
сложилась окончательно. Именно в этот период и были написаны
публикующиеся в настоящем томе «Диалектика мифа», «Самое само» и три
небольших фрагмента — «Миф — развернутое магическое имя»,
«Абсолютная диалектика — Абсолютная мифология» и «Первозданная сущ
ность» 2
Из этих работ только «Диалектика мифа» была опубликована тогда
же, в 30-м г Внешне эта книга (за исключением отдельных «взрывных»
мест) имеет форму последовательно развернутой в духе научных
требований теоретической концепции, каждый момент которой преломлен через
призму разнообразных дискуссий того времени. Здесь имеется
конкретная культурологическая тема — мифология, которая рассматривается
как составная часть культуры, обладающая своими специфическими
закономерностями. Однако, хотя в целом «Диалектика мифа» и
соответствовала принятым тогда в европейской науке гносеологическим и
методологическим требованиям, внимательный читатель не мог все же не
заметить, что эти требования выполняются здесь как бы в «игровом»
плане, что книга обладает вторым смысловым дном, которое
опротестовывает все применявшиеся тогда приемы исследования мифа 3
Иначе написано «Самое само», которое впервые (за исключением
двух небольших фрагментов) публикуется в настоящем издании. По
своей внешней форме это — категориально-философское исследование
1 Данное послесловие частично основано на статье «Лосев, исихазм и пла
тонизм» // Абсолютный Миф Алексея Лосева (в печати)
2 Далее в ссылках соответственно: ДМ, СС, М, АД и ПС, последние четыре
работы — со страницами настоящего издания.
3 В одном из своих лагерных писем жене Лосев писал: «Я задыхаюсь от.
невозможности выразиться и высказаться. Этим и объясняются контрабандные
вставки в мои сочинения после цензуры, и в том числе (и в особенности) в
«Диалектику мифа». Я знал, что это опасно, но желание выразить себя, свою
расцветающую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие
соображения об опасности...» (Три письма А, Ф Лосева. Публикация А. А. Тахо«
Годи // Вопросы философии. 1989. № 7 С. 157) Не случайно непосредственно
после публикации «Диалектики мифа» последовал арест Лосева. О
подробностях ареста и развернувшейся в связи с «Диалектикой мифа» массированной
антилосевской кампании см. в примечаниях к «Диалектике мифа» в издании*
Лосев А, Ф Из ранних произведений. М., 1990.
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
I \
879
того же типа, что и «Философия имени» или «Музыка как предмет
логики», которые в отличие от «Диалектики мифа» строились не как научные
культурологические исследования, а как изложение собственной
философской системы. Однако если в «Философии имени» и в других своих
ранних работах Лосев пользовался при этом перспективой «сверху —
вниз», т. е. от Абсолюта — к тварному бытию, то в работе «Самое само»,
наоборот, философское рассуждение строится «снизу — вверх»: от
конкретной индивидуальной вещи — к ее смыслу и сущности. Тем не менее
конечные диалектические выводы Лосева здесь те же, что и в более
органичных для его концепции работах, построенных «сверху — вниз».
Совершенно очевидно поэтому, что здесь Лосев ставил очередной
стилистический эксперимент, стремясь зафиксировать свои исходные
философские принципы и итоговые диалектические схемы на языке, более
близком к тогдашнему читателю.
Что касается трех фрагментов (М, АД, ПС), то они, конечно, никак
не были рассчитаны на скорую публикацию. Тематически эти фрагменты,
в которых развиваются разные аспекты теории абсолютной мифологии,
примыкают к «Диалектике мифа», более того: один из фрагментов (М)
даже входил в состав рукописи «Диалектика мифа», т. е. какое-то время
он мыслился быть опубликованным в качестве одной из «контрабандных
вставок» в «Диалектику мифа». Однако по своему и содержательному,
и стилистическому рисунку эти фрагменты резко отличаются не только
от «Диалектики мифа», но и от всех других известных на сегодня
лосевских работ. Эти тексты написаны без всякой оглядки на цензуру — как
советскую, так и официально церковную. Это не просто продолжение
«Диалектики мифа», не просто выполнение данного в конце этой книги
обещания построить Абсолютную мифологию, это — переложение
мифологии и диалектики на абсолютный регистр, соответствующий их
истинному, в лосевском представлении, статусу как непосредственных форм
Богооб щения.
При всем содержательном и стилистическом различии между этими
фрагментами, «Диалектикой мифа» и работой «Самое само» все эти
лосевские тексты внутренне связаны тем не менее единым стержнем —
той оригинальной религиозно-философской концепцией, которая
окончательно сложилась у Лосева ко времени их написания. Перед нами три
ракурса в подходе к одной и той же теме, три разные гносеологические
декорации, на фоне которых действуют не всегда сразу узнаваемые, но
одни и те же философские «персонажи»: апофатическое Первоединое,
Одно, Сущее, Становление, Ставшее, Символ, Имя, Миф и т. д. В
фрагментах эти категории-«персонажи» действуют непосредственно; в
«Диалектике мифа» они скрытно направляют логическое развертывание текста
от мифа как обычного явления культуры к Мифу и Имени как
абсолютным формам Богообщения; в работе «Самое само» они действуют в
обратной перспективе, и рассуждение движется от «вещи» (как тварного
аналога категории Ставшего; в качестве функциональных синонимов
здесь используются также категории «факт» или «субстанция») —
через бытие и сущность (Становление, Сущее, Одно) — к самому самому
(иногда частичному, иногда — полному аналогу апофэтического Перво-
единого). Хотя сюжет каждой из этих трех философских «пьес»
самоценен и взаимоотношения, связывающие их категориальные «персонажи»,
уникальны, что требует в идеале их отдельного комментария, мы будем
рассматривать здесь эти работы как единый религиозно-философский
триптих, вынужденно сосредоточившись лишь на их инвариантном
стержне, скрытом за содержательно-сюжетными и стилистическими различия-
ПОСЛЕСЛОВИЕ
I 1
880
ми, тем более что именно этот инвариантный стержень вызывает сегодня
самые острые дискуссии у интерпретаторов Лосева.
В послесловии к тому «Очерки античного символизма и мифологии»
настоящего издания уже говорилось о том, что сверхзадачей русской
философии было, по Лосеву, такое обоснование энергетической связи
между Богом и тварным миром, в котором были бы преодолены
свойственные русской философии соблазны пантеизма и панентизма, и что в
качестве возможного пути к достижению этой цели Лосев предлагал
особый, не выходящий за рамки православной ортодоксии, синтез исихаз-
ма и платонизма 4. Обоснование этого особого синтеза и составляет
центральный инвариантный стержень рассматриваемых здесь лосевских
работ.
С лосевской точки зрения, исихазм начал оживать и
воспроизводиться в трех наиболее самобытных течениях русской философской мысли,
демонстрирующих определенную зависимость от соловьевской традиции,
а значит — и от платонизма: в символизме, софиологии и имяславии.
Воспроизведение это было неполным, а иногда и неверным, но главная
линия исихазма, по Лосеву, все же пробилась в этих платонических
течениях. Напомним, что этот вывод находится в самом остром
противостоянии к современным версиям исихазма, в которых не только
платонизм, но и возросшие на нем софиология и символизм никак не мыслятся
совместимыми с исихазмом 5.
У Лосева о совместимости исихазма и платонизма говорится в том же
смысле, какой на протяжении веков мыслился в общехристианском
платонизме. Православие может использовать в платонизме, согласно
лосевскому определению, только его «отвлеченно философскую схематику», не
зависящую от собственно языческого опыта античности. Более того: для
Лосева отвлеченная схематика платонической диалектики никак не
связана вообще ни с каким определенным чувственным или рациональным
опытом. Опыт, говорил Лосев, можно взять какой угодно 6, но в любом
случае мы должны будем прийти — если не уклонимся от диалектических
требований — к одним и тем же схематическим результатам, и прежде
всего — к исходной триаде Одного, Сущего и Становления. Именно эта
установка на построение философской системы вне всякого
мировоззрения и опыта использовалась Лосевым в работе «Самое само». Однако
возможности такого метода ограниченны. Там же, где говорится об этой
установке, Лосев сразу же уточняет, что он будет стремиться к этому
лишь до тех пор, пока это будет оставаться возможным (см. СС 396—397),
ибо любая реальная философская система имеет в своей глубинной
основе некий принцип, который модифицирует формально общие
универсальные диалектические схемы в соответствии с тем или иным характерным
историко-философским типом мышления. В результате в каждом своем
конкретно-историческом проявлении диалектика принимает, по Лосеву,
относительную форму, что выражается в том числе и в том, что в ней
4 См.: Платонизм в Зазеркалье XX века, или Вниз по лестнице, ведущей
вверх. Далее — Платонизм в Зазеркалье...
5 См^ Хоружий С. С. Диптих безмолвия. М., 1991.
β См.: Философия имени //Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
С. 21.
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
І_І
881
под влиянием того или иного модифицирующего ее детали и общую
тональность опыта выдвигается на первый план какая-либо одна из
исходно равноправных («равночестных») категорий, выбор которой
диктуется соответствующей данному историческому моменту мифологией
(см. АД 264).
В каком же тогда смысле наряду с исторически относительными
говорится у Лосева и об Абсолютной диалектике, не зависящей, как
и Абсолютная мифология, от чувственного и рационального опыта?
Здесь кроется одна из несущих опор всей лосевской позиции в целом. Если
относительные формы мифологии и диалектики осуществляют свой выбор
господствующего принципа под влиянием имманентного истории
чувственного или рационального опыта, то порождающее лоно не зависимой
ни от какого опыта Абсолютной мифологии имеет, по Лосеву,
трансцендентную природу. Согласно одному из наиболее специфичных лосевских
тезисов, Абсолютная мифология исходит из того, что обычно
некритически называется интеллектуальной интуицией, а на самом деле является
откровением. Абсолютная диалектика и есть срез с этой Абсолютной
мифологии. Категории Абсолютной диалектики суть символы Абсолютной
мифологии. Относительные же формы диалектики представляют собой
с этой точки зрения редуцированные или искаженные варианты
диалектики Абсолютной.
Именно на этом тезисе о трансцендентном источнике Абсолютной
диалектики базируются и лосевская символология, и его уточнения к со-
фиологическим доктринам, и его оригинальная — коммуникативная —
версия исихазма в целом.
Сначала о символологии. Несмотря на то что сам Лосев ссылается
на Флоренского, Блонского и позднего Наторпа как на своих
предшественников в этой области, все же именно лосевское понимание категории
символа, быть может, есть самое важное достояние его оригинальной
философии. Согласно устойчивому традиционному подходу к символу,
он есть проявление (во-площение, воображение) идеи непосредственно
и только в чувственной реальности. Лосев же саму платоновскую идею
понимает уже как готовый символ, т. е. не как элемент, который при
соединении с чувственно воспринимаемым «иным» образует
символическое единство, но как сам символ, уже содержащий в себе все
необходимые составляющие.
У самого Платона и в языческом платонизме в целом символические
отношения действительно мыслятся между миром идей и чувственным
миром, отсюда — теория символа как прежде всего чувственно
воспринимаемого явления. В христианском же платонизме, по Лосеву,
символическая диалектика имеет отношение прежде всего к божественной
сфере. Истинная символика возможна только в этой области, т. е. вне и до
всякой твари 7, а это значит, что лосевский символ не имеет чувственного
тварного тела (или не всякий символ его имеет — см. ниже).
Как же именно осуществляется, по Лосеву, символическая
диалектика в божественной сфере? Лосев присовокупляет к исходной триаде
четвертое (софийное) и пятое (символическое, или ономатическое) начала
и говорит соответственно о триаде, тетрактиде и пентаде. Исходная
триада (Одно, Сущее, Становление), взятая как некое единство*, становится
7 См.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930.
С. 859. Далее — ОАСМ.
* Ни о каком четверении Троицы, в чем многократно упрекали софиологов,
здесь, следовательно, речи не идет (см. АД 281). Лосевская пентада — это тоже
ПОСЛЕСЛОВИЕ
1 I
882
истоком порождения по той же диалектической схеме четвертого и пятого
начал, выполняющих функции, аналогичные функциям второго и третьего
начал в исходной триаде. «Софийное начало утверждает и полагает саму
триипостасность... делает ее субстанцией, как бы природой и фактом,
как бы телом... Ономатическое начало выявляет и изображает софийно
субстанциально утвержденную триипостасность» (М 220—221). Если
внутри триады Одно — это бытие «в-себе», Сущее — бытие «для-себя»,
Становление — «в-себе-и-для-себя», то четвертое начало — это уже
бытие «для-себя-и-для-иного», а пятое начало — чистое бытие «для-иного»
(см. таблицу в АД).
Благодаря четвертому началу к области чистого триадного смысла
добавляется ставшее, субстанция, т. е. благодаря софийной сфере
(аналогу соловьевского «тела Бога») и появляется в лосевской системе место
для символа, нуждающегося для своего образования не только в
идеальном, но и в субстанциальном ингредиенте. Лосевский символ — это бытие
«для-иного», причем это иное отнюдь не предполагается здесь реально
существующим, но мыслится лишь как предвечный принцип, как
имманентный самому божественному бытию момент. В частности, функцию
противопоставления иному может выполнять, по Лосеву,
противопоставление себя себе же, что является конститутивным признаком личности.
Четвертое и пятое начала в этом смысле — это диалектическая
транскрипция самосознания и самопознания Абсолютной Личности, которые
требуют определенной самосоотнесенности себя с собой, некой
самообъективации, самоназвания и самообщения. Телесность и выразительность —
необходимые, по Лосеву, черты христианского персонализма, отнесенного
в абсолютную сферу.
Пятое начало (выражение, символ, самоименование) и есть, по
Лосеву, выделяемая в исихазме сфера божественной энергии в отличие
от сущности. Само выделение энергетического аспекта с необходимостью
требует, с лосевской точки зрения, обоснования в божественном бытии
символического аспекта, т. е. сферы проявимости и проявления сущности,
в чем и состоит «функция» энергии, рассматриваемой вне и до тварного
бытия, т. е. взятой в «самой-в-себе». Высшим проявлением пятого
начала, т. е. максимальным самораскрытием Божества в своих энергиях для
себя самого, есть данное Себе Имя, которое для нас недосягаемо и о
котором нам нечего сказать.
Конечно, все это — лишь голая сухая схема, имевшая своей целью
хотя бы чисто условно охватить границы и внутреннюю структуру
лосевских богословских аргументов. Но даже и здесь видно, что в них воедино
с исихазмом сплетены и платонизм, и софиология, и символизм, и имя-
славие. И если гнаться за некой общей формулой, выражающей
специфику лосевской мысли, то она отнюдь не может состоять из сложения чисто
гносеологических методов, что вслед за Франком нередко предлагается
в современных исследованиях, например, когда говорится, что формула
Лосева есть сумма феноменологии и диалектики, дающая символизм,—
это хотя и в чем-то верно, но слишком абстрактно и совсем не передает
содержательных аспектов лосевской модели. Резоннее было бы говорить
о сложении символизма, софиологии и имяславия, дающих в сумме
исихазм. Признать это — значит утвердить за Лосевым особое
самостоятельное место в общей картине русской философии...
триада, но только триада как бы «второго порядка», в которой в качестве первого
начала выступает исходная триада в ее целостности. Число «пять» есть здесь,
таким образом, лишь арифметический показатель, не нарушающий принципа
фундаментальной троичности (си. АД 269—270)
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
I 1
883
Итак, дополненные Лосевым к триипостасному бытию два новых
момента — софийный и ономатический — не выводят рассуждение за
пределы Абсолюта. Высшая точка ономатического начала, т. е. данное
перво-сущностью себе Имя — Имя Божие, согласно Лосеву, нетварно
(см. M 226), а следовательно — оно есть символ, не имеющий
чувственного тела. И софийное, и символическое начала в Боге, существующие
до и вне всякой твари, так же предвечны, как, согласно исихазму, пред-
вечны и божественные энергии. Если предвечность энергий не мешает им,
с точки зрения критиков софиологии и символизма, некоторым образом
«присутствовать» в тварном мире, то ровно по тем же причинам в нем
могут проявляться и символические аспекты Абсолюта. И если при этом
они так или иначе облекутся в тварное, чувственное тело, то это уже
совсем иной процесс, чем имманентный Богу символизм. Исходные,
первичные символы — внетварны и внечувственны.
Нет здесь и противоречия с принципом творения из ничего. Акта
творения могло бы и не быть, а софийный и символический моменты,
основанные не на реальном «ином», но на «ином» как внутреннем
имманентном принципе Абсолюта, все равно сохранили бы все свои квалификации.
Акт творения не предопределен внутренним символизмом Абсолюта, так
как этот символизм есть прежде всего акт самосознания и самопознания,
и если символическое начало сыграло свою роль в творении мира и в его
последующей истории, то это — вторичные, икономические функции.
Нет в лосевской модели и субстанциального, или сущностного,
отождествления Бога и тварного мира. Для разведения этих понятий Лосев
использует сухие термины: тетрактида А (Божественное бытие) и
тетрактида В (тварное бытие) 9. Между ними нет ни сущностной эманации,
ни причинно-следственной связи, т. е. нет дороги к пантеистическим
уклонам. Каждая тетрактида имеет свою собственную исходную «точку»
развертывания. Не только сущность, но и энергия сущности не является,
по Лосеву, такой исходной «точкой» для тетрактиды В. «Энергия
сущности не становится первым началом... а образуется новая система
тетрактиды — вещь, в которой первоначалом является не энергия перво-
тетрактидной сущности, но единство всех уже меонально-вещных
определений вещи, вторым началом — ее пространственно-временной или
просто временной эйдос, третьим — становление этого эйдоса и
четвертым — материальное тело, отличное от тела первотетрактиды, т. е. от
тела энергии сущности» (АКСН 182).
Для того чтобы сфокусировать эту лосевскую мысль на нашей узкой
теме и свести воедино используемую здесь терминологию, выразим то
же самое несколько иначе: если софийное и ономатическое начала в тет-
рактиде Л являются ее имманентными и в каком-то смысле необходимыми
моментами и если акт творения не есть для Бога необходимость, то,
следовательно, творение мира не есть, по Лосеву, акт символический 10. Твар-
ный мир не есть ни явление перво-сущности, ни ее прямой символ.
Тетрактида А и тетрактида В составляют два несводимых друг на друга факта
9 Эти термины введены в более ранней работе (см.: Античный космос и
современная наука // Лосев А. Ф. Бытие, имя, космос. М., 1993. С. 180—198.
Далее — АКСН), поэтому здесь идет речь о четырех, а не о пяти началах. Полное
терминологическое закрепление ономатический момент получит у Лосева позже,
но и без этого закрепления и в ранних его построениях уже полновесно
присутствует все то, что позже будет зафиксировано как пятое начало.
10 Во всяком случае — в том смысле, в каком символизм является у Лосева
имманентным свойством Абсолюта. Более широкое толкование проблемы
творения, по Лосеву, в связи с символизмом будет дано в конце статьи
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ІшшшІ
884
со своими сущностью, идеей и «материей». Того излишнего сближения
Бога и мира, которое Е. Трубецкой, а за ним и многие другие
исследователи находили у Соловьева ", здесь уже принципиально нет.
Однако преодоление пантеистических соблазнов соловьевской
традиции — это лишь полдела; гораздо важнее было для Лосева обосновать
некий особый внепантеистический тип связи, некий сокращенный монизм.
Здесь можно выделить, как минимум, два разных аспекта решения этой
проблемы у Лосева, причем оба этих аспекта никак не связаны с
субстанциальным, или сущностным, пониманием связи между Творцом и тварью.
Во-первых, в лосевской модели не мог быть обойден вопрос о статусе
того мира идей, который осуществляется в тварной материи. Эти идеи
вопреки тому пониманию, которое обычно связывается с платонизмом
в современных версиях исихазма, мыслятся Лосевым не укорененными
в самой перво-сущности и даже не укорененными в ее энергии, но
понимаются как первозданные сущности, т. е. как имеющие тварную природу
(см. ПС 235—236). Никак не входя в саму первотетрактиду, эти идеи
могут лишь в той или'иной форме подражать первотетрактидному бытию
вследствие своего тварного первородства. Между этими идеями и
чувственным миром существуют сложные, в том числе и символические,
многоступенчатые отношения, в какой-то мере соответствующие
неоплатонической иерархии; в самой же первотетрактиде, по Лосеву, вопреки
любителям, как он говорит, «напяливать» на нее иерархизм, таковой
отсутствует (см. там же, 242).
В традиционных представлениях о платонизме все «платоники»
считаются занятыми именно этими идеями в их соотношении с тварной
материей независимо от того, как понимается статус самих идей. Однако
Лосев акцентирует свою систему не на этих взаимоотношениях, а на
втором выделяемом нами ниже аспекте проблемы связи между Богом и твар-
ным миром. Речь идет о том взаимоотношении Бога и мира, которое прямо
не связано с актом творения, но как бы последствует ему, хотя никакие
временные аналоги здесь не могут, конечно, иметь точного смысла.
Имеется в виду общение Бога с «уже» сотворенным миром, способствующее
исполнению того исходного замысла, который составляет — подчеркнем
это — не идею, или сущность, тварного мира, но его цель, состоящую
в некотором смысле в воссоединении с Богом (см. АД 286).
В своей наиболее общей характеристике этот аспект можно назвать
коммуникативным (или, в терминах «Самого самого», интерпретатив-
ным — см. СС 331), так как здесь мыслится общение Бога с человеком
и человека с Богом. Богообщение одновременно есть и конечная цель
творения, и суть той связи, которая реально устанавливается еще «до»
достижения этой цели. И если выше мы специально отмечали, что сам
акт творения никак нельзя, по Лосеву, трактовать как акт символический,
то этот второй аспект — насквозь символичен. Акцент на
коммуникативном аспекте связи настолько силен в лосевской концепции, что под его
влиянием практически перенастраиваются все традиционные темы из
этой области. Так, сама исходная проблема — о познаваемости или
непознаваемости Бога, которая нисколько не потеряла своей остроты
и для современных споров, трансформировалась в проблему сообщимо-
сти или несообщимости Бога. По Лосеву, только там, где Бог и мир
субстанциально сближаются, т. е. в пантеистических учениях, стоит в
действительности »опрос о познаваемости Бога в прямом смысле слова «позна-
11 См.: Платонизм ■ Зазеркалье...
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
( \
885
ние»; там же, где речь идет не о субстанциальном, но об энергетическом
взаимодействии, а значит — и в исихазме, корректно говорить только
о сообщимости или несообщимости Бога. Бог непознаваем в
рационалистическом смысле этого понятия, но сообщим — так может быть
модифицирован лосевский тезис о синтезе апофатизма и символизма, или о
тождестве знания и незнания (см. СС 335). Определенные параллели этому
можно найти и в современных версиях исихазма, в частности у В. Н. Лос-
ского ,2, но при всем сходстве, вызванном общей ориентацией на исихазм,
между этими версиями имеются существенные различия, связанные с
разночтениями в интерпретации платонизма и соответственно символизма.
Абстрактно общее понимание распадается при этом на максимально
различные толкования конкретного содержания имеющегося в виду
отношения между областью божественного и тварным миром.
Как можно было бы истолковать лосевскую версию? А приходится
говорить именно о толковании, ибо осуществленный Лосевым сдвиг
ракурса с субстанциально-сущностного на энергетически-коммуникативный
остался практически невоспринятым современной наукой вследствие
в том числе и устоявшихся шаблонов понимания терминологии
платонического происхождения прежде всего в субстанциально-сущностном
ключе, в то время как у Лосева эта терминология энергийно
переосмыслена. Начнем с самого темного, быть может, места лосевской концепции —
с его тезиса о сверх-бытийном единстве тварной вещи, в котором она
в некотором отношении «абсолютно тождественна с энергией сущности»,
хотя здесь и сохраняются два разных факта (см. АКСН 185). Для того
чтобы не увидеть здесь пантеизма, нужно постоянно иметь в виду, что
энергия сущности и есть, по Лосеву, основа символического начала в тет-
рактиде А, т. е. то абсолютное тождество, о котором идет здесь речь у
Лосева, это не стирание всякой грани между энергией сущности и вещью,
но, как он и пишет, «залог общения» между ними. И если понятие
«энергия» у Лосева часто заменяется как синонимами понятиями «смысл» или
«эманация» (см. СС 355), то это именно коммуникативный смысл, или
интерпретативная эманация, т. е. нечто, специально приуготовленное
к сообщению. Это не смысл как идея вещи, как ее статичная сущность,
а именно так понимают чаще всего смысл в шаблонизированном
платонизме, но — символ, предназначенный для восприятия иным.
Впрочем, и сам символ чаще всего продолжает восприниматься не
в коммуникативно-энергийном плане, а сущностно-субстанциально, как
вещь среди других вещей, к которой могут быть применены обычные
познавательные процедуры. Символ теряет при этом самое главное в его
лосевском понимании — свою указующую на нечто иное функцию, свою
сообщительность об ином, или — если применить обычно используемый
здесь Лосевым термин — свою выразительность. Вместо этой
коммуникативной выразительности мыслится нечто вроде многослойной сложной
конструкции наподобие шара, заключенного в кубе, когда шар
понимается как выражаемое, а куб как выражающее. Ничего помимо самой этой
конструкции не предполагается, и вместо общения с таким символом
начинается его познавание. Для Лосева же познание структуры символа,
которое тоже, конечно, предполагается, составляет лишь технический
момент, необходимый для главного — для понимания символа, для
понимания переданного в нем «сообщения». Отсюда, кстати, лосевская
позитивная оценка появившегося в некоторых течениях философии акцента
12 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви.
Догматическое богословие. М., 1991. С. 55 и др.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
1 I
886
на понимаемость в противоположность познаваемости (см. АД 287).
Познается вещь, понимается — личность. Эта формула достаточно
известна. Лосевское добавление к ней можно выразить так: вещь —
познается, личность — понимается, но понимается она не непосредственно,
а через символы. Непосредственное понимание абсурдно, ибо в кем
исчезает грань между понимаемой и понимающей личностью, без
которой понимание редуцируется до познания. Можно сказать и так: вещное,
внекоммуникативное восприятие символа — это, по Лосеву, реликт
старых представлений о платонизме, толкующих смысл символа не как
сообщение, а как саму сущность. В лосевской же интерпретации платонизма
на первый план выдвигается именно коммуникативно-символический
аспект.
Место, где, по Лосеву, осуществляется прямое символическое
общение с Богом,— Церковь. Областью энергетического взаимодействия
Бога и сотворенного мира является особый символический мир, в который
Лосев включает знамение, икону, таинство, обряд, изволение, догмат,
миф, откровение, Священную историю, благодать, мистерию, спасение,
молитву и др. (там же, 290—293). Между этими символическими
формами Лосев устанавливает строгие диалектические соотношения, которые
определяются первотетрактидной диалектикой. Эта сторона лосевского
наследия только теперь становится известной в своих деталях, и
естественно, что она потребует специального изучения. Здесь нам важно хотя бы
пунктирно обозначить границы и формы прямого символического Бого-
общения в его лосевском понимании, чтобы четко зафиксировать его
особое место в общей разветвленной и дифференцированной системе
лосевской символологии. Не вдаваясь в подробности этой системы,
которая по существу отражает общее лосевское учение о тетрактиде А и тет-
рактиде В сначала в их раздельности, а затем и с точки зрения их
диалектического взаимоперехода, выделим (с определенной, конечно,
долей условности) четыре главные сферы, т. е. как бы четыре типа
символов, по Лосеву.
Во-первых, это описанная ранее чистая символика внутри тетрак-
тиды А, осуществляемая вне и до тварного мира. Во-вторых, это только
что описанное прямое символическое Богообщение, при котором человек
максимально сближается с Божественными энергиями и на высших
мистических ступенях которого он может воспринимать саму внутрибожест-
венную символику. В-третьих, это особая сфера, как бы пограничная
между божественной и тварной символикой, где человек осуществляет
«перевод> того смысла, который дается ему в символическом Богообще-
нии, на тварный язык. Необходимость такого перевода очевидна, коль
скоро смысл Богообщения жизненно важен для падшего тварного бытия.
Разделение второго и третьего типа в нашей классификации
наиболее условно. Это самое сложное место лосевской концепции; здесь он
развивает свое еще практически не отрефлектированное в науке учение
о символах второго (третьего, четвертого и т.д.) порядка, которые по
существу являются не чистыми символами, но аллегориями первотетрак-
тидного смысла (см. ОАСМ 624). Здесь уже вступает в силу тварная
телесность, которая, становясь выражающим началом для символа
первого порядка, начинает — как принято в шеллингианской традиции
понимать аллегорию — преобладать над выражаемым. При этом
первичный символ как бы разлагается на свои внутреннюю и внешние стороны,
которые в этой изолированности и приспособленности к человеческому
сознанию только и могут перейти в символы второго порядка, так как
полного субстанциального и сущностного отождествления Бога и твари
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
I—і^І
887
в лосевской модели быть не может. В частности, применительно к
«земным» языковым символам, которые — подчеркнем — никогда, по Лосеву,
не могут быть символами прямого Богообщения, вступает в силу плоть
языка. Так, если Церковь, например, есть символ первого порядка, то
апокалиптическая «жена, облеченная в солнце» есть символ второй
степени (см. ДМ 43). Эта «вторая» степень появляется лишь при
сравнении с символами первого порядка, в собственно же мифологическом
плане с его непосредственной и живой реальностью здесь можно увидеть
символ первой степени (см. там же). Все эти сложные совмещения
символа и аллегории, символа и схемы, символа и символа, приводящие к
различным степеням энергийного проявления смысла, призваны в лосевской
концепции отразить свойственное ему понимание взаимоперехода между
двумя тетрактидами.
Наконец, четвертая сфера — это чисто тварные символы. Поскольку
в тварном мире есть своя идея и своя материя, в нем есть и своя, уже
невозводимая непосредственно к божественной (нетварной) области
символика. Здесь — своя собственная система символических
выразительных средств; это те самые чувственные символы, которые обычно
имеются в виду, когда говорится о символах, но которые меньше всего
интересовали Лосева в отличие, скажем, от Флоренского, который
стремился прежде всего к обоснованию связи этой четвертой сферы с тем,
что выше мы назвали третьим типом символов, по Лосеву. Для Лосева же
важнее было установить связь между вторым и третьим типом.
Ограничившись этим кратким описанием разных типов символов,
по Лосеву, скажем еще лишь об универсальном свойстве любого
лосевского символа. С его точки зрения, природа всех, в том числе и
чувственных, символов не может быть адекватно понята, если предварительно
не осознана универсальная природа символа как такового. В частности,
применительно к чувственным символам должен быть прежде всего
поставлен тот вопрос, который возникает из лосевского понимания символа
абсолютного, а именно: вопрос о субъекте символической деятельности,
об авторе символа и — одновременно — о его «потребителе». Всякий
символ предполагает активное личностное начало, его нельзя понимать
как просто наилучшее, адекватное соединение идеи и тела, т. е. как вещь.
Символ, в том числе и чувственный, это такое соединение идеи и тела,
которое порождает смысл-сообщение, его функции не просто «быть»,
а «быть понятым» ,3. Чувственные символы — это форма общения между
13 Персонализм, таким образом, является не далекой перспективой, к
которой вышел бы Лосев, если бы история не остановила движение его мысли
(см.: Хоружий С. С. Арьергардный бой. Мысль и миф Алексея Лосева. С. 138),
но исходной установкой его позиции, отраженной уже в работах 20-х гг. (см.,
в частности, АД 266, 296). Персонализм имеет прямое отношение к лосевскому
переосмыслению платонизма: неоплатоническое бытие в его понимании не только
держится вещью «при себе» (это область триады), но и предъявляет его вовне,
для иного (софийное и символическое начала). В этом смысле Лосев изменяет
традиционное представление об особой «объективности» неоплатонических
категорий, которые — в противоположность новоевропейской объективности,
т.е. пред-метности,— мыслятся обычно не соотнесенными с субъектом (ср.:
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 40). При
этом, однако, надо постоянно иметь в виду, что Лосев изменяет «адрес»
применения платонической символологии, перемещая ее из чувственного мира в
первотетрактиду и лишая тем самым мир непосредственно земных, чувственных
символов сущностной связи с Абсолютом. Поэтому, скажем, объяснение
византийского или свойственного нашему веку сопряжения имперской или вообще
государственной идеи с идеей христианской через обязательное указание осу-
ПОСЛЕСЛОВИЕ
I I
888
людьми, так же как первичные символы — путь к общению с Богом. Если
воспользоваться современной лингвистической терминологией, то
лосевская мысль может быть передана как главенство прагматического
аспекта над чисто семантическим, как главенство предложения над лексемой
и т. д. Динамическое начало превалирует здесь над статическим, и в
этом Лосев еще в двадцатые годы предварил тематику острых дискуссий,
развернувшихся в европейской философии середины века.
Однако «динамизм» Лосева никогда не достигал абсолютной
степени, как это иногда встречалось, например, в десемантизирующих язык
концепциях, где упор на чистые отношения в системе элиминировал
всякую смысловую плоть, ^го — существенный момент для понимания
лосевской модели, поэтому остановимся на нем подробнее.
Возьмем для сравнения два варианта понимания статуса и самой
природы мира идей в современных антиплатонических версиях исихазма.
В одном случае идеям (смыслам) отказывается в статусе истинно «иного»
по отношению к чувственному тварному миру: они мыслятся в том же
онтологическом горизонте, что и весь тварный мир, хотя и отделимыми
от непосредственно чувственного бытия м. В другом случае, в
соответствии с разделением в исихазме сущности и энергии и в соответствии с
принципиальным отказом «укоренять» идеи в самой сущности (что, согласно
этой версии, происходит во всех софиологических системах), считается,
что идеи принадлежат сфере божественных энергий, т. е. фактически они
помещаются здесь в отличие от первого случая в божественном, а не
тварном мире і5. При этом если в первом случае идеи мыслятся так или
иначе субстанциально, то во втором случае они теряют всякий намек на
субстанциальность и трансформируются в динамические «идеи-воле-
ния» — и не сущностные, и не тварные, но чисто энергетические. Заметим
сразу, что оба этих варианта нашли у Лосева свое место, а точнее —
предвосхищены им в его разделении тварных идей (тетрактида В) и
пятого символически-энергетического начала в тетрактиде А. Но сразу же
бросается в глаза и принципиальное отличие в толковании этих как бы
двух разновидностей идей.
В самом деле, если ограничиваться признанием только тварных идей,
то тем самым нарушится сама установка исихазма на существование
некой связи между Богом и тварным миром. Естественно, что и в том
варианте исихазма, где подразумеваются тварные идеи, т. е. в первом из
перечисленных у нас случаев, не может не утверждаться
фундаментальное для исихазма положение о наличии энергетической связи с Богом, но
здесь это уже будет связь без идей, а значит — и без субстанции, связь
«чисто» энергетическая. Фактически при этом снимается всякое различие
между двумя вариантами: и там и там энергетическое взаимодействие
понимается одинаково бессубстанциально, и только платоническая идея
с ее мощным терминологическим авторитетом продолжает кочевать из
ществленыой при »том «медиации платонически окрашенного символизма»
(см. там же. С. 119) было бы для Лосева в принципе верным, но вместе с тем
и неполным. Здесь он оговорил бы частный — языческий — характер такого
«платонически окрашенного символизма», ведущего к описываемому
сопряжению идей, в противоположность христианскому платоническому символизму,
такого сопряжения не допускающему. Соответственно, с лосевской моделью
несовместима и «догадка о связи... между политической идеологией ранневизан-
тийской державы — и теорией символа у Псевдо-Дионисия Ареопагита...»
(там же. С. 238).
14 Хоружий С. С. Диптих безмолвия. С. 112.
15 Лосский В. Н. Указ. соч. С. 74 .
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
1^—1 *
889
одного места в другое, не играя по существу никакой роли в искомой
энергетической связи. У Лосева же как тварные идеи, так и
энергетические символы в тетрактиде А мыслятся хотя и по-разному, но
субстанциально. Относительно тварных идей, которые помещаются им в
ангельский мир, Лосев говорит, что хотя их и называют «бесплотными силами»,
но все же определенной телесностью, а именно «умной телесностью»,
они не могут не обладать (см. ПС 235). Обладают субстанцией и
первичные энергетические символы, что обеспечивается, как мы видим,
введением четвертого — софийного — начала в Абсолют. Здесь, кстати,
уточняется и некоторый терминологический разнобой относительно софийной
сферы: о ней говорится и как о «теле Бога», и как о сфере идей, или
смыслов (последнее, в частности, чаще всего встречается в критических по
отношению к софиологии концепциях). Для Лосева софииность — это
именно субстанция, облекающая чистый смысл исходной триады (см.
АД 269). Символический же, коммуникативный смысл, т. е. смысл в его
бытии «для-иного», смысл, трансформированный в «сообщаемый»,
появляется лишь в пятом — ономатическом — начале. При этом он обладает
телесностью (софийной субстанцией), что вообще является исходным
условием всякого символа.
Хотя это должно быть очевидно и так, но мы все же специально
подчеркнем, что субстанция тварных идей и софийная телесность символа —
это у Лосева разные, несводимые друг на друга факты. Одна
субстанция — тварна, другая — предвечна. Для адекватного восприятия
лосевской софиологии этот момент важен в плане его принципиального
расхождения, например, с концепцией С. Н. Булгакова, не всегда отчетливо
различавшего тварную и нетварную Софию. Напомним, что Лосев в своей
уже заключительной книге о Соловьеве специально подчеркивал
важность этого различения и соглашался, что у самого Соловьева вследствие
нечеткости терминологии, иногда несущей оттенок пантеистических
воззрений, тварный и нетварный аспекты Софии не всегда различаются.
Как видим, и лосевская идея, и лосевский смысл — всегда телесны.
Это, несомненно, платонический мотив. В антиплатонических же версиях
исихазма утверждается возможность некой чисто энергетической,
несубстанциальной связи, немыслимой в лосевской модели.
Почему? Потому что с точки зрения этой модели абсолютно внесуб-
станциально понимаемая энергетическая связь есть, так же как и сущно-
стно отождествляющая связь, путь к пантеизму. Если в утверждении
сущностного тождества божественного и тварного миров пантеизм
субстанциальный, то здесь — пантеизм энергетический. Как бы ни
дифференцировать различные формы энергии сущности, с одной стороны,
и энергии твари — с другой, пантеизм все равно прорвется здесь в
понимании самой финальной цели синергии — в понимании обожения.
Человеческая личность практически мыслится здесь растворенной в
Абсолюте, исчезающей как некое самоценное начало. В некотором отношении
здесь проявляются черты того самого неоплатонического экстаза с его
принципиальной языческой безличностью, в близости к которому
обвиняются течения русской мысли, развивающиеся в русле соловьевской
традиции. Без всякой смысловой задержки, без своего рода
экранирующего символического начала, сохраняющего и сам факт Богообщения,
и его ценность, Бог и человек сливаются, по Лосеву, не только в
энергетическое, но и в абсолютное одно.
Та свобода человека, во имя которой критикуется соловьевская
традиция, оказывается здесь лишь средством достижения своего
абсолютного растворения, т. е. как бы абсолютной несвободы. И напротив, в лосев-
29 А. Ф. Лосев
ПОСЛЕСЛОВИЕ
I—^^1
890
ском символизме, универсализирующем коммуникативный, а значит,
и смысловой аспект Богообщения, искомая свобода сохраняется, ибо
личностное общение, предполагающее понимание в отличие от познания,
основано именно на автономности личности, на ее фундаментальной
свободе. Без коммуникативного смысла, обязательно обладающего той или
иной телесностью, энергетическое взаимодействие чревато абсолютным
субстанциальным пантеизмом. Утонченный субъективизм Нового
времени в его, конечно, определенной корректировке — это столь же весомая
константа лосевской мысли, как и средневековый онтологизм. Между
персонализмом и онтологизмом Лосев перебрасывает коммуникативный
мост.
Нет в лосевской модели и пресловутой статичности смысла, не
дающей видеть мир событийно и процессуально, т. е. в историческом аспекте.
Лосевские символические смыслы, порождаемые разными формами
Богообщения, принципиально не статичны, но динамичны, как динамично
любое понимание в процессе общения. Статика в общении — это его
прекращение, это слияние субъектов общения в безразличное и безличное
одно, т. е. гносеологический пантеизм в его обеих — субстанциальной
и энергетической — формах. Символизм Лосева сохраняет динамическое
понимание энергетической связи даже в ее финальной сверхцели,
мыслимой как непрекращающееся, длящееся в вечности личное отношение
к личному Богу: не противостояние безличного Абсолюта — личности,
не противостояние Абсолютной Личности — некоему аналогу вещи,
стремящейся к своему растворению, не снятие в как угодно понимаемом
слиянии всякого противостояния, но — общение Личности с личностью же.
В приведенных разночтениях исихазма отразились, в частности,
отголоски тех разнообразных острых дискуссий, которые принесли с собой
неокантианство с его «чистым отношением> и структурализм, некоторым
течениям которого было свойственно стремление освободиться от
семантики, от смысла, причем не только от какого-либо одного, тоталитарно
господствующего, но и от смысла вообще. Этот антиплатонизм имел
исторические причины психологического свойства (неприятие
конкретного исторического опыта XX века — своего рода психологическая травма
современного сознания), но вместе со смыслом наиболее активные
сторонники такого подхода теряли и самого человека, во имя которого
провозглашался сам поход против платонизма. Однако семантика (смысл)
постепенно вернулась в лингвистику, за ней постепенно опять начинает
признаваться некая субстанциальная самостоятельность, а значит —
вероятен и определенный ренессанс платонизма, конечно, не в его
языческом, а в обновленном понимании, которое предполагает не движение
вспять от Канта к Платону, а вперед: от Канта — к новому Платону. Это
движение прослеживается не только на Западе, где авторитет
платонизма сегодня достаточно высок, но и в православно ориентированной
философии.
Амбивалентность оценок платонизма видна хотя бы в том, что в
современных версиях исихазма, одинаково настаивающих на его
принципиальном антиплатонизме, встречаются тем не менее и
диаметральные — не только отрицательные, но и положительные — оценки ареопа-
гитского корпуса, причем именно в его платонических аспектах. Надо
сказать, что и основная из выделяемых причин несовместимости
исихазма с ареопагитским корпусом, а именно — установка последнего на
иерархизм, которая как бы исключает прямое, «без посредников*
общение человека с Богом, имеет у Лосева свое толкование. Признавая
иерархизм в тетрактиде В, он резко, как уже говорилось, отрицает все попытки
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
. I—\
891
«напялить» иерархическую схему на тетрактиду Л, и при этом
иерархичность в тварном мире есть у Лосева по существу та иерархия символов
разного порядка, о которой говорилось выше. А в таком понимании
отнюдь не содержится отрицание общения с Богом «без посредников»,
наоборот· такое общение, т. е.— в лосевских терминах — общение с
первичными символами, стоит в этой иерархии выше всех других форм
общения, являясь как бы их финальной целью. Предварительные ступени
к этой высшей форме не обязательно должны состоять в
последовательном поэтапном восхождении, соответствующем иерархии тварного мира,
но эта необязательность никак не отменяет саму эту иерархию, т. е.
коммуникативная связь между тетрактидами не отменяет тетрактиду В как
самостоятельный факт. Конечно, здесь необходимо более детальное
прослеживание лосевской мысли, но нам важно лишь в принципе
подчеркнуть саму возможность сочетания тварной иерархии и непосредственного
общения с Богом на высших ступенях мистического опыта.
И наконец, последнее замечание. Благодаря разделению тварных
идей и энергетических символов можно точнее определить то лосевское
понимание статуса диалектики, о котором говорилось в начале статьи.
Тварные идеи и весь чувственный мир как таковой — это область
рационального и чувственного опыта, обрабатываемого в целях познания на
путях формальной логики. Диалектика не есть извлечение из этого опыта,
хотя она и может применяться при его обработке, она есть извлечение
из символического Богообщения. Так как это общение имеет, по Лосеву,
ту или иную телесную (субстанциальную) форму, то человеческий разум
должен обладать некой «техникой» расшифровки этих телесных ликов.
Диалектика и есть как бы грамматика символического языка, его
коммуникативная система, а диалектические категории суть как бы элементы
Этой системы. Диалектика — это логика символа (см. СС 346) Так
понимаемая диалектика не подменяет собой само символическое
«сообщение», ведь не мыслится же поддающаяся познанию структура
естественного языка в качестве сферы, заменяющей область реального «речевого»
смысла. Диалектика вскрывает законы общения, но не есть само общение.
Без откровения и других форм энергетически-символического
взаимодействия никакая диалектика не была бы возможна — ни абсолютная
диалектика, ни ее относительные формы, которые тоже имеют под собой
так или иначе отрефлектированное или — что не принципиально —
бессознательно используемое откровение, т. е. ту или иную мифологическую
основу. Не была бы, с точки зрения Лосева, возможна диалектика в своей
«грамматической» функции и при бессубстанциальном понимании самого
энергетического взаимодействия, при котором тенденция к
энергетическому пантеизму снимает всякие вопросы о смысловом общении и его
грамматических законах.
Ради воссоздания более полной картины рискнем в заключение
развить предположение, которое в еще большей степени, чем все
вышесказанное о специфике лосевской модели, имеет гипотетический характер. Хотя
у Лосева почти не встречаются специальные разработки проблемы
творения (отсутствие таких разработок часто ставится в упрек всем софиоло-
гическим доктринам), все же можно предположить, что и творение
понималось им в «языковом» ключе, что, кстати, хорошо ложится в
ортодоксальные рамки. Сотворить, по Лосеву, значит «назвать» (см. M 227—228)
Но в отличие от символического пятого начала в Абсолюте, который
предполагает самоименование и, следовательно, появление имени как бы
«после» именуемого, творение — это именование вовне от себя, и потому
слово здесь как бы «предшествует» именуемому. Это не символ в абсо-
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ί I
892
лютном смысле, ибо между автором имени и его предметом мыслится
трансцендентная граница, которая — если повернуть рассуждение в
языковый план — соответствует разнице между именем собственным
(настоящим символом, по Лосеву) и именем нарицательным, т. е. просто
словом. Если эти нарицательные имена понять как идеи тварного мира,
то данная человеку свобода будет в каком-то смысле возможностью
с той или иной степенью адекватности или вообще без таковой приводить
материальное бытие в символическое абсолютное соответствие с этими
идеями. Но и обретение абсолютной адеквации в познании и воплощении
тварных идей не будет в лосевской модели финальной целью, так как сама
данная через нарицательный творческий акт идея есть в свою очередь не
место слияния с Богом, не пантеистический тигль, сжигающий все
субстанциальные и другие различия, но — место общения. Тварные идеи
тоже требуют, по Лосеву, не познания, но — понимания; в них тоже
заложено некое «сообщение». Внутренний смысл творения, его
нуждающийся и поддающийся «расшифровке» замысел есть с этой точки зрения
призыв к общению. Пробившись к идеально-смысловой сути тварного
мира, человек лишь достигает возможности услышать этот призыв в его
чистоте.
Правомерна ли такая интерпретация лосевской позиции? Во всяком
случае, на всех многочисленных лосевских страницах, посвященных
недостаточности и бесперспективности языческих экстазов, в том числе —
и неоплатонических, при всей высокой оценке их интеллектуального
каркаса всегда говорится и о том, что никто человека на этой
неоплатонической вершине не встречает, что там — лишь холод, одиночество или
безличная нирвана. Мир, по Лосеву, не только пронизан
коммуникативными энергетическими лучами, идущими как бы поверх или сквозь него
«после» акта его сотворения, но и в своей собственной тварной идеальной
структуре есть тоже призыв к общению.
Это предположение о лосевском понимании акта творения может
иметь, в случае его признания, самые разнообразные последствия
практически для всех частных ответвлений лосевской мысли. Так, можно было
бы говорить о достаточно четких параллелях между тремя основными
формами Богообщения и тремя главными смыслопорождающими
процессами в языке: первичные исходные символы, порождаемые внутри
Абсолюта,— это аналог разветвленной семантики собственных имен, идеи
тварного мира — аналог нарицательной семантики и, наконец, икономи-
ческое, последующее акту творения общение — это аналог
синтаксической (или шире — прагматической) семантики.
Острая коммуникативная аранжировка, которую Лосев придает, как
мы видели, практически всем религиозно-философским проблемам,
отсекает пути для проникновения пантеизма и максимально усиливает
персоналистический пафос. При этом она не только не отрицает софио-
логию, но нуждается в ней, так как без введения и обоснования
субстанциально-телесной «среды» выдвигаемый принцип общения мог бы вновь
подвергнуть русскую философию пантеистическому соблазну
* * *
Все сказанное — это, конечно, лишь общий абрис лосевсквй
религиозно-философской позиции, однако он все же может дать
представление о ее цельности и уникальности не толы» на фоне современных версий
КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСИХАЗМА
І_—1
893
исихазма, но и на фоне разных течений начала века. И дело тут не столько
в частных различиях, которые могли бы быть выявлены при
использовании устоявшихся сегодня критериев сравнения, когда, например, можно
было бы говорить, что у Лосева в отличие от Соловьева введено пятое
символическое начало, что в отличие от Флоренского это пятое начал·
максимально изолировано от тварной символики и при этом
максимально же развит диалектический аспект Богообщения, что, следовательно,
в отличие от Булгакова и других русских философов здесь нет уклона
в сторону пресловутого религиозного материализма и т. д. Эти критерии
при всей их технической правильности по существу отражают не
действительные внутренние взаимоотношения между Лосевым и другими
работавшими в русле того же направления философами, а привнесенную
извне и чужеродную для всего этого направления в целом систему оценок.
Своеобразие лосевской концепции в рамках соловьевской традиции
состоит в том, что в ней разработан специальный — коммуникативный —
ракурс, который сплетает воедино все частные течения внутри этой
традиции (софиологию, символизм и имяславие), и что это новое
коммуникативно проинтерпретированное единство направлено на преодоление
неортодоксальных, прежде всего — пантеистических, потенций этих течений,
взятых в их изолированности. Сам исихазм тоже проинтерпретирован
Лосевым как принципиально коммуникативная доктрина.
Лосевский синтетизм, таким образом, сознательно был направлен
им на преодоление всех тех крайностей оригинальных течений русской
мысли, которые сегодня являются основной мишенью для критики, но
которые отчетливо ощущались и уже преодолевались внутри самой
соловьевской традиции еще в начале века. Все эти крайности были, с
лосевской точки зрения, лишь временными техническими издержками,
неизбежными при развитии любого нового направления мысли и потому не
коснувшимися внутреннего здорового стержня этого направления.
Исключая детали, которые для того и существуют, чтобы о них спорить,
Лосев вместе со всеми мыслившими в том же направлении философами
считал, что развиваемая ими религиозно-философская позиция вскрывает
имплицитное содержание православного учения. И софиология, и
символизм, и имяславие, согласно Лосеву, изначально содержатся в
православной догматике, но только — в еще не развернутом и не
дифференцированном виде. Ничего экстравагантного или еретического в этом
предположении нет. Как не сразу получил свое догматическое закрепление смысл
самого триединства, как не было до соборов XIV в. догматического
закрепления энергетизма, так софиология, имяславие и символизм еще
ждут своего диалектического догматического уточнения (см. M 221,
АД 279). Это было твердым убеждением Лосева вплоть до его смерти.
Л. А. Гоготишвили
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ι—-Ι
894
О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ
§ 1. ТЕМА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Может показаться, что две книги А, Ф. Лосева, а именно «Диалектика
числа у Плотина» и «Критика платонизма у Аристотеля», имеют узкую
направленность, так что среди их внимательных читателей окажутся
только специалисты по определенному разделу математики (такова
тема — греческая «аритмология») или классические филологи (таков
жанр — «перевод и комментарий»). Однако, на наш взгляд, круг
благодарных читателей окажется существенно разнообразнее, ибо, во-первых,
языком историка и переводчика здесь изъясняется выдающийся философ,
что уже само по себе обещает широту подхода к проблеме, во-вторых,
излагаемые здесь древние воззрения на число составляют подлинную
новость для современного сознания. Так хорошо забытое старое (новое)
открывается в масштабе мировоззренческого размаха, а исследователь-
архаист одновременно предстает исследователем-новатором.
Прежде чем приступить к рассмотрению лосевского толкования
проблемы числа в античности в сравнении с современным математическим
сознанием, вспомним известную рекомендацию создателя «Законов»
правителям по поводу численности граждан идеального города-государства:
«Мы признаем наиболее удобным то число, которое обладает наибольшим
количеством последовательных делителей... число же пять тысяч сорок
имеет целых пятьдесят девять делителей, последовательных же — от
единицы до десяти. Это очень удобно и на войне, и в мирное время для
всякого рода сделок, союзов, налогов и распределений» (Законы V
738ab).
Знаменитый математик XX века Г. Вейль, размышляя о «магии
числа» в платоновских диалогах, следующим образом прокомментировал
данное высказывание: «С точки зрения величины нет особой разницы,
будет ли число жителей города 5040 или 5039; с точки зрения теории чисел
между ними расстояние, как от земли до неба; например, число 5040=
= 24·32·5·7 имеет много частей, тогда как 5039 — простое число.
Если в идеальном платоновском городе ночью умрет один житель и число
жителей уменьшится до 5039, то (надо полагать, наутро.— В. Т.) весь
город сразу придет в упадок» '. Даже если Г Вейль слишком резко
провел границу между наукой и магией (для первой, выходит, ценна только
величина числа, для второй, т. е. магии в нумерологической ее ипостаси,
имеют значение теоретико-смысловые отношения), самое важное данным
примером схвачено: современная точка зрения на число десемантизиро-
вана, античное же («магическое», по Вейлю) число всегда отмечено,
индивидуально-значимо и даже жизненно необходимо. А. Ф. Лосев в
книгах 1928—1929 гг. явно стоит на последней позиции и, кстати, оберегает
ее до конца своих дней.
1 Вейль Г. О символизме математики и математической физики // Вейль Г
Математическое мышление. М., 1989. С. 68.
О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ
I—I
895
Рассматриваемые здесь «Диалектика числа у Плотина» и «Критика
платонизма у Аристотеля» предстают перед нами в контексте других
лосевских работ, на страницах которых тема числа всегда получала
почетное место. Прежде всего — на фоне тех знаменитых восьми книг, что
последовательно печатались с 1927 по 1930 год. Здесь вырисовывается
целая философия математики; она складывается из прихотливой мозаики
фрагментов (их суммарное изучение — проблема особая), однако автора
«восьмикнижия» никак нельзя заподозрить в сознательном
импрессионизме. По меньшей мере два обстоятельства как внешнего, так и
внутреннего порядка определили сию мозаичность. Конечно, прежде всего
А, Ф. Лосев очень спешил напечатать свои труды (жизнь доказала, сколь
была оправданна эта спешка), потому пользовался любой возможностью
наступать сразу на нескольких фронтах и, уплотняя текстовые
пространства, насыщал их приложениями, развернутыми примечаниями,
вставными темами и экскурсами. Этим объясняется, в частности, появление
обширного отрывка из Плоти новых «Эннеад» при издании «Музыки как
предмета логики», что предвосхищало последующий выход полного
перевода и комментария трактата VI 6 в «Диалектике...», этим же объясняется
существенное повторение положений дискуссии об «идеальных» и
«математических» числах из «Критики...» в «Очерках античного символизма
и мифологии» (гл. IV) — пересекшиеся в части своих объемов тексты
вышли в свет порознь, но писались практически одновременно. Можно
привести и другие примеры. Отсюда — при неблагоприятных, повторим,
условиях публикации — понятны отсылки на уже заготовленные рукописи
и указания дальнейших тем и ходов мысли, к которым автор брал
обязательства вернуться, «если дадут». Теперь мы можем частично
реконструировать контекст неизданных и (или) утраченных лосевских материалов
относительно «чисел». Так, Лосев определенно как о реализованном
пишет в «Критике...» о своем «специальном исследовании понятия числа
в античной философии» (554) 2 или предупреждает читателя
«Диалектики...», что он тут «не касался... чисто математических теорий числа у Прок-
ла», освещенных «в другом месте» (838). Важно подчеркнуть, что наряду
с рассмотрением специфики античных воззрений на число (к
перечисленным примерам добавим еще упомянутый в «Очерках...» труд,
посвященный математике Спевсиппа и Ксенократа) у А. Ф. Лосева было намечено
широкомасштабное исследование философских оснований современных
математических теорий, и прежде всего учения Г. Кантора о множествах,
о чем свидетельствуют соответствующие отсылки «на будущее» в таких
работах, как «Античный космос и современная наука», «Философия
имени», «Музыка как предмет логики». О замыслах принципиально
диалектической разработки стандартного анализа (дифференциального и
интегрального исчислений), теории комплексного переменного и других
дисциплин сообщает нам частично опубликованное теперь эпистолярное
наследие А. Ф. Лосева 30-х годов 3, ждут своего часа отдельные фило-
софско-математические рукописи из его архива, так что вопрос об этой
стороне его творчества еще обещает разрешиться новыми интересными
сюжетами. Кроме того, судьба дала А» Ф. Лосеву возможность развернуть
обстоятельное изучение античной философии на страницах многотомной
«Истории античной эстетики», где много места уделено исследованию фе-
2 В ссылках на настоящий том указываются только страницы.
3 Письма из лагеря и в лагерь (1931 — 1933) 11 Лосев А. Ф. Жизнь. СПб.,
1933. С. 367, 373, 374, 383; косвенные данные — с. 385, 398, 402, 412.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
'
896
номена «всегдашнего античного напора на число» 4. Без учета этого труда
сегодняшнее чтение двух рассматриваемых нами работ попросту
непродуктивно. Поэтому наше дальнейшее изложение во многом опирается
как на материалы раннего «восьмикнижия», так и на отдельные
результаты «аритмологических» исследований из «Истории античной эстетики»
§ 2. ПЛАТОНИЗМ В ОБОРОНЕ И В НАСТУПЛЕНИИ
Эти две книги близки уже по формальным приметам. Их объединяет
однотипность названий, строгая жанровая очерченность, заявленная
одинаковыми подзаголовками, относительно малый в сравнении с
другими составными частями «восьмикнижия» объем и время написания.
Однако с еще большей очевидностью эти тексты сочетаются в
пространстве смысла, где они представляют, если допускать математизированную
семантику, две комплексно сопряженные точки. Как известно, в
элементарной арифметике комплексных чисел сопряженными называются числа,
точно совпадающие по действительным частям и различающиеся только
противоположными знаками при мнимых частях, а потому они образуют
пару, симметричную относительно действительной оси.
Два памятника античной мысли, привлекшие особое внимание
А. Ф. Лосева, суть два относительно самостоятельных фрагмента из
корпуса трудов Аристотеля и Плотина: так называемые побочные,
тринадцатая (М) и четырнадцатая (N), книги «Метафизики»,
завершающие это сочинение, и трактат «О числах», который после классификации,
выполненной Порфирием, является шестым в шестой, заключительной
группе «Эннеад» («Девяток»). Числа, фигурирующие здесь, интересны
своим несовпадением и даже, с точки зрения пифагорейской традиции,
существенной противопоставленностью. В самом деле, трактат VI 6
выступает под знаком «совершенных» чисел 6 и 9 (вспомним признание
Порфирия (Жизнь Плотина 24, 11 —13): «...я разделил пятьдесят четыре
книги Плотина на шесть эннеад, радуясь совершенству числа шесть и тем
более девятки»), числа же заключительной части «Метафизики»— 13
и 14 — по всем канонам «несовершенны», а число 13 еще и «несчастливо».
Даже если такое числовое противостояние случайно, оно вполне
соответствует очевидной противоположности Аристотелева и Плотинова
сочинений по содержанию: как пишет А. Ф. Лосев, в «Метафизике» против
«принципного функционирования чисел в вещах» нашлась критическая
аргументация, имеющая «убийственный для пифагорейства и платонизма
вид» (608), в трактате «О числах» отстаивается «ипостасийность» числа
и доказывается, что «с отнятием умного числа соответствующая
чувственная вещь потеряла бы свое осмысление и вообще перестала бы
существовать» (780), Аристотель издевается над пифагорейством, Плотин поет
славу Числу 5. Но так бывает среди единомышленников. Две античные
4 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития
Кн. 1. М., 1992. С. 502.
6 Заметим, что в XIV книге «Метафизики» содержится шесть глав, в XIII"·
десять. Последних первоначально вполне могло быть девять (давно известное
наблюдение — его приводит и А. Ф. Лосев, см. 685 — о каком-то неуклюжем
и почти дословном повторении в 4-й и 5-й главах ХШ книги содержания из
книги I), а тогда главы двух книг воспроизводили бы гармоничное Порфириево
сочетание. Не было ли это искусственное (но не искусное) увеличение глав
своеобразною тайною местью Аристотелю со стороны кого-то из пифагорейцев
еще времен Андроника Родосского?
О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ
) I
897
точки зрения на самом деле сопряжены в общих границах платонической
традиции, их различие обусловлено только выделением различных
сторон единого феномена «очисленности» бытия, разница между ними —
продолжаем эксплуатировать образные возможности отношений
комплексно сопряженных величин — лежит только в области мнения-доксы,
представлена только «мнимой» составляющей. В «Критике...»
отстаиваются мысли о том, что нападки Аристотеля на «идеальные числа» вовсе
не означают, что сам критик не признавал существования идей (620),
а «убийственные» аргументы против платонизма оборачиваются лишь
укреплением последнего, потому «пифагореец и платоник так и скажут
Аристотелю: да, правильно!» (609). В заключительном томе «Истории
античной эстетики» А. Ф. Лосев вновь использует эту мысль и
подчеркивает, что «общая система соотношения разных слоев бытия у Платона
и Аристотеля одна и та же» и что только «постоянная дистинктивно-
дескриптивная склонность Аристотеля» заставляет его предпочтительнее
относиться «к частностям и ко всему единичному в сравнении с общими
категориями и особенно с предельно-общими» 6. Эта склонность
«настолько была у Аристотеля сильна, что пифагорейские числовые конструкции
он прямо высмеивал как нечто наивное и фантастическое», в чем был
излишне категоричен, но и прогресс (с точки зрения платонизма) у Ста-
гирита, как отмечает А. Ф. Лосев, «все-таки был, поскольку Аристотель
умел мастерски характеризовать то, что он называл потенциальной
природой числа и что мы теперь могли бы назвать осмысливающей и
оформляющей природой числа. Аристотеля интересует порождающая роль
чисел, которая у Платона, конечно, мыслится на втором плане в
сравнении с вечной, предельно обобщенной и потому неподвижной природой
чисел» 7. Если теперь судить о взглядах Плотина, то для него, читаем
у А, Ф. Лосева, «всякое число есть прежде всего субстанция, или, как
он говорит, ипостась, а не просто только одно наше субъективное
представление» 8, и потому в трактате «О числах» весь критический пафос
направлен против неипостасийных теорий числа, «наивно-эмпирических»
и «субъективно-психических» (735—741). Это, конечно, антиаристоте-
лианская позиция, но она такова только относительно способа видения
мира, только относительно аристотелевской гносеологии. Изучение же
самого трактата VI.6, да еще вместе с комментариями к нему в
«Диалектике...», показывает, что в области онтологии Плотин и Аристотель
значительно ближе друг к другу, потому как «потенциально-порождающая»
роль чисел, выявление которой нужно ставить в заслугу Аристотелю,
вполне воспроизводится или, вернее, наново открывается в числовой
философии Плотина. Здесь будет как нельзя кстати сжатая
характеристика Плотиновых построений, которую А. Ф. Лосев дает все в том же
томе «Истории античной эстетики»: у Плотина «ярко фиксируется и
кристаллическая раздельность числа, и его континуальная текучесть, и его
сущностный (а не практически-вещественный) характер, и, наконец, его
чисто смысловая и в то же время творческая эманация, общность
которой иерархически располагается, начиная от сверхинтеллектуальной
полноты, проходя через интеллектуально построенную систему и космически-
душевную самодвижность и кончая растворением и дохождением до нуля
β Лосев А, Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития.
Кн. I С. 513.
7 Там же. С. 514.
1 Там же. С. 536.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
I I
898
в чисто материальной области» 9. Потенциальное бытие числа-абстракции
Аристотеля смыкается со структурным, вовне изливающимся (эманатив-
ным) бытием числа Плотина. Этому не нужно удивляться, если помнить,
что неоплатонизм (Плотин — его ярчайший представитель) есть синтез
платонизма и аристотелизма.
Собственную «Комплексную сопряженность» имеют и две
фундаментальные античные идеи — главные темы двух рассматриваемых лосевских
книг. Плотин и Аристотель — два гениальных преемника Платона —
творчеством своим явили пример уникального разрабатывания
противоположных сторон одного и того же учения. Обратимся к универсальной
схеме, которую А. Ф. Лосев активно использует в «Критике...»:
«Диалектика вся ведь стоит на одновременном принятии положений, что А есть
А и А не есть А* (566). По Аристотелю, крайнему-«формалисту», выходит,
что всякое А есть только А и любое не-Л всегда остается самим собой
(tertium non datur!), отсюда раздробленность его философских текстов,
потому здесь нехватка «союзов и предлогов» 10 и неизбежна «злостная
краткость». Крайний же «диалектик» Плотин скорее эксплуатирует
вторую часть «формулы диалектики» и, едва наметив некое Л, склонен тотчас
обнаруживать его как не-А, потому философские категории у него, по
определению А. Ф. Лосева, «все время находятся в каком-то подвижном
состоянии... в состоянии какой-то взаимной диффузии» м. Вот пределы,
вот два полюса, между которыми бьется собственная мысль переводчика
и комментатора древних текстов, и в этом духовном пространстве ему
принадлежит особое место: он использует «формулу» диалектики во всей
ее полноте и тем защищает платонизм от экстремистских выпадов
известных платоников. Дополнив по живому рубящие констатации одного из
них (А есть А) необходимыми диалектическими моментами (ибо
одновременно А есть не-Л) в «Критике...», укротив ускользающие категориальные
взаимопереходы у другого (где непрестанно А есть уже не-Л) строгими
отграничениями и оформлениями (когда не обойтись без фиксации Л как
Л) в «Диалектике...», он создает как бы единый текст, который можно
было бы назвать «Защитой платонизма у Лосева».
Здесь, наконец, появляется возможность во всеоружии вернуться
к тем двум числовым системам, о различии которых мы говорили вначале.
Теперь уже нетрудно предположить, что речь пойдет о действительной
их сопряженности. Основание для такого предположения — прямое
соответствие современной (позитивистской) концепции числа и теории
абстракции из «Метафизики» Аристотеля, с одной стороны, и связь
представлений о «магических» (по Г. Вейлю) числах с пифагорейско-плато-
новской традицией, окончательно оформленной у неоплатоников, и в
первую очередь Плотином,— с другой. В самом деле, господствующая ныне
числовая система — ее сфера применения простирается от загибания
пальцев на руке до выполнения миллионов операций в секунду на
электронных вычислительных машинах — совершенно по-аристотелевски
бескачественна, основана на «голом» арифметическом счете монотонно
следующих единиц и потому может быть названа (воспользуемся
терминологией известных нам глав «Метафизики») системой «абсолютно
счислимых чисел». Вторая числовая система, во всяком случае в явно ар-
9 Там же. С. 537.
10 Уайтхед А. Приключения идей // Уайтхед А. Избранные работы по
философии. М.. 1990. С. 681.
11 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., 1990·
С. 203.
О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ
I 1
899
ти кул и рова иной форме, имеет более специфическую и даже
маргинальную область хождения. Она входит в арсенал современных
исследователей архаического мышления и мифологических представлений древности,
которым приходится изучать некие «числовые комплексы» ,2, в ряду
которых стоят «дружественные числа» пифагорейцев, «знаменитое число» 7,
«несчастливое» 13, «число зверя» 666 и т. д.; сюда же относится «очислен-
ность» идеального, по Платону, государства — 5040 и пр. Данный ряд
не содержит однородных «единиц», потому всякое его «число»
качественно отличается от другого и ни с каким другим «числом» не может быть
«сложено», потому, согласно классификации по «Метафизике»,
подобная система должна быть отнесена к «абсолютно несчислимым числам».
Две системы, «научная» и «магическая», «современная» и «архаическая»,
максимально удалены по сферам применения и не воспринимаются как
нечто единое. Аристотель вполне бы мог заявить, что обнаружить
подобное соединение так же невозможно, как увидеть «коня, вскинувшего
сразу обе правые ноги» (Поэтика 1460b 18). А вот платонизм вздымает
вселенского коня, не убоясь противоречий. После защиты платонизма,
блестяще осуществленной А. Ф. Лосевым, нет нужды излагать, каким
образом совмещаются «чувственное бытие» и «математические
предметы», как тесно сосуществуют «арифметические» и «идеальные» числа
и почему при этом необходима диалектика, которая «обязана быть
системой закономерно и необходимо выводимых антиномий... и синтетических
сопряжений антиномических конструкций смысла» І3.
f 3. ДРУГАЯ МАТЕМАТИКА
«Жар холодных числ» (А. Блок) всегда в той или иной мере
ощущался представителями так называемой гуманитарной культуры, о чем
свидетельствуют бесчисленные литературо- и искусствоведческие
исследования тайных и явных структурных предпочтений в произведениях
искусства, музыки либо декламации и пр. В современной же философии
математики вновь вспоминается «число в платоновско-пифагорейском
опыте» и осознается потребность сопротивления «отчуждению числа от
собственной сущности и извечной содержательности* м. Это обращение
к неоплатонизму становится возможным благодаря сохранению
последнего в запасниках духовности, и потому неоценима выполненная А. Ф.
Лосевым работа по возвращению античных учений о числе «впервые на
память современности» (718).
Какие же «числа» и какая «арифметика» возвращаются к нам?
Вспомним лосевское сжатое и отработанное в рамках современной
терминологии резюме трактата Плотина «О числах». Обратимся также вместе
с Лосевым еще к одному важному для понимания античного учения
о числах трактату, а именно — к «Теологуменам арифметики» Ямвлиха
(или его школы). Проходя вслед за автором «Теологумен» ряд от единицы
до десятерицы, А. Ф. Лосев обнаруживает в данном трактате исконно
античную линию конструирования мироздания от хаоса к космосу. Еди-
12 См.: Иванов Вяч. Вс. Числа // Мифы народов мира. Энциклопедия.
Τ 2. M., 1991. С. 629—631.
13 Лосев А. Ф. Философия имени //Лосев А. Ф. Бытие— имя — космос.
М., 1993. С. 616.
14 Свасьян К. А. Судьбы математики в истории познания нового времени //
Вопросы философии. 1989. № 12. С. 47
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ι,^^Ι
900
ница, пишет он, «все свертывает в себе... все стягивает в одну
нераздельную точку», а двоица представляет «принципы развертывания...
вечного выхода из себя за свои пределы, вечного стремления и дерзания»,
это еще не есть структура, но «принцип внутреннего заполнения и
внутреннего становления внутри любой... структуры». Далее, «если ни
единица, ни двоица не говорили ни о какой форме, ни о какой структуре, то
троица является символом именно этой первой структуры, где есть не
только неделимость единиц и делимость двоицы, но и их оформление
в цельную фигуру. А дальше — четверица есть то, что является носителем
структуры, то есть телом, которое в пятерице трактуется как живое тело,
а в шестерице — как организм. Уже на стадии шестерицы мысль
наталкивается на то, что обычно называется космосом, поскольку космос есть
органически живое тело, душевно-телесная структура... В седьмерице
космос обогащается наличием в нем повсеместной и одинаково
ритмической благоустроенности, которая на стадии восьмерицы доходит до
космического пангармонизма, а на стадии девятерицы — до активно устроя-
емой сферичности космоса». Наконец, «после всех этих внутренних
и внешних определений космоса ставится вопрос о том, что такое космос
вообще. И как только мы сказали, что космос именно есть космос, это
означало, что от космоса самого по себе мы перешли к идее космоса,
то есть к его парадигме, в силу которой он и получил свое вечное
благоустройство. Десятерица и характеризует космос как полное тождество
заложенного внутри него первообраза и материальной телесности
космоса» 15.
Припомним и другие образцы лосевского прочтения античных
числовых комплексов. Такова, например, философская расшифровка числовых
операций демиурга в космогонии «Тимея» (ее мы находим на страницах
«Античного космоса и современной науки») — Лосев рассматривает здесь
уже более изощренную числовую конструкцию по сравнению с монотонно
нарастающим рядом «Теологумен», а именно два лямбдообразно
расположенные числовые ряда-потенции, исходящие из «единицы» и
выражающие космос вложенных друг в друга сфер. Во II томе «Истории
античной эстетики» много места отведено поискам разгадки тайн других
«числовых фантазий» Платона, среди которых и уже упоминавшееся
«урбанистическое» число 5040, и неожиданное 729 — кратная разница
удовольствий правителей, и «брачные» числа. Назовем для полноты
картины также лосевский разбор иерархии «богов-чисел» у Прокла, начатый
в «Диалектике...» и завершенный в VII томе «Истории античной
эстетики». В целом получается обширный и благодатный материал для
рассмотрения античной философии числа в свете наших дней. Бинокулярное,
стереоскопическое умо-зрение А. Ф. Лосева проявляется во всем его
творчестве, показывающем, «способен ли занимающийся древней философией
проникать во внутренние изгибы античной мысли и переводить их, вопреки
всем трудностям языка и сложности логических конструкций мысли, на
язык современного философского сознания» (754).
Наша ближайшая задача состоит теперь в том, чтобы в суммарной
форме изложить результаты лосевского «перевода» этой античной
«математики», не похожей на современную, существенно другой по отношению
к ней и одновременно обнаруживающей (конечно, в зародыше, в
потенции) и много общего, родного. Сопоставлять с античным «числом» и с
греческой «аритмологией» придется отнюдь не школьную таблицу умноже-
15 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. Кн. I. М., 1988.
С. 232—233.
О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ
'
901
ния или вводные положения современной теории чисел, а целые разделы
так называемых точных наук конца XX века, целые направления
развития современной культуры. Такова плотность духовного заряда в том
«Большом Взрыве», каковым выступает античность в начальной точке
пути нашей цивилизации.
1. Структурность античного числа. «Всегдашний античный напор на
число» сводится прежде всего к особенности мироощущения античного
грека, неустанно готового обнаруживать в наблюдаемом и мыслимом
своем окружении отчетливейшие, оптически данные (вплоть до
скульптурной выпуклости) структуры. Недаром А. Ф. Лосев пишет о
неистребимой пифагорейско-платонической традиции, даже о потребности всей
античной философской эстетики «мыслить всю действительность
исключительно только структурно», а потому и призывает возникающую здесь
«арифметику» считать именно структурологией — в самом точном и
современном смысле этого термина . Присовокупим к сказанному недавние
наблюдения в рамках «генетической эпистемологии» (психологическая
школа Ж. Пиаже), согласно которым усвоение понятия числа возникает
у детей сначала (между 4 и 7 годами) в результате логических операций
группировки и упорядочивания объектов, т. е. через структурирование,
а только потом (к 7—8 годам) проявляются навыки привычного счета
посредством представления об «п + 1». Если могут быть интересны
параллели, то параллель между детством человека и античностью — «детством
человечества» в указанном контексте является самой поучительной.
2. Регулятивно-управляющая функция античного числа. Число
пронизывает весь мир, как неживой, так и живой, включая человека и
человеческое сообщество. Под фантастической поверхностью античной
«математизации» бытия скрывается серьезная потребность точного охвата
действительности во всех ее проявлениях, и не в последнюю очередь ради
оптимизации практической деятельности. Античное «число понимается
как модель-регулятор всего бытия», заключает А. Ф. Лосев по поводу
«числовой мистики» Платона и всерьез предлагает находить у античного
мыслителя приемы и методы кибернетики или даже «считать Платона
безусловно отцом или прародителем» этой науки 17. Остается разве что,
к случаю, напомнить много говорящие названия революционных книг
Н. Винера: «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине»
и «Кибернетика и общество».
3. Иерархийно-порождающая функция античного числа. Греческая
мысль не пассивна и созерцательна, но активна и объясняюща. Она
не просто замечает структурную многоярусность мира, но и выводит
таковую исходя из самых первых оснований — посредством диалектики
одного и иного, предела и беспредельного, сущего и меона, целого и части.
Число «очерчивает определенные границы в первоедином, как бы
набрасывая на его сплошную и неразличимую массу смысловую сетку и
соотносящиеся координаты» (767—768), число строится не механическим
наращиванием однородных единиц, но расчленением и саморазделением
органического единства. Число, составленное механической суммой, беспамятно
и мертво, число органического единства хранит изначальную жизнь —
это открытие античного гения в новых условиях и на ином понятийном
языке воскресает в основе современного системного подхода (системных
исследований). Впрочем, если основной системный постулат ныне требует,
16 См. там же. С. 231.
17 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон.
M., I969. С. 326, 313.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
I I
902
чтобы целое было превыше суммы своих частей, то любой древний грек
знал и нечто еще, твердя поговорку: «Больше бывает, чем всё, половина»
(Гесиод. Труды и дни, ст. 40).
4. Актуальная бесконечность античного числа. Можно сколько
угодно увеличивать или уменьшать числа в их меонально-низшем
определении, т. е. оперируя с количествами. В замкнутости же и совершенстве
своих смысловых структур эти числа, «если их брать самих по себе, не
увеличиваемы и не уменьшаемы. Как можно увеличить или уменьшить
тройку?» (787). Для числа «быть ограниченным значит быть самим собой,
не растекаться в чувственной беспредельности и быть
беспредельно-сущим, бесконечно-мощным в проявлении себя как определенного смысла»
(788—789) — так читаем мы вслед за Плотином и Лосевым и должны
теперь вспомнить об актуальных бесконечностях в теории множеств.
Создатель ее, Г. Кантор, мечтал применить свои результаты о «точечных
множествах» и «порядковых типах многократно упорядоченных множеств»
для естественного описания структур неживых или живых объектов
и даже «для получения безупречного объяснения природы» 18.
Несомненно, ему прибавило бы мужества знакомство с философией Прокла, и в
особенности с его «мировыми чинами» богов-чисел, охватывающих все
существующие («все полно богов!») своими числовыми оформлениями —
актуальными бесконечностями разнообразных типов (см. 823, 835—838).
5. Универсальность античного числа. Справедливость античной
аксиомы «все есть Число» усилиями А. Ф. Лосева доказывается самым
наглядным и оригинальным образом: сначала на основании трактата
VI.6 строится формула числа — «единичность, данная как подвижной
покой самотождественного различия» (сократим для дальнейшего —
е π π с ρ), а затем посредством этой пятерки базовых категорий выводится
неимоверное количество производных конструкций «космологического»
характера, причем каждая новая категория, «порожденная числом», по
сути дела получена посредством применения специфических операторов
над е π π с р. Для примера возьмем оператор «рассматриваемая (ое),
как», который можно предварительно назвать оператором
«интенсификации» и условно изобразить посредством замены соответствующей
строчной буквы на прописную; тогда начальная стадия конструирования
«категориально-идеальной существенности» античного космоса
описывается следующим образом: число как потенция = е π π с ρ; число как
эйдос= Ε π π с ρ; множество = е Π Π с ρ; топос = е π π С Р . Расширив
номенклатуру операторов, нетрудно изобразить все «категориальное
конструирование» из лосевского «восьмикнижия» в сжатой форме,
поразительно напоминающей построения квантовой механики (последняя
широко применяет именно язык операторов и представляет свои объекты
посредством суперпозиции квантовых состояний). Доставляет глубокое
интеллектуальное наслаждение осознание того факта, что А. Ф. Лосев
неустанно комбинировал свои «подвижные покои» и «самотождественные
различия» как раз в те годы, когда происходило становление упомянутой
науки XX века и создавался ее математический аппарат. Заметим, что
широкое применение языка операторов для описания явлений макромира
только недавно вошло, например, в статистическую физику (И.
Пригожий).
18 Кантор Георг. Труды по теории множеств. М., 1985. С. 167—169, 248.
19 Текст, используемый для наших формализации, см.: Лосев А. Ф.
Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие — имя — космос.
С. 174—176.
О СМЫСЛЕ ЧИСЕЛ
І^^—І
903
6. Жизненно-эстетическая функция античного числа. Число
пронизывает Вселенную, творит, ее Красоту и несет Благо. С числом и через число
пролегает Дорога Домой, ибо число, по Плотину, «есть начало,
ближайшее к первоединому», ибо оно — «чуть-чуть не само Единое», а, по Прок-
лу, содержится «в недрах» его (см. 777, 807, 813). И если современный
ученый еще только взыскует математики с человеческим лицом 20 в
согласии с общей тенденцией гуманитаризации знаний, на челе античной
математики, выходит, с давних пор отобразился лик Божий.
§ 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ НАГЛЯДНОСТИ
Итак, в античных взглядах на число, как это теперь явственно
прочитывается не без посредства усилий А. Ф. Лосева, содержатся
предвосхищения многих значительных достижений или тенденций
современной науки и, шире, культуры. Потенциальную мощь этого источника
духовности понимали и понимают еще немногие, и среди них — О. Шпенглер.
Недаром в главе-зачине его книги «Закат Европы», знаменательно
названной «О смысле чисел», диагноз состояния современной европейской
цивилизации делается исходя из состояния современной математики,
мира чисел. Симптом болезни современной цивилизации — «опьянение
абстрактными формами» — в отличие от здорового доверия зрению и
осязанию у античных математиков.
Обращение к интуициям античности, в том числе к античной
числовой интуиции, может оказаться если и не спасительным, то по крайней
мере обнадеживающим для современного жизнечувствия. Так, после
малополезных ухищрений с дорогими антибиотиками вдруг поможет,
бывает, настойка из травы, произрастающей возле дома. Для античной
математики характерно как раз свойство простоты и (наивной ли?)
пластической наглядности. Предельно ясным воплощением этого свойства
могут служить «числа» Еврита (о них упоминает Аристотель — см. 671)
Сохранилось предание, что этот пифагореец задавался вопросом, какое
число присуще какой вещи, и устанавливал «однозначное» соответствие
путем раскладывания камешков по контуру изображения интересующей
его вещи, а камешки эти сосчитывались. Теплая оглаженная материя на
ладони Еврита — вот античная феноменология, феноменология
(обратимся к «Критике...»), «бесконечно более отчетливая» и менее грубая,
чем абстракция Аристотеля (см. 608). Конечно, у современной
математики нельзя отнять все те достижения «чистой» мысли, что можно
созерцать только «умственными очами». Но где-то в самых первородных
основаниях ее, к счастью, гнездится неистребимая потребность положить свое
творение «на ладонь», и тогда... тогда даже сам Хаос может предстать
в законченном и вполне обозримом виде, как это случилось, например,
после недавней «визуализации» геометрии дробных (верх абстракцииі)
размерностей — геометрии так называемых фракталов, специально
придуманных для характеристики изломанного, иррегулярного мира
нестационарных явлений. Диковинным изображением фрактального
объекта на экране дисплея современного компьютера возвращаются
к нам камешки Еврита. Так сопрягаются новоевропейская отвлеченность
и античная наглядность.
В. П. Троицкий
20 «Математика с человеческим лицом» — название рецензии В. И.
Арнольда на книгу И. Р. Шафаревича «Основные понятия алгебры». М., 1986.
904
ПРИМЕЧАНИЯ
Настоящий том составляют преимущественно работы, ранее никогда не
издававшиеся. Обнаружение рукописей этих работ в архиве Α. Φ Лосева
явилось в известной мере открытием для самих публикаторов.
По рукописям публикуются работы «Миф — развернутое магическое
имя», «Абсолютная диалектика — абсолютная мифология», «Первозданная
сущность», «Самое само». Первые две работы озаглавлены составителями,
исходя из содержания рукописей. Вместе с работой «Первозданная
сущность» они тесно связаны с «Диалектикой мифа». Работа «Миф — развернутое
магическое имя» примыкает к XIII главе «Диалектики мифа» и, по всей
вероятности, является одним из ее вариантов. В работах «Абсолютная диалектика —
абсолютная мифология» и «Первозданная сущность» А. Ф. Лосев приступает
к осуществлению намеченной в «Диалектике мифа» разработке абсолютной
мифологии. Все они относятся к концу 20-х годов, ко времени написания
«Диалектики мифа». «Первозданная сущность» в 1992 г. была
опубликована в журнале «Символ» (Париж, № 27). При этом издателями были
развернуты цитаты, обозначенные в рукописи лишь начальными и конечными
словами. Мы заключили эти вставки в угловые скобки.
Работа «Самое само» была написана в начале 30-х годов, по возвращении
А. Ф. Лосева из лагеря. Это — крупное самостоятельное произведение, тесно
связанное с той концепцией, которая развивалась автором в работах,
опубликованных в 20-е годы, оно посвящено углубленной разработке понятия перво-
единого.
При подготовке рукописных произведений к печати текст во многих слу
чаях с трудом поддавался расшифровке из-за неразборчивости почерка автора
и обилия вставок.
Что касается работ, вышедших в 20-е годы, при подготовке настоящего
издания в основу положены первые публикации: «Диалектика числа у Плотина
(Перевод и комментарий трактата Плотина «О числах»)» (издание автора. М.,
1928), «Критика платонизма у Аристотеля (Перевод и комментарий XIII и
XIV книги «Метафизики» Аристотеля)» (издание автора. М., 1929),
«Диалектика мифа» (издание автора. М., 1930). Учтен также текст «Диалектики
мифа» из книги: Лосев Α. Φ Из ранних произведений (М., 1990).
Как и при работе над предыдущими томами, при подготовке текстов в ряде
случаев изменена устаревшая орфография (адэкватный, коррелат, галлерея
и пр.,), пунктуация приближена к современной; в работах, издающихся пе
первым изданиям, исправлены опечатки — в первую очередь по спискам
опечаток, имеющимся в конце этих изданий. Все эти случаи в примечаниях не
оговариваются.
Что касается случаев вмешательства в текст, то немногочисленные
конъектуры помещены в угловые скобки, а исправления неверной нумерации пунктов
и примечаний, а также ошибочно употребленных слов указываются в
примечаниях. В очень немногих случаях, где можно заподозрить искажение, но
невозможно быть сколько-нибудь уверенным в том, как его следует исправить, в
примечаниях оговаривается, что данное место в рукописи или в первом издании
выглядит именно так.
В примечаниях мы ограничиваемся текстологическими комментариями и
переводами иноязычных текстов. Последняя задача содержала в себе ряд
особых трудностей (о чем сказано уже в предыдущих томах). В «Диалектике
числа у Плотина», кроме того, приходилось последовательно переводить на
ПРИМЕЧАНИЯ
I I
905
русский язык одно и то же место из Плотина, даваемое А. Ф. Лосевым в
латинском, французском и немецком переводах.
Комментарии и переводы выполнены И. И. Маханьковым.
ДИАЛЕКТИКА МИФА
'* Так в первом изд. Правильнее было бы деревянное, как в п. 7
VI главы.
2* В первом изд.; В 85 случаев из 70.
3* В первом изд.: в мире.
4* В первом изд.: по тому
5* В первом изд.: в мир.
6* Старознаменный догматик «Всемирную славу» пели на
воскресной вечерней службе, Преображенский тропарь и кондак — на
Преображение Господне 6/19 августа.
7* В первом изд.: она.
в* В первом изд.: ведение.
9* В первом изд.: вещь.
,0* В первом изд.: материи
и* В первом изд.: и.
,2* В первом изд.: он должен.
,3* В первом изд.: в него.
м* в частности (лат.); здесь — специфическим образом.
,5Ф В первом изд.: оно.
,в* В первом изд.: механически.
,7* учетверение терминов (лат.).
,8* В первом изд.: эмпирическое.
'·* необходимое условие (лат.).
В первом изд.: Изобразить, однако.
В первом изд.: ее.
В первом изд.: противосостояние.
20+
21*
22*
МИФ - РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ
С этого пункта начинается сохранившаяся рукопись.
В рукописи: произносящего.
В рукописи: отлично от него, но и тождественно с ним.
В рукописи: с ним.
В рукописи: VI.
В рукописи: VII
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ
С этого пункта начинается сохранившаяся рукопись.
В рукописи: здесь уже не может здесь.
Так в рукописи. Рассуждение, по-видимому, не вполне корректно.
В рукописи страницы не указаны. Видимо, имеются в виду с. 48—50
«Диалектики мифа» (по наст, изд.)
6* В рукописи: не могут
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА-АБСОЛЮТНАЯ МИФОЛОГИЯ
'* Позиции, отмеченные в таблице звездочкой, в оригинале написаны
карандашом, в т. ч. весь текст внизу таблицы.
2* В рукописи: справа.
3* Так в рукописи. В таблице в левом столбце есть четвертая категория —
Смысл.
4* В рукописи: а вечным.
2*
3*
Ч*
ПРИМЕЧАНИЯ
-J L·-
906
САМОЕ САМО
·* После этого — следовательно, по причине этого (лат,)
2* Так в рукописи.
3* В рукописи: будь то оно.
4* В рукописи* сущность
6* Так в рукописи.
6* В рукописи: различия.
7* В рукописи: эту вещь.
'* своего рода (лат.)
** Так в рукописи
,0* В рукописи* смыслового
м* В рукописи оставлено место для завершения предложения.
,2* В рукописи: d. Последующие пункты также перенумерованы нами.
|3* поиск основания (лат.), логическая ошибка, состоящая в
базировании вывода на положении, нуждающемся в доказательстве.
м* Так в рукописи. Очевидно, в виду имеется среда.
,5* См. выше, с. 000.
,6* В рукописи: то.
'7* Так в рукописи.
,8* В рукописи: 4. а)
,в* В рукописи стоит знак параграфа, но сам параграф не проставлен, мы
даем в угловых скобках страницы настоящего издания.
2Ѳ* В рукописи: этот.
2,ф В рукописи: она.
22* В рукописи: оно.
23* В рукописи оставлено пустое место.
24* В рукописи: ее.
25* В рукописи внизу слева в квадратной рамке: Гераклит, Плотин,
Шопенгауэр о мировой воле. Коген и Наторп об Ursprung.
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ
'* Сомневаюсь, удалось ли мне приблизиться к тому, что разумел здесь
сам Аристотель (лат.)
7* Однако ведь во всяком случае необходимо (греч.)
3* В первом изд.. оно слишком мало.
4* Так в первом изд.
** В первом изд. в этом месте стоял номер примечания, но текст
соответствующего примечания отсутствует.
** В первом изд.. их.
7* В первом изд.: и при.
8* материя (греч.).
9* сущностность... самостоятельное (нем.)
'·* реальное... вещь... единичное существо (нем.).
и* в соответствующих местах (нем.).
І2* будет... есть (греч.)
13* издавать закон... обжаловать решение (греч.).
м* когда (греч.)
,а* из (греч.)·
'·* понятие которого извлечено из понятий (нем.).
,7* по своему понятию характерные особенности понятия стоят раньше
<нем,і
понятие которого, из которого абстрагировано понятие другого (нем.)
моменты... из понятий которых состоят понятия (нем.).
то, понятие чего лежит в основе понятия другого (нем.)
в логическом смысле они всегда предшествуют всякий раз, как их
логическое понятие составлено из иных, чисто логических понятий (φρ.).
30*
21*
22*
посредством абстрагирования... посредством определения (нем.).
23* посредством прибавления (нем.)... посредством добавления (фр.)...
более конкретное (нем.)
ПРИМЕЧАНИЯ
li I
907
24* связанное с определением выведенное (нем.),
25* просто по правде говоря (греч.).
2б* просто (греч.).
27* как-то. неким образом, каким-то образом, потенциально (греч.)
2в* в возможности... так согласно Указателю к Аристотелю, 209а (нем )
29* действенное благо неподвижно (греч.)
30* быть убежденными доводами как истинными (греч.)... вследствие
убежденности в истинности гераклитовского учения о том, что... (нем.).
31* В том, что учения Гераклита воспринимались как истинные и его
изречение, что... (нем.).
32* Посредством владевшего ими убеждения в истинности мнений
Гераклита (φρ.).
33* Поскольку они в том, что касается познания истины, дали себя
убедить рассуждениями Гераклита относительно того, что... (нем.).
3Ϊ* Поскольку в отношении вопроса истинности придерживались
гераклитовского учения (нем.).
35* с достаточным основанием... на пути строгих рассуждений (нем.)
36* виды... роды (нем.).
37* Родам отдельных вещей присваиваются соименные идеи, причем
помимо субстанций — также и прочим вещам, множество которых содержится
в едином понятии и пр. (лат.).
зв* Ибо для всякого единичного имеется что-то соименное и, в отделении
от сущностей... для других... вещей имеется единое, возвышающееся над
многим (нем.).
3** помимо и вне единичных субстанций (нем.).
40* И помимо субстанций имеются идеи также и для иного, что
составляет единство среди многого... родовые понятия (нем.).
41* Прежде всего, для каждого объекта принимается идея, носящая то же
самое имя, независимая от действительных субстанций (фр.)... (...сущности
(греч.)... сущности (нем.)); затем, существует идея, которая покоится. Такая,
которая, как бы велико ни было множество этих объектов (фр.) (...иных,·,
прочих (греч.)).
42* сущностей... прочего (греч.)... И не просто рядом с самостоятельной
сущностью, но также и для прочего, постольку, поскольку во множестве
имеется объединяющее понятие (нем.).
43* многое... сущности (греч.) (и далее, также н для иного имеется единое
во многом)... род (нем.).
44* каждого... прочих (греч.).
4β* отдельное (греч.).
46* общему (греч.).
47* согласно отдельному и согласно сущностям (греч.).
48* родительный предикативны« (лат.)... во многих... родов... сущностей
(...родовых) (греч.).
4Ѳ* Должен прибавиться момент уподобления образцу (нем.).
50* Должно быть присоединено то, в отношении к какой чувственной вещи
должна находиться идея (нем.).
б1* Прибавлено, что такое то, идеей чего она является (нем.).
"* чего является (греч.)
6в* в... относительно, согласно... в (греч.).
*4* что объединено в понятии... что находится в самостоятельной вещи...
все моменты субстанции (нем.) все элементы, которые входят в субстанцию
(ФР·)·
іъ* что находится в сущности... что находится в субстанции (нем.).
56* Слово «поверхность» является общим термином, который в качестве
рода прилагается ко всем частным поверхностям, каковым бы ни был© то,
о чем идет речь в данном случае (φρ.).
Б7* либо есть... или в единицах... или прямое... или счнслимые... или
какой-то является (греч.) (...аккузатив с инфинитивом (лат.)., необходимо же
(греч.) изъявительное [наклонение] (лат.)).
δ8* множество... многое и малое... превосходящее и превосходимое... дру
гое... иное... неравное (греч.).
(нем.}.
«I*
62*
63*
64*
(нем.).
65*
ПРИМЕЧАНИЯ
I—— \
908
поскольку он посредством его., уравнивания ввел двойственность
образуются... отбираются (греч.).
одни... единицы (греч.).
будут в... будут (греч.).
в этой же десятке... в самой десятке (греч.).
поскольку они будут идеями... поскольку идеи., должны существовать
67*
66*
69*
70*
71*
72*
73*
74*
75*
многое снимают (греч.).
по частям (нем.).
посредством разделения (нем.).
дать следовать числу за числом по раздельности (нем.),
причина количественности (нем.).
множественное действие (нем.).
количественное порождение (нем.).
качественно — как поэтапная количественность (нем.)
делать долгим (греч.).
еще (греч.).
одну и ту же потенцию, которая пригодна и для увеличения и для
уменьшения до бесконечности... (лат.).
76* некоторых... некоторого (греч.).
77* Поэтому идеи вовсе не могут быть причинами (нем.).
7ê* Далее, лишено смысла, чтобы число достигало лишь до десятки, между
тем как единица есть сущее в высшем смысле, есть формоопределяющее
начало для десятки (нем.).
7в* что чу
в-себе (нем.).
80* более сущим и идеей... чем десятка (нем.).
4|* столько-то и столько-то единиц (нем.).
82* первая... первая линия неделима (греч.).
83* оба... то и другое (вместе взятое) из материи и вида (греч.)
84* особое (нем.).
85* родительный (лат.) числа... позже... родов (греч.).
е6* в установлении формального принципа, который бы соответствовал
единству (лат.).
87* вне сомнения, это ученики Платона, Ксенократа и Спевсиппа (φρ.).
88* сами апории... эти апории (греч.).
efl* против (греч.).
*°* относительно (греч.).
91 * позже (греч.).
92* излагать (греч.).
93* не одноименное... одно по числу (греч.)
9А* далее... когда же (греч.).
9Ъ* и определенного (греч.).
96* является... видим (греч.).
*7* изменения... движения (греч.)
98* согласно отдельным производным формам (нем.).
··* установление... недоумение... поставить исследование (греч.)
1#0* ответ (греч.).
,#1* знать... выставлять (греч.)... понимание (нем.)
,#2* равное (греч.).
,#3* В первом изд.: он.
,#4* Зачем он это рассказывал в столь долгих словах? (греч.).
т* удвоительница (греч.)
,и* о.
It7* излагать в сочинении о природе (греч.).
,08* проявляться., быть в состоянии явиться... (греч.)
,#9* однородное (греч.).
м#* сводящие фигуры к числам (греч.)
,м* камешков (греч.).
|,а* образные качества (нем.)
ПРИМЕЧАНИЯ
I [
909
из* С сохранением истинного соотношения (нем.).
,и* убегать (греч.)
М5* подобное (греч.).
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА
'* В первом изд.: в нем.
2* ничто (греч.).
3* доказывает слишком много... ничего не доказывает (лат.).
4* в основном (лат.).
5* В первом изд.: ипостась основную.
б* Также и для него... логос является логосом души, а «сам» логос —
это также и сама душа (нем.).
7* В первом изд.: из более цельных.
8* В первом изд.: нее.
·* Текст в угловых скобках, отсутствующий в издании 1928 г., дается
нами по принадлежащему А. Ф. Лосеву полному изданию перевода трактата
Прокла («История античной эстетики», т. III, с. 517).
10* Так мы вместе с отображением всякой отдельной вещи создаем еще
и образ числа (нем.); ...образу всякой интеллигибельной сущности мы
приводим в соответствие образ числа (φρ.); ...таким образом одновременно с
каким угодно образом мы воспринимаем образ числа (лат.).
и* без того, чтобы он существовал (нем.); ...несуществующий город (φρ.);
..увеличиваем несуществующий (лат.).
12* субстанция, пребывать субстанциально (греч.).
13* И вот теперь если эта природа... бесконечна и это... так неограниченным
и неопределенным образом, она... могла бы вполне оказаться и тем и другим
(нем.).
м* В силу своей природы, бесконечное является этими вещами
неопределенным и бесконечным образом; как представляется, лишь при этом условии
оно является противоположностью (φρ.).
Ιδ* Если, таким образом, эта природа бесконечна, и то, что я только что
сказал, существует здесь бесконечно и неопределенно, то не удивительно, что то
и другое проявляется здесь (лат.)
'в* понятие или постижение предмета (нем.) ...определение или интуиция
вещи (фв.)
Не это, сказал бы я, разумное постижение, которое является неким
разумным основанием самой вещи, но некое узрение в нее саму (лат ) ♦
,в* В первом изд.: лик, который.
19* Предмет делает его (на мой взгляд, знание) здесь пребывающим
(имманентным), а не различным (нем.).
20* Сам предмет, который создает познание, [является его причиной],
не остается от него отличным (как познание материального предмета остается
отличным от этого предмета) (фр.)
21* Не познание склоняется к вещи, которую необходимо познать, а сама
вещь делает здесь так, что это познание оказывается от нее неотличным, в
отличие от того, как это обыкновенно случается при познании материальной
вещи (лат.).
22* Таким образом, среди тех, кто этому чрезмерно дивятся, вера
приобретается нами со стороны тех, что принимают участие (лат.).
23* Мы убеждаем изумляющихся людей посредством участвующих в
этом вещей (нем.)
24* Мы верим в существование вещей благодаря вере тех, кто ими
восхищается, поскольку они в них участвовали (φρ.).
25* Именно, мы имеем обыкновение заключать о величине и красоте этого
мира и положительно их утверждаем на основании любви души его самого к
нему; и даже на основании любви тех, что опираются на душу... по причине
определенной ее природы, а также и по той причине, что посредством ей
подобной природы возникает нечто ей подобное (лат.).
2б* Что касается красоты и величины умопостигаемого мира, то мы можем
о них судить на основании любви, которую душа испытывает к нему; и
ПРИМЕЧАНИЯ
-J 1—
910
если другие вещи испытывают любовь к душе... то это потому, что она сама
обладает интеллектуальной природой, и потому, что посредством нее прочие
вещи могут в определенной степени стать схожими с Разумом (φρ.).
27* Также и величина и красота его посредством любви души к нему, и
любовь других к душе становится для нас ясной на основании такой природы...
и из того обстоятельства, что она уподобилась той (нем).
2в* Не сможет в животном существовать... в разуме (φρ.).
29* согласно животному... разуму (лат.).
30* Таким образом, число должно было бы существовать в Первичном
Существе (φρ.).
ЗІ* Не происходит как попало (лат.)... Не на основании случайного
впечатления (нем.)... случайно (фр.)
32* который называется монадическим, то есть образованным из некоторых
единств (лат.).
33* которого называют числом, составленным из единств (φρ.).
34* так называемое монадическое (т. е. число) (нем., лат.).
35* по случайности (лат)... случайно (нем.).
36* простое преобразование, испытываемое нашей душой (φρ.).
37* поведение души (нем.).
за* душевный аффект (лат.)
Эд* как бы некоторый ум, воспринимаемый из самой вещи (лат.).
40* понятие, доставляемое этим объектом (φρ.).
4|* понятие из вещи (нем.).
42* прежде, чем скажет о другом, что одно является одним (лат.).
43* В первом изд.: то, поскольку] ·
44* когда в самих чувственных предметах различается согласно в большей
степени (лат.).
45* постепенно различаются (нем.).
4в* поскольку в сущем и едином заложено многое (нем.).
47* ибо в том, что является единым, существует также и одно, а потому
многое (лат.).
48* ибо необходимо, чтобы в сущем было одно, для того, чтобы было
многое (φρ.).
49* против того, что некоторыми называется единым, которые полагают
его в некотором отношении (лат.).
50* против высказывания отношения (нем.),
5І* По своей природе в некотором свойстве и отношении (лат.).
52* отношение (φρ.).
53* природное свойство (нем.).
54* пробегаете дискурсивным разумом (фр.)·
55* число нашей сущности (лат.).
5в* образующее нашу сущность число (фр.)... число, образующее нашу
сущность (нем.).
57* Перейти то, что не дозволено (лат.).
Ьі* неизмеримо длинна (нем.).
59* Мышление обладает чисто абстрактной сферой, живое же существо
это сфера [конкретного] живого существа (нем.).
сама же интеллигенция обладает чистой сферой (лат.).
6І* чистая и простая (φρ.).
β2* обладающая нетронутой жизненной силой (лат.),
ί3* полна силы и энергии (φρ.).
644 пронизывающая сила жизни, обладающей жизнью (нем.).
ѢЬ* В первом изд. пропуск. Перевод наш.
911
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин 370
Александр Афродисийский 569,
581, 591, 679, 680, 682, 683,
685—687, 690, 693, 694, 696,
698—705, 707—709, 711
Анаксагор 604, 641, 668, 684,685.
689, 690, 707
Андреев Л. 45, 82
Аристипп 683
Аристотель 121, 310, 325, 357, 424,
464, 466, 528—531, 533—554,
556—591, 593—598, 600, 601,
603—621, 623—630, 632, 633,
659, 674, 676—685, 687—696,
698—712, 755, 795, 840
Афанасий Великий 111
Баратынский Е. А. 54—57
Бах И. С. 486
Бек А. 531
Беккер И. 686, 687
Белый А. 54, 55, 57
Вельский В. И. 181
Бёме Я. 369
Бендер Г., Bender H. 532, 677,
679, 681, 684, 686, 687, 689,
694, 696, 698, 700
Бергсон А. 375
Бетховен Л. 23, 104
Блонский П. П. 715, 716
Богораз (Тан) В. Г. 92
Бодлер Ш. 179
Бониц Г., Bonitz H. 529—532, 569,
570, 580, 583, 592, 652, 670,
677—687, 689—700, 702—706,
708, 710, 711, 756
Борис Годунов 63
Бруно Дж. 140
Будда 85
Буйе H., Bouillet N. 717, 741,
844, 846, 848, 851, 852, 854,
855, 860, 863—865, 869, 870,
872—874
Вагнер Р. 45, 104
Василий Великий 111, 357
Вашро Э. 716
Велльман Э., Wellmann E. 529,
677, 683
Венедикт преп. 183
Виндельбанд В. 377
Владиславлев М. И. 715
Вольтер Ф. М. 273
Воррингер В. 101
Вундт В. 11, 160
Гартман Э. Ф. 360, 715
Гегель Г. В. Ф. 17, 116, 200, 236,
369, 374, 377, 383, 384, 394,
396, 401, 407, 423, 424, 433,
434, 436, 441, 450, 457, 458,
461, 464, 466, 467, 478, 595, 613
Гераклит 408, 427, 431, 519, 614,
639, 674, 684, 794
Гербарт И. Ф. 10
Герман, еп. капуанский 183
Гермипп 707
Гесиод 707
Гёте И. В. 48, 50
Гиппиус 3. Н. 128
Гоголь Н. В. 33, 63
Гомер И, 39, 707
Гофман Э. Т. А. 49, 63
Граммель Р. 208
Григорий Богослов 357
Григорий Нисский 357
Григорий Синаит 180
Гримм Я. 58
Гуссерль Э. 236, 466, 520, 595
Декарт Р. 16, 17
Демокрит 639, 653
Дидро Д. 273
Диоген Лаэрций 683—685, 707
Дионисий Ареопагит 238, 242,
243, 245, 256, 257, 357, 363,
365, 366, 368, 374, 376, 381,
385, 396
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
f—— I
912
Дмитрий Ростовский 183
Достоевский Ф. М. 80, 85, 180,
182, 194
Древе А. 716
Евклид 20
Евстафий 703
Иванов Вяч. 49
Игнатий, еп. (Брянчанинов) 98
Иисус Христос ПО, 138, 139, 181,
191, 221
Илия, пророк 139
Индж В. Р. 716
Иоанн Богослов 203
Иоанн Дамаскин 357
Иоанн Златоуст 357
Иоанн Лествичник 93, 94, 149
Исаак Сирин 202
Казавбон (Казобон) И. 683
Кандинский В. В. 102
Кант И. 9, 17, 60, 131, 169—171,
216,236, 337,373, 375, 384, 407
Кантор Г. 394
Кассирер Э. 28, 29, 85
Кирхгофф Α., Kirchhoff Α. 717,
726, 741, 862
Кирхман И. Г., Kirchmann J. Η. ν.
532, 571, 677, 679, 681, 688,
689, 691, 692, 694, 696, 698
Кирхнер К. 715
Кифер О., Kiefer О. 717, 726
Коген Г. 236, 517, 519
Кольцов А. В. 44
Конт О. 14
Конфуций 86
Коперник Николай 146
Крейцер Ф., Creuzer F. 831, 841,
862
Крист В., Christ W. 677, 688, 696
Крылов И. А. 38
Ксенократ 581, 643, 649, 694, 698,
708
Ксенофонт 684, 685
Курнаков Н. С. 210
Лавров В. М. 179
Лассон Α., Lasson Α. 52Θ, 531,
532, 677, 681, 684—686, 688,
689, 691, 696
Лацарус M. 10
Левн-Брюль Л. 22, 23
Левкипп 653
Лермонтов М. Ю. 50, 69
Лихтенштадт В. О. 48
Лоренц X. А. 21, 209
Лосев А. Ф. 7, 77, 532
Лютер М. 369
Максим Исповедник 357
Максимов С. В. 179
Малеванский Г. В. 717
Марк Подвижник 83, 84
Матушевский И. 179
Мачинский М. В. 207
Мелис Г. 716
Могила Петр 197
Мозер Г. Г., Mozer G. H. 841, 862
Моисей 239
Мочалов П. С. 43
Мюллер Г. Ф., Müller H. F 717,
726, 841, 844, 846, 848, 851,
852, 855, 856, 860, 863—865,
870, 872, 873, 875
Мюллер M. 360
Наполеон Бонапарт 332
Наторп П., Natorp P. 236, 518,
519, 794
Никита Стифат 257
Николай Кузанский 357, 366—
369, 374, 381, 384, 385
Новалис 44
Нон, еп. илиопольский 148
Ньютон И. 18—22
Овсянико-Куликовский Д. Н. 11
Парменид 598, 662, 757
Платон 17, 115, 121, 192, 357, 362,
407, 424, 528—530, 533—536,
541, 543—553, 559, 561, 562,
564, 565, 578—580, 582, 583,
585, 587, 588, 590, 592, 594—
601, 603, 605, 606, 609—611,
613, 614, 616—621, 623, 624,
627, 629, 642, 643, 645, 654,
663, 667, 668, 675, 677—679,
683—685, 687, 690—6Θ2, 695—
698, 703, 704, 706, 708, 727,
729, 736, 753, 756, 790, 791,
793, 794, 808, 818, «40, 847,
870 873
Плотин 18, 53, 115, 121, 240, 361,
424, 431, 519, 528, 530, 587,
588, 600, 714—725, 732—742,
744—748, 751—756, 763—766,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
913
768, 770—774, 776—782, 784,
785, 788—798, 801, 802, 805—
809, 812, 814, 835, 839—841,
843, 844, 846, 852, 854, 855,
864, 873
По Э. 63
Попов П. С. 85
Прокл 235, 240, 366, 424, 528, 770,
777, 794, 795, 807—815, 820,
824, 825, 827, 832, 833, 835,
836, 838—840
Пушкин А. С. 44, 54—57, 63
Рёт 707
Риккхер 681, 691
Римский-Корсаков Н. А. 181
Рихтер А. 715
Розанов В. В. 76, 78, 146
Рольфес Э., Rolfes E. 532, 569,
570, 679, 681, 684—692, 694,
696—698, 700, 704, 710, 711
Рубинштейн Η. Γ. 44
Рязановский Ф. А. 179
Сабашникова М. В. 371
Секст Эмпирик 683
Сен-Илер (С.-Илер) Ж. Б., Saint-
Hilaire J. В. 532, 677, 681, 684,
686, 689, 698, 701, 716
Симон Ж. 716
Симонид 667, 706
Симплиций 703
Сириан 591, 656, 686, 696, 707
Сократ 548, 614, 639, 656, 674,
684, 685
Соловьев Вл. С. 49
Спевсипп 581, 643, 649, 675, 694,
698, 705, 706, 708
Спенсер Г. 14
Стефан 285
Сузо Г, 369
Тарабукин Н. М. 100, 103
Таулер И. 369
Тейлор Т., Taylor Th. 717, 726
Тейлор Э. Б. 14
Тидеман Д. 715
Тренделенбург Α.,
Trendelenburg Α. 681, 702
Тютчев Φ. И. 54—57
Фегард Л. 209
Феопомп (Теопомп) 707
Феофан, еп. Кронштадтский 161
Ферекид 668, 707
Фичино М. 717, 726, 795, 841, 844,
846, 848, 851, 852, 854, 855,
860, 862—865, 870, 872—874
Фихте И. Г. 18, 116, 131, 373—
377, 383—385, 431, 434, 519
Флоренский П. А. 48, 50
Фолькман Р., Volkmann R. 841,
862
Фома, апостол 138
Франковский А. А. 85
Фрейд 3. 85
Целлер Э., Zeiler Ed. 677,679, 708
Чайковский П. И. 44
Шагал М. 102
Шаляпин Ф. И. 105
Швеглер Α., Schwegler A. 532,
564, 569, 583, 591, 613, 676,
677—679, 681, 683, 684, 686,
687, 689— 700, 703—707, 709—
712
Шеллинг Φ. Β. 37, 116, 236, 357,
374, 377—379, 381—385
Шлейермахер Φ. 377
Шопенгауэр А. 431, 519
Штейнталь X. 10
Щепкин М. С. 43
Щербатской Ф. И. 360
Эвдокс 641, 690, 707
Эврит 607, 671, 711
Эйнштейн А. 22, 209
Экгарт (Экхарт) И. 357, 369—
374, 376, 377, 384, 385
Энгельгардт И. Г. 717
Эмпедокл 604, 668, 671, 685, 707,
710
Э пиха ρ м 656, 699
Ямвлих 361, 424, 777, 795, 814
Bender H. см. Бендер Г.
Bergk Th. 706
Biese Fr. 679
Brandis С. А. 676
Bréhier E. 717, 726
Bouillet N. см. Буйе Н.
Büttner 371
Christ W. см. Крнст В.
Creuzer F см. Крейцер Φ.
Deussen P. 357
Didot 677, 7І7, 862
Gans E. 677
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
f ι ΐ
914
Portus E. 830
Ritter Η. 677
Robin L. 677, 688
Röhr J. 14
Rolfes Ε. см. Рольфес Э.
Ross W. D. 677
Мог. 677
Hengstenberg 678
Kiefer О. см. Кифер О.
Kirchhoff А. см. Кирхгофф А.
Kirchmann J. Η. ν. см. Кирх-
ман И. Г.
Kluge О. 677
Lasson А. см. Лассон А.
Lindsay J. 677
Lorenz Α. Ο. F. 699
Mackenna G. 717
Mead G. R. S. 717
Migne J. P. 365
Mozer G. H. см. Мозер Г. Г.
Müller E. 683
Müller Η. F. см. Мюллер Г. Φ.
Mutschmann H. 683
Saint-Hilaire J. В. см. Сен-Илер
Ж. Б.
Seh wegler А. см. Швеглер А.
Siebeck Η. 677
Spielmann Α. 688
Stahr A. 679
Stallbaum J. H. 703
Stenzel J. 677
Taylor Th. см. Тейлор Т.
Trendelenburg А. см. Тренде-
ленбург А.
Volkmann R. см. Фолькман Р.
Waitz Th. 679, 681, 690, 695, 700,
701, 704, 708
Wellmann Ε. см. Велльман Э.
Wilbrandt R. 677
Natorp Р. см. Наторп П.
Nohl H. 103
Zeller Ed. см. Целлер Э.
J I
915
СОДЕРЖАНИЕ
ДИАЛЕКТИКА МИФА 5
Диалектика мифа 6
Предисловие (6—7)
Вступление (8)
I. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел
(8-10)
II. Миф не есть бытие идеальное (10—14)
III. Миф не есть научное и, в частности, примитивно-научное
построение (14—30). 1. Определенная мифология и определенная наука могут
частично совпадать, но принципиально они никогда не тождественны
(14—16). 2. Наука не рождается из мифа, но наука всегда мифологична
(16—20). 3. Наука никогда не может разрушить мифа (20—22). 4. Миф
не базируется на научном опыте (22—24). 5. Чистой науке, в
противоположность мифологии, не нужна ни абсолютная данность объекта (24—
25), ни абсолютная данность субъекта (26), ни завершенная истинность
(26—28). 6. Существует особая мифологическая истинность (28—30)
IV. Миф не есть метафизическое построение (30—36). 1.
Метафизичности мешает посюсторонность и чувственность мифа (30—33). 2.
Метафизика — научна или наукообразна, мифология же — предмет
непосредственного восприятия (33). 3. Эта особенность мифологии
универсальна (включая христианство) (33—34). 4. Мифическая отрешенность
и иерархийность (34—36)
V. Миф не есть ни схема, ни аллегория (36—57). 1. Понятие
выразительной формы (36). 2. Диалектика схемы, аллегории и символа (37—
43). 3. Разные слои символа (43—46). 4. Примеры символической
мифологии (46—57): а) учение о цветах у Гёте (46—48) и b) y Флоренского
(48—50); с) объективность цветной мифологии (50—51); d)
символическая мифология лунного света, электричества и др. (51—54); е) природа
у Пушкина, Тютчева и Баратынского, по А. Белому (54—57)
VI. Миф не есть поэтическое произведение (57—71). 1. Сходство
мифологии с поэзией в области выразительных форм (58). 2. Сходство в
области интеллигенции (58—60). 3. Сходство с точки зрения
непосредственности (60). 4. Сходство в отрешенности (60—61). 5. Глубочайшее
расхождение в характере отрешенности (61—62). 6. а) Поэзия возможна
без мифологии (62—63), и Ь) мифология возможна без поэзии (63—65).
7. Сущность мифического отрешения (65—67). 8. Принцип мифической
отрешенности (67—71): а) новая форма объединения вещей (67); Ь)
изначальная инстинктивно-биологическая реакция в мифе на мир (67—
69); с) все на свете есть миф (69—71)
СОДЕРЖАНИЕ
—I I—
916
VIL Миф есть личностная форма (71—96). 1. Резюме предыдущего
(71—73). 2. Основная диалектика понятия личности (73—75). 3. Всякая
живая личность есть так или иначе миф (75—76). 4. Мифологически-
личностная символика (76—88) : а) символика и мифология полов (76—
79); Ь) вещей домашнего обихода, болезней (79—80) ; с) поступков (80—
81); d) «физиологических» процессов и «воображения» (81—85); е)
трепещущая неоднородность мифического времени и ее различие в разных
религиях (85—88). 5. Очерк диалектики мифического времени (88—93)
6. Сновидения (93—94). 7. Выход к новому углублению понятия мифа
(94—96)
VIII. Миф не есть специально религиозное создание (96—106). 1
Наиболее общее сходство и различие мифологии и религии (96—98). 2.
Энергийность и субстанциальность религии (98—99). 3. Лик и личность
в мифологии; примеры из типов живописного пространства (99—103)
4. Религия не может не порождать из себя мифа (103—106)
IX. Миф не есть догмат (106—144). 1. Миф — историчен, догмат —
абсолютен (106—107). 2. Мифический историзм (107—109). 3. Фиксация
понятий религии, мифологии и догматического богословия (109—112). 4.
Мифология и догматика веры и знания (112—118). 5. К мифологии
материализма (118—123): а) вне-логический характер опоры на ощущение
(118—119); Ь) различные понимания материи (119—120); с)
субъективизм (120—121); d) материя как принцип реальности, физические теории
(121 —122); е) абстрактная метафизика, мифология и догматика в
материализме (122—123). 6. Буржуазная мифология материализма (123—
128). 7. Типы материализма (128—131). 8. Мифология и догматика в
учениях о I. субъекте и объекте (131—133), II. идеей материи (133—134),
III. сознании и бытии (134—135), IV. сущности и явлении (135—136),
V. душе и теле (136—139), VI. индивидуализме и социализме (139), VII.
свободе и необходимости (139—140), VIII. бесконечности и конечности
(140—141), IX. абсолютном и относительном (141—142), X. вечности и
времени (142—143), XI. целом и части (143), XII. одном и многом (143—
144). 9. Заключение (144)
X. Миф не есть историческое событие как таковое (144—151). 1.
Природно-вещественный слой истории (145—146). 2. Слой сознания и
понимания (146—150). 3. Слой самосознания или слова (150—151)
XI. Миф есть чудо (151—183). 1. Вступление (151—153). 2. Что не есть
чудо? (153—160): а) чудо не есть просто проявление высших сил (154),
Ь) чудо не есть нарушение «законов природы» (154—160). 3. Другие
теории чуда (160—161). 4. Основная диалектика чуда (161—169): а)
встреча двух личностных планов (161), Ь) которые могут быть в пределах
одной и той же личности (161—162); с) это — нланы
внешне-исторический и внутренно-замысленный (162—164); d) формы их объединения
(164—166); е) чудо — знамение вечной идеи личности (166—169). 5.
Целесообразность в чуде в сравнении с другими типами целесообразности
(169—172) : а) Кант о логической и эстетической целесообразности (169—
171); Ь) понятие личностной целесообразности (171—172). 6.
Оригинальность и специфичность мифической целесообразности (172—177): а)
отличие от сферы частичных функций личности (172—173); Ь) личность —
неделима (173); чудо не есть ни с) познавательный (173—175), ни d)
волевой (175—176), ни е) эстетический синтез (176—177); f) резюме (177).
7. Реальное бытие есть разная степень мифичности и чудесности (177—
183): а) память о вечности (177—178) и Ь) ее отдельные проявления в
СОДЕРЖАНИЕ
\тттш \
917
великом и в малом (178—183); с) не степень чудесности, но одинаковая
чудесность и лишь разница ее объектов (183)
XII. Обозрение всех диалектических моментов мифа с точки зрения
понятия чуда (183—194). 1. Диалектическая необходимость (184). 2.
Неидеальность (184—185). 3. Вне-научность и специфическая истинность
(185). 4. Не-метафизичность (185—186). 5. Символизм (186—187)
6. Отрешенность (187). 7. Миф и религия (188—192): а) диалектическое
место науки, морали и искусства (188—189); Ь) параллельная диалектика
в мифе — богословия, обряда и священной истории (189—190); с)
сущность религии — не мифологии, но — таинства (190—191); d) религия —
задний фон мифологии (191 — І92). 8. Сущность мифического историзма
(192—194)
XIII. Окончательная диалектическая формула (194—198)
XIV. Переход к реальной мифологии и идея абсолютной мифологии
(198—216). Вступление (198—200). 1. Диалектика есть мифология, и
мифология есть диалектика (200—201). 2. Обзор синтезов абсолютной
мифологии (201—204). 3. Продолжение (204—212). 4. Сводка (212).
5. Несколько примеров на цельные мифы из абсолютной мифологии
(212—216)
МИФ-РАЗВЕРНУТОЕ МАГИЧЕСКОЕ ИМЯ 217
I. Определение имени (219—221)
II. Место имени (221—223)
III. Имя сущности и сущность (223—226)
IV. Имя сущности и инобытие (тварь) (226—231)
V. Иерархийная природа имени (231—232)
ПЕРВОЗДАННАЯ СУЩНОСТЬ 233
2. Понятие ангела (234—239)
3. Диалектика бесплотных сил (239—243)
4. Символика бесплотных сил (243—256)
5. Символика бесплотных сил (продолжение) (256—262)
АБСОЛЮТНАЯ ДИАЛЕКТИКА —АБСОЛЮТНАЯ
МИФОЛОГИЯ 263
САМОЕ САМО 299
I. <Вещь> (300—397)
I. Вещь не есть не-вещь (300—321)
1. Вещь не есть сознание вещи (300—303)
2. Вещь не есть ни материал вещи, ни ее форма, ни соединение
того и другого (303—311)
3. Вещь не есть ни один из ее признаков, ни все ее признаки,
взятые вместе (311—314)
4. Я, мир и Бог также не суть их собственные признаки (314—
321)
II. Вещь есть сама вещь (321—356)
5. Вещь ояределима только из себя самой (321—331)
6. Всякая вещь есть предмет бесчисленных интерпретаций
(331—335)
СОДЕРЖАНИЕ
918
7. Символическая основа всех интерпретаций самого самого
(335—356)
III. Из истории учения о самости (356—397)
8. Несколько примеров из истории мысли (356—384)
9. Заключение (384—397)
II. Бытие (398—463)
Вступление (398—399)
I, Тайна первого зачатия мысли (399—408)
II. Общая структура первого смысла (408—453)
1. Бытие, небытие, становление (408—432)
2. Ставшее и для-себя-бытие (432—442)
3. Эманация (442—453)
III. Значение первого символа и переход к дальнейшему (453—463)
III. Сущность (464—470)
1. Вступление и разделение (464—470)
IV. Смысл (471—526)
1 Вступление (471—473)
2. Отграничения (473—484)
3. Первая установка. Смысл есть различие и тождество (484—491)
4. Диалектика тождества и различия в сфере смысла (491—506)
5. Противоречие, противоположность и разность (506—514)
6. Смысловое «происхождение* (514—520)
7. Эйдос (520—526)
КРИТИКА ПЛАТОНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ 527
Предисловие (528—532)
1. Вступительные замечания (533—534)
2. Разделение XIII книги «Метафизики» (535)
3. 11 аргументов против «математического предмета» (535—541)
4. Их сводка (541—543)
5. Собственное учение Аристотеля о математическом предмете (543—
548)
6. Критика «идей» Платона (548—551)
7. Продолжение (551—554)
8. Классификация учений об идеальных числах (554—556)
9. Счислимость и несчислимость (556—558)
10. Критика абсолютной несчислимости (558—567)
11. Критика прерывной счислимости (567—577)
12. Обобщение обеих критик (577—581)
13. Критика других теорий (581—583)
14. Критика детальных моментов платонической теории числа (583—590)
15. Вопрос о конце XIII книги (590—592)
16. Критика учения о принципах (593—601)
17. Продолжение (601—609)
18. Обобщение критики учения о принципах (609—612)
19. Общая характеристика критики платонизма у Аристотеля (612—
632)
«Метафизики» Аристотеля книги XIII—XIV (перевод) (633—712)
Книга XIII (633—658). Вступление (гл. I) (633—634). I. О
математических предметах (гл. 2—3) (634—638). II. Об идеях (гл. 4—5) (639—
642). III. Об идеальных числах (гл. 6—9) (642—655). Заключение (655—
658)
Книга XIV (659—673)
СОДЕРЖАНИЕ
919
Обзор содержания; издания, литература и примечания (674—712)
I. Общий обзор содержания XIII и XIV книг «Метафизики»
Аристотеля (674—676)
IL Издания, переводы и литература (676—677)
III. Примечания к переводу XIII книги (678—701)
IV. Примечания к переводу XIV книги (701—712)
ДИАЛЕКТИКА ЧИСЛА У ПЛОТИНА 713
I. Анализ трактата Плотина «О числах» (714—839)
Вступительные замечания (714—719)
I. Красота оформленного множества и безобразие
бесформенности (720—723)
II. Число не есть абсолютная беспредельность (723—735)
III. Число не есть чувственная вещь (736—738)
IV Число не есть субъективно-психический процесс и относится
к чистому уму (739—745)
V Число не есть только спутник ума, но оно — ипостасийно
(745—748)
VI. Плотин о трех основных ипостасях (748—752)
VII. Отношение числа к каждой из трех ипостасей. Число как
принцип умной кате гори альности (752—773)
VIII. Продолжение (773—781)
IX. Число и количество (781—785)
X. Умная бесконечность числа. Критика учений Аристотеля и
перипатетиков (785—796)
XI. Число как организующий принцип вечной жизни мирового
целого (796—797)
XII. Итоги философии числа у Плотина (797—806)
XIII. Философско-мифологическая концепция числа и Прокла
(806-835)
Вступление (806—808). 1. Миф как умный символ (808—809).
2. Диалектика Прокла (809—812). 3. Боги суть числа (812—
818). 4. Принцип различия богов-чисел (818—824). 5.
Совершенство, благость и простота актуальной бесконечности (824—
829). 6. Интеллигенция (829—831). 7. Сущность эманации
(831—835). 8. Классификация божественных чисел (835—839)
IL Трактат Плотина «О числах» (перевод и примечания) (840—876)
Примечание к переводу (840—841)
Вступление (841—843)
I. Отрицательное учение о числе (843—851): а (843—847),
b (847), с (848—850), d (850—851)
IL Положительное учение о числе (852—860): а (852—853),
b (853—860)
III. Критика других учений (860—864)
IV. Положительное учение о числе (864—874): а (864—867),
b (867—868), с (868—871), d (871—874)
Заключение (874—876)
ПОСЛЕСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ 877
Л. Л. Гоготишвили. Коммуникативная версия исихазма .... 878
В. Я. Троицкий. О смысле чисел 894
Примечания 904
Указатель имен 911
Лосев А. Ф.
Л79 Миф — Число — Сущность/Сост, А. А. Тахо-
Годи; Общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханько-
ва.—М.: Мысль, 1994.—919 с, 1 л. портр.
ISBN 5-244-00747-5
Третья из серии книг, выпускаемых в связи со 100-летним юбилеем
замечательного русского философа и филолога, включает его работы
20-х — начала 30-х годов. Из них только «Диалектика мифа» и
«Первозданная сущность» были сравнительно недавно переизданы. «Критика
платонизма у Аристотеля» и «Диалектика числа у Плотина» давно стали
библиографической редкостью. Остальные работы (составляющие
большую часть тома) издаются впервые. Главные темы сочинений — миф
как составная часть культуры и проблема числа в античности в
сравнении с современным культурным сознанием.
ББК 87.3(2)
Научная
Алексей Федорович Лосев
МИФ — ЧИСЛО — СУЩНОСТЬ
Заведующая редакцией
Л. В. Литвинова
Редактор
А. В. Матешук
Младшие редакторы
Τ В. Евстигнеева, А. Б. Красавина
Оформление художника
В. А. Королькова
Художественный редактор
Е. М. Омельяновская
Технический редактор
В. Н. Корнилова
Корректоры
Л. Ю. Л ас ь кова, 3. Η. Смирнова
ЛР Ѣ 010150 от 25.12.91
Сдано в набор 19.10.93. Подписано в печать 08.07.94. Формат 84X108'/зі.
Бумага типогр., № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л.
48,3. Усл. кр.-отт. 48,75. Уч.-изд. л. 57,28. Тираж 20 000 экз. Заказ № 53Ѳ.
Издательстю «Мысль».
117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати.
197110. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.








![[Вступление.] Диалектика мифа
I. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел](https://djvu.online/jpg/S/3/o/S3oTIGz6NZ8US/009.webp)