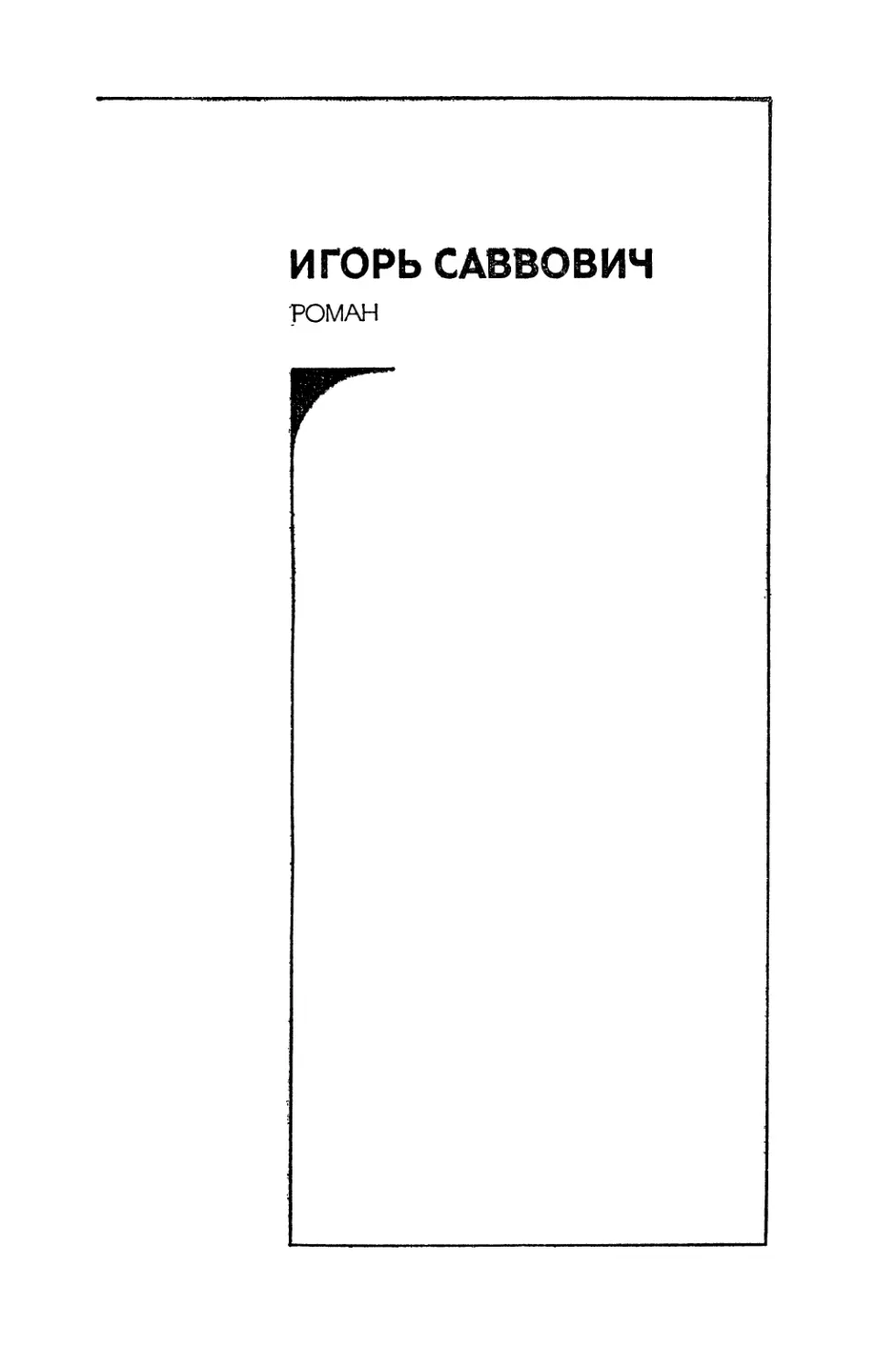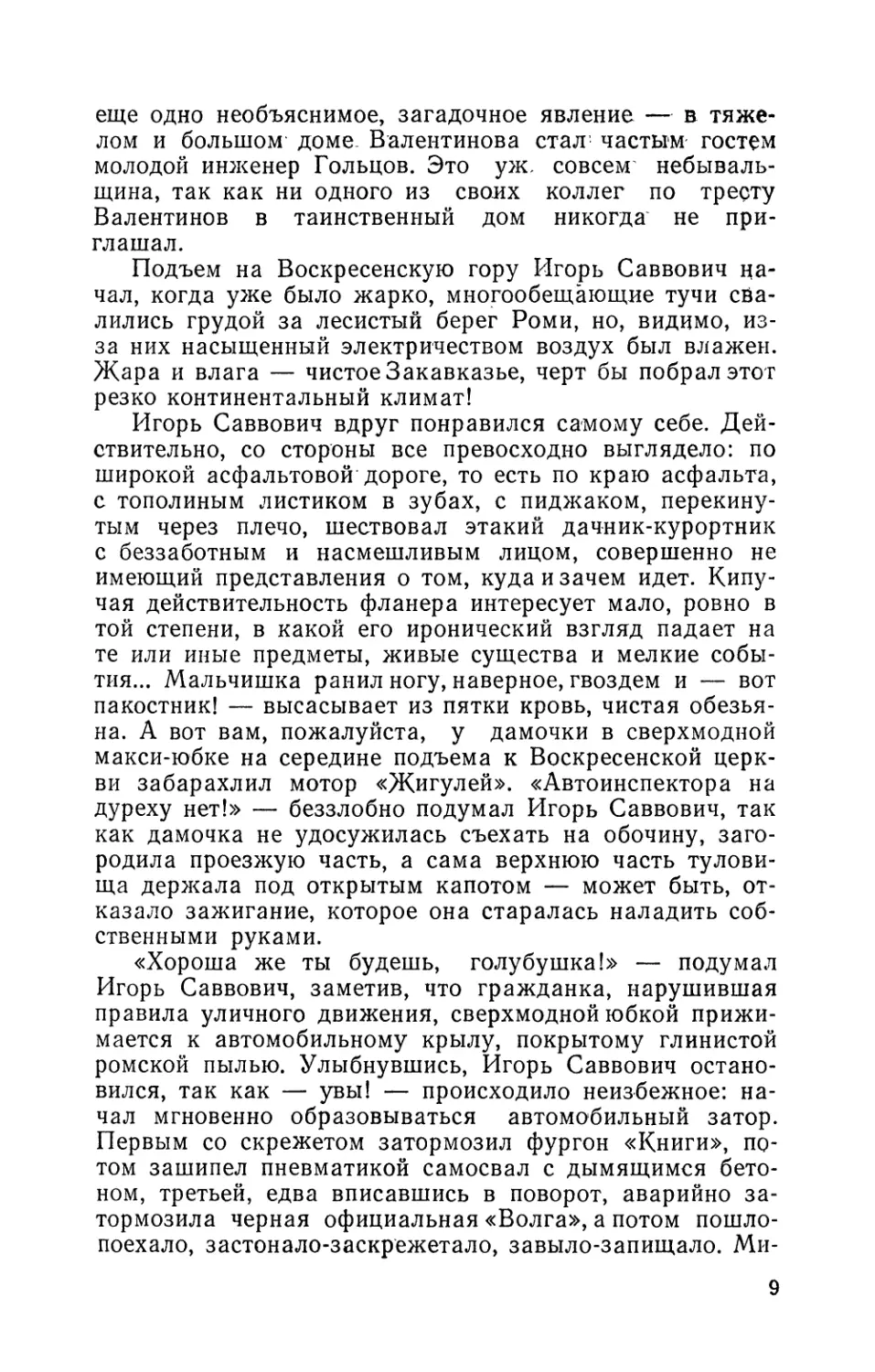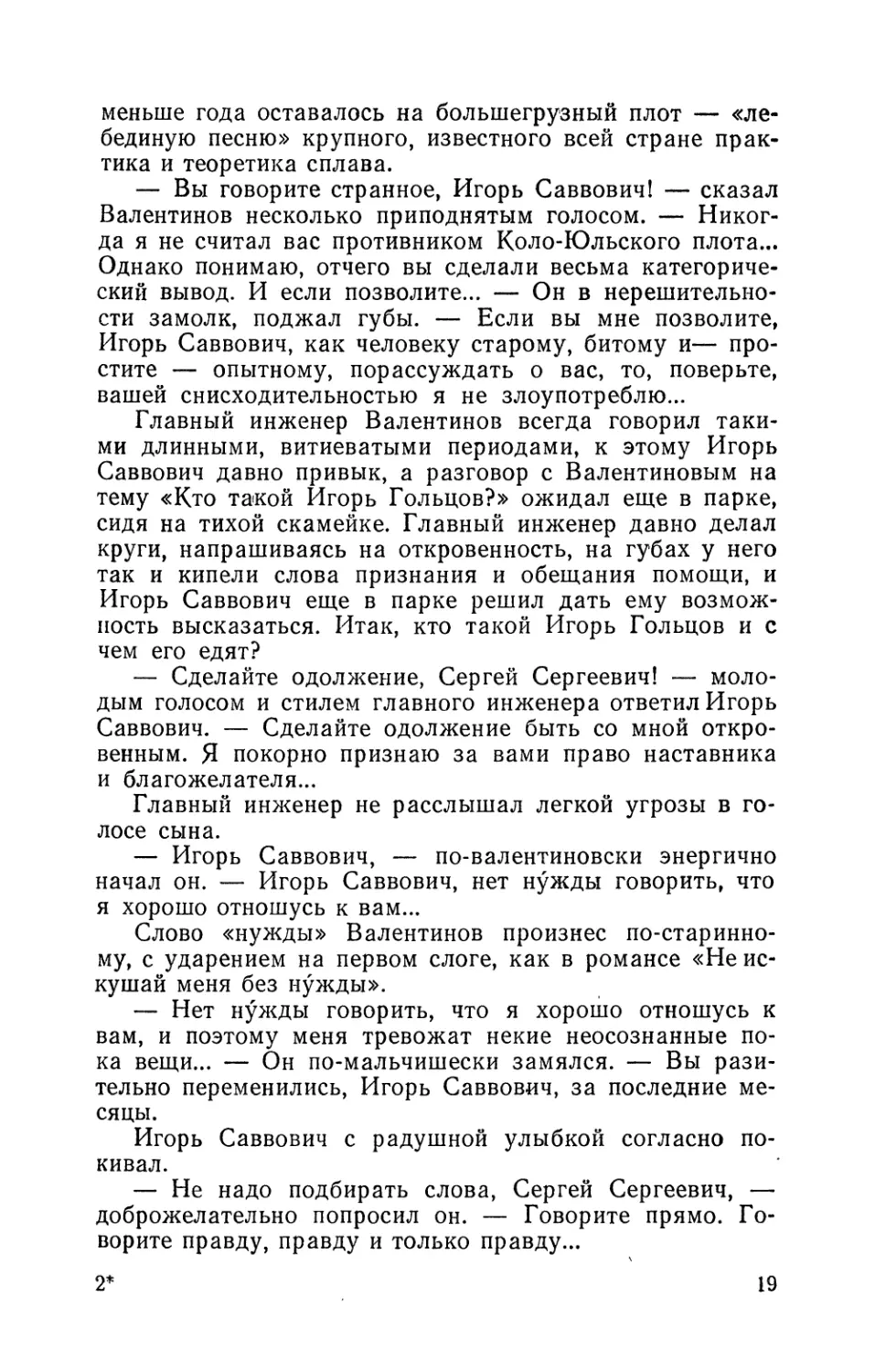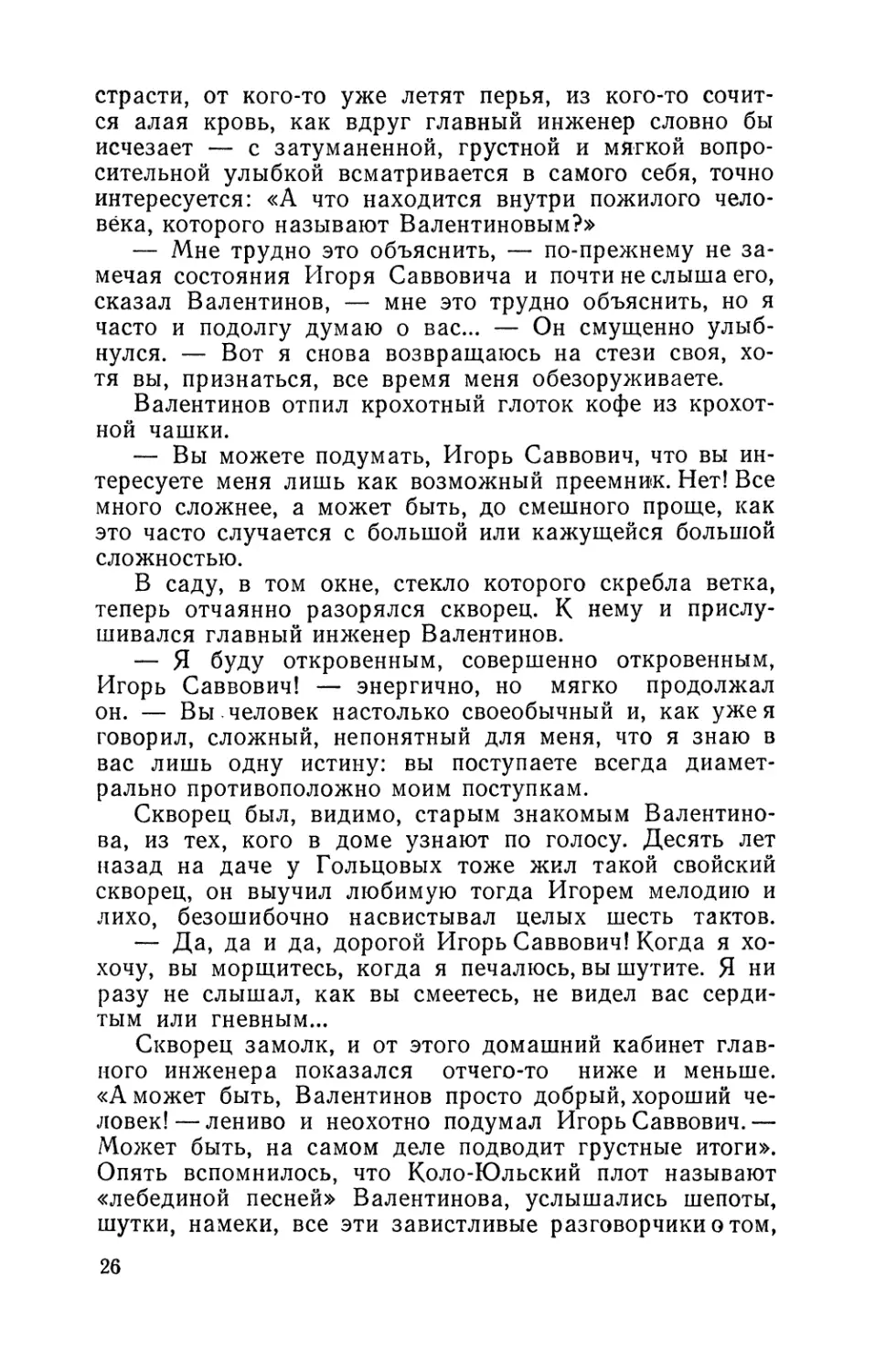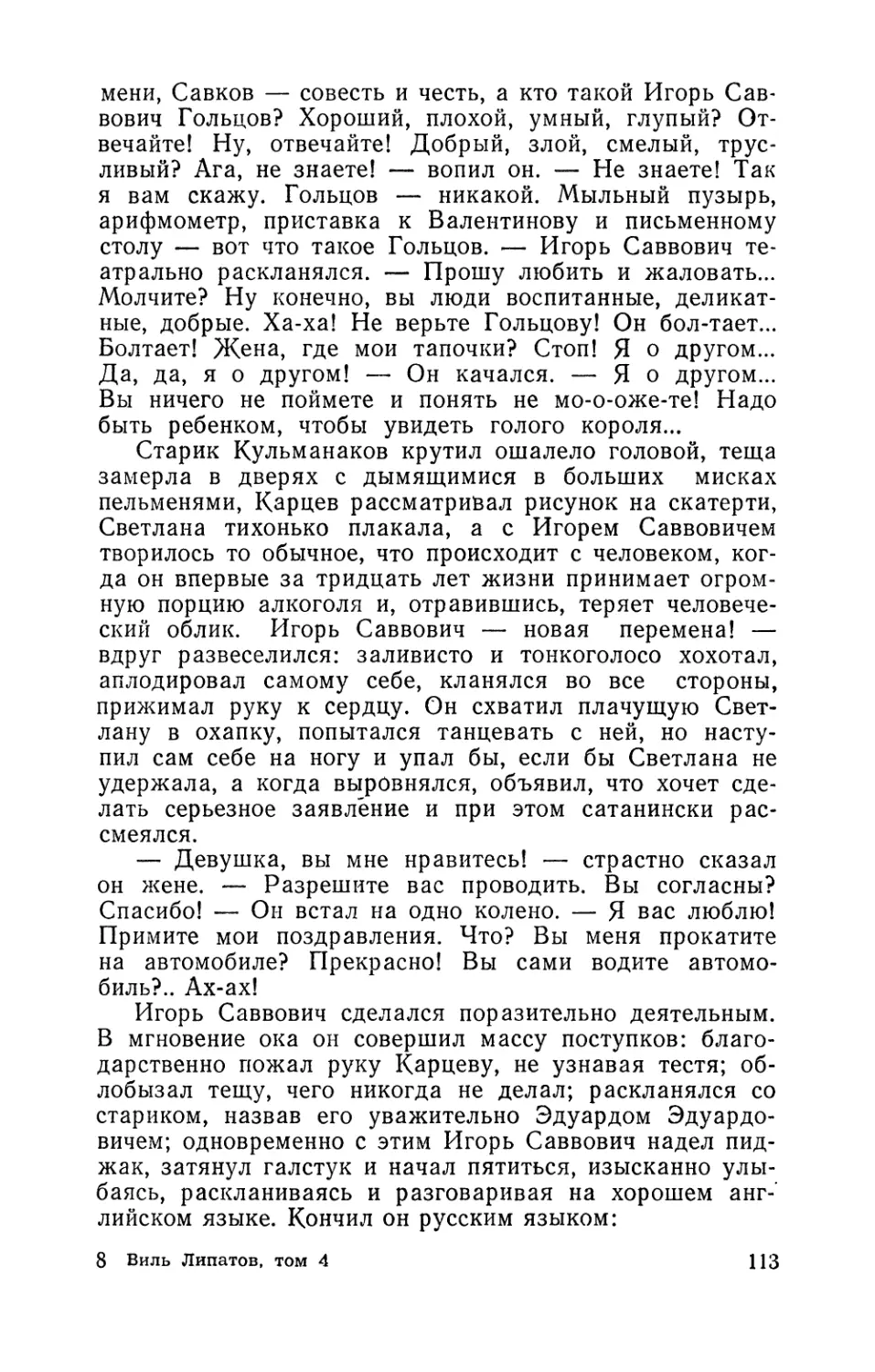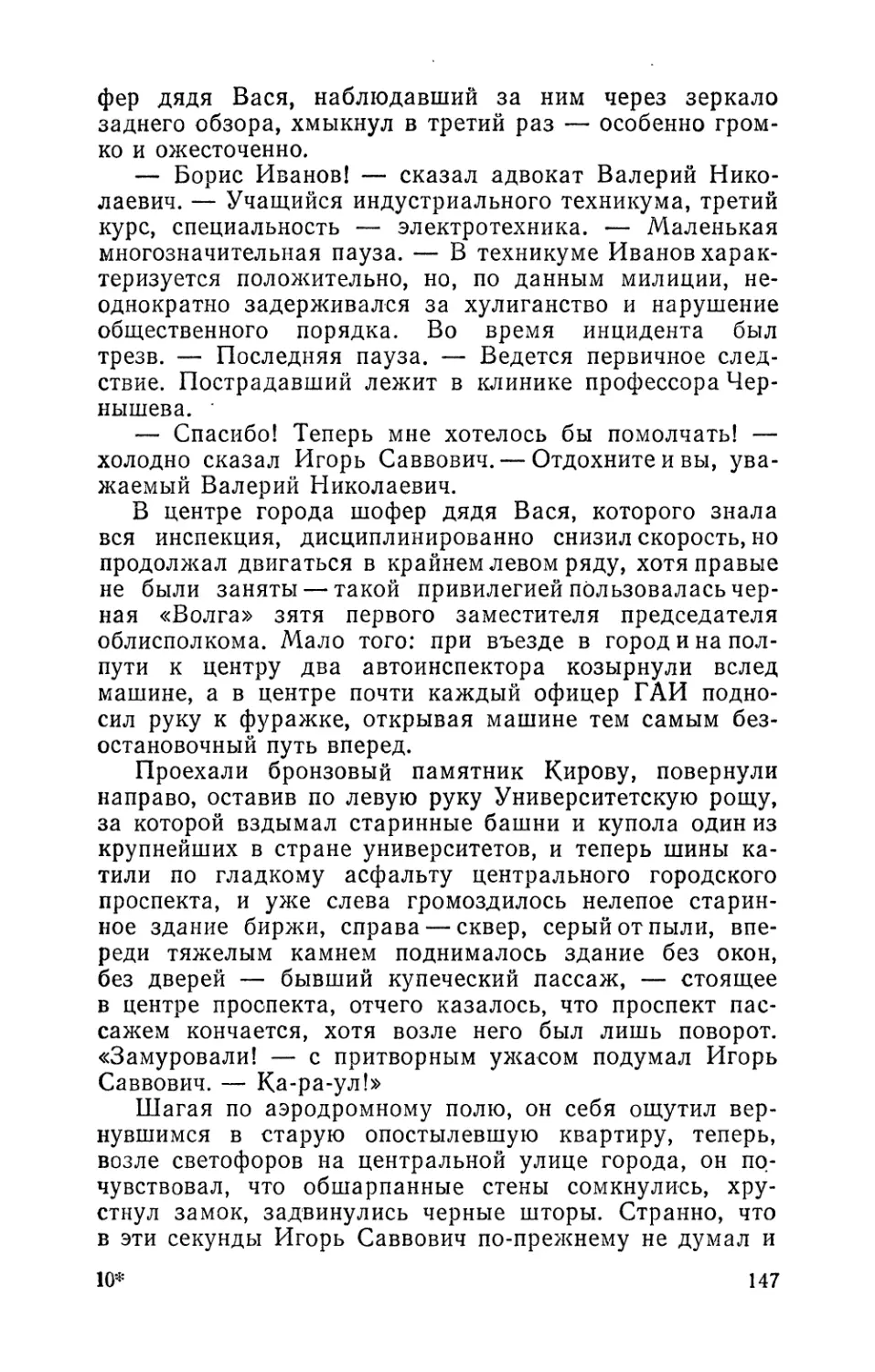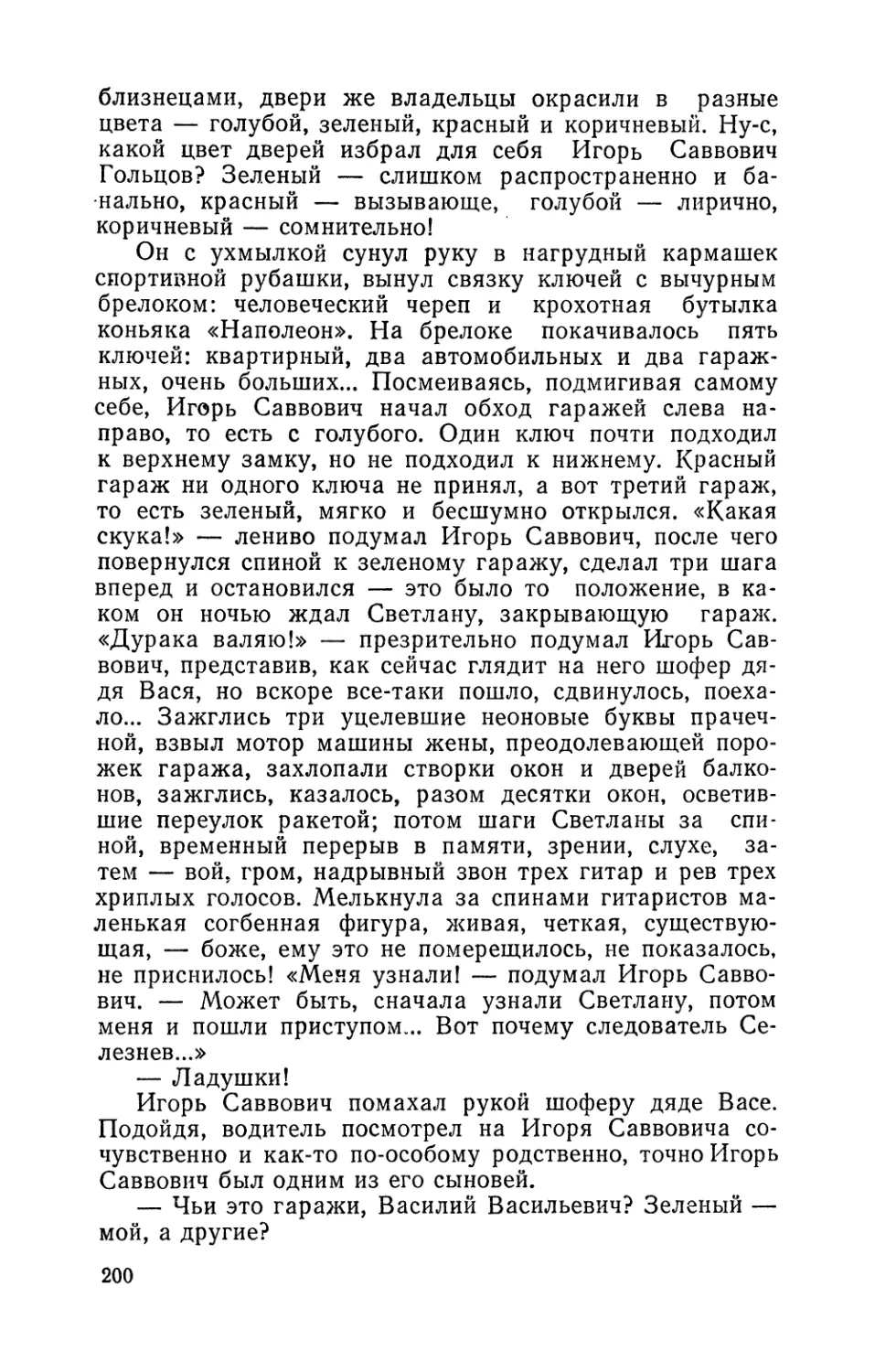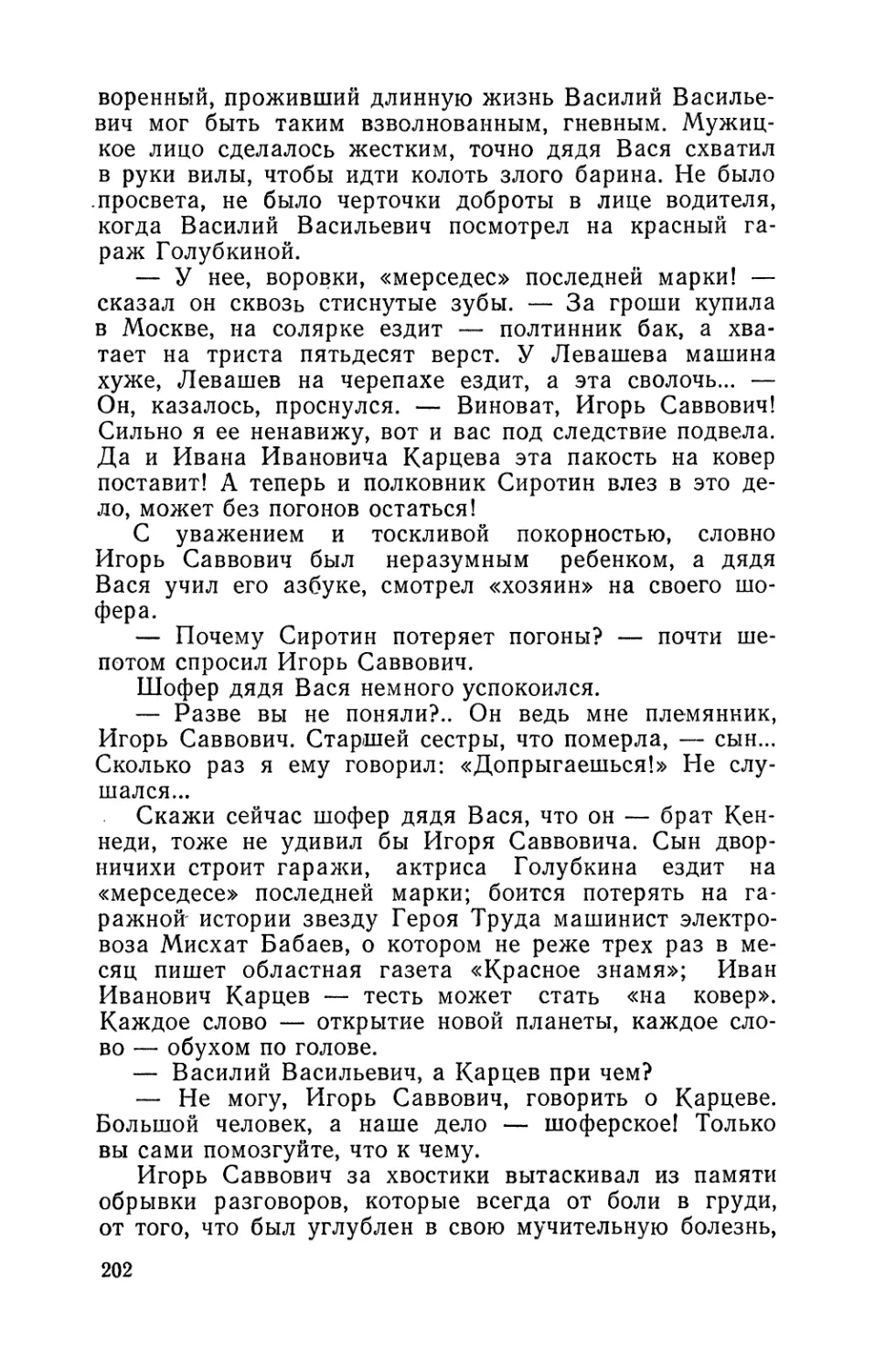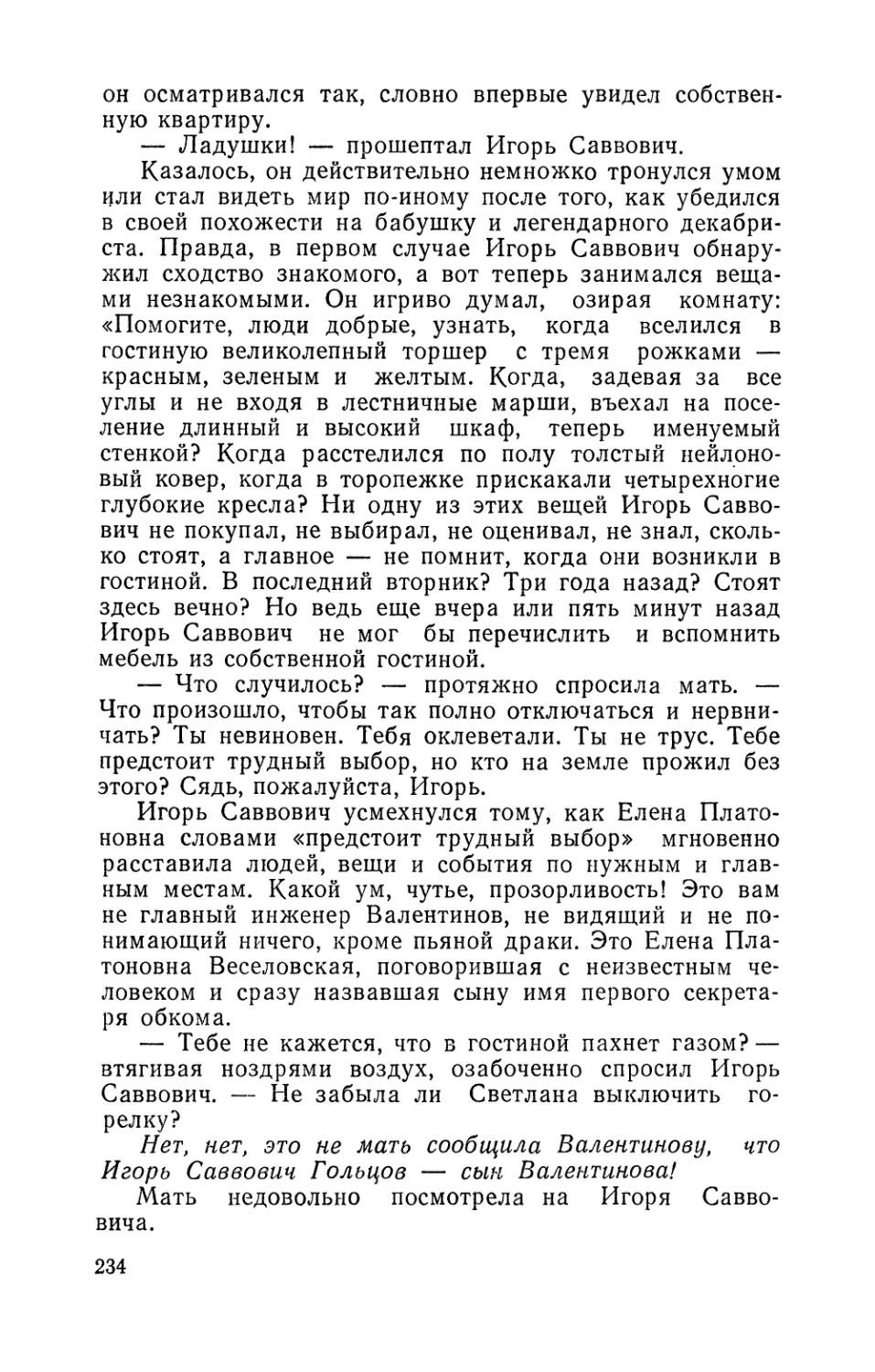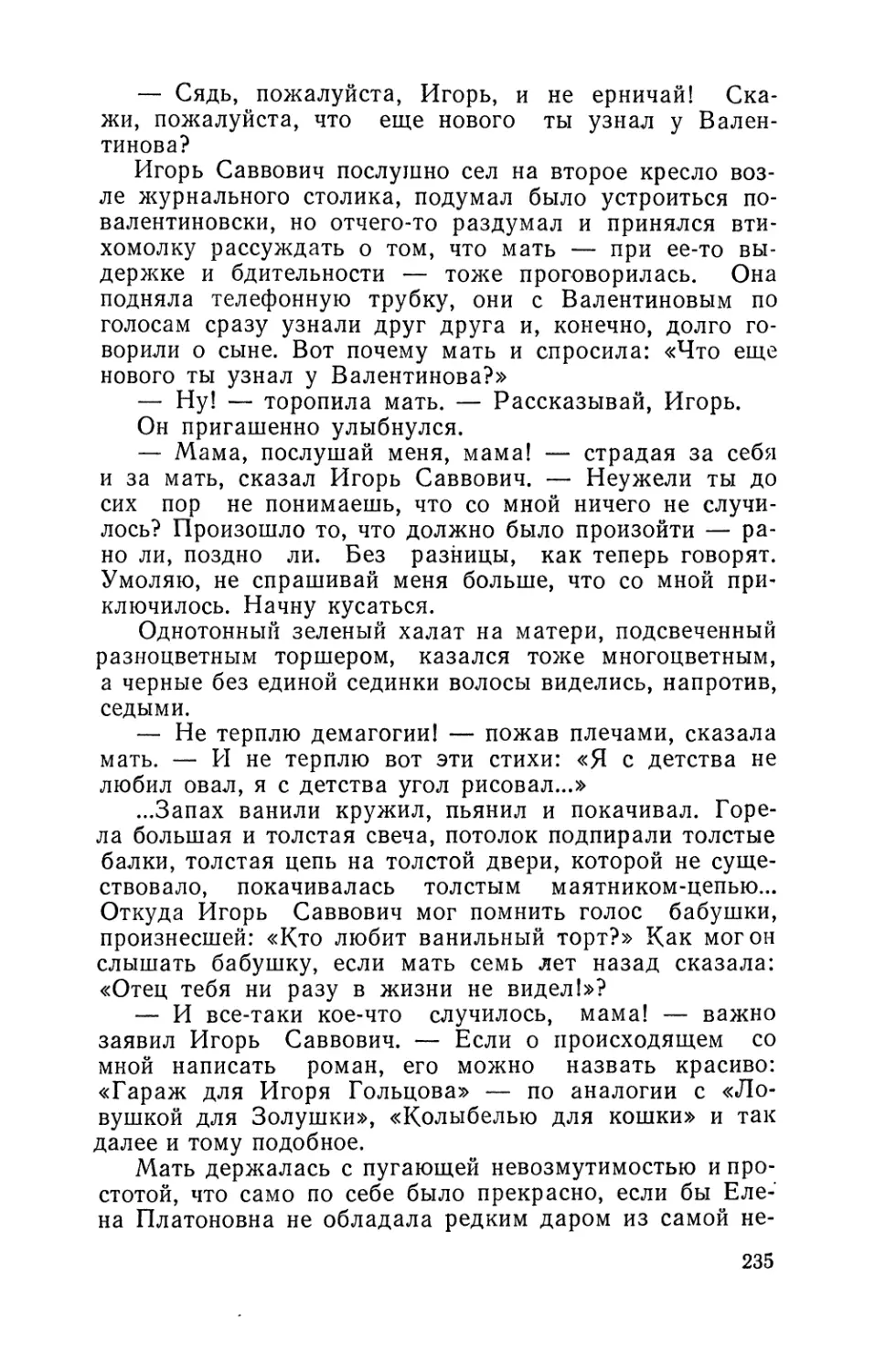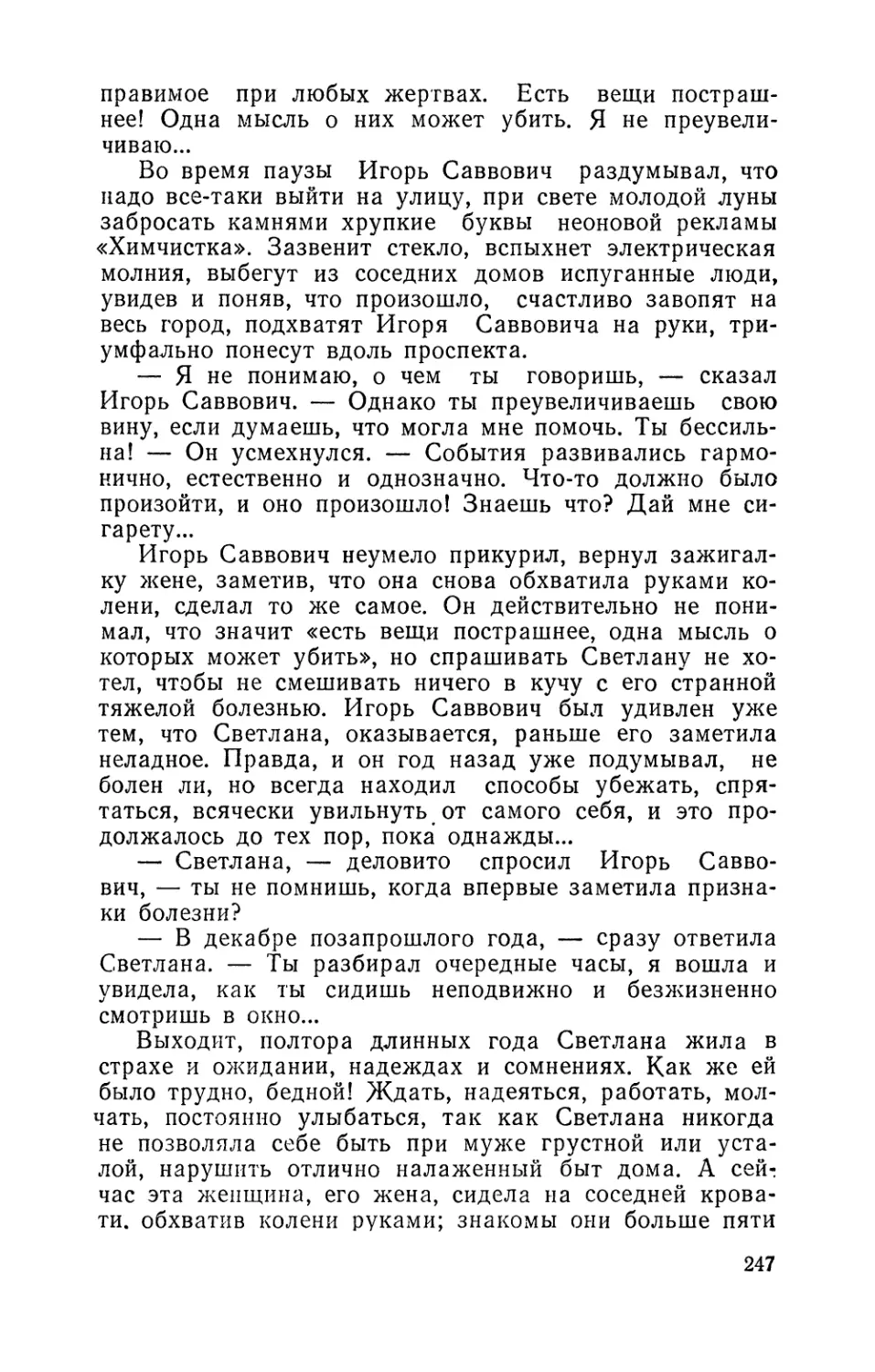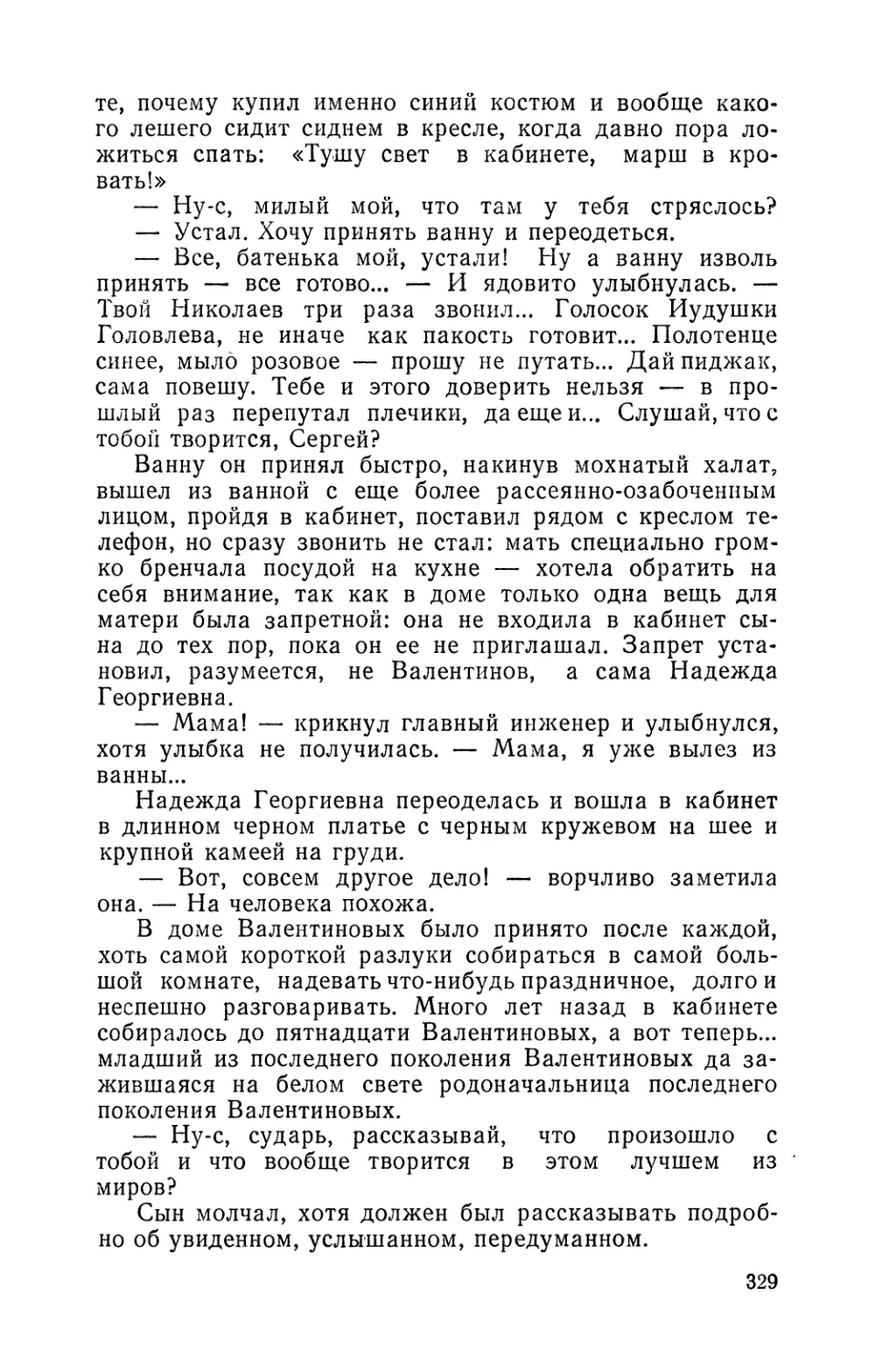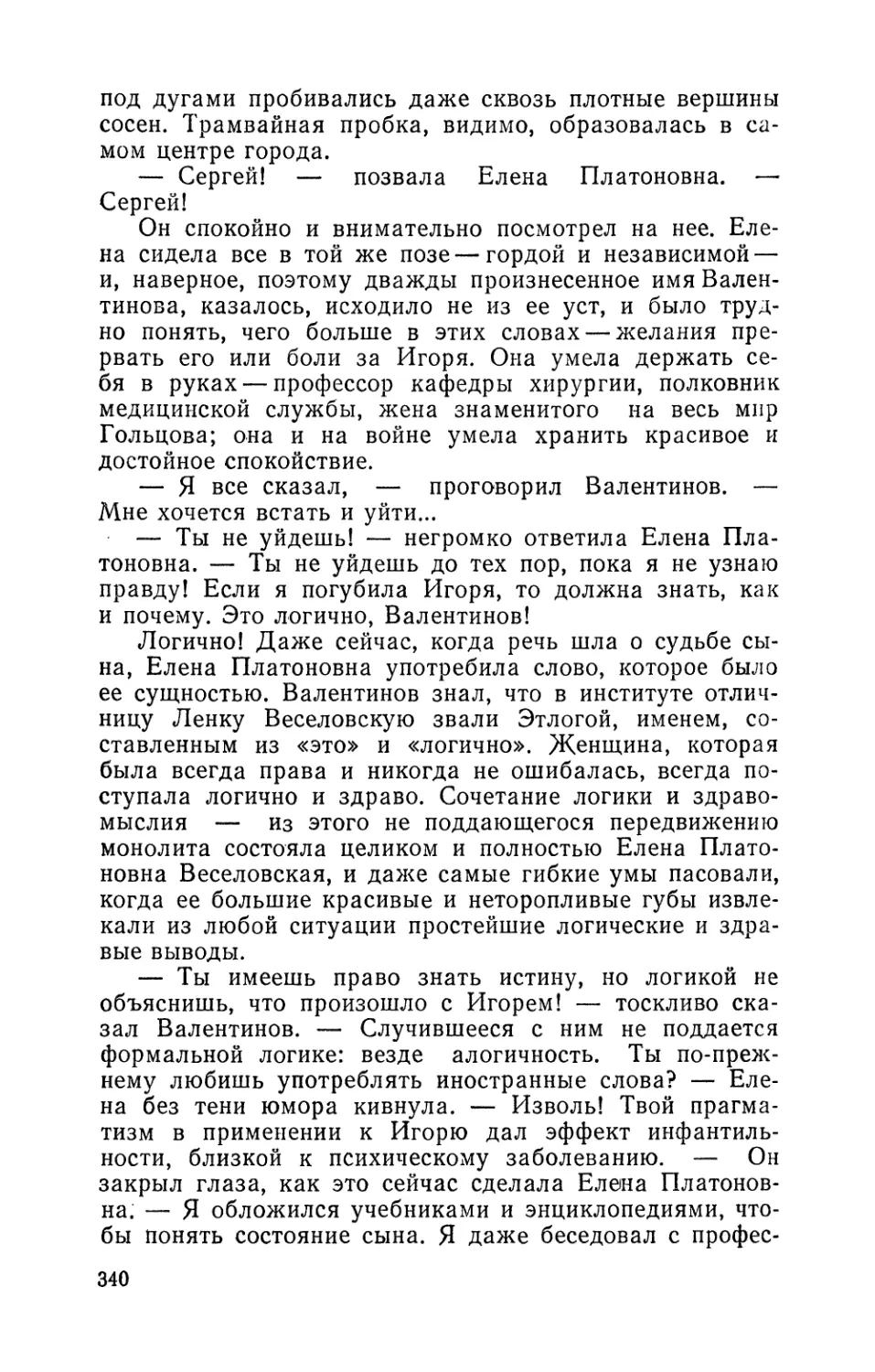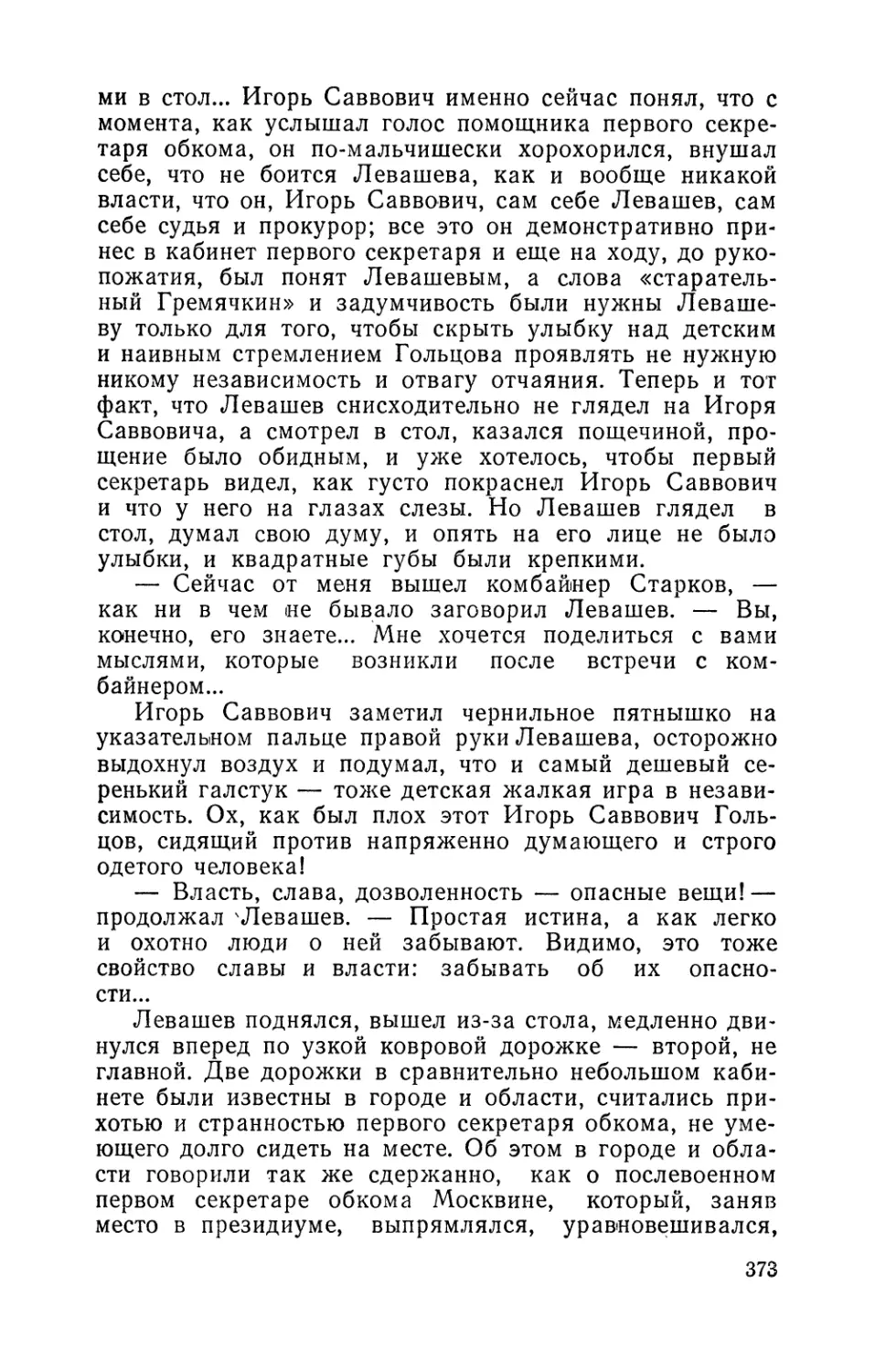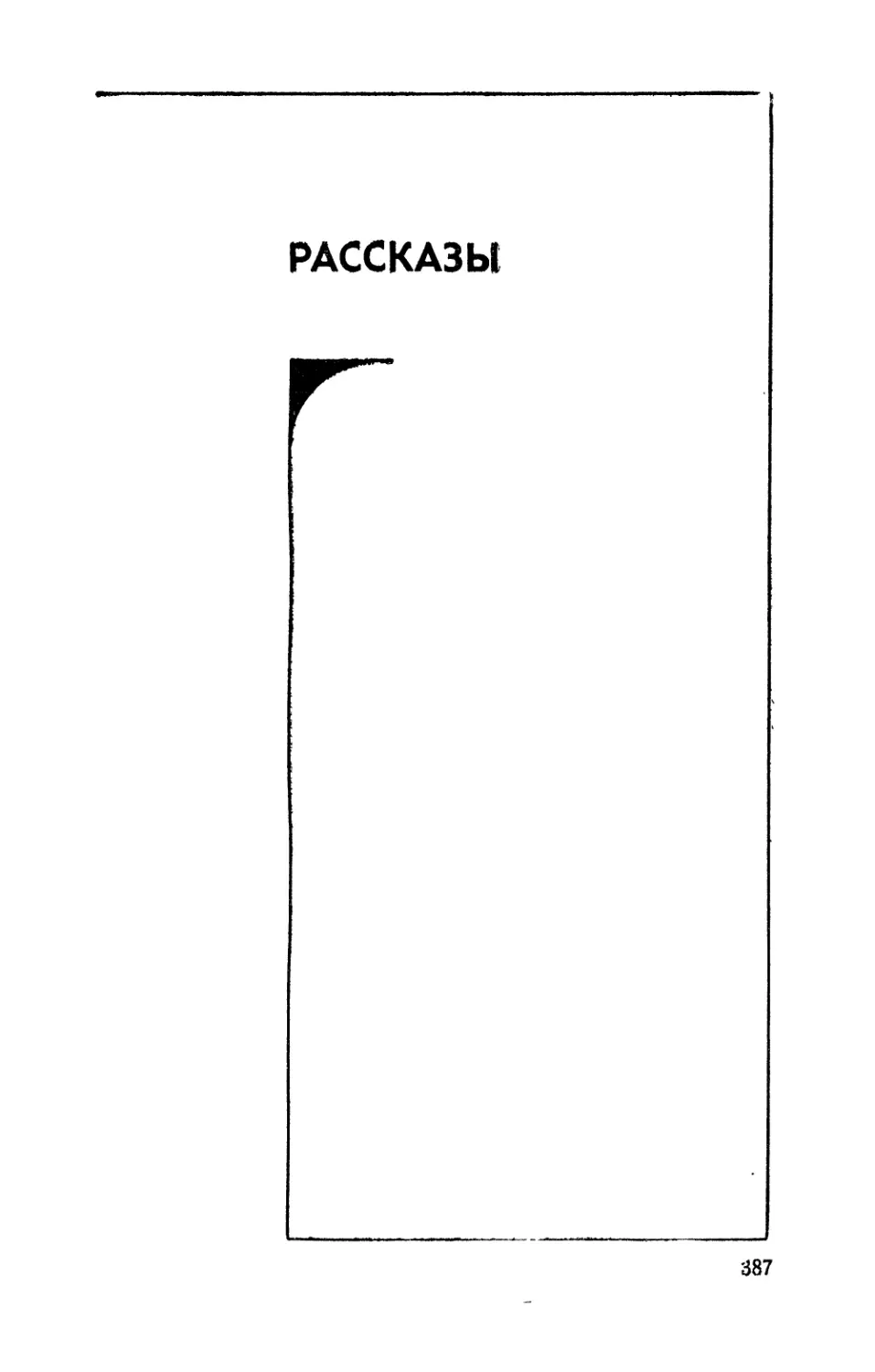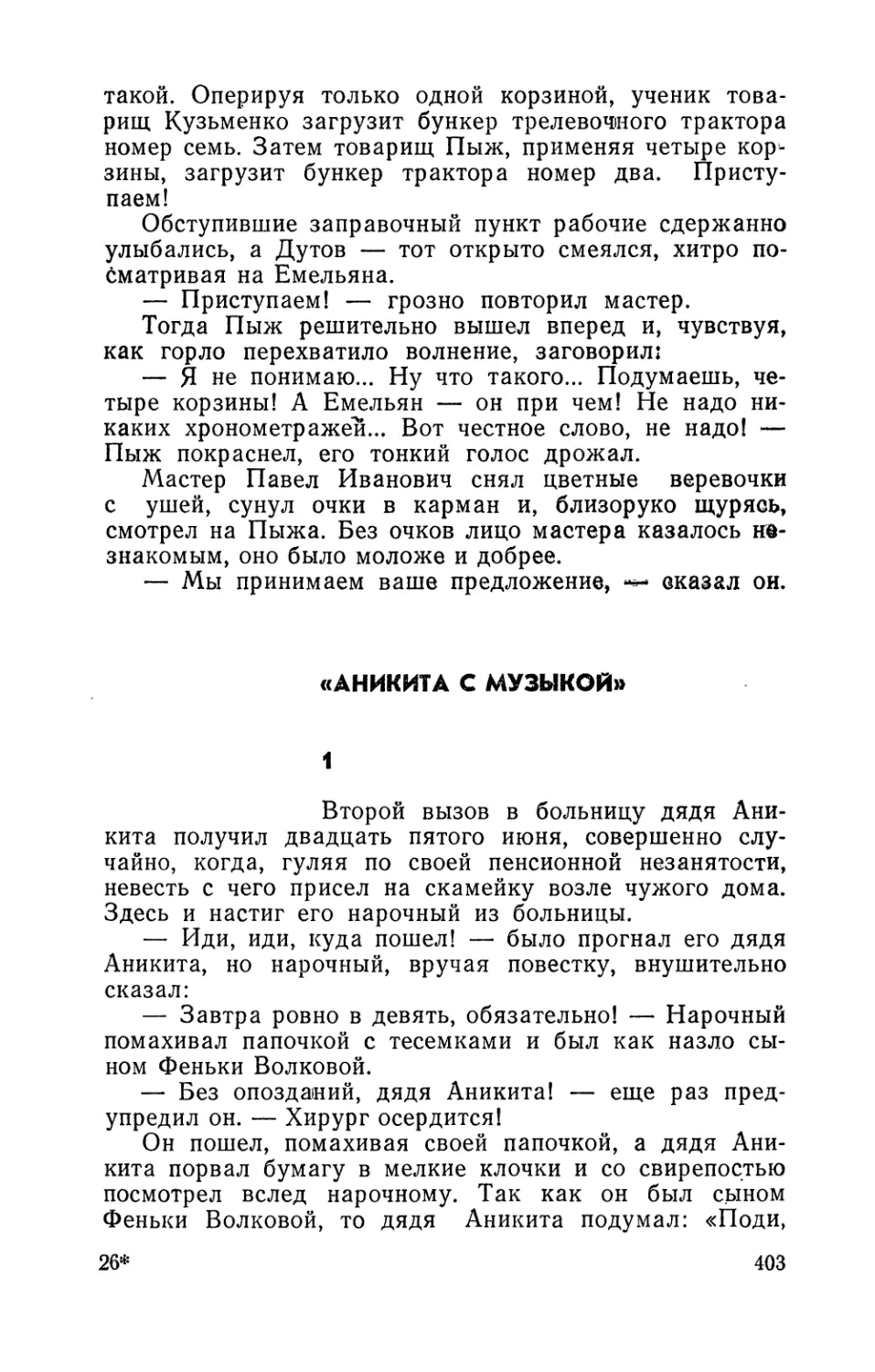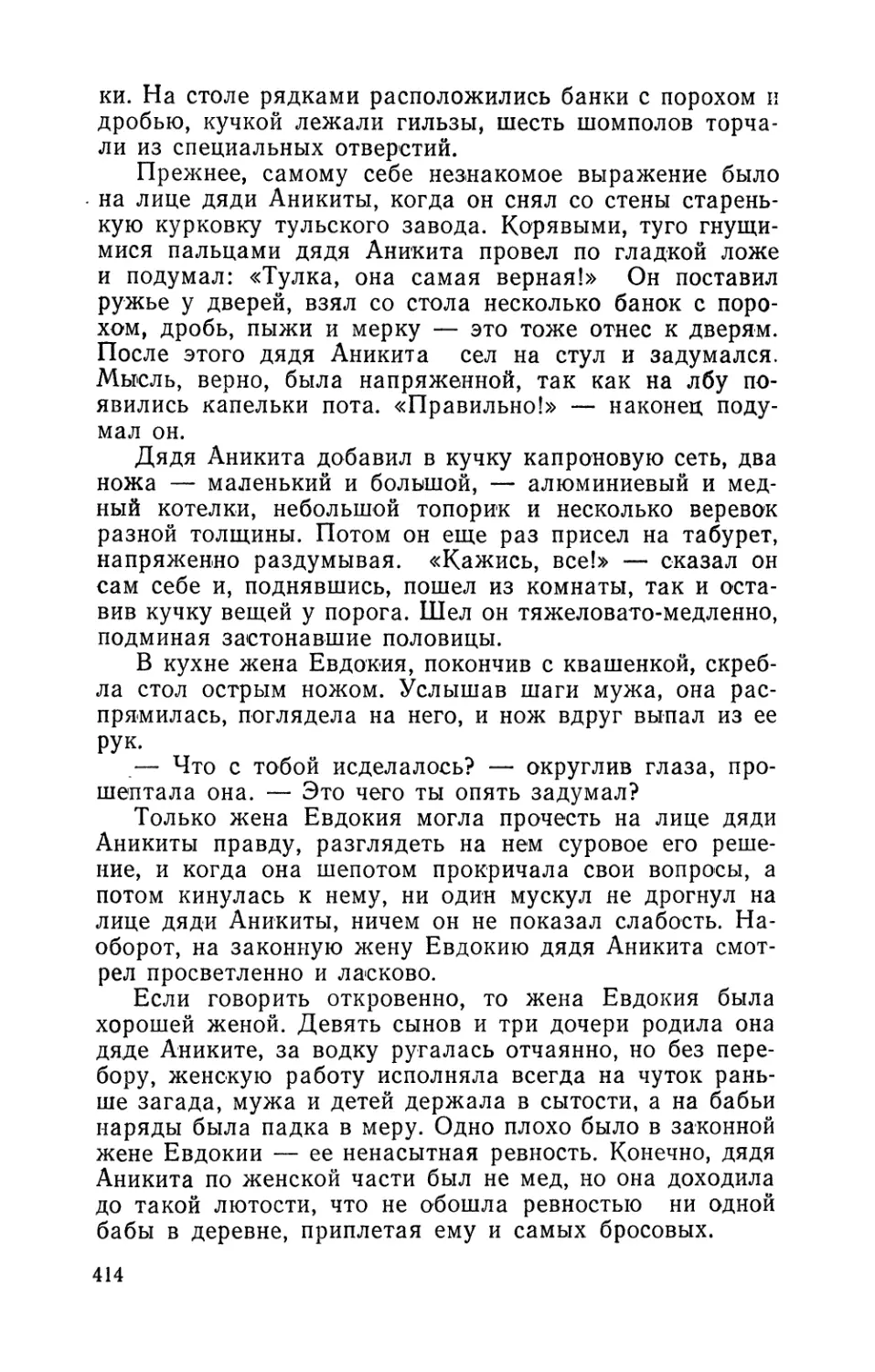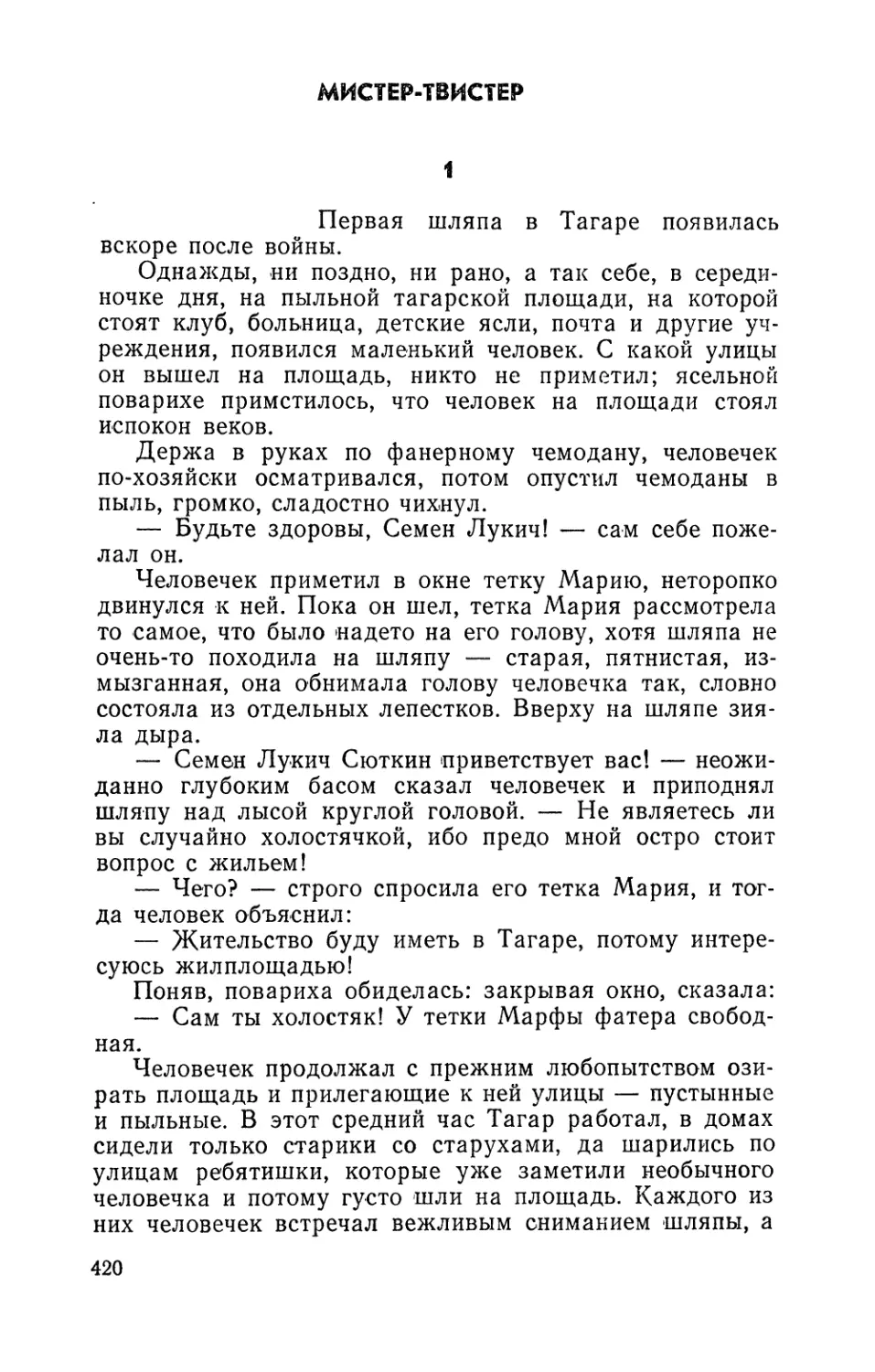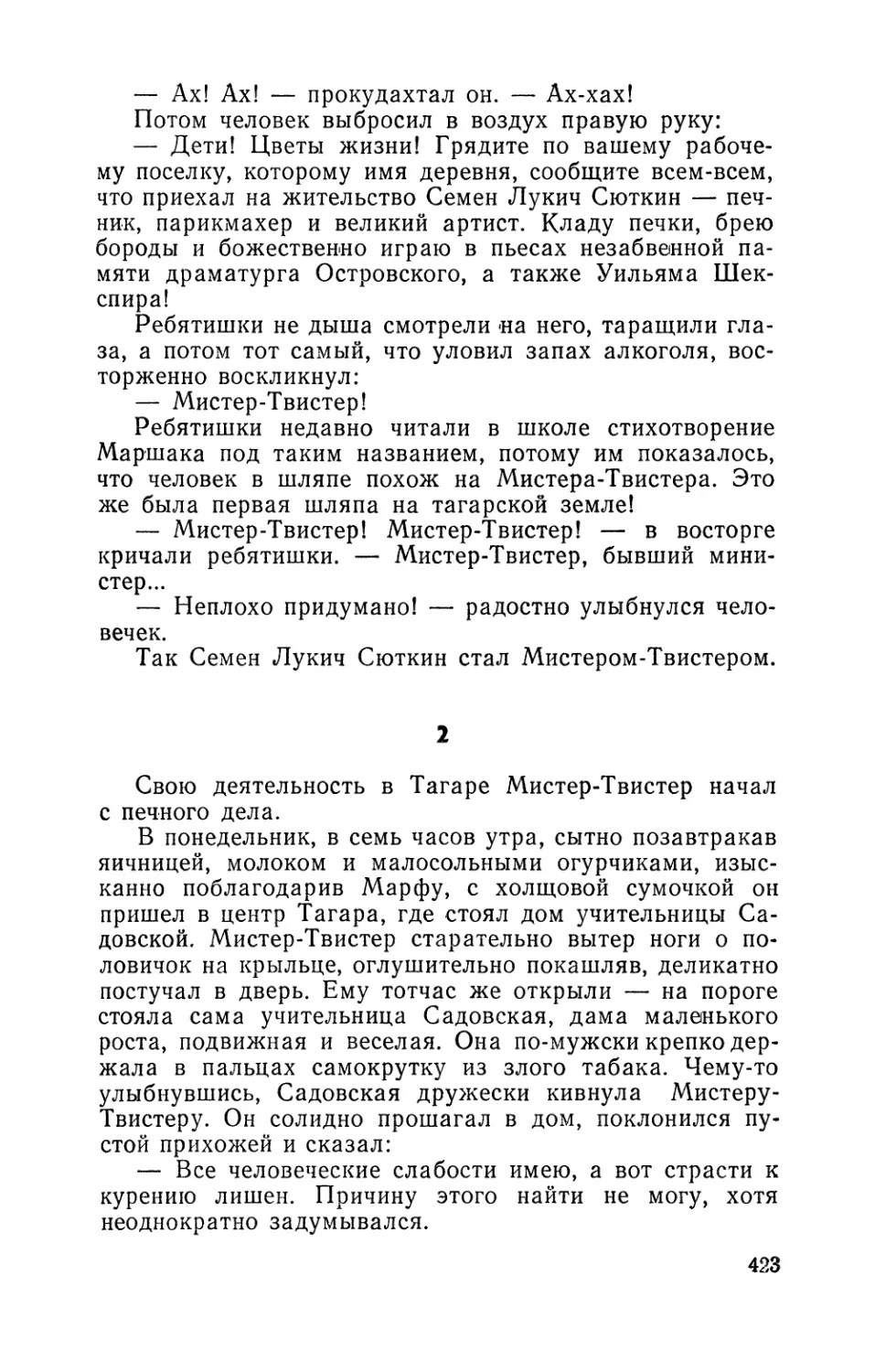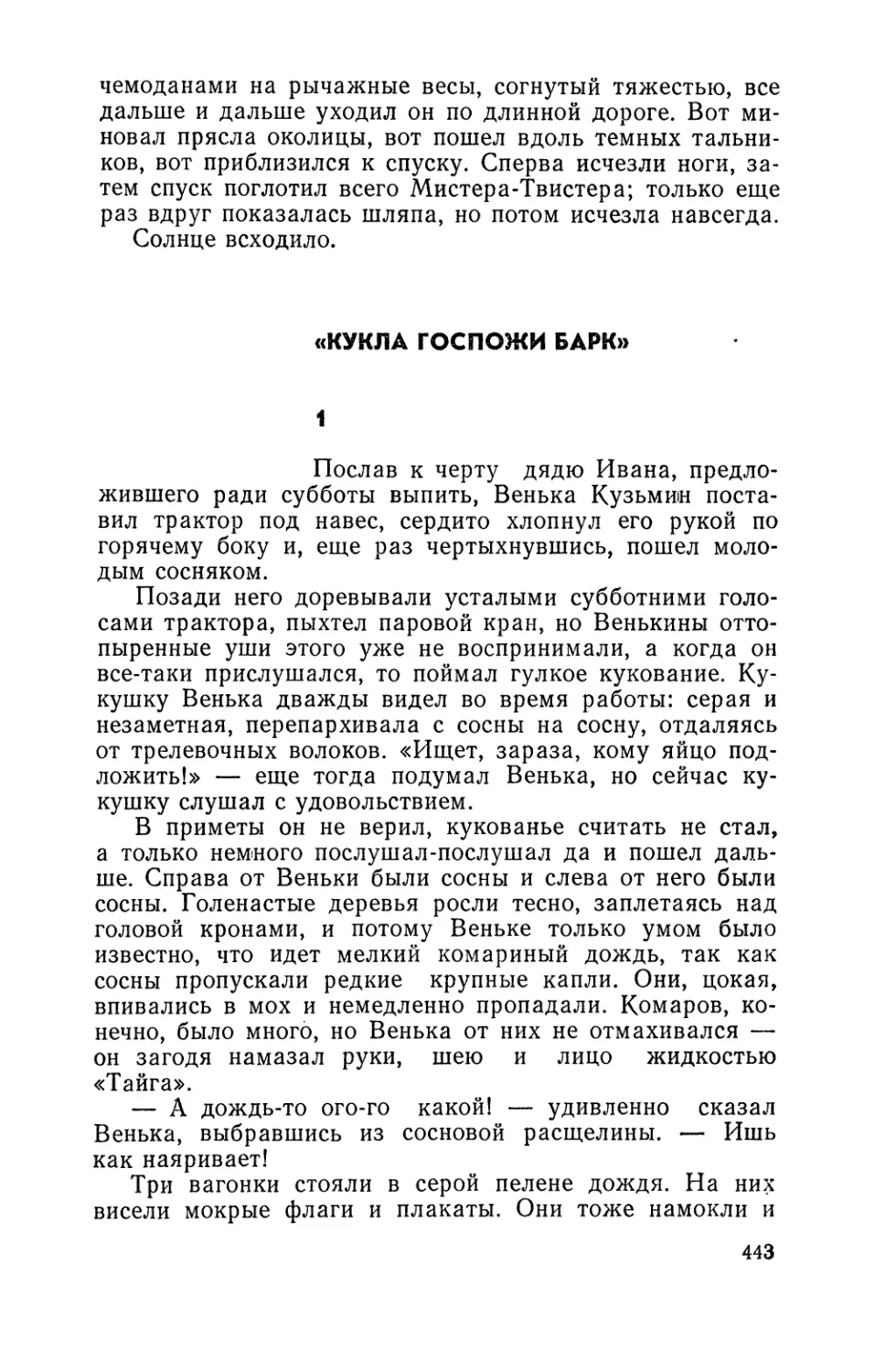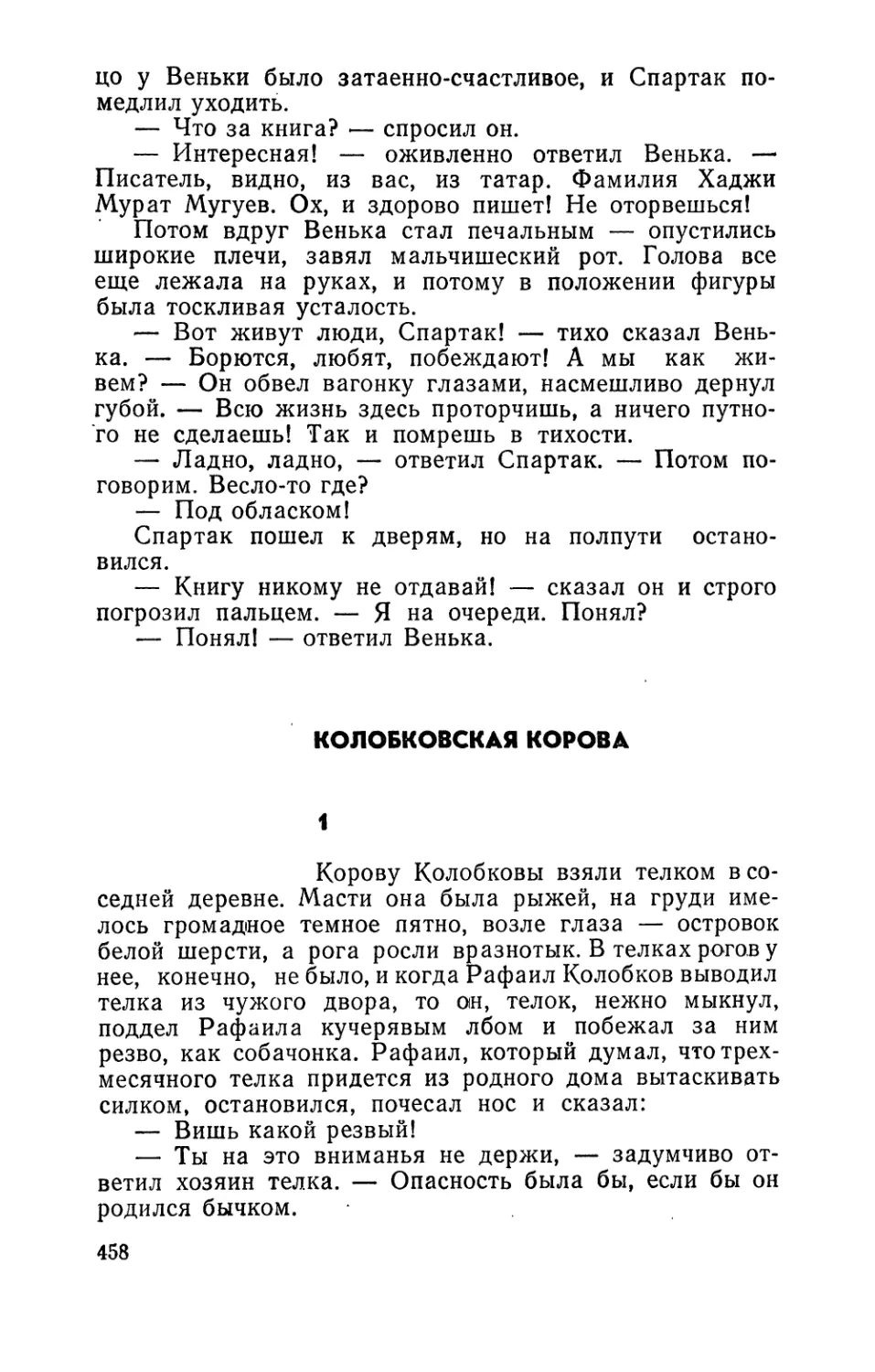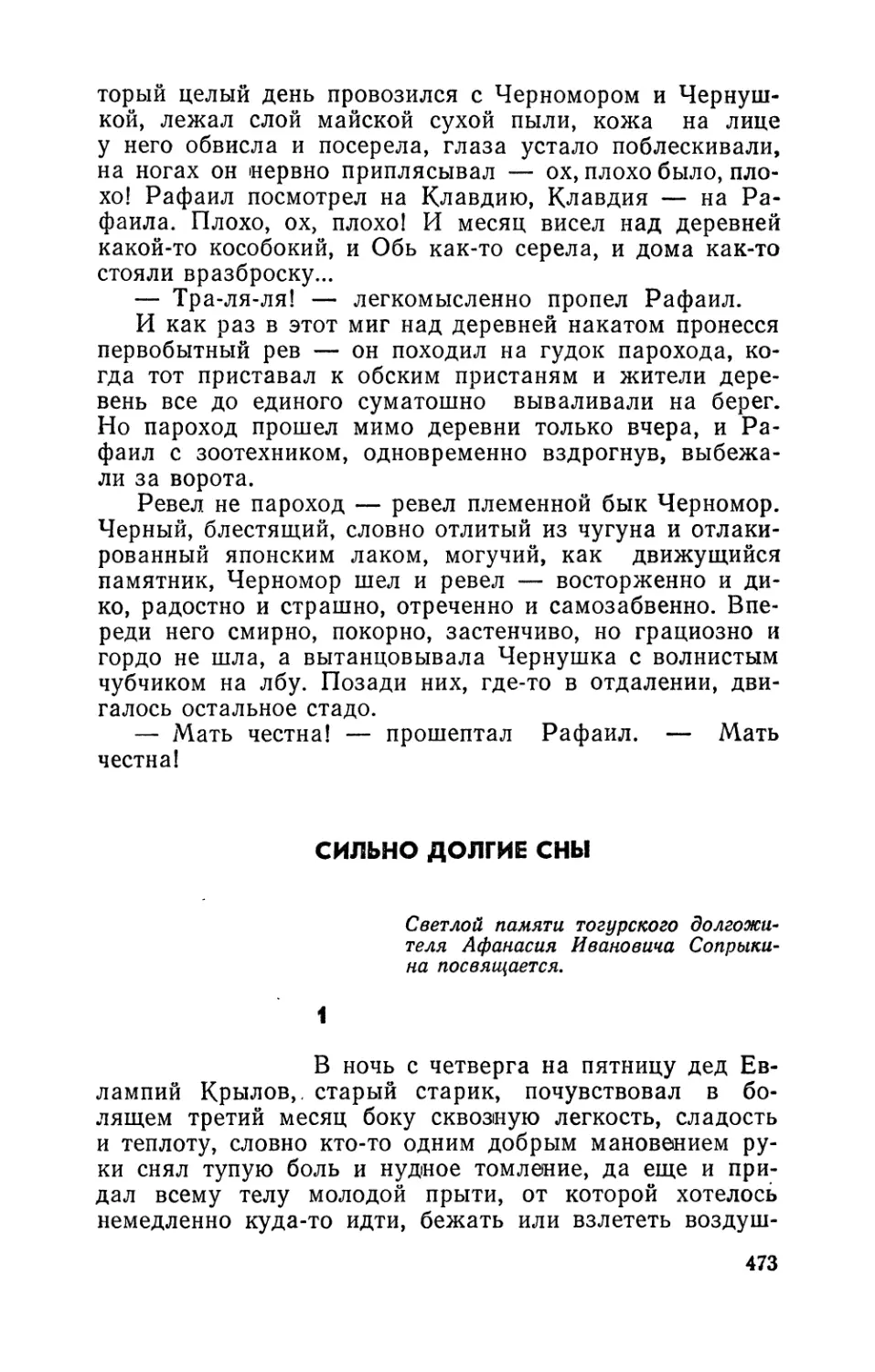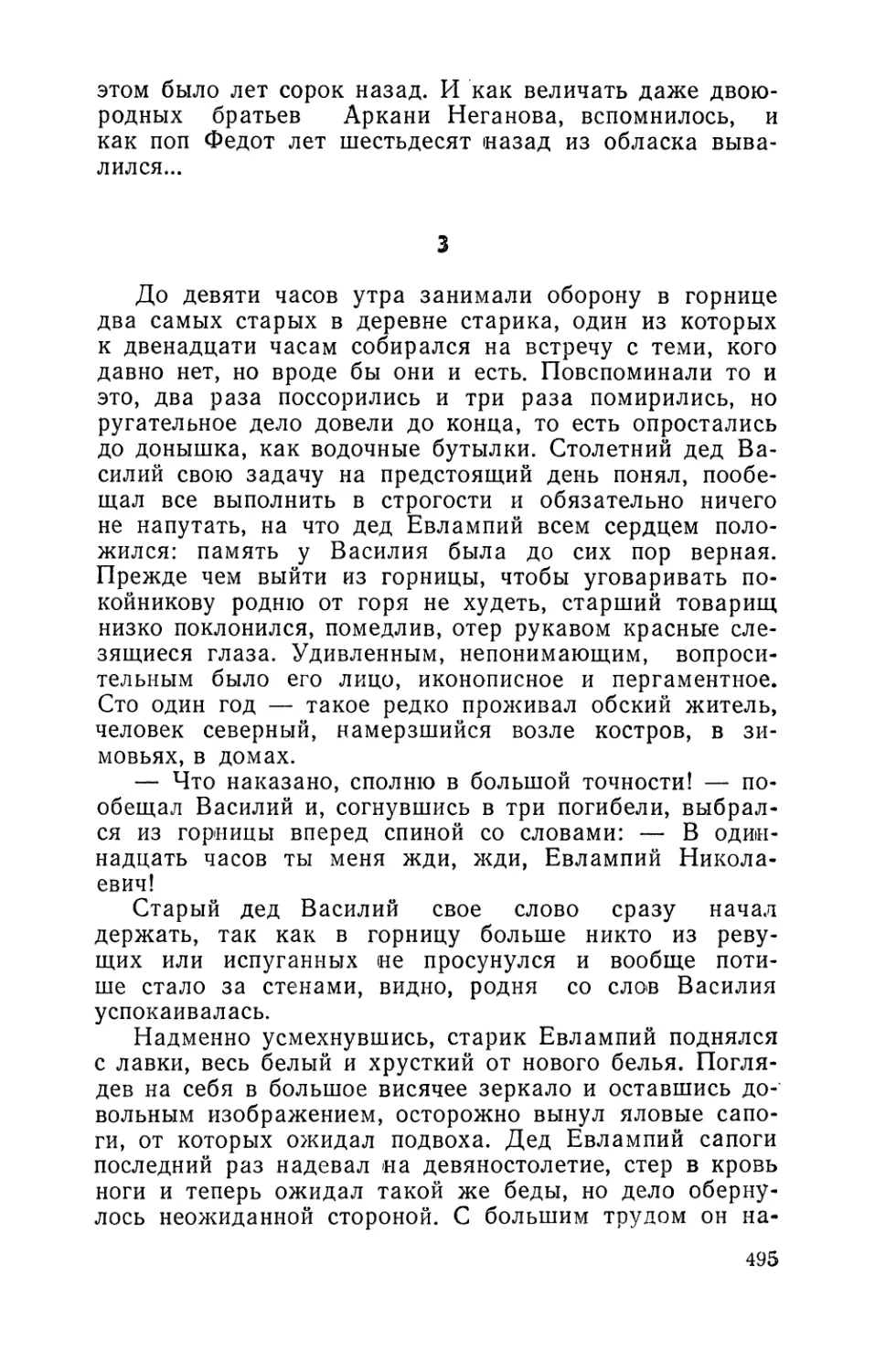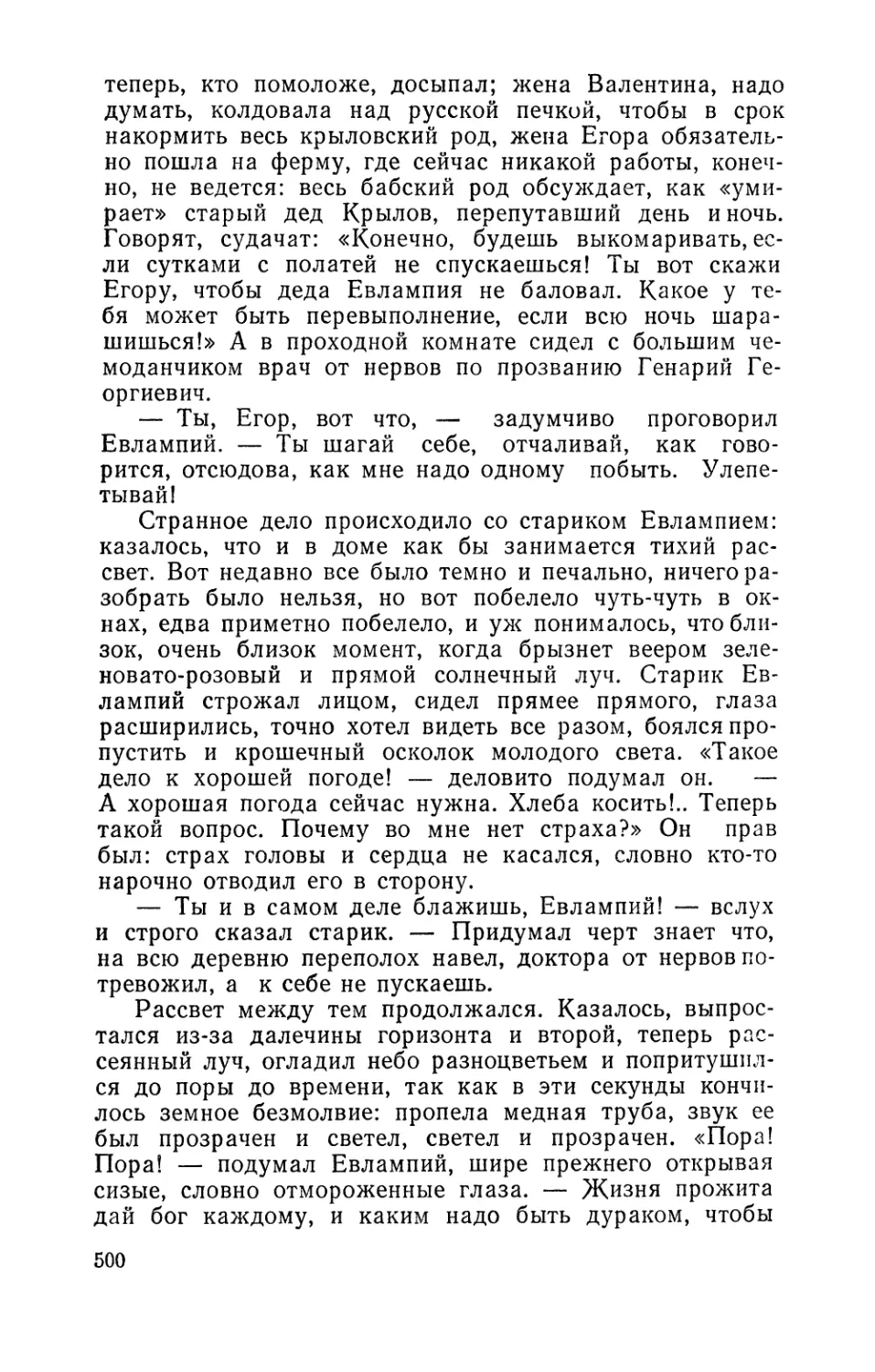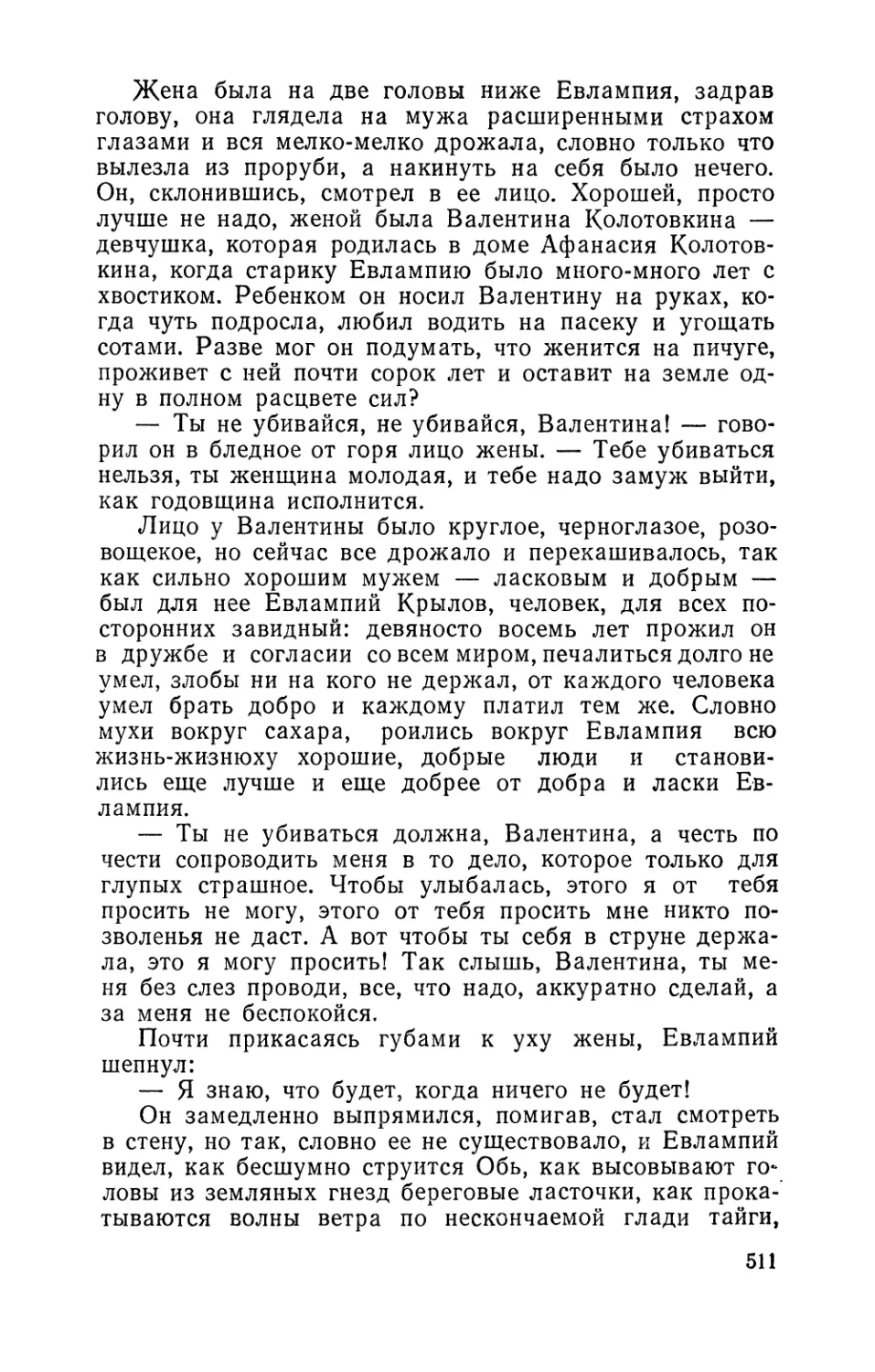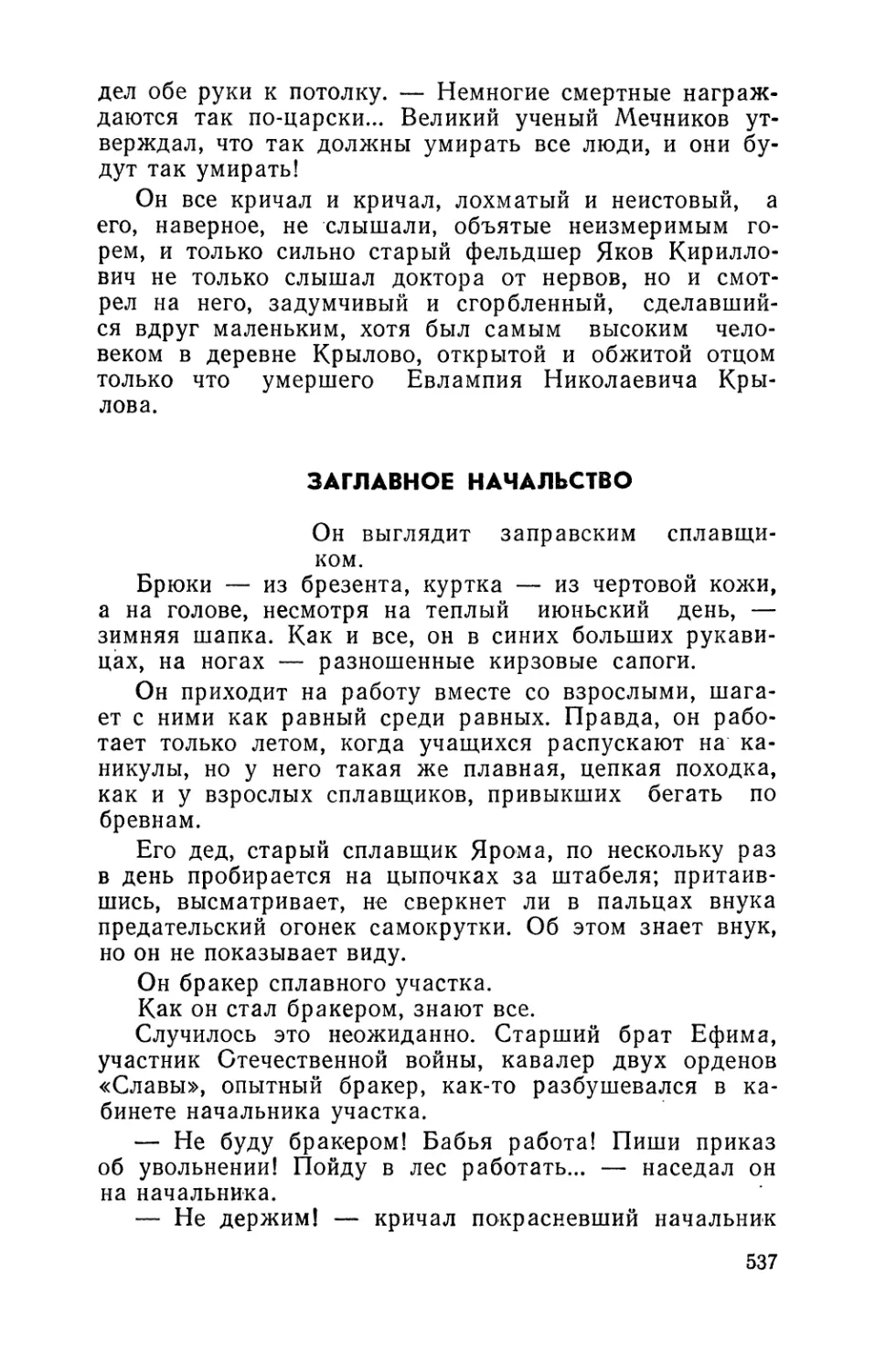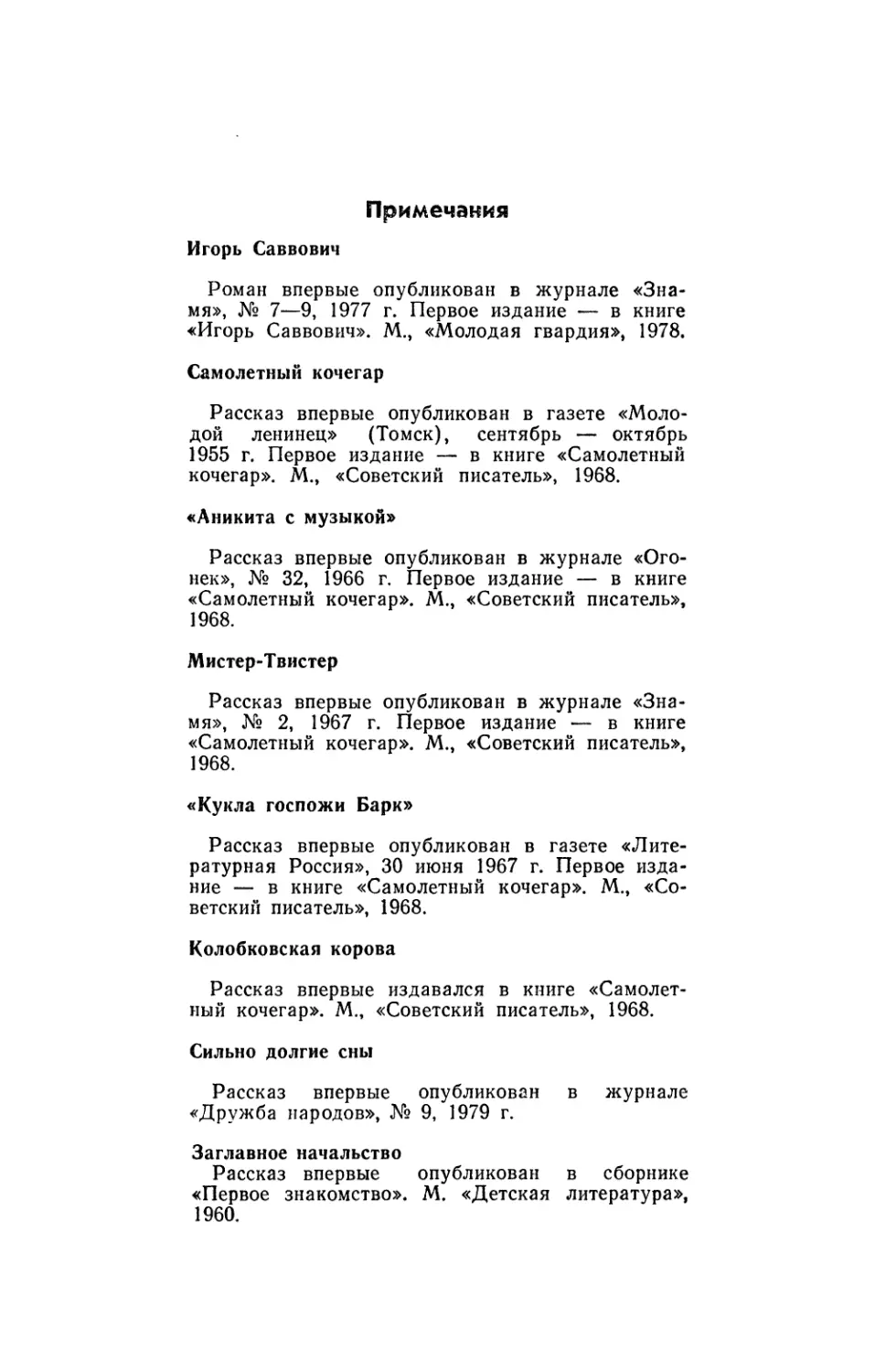Текст
шт
гшшшс
СОБРАНИЕ „ СОЧИНЕНИИ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ
О О
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1985
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ ИГОРЬ САВВОВИЧ РАССКАЗЫ
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1985
84Р7
Л61
Составитель Собрания сочинений В. В. Липатова — А. В. ЛИПАТОВА
Оформление художника Ю. БАЖАНОВА
п 4702010200—001
*078(02)—85 Свод. пл. подписных изд. 1985
Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.
ИГОРЬ САВВОВИЧ
ТОМАН
Дочери Татьяне посвящается
Глава первая
СЫН
Гроза хотела начаться ранним утром. Тучи стадились всю ночь, клубились и урчали, опустились до телевизионных антенн, но ничего не произошло — бог знает, почему? Тучи неохотно разбрелись по стойлам, небо налилось блеклой голубизной, и в сумрачной аллее городского сада в одиннадцать часов утра, где на одинокой скамейке сидел Игорь Саввович, тоже посветлело, птичьи стаи, обрадовавшись, подняли гомон. Игорь Саввович полулежал на скамейке, раскинув руки на ее спинке, и, когда выглянуло туманное солнце, иронически подумал: «Похоже, что меня распяли!» Руки затекли, спина ныла, но шевелиться не хотелось.
Итак, гроза не состоялась, билеты действительны, а это значило, что Игорю Саввовичу Гольцову надо идти к Валентинову, назначившему дружескую встречу в его доме на Воскресенской горе примерно около двенадцати часов. Только свирепый ливень с молниями и трескучим громом мог сегодня помешать главному инженеру Сергею Сергеевичу Валентинову продолжать терпеливое, рассчитанное на измор установление человеческих контактов со своим заместителем, то есть Игорем Саввовичем Гольцовым.
Досадуя и насмешничая над собой, Игорь Саввович решал много вопросов. Во-первых, как он очутился в парке, где никогда не был, почему вышел к этой одинокой скамейке, самой удобной, тихой и уединенной? Во- вторых, почему он напялил строгий и жаркий костюм, купленный два года назад и только однажды «выведенный» в люди — в годовщину Октября? В-третьих, и это главное, почему он не хочет идти к главному инженеру Валентинову? Было о чем подумать.
— Ладушки! — пробормотал он. — Ладушки!
Да, пора идти к Валентинову. А можно охаметь и остаться в парке, думая: «Отчего вы, Сплавное Вели¬
6
чество, Сплавная История и Библия Сплава, приглашая к себе домой заместителя, даже не Потрудились намекнуть, зачем приглашаете в субботний день! На чашку чая? Это один поворот. Для беседы за жизнь — совсем иной зигзаг. А может быть, дорогой Сергей Сергеевич, заговорили ваши аристократические гены? Может быть, вы испытываете неясную тягу, неосознанное, туманное влечение, какое-нибудь там двадцать шестое чувство... О сын мой, я пришел сказать, что ты не сын мой, а дочь моя!»
Забавно, но факт: главный инженер треста Ромск- сплав Сергей Сергеевич Валентинов, не зная об этом, был родным отцом своего заместителя Игоря Саввовича Гольцова, и только три человека на этой теплой и круглой земле знали правду: мать Игоря Саввовича, отчим Игоря Саввовича и сам Игорь Саввович. Он узнал об этом семь лет назад и вот уже шестой год настороженно и жадно наблюдал за человеком, который позвал его явиться на белый свет.
Игорь Саввович легонько, как ребенок перед сном, вздохнул. «Можно сослаться на плохое самочувствие», — подумал он вяло и вздохнул еще глуше. Увы! Он не мог сказать Валентинову, что плохо себя чувствует, потому что давно — более года — не помнит дня, когда бы ощущал себя здоровым. Болезнь у него была странная, непонятная, и он, докторский ребенок, умеющий пользоваться медицинской литературой, убедительного объяснения до сих пор в книгах не находил. Наверное, поэтому Игорь Саввович болезнь скрывал и только недавно, всего двенадцать дней назад, решился на отчаянный шаг — пошел к врачу такой специальности, к каким в областном городе люди его общественного положения ходить не любят.
Небо быстро голубело, сделалось высоким, потерявшим кажущийся изгиб. Игорь Саввович поднялся и, волоча ноги, двинулся вдоль аллеи. Он почти не заметил, как сел в трамвай, как прокатился «зайцем» до остановки «Гора» и оказался на широком шоссе, ведущем вверх, к знаменитой в городе Воскресенской церкви. Три ее купола сверкали позолотой в солнечных лучах, стая ласточек, орущая и суетливая, делала круги вокруг, центрального купола. Игорь Саввович вспомнил, как это объяснял Валентинов. «По причинам простейшего порядка, — говорил он, — блеск куполов привлекает стаи мошкары, которыми и кормятся хитрые ласточки».
7
Главный инженер Валентинов вообще любил изъясняться книжно и по-старинному.
Отблеск солнца в золотых куполах слепил, пришлось опустить взгляд — там в зелени утопал дом Валентинова, старинной постройки, по-купечески просторный и тяжелый. Валентинов! Точно так, как в деревне гордятся своими нестандартными односельчанами, так северный город Ромск в числе прочих достопримечательностей, таких, как Воскресенская церковь, здание Дворянского собрания, библиотека университета, называл и Сергея Сергеевича Валентинова. Вот уже почти тридцать лет от тяжелого дома вниз по тропочке, пробитой только им, в восемь часов пятнадцать минут утра спускался Сергей Сергеевич и занимал светлый кабинет в двухэтажном здании сплавного треста. Жил он с престарелой матерью, никогда и никто из горожан не видел Валентинова с женщинами, никогда в его дом женщины не приходили, а после рабочего дня и самого Валентинова в городе не встречали. Правда, поговаривали, что перед войной на проспекте Ленина Валентинова видели с блондинкой в берете, а после войны — в это не верили даже сами рассказчики — в доме Валентинова некоторое время жила женщина с погонами майора медицинской службы. Что с ней стало, куда она исчезла, никто знать не мог, и воспоминание о военной женщине считалось никчемной выдумкой.
По городу также ходили легенды о матери Валентинова, женщине тоже странной и непонятной. Как, например, объяснить такое? Мясники из центральных рядов каменного Старого рынка, эти потомственные ром- ские мясники, помнившие еще купцов Кухтерина и Второва, эти краснорожие громилы в белых колпаках набекрень, завидев Надежду Георгиевну Валентинову, кричали зычно: «Доброго утречку, Георгиевна!» — и продавали ей мясо на рубль дешевле за килограмм, чем всей безропотной очереди. Надежда Георгиевна при этом стояла тихо, улыбалась непонятно, и было видно, что она ничего не хотела — ни дешевого мяса, ни безочередно- сти, ни снятых перед нею белых колпаков.
Женщина^ в берете, майор медицинской службы, сибирская лайка по кличке Селенциус, живущая в непонятном доме только зимой, сам дом, в котором мало кто бывал* — вот все, что знали триста тысяч ромских жителей о жизни Валентинова вне стен двухэтажного старого здания треста. А в последние пять лет произошло
8
еще одно необъяснимое, загадочное явление — в тяжелом и большом доме: Валентинова стал частым гостем молодой инженер Гольдов. Это уж, совсем небывальщина, так как ни одного из своих коллег по тресту Валентинов в таинственный дом никогда не приглашал.
Подъем на Воскресенскую гору Игорь Саввович начал, когда уже было жарко, многообещающие тучи-свалились, грудой за лесистый берег Роми, но, видимо, из- за них насыщенный электричеством воздух был влажен. Жара и влага — чистое Закавказье, черт бы побрал этот резко континентальный климат!
Игорь Саввович вдруг понравился самому себе. Действительно, со стороны все превосходно выглядело: по широкой асфальтовой дороге, то есть по краю асфальта, с тополиным листиком в зубах, с пиджаком, перекинутым через плечо, шествовал этакий дачник-курортник с беззаботным и насмешливым лицом, совершенно не имеющий представления о том, куда и зачем идет. Кипучая действительность фланера интересует мало, ровно в той степени, в какой его иронический взгляд падает на те или иные предметы, живые существа и мелкие события... Мальчишка ранил ногу, наверное, гвоздем и — вот пакостник! — высасывает из пятки кровь, чистая обезьяна. А вот вам, пожалуйста, у дамочки в сверхмодной макси-юбке на середине подъема к Воскресенской церкви забарахлил мотор «Жигулей». «Автоинспектора на дуреху нет!» — беззлобно подумал Игорь Саввович, так как дамочка не удосужилась съехать на обочину, загородила проезжую часть, а сама верхнюю часть туловища держала под открытым капотом — может быть, отказало зажигание, которое она старалась наладить собственными руками.
«Хороша же ты будешь, голубушка!» — подумал Игорь Саввович, заметив, что гражданка, нарушившая правила уличного движения, сверхмодной юбкой прижимается к автомобильному крылу, покрытому глинистой ромской пылью. Улыбнувшись, Игорь Саввович остановился, так как — увы! — происходило неизбежное: начал мгновенно образовываться автомобильный затор. Первым со скрежетом затормозил фургон «Книги», потом зашипел пневматикой самосвал с дымящимся бетоном, третьей, едва вписавшись в поворот, аварийно затормозила черная официальная «Волга», а потом пошло- поехало, застонало-заскрежетало, завыло-запищало. Ми¬
9
нута, и на повороте дороги к Воскресенской церкви образовалась добротная автомобильная пробка.
— Ля-ля! — вдруг удивленно пропел Игорь Саввович. — Господи, как говорится, Исусе!
. В дамочке, сотворившей грандиозную дорожную пробку, Игорь Саввович узнал родную жену Светлану Ивановну, сосредоточенно копавшуюся в моторе его собственных новых «Жигулей». Да-с, это была она! Темно-синие, почти черные «Жигули» водила только она, так как владелец технического паспорта Игорь Саввович Гольцов к машине не притрагивался, за руль не садился.
— Чья машина? — раздался за спиной Игоря Саввовича басовитый, мужественный и руководящий голос. — Спрашиваю, чья это машина?
Игорь Саввович, естественно, подумал, что голос принадлежит пассажиру черной «Волги», едва успевшей затормозить на большой скорости, но ошибся: позади стоял молодой водитель этой начальственной машины — наголо остриженный конопатый парень. Не получив ответа, он коршуном бросился к Светлане, но вдруг остановился, попятился, бормоча растерянно:
— На обочину съехать не догадаются! Вот уж эти женщины!
Насмешливо и зло наблюдая за стриженым трусом, Игорь Саввович не заметил, что оказался центром ярмарочно-возбужденной толпы. Хриплым голосом выпивохи и курильщицы орала непонятное водительница фургона «Книги», стоял с отдыхающим веселым лицом шофер самосвала с цементным раствором, гомонили ребятишки в пионерских галстуках, мальчишка постарше высунул горн в окно автобуса и трубил сигнал «тревога»... Разноцветную живую картину городского быта конца двадцатого века наблюдал Игорь Саввович Гольцов. Черные, зеленые, красные, голубые, коричневые автомобили; красные, голубые, зеленые, клетчатые, коричневые, полосатые костюмы, юбки, кофты; запахи разогретого асфальта, тополей, бензина, цемента, горячей краски, машинного масла; мужские голоса, женские, юношеские, детские; звуки джаза из радиоприемника синей машины, голос Кобзона — из другой, ария Ленского — из третьей. И шум! Хороший, бодрый шум!
— Автоинспекция куда запропастилась?
— Штрафовать таких надо! Машины отбирать!
— Мужчины, откатите машину на обочину!
10
. — Вот нахалка! Будто не слышит. ;
— Нет, тут нужна только автоинспекция! Где автоинспекция?
Автоинспекция, между прочим, не дремала. С большой заинтересованностью, радостно чувствуя, как привычная боль в груди слегка утишивается, Игорь Саввович наблюдал за приближающимся автоинспектором. В белоснежной форменной рубашке, надраенных сапогах, с болтающейся на боку грозной планшеткой, тот шагал с таким ленивым видом, словно с утра знал, что произойдет именно такое дорожное происшествие, давно решил, как поступить со злостным нарушителем, и скучал от будничности происходящего.
— Прошу граждан расступиться! Не галдеть!.. Чья машина? — глядя поверх человеческих голов на маковку Воскресенской церкви, негромко, но веско спросил автоинспектор. — Ваши права! Прошу предъявить!
Светлана Ивановна тоже была на должной высоте — продолжала копаться в моторе, будто не замечая ни вызванной ею суматохи, ни появления инспектора. У машины, как было известно Игорю Саввовичу по разговорам жены, барахлил один цилиндр.
— Гражданочка, ваши права! — уже с металлом в голосе потребовал автоинспектор и опустил взор с небес на землю. В глазах мелькнуло удивление, планшетка сама собой перестала раскачиваться, да и сам лейтенант потускнел, хотя по инерции сухо повторил: — Ваши права!
Ситуация чеховского «Хамелеона» повторилась на изгибе асфальтовой дороги, которая поднималась вверх, к Воскресенской церкви, а далее вела к дачам, озерами сосновым борам. Бедный автоинспектор смотрел на длинную юбку, на пробковые платформы босоножек, а видел известный всей городской автоинспекции номер «Жигулей» 00-07 РОГ и, конечно, узнал машину и владелицу, которая была родной дочерью Ивана Ивановича Карцева, первого заместителя председателя облисполкома, шефа органов милиции. Лейтенанту было известно, что между автоинспекторами существовало молчаливое соглашение не останавливать «Жигули» 00-07 РОГ, если не случалось ничего страшного, уголовного, и сейчас, краснея и переступая с ноги на ногу, он не знал, что делать.
Он вытер рукой с нацепленным на нее жезлом вспотевший подбородок.
11
— Прошу предъявить права, товарищ... Карцева...— невнятно бормотал он.
Взбешенный Игорь Саввович подошел к жене, как в запертую дверь, постучал в согнутую и ^напряженную от усилий спину.
— Светлана, немедленно предъяви права...
— Игорь, это ты? — послышался из-под капота удивленный голос Светланы Ивановны, но и после этого она не распрямилась. — Секундочку, еще одну секундочку... Сейчас надену!
Пожалуй, прошло не менее десяти минут с тех пор, как Светлана Ивановна, не удосужившись съехать на обочину, начала возиться в моторе. Пятьдесят, а может быть, и больше машин застопорили за это время на асфальтовом подъеме к Воскресенской церкви, и остывал в самосвале цементный раствор, и, может быть, опаздывали едущие к обеду в автобусе ребятишки из лагеря «Ромь», и, конечно, выходили из графика работы автобазы, строительства, опаздывали в субботний день на отдых владельцы личных машин.
— Готово! Сделала! — вдруг раздался радостный вопль, и Светлана Ивановна распрямилась. — Надела все-таки, ай да я, ай да молодец!
Овальное маленькое лицо жены вставлено в рамку из густых рыжих волос естественного цвета, кожа, не знавшая косметики, бесшабашно загорела, выпуклый подбородок торчал задорно, как кукиш, но главными в лице были глаза — детские, наивные, безупречно доверчивые.
— Юбка-то пропала! — высоко поднимая юбку, словно вокруг никого не было, а стоял рядом только муж, снова воскликнула Светлана. — Юбка-то не отстирается, ой, мамочка!
— Товарищи! — громко сказал Игорь Саввович. — Сейчас машина уйдет на обочину! Простите! Светлана, садись за руль...
Пока жена ставила машину на обочину, Игорь Саввович подошел к потному автоинспектору, сурово посмотрел в его растерянные глаза.
— Машина числится за мной, лейтенант, — сказал он. — Жена ездит по доверенности. Ее надо наказать! Если вы не проколете Светлане Ивановне дырку в талоне, пожалуюсь на вас полковнику Сиротину. Будет скандал!
Игорь Саввович не узнал, чем все кончилось. Увидев
12
глаза лейтенанта, он устало улыбнулся и пошел вверх по той самой тропинке, которую за десятилетия протоптал Сергей Сергеевич Валентинов. Тропка была узкая, ровная, твердая, думалось, что ее пробивал человек уравновешенный, сильный и настойчивый. Когда показались густые деревья, окружавшие дом Валентинова, когда открылась взору вся Воскресенская церковь, Игорь Саввович повернулся лицом к реке Роми. Было красиво и воздушно. Солнце за это время, оказывается, забралось за небольшое, но толстое облако, отчего маковка церкви потухла, а лежащий внизу город, напротив, приобрел рельефность. Потемнение на городские шумы, конечно, повлиять не могло, но, честное словом казалось, что звуки тоже обрели четкость, рельефность. Бодренько прозвенел трамвай, на реке устало гуднул небольшой пароход, в городском саду — километра три- от дома Валентинова— играл оркестр, и — совсем невероятное — слышался гул турбин подваливающего к ромской пристани винтового парохода «Салтыков-Щедрин».
На лице Игоря Саввовича лежала тусклая полуулыбка, которую при желании можно было принять за улыбку необременительной вежливости хорошо*воспитанного человека; глаза тоже были тусклыми и пустыми, точно человек хотел спать и мысли уже покидали его большую тяжелую голову, и в каждой линии тренированного тела читалось тоже сонное равнодушие. Он казался человеком, которого одинаково трудно представить смеющимся или разгневанным, тоскливым или восторженным, сосредоточенным или отрешенным.
«Похоже на вечер! — подумал Игорь Саввович, вынимая из кармана батистовый носовой платок. — Воздух легко проводит звуки, а это бывает чаще всего вечером...» После этого он перестал дышать, чтобы было легче разобраться, как сейчас живется на белом свете Игорю Саввовичу Гольцову, стоящему в ста метрах от дома родного отца. Жилось плохо, хотя Игорь Саввович понемножку привыкал к такой жизни, когда сутра идо вечера, а иногда и бессонными ночами грудь, словно когтями, раздирает непонятный, ничем не объяснимый страх, когда сердце ноет и всякая четкая о самом себе мысль отдается в сердце тоненьким болезненным уколом. Второй год пошел, как жизнь Игоря Гольцова сделалась непрерывной мукой, страхом перед неизвестностью— самым жутким страхом. Никто в этом мире не знал, что Игорь Саввович «панически боится выходить из
13
дома, что в каждом встречном на улице видит опасность, что необъяснимый страх терзает его столько часов в сутки, сколько он не спит. Взорвется ли остров Мадагаскар, потеряет ли Игорь Саввович двадцать пять рублей или попадет под автомобиль — было равнозначным, одинаково страшным; и никакие самоуго- воры не помогали, да и беды-то он не боялся. Попаду под автомобиль — смерть не страшна, когда страшней жизнь; потеряю двадцать пять рублей — какая чушь и блажь; взорвется Мадагаскар — милый мой, иди к врачу!
Макушка Воскресенской горы густо заросла соснами, елями, черемухами, рябинами и даже два кедра — старых и кособоких — торчали посередке. Всякий раз, поднявшись на Воскресенскую гору, Игорь Саввович испытывал такое одиночество, какого не испытывал в самой глухой тайге. Это, наверное, происходило от мгновенной смены городского пейзажа на... таежность. Послышалось беличье царапанье по кедровому стволу, свистнул неосторожный бурундук, верещали птицы. «Надо идти к Валентинову!»
Город внизу пошумливал, оркестр в городском саду играл «Журавли», а над головой Игоря Саввовича, над маковкой Воскресенской церкви, продолжался обеденный круговорот ласточек, так как купола церкви, как утверждал Валентинов, притягивали к себе полки комаров и мошек.
Дом главного инженера Валентинова был построен давно, в середине девятнадцатого века, лет через двадцать после событий на Сенатской площади. Дело в том, что прадед Сергея Сергеевича Валентинова был декабристом, другом декабриста Батенькова, именем которого в Ромске назван мост через реку Ушайку. Именем Валентинова в городе никакие сооружения и места названы не были, но историки установили, что декабрист Валентинов по делу именовался не Валентиновым, а носил другую фамилию, до сих пор не установленную, Валентиновым же сделался после Сенатской площади, женившись на некой Валентине Крамской. Следы ее биографии были тоже утеряны. Историки установили также, что один из сыновей декабриста Валентинова женился на дочери декабриста Батенькова. Судьбе угодно было и второй ветвью соединить потомков двух декаб-
14
ристов, и таким образом в Сергее Сергеевиче Валентинове прочно слились две революционные дворянские крови.
Дом поставили, как водилось, из вечных лиственничных бревен, толстых и от времени сделавшихся блестящими, фундамент из-за сибирских зыбучих почв клали из кирпичей, скрепленных яичным белком, подвалы выстлали камнем, редким в Ромске. Откуда привезли, неизвестно. Старожилы Ромска и знатоки деревянного дела утверждали, что спервоначалу дом Валентиновых снаружи ничем изукрашен не был, но в самом начале двадцатого века вдруг начал обрастать деревянной резьбой— петухами, завитушками, кружевными плетенками, фигурками птиц, зверей и рыб. Итак это все было ладно исполнено, что в конце пятидесятых годов приехал в Ромск, прослышав о необычном доме, корреспондент столичного журнала. Бойко прибежал к Сергею Сергеевичу Валентинову, развернул блокнот, но через минуту удалился — писать о доме и фотографировать его главный инженер треста Ромсксплав категорически запретил.
У резного крыльца Игорь Саввович остановился, зная, что ни звонить, ни стучать не надо. Мать главного инженера, то есть родная бабушка Игоря Саввовича, несмотря на то, что ни одно окно в сторону крыльца не выходило, каким-то особым нюхом чувствовала приход Игоря Саввовича, хотя, понятно, не знала, что он внук ее, родной внук!.. Так и сейчас. По крыльцу-веранде протопали шаги, послышался низкий старушечий кашель, и на верхней ступеньке — четвертой по счету — возникла Надежда Георгиевна Валентинова с ее ясноглазой и тихой улыбкой, склоненной мечтательно набок головой, всегдашней привычкой держать руки в глубоких карманах фартука.
— Здравствуйте, Игорь Саввович! — особым, неместным говором, как-то по-своему произнося букву «а» и ужесточая окончания многих слов, проговорила Надежда Георгиевна. — Сын давно поджидает вас, а я воду для кофе кипячу...
Он приглядывался, прислушивался, напряженно думал... Нужно было давным-давно выяснить, почему при каждой встрече с Надеждой Георгиевной он чувствовал смятение, состоящее из смеси радости, привычного для него страха, потерянности и еще чего-то непонятного — острого и уж совсем иррационального. Ничего подобного Игорь Саввович при встрече с отцом, то есть Валентиновым, не испытывал. А вот Надежда Георгиевна!
15
— Проходите, проходите, сударь! — весело говорила бабушка, делая такое движение плечами, словно хотела вынуть руки из карманов, но не могла. — Ну и загорели же вы, голубчик, просто африканский негус... Проходите же, проходите!
Прихожая у Валентиновых была такой, какие до революции, наверное, были в домах удачливых адвокатов или врачей схорошей практикой. Пахло состарившимся деревом я нафталином, стены были обтянуты не то дубовыми, не то лиственничными панелями, пол устлан прекрасной домотканой дорожкой, которая красиво продолжалась отражением в большом овальном зеркале — такие после революции из особняков перекочевали в театры. На специальной, отдельной полочке лежали многочисленные шляпы хозяина — серые, черные, зеленые, темно-синие; две шляпы странных фасонов были соломенными, одна — канотье. А вот верхней одежды было мало: висели два недорогих плаща, мужской и женский, атак называемых демисезонных пальто в доме не было. Здесь признавали только зимние пальто и летние плащи.
Едва Иторь Саввович и Надежда Георгиевна вошли в переднюю, из кабинета вышел Сергей Сергеевич Валентинов, человек выше среднего роста, с торчащей, как пика, мушкетерской бородкой. Он был в клетчатой пижамной куртке дореволюционного фасона — канты, жгуты, пуговицы величиной с металлический рубль. Седые длинные волосы, по-гоголевски прямые, лежащие на плечах, когда-то были темными, а борода и сейчас кое-где отливала чернью. По старинным приметам раз- номаетность волос на голове и бороде свидетельствовала о высокой человеческой породе, об избранном происхождении.
— Рад вас видеть, Игорь Саввович! — энергично произнес Валентинов и сделал такой жест, словно предупреждал: «Оправдываться не надо! Уверен, вы пришли бы вовремя, если бы смогли». — Проходите, сделайте милость!
После этого Валентинов привычным и знаменитым, как и он сам, движением заложил руки за спину. Теперь главный инженер сделался по-молодому прямым, бородка устремилась к высокому потолку прихожей.
— Ну-с, прошу, прошу, Игорь Саввович!
Полгода, целых шесть месяцев, Игорь Саввович под
всякими предлогами уклонялся от визита к отцу, но, как и ожидал, в домашнем кабинете Валентинова ничего не
16
изменилось, как не менялось десятилетиями. Как и прежде, одну большую стену занимали стеллажи с книгами, изданными до начала двадцатого века, вторую стену— от начала века до наших дней, причем здесь были собраны все послевоенные подписные издания. Кабинет был огромен — сорок шесть квадратных метров, — и библиотека Валентинова была полнее и больше иной районной библиотеки.
— Прошу садиться, покорнейше прошу!
Да, здесь ничего никогда не менялось! Слоноподобные кожаные кресла, двухметровой высоты напольные часы из редкого дерева, когда-то газовые бра и торшеры, переделанные под электрические, домотканые дорожки вместо ковров, огромный, как футбольное поле, шмит- товский стол с зеленым сукном, три почерневшие от времени тяжелые табуретки, сколоченные еще самим декабристом Сергеем Валентиновым, — вот и вся обстановка* На окнах ни штор, ни портьер, стены скучно побелены и украшены только портретом декабриста, прапрадеда, основателя ромского дома.
— Отчего же вы не садитесь, Игорь Саввович? — мягко спросил Валентинов, тоже стоящий возле кожаного кресла в ожидании, когда сядет гость. — У вас такой вид, словно вы что-то важное забыли, а вспомнить не можете... Оставьте, оно вдруг вспомнится...
Бабушка — вот кто походил на дагерротипный портрет декабриста. Сам Валентинов, видимо, пошел по женской линии, то есть по линии декабристов Батень- ковых, а вот Надежда Георгиевна, родословная которой имела те же истоки, мягкой линией подбородка, большим расстоянием между бровями, разрезом глаз и усмешливо загнутыми вверх уголками губ так походила на прадеда, что Игорь Саввович удивился: «Как я этого не замечал раньше!»
— В ногах, как известно, правды нет! — между тем говорил Валентинов. — Садитесь, садитесь, и забытое вспомнится...
После этого Валентинов сел сам, не расцепив рук, сложенных за спиной, что было на посторонний взгляд неудобно, даже невозможно, но для главного инженера привычно и естественно. Трестовские остряки утверждали, что Валентинов вынимал руки из-за спины в четырех случаях: когда писал, смеялся, разговаривал по телефону и ходил в то место, куда и цари путешествуют пешком. И только Игорю Саввовичу, единственному в
2 Виль Липатов, том 4
17
тресте, было известно, что главному инженеру врачами рекомендовано специально держать развернутой грудную клетку, болезненную после фронтового ранения и врожденного порока сердца, который он скрыл в сорок первом от военкомата.
— Стоя хорошо и уместно говорить правду! — неожиданно мечтательно сказал Валентинов. — Впрочем, по собственному опыту знаю, что настоящая правда ни в каких внешних оформлениях не нуждается.
Игорь Саввович сладостно погрузился в кожаное кресло, повозился, чтобы сесть удобнее, устроился так, чтобы видеть одновременно главного инженера и дагер- ротипный портрет декабриста. «Хорошо пахнет!» — рассеянно подумал он, хотя в кабинете ничем особенным не пахло, а было просто уютно, тихо, покойно, и казалось, что за лиственничными стенами нет города, трамваев, людей и автомобилей, которые могут создать дорожную пробку.
— Скоро прибудет кофе, — оживленно сказал Валентинов. — Настоящий, знаете ли, бразильский...
Интересно, на кого же из знаменитой династии походил сын главного инженера? На отца Игорь Саввович походить чести не имел, на мать Елену Платоновну — тоже. «Это дело треба разжувати», — весело подумал Игорь Саввович и сказал:
— Сергей Сергеевич, вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что ваш покорный слуга является противником Коло-Юльского плота. Голосую обеими руками «за», но думаю, что вам надо еще раз побывать на том сплавучастке, где я работал до вашего заманчивого предложения сделаться начальником отдела новой техники...
Валентинов приподнял левую бровь: «Ах вот как, оказывается! Ну, батенька, не ожидал!» Удивленная пауза была велика, и пока она длилась, Игорь Саввович грустно вспоминал, что в тресте дерзкое намерение Валентинова провести по коварной речонке Коло-Юлу большегрузный плот называли «лебединой песней» главного инженера. Проводка большегрузного плота по Коло-Юлу для Ромского сплавного треста имела революционное значение, о ней знало министерство, ожидало успеха, так как Коло-Юльским плотом завершалась эра варварского молевого сплава. Однако врачи решительно запретили Валентинову работать после шестидесяти лет, а ему было пятьдесят девять с хвостиком, и значит,
18
меньше года оставалось на большегрузный плот — «лебединую песню» крупного, известного всей стране практика и теоретика сплава.
— Вы говорите странное, Игорь Саввович! — сказал Валентинов несколько приподнятым голосом. — Никогда я не считал вас противником Коло-Юльского плота... Однако понимаю, отчего вы сделали весьма категорический вывод. И если позволите... — Он в нерешительности замолк, поджал губы. — Если вы мне позволите, Игорь Саввович, как человеку старому, битому и— простите — опытному, порассуждать о вас, то, поверьте, вашей снисходительностью я не злоупотреблю...
Главный инженер Валентинов всегда говорил такими длинными, витиеватыми периодами, к этому Игорь Саввович давно привык, а разговор с Валентиновым на тему «Кто такой Игорь Гольцов?» ожидал еще в парке, сидя на тихой скамейке. Главный инженер давно делал круги, напрашиваясь на откровенность, на губах у него так и кипели слова признания и обещания помощи, и Игорь Саввович еще в парке решил дать ему возможность высказаться. Итак, кто такой Игорь Гольцов и с чем его едят?
— Сделайте одолжение, Сергей Сергеевич! — молодым голосом и стилем главного инженера ответил Игорь Саввович. — Сделайте одолжение быть со мной откровенным. Я покорно признаю за вами право наставника и благожелателя...
Главный инженер не расслышал легкой угрозы в голосе сына.
— Игорь Саввович, — по-валентиновски энергично начал он. — Игорь Саввович, нет нужды говорить, что я хорошо отношусь к вам...
Слово «нужды» Валентинов произнес по-старинному, с ударением на первом слоге, как в романсе «Не искушай меня без нужды».
— Нет нужды говорить, что я хорошо отношусь к вам, и поэтому меня тревожат некие неосознанные пока вещи... — Он по-мальчишески замялся. — Вы разительно переменились, Игорь Саввович, за последние месяцы.
Игорь Саввович с радушной улыбкой согласно покивал.
— Не надо подбирать слова, Сергей Сергеевич, — доброжелательно попросил он. — Говорите прямо. Говорите правду, правду и только правду...
2*
19
— Правду? — Валентинов снова внимательно разглядывал потолок. — Сие сделать весьма затруднительно, ибо невозможно понять, что с вами произошло, Игорь Саввович. Хотя... — Он помолчал мрачно. — Хотя одно литературное выражение мне кажется не лишенным смысла... Вы как бы угасли, Игорь Саввович, простите ради бога! Когда я впервые познакомился с вами, я увидел веселого молодого человека, жизнелюба, слегка самоуверенного и, еще раз простите, чуточку нагловатого...— Валентинов, не спуская взгляда с потолка, поморщился.— Теперь ко мне в кабинет входит человек с потухшими глазами, равнодушный и усталый. Ради всего святого, не подумайте, что я недоволен вашей работой. Трудитесь вы исправно и безотказно, но я... Я обеспокоен искренне.
Игорь Саввович по-прежнему легкомысленно улыбался, так как ничего нового и обидного Валентинов не сказал. Каждый день, когда Игорь Саввович входил в кабинет главного, на лице Валентинова, не умеющего ничего скрывать, метровыми буквами было изображено все то, о чем сейчас говорилось.
— Благодарю за похвалу! — шутливо поклонившись, сказал Игорь Саввович. — Приятно, что вы, шеф, не разделяете мнения моих друзей. Один из них изрек: «Гольцов будет самоотверженно работать восемнадцать часов подряд, чтобы в течение восьми рабочих часов ничего не делать!»
Валентинов так и взвился:
— Что вы сказали? «Гольцов будет работать восемнадцать часов в сутки, чтобы в течение восьми рабочих часов ничего не делать»? Слушайте, да ведь это... Смешно.
Это и был один из четырех случаев, когда главный инженер Валентинов вынимал руки из-за спины. Сделал он это быстро, руки как бы выпорхнули из-под него, и раздался истинный, стопроцентный, знаменитый вален- тиновский хохот. Он смеялся так, что происходящее казалось театральным представлением, хотя ничего похожего на подделку не было: смеяться он способен был по- юношески, по-мальчишески, заразительно.
— Ха-ха-ха! — заливался главный инженер. — О, как вы меня насмешили, Игорь Саввович! Ха-ха-ха! У меня отваливается поясница. Ох-ха-ха-ха!
Валентиновский безудержный хохот, конечно, обесценил трагические, в сущности, мысли, которые главный
20
инженер с такими муками, боясь быть бесцеремонным, высказал Игорю Саввовичу, на что — хитрая бестия! — Игорь Саввович и рассчитывал, и теперь самодовольно глядел на дагерротип декабриста, чувствуя острую боль под сердцем и душащий страх — привычное, как дыхание, состояние.
— Вот такие-то дела! — потухая, сказал Валентинов. — Такие-то вот дела, дорогой Игорь Саввович!
Дела действительно занимательны! Во-первых, почему главный инженер Валентинов, известный тираническими замашками в отношении всех своих прежних заместителей, пять лет — подумать только! — пять нескончаемых лет изо дня в день, если говорить инженерным языком, изыскивает возможности установить все и всяческие контакты с Игорем Саввовичем Гольцовым? Во-вторых, почему именно за последние месяцы главный инженер понял, что с Гольцовым что-то случилось? Почему умный и наблюдательный Валентинов не заметил, что это «что-то случилось» произошло почти два года назад?
— Игорь Саввович, — мягко проговорил Валентинов. — Игорь Саввович, почему вы так замкнуты? И отчего насторожены? Ну, попытайтесь представить, что я вас позвал в гости просто так, без причины. Понимаю: старомоден, как этажерка, знаю, что в наше время одного гостя не принимают, а готовится непременно массированный десант. По-моему, лучшее количество гостей — три человека. — Он опять оживился. — Слушайте, Игорь Саввович, вам когда-нибудь приходилось выпивать на троих? В подворотне или в темном подъезде, из граненого стакана, с огурцом? Водку разливает мрачная, небритая личность, двое других бдительно следят за соблюдением справедливости и одновременно высматривают, нет ли милиционера. Ну, признавайтесь, приходилось?!
Игорь Саввович нахмурился.
— К сожалению, не приходилось! — искренне признался он. — Я ни разу в жизни не напивался вообще.
Меньше года оставалось Валентинову до того дня, когда счет годам перевалит на седьмой десяток, был он такой крупной фигурой в сплавном деле, что к нему приезжали за советами и консультациями со всех концов страны, но в быту этот избранный богом и судьбой человек был ребенком. Случалось, он задавал окружающим совершенно наивные вопросы, такие, как: «Что до¬
21
роже, метр полотна или нейлона?» Когда же выяснялось, что полотно дешевле, Валентинов немедленно привязывался с вопросом: «Почему носят сорочки из нейлона, если полотняные дешевле и — главное — полезнее?»
— Сергей Сергеевич, а вы правы! — серьезно и тихо сказал Игорь Саввович. — Я чувствую себя предельно плохо, хотя, кажется, нет никаких оснований. Вы сказали: угас. Образно и точно!
Работая рядом с главным инженером, Игорь Саввович иногда ощущал больное, надрывное и разрушительное чувство любви к человеку, который не знает, что перед ним стоит или сидит родной сын. В такие мгновения забывались мать и отчим, исчезало все, кроме желания тихо сказать: «Сергей Сергеевич, я — ваш сын Игорь!» Что будет после этого, неважно, но желание сказать это было таким влекущим, каким бывает сумасшедшее желание спрыгнуть с огромной высоты на землю.
— Я не понимаю, что со мной происходит, и, следовательно, не знаю, что делать! — продолжал Игорь Саввович. — Наверное, мне придется приспособиться к... такой жизни.
Валентинов молчал. Он наверняка ожидал другого, думал, что Игорь Саввович или не поймет его, или сделает вид, что не понимает, а может быть, станет упрямо защищаться. Однако произошло непредвиденное, и пораженный Валентинов смотрел на своего заместителя прощупывающими, недоверчивыми глазами, а Игорю Саввовичу опять подумалось, что Валентинов толстокож — если за все пять лет не заговорило в нем то, что не имеет названия и даже смысла: таинственное, непонятное, генетическое. Однако Валентинов не только не догадывался, кто такой Гольцов, но все пять лет знакомства Игорь Саввович ловил его недоверчивый взгляд, будто проверялось и контролировалось все — мысли и поступки, слова и молчание.
— Может быть, мы вместе разберемся? — с обычным энтузиазмом сказал встрепенувшийся Валентинов. — Взгляд со стороны иногда... Понимаете?
Сделав протестующий укороченный жест, Игорь Саввович перебил Валентинова, но, прежде чем сказать нужное, еще раз подумал, как это лучше «сформулировать».
— Мне думается, — сказал он терпеливо и вежливо, — что мы дошли до конца. Спасибо, но собой я буду заниматься теперь только сам.
22
— Почему, теперь? — быстро спросил Валентинов.
— А потому, что вы — третий человек, который произносит по отношению ко мне слово «угасание». Трое составляют совет, не правда ли?
Тихо сделалось в домашнем кабинете главного инженера Валентинова, если не считать, что за открытым окном тоненько попискивали молодые воробьи да царапала по стеклу черемуховая ветка, на которой, наверное, покачивался знакомый сытый скворец. Валентинов по- прежнему глядел вверх, бородка воинственно торчала, перекрещенные ноги были длинны, породисты, как и ноги Игоря Саввовича.
— Непонятный вы для меня человек, Игорь Гольцов! — задумчиво проговорил Валентинов. — Наверное, весьма и весьма отстал ваш покорный слуга от века... Яне понимаю вашего молчания, никогда не знаю, говорите вы серьезно или шутите, не могу понять, как вы относитесь к работе, к людям... Правда, бывают мгновенные озарения, когда мне кажется, что вы думаете и чувствуете одинаково со мной, но это так редко, что и говорить не приходится... — Он виновато улыбнулся. — Поверьте, у меня порой возникает такое ощущение, точно вы не землянин. Вот как отстал я от века в этих четырех стенах.
Вон, оказывается, как, батенька ты наш! Контакты с Игорем Саввовичем главный инженер устанавливает по принципу черного ящика, по принципу познания того, что было совершенно непознанно в отгороженном вот этими стенами мире. Ничего другого, оказывается, не было за спиной сверходаренного математика и аналитика Валентинова, а только чисто профессиональное любопытство к редкому экземпляру человеческой породы. Ученые мы, аналитики, исследователи!
— А вы и не старайтесь сразу все понять, Сергей Сергеевич! — произнес Игорь Саввович великолепным спокойным голосом. — Поймете — разочаруетесь, не поймете — будет продолжаться изысканная жизнь увлеченного исследователя.
В двери трижды постучали, главный инженер привычно прокричал: «Входи, мама!», и в кабинет с подносом в руках вплыла Надежда Георгиевна. Крохотулька- графин с белым вином, крохотульки-рюмки, бутерброды нескольких видов и накрахмаленные огромные салфетки, тонкие, свернутые в треугольнички, с монограммами «СВ».
23
— Вот, посмотрите, Игорь Саввович, как обращается с родной матерью ваш Валентинов! — сердито проговорила бабушка. — Не стыдно тебе, Сергей, что таскаю тяжести, а каталка — я ее называю чертовой каталкой — каталка не раскладывается... Не стыдно тебе, Валентинов?
— Стыдно должно быть не мне, а тем, кто сконструировал негодный передвижной столик! — Увидев, что Игорь Саввович поднимается, чтобы принести из коридора передвижной столик, Валентинов буквально завопил: — Эта так называемая каталка опасна! В прошлом году я ею прищемил палец, да так, что три дня не мог писать... Ради бога, будьте осторожны, Игорь Саввович! Будьте осторожны!
Сколько раз Игорь Саввович гостил у главного инженера, столько раз повторялась сцена с передвижным столиком и столько раз Игорь Саввович переживал сладкое чувство нежной любви к бабушке — такой молодой, ясноглазой, улыбчивой в свои восемьдесят три года.
— Угощайтесь, Игорь Саввович! Прошу тебя, Сережа, непременно положить салфетку на колени... Знаете, Игорь Саввович, мой великовозрастный сын коллекционирует сальные пятна. В химчистке говорят: «Такие не выводим!» — Бабушка разъярилась. — Ходить с сальными пятнами? Фи! Интересно, что говорят об этом в твоем институте?
— Я работаю в тресте, мама!
— Я не могу произносить слово «трэст». Это черт знает что такое!
И это было знакомым, ритуальным, очень смешным, потому что Надежда Георгиевна «трест» произносила через «э», презрительно и брезгливо, и при этом делала руками такое движение, какое делает чистюля-кошка, коснувшись грязной лужи.
— Я покидаю вас! — Бабушка улыбнулась. — Сергей, не забудь о салфетке.
— Мне только кофе, — сказал Игорь Саввович, исподлобья наблюдая за Валентиновым, который по- прежнему не знал, о чем говорить, когда вопрос об «угасании» заместителя был исчерпан.
— Я тоже кофе! — сказал Валентинов. — Знаете, если бы не было кофе, жизнь стала бы значительно преснее...
— Совершенно с вами согласен, Сергей Сергеевич! —
24
светским тоном ответил Игорь Саввович. — Совершенно согласен!
Болело и постанывало все: грудь, височные доли головы, ноги и руки. Страх перед неизвестностью был таким яростным, что уже представлялся чужим, придуманным, как бы отдельным от самого Игоря Саввовича. Казалось, в кресле сидит сам Гольцов, а за креслом, за спиной, стоит он — страх.
— Кофе действительно хорошо! — рассеянно заметил Валентинов. — Кофе — это, знаете ли... Ого!
Эх, если бы не эта непонятная и страшная болезнь, не эти страхи, с которыми приходилось бороться ежесекундно, Игорь Саввович сегодня непременно добрался бы до истины, то есть решил вопрос, какого рожна надо от него главному инженеру Валентинову. Только ли этнографический интерес одного поколения к другому, только ли странность и непонятность самого Игоря Саввовича влечет его, или что-то другое, более важное? Правда, в тресте поговаривали, что после ухода на пенсию Валентинова главным инженером станет Игорь Саввович Гольцов, и поэтому можно было предположить, что Валентинов изучает преемника, чтобы уверенно и безошибочно отдать свое дело в надежные руки. Если все обстояло именно так, то Игорь Саввович мог тут же сказать: «Плевал я на ваше дурацкое кресло! Извольте пойти ко всем чертям, товарищ Валентинов!»
— Игорь Саввович, — собравшись с духом, сказал Валентинов, — я так мало знаю о вас, что, ей-богу, испытываю неловкость и порой растерянность. Это вы уже, наверное, успел и. заметить.
Игорь Саввович удивленно воскликнул:
— Что вы, что вы, Сергей Сергеевич! Ни один человек в мире не может представить вас хоть чуточку растерянным!— Он ухмыльнулся. — А что касается меня, то я родился и воспитывался в привилегированной семье, ботиночное мое детство было легким, юность — светской. Я никогда не делал роковых ошибок и не стоял перед трагическим выбором. Меня можно демонстрировать как яркое свидетельство глобального благополучия. Честное слово!
Игорь Саввович злился, задирался, а Валентинов сидел неподвижно, в глазах появилась та грустная и мягкая вопросительность,: которая была знакома и по «трестовскому» Валентинову. Идет какое-нибудь очередное шумное совещание, разгораются мелкие самолюбивые
страсти, от кого-то уже летят перья, из кого-то сочится алая кровь, как вдруг главный инженер словно бы исчезает — с затуманенной, грустной и мягкой вопросительной улыбкой всматривается в самого себя, точно интересуется: «А что находится внутри пожилого человека, которого называют Валентиновым?»
— Мне трудно это объяснить, — по-прежнему не замечая состояния Игоря Саввовича и почти не слыша его, сказал Валентинов, — мне это трудно объяснить, но я часто и подолгу думаю о вас... — Он смущенно улыбнулся. — Вот я снова возвращаюсь на стези своя, хотя вы, признаться, все время меня обезоруживаете.
Валентинов отпил крохотный глоток кофе из крохотной чашки.
— Вы можете подумать, Игорь Саввович, что вы интересуете меня лишь как возможный преемник. Нет! Все много сложнее, а может быть, до смешного проще, как это часто случается с большой или кажущейся большой сложностью.
В саду, в том окне, стекло которого скребла ветка, теперь отчаянно разорялся скворец. К нему и прислушивался главный инженер Валентинов.
— Я буду откровенным, совершенно откровенным, Игорь Саввович! — энергично, но мягко продолжал он. — Вы человек настолько своеобычный и, как уже я говорил, сложный, непонятный для меня, что я знаю в вас лишь одну истину: вы поступаете всегда диаметрально противоположно моим поступкам.
Скворец был, видимо, старым знакомым Валентинова, из тех, кого в доме узнают по голосу. Десять лет назад на даче у Гольцовых тоже жил такой свойский скворец, он выучил любимую тогда Игорем мелодию и лихо, безошибочно насвистывал целых шесть тактов.
— Да, да и да, дорогой Игорь Саввович! Когда я хохочу, вы морщитесь, когда я печалюсь, вы шутите. Я ни разу не слышал, как вы смеетесь, не видел вас сердитым или гневным...
Скворец замолк, и от этого домашний кабинет главного инженера показался отчего-то ниже и меньше. «А может быть, Валентинов просто добрый, хороший человек!— лениво и неохотно подумал Игорь Саввович.— Может быть, на самом деле подводит грустные итоги». Опять вспомнилось, что Коло-Юльский плот называют «лебединой песней» Валентинова, услышались шепоты, шутки, намеки, все эти завистливые разговорчики о том,
26
что главного инженера заменит Гольдов — зять самого Карцева. Может быть, шептуны правы: родственные связи заместителя были сильнее желания Валентинова передать свое кресло более достойному преемнику, чем Игорь Гольцов. Вот почему Валентинов — родной отец Игоря Саввовича, не знающий об этом, — заранее старался приспосабливать заместителя к ответственному будущему. Иначе трудно объяснить, отчего Валентинов так упорно ищет контакта с Игорем Саввовичем, отдает ему максимум дорогого времени и, как говорили злые языки, носится с Гольцовым как дурак с писаной торбой.
— Ваше поколение, Игорь Саввович, реалистично, физики вопреки газетным статьям по сю пору в большем почете, чем лирики, но вы и здесь непонятны, — задумчиво говорил Валентинов. — Через месяц после нашего знакомства мне стало ясно, что вы отнюдь не рациональны, а еще через некоторое время я понял, что и лирическая сторона... — Он вдруг замолк, печально покачал мушкетерской бородкой. — Эх, Игорь Саввович! Когда-нибудь вы поймете, как это печально — покидать сей мир, не зная тех, кто остается, кто будет слушать, как поет скворец, читать книги, смотреть с Воскресенской горы на реку и синие леса...
Черт знает куда занесло этого Валентинова! Хочешь знать, кто займет твое заветное место, будет таскать дурацкие большегрузные плоты и ругаться со всем миром из-за такелажа, — так и шагай, сударь мой, проторенной дорогой. Задавай прямые вопросы, получай ответы, верь или не верь, но не впадай в поэтический лиризм, не играй на запрещенных душевных струнах!
— А вы знаете, Сергей Сергеевич, как вас называют наши прогрессисты? — спросил Игорь Саввович.
Валентинов удивился:
— А кто это такие — прогрессисты?
Игорь Саввович поставил на столик пустую кофейную чашку, неторопливо вытер салфеткой губы, подняв вверх — на манер Валентинова — левую бровь, предельно искренне изумился:
— Ах, вы даже не знаете, кто такие прогрессисты?! Не верится. Да это знаменитая пара из моего бывшего отдела новой техники... Вас они называют «водолазом».
— Водолазом? Почему?
— Вот этого я вам не скажу, Сергей Сергеевич... Когда-нибудь сами догадаетесь. А меня они иногда называют «милым другом». — Он развел руками, с боль¬
27
шой охотой объяснил: — Как же! Женат на дочери самого Карцева.
Валентинов рассердился:
— Безобразие и хамство! Вы женились на Светлане Ивановне, когда Карцев еще сидел в своем глухом районе... И вы не сделали отбивную из этих молодчиков?
Игорь Саввович доброжелательно улыбнулся.
— Опасно, Сергей Сергеевич! Еще могут подумать что я принимаю всерьез «милого друга». Кроме того, прогрессисты остаются моими друзьями, добрыми и честными ребятами... А хотите знать, как прозвали управляющего Николаева? Его зовут «коммутатором».
— Что? — Валентинов поперхнулся. — Слушайте,- Игорь Саввович, да ведь это... Это прекрасно!
— Я же говорил — это умные и тонкие парни!
Игорь Саввович шутил и паясничал потому, что чувствовал себя старым, печальным и усталым человеком*, перед которым шестидесятилетний главный-инженер казался юношей. Вместе с тем Игорь Саввович точно знал, что в эти минуты его лицо спокойно, губы приподняты в иронической улыбке, глаза лишь немного тускловаты. Это ему было известно по зеркалам, перед которыми, почувствовав непонятную болезнь, Игорь Саввович иногда минут по десять занимался сличением того, что отражало зеркало и что ощущалось внутри.
— Так называемые прогрессисты — это единственные люди в тресте, которые не кричат громко, что я, даже будучи «милым другом», хочу и стремлюсь стать-вашим преемником,— проговорил Игорь Саввович, тщательно пережевывая каждое слово.— Они правы, Сергей Сергеевич! — Он раскованно и щедро улыбнулся. — Что вы меня не понимаете — это плохо. А вот то, что я сам себя не понимаю, — это трагикомедия!.. Что будет, Сергей Сергеевич, если я попрошу у...— Он чуть было не сказал «у бабушки», если я попрошу у Надежды Георгиевны еще чашечку кофе?
— Мама! — по-ребячьи звонко заорал главный инженер Валентинов. — Мама! Мамочка! Игорь Саввович хочет еще кофе.
Скворец немедленно ожил — засвистел так громко, что Игорь; Саввович задохнулся. Сердце сжалось, он почувствовал, как побледнели, а потом покраснели щеки... Болен, здорово болен был Игорь Саввович Гольцов, если воспоминание о другом домашнем скворце волновало его до дрожи в коленях!
28
ВРАЧИ
Больница, которую еще называли обкомовской, находилась в самом центре города, на широкой и шумной улице, но была с фасада надежно укрыта густыми тополями,. и неискушенный человек больницу без посторонней помощи сразу и не нашел бы.
Если сама больница с улицы была упакована в тополя, то внутри ее существовало еще более тайное, прямо-таки криминальное место. На втором этаже в углу висела самая маленькая в больнице табличка «Функциональная неврология». Очень странный кабинет. Если возле всех других кабинетов старинные красные кресла для ожидания стояли у дверей, то есть открыто и даже демонстративно открыто, то возле углового кабинета кресел не было — они укромно прятались в закутке. Все это объяснялось тем, что в обычной больнице нужный Игорю Саввовичу' кабинет назывался бы коротко «Психиатр», а вот в обкомовской такого названия принять не могли. Дело в том, что даже в век научно-технической революции, когда все человечество переживало стрессы и дистрессы, когда число психических заболеваний по всему миру грозно увеличилось, пациенты этой больницы к врачу-психиатру обращаться не хотели.
Замена таблички «Психиатр» на табличку «Функциональная неврология» несколько помогла, но в корне вопроса не решила, и пришлось Игорю Саввовичу с осторожностью пробираться к врачу-психиатру, сидящему в кабинете с опасной табличкой.
Двенадцать дней назад тайно от жены и всего прочего мира, по совету матери, с которой он долго и осторожно, всемерно смягчая положение, говорил по телефону о своей непонятной болезни, Игорь Саввович пришел в опасный для карьеры кабинет. Его приняла молодая женщина — незамужняя, как понял по ее глазам Игорь Саввович. Она минут сорок беседовала с ним, удивлялась и многозначительно хмурилась и, наконец, сказав глубокомысленно: «Трудный случай!», назначила консультацию у профессора Баяндурова, принимающего пациентов в их больнице дважды в месяц. Фамилия Баяндурова у Игоря Саввовича была, как говорят, на слуху, мать и отчим несколько лет старались переманить Баяндурова в свой Черногорский медицинский институт, часто упоминали его фамилию с добавлением превосходных степеней. А в разговоре по телефону мать
29
сказала: «Повидайся непременно с Гасаном Гасановичем Баяндуровым».
Совершенно пусто было в больнице, вообще никого, естественно, не было возле опасного кабинета, и над дверью горел разрешающий зеленый глаз. Постояв се- кунду-другую возле двери, Игорь Саввович постучал костяшками пальцев, увидев, что зеленая лампочка потухла, а красная зажглась, твердо вошел в кабинет, просторный и светлый. Профессор Баяндуров — только профессором мог быть человек в татарской тюбетейке на бритой голове — стоял к дверям спиной, что-то высматривал через окно, а молодая «психиаторша» сидела с озабоченным лицом. Поздоровавшись с Игорем Саввовичем, она робко пискнула:
— Гасан Гасанович, а Гасан Гасанович!
— Так и называйте меня! — сказал Баяндуров, поворачиваясь к пациенту. — Садитесь, пожалуйста, курите, если курите... Здравствуйте, Игорь Саввович!
Он был гигантом, этот легендарный даже для отчима и матери человек — вторая, после Валентинова, ром- ская городская и областная достопримечательность в людском, так сказать, исчислении. Когда говорили о Баяндурове, то всегда начинали с тюбетейки, которая якобы вышита бисером, на скрещенных линиях вставлены бриллианты, а все остальное — золотое шитье. После этого шла фраза: «Посмотрит, кивнет — вы уснули!» Третья сенсация звучала так: «Дуплетом режет трех уток». Профессор считался и был непревзойденным охотником.
— Игорь Саввович, — насмешливо сказал Баяндуров,— я не волшебник и не шулер. Я не способен своим пронзительным взглядом творить чудеса, тем более диагностировать. — Он сердился притворно. — Не вам, Гольцову, мне напоминать: говорите! Начинайте, Игорь Саввович, начинайте...
Он понравился Игорю Саввовичу, вернее, был так родственно узнаваем, что не мог не нравиться. Таким голосом, как Баяндуров, с больными разговаривали мать и отчим, пахло от них так же, как от Баяндурова, да и обращался он с Игорем Саввовичем как со своим человеком, то есть не ломался и не строил из себя знаменитость. Большой, моложавый, выбритый до синевы, с черными глазами и огромными вывороченными негритянскими губами — такой человек вызывал, наверное, у всякого симпатию. Вспомнилось, как в одной детской
30
сказке после встречи со страшными волком и лисой заяц, чудом спасшийся, увидел медведя. Медведь был такой большой, что заяц сказал вдруг: «Привет!»
— Легко приказать: начинайте! — тоже насмешливо проговорил Игорь Саввович. — Я прочел две-три книжонки по психиатрии, в том числе и вашу, Гасан Гасанович, но ничего похожего не нашел. Минуточку! — Он поднял руку, чтобы Баяндуров справедливо не послал его к чертовой матери за дилетантскую вылазку.— Минуточку! Я хочу сказать, что упустил начало болезни и поэтому не знаю, с чего начинать, но все-таки попробую...
— Попробуйте! — совсем иронически буркнул профессор.
— По материнской линии и, видимо, по отцовской в моем роду психически ненормальных людей нет. Уверен, что не было и сифилиса! — заговорил Игорь Саввович медленно, но твердо. — Значительных травм, серьезных болезней, обмороков, потери памяти за собой не помню с рождения. Еще говорить?
— Хватит говорить! — перебил его Баяндуров и, повернувшись к молодой врачихе, обескураженно развел руками. — Вот и извольте лечить этих всезнаек! Вам он тоже диктовал ответы по схеме Патерсон — Миль — Баяндуров? Этак любой с панталыку собьется... — И опять с ироническим, но свойским и добрым лицом повернулся к Игорю Саввовичу: — Хватит говорить, дорогой Игорь, сын Лены Веселовской! Эх, не в клинике будь сказано, красивей женщины я не встречал... — И сделался серьезным. — А ну, скажите-ка, милый мой, какой бы вы сами себе поставили диагноз. Да не бойтесь, не завоплю — дилетантщину из вас не вышибить... Ставьте диагноз!
Игорь Саввович прищурился.
— Эндогенная депрессия.
— Страхи контролируются?
— Ах, если бы...
Баяндуров стал удобно устраиваться в кресле, а Игорь Саввович думал о том, что все прочитанные книги по психиатрии он помнил от начала до конца, что, доведись ему учиться в медицинском институте, как хотели мать и отчим, можно было бы сейчас идти к экзаменатору. И вопрос о контролируемости страхов, который задал Баяндуров, тоже убеждал, что Игорь Саввович много знал о себе, но не понимал, в чем дело.
31
— Опишите ваш рабочий день, Игорь Саввович! — неожиданно бесцветным производственным голосом потребовал Баяндуров. — По порядочку! По часам и минутам. Ну вот так: «Поднимаюсь в семь, при этом...»
Игорь Саввович тоже устроился поудобнее, так как разговор обещал быть долгим.
— Я просыпаюсь около восьми. Просыпаюсь не сам, — начал Игорь Саввович. — Чтобы разбудить меня, жена тратит добрых десять минут. И как только я прихожу в сознание, первая мысль... — Он помолчал, чтобы Баяндуров опять не обрушился на него за дилетантский профессионализм рассказа. — Первая мысль такова: «Опять жить? Умываться, одеваться, ехать на работу? Боже мой, кому и зачем это надо!» Еще минут пять я лежу на боку, потом поднимаюсь, бреду в ванную, где обкатываюсь ледяной водой. После этого две- три минуты я чувствую себя почти здоровым, и эти минуты — единственные за все сутки. А потом? Как бы это передать точнее? В груди начинает расти комок страха и боли. — Он помолчал, подумал. — Боль чисто физического свойства. Что-то похожее на судорогу прокатывается по грудной клетке, кажется, что останавливается в сердце и острой болью отдается в нем...
Все-таки профессор Баяндуров лгал, когда обещал не пронизывать Игоря Саввовича гипнотизирующим всепо- нимающим взглядом. Сейчас его немигающие глаза были устремлены в глаза Игоря Саввовича, тугая и острая волна воли профессора как бы вытекала из черных глазных провалов, и было такое чувство, какое бывает на рентгеноскопии, когда включаются экраны — холодок обвевал лицо и грудь.
— К тому времени, когда подходит служебный автомобиль, я уже представляю из себя то самое, что вы сейчас видите, профессор! — весело произнес Игорь Саввович. — В таком состоянии я приезжаю на работу — внешне спокойный и старательно улыбающийся на людях. — Игорь Саввович улыбнулся именно так, как он это делал на людях. — Страхи вызываются всем, что происходит и не происходит! Секретарь сообщает мне о наиболее важных событиях — страшно! Сажусь на рабочее место, беру первую попавшуюся бумагу — страшно! Поднимаю телефонную трубку — страшно! Анализ ничего не дает, хотя я беспрерывно и заведомо напрасно копаюсь в себе, что уже само вызывает страх. Думаю: «Чего я боюсь?»
32
Он замолк, и это продолжалось до тех пор, пока Баяндуров мягко не напомнил:
— Продолжайте, Игорь Саввович.
— Продолжаю... Анализ не помогает, напротив, страхи увеличиваются, а боль в груди делается 1акой, что хочется стонать.
Он опять остановился. Большелобая хозяйка кабинета, которая в прошлый раз деловито хмурилась и многозначительно хмыкала, сегодня, заслушавшись, видимо, забыла, кто она такая, где находится, и смотрела на Игоря Саввовича откровенно любопытными глазами, словно хотела сказать: «Так вот он каков, этот Игорь Гольцов!» К таким взглядам Игорь Саввович привык, так как северный город Ромск создал вокруг него и его друзей легенду об их якобы роскошной жизни, причем такой роскошной, что и сам город, создавший легенду, в нее окончательно не верил. Впрочем, некоторые основания у горожан были: Игорь Саввович был женат на красивой женщине, дружил с красивыми женщинами и мужчинами, были загородные прогулки, поездки на катерах, рестораны, Игорь Саввович и его друзья модно одевались, свободно вели себя — они были заметными; поэтому, видимо, и создалась легенда о невозможно роскошной жизни.
«Дура! — мягко подумал о врачихе Игорь Саввович. — Милая, доверчивая дурочка!»
— Мой рабочий день состоит из совещаний, писанины и телефонных звонков, — вслух говорил он. — До болезни все эти три величественные ипостаси мне казались несерьезными, но все-таки нужными. Теперь я отношусь к ним со страхом, о чем уже была. речь... — Он покорно улыбнулся. — Вот, Гасан Гасанович, какой покладистый больной сидит перед ва^и. Думаю, слышите, как мне сладко говорить о своей болезни, но хочется наконец-то выговориться... — И опять деловито поджал губы. — Я рассказываю то, что вам нужно?
— Да, да!
Баяндуров опять привирав. <^Я все давно понял, но вы рассказывайте, коли хочется йыговориться!» — было написано на лице Баяндурова и на всей его медвежьей фигуре, а кроме того, читалось откровенное: «Вы мне нравитесь, Игорь Гольцов! Человек вы занятный, славный и близкий. Не бойтесь ничего, пожалуйста, все будет хорошо!»
— К концу рабочего дня происходит странное — я
3 Виль Липатов, том 4
33
не только не чувствую усталости, а, наоборот, как бы разгуливаюсь, — сказал Игорь Саввович. — А когда нужно спать, мне почти не хочется...
Профессор сделал едва заметный жест:
— И днем вы можете уснуть?
• Игорь Саввович ухмыльнулся.
— Уснуть я способен в любое время дня, в любом положении.
— А на ночь? Принимаете снотворное?
— Никогда! — обиделся вдруг Игорь Саввович. — Я же докторский ребенок... Поворочаюсь до трех ночи, но даже димедрол себе не позволяю...
Молва не лгала! На тюбетейке профессора Баянду- рова светились настоящие небольшие бриллианты — блеск настоящих камней Игорь Саввович ни с чем другим перепутать не мог, так как его мать Елена Платоновна любила бриллианты, покупала, когда могла, и научила сына понимать затаенную, как она выражалась, красоту обработанных алмазов.
— Продолжайте, Игорь Саввович!
— После окончания рабочего дня наступает самое тяжелое время. — Игорь Саввович покосился на врача. — Пустота! Домой идти не хочется, компании надоели, женщины давным-давно не привлекают. Когда-то я много играл на бильярде, теперь не могу...
— Почему?
— Тремор рук... — Игорь Саввович спохватился. — Прошу извинить! Руки дрожат.
— Покажите.
Игорь Саввович без просьбы встал, сдвинул ступни, закрыл глаза и вытянул прямо перед собой руки — они ходуном ходили, они так крупно вздрагивали, словно он их нарочно дергал, а самого Игоря Саввовича темнота в глазах повлекла в сторону. Он пошатнулся.
— Понятно! Садитесь! — сказал Баяндуров, а сам, наоборот, поднялся. — По схеме профессора Баяндуро- ва... — Он улыбнулся. — Какие стрессы и тем более дистрессы вам приходится переносить? Игорь Саввович, это очень важно. Подумайте как следует...
Только из уважения к большому и доброму Баянду- рову, только из почтительности перед его славой Игорь Саввович сделал вид, что старательно обдумывает вопрос профессора. На самом же деле о стрессах и тем более дистрессах он думал изо дня в день не менее по- лугода, в надежде самоизлечиться, следил за собой вни¬
34
мательно и придирчиво, чтобы найти то, о чем сейчас спрашивал Баяндуров.
— Гасан Гасанович, — осторожно начал Игорь Саввович, — как это ни странно, но стрессов и — более того! — дистрессов я не переносил...
Новомодное словечко «стресс» в двадцатом веке, в годы научно-технической революции, заменяло привычные в прошлом слова «встряски», «перегрузки», «переживания», а еще более грозное «дистресс» романисты в прошлом называли пышно и торжественно: «смертельно опасное потрясение», а позже — «шоковое состояние».
— Я полгода, как кошка за норой, следил за собой и обнаружил только один легкий стресс, — сказал печально Игорь Саввович. — Только один, и притом пустяшный...
— Что именно?
Игорь Саввович ответил не сразу. Ему об этом говорить не хотелось, но он сам полез на рожон, и теперь приходилось или говорить прямо, или путаться. «Черт с ними!» — мысленно выругался он и сердито ляпнул:
— Испытываю непонятные, часто несправедливые вспышки ненависти к некоторым людям. Иногда это хорошие и добрые люди.
— Велика ли интенсивность?
— А бог ее знает! Хочется дать по морде, и притом неизвестно кому... После этих вспышек я чувствую себя выжатым, как мокрое белье...
Кто может объяснить, почему лицо молодой врачихи с каждой секундой становилось все мягче и моложе, хотя она и без того была молода? Черт знает, как это досадно, когда видишь, какую нежность излучают ее карие глаза, хотя на стуле сидит больной человек. Профессор Баяндуров — этакий пройдоха — раньше Игоря Саввовича «засек» женщину на особом отношении к пациенту и уже несколько раз с усмешкой поглядывал на нее, словно говорил: «Попалась, голубушка!» И это тоже было ненужным, отвлекало Игоря Саввовича от самого Баяндурова, и он порой терял нить мысли профессора.
— Есть ли избирательность во вспышках ненависти? — спросил Баяндуров. — Кого больше? Родных, близких людей или посторонних?
— Не знаю! — ответил Игорь Саввович. — Никакой системы нет.
Баяндуров подошел к окну, выглянул, звучно почмо¬
35
кал губами, словно звал собаку. Потом, оставаясь в окне, тоненько свистнул, и опять было похоже, что зовет собаку. Это со второго-то этажа да еще в такой больнице! Игорь Саввович понимающе усмехнулся, и как раз в этот момент Баяндуров мгновенно повернулся к нему, расширенными глазами посмотрел в лицо.
— Вас раздражало мое дурацкое почмокивание? — спросил он.
— Что вы, профессор! Смешно и нелепо...
— Тогда вопросы окончены... — Баяндуров сел. — Боюсь, Игорь Саввович, что у вас депрессия, и депрессия, как вы справедливо заметили, эндогенная... — Он надолго замолк. — Причины депрессий такого рода, думается, изучены достаточно полно, но совершенно мало в тех случаях, когда идет речь об антистрессах и антидистрессах. — Профессор улыбнулся. — Вот уж об этих двух зверях, милый Гольцов, вы в книгах не читали, да мало кто и знает о них... Впрочем! — Он сделался серьезным. — Впрочем, в работах известных эргономиков есть указания на печальные последствия так называемого сенсорного голода. Вы знаете, что такое эргономика и что такое сенсорный голод?
К сожалению, Игорь Саввович знал, что такое эргономика и что такое сенсорный голод, то есть такое явление, когда у рабочего, занятого, скажем, на конвейере в течение рабочего дня одной монотонной производственной операцией, после тяжелого рабочего дня ощущается болезненная и грозная для организма нехватка мышечной физической нагрузки — удивительная на первый взгляд.
— С эргономикой понаслышке знаком, о сенсорном голоде знаю, — медленно ответил Игорь Саввович. — Что вы этим хотите сказать, Гасан Гасанович?
Баяндуров придвинул к себе подставку с шариковой ручкой, задумчиво погладил рукой теплую от солнца пластмассу. Какие огромные пальцы, какие хорошие, добрые пальцы!
— Я погожу с диагнозом, Игорь Саввович! — строго и медленно произнес он. — Наверное, я поговорю с вашей женой, думаю, что будет полезно повидаться с моим старым другом Сергеем Сергеевичем Валентиновым — вашим прямым руководителем... Если не возражаете, я возьму вас под наблюдение. Кстати, об этом просила Елена Платоновна,
Ах вот как! Мать и здесь оставалась матерью, жен-
36
щйной, которая никогда не ошибается и всегда знает, что делает. Вот почему женщина-психиатр не хотела ничего говорить, а тянула время, то есть ждала профессора, вот почему Баяндуров не торопился.
— Вы Согласны походить ко мне? — спросил профессор и, заметив кивок Игоря Саввовича, повернулся к лечащему врачу: — Валентина Лаврентьевна, напишите рецепты... Утром тафранил в предельной дозировке, вечером триптизол — сразу десять миллиграммов. Колоть пациента не будем... Ну, Игорь Саввович, слушайте, как станем лечиться... Через тридцать дней вы спляшете в этом кабинете «Калинку-малинку»!
Игорь Саввович в задумчивости вышел из больницы, но в воротах сам собой остановился, хотя намеревался поймать первое попавшееся такси. Он изумленно принялся решать, какого черта не мог перешагнуть черту больничных ворот. Секунд через двадцать, так и не поняв, что его остановило, Игорь Саввович медленно и негромко проговорил вслух:
— А ведь со мной что-то должно случиться! Плохое, такое плохое, что даже трудно представить, как мне будет худо.
Он замолк, замер, дышал сквозь стиснутые зубы. Последняя мысль была такая: «Несчастье ходит рядом со мной, и это уже истинное несчастье!» Он шумно выдохнул воздух, вздернул голову, приподнял насмешливо уголки губ, заставил себя подумать: «Мистика! Чертовщина!» — но это не помогло.
ОТЕЦ
На шестидесятом году жизни главный инженер треста Ромсксплав Сергей Сергеевич Валентинов, дважды раненный и контуженный на фронте, с детства страдающий пороком сердца, переживал вторую молодость, отпущенную ему судьбой неожиданно, за здорово живешь, — ценный подарок, как думал сам Сергей Сергеевич, если в голову приходила несерьезная мысль, что подарок ему положен: жизнь была справедливо и несправедливо тяжела: весела и легка только в считанные минуты, а за страдания, как верили издревле, полагается рай — земной или небесный, какая разница!
Сергей Сергеевич чувствовал себя таким молодым, каким, помнится, не ощущал себя и в сорок. Просыпаясь
37
в шесть часов утра, с первой секунды испытывал радость, потребность петь, гимназисткой кружился по большой барской спальне. Напевал он всегда одно и то же, то есть «На сопках Маньчжурии», и в ответ на фальшивое пение из соседней комнаты доносился стук каблуков — это мать Валентинова, никогда не носившая в доме теплой и мягкой обуви, торопилась в кухню в твердых парусиновых туфлях.
Валентинов не уставал. После напряженного десятичасового рабочего дня совершал прогулку вокруг Воскресенской горы и опять возвращался в трест, где — веселый, деятельный и сладостно одинокий — работал за столом часов до одиннадцати. Все у него получалось и ладилось, фразы из-под пера выходили чистыми и звучными, чертежи казались выпуклыми, формулы и цифры легко сходились. По его уверенным, точным расчетам, в середине августа, самое позднее в начале сентября, по реке Коло-Юл должен пройти первый большегрузный плот. Это было революционным событием не для треста Ромсксплав — для огромной части великой реки Оби. *
Сергей Сергеевич Валентинов шел к знаменательному событию много лет, шел с фанатичным упорством, нажил кучу врагов и недоброжелателей во всех краях и на всех высотах, но теперь никто и ничто не могло остановить его.
В последние годы Сергею Сергеевичу работалось легче. На пост первого секретаря Ромского обкома партии пришел молодой, умный, деловой и завидно работоспособный человек. Это был Кузьма Юрьевич Левашев — инженер и гуманитарий, он был фундаментально и всесторонне образован. Начав партийную карьеру в области, Левашев продолжил ее после окончания Академии общественных наук в аппарате Центрального Комитета партии и опять вернулся в область, похожую на ту, в какой родился и начинал работать. Раньше Левашев и Валентинов встречались дважды, оба раза в столице: в первый раз — на крупном совещании, а во второй раз Сергей Сергеевич ездил в Москву по вызову, и совсем молодой еще тогда Левашев поддержал целиком и полностью Валентинова. Через несколько месяцев после этой встречи в журнале «Коммунист» автор статьи о. состоянии лесосплавного дела К. Левашев назвал Валентинова «одним из светлых умов» инженерии, занятой революционизированием сплава. Как же радовался Сер-
38
гей Сергеевич, когда Левашев приехал в Ромскую область!
С весны Сергей Сергеевич жил в счастливом предчувствии близкой находки, равной озарению. Он ощущал себя художником, который уже создал картину, и не хватало, может быть, мелкого, самого пустячного маэка, чтобы картина превратилась в шедевр. Одного удара кисти не хватало, чтобы большегрузный плот — десять тысяч кубометров! — плавно вписался в повороты при- чудливо-извилистого Коло-Юла, мягко проплыл над коварными мелями, увидел бы простор голубой Оби. Уверенность в близком счастливом конце молодостью пронзала Валентинова.
Во вторую субботу июля, утром, когда над городом быстро и упрямо собиралась гроза, Сергей Сергеевич проснулся ровно в шесть, усмехнувшись, подумал, что будильник от него отстал на две минуты, и радиостанция «Маяк» подтвердила, что будильник действительно врал на две минуты. Привычки лежать з кровати Сергей Сергеевич не имел, от этого его отучили в раннем детстве, и потому, вскочив на ноги, сразу начал день с вальса «На сопках Маньчжурии». В ответ на это, естественно, застучали материнские каблуки, раздался ее горловой кашель.
Перед тем как умываться, Валентинов вышел в сад, сел на низкую скамейку и затих. Это были самые сладостные минуты за весь длинный, счастливый, молодой и добрый день. Через минуту-другую на дерево, под которым сидел Валентинов, сел знакомый скворец, побормотав, запел то, чему его выучил Валентинов, — песенку «Любовь — кольцо...». Скворцу кто-то однажды подбил крыло, беспомощный, он два года прожил в кабинете Валентинова, научившись* снова летать, покинул кабинет, но из Африки домой возвращался всегда. И песенку про любовь пел Валентинову охотно.
С первой секунды утреннего бодрствования Валентинов отчетливо помнил, что в половине двенадцатого— плюс минус полчаса! — должен явиться с визитом заместитель главного инженера Игорь Саввович Гольцов. Полгода, целых шесть месяцев, заместитель под всякими предлогами — он их правдоподобно изобретать не умел — от домашних встреч с прямым начальником почему-то уклонялся, но вот наконец решил пожаловать, и все это время, пока пел скворец, Валентинову думалось только об Игоре Саввовиче, ожидание его прихода
39
было счастливым дополнением к радостным минутам утреннего сидения на низкой лавочке, вкопанной в землю еще прадедом-декабристом. Поэтому-то скамейка и была очень низкой; ушла в землю, или, наоборот, земля поднялась.
Сергей Сергеевич Валентинов был счастлив, хотя толком не знал, что это такое — счастье, и, когда спрашивали, как он понимает счастье, неуживчиво морщился. Вопрос казался глупым, риторичным, неразрешимым, наконец. Дикарь с острова Пасхи счастлив, когда держит в пальцах бильярдный шар, а Хемингуэй, великий Хемингуэй, был несчастлив на Кубе, богатый и знаменитый. Однако теперь сам Валентинов был счастлив и, как всякий счастливый умный человек, не понимал этого, а только с благодарностью думал, что в самом конце шестого десятка капризная судьба благосклонно подарила ему здоровье и, значит, молодость.
Минут десять посидев на лавочке, Валентинов умылся, взял с книжной полки книгу и пошел в кухню — завтракать. Мать вежливо ответила на его «доброе утро», а потом такими же словами и точно таким же тоном, как это делалось десять, двадцать, тридцать, пятьдесят лет назад, проговорила:
— Выдумал моду — есть с книжкой в руках. Срамник!
Он ей ответил точно такой улыбкой, какой отвечал десять, двадцать, тридцать, пятьдесят лет назад, то есть сочувственной, понимающей, но не могущей ничего изменить. Мать Сергей Сергеевич Валентинов до сих пор любил так, как любят матерей дети в нежном возрасте, жизни без нее не представлял и делал все, что матери хотелось, даже если это было для него затруднительно. Преувеличенная, безоговорочная, жертвенная любовь к матерям была принята в доме Валентиновых, на ней держались семьи и традиции, и Сергей Сергеевич ничем не отличался в этом отношении от отца, деда, прадеда, которого немножко помнил, а ведь это был младший сын декабриста Валентинова.
— Ты хоть разбирай, Сергей, что ешь!
— Спасибо, мама! Очень вкусно!
В последние недели Валентинов переживал «дрюоно- манию», то есть любовь к очередному писателю, на этот раз к Морису Дрюону. Он то носился с Голсуорси, то заново открывал казавшегося раньше простоватым Вячеслава Шишкова, то вдруг признавал гением тихого
40
шестидесятника Наумова. Теперь он жил среди королев и кровавых монахов Дрюона.
— Хотела бы я знать, что — очень вкусно?
— А вот это, мама, яичница.
— Ну ешь, ешь!
Валентинов крякнул и смутился. Матери всегда хотелось за едой поболтать с единственным сыном, а ему не хотелось; Валентинов ежедневно хотел поболтать с матерью перед сном, а ей не хотелось. Вот так они и жили, почти не разговаривая, а только переглядываясь и, конечно, понимая, что происходит с каждым из них.
— Чем, ваше сиятельство, прикажете потчевать этого-то?
— Кого, мама?
— А вот этого твоего Игоря Саввовича! Который на меня таращит девичьи глаза да тоненько вздыхает.
Валентинов отложил книгу, подняв на лоб очки, длинно посмотрел на мать, а она в ответ на бесцеремонное разглядывание повела плечами и принялась демонстративно громко и противно прихлебывать чай с блюдечка, держа его в растопыренных пальцах. Она всегда передразнивала деревенскую манеру пить чай, когда хотела позлить сына.
— Странно и даже весьма странно, мама! — выразительно сказал Валентинов. — Твое отношение к Игорю Саввовичу... Твое отношение... По крайней мере, нелояльно.
— Что?
— Нелояльно!
— Бог с тобой, Сергей, когда ты научишься разговаривать без иностранщины! — Мать вздернула голову. — Валентиновы никогда не французили в семейном кругу и не будут французить, а ты со своими этими... нелояльно! Тьфу! Русское начало, иностранный кончик — вылитый япончик... Не огорчай меня, сын, попусту!
Валентинов обозлился и обиделся, но, просчитав про себя до десяти, начал задумчиво разглядывать снятые очки, думая о том, что отношение матери, сохранившей ум, наблюдательность и опасный юмор до глубокой старости, к Игорю Саввовичу было странным. Он чувствовал, что мать ждет прихода заместителя с таким же нетерпением, как и сам Валентинов, но при этом отчего- то зло высмеивает каждый шаг, жест и слово Игоря
41
Саввовича, как только он покинет дом. Это было уже таким грубым нарушением фамильных традиций, что Валентинов боялся сказать матери элементарное: «Мама, в нашем доме за глаза о человеке...» Он вообще побаивался матери.
— Нехорошо, мама, некрасиво! — все же произнес Валентинов. — Попусту злым стыдно быть, мама, ох, как стыдно!
— Ешьте, ешьте, ваше сиятельство, пироги простынут...
— Нехорошо, мама, нехорошо!
После завтрака Валентинов дважды обошел по собственной «прогулочной» тропинке Воскресенскую гору, затем вернулся домой, чтобы заняться самым приятным делом: писанием книги воспоминаний о развитии сплавного дела на реке Оби, которая называлась, впрочем, «Моя вода» и начиналась фразой: «Стояло лето, был август, но с тополей уже падали листья, и думалось, что только в Сибири желтые листья так рано и покорно ложатся под ноги...» Фраза Валентинову не нравилась, но пришлось оставить: вся книга о прошлом получалась грустной, как эти ранние листья.
В одиннадцать с минутами Сергей Сергеевич спрятал рукопись, сняв рабочие очки, долго массировал пальцами глаза — уставали. Это было теперь единственное, что не ощущалось молодым, — зрение. Дальнозоркость катастрофически возрастала, и сейчас — без очков — он не видел собственные руки, зато резко и контурно просматривалось все, что было за широко распахнутым окном: деревья, начало тропинки, раскинувшийся за деревьями город. Крыши и купола покрывала синеватая дымка, легкая и прозрачная, говорящая о том, что уж теперь-то, когда город затянула такая дымка, дождя не будет долго.
Там, где начиналась валентиновская «рабочая» тропа, должна была сначала появиться голова, а потом и весь Игорь Саввович Гольцов, и если он не опаздывал, то через несколько минут нужно было ожидать прихода. Сев на кончик стола в глубине комнаты, оставаясь незамеченным с улицы, Сергей Сергеевич задумчиво смотрел в промежуток между тополями и тихонько, как это делают люди только наедине с самим собой, улыбался. Добрая, милая мама! Она, наверное, не выдержала бы, если бы узнала, кто такой «этот самый твой Игорь Саввович». Тогда мама уже не говорила бы, что Игорь Сав-
42
вович «таращит на нее-девичьи глаза», а поняла, почему он их таращит.
Забавно, а?! Не подозревая об этом, заместитель главного инженера Гольцов был родным сыном главного инженера Валентинова!
Вот какие диковинные зигзаги иногда выписывает причудливая жизнь, когда мужчина и женщина одинаково сильно любят друг друга, но совершенно, до безнадежности, до отчаяния, непохожи друг на друга, не понимают друг друга, как марсианин и венерианка! Боже! Мужчине и женщине вообще баснословно трудно понимать друг друга, мужчина и женщина родились, в сущности, на разных планетах, но того, что произошло с родителями Игоря Саввовича...
Музыкальный скворец, почувствовав Валентинова, перелетел на дерево, что росло под окном кабинета, сидел, покачиваясь, на той самой ветке, которая при движении задевала стекло, но молчал, песенных слов насчет «любовь — кольцо» не произносил, дожидаясь своей, скворчиной, минуты. Это был грамотный, хороший скворец.
Голова Игоря Саввовича возникла над линией тропинки без двадцати минут двенадцать; шел он медленно, поэтому вырастал постепенно, кинематографически. Хорош! Крупная, хорошей лепки голова, современное лицо, загнутые вверх в полунасмешливой, полупечальной улыбке длинные губы. Игорь Саввович имел рост выше среднего, но производил впечатление крупного, мощного человека, так как был плечист, узок по-спортивному в талии, длинноног и полон прирожденной мужской грации, о которой, естественно, не знал. Все было у этого человека для того, чтобы быть счастливым, но вот посмотрите, пожалуйста!
Глаза Сергея Сергеевича Валентинова потемнели, когда он увидел, что, поднявшись на площадку сада, Игорь Саввович остановился, вяло опустил руки и глядел в землю так, словно не знал, что делать дальше, и весь был пустой, как бы развинченный, разобранный. Валентинов знал, что на людях Игорь Саввович вздернет уросливо голову, выпрямится, но вот сейчас, не подозревая, что за ним наблюдают из глубины кабинета, стоял с таким видом, точно сопровождал погребальные- дроги.
Валентинов слышал, как мать заранее идет к наружным дверям, чтобы открыть их раньше, чем Игорь Сав-
43
вович прикоснется к звонку, и это обстоятельство всякий раз Валентинова тоже удивляло, так как Надежда Георгиевна ничего подобного не делала, когда приходили другие гости. Видимо, и этим мать хотела подчеркнуть насмешливо-ироническое отношение к странному Игорю Саввовичу.
Валентинов дождался, пока хлопнули вторые двери, выдержал еще несколько секунд и пошел неторопливо в прихожую.
— Рад вас видеть, Игорь Саввович! Сделайте одолжение, проходите, пожалуйста.
Склонив голову набок, вежливо улыбаясь, ясноглазая, прямая Надежда Георгиевна между тем смотрела на гостя настороженно и испытующе, о чем мог догадываться только ее сын Валентинов. Мать оценила парадный черный костюм, новые и, наверное, тесные туфли, деланно-оживленное выражение лица необычного гостя. А Сергей Сергеевич Валентинов забыл дышать..* Боже великий, как походили эти два человека! Сергею Сергеевичу каждый раз казалось, что Игорь Саввович слеп и глуп, если не заметил до сих пор, что он копия, слепок, зеркальное повторение своей бабушки Надежды Георгиевны. Глаза, рот, подбородок, брови — быть того не может, чтобы люди так походили друг на друга! И даже улыбки одинаковые — насмешливые и одновременно грустноватые...
— Так проходите, проходите, Игорь Саввович.
Надежда Георгиевна тоже ожила:
— Проходите, голубчик, проходите! Ох, и загорели вы, просто африканский негус...
В кабинете отца и сына разделяли три метра, кабинет был насквозь пронизан солнцем, и Валентинов, стоя и держа стоящим гостя, жадно изучал лицо сына, которое сквозь «уличные» .очки видел с мельчайшими подробностями. В тридцать лет под глазами Игоря Саввовича уже начали прорезаться аристократические, старящие его мешочки, красивые и большие серые глаза в глубине были болезненно печальны, хотя блестели выпуклой роговицей, длинный рот, казалось, увял, как это случается у быстро и неожиданно постаревших женщин. Одновременно с этим лицо Игоря Саввича было сильным — выпуклый подбородок, решительные линии скул, высокий и прямой лоб с упавшей прядью таких волос, какие были у его матери Елены Платоновны Веселовской, — тонкие, густые, истинно каштановые.
44
— Садитесь, Игорь Саввович, садитесь!
Гость, оказывается, неотрывно глядел на портрет прапрадеда-дёкабриста, а Валентинов, пригласив Игоря Саввовича садиться, произнес слова машинально, не слыша их и не понимая смысла, то есть как бы и не произносил. Дело в том, что мать главного инженера Надежда Георгиевна, о чем было известно всем близким людям, удивительно походила на прадеда-декабриста, и, следовательно, Игорь Саввович Гольцов походил на своего прапрадеда. Эта троечка — декабрист, мать и Игорь Саввович — походила друг на друга, как близнецы, и, может быть, сейчас в сознании гостя созревало нечто туманное, тревожное.
— Впрочем, — продолжал говорить Валентинов, не понимая, что говорит, и не слыша себя, — человеку редко удается обладать истинной правдой. Это я понял слишком поздно, слишком поздно...
С затуманенным лицом Игорь Саввович оторвался от портрета декабриста, оглядевшись, осторожно сел в кожаное глубокое кресло, повозился, чтобы принять удобную позу, и вдруг весело растянул длинные губы.
— Я пробовал сидеть в кресле с заложенными за спину руками, — игриво проговорил он. — Однако у меня ничего-о-шеньки не получилось...
И когда он говорил это, на лице Игоря Саввовича появилось то самое выражение, которое всегда сначала радовало Валентинова, а потом пугало. Выражение лица Игоря Саввовича было таким, точно в кресле сидел'не тридцатилетний заместитель главного инженера крупного сплавного треста, а десятилетний ребенок. Интеллект Валентинова вопреки желанию заставлял думать, что в детской бездумной улыбке Игоря Саввовича, в его временной безоружности кроется опасное, грозное, непонятное, редкое среди людей типа и возраста Игоря Саввовича.
— Вот такие-то дела, дорогой мой Игорь Саввович! — говорил по инерции Валентинов. — Такие-то
дела...
Ни черточки, ни капельки не было в сыне от внешности самого Валентинова и матери Елены Платоновны! И только мелочи, досадно незначительные мелочи в манерах сына напоминали Валентинову о женщине, которую он любил, любит и будет любить.
— Скоро приедет кофе! — оживленно сказал Вален¬
45
тинов. — Кажется, бразильский, можете себе представить...
Две черты в сыне заставляли Валентинова затаивать дыхание и сдерживать опасный стук сердца — манера вздергивать подбородок и закрывать ненадолго глаза. Так делала его мать Елена Платоновна, и, когда Игорь Саввович при Валентинове резким движением закидывал назад голову или закрывал глаза, в ушах начинал звучать аккордеон, вставали в памяти серые от дыма Бранденбургские ворота, на Унтер-ден-Линден лежал вверх гусеницами черный танк. Елена без слез, спиной вперед отходила от рейхстага, короткая юбка была прожжена в нескольких местах, на руке — чужое кровяное пятно, глаза мертвы от радости. «Валентинов, мы победили, — сказала она тихо и скучно. — Мы все-таки победили, Валентинов. — От нее пахло пожаром, губы были раскаленными, а руки холодны. — Ты живой, Валентинов? Дай я тебя, мой солдат, обниму и поцелую. Ты живой?» Сердце сдавливалось, опасная пустота образовывалась в груди, голова, казалось, была полна шампанским...
— Знаете что, Сергей Сергеевич, — неожиданно звонко сказал Игорь Саввович. — Вы напрасно считаете меня противником Коло-Юльского плота...
Какой Коло-Юльский плот, при чем Коло-Юльский плот, когда летели в ночное небо ракеты, ахали пушки, рекой лилось вино и было светло как днем? Какой Коло- Юльский плот, если у Сергея Сергеевича Валентинова болели от счастья пальцы рук, плыла перед глазами красная полоса любви к голосу, плечам, лицу, имени «Елена», запаху крови и пожарищ. Ведь у этого самого Игоря Саввовича Гольцова, заместителя, зрелого мужчины, был голос матери — единственный, неповторимый, страшный. Когда пять лет назад Валентинов услышал голос начальника Вееенинского сплавного участка Гольцова, у него потемнело в глазах, он едва-едва не крикнул: «Елена!» Но, похолодев, поймал крик стиснутыми зубами. Голос, привычку вздергивать подбородок и закрывать ненадолго глаза — вот что отдала единственная жена и единственная любовь Валентинова их сыну Игорю.
— Вот такие дела, Игорь СаввовичГ
Сын, родной, единственный, совсем непохожий на отца сын... За него надо бороться, предостерегать от чего-то, помогать, защищать, учить; сына полагалось
готовить к большой и нужной жизни, сын должен продолжать дело отца, чтобы на этой теплой и круглой земле не умерло живое, дышащее, разговаривающее и мыслящее, продолжающее тленную плоть предков.
— Странные вещи вы говорите, Игорь Саввович, — сумрачно сказал Валентинов. — Я вовсе не считаю вас противником плота на Коло-Юле.
Что происходит с Игорем? Все эти годы, последние месяцы, последние дни — что с ним происходит? Иногда Валентинову казалось, что сын болен, иногда мерещилось, что заместитель живет совсем не тем и не той жизнью, которая проходит на глазах у сослуживцев и домочадцев, а какой-то другой, тайной, неведомой жизнью, что существование Игоря Саввовича в стенах треста и дома — не главное, не самое существенное, а только приложение к той настоящей жизни, о которой никто в городе не знает. Валентинов с негодованием корил себя за подозрительность, но невольно думалось о ночных притонах, картах, тайных пирушках, порочных женщинах.
— Игорь Саввович, — вдруг решительно сказал Валентинов, — простите, но у меня такое впечатление, что вы гаснете, угасаете. Со стороны, еще раз простите, представляется, что вы изо дня в день как бы теряете интерес к жизни.
Валентинов затаился, задержал дыхание, чтобы видеть лицо сына, его глаза — глаза бабушки, понимать, что чувствует и думает Игорь Саввович, когда речь идет о таких важных, значительных, опасных вещах. «Я огорошил его, — думал Сергей Сергеевич, — однако у меня нет выхода! Это мой сын».
Игорь Саввович был глух и нем. Как всегда, он думал о чем-то своем, и, как всегда, казалось, что выражение его лица не увязывалось с мыслями, а если и увязывалось, то на пустяках: хочется воды — лицо отразит жажду, хочется развлечься — лицо отразит скуку.
— Знаете, что обо мне говорят наши прогрессисты? — лениво спросил Игорь Саввович, меняя положение туловища. — Они говорят: «Гольцов будет работать восемнадцать часов подряд, чтобы в течение восьми рабочих часов ничего не делать!»
Валентинов охнул, ахнул, откидываясь назад, навзрыд захохотал. Он и понятия не имел о том, что Игорь Саввович сейчас завидует ему, что тридцатилетний
47
гость — родной сын — хотел бы уметь хохотать «по-ва- лентиновскй».
— А знаете, как в тресте называют вас? — вежливо спросил Игорь Саввович.
— Как?
— Водолазом.
— Почему?
— Ну уж вот этого я вам никогда не скажу...
Чудак! Валентинов давно знал, почему его прозвали
Водолазом. Два десятка лет прошло с тех пор, как он случайно произнес фразу, сделавшуюся крылатой: «Знаете, сколько нужно водолазов, чтобы поднять деревянное дно одного только Чулыма? Не знаете? А вот я знаю, да-с! Ровно столько же, сколько топляков. Итак, долой молевой сплав!»
— Игорь Саввович, почему вы так замкнуты, скованны, грустны?
Всего пять лет назад Валентинов увидел живого, веселого, общительного молодого человека, начальника Весенинского сплавного участка, вдруг заговорившего голосом матери Елены Платоновны. Бабушкины глаза блестели, грудь — атлета, мощные руки по-мужицки полусогнуты, улыбка свежая и доброжелательная; современен, спортивен. А теперь? Он медленно угасал, этот Игорь Саввович, сын главного инженера!
— Что с вами? — с тоской и болью спросил Валентинов. — Я вас спрашиваю, Игорь Саввович?
Гольцов, сын, родной сын, приподнял, как гоголевский Вий, сонные свинцовые веки, бросил мгновенный острый взгляд на Валентинова и опять ушел в себя. Боже! Минутами Валентинову мерещилось такое, что приходилось насильственно улыбаться: сын казался таким странным, словно не был землянином или был изготовлен по заданной кибернетической схеме. Надо умываться — умывается, надо звонить речникам — звонит, надо уходить с работы — уходит.
«Сергей! — пять лет назад сказала о сыне Елена.— Он большой, сильный парень, он умный, тонкий, но он совсем не знает, что это такое — жизнь. Он мощный интеллект, он способен на многое, но я, мать, тоже никогда н£ знаю, чего от него можно ждать. Игорь — или очень крупная личность, или выдающаяся посредственность!» И это говорила женщина, которая никогда не ошибалась, женщина, которая умела разобраться в людях и обстановке, с точностью и быстротой электронно-
48
счетнбй машины! Она тоже не знала, кто он такой, их сын?!
— А вот и кофе приехал!
С подносой в руках в кабинет входила Надежда Георгиевна. Остановившись в нескольких метрах от них, она покачала головой и въедливо сказала:
— Посмотрите, Игорь Саввович, как обращается с родной матерью ваш Валентинов! Не стыдно тебе, Сергей, что я таскаю тяжести, а каталка — я ее называю чертовой каталкой — не раскладывается... Не стыдно тебе, Валентинов?
— Я принесу столик, — весело и охотно сказал Игорь Саввович и поднялся, пошел в прихожую, скрылся там на несколько секунд, а затем появился со сложенным столиком-коляской. Подойдя к креслам, Игорь Саввович в раздумье остановился, помедлив, резко повернулся на каблуках в ту сторону, куда должен был повернуть столик... У Валентинова перехватило дыхание... Лена! Живая, молодая и прекрасная женщина стояла перед ним. Лена повернулась на каблуках, оказавшись спиной к Валентинову, взялась обеими руками за концы длинной трофейной косынки, накинутой на плечи. Она уходила, и, казалось, Лена несла воду на коромысле: ноги переступали мелко, осторожно, чтобы ведра не качались. Секунду назад она сказала: «Итак, я исчезаю, Валентинов! Ты сам понимаешь, что я права...» Уходя, она уносила трепетный, вздувшийся, живой, горячий живот... «Я тебя люблю, Сергей, я больше никого не полюблю. Это невозможно после Валентинова. Таких людей, как ты, на земле больше нет. Думаю, ты мне приснился... И молчи, молчи, молчи!»
— Вот я и говорю, что в доме нет мужчины! — издалека доносилось до Валентинова. — Недаром в спальне у Сергея третий год валяются какие-то гантели... Тебе должно быть стыдно, Сергей, перед Игорем Саввовичем!
Встряхнув головой, Валентинов вернулся к действительности. Стояла в дверях мать, сидел в кресле тот, кого только что уносили в трепетном горячем животе, и не знал, что кабинет — его дом, хозяин кабинета — его отец. Не знал Игорь Саввович и того, что вся эта история с каталкой-столиком разыгрывалась только для того, чтобы сын, раскладывая столик, повернулся на каблуках, чтобы его отец... «Боже мой, что происходит? — с отвращением к себе подумал Валентинов. — Что я
4 Виль Липатов, том 4
49
делаю, безумный! Мой сын в опасности, а я хочу в нем видеть только его мать... Боже, неужели даже отец и сын не могут быть одним человеком?»
— Угощайтесь, Игорь Саввович, угощайтесь!
«Свое дело я оставлю сыну, родному сыну! — с ожесточением и вдруг нахлынувшим счастьем подумал Валентинов. — Я буду работать сутками, я его закрою грудью, как амбразуру! Он сердцем поймет, что мое дело — его дело, хотя никогда... Боже мой, Игорь никогда, ни-ког-да не узнает, кто такой Валентинов!»
Глава вторая
ДРУЗЬЯ
Какими-то странными путями неожиданно даже для самого себя Игорь Саввович в сумерки опять попал на Воскресенскую гору, правда, с западной стороны, противоположной дому Валентинова, но стоял так же высоко над городом, темным, затихающим. От утренних грозных туч и помину не оставалось, выпростался неохотно из-за Роми вялый месяц, какой-то мыльный и неопрятный, свет его тускло ложился на прокаленный за день асфальт, сама Ромь отблеск месяца отражала лениво, по скучной необходимости. Город сверху, в полутьме, казался маленьким, гихим, словно жителей с утра предупредили: «Запирайтесь на замки и толстые железные засовы! Город после десяти вечера будут грабить!»
В центре города напряженно жил только завод резиновой обуви, смрадный и нелепый; вспыхивали бесшумными молниями искры под троллейбусными и трамвайными дугами, кичился безвкусным и расточительным излишеством огней речной порт — прожекторы, обведенные лампочными гирляндами пароходы, лампы дневного света на жирафоподобных столбах, огни бакенов и просто огни.
Усмехаясь, Игорь Саввович вынул из кармана завернутые в прозрачную бумагу две коробочки — предписанные профессором Баяндуровым лекарства тафра- нил и триптизол. Лекарства были дорогие, одно — американское, второе — французское, и Игорь Саввович
50
смешливо подумал, что хочешь не хочешь, но становишься европейцем, коли имеешь такое модное заболевание, которое лечится только модными лекарствами. Он размахнулся и бросил коробочки с крутизны Воскресенской горы. «Голгофа некоторым образом, — с комической серьезностью подумал он весело. — Жаль, нет нищей и доброй толпы!»
На шоссе не было ни единой живой души, Игорь Саввович простоял минут десять, пока не раздался лязг и скрежет — приближалось разбитое такси с неожиданно ярким, как бы новеньким зеленым огоньком. Звякнуло, заскрипело, крякнуло — это машина затормозила.
— Куда?
— В купеческую гостиницу.
Водитель лениво открыл рот, помедлив, зевнул; казалось, тоже заскрежетал и забренчал.
— Такой не знаю! — презрительно сказал он. — А вот до «Центральной» могу добросить, гражданин!
Молодой, но какой-то сонный, выжатый, хотя смена водителя такси произошла всего три-четыре часа назад. Растрепанная голова, красные глаза, жидкая щетина, но на кожаной фуражке блестел чистенький таксист- ский знак. «Молодой и глупый!» — лениво подумал Игорь Саввович.
— Извините, шеф! Мне надо именно до «Центральной» гостиницы. Лады? «Купеческая» — это, конечно, устарело!
— Садись. Садись, кому говорят?
Игорь Саввович брезгливо открыл заднюю дверь, осторожно опустился на продавленное и грязное сиденье. Куда, собственно, торопиться? Было еще так рано, что начинать ночную жизнь мог только солдат-отпускник, а до часу ночи, когда можно осмелиться лечь в бессонную постель, оставалось столько времени, что от страха замирало сердце: «Три с половиной часа — вечность!» Он вяло махнул рукой, поймав на себе взгляд водителя в зеркале, изысканно осклабился:
— Отчаливаем, шеф!
Чтобы жить мало-мальски сносно, Игорь Саввович думал о разной мелкой чепухе, например, о том, что его жена Светлана Ивановна дает шоферам такси по незнанию большие чаевые — иногда рубль. Потом Иго.рь Саввович размышлял о Португалии, о Коло-Юльском плоте, оторванной средней пуговице на сорочке, о поющем скворце главного инженера... А молодой водитель
4*
51
между тем вел колымагу с неожиданным мастерством и небрежной лихостью. Локоть левой руки пренебрежительно лежал на проеме опущенного стекла дверцы, руль он только поддерживал снизу, сиденье шофера было по-европейски далеко отодвинуто, так что ноги шофера были прямыми — верный признак профессионализма. Нижнюю губу, добрую и кичливую одновременно, шоферюга презрительно оттопырил, так как по льстивому голосу и словечку «шеф» признал в Игоре Саввовиче «пинжака» — глупого, бестолкового и, возможно, щедрого по тупости пассажира. Естественно, что водитель ни разу за всю дорогу не удостоил Игоря Саввовича взглядом.
— Гостиница «Центральная»!
На счетчике было пятьдесят две копейки, Игорь Саввович дал рубль, лениво вышел из машины.
— Счастливого пути!
— Спасибо!
Игорь Саввович долго следил за двумя красными огнями отъезжающего такси.
В районе бывшей «Купеческой» гостиницы речной порт — шумный и яркий, как бенгальский огонь, — делал жизнь адским наказанием. Подвывали погрузочные лебедки, чавкали металлические краны; лебедки при торможении визжали по-поросячьи, краны были поделикатнее, но иногда издавали удар, похожий на уханье дизель-бабы. Нудно, как зубная боль, шипели паром отдыхающие пароходы, тарахтели моторы десятков катеров, реактивно завывали суда на подводных крыльях...
«Только законченный пижон может жить в «Купеческой»!»— сердито подумал Игорь Саввович, хотя знал, что за метровыми стенами столетней гостиницы при закрытых окнах пристанские шумы почти не слышны, но все-таки лишь пижон мог отказываться от современной и новенькой гостиницы «Ромь», сияющей огнями, наполненной барами, буфетами и тишиной. Именно фанаберия играла во все иерихонские трубы в эгом Олеге Прончатове, купчишке чертовом! Пижон, как всегда, занимал сорок седьмой номер на втором этаже, состоящий из трех громадных по-купечески комнат с гостиной и гигантским холлом, и, когда Игорь Саввович сердито обвинил его по телефону в пижонстве, Прончатов, в свою очередь, рассердился: «Я одиннадцать месяцев в году сижу в Тагаре, кто мне запретит напустить шику? Могу
52
я, черт возьми, хоть денек-другой не думать о катерах и сплотке?»
Игорь Саввович неторопливо — прямой и важный — вошел в вестибюль гостиницы.
— Вы к кому? — строго спросила женщина-администратор, хотя Игорь Саввович успел' заметить, как она торопливо бросила телефонную трубку, шепнув в нее: «Пришел Гольцов!» — Гражданин, вы в какой номер?— повторила дежурная. — До одиннадцати осталось сорок пять минут...
Игорь Саввович глядел на администратора спокойно и дожидался того, что должно было произойти.
— Игорь Саввович! — всплеснула руками дежурная, неумело изображая удивление. — Добрый вечер, Игорь Саввович! Я вас просто, ну, просто не узнала. Такой на вас костюм, Игорь Саввович! — Понизила интимно голос и закокетничала: — У себя, у себя, проходите! Сиротин здесь, товарищ Лиминский и другие... Ах, как это я вас не узнала, Игорь Саввович! Богатыми будете.
Игорь Саввович без стука вошел в гигантский холл, осмотрелся. На вешалке старый знакомый плащ, еще плащ — этот зеленый, военный — и три дамских зонтика: японских, в Ромске редких, очень ярких расцветок, из тех, что складываются в коротенькую трубочку* Администраторша не лгала — в номере на самом деле находились «и другие»...
— Входите! Кто там скребется? — послышался сильный, веселый бас. — Без церемоний!
В необъятной гостиной, обставленной с идиотской купеческой роскошью, за круглым столом, с которого сдернули бархатную скатерть, сидели пятеро: Олег
Олегович Прончатов, начальник производственно-технического отдела треста Ромсксплав Володечка Лиминский и три женщины — блондинка, шатенка и брюнетка. Блондинку звали Наташей, в городской иерархии она занимала высокий пост — была начальником городского агентства «Аэрофлот» и в летние курортные месяцы в ведомственной форме походила на царствующую особу. Брюнетку звали Нелей — она была директором одной из крупнейших в Сибири швейной фабрики. Третьей женщиной была Рита Хвощ — начальник плановоэкономического отдела треста Ромсксплав.
Олег Олегович Прончатов сидел на валике старорежимного дивана, хотя мебели в гостиной достало бы на целый симпозиум, увидев Игоря Саввовича, вскочил,
53
радостно, с распростертыми объятиями пошел навстречу.
— Игорь! Вот удружил! Я уж и не чаял тебя обнять... Здорово, старче!
Пахло от Прончатова хорошими мужскими духами и коньяком, свежевыглаженной сорочкой и пихтовой смолой, лесным, никогда не выветривающимся запахом. Они обнялись, растроганные.
— Рад тебя видеть, Олег! — негромко сказал Игорь Саввович и по-детски улыбнулся. — Ты не меняешься. Хорошо это, Олег...
Действительно, годы — быстро ли, медленно ли — шли, а Олег Олегович не менялся. Картинно упавшая на высокий лоб густая прядь каштановых волос без единой сединки, гладкокожее загорелое лицо, энергичное, открытое, дерзкое, и жесты — отрывистые, всегда законченные. По-прежнему здорово походил Олег Олегович Прончатов на того бронзового Маяковского, что стоит на одной из московских площадей, да и внутренне — так думал, может быть, только один Игорь Гольдов — его старший друг походил на поэта. Мощь и энергия, неукротимое правдолюбие и несгибаемая воля — все это соседствовало с известной лишь немногим ранимостью и щедрой нежностью. Начав с простых плотовщиков, Олег Олегович Прончатов добрался до института, после него работал главным инженером, и это под его руководством был проведен по Улыму первый в истории области большегрузный плот. Новые сплоточные машины, краны и лебедки проходили испытания у теперешнего директора Татарской сплавной конторы, с его мнением считались специальные журналы- и кафедры в институтах, Прончатов давно мог сидеть в одной из небольших комнат министерства, но не хотел этого и жил так, как хотел и любил жить. Он не умел работать без полной и безоглядной отдачи, не умел веселиться вполсилы; он все, что делал, делал с блеском и порой излишним шиком. Новый кран — так сутки на кране, коньяк — так полдюжины, осетрина — так целого осетра на стол! «Прончатов — это Прончатов, и пишется Прончатов!» — мог заносчиво сказать он, но Игорь Гольцов понимал, что так не говорят по-настоящему самоуверенные и заносчивые люди. Вот и сейчас, закинув победительно голову, словно это не он по-мальчишески обрадовался заместителю главного инженера, Прончатов почти покровительственно бросил:
— Проходи, садись, старче!
54
Игорь Саввович повернулся к столу, наклонил голову.
— Здравствуйте, Игорь Саввович! — первым поздоровался Володечка Лиминский. — К нашему шалашу!
Женщины, улыбаясь, тоже приветственно наклонили головы. После этого Игорь Саввович с улыбкой посмотрел на третьего мужчину, почти шепотом, но энергично разговаривающего по телефону. Это был полковник Дмитрий Никитич Сиротин — очередная городская и областная знаменитость. В своем кругу, то есть среди тех, кто сейчас сидел в купеческой гостиной, полковника шутливо звали Митрием Микитичем, любили его, ценили, но нещадно эксплуатировали. Дело в том, что полковник Митрий Микитич круглые сутки творил для человечества добро, добро и только добро. Сейчас он по телефону, шепча и жестикулируя, тоже делал очередное добро.
— Веселый, бодрый контингент! — одобрительно сказал Игорь Саввович в пространство. — Вливаюсь в струю сладкой жизни.
Прончатов, Гольцов и Лиминский кончили один и тот же факультет Черногорского лесотехнического института, но с разницей примерно в четыре года. Когда Игорь Саввович Гольцов и Лиминский поступили на первый курс, Прончатов учился на последнем. Времени для дружбы в институте им было отпущено немного, но трое успели подружиться.
— Рита, — поучительно сказал Игорь Саввович, подсаживаясь к шатенке, — так не поступают порядочные люди с порядочными людьми. Ты не гуманистка! Надо заранее предупреждать, когда хочешь из красивой женщины превратиться в кинозвезду. Ай-ай и ай!
Маргарита Васильевна Хвощ косметику никогда и никакую не применяла, а сегодня она пустила в ход весь арсенал заграничных фирм.
— Зачем? — тихо и доброжелательно спросил Игорь Саввович.
— Надоела себе самой, — тоже тихо ответила Рита. — Так смешнее жить...
— Не приставай к женщине! — сказал Прончатов. — Какой быстрый!
Прончатов, как й все в тресте, считал, что начальник планово-экономического отдела Маргарита Васильевна Хвощ давно влюблена в Игоря Гольцова. Великий жиз¬
55
нелюб, Прончатов рвал и метал: «Ты деревяшка, Гольцов, гнилая, трухлявая деревяшка! Такая женщина любит тебя, а ты! У, идолище поганое!» В таком же роде говорили и другие, но Игорь Саввович только усмехался. Он понимал, что между ним и Ритой происходит серьезное, совсем другое, что не объясняется примитивно: «Влюблена!» И эта печальная улыбка Риты, и бережное обращение с ним, и постоянно молящее выражение глаз: «Ну, проснись скорее, проснись же, Гольцов!» Это походило на серьезную любовь, было тревожным, как ночные вкрадчивые шаги за тонким окном.
— Игорь, не разлагай компанию! — укоризненно продолжал Прончатов. — Давайте выпьем, друзья! За встречу!
Игорь Саввович посмотрел на стол, шикарный по- прончатовски. А между тем еда была почти не тронута, бутылки не открыты — только в бутылке армянского коньяка не было пробки, но выпито лишь на палец больше половины.
Прончатов был завидно хорош! Бронзовой величественности, как и всегда, не терял, но был живым, открытым, искренним, знаменитая прончатовская энергия так и била через край.
Приглашая есть и пить, Прончатов обводил друзей испытующим взглядом, требовал наполнять рюмки, но, видимо, в застолье еще до прихода Игоря Саввовича произошло нечто такое, что механизм веселья замедлился и скрипел умирающе. Какая-то шестеренка отказала, сломался зубец у другой, и вот заедало, останавливалось, стопорилось.
— Ну, чего же мы медлим? — бронзовым голосом сказал Прончатов. — Почему не слышно хрустального звона? Где крики? Где забубенность?
Ни ответа, ни привета. Сидела возле Прончатова неулыбающаяся женщина Наташа, застыв в ленивой позе, курила отрешенно директор швейной фабрики Неля, Рита задумчиво вращала вокруг пальца большой красивый перстень. Молчали, думали, слушали. Окна номера выходили в сторону, противоположную речному порту, звуки были приглушены, а почему-то хотелось, чтобы шум порта терзал уши. Так бывает с человеком, который не может уснуть, если в комнате шепчутся, и засыпает сразу, как только начинают говорить в полный голос.
56
— Игорь Саввович, товарищ Гольцов! Будете брать свою рюмку или не будете? — рассвирепел Прончатов. — Извольте пить!
Игорь Саввович посмотрел на рюмку, наполненную Ритой, пожал плечами.
— Странно! — медленно проговорил он. — В чем, собственно говоря, дело? Почему хозяин харчевни обращается ко мне? Есть Володечка Лиминский. Посмотрите, какой он старательный!
Действительно, на фоне скучающих женщин, занятого телефоном полковника Митрия Микитича, привычно величественного Прончатова начальник производственно-технического отдела казался необычно деловитым, приподнятым и по горло занятым. Его соседка, молчаливая Неля, от нечего делать пыталась понять, что изображено на почерневшей от старости картине, висящей над бездействующим камином, а Володечка Лиминский предпринимал героические меры, чтобы привлечь к себе ее внимание. Осторожно, как бы случайно задевал выпуклое бедро, пытался шептать на ухо; глаза у него горели елочными лампочками, причем разноцветными: синяя и зеленая.
— Лиминский! — театрально обрадовался Прончатов. — Бери в длинные руки бразды правления, Лиминский!
Начальник производственно-технического отдела с великим рвением принялся выполнять приказ. Для начала он попытался оторвать от телефона полковника Митрия Микитича, но тот ему показал ядреный кулак. Потом Лиминский взялся за женщин — каждой сунул в руки рюмку, целуя при этом запястье, а затем встал и громко произнес свое обычное.
— Уперед, граждане! — с ударением на предпоследнем слоге в слове «граждане» торжественно провозгласил он.
Примитивный был человечишко, этот Володечка Лиминский, и было очевидно, что умная и сановная Неля ему не по плечу.
— Граждане, уперед, говорю!
Шепотом разговаривал по телефону полковник, молча и жадно курили женщины, улыбался странной улыбкой Игорь Саввович, думая о том, что женщины многим похожи друг на друга, хотя внешне были подчеркнуто разными. Они походили усталой от мужских дел замедленностью, отвращением к мишуре и пышным словам,
57
интеллектом, эрудицией, одинаковым воспитанием в интеллигентных обеспеченных семьях.
— Чего же, граждане, а?
Шумел приглушенно речной порт, покряхтывал от старости купеческий буфет, шептал по телефону полковник.
— Позвольте мне, — тихо сказала Рита, вынимая изо рта сигарету. — Раскошелюсь, бог с вами! — Она медленно, словно чугунную, подняла рюмку. — Хочу выпить за вас, бабы! — И сосредоточенно помолчала. — Вы, мужики, еще не понимаете, кто сидит с вами. И я вас не обвиняю. Вы пока не способны понять, что мы — такие бабы, каких еще никогда не было. Я не заношусь, напротив, говорю грустные вещи. Ох, как не хочется женщинам становиться мужчинами! — Она лихо крикнула: — Ну, бабы, за вас!
— За вас, наши милые, милые женщины! — восторженно пискнул Володечка Лиминский и звонко поцеловал Нелю в щеку. — Будьте здоровы и счастливы!
Неля не заметила поцелуя: три женщины смотрели только друг на друга, были серьезны, печальны и уста- лы, но рюмки сдвинули громко, коньяк опрокинули в накрашенные рты одним глотком и, подобно людям армейской выучки, без команды, но одновременно сели — по-прежнему серьезные и печальные.
— Я человек культурный, — прежде чем выпить, громко сказал Володечка Лиминский. — Я человек культурный! Утром встану, поброюсь, одеколон допью...
Кто-то неохотно взял яблоко, кто-то лениво ковырнул вилкой семгу, кто-то, сморщившись, жевал лимон. Стало как-то необычно тихо — это полковник Митрий Микитич положил — вот новость! — телефонную трубку. Он никогда не носил форму, в форме Сиротина никто и представить не мог. Летом полковник носил пестрые рубахи навыпуск.
— Поздравьте! — радостно сказал он. — Устроил девчушку в педагогический... Уговорил!
Никто за столом, естественно, не знал, какую девчушку Митрий Микитич устраивал в Ромский педагогический институт, да и сам полковник, случалось, не знал, кто она, эта девчушка, и как выглядит. Устраивал в институт девчушку полковник потому, что кто-нибудь из знакомых позвонил ему и между делом попросил поспособствовать поступлению в институт племяннице старого друга. Этого было достаточно, чтобы полковник
58
Митрий Микитич начал хлопотать. А как же иначе, если полковник круглыми сутками был занят тем, что творил добро, добро и только добро!
— Будет учиться девчушка! — сладостно потирая руки, повторил Митрий Микитич. — А вы уже, поди, назюзюкались.
У полковника было круглое, идеально конопатое лицо, круглые глаза и такой же рот, да и сам полковник при росте в метр шестьдесят два и при здоровой полноте казался абсолютно круглым. Родился он в деревне Ромской области, происходил, как говорят в Сибири, из чалдонского рода коренных русских жителей, и поэтому в его речи сверкали яркие и прекрасные старинные словечки типа «ланись» вместо «в прошлом году» или «намедни» вместо «вчера».
— А ты, милиция, пей! — насмешливо оказал Прончатов. — Скоро опять прильнешь сосунком к телефону!
Рюмки снова были налиты. Лиминский старался шутить и веселиться, но в грандиозной гостиной под абажуром с хрустальными подвесками, казалось, висело дымное облако скуки и неприютности, и даже Прончатов со своей блондинкой Наташей казались печальными. Время текло медленно, как песок в суточных часах. Отбивали медные секунды часы в деревянном футляре, минуты уходили в холодную вечность пресной водой сквозь вялые пальцы, и было такое ощущение, что и в комнате, и за окном, и везде жизнь остановилась, а пристанские шумы походили на стук последнего вагона уходящего в неизвестность поезда.
В двери деликатно постучали. Прончатов быстро поднялся, сделав властный успокаивающий жест, бронзовым идолом пошел к дверям.
— Выйдем вместе! — сказал он Игорю Саввовичу. — Надо сказать пару слов дежурной.
В коридоре Прончатов и Игорь Саввович понимающе переглянулись, затем Прончатов резко открыл двери, не дав дежурной по этажу просунуть нос даже в щелочку, вышел, чтобы «объяснить» дежурной по этажу, почему после одиннадцати часов в его номере пребывали гости, когда гостиничными правилами это было категорически запрещено. От нечего делать Игорь Саввович посмотрел на себя в громадное зеркало. Грудь, если выражаться литературно, раздирало когтями страха, жалили сердце булавочные уколы, но ему самому неожиданно понравилось зеркальное отражение. Стоял спо¬
69
койный, несуетный, еще молодой человек с непротивным и даже — представьте! — мужественным лицом и такими глазами, что трудно понять: отражается ли в них тоска, или глаза, так сказать, налиты начальственной влагой. «Держись, старина!» — подумал Игорь Саввович и подмигнул своему отражению.
— Крепкая баба попалась! — со смаком и одобрением сказал Прончатов, вернувшись в прихожую. — С юморком, с размахом! Не приняла, а допустила меня до счастья дать ей на лапу... Ну вот что, старче! Я тебя не для дежурной вызвал. — Он положил ру-ку на плечо Игоря Саввовича. — Весь этот междусобойчик я ради тебя устроил. — Прончатов усмехнулся. — Лиминского я не видел? 1— Он привлек к себе Игоря Саввовича за плечи. — Встряхнись, оживи, почувствуй вкус жизни!
Прончатов выпрямился, страстно продолжал:
— Только не сдавайся, слышишь, не сдавайся — пропадешь. У всякого бывает — жить не хочется! Скрипнешь зубами, и еще как жийешь... Ты слышишь меня, старче! Я тебя люблю! Ты штучное производство. Коло-ЮльСкий плот — эпоха, а ты... Ты раскис, как гимназистка! Ну говори! Хочу твой голос слышать — соскучился.
Игорь Саввович молчал — болела опять грудь, и было по-обычному беспричинно страшно. Однако тихо сказал:
— Я стараюсь, Олег! Все, кажется, перепробовал. Безрезультатно.
— Врешь! — загремел Прончатов. — Не стараешься, а — вот именно! — пробуешь... — Он снова обнял друга. — А может, тебе вернуться на Весенинский? Хочешь?
— Не хочу! То есть че думал, хочу ли...
Прончатов замолчал, непривычный: тихий и грустный.
— Хотел бы я знать, что с тобой! — проговорил он. — В болезнь не верю... Знаешь, что Рита сказала моей белокурой пассии? «Всех мужчин мира меняю на одного Игоря Гольцова». — Прончатов непонимающе, словно не человеку, заглянул Игорю Саввовичу в глаза. — Неужели этого мало, чтобы наконец перестать...
— Что перестать, Олег?
— Смотреть на мир глазами старой больной собаки. Ты хоть напейся, что ли! За десять лет я тебя ни разу
60
не видел пьяным. Живой же ты, черт побери! Ну говори, чем могу помочь? Сам говори!
Игорь взял его руку, погладил прончатовские пальцы.
— Спасибо, Олег! Не знаю, чем мне можно помочь. А за вечеринку спасибо! Я понял, что для меня весь этот дурацкий шик...
Прончатов наклонился к Игорю Саввовичу совсем низко.
— С женой плохо? Не лги только! Пришли будни? Правду говори!
— Бредишь, Олег! Ни разу не поссорились. Хорошая жена!
Прончатов замолк. Редкий это был случай, когда сам татарский бог не знал, что говорить, что думать.
— Ну хорошо, Игорь! — сказал он. — Поживем — увидим! Пошли!
В гостиной ничего не изменилось. Женщины сидели тесно, как бабы на посиделках, и были серьезны, как те же бабы, занятые пряжей, и было забавно видеть бабское, древнее, деревенское в облике трех ультрасовременных женщин.
— Послушайте, люди добрые, какая беда со мной приключилась! — вдруг громко и нервно сказала Неля и при этом скучно улыбнулась. — Хочу влюбиться до чертиков, а не могу... Ну, чем я прогневала господа!...
Гости молчали. И даже Прончатов молчал. Оставаясь образцовым семьянином, Прончатов время от времени влюблялся, и любил со всеми онерами — цветами, стихами, ревностью и любовными размолвками. Игорь Саввович знал со слов Олега, что первый секретарь обкома партии Левашев при случае деликатными намеками дал понять Прончатову, что хорошо бы вообще стать солидным человеком, а если уж Пронча- това время от времени «пронзала» любовь, не делать из нее зрелищное предприятие. Прончатов вышел от Левашева смущенным, а позднее сказал Игорю: «Хорошо он со мной говорил, если честно признаться! Старше меня на год, а разумом держал меня на ковре. — Прончатов подумал и с улыбкой признался: — Поймал меня на тщеславии. Я же всех возлюбленных не могу не продемонстрировать друзьям и не друзьям. Тщеславие," брат! И фразу хорошую нашел Левашев: «Любовь в рекламе не нуждается!»
Игорь Саввович спросил: «Как же он тебя отпустил чистеньким?» Прончатов ответил быстро и просто:
61
«Хорошо информирован. Знает, что я не блужу, а влюбляюсь... Кстати, он тобой интересовался. Хочет знать, почему ты постепенно отходишь от дел...»
— Ко мне приезжала из Ростова бабушка, — выждав паузу, тихо и таинственно сказала Рита. — Она рассказала, как они безумно веселились в молодости: играли во флирт... — Она старательно изображала веселое оживление. — Игорь, дайте-ка мне мою сумочку. Спасибо! Вот это знаменитый у наших бабушек флирт...
Засаленные десятилетиями, распухшие от частого употребления и от времени, но изготовленные из веленевой бумаги, с затейливыми виньетками по краям, на стол легли карточки игры, популярной и легендарной в начале века среди чиновников, мещан, а позднее нэпманов и провинциальных барышень. На каждой карточке крупно было напечатано название цветка, под ним литерами поменьше шел пророческий и любовно-игривый текст.
— Правила игры просты, — важно и преувеличенно торжественно сказала Рита. — Я протягиваю карточку, напрш-лер, Игорю, говорю: «Резеда», а вы читаете соответствующий текст. Итак, начали! «Резеда», Игорь! Остальные разбирайте карточки. Ну, позабавимся!
Игорь Саввович прочел с неожиданным любопытством: «Если Вы хотите знать, что я думаю о Вас, прочтите «Настурцию». На той же карточке под «Настурцией» значилось: «Возможно, я Вас могу полюбить. Только не будьте таким ветреным». Он засмеялся, озабоченно почесал затылок, поразмыслив, остановился на «Гиацинте», под которым стояло: «Все может быть, если Ваше прекрасное сердце не занято». На это Рита мгновенно ответила «Ландышем»: «Все зависит только от Вас».
— Смотрите-ка, еще с ятем! — восхитилась Неля. — Беседка, оказывается, писалась через ять. Лиминский, где вы найдете теперь увитую плющом укромную беседку, в которую приглашаете меня «Гладиолусом»? Вы и здесь порете дичь... «Гортензия»! Это вам, несносный Лиминский!
Оживился и Прончатов, печальный после коридорного разговора с другом. Только Митрий Микитич опять секретничал с телефоном. Пришедший в себя татарский директор загреб ручищей стопку карточек, плотоядно осклабился, но, заметив, что Наташа карточки не берет, шутливо нахмурился и погрозил ей пальцем. Блон¬
62
динка без улыбки взяла карточки — она была прекрасна своей бесстрастностью и простотой. Читая карточку, она по-ученому нахмурила большой ясный лоб. Наташа к двадцати семи годам умудрилась окончить консерваторию, факультет иностранных языков, в совершенстве владела тремя языками: немецким, английским и — не удивляйтесь! — остяцким, на котором разговаривали аборигены Ромской области, нуждающиеся в хорошем переводе.
— «Георгин»! — вкрадчиво сказал Прончатов. — Держи, Наташка!
И как раз в это время Неля, наклонившись, протянула карточку Игорю Саввовичу:
— «Роза»!
Он прочел: «Вы любите, но не хотите признаться». Подняв глаза, он увидел, что Неля соединяет многозначительным взглядом его и Риту. Это было нелепо и смешно.
Игорь Саввович втихомолку улыбнулся, наклонившись к уху Риты, шепнул:
— Ты уверена, что Неля равнодушна к Лиминскому?
Рита покачала головой, нахмурившись, покрутила
пальцем возле лба.
— Гольцов, вы глупы...
— Рита!
Она засмеялась, потом погрустнела, потом опять засмеялась и тем голосом, каким они разговаривали на работе, но, обращаясь к нему на «ты», серьезно сказала: — Неужели ты не понимаешь, как это противно — здоровый, веселый, развратный и глупый мужик? «Гелиотроп».
«Я тебя люблю безумно», — прочел Игорь Саввович и мгновенно ответил «Львиным зевом», где стояло: «Взаимно, если не шутите». После этого одновременно с Ритой он лениво бросил карточки на стол... Ну кто бы поверил, что знаменитый Прончатов, три красивые, умные, образованные женщины, Гольцов и сын профессора. физики Лиминский играют во «флирт» и при этом истинно наслаждаются!
— «Роза»!
— «Орхидея»!
Между тем у Володечки Лиминского дела шли, по- жалуй, оживленнее, чем у других. Нарочно не заметив два грубых выпада Нели, уставшей за неделю от изматывающей работы, он медленно, но — кто знает? — вер¬
63
но шел к желанной цели. Из-за недостатка карточек «флирта» в ход уже пошли клочки бумаги и карандаши, потный Лиминский писал как заведенная машина, старался изо всех сил и к тому времени, когда Игорь Саввович и Рита отыгрались, опять держал руку на коле- . не Нели.
— Не скучай! — попросил Игорь Саввович Риту. — Забавно ведь, а?
— А пить мы еще будем, граждане?
— Напьемся, напьемся! — с энтузиазмом подхватил Лиминский, ничего до сих пор по тупости не поняв. — Игорь Саввович, голуба-душа, придвинь ко мне водочку, Риточка, вашу рюмку, Наташа, ваш бокальчик... Олег Олегович, а ты чего? Логарифмы берешь?
Кажется, налаживалось: разлили вино, водку и коньяк, мужские пальцы с обручальными кольцами, женские — с перстнями и кольцами взялись за хрустальные ножки, но что-то опять не сработало: пустяк, мелочь, соринка, а здание бесшумно рушилось, рассыпалось на глазах.
— Хочу выпить за наших женщин! — не унимался Лиминский. — Дай им бог хороших мужей и всего другого, чего хотят! Ура!
Раздался медленный, наслаждающийся хохот Нели.
— Ей-ей, лучше не скажешь! — рокочущим от смеха голосом проговорила она. — «Дай им бог хороших мужей и всего прочего!» Голубчик, лапушка Лиминский, не надо мне желать того, что есть! Муж? Мигну — будет отутюженный красавец, полный ко мне любви и обожания, выну из сумочки ключ — завожу собственные «Жигули» последней модели, выну другой ключ — трехкомнатная квартира без смежных комнат. Эх, Лиминский! Глупый, смешной мужичонка..... Ну чего еще там полагается, по-твоему, для радости? Дача? Есть. Девочки, бабоньки, подскажите, что еще нам надо? Счастья? А в чем-оно? Дурак ты, Лиминский. Ну, сообрази, что нам надо? Эх, Лиминский, не знаешь и знать не можешь! Любви! Понимаешь! Любви надо! Она гневно сжала пальцы. — Да с кем я разговариваю? Обворовал всех — себя, жену, незнакомую женщину, но поставил галочку в блокноте: «девятнадцатая»! Отодвинься от меня, Лиминский! — Она была страшна. — Хорошего мужа желаешь, а за коленки хватаешь. Идиот!
Прончатов неторопливо поднялся, подойдя к окну,
64
уперся лбом в стекло — известная, знакомая всем, любимая прончатовская поза. Хорош до зависти!
— Вот чего я хочу, подружки! — глядя на него, бабьим голосом проговорила Неля. — Прончатов, хочу от тебя ребенка! Стань отцом и забудь об этом навсегда!
Прончатов обернулся, зло спросил:
— Кого заказываете? Мальчика, девочку?
— Естественно, девочку!
Прончатов снова прочно уперся лбом в оконное стекло, и опять огромную гостиную наполнила скучная, серая, шероховатая тишина — ни звука, ни движения. А в комнате сидели интеллектуалы и эрудиты, здоровяки и смельчаки, много ездившие по свету люди, в полном расцвете сил и ума, лишенные ханжества и предрассудков. Завести бы увлекательную беседу, послушать, как Маргарита Васильевна Хвощ побывала в Норвегии, что видела, слышала, или разговорить Нелю, вернувшуюся неделю назад из Франции, где советские швейники изучали опыт знаменитых французских фирм. Тот же суетливый и пошловатый мышиный жеребчик Володечка Лиминский, обладающий фантастической памятью, знал добрую сотню умных, тонких анекдотов, так как на самом деле, в трестовских стенах и дома, был другим человеком. Он делался идиотом только в том случае, когда коллекционировал женщин.
— Хотите кофе? — глядя в окно, спросил Прончатов. — По штату положено...
— Хочу! Идея! — внезапно раздался голос позабытого полковника Митрия Микитича.
Потирая руки, откровенно довольный собой, полученной для кого-то путевкой, он подошел к столу, хитро прищурился — не хотел продешевить, выбирая еду.
— Люблю, грешный! — сказал полковник, смачно засовывая в рот кусок семги. — Где же кофе?
Мягкой, славной, неотразимой улыбкой цвело его круглое лицо, розовое и щекастое; сияли замечательные голубые глаза, которые выдержали бы пошлое сравнение с васильками. Пятьдесят два года прожил на этой теплой и круглой земле полковник Сиротин, трижды был ранен, умирая, четыре дня прятался на мызе в Польше; три дня над его головой разговаривали немцы, нашли, упрятали в лагеря, били и приговорили к расстрелу за побег, но он чудом выжил; казалось, должен был смотреть на мир хмуро и зло, однако хорошо, доб¬
5 Виль Липатов, том 4
65
рокачественно, по-русски был устроен Митрий Микитич — не оставили страдания ни одной горькой морщинки на его лунообразном лице коренного сибиряка, чалдона, рыбака и охотника.
— Где кофе, спрашиваю? — грозно повторил полковник. — Ну?!
— Кто хочет кофе, тот варит кофе, — сказала Неля. — Ты большой человек, Сиротин!
— Не задирайся, Нелька! — ласково ответил Митрий Микитич. — Еще будешь ползать на коленях: «Достань, родной, веретенное масло!»
Полковник Дмитрий Никитич Сиротин, как острили в городе, делал бескорыстное добро в стоячем, сидячем, лежачем и висячем положении. Не надеясь даже на спасибо, порой с риском для себя, всегда за счет личного отдыха и даже работы, он трудолюбивой пчелкой занимался делами знакомых, малознакомых и просто незнакомых людей. Полковник жил много лет в малогабаритной квартире из трех комнат, помещаясь в ней с женой, тремя детьми и тещей, а доставал четырехкомнатную квартиру некоему полузнакомому доценту на трех человек; жена полковника Нина ходила в старенькой цигейковой шубе, а муж-полковник выбивал сверхмодную дубленку сестре соседа по дому; полковник все время кого-то прописывал, устраивал в институты, доставал шифер, выручал проштрафившегося шофера-лю- бителя. Он совсем не думал о себе, этот Димка Сиротин, и однажды при Игоре Саввовиче, пять лет дружившем с полковником, Нина, жена полковника, разбушевалась: «Хоть спать-то спокойно я имею право? Я тебя, Игорь, спрашиваю: спать я могу? А ему звонят всю ночь!»
— Где кофеварка? — голосом хорошо отдохнувшего человека спросил полковник Митрий Микитич. — Олег, где электрическая кофеварка, которую я тебе достал для длительных командировок? Гони! Заварю кофе...
— Не надо кофе, — резко сказала Рита. — И вообще спать пора!
— Идея! — подумав, сказала Неля. — У меня в девять пятнадцать деловое рандеву... Лиминский, убери лапы, хочешь получить по физиономии?
Блондинка Наташа по-прежнему задумчиво ковыряла вилкой осетровый хвост. Оца, казалось, решала какой-то заковыристый, но не очень важный вопрос.
66
ЖЕНЩИНА
Промчавшись по улице Декабристов на невозможной скорости, Неля остановила новенькие «Жигули» возле высокого мрачного дома. Не оборачиваясь к сидящим позади Рите и Игорю Саввовичу, не вынимая изо рта сигарету, она спросила в пространство:
— Правильно?
Игорь Саввович и Рита, сонные и вялые, полулежали на заднем сиденье, разделенные опущенным подлокотником, — барским удобством модели «Жигули-203- люкс». На светящихся часах приборной панели стрелки едва приближались к часу ночи, радиоприемник на средней волне повторял программу «С добрым утром!» — острили насчет рассеянных советских профессоров и польских бюрократов.
— Хорошо работает мотор! — одобрительно сказал Игорь Саввович. — Повезло тебе, знаешь ли...
В мрачном и высоком доме с очень удобными квартирами жила начальник планово-экономического отдела треста Ромсксплав Маргарита Васильевна Хвощ, и, пока шел разговор об удачном моторе, она в боковое окно разглядывала здание, чтобы, наверное, по числу освещенных окон определить, спит или не спит лифтерша, а может быть, ничего не вычисляла.
— Правильно? — еще бесстрастнее повторила Неля. — Я ничего в мар-ш-ру-те не перепутала?
Рита села прямо, смотрела в затылок Нели. Все это делалось так, словно Игоря Саввовича в «Жигулях» не было, и он, оставленный в покое, тихонечко думал о своем. Ночь, трехчасовое засыпание — вот что сейчас самое страшное на белом свете! Светланы нет дома, ночует у родителей, во всех трех комнатах слышно, как щелкает и начинает гадливо жужжать кухонный холодильник; за окнами спальни горят неоновые буквы вывески «Химчистка», все стены и потолок поэтому по- павлиньи окрашены отблеском неона, иногда по переулку бредет поздний пьяница — шаркает ногами и временами останавливается, чтобы сохранить равновесие. Придется осторожно, без лишних движений улечься, повернуться спиной к разноцветному окну, замереть в спасительной неподвижности...
— Решайте, дети! — весело и насмешливо сказала Неля. — Хочу спать — скулы ломит. Ну, ребятишки!
И так зевнула, что послышался хруст; зевок получил¬
67
ся такой полновесный, что Игорь Саввович немедленно тоже зевнул, а Рита это сделала двумя-тремя секундами позже. Они переглянулись, помолчали и заговорщически улыбнулись, словно сказали друг другу: «Бывает!»
— Приглашаешь? — легко спросил Игорь Саввович.
— Хочешь, пошли...
Неля ласково помахала рукой:
— Будьте умочками, дети.
Придерживая локтем сумочку, Рита стояла на тротуаре, ярко и театрально освещенная луной и фонарем, — женщина, пожалуй, более красивая, чем было принято в конце двадцатого века, когда в сытости красивые дети стали рождаться сотнями и тысячами. Рита почему-то, старательно улыбаясь, вопросительно смотрела себе под ноги. Игорь Саввович неторопливо приблизился, стал смотреть тоже в землю, то есть туда, куда глядела Рита. Ага! На асфальте лежала крупная монета — пятак, от лунного света казавшийся серебряным.
— «Орлом» вниз! — сказала Рита. — Пошли!
— Пошли! А это не полтинник?
— Пятак.
Разговаривая, они уже неторопливо, в трех метрах друг от друга шли к подъезду. Рита первой поднялась на четыре ступеньки, остановилась, чтобы Игорь Саввович догнал, и в широкие двери они вошли одновре- хменно, неторопливые, утомленные и одинаково нарядные. Лифтерша согласно закону подлости, могущественному, как закон всемирного тяготения, не дремала, как хотелось бы, а, напротив, бодренько и бдительно сидела на белой больничной табуретке. Она торопливо встала, нахмурилась, сделала руки, представьте, по швам, морщины могущества прорезались возле губ. Игорь Саввович сердито дернул бровью, но, приглядевшись к пожилой кособокой женщине и узнав ее, развеселился. Лифтерша потому и держалась с солдатской бравостью, что в пришедших узнала Маргариту Васильевну Хвощ и Игоря Саввовича Гольцова — зятя первого заместителя председателя облисполкома.
— Добрый вечер, Маргарита Васильевна, с отдыхом вас, с прошедшим отдыхом! — зачастила лифтерша, но Игорь Саввович посмотрел на нее так умело равнодушно и пресекающе, что знаменитая даже среди лифтерш сплетница мгновенно замолкла, пробормотав: — Сверток имеется... Сверток для вас оставили.
68
Лифтерша полгода назад работала в доме Игоря Саввовича.
— Дайте-ка сверток! — по-хозяйски сказал он.
В квартире Риты за год, то есть после ее прошлогоднего тихого и грустного дня рождения, на котором Игорь Саввович был, ничего не изменилось. В большой гостиной-кабинете стояла модная и предельно пижонская стенка, переполненная дорогими альбомами, книгами и красивыми безделушками; вторую стену занимал стеллаж — вычурный и хитрый, сделанный столярами по чертежам самой Риты. Книги, книги, книги, а в крупной клетке стеллажа стоял большой старинный глобус на медной ножке и с медным же ободком-нимбом — прекрасная вещь! Центр комнаты покрывал синтетический ковер.
— Дай сверток и садись! — Рита подумала. — Хочешь кофе?
— Хочу, пожалуй...
— Коньяк?
— Тащи! На всякий случай...
Когда Рита ушла в кухню, Игорь Саввович опустился в глубокое кресло, подумав, потушил бра за спиной, удобно уселся и блаженно затих. Скоро выяснилось, что весь этот день, после визита к Валентинову, Игорь Саввович, оказывается, ни на секунду не переставал думать о главном инженере, который, как теперь окончательно стало ясно, вел себя странно. Очень странно, и вот почему! Если Валентинов, его Сплавное Высочество, Сплавная Библия и Совесть Сплава, изволят видеть в Гольцове своего будущего преемника, то за дело Сергей Сергеевич Валентинов берется явно не с того конца. Ну, скажите на милость, куда исчез рационализм главного инженера в тех вопросах, которые касались сплавного производства? Что произошло, если, фанатик по природе, Валентинов по какой-то загадочной причине норовит подобраться к своему предполагаемому преемнику со стороны нравственной, неустанно заботится, этакий добряк, о его духовном здоровье, а вот деловой частью, инженерией в Гольцове не интересуется? Почему, а? И это тот самый Валентинов, который одного из заместителей выжил только за то, что бедняга медленно пользовался логарифмической линейкой?
— Ладушки! — пробормотал Игорь Саввович.
Рита вернулась в комнату в легком брючном костюме, потоньшевшая, как бы выросшая от этого, поста¬
69
вила на столйк серебряный поднос. Когда женщина, устанавливая поднос, нагнулась к низкому столику, Игорь Саввович увидел под большим вырезом костюма две маленьких острых груди и понял, что Рита, как и его жена Светлана, не носит лифчик. Рита умылась и сняла косметику; духи были смягченными, грустными, усталыми, как бы специально ночными.
— Давай выпьем по рюмке, — деловито сказала Рита. — Нелька права: надоела трезвость.
— Давай!
Они выпили, съели одну на двоих конфету.
— Хороший коньяк! — похвалил он. — Ты устала?
— До изнеможения. Если бы не окатилась ледяной водой, свалилась бы с ног...
Рита сейчас походила на запах своих духов — такая же смягченная, грустная, усталая, ночная. Большие глаза, черные, немигающие, неврастенические, были сфокусированы на губах Игоря Саввовича, и он понял, что испачкал губы конфетой.
— Смешно! — сказал он. — Здорово измазался?
— Нет! Хорошо!
Забыв поставить рюмку, Рита вращала ее в пальцах, и в хрустале посверкивали смеющиеся лучики. Игорь Саввович смотрел на женщину и сердито думал о том, что мир сошел с ума, рехнулся, ослеп! Почему Рита не замужем? Где те тысячи и десятки тысяч мужчин, которые, увидев Риту, должны были затрепетать от счастья, идти за ней неотступной жениховской вереницей, пробивая ради Риты алмазные горы, превращая пустыни в оазисы, меняя течение рек, сражаясь на шпагах и пистолетах? Прикоснуться пальцем к руке женщины, ощутить пальцами сладостную нежность ее холеной кожи — только за одно это можно было идти под расстрел, напевая: «Гори, гори, моя звезда...»
Знаешь что, старуха, — тихо сказал Игорь Саввович, — а ты агромадно красивая баба. — Он грустно помолчал немножко. — Тебя бы надо чуточку...
— Подпортить?
— Ага! Но думаю, не выйдет... Слушай, давай напьемся.
— Давай.,. А сумеем? — Она оживилась. — Нужно только решить, почему напьемся. С радости? С горя?
Он тоже приободрился.
— Выбирай: горе или радость? Ну?
Рита молчала, и он медленно погасил улыбку. Они
70
снова переглянулись, молча поставили рюмки на столик. Пить от радости они, естественно, не могли, а с горя...
— Дела! — протянул Игорь Саввович. — Интересное кино! Горе, а?!
Игорь Саввович не помнил, как отменили хлебные карточки: мать и отчим получали «ученый» паек, а когда он повзрослел, уже повсюду торговали пражскими и берлинскими костюмами. Квартира из пяти комнат, домработница, дача, автомобиль в шестнадцать лет, отец — ректор мединститута, мать — профессор. Поездки к морю, свой вход в квартиру, по утрам — букет цветов на столе. Савва Игоревич любил и любит Игоря, мать в нем души не чает; друзья ценят и уважают, девушки считают за честь пройтись с Игорем по улице. К тридцати годам Игорь' Гольцов — заместитель главного инженера одного из крупнейших сплавных трестов в стране...
— Вспоминаешь? — рассеянно спросила Рита. — Обнаружил?
Она тоже, бедняжка, проверяла свою жизнь «на горе», и было предельно интересно, какие горести пережила за двадцать семь лет дочь летчика-иопытателя Василия Хвоща? Неудачную любовь к студенту-перво- курснику? Ошибку, когда тресту Ромсксплав не хватило на три недели горюче-смазочных материалов из-за того, что плановики под руководством Маргариты Васильевны просчитались? А может быть, доставлял тебе горе инженер Гольцов? Ну-с, держите речь, Маргарита Васильевна, дочь летчика-испытателя и директора средней школы, самой крупной в Ромске.
— Штой-то стало тревожно! — забавно выпячивая нижнюю губу, сказала Рита. — Штой-то не получается — пить с горя!
Настенные хромированные часы без цифр и делений на циферблате показывали тридцать пять минут второго, толстые стены довоенного здания хорошо хранили тишину большой и удобной квартиры, и поэтому было слышно, как звонко тикают часы, слегка похожие на страшные бергмановские часы из его знаменитого фильма «Земляничная поляна». В фильме у заведенных часов не было стрелок.
— Знаешь, почему ты сегодня пошел ко мне? — добродушно спросила Рита. — Хочешь, объясню, а ты только скажи, что это так... Не солжешь?
•71
Он согласно кивнул.
— От лени, скуки и страха! — сказала Рита, — Лень и скуку отбрасываем! Сейчас поймешь, почему! — Она помолчала. — Что будем делать, Игорь? Я-то чувствую, как ты страдаешь, приходишь в отчаяние. А я... Я бессильна, Игорь, хотя знаю, как помочь... Будь ты моим, я бы справилась. — Голос женщины теперь вздрагивал. — Но я никогда не буду твоей... Так хоть на ночь прогоню твои страхи! Не мучься выбором — оставаться или не оставаться? Не обижай себя и меня... Помни: ты болен! Надо что-то делать!
Правда и только правда! Рита раньше Светланы заметила, что с Игорем Саввовичем неладно, несколько раз осторожно вступала в разговор, советовала сначала взять отпуск, а потом сама отказалась от этой мысли. О, как давно это было, и, может быть, два года назад, послушай он Риту, дело не зашло бы так далеко.
— Ты все сказала? — спросил Игорь Саввович. — Я ведь жду...
— Все! — ответила Рита. — Теперь скажи: права я?
— Права! — сказал Игорь Саввович. — Только никто не знает и, думаю, не поймет, что со мной...
Игорь Саввович напряженно размышлял о природе непривычной для города тишины в Ритином доме. Правда, были толстые стены, известные этим качеством всему городу, правда, тремя стенами дом выходил во двор и сквер, но такой тишины, как сегодня, и в этом доме никогда не было. Где шуршащие и фыркающие автомобили, гул реактивных самолетов, при взлете проносящихся над центром города, где гитары, транзисторы, сирены санитарных и пожарных машин, пьяные песни и полоса, цокоток дамских туфель, перемешанный с визгливым хохотом? Где дребезжанье и рокот подметальных автомобилей?
— Слушай, — удивленно протянул Игорь Саввович, — сегодня суббота?
— Суббота.
— Тьфу ты, черт! Как просто! Весь город уехал в лес. Вот отчего тихо! — Игорь Саввович почесал в затылке. — А где славное советское студенчество? Почему оно не бушует?
— Каникулы. Что с тобой, Игорь?
— Каникулы? Ай-ай-ай! Все перепутал... Будем все- таки пить?
72
— Не хочется.
— Вот и мне не хочется.
— Помолчим.
— Помолчим.
На именинах Риты он не видел, естественно, ее спальню; наверное, там стояла просторная двуспальная кровать или модная теперь кушетка, которую можно было в мгновение превратить в роскошное ложе даже на троих. Судя по архитектуре старинной двухкомнатной квартиры, спальня была квадратной, с небольшим окном во двор.
— Ты сегодня виделся со Светланой? — спросила Рита.
— Угу! Совершенно случайно. — Игорь Саввович повеселел. — Устроила на подъеме к Воскресенке грандиозную дорожную пробку...
— Не иронизируй. Она хорошая баба! — перебила Рита.
— Знаю.
Старинный глобус на медной ножке и с медным же венцом отчего-то успокаивал, настраивал на созерцательный и тихий лад; отчего-то от глобуса веяло дачным камином, треском поленьев, теплом. Детские грезы о львах и пустынях, оазисах и крокодилах; бедуины с белыми головами, индейцы с перьями у виска, золото Калифорнии — вот что вспоминалось при взгляде на глобус, старинный и блистающий начищенной медью, каминноуютный. Молодец Рита, умница, если поняла, какое это чудо — старинный глобус на медной ножке.
— Ты опять права, Рита! — сказал Игорь Саввович. — Черт знает, что говорю... Гони меня! Поплетусь себе...
Она глядела в потолок, тоже сонная.
— Не выгоню! — тихо и спокойно сказала она. — Из всех известных мне мужиков ты самый лучший. В постели или без постели — какие пустяки! Я не знаю почему, но ты лучше всех... Наверное, потому, что не жаден до так называемого массового счастья — жратвы, питья, квартир, баб...
Она встала, деловито произнесла:
— Пойду стелиться, как говорят в деревне, а ты иди в ванную. Твое полотенце висит слева — с красной каемкой...
73
Глава третья
РАБОТА
Понедельник начался жарой, галдеж- ной дракой мальчишек за окнами, досадной накладкой — во время бритья отказала новехонькая электрическая бритва, пришлось добриваться безопасной и, конечно, порезаться в двух местах. Светлана гостила у родителей, не хотелось в неприбранной кухне есть холодную курицу, читая торопливые буквы: «Игорек! Пообедай в тресте, пораньше приходи домой. Целую». Вдобавок ко всему хлеб куда-то запропастился. Съев полкурицы, Игорь Саввович заметил у себя под носом полную деревянную хлебницу. «Ко всем чертям! И дальше!» — с наслаждением подумал он и со злости оставил полкурицы на столе, под прямыми солнечными лучами.
На службу Игорь Саввович приехал вовремя, без трех минут девять. Поднявшись по холодной каменной лестнице на второй этаж, пошел вразвалочку сквозь тоинелеподобиый коридор с дверями-ловушками, пятнистой синтетической дорожкой на полу и стенными газетами на стенах — справа и слева. За дверями уже постукивало, поскрипывало, разговаривало и смеялось —J контора без трех минут девять работала на полном ходу. Вот вам и понедельник — день тяжелый! Возле дверей с одинаково крупными табличками «С. С. Валентинов» и «И. С. Гольцов» он задержался... Страхи, боли в сердце, руки, мокрые от пота, шум в ушах — все было на месте, в полном боевом порядке. «Хвост пистолетом!» — скомандовал Игорь Саввович и с задранной головой, развернутыми плечами победоносно вошел в приемную.
— Доброе утро, Виктория Васильевна!
Секретарь главного инженера и его заместителя была
рыхла, дебела, рассыпчата, полна чрезвычайно, но такой живой и подвижной толстухи, как эта, Игорь Саввович никогда не встречал. При появлении заместителя главного инженера толстуха ветерком вспорхнула со стула.
— Здравствуйте, Игорь Саввович! — радостно проговорила она.— Разрешите доложить о делах?
— В письменной форме, — сухо ответил он. — И б полном объеме, пожалуйста!
Недавно, буквально две-три недели назад, Игорь
74
Саввович с удивлением обнаружил, что почтенная Виктория Васильевна при появлении в приемной самого главного инженера Валентинова со стула молниеносно не вскакивает, а, наоборот, брюзгливо докладывает Валентинову о звонках и прочей дребедени, и вид у толстухи при этом такой, словно Валентинов перед нею провинился. После этого Игорь Саввович поверил окончательно, что Виктория Васильевна влюблена в главного инженера.
— Здесь — все! — по-солдатски отрапортовала секретарша, протягивая нежно-розовую папку. — Звонили: полковник Сиротин, ваша жена, какой-то Васильев...
В кабинете Игоря Саввовича было изысканно нище. Стол, кресло, два стула, тумбочка с телефонами и — все! Никаких шкафчиков с технической литературой, никаких схем, чертежей, диаграмм и фотографий. Не было даже сейфа — этого атрибута всех начальственных кабинетов.
Кабинет был сумрачным, несмотря на большое окно с очень низким подоконником. Выходил кабинет в переулок, в стену областного архива, и даже в солнечный день сумрак и прохлада жили здесь. Гигантское окно изгибалось аркой, стены были такой толщины, что на подоконнике можно было лежать. Центр города Ромска был набит толстостенными зданиями дореволюционной постройки.
— Ладушки! — тихо сказал Игорь Саввович. — Ладушки!
Выписать в отделе материально-технического снабжения побольше толовых шашек, предназначенных для взрыва ледяных заторов, не заботясь о себе, — умирать, так с музыкой! — взорвать к такой-то матери старинную хоромину с крепостными стенами, чтобы исчезло все без исключения -г стол, кресло, стулья, телефон, окно с низким подоконником, кабинетный воздух, дурацкий ковер ;с опушкой!
Игорь Саввович сел на рабочее место, брезгливо поставил локти на стол, криво усмехнулся:
— Начнем, пожалуй! Контора пишет.
, Он нетородливо развязал тесемки розовой папки, нахмурившись, начал одну за другой вынимать телеграммы, радиограммы, пронумерованные бумажки и записки. Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять! Игорь Саввович нажал белую кнопку, мгновенно
,75
появилась Виктория Васильевна, сделала радостную собачью стойку.
— Слушаю, Игорь Саввович!
— Как сегодня складывается день у Валентинова?
— В десять ноль-ноль Сергей Сергеевич открывает совещание по Коло-Юльскому плоту, приезжает секретарь обкома партии товарищ Левашев.
— Спасибо!
Сняв с мраморной подставки автоматическую ручку с золотым пером, Игорь Саввович подмигнул себе, затем деловито нахмурился и начал расхристанным, крупным, ученическим почерком записывать суть радиограмм, телеграмм, бумажек, записок. Каждую запись он нумеровал, и получился довольно большой список: 1. В Татарской сплавной конторе не хватает такелажа. 2. В Анисимовской конторе нет барж. 3. На Крестовском сплавном участке Кривошеинской конторы кончилась проволока для сплоточных машин. 4. В Ромской сплавной конторе треть буксировочных катеров ремонтируется. 5. На Тегульдесском сплавном участке, швартуясь, пароход разбил сплоточную машину.
Набралось восемнадцать пунктов; секундочку подумав, Игорь Саввович деловито взялся за трубку внутреннего телефона.
— Говорит Гольцов... Что думает отдел материально- технического снабжения об отсутствии такелажа у Прон- чатова?
— Здравствуйте, Игорь Саввович! — прогудел басом начальник отдела. — А что я могу думать о такелаже, Игорь Саввович, если еще в пятницу Сергей Сергеевич меня час продержал на ковре, а такелажа все равно нету... Кстати, по этому вопросу я через пять минут опять буду у Сергея Сергеевича...
Положив трубку, Игорь Саввович совсем мелким почерком возле первого пункта написал: «Вопросом занят С. С.». После этого он поднял трубку второго телефона — городского, но особенного, по которому можно было вызвать только самых ответственных людей в городе Ромске. Игорь Саввович набрал четыре одинаковые цифры.
— Начальник районного управления пароходства Фридман слушает!
— Здравствуй, Леонид Семенович! Разговариваю с тобой, стоя на коленях... Что ты с нами делаешь, дорогой? Где баржи для анисимовцев?
76
Трубка захохотала сочным упитанным баритоном:
— Баржи там же, где ты был позавчера, дорогой друг! Ах, нехорошо, ах, как нехорошо! Лучшие люди области, украшение речников Сибири ждут хорошего человека Гольцова, чтобы показать ему настоящую рыбалку, а Гольцов? Я тебя спрашиваю, что Гольцов? Гольцов ходит по больницам и бывает еще кое-где... Слушай! Ты имел бы такую жизнь, какую президент Форд не видит во сне. Ну скажи, сколько кило рыбы мы взяли? Хе-хе! Он молчит! Мы взяли два пуда, вот сколько мы взяли рыбы...
— Когда будут баржи?
Начальник пароходства, наверное, держал трубку далеко от уха, так как Игорь Саввович слышал звуки пристанской жизни — гуднул старенький буксир, тарахтели катера, гулко взбивая воду плицами, швартовался пассажирский пароход. Кабинет Леонида Фридмана окнами выходил на реку, в самое пекло.
— Когда будут баржи? — Фридман опять хохотнул. — Он меня спрашивает, когда будут баржи. Ты лучше спроси своего Валентинова, что он хочет от старого усталого еврея Фридмана? В пятницу он звонит о баржах в обком Цукасову, а Цукасова нет — он сидит на электроламповом заводе. Так твой Валентинов поднимает на ноги самого Левашева. Главному инженеру Валентинову нужно обязательно говорить с членом ЦК, чтобы сделать старому Фридману хорошую жизнь... — Он вдруг рассвирепел: — Слушайте, вы, идиоты! Ты и Валентинов, слушайте сюда! У старика Фридмана баржи в жилетном кармане, но Фридман не хочет их доставать — ленится! Старому Фридману не надо перевыполнять план, двести рублей премиальных он каждый месяц находит на улице. У него маленькая семья, у этого миллионера Фридмана! Седьмому ребенку шесть лет, внуку — восемь, и все хотят есть, и хотят есть масло... Член ЦК Левашев понимает, что у Фридмана нет барж, а Гольцов и Валентинов — они не понимают. Впрочем, с кем я говорю? С Валентиновым и Гольцовым, которые путают слова «гуманизм» и «поножовщина».
— Леонид Семенович, придержи пристяжных...
— Могу! Что ты на это все скажешь? Нет, что ты скажешь?
— Ничего. Спасибо за откровенность. Привет!
— И тебе привет! — Фридман вдруг тихо и добро¬
77
душно хмыкнул. — Передай поклон дому по улице Фрунзе, номер сорок шесть... Фридман тебя любит! Ты славный человек...
Игорь Саввович положил трубку, усмехнулся, подергал себя за кончик носа. В доме по улице Фрунзе за номером сорок шесть жила Рита, и седовласый умный Фридман, на самом деле хорошо и честно относящийся к Игорю Саввовичу, предупреждал об опасности: «Весь город знает!»
Третьим пунктом обширного списка заниматься не стоило. Если Валентинов «снимал стружку» с начальника отдела материально-технического снабжения за такелаж для Тагара, то уж о проволоке для ‘Крестовского сплавного участка главный не забыл, поэтому и возле третьего пункта Игорь Саввович записал: «Вопросом занят С. С.».
Ромская сплавная контора находилась в городе, директор ее, Алексей Сальников, сидел в километре от Игоря Саввовича, обкомовского телефона не имел, и пришлось позвонить по третьему телефону — обыкновенному, городскому.
— Здорово, Алеша! Почему, дорогой, не в затоне?
— Привет, Игорь! От того, что я буду сидеть в затоне, ремонт не ускорится... — Сальников, кажется, почесал переносицу.— Однако дело движется. Сергей Сергеевич — вот молодец! — еще вчера достал коленвалы и пять редукторов. Так что не беспокойся, до конца декады все образуется... На рыбалке был?
Игорь Саввович вставил в мраморную подставку ручку с золотым пером, крепко потер лицо потными ладонями, поднявшись, походил по кабинету, а затем сел на низкий подоконник, прислонился спиной к косяку, вытянул ноги — и затих. Подоконник был его любимым местом в комнате, ежедневно он подолгу сидел на нем с закрытыми глазами и вдавленным в грудь подбородком. Тишина склепа, тишина тугая, невозможная ни в городе, ни в деревне, ни в лесу. Слышно, как пульсирует кровь в висках и как — честное слово! — кряхтят камни бывшей духовной семинарии. Сквозь тамбур двойных дверей из приемной не проникало ни звука, переулок за окном для транспорта был закрыт, а глухая стена областного архива тушила все остальные городские шумы.
Стрессы и антистрессы, нагрузки и перегрузки, иностранные снадобья тафронил и триптизол, непонятная)
78
усмешка профессора Баяндурова, заботливые глаза вра- ча-психиатра, переименованного в невролога... Сидеть ‘целый день в кабинете только для того, чтобы возле каждого из восемнадцати пунктов писать: «Вопросом занимается С. С.»? А?! Почему же раньше, до разговора с профессором Баяндуровым и до последней домашней встречи с главным инженером Игорь Саввович не произвел такой простой до кретинизма эксперимент, какой только сейчас проделал? Ленив и глуп? Доволен синекурой?
Зазвенел тихо телефон — четвертый на тумбочке, то есть прямой, не идущий через секретаршу Викторию Васильевну, а, так сказать, личный, известный только немногим близким людям. Игорь Саввович поднял трубку только на шестом звонке, уверенный, что звонит Светлана, сухо произнес:
— Слуша-ю-ю!
— Здорово, парнишша! — прозвучал голос полковника Митрия Микитича, то есть Сиротина, веселый, бодрый, свежий. — Слушай, мил-человек, к тебе еще не приходил ваш трестовский дворник Бочинин?
— Нет! А почему он должен прийти?
— Интересное кино! — удивился полковник.— Ладно! С этим разберемся попозже... Ты «поговорил» с лифтершей, когда выходил утром из дома сорок шесть?
— Нет.
— Ну и дурак! — Сиротин огорчился. — Она тебя еще и теще заложит... Глазом моргнуть не успеешь! Ну ладно, я сейчас что-нибудь придумаю.
— Дмитрий! Послушай, Димка...
— Привет!
Игорь Саввович вполголоса чертыхнулся, хотел набрать номер на обкомовском телефоне, но динамик проговорил голосом Виктории Васильевны:
— К вам товарищ Савков! Прикажете принять...
— Савков? — Он помолчал. — Пусть входит.
Николай Егорович Савков был одним из тех, кого
Игорь Саввович в гостях у Валентинова назвал «прогрессистами». Более четырех лет тому назад Гольцов и Савков работали в отделе новой техники, дружили, понимали друг друга, так как были людьми одного возрат ста и похожего воспитания, обладали современными ироническими умами. Он был славным человеком, этот Коля Савков, теперешний недруг Игоря Саввовича, ска-
завший о заместителе главного инженера: «Милый
друг-76».
— Садитесь, Николай Егорович! — вежливо пригласил Игорь Саввович, хотя раньше они были на «ты». — Чем могу служить?
Савков внешне тоже нестандартен — этакая тощая столбовая верста с непропорционально большой головой. Всякий, кто видел Савкова идущим, удивлялся, как этому человеку удавалось сохранять равновесие — голова, казалось, должна была перевесить туловище вперед или назад.
— Прошу подписать командировку в Усть-Чаю! — сердито сказал Савков. — Главный инженер ничего, кроме плота, сегодня не знает и знать не хочет, а ехать надо. Дело срочное!
— Отлично! Давайте командировку, Николай Егорович.
Игорь Саввович еще раз внимательно оглядел Савкова. Инженер был до предела деловитым, озабоченным, руки, протягивающие командировку, тряслись от возмущения Валентиновым, который, разбойник этакий, интересовался только Коло-Юльским плотом.
— Если не ошибаюсь, вы едете проверять новые краны? — спросил Игорь Саввович.
— Проверить краны, провести точный хронометраж, установить причину слабости некоторых узлов... Дел много!
Игорь Саввович вернул подписанную командировку, лениво потянулся.
— Поезжайте, Николай Егорович! — сонно проговорил он. — Правда, вам нечего делать в Усть-Чае, но погода отличная. Позагораете, половите рыбу... В тресте скучно!
Савков побледнел.
— Что вы хотите этим сказать?
Игорь Саввович продолжал улыбаться.
— Хочу сказать, что через неделю на Усть-Чае все краны будут поставлены на консервацию... Река, представьте, внезапно обмелела, плоты до осеннего подъема воды не пойдут... А вы все-таки поезжайте, поезжайте, Николай Егорович! Может быть, успеете сделать хронометраж, хотя лес кончается и краны шестьдесят процентов суточного времени простаивают.
Игорь Саввович бил жестоко, насмерть! Эти «прогрессисты» пыжились своей неистребимой деловитостью
80
и глобальными инженерными знаниями, считали, что все в тресте, кроме них, отрабатывают, а не работают, и вообще были высокомерны точно так же, как был высокомерен пять лет назад их начальник Игорь Гольцов. Он- то прекрасно знал, как можно спустить с зарвавшегося Савкова три шкуры за «милого друга» и каламбур «Гольцов готов работать восемнадцать часов в сутки, чтобы восемь рабочих часов ничего не делать!».
— Вы уже уходите? — удивленно спросил Игорь Саввович, увидев, что Савков поднимается.
Бросив на стол командировку, перевешиваясь вперед, Савков не вышел, а выбросился из кабинета, громко стукнув дверью.
Игорь Саввович вполголоса захохотал. Славные, хорошие, замечательные парни, но до сих пор думающие, что перемещают континенты и меняют течение рек, а разве это возможно в царстве главного инженера Валентинова, который еще неделю назад приказал профилактически отремонтировать и законсервировать краны, чтобы по высокой осенней воде получить от них больше того, что можно взять на скупом пайке малогрузных плотов.
— Виктория Васильевна, у вас нет дворника Бочи- нина?
— Он в приемной, Игорь Саввович. Что прикажете?..
Трестовского дворника Игорь Саввович Гольцов
встретил в центре кабинета, усадил на стул, сам уселся на свой подоконник — лобное место. После звонка полковника Сиротина он вспомнил, что краем уха слышал о деле дворника. У него будто бы неизлечимо больна мать, ухаживать за ней некому, в больницу хроническую больную не принимают, а законники из районного отдела милиции отказали в прописке сестре Бочинина, которая собиралась обихаживать больную мать.
— Петр Семенович, — вспомнив имя дворника, сказал Игорь Саввович, — на этой неделе, не позже четверга, ваша сестра будет прописана. Желаю всего наилучшего!
Дворник, маленький человек с большими руками, просиял, вскочил, начал топтаться на месте, не зная, что сказать или сделать. Он твердо помнил, что Игорь Саввович Гольцов — заместитель главного инженера — ни-, когда не говорит «сделаю», если не был уверен на сто процентов в успехе. Чаще всего Гольцов в ответ на
6 Виль Липатов, том 4
81
просьбы говорил: «Не могу», — а потом помогал при помощи Сиротина.
— Игорь Саввович, ну, Игорь Саввович... Вот, Игорь Саввович!
— До свидания, до свидания, товарищ Бочинин!
Дворник оставил в кабинете вкусный запах горелой
травы; сосредоточившись, Игорь Саввович вспомнил, что утром в углу трестовского двора горел костер, дымный, вкусно пахнущий, и теперь было понятно, чем так хорошо пахнул дворник... Игорь Саввович набрал номер на обкомовском телефоне.
— Полковник Сиротин слушает!
:— Ты угомонился насчет лифтерши? — зло спросил Игорь Саввович. — Что? Ладно, с этим потом... Приходил Бочинин. Может быть, объяснишь, Митрий Микитич, откуда ты узнал, что Бочинин придет ко мне?
Смешно, но Дмитрия Никитича Сиротина начали в городе звать Митрием Микитичем после того, как он сам рассказал глупый деревенский анекдот. Якобы древний дед хвастается: «У меня три сына, и все начинаются на букву М: Микита, Миколай и Митрий!» После этого добрый и веселый полковник для всех навечно сделался Митрием Микитичем, и даже жена Нина так его называла.
— Чего молчишь? — насмешливо спросил Митрий Микитич. — Проси! — Он захохотал. — Дело знаю, сестру пропишем, но ты проси меня прописать!
С полковником Игорь Саввович познакомился пять лет назад из-за нелетной погоды в одном деревянном городишке. Они вместе только пообедали, но этого было достаточно, чтобы простецкий и доброжелательный, не способный и пяти минут прожить в одиночестве полковник стал, пожалуй, самым близким человеком в Ромске для Игоря Саввовича. Они бывали друг у друга в гостях, ни одну пирушку не проводили порознь, ежедневно по пять раз перезванивались.
— Ну ладно, слушай, чего было! ^— захохотал полковник и слегка понизил голос: — Ой, чего было! Твой Николаев вчера звонил моему генералу насчет этого Бо- чинина...
Игорь Саввович откинулся на спинку стула:
— Ну!
Трубка восторженно хихикнула:
— Ля-ля-ля! Мой генерал предложил твоему генералу помочь положить в больницу мать дворника,, а в про-
82
писочке — того, отказал! Ля-ля-ля! А твой генерал, похоже, очень заинтересован именно в прописке.
Игорь Саввович тоже улыбнулся — обстановка была ясной, как детская игрушка.
— Когда наш генерал отказал вашему генералу, — вкрадчиво продолжала трубка, — ваш генерал сказал, что дело о прописке сестры дворника Бочинина он поручит товарищу Гольцову. На этом генералы попрощались, и наш вызвал меня: «Звонил Гольцов о прописке этой чертовой сестры?» Я натурально отвечаю: «Звонил! Очень просит прописать!» Тогда наш генерал поднимается, закуривает и говорит: «Пропишите, черт их возьми!» Я говорю: «Рад стараться!» Как слышите? Прием!
— Слышу хорошо! — ответил Игорь Саввович. — Бывай!
— Бывай!
Игорь Саввович в третий раз сел на подоконник; некоторое время он думал о Николаеве, видел мысленно его лицо и глаза, когда управляющему трестом отказали в прописке сестры дворника, потом невольно глянул на наручные японские часы — перевалило на одиннадцатый час. Это значило, что у главного инженера Валентинова началось совещание по Коло-Юльскому плоту; сославшись на головную боль, Игорь Саввович собирался отсутствовать, но секретарша сообщила, что будет первый секретарь обкома партии Левашев и стоило, пожалуй, пойти на такое сверхответственное совещание.
Левашев! Выросший в атмосфере, где не было робости перед чинами, Игорь Саввович был тайно от самого себя полон терпкого и даже удивленного любопытства к молодому первому секретарю обкома партии, ставшему за три-четыре года любимцем области. Левашевым гордились, Левашева уважали, Левашева боялись, у Ле- вашева искали и находили правду, в Левашева верили. Левашев, Левашев, Левашев — только и слышалось в городе и области.
— Ладушки!
Игорь Саввович тихо вошел в кабинет Валентинова в тот момент, когда главный инженер, поглядев на настольные часы, поднялся из высокого кресла. В черном костюме и черной жилетке, при темно-вишневом узком галстуке, нарядный, как новый автомобиль, Валентинов медленным движением взъерошил седые кудри. Для чего он это сделал/понять было невозможно, Цо из-за при¬
83
вычности происходящего никто на это внимания не обратил.
— Друзья! — произнес Валентинов и сделал тонкой рукой торжественный жест. — Проблема ликвидации молевого сплава на последней реке нашей конторы имеет не только экономическую, но и философскую и политическую окраску. Молевой сплав — это, позвольте заметить, экологическая катастрофа. Утоп, так называемый утоп, друзья мои, медленно и верно уничтожает водоемы. Обмеление рек, в свою очередь, приводит к обезлесению берегов, а это — начало длинной и губительной цепочки, конец которой — пустая земля. Товарищи, друзья...
Игорь Саввович легко отключился от высокопарной речи главного. Чем слушать Валентинова, интереснее было подумать, почему на совещании нет управляющего Николаева, хотя слева от Валентинова, сбоку и в углу тихо и скромно сидел первый секретарь обкома партии Кузьма Юрьевич Левашев — видный мужчина с квадратными губами, что Игорю Саввовичу почему-то не нравилось. На Левашеве был кремовый легкий костюм и предельно открытые летние туфли. Он внимательно слушал Валентинова и, казалось, со всем сказанным соглашался. Так почему же нет в кабинете управляющего Николаева, если на совещании Левашев? Почему нет человека, который имел обыкновение сквозь все препятствия пробиваться в первый ряд любого совещания, где его мог видеть Левашев, и поедал при этом первого секретаря обожающими, влюбленными глазами?
— Добрые три десятка лет, друзья мои, я переживаю большое счастье, ибо мне выпала честь ликвидировать молевой сплав с таких рек, как Чулым, Улым, Кои- да, Сало-Юл, Баско-Юл, Чая и так далее. И я дожил до сладкого времени, когда на крупных реках успешно осваивается сплав леса в хлыстах, а на самой мелководной испытывается первый плот...
Слушать не хотелось. Оставалось единственное: незаметно наблюдать за Левашевым — загадочным и притягательным человеком. Хотелось понять, почему Левашев сейчас вел себя так, словно работал у Валентинова вторым заместителем. Он так слушал главного инженера, что казалось — сам произносит речь. Даже шевелил губами. Мало того, было известно, что после совещания Левашев и Олег Олегович Прончатов на специальном катере отправляются на Коло-Юл, чтобы на месте по¬
84
знакомиться с обстановкой. Какого, спрашивается, черта нужно Левашеву на Коло-Юле, если еще два года назад он открыто заявил, что доверяет опыту и знаниям Валентинова; для чего же ему надо сидеть на совещании, ездить на Коло-Юл?
— Как праздника, друзья и товарищи, жду я дня, когда по Коло-Юлу на рассвете, в благодатном безветрии, пройдет первый большегрузный плот... К этому часу мы с вами готовились тридцать лет, мы выстрадали Коло-Юльский плот, и мы проведем его, друзья мои! Мы проведем его, товарищи!
Первый секретарь обкома партии Левашев слушал главного инженера не дыша, увлеченный и взволнованный, а управляющий трестом Николаев отсутствовал — дикое, невозможное положение, которое Игорь Саввович, как ни старался, объяснить не мог. Что творилось в этом лучшем из миров?
— Плот, наш долгожданный плот благополучно пройдет коварный Коло-Юл, если все службы треста, все работники, весь коллектив объединятся в едином стремлении быть на высоте инженерного мастерства и благостной интуиции...
Сто слов вместо одного, романтические штучки-дрючки, сентиментальная торжественность — бог знает как раздражал Игоря Саввовича главный инженер. Дело, дело извольте говорить, Ваше Сплавное Величество! Интересно будет посмотреть, какую учалку плота примените вы, Бог Сплава, на большегрузном Коло-Юльском плоте. Жесткую или гибкую учалку примените, дорогой папаша?
— Прошу выступать, товарищи. Слово имеет Виктор Леонидович Татищев, работник отдела новой техники...
Игорь Саввович усмехнулся, попятился, согнувшись в три погибели, бесшумной серенькой мышкой выбрался из исторического в эти минуты кабинета главного инженера. В пустом коридоре он подмигнул прошлогодней стенной газете, по-валентиновски заложил руки за спину, развинченной походкой направился к приемной управляющего трестом Ромсксплав товарища Николаева. До чертиков, до изнеможения было интересно, как и почему осмелился не прийти на совещание, где был сам Левашев, прожженный карьерист Николаев.
— У себя? — не здороваясь и не глядя на молоденькую секретаршу управляющего, тускло спросил Игорь Саввович. — Один?
85
— У себя, один... Входите, Игорь Саввович, пожалуйста!
Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Один шанс из ста был за то, что Николаев во время исторического совещания находится в сорока метрах от Левашева, но и этот шанс оказался темной лошадкой! Ля-ля-ля! Игорь Саввович, собственно, для того и убежал с совещания, что ждал слов: «Болен! В поликлинике». А управляющий Николаев осмелился сидеть в своем кабинете. Может быть, на этот раз управляющий Николаев болен по- настоящему, а не симулирует, как обычно?
— Входите, входите, Игорь Саввович!
Игорь Саввович вошел и, демонстративно не глядя на управляющего Николаева, с порога принялся разглядывать знакомый до тошноты кабинет — самый, пожалуй, нелепый из всех возможных кабинетов. Он был длинный и узкий, точно пенал, окна — два — имелись только в первой половине длиннющей стены, что делало комнату темной. Поэтому на столе Николаева всегда горела сильная настольная лампа под зеленым абажуром. Ромские старожилы рассказывали, что в этой комнате когда-то жил и правил глава духовной семинарий, слепой от рождения отец Изосим.
— Приветствую, Николай Андреевич!
— Рад вас видеть, Игорь Саввович!
Раздался тяжелый страшноватый стук дерева о дерево. Это управляющий Николаев медленно-медленно шел навстречу Игорю Саввовичу на двух протезах, и заместитель главного инженера ждал, когда Николаев доберется до середины громадного кабинета. Идти дальше центра кабинета не полагалось, так как Николаев, истерично перекосившись от злости, орал: «Не смейте жалеть меня! Не смейте!»
Они молча обменялись рукопожатием, Николаев со стуком вернулся на место, а Игорь Саввович сел в удобное поролоновое кресло. Изловчившись, он по-валенти- новски заложил руки за спину, вытянутые длинные ноги скрестил. После этого Игорь Саввович принялся глядеть Николаеву в переносицу и молчать. У него так болела грудь и страхи были такими сильными, что хотелось кричать, выть, кататься по ковру или торопливо вязать на бельевой веревке просторную петлю...
— Понедельник — день тяжелый! — вздохнув, наконец мягко сказал Николаев. — Хоть разорвись! Через полчаса будут звонить из главка, потом из мини¬
8.6
стерства, потом опять из главка. — Он еще раз вздохнул. — А около одиннадцати должен позвонить министр!
Он неожиданно поднялся, опять застучали протезы, и Николаев — это было выражением предельной доверчивости и дружелюбия — сел в кресло напротив Игоря Саввовича. Теперь со стороны они выглядели посетителями, ожидающими прихода того, кто пользовался зеленым светом настольной лампы и громадным креслом слепого Изосима. Легкая улыбка осветила длинное лицо управляющего — открытое и, если быть честным, хорошее. Такие лица Игорь Саввович видел у положительных, трезвых, умелых рабочих, недавно переселившихся в город: природный ум, сметка, сказочная приспособляемость к новому, непонятному. И только глаза у Николаева были страшными — бесцветными, неулы- бающимися, вороватыми, притом такими вороватыми, что это мгновенно понимал каждый, удивлялся поначалу, а потом так же мгновенно привыкал, ибо человек быстро привыкает к тому, что понятно и открыто.
— Вы забегали на совещание? — добродушно спросил Николаев и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Важное, важное дело начал наш Сергей Сергеевич! Голова! Светлая голова!
Игорь Саввович покивал, но по-прежнему молчал, продолжая смотреть Николаеву в переносицу. Из главка и министерства, сам министр, естественно, звонить Николаеву не собирались и даже не могли. С работниками главка обычно разговаривал Валентинов, а начальник главка, с которым изредка разговаривал Николаев, загорал в Пицунде. Министр позвонить мог, но только во второй половине дня, из-за разницы поясного времени. Так какого же черта Николаев не пошел на совещание?!
— Да! — лениво протянул Игорь Саввович. — Сергей Сергеевич, как говорится, на взлете. Думаю, что Коло-Юльский плот — дело самой ближайшей перспективы. Мало того, я уверен: плот пройдет. Мы зря боимся Коло-Юла. Абсолютно верное дело.
Ура! Ура тебе, Игорь Гольцов! Управляющий завозился в кресле, вороватые глаза забегали, потом остановились, как бы устремленные на чернильницу, на самом деле невидящие, так как в голове Николаева шла сейчас напряженная вычислительная работа. Тестем Гольцова, уверенного в том, что Коло-Юльский плот
87
пройдет, был первый заместитель председателя облисполкома Карцев, который бывал в доме Левашева. Не значило ли это, что Левашев, сидящий сейчас на совещании у Валентинова, тоже верит в успех? Но если это так, зачем Левашеву сидеть на совещании, где обсуждается заведомо удачное дело? Ох, как трудно было сейчас управляющему!
— Да! Чуть не забыл! — зная, о чем думает Николаев, театрально воскликнул Игорь Саввович. — Мне только что позвонили из УВД области. Сестра дворника будет прописана к больной матери.
Николаев немного оживился.
— Отлично, отлично! — обрадовался он, по-прежнему, однако, затуманенный и как бы слепой. — Этакий бюрократизм развели наши блюстители порядка... Простите, ради бога, Игорь Саввович, что пришлось взвалить на вас такое мелочное дело... У меня, представьте, не выкроилось и минутки, чтобы самому позвонить генералу. Занят!
Отлично! Пре-во-схо-дно! Капкан лязгнул, мертво схватил Николаева за пальцы... Игорь Саввович потому и сказал, что ему, Гольцову, звонили из УВД, что хотел спровоцировать Николаева на открытую ложь.
— Очень и очень хорошо! — с деланным энтузиазмом продолжал Николаев. — Вы умеете быть настойчивым, Игорь Саввович.
Лжец! О какой настойчивости можно говорить, если органы внутренних дел были ведомством облисполкома, а в Ромском облисполкоме УВД курировал первый заместитель председателя облисполкома Иван Иванович Карцев — тесть Игоря Саввовича Гольцова? Генерал Попов, начальник УВД области, входил в число тех немногих людей, кто запросто бывал у Карцева дома. Понятно, что Геннадий Георгиевич Попов разрешил прописку сестры дворника, когда узнал, что об этом просит Игорь Саввович.
— Я, собственно, не принимал участия в прописке сестры Бочинина... — вежливо сказал Игорь Саввович и изысканно улыбнулся. — Будет вам известно, Николай Андреевич, что я знаю, почему вы хлопочете о прописке этой сестры. — Он сделал паузу. — Якобы смертельно больную мать дворника Бочинина вчера видели в магазине! Покупала, болезная, макароны...
Лицо управляющего медленно багровело. «Проняло тебя, сволочь!» — подумал Игорь Саввович и еще изыс¬
88
канней прежнего улыбнулся. Он наслаждался победой, ликовал и праздновал. Торжествующий, топчущий ногами управляющего, Игорь Саввович не обратил внимания на то, что в эти секунды он был абсолютно здоровым человеком, что грудь полна молодой легкости и восторга.
— Макароны покупала и подсолнечное масло, — медленно повторил Игорь Саввович, глядя уже не в переносицу, а прямо в воровские глаза Николаева.
Игорь Саввович ненавидел управляющего Николаева за трусость и карьеризм, за иезуитскую хитрость в борьбе за теплое и легкое место под солнцем, за поразительное невежество и апломб тупицы; он люто ненавидел Николаева за то, что управляющий из желания угодить Карцеву сделал начальника отдела новой техники Гольцова заместителем главного инженера ровно через месяц после того, как Карцев занял высокий пост. А за два месяца до этого Николаев никак не мог запомнить имя-отчество начальника отдела новой техники.
— А вы молодец! — с крестьянской терпеливой усмешкой на крестьянском лице сказал Николаев. — Служба информации у вас хорошо организована, ничего не скажешь...
А вот за это Игорь Саввович ненавидел Николаева с невозможной лютостью! Эта рабская выдержка, это позволение плевать себе в лицо, когда это делают сильные, и надежда на то, что придет время, когда роли переменятся. Будь его воля, Николаев сейчас без раздумий отправил бы Гольцова на эшафот, но за спиной Игоря Саввовича стояли такие полки, каких управляющий сегодня не имел. Поэтому молчал, терпел, даже улыбался...
— Вы, как всегда, правы! — засмеялся Игорь Саввович. — Служба информации исправно сработала... Из сообщений известно, что от вас, Николай Андреевич, ушла домработница. Не выдержала легкого характера вашей молодой супруги! А без домработницы Вероника Яковлевна, естественно, жить не может. Вот вы и прописываете через меня, то есть Карцева, сестру Бочинина — будущую домработницу... — Игорь Саввович немного передохнул. «Сейчас сполна заплатит мне за домработницу! Вы меня за человека не держи-, те, вы меня считаете куклой, нулем, за которым стоит Карцев... Так получайте!» — Вам дорого обойдется
89
прописка домработницы, если хоть один рае сестра Бочинина появится в вашем доме. Карцев сейчас ни о чем не знает и не узнает, но вот если вы меня не послушаетесь...
Игорь Саввович не просто рисковал, он вкладывал голову в пасть разъяренного льва. Управляющий трестом был, пожалуй, во сто крат сильнее, чем о нем многие думали.
— И за Валентинова вы рассчитаетесь! — совсем тихо сказал Игорь Саввович, заставив себя успокоиться. — Как только пройдет Коло-Юльский плот, будьте уверены, я объясню Левашеву, почему вас нет сейчас на совещании, и расскажу о том, о чем знает вся область и город. Трестом управляете не вы, а Сергей Сергеевич. Хватит снимать сливки с чужого молока! Вы бездарь и невежда! Это же вы спросили у механика своего катера, не барахлят ли свечи у дизеля?.. Представьте, как развеселится Левашев, если узнает об этом.
Все — славу, обеспеченную жизнь, безделье — получил Николаев из рук выдающегося инженера Валентинова, а сам его втайне и порой открыто ненавидел и сегодня, сейчас отдавал Валентинова на съедение, оставив его один на один с Коло-Юльским плотом.
— Вы ждете, чем кончится рискованный эксперимент. Вы не идете на совещание потому, что надо при Левашеве сказать: «Да!» или «Нет!» А что вы можете сказать, если не знаете, что такое дизель? — Игорь Саввович встал. — Зато как хорошо быть в стороне! Выйдет, вы скажете: «Старались!» Не выйдет — печально проговорите: «Стареет, стареет наш Валентинов!»
Война, самая грандиозная и жестокая война в истории человечества коснулась Николаева кровавой рукой, но эта же война подняла его из деревни-хуторка на крохотной реке Ягодной, на обской волне вознесла на берег Роми, чтобы посадить в кресло управляющего. Сибиряки, народ щедрый, добрый, справедливый, все возможное и невозможное сделали для того, чтобы расплатиться с Николаевым за отмороженные в окопах ноги. Управляющий Николаев за перенесенные на фронте страдания получил так щедро, что много лет безбожно и нагло эксплуатировал свои страшные протезы.
— Вы думаете запугать меня молчанием? — весело спросил Игорь Саввович. — Не боюсь! — Он вдруг
90
крикнул: — И не провожайте меня до центра кабинета!
* В приемной Игорь Саввович остановился, чтобы посмотреть на секретаршу управляющего, так как было на что посмотреть. Глаза секретарши испуганно расширились, она побледнела, словно напудрилась мукой, стиснула руки на груди.
— Игорь Саввович, вам плохо? Дать воды?
— Воды?
Игорь Саввович прислушался к себе, чтобы понять, плохо ему или хорошо, надо ему пить воду или не надо.
Он был здоров!
— Верочка! — сказал Игорь Саввович бормочущим от счастья голосом. — А почему бы мне в самом деле не выпить воды? Давайте!
Он осторожно, словно мог раздавить пальцами, протянул секретарше стакан:
Спасибо, Верочка! Очень вкусная вода!
Игорь Саввович пошел осторожно и медленно по длинному коридору, он двигался так, словно нес в руках полные стаканы воды, расплескать которую опасно. Он благополучно добрался до двери своего кабинета, посмотрел: хорошая, высокая, прочная дверь. Справа от него сидит воспитанная, исполнительная, бдительная, любящая обоих начальников секретарша Виктория Васильевна. Перед ней стоит молодой мужчина почти высокого роста, отлично и со вкусом одетый; этот человек уже неплохо знает сплавное дело, а что касается Ко- ло-Юльского плота, то мог бы при желании произвести на совещании фурор. Человек женат на женщине, внезапно' сделавшейся дочерью важной персоны, с женой живет дружно, по-своему любит ее; наконец, этот хорошо одетый и на вид завидно здоровый человек при желании может сделать блестящую карьеру и уже сделал все, что полагается для этого. Спрашивается: отчего этот преуспевающий человек не решается войти в собственный кабинет, прохладный и удобный?
Игорь Саввович вошел в кабинет, сел, положил подбородок на руки. Минута, вторая, третья... Игорь Саввович СДЕЛАЛСЯ СНОВА БОЛЬНЫМ.
Чертовщина! Он бесшумно пересел на «больничный» подоконник, оперся спиной, ноги вытянул, замер. Монастырская тишина, тяжелый, неподвижный воздух, за- пах натертого паркета; блеск полированной крышки стола, слепящий солнечный зайчик на автоматической
91
ручке с золотым пером... Привычная боль в груди, страхи, непреодолимое болезненное желание не двигаться, ничего не видеть, ничего не слышать. Пусть все провалится в тартарары, взорвется — только не думать, не двигаться, не видеть, не слышать!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Лифт работал, но на свой третий этаж Игорь Саввович поднялся пешком, между первым и вторым этажом вынул из почтового ящика газету и журнал, порывшись в карманах — чего только там не было! — «личным» ключом бесшумно открыл замок. Он неподвижно постоял в темном коридоре, чтобы адаптироваться в темноте и — это было самым важным! — приготовиться к тому, что Светлана могла знать о доме сорок шесть по улице Фрунзе. Жену Игорь Саввович не боялся, но сам не любил врать и ненавидел лгущих, поэтому еще в автомобиле решил во всем признаться, если Светлана спросит или как-нибудь покажет, что знает о ночи у Риты.
Адаптировавшись, Игорь Саввович посмотрел на светящийся циферблат часов — ровно двадцать пять минут седьмого, время его обычного возвращения с работы.
Он включил электричество в прихожей, поставив на место чемоданчик типа «дипломат», прислушался. Если Светлана возится в кухне, то какой-нибудь из многочисленных транзисторов, наводняющих дом, должен был орать на всю катушку; если Светлана была не в кухне, а в любой из трех комнат, — транзисторы молчали. Музыку жена включала только тогда, когда готовила обеды и ужины, и сейчас — вот несчастье! — было тихо.
— Ладушки! — обреченно пробормотал Игорь Саввович. — Ладушки!
Сегодня, девятнадцатого июля, в понедельник — день тяжелый, Игорю Саввовичу Гольцову, или Игорю Сергеевичу Валентинову — как угодно! — исполнилось ровнехонько тридцать лет, и он с утра мечтал, что жена забудет о круглой дате, и тогда Игорь Саввович после очень горячей ванны в одних трусах будет смотреть по телевизору столичный футбол.
Музыки не было, не было в квартире музыки... По¬
92
кашляв, нарочно громко топая, Игорь Саввович прошел в свою комнату неторопливо, нарочно замедляя движения, снял костюм, надел пижаму, тонкую и легкую. Он все еще хранил крохотную надежду на помилование и поэтому домашним шагом вошел в гостиную, покашливая и сутулясь.
— Игорь, пугалище огородное! — воскликнула жена. — Ох, как я испугалась! Подкрадываешься, словно тать ночной... Ну, здорово, грозный муж!
Голос обыкновенный — веселый и звонкий; из-под копны рыжих волос глядят честные, умные и добрые глаза. «Не знает! — подумал Игорь Саввович и про себя усмехнулся: — О таких вещах обманутые мужья или жены узнают последними!»
— Здорово, верная жена!
Если бы в городе, а может быть, и в стране проводили конкурс на Лучшую жену, то Светлана Гольцова взгромоздилась бы на вершину пьедестала. Пища, кормление мужа — первое место; уборка помещений, стерильная чистота и зловредный порядок — первое место; безупречный внешний вид во время любой, самой грязной домашней работы — первое место; внешний вид мужа — первое место! Мисс Лучшая жена стояла перед Игорем Саввовичем и весело смотрела на него сквозь длинные рыжеватые ресницы. Красивая такая, веселая такая и любящая такая...
— Это штой-то на вас поднадето? — сделав изумленное лицо, спросил Игорь Саввович, притрагиваясь пальцами к щекочущей гладкости темно-вишневого бархата. — Поди, рублей по шашнадцать за одну сантиметру брали? А где брали? В сельпе или орсе? А сколь метров на платье пошло?
Смеясь, жена взяла Игоря Саввовича за руку, потянула:
— Пошли. Я тебе, Игорек, кое-что покажу! Иди, иди, я не кусаюсь.
Муж и жена Гольцовы занимали вдвоем малогабаритную кооперативную трехкомнатную квартиру, так как кандидату наук Светлане Гольцовой полагалась дополнительная площадь; обстановка была современная, с большим вкусом подобранная, комнаты были оклеены моющимися обоями, тоже со вкусом; кухня была отделана деревом. На первый взгляд ничего бьющего на эффект, показного, удивляющего в квартире не было, но при внимательном знакомстве можно было заме¬
93
тить, что каждая вещь, стена, потолок или кафель ванной, взятые в отдельности, в ромских квартирах встречались не часто. Обои были финскими, кафель разноцветным, паркет собран из различных пород дерева и поэтому похож на ковер. Естественно, что устройством квартиры занималась Светлана, а Игорь Саввович до сих пор не знал, что двери комнат были дубовыми, а не оклеены обоями под дуб.
В спальне — она же была рабочей комнатой жены — Светлана достала из ящика трельяжа небольшую красивую коробочку, раскрыла.
— Подарок вам, гражданин тридцатилетний мужчина! — сказала она. — Вершина технического прогресса.
Он увидел превосходнейшие японские часы, с тысячей стрелок, кнопок, заводных головок, с табло, показывающим число, день недели и даже год. Да, это были такие японские часы, перед которыми японские же часы, которые носил Игорь Саввович, казались деревянным По-2, так называемым «кукурузником», перед реактивным лайнером.
— Спасибо!
Он взял часы, сняв старые, надел на руку, поднес к глазам — прелесть! С такими часами, выставив напоказ кисть, молено было — при джинсах, батнике и мужских туфлях на платформе — сидеть в любой столичной компании, окопавшейся в ресторане «Арагви» или «Арбат». Игорь Саввович с интересом посмотрел на жену: любопытно, откуда она, недавняя барышня районного масштаба, до сих пор любящая кататься в лифте на третий этаж, знала, какие часы надо покупать, чтобы идти в ногу с ненавистной Игорю Саввовичу модой на «фирменные» вещи? «Растет, развивается!» — насмешливо подумал Игорь Саввович и повторил:
— Спасибо! — Он сделал алчное лицо. — Подарок — закачаешься! Клевый подарок! Зеркально! Фирмачи — с катушек долой...
Он говорил на языке, принятом среди некоторых молодых людей, считающих себя избранными и поэтому смешными для Игоря Гольцова, который терпеть не мог одного только упоминания о высоком положении отчима и матери.
— Игорь, послушай, Игорь, — прижав маленькие кулачки к бархатной груди торжественного платья, страстно проговорила Светлана. — Призываю тебя к добру и снисходительности. Ну сколько можно сбр-
94
диться на маму и папу, которые тебе ровно ничего плохого не сделали? Вся вина папы перед тобой в том, что он Карцев! А мама вообще ни при чем! — От волнения она побледнела. — Пожалей меня. Поедем к родителям. Они любят тебя, соскучились, и что... Что ты прикажешь делать папе?
Светлана вдруг заулыбалась.
— Прикажешь папе рас-кар-це-ва-ть-ся!
По одному только бархатному платью жены Игорь Саввович сразу понял, что в доме Ивана Ивановича Карцева накрыт праздничный стол. Теща, наверное, уже надела сарафан учительницы тридцатых годов, тесть гуляет по участку в сатиновой рубашке, темных брюках и мягких вельветовых туфлях.
т— Игорь, не молчи, не стискивай зубы!
Вот новость!. Он-то думал, что на его лице цветет благодарственная улыбка, а жена говорила о стиснутых зубах!; Ах, как нехорошо, дорогой Игорь Саввович! Не умеете вы еще владеть собой, своим лицом, выражением глаз, чтобы быть взрослым тридцатилетним человеком.
— Игорь, не молчи! Скажи: «Ладушки!»
. — Ладу.щки! — Он подумал. — Как меня оденем?
— Серый костюм. Я приготовила.
Сдерживая детскую радость, Светлана пошла в кабинет мужа за серым костюмом, а Игорь Саввович опустился на пуфик, что стоял возле кровати Светланы, задумался... Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Светлана, тесть и теща Карцевы решили воспользоваться тридцатилетием Игоря Саввовича, чтобы наконец-то установить с зятем хотя бы формально сносные отношения. В , этом был свой резон, так как год назад муж единственной горячо любимой дочери Карцева без всякой причины стал искусно и безупречно-вежливо уклоняться . от встреч с родителями жены и коротких телефонных разговоров с ними, «Сердитесь на нас, Игорь?» — «Что вы, что вы, Людмила Викторовна! За что можно сердиться на такого доброго человека, как вы!.. Передаю трубку Светлане. До свидания!» Если. же( звонил тесть, Игорь Саввович сразу говорил: «Здравствуйте! Передаю трубку Светлане».
: — Вот- костюм!
. Игорь Саввович сидел неподвижно и думал.
— Тридцать лет, между нами, девочками, говоря,— это лучшая половина жизни позади! — медленно ска¬
95
зал он, но, как ожидалось, не улыбнулся. — Благополучные и жизнелюбивые французы, правда, считают, что мужчина начинает жить в сорок, но они ложатся спать в девять вечера и незнакомы с управляющим Николаевым.
— Игорь!
— Ладушки! Я же сказал: ладушки! — Игорь Саввович лениво поднялся. — Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно... Давай-ка сюда мой серый костюм!
С костюмом в руках Игорь Саввович прошел в свой кабинет, заклиненный, как теперь выражаются, на зеркалах, принялся с костюмом в руках разглядывать свое изображение, подмигивая и театрально улыбаясь. «Вам тридцать лет? — мысленно спросил у изображения Игорь Саввович. — Вы изобрели порох, открыли Америку, провели по реке Коло-Юл большегрузный плот? Посажено дерево, написана книга?»
— Ладушки!
Занудное, постное лицо, тусклые рыбьи глаза, лениво опущенные плечи. Интересно все-таки, почему, увидев такого унылого гражданина, девушки на улице нередко останавливались, мужчины морщились неприязненно, дамы без возраста зазывали беспомощными глазами? Может быть, нынче опять, как в начале века, пошла мода на бледных декадентствующих меланхоликов? Хотелось «врезать» себе по морде или... надевать серый костюм.
Игорь Саввович надел серый финский костюм, пестрый галстук шириной в полотенце, в боковой кармашек пиджака — можете себе представить! — сунул белый платочек, тщательно превратив его в равнобедренный треугольник. Напустив на лицо начальственную важность, он снова подошел к зеркалу — ого-го! Такие люди едут чрезвычайными полномочными послами в Бирму или тренируют знаменитую хоккейную команду. Держитесь, тестенька и тещенька! Гольцов есть Гольцов и пишется Гольцов.
— Ты готов?.. Ой, Игорь, как ты хорош! Отчего тебе это взбрело...
Светлана проглотила остаток фразы, попятилась, опустила глаза; вид у жены был такой испуганный, точно она случайно ворвалась в помещение с табличкой «Не входить! Высокое напряжение!». Она почувствовала это высокое напряжение, но уже было поздно — зака¬
96
менела. А Игорь Саввович стоял, по-прежнему задрав подбородок, надменно прищурившись, и, казалось, тоже был пронизан парализующими токами высокого напряжения.
Они молчали долго, очень долго, потом Светлана тихо-тихо спросила:
— Плохо? Очень плохо, Игорь?
Игорь Саввович отважно сражался с приступом глухой и необъяснимой злости к жене. Дурацкое «тебе плохо» взбесило его, как красная тряпка быка; страдающим он не хотел быть и не понимал жену, которая позволила себе говорить о его непонятной болезни, вместо того чтобы терпеть и молчать. Вместе с тем его поражало то, что жена всегда улавливала его состояние. Ну как она поняла, что творится с мужем сейчас, когда он стоит в торжественном костюме перед зеркалом и победно выставляет вздернутый подбородок?
— Не злись, Игорь! — Светлана опять умоляюще прижала руки к бархатной груди. — Мне тоже тяжело и страшно! Чума, холера, война, нищета, слепота — все выдержу, буду рядом, возьму на руки, но сейчас... Я не знаю, что с тобой происходит, как тебе помочь? Я люблю тебя!
Жена не лгала. Хороший и верный друг, близкий и преданный человек глядел на Игоря Саввовича такими же влюбленными глазами, как четыре года назад, когда они поженились, и ему хотелось посадить Светлану рядом с собой, по-бабьи пригорюнившись, длинно и неторопливо рассказывать о тайном отце Валентинове, матери, управляющем Николаеве, прозвище «милый друг», дворнике и его сестре, Рите, которая его, наверное, тоже любит...
— Сегодня, товарищи, мой день рождения! — трубно проговорил Игорь Саввович. — Костюм на мне — закачаешься, часы фирменные. Надушен я одеколоном «МЭН», галстук французский. В чем дело, товарищ Гольцова? Не подана карета? Почему?
Светлана улыбалась сквозь слезы, но не вытирала их — забыла.
— Я думала, что ты не поедешь к маме и папе, и поставила машину в гараж...
— Вперед!
На улице до сих пор горбатились от дневного зноя безжалостно обрезанные секатором тополя, круглоголовые и лысые, стайка тонконогих девчонок играла на
7 Виль Липатов, том 4
97
тротуаре в классики, автомобильный поток понемногу утишивался, учреждения пустели. Шумел, как всегда, тревожно и торопливо речной порт, катили бесшумные троллейбусы и громкие трамваи; жизнь продолжалась.
Принадлежащий семье Гольцовых гараж находился недалеко от дома, где-то за углом, в переулке, но где именно, Игорь Саввович не знал, так как гараж, купленный больше года назад, ни разу, не видел. Личную машину он не водил, да и не было необходимости. Игоря Саввовича вполне удовлетворяла служебная машина с шофером дядей Васей, человеком забавным. Игорь Саввович с дядей Васей ездил на работу и с работы, по, делам и просто так, прокатиться, например, с друзьями р загородный ресторан или на рыбалку.
Светлана подвела автомобиль «Жигули-203» ровно через десять минут, у ног мужа тормознула с шикарным скрежетом. Игорь Саввович улыбнулся, обошел машину с правой стороны, открыл дверцу, сел.
— Слушай! — повертываясь к мужу лицом, вдруг оживленно и быстро проговорила Светлана. — Слушай, Игорь, я все забываю тебе сказать, а сейчас вспомнила, сама не знаю, почему... На днях я встретила мать Валентинова, эту милую старушку Надежду Георгиевну, и обомлела... — Она внимательно глядела в лицо Игоря Саввовича. — Вот чудеса! Я заметила, что ты удивительно похож на мать Валентинова!.. Чего только не бывает, а, Игорь! Уму непостижимо!
Игорь Саввович выпятил грудь, снисходительно похлопал Светлану по плечу.
— Пханяняй, пханяняй, дядя! — сказал он процча- товским голосом и прончатовскими словами. — Пханяняй, рупь на водку, три на опохмелку.
Особняк первого заместителя председателя облисполкома Ивана Ивановича Карцева только чуть-чуть выглядывал четырехскатной крышей из-за зеленого забора и плотной стены старых тополей. Светлана собственным ключом открыла металлическую калитку, войдя во двор, изнутри распахнула большие ворота, села за руль машины, чтобы въехать во двор, как на желтой песчаной дорожке появился Иван Иванович- старший, двойной тезка, дворник, садовник, сторож и друг хозяина дома, исполняющий все многочисленные обязанности не только добровольно, но и вопреки жела¬
нию Ивана Ивановича-младшего, то есть Карцева. Старик остяк, то есть Иван Иванович-старший, узнав машину, точно ребенок, топнул ногой, развернулся на сто восемьдесят градусов и, гневно потрясая руками, удалился.
— Теперь час будет дуться! — огорченно вздохнула Светлана. — Черт меня угораздил открывать ворота...
Иван Иванович-старший, вынянчивший с двухлетнего возраста Светлану, требовал, чтобы дочь Ивана Ивановича-младшего, приезжая в родной дом, звонила, а не сама отпирала ворота. Светлана иногда забывалась, и старик устраивал бурные скандалы. Иван Иванович- старший, нянька, одинокий бессемейный человек, любил Светлану, как он говорил, больше ее матери и ее отца, вместе взятых.
— Сегодня простит, — успокаивающе оказал Игорь Саввович. — Все-таки праздничек...
Особняк Карцева, в сущности, был скромным и небольшим, если бы не мезонин, по-купечески помпезный и величественный, дореволюционный, совершенно бесполезный, в котором никто теперь не жил. Пышный мезонин был больше и выше первого этажа, что делало весь особняк похожим на гигантский гриб. Карцевы — муж и жена, остяк Иван Иванович-старший — жили внизу: спальня, домашний кабинет Карцева, гостиная- столовая, комната старика и большая веранда, опоясывающая половину дома, тоже по-купечески помпезная. Вот и весь особняк.
— Выбрасывайся! — сказала Светлана, заметив, что Игорь Саввович задумался и медлит. — О чуть не забыла сумку! Мама просила привезти уксус для пельменей...
Предупрежденные стариком или привлеченные шумом мотора, с высокого крыльца спустились родители жены — радостные, взволнованные, открыто счастливые. Как и предполагал Игорь Саввович, теща была в черном сарафане, блузке с черным мужским галстуком, туфлях на низком каблуке, и всякий человек, увидев тещу, понимал, что она всю жизнь была сельской учительницей, любила фильм «Сельская учительница» с актрисой Марецкой, слегка подражала ей и была до сих пор хороша: по-русски миловидная, открыто добра, мягка и терпеливо-доброжелательна. Светлана на мать не походила совсем.
Человеком иного склада был отец жены. По нему
7*
99
было невозможно понять, что всю жизнь, исключая войну, Иван Иванович провел в глухой сибирской провинции, то есть в удаленных от Ромска на тысячи километров райцентрах. Это был высокий, прямой, худощавый и широкоплечий мужчина с лицом современного японского делового суховатого человека, узкоглазый и смуглый. Все это имело простое объяснение: Иван Иванович Карцев родился от давно переселившихся в Сибирь чернобровых украинцев и обских аборигенов-остя- ков, смуглых и узкоглазых.
— Здравствуйте, Игорь Саввович! — сказал Иван Иванович и, глядя зятю прямо в глаза, крепко пожал руку. — Вовремя приехали. Спасибо!
— Здравствуйте, Игоречек! — низким бабьим голосом пропела теща, но руку Игорю Саввовичу протянуть не решилась. — Рады, ой, как рады!
Остяк Иван Иванович-старший, сердито посапывая короткой самодельной трубкой, с неприязненным лицом стоял в стороне. Он был настоящим обским аборигеном, мог есть сырое мясо и рыбу, до сих пор одной дробинкой попадал белке в глаз. С Карцевыми он жил так давно, что Светлана не помнила, когда в доме появился Иван Иванович-старший, который теперь считался членом семьи, то есть говорил незнакомым, что он старший брат Карцева, а Карцев тоже представлял остяка как брата.
— А я уксус привезла! — радостно пропела материнским голосом Светлана, вынимая из сумочки трехгранную склянку. — Не забыла! — похвасталась она, и было понятно, что Светлана не ожидала такой мирной встречи родителей с Игорем Саввовичем, который — вот неожиданный подарок! — стоял и мирно улыбался вместо того, чтобы угрюмо молчать. — А я, мамочка, уксус не забыла!
Теща вдруг решительно протянула руку зятю:
— От души поздравляю вас, Игорек! Счастья, здоровья, всего самого лучшего!
— С днем рождения, Игорь! — спокойно сказал Иван Иванович Карцев. — Будьте здоровы! Это — главное!
Ивана Ивановича Карцева в городе и области искренне уважали и высоко ценили, говоря о нем, всегда употребляли слова «справедливый», «обязательный», «умный», «добрый», «честный». Единодушие в оценке Карцева было такого сорта, когда назло всем хотелось
100
спросить: «А чем плох Иван Иванович Карцев?» И если говорить откровенно, Игорю Саввовичу было бы спокойнее и легче, если бы Карцев имел открытые слабости и всяческие недостатки, но вот, поди ж ты, какая странная история. Иван Иванович Карцев был хорошим человеком — и точка! Наверное, такой же путь узнавания Карцева прошел и первый секретарь обкома партии Левашев, если из района переместил председателя райисполкома Карцева на место, которое молва предназначала трем «областным китам».
— Игорек, Светланочка, проходите! Нечего стоять, как в гостях! — счастливым голосом говорила теща, беря за руки дочь и зятя. — Пельмени состряпаны, редька с хреном натерта, все-все готово... Идемте же!
Тещу звали Людмилой Викторовной. Она учительствовала в далекой деревеньке, когда в нее случайно приехал инструктор райкома комсомола Ванюша Карцев, неделю занимался проверкой комсомольской работы, а перед отъездом согласно принятой суровости проявления чувств в те времена сказал: «Приезжай на воскресенье в район. Расписываться будем!» С тех пор она, воспитанная на фильмах «Пятый океан», «Девушка с характером», «Трактористы», «Если завтра война...», была верной и хорошей женой, так сказать, боевой подругой.
— Игорек, Светланочка! Ну идемте же, идемте в дом!
— Постой, не гоношись! — внезапно раздался на крыльце такой могучий басище, который, казалось, не мог иметь низкорослый и худой Иван Иванович-старший. — Куды-то вечно бегут, поспешают, а толку — на закурку не хватит. Им бы все говореть, говореть да говореть...
Сердясь и ворча, старик шел к Игорю Саввовичу, загадочно держа руки за спиной. Он был по-охотничьи кривоног, лицо покрыто миллиардом мелких морщин, глаза — щелочки, одет по-остяцки — ичиги, заношенные штаны из чертовой кожи, ситцевая цветастая рубашка, перепоясанная витым шнурком, во рту кривая трубка.
— Тридцать лет тебе, а все — дурак! — гневно сказал старик, обращаясь к Игорю Саввовичу. — Полтора остяка и одна русская баба с ворот глаз не спущают, ждут вас не дождутся, а ты свою родну бабу распустил, уму-разуму не учишь, ровно и не мужик. Почто
101
Светлане самой ворота открывать, когда хозяева есть? Нам самим полагается ворота отворять — понял? Молчишь? Застыдился?
Пренебрежительно фыркая, Иван Иванович-старший вынул из-за спины подсадную утку, то есть муляж, но такой, о каком и мечтать не может современный охотник: подсадные утки остяцкой ручной работы лет тридцать-сорок назад исчезли даже в обских краях. Манок, или подсадная утка, протянутая Игорю Саввовичу, ничем не отличалась от живой. «Бриллиант, лунный камень!»
— Спасибо, Иван Иванович! — покраснев от радости, сказал Игорь Саввович. — Ну, держись, осень! Что будет, что будет! Ну спасибо, ну спасибо!
Сияла ясным солнышком теща, растроганно улыбался Карцев, понимающий, какой бесценный подарок получил завзятый «утятник» Игорь Саввович, а старик остяк, естественно, из последних сил старался казаться сердитым, хмурился, топал якобы гневно ногой в мягком ичиге, но в глазах-щелочках остренько светилась радость за мужа обожаемой Светланы.
Как все это было просто и понятно! Добро настоящее, искреннее, простое, как всякая подлинность, добро жило за высоким забором карцевского особняка. Иван Иванович-старший, потерявший в наводнение тридцать девятого года всю семью, на фронте спасенный от смерти Иваном Ивановичем-младшим, самовольно решивший прожить жизнь рядом со спасителем; теща в одежде учительницы тридцатых годов, по-старинному, по-народнически интеллигентная; Иван Иванович Карцев — человек с лицом европеизированного японца и телом охотника — все эти люди были патриархально добры и деликатны. Не гостил в их доме около года зять — плохо, но ничего не поделаешь, если не хочет; пришел зять в дом — радость, которую выяснением отношений омрачать не стоит... Светит солнце, посвистывают скворцы и дрозды в черемухах и рябинах, поддувает свежий ветерок — живи, человек, в добре и простоте!
— А вот теперя само время говореть: «Чего в дом не валите?» — деловито сказал Иван Иванович-старший. — Теперя само время за стол сажаться!
Праздничный стол на пятерых накрыли на веранде, с которой виднелась тоненькая полоска голубой Роми, ажурная телевизионная вышка, верхние этажи гостини¬
102
цы «Сибирь». Однако городские шумы не проникали, а ветерок, отраженный стенами, веял прохладно. На туго накрахмаленной скатерти было пустовато — стояли лишь немногочисленные закуски, бутылки с водкой, коньяком и вином, во всех приборах отсутствовал нож. Таким, на вид пустоватым, стол бывает в сибирских семьях, когда главное, основное, жданное и лакомое блюдо — пельмени.
— Мама и папа садятся вот здесь! — счастливая происходящим распоряжалась Светлана. — Дядя Иван сядет вот сюда, а мы с Игорем — здесь. Ты ведь любишь, Игорь, смотреть на реку? Вот и хорошо. Где папа?
Тесть на самом деле куда-то исчез, а теща загадочно улыбалась и смотрела на Игоря Саввовича исподлобья. Молодым и здоровым было ее круглое лицо, обрамленное седым венцом толстой косы; легко представлялось, сколько веселья, легкости и покладистости скрывалось за лучистыми морщинами возле глаз. Голос у тещи был типичным учительским: сдавленным,
хрипловатым из-за профессиональной болезни связок.
— А вот и папа!
Тесть вошел невольно торжественным шагом, смущенный и от этого глуповатый, так как смущение не вязалось с его бизнесменским суховатым лицом. Карцев в руках нес отливающее тусклым червлением ружье знаменитой немецкой фирмы. Это было такое ружье, что Игорь Саввович обомлел, не знал, что думать и нужно ли вообще думать. Он только понимал, что стоимость ружья рублями не выражалась, оно могло принадлежать человеку или не принадлежать — другого счета не существовало. Иван Иванович-младший вывез это бесценное ружье из Германии как трофей.
— От охотника-утятника — охотнику-утятнику! — улыбаясь тоже смущенно, сказал Карцев. — Как говорится, ни пуха ни пера!
Дух захватывало от одних только монограмм на тусклом металле. Кому-то из владык «третьего рейха» принадлежало это ружье, в заповедниках Саксонии, Тюрингии или Баварии гремели выстрелы из спаренных стволов, в музейных каталогах, наверное, значились имена всех бывших владельцев ружья. Вот какой подарочек преподносил Игорю Саввовичу тесть — один из могущественных людей в Ромской области.
— Ни пуха ни пера, Игорь!
103
Игорь Саввович чувствовал горячую тяжесть собственного лица, точно каждая клеточка налилась металлом и раскалилась, а губы, наоборот, похолодели. Он боковым взглядом видел несчастные глаза Светланы, которая медленно поднималась, хотя ничем помочь не могла.
— Держите, ваше, Игорь!
Карцев и подумать бы не решился, что от подарка Игорь Саввович может отказаться, и терпеливо глядел на отчего-то замешкавшегося зятя: коренной сибиряк, Иван Иванович-младший был гостеприимен, щедр, любил делать подарки, получал от этого искреннее удовольствие. «Берите, Игорь, хорошее ружье! — говорили его глаза. — Вижу, что вам нравится. Вот и прекрасно! Не смущайтесь...»
— Спасибо, Иван Иванович! — медленно сказал Игорь Саввович. — Спасибо, но такой подарок я принять не могу. Вы за ружье платили кровью, и оно принадлежит только вам...
«Сволочь ты, Гольцов!» — подумал Игорь Саввович, так как глупее и нелепее человека, чем Карцев, который продолжал стоять с протянутым ружьем и не мог еще понять, что произошло, придумать было трудно. Игорь Саввович решил помочь тестю. Он осторожно взял из рук Ивана Ивановича Карцева ружье, повертел его, покачал головой, чтобы ружье опять не оказалось в руках Карцева, поставил его в угол веранды.
— Поймите меня правильно, Иван Иванович, — сказал Игорь Саввович. — Жертва слишком велика, чтобы я мог ее принять. Простите!
Холод и боль, страх и отчаяние стальным ежом пошевеливались в груди Игоря Саввовича. Карцев, Валентинов, управляющий Николаев, «прогрессист» Савков, назвавший Гольцова «милым другом», .история с пропиской сестры дворника, генерал Попов, полковник Сиротин — вот сколько лиц отражалось на тусклой стали ружья... Пять лет назад главный инженер Валентинов приглашает Гольцова на работу в трест, полгода спустя на квартире главного инженера Игорь Саввович знакомится с веселой и умной девушкой Светланой Карцевой, женится на ней как на дочери председателя Кривошеинского райисполкома, а потом оказывается зятем первого заместителя председателя облисполкома...
— Игорь, Игорь! — словно издалека донеслось до
104
Игоря Саввовича. — Не отказывайся, пожалуйста, от подарка! Не обижай папу! Не надо!.. Мы ведь родные, близкие люди!
Карцев молчал. Затем подошел к ружью, взял его, ушел грустный, но спокойный. Старик остяк, ничего не поняв, забавно крутил головой на короткой шее; то смотрел на Игоря Саввовича, то на двери, в которые вышел Карцев.
— Игорь! — тонко и жалобно вскрикнула Светлана. — Игорь, что ты сделал!
Он повернулся к ней, посмотрел в переносицу; гнев и ненависть туманили голову: «А ты молчала бы! Твоими руками управляющий Николаев домработницу не прописывает! А царских подарков мы не принимаем, дорогая!» Он сейчас испытывал к жене такую же ненависть, как утром к управляющему Николаеву, и чувствовал, что в ненависти к этим двум совершенно непохожим людям есть что-то общее, хотя сама мысль была дикостью. Жена и управляющий — какая связь могла существовать между ними, но ненависть к жене душила Игоря Саввовича, пеленою застилала глаза. Одним словом, происходило то самое, на что он жаловался профессору-психиатру Баяндурову, когда говорил о беспричинных вспышках ненависти, изнуряющей, часто беспричинной.
— Начнем, пожалуй! — вернувшись на веранду и делая вид, что ничего не произошло, весело проговорил Карцев, алчно потирая руку об руку. — Давай, мать, сюда водочку. Я ведь ваши коньяки не пью...
Было видно, что Карцев обижен, но понимает или догадывается, почему зять отказался от подарка, будучи человеком острого и глубокого ума, разумеется, знал, почему целый год Игорь Саввович уклонялся от приглашений в дом тестя. По лицу Карцева также было видно, что он жалеет о случившемся и, значит, понимает свою ошибку, когда по сибирской щедрости не соразмерил ценность подарка со сложными отношениями с зятем. Поэтому Карцев не только простил мужа единственной дочери, но и хотел, чтобы скорее забылось печальное происшествие.
Игорь Саввович с ужасом чувствовал: дышать нечем, страшился потерять сознание от удушья. Он незаметно, под пиджаком помассировал грудь в области сердца, несколько раз жадно, как птенец пищу, заглотал прохладный воздух, закрыл глаза. Боже, как было
105
плохо! Хотелось немедленно повалиться на кровать, повернуться лицом к стене, до боли зажмурившись, не думать, не слышать, не видеть, не вспоминать, не чувствовать — заледенеть.
— Игорек! — говорила между тем теща. — Игорек, хотите копчушек, соленых огурчиков? Грибочков целых шесть сортов. Положить?
Игорь Саввович весь истекал ненавистью. Все в нем кричало: «Никто вас в загс не тащил, бывшая гражданочка Карцева! Сами изволили сделать мне предложение. Это вы, уважаемая, заговорили об одиночестве в шумном городе! Разве не вы заказали свадебное платье за месяц до того, как вам сказали: «Прошвырнемся в загс!»?
— Игорь, пожалуйста, налей мне коньяк.
Он не слышал, он мысленно произносил страстную речь... «С вашим папенькой, милая женушка, произошло чудо из чудес! Кузьма Юрьевич Левашев — так зовут человека, который превратил вашего отца в Карцева, того самого Карцева, который осмеливается делать бесценные подарки, а вы-то к этому какое имеете отношение, дорогая супруга? Кто вам дал право ойкать, когда Гольцов, ваш муж, подарок не принимает? Ваш папа умен, прекрасный работник, а какое отношение имеет к этому Игорь Гольцов, если Карцев стал теперешним Карцевым после того, как Игорь Саввович женился на Светлане Карцевой?»
— Игорь, очнись!
Фу! Игорь Саввович обнаружил себя сидящим за столом на веранде особняка тестя, увидел с облегчением голубую полоску Роми, телебашню, плоскую крышу гостиницы «Сибирь». Ветер сейчас дул с реки, был прохладным, густые деревья и кустарники охотно шумели, а единственный на участке кедр, большой и старый, издавал особенный звук — гудел, как морская раковина. Игорь Саввович почувствовал запахи—дикие, лесные, тревожные, сладкие. Медом пахло и смолой, малиной и черемухой, смородиной и разнотравьем.
— Замечтался, простите, товарищи женщины и мужчины! — бодро и весело проговорил Игорь Саввович.— А что, если я сегодня напьюсь? Вот так, знаете, возьму и напьюсь. Разрешите?
Светлана засмеялась, зааплодировала:
— Пусть, пусть напьется! Знаешь, папа, Игорь никогда в жизни не был по-настоящему пьяным. Пусть,
106
пусть напьется! т- И важно добавила: — Ему нужна разрядка. <
Иван Иванович-старший, всегда начинающий застолье в доме Карцевых, вынул изо рта трубку, сунул ее с огнем в карман, поднялся.
— Ну, Игорь Савыч,, расти разумный да удачливый! — произнес он величественно, словно индеец во время военного совета. — Одним словом, бывай со всем тебе, парень, предназначением!
Гудела морским прибоем крона кедра, мягко упала на землю прошлогодняя еловая шишка, лежащая в плетеном кресле газета под ветром ворчливо прошелестела, и, наверное, от всего этого Игорю Саввовичу стало чуточку легче и он уже мог смотреть на жену и ее родителей, не боясь, что они прочтут в его глазах ненависть — несправедливую и больную.
— Спасибо, Иван Иванович! — благодарно сказал он старику. — Опрокинем, а?!
Выливая в широко открытый рот коньяк, Игорь Саввович заранее ощущал легкость, как бы чувствовал некое освобождение, что-то похожее на радость, полузабытое и далекое шевельнулось в груди, но еще раз, может быть, сегодня последний, он мельком подумал: «Господи, уж скорее бы что-нибудь случилось!»
— Вот так! — сказал Игорь Саввович. — Берите пример, граждане!
Смешная радость Светланы по поводу того, что Игорь Саввович хочет напиться, душевные слова старика, спокойная улыбка Карцева, радость тещи из-за радости дочери—- все это разрядило напряженную обстановку, и за столом опять сделалось легко и просто. Хорошую, дружную семью представляли трое Карцевых, старик Кульманаков, и опять хорош, очень хорош был Иван Иванович Карцев — человек с загадочным лицом японского бизнесмена.
— Поехало! — пробормотал Игорь Саввович. Зашумело в ушах, сладкая волна прилила к пояснице, в саду, звенели колокола... Игорь Саввович уже не сердился на Карцева, нечаянно унизившего его бесценным подарком, а, наоборот, с охотой вспоминал, как хорошо отзывались о тесте в области и городе, как сам Валентинов, его Сплавное Величество Валентинов, го* ворил: «Карцев — это великолепно!» — и эти слова человека, легендарного, как Воскресенская церковь, бы-' ли известны повсюду.
107
— А теперь надоть по второй испить! — сказал старик остяк. — Теперь само время за Светланочку, дай господь ей здоровья, испить! Светланочка!
Половину жизни осиротевший Иван Кульманаков отдал дочери односельчанина и фронтового друга, а когда Светлана уехала в город, любовь к ней перенес на родителей. Ни жениться, ни руководить лесхозом не хотел Иван Иванович-старший, а желал одного — служить Карцевым, и не за то, что отец Светланы спас Кульманакова, а из-за Светланы, только из-за Светланы, только из-за Светланы...
— Будь со всех сторон счастливая! — говорил старик, шмыгая носом. — А если тебя кто забижать будет, ты непременно жалься мне. Я в сердцах шибко лютый. Каждого зашибить могу!
Крупные стариковские слезы стояли в глазах, скатывались на щеки с миллиардами морщин, и это было жутко, непонятно жутко, так как, казалось, плакала маска. Откуда появились слезы, если лицо похоже на окаменевшее тысячелетнее дерево?
— За тебя, доченька! — нежно пропела теща.
— Будь здорова, дочь! — сказал Карцев.
И опять шелестели деревья, пели птицы, сияло солнце, пахло травой и медом... Ну отчего не радовался жизни тридцатилетний, атлетически сложенный мужчина по имени Игорь Саввович Гольцов? Чего ему не хватало? Чем был недоволен? Умная и любящая жена, высокий служебный пост, лучезарное будущее, Валентинов, увлеченный своим заместителем и не знающий, что Гольцов — его сын. Почему возникло немыслимое желание: заложить в ствол отвергнутого ружья патрон с пулей-жаканом, снять ботинок с любой ноги, взять в рот холодный, пахнущий ружейным маслом ствол...
— Игорь, почему не пьешь? — воскликнула Светлана. — Грозил напиться, а сидишь с пустой рюмкой...
Игорь Саввович нагнулся, заглянул Светлане в зрачки, затем отвел взгляд, бегло подумав: «Она знает о Рите! Знает, но никогда не скажет...» Беспокойства и уныния это открытие не принесло, но, наливая себе коньяк, Игорь Саввович окончательно решил, что из происшествий субботы можно вычленить что-то нужное и чрезвычайно важное для понимания того, что с ним происходит и будет происходить, словно в событиях субботы лежал ключ от Игоря Саввовича Гольцова. Он опрокинул в рот вторую большую рюмку коньяка.
108
— Молодец! Отчаюга! — крякнул старик остяк. — Ой, Светланушка, твой обманывает, что никогда не набирался до износу! Глянь, Игорь-то совсем не закусывает!
Карцев неярко улыбался. До зависти спокойным, целостным было его уникальное лицо с удлиненными глазами, с приподнятыми уголками век; сильное лицо, лицо улаженного, знающего себе цену человека, нашедшего тайный способ уравновешивать жизнь и самого себя в жизни на каких-то мудрых весах. Многое знал о жизни и людях этот немногословный, деловой человек, многое умел: сидеть за торжественным столом, молчать, говорить, вести дружескую беседу, работать; знал цену солнцу, ветру, запахам, щебетанию птиц. А ведь, наверное, не сразу дались ему улаженность, уверенность, величественная несуетность?
— Я поставлю на огонь пельмени! — сказала теща и пошла в кухню. — Через двадцать минут будут готовы!
Хорошо было на веранде, честное слово, хорошо! Игорь Саввович схватил бутылку с коньяком, махом налил полную рюмку, не глядя на жену, тестя и старика, залпом выпил.
— Первая колом, вторая — соколом, третья — пташечкой! — лихо произнес Игорь Саввович и неизвестно почему засмеялся, хотя сладость первого опьянения прошла, ощущалась только теплая дрожь в пальцах, голова же была отчаянно ясной, мысли приходили простые, как геометрические фигуры — круг, треугольник, квадрат. Например, произнесенная им фраза была равнобедренным треугольником. «Колом» и «соколом» —■ стороны, «пташечкой» — основание треугольника.
— Дрянной коньяк! — профессионально, словно дегустатор, заявил Игорь Саввович. — Могу выпить всю бутылку! — похвастался он и снисходительно расхохотался. — Игоря Гольцова бутылкой, брат, не возьмешь. Не таковский! Не-ет!
Крупно вздрагивающими пальцами — он этого не замечал — Игорь Саввович налил еще рюмку, с выпяченной грудью, заносчивый и надменный, потеряв из поля зрения жену, тестя, старика, утратив ощущение обстановки и происходящего, снова залихватски выпил. Коньяк теперь застревал в горле, вызывая спазму, но Игорь Саввович отважно преодолевал отвращение. «Напиваюсь!» — думал он, а вслух сказал:
109
— Игорю Гольцову все по плечу!
Произошли непонятные и забавные изменения на веранде, за столом, в саду. Стол уменьшился до размеров туалетного, веранда походила на палубу катера, то есть ощутимо покачивалась, сад перестал источать запахи, деревья казались фиолетовыми, укороченными, а поляна, наоборот, расширилась, казалась выпуклой, словно перевернутая тарелка.
— Вода уже кипит! — высунувшись из дверей, радостно крикнула теща. — Сейчас начну варить пельмени.
— Вода? — сосредоточенно спросил Игорь Саввович. — Вода? — Он покачнулся. — Вода! Известно ли вам, что все, абсолютно все состоит из воды? Человек — вода, дерево — вода. Земля покрыта водой. А вот на Луне воды нет. Нету! Это смешно, что на Луне воды нету и не-ту! — Он с удивлением развел руками. — А я еще выпью! Для Игоря Гольцова бутылка — это тьфу! И растереть! С бутылкой на-а-а-адо кончать!
Издалека, оттуда, что могло быть и фантазией, донесся на что-то похожий голос:
— Игорь! Игорь, это уж слишком! Папа, дядя Иван, удержите Игоря!
Что такое? Папа! Как это просто — папа! А если у человека два — два! — папы? У одного живого человека два папы. Игорю Гольцову бутылка коньяка — тьфу и растереть. Во! Берем бутылку, наливаем, хлоп — нету! Забавно, что лужайка похожа на перевернутую тарелку. А вот в гостях у Прончатова никто не мог напиться. Хе-хе-хе, только он, Игорь Гольцов, способен доброкачественно напиться.
— Мне сегодня подарили часы. Японские часы! — произнес Игорь Саввович убедительным голосом. — Самые лучшие японские часы! Догадайтесь, сколько теперь у меня японских часов? Дво-о-е-е-е-е! Вот! — Он показал руку.— И вот! — Он вынул из нагрудного кармана старые часы. — И вот! А дома? — Он хитро прищурился. — А дома у меня еще двое часов, отечественные и швейцарские. Я очень богатый, очень!
Игорь Саввович многозначительно помолчал. Он, казалось, действительно жил в другом мире или измерении; все реальное творилось и существовало отдельно, как бы проходя сквозь Игоря Саввовича, пронизывая его материальными предметами, как токами, и потому было фантастическим, зыбким, тонущим в теплом
ПО
фиолетовом мареве. Отчужденность была сладкой, музыкальной, засасывающей, для полноты ощущений хотелось вывернуться наизнанку, сменить каждую частичку самого себя, как бы заново родиться в том же обличье, но, предположим, с отрицательным знаком.
— Пельмени поспели!— послышался из ничего, из пустоты голос. — Пельмени поспели!
Тоненький оранжевый лучик проник в непонятность, что-то высветлил, что-то, наоборот, спрятал в загустевшей темноте... Валентинов, навзрыд хохочущий в старорежимном кресле, Прончатов, умоляющий Игоря Саввовича держаться, Рита, пытающаяся вспомнить, было ли в ее жизни несчастье, управляющий Николаев, провожающий Игоря Саввовича глазами убийцы, профессор Баяндуров с его речами о сенсорном голоде. Соединялось, перемешивалось, рассоединялось, опять соединялось...
— Я часы умею починять! — неожиданно вскочив, запальчиво выкрикнул Игорь Саввович. — Я самый лучший часовщик в городе! Это признал даже знаменитый Матвей Ерофеевич. — Он вытянул руку, сложил пальцы фигой. — Он, ваш хваленый Матвей Ерофеевич, не мог починить «лонжин» академика Кузнецова, а я пришел к Матвею Ерофеевичу, посмотрел — и починил! Я вот что сделаю! — снизив голос, вкрадчиво, ссутулившись и прижав руки к туловищу, точно к чему-то подкрадывался, сказал Игорь Саввович. — Я вот что сделаю: брошу трест и стану часовым мастером. Знаете, сколько зарабатывает Матвей Ерофеевич? Минимум четыре сотни. А я? Да Игорь Гольцов — часовых дел гений — пять сотен возьмет, всегда возьмет. Ладушки!
Теплое и сильное, непонятное что-то навалилось, обрушилось на Игоря Саввовича. Покатился по столу, упал на пол и разбился фужер, послышался странный звук... Это Светлана бросилась Игорю Саввовичу на шею, начала быстро* горестно, умоляюще целовать его лицо, шею, плечи; жена целовала так, словно они сто лет не виделись, словно Игорь Саввович невредимым вернулся с войны или вышел из тюрьмы, будучи осужденным пожизненно. Забыв о родителях и старике, обо всем на свете, плача, Светлана говорила:
Все будет хорошо, вот увидишь, все будет хорошо! Все будет хорошо, а плохо не будет, плохо не будет никогда, никогда. Я тебя спасу, я тебе помогу. Плохо не будет, все будет хорошо, очень хорошо!
Освободившись от объятий жены, ничего не поняв, Игорь Саввович внимательно, прищурив один глаз, точно в микроскоп, посмотрел на нее, пошатнулся, сел и уронил голову на стол, да так, что раздался сильный и глухой удар. Никто не успел испугаться, как послышался его восторженный голос:
— Вот какой лоб у Игоря Гольцова. Чугунный!
Стало тихо. Ветер улегся, припрятался, солнце уходило за кедр и сосны, голубовато-розовая дымка опускалась на землю, точно чад потухающего костра в ненастный день. Примолкли дневные птицы, озабоченные ночным устройством, и уже слышался голос одинокой ночной птахи. Запахи, как это всегда бывает на грани вечера и ночи, стали особенно резкими и яркими, такими насыщенными, точно хотели заменить солнечный свет.
— А я не плачу! — сквозь рыдания сказал Игорь Саввович в стол. — Я совсем не плачу... Я ухожу в часовые мастера...
Он проливал пьяные слезы, потому что весь мир — это теперь было ясно — ополчился против Игоря Саввовича Гольцова. Его не любят, не уважают, стараются отнять даже такое, чего он никогда не имел, но хотел иметь, чтобы узнать, что это такое. Жена его не любила и не уважала за то, что он спал с Ритой, главный инженер Валентинов — за то, что Гольцов против Ко- ло-Юльского плота, управляющий Николаев — за то, что Игорь Саввович прописал сестру дворника, тесть Карцев — за то, что Игорь Саввович пользуется его высоким служебным положением, теща — за то, что он плохо обращается с ее дочерью, старик остяк — за то, что Игорь Саввович не взял ружье, Рита — за то, что он в постели сказал: «Пора спать!»
— Игорь, родной, милый, возьми себя в руки! Все хорошо, все отлично! Тебе станет легче. Ты выспишься, ты завтра будешь спокойным... Ты будешь здоровым. Все, все будет хорошо!
Он медленно поднял голову и мгновенно, как всякий очень пьяный человек, снова изменился — сделался злым, бледным, перекошенным.
— Что будет хорошо? — садистски медленно спросил Игорь Саввович. — В последний раз спрашиваю: что будет хорошо? — Слова душили, он хрипел от обилия слов. — Валентинов — знаменитость, Николаев — сволочь и карьерист, Прончатов — герой нашего вре¬
112
мени, Савков — совесть и честь, а кто такой Игорь Саввович Гольцов? Хороший, плохой, умный, глупый? Отвечайте! Ну, отвечайте! Добрый, злой, смелый, трусливый? Ага, не знаете! — вопил он. — Не знаете! Так я вам скажу. Гольцов — никакой. Мыльный пузырь, арифмометр, приставка к Валентинову и письменному столу — вот что такое Гольцов. — Игорь Саввович театрально раскланялся. — Прошу любить и жаловать... Молчите? Ну конечно, вы люди воспитанные, деликатные, добрые. Ха-ха! Не верьте Гольцову! Он бол-тает... Болтает! Жена, где мои тапочки? Стоп! Я о другом... Да, да, я о другом! — Он качался. — Я о другом... Вы ничего не поймете и понять не мо-о-оже-те! Надо быть ребенком, чтобы увидеть голого короля...
Старик Кульманаков крутил ошалело головой, теща замерла в дверях с дымящимися в больших мисках пельменями, Карцев рассматривал рисунок на скатерти, Светлана тихонько плакала, а с Игорем Саввовичем творилось то обычное, что происходит с человеком, когда он впервые за тридцать лет жизни принимает огромную порцию алкоголя и, отравившись, теряет человеческий облик. Игорь Саввович — новая перемена! — вдруг развеселился: заливисто и тонкоголосо хохотал, аплодировал самому себе, кланялся во все стороны, прижимал руку к сердцу. Он схватил плачущую Светлану в охапку, попытался танцевать с ней, но наступил сам себе на ногу и упал бы, если бы Светлана не удержала, а когда выровнялся, объявил, что хочет сделать серьезное заявление и при этом сатанински рассмеялся.
— Девушка, вы мне нравитесь! — страстно сказал он жене. — Разрешите вас проводить. Вы согласны? Спасибо! — Он встал на одно колено. — Я вас люблю! Примите мои поздравления. Что? Вы меня прокатите на автомобиле? Прекрасно! Вы сами водите автомобиль?.. Ах-ах!
Игорь Саввович сделался поразительно деятельным. В мгновение ока он совершил массу поступков: благодарственно пожал руку Карцеву, не узнавая тестя; облобызал тещу, чего никогда не делал; раскланялся со стариком, назвав его уважительно Эдуардом Эдуардовичем; одновременно с этим Игорь Саввович надел пиджак, затянул галстук и начал пятиться, изысканно улыбаясь, раскланиваясь и разговаривая на хорошем английском языке. Кончил он русским языком:
8 Виль Липатов, том 4
ИЗ
— Это вам сам Игорь Гольцов говорит, сэры, сам Игорь Гольцов! Ах, как жалко, что вы не умеете выговаривать мое отчество! Саввович, сэры, Саввович! Правильнее, конечно, сэры, говорить Саввич, но у Гольцовых говорят Саввович и только Саввович. Каприз, сэры, каприз!
В автомобиле Игорь Саввович продолжал ненасытную : деятельность. Для начала он попросил Светлану, называя ее «девушкой», проехаться по главной улице города, чтобы посмотреть праздничную иллюминацию, а когда понял, что никакой иллюминации нет, потребовал, чтобы девушка развила скорость сто шестьдесят километров в час для проверки тормозов. Затем Игорь Саввович долго и пламенно уговаривал Светлану ехать на берег Роми — любоваться пароходами, лунной полосой на темной воде и самой луной.
— Надо, надо прикоснуться к природе, вечной и нетленной! — с пафосом говорил Игорь Саввович. — Почему люди не хотят понять, что природа облагораживает?.. Кстати, знаете, чем я занимаюсь? Уничтожаю природу... А почему мы не едем любоваться золотой полосой лунного света на темной реке?
Все окна автомобиля были открыты, салон продувался насквозь упругим прохладным воздухом, автомобиль, двигался, и Игорь Саввович понемножку трезвел, хотя продолжал болтать чепуху, не обращая внимания на хохочущую над ним девушку, которой уже говорил «ты». На середине пути он неожиданно потребовал срочно остановить машину возле первой водоразборной колонки.
— Ты просто обязана, как гуманистка, как человек и женщина, напоить холодной водой умирающего от жажды...
Игорь Саввович прильнул губами к металлическому крану, пахнущему ржавчиной, пил так долго, что Светлана забеспокоилась, но он допил свое, а потом, хохоча и дико вскрикивая, подставил голову под ледяную струю. Мокрый, сел в машину и велел ехать дальше.
—г Хотел бы я знать, — ворчливо спросил он, — почему мы не поехали смотреть лунную полосу на темной воде? А кстати, куда ты меня везешь?
— Домой.
— Домой? Это отличная идея!
За полтораста-двести метров от дома Светлана свернула в хорошо освещенный узкий переулок. С одной
114
стороны вдоль узкого переулка стояли четыре гаража с разноокрашенными дверями — красной, зеленой, синей и желтой. Каменные, прочные, большие гаражи были совершенно одинаковыми, над каждым гаражом горела сильная электрическая лампочка в проволочной сетке.
— Приехали! — объявила Светлана. — Вот и приехали! Игорь, выйди, пожалуйста, я поставлю машину.
Игорь Саввович ловко и привычно быстро — ни разу не покачнувшись — выбрался из кабины, отойдя в сторону, принялся с деятельной дотошностью изучать переулок, в котором никогда не был и который ему понравился: казался веселым и уютным. Маленький такой, игрушечный, чистый. Не зная, как называется переулок, Игорь Саввович окрестил его Гаражным. Напротив гаражей на расстоянии ширины переулка стоял четырехэтажный дом всесоюзно распространенной архитектуры.
Ого! А домик-то, оказывается, не был таким тихим и равнодушным, как показалось поначалу. Как только Светлана со звоном открыла замки и потянула на себя скрипящие двери гаража, в одном из окон второго этажа появились сразу три головы — мужская, женская и детская. На третьем этаже в распахнутое окно выглядывала только одна голова, а в дверях крайнего, первого подъезда темнела загадочная женская фигура в зимней шали. Наконец, вспыхнуло окно на торце третьего этажа, на балкон вышла полуголая женщина, поглядела вниз, сонно потянулась и исчезла. Но больше всего Игоря Саввовича интересовали три горящие неоновые буквы — А, Е и А. Между ними были темные промежутки разной величины. Заинтересовавшись, Игорь Саввович сосредоточенно высчитывал:
— Если «аптека», то почему впереди две погасшие буквы? Я вас спрашиваю, почему... две буквы? Молчите? Хорошо! Начинаем сначала... — Он усердно бормотал: — Сначала, говорю, начинаем. Если не «аптека», то первая или две первые буквы — согласные. Какие?
— Прачечная! — сказала за спиной Светлана. — Это вывеска прачечной... Пошли, Игорь.
Он покорно дал взять себя под руку, слегка покачиваясь, когда асфальт оказывался неровным, работяще двинулся вперед, но все еще пытался повернуться назад, к трем неоновым буквам, так как здорово сомне¬
8*
115
вался насчет прачечной. Так они прошли шагов сто, ие больше, когда гулкий и светлый переулок вдруг до отказа, словно включили сразу сто транзисторов, наполнился звоном гитарных струн, хриплыми голосами и цокотом каблуков, подбитых металлическими подковками. Кто пел, почему пел, неизвестно. Но пели модное, пели отвратительными голосами, однако правильно, музыкально и так выразительно, что Игорь Саввович перестал покачиваться и отнял руку у жены.
— Отменно! — пробормотал он. — Стараются...
Занимая по ширине весь переулок, навстречу Игорю
Саввовичу и Светлане двигались три парня с гитарами и девушка — тонкая и маленькая. Она шла в одной шеренге с парнями, но чуть в стороне от крайнего левого, как бы по не существующему в переулке тротуару. Кроме того, Игорю Саввовичу показалось, что за спинами парней скрывается еще кто-то, но уверенности не было, что это не тень одного из ревущих на всю улицу гитаристов.
Парни были так карикатурны, что даже художник из «Крокодила» не решился бы взять их за натуру: «Не поверят!» На самом высоком — не меньше двух метров! — были брюки помрачительной ширины, с колокольчиками и цепочкой. Волосы у него опускались ниже плеч, впереди закрывали глаза косой прядью. Второй и третий парни были слегка уменьшенными, но еще более окарикатуренными копиями длинного гитариста.
— Светлана, посмотри-ка, — совсем трезвея от удивления и шума, сказал Игорь Саввович. — Нет, ты только посмотри на них. Это же...
Он не закончил, так как длинный гитарист, внезапно оборвав песню, крикнул:
— Эй, ты, папаша! Сойди с дороги! Затопчем!
На трезвую голову Игорь Саввович, надо полагать, сразу бы понял, что «папаша» относится к нему, но сейчас оглянулся, чтобы посмотреть, к кому обращается верзила, и, так как переулок был по-прежнему пуст, Игорь Саввович недоуменно уставился на приближающихся гитаристов.
— Сойди с дороги, папаша, сойди! — устрашающе крикнул длинный. — Сметем, как муху, папаша!
Игорю Саввовичу еще раз померещилось, что за спинами гитаристов кто-то крался или просто шел, но это было мелочью перед тем, что Игорь Саввович, ка¬
116
жется, нашел приложение своей неистребимой жажде деятельности.
— Не надо кричать! — радостно улыбаясь, благожелательно и неторопливо обратился он к длинному парню. — Крик — оружие слабых, а вы сильный человек. Извольте понять: человеку, которого вы называете «папашей», обязаны вы, более молодые, уступать дорогу. В человеческом обществе, знаете ли, принято отдавать предпочтение старшим по возрасту, хотя в эпоху технической революции...
Волна пьяной доброжелательности, разнеженности, мягкости, любви ко всему сущему на свете бушующей стихией захлестывала Игоря Саввовича. Хотелось немедленно, на всю оставшуюся жизнь подружиться с гитаристами, зазвать парней и девушку в гости или пойти куда-то вместе с ними, попеть про Ваньку Морозова, как он «циркачку полюбил», и вообще, объединившись, идти дальше по жизни с ее радостями и печалями. Хотелось, обнявшись и целуясь напропалую, спрашивать: «А ты меня уважаешь? Вот спасибо! Я тебя тоже шибко сильно уважаю!»
— Что касается меня, друзья, — отечески вразумлял Игорь Саввович, — что касается меня, то слово «папаша» сегодня вполне приемлемо, хотя и с натяжкой. Мне сегодня стукнуло тридцать... А вы почему молчите? Мне хочется разго-о-ва-а-ри-вать! Очень!
Парни стояли неподвижно, оперевшись на гитары, смотрели на Игоря Саввовича с недоумением, точно на каменную стенку, которая по волшебству возникла на давно знакомой, исхоженной дороге. Они что-то неторопливо обдумывали, что-то тяжело соображали, трижды переглянулись, потом длинновязый — самый приятный из всех для Игоря Саввовича — укоризненно проговорил:
— Папаша, а ведь ты в стельку пьян! — Он ухмыльнулся. — Ты здорово поддавши, папаша. Можно на этом деле и пятнадцать суток схлопотать...
Гитаристы вдруг изменились. Они выглядели сейчас так, точно нашли наконец желанное, в поисках которого с раннего вечера исходили полгорода, переорали все знакомые песни, сорвали голоса, истерзали струны дешевых гитар; они шли, пели, поднимали на ноги город, скучали и уже ни на что хорошее не надеялись, когда на обреченно-скучном пути возник Игорь Савво- вич — щедрый подарок судьбы.
117
— Папаша! — ласково склонив голову, сказал длинный. — Грубишь рабочему человеку... Эх, папаша, папаша!
— Игорь! — крикнула Светлана. — Берегись! Игорь!
Аккуратно уложив на землю гитары — девушка, вскрикнув, убежала, — трое медленно, улыбаясь и паясничая, двинулись к Игорю Саввовичу. Было видно, что сыгравшиеся гитаристы опытны в кулачных битвах, их движения были точно скорректированными и привычными; они на ходу устрашающе засучивали рукава.
— Игорь! Беги, Игорь!
Игорь Саввович машинально оттолкнул жену, трезвея до волнующей бодрости, вкрадчиво попятился, чтобы не обошли сзади, двигаясь неторопливо, снял пиджак,, бросил на землю, принял боксерскую стойку.
— Папаша, убивать не будем, не боись! Наставим фонарей и пойдем спать.
Игорь Саввович с наслаждением заржал, но как раз именно в это мгновение длинная рука верзилы мелькнула в воздухе, Игорю Саввовичу пришлось отклониться — вместо лица кулак главы гитаристов угодил в плечо* и ровно через полсекунды верзила, переломившись пополам, взвыл от боли. Этого, однако, было мало — левая рука Игоря Саввовича снизу вверх нанесла привычный в такой ситуации удар в наклоненный подбородок. Длинновязый с криком упал и ударился головой об асфальт.
— Одна персона! — удовлетворенно заметил Игорь Саввович. — Ай-ай, как мне сегодня страшно!
Он все внимание сосредоточил на коротышке, понимая, как тот опасен — теннисный мяч, а не человек: и. попасть трудно, и на ногах устойчив. Поэтому, наверное, Игорь Саввович не доглядел за молодцом среднего роста и немедленно получил удар в область солнечного сплетения, от чего перестал дышать, перед глазами поплыло, закружилось, и он сам не знал о том, что его ответный удар — сработала автоматика — пришелся коротышке в переносицу, а извернувшись, он одновременно с этим на лету поймал кулак парня среднего роста. Рывок на себя, переворот, удар коленом... и раздался такой крик, что в ушах зазвенело. Игорю Саввовичу после крика показалось, что в переулке сделалось светло как днем.
:— Игорь! — крикнула Светлана.
118
Оказывается, коротышка оклемался и, несмотря на то, что из носа струей била черная кровь, шел на Игоря Саввовича с гитарой, держа ее в руках, как молот. Игорь Саввович начал лениво отступать назад, то есть до стены дома. Он уперся в нее спиной, и коротышка радостно ощерился: «папаша» сам угодил в западню. Со звоном описав дугу — Игорь Саввович мгновенно отклонился, — гитара врезалась в стену, разлетелась на мелкие части, а коротышка, потеряв равновесие, начал падать вперед, и, естественно, наткнулся на кулак Игоря Саввовича, который опять радостно заржал, наблюдая, как коротышка медленно опускался на землю. Он делал это так, точно сонный укладывался спать.
— Вторая персона лежит под ногами! А третья где?
Парень среднего роста исчез. Длинный гитарист
лежал в прежней позе, коротышка едва ворочался, и осталось произвести чисто техническую работу: разбежавшись, вскочить на первую из гитар, протанцевать на ней дикарский танец, что Игорь Саввович сделал немедленно. Он вспрыгнул на гитару верзилы, с треском и звоном струн расплющил ее, потом то же самое сделал с другой гитарой и вздел руки с торжественным криком:
— Слава! Чемпионом города Черногорска остался Игорь Гольцов, средний вес... Поздравим победителя.
Дрожащая от страха, задыхающаяся Светлана бросилась к мужу, прижалась. Она не могла выговорить ни слова, только мычала, мотала головой, и он снисходительно гладил жену по горячей щеке.
— Перестань, перестань. Вот дуреха!
Большой дом осветился почти весь, с первого этажа до последнего; поэтому Игорю Саввовичу и показалось, что стало светло как днем. Люди высовывались в окна, полураздетые, торчали на балконах, и кто-то уже бежал, кричал, махал руками...
— Пошли, мамаша! — хохоча, воскликнул Игорь Саввович. — Папаша здорово хочет спать. Па-па-ша баиньки хочет... — Он опять начал пьянеть. — Эй, мамаша, кому говорят, идти надо... А хочешь, я тебе чего- нибудь спою. Хочешь, я тебе спою песню скворца? Ну, этого, который у... который у Валентинова. «Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца...»
Он качался, почти падал, снова ничего не видел, не слышал, не понимал. Сгибаясь под тяжестью, Свет¬
119
лана тащила на себе окончательно опьяневшего мужа: тащила его так, как это делали женщины в ее родной деревне, — с терпеливым и рабочим лицом.
Глава четвертая
КОМАНДИРОВКА
Нос сильного быстроходного катера в зеленоватое шампанское сбивал темную обскую воду, чайки не отставали, кружились и орали так жалобно, словно в трюмах катера увозили всю рыбу. Спаренные дизели реактивно выли, водяной бурун клубился водопадом, а Игорь Саввович хотел только одного: сунуть насовсем голову в холодную обскую воду. Голова у него не болела — голова у него треснула, разделилась на несколько частей, а вот каждая часть уже болела по- особенному. Затылок пронзали тонкие стальные спицы, лоб казался раскаленным, лобные доли, казалось, кровоточили.
Утром Светлана с трудом поставила Игоря Саввовича на ноги, посадила в ванну, отмочив немного, напоила густым, точно мед, кофе. Она помогла полуживому мужу надеть командировочные доспехи, проводила до машины и поцеловала нежно. Шофер дядя Вася, увидев «шефа» в непотребном состоянии, без согласования завез Игоря Саввовича на рынок, напоил огуречным рассолом.
Вчерашнего Игорь Саввович Гольцов совсем не помнил: ни того, что творил в особняке Карцева, ни дороги домой, ни драки, во время которой он, протрезвев, одержал внушительную победу. Странно, но весь вчерашний день тоже совершенно стерся из- памяти. Он, например, до сих пор не мог вспомнить, почему ругался с управляющим Николаевым. Игорь Саввович знал, конечно, что вчера он безобразно напился, но жил только тем, что происходило сейчас, — своими неимоверными страданиями и тем, что слева, на той же носовой палубе катера, где лежал распятым Игорь Саввович, сидел в низком кресле из металла и поролона главный инженер Сергей Сергеевич Валентинов в сверкающем белизной полотняном костюме, в сомбреро с яркой лентой да еще с журналом «Смена» в руках. Он, видите ли, вышел
120
насладиться солнечным днем и стремительным бегом по родной Оби своего персонального катера «Лена».
— Растение с волокнистыми листьями... — бормотал Валентинов, прищуриваясь в небесные высоты. — Интересно, интересно... Забавно!
За три-четыре часа быстроходная «Лена» успела из Роми выскочить на вольный Обский плес, берега делались с каждым километром все ниже и пустынней, сосны и кедры исчезали, уступая берега кустам ивняка и чернотала; все чаще левый или правый берег походил на прекрасный искусственный пляж — это и были так называемые пески, знаменитые места, пригожие для ловли рыбы гигантскими стрежевыми неводами. Да, под килем прекрасного катера бурлила великая сибирская река, а Игорь Саввович трупом лежал на палубе и болел весь — от мизинца ноги до вихрастой макушки.
— Волокнистое растение — кукуруза! — сморщившись от боли, сказал Игорь Саввович. — Волокнистые листья в кроссвордах — всегда кукуруза...
— Правильно. Браво, Игорь Саввович, браво!
— Спасибо! Но, если можно, Сергей Сергеевич, разгадывайте кроссворд молча...
Валентинов разволновался:
— Ах-ах-ах! Простите, Игорь Саввович, я совсем забыл о вашей странной ране, или, если хотите, синяке на лице. Простите, пожалуйста!
Черт знает какие фокусы выкидывал главный инженер, если до сих пор делал вид, что не замечает состояния своего заместителя, а здоровенный фингал на скуле именует синяком. Валентинов вел себя до того естественно, что Игорю Саввовичу пришла в голову мысль: «А может быть, он на самом деле ничего не понял?» — но тут же устыдился такого предположения...
— Курорт на юге Франции... Забавно! Курорт? На юге Франции?
Комедия, боже! Какая комедия! Смертельно напиться на собственном дне рождения, разжиться великолепными синяками и фингалами, дойти до полного изнеможения — и все для того, чтобы, распластавшись на деревянном настиле палубы, сквозь боль, страх, тоску и отчаяние смотреть снизу вверх на родного папеньку Валентинова, отгадывающего кроссворд в журнале «Смена». Нога закинута на ногу, сомбреро сбито на затылок, из босоножек видны носки умопомрачительной расцветки; загорелое лицо сосредоточено, азартно подвижно от
121
мысли и напряжения, А руки! Волосатые, большие, но с тонким запястьем, длинными пальцами; по одним только рукам было ясно, как любит жить и как жадно живет человек в белоснежном полотняном костюме. И этот человек — родня Игоря Гольцова, трупом лежащего у ног отца!
Зависть! Зависть, оказывается, была такой же острой, больной, таранящей, как и вспышки ненависти, которые страшили самого Игоря Саввовича. А человек, не знающий, что справа от него умирает родной сын, наслаждался жизнью, солнцем, водой, работой, предстоящей удачей, дурацким кроссвордом. Глядя в сияющие небеса, с блестящими от солнца и мысли глазами, он бормотал:
— Курорт на юге Франции? Шесть букв... Курорт на юге Франции! Предпоследняя буква «и». Забавно!
— Биариц! — зло выкрикнул Игорь Саввович и открыл глаза. — Уважаемый Сергей Сергеевич, не откажите в любезности посмотреть на дату выпуска журнала. Очень прошу!
Валентинов посмотрел на обложку журнала.
— Боже великий! Июль прошлого года! — воскликнул он, срывая с переносицы очки и пораженно глядя на Игоря Саввовича. — Вы помните прошлогодние кроссворды? Нет, действительно вы способны запомнить прошлогодний кроссворд? Пора-а-а-азительно, уникально! — Он размахивал журналом. — Ну а кто вот это? Герой романа «Как закалялась сталь»? Третья буква «у». Кто?
— Брузжак.
— Боже великий!
С забавной досадой Валентинов швырнул журнал за борт, расхохотавшись, переменил позу, то есть спрятал руки за спину, и теперь без кроссворда, заставляющего сосредоточиваться, главный инженер блаженно расслабился и от этого в добавление ко всему еще и помолодел. Разгладились морщины, посзежела кожа у глаз, и даже глубокие волевые складки возле губ смягчились. Добрым, славным, простецким и моложавым был сейчас Валентинов, и Игорь Саввович совершил неожиданный поступок — приподнял тяжелую голову и раздела но спросил:
— Скажите, Сергей Сергеевич, почему вы назвали катер «Леной»? Это женское имя или название реки?
Как и ожидалось, улыбка 'медленно сползла с лица
122
главного инженера, словно ее, улыбку, стянули за кончики, брови сдвинулись, бородка превратилась в пику. Сейчас он был страшным, этот интеллигентный добряк и душка Валентинов. Наверное, таким бывал главный инженер на войне, когда ‘зарабатывал раны, ордена и медали. От такого человека можно было ожидать всего — удара в челюсть, выстрела, взмаха ножа. Ого-го, какие дремлющие силы и скрытые возможности вскрыл в родном отце Игорь Саввович Гольцов!
— Извольте не совать нос не в свои дела! — медленно и жестко сказал Валентинов. — Простите за резкость!
Игорь Саввович был так удивлен, что позабыл обидеться и в ответ нахамить главному, что в любой другой обстановке непременно1 сделал бы... Пять лет назад катер главного инженера треста Ромсксплав ранним утром лихо пришвартовался к деревянному причалу плот- бища Коло-Юл, а встречающий начальство руководитель сплавного участка Гольцов на искреннее приветствие Валентинова не ответил, так как впервые узнал, что скоростной катер главного называется «Леной». Это слово было написано с двух сторон носовой части, на корме и на шести спасательных кругах. Молодому начальнику сплавного участка Гольцову пришлось отвернуться от удивленного этим главного инженера, чтобы Валентинов не прочел в глазах: «Я знаю, почему вы так назвали катер. В честь моей матери и вашей бывшей жены. Я — ваш сын!»
Теперь Валентинов сидел в поролоновом кресле такой, что казалось, брось в него камешком — раздастся металлический звон, и неизвестно, что произошло бы дальше, если бы на палубу не взлетел из трюма матрос- радист.
—- Игорь Саввович, вас зовут до рации. Чей-то производственный отдел запрашивает. Срочно!
• Никакой производственный отдел ничего не запрашивал, а просто Володечка Лиминский, бесясь от безделья после отъезда Валентинова, интересовался бесценной Жизнью и здоровьем своего дружка Гольцова. В ответ на «Иди к черту!», произнесенному энергично, Володечка не смутился, а передал еще и поклон от полковника Митрия Микитича. «Ты хоть и чертыхаешься, — сказал он, — а без тебя скучно. Пулька не состоится... Слушай, есть анекдот... Ах не хотите! Тогда будьте здоровы!»
Обливаясь потом, с огромным трудом Поднявшись
123
на палубу, Игорь Саввович сразу заметил, что с Валентиновым произошло еще что-то новенькое. Ноги у него были не скрещенными, а вытянутыми, руки — такое наблюдалось впервые! — беспомощно лежали на коленях, голова опустилась на грудь, глаза были закрыты, и даже сомбреро наползало на лоб.
Игорь Саввович нервно зевнул. В постаревшем лице Валентинова, в сомкнутых веках, в подбородке, во всей согбенной фигуре было такое, что глаз от главного инженера отрывать не хотелось... В далекое-далекое прошлое, в молодость ушел Валентинов. Школьные звонки, старинные танго и вальсы, запах черемухи в саду на Воскресенской горе, лодка на темной реке, Ленка Веселовская с косой ниже пояса, страх и боль войны, и опять Елена Веселовская, одна только она — разная: новая и старая, в бриллиантах и бархате, в телогрейке и кимоно. Лена, Лена, Лена! Счастливым было постаревшее лицо, нежно подрагивали губы, нежность таилась в раздвоенном подбородке...
«Валентинов до сих пор любит мать! — сквозь головную боль и вертящуюся муть с жалостью и нежностью думал Игорь Саввович. — От него можно ожидать всего... Любит! Он любит маму!..» Игорь Саввович осторожно лег, сдерживая тошноту и обморочное головокружение, думал теперь о том, что он — как это ни горько и ни обременительно — тоже любит главного инженера, тянется к нему, хочет всегда видеть и слышать, гордиться Валентиновым, подражает ему. «Проклятые гены! Яблоко от яблони... Черт возьми, отваливается голова! Идиот несчастный — захотелось напиться!»
— Погибаю во цвете лет! — жалобно простонал Игорь Саввович. — Нет ли в аптечке анальгина, тройчатки или, наконец, синильной кислоты?
Валентинов, не открывая глаз, распорядился:
— Октябрин Васильевич, принесите Игорю Саввовичу две пилюли анальгина и воды...
Выпив лекарство, Игорь Саввович лег на спину. Солнце светило в лицо, небо казалось почти черным, так как не было ни единого облачка; чайки походили на бумажных «птичек», и все это густо и плотно усыпано бордовыми и коричневыми точками — так рябило в глазах. «Князь Болконский на ратном поле! — иронизировал над собой Игорь Саввович. — Высокие философские мысли бороздили его высокое чело!..»
— Сергей Сергеевич, — негромко спросил Игорь
124
Саввович. — Знаете ли вы хоть одну скамейку в нашем городском парке?
Валентинов посмотрел на Игоря Саввовича удивленно.
— Скамейку? В парке? Гм! — Главный инженер пожал плечами. — Извольте! Позади раковины для духового оркестра... Самая тихая и тенистая скамейка! Гм! Почему это вас интересует, Игорь Саввович?
— Утилитарно! Интересуюсь, скоро ли буду водворен на псишку...
— Гм! Бог знает, что вы плетете!
Главный инженер откинулся, опять закрыл глаза, и было ясно, что вспоминает о тихой скамейке в городском парке, на которой когда-то целовался с матерью Игоря Саввовича. Главный инженер не знал, что его сын три дня назад сидел в одиночестве на этой скамейке и думал, идти или не идти к отцу. Валентинов также не знал, что его бывшая жена, рассказывая сыну о тайне его рождения, мельком упомянула о скамейке за раковиной для духового оркестра... «А что, если мать тоже любит Валентинова? — подумал Игорь Саввович и криво улыбнулся. — Чего только не бывает».
Чушь, похмельный бред! Елена Платоновна Гольцова — женщина, которая никогда не ошибается, жена члена-корреспондента Академии медицинских наук, сама профессор-доктор, светская львица — возможно ли, чтобы она столько лет любила пикобородого Валентинова/романтика и анахорета? «Пить надо меньше, уважаемый Игорь Саввович!»
Видимо, эта здравая мысль что-то сдвинула в мозгу Игоря Саввовича. Как вспышка.
...Переулок, который Игорь Саввович условно называет Гаражным, празднично освещен, горят три загадочные неоновые буквы, хрипло звучит последняя басовая струна последней погибающей гитары, со стоном, держась обеими руками за землю, шатаясь, пытается сесть верзила; лежит пластом коротышка...
— Простите, Сергей Сергеевич, еще один вопрос. Представьте такую ситуацию. Человек, падая, ударился головой об асфальт. Он, наверное, здорово-таки ударился, но потом сел, опираясь на руки... Что это? Серьезная травма черепа или простое сотрясение мозга?
Главный инженер досадливо поморщился, но глаза не открыл.
— Вы мне сегодня определенно не нравитесь, Игорь
125
Саввович! — вежливо, но строго сказал он. — Впечатление такое, точно вы не спали много ночей или больны... Советую вам хорошенько выспаться.
Посмотрите на этого человека, граждане! Главному скоро стукнет шестьдесят, а он не замечает того, что старшина катера Октябрин Васильевич заметил, как только Гольцов вышел из машины и двинулся к трапу. Старшина сокровенно улыбнулся, а вот его Сплавное Величество заявляет, что Игорь Саввович «ему не нравится», и не более того.
— Я не пойду спать! — ухмыльнувшись, сказал Игорь Саввович. — У неизвестного, который ударился головой об асфальт после моего хуга в челюсть, серьезная травма...
— Постыдитесь клеветать на себя! Бог знает, что вы плетете!
В устье реки Коло-Юл катер «Лена» вошел на рассвете; река дымилась плотным туманом, прибрежные тальники, поселок и причал едва просматривались, на восточной кромке неба, где полагалось по времени быть солнцу, расплывалось зеленое пятно. Когда катер осторожно, вслепую пришвартовался, оказалось, что у причала стоял еще один катер — белый, длинный, поджарый.
Ультрасовременное судно на подводных крыльях знала вся речная область: стремительное, мощное, похожее на ракету, оно с огромной скоростью перемещало по прибрежным районам и колхозам, по плотбищам й леспромхозам, по сплавконторам и совхозам первого секретаря обкома партии Кузьму Юрьевича Левашева. В этой поездке его сопровождал «хозяин» Коло-Юла, то есть директор Татарской сплавной конторы Олег Олегович Прончатов, и теперь они стояли на палубе, ожидая, когда можно будет перебираться на «Лену». Почти сутки Левашев с Прончатовым метались по Коло-Юлу, первый секретарь на месте изучал вопрос, чтобы активно участвовать в последней, решающей беседе. Левашев и Прончатов были одеты одинаково: резиновые высокие сапоги с отворотами, плотные брюки, знаменитые зеленые куртки-«энцефалитки» и глубоко надвинутые на лоб зеленые фуражки с сетками от комаров. Как только «Лена» пришвартовалась, Левашев и Прончатов прошли на нее*
126
— Здравствуйте, товарищ Валентинов! Здравствуйте, товарищ Гольцов!
Секретарь обкома Левашев был рослым человеком, плечистым, с резкими чертами лица и одной характерной особенностью — квадратными губами, которые так не нравились Игорю Саввовичу. Рука у него была сильная, жесты энергичные; первый секретарь обладал такой. чудовищной, невероятной, фантастической работоспособностью, которой завидовали даже Валентинов и Прончатов. Первый секретарь имел привычку прищуриваться и глядеть на человека так, словно видит его насквозь. Вот и сейчас, крепко пожимая руку Игорю Саввовичу, первый секретарь просквозил его прищуренными глазами и, конечно, заставил Игоря Саввовича внутренне иронически улыбнуться. «Ах, как вы заблуждаетесь насчет своей проницательности, товарищ Левашев! — подумал он. — Если бы вы умели просвечивать людей насквозь, вы не одобрили бы назначение Гольцова на должность заместителя главного инженера! Сто процентов ошибки — это много, Левашев!»
— Хвост пистолетом, отче! — шепнул Прончатов на ухо, сдавливая пальцы и локоть Игоря Саввовича. — Шагай за моей широкой спиной.
Спускаясь в трюм по крутому трапу вслед за Прон- чатовым, заместитель главного инженера треста Ромск- сплав Гольцов лениво размышлял о том, что слишком много начальства самого крупного калибра брошено на большегрузный плот на хитрой реке Коло-Юл. Ах и ох! Если бы Валентинов не был отцом Игоря Саввовича, если бы Валентинов не считал Коло-Юльский плот своей лебединой песней, то один бывший начальник Весе- нинского сплавного участка Игорь Гольцов...
— Прошу садиться, товарищи! — деловито произнес Валентинов. — Кузьма Юрьевич, вам, как гостю, самое удобное кресло... Покорнейше прошу садиться!
Они находились в самой большой каюте катера, так сказать, плавучем рабочем кабинете главного инженера. Круглый большой стол, пригодный для многолюдных совещаний, шкафы со специальной литературой, телефон,. который на крупных стоянках подсоединялся к местной телефонной сети; второй телефон соединял кабинет с рубкой катера; висели на стене карты, схемы, графики; в углу — мощная рация. Одним словом,' кабинет был строгим, деловым, но в то же время бога¬
127
тым: дорогой и яркий линкруст на переборках, карельская береза, ковер на полу.
— С чего начнем, Кузьма Юрьевич? — сухо и слишком громко для первой фразы спросил Валентинов. — По трафарету должен делать сообщение Валентинов, по сути — товарищи Левашев и Прончатов, только что побывавшие на Коло-Юле и обладающие, возможно, свежей информацией.
Игорь Саввович, по-прежнему мутный и больной, настороженно наблюдал за первым секретарем обкома. Он засек едва приметную улыбку Левашева в ответ на вызывающий тон Валентинова, не пропустил и веселой гримасы на «свежую информацию», и все это было привычным и понятным. Дело в том, что первый секретарь обкома сплавное дело знал хорошо, но, естественно, главный инженер в этом был на две головы выше Левашева и всегда ревниво оберегал от вмешательства в свое дело влиятельных лиц. Левашев, надо признать, был человеком удивительно последовательным: выбрав из всех отраслей хозяйства самую главную на сегодня, он мертвой хваткой вгрызался в дело и не успокаивался, пока не доводил до конца. В эти дни первый секретарь занимался сплавом, и это значило, что мог знать что-то такое, чего еще не знал Валентинов. Вот поэтому голос Валентинова усмешливо дрогнул на словах «свежая информация», а Левашев ответил легкой улыбкой.
— Поступайте, как вам угодно, Сергей Сергеевич! — довольно сухо проговорил он, и только после этого сел в удобное кресло. — Впрочем, было бы не худо послушать Олега Олеговича.
— Олега Олеговича мы послушаем! — еще энергичнее прежнего проговорил Валентинов. — Но сначала, товарищи, извольте получить приятный сюрприз!
Валентинов открыл шкаф, вынул из него бумажный рулон, одним движением развернул, и большой круглый стол накрыла карта, увидев которую Гольцов, Прончатов и Левашев восхищенно охнули. Это была лоция, выполненная в непривычно крупном масштабе, лоция Коло-Юла, о существовании которой никто даже не подозревал. Игорь Саввович уже намерился было спросить, на кой черт речникам понадобилась такая огромная лоция несудоходного Коло-Юла, как заметил, что лоция выполнена вручную, хотя казалась типографской.
— Лоция сделана руками покойного капитана Бориса Зиновьевича Валова! — сказал Валентинов, осто¬
128
рожно перелистывая приложение к лоции. — Мой друг, умирая, завещал лоцию мне... Он хотел взять большегрузный плот на Коло-Юле.
Присутствующие молчали. Одни знали капитана Валова, другие слышали о нем, овеянном легендами и по-настоящему легендарном. Капитан Валов провел первый в истории Оби и ее притоков большегрузный плот по Чулыму на пароходе «Латвия», и с этого началась эпоха борьбы за ликвидацию молевого сплава, то есть спасения Оби и ее притоков.
— Капитан Валов, мой друг Борис Зиновьевич считал,, что плот по Коло-Юлу провести можно и должно! — медленно продолжал Валентинов. — В оставленных им записках много ценного...
Капитан Валов умер от второго инфаркта, главный инженер Валентинов после второго инфаркта остался жить, стоял возле круглого стола, полководческим жестом показывал на лоцию, но, говоря о Валове, побледнел, глаза провалились, борода смотрела в пол...
— Думаю, теперь есть резон послушать Олега Олеговича! — сказал Валентинов. — Что новенького? Чем порадуете? Чем огорчите?
Прончатов, как всегда, был свеж и здоров, весел и чуточку нахален; пятнистое от комариных уколов лицо горело и смеялось, глаза — мальчишечьи. Сплавной дока поскреб ногтями небритый подбородок и с наслаждением проговорил:
— По всем факторам наблюдается благостное статус-кво, кроме одной забавной детали... — Прончатов помолчал. — Какие точки реки Коло-Юл мы считали до сих пор самыми опасными? Горелов, где начинается Го- реловская же протока, Типсинская мель и крутая излучина возле деревни Матросовки. Так, дорогой шеф?
— Так!— сказал Валентинов. — А у вас есть иная точка зрения?
— Ого! — Прончатов скучно покосился на Левашева.
. Валентинова, казалось, ударили по голове. Он как- то растерянно посмотрел на Прончатова, уткнулся в лоцию... Коло-Юл на карте лежал ясный, с разветвленными сосудами проток и притоков, со старицами. Типичная для Нарымских краев река, медленная, неширокая, ио загадочная: омуты, прибойные и отбойные течения, напор воды из проток, мели там, где должны быть глубины* и, наоборот, глубины там, где должны быть мели.
9 Виль Липатов, том 4
129
— На традиционном представлении о Коло-Юле мы в рай не попадем, — нагловато заявил Прончатов. — Как, по-вашему, где самое загогулистое место? — Он повернулся к Игорю Саввовичу. — Игорь, ты-то должен знать — исходил реку вдоль и поперек...
— Ледневка — непроходимое место, — сказал Игорь Саввович. — Здесь плот не удержат никакие грузы. Первая причина — деревянное дно, вторая — подземное течение...
Шесть глаз устремились на Игоря Саввовича. Смотрел радостно Валентинов — родной отец все-таки, одобрительно улыбался Прончатов, по-прежнему, казалось, изучал его секретарь обкома. Прончатов сказал:
— Мы были в Ледневке. Действительно, загогулистое место!
Валентинов бросился к лоции, рванул тетрадь капитана Валова, нашел нужное, прокричал: «Надо разо¬
браться с течениями возле пункта Ледневка». Затем главный воздел руки в потолок, брякнулся в кресло, захохотал и зааплодировал:
— Браво! Браво! Эта самая Ледневка, можете представить, не давала мне покоя! Я буквально извелся, но не мог понять, чем вызвано предостережение Валова, так как не знал об источнике правого прибойного течения! Боже мой! Подземное течение! Только и только — подземное течение... Слушайте, Игорь Саввович, как вы узнали о подземном течении? По разнице прибойного и отбойного...
Игорь Саввович болезненно поморщился.
— Старожилы давно знают о нем, но самый верный источник — мальчишки.
— Мальчишки-то при чем?
— Мальчишки — загадочные люди. Они не хотят купаться в холодной воде, если рядом — теплая. А холодная вода — это зона подземного течения. Вот вам смешное правило: там, где не купаются мальчишки, идет мощное холодное течение. Это относится ко всему теплому летом Коло-Юлу. — Игорь Саввович поднялся напрягаясь. — Прошу простить меня, товарищи. Я, кажет-
.ся, болен, разрешите отсутствовать!
Черт его подери, этого первого секретаря! Даже спи* ной Игорь Саввович чувствовал взгляд прищуренных, изучающих глаз, и было такое мгновение, когда показалось, что * Левашев действительно если все и не понимает, то догадывается; по крайней мере, секретарь об¬
130
кома явно знал, что Игорь Саввович на совещании сказал не все, что мог сказать, и что с Гольцовым происходит неладное. А впрочем, какое дело Игорю Саввовичу Гольцову до изучающих взглядов первого секретаря обкома партии? Пусть себе смотрит в спину вместо того, чтобы глядеть в лоцию и думать над тем, какая учалка нужна для плота.
Игорь Саввович осторожно, словно держал в руках снаряд, способный взорваться от самого легкого движения, прошел в свою каюту, морщась и тихонько постанывая, разделся, залез под одеяло, повернулся лицом к переборке, укутался с головой одеялом, выпрямился и замер. Было необходимо долго, неопределенно долго не двигаться, так как каждое движение причиняло боль и вызывало новый приступ дикого, отупляющего, леденящего сердце страха, такого страха, что хотелось выть волком, кататься по полу, кричать, вопить, раздирая рот, чтобы заглушить страх.
«Я болен, я просто болен! — тихонечко и осторожно уговаривал себя Игорь Саввович. — Болезнь началась давно, наверное, сразу после института, а вот теперь, после недавнего визита к Валентинову, ругани с Николаевым, страшной драки в ярко освещенном переулке, болезнь обострилась... Да, да! Я просто болен! Не может быть здоровым человек, который ничего не хочет и которому красавица Рита сказала с любовью и ужасом: «Так нельзя! Ты должен, должен хотеть, и ты умеешь хотеть...»
Под одеялом было душно, пахло отчего-то горелой тряпкой, в мучительно зажмуренных глазах вспыхивали разноцветные искры, мельтешили, вращались разнонаправленными эллипсами, и это ощущалось добавочной тонкой болью в висках — ни просвета, ни ясного лучика. «ОН УДАРИЛСЯ ГОЛОВОЙ ОБ АСФАЛЬТ, — думал Игорь Саввович. — МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО И ЕСТЬ ТО НЕСЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ МЕШАЕТ МНЕ ЖИТЬ? И ОНО УЖЕ ПРОИЗОШЛО, МОЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ЭТОМ НЕСЧАСТЬЕ!» Однако непонятные, неведомые, неосознанные страхи были сильнее мысли о том, что верзила-гитарист мог получить серьезную травму, и Игорь Саввович никак не мог заставить себя думать о ночной драке, чтобы страх сделался определенным, конкретным.
Правая рука затекла, лежать на ней было больно, но еще страшнее пошевелиться, потревожить голову. Так
131
черт с ней, с правой рукой, пусть пропадает, немеет, отнимается, если ради нее предстоит двигаться. За что все эти страдания? За что и кем наказан Игорь Гольцов? Что мучает преуспевающего, умного, молодого, здорового, красивого, смелого человека? Чего он боится? Потерять работу, испортить карьеру? Гори все на медленном огне! Сядет водителем на грузовик, с восьми утра до шести вечера заработает свои триста — он уже испробовал все «прелести» благополучия и сыт ими по горло. Что с тобой, Игорь Гольцов?.. Себя самого тебе надо бояться — вот кого. Это в тебе самом, как в осином гнезде, клубятся опасности и несчастья, гудит потревоженный рой.
Скрипнула и звякнула металлическая дверь каюты, стукнули глухо о металлический пол резиновые сапоги, казалось, металлический голос прозвучал над головой Игоря Саввовича:
— Что за фокусы-покусы, гражданин Гольцов? Вста-а-ать!
Прончатов сорвал с Игоря Саввовича одеяло, с дружеской бесцеремонностью мягко повернул к себе, разинул здоровенный рот, чтобы крикнуть что-то еще смешное и грозное, но осекся. Прончатов увидел лицо Игоря Саввовича, глаза, вытянутые вдоль туловища руки и, втянув голову в плечи, отступил на шаг.
— Игорь! — воскликнул он. — Ты болен?
— Я не болен! — тихо ответил Игорь Саввович. — Оставь меня, пожалуйста, одного. Никому не говори...
Прончатов на цыпочках вышел из каюты, двери закрыл беззвучно, а Игорю Саввовичу теперь пришлось заново принимать такое положение, когда затихало желание кричать и выть от страха. Он слышал, как по палубе прошли несколько ног, замерли, постояли на месте, опять пошли. Минут через пять после этого реактивным самолетом загудел катер первого секретаря обкома, в переборку в трех сантиметрах от головы Игоря Саввовича ударила сильная волна; затем реактивный гул сделался неправдоподобно высоким и сразу же пошел на снижение, словно приземлялся самолет на очень длинную взлетную площадку. Это умчался катер Левашева...
Наверное, часа через два Игорь Саввович Гольцов уснул, проснувшись, с облегчением подумал, что не видел сегодня ни одного кошмарного сна, а, наоборот, приснилось что-то приятное, но незапомнившееся. Он
132
начал вспоминать, что приснилось, почувствовал, что в груди тепло, а на ресницах слезы.
Катер «Лена» уже давно двигался, судя по гулу дизелей, шел на «полном», вода билась о переборку, и этот звук походил на гудение осенних ленивых комаров. Игорь Саввович посмотрел на часы, понял, что проспал обед, но есть не хотел. «Утром придем в Коло-Юл», — подумал он и начал вставать, чтобы подняться наверх и посмотреть, где находится катер.
На носовой палубе никого не было. Прончатов, видимо, тоже отсыпался, а Валентинов наверняка продолжал охать над Ледневкой, сгорбатившись над замечательной лоцией. Игорь Саввович сел во второе — нева- лентиновское — кресло и лениво осмотрелся. Река постепенно суживалась, осторожно сближались берега, заросшие пихтами — темными бородатыми деревьями из страшных детских сказок. В пихтовых лесах всегда промозгло и сумрачно, мхи и лишайники хватали за ноги, пахло плесенью; в пихтовых борах думалось о том, какой страшной была планета, когда ее населяли папоротники и хвощи.
Солнце садилось, и на катере уже лежали пестрые предвечерние тени, от которых мельтешило и поташнивало, но после сна Игорю Саввовичу было легче, и он с интересом осматривался, так как реку Коло-Юл знал досконально, на уровне лоцмана, да и не мог не знать, если командовал молевым сплавом и, может быть, только за два сплавных сезона раз десять промерил пешком собственный участок реки протяженностью в сто двадцать семь километров.
— Беда, да и только! — пробормотал Игорь Саввович, продолжая думать о приятном, но забытом сне. Было интересно, что могло присниться, если он проснулся с добрыми и сладостными слезами на глазах...
Утром катер «Лена» подходил по реке Коло-Юл к деревне Коло-Юл, где находился Весенинский сплавной участок. Главный инженер Валентинов и директор Татарской сплавной конторы Прончатов стояли, взявшись за леер, а Игорь Саввович демонстративно полусидел на кнехте. Было свежо и солнечно, дышалось легко, и по- чему-то не было комаров и мошки, хотя катер шел медленно. За километр до причала старшина сбросил обороты дизелей, прицеливался попасть между грязным ка¬
133
тером-работягой «Волной» и белоснежным красавцем катером за номером 1, который принадлежал FIdoh- чатову и был так же знаменит, как и его хозяин. Лучший катер имел только Левашев.
По обе стороны от «Лены», на высоких и сухих берегах, стояли высокие, прямые, словно сошедшие с картины Шишкина, солнечные сосны, одинаковые, как бы специально калиброванные, гладкоствольные до самых вершин и от этого похожие на воткнутые в землю кисти для масляных красок. Чудо-сосны занимали около десяти квадратных километров, и это было все, что осталось от легендарного на всю Сибирь Тунгусского бора, безжалостно вырубленного в конце сороковых годов и начале пятидесятых.
— Самый тихий ход! — по старой привычке крикнул старшина Октябрин Васильевич и сам протянул вниз рычаг газа.
Среди остатков Тунгусского бора, на плоской возвышенности блюдечком, сверкающим на солнце, лежал новенький поселок сплавщиков. Над блюдечком и на блюдечке буйствовало солнце, сосны-великаны окружали блюдечко со всех сторон, и — хотите, верьте, хотите, не верьте! — у блюдечка была голубая каемка, так как впереди сосен, как бы специально окружая поселок, росли знаменитые голубые ели.
Плотбище Коло-Юл! Весенинский сплавной участок. Десятка три одинаковых, новеньких домов, четыре длинных барака, похожих на административные постройки, Г-образный административный дом, похожий на барак, желтый клуб, два старых дома, принадлежащих рыбакам и охотникам, — вот и весь поселок, в котором Игорь Саввович знал каждое бревно конторы или новенького дома, помнил имя-отчество каждого жителя. У него подрагивали губы, ноги от волнения леденели, он боялся, что Прончатов, Валентинов и даже занятый Октябрин Васильевич услышат, как под «энцефалитной» громко стучит его сердце.
— Забавно! — послышался голос Валентинова, хотя нельзя было понять, что его забавляет. — Забавно! Весьма забавно!
По солнечному блюдцу с голубой каемкой из елей к причалу неторопливо и начальственно-пристойно шел Игорь Саввович Гольцов — начальник Весенинского сплавного участка. Альпинистские ботинки с укороченными шипами (они пятый год валялись в темной ком¬
134
нате ромской квартиры) были на ногах у начальника, вытертые джинсы плотно облегали длинные мускулистые ноги, клетчатая ковбойка, гуцульская шляпа с перышком и широкий пояс с металлическими бляхами завершали зеркальное подобие. Игорь Саввович Гольцов- весенинский подошел к причалу, остановившись, принял типично гольцовскую позу, то есть скрестил руки на груди, отставил ногу и закинул голову, демонстрируя независимость по отношению к приближающемуся высокому начальству. Фрондируя, Гольцов-весен^чский напевал сквозь зубы «Черного кота».
— Ге-ге-ге! — радостно заржал Прончатов. — Ор- лов-то, сукин кот, работает под Гольцова. Глянь, Игорь, на себя-второго. Ну, сукин кот!
От волнения Игорь Саввович слов Прончатова не понял, так как мучительно вспоминал, где он раньше видел похожего на себя начальника сплавучастка, но вспомнить никак не мог, а только наблюдал, как его, гольцовское, зеркальное подобие встречало Валентинова, Гольцова и Прончатова. Полный радушия, юмора и понимания Валентинов сам пошел навстречу начальнику сплавного участка, заранее протягивал руку и улыбался, но «хозяин» пристани, участка и поселка от молодой фанаберии, головокружительной самостоятельности и естественной для молодости защитительной агрессии руку Валентинову протянул небрежно, сановито басил и даже пытался «перепутать» Валентинова и Прончатова, чтобы показать свое безразличие к тому, кто из приехавших главный инженер треста, кто — директор сплавной конторы. Когда же очередь дошла до Игоря Саввовича Гольцова, с начальником Весенин- ского сплавного участка произошла досадная заминка.
— Игорь Саввович, здравствуйте! — забыв о басе, тонко крикнул он и резво бросился к заместителю главного инженера. — Игорь Саввович, а я вас сразу не узнал. Эти «энцефалитки»...
— Орлов! Егор! — ойкнул Игорь Саввович. — Ну, брат, дела! Здесь? Когда? Почему не сообщил?
...Егорушка Орлов был третьим знакомым слоем Черногорского лесотехнического института. Игорь Саввович поступал на первый курс, Прончатов, поздно при-, шедший учиться, кончал последний. Игорь Саввович и Володечка Лиминский сидели на задней парте последнего курса, когда на парту первого курса сел Егор Ор¬
135
лов — деревенский парнишка из Ромской области. Славный был человечек — добрый и веселый.
— Давай почеломкаемся, Егор! — радостно сказал Игорь Саввович. — И брось «выкать». Не задирай нос — свои люди!
Они обнялись, поцеловались, и было понятно, что Егор восхищается Игорем Саввовичем, как некогда Игорь Саввович восхищался Прончатовым, и ему, Егору Орлову, не приходило в голову, что Игорь Саввович ему завидовал, однако Игорь Саввович не только завидовал, а думал с тоской о том, что ему уже никогда не носить гуцульскую шляпу с перышком на боку. Мягко взяв за плечи Орлова, он посмотрел в его молодое и счастливое лицо, неловко улыбнулся и хрипло спросил:
— Ну что ты сделал с моим Коло-Юлом?
Ничего нового в поселке Игорь Саввович не увидел; все, казалось, замерло в первозданной неизменчивости, и только три стандартных дома выросли слева — такие же, как и другие, ничего в поселке не изменившие. Пахло сосновой смолой, солнцем, илистой водой; носились над блюдцем с голубой каемочкой береговые ласточки; желтела на желтом здании конторы сплавучастка небольшая башенка с подвешенным медным колоколом — капризом бывшего начальника сплавного участка Игоря Гольцова. Колокол случайно нашли в огороде старого рыбака, увидев его, Игорь Саввович дал команду отчистить колокол, построить башенку и трижды в день отбивать по семь звучных ударов: шесть утра — подъем, час дня — обед, шесть вечера — отдыхай!
— А много к тебе народишку понаехало? — по- прежнему сдерживая дрожь, насмешливо сказал Игорь Саввович. — Все флаги в гости будут к нам!.. Этот катер, никак, самого бога речников — Фридмана?
— Заместитель приехал! — засмеялся Орлов. — Ну, пошли, Игорь. Ты у меня расположишься? Лады?
— Ладушки!
Слева работали, грохоча деревом и повизгивая, сплоточные машины, в той же стороне, на нижнем складе леспромхоза, сутулые краны сгружали бревно с рычащих лесовозов. Ну буквально ничего не изменилось, все было так, как было раньше, и резиновыми сапогами Игорь Саввович ощущал теплую и мягкую землю; мерещилось, что тепло земли поднимается к сердцу, приближается к холодному комку страха и боли... Дом сле-
136
ва — это его просторное холостяцкое жилище, два самых больших окна в здании конторы — его рабочий кабинет, пенек перед волейбольной площадкой — тот самый, на котором сидела вечный волейбольный судья, учительница Лиля.
— Игорь, чего мы стоим? Все ушли! — послышался голос Егора Орлова. — Ну, двинули!
Игорь Саввович поднял голову, вдохнул острый влажный воздух — грудь раздулась кузнечными мехами. Запах сосен Тунгусского бора, сырых опилок, грибов, испарений земли — молодостью пахло, пропотевшей ковбойкой и папиросами «Беломорканал»... Не слушая и не слыша Егора Орлова, сам ничего не понимая, точно лунатик, Игорь Саввович медленно шагал к елям, которые были голубой каемкой сияющего блюдца. Он шел так, словно ему приказали идти, словно в голове сработало реле, позволившее двигаться только в одном, заданном направлении, и шагал бы так сто лет, если бы до желанной цели было бесконечно далеко, но вот и ельник — голубая каемка.
Желтыми фонариками светились нежные шишки, каждая иголочка по отдельности сама по себе отливала сизым голубиным оперением, стволы казались перламутровыми от солнца, разбрызганного по чешуйчатой зелени. Ели стояли, тесно прижавшись ветвями друг к другу, образовали плотную стену и от этого походили на дружную рать, на отряд воинов с шишками шлемов — вершинами и выставленными пиками — ветками; ельники казались настороженной ратью, замершей в ожидании команды: идти на приступ, спасать, охранять, полонить врага.
Игорь Саввович мешком повалился на теплую землю, закрыл глаза, стиснул зубы, сжался в неприступный мускулистый комочек, такой же крепкий, как голубые рати-ельники. Игорю Саввовичу казалось, что он воинственно наклонил голову с шишкой шлема, выставил пики-ветки, крепко врос в землю. Игорь Саввович зажал рукой рот, чтобы удержать вопль радости, восторга, торжества. Произошло невероятное. На виду у голубых ельников, рядом с еловой ратью и вместе с еловой ратью ИГОРЬ САВВОВИЧ БЫЛ СОВЕРШЕННО ЗДОРОВ... Он притаился, дышал осторожно, точно боялся спугнуть воинственную тишину голубой рати, прервать птичье щебетание; казалось, достаточно одного движения, одной чужеродной мысли, чтобы все с грохотом рухнуло,.
137
и тогда вернутся боль и страх, страх и боль... Игорь Саввович осторожно, словно по частям, поднялся, не решившись отряхнуть с брюк хвою и песок, сосредоточенными, считающими шагами двинулся к центру поселка, и скоро выяснилось, что он на самом деле считал шаги: «...сорок пять, сорок шесть, сорок семь...» На сотом шагу Игорь Саввович остановился, боязливо прислушался к себе, изумленно подумал: «Вот те на! Воскрес!» Ровно било здоровое сердце, кузнечными мехами перелопачивали смолистый воздух объемистые легкие, крепко стояли на земле сильные и длинные ноги, бугрились на теле мускулы спортсмена. «Вот те на! Воскрес!»
Бросив считать шаги, Игорь Саввович направился к заезжей, то есть маленькой гостинице, где готовились к очередному совещанию Валентинов, Прончатов и дру* гие. Пришлось сдерживаться, чтобы не побежать вприпрыжку, махом не взлететь на крыльцо, не рвануть на себя двери с ликующим криком, не бежать по коридору, в конце которого с деловитым лицом водил по щекам электробритвой Валентинов.
— Что с вами, Игорь Саввович? — увидев заместителя, спросил Валентинов и выключил бритву. — У вас такой вид, словно... Простите! Словно вы, знаете ли, употребили спиртной напиток...
Игорю Саввовичу казалось, что главный инженер Валентинов тоже окружен солнечным и бесстрашным еловым войском; еловая рать вокруг Валентинова пошевеливала шишками, шепталась, нетерпеливо переступала с ноги на ногу.
— Я не употребил спиртной напиток! — смеясь, сказал Игорь Саввович. — Я не пил, но пьян... — Он фа- товски повернулся на каблуках. — И вообще мне здесь делать нечего. — Он подмигнул интимно Валентинову. — Мне нечего здесь делать, как человеку, который приглашен к самому Егору Орлову. — И открыто похвастался: — Вас-то небось Егор Орлов не пригласил.
Двадцать минут до начала еще одного совещания под председательством главного инженера Игорь Саввович Гольцов прожил в счастливой, глупой суете: то старался. скрывать от посторонних глаз свое волшебное исцеление, то, наоборот, демонстрировал радость и здоровье, то обливался холодным потом при мысли, что чудесное исцеление — бред, длинный сон. Он не помнил, о чем говорил с Егором Орловым, когда пришел к нему, не заметил, как вышел из дома, как дошагал до конто¬
138
ры, и в мгновение, когда садился за стол рядом с Прон- чатовым, брал в руки карандаш и придвигал к себе стоику чистой бумаги, он чувствовал, что не только каждое движение, но даже предвкушение движения может доставлять счастье. Игорь Саввович не знал, что именно так чувствуют себя люди, избавившиеся от смертельно опасной болезни, поднявшиеся с кровати, на которой пролежали месяцы и даже годы, но он был счастлив, очень счастлив. Отодвигает стул — рукам радостно, выравнивает бумагу — пальцы счастливы, садится — тело празднует, смотрит на собравшихся — радость заливает теплой волной грудь.
— Внимание, товарищи, начинаем!
Гора бумаг, вынутых из огромного портфеля, лежала перед Валентиновым, и вся эта чертова уйма вычислений, промеров, измерений, данных синоптиков, докладных, особых мнений, рапортов и заявлений казалась нужной, значительной, радостно было смотреть на руки Валентинова, на крохотный зал, до отказа набитый людьми. Боже, кого сюда не собрал дотошный Валентинов! Речники и лесозаготовители, старые рыбаки и знаменитые сплавщики, водолазы и аквалангисты. И все это улыбалось, усаживалось, шумело, старалось угомониться.
— Совещание объявляю открытым, товарищи! — звучно и вкусно проговорил Валентинов, добрый, выспавшийся, помолодевший. — Мне хочется начать издалека, чуть ли не с Нестеровской летописи. Известно ли вам, друзья мои, что молевой сплав леса древнее плотов и стругов?.. Что такое?
Двери зала широко открылись, вбежала высокая девушка в темных очках и низким тревожным голосом крикнула:
— Товарищи, кто здесь Гольцов? Вас срочно вызывает Светлана Ивановна Гольцова!
Голос Светланы звучал едва слышно и потому незнакомо:
— Игорь, не волнуйся, пожалуйста, но тебе нужно немедленно вернуться в город. Ты должен вылететь самолетом.
Он ничего не понял, молчал, слушая, как попискивает морзянка, и невидяще смотрел на девушку в темных модных очках.
— Что случилось, Светлана? Плохо слышу.
Светлана закричала:
139
— Тебе надо срочно, очень срочно вернуться в город! Игорь, ты слышишь меня? Тебе надо срочно, очень срочно быть в городе!
— Светлана, я не могу вернуться...
В трубке раздался вопль:
— Игорь, ты должен вернуться! Сегодня же! Немедленно.
— Я не могу.
— Передаю трубку Николаю Андреевичу...
Батюшки-светы! Жена, оказывается, звонит из кабинета управляющего. Это значит, что к четырем телефонисткам и радисткам областной связи еще добавилась пятая — трестовская — старая мегера, от которой через пять минут весь город узнает все секретные и несекретные сведения.
— Здравствуйте, Игорь Саввович! — с начальственной медлительностью, тихо и потому хорошо слышно сказал управляющий Николаев. — Из радиограммы знаю, что добрались благополучно, что обстановка складывается хорошая... Совещание началось? Отлично! Жалко, что вам придется уйти с него. Приказываю срочно вернуться в город! Возьмите полуглиссер Орлова, держите курс в райцентр. Пока вы едете, мы вам закажем место в самолете. Желаю мягкой посадки.
Таким начальственно-непреклонным голосом управляющий с Игорем Саввовичем никогда не разговаривал, таких холодных и распорядительных нот в его голосе в разговоре с Гольцовым быть не могло, и, значит...
— Что случилось? — стремительно входя в радиорубку, спросил Валентинов. — Я вас спрашиваю, Игорь Саввович, что произошло?.. Ах, вы говорите с управляющим? Будьте добры передать мне трубку...
Через полминуты, выслушав молча Николаева, главный инженер осторожно положил трубку на рычаг, нашел взглядом Игоря Саввовича. Он глядел на своего заместителя испытующе, тревожно, словно ему сказали то, что Светлана не посмела сообщить по радиотелефону мужу.
— Немедленно вылетайте в город, товарищ Гольцов! — властно распорядился Валентинов. — Позовите товарища Орлова! Срочно! Катер, самолет, автомобиль,..
140
НЕСЧАСТЬЕ
Около трех часов полуглиссер мчал Игоря Саввовича по воде, двадцать минут заранее присланный «газик» вез его проселками на земляной аэродром, где готовился к взлету двукрылый Ан-2, три часа летел над бесконечной тайгой, озерами, речушками и болотами, и все эти длинные часы Игорь Саввович, как это ни странно, не мог настроиться на трагический лад. Правда, он еще вчера беспокоился за верзилу-гитариста, гадал, чем отделался бедный — сотрясением мозга или серьезной травмой черепа, но сейчас никак не мог утратить ощущения здоровья и счастья, волшебно возникшего в голубом ельнике.
Мелочи бытия, само бытие, простое, как движение рукой, доставляло такое же непонятное счастье, как в детстве. Вздымался за кормой полуглиссера, еле касающегося воды реданом, серый бурун — радость и счастье, гудел старенький восьмицилиндровый мотор — радость и счастье, пропыленный «газик» жестко подпрыгивал на кочках — радость и счастье; самолет делал прощальный вираж над райцентром — радость и счастье! Ну, какие там беды могли происходить на свете, где солнечные лучи в прозрачном облаке вдруг распались на все цвета радуги?
Шел седьмой час вечера, за синей дымкой, пронизанной вертикальными пучками солнца, похожими на снопы* лежал еще далекий областной город Ромск. а пока в круглом иллюминаторе проплывали знакомые по полетам изгибы Оби. Тайга сверху походила на огромную старую щетку, сапожную или платяную, где озера были голубыми плешинами, речушки — швами, которыми щетина прикрепляется к основанию щетки, и все это было бы грубым, вещественным, если бы не освещалось розовым и зеленым светом низкого солнца. От этого реальность исчезала, щетка уже не была щеткой, а вогнутая земля казалась — банальное сравнение! — ковром ручной работы.
Стыд и позор, но Игорь Саввович Гольцов подлетал к Ромскому аэродрому здоровым и счастливым, хотя знал, что произошло несчастье, и, когда маленький самолет с восемью пассажирами мягко ткнулся в твердый- бетон посадочной полосы, он с грустью подумал, что полет кончился и он сегодня больше не увидит землю, похожую на щетку-ковер. И, шагая к дверям кабины,
141
он усмехался над событиями, которые могли ожидать его за холодной от полета коркой самолетного фюзеляжа. «Паникерка!» — думал он снисходительно о жене.
Пассажиры вышли из самолета в полукилометре от аэровокзала; так как к самолетам типа Ан-2 не подавались автобусы или электропоезда, пассажирам предстояло в сопровождении дежурной идти пешком.
— Следуйте за мной, товарищи! Не разбредаться!
Игоря Саввовича осторожно, медленно, как бы украдкой захлестнула волна тошноты, асфальт под ногами качнулся— это походило на мгновения, когда самолет проваливался в глубокую воздушную яму. Тошнота быстро прошла, но ему — снова внезапно! — показалось, что вокруг потемнело, потемнело так, как это бывает, когда солнце затмит проворная туча. Игорь Саввович вздернул голову, тучи не было, солнце светило во всю мочь, но светлее от этого не стало.
— Не отставайте, не отставайте, товарищи!
Самолеты справа, самолеты слева, аэровокзал — впереди, черт бы все это побрал! Пришло такое ощущение, точно Игорь Саввович приземлился не на современный аэродром, а в старую, опостылевшую квартиру, полную теней, сквозняков и кошек.
— Не растягиваться, товарищи, не растягиваться!
Дошагивая последние метры до металлической ограды аэровокзала, Игорь Саввович смотрел себе под ноги, двигался тяжело, медленно и в десяти метрах от ограды ВНОВЬ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ БОЛЬНЫМ... Серая, унылая пустыня, горбатая песчаная пустыня, миражи над дюнами и дюны-миражи...
За металлической оградой, держась изо всех сил за прутья руками, просунув голову между ними, стояла жена. Игорь Саввович на ходу застегнул пиджак, опустил на лоб молодившую его прядь, задрал подбородок.
— Игорь! Игорь, наконец-то!
Он только сейчас заметил, что за Светланой возвышался небоскребом мужчина в форменном мундире с позументами — начальник Ромского аэровокзала, за ним стоял шофер дядя Вася, а сбоку*—незнакомый молодой человек, белокурый и томный.
— Игорь, можно войти сюда! — крикнула Светлана. — В эту калитку.
Аэродромный босс, на глазах у которого можно проходить через особую калитку, сокращающую путь мет¬
142
ров на двести, помахал Игорю Саввовичу рукой, Игорь Саввович ответил, но, прежде чем войти в привилегированную калитку, на мгновение остановился. «Все вернулось на круги своя, — подумал он, легкомысленно помахивая чемоданчиком и насвистывая. — И опять Иуда предаст учителя, и по нижнему городу пройдет человек, закутанный до глаз в темный плащ... А Игорь Гольцов — пижон, если вот так мыслит».
— Здравствуйте, товарищи, — пробасил он. — Здравствуй, Светлана!
Жена порывисто бросилась к Игорю Саввовичу, поцеловала, потом засуетилась:
— Спасибо, Петр Иванович! — Это аэродромному боссу. — Дядя Вася... Где дядя Вася? Ах, он пошел к машине! — Это о шофере Игоря Саввовича. — Валерий Николаевич, пожалуйста, проходите в автомобиль! — Это к томному блондину. — Игорь, поехали, скорее поехали! — Это к мужу, который исподлобья разглядывал белокурого и томного Валерия Николаевича. — Игорь, не стой же! Надо ехать... Еще раз спасибо, Петр Иванович, сердечное спасибо!
Игорь Саввович и охнуть не успел, как его запихнули в машину, Светлана села рядом с шофером дядей Васей, а блондин устроился подле Игоря Саввовича и сразу откинулся на спинку. Шофер дядя Вася безжалостно рванул машину с места, со.скрежетом и воем вылетел с аэродромной площади на простор нового шоссе, и стрелка спидометра — за сто километров.
— Полеарная команда? — с комическим любопытством спросил Игорь Саввович. — Репетиция ковбойского фильма?
Молчание, вой мотора, шелест новых шин по длинному асфальту, потом Светлана обернулась — на глазах стояли слезы.
— Игорь, ты только не волнуйся, но случилось... Случилось ужасное! —Она моляще посмотрела на блондина. — Эта драка в Пионерском переулке... Высокий, этот самый высокий... Он лежит в больнице. Ты не пугайся, врачи говорят, что он... этот высокий, не умрет... У него молодой организм.
Переулок-то, оказывается, именуется Пионерским, а вовсе не Гаражным, как назвал его Игорь Саввович. Да и смешно, если бы всякий переулок, где построены гаражи, назывался Гаражным! Представьте, сколько было бы Гаражных переулков в Тбилиси или в матушке-сто-
143
лице! Этак каждый город к концу тысячелетия превратится в сплошной Гаражный переулок. Забавно!
— Игорь, что с тобой! Ты меня не слышишь?
...Шагают трое остолопов с гитарами, девушка идет
отдельно, грустная и молчаливая. Голос верзилы: «Папаша!» — драка, дикарский танец на хрустящих под ногами, как ребра животных, гитарах...
— Почему ты думаешь, что я тебя не слышу? — сказал Игорь Саввович. — Отлично слышу, но не понимаю, почему об этом надо говорить при незнакомом человеке... — Он медленно повернулся к белокурому томня- ге. — Чем обязан?
Светлана всплеснула руками:
— Прости, Игорь, прости! Я сама не знаю, что делаю... Познакомься, Игорь! Валерий Николаевич Плужников — адвокат, член областной коллегии адвокатов. Валерий Николаевич любезно согласился консультировать нас даже на первой стадии дела.
Тонкая, довольно сильная рука, высокое философское чело, обрамленное белокурыми кудрями, предельно решительный рот... Вот какие ветры дули из крохотного Пионерского переулка, который Игорь Саввович именовал Гаражным!
— Не понял! — сухо произнес Игорь Саввович. — Что значит «Валерий Николаевич любезно согласился консультировать наше дело»? Какое дело? Кто ответит? Ты, Светлана, или «любезно согласившийся» Валерий Николаевич?
На молодого Белинского — вот на кого походил член областной коллегии адвокатов. Осененное чело совершило плавно-грациозный полукруг, умные влажные глаза приблизились, пахнуло тонким одеколоном. И галстук на Валерии Николаевиче был преотличный — французских кровей.
— Коротко суть дела выглядит следующим образом, — отлично поставленным голосом сказал он. — Вы — нападающая сторона. Мало того, вы пьяная нападающая сторона, что, как известно, отягощает вину.
«Старательный!» — протяжно подумал об адвокате Игорь Саввович, а сам притронулся пальцем к плечу шофера дяди Васи.
— Слушаю, Игорь Саввович! — готовно отозвался шофер.
— Город знает о драке?
144
Игорь Саввович теперь жил по. своей шкале отсчета событий и людской ценности, навеянной голубым ельником, не терпящим суеты и театральщины, неизбежных в каждом деле, требующем накала страстей. «Дядя Вася все знает! — спокойно думал Игорь Саввович. — Они и догадаться не могут, сколько важного знает дядя Вася!»
— Шоферы гаража знают, Игорь Саввович! — после короткой паузы ответил водитель. — А таксисты, эти балаболки, на всех переулках трезвонят... — Он усмехнулся. — Говорят: «Молоток Гольцов. Троих уложил, а был... того».
Новое асфальтовое шоссе тянулось через жидкие сосновые рощицы и подлески, потом открылся старый кедрач: низкое солнце, пробиваясь сквозь деревья, то вспыхивало молнией, то гасло; встречные машины опасливо сторонились бешено мчавшейся черной «Волги».с круглым номером 99—99 РОГ, и это были те самые балаболки-таксисты, которые трезвонили о драке в Пионерском переулке на всех перекрестках города.
— Нападающая пьяная сторона! —прислушиваясь, повторил Игорь Саввович и помолчал. — Так что? Ведется следствие?
Светлана и адвокат Валерий Николаевич быстро переглянулись.
— Все началось той же ночью, — ответила Светлана, мучительно волнуясь. — После нашего ухода вызвали машину «Скорой помощи», затем приехали из милиции... Тебя, оказывается, узнали, говорили, что ты начал драку. Утром, через полчаса после твоего отъезда, позвонил некий Селезнев. Он и ведет твое дело... — Жена вцепилась кровавыми от маникюра ногтями в спинку переднего сиденья. — Все они... все они против нас! Эти жильцы, этот сын дворничихи, весь этот страшный, страшный переулок.
Адвокат снисходительно улыбнулся. Раскрепощенный такой и по-жречески многозначительный.
— Уважаемая Светлана Ивановна, — неторопливо проговорил он, — думается, что в деле, подобном на-аше- му, эмоциональная окраска опасна. Не благоразумнее ли спокойно и беспристрастно рассматривать факты и только факты...
Шофер дядя Вася сердито хмыкнул, но, конечно, ни- чего не сказал. Он относился к числу тех водителей «хозяйских» автомобилей, которые говорят только в двух
10 Виль Липатов, том 4
145
случаях: когда их спрашивают или возникает необходимость докладывать о технически неисправном состоянии автомобиля. Однако хмыканье дяди Васи было понятно: шоферу, как и самому Игорю Саввовичу, не нравился лощеный и томный адвокат с умненько нахмуренным лбом, который вел себя так, словно Гольцов и Гольцова были с потрохами вверены в его заботливые руки.
— Мир удивительно тесен! — между тем многозначительно, но с легкой иронией говорил адвокат. — Ваше дело, Игорь Саввович, ведет мой сокурсник по Московскому юридическому институту Юрий Ильич Селезнев, старший лейтенант милиции. Принципиальный и беспристрастный человек!
Морковкино поле — вот так назывался пустырь, мимо которого по прямому шоссе с напряженным гулом неслась машина, и здесь, на пустыре, под сухой осиной, как всегда, темнела знакомая, заржавевшая железная кровать — она стояла ровно, на всех четырех ножках, с продавленной, но целой сеткой... Положить матрац, подушку, улечься на спину, смотреть, как плывут по небу облака, а уголком глаза видеть спешившие без надобности суетливые машины...
— Кое-что, значит, проясняется! — потирая " руки, проговорил Игорь Саввович. — Где повестка, напечатанная на плохой серой бумаге? Вы заметили, что во всех детективах повестка отпечатана непременно на плохой газетной или оберточной бумаге.
— Игорь, Игорь, остановись! Не время шутить!
Он протянул руку, снисходительно потрепал Светлану по плечу, небрежно усмехнулся:
— Кто знает, когда надо шутить, а когда плакать?
Проехали Морковкино поле, исчезла странная кровать под сухой осиной, и шоссе уже понемногу забирало вправо, чтобы вскочить на последнюю горку, с которой откроется взору весь благословенный Ромск с непременной золотой точечкой на большом куполе Воскресенской церкви. Потом шоссе уйдет вниз; собственно город надолго спрячется за купы тополей, так как сразу после этого начнутся окраины — царство частных домов, богатое, веселое, по праздникам пьяное.
— Как зовут потерпевшего? Что с ним? — отрывисто спросил Игорь Саввович. — В какой больнице лежит? Дело возбуждено?
Адвокат вынул из кармана изящный блокнот, и шо¬
146
фер дядя Вася, наблюдавший за ним через зеркало заднего обзора, хмыкнул в третий раз — особенно громко и ожесточенно.
— Борис Иванов! — сказал адвокат Валерий Николаевич. — Учащийся индустриального техникума, третий курс, специальность — электротехника. — Маленькая многозначительная пауза. — В техникуме Иванов характеризуется положительно, но, по данным милиции, неоднократно задерживался за хулиганство и нарушение общественного порядка. Во время инцидента был трезв. — Последняя пауза. — Ведется первичное следствие. Пострадавший лежит в клинике профессора Чернышева. *
— Спасибо! Теперь мне хотелось бы помолчать! — холодно сказал Игорь Саввович. — Отдохните и вы, уважаемый Валерий Николаевич.
В центре города шофер дядя Вася, которого знала вся инспекция, дисциплинированно снизил скорость, но продолжал двигаться в крайнем левом ряду, хотя правые не были заняты — такой привилегией пользовалась черная «Волга» зятя первого заместителя председателя облисполкома. Мало того: при въезде в город и на пол- пути к центру два автоинспектора козырнули вслед машине, а в центре почти каждый офицер ГАИ подносил руку к фуражке, открывая машине тем самым безостановочный путь вперед.
Проехали бронзовый памятник Кирову, повернули направо, оставив по левую руку Университетскую рощу, за которой вздымал старинные башни и купола один из крупнейших в стране университетов, и теперь шины катили по гладкому асфальту центрального городского проспекта, и уже слева громоздилось нелепое старинное здание биржи, справа — сквер, серый от пыли, впереди тяжелым камнем поднималось здание без окон, без дверей — бывший купеческий пассаж, — стоящее в центре проспекта, отчего казалось, что проспект пассажем кончается, хотя возле него был лишь поворот. «Замуровали! — с притворным ужасом подумал Игорь Саввович. — Ка-ра-ул!»
Шагая по аэродромному полю, он себя ощутил вернувшимся в старую опостылевшую квартиру, теперь, возле светофоров на центральной улице города, он почувствовал, что обшарпанные стены сомкнулись, хрустнул замок, задвинулись черные шторы. Странно, что в эти секунды Игорь Саввович по-прежнему не думал и
147
не мог думать ни о драке в Гаражном переулке, ни о следователе, ни о молодом человеке по имени Борис Иванов.
Возбуждение дела, следствие, суд, тюрьма — каким мизерным казалось все это перед тем, что происходило с Игорем Саввовичем до ельника, во время ельника и после него! Он и хотел бы думать о Борисе Иванове, о своей собственной судьбе, но не мог и думал только об еловой рати и о том счастье, волшебно приобретенном и так же волшебно утраченном.
— Видите, как бегает, видите!
Очнувшись от голоса шофера, Игорь Саввович заметил женщину необычайной толщины, резво и весело перебегающую проспект; все лишнее и выпуклое на ней тряслось, коротенькие ножки мелькали быстро, как в ускоренных кинокадрах, от ветра и движения парусили какие-то ленты, бантики и хвосты. Смешное было зрелище, но в машине никто не улыбнулся, а шофер, спохватившись, слишком резко рванул машину с места.
— Дядя Вася! — воскликнула Светлана.
— Виноват, Светлана Ивановна! — смиренно ответил шофер. — На толстуху загляделся...
Препроводив адвоката Валерия Николаевича в гостиную, Светлана бегом вернулась в коридор, где Игорь Саввович менял «командировочные» туфли на домашние тапочки, и бросилась к нему на шею с болезненным стоном:
— Игорь, родной, любимый!
И замерла, прижавшись всем тонким и трепещущим телом к его пропыленному дорожному костюму. Она на голову была ниже мужа, лицо лежало у него на груди, и сквозь рубашку чувствовались мокрые и теплые слезы. Светлана плакала беззвучно, крупно вздрагивала, руки ласкали плечи, шею, спину Игоря Саввовича, и он думал, что, видимо, любит жену, так как к нему сейчас прижимался близкий, родной человек, самый, пожалуй, близкий на всей большой, теплой и круглой земле.
-Ну-ну, Светлана, ну-ну! — проговорил Игорь Саввович, осторожно отнимая от груди голову жены. — Проплакаться, конечно, полезно, но надо же брать себя Ъ руки... Все обойдется, вот увидишь! Не надо плакать и впадать в панику.
148
Она глядела на него сквозь струящиеся слезы.
— Я горжусь тобой, Игорь! — пытаясь улыбнуться, сказала Светлана. — Ты так прекрасно держишься.,’. Валерий Николаевич мне сейчас сказал: «Ваш муж — необыкновенно сильный человек!» — Она со смешной угрозой сжала пальцы в детские кулачки. — Ты прав: надо держать себя в руках! Мы ни в чем не виноваты. Игорь, смотри, какая у тебя отважная жена!
Светлана действительно преобразилась. Маленькая, тоненькая и нежная женщина-подросток стояла этаким монументом со сжатыми мальчишескими кулаками и выпяченным подбородком: глаза блестели, рот сжат гузкой, нижняя губа затвердела. «Ну, держитесь, враги и недруги, трепещите от страха — ужасное ждет вас впереди!» — вот что было написано на лице и фигуре Светланы Гольцовой, когда она за руку втащила мужа в гостиную, где на так называемом «красном диване» перелистывал последние номера журнала «Америка» член коллегии адвокатов Валерий Николаевич Плужников — столичная штучка. Он привстал, склонил голову, как бы давая понять, что извиняет хозяев за долгое отсутствие, и сел опять.
— Валерий Николаевич, послушайте, Валерий Николаевич! — бросилась к нему Светлана. — Надо действовать энергично, быстро, точно: Нельзя сидеть, философствовать, только разговаривать. Надо действовать и Действовать!
И опять, как в автомобиле, адвокат и жена обменялись быстрым многозначительным взглядом, и опять Валерий Николаевич получил молчаливое разрешение совершить или сообщить нечто важное, но ранее запретное.
— Игорь Саввович, — негромко сказал адвокат, — в автомобиле вы получили лишь часть информации. Дело будет возбуждено, если вам не удастся произвести благоприятное впечатление на следователя. Поэтому хочу дать вам несколько важных советов...
— Стоп! — Игорь Саввович поднял руку, отталкивающе и властно посмотрел в глаза адвокату. — Стоп!
Прервав плавную, бархатную речь Валерия Николаевича, он поднялся, еще раз посмотрев в глаза адвоката, повернулся к жене.
— Это твои штучки, Светлана? — лениво, но грозно произнес он. — На аэродроме меня встречает незнако-
мый гражданин, садится рядом, говорит «мы» и «нам», а сейчас ведет себя таким образом, точно мы марионетки, а он держит в руках все ниточки... Это твои штучки, Светлана?
. — Я вас плохо понимаю, Игорь Саввович! — пролепетал блондин, и чело его, обрамленное тщательно уложенными прядями, покрылось испариной. — Ваша жена...
Не слушая больше адвоката, забыв о нем мгновенно, Игорь Саввович деловито прошел в свой кабинет, сел за стол, положил руки перед собой и задумался. Черт бы побрал эту бутылку коньяка, если он и десятой части не помнил из того, что произошло в Гаражном, виноват, Пионерском переулке! Существовал или не существовал человек, который, казалось, скрывался за спинами трех гитаристов или это была только тень верзилы от разнонаправленного освещения? Если это был все-таки человек, то какую роль играл он в событиях? Показалось Игорю Саввовичу или на самом деле человек-тень крикнул: «Гольцов»? Почему, наконец, у Игоря Саввовича сегодня возникло подозрение, что трое гитаристов, узнав Гольцова или услышав его фамилию^ пошли на приступ нацеленно, устремленно, словно ждали, когда Гольцов наконец-то появится в этом чертовом переулке? Почему первое «папаша» было произнесено добродушно и лениво, а потом, когда за спиной гитаристов что-то произошло — не произошло? — «папаша» прозвучал кличем к атаке?
— Игорь, послушай, Игорь!
Маленькая, тоненькая, страдающая Светлана стояла в дверях кабинета и горько плакала, держа в руке мужской носовой платок. Жена плакала так тихо и привычно, беззвучно и тускло, как это делают деревенские женщины, терпеливые и выносливые. Наверное, Светлане надо было опять разрыдаться, проплакаться как следует, и он, внимательно оглядев жену, принял прежнюю позу — сидел за столом в рабочем положении, словно в кабинете треста.
— Светлана, а может быть, хватит? — спросил он минуты через три. — Извини, но я не гожусь в утешители. В мою жилетку — увы! — не выплачешься... Прости! — Он по-стариковски пожевал губами. — Я вообще не вижу причин для таких вот преувеличенных страданий...
Она трясла головой.
150
— Иванов... Этот Борис Иванов! Если он умрет? Они все говорят, что ты начал драку... Все, все, все!
Игорь Саввович поднялся, походил по кабинету, зачем-то опустился на тахту — тугую, как теннисный мяч, посидев пяток секунд, поднялся, взял телефон, набрал 02, услышав: «Дежурный по городу слушает!» — ровным бесстрастным голосом проговорил:
— Здравствуйте! У телефона Гольцов. Попытайтесь найти полковника Сиротина...
Через дежурную часть городской милиции в любое время дня и ночи можно было найти полковника Сиротина, то бишь Митрия Микитича, который непременно сообщал дежурному по городу, где, когда и по какому телефону его можно найти. Игорь Саввович терпеливо ждал, пока дежурный, знающий, кто такой Гольцов, по своим каналам проверит рабочий кабинет полковника, позвонит ему домой или в другое место. На это ушло минуты две, потом бравый милицейский голос доложил:
— Игорь Саввович, полковник пять минут назад выехал к вам на разгонной машине. Желаю здравствовать!
— Спасибо, дежурный!
Вообще было непонятно и странно, что Митрий Микитич не встретил Игоря Саввовича на аэродроме, что делал всегда, когда приятель возвращался из командировок, а уж сегодня, казалось, сам бог велел Дмитрию стоять возле металлической аэродромной ограды. Оправдание было одно: полковник, сберегая ценное время, делал для Игоря Саввовича нечто более важное, чем участие во встречающем эскорте. Видимо, и сейчас Сиротин не зря мчался к дому Гольцова на разгонной машине, то есть автомобиле со специальной сиреной и мерцающим на кабине тревожным огнем. На красные светофоры, объезжая заторы по тротуарам, ни на секунду не останавливаясь, на скорости сто километров в час, мчался полковник Митрий Микитич к дому приятеля, чтобы творить очередное доброе дело.
— Иди полежи, Светлана. Успокойся...
Игорь Саввович подошел к жене, наклонился, неловко погладил по голове. Жалко было Светлану, больно за нее, но он действительно не знал, чем помочь. Сказать, что все будет хорошо — он это сделал; с нежностью и любовью уговорить, успокоить, утереть слезы — он сейчас был пуст, как вывернутый наизнанку кошелек.
151
— Приляг, Светлана. Прими что-нибудь успокоительное... Надо взять себя в руки. ,
Полковника Сиротина, то есть Митрия Микитича,. он встретил в прихожей, обменявшись с ним длинным рукопожатием, внимательно оглядел приятеля. Лицо у Митрия Микитича было красным, словно распаренным; он запыхался, поднимаясь бегом на третий этаж, вообще был непривычно взволнованный, хотя лицо полковника не потеряло доброй, радушной, мягкой улыбки. '
— Ну ты даешь! — восторженно прокричал он, причесывая перед зеркалом пушистые редкие волосы. — Ты, брат, даешь! Одного положил на операционный стол, второго увезли домой в бинтах, да в каких! На матерчатую куколку походил, голубчик! — Он нетерпеливо переступал ногами в разношенных сандалиях. — И третий, который смылся, тоже работает на костыли и лекарства. Вывих плечевого сустава и нервный шок...
Даже для шумного и громкоголосого полковника Митрия Микитича все сказанное звучало слишком громко, жесты были слишком резкими и стремительными, а когда он, причесавшись, коротко посмотрел на Игоря Саввовича, стало очевидным, что полковник не только взволнован, но и обеспокоен. Добравшись до кабинета Игоря Саввовича, полковник облегченно бросился на тахту, отдышался, озабоченно сказал:
— Заскочил в больницу. Операцию Иванову решили отложить до завтра, и даже есть надежда, что можно обойтись без операции. Так что дело не так плохо, как ты думаешь...
Игорь Саввович недовольно поморщился. Он и не собирался думать, что дело плохо, хотя, естественно, как всякий живой человек, беспокоился за длинновязого громилу, но почему никто не помнил и не говорил о том, что трое здоровых и трезвых парней по каким-то причинам или просто по хулиганским мотивам напали на одного пьяного человека? Что было бы, если бы Игорь Саввович не оказался опытным боксером или не сумел протрезветь? Случай с Ивановым, безусловно, прискорбен, но отчего никто не произносит слова «оборона» и «предел необходимой обороны»? Оттого, что все, все, все, как восклицала Светлана, считают Игоря Саввовича нападающей стороной? Но это бред, чушь, и следствие найдет возможности снять обвинение с Игоря Саввовича в навязывании драки. Отчего же так взволнован
152
и возбужден полковник Митрий Микитич, для которого драка — такое же привычное дело, как утреннее умывание? Почему?
— Тебя ввели в курс дела? — озабоченно спросил Митрий Микитич. — Где Валерий? Где Светлана?
— Я выставил вашего адвоката! — сказал Игорь Саввович. — Светлана в спальне...
Не слушая возмущенного полковника, Игорь Саввович упорно добивался правды, то есть хотел точно знать, отчего полковник Митрий Микитич, заместитель начальника УВД области, правая рука генерала Попова, не мог спокойно и добросовестно, справедливо и законно разобраться в деле.
— Что с тобой, Дмитрий? — ласково от тихой злости спросил Игорь Саввович. — Неужели есть люди, которые серьезно верят, что я, пьяная харя, начал первым? На меня напали, ты понимаешь, на-па-ли.
«Они все сошли с ума! — подумал Игорь Саввович о жене, адвокате и полковнике. — Нет, они просто сошли с ума, если не понимают, что я оборонялся!»
— Случилось так, — вытирая пот, сказал полковник, — что дело ведет старший лейтенант Селезнев — хороший парень, но... — Дмитрий вскочил. — Ты пойми, сейчас же пойми, что семеро дали показания на тебя как зачинщика. Семеро! Это не может быть случайностью. Тут что-то есть...
Игорь Саввович ничего не понял. Он так и сказал полковнику Митрию Микитичу и стал ждать ответа, но полковник повел себя странно: вместо того чтобы ответить на вопрос, стал глядеть на Игоря Саввовича такими же непонимающими глазами, какими Игорь Саввович смотрел на него.
— Знаешь что, Игорь, кончай волынку! — сердито сказал полковник. — Дело такое, что глупо придуриваться... Я тот редкий человек в городе, кто знает, какой ты крепкий мужик, но пусть сегодня придуриваются и шутят другие... Так что кончай волынку! И отвечай на мои вопросы... Ты знаешь кого-нибудь в этом доме? Может быть, есть что-то, из-за чего лучше откупиться от этой тройки? Если с Ивановым, естественно, ничего не произойдет.
Можно сойти с ума! О чем говорит этот человек, храбрее которого из Ромской области на войне не оказалось? От кого откупиться? Почему откупаться? Ей-богу,
153
были секунды, когда Игорю Саввовичу хотелось показать полковнику на двери, как полчаса назад он сделал это с пижоном-адвокатом, но он удержался и только усмехнулся. Чтобы разрядить обстановку, Игорь Саввович сказал:
— Я на дне рождения здорово надрался! Никогда в жизни так не напивался... * Удовольствия — никакого!
Полковник этих слов не слышал. Глядя в пространство, грустный, усталый и задумчивый, он машинально вертел в руках маленькую, вышитую болгарским крестом подушечку.
— Дмитрий, ответь мне, пожалуйста, что произошло, кроме драки? — спросил Игорь Саввович. — Я требую!
— Пока я точно не знаю, — ответил полковник, — но завтра-послезавтра все станет ясным... Ты потерпи немного, Игорь!
Полковник Дмитрий Никитич Сиротин, ушедший на войну семнадцатилетним, был известен тем, что ни смерти, ни генералов не боялся. Разведчиком он был таким, что о нем писал в «Правде» писатель Вадим Кожанов; по службе — сам Игорь Саввович этого не видел — грудь полковника украшало такое количество орденов и медалей, что места на мундире не хватало. Чрезвычайной храбрости человеком был Дмитрий Никитич Сиротин и чрезвычайной доброты. Сейчас бледный от волнения полковник вертел и вертел вышитую подушку маленькими рыжеватыми руками, смотрел на нее, и его круглое лицо было огорченным и встревоженным.
— Ты чего молчишь? — рассердился Игорь Саввович. — Сам всегда призываешь к действию, а сегодня молчишь упырем.
— Я. не молчу, я соображаю! — Полковник вздохнул. — Ты не знаешь, отец Светланы прервет командировку в Тегульдет или полностью использует срок?
Вопрос о Карцеве можно было понять. Драка зятя, какой бы она ни была — справедливой или несправедливой,— была для него ударом, но, интересуясь Карцевым, полковник опять подразумевал нечто большее, чем пьяный позор Игоря Саввовича. Что происходит?
— Дмитрий, я все-таки хочу знать...
154
Однако полковник уже не слушал: вскочил, такими движениями, какими заправляют под ремень гимнастерку, расправил летнюю рубашку с короткими рукавами, сделал несколько энергичных шагов по кабинету—готовый драться, бороться, совершать добрые дела, вообще жить так, как положено полковнику Сиротину, хорошему, отзывчивому человеку.
— Где Светлана? — командным голосом спросил он. — Мне ее надо повидать на минуточку... Опрашиваю, где жена? Веди меня к ней...
— Я уже говорил, что Светлана в спальне, — сухо ответил Игорь Саввович. — Иди, стучись...
Пятидесятидвухлетний полковник, выглядевший всегда сорокалетним, вприпрыжку умчался к Светлане, а Игорь Саввович, вернувшись в гостиную, вместе с креслом подполз по ковру к подоконнику. Окно в отличие от всех других окон выходило на улицу Гарибальди — не очень шумную, только с троллейбусными путями...
Смеркалось, и уже казались совсем черными деревья в сквере, где вспыхнули сильные неоновые лампы, и все вокруг сразу потемнело. Это уже началась короткая летняя ночь...
— Отдохнем! — пробормотал Игорь Саввович и сладко потянулся. — Пошли они к такой-то, довольно известной, матери!
Возле настежь распахнутого окна стоял небольшой стол-верстак, горбатилась хитрая настольная лампа, были прикручены к столешнице микроскопические тиски, прибита наковаленка, совсем крошка, а в многочисленных ящиках маленького стола лежали непонятные богатства: лупы и отвертки, щипчики и пинцеты, крохотные молоточки, микроскопические сверлышки. Это был хитрый инструмент для ремонта наручных часов. Игорь Саввович, сморщив губы от удовольствия, деловито снял с руки подаренные женой японские часы, ногтем мгновенно что-то отщелкнул, ловко вставил в глаз лупу и погрузился в мечтательное созерцание совершенного, доведенного до степени искусства часового механизма.
Пьяный Игорь Саввович не врал, что он лучший часовщик города и может отремонтировать любые часы. У Игоря Саввовича был талант часовщика, который- проявился рано, еще в детстве, и отчим Савва Игоревич бурно радовался; поглаживая Игоря по голове, востор¬
155
женно восклицал: «Какой хирург будет из Игоря, какой хирург! Богом данный, небом данный... Елена, умоляю ничего не трогать на верстаке нашего сына! Пойми, хороший хирург чем-то похож на виртуоза-часовщика, и наоборот!»
Игорь Гольцов не захотел стать хирургом.
ПЕРВЫЙ РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ
В конце февраля город утонул в снегу. Снег начался вечером в субботу, шел сутки, в ночь с воскресенья на понедельник, падал до позднего утра, и в одиннадцатом часу, когда Игорь шел по широкой улице, ведущей к медицинскому институту, казалось, что город исчез.
Боже, что творилось! Деревянные дома, оставшиеся от старого города, казалось, сровнялись с землей, новые здания липкий снег побелил, сделал как бы призрачными, деревья походили на снежных баб, в белом небе висели толстые белые канаты — трамвайные и троллейбусные провода. Трамваи и автобусы не ходили; никто не ждал такого снегопада, и снег расчищать не успевали. Города не было, не существовало: завалил его февральский снег, который пахнул отчего-то весной — пароходами, клубникой, замшелыми листьями...
Игорь сладостно чихнул, швыкнул носом и по-мальчишески вытерся перчаткой. Увязая по колени в снегу, он пошел в сторону медицинского института, чтобы передать матери забытую книгу, без которой она обойтись не могла. «Выручай, сын!» — десять минут назад по телефону попросила мать, и вот он шагал по снегу, проваливаясь, и было такое чувство, словно он сам превратился в снег, и от него тоже пахло пароходами, клубникой и замшелыми листьями. Игорь чувствовал радость, хотелось беспричинно смеяться, громко говорить или петь во все горло, не стесняясь прохожих; со снисходительной усмешкой он думал: «Вот это они и называют счастьем!» — так как в те далекие времена, как и полагалось в его возрасте, ко всему относился скептически.
Между тем счастье объективно существовало в образе Игоря Гольцова. Никакой юношеский скепсис не мог помешать этому. Как ни убеждай себя, что счастье (он так и писал в классном сочинении) есть «совокупность
156
субъективных ощущений, вызванных достижениями ряда эфемерных задач», невозможно было снять с лица глупую, детскую улыбку. Ах, будь ты неладен, февральский снег, нарушивший мудрое равновесие закоренелого семнадцатилетнего скептика!
Снег не пощадил и самое красивое здание в городе — высокий и длинный корпус медицинского института. Исчезли помпезные лепные украшения, остались без лиц «греки», поддерживающие руками и спинами какие- то тяжести у входа; дом ослеп, так как мокрый снег залепил все южные окна, но по неизвестным причинам здание казалось высоким, еще более высоким, чем было на самом деле. Странно! Другие дома под снегом согнулись и сникли, а медицинский институт как бы возвысился, вырос, хотя и без этого был громадным.
Возле безликих «греков» пришлось постоять. Не мог же Игорь появиться в институте с дурацкой улыбкой на лице и с сияющими от счастья глазами? Обстоятельно, нарочито медленно он счистил снег с обуви и одежды, старательно приняв скучающий вид, вошел в огромную студенческую раздевалку. Возле нее, конечно, сидела тетя Вера, старая женщина, и вязала длинный шерстяной чулок. Она из-под очков строго посмотрела на вошедшего.
— Ой, кто пришел! — узнав Игоря, обрадовалась старуха. — Здравствуй, Игорь, здравствуй, касатик!
— Здрасьте, тетя Вера!
В каникулярное время гардеробщица тетя Вера помогала матери ухаживать за дачным садом, временами, когда не было постоянной домработницы, поселялась в маленькой, но светлой комнате дома Гольцовых.
— Оделся-то, оделся-то ровно на дворе весна! — ворчала тетя Вера, принимая от Игоря легкую спортивную куртку. — Глаз за тобой нужен — вот чего я скажу. И самой скажу и самому скажу, мне ведь они — тьфу! Он сроду ноги не вытирает, а скажу, сердится: «Тетя Вера, оставьте в покое мою печенку!» А у меня, может, тоже печенка...
Она всегда вот так забавно ворчала, эта славная тетя Вера.
— О, кого я вижу! — раздался вдруг бодрый голосок, обернувшись на который Игорь узнал доцента Вульфзона, партнера отца по преферансу, знаменитого окулиста. Он двигался к Игорю с распростертыми объятиями. — Кого вижу, кого вижу! Игорь Гольцов! Здо-
157
ровьгй, большой и счастливый! Ну, как жизнь молодая? — Не дойдя шага до Игоря, он замер. — Ах, какой я осел, какой осел! Разве можно спрашивать об этом счастливого человека?
Доцент обнял Игоря, потискал и отпустил. У Вульф- зона было доброе лицо, добрые глаза, он с малых лет любил Игоря, как любил вообще детей. Доцент Вульф- зон семьи не имел — кто-то умер, кто-то просто ушел. Знаменитый окулист глядел на Игоря просветленно, радостно.
— Ну, Игорь, скоро к нам! — счастливый за Игоря, воскликнул Вульфзон. — Держись, голубчик! Ваш покорный слуга Вульфзон нынче вице-председатель приемной комиссии! А он страшно свирепый, этот толстый Вульфзон! Он тигр!
Все сегодня было радостным и смешным: снег, тетя Вера, доцент Вульфзон.
— К папаше? К мамаше? — забавно подмигивая, спросил доцент. — Если к самому — привет! В субботу он будет иметь такой преферанс, от которого дают кислородную подушку.
Толстый Вульфзон умчался с проворностью мальчишки, двери за ним взорвались, и осталось ощущение добра, радости, любви и уважения. Игорь пошел дальше, начал подниматься по широкой плавной лестнице на второй этаж, и вдруг показалось, что идет он не по институту, а по комнатам родного дома — так все было знакомо. Кафедра санитарии и гигиены, актовый зал, две аудитории лечебного факультета, аспирантская. Потом огромные дубовые двери, медные ручки, скромная табличка «Ректор». Здесь, за двумя дверями, всегда в белом халате, сидел отец, если не делал операцию. Игорь приостановился, подумал, что отец обидится, если Игорь к нему не заглянет. Притрагиваясь к медной ручке, Игорь снова почувствовал запах снега, счастливый и молодой.
Отец бурно обрадовался Игорю. Он живенько поднялся из-за стола, высокий, широкий, красиво седеющий, пошел навстречу. Вкусно похрустывал халат, сияло доброй улыбкой большое, мясистое, породистое лицо. Крупные белые руки ласково легли на плечи Игоря. Отец внешне был таким, какими бывают люди, которым судьба даровала все качества с излишком: рост, голову, глаза, руки, ноги. Отец был также с избытком добр, весел, здоров, оптимистичен, спокоен, выдержан, умен.
158
А в своем кабинете, не занятый операциями, отец, как всегда, был ребячливым, легкомысленным человеком. Он свое ректорство считал обузой и ошибкой.
— Поздравь меня! — сказал отец, похлопывая Игоря по спине и усаживая на диван. — Ты от эфтого февральского снега приплясываешь, как жеребеночек, а мне сичас звонят: «Скорая помощь забита!» Бабушки падают, дедушки подсклизываются, главный инженер гор- энерго в машине перевернулись и — проникающее в грудную! Через полчасика начнется веселая жизнь!
Отец потирал руки, подмигивал, болтал, как говорили в доме, «несусветицу», и все это значило, что он готовился оперировать главного инженера, который «перевернулись», и что операция сложная. Рука, лежащая на плече Игоря, была теплой, глядел отец так ласково и нежно, словно давно не видел сына, и Игорь почувствовал новый прилив счастья. Хорошо было сидеть рядом с большим, веселым, любящим человеком.
— Бегу к маме! — солидно сказал Игорь. — Вечно забывает свои книги. Ты сегодня придешь поздно?
Отец торжественно провозгласил:
— К хоккею вернусь, даже если город возьмет в осаду татарская орда...
Кабинет заведующей кафедрой Елены Платоновны Гольцовой оказался запертым, пришлось возвращаться к «преподавательской», за дверями которой стоял шум, хохот, слышались перекликающиеся голоса. Игорь открыл двери, не надеясь услышать ответ, но все-таки громко спросил:
— Разрешите?
Ему никто не ответил. Десять-двенадцать человек в белых халатах сгрудились вокруг чего-то, Игорю невидимого, размахивая руками, смеялись и говорили; только дойдя до середины комнаты, Игорь понял, что в центре круга — мать. Она не замечала сына до тех пор, пока кто-то из окружения, кажется, доцент Крылов, не воскликнул:
— Елена'Платоновна, к вам гости!
Кружок белых халатов раздвинулся, шум чуточку стих, и Игорь увидел мать. Цветущая, молодая, веселая, самая красивая, как говорили, женщина в городе, она действительно была такой красивой, что сыну ее Игорю хотелось зажмуриться. Мать торопливо поднят лась, сделала несколько шагов навстречу Игорю, не удержавшись, воскликнула:
159
— Какой ты у меня сегодня счастливый и веселый!
Мать Игоря была человеком сдержанным, умела
владеть собой в любой обстановке, но, видимо, Игорь сегодня выглядел так, что и она не удержалась, дала волю эмоциям.
' — Вот это снег! — оживленно продолжала мать. —
Как ты пробрался? У нас аудитории печально пусты. Трамваи, троллейбусы — все остановилось! Какой снег, какой снег!
Словно по заказу Игорю сегодня встречались только веселые люди. Профессор Елена Платоновна Гольцова не сказала ничего смешного, речь шла только о необычном снеге, но «преподавательская» опять зашумела, наполнилась радостными голосами и беспричинным смехом. Откидывая назад голову и показывая нежную шею, смеялась Лиана Ивановна Кожемяко, доцент кафедры анатомии, как всегда, одними глазами смеялся Вадим Леонтьевич Ремизов, доцент, преподающий химию, клокотал смех в горле Семена Михайловича Табачникова, профессора, доктора наук.
Мать стояла вплотную к Игорю, рослая, она была только на три-четыре сантиметра ниже сына, они чуточку все же походили друг на друга, и чувствовалось, что людям приятно смотреть на них со стороны. Гольцовы, сами Гольцовы — красивые, умные, талантливые люди!
— Вот твоя книга!
Игорь протянул матери аккуратный газетный свер* ток, мать поблагодарила кивком головы, на секунду прижалась локтем к руке Игоря. Это стоило в миллион раз больше, чем привычный поцелуй в щеку перед сном. Прикосновение локтем значило: «Я горжусь тобой, сын, я люблю тебя, сын!»
— Я пошел, — сказал Игорь. — До свидания!
Он уже был в коридоре, а за дверями все еще слышались голоса обрадованных его приходом людей. В большие окна коридора проникал необычный свет, такой же прозрачный и зеленоватый, как выпавший снег, и казалось, что и здесь пахнет весной. Игорь осторожно пошел по свеженатертому паркету... Через шесть-семь месяцев он здесь будет учиться. В этом актовом зале доцент Вадим Леонтьевич Ремизов будет читать курс химии, случайно встречаясь взглядом с Игорем, станет делать вид, что не знает его, а профессор Семен Михайлович Табачников на лекциях будет время от вре¬
160
мени менять очки — три футляра с очками всегда лежали в карманах его заношенного до неприличия пиджака. Анатом Лиана Ивановна будет каждый день являться в новой кофточке; первокурсникам, не знающим ее, будет странно, что тонкая, изящная, как бы воздушная Лиана Ивановна занимается препарированием трупов.
На просторной лестничной площадке было тихо, валялись на полу окурки, зло пахло крепкими дешевыми сигаретами. На табличке «Место для курения» была исправлена одна буква, и читалось «Место для дурения»; скамейка была испещрена надписями. Одна утверждала: «Все кончается задним проходом!» Игорь улыбнулся, побежал вниз, к тете Вере, которая, завидев Игоря, уже держала в руках его спортивную куртку. Он вежливо отстранил ее руки, хотел одеться сам, но старуха рассердилась:
— Вот еще фокусы! Самому подаю, самой подаю, а...саменок не хочет! — И от души расхохоталась над нечаянной шуткой. — Вона как я выражаюся, просто смех берет! Сам, сама и саменок... Чего? Ах, до свидания! До свидания, до свидания! — И крикнула ему в спину: — Як вам в субботу лажусь. Ковры трясти да темну комнату прибирать. До скорого свиданьица!
Снег перестал идти, но Игорю показалось, что сугробы еще потолстели, троллейбусные и трамвайные провода совсем обвисли и даже здание института укоротилось и занизилось. Он вынул перчатки, собрался натянуть на руки, но раздумал и сунул их обратно в карманы.
— Вот черт! — выругался Игорь. — Тоже мне острячка!
В ушах все звучало: «Самому подаю, самой подаю, а саменок не хочет!» Удивительно, как резко могло меняться у человека настроение! Счастливым, радостным, переполненным призрачным светом снегопада, запахами весны, предчувствием еще большего счастья спускался Игорь по широкой и плавной лестнице, но тетя Вера произнесла несколько глупых слов, и все пропало, исчезло.
— Вот черт!
Игорь спустился с крыльца, пошел по протоптанной извилистой дорожке: метров через двадцать остановился, повернулся лицом к институтскому зданию.
— Саменок! — усмехнулся Игорь.
11 Виль Липатов, том 4
161
Он почувствовал, что от него пахнет больницей, этой сложной смесью йода, эфира, спирта, клеенки, валерьянки, марганцовки и еще чего-то многого. Запах больницы Игорь чувствовал всю жизнь, с пеленок, но сейчас, среди утонувшего в снегу города, запахи были особенно сильными. Это пахло от спортивной куртки, которая всего полчаса провисела в гардеробе у тети Веры.
Сунув руки в карманы — пальцам было все-таки холодно! — Игорь вышел из металлических резных ворот. Ого! Уже скрипел на закруглении трамвайный вагон, тяжело сметающий дугой снег с контактного провода; троллейбусы еще не ходили, но зеленое такси медленно-медленно пробивалось к институтским воротам. Машина окончательно забуксовала на повороте, дверцы открылись, вышел заместитель отца, проректор по научной работе профессор Огородников. Увидев его, Игорь, сам не зная почему, торопливо спрятался за угол и скрывался до тех пор, пока Огородников не ушел.
Выждав еще немного, Игорь двинулся дальше: миновал институтский сквер, ворота, завернул направо, перешел на другую сторону улицы, остановился. Отсюда медицинский институт был виден целиком. Высокое все-таки здание, основательное, красивое, броское —самое красивое в городе.
— Саменок!
Игорь понял, что никогда не станет учиться в медицинском институте. Никогда!
Через три дня, когда снег осел и прикатался, когда пришли морозы и в большой гостиной собрались отдохнуть и посудачить перед сном отец и мать, Игорь объявил о своем решении. Отец засмеялся и поставил ноги на каминную решетку.
— Славно шутишь! — сказал он. — Что за привычка мистифицировать?
Мать поняла все и побледнела.
...Хитро устроен механизм японских часов «Сейко». Алели рубиновые камни, идеально точно сопряженные шестерни двигали вперед стрелки, календарь, будильник; разрослось до лабиринтной сложности простое, в сущности, часовое хозяйство, а вместе с тем в сложности существовала изящная простота необходимости.
162
Сосредоточенно сжав губы, Игорь Саввович принялся разбирать совершенно новые часы. Шесть крупных винтов, два микроскопических: японцы — молодцы, прорезают в некоторых болтах крестовину для специальной отвертки — не срывается. «Если сегодня не успею, отложу на завтра! — мирно подумал он, выкрутив два очередных болта и положив их на тонкое стекло. — Плевать на гарантийные пломбы!.. Отличный подарок сделала Светлана». Через полчаса Игорь Саввович вынул из глазницы лупу. Может быть, ему давно, очень давно пора на «псишку»? В городской больнице собирается отдавать богу душу Борис Иванов, плачет в спальне жена, как угорелый носится по городу полковник Сиротин. Игорь Саввович усмехнулся. «Праздную труса, — насмешливо подумал он. — Боюсь думать... Ой, пропадешь здря, гражданин Гольцов!»
Светлана ничком лежала на кровати, и было так темно, что из переулка, куда выходило широкое окно спальни, проникал свет неоновой рекламы «Химчистки». Давно было известно, что зеленое свечение дает буква «и», красное — буква «х», синее — буква «ч», а оранжевое — две буквы — «м» и «т». Поэтому на спине Светланы лежал зеленый отсвет, голова была в красном, ноги — в синем, а потолок спальни был расцвечен смешанным свечением — коричневым с примесью ядовитой желтизны. Светлана лежала неподвижно, на подушке расплывалось мокрое пятно — значит, после разговора с полковником Сиротиным жена снова плакала. Игорь Саввович осуждающе покачал головой, подумал немного и неторопливо разделся.
Надо было уснуть. Игорь Саввович лег на спину, закрыл глаза, руки скрестил на груди, чтобы в такой позе мысленно перевозить через небольшую речку в лодчонке послушных китайцев. Китайцы были странные, средневековые, коричневолицые, в длинных одеждах, с яркими веерами в тонких женственных руках. Он сажал китайцев в лодку по трое, ловко орудуя шестом, быстренько перевозил на противоположный берег и сразу же возвращался за очередной тройкой. Девять китайцев перевезено на левый берег, заросший гаоляном, двенадцать, пятнадцать, восемнадцать... Яркие,, как реклама «Химчистки», непрерывно движущиеся веера, казалось, издавали шелестящий треск, длинные шелковые одежды празднично блестели, и пахло почему-то Ритиными французскими духами... Восемьдесят первый китаец вы¬
Ш
ходил из зыбкой лодчонки на берег, когда раздался сдавленный голос Светланы. Он вздрогнул.
— Не могу, не могу! — Светлана вскочила, стоя на коленях, молитвенно прижала руки к груди. — Ты не знаешь всего, Игорь, не знаешь! Этот Борис Иванов... У него перелом основания черепа! Он может умереть. Мы от тебя это скрывали...
...Восемьдесят первый китаец уходил через гаолян к солнцу, держа колеблющийся веер на отлете, волосы, кончающиеся косичкой, были красными...
— Догадываюсь о переломе! — сказал Игорь Саввович. — Я докторский ребенок...
Глава пятая ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ
Игорь Саввович Гольцов впервые в жизни шел пешком по улице Фрунзе, хотя она была второй по величине и значимости улицей Ромска. Ему часто доводилось гулять по проспекту Ленина, по «своей» улице Гарибальди, но по улице Фрунзе он всегда проезжал на машине и теперь с трудом узнавал улицу: сквер был в несколько раз большим, чем казалось из окна автомобиля, дома подросли, сама улица расширилась и сделалась нескончаемо длинной. Игорь Саввович целых десять минут шагал от угла улицы Фрунзе и Ленинского проспекта до здания районного отдела внутренних дел Кировского райисполкома города Ромска.
Здание милиции, наверное, было таким же, как все здания подобного рода в сибирских областных городах. Два этажа, зеленые наличники, деревянное высокое крыльцо, на нем — несколько испитых, небрежно одетых, но воинственных мужчин и парней, вышедших покурить. И внутри, наверное, все было таким, как полагалось быть в районных отделах, где и паспорта выдают, и занимаются делами о прописке, работают следователи и возятся с административно-осужденными, то есть с «пятнадцатисуточниками». Коридор, длинный, узкий и мрачный, был заполнен до отказа, и люди здесь тоже, казалось, были такие, каким положено быть в районном отделе милиции: сидели предусмотрительно пришедшие спозаранку сердитые пожилые люди; прячу¬
164
щие лица молодые женщины и девушки, наглые парни в широких брюках, чрезвычайно похожие на гитаристов, с которыми дрался Игорь Саввович. Пахло хлорной известью и пылью, сапожным кремом и нафталином.
Дежурный по райотделу капитан узнал Игоря Саввовича, козырнул, выйдя из-за оградки, встал так, что Игорь Саввович не мог пройти мимо, и улыбнулся. Капитан был пожилым, усталым, доброглазым человеком.
— Товарищ Гольцов, — вполголоса проговорил он, — приказано вас соединить с полковником Сироти- ным, как только появитесь. Будьте добры пройти к прямому телефону.
Игорь Саввович медлил. Во-первых, он вспомнил капитана, с которым однажды неводил рыбу на Смагин- ских песках в большой и шумной компании, во-вторых, ему не о чем было разговаривать с полковником Сиро- тиным. С другой стороны, было неловко в присутствии подчиненных полковника пренебречь его просьбой. Поразмыслив, Игорь Саввович благодарно проговорил:
— Спасибо! Я только что говорил с полковником. Пять минут назад...
Комната, в которой работал следователь Селезнев, снаружи была такой же, как все комнаты короткого коридора, перпендикулярного первому коридору — длинному и мрачному. Двери были обиты черным дерматином, табличка написана от руки: «Ю. И. Селезнев». Игорь Саввович постучал, услышав «да, да», вошел и аккуратно прикрыл двери.
— Моя фамилия Гольцов! — сказал он, протягивая следователю повестку на плохой серой бумаге. — Приглашен на десять часов утра...
Стол средней величины, прислоненный к нему стол поменьше, два стула, не считая стула следователя, сейф, портрет Дзержинского на стене, решетки на окнах — вот и вся обстановка, в которой верхом роскоши казалась современная настольная лампа, похожая на какой- то несуществующий сверхскоростной летательный аппарат. И было так тихо, как не бывает в городских домах — глухо, точно в землянке или бетонном погребе.
Следователь сделал два шага навстречу, но руку не протянул.
— Селезнев Юрий Ильич, старший лейтенант милиции... Прошу садиться!
Банальной, широко и повсеместно распространенной, среднеарифметической была внешность, голос, манера
165
говорить и двигаться у следователя Селезнева. Стоило прошагать по проспекту Ленина километр, чтобы встретить трех таких следователей Селезневых. Поджарая, спортивная фигура, бугры культуристских мускулов на груди, руках и ногах, тщательно подогнанный новый костюм, модный галстук в цвет ярким носкам. И лицо — современное, самое модное в конце двадцатого века в столицах и провинциях.
Красивые модные мужские лица, стройные, спортивные фигуры сотнями и тысячами создавались в последние десятилетия, надо полагать, в результате существования такого многонационального государства, как Советский Союз. Черноволосый и черноглазый молодец иногда носил на лице славянский нос и губы, а ярко выраженный блондин имел крючковатый нос и монгольский разрез глаз. Однако чаще всего встречались молодые люди типа Селезнева, по лицам которых принадлежность к национальности распознать было невозможно, так много было всего в их интернациональной крови. Нос не славянский, не монгольский, не греческий. Смотришь на волосы — оторопь берет: не брюнет, не блондин, не шатен. Перепутано, смазано, скомкано, а общее впечатление: «Красивый малый, черт побери! Где я его вчера видел?»
— Вы, конечно, знаете, зачем приглашены? — неторопливо проговорил Селезнев, глядя в подбородок Игорю Саввовичу. — Речь пойдет о происшествии в ночь с понедельника на вторник... — Он энергично поджал губы. — Нужно ли вас предупреждать...
— Нет! — холодно ответил Игорь Саввович. — Я иногда хожу в кино... Меру ответственности понимаю.
Селезнев вел себя просто, сидел раскованно, никакие бумаги писать не собирался, а только глядел в подбородок Игорю Саввовичу, они еще ни разу не встретились глазами, но Игорь Саввович сразу понял, что Селезнев люто ненавидит вошедшего в кабинет человека. Селезнев ненавидел его точно так, как сам Игорь Саввович недавно ненавидел управляющего Николаева, и, может быть, так же полуосознанно и болезненно, когда в человеке ненавистно все — от голоса до улыбки, до манеры сидеть. «Вот, значит, как!» — медленно подумал Игорь Саввович и неторопливо закинул ногу на ногу, развалился по-барски.
— Это хорошо, что вы все понимаете, — совсем мед¬
166
ленно произнес следователь Селезнев и наклонился к столу. — Тогда вам придется расписаться вот здесь.
Селезнев ошибался, если думал, что Игорь Саввович поднимется, чтобы подписать бумагу. К его счастью, следователь это вовремя понял и перебросил протокол на маленький стол, за которым сидел Игорь Саввович.
— Пожалуйста! — Подписав, Игорь Саввович тоже перебросил бумажку на стол следователя. — Формальности, кажется, выполнены.
Не глядя на Игоря Саввовича, следователь придвинул к себе бланк допроса, опустил голову, задумался. У него, надо полагать, было много времени, чтобы заранее обдумать допрос Гольцова, но Селезнев, наверное, принадлежал к числу тех следователей, которые не торопятся нарочно, чтобы взять подследственного, так сказать, на измор, и от этого они внешне многозначительны.
— Фамилия, имя, отчество, год рождения?
Селезнев поинтересовался только анкетными данными, начал с такого элементарного дела, о необходимости которого знал пятилетний мальчишка, но именно это — анкетные данные — было такой простой до элементарности подробностью допроса, от которой Игорь Саввович неожиданно почувствовал смятение, беспомощность и страх. Спроси его Селезнев: «Почему вы убили Бориса Иванова?», Игорь Саввович не испытал бы и сотой части тех мучительных переживаний, которые сейчас стеснили дыхание, а по телу пробежала волглая дрожь страха. «Что это со мной?» .— подумал он и торопливо огляделся... Решетки ли на окнах, мертвая ли тишина, скупая ли обстановка комнаты, запах ли хлорной извести, ненависть ли следователя — что из этого страшило Игоря Саввовича? Отчего он чувствовал такую растерянность и беспомощность, которые переживал только на военных комиссиях, когда голым и посиневшим от холода подходил к длинному столу с цепочкой равнодушных врачей — мужчин и женщин. Голый человек на голой земле.
— Фамилия, имя, отчество, год рождения?
Игорь Саввович, не шевелясь, глядел прямо в опущенное лицо следователя Селезнева, но не видел его, как это бывало и на медицинских комиссиях, когда срабатывали защитные реакции, превращающие врачей в манекены.
167
— Гольцов Игорь Саввович, место рождения — Чер- ногорск, тысяча девятьсот сорок шестой год...
Когда анкетные графы были заполнены, Селезнев отодвинул на конец стола протокол, откинулся на спинку стула, закуривая сигарету «Новость», глядя по-преж- нему на подбородок Игоря Саввовича, бесцветным голосом спросил:
— Расскажите, пожалуйста, что произошло в переулке Пионерском, когда вы с женой возвращались с празднования дня рождения...
Следователю все было ненавистно в Игоре Саввовиче — джинсы фирмы «Ли», коричневые мокасины, рубашка, называемая батником, длинные волосы, расчесанные на пробор и падающие толстой скобкой на длинную шею. Он ненавидел Игоря Саввовича за скрещенные по-валентиновски ноги, за японские часы и еще за сотню других неизвестных вещей.
— Итак, вы возвращались в автомобиле со своего дня рождения...
Игорь Саввович с вызовом подхватил:
— Да, мы возвращались со дня рождения... Мы ехали на автомобиле...
Сосредоточившись, Игорь Саввович как можно подробнее рассказал следователю все, что знал, помнил и понимал. Когда же дело дошло до фразы: «Мы с женой пошли домой...», Игорь Саввович сделал паузу, еще раз хорошенько подумал, а потом сказал:
— Как я уже несколько раз говорил, я был здорово пьян, но мне кажется... — Он подчеркнуто вежливо улыбнулся. — Слово «кажется», наверное, не принимается в расчет, но мне все-таки кажется, что за тремя парнями с гитарами шел еще один человек. Он просто отставал или специально не хотел быть видимым, но, кажется, сыграл определенную роль в событиях... — Игорь Саввович еще вежливее улыбнулся. — Мне, например, кажется, что неизвестный выкрикнул мою фамилию. После этого трое и начали атаку...
Нет, проникали все-таки звуки за двойные окна с толстыми прутьями тюремных решеток. Прошелестел шинами троллейбус, просигналил перед опасностью шофер «Волги», чей-то звонкий голос звал не то Верку, не то Герку. От этого легче дышалось и думалось в кабинете следователя Селезнева, который, пока Игорь Саввович рассказывал, ничего не записывал, трижды за время рассказа поднимался, прогуливался по комнате,
168
садился и закуривал очередную сигарету «Новость». И все эти минуты, пока Игорь Саввович рассказывал, у него с каждым словом крепла неосознанная уверенность в том, что следователь Селезнев ему верит, ничему не удивляется, а когда речь зашла о неизвестном,.который показался Игорю Саввовичу, следователь удовлетворенно хмыкнул.
— У меня все! — сказал Игорь Саввович. — Мне нечего больше добавить. Записывайте.
Несмотря на то, что следователь слушал хорошо, Игорю Саввовичу начинал надоедать модный красавчик распространенного типа, бесила слепая ненависть Селезнева к человеку, которого следователь не знал. Игорю Саввовичу было хорошо известно о служебном рвении вот таких длинноногих красавчиков из провинции, умных, ловких, жадных к жизни. Старший лейтенант, капитан, полковник, генерал! Селезневы по служебной лестнице идут верно, но осторожно.
— Записывайте!
Следователь Селезнев чистил мундштук, в который всовывал свои дрянные сигареты «Новость». Уменьшал вред от курения, цвет лица берег, карьерист несчастный!
— Этого я пока записывать не буду! — напевно отозвался Селезнев и осторожно, словно драгоценность, поднял вверх свой прямой, мужественный нос с едва приметной горбинкой. Он в первый раз прямо, внимательно, не мигая, посмотрел в глаза Игоря Саввовича своими серыми, большими, женскими глазами, которые, Игорь Саввович готов был поклясться, не могли принадлежать плохому человеку. Однако в них пылала, взрывалась, сквозила и еще бог знает что делала открытая ненависть к Игорю Саввовичу. — Эти показания я запишу позже.
Селезнев встал, скрестил руки на груди — театр, плохой театр! — нахмурившись, прошелся по комнате. Он якобы мучительно обдумывал коварный, уничтожи- тельный, неотразимый вопрос — единственный из всех возможных, чтобы насмерть поразить такого ловкого и хитрого негодяя и рецидивиста, как Игорь Саввович Гольцов. По следователю можно было также понять, что все предыдущее в допросе было цветочками, а вот сейчас, после того как расправится хмурое чело Селезнева, появятся и сами ягодки.
— Когда, с чьей помощью и на каком основании вы построили гараж в переулке Пионерском напротив дома
169
номер семнадцать, между домами двенадцать и четырнадцать? — спросил Селезнев обыкновенным и спокойным голосом. — Кто строил? Где вы с ним познакомились? На каком основании было оформлено разрешение? Прошу вас хорошенько вспомнить.
Напротив дома за номером семнадцать, между домами двенадцать и четырнадцать, в переулке Пионерском?.. Игорь Саввович диковато посмотрел на следователя.
— Виноват! — сказал он. — Виноват, но никакого гаража я не строил. Кто строил, не знаю, как оформлялось все — тем более.
Теперь следователь, в свою очередь, смотрел на него диковатыми, ошарашенными глазами, и вид у Селезнева был такой, словно его только что разбудили. Селезнев сел, машинально придвинул к себе бумаги.
— Я вас не понимаю! — недоуменно проговорил следователь. — Как вы можете ничего не знать, если гараж построен вами, на ваше имя, и мне известно, кто его вам строил, когда и за сколько... Слушайте, гражданин Гольцов, вы все-таки, видимо, не понимаете, что мера ответственности за дачу ложных показаний не пустая формальность. — Он по-мальчишески разозлился. — Если вы шутите с высоты вашего положения, то знайте: играете с огнем!
Игорь Саввович на него даже не рассердился. Вот новости-то! Он вытаращился на Селезнева с искренней и доброй растерянностью, он глядел на следователя так, словно просил у него помощи, и это было так открытой чисто, что могло показаться перебором и выглядеть ложью, такой же театральщиной, с какой следователь разгуливал по кабинету. Игорь Саввович спохватился, но было поздно: следователь побледнел от ярости.
— Вот что, гражданин Гольцов! ■— вздрагивающим голосом проговорил Селезнев. — С вами, как я вижу, надо разговаривать по-другому! Извольте-ка сесть по- человечески, вы, самоуверенный субъект! Это вам не гостиница «Центральная»... Сесть! Я вам приказываю!
Это говорил уже не носитель распространенной внешности, а внезапно приобретший яркую индивидуальность человек, уверенный в себе, знающий себе цену, открытый, беспощадный и опасный враг. «Вот вы какой? — спрашивали глаза следователя, от напряжения сделавшиеся светлыми. — Умеете улыбаться и врать!»
— В последний раз прошу вас сесть прилично! —
170
взревел Селезнев, увидев, чт.о Игорь Саввович позу не меняет, а только мило улыбается, и лицо у него при этом созерцательное, курортное, благодушно-хлебосольное. Как только следователь набрал в легкие воздуха, чтобы взреветь в последний раз, Игорь Саввович жестом призвал его к спокойствию.
— Простите, товарищ Уткин! — вежливо произнес он. — Видите ли, товарищ Петухов, у меня врожденное искривление позвоночника. Мне полагается находиться в полулежачей позе. Не верите, товарищ Курицын?
— Моя фамилия Селезнев.
— Спасибо, товарищ Индюшкин! Вы разрешите мне слушать вас стоя, если больному человеку не позволено полулежать. Очень буду вам благодарен за снисходительность, товарищ Куропаткин. Прикажете встать?
Следователь мелко дрожал, боясь сорваться окончательно... Дрянь этакая! Мальчишка, самовлюбленный мальчишка, и, конечно, карьерист, коли взялся за дело Гольцова — зятя Карцева, близкого друга полковника Сиротина. Дурак, идиот и мальчишка! Дано ли ему понять, что никакие следствия, камеры предварительного заключения и тюрьмы не страшны Гольцову! Кто и что могли испугать человека, который второй год раздумывает: повеситься, застрелиться или поступить сторожем на овощную базу? Плевать мы хотели на тебя, молокосос ты этакий! Плевали!
— Мне намекали, что вы — хамло, но я не думал, что до такой степени! — ласково соврал Игорь Саввович. — И кажется, вы заведомо меня обвиняете. А как же быть с той самой презумпцией невиновности, о которой ваш министр пишет в газетах? Далее... Кто вам позволил оскорблять меня? Кричать? Какое вам дело до гостиницы? — Он еще раз мило улыбнулся. — Придется извиниться. Прошу, товарищ Селезнев. Прошу!
Следователь был по-прежнему прямой, официальный, но лицо побледнело. Теперь понималось, что он ровесник Игоря Саввовича, что они люди одного круга и что при обычной встрече произвели бы друг на друга наверняка неплохое впечатление. И еще одно новое необъяснимое ощущение испытал Игорь Саввович — показалось, что он давно и хорошо знаком с Селезневым, что они встречались раньше часто, очень часто.
— Жду извинения! — повторил Игорь Саввович.
Глядя в окно, Селезнев глухо сказал:
— Простите!
171
Они одновременно, словно сговорились, улыбнулись друг другу вежливыми стандартными улыбками — так улыбаются знакомым женщинам, с которыми не хотелось продлевать знакомство.
— Продолжим беседу! — по-прежнему дрожащим от ненависти голосом проговорил Селезнев. — Вернемся к гаражу. Итак, вы утверждаете, что не строили гараж и даже не знаете, у кого он приобретен? Я верно вас понял?
— Совершенно верно.
— Далее вы сказали, что не знаете, как оформлялось все?
— Нет! Не знаю.
— Тогда вы, наверное, знаете, откуда у вас гараж?
— Естественно! — Игорь Саввович радушно развел руками. — Гараж купила моя жена, а вот как это произошло — не знаю. Впрочем... Платил деньги за гараж я, так как жены не было дома.
— Кому?
Игорь Саввович вспоминающе уставился на оконную решетку, за которой по-прежнему пошумливали троллейбусы и кто-то снова звал не то Верку, не то Герку. Поразмыслив, Игорь Саввович ответил:
— Пришел какой-то субъект, маленький и очень живой, сказал, что я ему должен тысячу рублей...
— И вы уплатили? Незнакомому человеку?
— Уплатил! — недоуменно отозвался Игорь Саввович. — Пришедший предъявил записку, написанную женой...
— Вы помните фамилию этого человека?
— Представьте себе: не помню!
Враждебно посапывая и опять пряча глаза, следователь аккуратно выровнял стопку хорошей бумаги, взял автоматическую ручку и внимательно посмотрел на кончик пера — это он проделывал всякий раз, когда собирался написать очередную порцию протоколятины. Автоматическая ручка была старая и плохая. Селезнев морщился, так как перо выводило слишком толстые буквы, ученические, с этаким прописным нажимом.
— Хорошо обдумайте ответ! — сухо предложил Селезнев. — Получается, что вы узнали о гараже только после того, как по записке жены уплатили деньги ранее неизвестному вам лицу? Так это или нет?
— Не совсем так! — не раздумывая, ответил Игорь
172
Саввович. — Жена как-то сообщила, что можно купить гараж. Я сказал: «Покупай!»
Почему так горячо и страстно цеплялся за какой-то гараж следователь Селезнев, когда ему полагалось изматывать Игоря Саввовича вопросами о ночной драке: кто начал первым, почему начал, каким образом начал? А Селезнев неразумным бараном уперся в историю покупки гаража, из-за этакой пустяковины накричал на подследственного, оскорбил его, одним словом, напортачил так, что пришлось извиниться. На кой ляд сдался Селезневу гараж в переулке Пионерском, купленный Светланой для своих «Жигулей»?
— Прочесть записанное? — спросил Селезнев.
— Не надо! — Игорь Саввович пожал плечами. — А вопрос к вам допустим, товарищ следователь?
— Пожалуйста!
Игорь Саввович благожелательно мерцал ресницами и, кажется, даже улыбался.
— Было бы неплохо, если бы мне разъяснили, какое отношение к ночному происшествию имеет гараж? — спросил он. — Может быть, и вам стало бы проще работать? Объясните, если можно!
Подперев подбородок левой рукой, медленный и настороженный следователь смотрел на Игоря Саввовича так, словно не верил, что перед ним сидит живое существо, способное видеть, слышать, думать и чувствовать. И длилось это долго, возможно, целую минуту, затем Селезнев полушепотом спросил:
— Никого и ничего не боитесь? Уверены, что инспектор дорожного надзора, узнав машину вашей жены, опять трусливо уйдет?
Ишь ты! Знает о дорожной пробке на Воскресенской горе и, значит, не зря потратил три дня и четыре ночи.
— Чувствуете полную безопасность за спиной могущественного тестя? — продолжал яростным полушепотом Селезнев. — Крепче брони, надежней стали! Хотите свалить вину на дочь Карцева! Абсолютно уверены, что я встану на цырлы и покину место происшествия? Ошиблись, Гольцов!..
В полуприкрытых глазах следователя блеснуло торжествующее и яркое, рот сделался тонким и решительным, голос на последней фразе прозвучал по-прокурорски. Он встал, по-солдатски выпрямился, торжественно произнес:
173
— Гражданин Гольцов, я возбуждаю дело по статье 148 Уголовного кодекса РСФСР.
Селезнев монотонным голосом договорил положенное в этих случаях, не посмотрел ни разу на Игоря Саввовича, сел и снова уставился на перо автоматической ручки — старой и плохой. Перо ему не понравилось, Селезнев досадливо поморщился, встряхнул ручку и буднично, скучно проговорил:
— Итак, вы утверждаете, что ваша жена Светлана Ивановна Гольцова произвела покупку гаража. Так?
Дело возбуждено, пишется протокол, но Игорь Саввович по-прежнему не понимал, какое отношение к ночной пьяной драке имеет история и факт покупки гаража. Почему? Ну, почему? Игорь Саввович напряг память... Прибежала откуда-то радостная и запыхавшаяся Светлана, торжественно объявила, что нашла гараж, сморщив озабоченно лоб, сообщила, что нужна тысяча рублей; сидящий над ремонтом очередных необычных часов, Игорь Саввович сказал, что деньги есть, если временно забыть долги за машину: две тысячи его матери Елене Платоновне и тысячу родителям Светланы. Жена умоляюще сложила руки на груди, он посмотрел на нее снисходительно и сказал, что Елена Платоновна может подождать: «Покупай, Светка, гараж! Мама потерпит!..» Это было полтора года назад.
— Повторяю показания! — сказал Игорь Саввович. — Утверждаю, что гараж купила жена, я только отдал деньги...
— Гелию Макаровичу Фалалееву... Сыну дворничихи?
— Возможно, что и названному вами гражданину...— Игорь Саввович наблюдал за дрянным пером старой авторучки.— Покупкой гаража я не занимался совсем, так как машиной не пользуюсь. На ней ездит жена...
— Не умеете водить?
Игорь Саввович улыбнулся.
— Умею! — сказал он. — Умею, но больше не хочу возиться с карбюраторами и сцеплениями...
Опять двадцать пять! Ну, буквально дрожал от ненависти к Игорю Саввовичу следователь Селезнев, похожий на какого-то давным-давно забытого, но близкого, хорошо знакомого человека. Дрянное перо авторучки оставило на протокольном листе кляксу, злобно пронзило бумагу и чуть не сломалось.
— Отвечайте, пожалуйста, только на прямые вопро¬
174
сы, — сказал Селезнев, вытирая со лба пот. — Итак, машину водить умеете?
— Умею.
— Но никогда, как утверждаете, не садились за руль «Жигулей» под государственным номером 00-07 РОГ?
— Никогда.
...На семнадцатом году жизни мать Елена Платоновна и отец Савва Игоревич подарили сыну старую, но. безотказную «Победу», которую дешево купили в военном округе, когда военные власти распродавали устаревший автомобильный парк. «Двадцатый век — век техники! — торжественно сказал Савва Игоревич, передавая сыну ключи от «Победы». — Нужно с молодых ногтей ладить с инженерией... Будь осторожен, Игорь, и сделай любезность быть не только всадником, но и конюхом. Изучи машину!» А дальше все происходило само собой. Через два года Игорь продал «Победу» и купил «Москвич» последней марки, а на втором курсе института — родители добавили тысячу ;— завел голубую «Волгу». Он был одним из восьми студентов лесотехнического, имеющих собственный автомобиль...
— Так! Хорошо!
Посадив еще одну кляксу, Селезнев закусил губу.
— Теперь скажите, гражданин Гольцов, как случилось, что заявление на постройку гаража подписано вами?
Игорь Саввович выпрямился, исподлобья посмотрев на Селезнева, поднялся.
— Что? — отрывисто спросил он. — Заявление подписано мной?
— Ваша подпись?
— Моя!
Заявление, напечатанное на машинке с мелким шрифтом, было написано на имя председателя исполкома Кировского района города Ромска товарища Маляр- ко, и, наверное, почерком председателя на уголке было написано: «Разрешить застройку», и под заявлением — Игорь Саввович глазам своим не верил — стояла размашистая подпись: «И. Гольцов». Он смотрел на бумагу как завороженный и ничего не понимал. Когда он подписал заявление? Отчего не помнит самого заявления? Кто его, наконец, писал, если первая фраза была такой: «В марте месяце мной приобретена машина...»
175
Игорь Саввович был достаточно грамотным человеком, чтобы не писать «в марте месяце», так как март сам по себе месяц...
— Слушайте, гражданин следователь... — Игорь Саввович остановился. — Я должен сделать серьезное заявление...
— Слушаю ваше заявление...
Двери кабинета по-хозяйски распахнулись, раздался стук подкованных сапог, Селезнев вскочил, вытянулся. Первым в кабинет неторопливо вошел полковник Сиротин, за ним пожилой майор. Это его сапоги гремели стальными подковками, так как лакированные, совершенно новые мягкие туфли Сиротина стучать не могли. С заложенными за спину руками полковник остановился в трех метрах от дверей, вежливо покивал и засмотрелся на стены кабинета.
— Товарищ полковник, старший лейтенант Селезнев... — начал следователь, но приятель Игоря Саввовича полковник Сиротин милостиво поднял руку, остановил его:
— Знаю, знаю! Об этом деле мне докладывали! — и повернулся к майору. — Федор Евстигнеевич, а побе- лочку-то служебных помещений не везде произвели... Не везде, ох, не везде побелочку-то произвели! Думаешь, высшее начальство только в свои барские кабинеты заглядывает?
Мать честная! Сиротин-то был в полной форме, в которой Игорь Саввович его никогда не видел. Оказывается, Митрий Микитич носил не милицейскую форму, а общевойсковую, так как был полковником внутренней службы. Наконец Игорь Саввович впервые видел боевые награды полковника. Бог мой! Грудь Сиротина, выпуклая, походила на радугу: так блестели разноцветные планки к орденам и медалям, сосчитать которые было невозможно. Вот тебе и Митрий Микитич — весельчак, миляга, простецкий мужик, любимец города Ромска и его окрестностей, как полковник сам над собой подшучивал!
Смешной коротышка, круглолицый и багровый от несокрушимого здоровья, стоял в трех метрах от порога полковник Сиротин и презрительно оглядывал стены кабинета, очень недовольный почтительно стоящим за его спиной майором.
— Побелить надо, майор, — наконец сказал Митрий Микитич. — Десяти дней тебе хватит?
176
— Хватит, товарищ полковник! Будет сделано, товарищ полковник!
Со смеху можно было подохнуть, как важничал Митрий Микитич! Интересно, у кого, шельмец, взял напрокат раскатистый бас, где научился строго выкатывать глаза, брюзгливо оттопыривать толстую и добрую нижнюю губу? Нет, это был не Дмитрий Сиротин! Митрий Микитич, разговаривающий на языке обских аборигенов, слова произносил мягко, тенорил, а этот яркий от радуги на груди полковник басил на министерский лад. А как смотрел на следователя Селезнева! Ну кто поверит, что это Митрий Микитич? Хамелеон, а! Участник художественной самодеятельности из деревни Пен- тюшкино.
— Селезнев Юрий Ильич? — продолжая басить, спросил полковник. — Ну и как, товарищ старший лейтенант? Понемножку дело двигается? Ба! Кого я вижу! Игорь Саввович, ты ли это?
Узнав Игоря Саввовича, то есть разрешив себе заметить Гольцова, полковник на привычный тенор не перешел, хотя улыбнулся покровительственно и укоризненно, словно хотел сказать: «Ах, как это нехорошо: сидеть в кабинете следователя Селезнева!»
— Кого я вижу! Кого я вижу! — продолжал полковник Сиротин. — Самого Игоря Саввовича Гольцова! Ах, да, да! А я и забыл, что ты того... Пить надо аккуратнее, Игорь Саввович, пить, говорю, надо меньше — спокойнее будет! Ну, и как делишки, как делишки?
Селезнев по-прежнему держал руки по швам.
— Возбуждено дело! — сказал он.
— Ах-ах-ах! — не то засмеялся, не то закудахтал Сиротин. — Да я еще на пороге понял, что дело-то вы возбудили... — И резко повернулся к майору. — Слушай, Федор Евстигнеевич, так за десять дней произведешь побелку?
— Успею, товарищ полковник.
Дмитрий Никитич Сиротин сделал четкий полуоборот к дверям.
— Продолжайте работать, товарищ старший лейтенант!
Трескучее раскатистое «р» и запах крепкого одеколона оставил в кабинете полковник Сиротин, которого следователь Селезнев проводил длинным задумчивым взглядом. Подковки майорских сапог уже отбарабанили свое по коридору, а Селезнев все стоял по стойке
12 Виль Липатов, том 4
177
«смирно». Красиво стоял, добротно, умело, с ефрейторским шиком и лихостью, а вот глаза у следователя были, как подумалось Игорю Саввовичу, «нестроевыми». Еще несколько длинных секунд он стоял неподвижно, потом вернулся к столу, подумав еще немножко, опустился на стул — усталый и грустный, незамысловатый и простецкий, растерянный и униженный. Теперь было абсолютно ясно, что Игорь Саввович много раз встречался с Селезневым, знал его хорошо, но когда и где они встречались, забылось так же прочно, как подпись на заявлении о гараже.
— Мы остановились, мы остановились... — бормотал Селезнев. — На чем же мы остановились?..
Игорь Саввович тоже притих. Что все это значило? Расспросы о гараже, неожиданное появление полковника, явно встревоженного ходом дела и пытающегося открыто смутить Селезнева? Неужели Митрий Микитич не верит, что на Игоря Саввовича напали? Отчего надо напяливать мундир, когда полковник сам утверждал, что Селезнев — человек порядочный и дотошный? Что происходит, а?
— Мы остановились на том, что я умею водить машину, — сказал Игорь Саввович. — Поэтому вы не верите, что я не пользуюсь «Жигулями»?
— Да, да, да!
Старая и плохая автоматическая ручка не хотела писать. Селезнев озверело встряхивал ее, стискивал зубы, затылок ощетинился вихорьком, ноздри трепетали, и Игорь Саввович глядел на него презрительно, так как вспомнил, что все — адвокат, жена, полковник — считали Селезнева крепким орешком, а на деле только одно появление петушащегося Сиротина выбило следователя из колеи. Эх, Селезнев! Ты ли это десять минут назад улыбался одними губами — глаза пронизывающие, ледяные, — разыгрывал независимость, безбоязненность, неподкупно прищуривался и задирал подбородок, а после цокота подкованных сапог и трескучего <р» сидел как опущенный в воду?.. Хладнокровней, хладнокровней, гражданин старший лейтенант! Вам за выдержку, мужество, беспристрастность и неподкупность деньги платят, бесплатное обмундирование выдают, хромовые сапоги...
— Допрос сегодня окончен, — не поднимая глаз от протокола, сказал Селезнев. — Свободны до десяти ноль-ноль завтрашнего дня.
178
Лицо Селезнева нельзя было назвать красным от стыда — оно было пунцовым, темно-пунцовым...
Шоферу дяде Васе, который возил на служебной машине Игоря Саввовича, было далеко за шестьдесят, он внешне был точно такой, какими бывают шоферы-профессионалы с большим стажем: слегка полный от вечного сидения за баранкой, широкий, как говорят, кряжистый; лицо загорелое, рукава рубашки засучены по локоть. Вдобавок к этому дядя Вася имел лохматые брови, умные глаза, сосредоточенный нахмуренный лоб человека, научившегося молчать сутками... Сейчас дядя Вася сердился.
— Машина, говорю, ждет! сказал Он. Машина готова...
Дядя Вася обиделся на Игоря Саввовича за то, что «шеф» утром не вызвал его из гаража, а на троллейбусе ездил в больницу и пешком добирался до райотдела милиции. Это было предательством, так как в ожидании вызова дядя Вася в гараже ходил из угла в угол, помирая от скуки, и теперь, когда Игорь Саввович вызвал его, продолжал сердиться.
— Куда поедем, Игорь Саввович?
— В городскую больницу.
Черная «Волга» устаревшей модели, но еще совсем новая, бесшумная, до сих пор вкусно пахнущая нитролаком и обивкой сидений, помчалась с бешеной скоростью, хотя Игорь Саввович не торопил. Дело в том, что шофер дядя Вася, бывший таксист, никак не мог отучиться «жать на всю катушку», и машина летела стремительно, лавируя по каким-то тайным, известным только опытным водителям переулкам, где дядя Вася не останавливался даже на красные светофоры, так как автоинспекция здесь бывала только в определенные часы... Пять-семь минут, и дядя Вася резко затормозил у кирпичных ворот областной больницы.
— Заезжать? — негромко спросил он. — После двенадцати ворота открыт ы...
Два года тому назад шофер Василий Васильевич Субботин захотел пенсионной тишины и покоя, но долго не высидел; пошел на «непыльную» работу к Игорю Саввовичу Гольцову, именно к Гольцову, с которым познакомился случайно, когда катал по городу веселую компанию.
— Оставайтесь здесь, дядя Вася! — сказал Игорь Саввович. — Заезжать не будем...
Модерновой, состоящей сплошь из металла и стекла, была новая областная больница. Насквозь просматривался вестибюль, виднелись с улицы лестничные марши,, солнце заливало снаружи и изнутри все, что можно было залить, и, наверное, от этой сквозной прозрачности, от солнечной неистовости подчеркнуто одинокой казалась темная фигура старика, сидящего на последней ступеньке низкого крыльца. Старик был таким маленьким, что трудно было предположить в нем отца почти двухметрового Бориса Иванова, и сидел он на крыльце в той же позе, в какой сидел в десятом часу, когда Игорь Саввович заезжал в больницу.
— Как дела? — спросил Игорь Саввович, стараясь не смотреть на старика. — Есть новенькое?
Отец Бориса Иванова не пошевелился, на Игоря Саввовича тоже не посмотрел, но ответил:
— А кто его знает, как дела? У них, этих врачей, ничего не поймешь! Вот как дела!
Старик вздохнул, зябко пожал плечами и покачал головой.
— Кто его знает, как дела! — продолжал он. — Кто говорит — помирает, а кто — живой... У них не понять, у этих докторов...
В единственном темном уголке вестибюля, где на стеклянных стенах висели огромные и яркие плакаты на медицинские темы, Игорь Саввович увидел мать Бориса Иванова, тоже маленькую и худую.
— У них не понять, у этих докторов...
Гардеробщица быстро протянула Игорю Саввовичу
короткий халат, он торопливо накинул его на плечи, перешагивая через две ступеньки, поднялся на третий этаж. Молоденькая медсестра метнулась, чтобы преградить ему дорогу, но тут же отступила, словно он был прокаженным или, наоборот, невообразимо высоким начальством... Синтетическая мягкая дорожка; двери, двери, двери; белые халаты, много белых халатов и — тишина, настоящая больничная тишина, сравнить которую ни с чем невозможно.
Возле дверей с табличкой «Заведующий кафедрой К. Я. Чернышов» Игорь Саввович задержался, поправил халат, задрав подбородок, решительно постучал, и буквально в эту же секунду дверь с бешеной энергией распахнулась, на пороге в угрожающей позе выросла старшая медсестра, знакомая Игорю Саввовичу по утреннему визиту. Разозленная, надменная, она выпятила
180
и без того выпяченную грудь, открыла рот, чтобы отчитать неизвестного за появление в неурочный час, но вдруг попятилась и заговорила:
— Ах, это. вы!.. Еще раз здравствуйте, товарищ Гольдов!
Она глядела на Игоря Саввовича так, как глядели, наверное, московские поклонницы на актера Вячеслава Тихонова после двенадцатой серии фильма «Семнадцать мгновений весны». Вот какую «славу» принесла ему победа над троими в Пионерском переулке.
— Сюда, пожалуйста!
Белые стены, стулья, столы, шкафы; белые халаты и шапочки, запах больницы — знакомое, волнующее для Игоря Саввовича, который все-таки был и оставался докторским ребенком. Осматриваясь, он поймал взглядом что-то постороннее, мешающее, не больничное — это сидела, положив одну капроновую ногу на другую, жена Игоря Саввовича. Халат с плеч Светланы сполз, открыв цветной костюм — яркий, слишком яркий на белизне и стерильности профессорского кабинета. Мало того, в левой руке Светлана неосознанно изящно держала длинную сигарету и завороженно глядела на профессора Чернышова, который тоже — неумело и смешно — держал в пальцах правой руки сигарету. Это значило, что Светлана испросила разрешения закурить, получив согласие, угостила сигаретой профессора, а он, как человек галантный, хоть некурящий, от сигареты отказаться не мог. Теперь профессор Чернышов морщился от сигаретного дыма.
— А, Игорь Саввович! Здравствуйте! Садитесь!
Высокий, длинноволосый, аристократически поджарый, с великолепным цветом моложавого лица, профессор Чернышов трудолюбиво сидел на обыкновенной больничной табуретке.
— Садитесь, бога ради, Игорь Саввович! — профессорским басом с профессорским величавым благодушием прогудел он. — Это ведь только у хирургов правда в ногах.
Чертовски раздражал яркий костюм жены, блестящие от волнения глаза, капроновые ноги, сигарета в отставленной руке. Конечно, Светлана примчалась к профессору прямо из института и опять собиралась вернуться в институт, глупо было бы специально заезжать домой переодеваться, и все-таки она мешала, казалась лишней и ненужной в кабинете профессора. Она
181
походила на черную «Волгу», на которой Игорь Саввович не мог подъехать к вестибюлю, где на нижней ступеньке сидел маленький старик, оцепеневший от горя.
— Ну-с, Игорь Саввович, — самодовольно пробасил профессор, — считаю операцию излишней. Сделали все, что могли, и, может быть, чуточку больше. — Он сверкнул глазами, как провинциальный трагик в патетический момент. — Правда, есть тревожные моменты и... моментики! Нехорош низкий гемоглобин, скверный тонус, прошлый травматизм...
Светлана сделала такое движение, словно хотела вскочить, но вовремя удержалась.
— Понимаешь, Игорь! — возбужденно проговорила она. — Выяснилось, что около года назад Иванов перенес сотрясение мозга, и тоже в результате драки... Об этом рассказали Константину Яковлевичу родители Иванова.
Профессор мягко улыбнулся.
— Сотрясение мозга, Светлана Ивановна, мы диагностировали сами, а родители больного только подтвердили оче-вид-ное! — Он взял со стола несколько рентгеновских снимков разных форматов, повернувшись к окну, стал разглядывать их на просвет. — Удар в лобную часть, вероятнее всего, был нанесен металлическим предметом, может быть, кастетом... Он фрукт, этот ваш Борис Иванов! — Профессор помолчал. — И все-таки повторяю: положение серьезных последствий вызвать не должно...
Раздражение вызывала у Игоря Саввовича жена, до сих пор не догадавшаяся сменить позу или хотя бы одернуть юбку: наглым выглядело круглое колено. Игорь Саввович поморщился, поерзал на табуретке и начал сосредоточенно смотреть на свои загорелые сильные руки. Собственно говоря, в профессорском кабинете ему делать было нечего, совершенно нечего — и сейчас, и утром, и вечером, и в любое время дня и ночи. Операция не нужна, Борис Иванов лежит в палате, предусмотрительно с ног до головы истыканный иглами, укутанный бинтами, обвешанный трубками и шлангами. Пожилая опытная сестра следит за пульсом, дыханием, давлением крови...
— Все будет хорошо! — сказал профессор Чернышов, поднимаясь. — Думаю, через день-два Иванов, выражаясь по-простонародному, оклемается.
182
Светлана по больничному коридору шла впереди, и выяснилось, что юбка на ней была обыкновенная, скромная и простая, но раздражение от этого не прошло, а, наоборот, усилилось: «Надо следить за собой!» Игорь Саввович внезапно остановился, круто развернувшись, вернулся к дверям профессорского кабинета, постучал, и как только появилась старшая сестра, улыбнулся ей заманчиво.
— Простите! — сказал он. — Вы Наташа, да? Алла? Вероника, вот кто? А почему вы такая красивая, Вероника?
Улыбка. Короткий нервный смешок; настороженный взгляд в спину уходящей Светланы.
— Вера! — сказала сестра. — Я вас слушаю...
Сестра гортанно смеялась, глядела на Игоря Саввовича открыто призывно, а он, наклонившись к ее уху, чувствуя запах духов, зашептал:
— Даю честное пионерское слово, что даже на дыбе не расскажу... Уверен, что вы записываете звонки к профессору. Дайте мне списочек тех, кто звонил по поводу Иванова. Муж ревнивый?
— Страшно! — ответила сестра, беззвучно смеясь.— Сейчас я дам список...
Она ушла, минут пять отсутствовала, а Игорь Саввович думал, что сестра умна. Она просто-напросто все понимала.
— Вот список. Звоните, Игорь Саввович! — Сестра хорошо улыбнулась. — Перемелется — мука будет... Звоните!
— Спасибо, Вера!
— Не за что, Игорь.
В стеклянный вестибюль Игорь Саввович вышел вместе со Светланой. Пряталась в тени медицинских плакатов крохотная старуха, родившая Бориса последним из пяти детей, сидел на бетонной ступеньке крохотный старик, а на город — вот новость! — наползала веселая и шустрая туча непонятного происхождения. Двусмысленная была туча, из тех, что могла просто поиграть с горожанами в кошки-мышки, но могла разразиться коротким, свирепым ливнем с громами и молниями. Воздух был душен, влажен, и очень хотелось дождя.
— Все хорошо, Семен Леонтьевич! — сказал Игорь Саввович маленькому старику. — Скоро Борис поднимется... Вы бы шли домой, отдохнули...
183
Старик сидел в прежней позе.
— У них, у врачей, — проговорил он, — всегда ничего не понять...
Отходя от крыльца, Игорь Саввович спиной чувствовал, что старик вот так, сжавшись в комочек, опустив голову, оцепенев, способен просидеть на нижней ступеньке до той минуты, пока не выйдет из стеклянного вестибюля здоровый сын или не вынесут на парусиновых носилках труп.
Светлана по новой, черной еще, асфальтовой дорожке шагала осторожно, чтобы не цокать деревянными подошвами сабо, а правой рукой нервно шарила в лакированной сумочке. Искать неизвестное она начала еще на крыльце больницы, ничего не нашла и вот продолжала шарить на ощупь, не догадавшись остановиться и заглянуть в сумочку. Наконец что-то звякнуло, Игорь Саввович покосился, увидел, что Светлана держит в пальцах ключи от «Жигулей», но вид у нее такой, словно жена об этом и не догадывается.
— Пошли, пошли! — сказал Игорь Саввович.
Шофер дядя Вася держал машину в тени высокого
больничного забора, и, направляясь к нему, Игорь Саввович услышал, как опять звякнули ключи от «Жигулей». Он повернулся к жене, удивленно посмотрел на нее и еще больше удивился, когда не увидел машины Светланы.
— Ты без автомобиля? — спросил он. — Почему?
Она исподлобья посмотрела на него, молча помотала головой.
— Почему без машины? — упрямо спросил он. — Она исправна?
— Исправна, — тихо ответила Светлана. — Исправна... Поехали!
Игорь Саввович теперь внимательно прислушивался к уже заведенному мотору машины дяди Васи, чтобы успокоиться, подавить новую вспышку раздражения и неприязни к бветлане. «Что происходит? — думал он нарочито медленно. — Следователь расспрашивал о гараже, жена отказалась от машины...»
— Почему не пользуешься машиной?
Светлана коротко вздохнула, переступила с ноги на ногу. Он задохнулся от злости: «Дура стоеросовая! Кретин поймет, что истерики и слезы меня окончательно добивают! А ей все позволительно, черт подери!»
184
— Василий Васильевич, меня в трест, Светлану Ивановну — в институт.
— Игорь! Послушай, Игорь... Надо сначала заехать домой.
— Зачем?
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
По лестнице и трестовскому коридору Игорь Саввович тащился черепахой, ощущая себя больным, больным окончательно, то есть так, как это обычно случалось по понедельникам, когда после двух свободных дней приходил к девяти часам на работу. А сегодня старуха вахтерша, сидящая праздно между этажами, посмотрела на него испуганно: «Это чего же ты такой плохонький?» В приемной секретарша Виктория Васильевна поднялась, поджала губы, не зная, что сказать, что сделать.
— Жарко очень! — пробормотала она. — Ждали, ждали дождя...
Его растерянность, боль, усталость, плохо спрятанное отчаяние — все было отражено на полном весноватом лице Виктории Васильевны, и подумалось, какой хороший, сердечный, работящий и беззаветно преданный делу человек Виктория Васильевна... Игорь Саввович грустно улыбнулся, так как не знал фамилию секретарши, с которой работал четвертый год.
— Три раза звонил Сергей Сергеевич, — сказала Виктория Васильевна. — Он, кажется, через час вылетает. — Она вздохнула. — Тревожно мне за Сергея Сергеевича. Два инфаркта, а он... Голос дрожит, заикаться начал...
Игорь Саввович прошел в кабинет, бесшумно сел на рабочее место, побыв две-три минуты в полной неподвижности, с презрительной улыбкой вынул из кармана четвертушку бумаги с именами тех, кто звонил в областную больницу, чтобы справиться о состоянии Бориса Иванова.
Полковник Сиротин,
помощник первого заместителя председателя обл-. исполкома Павел Николаевич Дрынин,
прокурор города,
прокурор Кировского района города Ромска,
185
секретарь обкома партии по промышленности Цу- касов,
помощник первого секретаря обкома партии,
. управляющий трестом Николаев, генерал Попов,
председатель Кировского райисполкома Малярко, ректор Черногорского медицинского института Гольцов,
заведующая кафедрой хирургии Черногорского медицинского института Гольцова-Веселовская, главный инженер треста Валентинов, доцент Ромского пединститута Гольцова,
Гелий Макарович Фалалеев,
актриса областного драматического театра Голубкина,
начальник планово-экономического отдела треста Ромсксплав Маргарита Васильевна Хвощ...
Оказалось, что в кабинете не так тихо, как почудилось после уличных оголтелых шумов; что-то загадочное произошло с комнатой, которую Игорь Саввович ценил за глухую благодатную тишину: катилась за окном волна металлического автомобильного гула, который, казалось, качался, вздувался, опадал и опять набухал, — это работали уличные светофоры.
— Полковника Сиротина! — набрав телефонный номер 02, холодно потребовал Игорь Саввович. — Если нет в кабинете, поищите по городу. Гольцов говорит...
Сиротин оказался в приемной генерала Попова, зная, что по этому телефону его могут услышать многие, негромко проговорил:
— Привет, Игорь Саввович! — Тихий и печальный голос, хрипотца в прокуренных легких, вялость и раздражение. — Я тебя слушаю, Игорь Саввович!
— Когда мы сможем повидаться, Дмитрий Никитич? Хорошо бы вечером.
— Решено! — Полковник, кажется, облизал сохнущие губы. — Тебе известно, что вечером прилетает Валентинов?
Ладушки! Но вот уж совсем непонятно, зачем прерывал командировку главный инженер Валентинов? Чем мог помочь своему заместителю теоретик, философ, живущий в небесах и выше, аристократ и чистюля Валентинов? Изрекать сентенции типа: «Пьянство — результат духовной и творческой пустоты!», «Пьянство — проявление мелкобуржуазной стихии!» А кроме всего
186
прочего, есть опасность столкнуться с бывшей женой, матерью единственного ребенка, чего, впрочем, Валентинов знать не может.
— До вечера, Дмитрий Никитич!
— Вечером буду, Игорь Саввович!
Не с кем поговорить, посоветоваться, выплакаться в жилетку. Светлана только вздыхает и проливает слезы, что-то скрывает от мужа, боится чего-то непонятного; полковник Сиротин почему-то так волнуется за него, что занимается гнусными провокациями. Скоро прилетит мать, видеть ее не хочется, почему — непонятно тоже. Черт бы побрал этот гул за окном! Почему раньше казалось, что улица с ее шумами отрезана от мрачного кабинета, похожего на келыо влиятельного монаха?
— Виктория Васильевна, когда прибывает самолет из Черногорска?
— В пять сорок две, Игорь Саввович.
— А самолет Сергея Сергеевича?
— В шесть пятнадцать.
— Рейсы не задерживаются?
— Через несколько минут выясню, Игорь Саввович.
— Будьте любезны!
Он заставил себя думать о следователе Селезневе... Во-первых, почему Игорю Саввовичу кажется, что он давным-давно знаком с ним, Селезневым, во-вторых, отчего следователь так упорно интересуется гаражами? По Малинину и Буренину, по таблице умножения выходило, что связь могла существовать в единственном случае, если на него, Гольцова, напали из-за гаража. Почему? Какое отношение к делу имеет Голубкина — кривоногая бездарная актриса с усиками на верхней губе?
— Игорь Саввович, докладываю! Пока рейсы идут по расписанию... Позвольте от себя? Черногорский рейс всегда задерживается.
— Спасибо!
Ля-ля-ля! Мать и Валентинов встречаются — представьте себе! — возле выхода с летного поля, не сразу узнав друг друга, тем не менее мучительно замираютз «Где я видела этого седовласого мужчину?», «Где я встречал эту женщину, такую прекрасную?..» Усмехнувшись, Игорь Саввович поднялся, причесал густые и длинные волосы перед зеркалом, приосанившись, вышел в коридор-траншею.
187
Фланирующей, предельно легкомысленной походкой, с фатовской улыбкой на лице, громко печатая шаг, двигался Игорь Саввович по трестовскому коридору. «Сейчас узнаем, что ждет в недалеком будущем такого хорошего человека, как Игорь Гольцов! — насмешливо думал он. — Общество — лучший барометр!» Первым на него наткнулся бегущий с кипой бумаг в руках главный бухгалтер треста — остолбенел от неожиданности, растерянно улыбнулся и забыл поздороваться, глядя дико: «Вы еще не в тюрьме?» Игорь Саввович изысканным жестом протянул бухгалтеру руку, с особой теплотой пожал его руку, но ничего не сказал, а только многозначительно приподнял левую бровь... Из дамского туалета павой выплыла сотрудница отдела главного технолога Валерия Маркизовна Соколова. Увидев Игоря Саввовича, бойкая дама траурно втянула щеки, оскудела здоровьем и низко опустила голову. Рад вас видеть, Валерия Маркизовна!
Больше никто Игорю Саввовичу в коридоре не встретился. На полную мощность, ни на секунду не останавливаясь, дребезжа арифмометрами, поцокивая электронно-счетными аппаратами, треща клавишами пишущих машинок, шурша бумагой, крича в телефоны, хохоча над анекдотами, волнуясь над кроссвордами, крутилась и вертелась на полном ходу хорошо смазанная и отрегулированная карусель, крупный лесосплавный трест. И третьим по могуществу лицом в этой карусели был Игорь Саввович Гольцов — теперешний хулиган и пьяница.
Он подошел к дверям с табличкой «Начальник планово-экономического отдела М. В. Хвощ», насмешливо выпятив нижнюю губу, тихо-тихо, словно хотел накрыть за предосудительным делом хозяйку кабинета, открыл двери. Кто его знает, может быть, некая М. В. Хвощ отгадывает кроссворд или — того хуже! — вяжет свитер с высоким горлом?
— Здравствуй, Рита! — негромко поздоровался Игорь Саввович. — Где живешь? Не в гостинице?
Он вынул из кармана ключи от Ритиной квартиры, которые случайно положил в карман, когда уходил от нее на рассвете.
— Я рассеянный, но — увы! — не гениальный...
Все-таки поразительно красивой женщиной была Рита Хвощ! Этот классический овал лица, гладкая фарфоровая кожа, зубы знаменитой кинозвезды. А глаза, гла-
188
за! Умные, добрые, ироничные, все понимающие, все знающие, и в кабинете Риты, как и в ее квартире, все было красивым, простым, интеллигентным.
— Здравствуй, Игорь! Сядь, пожалуйста! Мне хочется с тобой поговорить.
Пахло Ритиными духами, единственными; такими не пользовалась ни одна из знакомых Игорю Саввовичу женщин, запах воскрешал в памяти вечер, ночь, Риту, спящую с блаженной улыбкой, хотя он-то, Игорь Саввович, думал, что женщина его возненавидела, а утешала потому, что была добра. Он смотрел на нее, полуголую, блаженную, бесшумно пятился и, наверное, тогда-то и положил в карман ключи от Ритиной квартиры.
— Сел! — сказал Игорь Саввович. — Забавно вышло с этими ключами, а?
Тогда, в субботу, Рита с такой нежной жадностью и зрелой опытностью набросилась на Игоря Саввовича, что он испугался — прекрасного ее тела, нежных слов, непонятных слез, бредового: «Бедный, бедный, бедный!» От страха он опустошился, взволнованный и дрожащий, гладил ее фарфоровую кожу, стискивал губы. «Игорь, ты просто чудо, Игорь!» А он боялся все больше и больше и, наконец, сдался окончательно...
— Я сижу! — стараясь глядеть в лицо Риты, повторил Игорь Саввович. — Вот ключи.
Рита смотрела на него грустно, горько.
— Как жалко и как обидно, — сказала она,— что мало людей знают, какой ты хороший человек, Игорь! Не криви губы, не старайся казаться циником. — Она страстно потянулась вверх, хотя продолжала сидеть на месте. — Ты не знаешь и знать не можешь, как я понимаю тебя... — Рита зажмурилась, точно в глаза ударили солнечные лучи. — Я пережила с тобой лучшую ночь в моей жизни, хотя ты до сих пор боишься смотреть мне в глаза... Дурак! Мальчишка! Тебе шестнадцать, а не тридцать... Куда я смотрела раньше, когда ты еще не женился? — Она сцепила руки, хрустнула пальцами.
Рита наконец поднялась, подошла к стенке, оперлась спиной. Смотрела в окно, смотрела долго, потом сказала:
— Я люблю тебя.
Она опять закрыла глаза, и это длилось опять долго, наверное, минуту.
189
«А я люблю Риту?» — спросил себя Игорь Саввович, но вместо того, чтобы ответить на свой же вопрос, быстро проговорил:
— Слушай, Рита, а ты не знаешь, как мне жить дальше?
Вопрос был дурацкий, Игорь Саввович, услышав себя как бы со стороны, уловил в собственном голосе наивную детскую интонацию и, конечно, подумал о том, что Рита права: в ее присутствии он ведет себя по-особенному, точно женщина много старше его и много умнее. И это отчего-то не обидно, а, напротив, хорошо.
Рита открыла глаза, но смотрела по-прежнему в окно.
— Как тебе жить, Игорь? — повторила она. — Брось все!.. Брось все и уезжай! На сплавучасток, на валку леса, заведовать пивным ларьком — только уходи, уезжай, убегай!.. Начинай жить сначала! Ты слышишь меня, Игорь? Все и всех бросай! Себя, жену, меня, работу — немедленно!
Рита пошла к Игорю Саввовичу, стоя на расстоянии вытянутой руки, начала жадно разглядывать его губы, глаза, подбородок, и вид у нее был такой, словно Рита хочет проверить, тот ли человек стоит передней, о котором она говорит.
— Все надо начинать сначала, Игорь! — повторила она. — Прости за пышную фразу, но ты потерял себя...
С опущенной головой, с таким ощущением, словно волочил за собой тяжелый от длины и золота шлейф, Игорь Саввович пошел к дверям. Ему надо было оглянуться, как-то особенно посмотреть на Риту, но она быстро сказала: «Не вздумай!» — и он вышел, и произошло чудо — двери сами за ним закрылись, хотя никаких специальных пружин не было. «Я похож теперь на двугорбого верблюда! — с усмешкой подумал Игорь Саввович. — Был одногорбый, стал двугорбый».
— Ладушки!
На одно плечо-горб Игоря Саввовича навесили «Дело по обвинению...», на второе плечо — любящую его женщину по имени Маргарита Васильевна Хвощ. Что оставалось делать после этого, если не вышагивать по коридору-траншее именно двугорбым верблюдом? Голова задрана, ноги прямые, глаза тусклые, губы брюзгливые. Шел он к дверям кабинета, на которых висела написанная от руки и потому франтоватая табличка «От¬
190
дел новой техники». Ее более четырех лет назад изготовил Игорь Саввович, разноцветную, с двумя виньетками. От времени ватман посерел и скоробился, но табличка все равно была яркой.
— Здравствуйте, друзья! — лихо проговорил Игорь Саввович, входя в отдел новой техники. — Ба-ба! Народ в полном сборе! Добрый день, Николай Егорович! Рад вас видеть, Виктор Леонидович.
Отдел новой техники после ухода Игоря Саввовича совсем не изменился. Работало три человека, осталось — двое, вот и все перемены. Потешный, похожий на кенгуру, головастый Николай Савков, широкий в кости, коротконогий до удивления Виктор Татищев. Он все эти годы исполнял обязанности начальника отдела, так как почему-то нескончаемо долго не решался вопрос о полноправном начальнике: то ждали третьего человека, то Валентинов просил Татищева «подождать еще немножко», когда исполняющий обязанности ставил вопрос, как он выражался, о своем «щекотливом» положении... Игорь Саввович осматривался, приглядывался, ярко и празднично, как и полагалось якобы победителю, улыбался. Он фанфаронил, открыто фанфаронил...
— Давненько я у вас не был, давненько! — проговорил Игорь Саввович и потер руки от удовольствия. — Работа все, знаете ли, работа...
Три маленьких стола, два кульмана, три стены со стеллажами, заваленными книгами, брошюрами, чертежами; непонятного назначения болтами, шестернями, целыми узлами; неразбериха, мусор, который уборщица боялась убирать, чтобы не вымести какую-нибудь шестеренку; окурки повсюду, и при ярком солнце, льющемся из настежь распахнутого окна, горящие электрические лампочки в металлических абажурах, направленные на чертежи. И лозунги, лозунги везде, где только можно, где есть место приколоть канцелярскими кнопками клочок бумаги: «Здесь разрешается вообще!», «Хочешь быть гением — будь им!», «Книги на руки не выдаются. Приобретены таким же способом!», «Трепаться, орать и курить категорически разрешается!» и прочая дребедень, написанная на пожелтевшем от времени ватмане. Все это было начертано Игорем Саввовичем, а выдумано сообща веселой и дружной тройкой ребят из отдела новой техники — самых головастых и бесшабашных во всем тресте.
191
Стол, за которым сидел когда-то Игорь Саввович, пустовал, на нем ничего не лежало, не стояло, не валялось, точно стол был подвергнут табу.
— Присесть разрешите? — спросил Игорь Саввович. — Сяду, скажем, на свое прежнее место...
По-сократовски лобастый Николай Савков заметно волновался, мало того, Игорю Саввовичу показалось, что раза два Савков посмотрел на него своими добрыми телячьими глазами, как бы спрашивая: «Здорово плохо тебе, лорд?» Лордом когда-то прозвали Гольцова зато, что он браво и тонко умел беседовать с вышестоящим начальством. Игорь так держался, например, с управляющим Николаевым, что тот однажды в присутствии всего отдела новой техники прорычал: «Вы не лорд, а инженер, в конце-то концов...»
— А чего народ безмолвствует? — иронически спросил Игорь Саввович; — Заместителю главного инженера полагается выслушивать рапорт о достижениях и недостатках. Могу выслушать...
Игорь Саввович с трудом сегодня узнавал «прогрессиста» Виктора Татищева, который с той минуты, как обменялся рукопожатием с Гольцовым, сел на свое место и напустил на крепкое лицо деревенского рубахи- парня вопросительное и — вот новость! — подобострастное выражение. Такое лицо у Татищева бывало только при его «боге» Валентинове, на Гольцова он четвертый год просто не смотрел, то есть делал вид, что не замечает заместителя главного инженера. А если Игорю Саввовичу удавалось поймать взгляд Татищева, то видел сложное сочетание: «Ты, конечно, карьерист и пролаза, но на твоей стороне сила!» Между тем четыре года назад Виктор Татищев из всех троих в отделе новой техники был самым отчаянным «прогрессистом». Именно он на одной представительной технической конференции сказал с трибуны: «Пока мы догоним финнов по методам и средствам сплава, сплавлять будет нечего. Останется одна степная трава, которая, как поется, пахнет мятой...» Убежденный холостяк, три с половиной года назад Татищев кардинально изменил образ жизни: обзавелся женой, родил девочку, в городе его можно было встретить с авоськой в руках, озабоченного и суетливого. В стенах треста он сделался серьезным, солидным, безулыбочным человеком, оживляющимся только в присутствии Валентинова.
— Ба-ба! — изумленно и с радостью вскричал Игорь
192
Саввович. — И пани Пшебильска жива! Вот не ожидал!
«Пани Пшебильской» в отделе новой техники в прошлые времена называли старую-престарую пишущую машинку «торпедо-верке», которая в отличие от машинки из романа Ильфа и Петрова имела не армянский, а польский акцент: не было буквы «р», зато имелись две буквы «ш». Друзья, то есть Гольцов, Савков и Татищев— они тогда были настоящими друзьями,— развеселились, решили шрифт не исправлять и специально изощрялись в составлении таких вот фраз: «Шешитель- но пшотестуем пшотив шешения вопшоса о кошбю- шатоше...»
Игорь Саввович осмотрел машинку — буква «р» стояла на месте. Поставили, а! Это была, наверное, самая крупная революция в отделе новой техники за четыре с лишним года.
— Обрусела пани Пшебильска! — сказал бодро Игорь Саввович, он понял, почему так необычно вел себя «прогрессист» Татищев. — Молодец пани, добже пани!
Машинка, то есть «пани Пшебильска», взволновала Игоря Саввовича... Нет, не было того восторга и ощущения полета, которое он испыгал в Коло-Юльском ельнике, но сладкая тоска по прошлому туманила голову. Хотелось сидеть и сидеть, обложившись книгами, скрипеть противовесами кульмана, ходить по трестовскому коридору с высоко поднятой головой человека, знающего далекое и близкое будущее треста. Молодостью, озорством, весельем веяло от стен, стеллажей, столов и ярких лампочек. «Почему я ушел отсюда? — спросил себя Игорь Саввович. — Кто лишил меня права ходить по коридорам с поднятым носом?»
— На мне ничего не написано? — смешливо сказал Игорь Саввович, обращаясь к Виктору Татищеву. —Отдел новой техники — заповедник главного, а я отлучен от вас, дружки хорошие. Рапорты, естественно, принять могу, но тут же забуду, так как пришел тряхнуть стариной: потрепаться за жизнь...
Виктор Татищев давно и страстно хотел быть полноправным начальником отдела новой техники, а сейчас, глядя подобострастно на Игоря Саввовича, не мог управиться с дрожащими руками. Для него зарницей вспыхнул на темном горизонте тонкий лучик надежды. Кто знает, не займет ли кресло Гольцова его коллега из
13 Виль Липатов, том 4
193
отдела новой техники? Он, Татищев, за три с лишним года прошел такой подлый и гадкий путь, что всякий порядочный человек руку подать ему не хотел, и только такая наивная и добрая прелесть, как Колька Савков, ничего не замечал, не знал даже, что раз в месяц, не реже, Татищев осаждал главного инженера Валентинова просьбами и напоминаниями о переводе из статуса и. о. начальника в полноправного начальника»
— Престранная история со мной случилась, господа! — сказал Игорь Саввович. — Меня сегодня потянуло к вам, как преступника тянет на место преступления. — Он щедро улыбнулся. — Более того... Мне вдруг захотелось из первых рук узнать, за что меня поносят и не любят, презирают и считают подонком мои недавние друзья из отдела новой техники? Напоминаю, что при формировании отдела из восьми кандидатур я хотел работать — простите за амикошонство! — только с Витькой Татищевым и Колькой Савковым. И они, то бишь вы, стонали от восторга, что наша институтская тройка могла опять соединиться...
Так и было. С Николаем Савковым он учился на параллельных курсах, Витька Татищев был на курс старше, но они дружили, дружили умеренно, по-студенчески, без охов и ахов, весело, чуточку хмельно, не слишком часто встречаясь из-за студенческой перегруженности.
— Прогрессисты молчат! — спокойно констатировал Игорь Саввович. — Коленька Савков смотрит в потолок, Виктор Татищев полон загадочной подобострастности. — Игорь Саввович вдруг сделался деловитым, точно навозный жук, катящий шар в нору. — Буду тогда задавать вопросы, а вы отвечайте мычанием или легким свистом. Мычание — это «да», свист — «нет»! Договорились?
Окно кабинета новой техники тоже выходило на глухую, без окон и дверей, стену архива. Скучным был пейзаж, глаз не радовал, настроение не поднимал. Игорь Саввович покосился на кирпичную стену архива, подумал про себя: «Пропадать, так с музыкой!» — а вслух сказал:
— Первый вопрос: добивался ли я вольно или невольно поста заместителя? Не мычите и не свистите? Отлично! Неужели вы забыли, что я месяц не соглашался идти в замы, чтобы не разлучаться с вами, и только опасность, что в кресло зама сядет дурак и карьерист Восков, заставила меня пойти на уговоры, при-
194
чем вы оба — оба! — настойчиво орали, чтобы я становился замом. Было это? О, Савков мычит!
Разглядывающий грязный потолок Савков на самом деле мыкнул и повернулся к Игорю Саввовичу. Татищев никак не изменился, иезуит проклятый!
— Перехожу ко второму вопросу... Кто требовал, чтобы я не морочил голову хорошей бабе Светке Карцевой, а женился на ней? Тогда ихний папенька были захолустным районным начальством... Ну, кто откажется от своих слов? Не отказываетесь? Виктор Татищев, ты требовал, чтобы я женился на Светлане, хотя я советов не просил? Да или нет?
— Да! — сказал Татищев.
— Расчудесненько! Последний вопрос. Кто меня на всех перекрестках называет карьеристом и альфонсом? Савков? Татищев?
Спасибо Савкову! Сидел с опущенной головой, грустный и потерянный, а вот Татищев снова никак не изменился — хранил издевательски подобострастное выражение на круглом лице.
— Полгода назад я получил письмо в письме, — краснея и глядя в пол, проговорил Игорь Саввович. — Первое письмо, внешнее, так сказать, было адресовано мне, второе — некоему Хромцову Юрию Борисовичу в город Тюмень. — Он вынул из кармана измятое письмо полугодовой давности. — Второе письмо вынуто из конверта, и мне пришлось прочесть полстраницы: бумага сложена пополам... «Этот ромский Растиньяк продолжает воробышком перепрыгивать по ступенькам служебной лестницы, ведущей вверх. Он уже заместитель влюбленного в него Валентинова, он уже женат на дочери первого заместителя председателя облисполкома...» — Игорь Саввович передохнул, повернулся к Татищеву. — Тебе удалось украсть у Савкова письмо, но зачем ты писал мой адрес на этой машинке?
Игорь Саввович вложил в машинку листок бумаги, написал несколько слов, протянул конверт и бумагу Татищеву.
— Идиот, ты должен был написать адрес на другой машинке! — тихо сказал Игорь Саввович. — Или ты это сделал нарочно, чтобы я понял, кто послал письмо и расправился с Николаем? Ты для этого выкрал пись-. мо у Савкова?
Откинувшись назад, Татищев сделал руками такое
195
движение, словно защищался от удара. Он был бледен до синевы.
— Боже! — удивился Игорь Саввович. —• Он думает, что я буду марать о него руки. Мразь! — И повернулся к Савкову: — Держи свое письмо, владей! Стыдно быть таким большим и недобрым...
С каким-то воем Савков вскочил, бросился к Игорю Саввовичу, замахал длинными руками, покраснел пунцово, но Игорь Саввович мягко отстранил его.
— Я на тебя не сержусь, Николай! — сказал он. — Татищев и ангела совратит...
Игорь Саввович повернулся, сделал шаг к дверям, но остановился, точно его осторожно взяли за плечи. Пришло такое чувство, какое испытывает человек, покидая обжитое место, куда больше не вернется. И жалко, и грустно, и неизвестно, как жить дальше. Он подошел к стене, снял плакат «Здесь разрешается вообще!», разорвал на мелкие кусочки, бросил в корзину и подумал, что этим жестом отрезал еще один путь назад, как был отрезан путь к солнечной еловой рати. Он подошел к дверям, открыл и закрыл их, и опять ощутил такое, точно навсегда утратил кусочек мира, где «разрешается вообще». Он вынул платок, вытер пот. «Надо держаться! — подумал Игорь Саввович. — Надо изо всех сил держаться!»
Он шел по коридору, пустому и похожему на траншею, мерным солдатским шагом, хотя никогда не знал военного строя, и так бы и ушел из треста, если бы не послышался вопль. К нему из темноты бросилась Виктория Васильевна.
— Игорь Саввович, ой, Игорь Саввович! Весь трест обыскала, вас нигде нет, а снова звонит Сергей Сергеевич. Ну, кто мог подумать, что вы в отделе этой самой новой техники!
В трубке пищало, завывало вьюжно, трещало, но голос Валентинова прозвучал четко:
— Здравствуйте! Слушайте и не перебивайте. Звоню с аэродрома, вылет задерживается... На всякий случай прошу никаких решительных шагов до моего возвращения не предпринимать. Имеются оправдывающие вас сведения... Игорь Саввович, вы слышите меня? Прошу не перебивать! Как главный инженер треста, коллектив которого ответствен за ваши поступки, я вам приказываю ничего не делать. Вы поняли? Вы поняли меня, Игорь Саввович?..
196
Медленно положив трубку, Игорь Саввович задумчиво попрощался с Викторией Васильевной, вышел в коридор, остановился, чтобы привыкнуть к темноте и не споткнуться. «Валентинов на пределе, — подумал он.— Это опасно! После двух инфарктов!»
Дождь так и не пошел. Туча увеличилась втрое, потолстела, округлилась, но все никак не могла догнать и затмить жаркое солнце, хотя между ним и краем черной тучи оставалось крохотное пространство. Поддувал сильный ветер, гнал тучку к солнцу, а она, проклятая, стояла на месте. Ливанул бы дождь, загремел гром, молнии располосовали бы небо на мелкие кусочки — гори все алым огнем, крушись!,. Черная «Волга» устаревшей модели, но блестящая, стерильно чистая, полыхая бликами, выехала из тени забора, шофер дядя Вася подкатил к «хозяину», сонно улыбнулся.
— Садитесь, Игорь Саввович!
Шофер дядя Вася в сегодняшних жизненных планах занимал особое место, поэтому Игорь Саввович не сел, как обычно, рядом с ним, а молча устроился позади, что водителя не удивило, — бывали случаи, когда Игорь Саввович, находясь в особом настроении, устраивался за его спиной. («Поехали, Василий Васильевич, прямо, прямо и прямо! К черту на кулички!») Сегодня Игорь Саввович попросил:
— В Пионерский переулок, пожалуйста, Василий Васильевич.
Они покатили. Шофер дядя Вася сохранил такое выражение лица, какое положено водителям типа «ничего не видел, ничего не слышал, никуда не ездил». За день работы с Игорем Саввовичем шофер мог произнести только десяток слов, а все остальное время «крутил баранку» на предельной скорости да спал на остановках с ласковой и блаженной улыбкой на крепком лице. Не было случая, чтобы дядя Вася позволил себе заговорить первым, кроме обычных: «Садитесь, Игорь Саввович! Куда поедем, Игорь Саввович?»
— Знаете переулок? — с улыбкой спросил Игорь Саввович. — Бывали в Пионерском, дядя Вася?
— А кто его знает!. — ответил водитель. — Может, бывал.
В зеркале заднего обзора Игорь Саввович увидел по- детски обиженное лицо шофера, так как дядя Вася знал не только каждый переулок в Ромске, но и каждый дом, и двадцать квартир из ста, как он сам под¬
197
считал. По-настоящему обидеться на Игоря Саввовича дядя Вася, однако, не мог. Как-то так получилось, что за два с лишним года работы Василий Васильевич Субботин по-отцовски привязался к «хозяину», как называют по всей Руси великой шоферы своих начальственных пассажиров. Игорь Саввович тоже тепло и благодарно относился к пожилому шоферу, о котором рассказывали сказочные истории, например, о том, что таксист Василий Васильевич в иные сутки умудрялся в областном городе брать тридцать рублей «навару».
В городе открыто и с завистью говорили, что свой большой дом с мезонином, автомобиль и все другое «ночной таксист» дядя Вася построил на нечистые деньги. Дядя Вася не обижался, но говорил: «На двушки я построил дом, не на ворованное...» И деловито рассказывал, как он на пятиалтынных до денежной реформы, а потом — на двушках получал благодарственные рубли и гривенники. Он вынимал из кармана кучу двушек, подбрасывал их ловко на ладони и добродушно говорил: «Вот на них можно не только дом поставить, а линкор купить... Если разобраться, человек — существо доброе! Везу, скажем, пассажира с вокзала или аэродрома, гляжу: шарит по карманам или кошелек терзает, бедный. Это ему надо по телефону-автомату позвонить, узнать — дома ли, не ушли ли в театр или кино люди, к которым он едет... Ну, я ему сразу две двушки даю: «Звоните, товарищ пассажир!» Он звонит, приходит веселый, едем дальше, приезжаем — надо рассчитываться! Ну, скажите, кто мне меньше полтины сверх счетчика бросит, если я его двушками выручил? То-то и оно! — Он выдерживал длинную паузу и заключал: — Если найдете пассажира, который скажет, что я взял чаевые без двушки, режьте меня хоть на сто частей!»
Привычка носить в кармане двушки сохранилась у дяди Васи до их пор. Он всегда «звенел», когда садился или выходил из машины.
— Василий Васильевич, куда едем?
Не снижая скорости, дядя Вася ответил:
— Домой хочу на секунду заскочить, Игорь Саввович. Взять надо кой-чего по мелочи...
Василию Васильевичу недавно исполнилось шестьдесят четыре, никто ему более пятидесяти не давал, и, право, были основания. Крепкое, розовощекое и загорелое лицо, шапка молодых волос, солдатская выправка,
198
зубы с рекламы «Пользуйтесь пастой «Здоровье». Всегда спокоен, уравновешен так, как может быть человек, достойно выполнивший главные земные дела. На окраине города стоял пятикомнатный дом с мезонином, рубленный из вечных лиственничных бревен, к дому прилегал большой сад, в кирпичном гараже стояла зеленая «Победа», совсем не изъезженная.
В лиственничном доме, в пяти комнатах первого эта* жа и мезонина, жили трое взрослых детей, невестки и зятья, жена, мать и отец шофера Василия Васильевича Субботина. Инженеры, ученые, военные. Восьмидесятипятилетние старики — отец и мать шофера — тихо и благообразно доживали свой век в нижних комнатах, сам Василий Васильевич за обеденным столом вел себя диктаторски. «Домострой» он, наверное, не читал, но, попадись книга в руки, подписался бы под каждым абзацем. Домочадцы были дружными, работящими, веселыми, диктатуру дяди Васи принимали охотно. Ну, что еще оставалось сделать Василию Васильевичу Субботину на этой теплой и круглой земле?
— Я быстро, Игорь Саввович! Одна нога здесь, вторая — там.
Он вернулся через минуту, сел за руль и сразу набрал скорость сто километров в час.
— Приехали, Игорь Саввович!
Игорь Саввович первым выбрался на теплый асфальт, жестом попросив дядю Васю оставаться пока в машине, тихонечко пошел по переулку. Судя по табличке, он на самом деле назывался Пионерским, но это было единственное, что узнал Игорь Саввович на месте ночной драки. При ярком солнечном свете переулок был неузнаваем, в нем Игорь Саввович никогда не был и быть не мог — какое дело могло привести его в переулок, скучный до зубной боли? Этот знаменитый четырехэтажный дом, который превращал города в один большой четырехэтажный квартал, эти гаражи с разноцветными дверями, вклинившиеся в жилой массив, эти серые от пыли тополя с обрезанными руками и срубленными головами — боже, какая печаль и какая нудность. И даже вывеска «Прачечная» не вызывала ничего в памяти.
— Ладушки!
Предстояло вычислить, какой из четырех больших и . высоких гаражей принадлежит, как утверждал следователь, Игорю Саввовичу Гольцову. Гаражи выглядели
199
близнецами, двери же владельцы окрасили в разные цвета — голубой, зеленый, красный и коричневый. Ну-с, какой цвет дверей избрал для себя Игорь Саввович Гольцов? Зеленый — слишком распространенно и банально, красный — вызывающе, голубой — лирично, коричневый — сомнительно!
Он с ухмылкой сунул руку в нагрудный кармашек спортивной рубашки, вынул связку ключей с вычурным брелоком: человеческий череп и крохотная бутылка коньяка «Наполеон». На брелоке покачивалось пять ключей: квартирный, два автомобильных и два гаражных, очень больших... Посмеиваясь, подмигивая самому себе, Игорь Саввович начал обход гаражей слева направо, то есть с голубого. Один ключ почти подходил к верхнему замку, но не подходил к нижнему. Красный гараж ни одного ключа не принял, а вот третий гараж, то есть зеленый, мягко и бесшумно открылся. «Какая скука!» — лениво подумал Игорь Саввович, после чего повернулся спиной к зеленому гаражу, сделал три шага вперед и остановился — это было то положение, в каком он ночью ждал Светлану, закрывающую гараж. «Дурака валяю!» — презрительно подумал Игорь Саввович, представив, как сейчас глядит на него шофер дядя Вася, но вскоре все-таки пошло, сдвинулось, поехало... Зажглись три уцелевшие неоновые буквы прачечной, взвыл мотор машины жены, преодолевающей порожек гаража, захлопали створки окон и дверей балконов, зажглись, казалось, разом десятки окон, осветившие переулок ракетой; потом шаги Светланы за спиной, временный перерыв в памяти, зрении, слухе, затем — вой, гром, надрывный звон трех гитар и рев трех хриплых голосов. Мелькнула за спинами гитаристов маленькая согбенная фигура, живая, четкая, существующая, — боже, ему это не померещилось, не показалось, не приснилось! «Меня узнали! — подумал Игорь Саввович. — Может быть, сначала узнали Светлану, потом меня и пошли приступом... Вот почему следователь Селезнев...»
— Ладушки!
Игорь Саввович помахал рукой шоферу дяде Васе. Подойдя, водитель посмотрел на Игоря Саввовича сочувственно и как-то по-особому родственно, точно Игорь Саввович был одним из его сыновей.
— Чьи это гаражи, Василий Васильевич? Зеленый — мой, а другие?
200
Дядя Вася неторопливо и многозначительно ответил:
— В красном стоит «мерседес» артистки Голубкиной, в голубом — «Жигули» учителя Семенова, в коричневом — «Волга» машиниста электровоза Мисхата Харисовича Бабаева, который скоро Героя Труда получит.
Поразительная, уникальная осведомленность шофера дяди Васи в городских делах раньше изумляла Игоря Саввовича, а теперь он уже привык и знал, что если спросить Василия Васильевича, какой сегодня обед был у Валентинова, то водитель неторопливо ответит: «Баранина! Мать три килограмма баранины на базаре вчера брала и говорила, что сын соскучился по скороварке...»
— Почему вы думаете, что Бабаев получит Героя? — спросил Игорь Саввович.
— Представляют! Уже все бумаги собрали и в Москву отправили... — Дядя Вася вдруг замялся. — Мисхат сейчас тоже психует, Игорь Саввович...
Почему психует Мисхат Бабаев, Игорь Саввович обдумывать не стал, а опять спросил:
— А какое отношение ко всей этой истории имеет некий Гелий Макарович Фалалеев?
Игорь Саввович увидел на лице шофера точно такие же полные оторопи глаза, какие были у следователя Селезнева, когда Игорь Саввович ответил, что не знает, когда, кто и как строил его гараж.
— Фалалеев эти гаражи, Игорь Саввович, строил из ворованных материалов, — сказал шофер. — А артистка Голубкина этого Фалалеева обсчитала на две тысячи рублей... Дай мне волю, из-за угла зарежу эту Голубкину! А Фалалеев — сын здешней дворничихи...
Вот какие пирожки! Добрейший человек — шофер дядя Вася, собирался всаживать нож в актрису Голубкину — бездарь и кривляку. Такого, признаться, Игорь Саввович от водителя не ожидал, поэтому всем телом повернулся к Василию Васильевичу, театрально сдвигая брови, спросил:
— Это почему, товарищ водитель, собираетесь зарезать выдающуюся актрису? Отвечайте!
Дядя Вася грустно покачал головой:
— Вот вы острите, Игорь Саввович, а из-за этой стервы уже несколько хороших людей сгорело и еще кое-кто попухнет...
Нет, такого дядю Васю «хозяин» еще никогда не видел, даже не мог представить, что спокойный, умирот¬
201
воренный, проживший длинную жизнь Василий Васильевич мог быть таким взволнованным, гневным. Мужицкое лицо сделалось жестким, точно дядя Вася схватил в руки вилы, чтобы идти колоть злого барина. Не было .просвета, не было черточки доброты в лице водителя, когда Василий Васильевич посмотрел на красный гараж Голубкиной.
— У нее, воровки, «мерседес» последней марки! — сказал он сквозь стиснутые зубы. — За гроши купила в Москве, на солярке ездит — полтинник бак, а хватает на триста пятьдесят верст. У Левашева машина хуже, Левашев на черепахе ездит, а эта сволочь... — Он, казалось, проснулся. — Виноват, Игорь Саввович! Сильно я ее ненавижу, вот и вас под следствие подвела. Да и Ивана Ивановича Карцева эта пакость на ковер поставит! А теперь и полковник Сиротин влез в это дело, может без погонов остаться!
С уважением и тоскливой покорностью, словно Игорь Саввович был неразумным ребенком, а дядя Вася учил его азбуке, смотрел «хозяин» на своего шофера.
— Почему Сиротин потеряет погоны? — почти шепотом спросил Игорь Саввович.
Шофер дядя Вася немного успокоился.
— Разве вы не поняли?.. Он ведь мне племянник, Игорь Саввович. Старшей сестры, что померла, — сын... Сколько раз я ему говорил: «Допрыгаешься!» Не слушался...
Скажи сейчас шофер дядя Вася, что он — брат Кеннеди, тоже не удивил бы Игоря Саввовича. Сын дворничихи строит гаражи, актриса Голубкина ездит на «мерседесе» последней марки; боится потерять на гаражной' истории звезду Героя Труда машинист электровоза Мисхат Бабаев, о котором не реже трех раз в месяц пишет областная газета «Красное знамя»; Иван Иванович Карцев — тесть может стать «на ковер». Каждое слово — открытие новой планеты, каждое слово — обухом по голове.
— Василий Васильевич, а Карцев при чем?
— Не могу, Игорь Саввович, говорить о Карцеве. Большой человек, а наше дело — шоферское! Только вы сами помозгуйте, что к чему.
Игорь Саввович за хвостики вытаскивал из памяти обрывки разговоров, которые всегда от боли в груди, от того, что был углублен в свою мучительную болезнь,
202
слушал вполуха, не вникал в смысл, считал никчемными городскими сплетнями... Актриса Голубкина была знаменита тем, что подряд «сняла» трех директоров театра, а четвертому сказала: «Хотите уцелеть, не реже двух раз в неделю советуйтесь со мной. Телефонные разговоры исключаются!» Что-то вспомнилось и о «мерседесе», каким-то чудесным образом купленном в столице...
— Мне Сергей Сергеевич звонил, — задумчиво сказал Игорь Саввович. — Хочет прилететь сегодня, а если не сумеет, убеждал не ходить завтра к следователю... Чем-то может помочь.
Шофер дядя Вася помедлил, поскреб толстыми ногтями подбородок, улыбнулся.
— Это чистое дело, Игорь Саввович! Старшина катера «Лена» Октябрин Васильевич вот в этом доме живет... Он-то уж знает, кто на кого ночью напал... В этом доме наших вообще много живет. Октябрин Васильевич с сестрой Викторией Васильевной, вашей секретаршей...
— Что? Они брат и сестра?
— Иго-о-орь Саввович! Их же фамилия Роговы! Они обои с Сергеем Сергеевичем сразу после войны работают.
Надо было передохнуть и оглядеться, чтобы не чувствовать себя так, словно стоишь на зябком ветру, а все мирские пути сошлись на шофере дяде Васе и четырех разноцветных гаражах. Черная туча все не могла догнать солнце, чирикали на ветлах, тополях и балконах чем-то встревоженные воробьи, по улице Гарибальди мчались автомобили, треща и надрываясь, тарахтел непонятный для города дизельный трактор, наверное, переезжал асфальт по специальным доскам. И было жарко, так жарко, что на первом этаже сидел пыльный скворец, разевал клюв, изнемогая от зноя, но в тень улететь, видимо, не хватало скворчиных сил.
— Понятно! — протянул Игорь Саввович. — Кое-что понятно...
Нечего больше было делать заместителю главного инженера треста Ромсксплав Игорю Саввовичу Гольцову в переулке Пионерском. Он еще раз поглядел на гаражи, на дом, затем сделал широкий хлебосольный жест:
— Василий Васильевич, если вы запрете на замок вашу роскошную черную «Волгу», я мог бы вас прока¬
203
тить по славному городу Ромску. Пожалуйста, примите приглашение.
Войдя в гараж, Игорь Саввович открыл дверцу «Жигулей», завел мотор, дал сразу большие обороты и по крутой дуге, задним ходом пулей выскочил из гаража, заскрежетав тормозами, стал мертво. Распахнув дверцу, Игорь Саввович таксистским голосом пригласил:
— Будем садиться или нет? У нас время не казенное.
Шофер дядя Вася сел на переднее сиденье, Игорь Саввович закрыл гараж, а когда вернулся на водительское место, дядя Вася опять был таким, каким его Игорь Саввович никогда не видел: задумчивым и печальным.
— Над чем молчим, Василий Васильевич? — бодрясь, спросил Игорь Саввович. — На какую тему молчим, гражданин пассажир?
— Двадцать восемь тысяч наезжено, — сказал дядя Вася, глядя на спидометр автомобиля. — За год и четыре месяца... Молодец Светлана Ивановна, не дает тачке ржаветь!
Игорь Саввович и сам замечал, как жадно, восторженно относится к машине Светлана. Она каждый раз была счастлива, когда садилась за руль, говорила, что машина — ее маленький передвижной домик, такой уютный, такой славный; ей до сих пор странно, что она может владеть этим движущимся домиком, который весь, целиком и полностью принадлежит ей, Светлане. А он не понимал, почему Светлана — дочь Карцева — так жадна к машине, когда родилась в доме, где не одна машина, а две — «газик» и «Волга» — поочередно подкатывали к дому председателя райисполкома. Отношение жены к машине было загадкой, смешной, нелепой, простительной для женщины и вызывающей у Игоря Саввовича нежную жалость к Светлане.
— Мы новичком будем! — сказал Игорь Саввович дяде Васе. — Город еще не знаем, показывайте дорогу до Ромского педагогического института...
— Пханяняй! — приняв тон Игоря Саввовича, ответил дядя Вася. — Покажем! — Но не удержался, еще раз посмотрел на спидометр. — Двадцать восемь тысяч... Пханяняй говорят, водило! — распоряжался дядя Вася. — Прямо, налево, потом под стрелочку, опять налево... А я и не знал, Игорь Саввович, что вы машину водить умеете... Й хорошо водите, Игорь Саввович! —
204
искренне добавил он, когда «Жигули» дали «пороху» по широкой улице Гарибальди. — По-такеистски водите! На стрелочку, на стрелочку, водило!
«Ромский ордена Трудового Красного Знамени педагогический институт имени Крупской» было написано на черной стеклянной табличке золотыми буквами, вокруг которой — что за фокусы! — висели сухие венки с выцветшими лентами. Выйдя из машины, прищурившись, Игорь Саввович рассматривал здание, о котором много слышал от Светланы, но на которое никогда не обращал внимания, прочел надпись на выцветшей ленте одного из венков: «В честь славного пятидесятилетия...» Игорь. Саввович вспомнил, что два года назад Светлана звала его на высокие торжества, но он сидел над забавными часами и, сославшись на головную боль, на пятидесятилетие не поехал.
— Василий Васильевич, пройдем вместе к Светлане Ивановне? — предложил Игорь Саввович.
Он пристроился к шоферу, старался идти так, чтобы не быть ведомым, а незаметно повторять путь дяди Васи. Они прошли по длинному, светлому и уютному коридору, освещенному солнечным светом из шестиугольных окон, поднялись на четыре ступеньки, завернули направо и оказались в еще более светлом коридоре с церковными сводами и ложными колоннами. Здесь, как и внизу, было безлюдно, но за одними дверями слышался специфический звук живой аудитории. Дядя Вася остановился, вопросительно посмотрел на Игоря Саввовича, который с усмешкой махнул рукой:
— Ничего. Переживет.
Светлана с заложенными за спину руками ходила по дну аудитории-амфитеатра, говорила громко, по-преподавательски отчетливо, и он не сразу понял, что она читает плач Ярославны из «Слова о полку Игореве». Светлана была специалисткой по древнерусскому языку, курс которого читала в институте, а в дни каникул занималась с абитуриентами русским языком — обязательным для экзаменов на литфаке. Игорь Саввович внимательно смотрел на жену, сейчас совершенно незнакомую женщину: прямая и строгая, суховатая и увлеченная, властная и абсолютно раскованная на виду у сотен глаз, она разительно была непохожа на жену Игоря Саввовича Гольцова. Кандидат наук, доцент^ Светлана была фокусом, точкой, волшебным блестящим шариком, притягивающим сотни глаз жадных до слов и
205
цитат парней и девчат. Они отлично знали, что Гольцова была второй фигурой на приемных экзаменах и почти все зависело от ее «да» или «нет».
Игорь Саввович иронически подмигнул шоферу дяде Васе, крикнул в распахнутые двери:
— Товарищ Гольцова, на выход!
Медленно, словно после сна, Светлана из лектора превращалась в обычную женщину. Несколько секунд ей понадобилось, чтобы понять: зовут ее, Гольцову. Решительная, гневным шагом она направилась к дверям, вдруг узнала мужа и бросилась к нему, испуганно восклицая:
— Что случилось? Ну, что еще случилось, боже мой, Игорь?
Он сделал два шага назад, чтобы можно было по- прежнему наблюдать жену в некотором отдалении.
— Я рад за тебя, — сказал Игорь Саввович. — Ты хороша за кафедрой, тебе нравится читать «Плач». Поздравляю!
Он замолк, поняв, что может произойти беда — Светлана была близка к истерике. Остановившимися, побелевшими глазами она глядела не на мужа, а на шофера Василия Васильевича, словно он и только он мог помочь или, наконец, объяснить, что произошло.
— Успокойся, Светлана! — мягко сказал Игорь Саввович. — Ничего не случилось... Я решил все-таки посмотреть, где ты работаешь, увидеть тебя за кафедрой... — Он покосился на дядю Васю. — Василий Васильевич помог мне найти твою аудиторию... Вот и все!
Абитуриенты, оставшиеся без лектора, начали бушевать; кричали, смеялись и даже пели; два или три лица показались в дверях, испугавшись, мгновенно исчезли.
— Мы поедем! — сказал Игорь Саввович. — Мне еще надо заскочить кой-куда... Не будем мешать. До вечера, Светлана!
Игорь Саввович повернулся, пошел по коридору. Спустился вниз на четыре ступеньки, оказавшись на первом этаже, наконец сообразил, что Светлана работала не на втором этаже, а на полуэтаже. Дядя Вася догнал его в дверях, они молча сели в «Жигули», молча доехали до перекрестка улицы Гарибальди с переулком Пионерским, и здесь Игорь Саввович решительно попрощался с дядей Васей.
— Спасибо, Василий Васильевич! До завтра!
— До завтра, Игорь Саввович! — ответил шофер,
206
но из машины не вышел, а, наоборот, повернулся к Игорю Саввовичу, добро, хорошо, понимающе стал смотреть на него, словно они прощались не до завтра, а расставались навсегда.
— Скоро сорок пять лет будет, как я баранку кручу, Игорь Саввович, — сказал дядя Вася. — Мильон народу перевидел, кто только со мной не ездил! Начальники и подначальники — всех возил! — Он смущенно улыбнулся. — Мне вас, Игорь Саввович, легко возить. Наш брат шофер так и говорит: легкий пассажир!
Шофер теперь смотрел прямо в лобовое стекло.
— Подхалима из меня не сделали, Игорь Саввович, мне бояться некого — хуже не будет, лучше не надо! Годы молчал, сегодня разболтался, так уж все скажу... Вы, Игорь Саввович, на малого ребенка похожи... Ну ничего не замечаете, что вокруг вас делается! Это вам не в обиду, Игорь Саввович! Переживаю я за вас... И знаете что? Бросайте-ка все и валите отсюда куда глаза глядят, пока еще молодой и здоровый... — Шофер дядя Вася махнул рукой. — Как поймете, мне все равно, Игорь Саввович, но от добра говорю... Счастливо вам, Игорь Саввович!
Он вылез из «Жигулей», пошел к черной «Волге» как- то боком, боком, как бегают собаки, если смотришь на них сзади. Забрался быстренько в кабину, дал полный газ — и поминай как звали! Только сизый дымок выхлопа узкой полосой протянулся по переулку Пионерскому.
— Ладушки!
Может быть, они договорились, красавица Рита и шофер дядя Вася, если с разницей в два часа говорили одно и то же Игорю Саввовичу Гольцову — советовали убираться из благословенного города Ромска к чертовой матери. Что они еще знают такое, чего он не знает?
Игорь Саввович завел мотор, доехал до перекрестка, увидев, что улица пуста, начал делать левый поворот, сделал его и только после этого сообразил, что не знает, как выехать на площадь Покрышкина. «Ну и не поедем, — подумал он. — Велика важность — площадь Покрышкина!» Он медленно поехал дальше по улице Володарского, добравшись до перекрестка, обнаружил, что правого поворота нет — можно было поворачивать только влево или ехать прямо. «Поедем влево!» — мирно подумал Игорь Саввович и через километр пути вы: ехал к пристанскому скверу, то есть почти на берег Роми. Произошло это неожиданно, но Игорь Саввович
207
обрадовался. Бросив незапертой машину, помахивая ключами зажигания, он пошел по асфальтовой дорожке: сначала вверх, а потом вниз. Хотелось увидеть реку, чаек, посмотреть на белые пароходы, на которых давно не плавал, а любил, очень любил. Шипит пар, позванивает в графине пробка, по верхней палубе печатает степенные шаги вахтенный, солнечные блики перемещаются по стенам каюты, и на всем лежит зеленый отблеск воды. Ехать долго и далеко, сидеть по три часа без скуки в ресторане, есть из посуды, меченной золотыми буквами «Ромское пароходство», слушать, как поет палубное радио. Далеко и долго, обязательно далеко и долго...
Реку Игорь Саввович не увидел, хотя подошел к самому берегу — все речное пространство занимали белые пароходы, стоящие так плотно один к одному, что казались единым гигантским пароходом. Река Ромь мелела, и пароходам приходилось швартоваться друг к другу.
Только белые пароходы — и никакой воды.
Игорь Саввович сел в машину, усмехнулся, рывком взял с места; по улице Маркса до Вяземской, а там все прямо и прямо, без светофоров, правых и левых поворотов, только прямо — откроется знаменитый Московский тракт, он же Казанский, он же Кандальный, он же Сибирский, по которому гнала непокорных Европа в матушку Сибирь. Булыжник давно заменили асфальтом, и, вырвавшись из города, Игорь Саввович довел стрелку спидометра до 120 да так и не позволял ей отклоняться влево.
Серая лента шоссе, две зеленые зыбкие полосы по обе стороны машины вместо леса, мотающееся по небу солнце, шелестящий гул хорошего мотора, запах нитрокраски — ничего лучшего, пожалуй, нельзя было придумать! Игорь Саввович обгонял все машины, какие только были на трассе, заставлял на обгонах тормозить встречные автомобили, хохотал, когда слышал ругань. Он жалел, что на шоссе не было красных светофоров, которые можно было бы проскакивать, не останавливаясь, сладострастно думал, что, будь трасса напряженней, создал бы такую дорожную пробку, какую и во сне не видела жена Светлана Ивановна Гольцова. Он был на волосок от гибели, когда пошел на двойной обгон и почти перед радиатором возникла тяжелая «Колхида», — водителю пришлось почти съехать в кювет,
208
чтобы машина Игоря Саввовича не превратилась в лепешку. Еще километров через пять он без всякой нужды на обгоне подрезал голубой «Москвич» с миловидной седоволосой дамой за рулем. В зеркало заднего обзора Игорь Саввович увидел, как-она от ужаса зажмурилась.
На шестидесятом километре Игорь Саввович, почти не сбавляя скорости, сделал левый поворот, в облаке желтой пыли, подпрыгивая на рытвинах, по заброшенной проселочной дороге въехал в молодой сосновый бор, загнал машину в тень, вышел из кабины, выбрал траву погуще, лег на спину и мгновенно уснул.
Игорь Саввович уснул так быстро, как нормальные люди засыпать не могут, и только в детективных фильмах герой, едва пригубив бокал со снотворным, откидывается на спину и начинает храпеть. Однако Игорь Саввович уснул именно мгновенно... Проснувшись, он сразу понял, где находится и почему голова была ясной по- утреннему, часы показывали половину седьмого, что значило: два часа проспал он на теплой и мягкой траве. Солнце уходило за сосны, лучи веером топорщились сквозь посиневшие кроны, тянуло волглым холодом из болотистой низинки. Игорь Саввович поднялся, сладостно потянулся, привычно прислушался к себе: ныло, побаливало, но все казалось расплывчатым, смазанным, приглушенным. «Под сурдинку!» — подумал он. Еще через несколько секунд выяснилось, что Игорь Саввович Гольцов находится в спокойном, уравновешенном и, как он подумал, терпимом состоянии, то есть не испытывает прежней боли и страхов, но и не чувствует подъема. Именно «под сурдинку!».
Игорь Саввович выезжал с проселочной дороги на шоссе, когда обратил внимание на то, что на указателе уровня бензина красная лампочка не мигает, а горит во всю ивановскую. Ля-ля-ля! Максимум на двадцать-три- дцать километров пути, а только до площади Ленина больше шестидесяти.
Бензин кончился на восемнадцатом километре от города. Машина чихнула, дернулась, словно делая последнее усилие, и заглохла; на выжатом сцеплении она прокатилась под уклон почти километр и сама собой остановилась. Сразу услышалось, как на телеграфном проводе чвикают ласточки. В горячем моторе пощелкивало и побулькивало.
Игорь Саввович выбрался из кабины, чтобы загля¬
14 Виль Липатов, том 4
209
нуть в багажник-—нет ли запасной канистры с бензином? Его поразило увиденное. В багажнике был такой порядок, которому позавидовал бы шофер-профессионал: на специальной полочке лежали инструменты, более совершенные и разнообразные, чем полагалось «Жигулям», несколько запасных частей первой необходимости, набор паст и жидкостей для мойки и полировки машины; в багажнике вообще не было ничего такого, по чему можно было бы понять, что машина принадлежит женщине. Лежали две канистры; одна для масла (полная) и для бензина . (пустая). Чтобы канистры не бренчали на ходу, был подложен темный поролон. «Молодчина! — подумал Игорь Саввович и усмехнулся. — Цельная натура, автоличность, но бензинчик-то сожгла!»
Московский, он же Казанский, он же Кандальный, он же Сибирский тракт возвращал городу утраченные за день автомобили. Быстро, на «домашней» скорости шпарили по тракту грузовики: легковые машины, наоборот, казалось, устало дотягивали последние десятки километров. Отойдя от машины шага на три, Игорь Саввович поднял руку и прищурился: солнце слепило. Ему нужен был бензин марки А-93, на котором работали «Жигули», «Москвичи-412» и «Волги» самой последней модели — остальные автомобили в счет не шли.
Минут через пятнадцать Игорю Саввовичу удалось остановить «Москвич» прекрасного горчичного цвета, в котором ехал пожилой мужчина. Он вышел, приветливо поздоровался, спросил:
— Чем могу помочь, коллега?
Игорь Саввович объяснил, мужчина покачал головой, взяв Игоря Саввовича за руку, подвел к «Москвичу» — прибор показывал, что бензин на исходе. Продолжая молчать, мужчина повел Игоря Саввовича к багажнику, чтобы, наверное, убедить, что и в канистре нет бензина.
— Товарищ, что вы делаете? Я вам верю! — воскликнул Игорь Саввович.
Владелец «Москвича» еще раз вздохнул:
— Говорят, что в сентябре лимит кончится... А мне приходится два раза в неделю ездить в санаторий. Вот извольте выкручиваться!
Игорь Саввович едва удержался от того, чтобы не спросить, что значит «в сентябре лимит кончится» — владелец «Москвича» принял бы его, наверное, за автомобильного вора. Лимит! Это значит, кто-то что-то не
210
запланировал, не было, как выражаются специалисты, емкостей, заправочные станции оказались не приспособ* ленными к приемке горючего нового типа или горючего просто не хватало.
— До свидания! — печально попрощался водитель «Москвича». — Желаю благополучно добраться..,
— До свидания! Спасибо!
СЫН
До гаража Игоря Саввовича дотащил на буксире «рафик» геологической партии, вдвоем с шофером они закатили машину в гараж, Игорь Саввович отсчитал спасителю десять рублей и, поигрывая ключами от машины, надетыми на указательный палец, отправился домой. Предстоящая встреча с матерью волновала, хотя Игорь Саввович заранее решил, что скажет и что сделает, когда увидит мать.
Поднимаясь на третий этаж, Игорь Саввович опять почувствовал себя верблюдом; двугорбым верблюдом с надменно выпяченной нижней губой и непосильной ношей на спине. Он двигался медленно и тяжело, как бы боясь оступиться, и каждое движение рукой или ногой ощущалось от начала до конца, словно он утратил привычный автоматизм движений.
Открыв двери своим ключом, Игорь Саввович бесшумно проник в прихожую; прислушиваясь, начал снимать туфли, чтобы надеть тапочки. Из гостиной, как и можно было предполагать, доносился взвинченный голос Светланы, разговаривающей по телефону. Было понятно, что жена «поднимала на ноги» весь город в поисках пропавшего Игоря Саввовича — основания для паники у нее были. Второй женский голос не слышался, и это тоже было понятным. Елена Платоновна, мать Игоря Саввовича, наверняка просила Светлану не беспокоиться, а сидеть и ждать, так как Игорь, объяснила мать, с пятилетнего возраста вытворяет такие штучки, что приходится только разводить руками.
Игорь Саввович вошел в гостиную.
— Здравствуй, мама! Светлана, привет!
Женщина, которая была всегда права, женщина, которая никогда не ошибалась, спокойно и весело разглядывала сына. Почти классическим было ее нестареющее лицо, неосознанно изящной поза; ни единой лишней
211
складочки, ни единой вмятинки не было на ее модном и удобном дорожном костюме, сошедшими сию минуту с конвейера казались туфли, чулки, идеальна прическа. Она улыбалась, смотрела на сына и молчала так, как умела молчать только Елена Платоновна Веселовская — никто в мире не мог бы догадаться по ней, о грустном думает она или веселом.
— Здравствуй, Игорь! — низким голосом ответила мать. — Рада тебя видеть.
Он поцеловал мать в пахучую щеку, на секунду прижался к ней и сквозь сильные духи уловил тонкий запах детства, юности, всей своей жизни, проведенной с матерью. Игорю Саввовичу исполнилось тридцать лет, семь долгих лет он жил вдалеке от матери, но это ничего не меняло: он ощутил себя маленьким, слабым и беспомощным ребенком. Хотелось надолго спрятаться у нее на груди, плакать сладкими слезами, зная, что мама поможет, мама спасет. И, выпрямляясь после ответного поцелуя матери, Игорь Саввович с облегчением подумал: «Ну, теперь все будет хорошо!» — хотя не знал, что может быть хорошего. Просто приехала мама, мамочка, мамуленька...
Только сейчас Игорь Саввович заметил, что происходит со Светланой. Со стиснутыми на груди руками, она стояла неподвижно, а у ее ног на толстом ковре телефонная трубка продолжала гудеть басовитым мужским голосом: «Алле, алле, Светлана Ивановна! Я вас не слышу, Светлана Ивановна!»
— Подними трубку, Светлана, — сказал Игорь Саввович. — Ты, видимо, говоришь с Володечкой Лимин- ским. Он не знает, где я нахожусь!
Светлана бросилась к мужу, обняла, поцеловала, потом расплакалась, и он продолжал держать Светлану в объятиях, глядя на мать поверх плеча жены. «Видишь, какие мы нервные!» — говорил взгляд Игоря Саввовича, а мать отвечала: «У тебя хорошая жена, сын!» Он осторожно отстранил Светлану, носовым платком с насмешливым видом принялся вытирать слезы.
— А вот мы уже и не плачем! — приговаривал Игорь Саввович. — А вот мы уже паиньки! Вот мы взяли и успокоились...
Все светильники были зажжены в гостиной, зеленая обивка мебели успокаивала, толстый ворсистый ковер, тоже зеленоватый, походил на коротко остриженную траву, и очень тихо было в этой комнате, выходящей
212
окнами в сквер областного банка — малолюдного учреждения с круглосуточной охраной. Гостиная была создана для неспешной уютной беседы хороших и добрых людей, в ней легко думалось, мысли приходили покойные... Игорь Саввович опустился в кресло, Светлана села на кушетку, Елена Платоновна переменила позу. Нужно было задавать вопросы, отвечать, обсуждать, искать выход, а Игорь Саввович подумал, что никто не знает даже самого элементарного: о чем спрашивать, например...
— Светлана, — спросил он, — приходил полковник Сиротин?
— Нет, он только звонил и сказал...
— Что он сказал?
— Что сердит на тебя. Он прочел какой-то там протокол.
У матери лицо по-прежнему было безмятежным. Со стороны казалось, что Елена Платоновна устала, присела отдохнуть и уже отдохнула, но ей лень подниматься и продолжать путь, так как особой нужды в этом не было. Все это означало, что в мире матери — устроенность и покой; разложено давно все по ящикам и полочкам, и к каждой вещи, как к лекарству, приклеена сигнатура, принято самое оптимальное решение. Об этом знал не только родной и единственный сын Елены Платоновны, но и по лицу Светланы было заметно, что теперь все самое главное находится в руках Елены Платоновны.
— Мне известны все обстоятельства дела, Игорь! — сказала мать. — А что произошло позже, когда ты исчез?.. Есть новенькое?
Как теперь говорят, «пробивная сила» Елены Платоновны была колоссальной, но, к ее чести, Елена Платоновна не делала никаких усилий, чтобы быть всемогущей; Мать Игоря Саввовича никогда не пользовалась телефоном, а в случае необходимости прямо шла к человеку, от которого зависело то или иное дело. Все начальственные секретарши перед Еленой Платоновной стояли, разговаривали с ней предупредительно и вежливо, не понимая сами, почему делают это, и владелец кабинета, в который секретарши немедленно пропускали Елену Платоновну, тоже не очень понимал, зачем он это делает, стоял в ее присутствии, а присаживался, только на считанные секунды, чтобы начертать нужную Елене Платоновне резолюцию.
213
— Нового нет, мама! — ответил Игорь Саввович.— Правда, я пережил забавное происшествие... — Он повернул голову к жене. — Слушай, Светлана, где ты покупаешь бензин для «Жигулей»?
. — В гараже! — ответила Светлана. — Почему ты этим заинтересовался?
— Хочется кое-что выяснить... В каком гараже ты покупаешь бензин марки девяносто три?
По-прежнему ничего не понимая, Светлана пожала плечами:
— Как в каком гараже? В облисполкомовском, и не девяносто третий, а девяносто пятый, «люкс».
Так вот почему машина буквально с места набирала скорость сто километров в час, вот почему шофер дядя Вася, когда они ехали в педагогический институт, удивленно сказал: «Я эти «Жигули» за машину не держал, а получается не движок, а зверь!» Бензин марки 95 «люкс» подходил ко многим автомобилям иностранных марок, залитый в бак «Жигулей» давал мотору большое увеличение мощности.
— Светлана, а тебе известно, что в городе лимитируется бензин для «Жигулей»? — спросил Игорь Саввович. — Вот уже полгода выдается двести литров бензина на месяц.
Левым боком, левой щекой Игорь Саввович почувствовал взгляд матери, мало того, понял, как смотрит мать: «Игорь, бог мой, какими пустяками ты занимаешься! Будь наконец солидным взрослым человеком!»
— Светлана, ты слышала о лимите? — упрямо повторил Игорь Саввович.
— Нет!
Недоуменные глаза, обиженно вздрагивающая нижняя губа, удивленно приподнятые плечи — все говорило о том, что Светлана в самом деле не слышала о бензиновом пайке, так как облисполкомовский гараж стал для Светланы привычным с той минуты, как были куплены «Жигули». Игорь Саввович вспомнил, что в этом гараже с «Жигулей» сняли консервирующую смазку, проверили машину, так сказать, с ног до головы, а потом производили полное техническое обслуживание. Зачем же было искать бензин на городских заправках с их очередью, когда во дворе облисполкомовского гаража возле бензоколонок — ни души?
— Игорь!
— Минуточку, мама!
214
Игорь Саввович сел в кресло «по-валентиновски». Сложил руки за спиной — чертовски неудобно! — ноги вытянул, подбородок задрал, словно была борода-пика, и думающе наморщил лоб. Вся с ног до головы правдивая, честная, добрая, сидела перед ним жена Светлана с обиженно подрагивающей нижней губой, а он видел не эту Светлану, а ту, что устроила грандиозную автомобильную пробку на Воскресенской горе. «Я плохо знаю Светлану!» — подумал Игорь Саввович спокойно и грустно.
— Мама, ты что-то хотела сказать...
Произошло знакомое: мать вынула из сумочки губную помаду, пудреницу и принялась самым тщательным образом наводить красоту, и это значило, что Елена Платоновна Веселовская готова ответить на все вопросы, решить все проблемы. Рассказывали, что, оперируя под бомбежкой, мать не становилась к операционному столу, прежде чем не напудрится и не подкрасит губы.
— Вот что, сын! — сказала мать. — Надо срочно успокоиться. Радоваться нечему, но и падать духом стыдно! Я бы на твоем месте немедленно приняла горячую ванну, хорошо поужинала бы и улеглась спать. Утро вечера мудренее... — Она ласково улыбнулась. — Я родилась и выросла в Ромске, меня здесь еще знают. Постараюсь помочь! — Мать поднялась. — Чисто случайно твой отец, Игорь, знаком с первым секретарем вашего обкома товарищем Левашевым. Представь, товарищ Левашев отказался от Москвы, чтобы проопериро- ваться у отца...
Специально для Светланы мать назвала Савву Игоревича Гольцова отцом Игоря Саввовича, хотя после выяснения истории подлинного отцовства Игорь называл отчима Саввой и мать при сыне тоже говорила «Савва». Сейчас же мать все учла, вплоть до последней интонации, а Игорь Саввович удивленно глядел на мать: почему она предполагала, что ночная драка и все связанное с ней будет рассматриваться на такой высоте, как первый секретарь обкома партии? У кого она успела побывать, с кем разговаривала?
— Игорь, сделай, пожалуйста, по-моему! — продолжала мать. — Ванна, ужин, рюмка коньяка, никаких разговоров со мной или Светланой. Потом — сон. Ранний сон до позднего утра...
Она подошла к сыну, во второй раз за вечер нежно привлекла его голову к себе, взъерошила волосы.
215
Ароматная, теплая, родная, такая любимая, что щипало в глазах и сладко ныли колени. Мама, мамочка, как он любил эту женщину, которая была всегда права и никогда не ошибалась! Игорь Саввович с детских лет знал, что мать никого, кроме него, не любит и любить не сможет. И он любил мать так же преданно и нежно, как она любила его. «Вот все и обошлось! — думал Игорь Саввович. — Нет никакой беды и не будет, если со мной моя мать!» И он был по-детски, неосмысленно и доверчиво счастлив в этот миг.
— Иди в ванну, Игорь! — голосом, которым она разговаривала с пятилетним сыном, продолжала мать. — В каком-то фильме говорят: «Жизнь похожа на тельняшку. Одна полоса светлая, другая — черная и так далее...» Ты у меня сильный, только сам не знаешь, когда ты сильный...
На глазах у Светланы блестели слезы, сквозь которые она улыбалась, — так и на нее действовали слова и поступки Елены Платоновны. Жена, наверное, тоже думала, что вот теперь-то все будет хорошо, ничего плохого в ее доме и в ее семье не произойдет, что происшедшее — недоразумение, тяжкий сон, приснившийся в жаркую июльскую ночь. «Иди скорее в ванну!» — просила взглядом Светлана мужа, словно только от ванны зависела судьба дома и семьи.
— Даешь ванну, коньяк и сон! — торжественно провозгласил Игорь Саввович и с поднятой рукой направился в свой кабинет, чтобы надеть пижаму. Он уже стаскивал через голову пропотевшую за день рубашку, когда в гостиной зазвенел телефон. «Кто звонит так поздно?» — подумал он сердито и невольно посмотрел на часы. Было без пяти минут одиннадцать.
— Игорь, Игорь! — проговорила вбежавшая в кабинет Светлана. — Тебя зовет к телефону Сергей Сергеевич. Он только что прилетел...
Бросив рубашку на стул, Игорь Саввович медленно повернулся к жене, посмотрел на нее так, словно хотел спросить, как отреагировала на звонок Валентинова его бывшая жена Елена Платоновна. Что-то же, наверное, произошло с ней, когда Светлана называла имя первого мужа матери, настолько близкого сыну человека, что имел право звонить ему на квартиру в одиннадцать часов?
— Игорь, поторопись, Сергей Сергеевич ждет! У него для тебя есть важные новости...
216
Игорь Саввович медлил. Было трудно идти к телефону, чтобы слушать голос Валентинова и наблюдать за матерью. Он чувствовал, что не сможет отделить одно от другого, так как за последние дни несколько раз на ум приходил невозможный, сумасшедший вопрос: «А не сообщила ли мать Валентинову, что Игорь Голь- цов — его сын?» Впервые это предположение тихонечко кольнуло в грудь в доме Валентинова, когда за окном домашний скворец пел про «любовь — кольцо», потом еще раза три Игорь Саввович с большим трудом отделался от невозможной мысли.
Игорь Саввович деловито прошел мимо матери, сидящей в прежней безмятежной позе, твердой, как ему показалось, рукой поднял трубку и занял такую позицию, чтобы боковым зрением можно было следить за матерью, мельком подумав: «Ну и фрукт же ты, Игорь Гольцов!»
— Слушаю вас, Сергей Сергеевич! Добрый вечер! — старательно, медленно проговорил в трубку Игорь Саввович. — Слушаю вас, Сергей Сергеевич...
Он врал, так как ничего не услышал из того, что сказал в ответ Валентинов, а только следил напряженно, до ломоты в висках, за матерью и видел то, что ожидал увидеть: лицо матери ровно ничего не выражало, кроме того, что может быть написано на лице человека в такой банальнейшей ситуации: раздался телефонный звонок, какой-то Сергей Сергеевич сказал Светлане, что хочет слышать ее мужа, Светлана пригласила Игоря Саввовича, он взял трубку. Все!
— Игорь Саввович! Игорь Саввович! — призывала трубка. — Почему вы не отвечаете, Игорь Саввович?
— Я отвечаю! — как бы недоуменно отозвался Игорь Саввович. — Это телефон, наверное, барахлит.
— Да, да, это телефон барахлит. Слушайте, Игорь Саввович, вы должны немедленно приехать ко мне. Машина у крыльца. Есть важные сведения! Вас оклеветали. Вы слышите меня, Игорь Саввович, вас оклеветали!
Валентинов был так взволнован, что в разговоре ни разу не употребил старинные слова, кричал на газетноканцелярском языке и вообще от возможности быть полезным Игорю Саввовичу вел себя слишком шумно и горячо для его лет и положения. Вот какой любви и преданности, оказывается, добился заместитель Валентинова сарказмом, хихиньками и хаханьками, вынужден¬
217
ным бездельем и нежеланием ударить палец о палец, чтобы помочь провести по Коло-Юлу большегрузный плот — лебединую песню Валентинова.
— Спасибо, Сергей Сергеевич! — сказал Игорь Саввович. — Но я думаю, что хлопоты излишни. Мне, кажется, повезло со следователем. Он уже знает, что на меня напали. — Игорь Саввович помолчал. — Дело значительно сложнее, Сергей Сергеевич, чем ночная драка.
Когда Игорь Саввович в четвертый раз особенно мягко и почтительно произнес имя главного инженера, Елена Платоновна на несколько мгновений закрыла глаза и опустила голову. Это значило, что она волновалась, и волновалась здорово. В трудные моменты — материнская кровь! — Игорь Саввович тоже закрывал глаза и ронял подбородок на грудь.
— Почему? Я вас спрашиваю: почему? — выкрикивал Валентинов. — Что значит, сложнее? Какие еще могут быть сложности... Игорь Саввович, немедленно приезжайте ко мне! Я вам приказываю! Вы слышите меня? О, эти телефоны! Игорь Саввович, вы слышите меня? Игорь Саввович!
Игорь Саввович боролся с Игорем Саввовичем. Ему страстно хотелось этак простенько и с усмешкой сказать Валентинову, что к нему приехала мать Елена Платоновна Веселовская, которую он, естественно, сейчас не может покинуть. Он почувствовал, что его так и тянет сделать сенсационное сообщение, это напоминало ощущение человека, стоящего над бездной и испытывающего необъяснимое желание броситься вниз. Игорь Саввович нервно передернул плечами: вдруг показа¬
лось, что в гостиной стало намного темнее.
— Игорь Саввович, вы слышите меня? Бог знает, как отвратительно работает эта пресловутая связь!
— Я еду к вам, Сергей Сергеевич, посылайте машину.
Мать спокойно поправляла оборки розовой кофточки, так как сняла наконец жакет: в гостиной было жарко и душно, и Елене Платоновне давно следовало бы снять рыцарские доспехи. Справившись с оборкой, Елена Платоновна подняла голову, посмотрела на сына, и он прочел: «Поезжай к отцу. В таких случаях нельзя отказывать!» А Светлана была прежней — отстраненной, тихой, страдающей.
— Тьфу! — Игорь Саввович рассмеялся. — Лампоч¬
218
ка-то, третья лампочка в люстре перегорела! — И деловито спросил: — Она сейчас перегорела?
Светлана покачала головой, а мать сказала:
— Полминуты назад... Надо вкрутить новую.
Главный инженер Валентинов оказался таким энергичным, что выделяемой им в пространство энергией, наверное, можно было электрифицировать город районного масштаба. В одну секунду он произвел миллион действий: поздоровался за руку с Игорем Саввовичем, извинился за атласный халат и шлепанцы, сообщил, что большегрузный плот возьмут в начале августа, что мать, Надежда Георгиевна, то есть бабушка Игоря Саввовича, уже готовит кофе; одновременно с усаживанием Игоря Саввовича в барское кресло Валентинов включил проигрыватель с пластинкой «Лютневая музыка» — каменный век! — а сам уже сидел в кресле с руками, заложенными за спину, и скрещенными длинными ногами. Ну, не человек — вихрь!
— Ну-с, Игорь Саввович, не будем вешать носа! — бодро проговорил Валентинов и пронзил потолок бородкой. — Вот вам славные новости. Старшина моего катера Октябрин Васильевич Рогов видел, как на вас напали. Мало того, любезный Игорь Саввович, старшина знает фамилии еще двух жильцов дома, которые подтверждают нападение. Что вы на это скажете?
Игорь Саввович вдумчиво осматривался. В кабинете Валентинова раньше он бывал только днем, при естественном освещении, и теперь видел комнату другой. Торшер, настольная лампа под зеленым абажуром на вычурной медной подставке, огромные стеллажи, занимающие три стены, зеленое сукно на столе, узенькая тахта для дневного отдыха, наконец, старинная метелочка для смахивания пыли превращали кабинет Валентинова в знакомое с детства, запрещенное и загадочное обиталище отчима, куда пути не было простым смертным. Совпадение было таким отчетливым и полным, что Игорь Саввович почувствовал запах больницы, которым было пропитано все относящееся к отчиму, а потом услышался и его рассеянный, добрый, но запрещающий голос: «Игорь, я занят! Погоди, скоро выйду!»
— Если вы молчите, — обиженно сказал энергичный Валентинов, — то диалог придется заменить монологом. Мне чужда эта ваша якобы современная привычка объясняться на подтекстах, умолчаниях и полуумолчаниях. Речь идет, как явствует из моих слов, о вашей судьбе,
219
а вы осматриваетесь, словно впервые увидели мои кабинет. Странно, весьма странно!
Наверное, Валентинов пришел в себя, если начал опять разговаривать на своем галантерейном языке. «Явствует!» Поэтому Игорь Саввович на главного инженера посмотрел этаким специфическим тренерским взглядом: «Давай, Серега, жми, Серега, кубок — золотой!»
— Я не просто молчу, — выгадывая время, сказал он. — Я думаю, как лучше начать...
Халат, батюшки мои, халат! Вот что еще при вечернем освещении, кроме зеленого абажура, торшера, книг, метелочки, существовало для того, чтобы и сам главный инженер Валентинов и его кабинет казались тождественными с кабинетом отчима. Одинакового фасона халаты, одинакового цвета — бордовые — носили два близких человека: отец и отчим. Атлас, поясок с кистями, громадный воротник, четыре здоровенных кармана... «А что, если мать до сих пор любит Валентинова? — тихонько подумал Игорь Саввович. — Мама, возможно, любит его, если устроила Савве такой же кабинет и одела в бордовый халат...»
— Что с вами, Игорь Саввович? — заботливо спросил Валентинов. — Мнится мне, что беда не так велика, как вам сейчас мерещится. У страха глаза велики, и даже такой сильный человек, как вы, может преувеличивать... Давайте обсудим не спеша положение, посоветуемся, примем оптимальное решение...
— Можно задать дурацкий вопрос? — спросил Игорь Саввович энергичным голосом и тоном Валентинова. — Это из другой оперы, но меня сегодня, кажется, оскорбили, назвав чуть ли не выскочкой... Скажите, Сергей Сергеевич, по чьей инициативе и за какие заслуги меня перевели в трест с плотбища Весенинского?
Игорь Саввович подумал, что задал добротный, нужный вопрос. Ответь Валентинов на него правдиво и только правдиво, от этого ответа можно было бы, как от печки, дотанцеваться до халатов-близнецов, следователей, плотов, болезни Игоря Саввовича, двух инфарктов главного инженера и всего прочего...
— Ах, вот что вас интересует, Игорь Саввович! — растягивая слова, сказал Валентинов. — Вас, наверное, опять... Гм! Понимаю.
Хорошо, что главный инженер Валентинов всегда сидел в такой устойчивой полулежачей позе, когда на
220
трудные вопросы можно отвечать с полной готовностью, не показывая ни дрожащих рук, спрятанных за спиной, ни растерянных глаз, направленных вместе с пикой-бородкой в потолок.
— Понимаю, понимаю ваш вопрос, Игорь Саввович! — по-прежнему медленно заговорил Валентинов.— Прошло пять лет, но я пре-е-е-екрасно помню приказ управляющего Николаева, изволившего использовать вас в качестве руководителя вновь организуемого отдела новой техники. «Молодой специалист, прекрасно проявивший себя в качестве руководителя Весенинско- го сплавного участка, инициативный и технически высокограмотный инженер...» И еще много лестных для вас эпитетов, Игорь Саввович...
После этого Валентинов опустил бороду на грудь и как-то по-птичьи, искоса и украдкой, посмотрел на Игоря Саввовича, наставительно сказал:
— Вот так-то, сударь мой!
Главный инженер лгал открыто и беззастенчиво, а лгать он не умел, и каждое слово так и вопило об откровенной лжи, и птичий взгляд тоже был открыто лживым.
— Вот так-то, милый мой друг Игорь Саввович! Не стоит гневаться на завистников — рядом с талантом их всегда тьма-тьмущая! Будьте выше слабости и глупости завидующих.
Остро пахло книжной пылью, натертым паркетом, ковровым ворсом, цветами из сада — хорошо пахлог интеллигентно так пахло, что хотелось сладостно утопать в кожаном кресле, молчать и ничего и никого не видеть, а в первую очередь — папашу, папеньку, папу- леньку, врущего при бородке, гордо вздыбленной в потолок... «Вот опять начинается!» — со страхом подумал Игорь Саввович, чувствуя прилив болезненной, изматывающей и слепой ненависти. До чего же ненавистными казались донкихотская бородка, барский халат, привычка закладывать руки за спину; очки были противны, голос, большие и сильные руки, по существу, красивые. Перед глазами пылали огненные круги, Игорь Саввович задыхался, кусал губы, считал лихорадочно до двадцати.
— Игорь Саввович, дать воды? — крикнул Валентинов. — Боже, что случилось? На вас нет лица.
— Ничего, ничего не надо! — выныривая из алого тумана, торопливо проговорил Игорь Саввович, испу¬
221
гавшись, что на крик в кабинет может прийти Надежда Георгиевна. — Ничего, я уже... — Он массировал обеими руками горло. — Позвольте мне еще минуточку помолчать... Минуточку, только одну минуточку! — жалобно повторил Игорь Саввович.
— Помилуйте, Игорь Саввович! Прилягте, отдох-: ните...
«Валентинов лжет! — думал Игорь Саввович. — Валентинов лжет, а это значит...» Он боялся думать о том, что следовало за ложью главного инженера — от шутейного отдела новой техники до страшной болезненной депрессии, от синекуры на посту заместителя главного инженера до пьяной драки. Теперь, когда выяснилось, что Валентинов способен лгать, уже не казалось невозможным думать: «Валентинов знает, что я его сын!» А если быть до конца откровенным, то Игорю Саввовичу нельзя было пускать в забубенную головушку ни одну мало-мальски серьезную мысль. Табу налагалось на мысли о матери, сидящей сейчас в розовой кофточке и ожидающей возвращения сына, на жену Светлану, не знающую о том, что в городе существует лимит на бензин, на следователя, информированного об Игоре Саввовиче больше, чем сам Игорь Саввович, на главного инженера, который одним словом мог все поставить на свои места или взорвать к чертовой матери.
— Игорь Саввович, вам лучше?
А как же иначе! Игорю Саввовичу не только «лучше», он просто-напросто сейчас легкомысленный шутник и заправский весельчак. Он выпрямился, поудобнее устроился в кресле и прокашлялся, чтобы в горле не першило.
— Недавно я наткнулся на весьма забавную штучку в «Литгазете»! — превесело сказал Игорь Саввович. — Из рогов и копыт. «Уступлю набор генов!» — Он взял да устроил целое представление: сладко потянулся, зевнул, по-утреннему солнечно посмотрел на родного папашу. — Очень хочется выводить для домашнего пользования новые гены! А что касается драки, то ее надо было придумать, если бы драка не произошла сама собой. Чтобы роман обо мне можно было назвать модно «Гараж для Игоря Гольцова». — И еще солнечнее улыбнулся. — Вот и я научился говорить красиво!
В течение всей этой длинной и действительно цветистой фразы Игорь Саввович не спускал глаз с глав¬
222
ного инженера. Он знал Валентинова грустным, томным, энергичным до фанатизма, начальственным до жестокости, но вот пустым, как целлулоидная игрушка, представить главного инженера не мог. Тем не менее сейчас в глубоком кресле лежал манекен, демонстрирующий атласный халат дореволюционного фасона и рисунка.
— Вы говорите о смешных вещах, Игорь Саввович! — гулким голосом пустотелого существа произнес Валентинов. — Весьма забавно и не лишено изящества;
Глаза главного инженера тоже были пустыми.
— Нет, нет, не лишено изящества! Уступлю набор генов!.. Лихо!
Валентинов опять лгал, объявив фразу Игоря Саввовича о генах только забавной и лихой, то есть придуривался, как семиклассник, если его спрашивают, носит ли он в карманах порох. Игорь Саввович на несколько секунд закрыл глаза и опустил голову: точно так делала его мать Елена Платоновна. «И все началось с пустяка, — подумал он. — Два слова и — взрыв!»
ВТОРОЙ РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ
По Енисею уже плыли редкие льдины, похожие на осколки громадной зеленой бутылки, на сизых от утренних заморозков ветвях набухали черемуховые почки, похолодало, как всегда бывает во время ледохода, но солнце горело с утра до вечера, хотя по ночам шел дождь. На улицах Черногорска земляные первозданные запахи проникали сквозь асфальт, сам асфальт, потеплев, струил марево; троллейбусы смачно и радостно, как мальчишки после дождя, купали в лужах дочерна вымытые шины. Таксисты, совсем обнаглев от весенней бесшабашной и радостной сутолоки, сажали в машины по шесть пассажиров с вещами и чадами, а автоинспектора только осуждающе покачивали головами. За несколько теплых дней город сделался таким многолюдным, точно в него эвакуировали жителей другого города, где весна опаздывала. А к полудню Черногорск наполнялся таким количеством необыкновенно красивых девушек и женщин, что казалось: проходит всемирный конкурс на звание мисс Земной Шар. Между тем произошло обычное — женщины и девушки сняли зимние одежды. Вчера они были закованы в броню зимних и
223
демисезонных пальто, шалей и меховых шапок, русских и нерусских сапог, а сегодня бог знает что творилось! Мужчины прибавляли шагу, мужчины спешили спрятаться в норы... Справа идет, покачиваясь, мини-юбка устрашающей короткости, навстречу движется декольте, •слева звонко постукивает каблучками девушка балетной выпечки. Бедра и груди, ноги и тонкие талии, колени, тонкие лодыжки — пощадите, весенние теплые дни!
Пьяный от весны, очумевший от высокого солнца, тепла, шума, многоцветья, женщин и голубых луж, шел по городу дипломник Лесотехнического института Игорь Гольцов. Ровно три дня оставалось до той минуты, когда он должен войти в большой светлый и строгий кабинет директора института, замереть в нескольких шагах от стола, застланного красной скатертью с длинными кистями, с подснежниками в низких вазочках, стоящих перед каждым из десяти человек. Комиссия по распределению!
«Они у меня попляшут! — думал Игорь Саввович и на ходу сладостно потирал руку об руку. — Они будут наконец со мной считаться! Я им не мальчишка! Я им не робот на трех электронных лампах. Мое решение непоколебимо!»
Целый год, сразу после того, как начался последний, выпускной курс в Лесотехническом институте, родители Игоря, мать, Елена Платоновна, и отец, Савва Игоревич, — могущественные люди в городе, — осторожно, умно и ловко налаживали контакты с такими же могущественными людьми из Лесотехнического, с которыми были знакомы давно, но не так коротко, как хотелось бы перед выпуском сына из института. Начали они с того, что «позволили» уже осенью поступить на первый курс медицинского института дочери ректора Лесотехнического, потом Савва Игоревич, якобы не доверяя ни одному из профессоров-хирургов, сам прооперировал мать проректора Лесотехнического. Когда до выпуска оставался один семестр, мама плюс папа особенно ретиво били землю копытами. В праздники и будни в большой гостиной Гольцовых появлялись бородатые, как геологи, «лесовики», пили, ели, слушали уникальные магнитофонные записи, разглагольствовали о могучих перспективах лесной науки в самой крупной державе мира. Играли по крупной в преферанс с отцом, наезжали на дачу с лыжами и водкой во фляжках. Веселая была зима, надо признаться!
224
Все это делалось для того, чтобы младший Гольцов — надежда, опора и любовь — сразу стал своим человеком на кафедре высшей математики, зачисление куда аспирантом — при его-то таланте и успехах — было делом предрешенным; все это — чтобы освободить младшего Гольцова от лесозаготовок, всех этих бензопил, тракторов, крохотных поселков, комаров и самих лесозаготовителей. Вспоминались сорокаградусные морозы, нескончаемые болота, в которых тонули даже трактора, разливы крупных рек и их притоков, проглатывающих временные поселки, лесные клещи, заражающие смертельным энцефалитом, и тому подобное.
Раздавливая туфлями голубые лужицы, Игорь почти сладострастно представлял, как заставит онеметь неожиданным заявлением комиссию по распределению, как вернется домой, окрыленный свободой и независимостью. Предвкушая возможность вскоре жить так, как хочется, взволнованный необычно щедрой весной, Игорь сейчас совсем не походил на дипломированного инженера, человека двадцати трех лет от роду, — сквозь весеннюю тугую толпу пробирался ошалевший от всего на свете, бездумно ликующий мальчишка.
Игорь шел в городской парк, где на знакомой скамейке его ждала мать, Елена Платоновна, которая давно, лет десять назад, избрала эту скамейку для самых серьезных — определяющих, говорила она, — разговоров с сыном. А Игорь никогда не задумывался, почему именно в городском парке и только на недалекой от оркестра скамейке... Через несколько месяцев Игорь Саввович узнает, что Черногорский городской парк ничем не отличается от Ромского парка, что в том и другом одинокие скамейки стоят позади оркестра и так похожи, что их невозможно отличить друг от друга; кажется, в тридцатые годы близнецов отливали из чугуна, добавляли немножко деревянных реек и тысячами устанавливали в городских парках.
А сейчас, когда ранняя весна в одночасье взломала лед Енисея и с торжественностью колокольного звона над городом поднялось теплое солнце, Игорь упрямо пробивался к городскому парку.
Мать сидела на скамейке, прямая и светлая.
— Добрый день, мама! Ух, погодка!
Никто, в сущности, так и не смог объяснить, чем привораживала и поражала Елена Платоновна, и все- таки там, где она появлялась, хмурые лица проясня¬
15 Виль Липатов, том 4
225
лись, злые добрели, взволнованные успокаивались, хотя Елена Платоновна, видит бог, ничего не делала, чтобы казаться обаятельной, — не улыбалась специальной улыбкой, не проявляла бурного сочувствия, не говорила приятное, а, наоборот, говорила мало, самое необходимое. Мать только появлялась, сидела, молчала — этого было достаточно, чтобы она становилась центром всеобщего внимания.
— Садись, Игорь! — сказала мать. — Промочил ноги?
— Промочил.
— Не беда! — Мать удовлетворенно улыбнулась.— Я тебя разучила болеть из-за мокрых носков...
Казалось бы, что необычное место, специально назначенное для важного разговора, непривычная для города тишина хоть чуточку изменят мать: Елена Платоновна станет, например, торжественной или, наоборот, напряженной от горечи предстоящих тяжелых слов, так как скамейка никогда не предназначалась для легкого душевного разговора. Дудочки! Мать была обычной до будничности и, как бы подчеркивая это, заговорила о такой прозе, как промокшие ноги. Было понятно, что речь пойдет о вещах серьезных и трудных, так как степень будничности матери была обратно пропорциональна трудности дела. Игорь перестал улыбаться и украдкой вздохнул.
— Разговор важный, Игорь! — сказала мать. — Я надеялась, что мне никогда больше — после твоего отказа стать врачом — не придется сидеть на этой скамейке, но — увы! — жизнь располагает... Сядь, пожалуйста, прямо и будь серьезен...
Остро, до тошноты, пахло оттаивающими тополями, вороньи крики перемешивались причудливо с далеким, приглушенным гулом города, деревья с голыми ветвями казались придуманными.
— Ты едешь в Ромскую область? — спросила мать. — Вернее, ты собираешься ехать в Ромскую область по распределению? Это твердое решение?
От неожиданности у Игоря отвисла челюсть. Растерянно оглянувшись, он детским голосом сказал:
— А тебе кто это сказал? Только один человек знает о моем решении.
— Этот человек — Олег Прончатов, но ты не подумай, что он разгласил тайну... Эх, сын, сын! Ты еще долго не научишься скрывать мысли...
1226
Мать раскрыла сумочку, достала пудру, губную помаду, осторожно прикоснулась пуховкой к щекам. Игорь смотрел поверх голых тополей, обнаружив, что на безупречно голубом небе висит одно-разъединствен- ное облако, до такой степени прозрачное, что казалось голубее самого неба, и это было такое облако — фотографы знают, — которое делало солнечный свет еще ярче.
— Игорь, я хочу, чтобы ты не просился в Ромскую область, — негромко сказала мать. — Поезжай хоть на край земли, но только не в Ромскую область! Я пошла тебе навстречу, когда ты совершил чудовищную глупость, отказавшись стать ученым-медиком, теперь прошу тебя поступить по-моему.
Игорь молчал, ничего не понимая. Мать родилась в Ромске, из Ромска ушла в армию, гордилась, что кончила именно Ромский медицинский институт, но вот просила сына ехать хоть к черту на кулички, но только не в Ромск. Говоря об этом, Елена Платоновна старалась не смотреть на Игоря, тогда как он не спускал глаз с матери. Печальные мысли приходили в голову, такие мысли, которым, вероятно, не должно быть места в отношениях матери и сына. Игорь подумал: «А что я знаю о своей родной матери?» Елена Платоновна родила его на двадцать пятом году жизни, лет шесть детства Игорь помнил смутно. Как же прожила мать тридцать с лишним лет? Кого любила, с кем дружила, в каких домах была прописана? В каком же одиночестве существует человек, если даже мать — загадка для сына.
— Мама, я должен знать, почему не могу ехать в Ромск? — мягко спросил Игорь. — Там Олег Прончатов, мне бы очень хотелось стать его учеником. Пойми: только прончатовская школа сделает меня настоящим сплавщиком. Отказ от Ромска может испортить мне жизнь. Прошу тебя, мама, объяснить, почему ты против Ромской области.
Теперь будничная обычность матери, ровное спокойствие, закрытые глаза, склоненная голова — все выдавало волнение. Елена Платоновна было штшъ потянулась за сумочкой с помадой и пудрой, но рука только легла на сумочку, длиннопалая, приметно вздрагивающая.
— Мама, ты должна сказать, почему на Ромск на-' ложено табу!
— Хорошо, Игорь! — тускло проговорила мать и
15*
22?
открыла глаза. — Ты родился в Ромске. На Красноармейской улице, почему-то в железнодорожной больнице. Рано утром, в пятом часу.
. Мать замолчала, а Игорь — он еще ничего не понимал и не почувствовал дурное — глядел на нее с весенней улыбкой.
— А мой паспорт? — спросил Игорь. — По нему я родился в Черногорске...
Мать опять сидела с закрытыми глазами.
— Это подтасовка... Игорь... Боже, дай мне секунду помолчать...
Вороны осатанели. Дрались за блестящий осколок стекла, таранили в воздухе друг друга, клевались, вопили победно или обиженно и были такие грязные, точно минуту назад повылезали из печных труб.
— Савва Игоревич Гольцов не твой отец! — открыв глаза, сказала Елена Платоновна. — Он усыновил тебя, и все документы оформлены при усыновлении... Твой отец Сергей Сергеевич Валентинов. — Мать побледнела. — Написанный им учебник я вчера видела на твоем письменном столе...
Игорь перестал' дышать. Валентинов! Сплавщик-те- оретик, сплавщик-практик, имя которого весь Лесотехнический институт произносил гимново, а теперешний директор Татарской сплавной конторы Олег Олегович Прончатов останавливал самую горячую дискуссию словами: «А вот Валентинов считает, что в данном случае продольными лежнями пользоваться нельзя!» Валентинов, сам Валентинов! Существовал метод сплотки леса «по-валентиновски», сплав лиственницы и березы методом Валентинова, всего пять-семь лет назад заводского изготовления техника вытеснила «лебедки Валентинова». И этот человек — настоящий отец Игоря Гольцова! Хотелось ущипнуть себя, чтобы оборвался дурацкий сон с воронами и одинокой скамейкой, высоким солнцем и бледной от страшного напряжения матерью. По-дурацки хихикнув и раздирая рот в улыбке до ушей, Игорь сказал:
— Ну, ты и даешь, мамец! И это все для того, чтобы я остался в аспирантуре?
Мать прежним голосом сказала:
— Твой отец — главный инженер Ромсксплава Валентинов! Я была уверена, что до своей смерти сохраню тайну, но...
Значит, все это реальность — придуманные деревья,
228
вороны, кирпичного цвета туфли на ногах матери?
У Игоря кружилась голова, горло стискивала болезненная спазма и кровь прилила к щекам.
— Мой отец — твой муж! — вдруг тонко и жалобно вскричал он. — Зачем ты мне рассказываешь про какого-то Валентинова, если мой отец — твой муж!
Он замолчал, он прикусил язык в страхе и растерянности, увидев слезы на глазах матери. Этого не бывало, этого не могло быть! Сколько Игорь помнил себя, он не видел мать не только плачущей, но даже растерянной или побежденной.
— Спасибо, Игорь! — сказала мать, без утайки вытирая слезы. — Ты хороший человек! Если бы я была другой, расцеловала бы тебя.
Елена Платоновна медленно поднялась, тщательно стряхнула хвоинки со светлого' плаща, неторопливо огляделась. Она должна была уйти и уйти как можно скорее, чтобы оставить сына наедине с самим собой. Неярко улыбнувшись, Елена Платоновна деловито сказала:
— Последнее... Если ты не откажешься от Ромска и встретишься с Валентиновым, решай сам — сказать Валентинову правду или ничего не говорить. Выбор по праву за тобой, Игорь! — Она смотрела на голубое облако. — Твой настоящий, отец — один из самых честных, умных и порядочных людей, с которыми меня сталкивала жизнь. И если ты его полюбишь, Савва к тебе не переменится. Он любит тебя. А я... Ты знаешь, что я люблю только одного человека на земле — своего нелепого и непокорного сына! Посиди один, подумай, не торопись... До вечера, Игорь!
Через три дня, во вторник, выпускник Лесотехнического института, молодой специалист Игорь Гольцов, раздумывая об этой смешной, смешной жизни, непереносимо роскошный вошел в торжественную комнату, где распределяли выпускников. За красной скатертью с красными кистями сидели все члены комиссии, сидел и председатель — роскошнобородый профессор-таксолог Лепешев Викентий Гурьевич, он же директор института.
— Игорь Саввович Гольцов? Проходите, садитесь.
Игорь послушно прошел, сел, чинно положив руки
на колени.
— Наша надежда! — поглаживая бороду и радостно • глядя на Гольцова, пророкотал Лепешев. <— Товарищи
229
члены комиссии, все ли познакомились с просьбой кафедры математики рассмотреть вопрос о зачислении в аспирантуру выпускника Гольцова?
Члены комиссии одобрительно закивали.
Слева от председательствующего сидел доцент Гулямов, хороший преферансист, любитель песен Владимира Высоцкого, потом доцент Правдухин, рядом пигалица в очках, математичка Лана Владимировна Улько- ва (специально для нее в доме Гольцовых покупался особый вермут), рядом...
— Нет ли возражений против зачисления в аспирантуру выпускника Гольцова? — форся демократичностью, строго спросил председательствующий. — Прошу высказываться.
— Есть! — поднимаясь, весело сказал Игорь и сам себе понравился: искренностью, правдивостью, головокружительной свободой.
— Члены уважаемой комиссии по распределению, — продолжал Игорь, — прошу послать меня в распоряжение треста Ромсксплав...
Главный инженер Валентинов теперь был подчеркнуто официален и строг, и, наверное, это было самое легкое и правильное после той лжи, которая измотала самого Валентинова и опустошила Игоря Саввовича. Оба молчали, и в тишине качающийся маятник высоких напольных часов, казалось, стрелял медными пулями.
— Я не успел вам сообщить самое важное известие, — говорил Валентинов. — Прилетевший со мной старшина катера был немедленно отправлен к следователю. Туда же через полчаса были вызваны другие свидетели вашей невиновности...
Главный инженер многозначительно помолчал.
— Простите, Игорь Саввович, но на правах старшего по службе я позвонил следователю сразу после ухода последнего свидетеля... Версия о вашей виновности в драке абсолютно исключена. Торжествуйте, Игорь Саввович!
«Валентинов — это Валентинов и пишется Валентинов», — улыбнулся про себя Игорь Саввович.
— Спасибо, Сергей Сергеевич! — поблагодарил он. — Вы много сделали для меня, но время... Ого-го, какое позднее!
Он сделал такое движение, словно хотел подняться,
230
укоризненно качал головой, глядя на часы, показывающие половину двенадцатого, но одновременно с этим как бы мельком спросил:
— А в котором часу вы прилетели, Сергей Сергеевич?
— Можете себе представить, что около пяти часов! — воскликнул Валентинов. — Я уже было отчаялся, но внезапно подвернулся транзитный рейс, и меня любезно подсадили в переполненную машину... В половине шестого я был в тресте...
— И звонили мне домой?
— Естественно!
По расчетам Игоря Саввовича, Светлана встретила Елену Платоновну около четырех, привезла домой, а сама умчалась на очередную консультацию, что значило: на звонки Валентинова отвечала мать. Простодушный и честный главный инженер только теперь заподозрил расставленную Игорем Саввовичем ловушку и с такой внимательностью разглядывал потолок, словно решал — обвалится он сию же минуту или повременит до завтра.
Игорь Саввович поднялся.
— Разрешите откланяться, время позднее.
Двери кабинета распахнулись, скрипнули колесики передвижного столика, и прощальную тишину нарушил молодой голос Надежды Георгиевны:
— А вот и кофе! Только такой сумасшедший человек, как мой сын, пьет кофе в полночь. Ей-богу, Игорь Саввович, вы поддерживаете дурное знакомство...
Мать главного инженера, на этот раз изменив традиции, сама разложцла передвижной столик и, наверное, поэтому была особенно весела и по-молодому подвижна. На Надежде Георгиевне было яркое незнакомое ситцевое платье, яркий передник, на ногах — туфли с белой опушкой и загнутыми носками, что было смешно при ее царственной походке. Хотелось любоваться выражением ее подвижного лица: оживленное, ироничное, такое доброе, какие бывают лица только у мудрых стариков, понявших, что жизнь действительно суета сует, а им выпало счастье вытянуть главный приз из проигрышной лотереи — здоровье до старости.
— Игорь Саввович, вам я положила три ложки сахару! — строго заявила родная бабушка и усмехнулась. — Не перепутала, сударь мой?
Игорь Саввович закрыл на несколько секунд глаза
231
и опустил голову, точно так, как делала его мать, когда волновалась. Черт возьми, куда смотрел Игорь Саввович Гольцов, если при каждой встрече с Надеждой Георгиевной чувствовал, непонятное смятение и тревогу? Каким слепым человеком надо быть, чтобы проходить мимо очевидного, такого очевидного, что даже Светлана это заметила. Игорь Саввович Гольцов, тридцатилетний мужчина приметной наружности, фотографически походил на свою бабушку по отцовской линии Надежду Георгиевну Батенькову в девичестве.
— А чего это вы, сударь мой, остолбенели? — удивилась Надежда Георгиевна и поджала губы. — На мне ничего не написано, во-первых, а во-вторых, ваш кофе на ковер льется...
Мать главного инженера хохотала, откидываясь назад, и поэтому тоже проливала кофе из чашки, предназначенной сыну, а Игорь Саввович, взволнованный, неверующе смотрел на портрет декабриста Валентинова, освещенного специальной лампочкой. В лосинах, в перевязи со шпагой, с бакенбардами, задрав подбородок, стоял Игорь Саввович Гольцов, одетый для роли героя пьесы начала девятнадцатого века.
— Ох, как вы насмешили меня, Игорь Саввович! — продолжала хохотать по-валентиновски бабушка. — Ох, как насмешили!
Звучно пробили музыкальные часы красного дерева, которым полагалось по старости хрипеть, скрежетать и запинаться.
— Пейте кофе, Игорь Саввович, остынет...
Декабрист Валентинов обвинялся в убийстве капитана гренадеров, но судьи убийства не доказали, так как гренадер шел за почестями с жандармами в одной шеренге, и поэтому в него стреляли несколько декабристов. Две пули нашли в капитане — пистолетную Валентинова и чью-то ружейную. Вечная ссылка...
Спустившись с Воскресенской горы, Игорь Саввович немедленно отправил в гараж машину Валентинова и немного постоял на месте... Помигивали по-сибирски низкие звезды, изогнутый месяц висел декоративно, точно приклепанный к небосводу, тополя казались алюминиевыми, политый недавно асфальт — обмасленным. Игорь Саввович стоял на ветродуе, стоял для того, чтобы выветрился из одежды запах ванилина, которым
всегда пахнул дом Валентинова: здесь любили ванильные торты.
Запах ванили кружил и покачивал, запах ванили, оказывается, был связан не только с домом Валентинова, не только с бабушкой, а и... Горела большая и толстая свеча, именно свеча, деревянный потолок подпирали толстые деревянные балки и опоры, с толстой двери свисала толстая короткая цепь, толстые окна выходили на черные толстые деревья, хотя окон фактически в помещении не было; толстая цепь на дверях маятником заколебалась, стукнула, но не зазвенела, двери — фактически их не было — открылись, кто-то толстый вошел и распространил повсюду толстый запах ванилина, а потом, словно белье на веревку, развешал толстые слова: «Кто здесь любит ванильный торт?» Слова так и остались висеть, непонятные, и было ясно, что в несуществующие двери никто толстый из толстого извне не входил, но комната делалась все больше и больше — толстела с пугающей быстротой... Где это происходило? Что происходило?
Игорь Саввович быстро пошел по улице, пустынной и блестящей из-за политого асфальта. Он шел все быстрее и быстрее, пока не поймал себя на том, что торопиться его заставляет трусость, желание как можно скорее услышать материнский облегчающий голос, увидеть ее глаза, обещающие спасти от всех бед. С другой стороны, Игорь Саввович — психопат этакий — не хотел, чтобы мать почувствовала запах ванилина, может быть, еще более опасный для нее, чем для сына. И он нарочно замедлял шаги, и подставлялся ветру, и старался вспомнить, есть ли в прихожей на полочке одеколон или духи.
От матери пахло ванной. Елена Платоновна была той редкой женщиной, кто не пал жертвой модных нейлоновых халатов, вредных для здоровья, и по-прежнему носила кустарные халаты из двойного ситца, простеганные, однотонные. Сейчас, положив ногу на ногу, в зеленом халате, мать сидела за журнальным столиком и курила последнюю за день — пятую — сигарету «Ява»* Распущенные влажные волосы были так длинны, что опускались ниже сиденья кресла, голову Елена Платоновна круто повернула влево, так как внимательно наблюдала за сыном, который — это можно было понять по опущенным уголкам губ матери — вел себя странно* Едва войдя в гостиную, пробормотав «добрый вечер»,
233
он осматривался так, словно впервые увидел собственную квартиру.
— Ладушки! — прошептал Игорь Саввович.
Казалось, он действительно немножко тронулся умом
или стал видеть мир по-иному после того, как убедился в своей похожести на бабушку и легендарного декабриста. Правда, в первом случае Игорь Саввович обнаружил сходство знакомого, а вот теперь занимался вещами незнакомыми. Он игриво думал, озирая комнату: «Помогите, люди добрые, узнать, когда вселился в
гостиную великолепный торшер с тремя рожками —
красным, зеленым и желтым. Когда, задевая за все углы и не входя в лестничные марши, въехал на поселение длинный и высокий шкаф, теперь именуемый стенкой? Когда расстелился по полу толстый нейлоновый ковер, когда в торопежке прискакали четырехногие глубокие кресла? Ни одну из этих вещей Игорь Саввович не покупал, не выбирал, не оценивал, не знал, сколько стоят, а главное — не помнит, когда они возникли в гостиной. В последний вторник? Три года назад? Стоят здесь вечно? Но ведь еще вчера или пять минут назад
Игорь Саввович не мог бы перечислить и вспомнить
мебель из собственной гостиной.
— Что случилось? — протяжно спросила мать. — Что произошло, чтобы так полно отключаться и нервничать? Ты невиновен. Тебя оклеветали. Ты не трус. Тебе предстоит трудный выбор, но кто на земле прожил без этого? Сядь, пожалуйста, Игорь.
Игорь Саввович усмехнулся тому, как Елена Платоновна словами «предстоит трудный выбор» мгновенно расставила людей, вещи и события по нужным и главным местам. Какой ум, чутье, прозорливость! Это вам не главный инженер Валентинов, не видящий и не понимающий ничего, кроме пьяной драки. Это Елена Платоновна Веселовская, поговорившая с неизвестным человеком и сразу назвавшая сыну имя первого секретаря обкома.
— Тебе не кажется, что в гостиной пахнет газом? — втягивая ноздрями воздух, озабоченно спросил Игорь Саввович. — Не забыла ли Светлана выключить горелку?
Нет, нет, это не мать сообщила Валентинову, что Игорь Саввович Гольцов — сын Валентинова!
Мать недовольно посмотрела на Игоря Саввовича.
234
— Сядь, пожалуйста, Игорь, и не ерничай! Скажи, пожалуйста, что еще нового ты узнал у Валентинова?
Игорь Саввович послушно сел на второе кресло возле журнального столика, подумал было устроиться по- валентиновски, но отчего-то раздумал и принялся втихомолку рассуждать о том, что мать — при ее-то выдержке и бдительности — тоже проговорилась. Она подняла телефонную трубку, они с Валентиновым по голосам сразу узнали друг друга и, конечно, долго говорили о сыне. Вот почему мать и спросила: «Что еще нового ты узнал у Валентинова?»
— Ну! — торопила мать. — Рассказывай, Игорь.
Он пригашенно улыбнулся.
— Мама, послушай меня, мама! — страдая за себя и за мать, сказал Игорь Саввович. — Неужели ты до сих пор не понимаешь, что со мной ничего не случилось? Произошло то, что должно было произойти — рано ли, поздно ли. Без разницы, как теперь говорят. Умоляю, не спрашивай меня больше, что со мной приключилось. Начну кусаться.
Однотонный зеленый халат на матери, подсвеченный разноцветным торшером, казался тоже многоцветным, а черные без единой сединки волосы виделись, напротив, седыми.
— Не терплю демагогии! — пожав плечами, сказала мать. — И не терплю вот эти стихи: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал...»
...Запах ванили кружил, пьянил и покачивал. Горела большая и толстая свеча, потолок подпирали толстые балки, толстая цепь на толстой двери, которой не существовало, покачивалась толстым маятником-цепью... Откуда Игорь Саввович мог помнить голос бабушки, произнесшей: «Кто любит ванильный торт?» Как мог он слышать бабушку, если мать семь лет назад сказала: «Отец тебя ни разу в жизни не видел!»?
— И все-таки кое-что случилось, мама! — важно заявил Игорь Саввович. — Если о происходящем со мной написать роман, его можно назвать красиво: «Гараж для Игоря Гольцова» — по аналогии с «Ловушкой для Золушки», «Колыбелью для кошки» и так далее и тому подобное.
Мать держалась с пугающей невозмутимостью и простотой, что само по себе было прекрасно, если бы Елена Платоновна не обладала редким даром из самой не¬
235
вероятной сложности делать вопиюще простые «да» или «нет», «можно» и «нельзя», «будем» и «не будем». Человеку, естественно, хотелось освободиться от сложности, часто думал Игорь Саввович, чтобы понимать конечное, но не всегда, черт возьми, не всегда! «Да» и «нет» — это транзистор, это металл особого свойства пропускать поток электронов в одну сторону или не пропускать. «Да» и «нет» — это, кажется, функция одной-единственной клетки мюзга, частички, милли- микронной частички, умеющей распознавать «да» и «нет».
— Может быть, ты знаешь, в чем я виновата? — обычным тоном спросила мать. — Если б произошло неизбежное зло, то надо винить меня. В чем?
Она словно нарочно говорила это, чтобы Игорь Саввович еще раз убедился, как он прав, боясь стремления матери любую сложность доводить до абсурдной элементарности.
— Ты меня, как всегда, приперла к стенке, мама! — сказал Игорь Саввович. — А что, если вина — это несчастье? И как быть со мной, если я только сегодня, два часа назад, подумал, что совсем не знаю тебя, родную мать?
Игорь Саввович печально опустил голову. Он подумал о том, что плохо знает мать из-за преданной и слепой любви к ней и даже теперь, тридцатилетним, любит ее по-мальчишески, веря в непогрешимость и всемогущество. Мама, мамочка — на этом начинается и кончается горе и радость. Всю жизнь, оставаясь внешне сдержанней и даже на вид холодной, мать служила Игорю преданно, до полной самоотдачи, она, наверное, в служение сыну вкладывала больше, чем во все остальное: работу, любовь к мужу, женскую тягу к красивой одежде.
— Если я виновата, — сказала мать, — если я виновата, то имею право знать вину. Хотя бы потому, что иногда ее можно искупить.
Не более часа назад Сергей Сергеевич Валентинов, родной отец, сильный, умный, смелый человек, пряча глаза и желая провалиться сквозь землю от стыда, врал Игорю Саввовичу так неловко и неумело, как делает первые шаги ребенок. Сейчас перед Игорем Саввовичем сидела женщина, еще молодая и красивая, его родная мать, и вся была такой естественной и правди¬
236
вой, что думалось об относительности правды и неправды. Мать, несомненно, считала себя правой во всех поступках, совершенных во имя блага сына, а Игорь Саввович со своей колокольни лишь трусливо и на мгновение допускал мысль о том, что правда матери — ложь, и такая ложь, что превратила его в верблюда с непосильной ношей на спине.
Это было страшно еще и потому, что за всю жизнь с матерью Игорь Саввович никогда не слышал от нее неправды, а Елена Платоновна требовала от сына, как только он научился говорить и понимать, — быть во всем правдивым. В улаженном, интеллигентном, спокойном доме Гольцовых ложь считалась самым тяжким преступлением. Разбить драгоценную хрустальную вазу, застрелить из рогатки любимую кошку соседки, варварски разбить ненавистное пианино — все это казалось мелочью, чепухой, когда выяснялось, что Игорь солгал. На три-четыре дня объявлялся траур, мать и отец постоянно ходили из комнаты в комнату, за обедом грустно смотрели в тарелки, казались похудевшими, бледными, и все это потому, что Игорь на вопрос: «Где ты был?» ответил: «В кино!», а случайно узналось, что шлялся с приятелями по набережной. Игоря убедили словами и фактами, самой жизнью, что ложь — это трусость, то есть самое страшное из всех человеческих пороков, , и мать поэтому никогда не произносила слово «ложь», а изрекала леденяще: «Мой сын —
трус!»
— Мама, как ты думаешь, мог Валентинов узнать, что я его сын? — спросил Игорь Саввович. — Мне сегодня отчего-то показалось, что он... По крайней мере догадывается.
Елена Платоновна молча покачала головой.
— Этого не может быть! — спокойно и уверенно ответила она. — Валентинов таков, что давно бы выдал себя. При его эмоциональности трудно хранить тайны. А ведь прошло более пяти лет, как ты живешь с ним рядом в мире и дружбе, что мне нравится!
Мать вдруг закрыла глаза и опустила голову.
— Я рада, Игорь, что ты немножко влюблен в Сергея Сергеевича, — продолжала она. — Но еще приятнее, что Валентинов по достоинству оценил твои способности.
Куда исчезла Светлана? Закинув руки за голову, лежа на кровати, неподвижно смотрит в потолок спаль¬
237
ни, расцвеченной неоновым отблеском вывески «Химчистка», терпеливо и робко ждет прихода мужа. Проклятая неоновая «Химчистка» вызывает такое чувство, с каким, наверное, английские рабочие в начале прошлого века крушили ткацкие станки, считая их началом всех бед пролетариата. Игорь Саввович тысячу раз сладострастно представлял, как было бы прекрасно длинной очередью из автомата прострочить неоновые трубки — до единой, до последней.
— Пойду все-таки дрыхнуть! — ухарски произнес Игорь Саввович. — Я, оказывается, здорово устал, хотя, как говорит Валентинов, при-ват-но выспался на лесной лужайке... — Он ждуще улыбнулся. — Мамуль, а ты понимаешь, чем эта завирушка может зы-кын-чить- ся? Это — раз! А во-вторых, понимает ли масштаб катастрофы Светлана?
Отец, то бишь отчим Савва, был глубоко прав, когда ничего не делал, не посоветовавшись с матерью, не зря отдал в ее умные и сильные руки дом и власть над будущим семьи. И вот сейчас, во втором часу ночи, не пробыв в Ромске и половины суток, мать не только поняла крупность беды, но и — в этом Игорь Саввович был уверен— пошла дальше: думала о том, что делать после того, как катастрофа станет прошлым.
— Я боюсь, что Светлана не понимает опасности, — сказала мать. — Ей кажется, что произошел досадный казус, не больше... Поэтому она так беззащитно растерянна.
— Светлана — хороший человек, — задумчиво сказал Игорь Саввович. — И так доверчива, что ее можно запутать в любой истории.
Последние слова Игорь Саввович произнес таким тоном, словно признавался, что его тоже «запутали» и он знает о том, что скоро придется, как в сказке, раздавать «меньшему ложку, старшему поварешку».
— Утро вечера мудренее, — с прощальной улыбкой сказала мать. — Ты не забыл, что я тебя редко хвалю, Игорь? Маленьким ты обижался, требовал: «Скажи, что я хороший!» Теперь это смешно, правда?.. Мне нравится, как ты сейчас себя ведешь. Ты настоящий мужчина, Игорь!
— Спокойной ночи, мама!
— Спокойной ночи, сын!
238
Глава шестая
СУПРУГИ
Игорь Саввович был уверен, что Светлана не спит, но на всякий случай вошел в спальню на цыпочках, оказавшись в темноте, понял, что жена задвинула портьеры, чтобы в комнату не проникал разноцветный отблеск неоновой «Химчистки». Было жарко, душно и так тихо, что слышалось собственное дыхание. Игорь Саввович замер — нужно было глазам привыкнуть к темноте. Постепенно из тьмы выступили контуры мебели: едва различимые кровати, две тумбочки, платяной шкаф, трельяж. Кровати оказались пустыми.
— Светлана! — шепотом позвал Игорь Саввович.
— Я не сплю! — послышался ее голос, но не с кровати, а неизвестно откуда. Игорь Саввович подумал, что ослышался, но спальня вдруг осветилась всеми неоновыми цветами. Светлана, оказывается, стояла за плотно сдвинутыми шторами и смотрела в окно.
— Не могу уснуть, — устало сказала она. — Сожрала две таблетки нембутала, не помогло...
Из окна в спальню струился поток прохладного воздуха, свежий ночной запах тополей, придорожной травы, но всю эту благодать безжалостно убивал неоновый свет «Химчистки». Когда раньше Игорю Саввовичу приходилось выбирать между духотой и неоном, он немедленно сдвигал тяжелые портьеры, а сегодня ему казалось правильным и необходимым страдать от вызывающего разноцветья неоновых букв. «Посыпаю голову пеплом!» — с юмором подумал он и больше не вспоминал о плохом соседе — городской химчистке.
— Раздевайся, ложись...
Игорь Саввович разделся, лег, накрылся до пояса простыней. Ноги оказались в зоне свечения фиолетовой буквы, бедра — зеленой, с красной буквой не повезло — освещала переднюю спинку кровати; красный цвет ляжет на лицо, если Игорь Саввович чуточку приподнимется на подушке.
— Теперь я усну, — сказала Светлана. — Я сразу засыпаю, как только ты заснешь.
Это заинтересовало Игоря Саввовича.
— Разве я всегда засыпаю раньше тебя? — глядя в потолок, спросил он.
— Всегда! — уверенно ответила Светлана. — Ты
239
долго лежишь на спине с открытыми глазами, затем закрываешь глаза и опять долго лежишь, потом переворачиваешься'на левый бок и сразу же затихаешь. Я отключаюсь через несколько минут.
Оказывается, с точки зрения Светланы, существовал целый ритуал засыпания мужа, состоящий из неких постоянных величин. Однако Светлане не было известно, что, повернувшись на бок, Игорь Саввович затихал оттого, что старался поплотнее прижать к постели истерзанную страхами и болью левую половину тела. Это длилось долго, и Светлане так и не пришлось узнать, что муж засыпает на правом боку и часа на два позже ее.
— Я храплю? — спросил Игорь Саввович. — Брось деликатничать, скажи правду.
— Храпишь. Я осторожно кладу пальцы тебе на лоб, и ты сразу перестаешь...
Забавно, что о храпе по ночам Игорь Саввович мог узнать только и только от жены — это объяснялось просто. С детского возраста у Игоря Саввовича была собственная отдельная комната, в студенческих общежитиях он никогда не жил, в пионерских лагерях и студенческих отрядах не бывал, на Весенинском сплавном участке сразу получил две комнаты, в Ромске снял целую квартиру.
— А я ни разу не слышал, чтобы ты храпела, — сказал Игорь Саввович. — Тебя почти не слышно.
Они лежали на спине, глядели в многоцветный потолок, они понимали, что откладывать нельзя — опасно — и, значит, нужно начинать длинный тяжелый разговор, ко они уже так устали, что сил не хватало, и хотелось одного: лежать неподвижно и молча, смирившись с непременной на сегодняшнюю ночь бессонницей; и они лежали тихо, прислушиваясь, как мимо проклятой химчистки, металлически и тревожно постукивая каблучками, торопится домой запоздавшая женщина.
— Мне в голову пришла забавная мысль, — весело сказал Игорь Саввович. — Скоро будет пять лет, как мы женаты, но, по-моему, ни разу не поссорились. — Оживившись, он быстро повернулся к Светлане. — Я не ошибаюсь? Послушай, может быть, ты помнишь что-нибудь похожее на ссору, а? Ну, как это бывает у других: начали с пустяка, кричали друг на друга, хлопали дверями, потом не разговаривали, потом мирились... Было такое?
240
Игорь Саввович увидел, как Светлана сосредоточилась, на лбу прорезалась вертикальная складка, которая появлялась всякий раз, когда жене трудно думалось. Выходит., что Светлана тоже впервые задалась вопросом: ссорились они когда-нибудь или нет?
— Не помню, — наконец сказала Светлана. — Да нет, мы с тобой никогда не ссорились вот так, как ты говоришь...
— А как ссорились? — спросил Игорь Саввович, снова ложась на спину. — Как мы с тобой ссорились, Светлана?
Она помолчала.
— Никак! — услышал он. — Представь, мы никогда не ссорились.
Ему показалось, что Светлана собирается лечь на бок, но раздумала и слова по-прежнему произносила в потолок:
— Не понимаю, к чему ты клонишь? Не к тому ли, что в деревне говорят: «Не бьет, значит, не любит!»
Игорь Саввович легко и незаметно даже для самого себя пропустил мимо ушей слово «любит», пытаясь не потерять ход мысли, опрометчиво переменил позу — подвинулся к передней спинке кровати, и в глаза ударил красный неоновый свет. Ощущение было таким, словно неожиданно и зря отвесили мощную пощечину. Игорь Саввович весь передернулся, тяжело задышав, сполз с подушки. Минута, не меньше, понадобилась ему, чтобы немножко успокоиться.
— Ты спросила, к чему я клоню? — желчно повторил он. — Я никуда не клоню! Вот уже несколько дней, и ты это видишь, я собираю сведения о некоем Игоре Саввовиче Гольцове. Кто такой? Где работает? Как работает? Какой он? Добрый, злой, безвольный, сильный? Черт возьми, я бы никогда не догадался заняться этим делом, если бы следователь Селезнев не поставил вопрос ребром: «Кто есть кто?» — Он неожиданно тихонечко засмеялся. — Вот я и кричу на жену. Если и ты закричишь, произойдет первая ссора... Молчишь? Почему?
Светлана молчала оттого, что курила. Пока Игорь Саввович произносил длинную злую тираду, успела достать сигарету, прикурить, и он — некурящий докторский сын—чувствовал душный запах дорогого табака. Это был первый случай в их жизни, когда Светлана закурила в спальне.
16 Виль Липатов, том 4
241
— Игорь, утром ты идешь к следователю, — сказала она. — Поговори со мной откровенно... Скажи правду! Это лучше, чем жуткая неизвестность... — Она поперхнулась от волнения табачным дымом. — Почему моя мама и полковник Сиротин с таким страхом ожидают возвращения из командировки папы? Мама плачет, но ничего не говорит, а мой крестный — старик Кульмана- ков сказал: «Что же ты с отцом произвела, дура глупая!» — Светлана помолчала. — А сегодня утром к нам домой позвонил председатель Кировского райисполкома — фамилию не помню — и убитым голосом попросил зайти к нему завтра утром... Погоди, не перебивай меня! — умоляюще попросила Светлана, хотя Игорь Саввович и не думал останавливать жену. — Около часу дня в институт ворвалась актриса Голубкина, затолкав меня в самый’укромный угол, сказала: «Можете спасти отца, если будете говорить, что заявление на гараж отнес в райисполком ваш муж». Потом она умоляла меня не говорить никому о тех пятистах рублях, которые она получила от меня как аванс... Что все это значит?
Светлана села на постели, обхватила руками коленки; сигаретный дым, расцвеченный всеми оттенками вывески «Химчистка», окутывал ее голову. Это было неожиданно красиво, походило на радугу.
— Я догадываюсь, что все пути ведут к моей машине и гаражу, но... Игорь, я боюсь думать дальше. Что мы купили? Ворованную вещь? Произвели незаконную покупку, и нам позволили это сделать? Боже, я не разговариваю, я лепечу... Объясни, какое преступление мы совершили?
Когда Светлана умолкла, Игорь Саввович переживал ровное, спокойное, мирное настроение. Голос Светланы, надрывные вопросы, мучительно напряженная поза, дрожащие пальцы вызывали жалость и мысли о том, какая она маленькая, хрупкая, терпеливая, добрая и преданная. От матери и отца, как Игорь Саввович от своих родителей, Светлана унаследовала старинное представление о браке, семье, муже и жене. В доме Карцевых и Гольцовых на словах по-разному, а по смыслу одинаково относились к семье как к святыне. Однажды, например, выяснилось, что мать Светланы и мать Игоря Саввовича, говоря о семье, применяли одно и то же военное слово — тыл, который должен быть прочным, крепким, верным, если человек хотел спокой¬
но жить и работать. Игорь Саввович и Светлана в силу воспитания были семьей, инстинктивно тянулись друг к другу, считали естественным говорить «мы», «нам», «наша», но Светлана только что произнесла «моей машиной», хотя употребляла «мы», когда шла речь о покупке гаража. И она имела право на это местоимение, так как покупала гараж она, Светлана Карцева, а муж, Игорь Гольцов, дал согласие на покупку и даже уплатил деньги. Итак, «мы», когда речь идет о покупке гаража, и «мой», коли говорится об уже приобретенном. Это надо было прочно намотать на ус человеку, отправляющемуся через шесть-семь часов на допрос к следователю Селезневу.
— Меня не надо просить быть откровенным, — сказал Игорь Саввович. — Мне просто-напросто нельзя идти к Селезневу, не поговорив с тобой... Ты кури, кури. Разговор будет длинным, как в моей комнатке. Помнишь?
Речь шла о холостяцкой квартире Игоря Саввовича в Ромске, куда Светлана сначала прибегала в темноте, а убегала, пока еще не рассвело. Почти пять лет прошло с тех пор, но воспоминания были нежны и радостны.
— Перебраться к тебе? — быстро спросила Светлана. — Или нет — потом, потом... Говори!
Игорь Саввович включил лампу для чтения, взял с тумбочки зеленую толстую книгу, развернул, полистал, быстро нашел необходимое.
— Она называется «И все-таки орешник зеленеет», — сказал он. — Это поздний Сименон, мудрый пожилой человек... Вот послушай, что он пишет, хотя кусок длинный... «Каждая супружеская пара — что бы там ни говорили — объединяет не только две индивидуальности, но и две семьи, два клана. Дух новой семьи, ее атмосфера, ее уклад жизни всегда компромисс между двумя укладами жизни, и один из них неизбежно одерживает верх. Это битва, в которой всегда есть победитель и побежденный; естественно, что у побежденного остается чувство если не вражды, то досады...» Все! — Он захлопнул книгу, небрежно бросил на тумбочку. — Цэ трэба разжуваты, вот что я вам скажу, гражданочка... А что ты думаешь по сему поводу?
Жена по-прежнему курила, смотрела прямо перед собой, рубашка свалилась, обнажив маленькое, круг¬
16*
243
лое и блестящее плечо — на нем лежал фиолетовый блик.
— По логике, Сименон наш случай не включает в игру, — раздумчиво произнесла Светлана. — Теперь я, кажется, понимаю, отчего ты начал вспоминать, ссорились ли мы когда-нибудь... — Она быстро обернулась к нему, посмотрела, отвернулась. — Я не испытываю к тебе ни вражды, ни досады. А ты?
Светлана взяла из длинной цитаты главное, однако вместе с этим как бы сфокусировала сложность на важном, но — увы! — не единственном, и сложность исчезла, и приходилось сызнова брать быка за рога. Игорь Саввович подумал еще немного, затем сказал:
— Я тоже не испытываю ни вражды, ни досады... А вот ты обратила внимание на «два клана»? — Он слова произносил осторожно, словно впотьмах пробирался по незнакомой комнате. — Мы с тобой выросли все-таки в непохожей обстановке. Грубо говоря, ты деревенская, я городской, но мы ни разу не почувствовали, что кланы — разные... Мы с тобой из одного профсоюза, как любил говорить мой институтский приятель... Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Понимаю.
Игорь Саввович тоже сел. Со стороны они, наверное, выглядели странно: сидят два человека на кроватях, глядят прямо перед собой, сосредоточенные, каждый на свой лад взволнованный, отчужденный, потому что разговаривают не от естественного желания общаться, а вынуждены обстоятельствами. Оба чувствовали, что теперь, когда речь повелась о кланах, победителях и побежденных, придется зайти далеко, так далеко, что для объяснений может не хватить короткой летней ночи.
— Скажи, Светлана, тебе на самом деле нравится твоя работа? — спросил Игорь Саввович. — Смешно, конечно, что я спрашиваю об этом на пятом году нашего супружества, но скажи: ты увлечена? Я видел тебя за кафедрой — ты мне показалась настоящей. А так ли это в действительности?
Последнюю фразу Игорь Саввович добавил потому, что по себе знал, как могут быть похожи люди, один из которых истинно увлечен работой, а другой только играет энтузиаста. Например, сам Игорь Саввович на многих людей,, в том числе достаточно опытных, производил впечатление увлеченного человека. Постоянные
244
телефонные звонки, папка с документами на столе, думающие нахмуренные брови...
— Я люблю свою работу, — ответила Светлана. — Это сейчас единственное, в чем я абсолютно уверена... Игорь, я знаю, почему ты спрашиваешь об этом.
— Почему?
— Тебе хочется понять, отчего ты ненавидишь свою работу?
«Вот это формулировочка!» — ошеломленно подумал Игорь Саввович. Ненавидишь! Больше года он возглавлял отдел новой техники, пятый год — заместитель главного инженера, и когда же Светлана впервые поняла, что он каждый день идет на работу как на лобное местб? Игорь Саввович Гольцов даже сейчас, когда жизнь его ударила лбом о стенку и заставила с лихорадочной поспешностью разбираться в самом себе, трусливо прятался от мысли, что совершена изначальная непоправимая ошибка. А что может быть страшнее, чем узнать в тридцать лет, что занимаешься не своим делом, ненавидишь то, что занимает в твоей жизни треть суток по времени и властно даже над снами.
— Светлана, послушай, Светлана, — проговорил Игорь Саввович. — Когда ты узнала, что я ненавижу трест и все связанное с ним? И почему молчала?
Дым сигареты от движения воздуха изогнулся, опустившись, окрасился в зеленое, похожее на растрепанную, колеблющуюся водоросль.
— Давно, — сказала Светлана. — Но я молчала. Почему? — Она жадно затянулась сигаретой. — Думала, что образуется. Не знала, что предложить взамен. Боялась, наконец... В последнее же время...
— Ну! Продолжай, пожалуйста.
— Последние год или полтора я жила в постоянном страхе за тебя, хотя и сейчас не понимаю, чего боялась... Несчастья? — Игорь Саввович почувствовал, что жена горько усмехнулась. — Несчастье пришло, но это бирюльки перед тем, что с тобой происходило и происходит. Я видела, как тебе плохо, а помочь не могла..* Казалось, что ты... Нужное слово трудно подыскать..* Мне казалось, что ты погружаешься в сон, теряешь личность, словно у тебя нет имени и фамилии. Ходишь во сне, говоришь во сне, думаешь во сне, ни живой ни мертвый. — Сигарета кончилась, слышалось, как Светлана тушит ее в пепельнице. — Я знаю, ты был у вра¬
245
ча. Но тебе неизвестно, что профессор пригласил меня, как только ты ушел от него. У психиатров это принято — разговаривать с близкими родственниками. Профессор со мной беседовал два часа...
. — Ты можешь разговаривать без пауз? — сердито спросил Игорь Саввович. — И не выбирай, пожалуйста, выражения. Кстати, не надо прикуривать вторую сигарету.
— Надо! — отозвалась жена. — Происходит давно позабытое: разговорная ночь. — Щелкнула зажигалка. — Профессор беседовал со мной два часа, расхаживал по кабинету, так и не сел до моего ухода, не отвечал на телефонные звонки... К чему это я рассказываю? Да к тому, что ты завел профессора в тупик. Бояндуров сказал: «У вашего мужа, предположительно, наблюдается глубочайшая эндогенная депрессия, но причины ее возникновения непонятны. Странный случай! Нет и намека на малейший внешний фактор, могущий вызвать болезнь... Ваш муж слишком благополучный и процветающий человек, чтобы искать отрицательные эмоции». Я решила тебе не рассказывать о встрече с профессором, хотя из клиники врачи трижды звонили, чтобы ты показался Бояндурову. Я промолчала...
— Почему?
— Я боялась тебя, Игорь! Ты был совершенно некоммуникабелен, иронически зол, переполнен пугающей тяжестью. Казалось, ты только и ждешь случая, чтобы наброситься на любого человека... — Снова щелкнула зажигалка, так как сигарета потухла. — Кроме того, я чувствовала себя виноватой в том, что с тобой происходило, и думала, что это я, а не медицина должна помочь тебе. Но я не знала, как помочь...
— Ты говоришь: «не знала», «чувствовала» — все о прошлом. А сейчас ты знаешь?
Они сидели на кроватях так, как это делают в больнице во время врачебного обхода не лежащие, но и не ходящие больные. Из чувства почтительности они садятся, выпрямляются, стараются выглядеть бодрыми, прямыми, веселыми, близкими к тому, чтобы встать на ноги.
— Сейчас я догадываюсь, что каким-то образом принесла тебе вред, — сказала Светлана. — Я совершила какой-то неверный поступок. Меня можно прощать, можно не прощать, но поступок — это дело по¬
246
правимое при любых жертвах. Есть вещи пострашнее! Одна мысль о них может убить. Я не преувеличиваю...
Во время паузы Игорь Саввович раздумывал, что надо все-таки выйти на улицу, при свете молодой луны забросать камнями хрупкие буквы неоновой рекламы «Химчистка». Зазвенит стекло, вспыхнет электрическая молния, выбегут из соседних домов испуганные люди, увидев и поняв, что произошло, счастливо завопят на весь город, подхватят Игоря Саввовича на руки, триумфально понесут вдоль проспекта.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — сказал Игорь Саввович. — Однако ты преувеличиваешь свою вину, если думаешь, что могла мне помочь. Ты бессильна! — Он усмехнулся. — События развивались гармонично, естественно и однозначно. Что-то должно было произойти, и оно произошло! Знаешь что? Дай мне сигарету...
Игорь Саввович неумело прикурил, вернул зажигалку жене, заметив, что она снова обхватила руками колени, сделал то же самое. Он действительно не понимал, что значит «есть вещи пострашнее, одна мысль о которых может убить», но спрашивать Светлану не хотел, чтобы не смешивать ничего в кучу с его странной тяжелой болезнью. Игорь Саввович был удивлен уже тем, что Светлана, оказывается, раньше его заметила неладное. Правда, и он год назад уже подумывал, не болен ли, но всегда находил способы убежать, спрятаться, всячески увильнуть от самого себя, и это продолжалось до тех пор, пока однажды...
— Светлана, — деловито спросил Игорь Саввович, — ты не помнишь, когда впервые заметила признаки болезни?
— В декабре позапрошлого года, — сразу ответила Светлана. — Ты разбирал очередные часы, я вошла и увидела, как ты сидишь неподвижно и безжизненно смотришь в окно...
Выходит, полтора длинных года Светлана жила в страхе и ожидании, надеждах и сомнениях. Как же ей было трудно, бедной! Ждать, надеяться, работать, молчать, постоянно улыбаться, так как Светлана никогда не позволяла себе быть при муже грустной или усталой, нарушить отлично налаженный быт дома. А сейт час эта женщина, его жена, сидела на соседней кровати. обхватив колени руками; знакомы они больше пяти
247
лет, женились по любви, как они думали, прожили вместе долго, ни разу, как только что выяснилось, не ссорились, но вот от чего-то непонятного сидели в двух метрах друг от друга, каждый на своей кровати, сидели в* нелепых позах и вместо того, чтобы объединиться в несчастье, сплотиться, напротив, переживали отчуждение, сами не понимая, почему.
— Со мной не соскучишься! — шутливо проговорил Игорь Саввович, -г— Кажется, что я вчера родился. Например, не помню, когда в гостиной появился трехрожковый торшер.
— Я его купила весной... Ты сказал, что тебе нравится.
Вот такие пирожки!
— А сейчас я думаю о том, что за четыре года ни разу не спросил себя, удалась ли нам семейная жизнь или не удалась? — осторожно продолжал Игорь Саввович. — Это, наверное, потому, что со всех сторон только и слышно: «Какая замечательная пара эти Светлана и Игорь Гольцовы!»... Скажи, а ты размышляла о нашей семейной жизни?
Светлана покачивалась из стороны в сторону, в зубах торчала новая сигарета, от нее пахнуло холодом, точно из открытого окна.
— Послушай со стороны, что ты говоришь, Игорь! — глухо ответила Светлана. — Не думала, что ты можешь быть таким жестоким. — Она передохнула, чтобы говорить спокойнее. — Последние два года я только тем и занята, что думаю о нас...
— И что?
— Если бы я знала, не сидела бы как дура на кровати и не выслушивала твои нелепые вопросы. «Когда появился трехрожковый торшер? Когда я заболел?» Мой вопрос тяжелее: существует семья или не существует?
Игорю Саввовичу пришла в голову несуразная мысль, что в их семейной жизни не было скандалов и конфликтов потому, что все эти годы были только созреванием выбора: жить вместе или не жить? Если
Игорь Саввович не мог вспомнить, когда впервые почувствовал себя больным, то, может быть, дорога к сегодняшнему сидению на двух кроватях была скрытной, тайной, но такой, когда количество переходит в качество?
— И к какому же выводу ты пришла? — спросил
248
Игорь Саввович. — Прошу тебя, пожалуйста, говори без утайки...
Голова Светланы сейчас находилась в фиолетовом освещении, волосы — каштановые и густые — отливали красивой сединой, и он подумал, что жене пошла бы окраска под седину. Она от этого казалась значительнее и старше, а Светлана всегда хорошела, когда не казалась молоденькой. Она относилась к тому типу женщин, которые до сорока лет набирают красоту, а потом случается и лучшее и худшее — это уж как бог положит.
— Что ты скрываешь, Светлана? Уж не думала ли ты, что я...
Игорь Саввович не договорил, потому что мысль была абсурдной: жена молчала и терпела, так как боялась навести его на размышления о неблагополучии их семейной жизни, но не ребенок же он, не кретин в самом деле, если ничего не замечал. Занятый своими проблемами, он не занимался семьей — вот и все. Откладывал на завтра, послезавтра, на отдаленное будущее... «А что откладывал? — спросил себя Игорь Саввович. — Решение чаще ходить со Светланой в кино и театр? Пораньше возвращаться домой?»
— Ты не договорил, — резко сказала Светлана. — Ты все время чего-то не договариваешь, выжидаешь... Говори все!
Игорь Саввович так и собирался поступить, когда начинал разговор, логически кончающийся следователем Селезневым, идти к которому Игорь Саввович теперь мог только с ясным и полным знанием того, что произошло с этим проклятым гаражом, Гелием Макаровичем Фалалеевым и актрисой Голубкиной.
— Что значит не договариваешь? — медленно спросил Игорь Саввович. — Если я не помню, когда в доме появился трехрожковый торшер, то, наверное, мог и просмотреть, что происходит с тобой, выжидающей событий. — Он повернулся к жене, внимательно посмотрел на опущенную голову и согнутую спину. — Неужели ты думала, что я могу уйти от тебя? Ты допускала такую возможность? Светлана, отвечай!
— Я только об этом и думала, — глухо проговорила Светлана. — Я целыми неделями только и думала об этом... Я считала., что гублю тебя, что ты болен из-за меня... — Она яростно прошептала: — Все плохое —
249
это я, я! Драка — это тоже я, я и я! Ах, как непоправимо это, Игорь, как это плохо!
Светлана раскачивалась, и неоновый свет, казалось, пришел в движение, словно кто-то включал и выключал разноцветные буквы; лицо было то фиолетовым, то оказывалось в красном свечении, то мертво зеленело... Игорь Саввович похолодел от жалости и нежности к жене. Какое несчастье, какая боль жили в двух метрах от него! И так было изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, а он спал, просыпался, ездил на работу, болел, обедал и ужинал — существовал в таком мире, где боли и несчастьям жены не было места. Трехрожковый торшер, черт возьми, трехрожковый торшер!
— Я никогда не собирался уходить от тебя, Светлана, — сказал Игорь Саввович. — Боже, да о чем ты говоришь! Я же тебя люблю...
Теперь они снова смотрели прямо перед собой, молчали, и со стороны казалось, что еще одно мгновение — и они бросятся друг к другу, чтобы не походить на сидящих больных, однако они с каждой минутой все отдалялись и отдалялись, словно кровати разъезжались в противоположные стороны.
— Ты сказал: «Я же тебя люблю!» — повторила Светлана. — Ты не помнишь, когда в доме появился новый торшер, но, может быть, вспомнишь, когда ты говорил «Я люблю тебя!» в последний раз...
— Когда говорил? — переспросил он. — Ты хочешь сказать, что... Слушай, Светлана, но ведь слова — это только форма. А по существу, ты моя жена, и, значит, я люблю тебя...
Он сконфуженно замолк. Действительно, за все годы жизни со Светланой не было такого случая, чтобы Игорь Саввович ощутил внутреннюю потребность сказать жене, что он ее любит. Ему казалось, что это само собой разумеется, что сам факт их супружества не требует словесного подтверждения. Ну а перед женитьбой? Говорил ли он Светлане, перед тем как она перебралась в его квартиру, что любит ее? И этого Игорь Саввович не помнил...
— Ты не веришь, что я тебя люблю? — слишком громко спросил он. — Не веришь?
— Я думаю, ты сам не знаешь, любишь меня или нет! — тоскливо ответила Светлана. — Надо смотреть правде в глаза: ты был бы здоров, если бы я в твоей
250
жизни занимала хоть крохотное место. Я уж не говорю о любви, она захватывает человека целиком. Я видела, как ты мучаешься, и все ждала, что ты захочешь моей помощи, но ты желал одиночества и получил его — бороться с этим невозможно. Иногда я думаю, что ты до сих пор не чувствуешь себя женатым, а когда вспоминаешь, то удивляешься.
Они ощущали, что с каждой секундой им все труднее и труднее понимать друг друга, что каждый думал о своем, слышал только то, что хотел услышать, и не понимал того, чего не хотел понимать. Так уж устроен человек, что даже двое очень и очень близких людей до конца понять друг друга не могут.
Вот еще о чем напряженно думал Игорь Саввович, неумело держа в пальцах длинную сигарету. Что действительно происходит, если он то и дело задает наивные вопросы «почему?», «отчего?», «зачем?» и все чаще и чаще чувствует себя так, словно он только что проснулся и, осматриваясь, не может понять, где находится и почему, черт возьми, здесь находится. Почему, отчего, зачем? Теперь очевидно, что годы прошли как во сне, в забытьи, и пробуждение оказалось тяжелым.
— Уютненькая история получается, — протяжно сказал Игорь Саввович. — Ты считаешь, что я тебя не любил или разлюбил, а я только сейчас докумекал, как ты медленно, но верно отдалялась от дома... Ты даже лето отдаешь работе, а зима?... Ты так много работала, точно спасалась...
— А что мне оставалось делать?
Действительно, что оставалось делать женщине, муж
которой никак не мог освоиться с мыслью, что он женат? Уйти от мужа, во-первых, или самоустраниться, во-вторых.
— Светлана, послушай, Светлана, — почти шутливо начал Игорь Саввович. — Тебе не кажется, что наш разговор похож на бред? Сидим по-дурацки на кроватях, курим, настороженно следим друг за другом. Если бы мне раньше сказали, что такое возможно, я бы не поверил. Мы прожили вместе почти пять лет, больше чем на месяц ни разу не расставались, а вот сидим, разговариваем так длинно и мучительно, что уже ничего не понимаем.
Светлана прикуривала, наверное, четвертую сигарету, прикурив, долго — по забывчивости — держала в
251
пальцах горящую зажигалку. Потом раздался щелчок. Светлана повернулась и стала жадно глядеть на мужа; глаза жены были в полосе зеленого свечения и от этого казались большими, очень большими. Игорь Саввович тоже неподвижно и молча смотрел на Светлану, на его лице лежал синий блик.
— Что же получается, Светлана, — поняв, что жена не примет его шутливого тона, сказал он, — выходит, столько лет мы прожили под одной крышей чужими людьми?
— По большому счету ты прав! — очень тихо ответила Светлана. — Но это не твоя вина, а твоя беда! Ты давно живешь так, словно не просыпаешься. Прости, но ты похож на автомат, запрограммированный для самых элементарных действий — сон, работа, еда... И это тоже не твоя вина, а твоя беда.
Сигарета Игоря Саввовича давно догорела, он не знал, куда деть окурок, и машинально протянул его Светлане, а сам медленно повторил про себя: «Столько лет мы прожили под одной крышей чужими людьми». Было от чего собирать на лбу морщины и опускать тяжелую, гудящую от напряжения голову.
— Ладушки!
ТРЕТИЙ РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ
Вскоре после назначения начальником отдела новой техники треста Ромсксплав, на второй день ноябрьских праздников, Игорь Саввович шел к Валентинову домой, приглашенный главным инженером на чашку чая и ванильный торт особого вкуса и полезности, который умела печь только мать Валентинова. С опозданием на час по обледеневшей узкой тропинке на Воскресенскую гору поднимался столичного вида пижон: дубленка расписная, туфли-шлюпки, костюм из самой настоящей английской шерсти, галстук с французской этикеткой.
Двери открыла веселая и шустрая старуха — мать главного инженера, радостно и шумно приветствовала Игоря Саввовича, строго велела не снимать «чеботы», то есть проходить в кабинет сына без всякого стеснения в туфлях-шлюпках. Повеселев от шума, учиненного бабушкой Надеждой Георгиевной, он специальной вьющейся, легкомысленной походкой вошел в большой кабинет главного инженера. Народу было с гулькин нос:
252
сидела в глубоком кресле маленькая и тоненькая девчушка, напротив устроился Володечка Лиминский, приглашенный вместе с Игорем, и, видимо, уже давно стрелял глазами в девчушку, «кадрил» напропалую, что видел Валентинов и в ответ улыбался особой — антиплебейской, как называл ее Игорь Саввович, —• улыбкой, одновременно разговаривая с отчаянно веселым толстяком. Два других гостя, видимо, муж и жена, с достойным видом занимали два простых венских стула. Валентинов радостно представил девушке, толстяку и супругам своего молодого коллегу..
— Прошу любить и жаловать! Игорь Саввович Гольдов... Светлана Ивановна Карцева. — Он показал на девчушку. — Софья Арсентьевна и Петр Петрович Бережковы — гордость советской биологии. Михаил Григорьевич Семенов — мой полковой командир и друг детства... Игорь Саввович, прошу быть как дома...
Фирмен&ые посудины для коктейлей, облепленная медалями бутылка водки, сандвичи, накрахмаленные тонкие салфетки с монограммами, фамильное столовое серебро декабристского рода; всегдашнее принципиальное отсутствие на столе черной икры, истребляемых и вымирающих осетров и стерляди. Взамен этого было все необходимое для сибирского деликатеса, — пельменей: уксус в хрустальном графине, масло для любителей есть пельмени с маслом, сметана — для любителей есть пельмени со сметаной, красный перец и черный — для любителей пельменей с перцем.
— Присаживайтесь, присаживайтесь, Игорь Саввович!
Он живенько присел на скамеечку для ног — седая старина! — и принялся наблюдать за биологами, супружеской парой лет за сорок, так как дамская часть «гордости советской биологии», уважаемая Софья Арсентьевна, выкаблучивалась, словно столичная манекенщица, гостящая в родной деревне. С ног до головы заграничная, в туго обтягивающем брючном костюме, она возлежала на стуле, заводила глаза под лоб, изображая светскость, чтобы соответствовать аристократичности валентиновского дома, то есть салфеткам с монограммами и фамильному серебру, вещей, естественных для Валентинова и поэтому незамечаемых. Софья Арсентьевна серебристо смеялась или держала на лице ослепительную улыбку. На всякий случай Игорь Саввович посмотрел на Софыо Арсентьевну одобрительно и как бы
253
пораженно: «Вы прекрасны! Вы удивительно прекрасны!» Поймав его взгляд и приняв за чистую монету, «гордость советской биологии» с утроенной силой бросилась в светскость.
— Мы говорили об экологических проблемах, — сказал Валентинов. — Петр Петрович совершенно неожиданно для меня одинаково сильно обеспокоен вырубкой кедровников и лиственниц, осин, кустарников типа чернотала, ивняка и ветельника... Натурально, истребление осинников опасно для спичечного производства, но вырубка кедровников, или как мы, сибиряки, говорим, кедрачей, — многоважная потеря, равносильная катастрофе.
Только-только привыкающий к валентиновской манере говорить, Игорь Саввович посмеивался над тем,что в праздничный день хозяин и его почтенные гости говорили об экологических проблемах, что Валентинов употреблял слова «натурально» и «многоважно», что веселый толстяк и даже Володечка Лиминский слушали ученый разговор с деятельным вниманием.
— Вы должны понять, Петр Петрович, что гибель кедровников ни с чем не сравнимая катастрофа...
На Валентинове были незнакомый Игорю Саввовичу черный костюм, лакированные туфли, галстук-бабочка и белая рубашка, накрахмаленная до того, что казалась выкованной из белой листовой стали; знаменитая бородка Сергея Сергеевича, естественно, торчала пикой. Сегодня Валентинов казался молодым, было трудно поверить, что он перенес два инфаркта. Наблюдая за ним, Игорь Саввович досадливо слушал протяжный и манерный голос Софьи Арсентьевны.
— Вы одного не учитываете, дорогой и многоуважаемый Сергей Сергеевич. Ирригация, как известно, вызывает приток влаги из близлежащих районов почв, между тем болота...
А чем занималась маленькая, худенькая и — это Игорь Саввович заметил не сразу — по-настоящему красивая девчушка? Выяснилось, что она предельно внимательно, серьезно и уважительно слушала ученую жвачку и была забавна тем, что то и дело меняла выражение лица. Когда говорил Валентинов, девчушка, казалось, думала: «Прав, совершенно прав!», — а когда брали слово Бережковы, на лице девчушки снова можно было прочесть: «Правы, они совершенно правы!» Это значило, что, во-первых, маленькая женщина
254
очень добра и, во-вторых, не имела никакого отношения к лесосплаву и биологии, а по тому, как сидела в глубоком кресле — вместе с ногами, в привычной позе, было понятно, что она — давняя знакомая Валентинова. Поразмыслив, Игорь Саввович быстренько пододвинулся к ней со своим стульчиком, сморщив нос, интимно сказал:
— Если я не опоздал и Володечка Лиминский потерпел крах, то сразу вношу ясность. Я за вами ухаживаю, что значит произвожу закидоны. Вопрос первый: по какому рецепту и где производят таких, как вы? Вопрос второй: нравятся ли вам холостые мужчины моего типа? Третий, то есть последний, вопрос: по какому телефону вам звонить?.. Я ничего не забыл из большого джентльменского набора?
Светлана Ивановна негромко, но весело засмеялась, повернулась к Игорю Саввовичу, без смущения и кокетства посмотрела ему прямо в глаза, и он сразу понял, что перед ним — редкая в наше бурное и переусложненное время женщина. Естественность, простота, доброта к ближнему, полная искренность... На лице — ни следа косметики, ногти — красивые от природы — не накрашены, и пахло от маленькой женщины чем-то таким, что напоминало запах белья, когда его вносят с мороза в теплую комнату. Были ли это гениальные духи, или так всегда пахла эта особенная женщина? Игорь Саввович удивился, когда Светлана Ивановна с улыбкой спросила:
— А чему вы смеетесь? У меня, наверное, растрепались эти проклятые волосы. Просто грех с ними.
Игорю Саввовичу казалось, что он и не думал смеяться, но, видимо, смеялся, если об этом говорила Светлана Ивановна. Он еще ближе пододвинулся к ее креслу, сделав предельно серьезное лицо, сообщнически зашептал:
— Светлана Ивановна, ваши чудесные волосы в порядке, но отчего вы мне не напомнили, что я забыл произнести самую коронную фразу?
— Какую же? — Она совсем развеселилась. — Произносите.
Он проникновенно сказал:
— У меня такое чувство, словно мы с вами знакомы давным-давно.
Они так увлеклись, что не слышали финал спора на экологические темы, пропустили момент появления ма¬
255
тери Валентинова, питье коктейлей и не сразу поняли, что уже готовы пельмени. Валентинов, видимо, не хотел прерывать их разговор, В свою очередь, Игорь Саввович, пресыщенный стильными красавицами с распущенными волосами, красотками из Дома моделей и зрелыми матронами, которых привлекали его широкие плечи и обвитое мускулами тело культуриста, так обрадовался простоте и молодости Светланы Ивановны, что не сразу поверил ее университетскому образованию и близкой защите диссертации — чзрез год и три месяца.
Вот все так и началось. Примерно через неделю Игорь Саввович позвонил в общежитие аспирантов, где жила Светлана; пока ее искали, долго слушал, как пели, орали и хохотали будущие доктора наук и академики, затем раздался как бы шелестящий, негромкий, но всегда — это выяснилось позже — спокойный и веселый голос хорошо воспитанной дочери учительницы.
— Карцева слушает.
— А Гольцов говорит: «З.драсьте!» Слушайте, гражданочка, не прошвырнуться ли нам в киношку? Неореализм или студия Довженко — нам без разницы! Ась? Не чувствую бурной, долго продолжающейся радости.
— Воспитана в послушании и терпении. Когда?
— Ай-яй-яй! Разумеется, немедленно, сию секунду. Стою с машиной на углу почтамта... Я заметил, что вы не пользуетесь косметикой. Это., безусловно, приближает свидание... Я говорю красиво?
— Ага, но для начала сойдет. Я пошла одеваться.
Светлана оказалась точно такой, какой Игорь Саввович увидел ее у Валентинова, — доброй, искренней, простой и вдобавок ко всему мужественной. Он понял, что она умна тем незаметным для поверхностных людей умом, который не демонстрируется, не растрачивается по пустякам, брезгливо чурается быть показным. Не одна неделя и не один месяц прошли, пока Игорь Саввович понял, как прекрасно образованна Светлана, как много и точно знает и как романтична и привлекательна естественным для нее стремлением не демонстрировать свои редкие ум и знания. Однако самым главным и решающим было то обстоятельство, что через месяц-другой Игорь Саввович понял и почувствовал, что он и Светлана оказались внутренне чрезвычайно похожими.
И неизбежное должно было случиться. Только глу¬
боко мыслящие люди знают, что много лет прожившие счастливые и любящие супруги не становились за годы брака похожими друг на друга, как это часто кажется, а уже походили и при первом знакомстве невольно полюбили друг в друге самих себя. Каждый человек — это все-таки более или менее Нарцисс. Не понимая, что ему Светлана нравится внешне оттого, что у них одинаковые подбородки, разрез глаз и овал лица, что они одинаковым движением убирают со лба волосы, увлеченный ее добротой, умом и женственностью, Игорь Саввович вскоре уже не расставался со Светланой, и она первая с деревенской простотой в темноте дряхлого подъезда шепнула ему на ухо:
— Я тебя люблю! Могу сто раз повторить.
К этому времени Игорь Гольцов, потом Игорь Саввович Гольцов побывал, наверное, в десятке женских кроватей. В семнадцать лет его заманила к себе домой аспирантка мединститута Валентина Ускова, напоив коньяком, уложила рядом с собой. Перепуганный романами, грозящими болезненным отвращением и хвастовством лгущих приятелей, Игорь Саввович никогда не забудет этой женщины, благодарность к Валентине навсегда останется в нем. Через неделю Валентина тактично и мягко выпроводила Игоря, замыслившего в день совершеннолетия жениться на ней, и он переживал страшную драму, кончившуюся, впрочем, через полтора месяца. Потом он влюбился в десятиклассницу, которой родители разрешали гулять только до одиннадцати часов, а в институте Игоря искренне полюбила красивая провинциалочка, и они часто ходили далеко вдоль реки, к знаменитым каменным столбам, так как крестьянская дочь была хороша и смела под звездным небом и робка, застенчива в комнате Игоря, имеющего к этому времени отдельный вход и крыльцо в особняке родителей. Большой путь прошел к двадцати пяти годам красивый и сильный Игорь Гольцов, но бабником не стал, наоборот, взрослея, все сильнее презирал мужчин- проституток и к тому же Володечке Лиминскому — близкому и хорошему в конечном счете человеку — относился с едва скрываемой брезгливостью.
В конце на редкость теплого и ясного февраля он, денежный начальник отдела новой техники, предложил Светлане переехать из аспирантского общежития к знакомой Игорю славной молчаливой старушке, у которой он прожил свой первый месяц в Ромске. В кварти¬
17 Виль Липатов, том 4
257
ре Игоря Саввовича, находящейся в многолюдном доме, Светлана чувствовала себя неуютно, и Игорь Саввович сказал Светлане, что будет платить за ее квартиру. Ему понравилось, как к этому отнеслась возлюбленная — без всякого ханжества, спокойно, только сказала, что он предлагает старушке на десять рублей больше, чем следует. «Сорок рублей — царская цена!» — объявила Светлана, и через неделю выяснилось, что сорок рублей — дар с неба для старушки. Игорь Саввович тогда зарабатывал уже двести двадцать рублей, а родители Светланы воспитывали ее с детства в спартанском духе. Как только дочь сделалась аспиранткой, председатель Кривошеинского райисполкома Карцев перестал переводить телеграфом пятьдесят «студенческих» рублей, и Светлана жила только на аспирантские, едва сводя концы с концами.
Итак, ключ от уютного домика лежал у Игоря Саввовича в кармане, в любое время дня и ночи Светлана безропотно принимала его, и естественно, скоро наступил отрезвляющий миг. Это произошло в тресте, в середине рабочего дня, неожиданно, как гонконгский грипп. Сославшись на головную боль, он пришел в свою холостяцкую квартиру, улегся на кровать поверх одеяла, положил ноги на спинку и подробно стал думать, что вся эта идиллическая история добром не кончится. Жениться в двадцать пять лет в эпоху научно-технической революции чрезвычайно глупо, но мысль расстаться со Светланой — искренней и преданной — вызывала страх. Она была способна на все, она без тени юмора слушала старинную песню: «...в речке глубокой я утоплюся» — и уже несколько раз говорила, что не станет жить, если с Игорем что-нибудь случится. И все-таки Игорь Саввович твердо решил порвать со Светланой, причем для ее же блага, чтобы достойная всяческого счастья маленькая женщина не истратила лучшие годы жизни на человека, который принципиально не хочет жениться до тридцати пяти лет.
Окончательное и тяжелое объяснение он приурочил к субботнему вечеру, но на субботу, как нарочно, пришлось катание на яхтах, потом жарили шашлыки возле Брагина, возвращались за полночь, и у него не было сил объясниться со Светланой: она и сама так раскисла, что и словечка не могла вымолвить, когда шофер дядя Вася, не будучи еще личным водителем Игоря Саввовича, бережно подвез их к дому славной старушки.
258
Три недели — двадцатый век, невиданные ускорения, сутолока — Игорь Саввович не мог выбрать времени, чтобы объясниться со Светланой, а в середине четвертой недели, почти на рассвете, соскучившись, хотя они не виделись только сутки, Светлана сама пришла в его мрачное, но большое холостяцкое убежище. Разбудила поцелуем, улыбнулась радостно, целомудренно отвернулась, ждала, пока он, спящий всегда голым — докторский ребенок! — натянет смешные цветные трусы. Потом озабоченно сказала:
— Хочу есть! Холодильник...
— ...полная чаша! ■— подхватил он. — Могу накормить весь аспирантский корпус.
Через полчаса они ели любимые Игорем сосиски — солидные и насквозь положительные — степенно разговаривали о дождях, как бы нарочно приуроченных к посевной, одновременно радовались за сплавщиков, потому что проливные дожди поднимали уровень воды и этим облегчали проводку большегрузных плотов по обским притокам. Сплавщики приращивали к плану такие жирные куски, что лесозаготовители хватались за голову, а газеты пылали восторженной страстью к ге- роям-сплавщикам.
— Валентинов очумел! — добродушно резвился Игорь Саввович. — Похож на кота, надравшегося валерьянки, объясняется только охфаризмами, как говорит наша уборщица. Кстати, ты заметила, что все дворники и сторожа теперь употребляют слово «ассоциация». Наш, например, вчера увидел меня, подходит: «Драсьте, Саввич! По ассоциации вспомнил: надо три рубля до получки!»
Светлана хохотала, роняла в тарелку сосиски, вытирала слезы, и он был рад за нее — хорошее, неожиданно хорошее выдалось утро!
— Так вот, я и говорю, что Валентинов, то ись по- нашенски Водолаз, ровно кот от валерьянки, сильно очумел! — перешел Игорь Саввович на местный, чалдонский говор, которому научился за время работы на Весенинском сплавном участке. — Ну, чистый котище — ус у его на растопыр, рот у его, сказать тебе, набок, глаз навыкат. Ореть, ровно чумной: «Трест мо- гет дать рекордно в его истории количество лесу!» А я,, скажем, ему отвечаю: «Нова техника, над которой старшее меня никого нету, не выдюжит». Он обратно кричит: «Что не выдюжит?» А я режу: «Да нова техника,
259
котора едет». Он на меня с кулачищами: «То ись как едет, когда она приехамши!» А я говорю: «Как же она приехамши, когда эта сама нова техника приблудилась. Она, могет быть, об это время от нас едет, а потом, наоборот, случаем к нам поедет, ежели сильно не устареет эта, котора... Ну, как ее? Нова техника!»
Светлана уже дохохоталась до икоты, держалась за живот, а он продолжал медленным горестным тоном:
— Он ить у нас порченый, Валентинов-то! Головой скорбный! Ему, скажем, кладут на стол бумагу, он читает: «Усиленные сплоточные машины вам высылаются конце марта...» Так он ей, бумаге, — ты за табуретку держися, — верит. Видано ли тако дело по нонешним временам?
Выражением лица, манерой жестикулировать, задранным подбородком Игорь Саввович так походил на главного инженера, что Светлана упала на кровать, корчась, только стонала:
— Прекрати, Игорь, ой, прекрати! Я тебя умоляю: прекрати!
— А мне теперича останову не будет! — со зверским лицом объявил он. — Вот я и говорю, что Валентинов кажну бумагу до конца читат, а скажешь ему: «Три короба вранья да обману!», шибко сердится! Он шибко на таки супротивны речи сердится, Светлана!
Светлана изнемогала, свернувшись калачиком на ярко-красном стеганом одеяле, подаренном Игорю домработницей Гольцовых, когда он уезжал из дому, чтобы начать самостоятельную жизнь. Откровенно деревенское, такое веселое, что Игорь Саввович наотрез отказался от атласного пухового одеяла, предложенного матерью. К тому же он видел, как домработница всю зиму что-то шила в своей квадратной комнатке.
— Игорь, прекрати! Мне больно.
Он подошел к Светлане, наклонившись, погладил плечи, прилег рядом. Она разделась быстро, легко — это было трогательно и ново для Игоря Саввовича: женщина в ней просыпалась долго, мучительно долго; она сама заговорила об этом, сославшись на автора романа «Жизнь», наблюдательного и, вопреки общему мнению, совсем не эротического писателя Мопассана. «Я северная женщина, — сказала Светлана. — Северная женщина из клюквенных болот. Если уж француженка, южанка долго ждала ручья в горах, то мне... Все придет, Игорь, не страдай за меня. Я счастлива!»
260
Они лежали под красным одеялом, Светлане отчего- то сегодня было холодно в теплой и даже жаркой комнате, она благодарно прижималась к его выпуклой сильной груди.
— Женись на мне! — внезапно прошептала Светлана. — Я буду хорошей женой... — Помолчала, прижалась еще теснее... — Ты замечательный, добрый, умный, красивый. Главное, добрый... Только я не знаю, любишь ли ты меня. — Светлана поцеловала его, замерла, ожидая ответа. — Хорошо! Я все равно дождусь, когда полюбишь — терпеливая!
«Что за дурацкая привычка не пользоваться абажурами, вешать под потолок одну электролампочку!» Это вдруг вызвало у Игоря Саввовича острое раздражение, хотя он сам все забывал купить абажур. Казалось, что лампочка горит, но это только отражался на сферической поверхности солнечный свет ясного утра. Игорь Саввович быстро подумал: «Вот тебе и дал Светлане отставку! Меня собираются женить!»
— А не рано ли нам жениться, Светлана? — мягко и задумчиво сказал он. — В двадцатом веке женятся или в восемнадцать лет, или после тридцати. Мы нарушаем все сроки.
Светлана, оказывается, просто не услышала Игоря Саввовича, так как сама говорила:
— Моя мама мудрый человек! Она утверждает, что женщина не может обещать мужчине стать помощницей, взвалить на свои плечи все мужские горести и не^ счастья, разделить с мужчиной радость и беду. Я удивилась: «Почему, мама?» — Светлана приподнялась, чтобы смотреть Игорю Саввовичу прямо в лицо, и повторила: — Я удивилась: «Почему, мама?» Она только улыбнулась: «Да потому, что такая женщина сядет мужу на шею, как только почувствует себя равной с мужем. Нет, дочь моя, женщина мужчине может помочь только одним...»
— Ну, и чем же? — заинтересовался Игорь Саввович.
Светлана немного смутилась.
— Мама сказала: «В радости еще можно делиться пополам, а в горе женщина должна сделать единственное — лечь ковром мужчине под ноги!» Одним словом, мать считает, что брак — это сладкая и необходимая каторга для женщины... Домостроевщина!
Пахло от Светланы, как всегда, здорово — мороже¬
261
ным бельем. Отговорив, она легла на спину и долго молча лежала с открытыми глазами.
— Женись на мне, Игорь! — сказала она в пространство. — Женись! — В ее голосе не было ни грусти, ни самоунижения, ни стеснения, ее открытое сейчас тело было прекрасно здоровьем, нерастраченной девственностью, обещанием еще расцвести и пробудиться.
— Если только кивнешь, я навсегда останусь у тебя, — продолжала Светлана, — Я не могу без тебя прожить и один день...
Игорь Саввович медленно сказал*
— Оставайся.
Тьма за окнами спальни сгущалась, видимо, собирались тучи, застившие луну, и неоновый свет превращался в пытку, от которой Игорь Саввович яростно стискивал зубы, а Светлана сердито морщилась. Он сидел на кровати прямо, лицо и позу жены видеть не мог, но чувствовал, как Светлана незаметно разглядывает его, и это был тот редкий случай, когда он не понимал, что она сейчас думает о нем, а незаметное, точно незнакомого, разглядывание было неприятно, и он подумал, что так, наверное, должны разглядывать друг друга муж и жена, пришедшие в суд разводиться тихо и мирно, уставшие от жизни под одной крышей. Суд уже удовлетворил их желание, можно идти в разные стороны, но они напоследок, теперь чужие, невольно и долго разглядывают друг друга.
— Игорь, мне хочется задать тебе еще один вопрос, — сказала Светлана, и в ее голосе послышалось такое, что заставило Игоря Саввовича быстро повернуться к жене. — Мне трудно об этом говорить, но если... Если мы с тобой после этой кошмарной истории не расстанемся, то нам все время придется... Ах, да хватит фокусов! Почему ты не хочешь иметь ребенка?
Светлана последние слова произнесла так, словно прыгала на выставленные сплошняком копья, ее неоновое зелено-фиолетовое лицо казалось неживым, словно маска.
— Я не хочу ребенка?! — Игорь Саввович поражен- но откинулся назад* ■*■?? Чепуха! Бред! Когда я тебе говорил, что не хочу ребенка?
Стенные часы в гостиной пробили три раза, за окнами прорычал заблудившийся грузовой автомобиль,
262
минутой позже трижды прокуковала кукушка кухонных часов.
— Ты никогда не говорил, что не хочешь ребенка,— хрипло произнесла Светлана. — Это правда, но ты не говорил, что хочешь иметь ребенка,
Что происходило? Игорь Саввович все годы семейной жизни был абсолютно уверен, что Светлана твердо и рационально не хочет иметь ребенка — сначала из- за кандидатской диссертации, потом из-за решения писать докторскую. Мало того, однажды Светлана сказала, что женщине, какой бы она ни была, всегда приходится выбирать между наукой и пеленками и все- таки чаще всего пеленки побеждают науку. «Случается, — добавила Светлана, — что пеленки и наука мирно уживаются, но это бывает у необычно сильных людей».
— Почему ты мне не сказала, что хочешь иметь ребенка? — разозлившись, крикнул Игорь Саввович. — Почему? Ну почему?
— Я женщина! — тоскливо ответила Светлана. — Женщина должна знать, что мужчина хочет этого...
Черт побери, о чем они разговаривали! Ну кто поверит, что так могли вести себя муж и жена после почти пяти лет совместной жизни? Игорю Саввовичу теперь казалось, что всего происходящего не может быть в реальности: больничного сидения, убийственного неонового света, боя двух часов, разноцветного дыма от сигареты Светланы, многозначительных пауз и тягостных умолчаний. Затем Игорь Саввович подумал, что после дикой и нелепейшей драки он произнес и услышал столько откровений, разоблачений, выяснений и просто слов, сколько раньше не случалось выговорить и услышать за год.
— Ты не просто молчал, — сказала Светлана. — Ты молчал активно... Я могу тебе напомнить, когда ты дал мне понять, что не хочешь ребенка.
— Напомни.
— Это было, когда мы впервые пришли в эту недостроенную квартиру... Мы обошли все три комнаты, остановились здесь, где теперь спальня. — Она передохнула, затянулась сигаретой. — Я села на подоконник и сказала: «Хорошая комната для детской!»
— Что я ответил?
— Ничего! Ничего, словно не слышал меня... Пнул ногой чурбачок и пошел еще раз смотреть теперешнюю
263
гостиную... Я заплакала, но ресницы почему-то были накрашены, и пришлось быстренько успокоиться. — Светлана наконец догадалась поставить пепельницу себе на колени. — Это был самый первый случай. Напомнить следующий?
— Не надо.
Игорю Саввовичу захотелось от всей души расхохотаться, обнять жену и объяснить наконец, что речь идет о каком-то другом человеке, не о Игоре Саввовиче Гольцове, которого два совершенно разных человека не далее как сегодня признали добрым, честным, искренним. Настоящий Игорь Саввович хотел иметь ребенка, любил детей, женясь на Светлане, не сомневался, что у них будут дети. Правда, о времени появления детей он специально не думал. Смешно, но в голову приходили трестовские словечки — ошибся, упустил, следует исправлять ошибку, создавать новую ситуацию.
— Я отчего-то спокойна, хотя полагается рыдать и рвать на себе волосы, — сказала Светлана. — Наверное, ты это тоже испытываешь...
— Что?
В фиолетовом свечении вспыхнула яркая точка — это Светлана взмахнула рукой с надетым на средний палец кольцом с топазом. Она сказала:
— Мы разговариваем так, словно прощаемся навсегда или на много-много лет...
Игорь Саввович промолчал. Он опять размышлял о том, как безвыходно, трагично и страшно доведенное до абсурда непонимание человека человеком. Елена Платоновна и он, Светлана и он — почему даже они, близкие люди, никогда до конца не понимали, что думает, чувствует и знает другой. Для Игоря Саввовича около тридцати лет жизни матери были белым пятном, он не знал истинных отношений между матерью и Валентиновым; не понимал и не знал, что делается в маленькой красивой голове Светланы, обычно гордо откинутой назад; а что знала о нем Светлана, если он, например, скрывал правду о Валентинове? Да что говорить, Светлана о муже не знала ничего, кроме того, что он покладист в семейной жизни, ходит исправно на службу, раза два в месяц по крупной играет в преферанс, не любит управляющего Николаева и сдержанно относится к ее родителям. Да и он знает едва ли сотую часть истинной жизни Светланы.
264
— Ты сказала: мы словно прощаемся навсегда или на много-много лет, — задумчиво повторил Игорь Саввович. — Я этого не чувствую, но понимаю, что мы стоим перед катастрофой. Дело пахнет ка-ра-си-ном... — Он досадливо поморщился. — Сегодня я иду к следователю пустой, как барабан, но уже предвижу: кина не будет! Кажется, нас ждет финал пушкинской сказки о золотой рыбке... Тьфу! Опять говорю красиво...
Он щекой почувствовал длинную улыбку Светланы, услышал шелест туго накрахмаленной простыни, потом вздох облегчения.
— Если опасность только в потере лишнего куска с маслом, то нет счастливее меня женщины! — дрожащим голосом проговорила Светлана. — Я выдержу и каторгу.
Вот еще одна тысячная новых сведений о жене! А на самом деле выдержит ли Светлана жизнь без холодильников, сервантов, ковров и автомобилей? Тоненькая, стройная, нежная, стерильная, как однажды сказал о ней Прончатов, могла ли Светлана жить по-другому? «Запросто!» — ответил на собственный вопрос Игорь Саввович, давно убедившийся в том, какой на диво приспособленный к жизни человек его жена. Выросшая в деревнях и поселках, Светлана научилась таким вещам, о существовании которых Игорь Саввович или не подозревал, или они ему казались книжными, вымышленными. Однажды на даче выключили водопровод — ни умыться, ни приготовить обед: он начал собираться в город, а Светлана сбегала к соседям, вернулась с длинной кривой палкой и, когда Игорь Саввович удивленно посмотрел на жену, деловито сказала: «Видишь, какая я догадливая: достала коромысло!» Минут через пятнадцать Светлана несла на коромысле два ведра воды; она как-то по-особенному двигала бедрами, держалась прямо, ноги переступали быстро-быстро, как у танцовщиц, которые будто бы плывут по сцене. Ведра были неподвижны, и вода не колыхалась...
— Начинает светать, —сказал Игорь Саввович. — Надо взять себя в руки... — Он лег на спину. — Расскажи, как был куплен гараж... Видишь ли, дело в том, что гаражи построены на месте детской площадки и так близко расположены к дому, что шум автомобилей ночью будит половину жильцов. Как мы купили этот гараж? Я отдал деньги ■— это все, что мне известно.
Светлана задумчиво курила.
265
— За эти дни я вспомнила почти все подробности... Вскоре после того, как мы купили машину, мне сказали, что меня ищет актриса Голубкина. Она почему- то не звонила по телефону, а дважды приходила в институт, но меня не заставала и в третий раз без приглашения пришла в наш дом. Тебя не было, вы с Валентиновым уехали в Каргасок, и она, видимо, это знала. Голубкина часа два занимала меня историями и анекдотами из актерской жизни... Надо отдать ей должное: рассказчица она прекрасная... Голубкина ушла, даже не упомянув о гараже. Я долго думала о странном визите и успокоилась на том, что актриса славилась странностями.
— Что было дальше?
Светлана как-то по-старушечьи вздохнула.
— Через три дня Голубкина пришла снова. Опять анекдоты, истории, хохот, буря восторгов по поводу моей внешности, миллион комплиментов в твой адрес. «Какой у вас красивый, особенный, неповторимый муж! Любите его, любите, Светлана Ивановна!» А потом, как бы мимоходом, Голубкина сказала, что можно купить поблизости хороший теплый гараж, почти готовый, только навесить двери... — Светлана снова остановилась, точно собиралась с силами. — Я, естественно, заинтересовалась гаражом, спросила, как можно купить его. Голубкина страшно обрадовалась и закричала, что мне почти ничего не надо делать, если ты, на чье имя оформлена машина, подпишешь уже готовое заявление. Она вынула из сумочки машинописный текст...
Светлана замолчала, прикуривая, наверное, десятую по счету сигарету. В спальне было так накурено, что туманом плавали разноцветные полосы дыма и было нечем дышать.
— Дальнейшее тебе известно. Вернувшись из командировки, ты подписал заявление, и Голубкина унесла его по назначению.
Хорошо, что Игорь Саввович лежал на спине, хорошо, что его лицо в таком положении оказалось затемненным. Ведь даже у собственной жены глупо спрашивать, что было написано в заявлении, которое ты подмахнул не глядя. Он весело проговорил:
— Знаешь, Светлана, у меня совершенно ускользнуло из памяти это заявление... Напомни, пожалуйста, содержание.
— Обычное заявление, — не сразу ответила Светла¬
266
на, словно поначалу подумала, что Игорь Саввович шутит. — Детали вспомнить не могу, но суть знаю... Обычное заявление! Что-то вроде такого: «В связи с тем, что я приобрел автомобиль, возникает необходимость в гараже...» Ну и непременно: «Убедительно прошу не отказать в моей просьбе...» Подпись, число...
— Кому адресовалось заявление?
Светлана притихла, не двигалась, замерла. Она в отличие от Игоря Саввовича сидела, и в зеленом свете неона он видел растерянное, ошеломленное лицо.
— В райисполком, в горисполком? — мягко спросил он. — На чье имя?
— Не знаю! Не помню! — пролепетала Светлана. — Забыла или не знала...
Быстро светало. Тучам,,видимо, не удалось сплотиться, и восток нежно отбеливался лучами невидимого пока солнца. Пробуждалась и пробующе цвикала птичья мелюзга.
— Оставим в покое заявление! — мирно сказал Игорь Саввович. — Что было дальше?
— Через неделю Голубкина ворвалась с восторженным криком, что мне разрешено купить гараж. Ликования было столько, что люстра звенела... Потом мы пошли смотреть гараж.
Наверно, у Светланы ноги тоже затекли, болела поясница, но лечь, как Игорь Саввович, она не могла догадаться, захваченная разговором о прошлых и новых несчастьях. И курила, ох как она курила!
— Дальше? Что было дальше, Светлана?
— Голубкина привела меня в Пионерский переулок, — совсем тихо ответила Светлана. — Я увидела два гаража, один почти готовый, только без дверей, второй — начатый. Других гаражей тогда не было, Голубкина сказала: «Двери готовы. Их только надо привезти, на это уйдет пятерка».
Светлана, казалось, сама удивлялась тому, что говорила.
— Я теперь догадываюсь, что должна была спросить Голубкину, почему продается совсем готовый гараж... Вместо этого я пошла вместе с Голубкиной в сберкассу и выдала ей аванс — пятьсот рублей. Затем я вернулась домой...
Игорь Саввович помнил, как ворвалась к нему в кабинет сияющая Светлана, подпрыгнув, села на стол и объявила, что за тысячу пятьсот рублей они на самом
267
деле получают отличный отапливаемый гараж в каком- то переулке, так близко, что ближе и не может быть. «Сто шагов до угла, двести переулком, и вот он — великолепный гараж!» Игорь Саввович помнил и свои слова: «Покупай, Светка! Будем пожизненно должны моим и твоим предкам — какое теперь это имеет значение! Рассчитаемся...» Жена бросилась к нему на шею.
— Дальнейшее ты знаешь, — сказала Светлана. — Голубкина сама оформила все документы, и к тебе явился сын этой самой дворничихи. Ты отдал ему тысячу рублей, получил расписку, и гараж перешел в нашу собственность.
Светлана не выдержала наконец нелепой позы больничного сидения, легла на бок, лицом к Игорю Саввовичу.
Они молчали так долго, как это было можно в конце бессонной ночи; потом Светлана, приподняв голову с подушки, жалобно сказала:
— Неужели все так страшно, что ты говоришь, на грани катастрофы! Игорь, скажи прямо: чем может кончиться эта история?
Игорь Саввович медлил с ответом. Собственно говоря, он и сам толком не знал, что произойдет, если окончательно выплывет на поверхность история с покупкой гаража, построенного на месте детской площадки, из ворованных материалов. Он знал только одно и твердо: его тесть Иван Иванович Карцев в опасности, но сказать об этом Светлане...
— Я боюсь, что все выйдет наружу, — осторожно сказал он. — Селезнев слишком яркая фигура, чтобы остановиться на полпути... Да! Вляпались в историю! — мрачно пробасил Игорь Саввович и сам услышал, как по-детски обиженно это прозвучало. — Отпраздновали день рождения, повеселились!.. Ты еще не знаешь, что пятьсот рублей аванса Голубкина прикарманила... Ты со своей матерью разговаривала? — спросил Игорь Саввович после паузы. — Она знает все?
— Я после драки прячусь от мамы! — в подушку сказала Светлана. — Однако мне передали, что мама информирована.
— Кто тебе сказал?
— Папин шофер... Он добавил, что весь город знает и о драке и о гаражах..* — Она приподняла голову. — Мне страшно, Игорь! Я боюсь думать о возвращении отца из командировки... А папин шофер сегодня сказал,
268
что делом интересуется Левашев. Он после обеда вышел на работу.
Игорь Саввович невольно улыбнулся. Иначе и быть не могло, Левашев должен был вернуться: не зря же управляющий трестом Николаев делал вид, что ничего не знает о случившемся, полностью устранился. Выжидал, как будут развиваться события, но уже сделал первый шаг, пригласив на завтра Валентинова для беседы «не о производстве». Начнет Николаев непременно так: «Да, кстати, что там произошло с вашим подопечным Гольцовым? Болтают какую-то чепуху, а я ничего толком не знаю...»
— Жили-были дед со старухой у самого синего моря, — игриво произнес Игорь Саввович. — Влезли на детскую площадку, купили у сына дворничихи построенный из ворованных стройматериалов гараж да еще обсчитали его на пятьсот рублей.
Игорь Саввович кожей лица и голыми плечами почувствовал по-утреннему свежее дуновение из окна; утро наступало быстро, безжалостно уничтожая проклятый свет неоновой вывески, близился момент, когда над крышами четырехэтажных домов сверкнет первый солнечный луч. Измотанные бессонной ночью, тяжелыми и неожиданными открытиями, Игорь Саввович и Светлана, опустошенные, молчали; лица казались бескровными, глаза потухшими. Естественно, Игорь Саввович жалел Светлану, страдал двойным страданием — за себя и за жену, но четко ощущал, что никакие силы не могли помочь ему перебраться на кровать Светланы, обнять, приласкать, утешить. Это было жестоко, но он перестал видеть в женщине, лежащей на соседней кровати, привычную Светлану. С закрытыми глазами ее лицо казалось чужим, и, наверное, Светлана испытывала то же самое к Игорю Саввовичу, если затаилась в неподвижности и молчании.
«Да люблю ли я ее на самом деле? — спросил себя Игорь Саввович. — Вот курьез — никогда не думал об этом...»
Шофер дядя Вася за семь минут домчал Игоря Саввовича до районного отдела милиции, узнав, что имеет в своем распоряжении часа три, уехал по своим делам, а Игорь Саввович — неизвестно отчего моторный, веселый и деловитый — пташкой взлетел в райотдел, на
269
этот раз не заметив ни заплеванного крыльца, ни обшарпанного коридора, ни одного стриженного под машинку человека. После бессонной ночи переполненный новыми фактами и мыслями, он неосознанно спешил встретиться со следователем,
Игорь Саввович деликатно постучал, не разобрав, позволили войти или отказали, распахнул двери и замер с занесенной над порогом ногой — следователь Селезнев спал за столом, положив голову на серо-коричневые папки с черными тесемками. Волосы были всклокочены, пиджак накинут на плечи; следователь, видимо, уснул недавно, так как в кабинете еще плавал сигаретный дым, а в пепельнице чадил окурок. Игорь Саввович посмотрел на часы — ровно десять!
Что делать? Хорошо, трогательно, беззащитно спал следователь Селезнев, верный и мужественный страж закона. Нежная шея, обросшая светлыми волосами, затылок с вихром, беспомощный изгиб спины — идиллия, если забыть о решетках на окнах и табурете, металлическими скобками прикрепленном к полу на тот случай, если подследственный попытается размозжить голову Селезнева тяжелым сиденьем.
Игорь Саввович попятился, бесшумно закрыл двери, непонятно улыбнувшись, с удивлением обнаружил, что стоит в переполненном людьми коридоре. Бог знает почему, но сегодня здесь собралось столько людей, что Игорь Саввович не мог понять, как это он пробился к селезневским дверям, никого не толкнув или не оттеснив. Врезался, значит, этаким могучим клином, вихрем раскидал людей на пути к следователю. А здесь, оказывается, негде яблоку упасть; ожидающие стоят плотно, один к одному — кто к окошечку с табличкой «Паспортный стол», кто в дежурную часть, остальные — к следователям, участковым, начальникам и заместителям.
— Товарищ! — обратился Игорь Саввович к теснившему его плечом мужчине. — Почему сегодня так много народу?
— А как же! — неохотно ответил мужчина и зевнул. — Среда и суббота — приемные дни. — И только после этого поглядел на Игоря Саввовича. — В очередь надо становиться, а не торчать посередке... Знаем эти штучки. Номер не пройдет!
Серьезный был мужчина, в искусственной замшевой куртке и синтетических брюках, наверное, переезжал от¬
270
куда-то в Ромск или, наоборот, отъезжал, так как занимал очередь к окну с табличкой «Паспортный стол».
— Я за вами! — быстро сказал Игорь Саввович. — Долго простоим?
Мужчина досадливо махнул рукой, промолчал, но между ним и Игорем Саввовичем внезапно протиснулась молодая полная женщина, деловито оглядев того и другого, зычно спросила:
— Я за кем буду?
— За мной, — вежливо ответил Игорь Саввович. — Как вы думаете, долго простоим?
— К двенадцати управимся! — по-прежнему зычно ответила женщина, вынула из сумки книгу, раскрыла и мгновено отключилась от окружающего, словно ни милиции, ни очереди не существовало. Игорь Саввович осторожно заглянул на обложку и поленился даже улыбнуться. Женщина читала «Королеву Марго» — очередную мишень анекдотов и несмешных «крокодиль- ских» фельетонов.
С появлением «Королевы Марго» очередь приобрела отменно законный вид, основательность и успокаивающую стабильность, отчего Игорь Саввович почувствовал, что влип в неприятную историю. Он невольно, вопреки собственному желанию вспоминал, когда в последний раз стоял в очереди, если вообще когда-нибудь стоял в ней. В театральном буфете за пирожными? На улице к бочке с квасом? В паспортном столе или военкомате его встречали у дверей, в магазинах он не бывал, билеты в кино и театр получал у администратора, зарплату приносили в конверте, и даже на стадион у него был пропуск... «Вот дура! — несправедливо обругал он полную женщину. — Притащилась со своей «королевой»!»
— Я уступаю вам очередь! — раздраженно сказал Игорь Саввович толстухе. — Раздумал!
Обозленный на самого себя, Игорь Саввович решил отыграться на следователе. Интересно, как поведет себя Селезнев, если его в рабочее время разбудит обвиняемый? Резко распахнув двери, готовый бесцеремонно растолкать «прекрасный образец современного молодого человека», Игорь Саввович испытал разочарование, увидев Селезнева деловито сидящим за столом да еще и похожего на примерного ученика четвертого класса, отличника и активиста пионерской дружины; локти развернуто лежат на столе, правый локоть чуть выше ле¬
271
вого, бумага лежит под углом в сорок пять градусов к линии стола, спина прямая, чтобы не одолела старческая сутулость.
«На кого Селезнев похож? — напряженно подумал Игорь Саввович. — Почему я не могу отделаться от мысли, что мы знакомы с давних времен? Отчего кажется близким и приятным этот враждебный сейчас человек?»
— Доброе утро! — поздоровался Игорь Саввович.
— Доброе утро! — поднявшись, ответил Селезнев.— Садитесь. И, право, не будем терять времени... В прошлый раз мы остановились на том, что вы целиком и полностью отрицаете ваше участие в выборе, поисках и строительстве гаража, равно и в переговорах о приобретении его. Вы не знаете, кто строил гараж, как оформлялось разрешение. Правильно?
— Абсолютно!
Игорь Саввович сегодня рано утром кое-что разузнал о старшем лейтенанте Селезневе. Отец — инженер, начальник цеха на манометровом заводе, мать — врач, окулист. Коренные ромские жители... Есть сестра — очень способная молодая женщина, работающая в обла« сти атомной энергетики, незамужняя, живущая отдельно от родителей, как и брат.
— Значит, подтверждаете, гражданин Гольцов, ваши прежние показания?
— Подтверждаю.
Селезнев выглядел отвратительно. Побледнел, осунулся, под глазами синяки, лицо отечное, словно старший лейтенант не спал пять ночей подряд. Между тем глаза были яркие, возбужденные, молодые — и вот чудо! — добрые, так что на Игоря Саввовича следователь смотрел сегодня спокойно, но укоризненно, точно ждал, когда обвиняемый с улыбкой скажет: «Ну, довольно! Пошутили, и хватит».
— Вы никогда, Игорь Саввович, не интересовались правовой стороной следовательской работы? — спросил Селезнев. — Нет, нет, не по детективным романам — помилуйте!.. Не интересовались. Я так и думал... — Он осторожно прикоснулся пальцами к плохо выбритому подбородку. — Моя задача, в силу презумпции невиновности, доказать, что обвиняемый невиновен, а в случае неудачи доказать виновность. — Селезнев помрачнел.— Приготовьтесь, пожалуйста, к длинным и тяжелым очным ставкам...
272
— Сделайте одолжение.
В шесть часов утра, точно зная, что делать и как жить в течение предстоящего дня, Игорь Саввович до блеска выбрился, принял ледяной душ, выпил две большие чашки кофе. Выйдя из дому спозаранок, он чувствовал себя бодрым и сильным. Блестящими от росы, свежими, словно только народились, были молодые тополя в сквере, пахло землей и травой, политый асфальт отражал и тополя, и дома, и прохожих, и трамвай старой- престарой конструкции, вызвавший секундное желание прокатиться, как в детстве, на трамвайной «колбасе».
— Скажите, пожалуйста, — начал Селезнев, — когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с актрисой Ларисой Назаровной Голубкиной?
Игорь Саввович вспоминающе посмотрел на потолок.
— Что вы подразумеваете под словом «знакомство»? — спросил он. — Узнаем ли друг друга на улице или встречаемся ли домами?
— А вы отвечайте на вопрос, — сухо прервал Селезнев. — Дело пойдет быстрее.
— Простите! — Игорь Саввович сосредоточился. :— Актриса Голубкина мне полузнакома. На улице она меня узнает, а я, извините за нескромность, никак не могу ее запомнить.
Селезнев возился с автоматической ручкой, которая опять не писала. Встряхнул — не помогает, отвинтив колпачок, сдавил пипетку — не работает, стиснув губы, Селезнев наполнил ручку до отказа чернилами — тот же результат. Наблюдая невольно за ним, Игорь Саввович тоже злился, так как у него в кармане лежала прекрасная паркеровская ручка, но он не решался предложить ее следователю.
— Чертовщина! — выругался Селезнев. — Не понимаю, что случилось!
Ручка отказала совсем. Селезнев в сердцах бросил ее на стол и беспомощно улыбнулся. Выражение лица у него было детское, губы сложены обидчиво, и даже клок волос на затылке, казалось, утратил воинственность.
— Юрий Ильич, возьмите, пожалуйста, мою ручг ку! — неизвестно отчего смутившись, сказал Игорь Саввович.
18 Виль Липатов, том 4
273
— Давайте! — ответил Селезнев и тоже отчего-то смутился.
Селезнев подтверждал сведения, которые сегодня получил о нем Игорь Саввович. Он действительно был хорошим человеком; прекрасно и много работал, любил свою профессию, умел сомневаться, делать и исправлять ошибки. За суховатой и профессионально-строгой маской скрывался юноша с гитарой, любящий больше всего песню о парне с Арбата, песню Булата Окуджавы про Леньку Королева, который, надев «кепчонку, как корону... набекрень, и... пошел на войну...». А главное, и это оставалось загадкой, Юрий Ильич Селезнев открыто, подчеркнуто, безоговорочно походил на очень знакомого и близкого человека. Как у того, так и у Селезнева, на лице минутами появлялось застенчивое и беспомощное выражение человека, ошеломленного сложностью мира и невольно пытающегося свести жизнь к простому и понятному — хлеб, соль, вода, земля, небо... Раздумывая об этом, Игорь Саввович внимательно наблюдал, как Селезнев справляется с паркеровской ручкой.
— Отлично пишет! — заявил он и упрямо выставил лоб. — Мы остановились на том, что с актрисой Голубкиной вы полузнакомы. В гостях друг у друга не бывали, встречались мельком на улице... Отлично! Вот мы это и запишем...
Пока следователь своим медленным чертежным почерком записывал показания, Игорь Саввович думал о пострадавшем Борисе Иванове... Сегодня утром, сразу после восьми часов, Игорь Саввович заехал в больницу, накинув халат, прошел наверх, держа в руке большую сумку с едой — консервами, вареньем, паштетом, колбасой, фруктами. Старшая сестра при его появлении опять сделала стойку, забегала, весело цокая туфлями на громадной платформе. Игорь Саввович интимно наклонился к её уху, зашептал: «Такие женщины, как вы, бывают добрыми. Умоляю на коленях — разрешите хоть краешком глаза посмотреть на Иванова...» Пострадавший спал на спине. Голова была забинтована так, что походила на кокон, свободными оставались только глаза и рот. Борис Иванов был неподвижен, дыхание не улавливалось, потерпевший казался похожим на саркофаг. «Крепко спит! — шепнула за спиной медсестра. — Он быстро поправляется. Вчера хорошо ел и даже читал детскую книжку». Игорь Саввович на цыпочках допятился до дверей, не спуская глаз с Иванова..*
274
— Можно ли понимать ваши показания так, что актриса Голубкина никогда не бывала в вашем доме? — спросил Селезнев. — Вы не ошибаетесь?
Игорь Саввович встрепенулся.
— Голубкина дважды была в доме, — сказал он. — Мне это стало известно только вчера со слов жены. — Он улыбнулся, поймав себя на том, что разговаривал на специфическом языке милицейского протокола: «Со слов жены»! — Первый визит был пустым, так сказать, визитом вежливости, во второй раз Голубкина принесла заявление, которое я подписал, как выяснилось, вечером того же дня...
— Добавлений не будет?
Селезнев поднял голову, почему-то посмотрел Игорю Саввовичу на левое ухо и встал, что предвещало резкую перемену в допросе, так как следователь наверняка придумал что-то свеженькое. И действительно, Селезнев походил-походил по щелястому полу, чуточку замедлив шаги, на ходу проговорил:
— Сейчас сделаем очную ставку! — И снова пошел быстро. — Этот пункт следствия настолько важен, что без очной ставки не обойтись...
Следователь поднял телефонную трубку, набрал номер.
— Пригласите, пожалуйста, гражданку Голубкину! — приказал он и посмотрел на Игоря Саввовича исподлобья. — Я прошу вас сохранять спокойствие в любом случае. Думаю, что вы не встречались в критической обстановке с такими людьми, как Голубкина и Фа- лалеев... Кроме того, я буду слегка модернизировать очную ставку...
Вот уж ненужное предупреждение! Игорь Саввович с большой заинтересованностью ожидал появления Голубкиной, хотя не верил — он не врал следователю, — что узнает актрису, которая раз в месяц, а может быть, и чаще меняла внешность.
— Войдите.
В кабинет впорхнула молоденькая девушка с наивными косичками, мини-юбкой и кофточкой с огромным вырезом. Увидев Игоря Саввовича, она пришла в неописуемый восторг. Как бы забыв обо всем на свете, прижав руки к груди, со счастливой улыбкой избавления, она медленно приблизилась к Игорю Саввовичу, хотела было расцеловаться с ним, но сделала такое ли¬
18*
275
цо, словно сказала: «Нет, не могу целовать дорогого друга в этой полутюремной обстановке!»
— Как я рада вас видеть, Игорек! — проникновенно, тоном и голосом какой-то театральной героини произнесла Голубкина. — Я глубоко сочувствую вам, но уверена, что такой блистательный криминалист, как Юрий Ильич, скоро докажет, что весь этот ужас — феноменальное недоразумение...
Еще выше задрав мини-юбку, актриса села на стул, стоящий напротив стула Игоря Саввовича, сдвинув колени и убедившись, что почти голые ноги замечены, облегченно выдохнула.
— Жара несусветная! — голосом девочки с косичками произнесла Голубкина. — Не выношу жару. Мы, сибиряки, наверное, никогда не привыкнем к зною... Не знаю, как вы, Игорек, но я горжусь высоким званием сибирячки.
«Игорек». Чудовищно! Такую женщину, как артистка Голубкина, за тридцать лет жизни Игорь Саввович встречал только однажды. Неуемная, бешеная энергия, хорошо подвешенный язык, знание человеческих слабостей, дерзость, умение завязывать нужные знакомства и, наконец, наглость — торжествующая и откровенная наглость. Все это было познано с избытком, когда в институте отчима и матери лет десять назад появилась некая Зоя Кубицкая. За год она превратила институт в котел с кипящей смолой, довела отчима до того, что Савва Игоревич трижды ездил в столицу объясняться, потом не выдержал — подал заявление об уходе с ректорского поста. Кубицкую мгновенно убрали, но в доме появилось забавное слово «кубицизм», означающее высшую ступень человеческой подлости.
— Типсина Лариса Назаровна, где, когда и в какой семье родились? — начал следователь. — Образование и профессия?
Актриса строптиво вздернула голову, словно ее хотели взнуздать.
— Типсина умерла! Есть актриса Голубкина, — по- чему-то басом и хрипло сказала она. — Если вы будете настаивать на своем, я откажусь давать показания.
В ответ на это Селезнев даже не поморщился, не обращая внимания на выкрутасы Голубкиной, неторопливо записал анкетные данные, все время называя актрису Типсиной, предупредил об ответственности за дачу ложных показаний, твердо пообещав при этом непремен-
276
но воспользоваться карательной статьей, если гражданка Типсина отойдет от истины.
— А вот теперь, гражданка Типсина, прошу рассказать, что вам известно о строительстве четырех гаражей в переулке Пионерском и о покупке одного из них гражданином Гольцовым.
Последовало многозначительное ^молчание. Это Голубкина приводила себя в такое состояние, когда по меньшей мере оплакивается смерть давнего соседа по лестничной клетке: плечи опустились, на лоб упала горькая прядь взлохмаченных волос, светлые глаза были низведены долу. Она дважды глубоко вздохнула, подумав, плачуще сморщилась.
— Юрий Ильич, — жалобно прошелестела-прошеп- тала Голубкина, — глубокоуважаемый Юрий Ильич, для чего вы заставляете меня снова... заставляете меня... Нет, не поворачивается язык!
Буквально адские муки испытывала гражданка Типсина, вынужденная повторять рассказ о четырех гаражах и прочем. О как печальны были ее светлые глаза, каким несчастьем веяло от съежившейся фигуры, какими безжизненными казались безвольно опущенные руки! Голубкина была чудовищно плохой актрисой и сейчас вместо трагедии или драмы устроила фарс. В актрису, как в старые добрые времена, хотелось бросать тухлые яйца.
— Рассказывайте, Типсина!
— Если вы так настаиваете, если это так необходимо для правосудия... — Голубкина тяжело вздохнула.— Когда театральная общественность Москвы в благодарность за летние гастроли помогла мне купить сравнительно неплохо сохранившийся «мерседес», оказалось, что он не входит в мой старый гараж, где я держала «Москвич»... Представьте, я не знала, ну совершенно не знала, что делать. Выручил, как это всегда бывает, счастливый случай....
Она сделала логически необходимую паузу, бросила проверяющий взгляд на следователя, потом на Игоря Саввовича, и он не понял, что слова выучены Голубкиной, как театральная роль, и звучали они вопреки фарсовой внешности так верно по интонации, как могут звучать слова, в правдивости которых никто не сомневается. Вкладывать в речь страсть — значит бояться, что не поверят, произносить слова вяло и тихо — смахивает на игру. Значит, нужно говорить так, точно покоряешь-
277
ся неизбежному, не хочешь рассказывать, но заставляют, и Голубкина так и поступила.
— ...выручил, как всегда, счастливый случай. Выхожу однажды из дома, спешу безумно в театр и вдруг вижу: напротив нашего дома, буквально в трех шагах, строится большой, прекрасный гараж. Моей радости не было предела... Как я не видела гараж раньше?
Она неплохо сыграла слова «радости не было предела», ослепительно улыбнулась и как бы в порыве полу- поднялась.
— Не помню, когда я выяснила, что чудесный гараж строит сын нашей милой, обаятельной дворничихи Марии Петровны. Она действительно удивительный человек — кристально чистый и добрый. Я со всех ног помчалась к ней: «Мария Петровна, милая, хорошая, нельзя ли и мне пристроиться к гаражу вашего сына?» Она усаживает меня пить чай...
— Минуточку! — лениво прервал ее Селезнев. — Вы не сказали, когда все это происходило.
— Ах, простите, простите! — Голубкина от непонятного Игорю Саввовичу возбуждения вскочила. — Простите, ах, простите! — повторила она. — Действительно, я забыла сказать, что все это происходило в конце апреля или в начале мая прошлого года....
Игорь Саввович поймал на себе выразительный, спрашивающий взгляд следователя: «А вы не помните, что у вас произошло в апреле — мае прошлого года?» Игорь Саввович задумался: «Ничего не происходило, будни, серые и унылые будни...»
— Продолжайте, Типсина, только без чаепитий.
— Ах, пожалуйста, Юрий Ильич!.. Когда речь пошла о гараже, эта славная Мария Петровна пришла в неописуемый восторг! — Голубкина опять сыграла восторг.— Представьте себе, оказалось, что ее сын, этот отзывчивый, чудный человек, Гелий Макарович, сам ищет компаньона. Ведь три стены гаража дешевле строить, чем четыре. Понимаете: одна стена общая... Вот после этого Гелий Макарович начал попутно строить второй гараж.
— Вы не знали, что строительство незаконно?
— Как вы смеете так думать! — возмущенно вскричала Голубкина. — Я об этом узнала только у вас на допросе. Да, да! Я была нагло, беспощадно обманута. Моя доверчивость, мое доброе отношение к людям, моя общеизвестная искренность — все попрано! Я до сих пор не могу прийти в себя.
278
Селезнев отложил в сторону бумагу и ручку, глядя в стол, бесстрастно, словно о второстепенном, спросил:
— Гелий Макарович самовольно строил гараж для себя?
— Не знаю. Они собирались покупать машину.
— Значит, второй гараж строился для вас, Типсина? Почему вы его перепродали гражданину Гольцову?
Актриса всем телом повернулась к Игорю Саввовичу, приятельски улыбнулась ему, родственным голосом сказала:
— Для Игоря Саввовича я готова на любую жертву! Кроме того, у меня тогда не было денег. Я их накопила, когда был готов третий гараж...
Голубкина, сейчас играющая дружескую близость к Игорю Саввовичу, глядела на него чистыми, правдивыми, наивными глазами, точно говорила: «Ну, Игорь Саввович, довольно нам с вами хитрить и увертываться. Лучше говорить облегчающую правду!» Сыграно это было так хорошо, искренне и сердечно, что Игорь Саввович на какое-то мгновение растерялся и почувствовал себя виновным. Ему даже подумалось: «Может быть, я действительно разговаривал с Голубкиной о гараже?»
— Поясните следствию, — продолжал работу Селезнев, — где, когда и почему вы встретились с гражданином Гольцовым на предмет разговора о гараже?
Голубкина бурно возмутилась.
— Вы же прекрасно знаете, товарищ следователь, где это происходило! Я рассказывала... — Она снова с сообщническим видом повернулась к Игорю Саввовичу. — В городе все, ну буквально все знают, как хоро- ро и по-родственному я отношусь к Игорю Саввовичу и его прелестной жене. Это замечательные, добрые, умные и честные люди! Вы бы видели, с какой радостью я пошла к ним в дом, когда Игорь Саввович пригласил меня. Я так мечтала быть принятой, так хотела понравиться. — Голубкина горестно поникла. — Господи, почему я должна рассказывать это в комнате с решетками на окнах! Разве Игорь Саввович в чем-нибудь виноват? Он купил автомобиль и хотел иметь гараж — это так понятно, так просто! Вот и пригласил меня к себе. К несчастью, очаровательной Светланы Ивановны не было дома...
Вот какой оборот принимали гаражные события! Голубкина расчетливо выводила следствие на Игоря Саввовича, видимо, надеясь на то, что Селезнев с радостью
279
ухватится за малейшую возможность оправдать дочь Карцева, а козлом отпущения сделать развязавшего драку в переулке пронырливого и хитрого Гольцова, нагло пользующегося влиятельным тестем.
. — Гражданин Гольцов, — строго проговорил Селезнев, — что вы можете пояснить по рассказу свидетельницы?
Только после этого вопроса следователя Игорь Саввович понял, в какое дурацкое положение он попал. Ну что он мог «пояснить», если перед ним сидит женщина, и немолодая женщина, которая за все время допроса не произнесла ни одного правдивого слова?
— Мне очень жаль, — сказал Игорь Саввович, — мне очень жаль, но свидетельница все выдумала.
У Голубкиной в уголках глаз появились настоящие слезы. Она была очень плохой актрисой, но такие простые вещи, как слезы или лучезарную улыбку, проделывала довольно умело. Глядя сквозь слезы на Игоря Саввовича, стиснув руки на груди, взволнованно дыша декольтированной грудью, она как бы с ужасом прошептала:
— Игорь Саввович, дорогой, прекрасный, добрый человек! Разве я заслужила такое? За что вы меня оскорбляете? Это несправедливо и еще раз несправедливо...
Кажется, актриса норовила удариться в истерику. Истерики — что было известно всему городу — удавались Голубкиной как нельзя лучше. Редкий директор театра или режиссер выдерживал мнимые обмороки, учиняемые всякий раз, когда Голубкиной что-нибудь не нравилось. Селезнев наверняка знал об этом, потому что холодно и властно приказал:
— Прошу немедленно привести себя в порядок, гражданка Типсина!
— Ох, дайте, дайте воды! — как бы сама боясь истерики, простонала Голубкина. — Как ужасно, ужасно, если близкий тебе человек... Ну, почему, почему, Игорь Саввович, вы не хотите говорить правду?.. Ведь вы не найдете человека, который бы сказал: «Голубкина способна хоть чуточку солгать!» Честность, принципиальность, человечность — вот девиз моей жизни.
С той минуты, как Голубкина вошла в кабинет, следователь безнадежно пытался скрыть отвращение к врущей, насквозь фальшивой, преступной женщине. Он то сосредоточенно писал протокол, то сверхвниматель- но рассматривал исписанную страницу, то чистил ног¬
280
ти, и моментами вид у Селезнева был такой, точно он неожиданно попал ногой в волчий капкан. «Моя бы воля, — вопреки желанию говорили тоскливые глаза Селезнева, —моя бы воля, насиделась бы ты, стерва, даже без вины за крепкими стенами! Ну да теперь-то ты у меня не выкрутишься!»
— Поехали дальше, — изучая страницу, сказал Селезнев. — Есть белые пятна... С вами, гражданка Типсина, о гараже беседует гражданин Гольцов, он проявляет инициативу, а заявление на имя председателя рай- испокома Малярко относите по назначению вы, Типсина. — Он порылся в бумагах. — Канцелярия Кировского райисполкома сообщает, что заявление на строительство гаража доставила гражданка Типсина. Как это произошло? Когда и где передал вам заявление гражданин Гольцов? При свидетелях или без свидетелей?
Такой вопрос Голубкина, видимо, заранее не обдумала. Она медленно убрала с лица горестные пряди, на какое-то мгновение сделалась сама собой — пожилой женщиной, здорово потрепанной жизнью и поэтому усталой.
— Не помню! — пожав плечами, сказала Голубкина, пытаясь выиграть время. — Не помню, когда Гольцов передал мне заявление... Я вспомню, обязательно вспомню, когда это произошло. — Она чарующе улыбнулась. — Зато я прекрасно помню, где это происходило... Мы с Игорем Саввовичем встретились в сквере на площади Декабристов... Помните, Игорь Саввович, я была в голубой кофточке и вельветовых брюках, а на вас был зеленый в полоску костюм. По-моему, югославский...
В напряженной тишине Селезнев записал рассказ Голубкиной, прочитал написанное еще раз, сделал несколько маленьких исправлений, глядя в пространство, проговорил:
— В конце апреля и начале мая прошлого года гражданин Гольцов дважды был в длительных командировках. Вспомните, Типсина, когда примерно состоялись обе встречи? Предварительная и с передачей заявления...
— Не помню! Совсем не помню! — на нежном выдохе произнесла Голубкина. — О, как я понимаю ваше желание поймать меня на ошибке! По забывчивости я назову число, а в это время дорогой Игорь Саввович
281
был в командировке... Я на вас не сержусь, Юрий Ильич: работа есть работа.
Игорь Саввович не выдержал — голосисто захохотал. Как было не смеяться, если не во сне, а наяву существовала Голубкина, живая, материальная, к которой можно было прикоснуться пальцем, чтобы убедиться: происходящее вовсе не бред. Хохоча, Игорь Саввович случайно посмотрел на Селезнева, увидел потемневшие от гнева глаза и без труда прочел: «Вы вспомните наконец, Гольцов, что у вас произошло в конце апреля и начале мая?»
— Стыдно, товарищ Гольцов, смеяться над человеком, который вас искренне и бескорыстно любил! — с пафосом воскликнула Голубкина и трагически вытянула руку. — Отныне мы с вами незнакомы! Уверена, что Юрий Ильич, этот выдающийся, необыкновенного ума и поразительной доброты человек, давно разгадал вашу нечестную игру. — Она выпрямилась, царственно закинула назад голову и, большегрудая, походила теперь на голубя-дутыша. — И вообще, гражданин Гольцов, общественности давно пора приглядеться к вашему моральному облику. Ни для кого не тайна, что вы нечестными путями пробрались из отдаленного района в аппарат треста. Всему городу известно, что вы, ни перед чем не останавливаясь, обольстили эту святую женщину — дочь всеми уважаемого Ивана Ивановича Карцева, которую пытаетесь вовлечь в свою историю с дракой и гаражами. — Она сделала разящую паузу. — Вы, гражданин Гольцов, женились на Светлане Ивановне из карьеристских побуждений.
Перстни и кольца красиво сверкали на пальцах актрисы, не скрывающей подлинность драгоценных камней. По ее же оценке, радужно переливались пять тысяч рублей, и это при заработной плате сто двадцать рублей в месяц. А кооперативная четырехкомнатная квартира, дача, мощный «мерседес», дорогие шубы, редкие ковры — даже Игорь Саввович оказался информированным благословенными сплетниками славного города Ромска.
— Гражданин следователь, — величественно изрекла Голубкина, — прошу занести в протокол мои слова...
Склонив голову набок, Селезнев спокойно и внимательно слушал актрису, но было что-то неуловимо опас¬
282
ное, жестокое, предрешенное в его бледном от усталости лице. И уж он-то не сомневался, что допрос Голубкиной вылился в демонстрацию грязи, в которую с головой окунулся Игорь Саввович Гольцов.
— Мне кажется, гражданка Типсина, что вы ставите себя в опасное положение, — проговорил Селезнев. — Вы даете ложные показания, и я постараюсь снабдить прокуратуру материалами, доказывающими, что вы даете ложные показания... — Он неторопливо поднял со стола небольшую книгу. — Согласно Уголовному кодексу РСФСР, статье сто восемьдесят первой заведомо ложные показания наказываются лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок... Вот какими опасными вещами вы играете, гражданка Типсина!
В ответ на это актриса вскочила, подбоченилась, завизжала, но Игорю Саввовичу было не до Голубкиной... Карьерист и пролаза! Расчетливый соблазнитель! Об этом, оказывается, говорил весь город, а он, подобно тому мужу, который о проделках ветреной жены узнает последним, думал, что только Татищев из отдела новой техники, мечтающий о повышении, мерит на свой аршин Гольцова. Может быть, и другие из служебного окружения Игоря Саввовича снисходительно молчали, провожали его взглядом, усмехались, шептались, перемывали ему косточки в теплых компаниях, а наутро с ясными глазами сидели у него в кабинете?
Занятый собой, тяжелыми, уводящими в прошлое воспоминаниями, Игорь Саввович как-то отстраненно слышал Селезнева и Голубкину...
Селезнев. Расскажите, как вы купили в Москве машину марки «мерседес»?
Голубкина. Меня буквально уговорили купить машину... Неужели вы не понимаете, что в Ромске достать запасную часть для «мерседеса» труднее, чем прописаться в Москве?
Селезнев. Вы присвоили фамилию Голубкина. Для чего, если вас зовут Ларисой? Решили стать второй Ларисой Голубкиной?
Голубкина. Клевета! Я ничего не присваивала... Мой последний муж был Виктором Голубкиным.
Селезнев. Но вы с ним встречались только трижды: регистрация, развод и сговор. Виктор Голубкин показывает, что получил за услугу деньги...
Голубкина. Наглая ложь! Вы самонадеянный
283
мальчишка! Будете ходить по городу с протянутой рукой. Это я вам обещаю!
Селезнев. Вернемся к «мерседесу». Вы его купили летом позапрошлого года за двенадцать тысяч рублей фактически, хотя по вашим рассказам вы уплатили семь тысяч... Кому в Москве звонила ваша оруженосица Любская от имени народной артистки Ларисы Голубкиной?
Голубкина (пауза). Одной знакомой... Вы знаете ее фамилию?
Селезнев. Отвечайте только на вопросы... Это Борисова вас вывела на продажную машину?
Голубкина. Да.
Селезнев. Слава богу, поняли наконец, что я знаю все... Можете перечислить источники дохода, позволившие вам купить машину за двенадцать тысяч рублей?
Голубкина. Пожалуйста! Проданы через ювелирный магазин Ромска драгоценности моей бедной мамы.
Селезнев. Две тысячи триста рублей... Что еще?
Голубкина. Остальные драгоценности проданы в Москве...
Селезнев. Не помните, в каком магазине?
Голубкина. На проспекте Ленина, кажется, или в этом, как его... Не помню!
Селезнев. Что продано?
Голубкина. Вы мне не поверите, но забыла... Кажется, золотые монеты, два кольца, перстень и еще что-то... Именно в этом магазине, который я зат была...
Селезнев. Придется вспомнить!
Голубкина. Не помню! Вы же не глухой. Слышите: не по-о-мню! Зарубите себе на носу.
Селезнев. У меня руки чешутся упрятать вас за решетку.
Голубкина. Что? Что вы сказали? Упрятать за решетку... Кого? Меня? Актрису Голубкину?
Селезнев. За дачу заведомо ложных показаний и кражу полутора тысяч рублей, полученных вами как аванс, вы можете угодить за решетку.
Голубкина. Ах, вот как вы заговорили, гражданин Селезнев! Хотите оклеветать?.. Никакого аванса я не получала, понятно? Пляшете под дудочку гражданина Гольцова? Ходите на одной с ним вё^евочке? Понятно! Знаем, гражданин Селезнев, какая дружба связы-
284
бает обвиняемого Гольцова с полковником Сироти- ным! Прекрасно знаем!
Селезнев. Гражданка Типсина!
Голубкина. Не запугивайте! Знаем, какая дружба связывает вас, Гольцова и Сиротина. Вдрызг напиваетесь в гостинице, а потом с дамами разъезжаетесь по домам. У кого ночевал за день до драки гражданин Гольцов? Думаете, неизвестно? У гражданки Хвощ. Не просите меня замолчать, пока не кончу... Думаете, неизвестно, что позавчера вы и полковник Сиротин три часа просидели в кабинете полковника? Пре-е-екрасно известно. Делили взятку! И, думаю, приличную... Сегодня же напишу на вас жалобу министру! Гражданин Гольцов, будьте свидетелем... Гражданин Гольцов, я к вам обращаюсь...
Очнувшись, Игорь Саввович удивленно вытаращился. Он с трудом выбирался из августовского солнечного дня на Весенинском сплавном участке, из того самого дня, от которого можно было вести отсчет ошибок, несчастий и болезни. Молодой начальник сплавучастка за кончик держал в пальцах невинную, в сущности, телеграмму: «Срочно выезжайте трест для решения важного вопроса. Николаев». Кончилось это комнатой с табличкой «Отдел новой техники»... Наяву же продолжалась по- слетелеграммная жизнь — смотрела в упор и грозно измышленная чудовищной фантазией женщина, некая Голубкина, которая, как выяснилось, за секунду-другую успела сменить обличье молодой невинности на развевающиеся одежды карающей, но оскорбленной справедливости. Глаза, как пишут в старинных романах, метали громы и молнии, рука указующе замерла, направленная на Селезнева.
— Что я должен подтвердить? — спросил Игорь Саввович.
— Как что? А то, что следователь назвал меня базарной бабой...
Игорь Саввович поклонился.
— Подтверждаю, — сказал он. — Вы базарная баба! От себя добавлю, что вы подлая, гнусная и мерзкая баба. По вашей вине, кажется, пострадает много хороших людей...
Он мог бы с таким же успехом разговаривать с манекеном. Голубкина уже стояла в центре кабинета — злая, мстительная, готовая любой ценой не защищаться, а нападать, и угрожала она прежде всего Селезне¬
285
ву, а потом уж Игорю Саввовичу. Между тем следователь набирал телефонный номер, прижимая трубку к уху плечом. Услышав ответ, он негромко проговорил:
— Борис Петрович, готово!
— Я ухожу! — грозно сказала Голубкина. — Я иду в обком партии. Там актрису Голубкину принимают достойно... С вами, Селезнев и Гольцов, мы встретимся в другой обстановке!
Устроив театральную паузу, несколько секунд Голубкина стояла изваянием; затем эффектно развернулась на сто восемьдесят градусов, как бы падая вперед, решительно двинулась к дверям, но не успела. Двери сами открылись, на пороге появился широкий и рыжий капитан. Не здороваясь и глядя только на Голубкину, он сказал:
— Капитан Гусев из ОБХСС. Мне надо побеседовать с вами, гражданка Типсина! Пройдемте!
Игорь Саввович не успел опомниться, как актриса и капитан исчезли, а Селезнев будто ни в чем не бывало дописывал очередную страницу; как всегда, пробежал взглядом написанное, облегченно откинулся на спинку стула и привычным уже для Игоря Саввовича движением помассировал лоб. Он сказал:
— Она орудует не только в Ромске. Фарца и валютные операции. — Затем Селезнев длинно посмотрел Игорю Саввовичу в глаза. — Вам предстоит еще более тяжелый и неприятный разговор...
— Черт возьми! — удивленно сказал Игорь Саввович. — Как я не заметил раньше? Комнату-то побелили. Когда же?
— До полуночи старались! — сдержанно ответил Селезнев. — Пришлось!
Так вот почему не пришел вчера полковник Сиротин в дом Игоря Саввовича! Видимо, Селезнев так припер его к стенке, что Митрий Микитич праздновал труса. Ай да Селезнев! Тогда совсем трудно понять, почему на сегодняшнем допросе следователь с первой минуты и до последней ни разу не проявил враждебности к Игорю Саввовичу, ведь в предыдущий раз он готов был смешать его с грязью. Сейчас они сидели друг против друга с очень похожими деловито-печальными лицами. Селезнев и Гольцов были ровесниками, читали одни и те же книги, смотрели одинаковые фильмы, пели одни и те же песни, вращались в одних и тех же студенческих кругах. Это они невольно почувствовали при первой
286
встрече, но дальше, наверное, не пошли бы, если бы не Голубкина. Свою внутреннюю похожесть они особенно сильно ощутили после разговора с актрисой. На Голубкиной сходились их любовь и ненависть, представления о чести, нравственности, морали, актриса объединила их крепче, чем если бы кто-то захотел проделать это нравоучительными примерами.
Селезнев сказал:
— В коридоре ждет вызова Гелий Макарович Фала- леев. Это главный свидетель обвинения, утверждающий, что вы начали драку. Вам он знаком...
Деньги за гараж — тысячу рублей — Игорь Саввович отдавал человеку именно с таким именем и фамилией, но не помнил ни лица, ни фигуры, ни голоса, и когда Гелий Макарович Фалалеев вошел в кабинет, Игорь Саввович, так много раз за эти дни болезненно переживающий провалы в памяти, вздохнул облегченно. Этот Фалалеев был таким человеком, которого никак нельзя было запомнить.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте! Садитесь!
На табурет сел маленький человек неопределенного возраста, одетый именно так, как должен быть одет человек, чтобы остаться незаметным. Одежда на Гелии Макаровиче Фалалееве служила тем же целям, каким мимикрия служит животному миру, вместе с тем было понятно, что Фалалеев не нарочно так одевается, а просто не может носить другую одежду.
— Вот. Вызвали, — нежным и тихим голосом сказал Гелий Макарович. — Вызвали. Пришел.
Маленькое лицо, маленький носик, маленькие руки и ноги — все в этом человеке было маленьким, и даже взгляд казался от робости маленьким. Посмотрит на следователя — быстро упрячет глаза, поглядит на Голь* цова — скроет взгляд в углу, посмотрит в угол — опускает глаза в пол. На кролика, наверное, походил Гелий Макарович, который, как маленький, пушистый зверек, дрожал от понятного страха перед сильным и жестоким миром.
— Имя, фамилия, отчество, год рождения...
Гелий Макарович отвечал тихо, предупредительно, но по тому, как он отвечал, даже неопытный Игорь Саввович понял, что кроликоподобный свидетель не впервые сидит в кабинете следователя. Фалалеев не произнес ни одного лишнего слова, ни разу не переспросил, и Се¬
287
лезнев писал непрерывно, без продыха — так выученно снабжал пищей протокол маленький Гелий Макарович.
— Основная профессия — маляр, — повторил Селезнев и тем же мирным голосом продолжил: — При- влекались ли к уголовной ответственности, если да, то когда и за что?
Человек-кролик совсем ласково ответил:
— Привлекался. В одна тысяча девятьсот шестьдесят втором году по статье сто сорок седьмой, часть первая. В одна тысяча девятьсот шестьдесят пятом году по статье...
И пошло и поехало! Миниатюрный человечек переходил из одного судебного заседания на другое, освобождался досрочно и по амнистии, выходил из зала суда за недоказуемостью обвинения, снова возвращался в зал, чтобы быть обвиняемым за подлог, отсиживал целый год за такое таинственное преступление, что Игорь Саввович не понял сути. А Гелий Макарович уютно потирал маленькие руки, ни разу не споткнулся, перечислял статьи, части, сроки, видимо, зная, что нельзя ничего упускать, и по-прежнему старался говорить медленно, чтобы Селезнев успевал записывать.
— С начала одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года к судебной ответственности не привлекался, — закончил Гелий Макарович, и это было произнесено так значительно, точно полтора года честной жизни были оправданием длинной вереницы уголовных дел. — Если что забыл, гражданин следователь, — по-свойски заметил Гелий Макарович, — то поимейте в виду, что по забывчивости... Курить разрешается?
— Курите.
Может быть, Гелий Макарович Фалалеев за полтора года жизни на свободе без следствий и судов соскучился по кабинетам, где окна зарешечены, пахнет хлорной известью и чем-то кислым? Может быть, существуют люди — и он из их числа, — для которых сделалось потребностью сидеть перед следователем, врать или говорить правду, изворачиваться, ловчить, может быть, существовал особый азарт в борьбе правосудия и преступления, щекочущее и радостное чувство риска? «На этой земле есть все и еще немножко!» — говаривал дед Игоря Саввовича, и почему же Гелий Макарович Фалалеев не мог быть в числе «и еще немножко»?
Между тем маленький человечек менялся. В кабинет Гелий Макарович вошел мелкой, робкой походкой, са¬
288
дясь на стул, смотрел на Селезнева извиняющимися глазами, словно просил простить за такую вольность, как сидение на стуле: еще пять минут назад взгляд у него был «маленьким», а вот после того, как формальная часть протокола была заполнена, перед следователем сидел абсолютно другой человек — спокойный, сдержанный, с такими пронизывающими, умными глазами, что в них Игорь Саввович смотреть не мог: казалось, Гелий Макарович знает об Игоре Саввовиче такое, чего даже сам Игорь Саввович не имеет права знать.
— Начнем с ночной драки, — сказал Селезнев. — Расскажите еще раз, как все это произошло.
Селезнев умудрился, обращаясь к Гелию Макаровичу, обойтись без фамилии, имени и отчества, и в первый раз в присутствии Фалалеева бегло посмотрел на Игоря Саввовича, но зато так выразительно, словно сказал: «Ну, держитесь! Узнаете, в каком болоте увязли с этим вашим треклятым гаражом».
— Как произошло? Да обыкновенно... — ответил Гелий Макарович и впервые улыбнулся, открыв ряд черных, почти до основания изношенных мелких-мелких зубов, и это было так неожиданно, что Игорь Саввович почувствовал легкую тошноту. А Гелий Макарович в это время устраивался на стуле самым нелепым образом. Он засунул ступни за ножки стула, обвил их ногами; руки Фалалеев, наоборот, по-стариковски положил на колени. После этого начал говорить резким, гортанным и клокочущим голосом:
— А чего тут, товарищ следователь, рассказывать? Драка была, так этих драк, как редиски — гривенник пучок... Ну я, конечно, выглянул в окно, думаю, спать пора, а они драться! Ну и что — дерутся? Гривенник пучок! Я эту ночь у матери ночевал, выглянул в окно, посмотрел: дерутся, да и прилег, а мать ревет: «В переулке человека насмерть убивают!» — и меня с кровати тащит: «Погляди, погляди, Еля, как смертно убивают!» ...Меня дома Елей зовут... Посмотрел я опять в окошко — смотреть нечего! Драка! Да чего, товарищ следователь, рассказывать! Драка как драка — гривенник пучок! — Фалалеев передохнул. — А мать все ревет: «Убили, убили до смерти! Беги, Еля, спасай! Беги, Еля, спасай, да беги, Еля, спасай!» Все уши прожужжала — вот я и выскочил во двор. Гляжу: убили, но еще дышит... Ай, да чего я рассказываю! Вы сами, товарищ
19 Виль Липатов, том 4
289
следователь, видели! Я только начало драки прихватил, а как убивали — врать не люблю — не видел... Конечно, Гольцов сам напал, но мое дело сторона. Этих драк — гривенник пучок!
Селезнев, ничего не записывая, поглядывал на Гелия Макаровича исподлобья, грыз спичку, а Игоря Саввовича от мелких, звонких, похожих на падающие откуда-то металлические колечки слов начинало поташнивать, словно в скоростном самолете, резко набирающем высоту. Что-то пестрое струилось перед глазами, предметы расплывались, Селезнев и Фалалеев казались волнистыми, сделанными как бы из гофрированного материала. В кабинете спертый воздух как бы маревом поднимался от пола. Что происходило? Не сошел ли с ума Игорь Саввович, если слышал и видел все это наяву?
— На какой почве имеете личные счеты с гражданином Гольцовым? — между тем человеческим и даже будничным голосом спросил Селезнев. — Когда познакомились, где познакомились, когда последний раз встречались?
Гелий Макарович жалобными, укоряющими за несправедливость глазами посмотрел на Селезнева: «Ну, что вы плетете, товарищ следователь!»
— Хужеете вы, товарищ Селезнев, сильно хужеете! — огорченно сказал Фалалеев. — Когда из району приехали, потолковее и подобрее были... Не знаю я вашего Гольцова! Издалека видел, слыхал о нем, а знакомства не имею... — Он укоризненно покачал головой. — Сами подумайте: какое у меня может быть знакомство с Гольцовым? Он там.,. —- Гелий Макарович показал на потолок, — а я здесь! — Фалалеев ткнул пальцем в пол. — Мы на черных «Волгах» не разъезжаем, коньяки за двадцать рублей не пьем, на Советской власти не женимся... Нет, хужеете вы, товарищ Селезнев! Заелись, загордились, бирюльками пугать стали...
Селезнев согласно кивнул.
— Может быть, и бирюльками! — сказал он. — Однако поедем дальше... Вы как бы случайно сказали, что Гольцов первым начал драку. Как это было?
— Обыкновенно! Вот как было... Я слышу: кричит! Подхожу к окну — стоят против друг дружки. Чего, думаю? А он опять кричит...
— Стоп! Значит, к окну вас привлек голос Гольцова?
— А кого же еще! Кричит: «Сойдите с дороги, га¬
290
ды!» А этот, который длинный, вежливо отвечает: «Проходите, место есть!» А Гольцову надо обязательно середкой переулка идти, барин нашелся... «Отойдите, кричит, переулок мой, кричит, руки-ноги пообломаю, кричит!» Ну, и бросился на этого, высокого, которого убили.
— Вы знаете высокого, то есть Бориса Иванова?
— Это как посмотреть! Встречал я его. А особливо не знал. Таких много — на гривенник пучок!
— Выпивали вместе?
— Этого не бывало. Я непьющий.
Селезнев улыбнулся. Не лгал, подлец этакий, так как всему мелкому уголовному люду, жуликам, аферистам и мошенникам Гелий Макарович был известен как чудак — не пил и не курил, за что и получил кличку Сухой.
— Вопрос для протокола, Фалалеев! Еще раз подтверждаете, что Гольцов первым начал драку? Фалалеев как бы удивленно всплеснул ручками.
— Товарищ Селезнев! — тонко воскликнул он. — Ну чего вы такое говорите? Неужто ребята начали драку? Гольцов пьяный был, одурел мужик, вот и полез на рожон... С кем не бывает! — Он благожелательно улыбнулся. — Перебрал товарищ Гольцов, не рассчитал — вот и задрался... Хоть у кого спросите!
Не в болото, не в грязь, а в пропасть рухнул Игорь Саввович Гольцов, когда полтора года назад пропустил мимо ушей слова жены о гараже, который можно купить в каком-то чертовом переулке. С кем свела судьба? Сидел перед Игорем Саввовичем в неестественной, но, видимо, удобной для длинных допросов позе профессиональный преступник, человек, выработавший целую систему общения со следователем, пользующийся ею открыто и вызывающе. Все рассчитано — от позы до выражения лица, от голоса до строя речи.
— Вот, значит, мать говорит мне, значит, что надо бы посмотреть, кого убивают, — старательно выговаривал, снова переменившись, Гелий Макарович. — Значит, она, мать, значит...
Селезнев спокойно слушал лепет-клекот Фалалеева, ничего снова не записывал, глядел на автоматическую ручку Игоря Саввовича, повертывая ее так и этак. Мо; жет быть, Селезнев ждал, когда свидетелю надоест нести околесицу, и он в самом деле встрепенулся только тогда, Когда кликушеское бормотание само собой за¬
19*
291
тихло. Мало того, следователь дал минуту отдыха че- ловеку-кролику.
— Как же вы не знаете гражданина Гольцова, — сказал Селезнев, — если у него есть расписка о вручении вам тысячи рублей?
Равнодушно осмотрев Игоря Саввовича, свидетель ответил:
— А я его, значит, не запомнил.
Следователь отодвинул протокол, достал из стола три наполовину исписанные странички и с таким видом, словно все трудности были позади, сел на кончик стола — впервые при Игоре Саввовиче.
— Прочтите, Фалалеев! — негромко попросил Селезнев. — Думаю, заговорите по-другому...
Через две-три минуты Фалалеев сидел в нормальной позе, с осторожно положенными на колени тремя страницами из плохой бумаги. Короткие и тонкие губы стиснуты, зрачки по-кошачьи расширены, на виске пульсировала синяя вена. В сочетании с умными глазами это выдавало, несомненно, волевую, сильную и яркую индивидуальность.
— Вот такие дела, Фалалеев, — вздохнул Селезнев. — На каждом гараже Голубкина зарабатывала пятьсот рублей... А вы, по расчетам ребят из ОБХСС, около восьмисот, а ведь вы строили, затрачивали физический труд. — Он незлобно усмехнулся. — Не все же стройматериалы ворованы! Шифер и листовую жесть для обивки дверей пришлось купить, да и за кирпич сторожу пришлось порядочно положить на лапу...
Фалалеев молчал с ледяным, окаменевшим лицом, страшным от пустых, остановившихся глаз; такой человек запросто мог всадить нож в спину или послать пулю прямо в глаза. И тени не пробежало по лицу маленького человека, пока Селезнев говорил, расчетливо поражая Фалалеева убийственными фактами. Когда следователь кончил, Гелий Макарович долго и, казалось, бездумно молчал. Потом неторопливо сказал:
— Слушки о пол куске на каждом гараже были, но я не верил. Гаражи по всему городу идут по куску — зачем людям переплачивать? — Он поймал взгляд Селезнева, несколько секунд они не спускали глаз друг с друга. — Дайте, гражданин Селезнев, слово, что не берете на пушку.
— Честное слово!
292
За этим ничего особенного не последовало — ни удивления, ни отрицательной эмоции. Фалалеев принял к сведению факты, вот, пожалуй, и все! Наверное, в мире Гелия Макаровича измены и предательства встречались так часто, что он мог бы сам сказать: «Гривенник — пучок!»
— Рассказать о гаражах? — скучно спросил Фалалеев.
— Обязательно, и покороче.
Гелий Макарович уже было собрался обвить ножки табурета ногами, но спохватился и остался сидеть в обычной позе, по-прежнему холодный и опасный.
— Если покороче рассказывать, то блицтурнир! — как-то аккуратно проговорил Фалалеев. — Приходит Голубкина, говорит: «Ну вот, теперь можешь заработать, Гелий! Начинай одновременно строить два гаража». Я спрашиваю: «Ты чего, Лорка, получила разрешение?» Смеется: «Лучше, чем разрешение!» — Человек-кролик полоснул взглядом Игоря Саввовича. — Значит, смеется, а толком ничего не объясняет! Ну, говорю, не буду строить! Тогда Лорка и раскололась, говорит: «Двадцать пятого апреля купили машину Гольцовы. Он сам — шишка, а она — дочь Карцева. Кумекаешь? Один гараж продадим Гольцову... О разрешении не беспокойся». Ну, тут и я сообразил, что к чему прикладывается!.. Голубкина дала кусок, то есть тысячу, и мы начали строить...
Наконец Игорь Саввович понял, почему Селезнев несколько раз спрашивал взглядом: «Что у вас происходило в конце апреля или начале мая?» Была куплена машина, та самая машина, которая имела прямое отношение к ночной драке и ко всему, что сейчас происходило в кабинете и казалось кошмарным, невероятным вымыслом, скорее всего фантастическим сном. Маленький человек, человек-кролик, человек, казалось, с другой планеты, бледными крохотными руками, руками-лапками держал ниточку из той пряжи, которую судьба ткала для Игоря Саввозича Гольцова, и при удачном стечении обстоятельств ручки-лапки могли отправить Игоря Саввовича за решетку, такую страшную для него и такую привычную для человека-кролика... Сон, кошмарный сон! Откуда-то издалека, из непонятного, словно четвертое измерение, мира опять слышался условно знакомый голос следователя Селезнева:
— Все-таки почему, Фалалеев, вам понадобилось по-
293
называть на гражданина Гольцова как зачинщика драки?
Игорь Саввович услышал далекое, только похожее на человеческую речь:
•— Ваш Гольцов — блаженный дурачок! Высоко себя занес. В облаках витает. Он и гараж-то не видел до драки... Схлопочет срок — поумнеет. Так что он, он драку начал!
Ленивый, скучающий, бесстрастный, Селезнев писал совсем медленно, своими печатными буквами, и вид у него был такой, словно не существует на земле дела приятнее и милее, чем выводить отдельные, красивые, чертежные буквы на дрянной бумаге.
— Хорошо дерется ваш Гольцов! Что правда, то правда...
За решетчатым окном прошуршал шинами по асфальту троллейбус, тонко вскрикнул клаксоном «Жигуленок», взвился и оборвался призывный девичий голос... За окном жили люди. Шли куда-то, ехали, разговаривали, смеялись: кто-то собирался на пляж, кто-то покупал билет в кино; по магазинам, шатаясь от давки, бродили орды покупателей. Люди звонили по телефонам, писали друг другу письма, целовались, ссорились и мирились. Неужели все это существовало? Игорю Саввовичу теперь мерещилось, что жизнь за окном — выдумка, фантазия, а реальность — узкая и высокая комната, пропахшая хлоркой, человек-кролик, серая бумага протоколов, целый мир тюрем, преступлений, наказаний, тоски, отчаяния, одиночества, где царил и правил человек-кролик, где жили настороженно и одновременно агрессивно; боясь, что тебе вцепятся зубами в икру, торопились вцепиться в икру ближнего первым.
— Гражданин Гольцов, есть вопросы к свидетелю?
— Свидетель, скажите, пожалуйста, — сдавленным голосом проговорил Игорь Саввович, — ас моей женой вы никогда не ссорились?
Океан лютой ненависти колыхался в глазах маленького человека, когда его глаза на мгновение встретились с глазами Игоря Саввовича, и опять показалось, что с таким взглядом на самом деле выхватывают из кармана нож, нажимают на курок пистолета, спускают с поводков собак-убийц. Попадись Игорь Саввович чело- веку-кролику в пустом и темном переулке... Брр! Тридцать лет исполнилось инженеру Гольцову, успел он по¬
294
видать кое-что на этой теплой и круглой земле, но и представить не мог, что существует человек, так смертельно его ненавидящий. Да, наверное, не единственный, далеко не единственный...
— Я такой разговор не принимаю, гражданин следователь! — сказал человек-кролик, обращаясь только к Селезневу. — «Вы с моей женой не ссорились?»... Такой разговор, гражданин следователь, надо в протокол заносить. Так и запишите, что у меня ни с обвиняемым, ни с его женой личных счетов не имеется... А вам стыдно, гражданин Гольцов, на провокацию идти. А еще инженер, начальство! Штучки-дрючки у нас не пройдут! Ни один человек не покажет, что я имею с вами личные счеты...
Селезнев сидел неподвижно, молчал, глядел на Фа- лалеева потемневшими, ничего не выражающими глазами, под взглядом которых Фалалеев понемножечку съеживался и притихал.
— Будете заносить мои слова в протокол? — вяло повторил он. — Настаиваю, значит, чтобы мои слова, значит, занесли в протокол...
Когда он замолчал, Селезнев взял ручку, склонив голову набок, что-то записал с видом старательного ученика, перечитал, как обычно, написанное, поправил завитушку и, очень довольный собой, лег грудью на стол. Он вдруг подмигнул кому-то и внушительным басом прогудел:
— Между прочим, не получился у нас с вами разговор, Фалалеев! Ну совсем не получился. — Он по-мальчишески почесал затылок, умудрившись при этом не оторвать грудь от стола. — Вот как мы это дело дальше нарисуем, Фалалеев. Давайте-ка мне повестку о вызове в качестве свидетеля да идите домой...
Теперь было ясно, что Фалалеев, стоящий уже возле стола и пытающийся всеми силами заглянуть в лицо следователю, отмечающему повестку, знал о Селезневе такое, что надо было знать только человеку его круга, и то, что он узнал, заглянув-таки следователю в глаза, было тревожным. Гелий Макарович испуганно засуетился, начал как-то. странно припрыгивать и хрустеть суставами пальцев, горбатиться и облизывать губы — он чего-то ждал, бледнея и совсем съеживаясь.
— Идите домой, Фалалеев, — прежним басом сказал Селезнев. — Идите домой и на досуге попытайтесь объяснить, как вы оказались па месте драки в полном
одеянии и даже при галстуке?.. Идите, идите, времени на вас у меня больше нет...
Следователь снова кому-то подмигнул, и от этого Фалалеев замер на месте, словно принимал участие в школьной игре «Стой и не шевелись!». Он по-прежнему просительно глядел следователю в глаза, и было понятно: этих абсолютно разных людей связывает тайное, непонятное, но такое крепкое, как связывающее людей кровное родство. Жизненные пути Гелия Макаровича Фалалеева непременно и фатально пересекались с жизненным путем Юрия Ильича Селезнева, и не случись этого, существование того и другого сделалось бы бессмысленным.
— Идите, идите, Фалалеев! — глядя в стол, повторил Селезнев. — Понадобитесь — найдем!
Дверь за человеком-кроликом закрылась по-воровски бесшумно, показалось, что комната стала просторней и выше, посветлела, хотя солнце, проникнув в окно, прежним косым пятном лежало на полу; стояла тишина, было даже слышно, как разговаривают пешеходы, звучит радиоприемник, хотя мотив и слова было трудно разобрать.
— Этот Фалалеев и был четвертым человеком, который вам показался тенью, — сказал Селезнев. — Он во время драки скрывался за углом дома.
Презумпция невиновности. Значит, только этому юридическому установлению Игорь Саввович был обязан тем, что следователь, попутно демонстрируя Игорю Саввовичу, в какой клоаке он оказался, упорно собирал факты, чтобы доказать невиновность инженера Гольцова хотя бы в ночной драке.
Игорь Саввович знал, что следователь — его одногодок, однако через несколько минут после первого знакомства понял и почувствовал, что Селезнев вдвое старше, опытнее, мудрее, и это положение не изхменилось до сих пор. Сидя в зарешеченном кабинете, Игорь Саввович постоянно ощущал, что Селезнев знает о нем значительно больше и глубже, чем сам Игорь Саввович, — речь шла не о гараже и драке в переулке, не о преходящих деталях жизни Игоря Саввовича, а о скрытом, тайном, но самом главном. Шаг за шагом, этап за этапом демонстрируя криминальные упущения Игоря Саввовича, следователь вел себя достаточно мудро, чтобы доказать не только примитивное: «Проглядел, прохлопал ушами, оплошал преступно!» Нет, за всем этим скрыва¬
296
лось большое, трудноуловимое, жестокое обобщение, словно выставлялась табличка «Так по жизни ходить нельзя!», и были такие мгновения, когда Игорю Саввовичу казалось, что еще немножко, еще чуть-чуть, и он сам, а не Селезнев ухватит за кончик начало нити из клубка, откуда пошли его болезнь, одиночество, лошадиная доза коньяка на собственном дне рождения, драка, гараж.
Селезнев неторопливо копался в бумагах, что-то искал и одновременно наводил порядок. Одну бумагу он внимательно прочел, положил перед собой, помассировал пальцами бледный лоб.
— Накануне происшествия вас консультировал профессор-психиатр Баяндуров по просьбе лечащего врача Малининой, — сказал Селезнев. — Чем вызвано обращение к врачам-психиатрам?
И опять Игорь Саввович почувствовал себя голым и замерзшим, стоящим перед длинным столом с глядящими на него мужчинами и женщинами — врачами военкомата, собравшимися на очередную военную комиссию. За его голой спиной, в соседней комнате, вместе с одеждой осталось то, что три минуты назад было Игорем Саввовичем Гольцовым. Перед десятками холодных глаз стояло нечто без имени и фамилии, без биографии, особых примет, без всего того, что казалось безусловным и важным. Голый человек на голой земле...
— Я обращался к врачу Малининой, — вздохнув, тяжело и смущенно проговорил Игорь Саввович. — Непонятные страхи, всегдашнее сонливое состояние, апатия, боязнь находиться среди большого количества людей... — Он заставил себя улыбнуться. — Больше мне нечего добавить, диагноз вы, наверное, знаете...
— Эндогенные депрессии?
— Да!
Селезнев молча и как-то бесшумно ходил по кабинету, видимо, не собираясь заносить в протокол разговор о врачах и болезнях, но лицо у него было напряженным, и руки следователь держал в карманах, что значило: думает, сравнивает, сопоставляет.
— Я разговаривал, как вы понимаете, и с профессором, и с лечащим врачом Малининой, — сказал следователь. — Они уверенно подтверждают наличие ярко выраженной эндогенной депрессии... — Он неловко усмехнулся. — В рамках судебной медицины мне знакомы депрессии... Скажите, Игорь Саввович, неужели и сего¬
297
дня вы переживаете все симптомы заболевания? — Он извинился наклоном головы. — Мне вы кажетесь совершенно здоровым... Это что? Самообладание, привычка к болезненному состоянию?
Следователь увидел, как Игорь Саввович начал медленно подниматься с таким лицом, словно не понимал, что делает; выпрямился, замер и вдруг снова сел, мгновенно успокоившись. «Я выздоравливаю!» — бегло подумал Игорь Саввович, и от этой мысли — сумасшествие! — ушел к понятному и одномоментному. Ему бог знает почему привиделся городской стадион, первый ряд трибун, тонкая фигура в сером плаще, стоящая в проходе. В Ромск тогда приезжала столичная команда, весь город бросился в кассы стадиона, билеты в пять раз дороже продавали с рук барышники, Игоря Саввовича на матч пригласил полковник Сиротин, усадил на «милицейские» места, умчался встречать на входе генерала; Игорь Саввович, не любящий футбол, скучал и разглядывал человека в сером плаще. А ведь это и был Селезнев, тот самый Селезнев, который, оказывается, походил на Игоря Саввовича, а Игорь Саввович — на Селезнева, что было замечено еще тогда, на стадионе...
«Мы похожи! — думал Игорь Саввович. — Похожи... Ля-ля! Глаза, овал лица, подбородок... А я, кажется, выздоравливаю, или мне пора на псишку!»
Глаза седьмая
ТЕСТЬ
Первый заместитель председателя облисполкома Иван Иванович Карцев из командировки в северный отдаленный район области вернулся около семи часов вечера и, не заезжая домой, поднялся в свой рабочий кабинет облисполкома. Он, наверное, еще не успел прочесть самые срочные правительственные документы и телеграммы, как в тресте Ромсксплав и в других заинтересованных учреждениях стало известно, что Иван Иванович Карцев о происшествии в переулке Пионерском знает, но не точно, в общих чертах. Слухи распространил — не нарочно, разумеется, — личный шофер Карцева, которого заместитель председателя кое о чем
298
расспрашивал по дороге с аэродрома. Шофер рассказал об этом по большому секрету механику гаража, механик, тоже по большому секрету, нашептал на ухо диспетчеру, а диспетчер... Одним словом, еще до захода солнца было известно все, и даже немножко больше — как всегда бывает в таких случаях. А тот факт, что Иван Иванович Карцев сразу заехал в облисполком, многие оценили как доказательство выдержки и умения сохранить равновесие в условиях чрезвычайного происшествия, и уже кое-кто повторял слова управляющего трестом Николаева: «Иван Иванович наведет порядок!» — странные в устах сверхосторожного человека и преждевременные, по мнению* инакомыслящих, которых было довольно много.
В тот же вечер произошли события, о которых в городе узнали лишь тогда, когда дело по обвинению Игоря Саввовича Гольцова было закончено.
Едва успев сесть на рабочее место, Иван Иванович Карцев позвонил на квартиру председателя Кировского райисполкома Семена Григорьевича Малярко; поздоровавшись и назвав по имени-отчеству жену председателя, попросил к телефону товарища Малярко.
— Я вас жду ровно в восемь тридцать! Да, из облисполкома...
После этого Иван Иванович позвонил на квартиру дочери, поздоровавшись с нею, но не вступив в беседу, попросил к аппарату зятя. Когда Игорь Саввович подошел, тесть сказал:
— Здравствуйте, Игорь! Не можете ли вы зайти ко мне на службу... Если придется подождать, извините.
Затем первый заместитель председателя облисполкома пододвинул к себе другой телефон, на котором для вызова абонента следовало набрать меныцее количество цифр. На другом конце телефонного провода послышался голос генерал-майора внутренней службы, начальника областного управления внутренних дел Геннадия Георгиевича Попова:
— Генерал-майор Попов!
— Говорит Карцев. Здравствуйте! Спасибо... Хочу вас видеть немедленно. Через пять минут будете? Отлично.
Здания облисполкома и управления внутренних дел находились рядом, от дверей до дверей было метров триста, не более, и первый заместитель председателя облисполкома Карцев, решительно поднявшись, раздви¬
299
нул портьеру, за которой скрывалась дверь, ведущая в небольшую, почти по-домашнему обставленную комнату. Иван Иванович посмотрел в зеркало, недовольно поморщившись, умылся, растер лицо полотенцем и гладко причесался. Теперь он не показался себе таким, каким не хотел бы предстать перед людьми. Загорелое лицо посвежело, седина в приглаженных волосах казалась незаметной, глаза смотрели твердо.
— Хорошо! — проговорил Иван Иванович и вышел из маленькой комнаты. Старательно задергивая портьеру, чтобы не осталось и щелочки, он услышал, как в приемной — одна из толстых двойных дверей оказалась по забывчивости открытой — раздался цокот туфель на высоких каблуках. Это занимала рабочее место секретарша Дина Гарифовна, узнавшая неисповедимыми путями о возвращении в город «шефа» и появлении его в облисполкоме. Чтобы сделать ей приятное, Иван Иванович нажал скрытую кнопку вызова.
— Со счастливым возвращением! — сказала Дина Гарифовна, остановившись в дверях. — Жду ваших указаний, Иван Иванович.
Дине Гарифовне было за пятьдесят, она лет тридцать работала в облисполкоме, знала город и область с такой точностью, что к ней за справками обращались даже из краеведческого музея. Восточное лицо Дины Гарифовны оставалось молодым и худощавым, но женщина была толстой, неуклюжей.
— Жду ваших указаний, Иван Иванович!
Перебирая на столе бумаги, Карцев незаметно, но
жадно разглядывал секретаршу. За много длинных лет работы она, конечно, давно научилась быть невозмутимой и бесстрастной, но к Ивану Ивановичу — он это знал точно — относилась, как часто бывает у секретарш, восторженно-влюбленно. Было совершенно очевидно, что Дина Гарифовна не только встревожена, а всеми силами пытается скрыть страх за Карцева; от волнения зыбкая, нетерпеливая, готовая совершить возможное и невозможное, она не отводила глаз от Ивана Ивановича.
— Я жду генерала Попова, — сдержанно сказал Карцев. — Если во время нашей беседы появится Игорь Саввович Гольцов, попросите подождать...
— Поняла.
Первый заместитель председателя облисполкома опустился в удобное кресло, положил руки на преогром¬
300
ный поблескивающий лаком и толстым стеклом стол. За дни короткой командировки он все-таки соскучился по кабинету, по тому самому кабинету, к которому так долго не мог привыкнуть. Стол был огромным, невозможно огромным, но в первые месяцы работы Ивану Ивановичу казалось, что он даже за таким письменным столом затерян в гигантском кабинете, где от дверей до стола нужно долго-долго идти по бесшумной ковровой дорожке. Иван Иванович от коменданта узнал, что до революции здесь располагался малый банкетный зал губернского банка.
— Товарищ Попов! — раздался в динамике голос Дины Гарифовны.
Начальник УВД области Геннадий Георгиевич Попов очень редко надевал генеральскую форму, в штатской одежде любил светлые тона, яркие галстуки, цветную обувь. Сегодня он был — солнечная погода — в молодежном и на строгий взгляд легкомысленном костюме: голубоватом, с зеленой искоркой, с широкими, по моде брюками. Костюм на генерале Попове сидел все-таки по-армейски плотно, наверное, его шил тот же портной, который шил военную форму, и казалось, что на прямых и широких плечах Попова поблескивают золотые погоны, хотя галстук был пестрым и босоножки кремового цвета открывали яркие носки.
Первый заместитель председателя облисполкома и генерал молча обменялись рукопожатием, Иван Иванович сделал жест в сторону левого кресла, стоя выждал, пока генерал сядет, а сам незаметно разглядывал тонкое, интеллигентное и умное лицо начальника УВД. Генерал месяц назад вернулся с Черного моря, после этого ежедневно ездил купаться в озере под Ромском, систематически занимался спортом; лицо генерала не потеряло южного загара, а, наоборот, еще больше потемнело. Попову не было еще пятидесяти, генеральский чин он получил в сорок семь лет, академию МВД окончил с отличием. Полковник Попов был замечен начальником штаба МВД СССР, быстро выдвинулся на пост начальника УВД Ромской области. Послужной список генерала Попова был безупречным.
— Плохо? — негромко спросил Карцев.
— Плохо! — негромко ответил генерал.
Веки у Попова были воспаленными, пальцы правой руки, лежащей на подлокотнике кресла, стиснуты так крепко, что побледнели суставы, верхняя пуговица по¬
301
лосатой модной рубахи под галстуком была расстегнута — такого никогда не бывало; может быть, и слишком яркий наряд генерала говорил, что он взволнован, растерян, а главное, не знает, что делать. До сих пор генерал не решился посмотреть в глаза Карцева.
— Рассказывайте, Геннадий Георгиевич! — сказал Иван Иванович и по привычке вынул из подставки цветной карандаш. — С подробностями, пожалуйста...
Генерал Попов позавчера вечером позвонил в отдаленный район области, нашел Карцева и с многозначительными паузами, иносказаниями и недомолвками умудрился рассказать первому заместителю председателя облисполкома о событиях в переулке Пионерском и о председателе райисполкома Малярко — главной, как выясняется, фигуре в чрезвычайном происшествии.
— Так рассказывайте, рассказывайте!
Генерал убрал руку с подлокотника кресла, мельком глянув в лицо Карцева, заговорил по-военному отрывисто и четко.
— Следствие заканчивается, — сказал он. — Сегодня двое свидетелей отказались от обвинений в адрес Гольцова, появилось еще три свидетеля нападения на обвиняемого... Следователь старший лейтенант Селезнев встречался сегодня после обеда с товарищем Малярко. Все подтверждается.
Генерал помолчал.
— Жалоба, подписанная двадцатью семью жильцами дома по переулку Пионерскому, отправлена в обком партии, — осторожно добавил он. — Она находится у Левашева. А в городе...
Они почему-то смотрели в одну точку — на тот клочок голубого неба, который виделся над крышей здания УВД и который из огромного сумрачного кабинета казался неестественно ярким, неправдоподобным островком небесной голубизны.
— Весь город знает о драке, гараже и возбуждении уголовного дела против Гольцова... Шума и треска — с избытком!
Иван Иванович медленно перевел взгляд с клочка голубого неба на бронзовый чернильный прибор, которым не пользовался и не знал даже, как открываются затейливые крышки увенчанных купидонами чернильниц. Удивительно, но на мраморной подставке отражался тот же самый островок голубого неба. «Надо сказать, чтобы
302
убрали всю бронзу,,— подумал Иван Иванович. — Завтра же, не откладывая».
— Какое отношение к делу имеет полковник Сиротин? — спросил Иван Иванович. — Вы его имя не упоминали, но слух о причастности дошел до меня...
Фамилию полковника первому заместителю председателя облисполкома назвал шофер, когда они ехали с аэродрома в город. С большим знанием дела водитель рассказал о Голубкиной и Фалалееве («Это они, Иван Иванович, всю кашу заварили!»), уверенно сообщил, что Игорь Саввович Гольцов драку не начинал, а председатель райисполкома Малярко («Чем он думал, Иван Иванович?») разрешил постройку гаражей на месте детской площадки.
— Стремление помочь всем и каждому не первый раз подводит Сиротина. — Генеральский бас зазвучал гневно. — Полковник Сиротин пытался попридержать Селезнева. Следователь пришел с жалобой ко мне. Каким-то образом вся эта история стала известна прокуратуре.
Иван Иванович почувствовал, что устал до изнеможения. Катера, лодки, тряские «газики», маленькие самолеты, совещания, короткие ночи и длинные дни, комариный смрад болот и речушек, стремительное возвращение — все навалилось разом, когда прошло возбуждение и надежда, что опасность преувеличена, что молва из мухи делает слона. Карцев тяжело полулежал в кресле, прищурившись на отраженный в мраморной подставке голубой клочок неба, отрешенно молчал. «Это — конец!» — подумал он вдруг с таким безразличием, точно речь шла не о самом себе, а о малознакомом человеке.
Карцев почему-то вспомнил, что три дня не менял белье, на костюме расплылось жировое пятно, посаженное на торжественном обеде, вспомнилась и короткая встреча с другом детства Василием Сумовым, теперешним директором средней школы. «Ну, как ты там начальником да еще в большом городе?» Иван Иванович легко ответил, что городская жизнь и высокий пост — это только высокий пост и городская жизнь, и ничего больше, а вот сейчас, сидя за гигантским столом в гигантском кабинете, глядя на побагровевшее лицо генерала, понял, что отвечал другу детства по инерции, формально, собственно, не думая, что говорит.
— А что Малярко? — спросил Иван Иванович.
— Празднует труса! — вдруг жестко проговорил
303
Попов. — Позавчера взял больничный лист, но в исполкоме показывается. — Он многозначительно поднял левую бровь. — Просился к первому, но Левашев не принял... О чем Малярко договорился со вторым — держит в тайне. Прямо из кабинета Цукасова уехал домой, к телефону не подходит... Дважды вызывал «Скорую помощь». Врачи «Скорой» говорят, что два вызова — результат обыкновенного страха.
Тихо было в кабинете и за окнами. Около двух часов назад кончился в Ромске трудовой день рабочего и служащего люда, затихли шаги многочисленных ног, от- шелестели резиновыми колесами по асфальту легковые машины, развозящие по домам и дачам ответственных работников, грузовым автомобилям въезд на центральную улицу был запрещен, и даже при открытых окнах на четвертом этаже старинного здания было тихо, как холодной зимней ночью. Легонько поскрипывало кресло под широким в кости генералом, сам Иван Иванович слышал стук собственного сердца.
— Выходит, Гольцов драку не начинал? — медленно спросил Иван Иванович только для того, чтобы не молчать. — Может быть, он превысил пределы необходимой обороны?
— Гольцов только защищался, — уверенно ответил Попов. — Правда, защищался довольно эффектно. Признаться, Игорь Саввович открылся с неожиданной стороны... Вот уж не думал!
Они долго молчали.
— Как пострадавший? — спросил Карцев.
— Вне опасности. От показаний отказался, заявив, что ничего не помнит.
Карцев размышлял о словах генерала, сказанных о муже дочери: «Открылся с неожиданной стороны...» Скоро этот человек придет сюда... Представив, как Игорь Саввович смотрит на дежурного милиционера, входит в приемную, выслушивает просьбу Дины Гари- фовны подождать и садится на один из стульев, Иван Иванович ощутил возбуждающее раздражение. По отношению к зятю это было новым состоянием, незнакомым, и понадобилось прислушаться к самому себе. «Долго же он скрывал эту неожиданную сторону! Двойное дно...» Можно было поручиться, что в огромный кабинет войдет полусонный человек, равнодушный ко всему на свете, непременно заденет плечом за дверной косяк, сядет где придется и поднимет на тестя красивые,
304
но потухшие глаза. Отлично сшитый костюм, модные туфли, с аристократической небрежностью повязанный галстук или белоснежная «водолазка».
— Малярко знал, — для порядка спросил Карцев, — что гаражи строятся на месте детской площадки?
Генерал и первый заместитель председателя облисполкома вздрогнули, когда за окнами устрашающе заревела сирена пожарного автомобиля. В июле — жарком и сухом месяце — деревянный центр Ромска частенько охватывали быстрые бездымные пожары: это горели дома столетнего возраста.
— Заявление Игоря Саввовича на гараж шло через районного архитектора Румерова. Он докладывал Малярко о нарушении генплана... — Генерал закурил. — Заявление неделю пролежало на столе Малярко неподписанным, но затем...
Они снова замолчали, слушая, как постепенно истончается рев пожарных сирен и в кабинет нагнетается прежняя глухая тревожная тишина.
С тихой тоской и сутулящей усталостью Иван Иванович подумал, что генерал Попов и он, Карцев, с детским тщеславием и самолюбием обязанных быть сильными людей щеголяют друг перед другом выдержкой, хладнокровием, твердостью характеров, хотя оба понимают, что ни спокойствие, ни умение трезво и разумно разобраться в случившемся не помогут. С погибающего корабля капитан сходит последним — это закон; наверное, хорошо, когда капитан держится прямо и гордо и, не успев прыгнуть в последнюю шлюпку, уходит на дно морское с гордо скрещенными на груди руками, но корабль это — увы! — не спасает.
— Что делать? — зная, что происходит с Карцевым, по самому себе, тихо спросил генерал Попов. — Левашев затребовал личное дело Малярко и полковника Сиротина... Группа жильцов, что направила жалобу в обком, копию адресовала в «Правду»... Я с минуты на минуту жду вызова.
Генерал не сказал, кто его должен вызвать, но Карцев понял, так как, всего часа два назад отъезжая от здания аэровокзала Ромска и слушая подробный рассказ шофера, ждал немедленного вызова к первому секретарю обкома Кузьме Юрьевичу Левашеву, поднимаясь лифтом в свой кабинет, был уверен, что в приемной
20 Виль Липатов, том 4
305
давно сидит Дина Гарифовна, чтобы сказать исчезающим голосом: «Вас ждет Кузьма Юрьевич!» Этого не произошло, и было непонятно, отчего не произошло, потому что по своей человеческой сути Левашев, не умеющий и не хотящий наказывать человека ожиданием беды, должен был поговорить с Карцевым немедленно, как это всегда бывало, если случалось чрезвычайное происшествие.
— Кузьма Юрьевич через две недели улетает на пленум, — сказал генерал и зачем-то посмотрел на ручные часы.
Они думали об одном и том же, по-прежнему демонстрировали друг другу хладнокровие и выдержку, но старательно избегали встречаться .взглядами, чтобы не увидеть глубоко затаенного страха. Генерал Попов, собственно говоря, в деле Игоря Саввовича Гольцова мог занять четкую позицию безупречного соблюдения законности, генералу нужно было, казалось, только объективно разобраться с проступком полковника Сиротина, но в потоке событий все обстояло не так просто: генерал Попов крепко-накрепко был связан с первым заместителем председателя облисполкома Карцевым, и то, что угрожало Карцеву, косвенно угрожало генералу Попову. Кто может знать, понравится ли начальник УВД области Попов человеку, который — пронеси, нелегкая! — заменит Карцева? И кто знает, не обернутся ли события и против генерала Попова?
— Когда заканчивается следствие? — спросил Иван Иванович.
Генерал смотрел вниз и вбок, молчал долго и напряженно.
— Я думаю, Иван Иванович, — наконец сказал он, — что Селезнев уже получил все необходимое по существу дела.
Если бы не было за плечами Ивана Ивановича Карцева войны, если бы не родился он в семье охотника- промысловика, если бы жизнь не приучила Карцева каждый день, час и секунду бороться за право быть Карцевым, чтобы делать любимое дело, он сейчас завыл бы от тоски и отчаяния — произошло то, чего он так боялся, когда впервые услышал о гаражной истории. Иван Иванович внутренне был готов взвалить на свои плечи труса и подхалима Малярко, принять самое суровое наказание за дочь и зятя, но до последней секунды не верил, что кто-то осмелится запугивать следователя,
306
чтобы спасти его, Карцева, или по крайней мере угодить первому заместителю.
— Как же так, генерал? — грозно начал Карцев, но остановился, подумав, безнадежно спросил: — Чего же хотел Сиротин? Прекратить дело?
— Он не хотел прекращать дело! — возбужденно проговорил генерал. — Он сделал попытку уговорить Селезнева рассматривать происшествие как обоюдную драку...
— Зачем?
— Чтобы не выйти на гаражи! — удивленно подняв обе брови, ответил генерал. — Если не требуется доказывать лжесвидетельство, то гаражи остаются в стороне... Их нет в протоколе!
— А письмо в обком и «Правду»? А взбудораженный город? А детская площадка? А жулики? — восклицал Иван Иванович, бледнея от гнева. — А мой зять? Его биография? А потерпевший, едва не скончавшийся?
Незнакомое происходило с Иваном Ивановичем Карцевым, славящимся выдержкой, хладнокровием, добротой, снисходительностью к чужим слабостям. Карцев не замечал, что, выкрикивая визгливые фразы, угрожающе стучит концом карандаша о стекло гигантского стола.
— Как вы посмели! — кричал, не понимая, что кричит, Иван Иванович Карцев. — Что вы думали, когда принимали преступное решение повлиять на ход следствия? Да вы понимаете, чем это пахнет? Я вас спрашиваю: понимаете? А если понимаете, то как вы посмели, как только вы посмели?!
Графит карандаша сломался; Карцев в сердцах бросил карандаш в корзину для мусора, схватил с подставки другой и опять начал тонкоголосо выкрикивать бессмысленные, чужие для него слова, но уже выдыхался, затихал, приходил в себя, и когда замолк, то оказалось, что генерал Попов сидит-посиживает с величавым, надменным, пышущим здоровьем лицом и полуприкрытыми глазами, словно ему не пристало видеть вечерний свет и словно крик Карцева — единственное из всех средств, что могло помочь генералу обрести мужество и равновесие.
— Вы спрашиваете, как посмел полковник Сиротин припугнуть Селезнева? — многозначительно проговорил генерал. — Сиротин, возможно, за это снимет погоны, но ваш зять, Гольцов Игорь Саввович, на первом же следствии давал такие показания, словно нарочно выво¬
20*
307
дил Селезнева на гаражи... — Генерал зло поморщился. — Это ваш зять, сердечный друг полковника, поведением на следствии вынудил Сиротина к должностному проступку. Гольцов всю гаражную историю сваливает на Светлану Ивановну, хотя заявление в райисполком написал сам. Ну, кто поверит: ваш зять даже НЕ СЛЫШАЛ, что гараж находится в Пионерском переулке, и ни разу не видел его до ночного столкновения? Не понимаю, для чего Гольцов дает такие показания. И никто не поймет!
Уверенный голос, сдержанные жесты, напряженный блеск глаз — таким был сейчас генерал Попов, почувствовавший в тонкоголосых криках Карцева слабость и отчаяние.
— Вы все сказали? — сдержанно спросил Карцев.
Генерал раскованно усмехнулся:
— Еще несколько слов... Полгорода знает, что накануне происшествия Гольцов ночевал у начальника планово-экономического отдела треста Маргариты Васильевны Хвощ. Поэтому ходит нелепый слух, будто Гольцов специально... подставляет под удар Светлану Ивановну и вас, чтобы переметнуться к ловкой бабенке.
«Все мы только люди», — подумал Карцев и поднялся.
— Я вас больше не задерживаю, Геннадий Георгиевич. Думаю, что в ближайшие дни вы мне понадобитесь...
Придвинув к себе подставку с карандашами, Иван Иванович начал их внимательно разглядывать и потому генеральское «До свидания!», оставшись без ответа, как бы повисло в воздухе и не глохло до тех пор, пока Попов не вышел из кабинета. Когда же бесшумная дверь захлопнулась и тишина медленно растеклась по кабинету, Иван Иванович поднялся, пошел по ковровой дорожке, заложив руки за спину, ссутулившись и к чему-то непонятному прислушиваясь. Он четыре раза измерил вдоль и поперек кабинет, опять сел в кресло, положив подбородок на сцепленные замком руки, закрыл глаза... Итак, надо было хорошенько все обдумать, понять, проанализировать, но мысли разбегались как шарики пролитой ртути, сосредоточиться не удавалось, и вместо того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, Карцев вспоминал, как подростком ловил на Кети окуней. Он, всегда такой логичный, здравомыслящий, деловитый, оказался безоружным перед лицом нелепей¬
308
шей, в сущности, полуфантастической истории. Могли Карцев, принимающий каждодневно ответственные решения областного масштаба и, следовательно, постоянно рискующий, предусмотреть опасность в каком-то Пионерском переулке? Бред! Ум отказывался понимать и решать — это походило на то, как если бы электронно-вычислительную машину заставили заниматься таблицей умножения. А ситуация была такой опасной, что Иван Иванович во второй раз отстраненно подумал: «Это — конец!»
Выпрямившись, Карцев нажал кнопку.
— Игорь Саввович в приемной! — доложила секретарша.
— Пригласите!
Вот вам, пожалуйста! Прошло около минуты, двери оставались неподвижными, тишина по-прежнему глухой. Это медленный, ленивый, со скучающими и пресыщенными глазами муж единственной любимой дочери даже сейчас, когда находился под следствием, снисходительно не торопил события. Поднимается с кислой, но загадочной улыбкой, кладет руки в карманы, враскачку, словно сошел с корабля, черепахой ползет к дверям; мускулатура одрябла, за последние месяцы он приобрел манеру втягивать голову в плечи, словно спящая птица. Как, почему, откуда появился этот странный, непонятный и, кажется, опасный человек в доме Ивана Ивановича Карцева?
Дочери, ох эти дочери! Не спишь ночи, когда задыхается в скарлатинозном бреду, не можешь сомкнуть глаз, когда отпускаешь на первую вечеринку, молишь судьбу взять твою жизнь взамен ее жизни, если где-то пропадает вторые сутки, со страхом и болью наблюдаешь, как тоненькая девочка на глазах превращается в женщину, отчуждаясь от отца-мужчины и уходя к матери-женщине. А потом приходит долгожданный ОН — чужой, со скрытной улыбкой, непонятными мыслями и намерениями, — кладет руку на ее плечо и уводит в свой стан, словно рабыню. «Здравствуй, папочка!» — поцелуй, — и сразу к нему, главному: «Игорек, послушай, Игорек...» Что, папочка? Папочка, страдая и сопротивляясь, сдал неверному и чужому человеку вахту у изголовья дочери, оставшись в одиночестве, только время от времени получает объедки дочерней любви.
Двери кабинета открылись.
— Добрый день! — поздоровался Игорь Савво¬
309
вич. — Ну и жара! Нечем дышать. Здравствуйте, Иван Иванович!
Чудеса творились на белом свете! Перед Карцевым стоял незнакомый человек, лишь отдаленно напоминающий зятя Игоря Саввовича Гольцова. Темно-серый костюм, белая «водолазка», невесомые босоножки и модная длинная прическа — только это было узнаваемым в человеке, широко и бодро шагающем по бесконечной ковровой дорожке. Где потухший, пресыщенный взгляд, вялая спина, сонная походка, втянутая в плечи голова? В отличие от генерала костюм на зяте сидел аристократически свободно. Карцев только сейчас заметил, какое мускулистое, сильное, развитое спортом тело покрывала тонкая синтетическая ткань. А лицо?! Загорелое, гладкое, с выпуклым подбородком, твердыми скулами и — надо быть справедливым! — прекрасными серыми глазами: молодое лицо,
энергичное, смелое. Не приходилось сомневаться, что Гольцов был призером студенческого чемпионата по боксу, запросто мог разделаться с тремя здоровыми парнями.
— Садитесь! — осторожно пригласил Иван Иванович. — Помолчим минуточку...
Походило на детскую переводную картинку. Вот тусклая, рисунок едва различим, краски спрятаны, а вот с мокрой картинки срывают прочь слой рыхлой бумаги — какая яркость, какая неожиданная цветовая новизна! Выдающейся способностью к мимикрии обладал Гольцов, если годами жил за маскирующей пленкой житейской неприспособленности, всемирной скорби по суетящемуся человечеству и болезненной тоски. Кто он: ловкий карьерист, пролаза, наглый притворщик, просто- напросто подлец?
— Хорошо, что вы наконец приехали! — сказал Игорь Саввович и улыбнулся, словно ему на самом деле легче от возвращения тестя. — Здесь такое творится...
Подлец, конечно...
На собственном дне рождения жадно, словно в первый и последний раз в жизни, заливал горло коньяком, пьянея, куражился, однако все равно казался несчастным, неприкаянным, затерявшимся в жизни, а за день до этого забрался в постель чужой женщины, чтобы утром как ни в чем не бывало вернуться в спальню жены, хотя знал: город заговорит о воровской ночи. Под¬
310
лец! На следствии показывает, что в истории с этими самыми гаражами...
— Рассказывайте, — машинально проговорил Иван Иванович, так как вместо лица зятя видел белое расплывшееся пятно. — Рассказывайте, рассказывайте что угодно, только не молчите...
Факты, как вагоны с автосцепкой, лязгая, соединялись друг с другом, вытягивались в крепкую длинную цепь неопровержимых обвинений. Красивый, сильный, эрудированный, умеющий говорить, Гольцов с холодным сердцем влюбил в себя Светлану, прослышав о том, что Карцев выдвинется на руководящие областные высоты. Это ведь только ему, самому Ивану Ивановичу, до последнего дня работы в районе и в голову не приходило, что председателя рядового райисполкома собираются назначить на такой высокий пост. Только позже Карцев узнал, что слухи о его перемещении больше года ходили по городу и области. Он все рассчитал, этот Гольцов! Он давно все рассчитал — сплавной трест раздувало от слухов, сплавной трест пораженно наблюдал, как начальник сплавного участка волшебно становится третьей фигурой в учреждении. Он всеми путями делал карьеру, этот ловкий, умный, беспринципный и жестокий человек.
— Что вас интересует, Иван Иванович?
Сосредоточившись, Карцев вместо белого пятна увидел здоровое лицо зятя. Сейчас оно было серьезным, жестковатым — незнакомым, совсем незнакомым, так как именно сейчас Игорь Саввович думал, что все оказалось значительно проще, чем он предполагал, но тяжелее, бесконечно тяжелее, чем ожидалось. Вину перед тестем, отцом жены, человеком, который еще не успел понять, не свыкнувшись с аварийной обстановкой, что все потеряно, и пытался спасти невозможное, — эту вину Игорь Саввович, как он сейчас почувствовал, все эти дни каленым железом выжигал из сознания, интуитивно страшась думать, что не подвел, не скомпрометировал, а уничтожил, растоптал Карцева. Боялся ли Игорь Саввович встречи с тестем? Не то слово, не то состояние: встреча с Карцевым была встречей с самим собой — сегодняшним, итоговым, выходящим из игры и не знающим пока, где и как начнется другая партия. И все-таки представляя встречу с тестем, Игорь Саввович готовился отражать атаки Карцева и наступать самому. Умный, энергичный, легендарно работоспособ¬
311
ный, первый заместитель председателя облисполкома, например, как и всякий нормальный человек, не мог представить такой смехотворной ситуации, когда мужчина, глава семьи, чиновный инженер, умный человек, не -знает, где и как жена приобретает гараж. Непонятно и мерзко, когда непьющий человек по прихоти — ему все разрешается — напивается до свинства.
— Что меня интересует, спрашиваете? Меня все интересует! — стараясь сдерживаться, глухо произнес Карцев. — И вы знаете, что меня интересует больше всего.
Зять сидел с набухшими от напряжения скулами, отчего лицо сделалось квадратным.
— А вот мне не нравится, как вы со мной разговариваете! — холодно и громко сказал Игорь Саввович. — И не надо на меня глядеть так, словно я заклятый враг... На вашем месте я начал бы изучать дело не с генерала Попова, а с меня или, еще лучше, с дочери... — Яркий румянец проступил на щеках Игоря Саввовича. — Если вы считаете, что я не понимаю, о чем вы сейчас думаете, то ошибаетесь... Не надо теперь заниматься арифметикой, речь идет о высшей математике...
Когда произошло превращение? Откуда чистый и громкий голос, уверенность, энергичные движения, юношеский цвет лица? Вообще, что все это значит? Генерал Попов, назвав слухи невероятными или нелепыми, все-таки рассказал, что Гольцов нарочно сваливает грехи на Светлану, чтобы уйти к другой женщине. Но это же бред сивой кобылы! Следствие по делу Гольцова и уход Карцева из старинного здания — через неделю управляющий Николаев выставит голубчика из треста. Он теряет все, этот Гольцов!
— Вы опоздали ровно на пять лет! — словно огрызаясь, продолжал Игорь Саввович. — Пять лет назад надо было думать, не карьерист ли женится на вашей единственной дочери. Успокойтесь, не карьерист... Даже по вашим арифметическим расчетам получается, что этот подозрительный Гольцов все теряет, что можно потерять..* — Губы у него сделались злыми, тонкими. — Я вам как близкому человеку обрадовался, а вы стараетесь понять, почему расчетливый карьерист Гольцов подставил вас под удар. Случилось несчастье, и мы все оказались в ловушке! Правда, беду в наш дом впустил я, но есть еще кто-то виноватее меня. Я не сам превра¬
312
тился в тряпку и тридцатилетнего недоросля. А гаражи на месте детской площадки — случайность. Не они, так что-нибудь другое...
Игорь Саввович замолк, осторожно положил руки на колени, вздохнул, вдруг исподлобья, по-детски растерянно и обиженно посмотрел на тестя. Ему было стыдно за свой громкий голос, за пижонство, за многословие, за то, что отец Светланы пока только молчал и ка-, зался незнакомым. Дело в том, что Игорь Саввович до сегодняшней встречи только однажды был в кабинете тестя, похожем лепными украшениями и дубовыми панелями на ресторанный зал, и еще тогда заметил, какая поразительная разница существовала между Карцевым домашним и Карцевым-кабинетным. Домашний Карцев был человеком чуть выше среднего роста; средней ширины плечи и грудная клетка не делали его ни сильным, ни слабым; домашний Карцев при виде зятя чуточку смущенно улыбался, как выяснилось, оттого, что до сих пор не мог представить дочь взрослой, замужней женщиной, и это доброе, наивное непонимание переносил на зятя; домашний Карцев двигался с уютной деревенской ленцой и безмятежностью, не имел выгнутых строгих бровей и никогда не садился в кресло с высокими подлокотниками и пологой спинкой — под именем «папин стул» ему дома подставляли стул со строго перпендикулярной сиденью спинкой. Кабинетный Карцев казался человеком высокого роста, покатые плечи превратились в прямые; кабинетный Карцев имел немигающие внимательные глаза, суровые начальственные губы, держал руки на высоких подлокотниках, далеко откинувшись назад в кресле.
— Простите! — смущенно сказал Игорь Саввович. — Я только хотел сказать... Я не знаю сам, что хотел сказать. Вам нужно немедленно поговорить со Светланой...
Неужели и это игра — искусная, ловкая игра «мальчика новой формации», как однажды выразился Игорь Саввович о сокурснике? Все заранее продумано, подготовлено, отрежиссировано...
— Иван Иванович!
— Да.
— Почему вы молчите?
Иван Иванович поднялся, раздумал и опять сел: Еще оглушенный моторами самолета, зверски уставший, он тупо взглянул в лицо зятя.
313
— Вы неузнаваемо переменились, — хриплым голосом проговорил он, опуская голову и роясь в цветных карандашах. — На улице я бы вас не узнал...
Теперь они молчали одинаково напряженно. Иван Иванович оттого, что его до спазм в горле раздражал и злил наглый человек, сидящий в кресле для посетителей, а Игорь Саввович оттого, что во второй раз слышит, как хорошо и бодро выглядит, и что сейчас, не дыша, прислушивается к самому себе. Непостижимо! Неужели возможно в самом разгаре житейского крушения, в час катастрофы чувствовать себя выздоравливающим? Где кошмарные, беспричинные страхи, боль под сердцем, сковывающая все тело свинцовая тяжесть? Нет, он еще не ощущал головокружительной сладости Коло-Юльского ельника, но уже легко и просторно дышал, ощущал здоровое тело, раскрепощающую чистоту и стройность мысли.
— Я не переменился, — беспомощно проговорил Игорь Саввович, зная, что Карцев, как и всякий другой человек, не способен его понять. — Я вдруг почувствовал себя почти здоровым, я не переменился...
Хороший, только очень хороший актер мог так искусно играть невинность. Какие там, к черту, тридцать лет — шестнадцатилетний мальчишка сидел перед Карцевым, путался в словах, краснел от смущения и все-таки не мог сдержать счастливого придыхания, когда говорил, что выздоровел... Иван Иванович пошарил по карманам, вынул распечатанную пачку папирос «Беломорканал», неторопливо закурил и невольно прислушался, как редко и прерывисто вскрикивали пожарные машины — возвращались обратно, и это значило, что завтра утром на письменный стол Карцева ляжет сводка происшествий по городу и области, в которой будет упомянут и сегодняшний пожар. А в конце месяца Иван Иванович вместе с генералом Поповым сойдутся, чтобы обсуждать месячную сводку, тревожиться ростом числа одних преступлений, радоваться снижению количества других. «А если его не будет — конца месяца?» — внезапно подумал Иван Иванович и почувствовал, как сердце больно сжалось, а ставший привычным кабинет с его покатыми сводами показался вокзалом. Пожалуй, именно в это мгновение первый заместитель председателя облисполкома Иван Иванович Карцев впервые серьезно подумал, как возможен и близок конец его заслуженного высокого взлета по служебной лестнице,
314
а те два мгновения, когда Карцев про себя говорил: «Это — конец!», в счет не шли из-за театральной трагичности и напыщенности фразы. «Могут снять, — подумал сейчас Карцев, и это было серьезным. — Другого выхода, видимо, не существует!» А все началось с того, что муж единственной дочери ввязался в уличную драку... Да нет, рано или поздно непременно выплыли бы на суд сотен людей неправедные гаражи на детской площадке.
— Два часа назад я был у Николаева, — сказал Игорь Саввович. — Он, окгзывается, забыл мое имя и отчество и сделал строгий, может быть, последний выговор за отсутствие такелажа у Прончатова. А этим вопросом занимался сам Валентинов.
Когда крысы бегут с тонущего корабля, то на спасительный берег первой выбирается не самая крупная крыса, а наиболее трусливая и потому наделенная сверхострым инстинктом самосохранения. Управляющий Николаев открыто, демонстративно, чтобы знали «наверху», пересадил зятя Карцева из тесной комнаты с табличкой «Отдел новой техники» в кабинет заместителя главного инженера, на каждый большой праздник приглашал к себе домой Гольцова со Светланой, прозрачно намекал, что в случае ухода Валентинова на пенсию — только Гольцов и никто другой... Самая трусливая крыса теперь судорожно нюхала воздух дрожащей мордой, соображая, куда бежать и когда бежать. Все эти дни Николаев неутомимо шастал по обкомовским коридорам, исподволь заводил разговоры о Гольцове, делая вид, что относится к делу чрезвычайно объективно, определял, откуда дует ветер и какой: теплый или холодный. К первому секретарю он пробраться, конечно, не мог и не посмел, но побывал у секретаря по промышленности Цукасова, втирался в приемную первого, чтобы поболтать с помощником и секретаршами Левашева, знающими все и немножко больше, чем сам первый. •
— Вот такие дела! — пробормотал Карцев.
Тесть Игоря Саввовича непривычно, неумело, беспомощно пытался скрыть от зятя растерянность и вполне понятный страх — это одно из величайших и самых опасных бедствий человечества. Карцев всеми силами старался оставаться тем человеком, которым был на самом деле: по горло загруженным делами, полным новых планов, увлеченным любимой работой, добрым, сильным, справедливым. Слезы закипали на глазах при
315
мысли, что в пятьдесят шесть лет, в расцвете сил и организаторского таланта, занимая по праву высокий пост, будучи нужным и полезным, Иван Иванович мог потерять едва ли не все, что накопил за сорок лет безупречного и почти круглосуточного труда. Он начал работать в семнадцать, на пятьдесят четвертом году стал первым заместителем председателя облисполкома. В городе и области Карцева любили и уважали, но вот пришел день, когда исподтишка, из-за угла, из темного закутка, где беды, казалось, быть не может, Карцеву нанесли сокрушительный... Левашев! Первый секретарь обкома партии Левашев — молодой, стремительный, пронзительно умный, фанатически принципиальный Левашев! Сдержанная улыбка, напряженная пауза, потом — резко, словно обрубая слова: «Нет уж, товарищи члены бюро! Будем всегда и обязательно выносить сор за порог, если собираемся жить в чистой горнице!»
— Иван Иванович, я совсем не знаю, что делать...
Глаза Карцева посветлели, он, вздохнув, сделал легкое расслабляющее тело движение; зачем-то посмотрел на тяжелое бронзовое пресс-папье с ручкой, увенчанной амуром, машинально поправил — выровнял. «Отец Светланы!» — подумал Игорь Саввович. Родной, близкий человек сидел за гигантским столом в кабинете с купеческой лепкой и стенами полутораметровой толщины. Тесть и раньше не был досадным, но обязательным приложением к жене, а сейчас почувствовалось, что связь между ним и Игорем Саввовичем крепка, далеко простирается в будущее, что Карцевы и Гольцовы теперь, после сокрушающей тех и других гаражной истории, связаны нерасторжимо, и поэтому Карцевым и Гольцовым надо было составить стальную цепь, идти по жизни плечом к плечу, бороться за каждого в отдельности и за всех вместе. Незримая ниточка понимания, родства, общего несчастья уводила далеко-далеко. Появятся же наконец внуки, будут звать Карцева дедушкой, тещу — бабушкой. Как туго затягивался узелок, как все страшнее становилось заглядывать в будущее — туман, сплошной туман.
— Иван Иванович, послушайте, Иван Иванович, — тихо сказал Игорь Саввович, — во всем я виноват... Вы, наверное, тоже не поверите, что я не придал значения, а потом, представьте, забыл о покупке гаража. — Игорь Саввович жалко и беспомощно улыбнулся. — Если это поможет делу, я всю вину возьму на себя.
316
Обманул Малярко, обманул архитектора, наконец, начал самовольное строительство.
Карцев верил и не верил, что этот нежданно расцветший человек, сделавшийся вдруг открыто благополучным, страдал и мучился. Отчего же тогда виноватыми были глаза, ищущие ответный взгляд тестя, загнанно сутулилась спина, на лице крупными буквами написаны жалость, сострадание и собственное непоправимое несчастье? Гольцов, казалось, на самом деле чувствовал себя виноватым во всем, был готов пожертвовать собой, чтобы ничего плохого не случилось с усталым седым человеком — отцом его жены. Внезапно Иван Иванович понял, что зять в эти мгновения, подобно зеркалу, отражал внешнее и внутреннее состояние хозяина кабинета. Спохватившись, Карцев поймал себя на том, что, словно в норе, прячется в глубоком кресле. Он испугался: неужели таким его видел генерал Попов, а теперь муж дочери? Иван Иванович незаметно выпрямился, воровскими движениями поставил на стол локти, чтобы утвердиться в привычной позе занятого ответственного человека.
— Не будем спешить и суетиться, — чужим, но якобы прежним, «кабинетным» голосом произнес Иван Иванович. — Может быть, товарища Малярко обманул архитектор Румеров, приятель этой самой артистки Голубкиной.
«Что я говорю? — услышав себя со стороны, удивленно подумал Иван Иванович. — Малярко введен в заблуждение? Вот уж правда: утопающий хватается за соломинку».
— Скажите, пожалуйста, почему автомобилем занималась только Светлана? — старательно обходя имя зятя, спросил Карцев. — Вы не умеете водить?
— Умею. С девятого класса...
Начиная с пеленок, в маленькой, по-спартански нетребовательной семье Ивана Ивановича Карцева панически боялись, что единственная дочь вырастет белоручкой, эгоистически и по чиновному счету уверенной в собственной исключительности, жадной до жизни наездницей. Школьные годы дочери прошли, когда Карцев был то вторым секретарем райкома, то председателем райисполкома, мать девочки Людмила Викторовна работала бессменным директором школы, в которой- училась Светлана. Сколько же сил и нервов было потрачено, чтобы держать дочь, как говорится, «в черном
317
теле»! По настоянию Людмилы Викторовны учителя ставили Светлане четверку за такую работу, которая по справедливости оценивалась пятеркой; одевали Светлану не только обычно, а бедновато, летом отправляли в самые дешевые пионерские лагеря, путевку в «Артек», вопреки всем преградам завоеванную отличницей Светланой, передали под жалостливо-сентиментальным предлогом однокласснице, тоже отличнице, но не такой блестящей, как Светлана! Сегодня пришло время подводить итоги: затрачено — получено, продавали — веселились, подсчитали — прослезились. Пять лет дочь училась в университете, жила по-новому, может быть, именно за эти годы... Трехкомнатную квартиру дочь с мужем получила до перевода отца на работу в город, воспользовавшись правом кандидата наук на дополнительную площадь, набила квартиру дорогой мебелью и яркими коврами, по-детски радовалась каждой покупке, бегала по комиссионкам доставать «новомодные» старинные вещи. Появился автомобиль, гараж...
— Светлана много ездила?^ — без нужды спросил Карцев.
— Много... Для Ромска даже чрезвычайно много...
Впервые увидев Игоря Саввовича, молодого тогда и
здорового, Карцев сразу почувствовал невольное уважение и легкую зависть. Перед ним стоял спокойный и вальяжный, независимый и свободный человек; зять до безразличия не заботился о том, какое произведет впечатление на родителей жены, на лице и фигуре читалось: «Вы — это вы, а я — это я!», хотя Гольцов этого специально не демонстрировал. Зять ничего особенного не хотел от жизни, но и не отказывался от благ, он просто и естественно прошел искус автомобилями и дачами, путевками на юг, коврами и хрусталем, богатыми спальнями и стеллажами со старинными книгами. За его спиной ощущалась мудрость людей, могущих иметь, но не желающих иметь из-за легкодоступной возможности иметь.
Неужели они с женой ошиблись, когда держали дочь в веригах, и по их вине у нее возникло острое стремление наверстать упущенное, заполнить вещевой вакуум, как только она сняла школьный передник и вышла из дому? Иван Иванович помнил, как дочь ворвалась в его особняк с криком: «Пришла открытка на машину!» Такой счастливой отец ее не видел давно, такого восторженного голоса не слышал со времен шко¬
318
лы, когда прибегала с сообщением о пятерке по математике — трудной для нее дисциплине.
Если бы Ивана Карцева спросили, заметил ли он, как пересел из «газика» в черную «Волгу» с нолями на госномере, он бы не вспомнил, так как разницу не заметил. Он работал, работал, работал — ночами и днями, утрами и поздними вечерами; он работал и ночью, когда ему снились то караваны барж с лесом на голубой Оби, то фантастический взрыв всех шести пилорам Кетского лесозавода, то громадные кузнечики, которые вырубали лезвиями для безопасных бритв бесценные прибрежные кедровники...
— Научите, что мне надо делать, Иван Иванович? — добивался своего Игорь Саввович. — Мне нечего терять, честное слово! Научите меня, повторяю: готов на все!
Сейчас зять Карцева говорил правду, правду и только правду! «Мне нечего терять!» — сказал он, еще раз подтвердив мысль Карцева, что этот загадочный человек ничего от жизни не хотел, обладая возможностью все иметь. Не глупо ли, не смешно ли?
— Я думал, что мы будем говорить много и долго, — сказал Иван Иванович. — Оказалось, что говорить не надо... — Он встал. — Пусть Светлана приедет к матери, и как можно скорее...
Поднимаясь, Игорь Саввович незаметно вздохнул. Пройдет еще час, два, максимум три, и бледный от усталости, раздавленный несчастьем, Карцев пойдет от ворот по песчаной дорожке к тихому особняку, бодрясь и улыбаясь. Сидящая у окна Людмила Викторовна выскочит на крыльцо, счастливая, бросится к мужу: «Иван, наконец-то! Ну и командировка!» Тесть лишь печально покачает головой — ничего не поймет жена, если даже рассказ о драке и гаражах начать с первого дня творения. В голове сельской учительницы, целыми десятилетиями живущей школьными представлениями о людях и событиях, не укладываются гаражи, преступники — какой ужас! Только старый остяк нутром по* чувствует опасность, но ничего не скажет. Одиночество! Мрак, неизвестность, единственная очевидность, что в пятьдесят шесть лет невозможно начинать все сначала..,
— До свидания, Иван Иванович!
Карцев напряженно глядел в спину зятя, почему-то осторожно идущего по длинной ковровой дорожке. Почти пять лет он не понимал этого человека, почти пять
319
лет трусливо прятался от мысли, что Гольцов инороден и чужд его семье; два последних года зять вызывал воинственное презрение сильной личности к сдавшемуся, живущему по инерции слабому человеку. А вот сейчас по ковровой дорожке робко шел родной, близкий Карцеву человек, каким бы расчетливым, коварным и холодным он на поверку ни оказался. Карцев чувствовал, что всем сердцем хочет, чтобы зять не страдал, чтобы Светлана видела мужа бодрым, здоровым и сильным. И когда Игорь Саввович открывал бесшумные двери кабинета, Иван Иванович Карцев с нетерпением ждал, что зять на прощание оглянется.
Зять обернулся, уже войдя в тамбур двойных дверей, обернулся и помахал рукой.
В приемной, похожей на вокзальный тамбур, Игорь Саввович задержался, и не без причины. С секретаршей первого заместителя Диной Гарифовной знакомство у него было давнее, она была живущей отдельно дочерью хозяйки уютного деревянного дома, одну из комнат которого заняла по настоянию будущего мужа Светлана — тогдашняя аспирантка.
— Присядьте, Игорь Саввович.
— Спасибо, Дина Гарифовна!
Игорь Саввович сел, оглядевшись: Дина Гарифовна сидела перед открытой пишущей машинкой и невидящими глазами смотрела на чистый лист бумаги, заправленный в каретку. Она была в своем самом лучшем, редко надеваемом костюме, на груди темнел бант — такой во время оно носили классные дамы, в лакированных туфлях, и это значило, что Дина Гарифовна взволнована, полна тревоги, неуверенности. Барометр показывал бурю, если верить проницательности Игоря Саввовича, ведь давно известно, что во время войны первым о наступлении узнает шофер, а уж потом командир дивизии. В мире Дины Гарифовны существовала удивительная на первый взгляд, а на самом деле наипростейшая система внеслужебной связи. Игорь Саввович точно знал, что от секретарши первого секретаря обкома Левашева и вообще от всех секретарш обкома в руки Дины Гарифовны попадали такие сведения, какими не располагали самые крупные работники областного руководящего аппарата, и первый секретарь обкома Левашев, наверное, не подозревал, что десятки секретарш и шоферов составляют единую цепь информации, возможную только потому, что дальше их, секре¬
320
тарш, шоферов и помощников, сведения не уйдут. Сообщество потому и было жизнеспособно, что хранило информацию внутри клана, среди своих, связанных иерархической цепочкой доступности. Например, то, что могла знать Дина Гарифовна, было недоступно секретарше председателя горисполкома, но информация секретарши горисполкома целиком и полностью принадлежала ведению Дины Гарифовны. Секретарша председателя горисполкома, в свою очередь, имела информацию, недоступную, скажем, секретарше председателя райисполкома Малярко, но секретарша Малярко исправно посвящала секретаршу председателя горисполкома в районного масштаба события.
— Давно приехал Иван Иванович? — спросил Игорь Саввович для того, чтобы отвлечь женщину от созерцания чистого листа бумаги. — Кажется, опоздал самолет?
Дина Гарифовна не слышала; разом похудевшая и постаревшая, Дина Гарифовна прощалась с Карцевым — вот что он прочел на лице женщины.
— Иван Иванович, разрешите?
— Входите, пожалуйста.
Если взять человеческий скелет, обтянуть пергаментного цвета кожей, одеть в темный костюм, нацепить на глаза очки в огромного размера оправе и, вдохнув в полученное жизнь, приказать ожившему существу стараться делать поменьше движений и на вес золота экономить слова, то получится Семен Григорьевич Малярко — председатель Кировского райисполкома города Ромска. Именно такое существо с томительной медленностью черепахи внедрилось в кабинет Карцева, прямое и такое длинное, что приходилось сутулиться, чтобы не казаться вызывающе высоким.
— Здравствуйте, Иван Иванович!
— Садитесь, пожалуйста.
Карцев снова поймал себя на том, что старательно бодрится. В желании владеть собой, понятно, нет ничего позорного, но Иван Иванович отчетливо понимал, как катастрофически быстро превращается из настоящего Карцева в некое карикатурное подобие человека, вошедшего в кабинет.
— Садитесь, садитесь! — повторил Иван Иванович, хотя Малярко уже сидел, зажав руки коленями.
21 Виль Липатов, том 4
321
По-прежнему испытывая болезненное раздвоение, Карцев по возможности спокойно смотрел на тощего до карикатурности Малярко.
— Слушаю вас, Иван Иванович! — не выдержав изматывающего молчания, густым оперным басом проговорил Малярко и тихонько, словно в замедленном кинофильме, принял слушающую позу, в которой виделось выражение загнанности, страха, тоски, похожей на тоску в глазах смертельно больной собаки. Это должно было у всякого нормального человека вызвать если не жалость к Малярко, то хотя бы сочувствие, но Карцев с каждой секундой ощущал прилив лютой ненависти к человеку, виноватому во всех бедах.
Семен Григорьевич Малярко председателем райисполкома работал с незапамятных времен, был человеком патологической работоспособности, так как благодаря врожденной медлительности тратил на любое дело в три-четыре раза больше времени, чем нормальный человек. Поэтому окна его рабочего кабинета светились до двух часов ночи, на работу председатель приходил на час раньше, и Кировский райисполком считался хорошо и рационально устроенным учреждением. За десятки лет работы Семен Григорьевич Малярко не совершил ни одного предосудительного поступка, его грудь тесно завешивали ордена и медали, трудовая книжка распухла от благодарностей...
Сидящий в кресле Малярко походил на большую перелетную птицу, нахохлившуюся от холодного осеннего ветра. Птице пора улетать в теплые края, товарищи уже давно сбиваются в стаю, а она, старая, чувствует, что не выдержит длинный и опасный путь над горами, бушующими морями и океанами, смрадно пахнущими городами. Скоро будет совсем холодно, выпадет снег, завоют вьюги...
Иван Иванович Карцев, напрягаясь и нервничая, старался взглянуть на себя глазами Малярко, силясь понять, есть ли в нем, Карцеве, та самая начальственность, строгость, злопамятность и мстительность, которые иногда заставляют подчиненных трепетать, бояться, подхалимничать? Ведь только этими низменными вещами можно объяснить поступок Малярко. Нет, ничего не получалось! Карцев, не привыкший думать о себе и заниматься собой, не был способен увидеть себя глазами постороннего человека. Ему шел пятьдесят седьмой год, почти сорок лет он работал, учился, опять
322
работал и опять учился, но ему никогда за все эти сорок лет не приходило в голову подумать о том, как он выглядит со стороны.
Сотни, может быть, тысячи людей прошли за сорок лет через кабинеты Ивана Ивановича Карцева, и о каждом из них он знал больше, чем о самом себе. Карцев? Что это такое, если посмотреть на него глазами нахохлившегося несчастного Малярко? Человек, которого надо бояться и из страха совершать подлый поступок — узаконить произвол родной дочери Карцева, запросто решившей построить гараж н а месте детской, площадки? Страх!
Люди! Неужели вы ослепли, если не видите, что давно нет на Руси великой голодных и бездомных, что слой масла на куске хлеба так уже толст, что опасен полнотой и ожирением сердца, что давно забыты времена, когда ездили на курорты, чтобы потом хвастаться: «Прибавил три кило!» «Похудел на пять килограммов» — вот чем мы гордимся сейчас. Чего же ты боишься, Малярко, инженер, умница, работяга? Кабинет размером пять на восемь метров теряешь? Плевать! Квартиру не отберут, инженеров не хватает, хлеб с маслом обеспечен. Выше голову, будь человеком: прочитав заявление за подписью зятя Карцева, пригласи в свой кабинет Гольцова, холодно предложи присесть, скажи: «Как вы осмелились просить разрешение на строительство гаража на месте детской площадки? Вы же руководитель, взрослый человек. Не стыдно? Нехорошо, ох как нехорошо. Вот ваше заявление, Игорь Саввович, уничтожьте, чтобы никто не знал...»
— Слушайте, Малярко, — невольно брезгливо проговорил Иван Иванович, — скажите откровенно: вы меня боитесь? Вы из страха передо мной подписали заявление? Отвечайте ради бога честно, товарищ Малярко... Вспомните, мы с вами лично встречаемся всего во второй раз, даже официально не представлены друг другу... Честно, только честно!
Карцев выглядел разъяренным: плотно сжатые губы, выпяченный подбородок, опасно поблескивающие карие глаза. За сорок лет Ивану Ивановичу только дважды привелось, ослепнув от ярости, стучать кулаком по столу и зычно кричать: «Вон из кабинета!» Сейчас он боялся, что сорвется в третий раз, покусывал нижнюю губу, считал до десяти и обратно, чтобы успокоиться...
— Разрешите подумать, — попросил Малярко, сухо
21*
323
и болезненно покашливая. — Пять дней я думал, но... Разрешите подумать...
— Так думайте, но побыстрее!
Быстрее думать, говорить и совершать поступки этот человек не умел. Про него остряки злословили, будто Малярко обедает отдельно от семьи, чтобы дети не подсчитали, сколько времени отец проводит за едой.
— Вы знали, где строится гараж? На каком месте?
— Знал... Я помню генплан всего района.
Добросовестность, добросовестность, доведенная порой до идиотизма, была главной чертой стиля работы Малярко. Он каждый вопрос рассматривал с возможных и невозможных точек зрения, всегда докапывался до глубин, и это продолжалось так долго, что вскоре забывалась элементарная суть вопроса и кто-нибудь из совещающихся в конце концов ошеломленно спрашивал: «А мы, собственно, о чем дискутируем?»
— Заявление получил архитектор Румеров. Это так? — безнадежно спросил Иван Иванович. — Он не пытался ввести вас в заблуждение?
— Наоборот, Румеров за неделю до заявления доложил о самовольном строительстве двух гаражей в Пионерском переулке, — ответил Малярко таким невероятным басом, каким, случается, говорят худые, болезненно тощие люди. — Кроме того, в исполкоме лежала жалоба двух жильцов, возмущенных строительством гаражей...
— Так что же, черт возьми, произошло? Почему вы дали разрешение?
Иван Иванович Карцев слышал от старших возрастом друзей, что наступает в жизни такой единственный день, когда отчетливо понимаешь и чувствуешь, что тебе перевалило за пятьдесят. Вдруг оказываются слабыми очки от дальнозоркости, ложится на плечи незнакомая тяжесть, ноги не хотят гнуться, особенно когда спускаешься с лестницы, пальцы теряют чувствительность, голова пухнет от неспособности разобраться в азбучных истинах. Старость, обыкновенная старость!.. Ивану Ивановичу представлялось, что он чувствует морщины на лице, тяжесть век, старческую скованность рук и ног, и снова, как давеча, вместо лица Малярко видел расплывшееся белое пятно.
— Я виноват, но не знаю и не понимаю, как это произошло, — угрюмо сказал Малярко. — Не могу объ¬
324
яснить, почему подписал заявление. Вы опросили: боялся ли я вас? Нет! Я вас и сейчас не боюсь... Подхалимаж? Тоже нет... Все дело, наверное, в гипнотизме вашей фамилии и должности... Иван Иванович!
— Я вас слушаю, товарищ Малярко.
Малярко прижал руки к груди, согнулся в три погибели, затряс головой.
— Иван Иванович, я жестоко подвел вас, истолковывайте мой поступок как угодно: трусость, подхалимаж, карьеризм — основания для этого огромны, ио, по справедливости, вашей вины в этом деле нет.
Кто же сидел на самом деле перед Иваном Ивановичем? До сих пор маскирующийся трус, подхалим, карьерист — все в одном лице? Только идиот был способен предположить, что Иван Иванович Карцев мог разгневаться, а потом затаить зло на председателя райисполкома, отказавшего его зятю и дочери в постройке гаража на месте детской площадки. Надо быть сумасшедшим, чтобы рассчитывать, что за услугу дочери Карцев окажет ответную услугу Малярко — например, поможет ему преодолеть очередную ступеньку служебной лестницы. Черт возьми, да если бы он захотел помочь дочери приобрести гараж, нашлось бы законное место и законные способы строительства!
— Вы ни в чем не виноваты! — жалобно бубнил Малярко. — Я докажу, что вы ни о чем не знали. Я совершил незаконный поступок, я расплачусь за него. Это будет только справедливо. Я уже написал откровенное письмо на имя Левашева.
Второй человек за вечер предлагал закрыть собой амбразуру дота с нацеленными на Карцева пулеметами. Первый, напившись, ввязался в драку, положившую начало чрезвычайному происшествию, второй совершил должностное преступление, и оба — добрячки, великодушные добрячки и камикадзе! — предлагали в жертву себя, не понимая или, наоборот, отлично зная, что ничем помочь не могут и, значит, их жертва принята не будет. Все бюро обкома недоуменно взглянет на Карцева, если он скажет, что узнал о гараже только в последней командировке, а два-три члена бюро, не принявшие Карцева до сих пор, ухмыльнутся, после чего каждый из них представит, как первый заместитель председателя облисполкома вызывает к себе Малярко, чтобы потолковать об удобном по расположению гараже для любимой единственной дочери...
325
— Товарищ Малярко, а почему вы не позвонили мне, когда получили заявление? Можно было убить двух зайцев: поставить меня в известность, что вы осчастливили гаражом мою дочь, и посоветоваться.
— Я хотел... — пробормотал председатель райисполкома. — Я хотел, но... Я же говорил об этом самом гипнозе...
Бог ты мой милостивый! Он боялся первого заместителя председателя облисполкома и страхом погубил его, дочь, зятя, самого себя.
— Иван Иванович!
— Хватит!
«А чего хватит?» — тоскливо подумал Иван Иванович, болезненно-жадно разглядывая согбенного, несчастного Малярко. Почему Карцев раньше не познакомился с председателем Кировского райисполкома, не поговорил с ним, не навел справки о человеке, в районе которого живет дочь? «Прекрасный работник!» — вот и вся ставшая уцененной информация о Малярко, а по-настоящему главное — трусость и чинопочитание, которые Малярко даже не замечает в себе, именуя два самых страшных человеческих порока «гипнозом», в характеристику входить не обязаны.
— Я вас больше не задерживаю.
Скелет в темном костюме медленно-медленно ушел к дверям, исчез бесшумно, словно растворился в воздухе, и тишина одиночества глухо скапливалась под лепным потолком. «Пора, пора домой!» — подумал Иван Иванович и закрыл глаза. Его покачивало, земля под крылом самолета вставала дыбом, уши болели от гула мотора. Ведь только завтра исчезнут следы тяжелой командировки...
— Гольцов. Соедините с кабинетом Валентинова.
— Вас слушают.
— Гольцов говорит... Здравствуйте, Сергей Сергеевич! Не помешаю, если минут через двадцать заеду к вам?
Полное молчание, словно связь пропала, затем решительно и властно:
— Простите, Игорь Саввович, но в течение ближайших двух часов я буду чрезвычайно занят. Но непременно жду вас по истечении этого времени... Игорь Саввович, Игорь Саввович, вы слышите меня? Жду
326
ровно через два часа, непременно явитесь. Непременно!
Батенька-то в нетерпении и панике, родимый-то папенька в ожидании чего-то выдающегося ходит из угла в угол, руки за спиной, бородка повисла; часто вынимает из жилетного кармана старинные часы с крышкой — ископаемое! — щелкает, подозрительно глядит на стрелки.
— Договорились, Игорь Саввович? Через два часа, непременно!
— Я приду ровно через два часа.
И бац на рычаг трубку! Вот так, вот так! Вежливо, интеллигентно, мозгово! Ха-ха!
Теперь можно, выйдя из телефонной будки, пройти сто метров до собственной квартиры, чтобы, открыв двери собственным ключом, заранее холодея, убедиться, что мать минут десять назад ушла из дома. Он вошел в прихожую, прислушался. Было тихо. Светлана уехала к родителям, а мать, возможно, безмолвно сидела в кресле с книгой в руках. Красивая, спокойная, уверенная в себе, она ничего и никого не слышит и не видит, если увлечена с головой знакомыми ей до последней запятой сказками братьев Гримм.
— Мама, ты здесь?
В гостиной пусто. Он заглянул в кухню — никого, в свой кабинет — тоже пусто. В доме никого не было, и он смешливо подергал себя за нижнюю губу.
— Ладушки! — пробормотал Игорь Саввович и плюхнулся в кресло... Слышно, как в кухне журчит холодильник, чакают старинные часы с боем — точно такие, как в родном доме. Это была единственная вещь, которую Игорь Саввович сам купил для новой трехкомнатной квартиры. «Мать встречается с Валентиновым! — подумал Игорь Саввович и усмехнулся. — Я не ошибся!» Он знал это абсолютно точно, словно подглядел, как мать с осторожностью пробирается в заранее выбранное укромное место, ежеминутно притрагиваясь рукой к пучку волос на затылке (она всегда делает так, если волнуется), ждет появления Валентинова. Он прочитал это в глазах матери, когда уходил из дома к Карцеву, услышал в искусственно бодром голосе Валентинова. Шестым, двадцать седьмым, сто сорок девятым чувством — безразлично! — Игорь Саввович четко представил, хорошо видел, как неудержимо волнуется Валентинов, мать абсолютно спокойна, но все-таки
327
держит руку на затылке. Игорь Саввович не знал и, наверное, никогда не узнает, почему мать и Валенти- нов разошлись, но он видел, что Валентинов до сих пор слепо и преданно, верно и благодарно любит Елену Платоновну и любовь его прекрасна, как прекрасна всякая любовь длиною в жизнь.
Мать и Валентинов, может быть, сидели на той же скамейке городского парка, где совсем недавно отсиживался Игорь Саввович, собираясь с духом, чтобы пойти в дом тайного родного отца... Седой, поджарый, загорелый, с пикой-бородкой мужчина и моложавая красивая женщина без единой сединки в пышной кипе волос, собранных на затылке.
Глава восьмая
ОТЕЦ, МАТЬ, СЫН
Валентинов о приезде в город Елены Платоновны узнал в тот же час, когда вышел из маленького самолета и увидел, как готовится к обратному полету реактивный лайнер. «Она прилетела!» — подумал он и был так уверен в ее появлении, что не стал размышлять, откуда эта уверенность, а едва вошел в родной дом, мать, поздоровавшись и принимая из рук сына запыленный плащ, насмешливо сказала:
— Она, представь себе, в городе... Звонила!
Почти тридцать лет мать и сын называли бывшую жену «она»; имя Елены Платоновны в доме никогда не произносилось, и, услышав от матери, что «она» приехала, Валентинов спокойно кивнул: «Я так и думал, что она приедет именно сегодня!»
— Тебе, может быть, известно и для чего она приехала? — еще насмешливей спросила Надежда Георгиевна и по-старушечьи поджала губы. — Что с тобой случилось, хотела бы я знать? Бледен, встревожен, руки дрожат...
Главному инженеру Валентинову было под шестьдесят. Валентинов был чрезвычайно крупной величиной в сплавном деле, но для матери он оставался ребенком. Она контролировала все: приход домой, уход из дому, расспрашивала, что было на обед в трестовском буфе-
328
те, почему купил именно синий костюм и вообще какого лешего сидит сиднем в кресле, когда давно пора ложиться спать: «Тушу свет в кабинете, марш в кро¬
вать!»
— Ну-с, милый мой, что там у тебя стряслось?
— Устал. Хочу принять ванну и переодеться.
— Все, батенька мой, устали! Ну а ванну изволь принять — все готово... — И ядовито улыбнулась. ■— Твой Николаев три раза звонил... Голосок Иудушки Головлева, не иначе как пакость готовит... Полотенце синее, мыло розовое — прошу не путать... Дай пиджак, сама повешу. Тебе и этого доверить нельзя — в прошлый раз перепутал плечики, да еще и... Слушай, что с тобой творится, Сергей?
Ванну он принял быстро, накинув мохнатый халат, вышел из ванной с еще более рассеянно-озабоченным лицом, пройдя в кабинет, поставил рядом с креслом телефон, но сразу звонить не стал: мать специально громко бренчала посудой на кухне — хотела обратить на себя внимание, так как в доме только одна вещь для матери была запретной: она не входила в кабинет сына до тех пор, пока он ее не приглашал. Запрет установил, разумеется, не Валентинов, а сама Надежда Георгиевна.
— Мама! — крикнул главный инженер и улыбнулся, хотя улыбка не получилась. — Мама, я уже вылез из ванны...
Надежда Георгиевна переоделась и вошла в кабинет в длинном черном платье с черным кружевом на шее и крупной камеей на груди.
— Вот, совсем другое дело! — ворчливо заметила она. — На человека похожа.
В доме Валентиновых было принято после каждой, хоть самой короткой разлуки собираться в самой большой комнате, надевать что-нибудь праздничное, долго и неспешно разговаривать. Много лет назад в кабинете собиралось до пятнадцати Валентиновых, а вот теперь... младший из последнего поколения Валентиновых да зажившаяся на белом свете родоначальница последнего поколения Валентиновых.
— Ну-с, сударь, рассказывай, что произошло с тобой и что вообще творится в этом лучшем из миров?
Сын молчал, хотя должен был рассказывать подробно об увиденном, услышанном, передуманном.
329
— Что с тобой, Сережка? — нетерпеливо воскликнула мать. — Тебя так взволновал ЕЕ приезд?
— Подожди, мама, мне надо подумать...
Тридцать лет вранья! Тридцать лет стыдливо опущенных глаз, тридцать лет хитроумных и жалких, удачных и неудачных, откровенно-прозрачных и лживых уловок, которым и мать тоже привыкла верить, и только прятала глаза, когда сын неумело, стыдясь и страдая, лгал, что не любит жену. Тридцать лет, прошедших как один день, в старинном доме витала тень Елены Платоновны, сколько ее ни загоняли в углы и ни кричали: «Изыди!», сколько ни внушали себе и друг другу, что тень — только тень. «Ты ее забыл, Сережа?» — «Кого, мама?» — «ЕЕ!» — «Полноте, мама, лица не помню». — «Жениться надо, милостивый государь, жениться...» — «Хотел бы я знать, когда и на ком?» — «Мальчишка! Прекрасные одинокие женщины табунами ходят по Ленинскому проспекту, а вечерами в одиночестве, расчесывая молодые волосы, беззвучно плачут!» — «Уймись, мама!» — «Уймись? А кто продолжит род Валентиновых? У тебя нет братьев... Изволь жениться, сударь мой!»
— Мама, послушай и, если можешь, пойми... — Он по-мальчишески боялся матери. Ну, не смешно ли это для человека его возраста? — Видишь, мама, я не имел права тебе говорить, я дал слово и все эти годы молчал...
Мать спокойно перебила:
— Слово надо держать... Ничего не говорил, все знаю давно. Этот похожий на меня Игорь Гольцов — твой сын и мой внук. Как ты прост все-таки, мой взрослый знаменитый сын! Я узнала внука, как только он открыл двери нашего дома. — Мать заносчиво вздернула голову. — Кровь Валентиновых — это кровь Валентиновых! Игорь в беде — и это я тоже с первого дня знаю... Она приехала спасать сына, но это сделаешь ты, Валентинов!
Он сидел тихо, исподлобья глядя на мать, сжавшись так, как, наверное, это было в полузабытом детстве, когда мать собиралась «делать из него настоящего Валентинова». Мать пугающе постарела, ей чуточку не хватало до восьмидесяти. Надежду Георгиевну, наверное, не узнали бы друзья молодых и даже средних лет, но он, Валентинов, сын, постоянно живущий с матерью, ее старости не замечал, тем более что у матери, как это
330
всегда бывает, не изменилось одно — голос. Глубокий, гортанный, умеющий вкусно произносить окончания слов и округлять букву «а». И когда мать впервые применила слово «сын» к Игорю Саввовичу, главного инженера поразила будничность, с которой оно прозвучало: раньше ему казалось, что должно произойти нечто выдающееся, а вместо этого услышал строгий голос матери:
— Ты меня тридцать лет держишь за дурочку! — Она укоризненно покачала головой. — Но я все равно тобой горжусь. Только Валентиновы умеют безнадежно любить целых тридцать лет! А теперь говори: что произошло с моим внуком? Почему он, кстати, не знает, что ты его отец? Постой, неужели ОНА.., Страшно подумать, но ОНА и на это способна!
— Мама, послушай, мама!
— Я хочу знать все, Сергей! Святая ложь — это святая ложь, но мой внук Валентинов попал в беду... Если она приехала, значит, начнется новая ложь... Я знаю ЕЕ лучше тебя! Да-с!
Тихонечко начали позванивать маленькие колокола действующей Воскресенской церкви, и это означало, что через несколько секунд важно и многострунно пропоет главный колокол, после чего долго-долго над домом и садом будут переливаться медные звоны, печальные и задумчивые, словно кружение в воздухе опадающих листьев, и эти привычные с раннего детства звуки, едва касаясь слуха, окутывали грудь теплой лаской.
— Прости старую дуру! — сказала мать. — У Валентиновых не принято осуждать женщин, но если она способна...
Они замолчали, опустив головы, боясь прочесть в глазах друг друга правду. Валентинов помнил каждое слово, сказанное пять лет назад бывшей женой Еленой Платоновной в ромской гостинице «Сибирь». Игорь Саввович Гольцов тогда еще работал на Весенинском сплавном участке, главный инженер Валентинов беседовал с ним перед назначением начальником сплав- участка буквально три минуты, но, приложив усилие, все-таки вспомнил красивого и здорового молодого человека. «Это твой сын! — стоя у закрытого гостиничного окна и глядя в него, сказала Елена Платоновна. — Он1 — моя жизнь! — Она усмехнулась своему темному отражению в стекле. — Вот не ожидала, что окажусь по-бабьи чадолюбивой. Прими это как данность...»
331
Он смотрел на ее профиль и думал, что ничего подобного не могло происходить наяву. Какой сын двадцати пяти лет, когда сама Елена осталась двадцатипятилетней? Валентинову надо было сказать: «Елена, чего мы стоим, поедем скорее на Бассандайку», — но она говорила и говорила, пока не дошла до слов: «Игорь не знает, что ты его отец, и я хочу, чтобы он об этом, по крайней мере от тебя, никогда не узнал. Теперь суди меня так же беспощадно, как умеешь судить самого себя...» Они негромко переговаривались еще, наверное, полчаса, пока до Валентинова окончательно дошло: «Начальник Весенинского участка — мой сын!» Вот так захватывала его Елена, что он терялся, совсем терялся...
Валентинов посмотрел: мать закрыла глаза, лицо было ласковым, нежным, тихим.
— Сын! — проговорила она. — У тебя есть сын, у меня — внук. Эти слова до сих пор слышали только мои кастрюли, а теперь произношу при тебе. Поверь: он настоящий Валентинов, но еще не знает, что Валентинов... Мое старушечье сердце, кстати, очень еще здоровое, вещает добро... Попомни, Сергей, он хочет, но еще не умеет быть Валентиновым!
Валентинов бессмысленно улыбался от нежности и любви к матери — смешной своей матери. Ее декабристская родовая гордость, деление человечества на две категории — Валентиновых и не Валентиновых, — материнская тоска по продлению рода, старушечье одиночество, когда разговаривают с кастрюлями и дуршлагами, — все это вызывало детское желание обнять мать, прижаться к ней, как бывало, пожаловаться: «Ой, мама, мама!», — не зная, собственно, что стоит за этим: «Ой, мама, мама!»
— Игорь похож на меня, ты заметил, Сергей? — гордо сказала мать. — Игорь удивительно похож на твою старую ворчливую мать! И я хочу знать, что с ним случилось! На базаре ходят идиотские слухи о какой- то ужасной драке, а мой сыночек изволит хранить гордое молчание... Что стряслось?
Валентинов подошел к матери, наклонившись, поцеловал в морщинистую щеку, всегда пахнущую ванилином и лавровым листом.
— Игоря оклеветали, мама! — сказал он. — Я спешно примчался, чтобы помочь. Есть свидетель полной его невиновности...
— Так чего ты рассиживаешься в креслах! — рас¬
332
сердилась мать. — Изволь, голубчик, безотлагательно действовать.
Пока Валентинов набирал номер телефона, слушал гудки и ждал ответа, Надежда Георгиевна сидела в кресле со скрещенными на груди руками и остановившимся взглядом. Валентиновы из поколения в поколение были честными, верными, справедливыми и добрыми людьми, но добро их кончалось там, где не было ни добра, ни справедливости. Валентиновы могли быть жестокими к тем, кто смотрел на мир как на фарфоровую копилку, которую надо взломать, чтобы содержимое утащить в свою крысиную нору. Сам Сергей Сергеевич не только раз и навсегда вычеркнул из списка друзей предавшего его профессора Гуляева, школьного товарища, но и беспощадно загнал его преподавать в захолустной школе на крайнем севере Ромской области.
— Здравствуйте, Игорь Саввович! Приезжайте немедленно. Повторяю: жду вас и немедленно высылаю машину. Черт возьми, что творится с этими телефонами!.. Игорь Саввович, вы слышите меня, Игорь Саввович?.. Отлично! Ровно через десять минут машина будет у вашего подъезда...
Валентинов долго держал трубку в руке, держал двумя пальцами, словно трубка раскалилась; торчала воинственно бородка, губы стиснуты, глаза полуприкрыты.
— Она там, — непонятно усмехнувшись, сказал Валентинов. — Нет, мама, она не поднимала трубку. Я узнал о ее присутствии по голосу Игоря Саввовича. — Он вдруг озабоченно оглядел себя. — Как ты думаешь, можно принимать Игоря Саввовича в этом халате?
Мать с ядовито поджатыми губами пошла к дверям, но все-таки обернулась:
— Можно принимать Игоря в этом халате... Я тоже его ждала. Готов ванильный торт...
Когда машина ушла, главный инженер причесал сырые еще волосы, сев в кресло, попытался сосредоточиться, то есть начал старательно трудиться, чтобы придать себе рабочее, рациональное и — если это бывает — эмоционально глухое состояние. Ведь само поспешное возвращение в Ромск вместе со старшиной катера Октябрином Васильевичем, который сейчас сидел в кабинете следователя и давал спасающие Игоря Саввовича Гольцова показания, было таким же рационалистичным, как
333
все известные поступки родного сына, кроме ночной драки. Валентинов по отношению к Гольцову выполнял долг, более того, честно держал слово, данное Елене Платоновне беречь Игоря и помогать Игорю. Сейчас, когда сына провожала к отцу Елена Платоновна, полная железной уверенности, что Валентинов пойдет даже на преступление, но заслонит грудью Игоря, главному инженеру был необходим холодный, трезвый рационализм.
Все эти пять лет Валентинов, иронизирующий над материнской родовой гордостью, неосознанно искал в сыне именно свое, валентиновское, и мучился тем, что не находил. Напротив, факт за фактом поступали именно из того мира, который логично признавал нормой и ночную драку. Рационализм, жесткий рационализм! Гольцов, этот Игорь Саввович, сын, принимал все, что протягивала могущественная рука Валентинова, мало того, с одной ступеньки карьеры на следующую он поднимался с брюзгливо-снобистской усмешечкой и таким взглядом, словно делал Валентинову одолжение. Сейчас все становилось на свои места, каждая сестрица получала по сережке, и эта разоружающая ясность, лишающая его всех иллюзий и надежд, казалась облегчением. Как только на пороге появится сын, как только на его губах мелькнет болезненная и одновременно нагловатая улыбка, Валентинов — технократ до мозга костей — займется наипростейшей арифметикой. Ведь устройство людей при всей кажущейся им самим сложности игры и дальновидной расчетливости поступков основано только на таблице умножения. Я тебе — ты мне, плюс — минус, фига в кармане — распростертые объятия, вещь — деньги и деньги — вещь...
Отправляясь в прихожую, чтобы открыть двери подъехавшему Игорю Саввовичу, главный инженер мельком посмотрел в зеркало и остался доволен своим лицом.
День снова выдался жарким и душным, даже в тенистой аллее парка прохладно не было, и на одинокой любимой скамейке Валентинову не сиделось, пока он не принял такую же расслабляющую позу, в которой недавно посиживал здесь Игорь Саввович, решая, делать визит главному инженеру или сказаться больным. Было тихо и... странно. Этот уголок парка до
334
сих пор сохранился в девственности тайги, но за плотной стеной деревьев будто бы по недоразумению или просто чуду проходила улица с трамвайными путями и контактной сетью троллейбуса; в это не верилось, думалось, что глубоко в лесу на ветке сидит неизвестная птица, умеющая подражать шуму трамваев и троллейбусов.
Валентинову было страшно, как было страшно и тридцать два года и пять лет назад, когда Елена Веселовская впервые и в последний раз вошла в его жизнь. После многолетнего небытия казалось, что никогда не было и не могло быть маленького немецкого городка по имени Майсен, всемирно известных скал Бастая, запаха кожи от новенького военного снаряжения майора медицинской службы Лены Веселовской. Может быть, она торопилась, может быть, не знала, как это делается, но ремень портупеи не был заправлен под погоны, и он, задыхаясь от нежности, боясь красивых глаз женщины, заправлял жесткий ремень под твердые погоны... Валентинов боялся, что, как только появится в начале аллеи неторопливая женщина с высоко закинутой головой и внимательным изучающим взглядом, исчезнет человек, которого окружающие именовали «самим» Валентиновым. Его место займет новый человек, говорящий «да» вместо «нет», улыбающийся, когда следует стискивать зубы, тоскующий, когда следует веселиться. Власть Елены Платоновны Веселовской над инженером Валентиновым, крупной неординарной личностью, была рабовладельческой: классический случай, когда женщина движением бровей могла послать на подвиг или убийство. Для Валентинова исчезнет все, что составляет его жизнь: могучие реки и пароходы, плоты и гигантские краны, книги и дневники, знание жизни и ее подлинный смысл. Голым человеком на голой земле заранее чувствовал себя Валентинов, держащий в сильных и еще молодых руках тысячи человеческих судеб.
Страшно, но как сладко и счастливо замирает сердце! В миллионный раз бредовая надежда бросает соломинку: «Я вернулась насовсем, Сергей!» Пусть все идет прахом, лишь бы вернулась, не уходила, величавая и спокойная, как лесное озеро, суровая, как спина прокурора. Савва Гольцов — боже, существует ли этот человек! Бред, вымысел, фантазия. Нет на этой круглой земле никого, кроме НЕЕ, любимой и ненавистной, страшной и желанной, несущей одни только несчастья,
335
но дарующей жизнь. Тридцать лет Валентинов верил, что, где бы ОНА ни была, прилетит, приедет, примчится, но будет стоять возле его гроба. За одно это Валентинов был готов.терпеть одиночество, каждое утро, как молитву, произносить ее имя — только пусть молча постоит у гроба, бросит горсть земли в могилу у Воскресенской церкви, так как он-то верно знает, как и что будет думать Елена у свежей могилы... Ну кто может похвастать, что любил тридцать лет, каждое утро просыпался от счастья любви, видел сны с запахом черемухи и сырой травы?
Прозвенел трамвай, заскрипел визгливо на повороте, эхо в густых соснах заглохло, и сразу вслед за этим у Валентинова больно сжалось сердце. В конце аллеи появилась Елена — светлая, как всегда, медленная, ни на кого непохожая. Он смотрел на приближающуюся женщину, но видел ее не такой, какой она была сейчас, сегодня, и понимал, что всегда будет видеть Елену двадцатипятилетней. Пять лет назад, например, морщинки у ее глаз Валентинов заметил, когда сама Елена сказала об этом, глядя с иронией в зеркало пудреницы.
— Здравствуй, Сергей!
Голос из сна, глаза из сна, руки из сна. Валентинов чувствовал запах и дыхание Елены, но, не веря реальности, испытывал такое, словно продолжался сон, длинный и счастливый.
— Здравствуй, Елена!
Она любила его. Это Сергей Валентинов знал так же точно, как знала и Елена Веселовская. Он был уверен, что она глядит на него такими же глазами, какими глядит он, и так же не способна увидеть Валентинова истинным. И он решил, что именно сегодня, когда их сыну плохо, а они, давно перевалившие за пятый десяток, были так же молоды в восприятии друг друга, как тридцать лет назад, он скажет Елене сочиненную им давным-давно фразу, навеянную литературными ассоциациями и потому, наверное, выспреннюю и нелепую.
— Садись, пожалуйста, Елена!
От волнения он шепелявил, руки крупно дрожали, и, понимая, как это глупо и невежливо, Валентинов заложил руки за спину, отчего сделался прямым, надменным. Елена Платоновна, аккуратно усаживаясь, смотрела на него жадно, испытующе, удивленно, как на незнакомого, и походила на умирающего от жажды человека, увидевшего наконец-то холодный журчащий ру¬
336
чей. Так было всегда, когда они встречались, длилось это несколько тяжелых для Валентинова секунд, пока Елена не находила в нем то, что искала, — для угадывания невозможное.
— Ты еще немного поседел, Сергей, но тебе это идет... Ну, здравствуй!
Второе «здравствуй» окончательно подтверждало, что Елена Платоновна нашла в Валентинове необходимое — прежнюю любовь к ней, чтобы с жестокостью обожаемого зверя почувствовать себя сытой.
— Здравствуй, Елена! А вот ты не изменилась!..
Валентинов испытывал болезненное наслаждение от того, что позволял женщине плясать на нем бешеную джигу; сильный и властный человек, он в подчинении этой женщине видел цель своего существования, понимая, как это губительно, ничего до конца дней своих не хотел менять. Все должно оставаться прежним, бунт против женщины запоздал на тридцать два года, да и разуму не было места между Сергеем Валентиновым и Еленой Веселовской.
— Я тоже постарела, Сергей.
Однако не изменилась. Прежде чем сесть, Елена Платоновна провела пальцами по дереву, посмотрела на них, удовлетворенно покачав тяжелой от огромного пука волос головой, села зыбко, бочком.
— Погоди, Елена, — попросил Валентинов, — ничего не говори, успеем...
Мать была права — любовь длиною в тридцать лет редко выпадает на долю простого смертного... Счастье, резкое и больное, как удар электрическим током, чувствовал Валентинов. Стояли перед ним обыкновенные сосны — они были прекрасны, полосатые тени лежали на песчаной дорожке — их желтизна была сказочной, пела в кронах городская пичуга — трубили иерихонские трубы.
— Выйдет глупость, но бог с ней! — глядя прямо перед собой, проговорил Валентинов. — Ты помнишь конец чеховского рассказа «Дама с собачкой»? Мы — это Гуров и Анна Сергеевна, которые так и не нашли выхода, только с одной разницей: нам не нужно было ничего искать...
— Ты не меняешься, Сергей! — сказала Елена Платоновна. — И никогда не изменишься: ведь ты — Валентинов. Ты любишь — это твое счастье, и тебе не¬
22 Виль Липатов, том 4
337
важно, любят ли тебя. Ты завидно благополучный человек, Валентинов!
Он впервые пристально посмотрел на Елену. Красива? Кто знает. Необычна? Спросите об этом кого-нибудь, но только не Валентинова. Любимая, и в этом все!
— Может быть, ты и права, Елена! — задумчиво сказал Сергей Сергеевич. — Я изредка думаю, что ты, может быть, по-прежнему любишь меня.
Сто пятый раз, наверное, Валентинов слышал от Елены Платоновны обвинение, что он эгоистичен и жесток в счастье только своей безоглядной любви, но ему ни разу не приходила в голову мысль, что любимая женщина — холодная и рассудительная — для элементарного житейского обихода, собственного спокойствия и возможности хоть капельку оправдаться нарочно изобрела своим изощренным умом спасительную формулу, годную на все случаи жизни: «Ты любишь только свою любовь!..» Валентинов собирается уезжать директорствовать в Татарскую сплавную контору: «Тебе наплевать, любят ли тебя! Ты будешь в Тагаре счастливым своей любовью, а что тебе до меня...», он поднимается на трибуну областного совещания, чтобы сделать сообщение об опыте вождения барж толканием на Миссисипи, формула немедленно приводится в действие: «Тебе наплевать на тех, кто любит тебя! И будет вместе с тобой голодать и жить в каморке!» И не было случая, чтобы Валентинов логично ответил: «Поезжай со мной в Тагар!» или: «Но я хочу помочь государству...»
— Ты, значит, иногда думаешь, что я по-прежнему люблю тебя? — спросила Елена Платоновна.
Он помолчал, улыбнулся.
— Ты любишь меня! Вот и сейчас ты меня любишь...
Она молчала, глядя на собственную лакированную туфлю. Затуманенное лицо, гордо посаженная голова, блестящие, точно драгоценные камни, близорукие глаза...
— Это ничего не меняет, — протяжно сказала Елена Платоновна.
— Если тебе от этого легче, изволь так думать, Елена!
Валентинов совсем успокоился. Опять со скрежетом вписывался в крутой поворот дребезжащий от старо-
338
сти трамвай, сосны сдержанно гудели, теплая волна воздуха приплыла из влажной низинки. «Ее беда в том, что она ни у одного мужчины не вызывает жалости, — неожиданно подумал Валентинов. — Женщине опасно всегда быть или выглядеть победительницей».
— Я хочу поговорить об Игоре! — сказала Елена Платоновна. — Наверное, опять буду просить у тебя помощи...
Лавина начинается с крошечного комочка снега, так и Валентинов не мог остановиться, как только разрешил себе дурно подумать о женщине, которую любил. «Это действительно, как сказала Елена, ничего не меняет, — подумал он бегло. — Но ей сегодня придется говорить правду и только правду... Я буду бороться за Игоря!»
— Буду назидательным, без этого не обойтись, прости! — суховато проговорил он. — Ты сказала, что я завидно благополучный человек... Это, кажется, правда! Я был счастлив и счастлив сейчас один бог знает почему. В сентябре мне исполнится шестьдесят, конечная точка подъема — рядом... финита! И я чувствую себя мерзавцем, когда думаю, что не могу ни в чем упрекнуть себя. Так не бывает — это свинство и бред! — Он внимательно послушал тишину. — Праведником быть так же гадко, как и грешником... Сейчас ты поймешь меня, Елена.
Остановившись, переведя дыхание, он подумал, что лжет, когда обещает женщине быть понятным. Тридцать лет молчать, тридцать лет усилием воли заставлять себя не думать дурно о бывшей жене, а потом на парковой скамейке выложить подноготную — это уже заведомая неправда: обвинять — значит одновременно и виниться.
— Мы с тобой жестоко расквитались! — делая ударение на «мы», сказал Валентинов. — Моя слепая любовь к тебе, твоя слепая любовь к сыну... Как это ни страшно, но мы сделали все, чтобы искалечить жизнь Игоря... Ты его потеряла, я его не нашел, и за наши ошибки расплачивается только сын... — Валентинов говорил все медленнее и тише. — Пора платить по векселям. Мы оба — ты и я — преступники! Ты тридцать лет назад продала меня за тридцать сребреников, двадцать пять лет спустя я предал сьина...
С трамваями, наверное, что-то случилось. Вот уже- минуты две они шли и шли вплотную друг за другом, яростно звеня и скрежеща на повороте, вспышки искр
22*
339
под дугами пробивались даже сквозь плотные вершины сосен. Трамвайная пробка, видимо, образовалась в самом центре города.
— Сергей! — позвала Елена Платоновна. — Сергей!
Он спокойно и внимательно посмотрел на нее. Елена сидела все в той же позе — гордой и независимой — и, наверное, поэтому дважды произнесенное имя Валентинова, казалось, исходило не из ее уст, и было трудно понять, чего больше в этих словах — желания прервать его или боли за Игоря. Она умела держать себя в руках — профессор кафедры хирургии, полковник медицинской службы, жена знаменитого на весь мир Гольцова; она и на войне умела хранить красивое и достойное спокойствие.
— Я все сказал, — проговорил Валентинов. — Мне хочется встать и уйти...
— Ты не уйдешь! — негромко ответила Елена Платоновна. — Ты не уйдешь до тех пор, пока я не узнаю правду! Если я погубила Игоря, то должна знать, как и почему. Это логично, Валентинов!
Логично! Даже сейчас, когда речь шла о судьбе сына, Елена Платоновна употребила слово, которое было ее сущностью. Валентинов знал, что в институте отличницу Ленку Веселовскую звали Этлогой, именем, составленным из «это» и «логично». Женщина, которая была всегда права и никогда не ошибалась, всегда поступала логично и здраво. Сочетание логики и здравомыслия — из этого не поддающегося передвижению монолита состояла целиком и полностью Елена Платоновна Веселовская, и даже самые гибкие умы пасовали, когда ее большие красивые и неторопливые губы извлекали из любой ситуации простейшие логические и здравые выводы.
— Ты имеешь право знать истину, но логикой не объяснишь, что произошло с Игорем! — тоскливо сказал Валентинов. — Случившееся с ним не поддается формальной логике: везде алогичность. Ты по-прежнему любишь употреблять иностранные слова? — Елена без тени юмора кивнула. — Изволь! Твой прагматизм в применении к Игорю дал эффект инфантильности, близкой к психическому заболеванию. — Он закрыл глаза, как это сейчас сделала Елена Платоновна. — Я обложился учебниками и энциклопедиями, чтобы понять состояние сына. Я даже беседовал с профес¬
340
сором Баяндуровым, который до сих пор в затруднении — случай исключительный. А теперь ты должна говорить правду. Правду и только правду!
Валентинов вынул руки из-за спины, помассировал усталые кисти, прищурился — слепили желтые солнечные полосы на песчаной дорожке. На Елену Платоновну он не мог смотреть.
— Когда ты сказала Игорю, что я его отец? — спросил Валентинов. — Ты потребовала от меня хранить тайну отцовства, слово я держал, но Игорь с нашей первой встречи знал, с кем разговаривает. — Он замолчал, чтобы передохнуть и набраться новых сил. — Ты все рассказала Игорю перед отъездом в Ромск?
Тридцать лет назад на прямо поставленный вопрос Елена Платоновна почти всегда отвечала правдиво, что было его тайной гордостью. Она могла что-нибудь умолчать, по собственному желанию не сказать правду, уклониться от ответа на уклончиво же поставленный вопрос, но, когда ей приходилось отвечать на лобовые «да» или «нет», никогда не лгала.
— Ты все рассказала Игорю перед отъездом в Ромск? Да или нет?
Не глядя на бывшую жену, Валентинов отчетливо видел, как исподволь исчезает со щек здоровый румянец, тускнеют глаза, как закушена нижняя губа и стиснуты руки.
— Да! — сказала Елена.
Спасибо! Валентинов панически боялся, что Игорь мог научиться лгать. Отчим в роли отца, необходимость изо дня в день играть роль любящего сына, видеть мать проявляющей постоянную любовь к знаменитому и роскошному Гольцову. Предатель и карьерист, лжец и притворщик мог воспитываться в таком доме — главному инженеру важно было знать, что до окончания института Игорь Гольцова считал родным отцом.
— Тогда я не понимаю, что с тобой произошло, для чего ты все это сделала? — сказал Валентинов, поправляя туго накрахмаленные манжеты рубашки. — Мы на вершине своих жизненных возможностей, наша песенка, согласись, спета — откроем карты.
Что и кого оставлял Сергей Валентинов на этой теплой и круглой земле, прожив полных пятьдесят девять лет? Толкание барж на голубой Оби, плоты по маленьким речкам, бревна, собрав которые можно, наверное, соорудить гору величиной с Эверест? Он родил сы¬
341
на, которого сам изо дня в день губил, любил женщину, которая всем близким приносила несчастья. Страшный в кастовой спесивой уверенности, что Валентиновы — лучшая часть человечества, он за тридцать лет не набрался смелости, чтобы объективно оценить женщину, которая стала матерью его сына. Какое чванство! Валентиновы с генами передают детям все земные добродетели, Валентиновы чураются прозы и грязи жизни. Ложь, самообман, самогипноз — все преступно!
— Я около пятнадцати лет работаю с управляющим Николаевым, — сказал Валентинов. — Это холодная, коварная, расчетливая и жадная скотина... Мне стоит пошевельнуть пальцем, и Николаев провалится сквозь землю, на его место сяду я или любой достойный человек, но я пятнадцать лет только брезгливо вытираю пальцы после того, как он пожимает мою руку... Какой же я чистоплотный, какая же я сволочь, если высокомерно не хочу мараться о Николаева... Ты права: стремлюсь жить в чистоте за счет грязи ближних. — Валентинов вдруг легкомысленно улыбнулся. — Почему ты ушла от меня, Елена?
Валентинов усмехнулся потому, что женщину, отвечающую правдиво только на прямой вопрос, надо было в лоб спросить: «Кто тридцать лет назад был перспективней? Я или Гольцов?» И до этого смехотворно-простенького вопроса надо было проделать путь длиной в тридцать дет!
— Прости! — сказал Валентинов и рассеянно поморщился. — Ты-то, наверное, уж точно знаешь, чем я могу помочь Игорю.
Она сидела неподвижно, бледная и потухшая, но от этого такая красивая, словно не было и тридцати лет, и мелких морщин у глаз, и помягчевшего рта; могло быть и так, что, уйдя в себя, она просто не слышала длинной речи Валентинова, его больных вопросов, саморазоблачений. Все могло быть с этой женщиной.
— Чем я могу помочь Игорю?
Неужели Валентинов дожил до эпохальной минуты, когда Елена Платоновна Веселовская не знала, что делать, как поступить? Ведь пять лет назад, когда единственный сын Валентинова по невозможному совпадению судеб работал в Татарской сплавной конторе, эта же самая женщина не говорила, а раздельно диктовала: «Ты должен помочь Игорю встать на ноги. Он не сможет жить в глуши, он, по общему мнению профессу-
342
ры, создан для теоретической работы... Это твой сын, ты должен помочь! Ему нужен город, такая работа, которая оставляла бы время для диссертации, и, конечно, квартира, где можно работать... Для тебя, могущественного, все это — мелочь...» Целлулоидной игрушкой, говорящей куклой был сын Игорь для женщины, которая никогда не ошибается, рычагом был Валентинов, по- армейски точно выполняющий ее указания-команды. Так неужели такая женщина сейчас не знала, что делать?
— Помочь Игорю трудно, но можно, — неторопливо заговорила Елена Платоновна. — Девяносто шансов из ста, что карьера Карцева закончена... — Она сделала многозначительную паузу. — Игорь и Светлана должны как можно скорее уехать из Ромска. Я хорошо помню, что теперешний директор комбината Молданлес — твой школьный и студенческий товарищ. Обмен квартир устроит полковник Сиротин... Ты, Сергей, должен побеспокоиться, чтобы Игорю дали должность, соответствующую его способностям... — Еще одна тяжелая пауза. — Мы надеемся, что при могущественных связях Саввы со временем нам удастся перевести Игоря в Москву — в институт или министерство. — Последняя пауза. — Я могу, подобно тебе, произнести покаянную речь, но что толку... Прошу тебя, Сергей, в последний раз. Если наша песенка спета, как ты сказал, пусть будет счастлив Игорь. Я его действительно люблю больше всех на свете. В нем моя жизнь, вся моя любовь.
И ничего в мире не изменилось! По-прежнему на повороте звенел и скрежетал трамвай, попискивали пичуги, сосны отражали легким шумом чужеродные городские звуки. Все оставалось на месте, хотя рядом с Валентиновым сидел человек, мыслящий как электронносчетная машина.
— Это чудовищно, Елена! — волнуясь, сказал Валентинов. — Спасая людей за операционным столом, ты убиваешь самых близких, как только снимаешь резиновые перчатки... Скажи, ты взяла слово с Игоря не говорить мне об отцовстве?
— Да. Я была вынуждена сделать это...
— Лжешь! — тихо сказал Валентинов. — Ты хотела обезоружить Игоря, лишить его возможности сопротивляться моим решениям. С той же целью ты взяла с меня, слово не говорить Игорю, что я его отец... Хватит! С меня хватит, Елена! Я сегодня же поговорю с Иго-
343
рем и буду действо-вать так, как считаю нужным. В конце концов он мой сын, и долг отца — бороться за него против тебя.
Валентинов встал, застегнул на все пуговицы пиджак, глядя на вершины сосен, протяжно и тоскливо усмехнулся. Да, в мире подлунном ничего не изменилось... Он горбился от тяжести и тупого отчаяния, от того, что разговор с сыном, как это ни горько, пойдет только о непоправимом, и от этого чувствовалось, как тяжко и смрадно на душе, как Валентинов стар, тяжел, неповоротлив. Все пятьдесят девять лет сразу ощутил главный инженер, стоя на песчаной дорожке, испещренной вычурными солнечными тенями. Война и туберкулез после войны, уход жены и смерть отца в отдаленных краях, всепоглощающая работа, пять с лишним лет напряженной жизни вблизи сына, которого нельзя назвать сыном, страх за мать — единственно родного человека на земле. Умрет мать — и большой дом Валентиновых останется пустым и гулким, как порожняя бочка.
— Прощай, Елена!
Она сидела, она нарочно не поднималась, зная, что Валентинов не оставит в одиночестве сидящую женщину, кто бы она ни была, и он действительно замешкался.
— Я должен уйти, — пробормотал он. — Игорь слишком долго будет меня ждать...
— Иди, иди!
Собственно, на что надеялся Валентинов? Чудес не бывает!
— Если ты хочешь, чтобы я опять плясал под твою музыку, — сказал Валентинов, — то ты совсем ничего не поняла, что произошло с нашим сыном. Призываю тебя, опомнись!
Елена Платоновна открыла сумочку, вынула зеркальце и губную помаду, неторопливо подкрасила нижнюю губу, которую прикусывала, когда волновалась — единственный признак утраты душевного равновесия. Валентинов глядел на склоненную голову, на длинную породистую шею, на покатые, как у древнегреческих скульптур, плечи. Он подумал, что она каждый день, как и в молодости, по часу массирует лицо, красит теперь волосы и щедро пользуется косметикой. «Она стареет, она быстро стареет! — жестоко подумал Валентинов. — Скоро наступит время, когда Елена за
344
несколько дней превратится в пожилую женщину!» После этого, словно ему заменили глаза, Валентинов с жестокостью постороннего наблюдателя заметил, как пополнела Елена Платоновна, увидел на шее жировые складки, содрогнулся, обнаружив, что по голым ногам Елены, обутым в лакированные туфли, змеились синие вены, набухшие и узловатые. Такие ноги бывают у крестьянских женщин, много работающих внаклонку, и у хирургов, половину жизни простоявших за операционным столом. «Она моложе меня ведь только на два года», — подумал Валентинов с острой болью и с отчаянием сказал:
— Елена, пойми, Елена, я не могу продолжать вредить Игорю. Ты должна понять наконец, что не рождаются всадниками, а становятся ими в борьбе с жизнью...
Он замолчал, словно со стороны услышал свои патетические, дурного литературного пошиба слова. Они, Валентинов и Веселовская, «возвращались с ярмарки», и кто ему дал право поучать и морализировать? Разве он знал, как она жила, его бывшая жена? Хорошая квартира, собственная клиника, всеми уважаемый муж, тоска по Роми, вечная борьба, завистники и оппоненты, ошибки и победы, бой за каждую ступеньку наверх. Вся жизнь — дань степеням и званиям, вся жизнь — схема, начертанная жестокой институтской ученой действительностью. Кандидат, доктор, доцент, профессор! А когда приходит пора подводить итоги, рождается мысль, что сын — единственное родное и близкое существо на земле — должен жить, чтобы быть счастливым совсем по-другому. А как? Как?
— Елена, — как бы оправдываясь, сказал Валентинов и машинально заложил руки за спину, — ты от усталости и разочарований думаешь, что есть легкий, специально нами расчищенный для наших детей путь. Это ошибка!
«Елена здорово устала, пока поднялась на свою вершину», — с жалостью думал Валентинов, стараясь одновременно сообразить, чувствовал ли он себя когда-нибудь достигшим вершины, и ничего из себя не выудил, не додумался до того, что его вершины были вершинами другого сорта. Он не достигал, он имел ив обладании был так беспредельно фанатичен, что не ценил' никакие вершины.
— Елена, ты снова принесешь вред Игорю. Отка¬
345
жись от мысли самой делать его жизнь! — Валентинов волновался. — Ему не следует уходить из треста, но надо, как я когда-то, начинать все сначала, при условии, что уйду я! Понимаешь, уйду я и буду зловредным пенсионером республиканского значения. Придет новый главный инженер, Игорь будет работать с ним. Он способный, умный и сильный парень — это я чувствую... Подумай, подумай, Елена! Я тоже хочу, чтобы нашему сыну было хорошо. Я его люблю, так будем вместе исправлять ошибки...
Он говорил громко, жестикулировал, и ему казалось, что говорит убедительно, что доводы его неотразимы, и такая умная и необыкновенная женщина, как Елена Платоновна, должна все понять и принять. Продолжая говорить, Валентинов уже мысленно создавал ситуацию и руководил в ней событиями: главным инженером треста станет приглашенный по его предложению начальник производственного отдела соседней области Иван Мешков, опытный, добрый и смелый человек, а Валентинов втихомолку станет помогать Игорю советами, делиться с ним опытом, и произойдет то, чего он хотел: сын станет близким, понятным и родным. Валентинов и сам не понимал, что им сейчас руководит только одно эгоистическое стремление — не отпускать Игоря от себя.
— Елена, разве я -не прав? Почему ты молчишь?
— Я думаю. — Она спрятала в сумочку зеркальце и помаду. — Я думаю, что ты не прав... Игоря нельзя оставлять в Ромске. Представь, что будет, если ты уйдешь? Управляющий Николаев, шум в городе: карьерист, хулиган, пьяница... — Она вдруг страстно потянулась к Валентинову. — Ты думаешь, что можно и дальше скрывать твое отцовство? Ты сможешь по-прежнему молчать?
Еще одной жертвы хотела от Валентинова мать его сына. Боже, он согласен на все, но молчать и думать, что его родной сын — подлец и карьерист, случайно раскрывшийся в переулке Пионерском, этого Валентинов сделать не может.
— Никто не знает в Ромске, что Игорь — мой сын, кроме меня! — сухо проговорил Валентинов. — Однако есть еще один человек, знающий тайну...
— Кто?
— Сам Игорь... Я верю, что он раскроется, иначе у меня не было и нет сына...
346
Значит,, и машине бывает больно, когда она, подобно Елене Платоновне, впадает в тоску по собственному несовершенству...
— Вот теперь я уйду! — резко произнес Валентинов. — Тебе надо побыть одной на нашей скамейке... До свидания, Елена!
Выше голову и тверже шаг! Если можешь, тяни носок, как тебя учил старшина, если можешь, вонзай в безоблачное небо острую бородку. Это страшно, Валентинов, жить без любви, это хуже смерти, но какая же это любовь, когда ты, Валентинов, на глазах любимой женщины становишься глупее, примитивней, слабее духом того Валентинова, которого знают повсюду? Отчего же Валентинов становится набитым дураком в присутствии Елены?
С улицы парк кажется седым под лучами жаркого солнца, со стороны широкой улицы парк видится жалким и чахлым островком пыльной зелени, зажатой тисками асфальта, трамвайных путей и домов, стоящих в армейской шеренге одинаковости. Разогретый асфальт мягко проваливается под каблуками, пахнет бензином и пылью. Разомлевшие от жары пешеходы двигаются сонно и немо... Валентинов обернулся, увидев, что ворота парка пусты, пошел вперед, взмахивая руками. Ему нравилось, как он идет, как ловко и быстро прогоняет мысли об Елене Платоновне, как браво поглядывает на женщин с кошелками и красивых девушек. Главный инженер и не подозревал, что он сутулится, волочит ноги, руки от туловища отрывает тяжело; он не знал, что у него угрюмое, застывшее, перекошенное гримасой боли лицо; он не слышал, что на ходу шепчет что-то себе под нос, как это делают старые одинокие люди. Больше того, Валентинов забыл, что приехал в парк на автомобиле, и не замечал, что за ним по пятам катила черная новенькая «Волга».
— Сергей Сергеевич!
Сидя в машине, заметив удивленное лицо водителя, Валентинов по-прежнему не был способен оценивать увиденное, понимать услышанное, ему опять казалось, что он возлежит на сиденье в привычной начальственной позе, а на самом деле горбился, сжимался в комочек, не находил, куда спрятать дрожащие руки. Он поднялся на второй этаж трестовского здания, вошел в приемную, где царила Виктория Васильевна, которая смотрела на него такими же удивленными глазами, как
347
водитель. Голос у Валентинова был старчески-хриплым, когда он якобы властно распорядился:
— Как только появится Игорь Саввович, немедленно приглашайте. Немедленно!
В своем стерильно чистом кабинете, в тайной каморке, скрытой большой географической картой, главный инженер переменил сорочку, встав перед зеркалом, увидел то, что хотел увидеть, — уравновешенного, строгого, знающего себе цену человека. Он рассмеялся бы, если бы ему сказали, что из зеркала смотрит угрюмый, напыщенный старый человек с недобрыми глазами. Человек был сутул и болезненно бледен.
Усевшись на рабочее место, Валентинов положил сжатые кулаки на стол, выпрямился и с бахвальством подумал, что в такой позе похож на знаменитый портрет академика Павлова. На эту мысль наводили руки, которые действительно по волевому рисунку и силе походили на руки великого ученого. Еще угрюмее сделалось лицо главного инженера, острая бородка заносчиво и надменно вздыбилась, когда неторопливо открылись двойные двери и на пороге показался Игорь Саввович.
— Еще раз здравствуйте, Сергей Сергеевич!
— Добрый день, Игорь Саввович!
Чудеса! С каждым днем сын все расцветал и молодел, хотя на него свалились беды и несчастья. Привыкший тщательно одеваться, теперь он демонстративно не застегивал пуговицы на спортивной рубашке; всегда причесанный на пробор, сегодня позволил волнистой пряди волос упасть легкомысленно на лоб. Загорелым и крепким было его сильное лицо, широкими плечи, открытые руки набухали мускулами. В полуулыбке белели зубы, материнские брови — такие в романах называют соболиными — лоснились.
— Ну как дела, Игорь Саввович?
Кабинет главного инженера поражал удивительным несоответствием обстановки и человека, который работал здесь. Если в любом другом месте главный инженер казался аристократически небрежно одетым мужчиной, то в кабинете, где сверкали полировкой два сверхсовременных стола, составленных буквой Г, несколько стульев и кресел, стены, обитые голубым линкрустом, стеклянный — дерева почти не видно — книжный шкаф, в этом сверкании Валентинов выглядел совершенно лишним.
— Игорь Саввович, проходите, садитесь.
348
Секретарша Виктория Васильевна была права: на главном инженере «не было лица». Мало того, Валентинов сидел за столом прямо, строго прямо, руки лежали на полированном дереве, пальцы сжаты в кулаки, так что действительно лицо и фигура главного инженера были незнакомыми. На осколочную гранату походил Валентинов, выдерни чеку — все разнесет на мелкие кусочки.
— Садитесь, садитесь, Игорь Саввович!
Только однажды Игорь Саввович видел главного инженера таким, как сейчас. Это было года два назад, весной, когда неожиданно ранний ледоход на глазах у Валентинова уничтожил все катера Кустовского затона, и Валентинов после двухдневных математических подсчетов выяснил, что виноват он, главный инженер, не предусмотревший ледохода такой мощности.
— Что новенького? — спросил главный инженер, не глядя на заместителя. — Уже всем известно, что вы не развязывали драку и вообще далеки от всей этой мрачной и, простите, неприглядной истории!
Игорь Саввович так внимательно и по-новому разглядывал Валентинова, что тот медленно снял руки со стола, но за спину не заложил. Игорю Саввовичу, видимо, все не нравилось в Валентинове — поза, глаза, фривольный голос: «Что новенького?» Как и у матери, загорелое лицо Игоря Саввовича посерело, так как под загаром он бледнел, губы, как у Валентинова, вытягивались в злую полоску.
«Плоть от плоти... ■— туманно подумал Игорь Саввович. — Пожалуй, не буду никому уступать набор генов». Прямой, с маскообразным лицом и жесткими глазами, Валентинов был отлично приспособлен к тому, чтобы Игорь Саввович произнес трудные для обоих слова. Как хорошо все-таки, что в непреклонные глаза Валентинова сейчас можно было смотреть тоже холодно и непреклонно.
— Вы сегодня встречались с моей матерью, — медленно проговорил Игорь Саввович. — Для чего вы встречались — вот это я хочу знать, во-первых. — Он набрал в грудь воздуха. — Во-вторых, скажите, когда вы узнали, что я ваш сын?
Валентинов ощущал себя глыбой льда. Трудно было шевельнуть бровью, пальцы совсем не повиновались... Вот и протрубил рог, призывающий к ответу! Он думал, то есть боязливыми мгновениями допускал мысль, что
349
существует двойной обман, то есть Игорь и он, зная правду, поклялись Елене Платоновне молчать, но не мог поверить в реальность преступления: жена, его бывшая и всегдашняя жена, не могла же поступить так гадко и низко.
— А когда узнали обо мне вы, Игорь Саввович? — точно эхо отозвался Валентинов. — Когда?
Его не услышали, так как Игорь Саввович свыкался с простой истиной: женщина, его мать, лгала расчетливо и открыто для достоверности, женщина, которая была всегда права и никогда не ошибалась, создавала сама ситуации, и сделанное ею было так чудовищно просто, что нормальный человек не знал, чем или какой мерой оценивать совершенное.
— Я встречался с вашей матерью, — четко и громко сказал Валентинов. — Ваша мать — женщина, которая любит только вас — единственного сына...
Быть рабом женщины, выполнять безоглядно и слепо любое ее желание или каприз — это сладко, это счастливая эгоистическая возможность казаться самому себе всемогущим. Однако, как и всякое рабство, слепая любовь выхолащивает душу и убивает сразу двоих — подчиняющего и подчиненного, по принципу ценной реакции распространяется повсюду и собирает везде жертвы. «Боже праведный, — однажды воскликнула мать главного инженера Надежда Георгиевна, — нужно ли было прожить восемьдесят лет, чтобы узнать, что ванильный торт техМ лучше, чем больше в нем сахара и ванили!»
Валентинов всю жизнь бездумно и жертвенно любил женщину, которая с безмятежной простотой расчетливо предавала всякого, кто мешал ей брать, иметь и пользоваться. Только трусость мешала Валентинову понять лежащее на поверхности. Зачем Елене Платоновне нужен был Валентинов с его Тагарской сплавной конторой, когда рядом тоже жаждущий сладкого рабства Савва Игоревич Гольцов — проректор медицинского института, обещающий через два-три года стать ректором? Игорь, всю жизнь пытающийся быть самостоятельным, узнает, кто такой Валентинов, а Валентинов — тоже с условием хранить тайну — получает информацию об Игоре, и оба преданы, да еще, как оказалось, преданы бессмысленно: обожаемый сын загнан в ловушку, израненный и опустошенный.
— Вы не знали, что я знаю? — вполголоса спросил
350
Игорь Саввович. — Вы, как и я, думали, что я не знаю? — добавил он, путаясь в словах. — С вас тоже взяли клятву?
Валентинов по-прежнему казался каменным. Чужое, злое, беспощадное выражение лица как бы утвердилось навсегда, затвердело, а глаза оставались пустыми.
«Что я делаю?» — вдруг спросил себя Игорь Саввович.
Главный инженер снова был таким, каким был в Ку- стовском затоне. Он, казалось, видел тронувшуюся в путь ледяную реку с голубыми бликами торосов, слышал голубой свист потеплевшего ветра, хруст погибающих катеров, похожий на хруст костей; катера, вздыбившись, раскалывались, бесшумно уходили под лед, оставив на поверхности темные масляные пятна. Главный инженер стоял без шапки, волосы были заиндевевшими.
Старый и одинокий человек, заменивший работой все земные радости, Валентинов помолодел, повеселел, по- молодому ожил, когда в тресте появился начальник отдела новой техники Гольцов. Ежедневно с точностью радиомаяка главный инженер появлялся в веселой комнате отдела новой техники, не присаживаясь («занят, товарищи, предельно занят!»), болтал о разных разностях с молодыми инженерами. Минуты счастья, отдыха, молодости, возвращенной сыном, конечно, не знающим, что в дверях стоит родной отец.
За тридцать лет ни одной женщины, за последние десять лет всего три отпуска, за тридцать лет пять — в командировках. Работа, работа, только работа!
— Да! — гулко, точно в пустую кастрюлю, сказал Валентинов. — Я тоже дал слово.
Главный инженер подумал, что родил честного, доброго, умного сына. Бесспорно, что все эти годы Ирорь был уверен, что Валентинов ничего не знает об отцовстве, предположить не мог, что Валентинов выполняет волю матери «взять под крылышко сына», и поэтому делает карьеру — головокружительную притом — инженеру Гольцову. Все эти длинные и одновременно короткие почти шесть лет были, по существу, игрой с живым, попавшим в ловушку родным человеком. Как сказал недавно сын? «Отсутствие стрессов — это самый страшный антистресс!» Сын — игрушка, сын — подопытный кролик, сын — утеха эгоиста-отца, желающего лишь одного: быть рядом с потерянным и чудесно найденным сыном, ребенком.
351
— Когда вы узнали, что я ваш сын? — умоляюще и жалобно спросил Игорь Саввович. — До моего приезда в Ромск? Скажите, это очень важно, я должен знать правду. Скажите только правду... Я сильный, я смогу все начать сначала!
Игорь Саввович вдруг с жалостью понял, что сейчас видел главный инженер Валентинов, существующий в обстановке катастрофы... Уходил под воду последний катер Кустовского затона, покачиваясь маятником метронома и одновременно повертываясь, точно пробуравливая ледяное крошево... Валентинов во второй раз и теперь — чудес не бывает! — навсегда терял сына, и не было жертвы, которую главный инженер, подобно Елене Платоновне, мог бы принести, чтобы сын по-прежнему сидел в сумрачном здании треста. Найти и потерять!
— Вы спрашивали, когда я узнал, что вы мой сын! — сказал Валентинов. — Вот этого вы от меня никогда не узнаете. Добавлю, что теперь у меня есть куча ваших фотографий, начиная с ясельного возраста. Елена Платоновна любезно снабдила меня ими. — Губы двигались равномерно, точно Валентинов жевал резинку. — Не знаю, известно ли вам, что вы потомок декабристов Валентиновых и даже больше Валентинов, чем я. Сохранился дагерротип прапрадеда. Вы слепок с него, как и моя мать, ваша бабушка...
Перед Валентиновым сидел растерянный, горестно съежившись, нелепый мальчишка, даже подросток. Куда девалась респектабельность и сила, вальяжность и дерзкий блеск красивых глаз, современная манера держаться с насмешливой снисходительностью, и Валентинов, подумав, без труда понял, что сын напуган его лицом, позой, жестоким выражением глаз. Однако главный инженер не управлял собою и, страдая, продолжал глядеть на сына стеклянными, холодными, гневными глазами.
— Сергей Сергеевич... — Игорь Саввович умолк, словно прикусил язык. — Я теперь не знаю, как вас называть! — воскликнул он тонким голосом, и веки у него покраснели, точно он собирался заплакать. — Позвольте мне называть вас по-прежнему Сергеем Сергеевичем?
У Валентинова не было сил подняться, подойти к сыну, похлопать лихо по плечу: «Перемелется — мука будет!»; не было сил даже на то, чтобы снять «павловские» стиснутые кулаки со стола и заложить руки за спину.
352
Валентинов; только болезненно щурился, так как
с трех сторон из больших окон в кабинет врывалось
солнце, по-прежнему жаркое, а на небе не было, как и вчера, ни единой тучки. До смешного точно оправдывались всегда ошибочные прогнозы областного радио: «Конец третьей декады будет засушливым». Расстегивая с усилием пуговицу под тугим галстуком, главный инженер, не зная, как сейчас выглядит внешне, ощущал себя загнанным в угол и расхристанным, как злой пропойца.
— Скажите, Сергей Сергеевич, вы намеренно организовали мою встречу в вашем доме со Светланой? — осторожно спросил Игорь Саввович. — Вы хотели женить меня на ней?
Неужели и это ошибка? Двадцать пять лет назад,
когда Валентинов работал в одном районе с однополча¬
нином Иваном Карцевым, по комнатам квартиры друга бегала светловолосая девочка, веселая и умная, и всякий раз, когда Светлана садилась Валентинову на колени и начинала делить его тогдашнюю молодую бороду на косички, он думал о сыне. Девочка росла красивой, доброй, работящей, по-деревенски здравомыслящей и по- народному талантливой. Она была чудом — эта Светлана Карцева, и мог ли Валентинов не познакомить свою любимицу с Игорем?
— Ваш брак неудачен? — спросил он. — Неудачен? Скажите?
За окнами, оказывается, бог знает что творилось. Надсадно гудели несколько дизельных моторов, ухала и постанывала «дизель-баба», переругивались мужские голоса. Это возобновили строительство заброшенного здания областного музея — сплошь из стекла и стали.
— Теперь я понимаю, почему вы не пришли на свадьбу! — изумленно протянул Игорь Саввович. — Придумали срочную командировку...
Мать и Валентинов — каждый по-своему — скрывали от Игоря Саввовича все возможное и невозможное, чтобы создать иллюзию самостоятельности у человека, которому исполнилось тридцать лет. В этом возрасте Наполеон готовился в императоры, Эйнштейн был Эйнштейном, Пушкину оставалось всего семь лет до дуэли, а Игорь Саввович — каков молодец! — сумел напиться до чертиков и полез в драку. Ладушки, черт возьми, ладушки!.
— Вы не любите жену? Брак неудачен? — снова
2-3 Виль Липатов, том 4
353
гулко спросил Валентинов. — И почему вы спрашиваете: «Вы нас женили»? Разве вы не сами продолжили знакомство со Светланой?
Нет, чепуха, конечно, его не женили, но расчет был точен: красивая, спокойная, умная и хозяйственная девушка — это то, что нужно Игорю Саввовичу, избалованному домработницами, семейными веселыми обедами, выглаженными брюками, хрустящими крахмалом простынями. Светлана, воспитанная по-деревенски строго, перенявшая и одобрившая материнское отношение к семье, поднималась на час раньше мужа, как бы поздно ни уснула; к его пробуждению был готов красиво сервированный завтрак, на спинке кровати висела белоснежная сорочка, чистые носки и галстук в тон носкам. Еще сонный, он видел утреннюю, радостную улыбку жены, такую же непременную, как яйцо всмятку.
— Не смейте думать, что мне было известно о назначении Карцева на высокий пост! — властно прикрикнул Валентинов. — Я не имею привычки делить людей по степеням и высотам.
Игорь Саввович сосредоточенно считал. Родился он в июле сорок шестого года, следовательно, к концу сороковых годов ему могло быть от трех до пяти лет. Если мать тогда еще была женой Валентинова, то возможно, что детское воспоминание, смутное и волнующее, пахнущее ванилью и резиновой игрушкой, принадлежит дому Валентинова, а руки, держащие его высоко возле зеркала, были руками бабушки. Стоп! Да ведь зеркало-то было абсолютно таким, какое высится в правом углу прихожей. Значит, не случайно Игорь Саввович непонятно отчего задумывался, когда смотрел на старинное трюмо. Однако был и третий запах, запах трубочного табака «Золотое руно»...
— Вы когда-нибудь курили трубку? — торопливо спросил Игорь Саввович. — Табак «Золотое руно»...
Валентинов молча кивнул тяжелой головой, и Игорь Саввович ощутил, как напряжен, тягостно переполнен волнениями главный инженер. «Он старик, сейчас он настоящий старик! — подумал с жалостью Игорь Саввович, которому было только тридцать, и все люди возрастом старше пятидесяти казались глубокими стариками. — *У него руки в склеротических бляшках, — продолжал думать Игорь Саввович, докторский ребенок. — Больное сердце и жесточайший склероз...»
354
— Куда от вас пошла мама? — спросил Игорь Саввович. — К Левашеву? Они знакомы...
— Думаю, что да, — ответил Валентинов. — Мне показалось, что Елена Платоновна хочет повидать товарища Левашева.
Холодная волна поднималась: локти мерзли, казались чужими, ноги он не чувствовал, словно их ампутировали. «Забавно! — подумал Валентинов. — Похоже, что я отсидел всего себя, как отсиживаешь руку или ногу. Наверное, кровь плохо поступает в конечности...»
— Я не уйду из кабинета до тех пор, пока вы не скажете правду! — с угрозой проговорил Игорь Саввович. — Я предполагаю, что мама давно, то есть лет шесть назад, встречалась с вами втайне от меня. Это мне надо обязательно знать, поймите, надо... Мне придется начинать жизнь заново, но нужно знать всю правду. Кто я такой? Человек, который за тридцать лет жизни совершил только два самостоятельных шага — отказался от медицинского и от аспирантуры в лесотехническом?
Истерики еще не хватало, чтобы букет вышел полным, но Игорь Саввович ощущал, как горло перехватывает спазма, а тело кажется чужим. Но это ерунда, пустяки! Нервное перенапряжение, бессонница, счастливое освобождение от непонятной болезни — все это можно объяснить и оправдать, а вот мысль о том, что даже Светлана Карцева не случайно оказалась в доме Валентинова, не случайно возле нее пустовало место, — от этой мысли можно было превратить в щепки всю ультрасовременную мебель в кабинете главного инженера.
— Сергей Сергеевич, скажите правду, поверьте, меня хватит на то, чтобы все начать сначала...
Игорь Саввович стучался в закрытые двери, и это было давно понятно, так как Валентинов дал слово Елене Платоновне ничего не говорить Игорю.
— Тогда скажите хоть одно! — тонкоголосо и жалобно добивался Игорь Саввович. — Вы перевели меня на работу в трест, уже зная, что я ваш сын?
Игорь Саввович, кажется, понял, что значила цементная маска на лице главного инженера, канцелярская поза, пустые глаза. Не зная, что делать, как справиться с катастрофой и ее последствиями, Валентинов, с минуты на минуту ожидая прихода сына, заранее устроился в кресле так, чтобы походить на бетонный дот, способный выдержать любые снаряды.
23*
355
— А вы мне скажете, когда узнали, кто ваш настоящий отец? — спросил Валентинов. — Перед поступлением в лесотехнический институт? После окончания? Во время работы в тресте?
— А разве важно, когда об этом узнал я? Никакого влияния «а события это не могло оказать... Впрочем...
Игорь Саввович замолк. Видимо, ларчик-то просто открывался: главный инженер имел основания подозревать, что Игорь Саввович находится в сговоре с Еленой Платоновной. Непонятный для Валентинова отказ сына учиться в медицинском институте, поступление в лесотехнический, приезд в Ромск — не расчет ли это с дальним прицелом? Только зная о родстве с могущественным Валентиновым, можно было в тридцать лет достичь той высоты, которой уже достиг заместитель главного инженера, а впереди, когда Валентинов уйдет на пенсию, Игорь Гольцов займет место главного инженера — небывалая карьера для человека его возраста в такой ответственной отрасли, как лесосплав.
— Я больше не хочу держать слово, — сказал Игорь Саввович. — К этому меня привели последние события. — Он почему-то легкомысленно улыбнулся. — Поздно возвращать вам, Сергей Сергеевич, дорогие подарки, но думаю, что мы с вами в расчете. — Он снова улыбнулся. — Я оплатил дары тридцатью годами жизни, брошенными кобыле под хвост. Лихо разговаривает ваш сын, а, Сергей Сергеевич?! А у меня нет выхода. Если вы предполагаете, что я расчетливая гнусная скотина, то как смотритесь вы, делающий для меня карьеру?! Чем вы лучше меня, спрашивается?
Кончать надо со всеми этими Валентиновыми, Николаевыми, Карцевыми, Селезневыми, Сиротиными и Гольцовыми! Вывертываем карманы, граждане, на глазах у изумленной публики, вытряхиваем крошки хлеба и махорки. Пост заместителя главного инженера — долой, трехкомнатную квартиру на двоих — вон, гараж с автомобилем — к чертовой матери, папку, что лежит на коленях, — в тартарары. Чистые карманы, граждане, но фокусов не будет, не будет, граждане, фокусов...
— Вы думали, Сергей Сергеевич, как это опасно, когда в тридцать лет я ничего не сделал собственными руками? У меня одрябли мускулы и плохо работает голова. Сын выдающихся тружеников, я ленивое и не приспособленное к жизни существо. За меня сделано все, вплоть до выбора жены. — Игорь Саввович передох¬
356
нул.— Даже госэкзамены в институте у меня принимали, видимо, не слушая, что я говорил... Вы не боитесь, Сергей Сергеевич, что с меня род Валентиновых начнет вырождаться?
Игорь Саввович поднялся, держа в руке коричневую папку.
— Вы наверняка помните, Сергей Сергеевич, как на катере я показал самое опасное место для прохода плота по Коло-Юлу, — медленно сказал он. — Вы были поражены, но если заглянете в папку, будет ясно, почему я казался вам противником Коло-Юльского плота. Возьмите папку. Она ваша! Папка была закончена за месяц до моего перевода в трест и отложена, когда выяснилось, что сам Валентинов — сплавной бог — занимается этой проблемой... Я не посмел отнять у вас Коло- Юльский плот. До свидания, Сергей Сергеевич!
У дверей Игорь Саввович сказал:
— Я передал в приемную Николаева заявление с просьбой освободить меня от работы.
Валентинов — хорошо воспитанный человек — хотел подняться, чтобы стоя проводить сына, но не встал, отчего в глазах мелькнуло что-то испуганно-жалкое, пришибленное, тревожное. Игорь Саввович так и не оглянулся, хотя Валентинов взглядом просил сына остановиться, обернуться, сказать еще что-то, что помогло бы Валентинову вздохнуть полной грудью. Дверь открылась и закрылась бесшумно, тамбур проглотил Игоря Саввовича и — все, конец, пустота. «Надо, надо! — подумал Валентинов. — Надо же что-то делать!» Он заставил себя разжать до боли стиснутые кулаки, снять руки со стола. Потом Валентинов тяжело поднялся, замер — ноги по-прежнему казались чужими, он их почти не ощущал; руки — он пальцами не чувствовал картон, когда поднимал со стола оставленную сыном папку.
— Надо, надо что-то делать! — вслух произнес Валентинов, негнущимися пальцами развязывая тесемку коричневой папки. — Надо непременно что-то делать...
За окном мгновенно притихло, словно кто-то отрезал гул моторов, звон металла, стук бетонных плит. «Происшествие? — подумал Валентинов. — Так называемое чрезвычайное происшествие?» Трудно ворочая головой, он посмотрел поочередно, начиная с юга, на все три застекленные стены кабинета, но ничего тревожного не заметил.
,357
Буквы сливались, он понял, что не надел очки, полез за ними в карманы, не нашел, наверное, это был тот смешной случай, когда очки сидели на лбу, но и там их не было. Валентинов рассердился и вдруг обнаружил, что очки на глазах, а он просто ничего не видит, и очень испугался, а когда страх прошел, оказалось, что паника напрасна: читалось все, что было написано на титульном листе машинописным текстом: «Принципы
транспортировки по Коло-Юлу большегрузного плота при сочетании жесткой и гибкой учалок».
Карты, схемы, пояснения. Прекрасный чертежный почерк, короткие фразы, энергичный стиль. «Таким образом, применение гибкой или жесткой учалок по отдельности одинаково опасно, а их сочетание — единственно возможный путь транспортировки большегрузного плота по Коло-Юлу. Подтвердим еще раз этот рабочий тезис разбором самого опасного участка...» Валентинов осторожно, точно папка могла взорваться, положил ее на стол, облизал пересохшие губы. Продолжая стоять, Валентинов хотел произнести свое любимое: «Весьма увлекательно!», но вместо слов издал свистящее шипение. Это его удивило и даже показалось смешным, и, чтобы проверить себя, он попытался сказать: «Забавно!», и снова ничего не получилось... «Я смешон!» — подумал Валентинов и стал медленно крениться влево; он кренился и кренился, но не замечал этого, а все пытался произнести: «Забавно!» или «Весьма увлекательно!», но только шипел и хрипел, после чего осторожно-осторожно, словно его опускали на домкрате, лег на пол — вниз лицом.
Прежде чем потерять сознание, Валентинов подумал, что мать обещала его сегодня кормить пельменями и угрожала, что, если он не приедет вовремя, она такое сделает, что не знает сама, что сделает...
МУЖ И ЖЕНА
В приемной почтительно стояла, расставив толстые ноги, секретарша Виктория Васильевна; сидели два явно понаторевших в науке ожидать человека, тихонечко пробирался вдоль стенки — хвост трубой — трестовский кот Валерий. В распахнутое, обращенное в самое пекло знойного дня окно виделись макушка пыльного тополя, ажурная башня крана.
358
— Игорь Саввович, вас ждет жена. Я предложила Светлане Ивановне подождать в вашем кабинете...
Жена. Женщина, которая специально пришла в дом Валентинова, чтобы познакомиться с подходящим молодым человеком — из хорошей семьи, интеллигентным, умным, перспективным, прекрасно воспитанным. Добротная ситуация из пьесы Островского, династический брак на фоне совершающейся сексуальной революции... Жена. Маленькая, тоненькая, красивая женщина, за пять лет превратившаяся как бы в необходимый до зарезу предмет домашней обстановки. Жена. Женщина, которая сегодня в первый раз вошла в здание треста, женщина, которую за работой муж впервые тоже увидел на днях. Жена. Женщина, которая занималась древнерусскими языками, но не нашла слов, чтобы сказать Игорю Саввовичу то, что сказала женщина, в постели которой он провел только одну ночь: «Бросай все, беги к черту на кулички!» Жена... Игорь Саввович наконец- то заметил, что в центре приемной, откуда-то возникнув, стоит начальник производственно-технического отдела Володечка Лиминский — ухажер, душка и тоняга. Лицо у него было непривычно встревоженное, смотрел он на секретаршу Викторию Васильевну, бледную от волнения, — как этого Игорь Саввович не заметил сразу? Выходило, что о подаче им заявления об увольнении уже известно.
— Здорово! — быстро подходя, сказал Лиминский. — Надо срочно погутарить.
— Жена! — ответил Игорь Саввович, показывая на свой кабинет. — Подруга жизни.
Он протяжно усмехнулся. Ах и ох, дорогой Володечка Лиминский! Некому в большом тресте закрыть тебе дорогу к дверям кабинета заместителя главного инженера! Только, дорогой друг студенческих лет и всегдашний собутыльник, не надо галопом мчаться к Валентинову, чтобы бить копытами, выражая глубокое почтение и жертвенную преданность: главный инженер Валентинов не любит подхалимов, пролаз и миляг, коли даже родного сына заподозрил в карьеризме, всеми силами и средствами делая ему карьеру. Не волнуйся, Володечка Лиминский, по сути, по чину, по рангу, по способностям именно тебе предстоит занять место, где ты найдешь, наконец, страстно желанную синекуру. Заместитель Валентинова, будь он самим богом, ничего не может сделать без Валентинова, помимо Валентинова
339
и прежде Валентинова. Хорошо будешь жить, Лиминский! С девяти утра до шести вечера станешь в одиночестве трепаться по телефону с Натами, Олями, Верун- чиками и всякими Линами. Живи, друг!
— Через часок — подойдет? — предложил Игорь Саввович, интимно притрагиваясь к пиджачной пуговице Лиминского. — Главный сегодня в прекрасной форме. За каких-то пятнадцать минут мы решили грандиозный вопрос об отлове из Оби китов и китят... Я правильно говорю? Может быть, надо произносить «ките- нят» или «китененков»? Ты не знаешь, Лиминский, как правильнее?
«Бросай все, беги к черту на кулички!»
— Ты чего молчишь, Володечка? Как надо говорить? Китят?
А вот это было на самом деле смешно. Войдя в сумрачный и душный кабинет, Игорь Саввович увидел, что Светлана сидит на его любимом месте — низком подоконнике — и поза у нее такая же, в какой всегда сидел больной и тоскующий Игорь Саввович. Руки жены лежали на коленях, лицо повернуто в темный угол, спина согнута. Только так и можно сидеть на низком и широком подоконнике.
— Давно ждешь? — спросил Игорь Саввович. — Что-нибудь случилось, если ты приехала в трест?
Она молча покачала головой: «Нет, ничего особенного не случилось!» Тогда он прошел к столу, сел в кресло, руки положил на подлокотники. Жарко, душно, но если открыть окно, то станет еще хуже — стены метровой толщины спасали кабинет и от зноя и от холода. Значит, за стенами мир сейчас был раскален, как шипящая сковородка.
— Ты был у Валентинова? — тихо спросила Светлана, но он не успел ответить, так как она сама сказала: — Да, я знаю, ты был у Валентинова...
Каждое слово жена произносила как-то необыкновенно буднично, монотонно, устало, одним словом, бесстрастно, и в этом бесстрастии было еще больше отчаяния и скорби, чем в позе и лице. Светлана ничего не хотела, ничего не отрицала, ни о чем не думала, ничем себя не успокаивала, в ней не было даже обязательного в несчастье вопроса: «Что делать? Как
быть?»
— Куда-то все исчезли, — не поднимая головы, сказала Светлана. — Папа, кажется, в обкоме, мама за¬
360
перлась и не отвечает на звонки, Елена Платоновна с утра куда-то уехала... В институте сегодня никого! Четверг, подготовительные курсы отдыхают... Я походила, походила...
Мужчины легко прощают женщин, но мысль Игоря Саввовича невольно делала подлый оборот, и никак нельзя было не думать о том, что теряет Светлана и что теряет Игорь Саввович, подобно тому, как запрет думать о «голой обезьяне», изобретенный Ходжой На- среддином, заставляет человека только о ней и думать. «Что останется из карт на руках у Светланы, что у него, Игоря Саввовича? Любимая работа, трехрожковый торшер, автомобиль, сияющая белизной кухня — это Светлане. А Игорю Саввовичу? Коричневая папка с хрусткими от времени страницами из плохой бумаги — только она независимо от того, кто проведет плот? Мало? Какая разница, если начинаешь жить сначала, с первой чистой страницы, и даже лучше, когда папка — нуль, папка — воздух, папка — прошлое, о котором надо хорошенько забыть».
— Одна наша домработница говорила: «Погоди умирать», — глядя в стол, сказал Игорь Саввович. — Потом, после паузы, добавляла: «Если не помрешь, то живой будешь!»
Вполне могло случиться, что Игорь Саввович Гольцов любил женщину, которая сидела на низком подоконнике. Предположим, он не знал о гараже, не видел трехрожкового торшера, не догадывался, что в Роодске нещадный лимит на высокооктановый бензин, не сообразил, что Светлану всучили ему в жены — вполне реально, что она тоже об этом не подозревала и что из всех других женщин он выбрал бы в жены Светлану Карцеву. Недоразумение в том, что Игорь Саввович никогда не задавался вопросом, любит или не любит жену, любил или не любил Светлану до женитьбы. Этакий простейший робот, механическая штучка с ключом в спине, запрограммированная всего на десяток простейших манипуляций, — копия некоего Игоря Гольцова.
— Ладушки!
Игорь Саввович не хотел говорить это слово, как всегда, оно само собой сорвалось с губ. Перебивая, отгоняя черные мысли, Игорь Саввович игриво усмехнулся, наклонившись к ящикам письменного стола, вынул нижний.
361
— Хочешь увидеть в действии систему не чистого, а пустого стола? — нарочитым басом спросил он Светлану. — О системе чистого стола ты, конечно, знаешь. Принцип: не оставлять на поверхности стола ни одной бумаги, не. решив ее судьбу сейчас же, немедленно, чтобы бумага ушла из кабинета, а вот система пустого стола! — Он сделал руками такое движение, какое делает провинциальный фокусник над дряхлым от старости цилиндром. — Айн, цвай, драй! В ящиках — хоть шаром покати!
Действительно, во всех шести ящиках двухтумбового стола не было даже случайной канцелярской скрепки, а в центральном, главном ящике аккуратной стопкой лежали нетронутые роскошные блокноты, бювары и два больших набора цветных фломастеров. Все! Такой стол требовал срочно подняться, сматывать удочки, шалея от счастья, вываливаться на простор, в растерзанной по-дикарски одежде бежать на солнцепад возрастом в возрасте мира. Видит бог, закрыв со стуком все шесть пустых и гулких ящиков, можно чувствовать себя голым человеком на голой земле, не умеющим писать и считать, знать двадцать имен существительных и минимум глаголов: «есть», «пить», «спать» и еще парочку.
— Светлана, ты помнишь детскую книжку о Карлсоне, который живет на крыше?
— Помню.
— Тогда догадайся, кто сейчас самый свободный человек на свете?
Игорь Саввович вел себя неприлично, понимал, что ведет себя неприлично, но не раскаивался, а, наоборот, хотел и дальше вести себя неприлично — быть счастливым от свободы на глазах у опустошенной, выжатой как губка, потерянной Светланы. С женщинами не спорят, женщинам легко прощают...
— Светлана, ты помнишь субботу, когда твоя машина забарахлила на подъеме к Воскресенской церкви? Кажется, снялся наконечник свечи...
Игорь Саввович был абсолютно уверен, что Светлана так и не заметила дорожную пробку, не поняла, как, узнав машину дочери самого Карцева, быстренько смотался трусливый автоинспектор.
— Я помню, что подошел ты, — ответила Светлана. — Я думала, что ты давно у Валентинова, а ты подошел...
362
Игорь Саввович, значит, был прав, когда говорил, что они с женой были людьми одного клана, «состояли в одном профсоюзе», но занимали противоположные углы. «Понял, понял наконец! — озаренно подумал Игорь Саввович. — Как это я раньше не сообразил?» Он, Игорь Саввович, непременно бы заметил дорожную пробку, но не увидел трехрожковый торшер, а Светлана замечала трехрожковый торшер, но не видела дорожную пробку. Два конца, два кольца, посередке гвоздик — ножницы!
— Светлана, скажи, ты часто ездила на отцовской машине, когда вы жили в районе? — спросил Игорь Саввович. — В лес, на прогулку, в школу...
— Нет! — недоуменно ответила жена. — Папа никогда не позволял своим шоферам возить маму или меня.,.
Может статься, что, как и в кабинете главного инженера, Игорь Саввович стучался в закрытые навсегда двери. Никогда Светлана не поймет, что трехрожковый торшер связан с не замеченной ею дорожной пробкой, а автомобиль — всего только автомобиль, и отец Светланы годами работал по шестнадцать часов в сутки и для того, чтобы автомобили были привычными, как, скажем, пепельницы. «Заколдованный круг! — подумал Игорь Саввович. — Аскетизм — плохо, нашествие и власть вещей — еще хуже...»
Одиночество и страх загнали Светлану Гольцову в незнакомый кабинет непонятного человека — мужа, посадили ее на низкий подоконник, заставив принять такую же позу скорби и усталости, в какой обычно сидел на подоконнике больной Игорь Саввович. "
— Игорь, а ты ничего не замечаешь за собой нового? — спросила Светлана все тем же ровным и бесстрастным голосом. — Тебе не кажется, что ты или чересчур возбужден, или... выздоравливаешь?
Третий человек говорил Игорю Саввовичу о загадочном выздоровлении, но никто еще не высказывал мысль, что он просто-напросто возбужден или даже перевозбужден. Скрывая улыбку, Игорь Саввович — он это умел делать ловко — посчитал собственный пульс: не более семидесяти, почти наполеоновский, — прислушался к самому себе — боли исчезли совсем, только легкая тревога, скорее всего грусть туманила голову.
— Кажется, да! — осторожно ответил он. — Похоже, что мне лучше...
363
Наконец Светлана подняла и повернула голову, слепыми движениями нащупала замок сумочки, вынула пачку сигарет. Игорь Саввович затаил дыхание. У Светланы были такие же пустые глаза, как у Валентинова перед уходом сына. Несчастная, запутавшаяся, ничего не понимающая, она неожиданно была хороша; такой красивой он знал Светлану в первые месяцы их знакомства и подумал, что пронзительная красота Светланы — отпущенное женщине природой защитное средство. Жизнь рушилась, все летело кувырком, и вот женские силы сопротивления выставили главную боевую единицу — красоту.
— Я знаю, что с тобой происходит, — сказала Светлана, раскуривая сигарету. — Ты вышел из спячки, ты проснулся... Сейчас ты живешь полной жизнью — нападаешь, защищаешься, думаешь, хитришь... Это похоже на автомобиль. Он очень быстро ржавеет, если стоит на месте. Поэтому надо ездить.
Игорь Саввович не знал, что ответить Светлане: она вслух сказала то, что он из суеверного «не сглазить» скрывал даже от самого себя. Поэтому он только признательно улыбнулся жене и сразу после этого стал думать о подлежащих немедленному исполнению действиях... Заявление об уходе лежит на столе у Николаева, с Валентиновым разговоры окончены, а чтобы собраться и навсегда к чертовой матери покинуть этот кабинет, не нужно даже портфеля, что же касается «долгов» в тресте и вообще в городе — на гривенник пучок, как говорит некий Фалалеев. Закончить дела со следователем Селезневым, встретиться с полковником Сиротиным, пожалуй, позвонить Прончатову, подумать о матери, которая считала сказки братьев Гримм лучшим отдыхом после операционной или серьезного напряжения.
— Игорь, скажи... Я теряю тебя? Тебя больше нет?
Он прикусил губу. Может быть, ему надо было давным-давно подойти к жене, поднять ее с подоконника, ласково погладить по голове, поцеловать, такую маленькую и несчастную. Он большой, широкий, с фигурой культуриста. Почему ничего этого не сделал? Не было потребности? Или, как всегда, наедине с женой забывал о ее присутствии? А если проще: «Я ее не люблю»?
— Бог знает что ты говоришь, Светлана! — тихо сказал Игорь Саввович. — Бог знает что ты говоришь... Вот что, пошли-ка домой!
364
Выйдя из машины, они молча поднялись на третий этаж. Светлана открыла двери, не поглядев на Игоря Саввовича, вошла первой и остановилась в прихожей. Игорь Саввович, старательно и долго закрывающий за собой дверные замки, так и не дождался, когда Светлана пройдет или в спальню, или в гостиную. Поэтому ему пришлось произнести первые пришедшие на ум слова.
— Ну и жарища же на улице! — деловито сказал он. — Наверное, только в спальне мало-мальски прохладно.
— Я прикрыла занавески, — ответила Светлана. — На кухне тоже нет солнца...
Игорь Саввович постепенно привыкал к полумраку прихожей, адаптировался, как выражаются врачи, и увидел, что Светлана напряжена и взволнована еще сильнее, чем в его рабочем кабинете, полна тревоги и ожидания, но Игорь Саввович отчетливо чувствовал, что не сможет подойти к жене, обнять, сказать весело: «Все перемелется, мука будет!» Еще в своем рабочем кабинете он мог, сделав над собой небольшое усилие, утешить жену, но в собственном доме — спальня, кабинет, гостиная — был холоден до жестокости.
— Займись-ка обедом, — сказал Игорь Саввович.— Я здорово проголодался...
Комната с большим окном, выходящим на лоджию, именовалась кабинетом. Предполагалось, что за современным столом, залитым расплавленным стеклом и потому не опасным для царапин, будет сидеть хозяин дома Игорь Саввович Гольцов — нахмурив лоб, отстраненный и возвышенный, одетый в стеганую домашнюю куртку, начнет создавать непреходящие ценности.
Стены домашнего кабинета Игоря Саввовича занимали стеллажи и книжные, шкафы как следствие раскола в семье. Светлана была против открытых стеллажей, на которых книги пылились, Игорь Саввович, напротив, не терпел книжных шкафов. Поступили компромиссно: завели шкафы и стеллажи. Стоя возле них и поглядывая на разноцветные корешки собраний сочинений и модных книг, без которых не могла якобы существовать ни одна интеллигентная семья, Игорь Саввович спокойно подумал, что за два последних года, кроме Сименона и Агаты Кристи, ничего не читал.
Он присел на краешек письменного стола. Пахло книгами, мастикой от пола, ворсом синтетического ков¬
365
ра; было сладостно-тихо. «Мы с вами квиты, Сергей Сергеевич! Ноль-ноль — результат ничейный...» Змеи, кажется, ежегодно меняют кожу. Интересно, отчего стала дырявой и тонкой кожа Игоря Саввовича Гольцова? К земле он не прикасался, значит, не ползал, за столом не сидел, не летал, не ходил, а менять кожу надо обязательно. «Бредовые, дурацкие мысли!» — рассердился Игорь Саввович и прислушался. Светлана ходила по гостиной из угла в угол мерно и безостановочно — такое бывало и раньше, когда происходили неприятности. В конце концов она уйдет в спальню, чтобы молча упасть на кровать и уткнуться лицом в подушку. «Обеда не будет!» — подумал он.
Игорь Саввович читал или слышал, что во многих семьях муж и жена, так сказать, объединяются, когда случается несчастье, чтобы единым фронтом — бойцы! — отразить напасть. Правда, Игорь Саввович никогда не видел, как это происходит. Мать и Савва жили на отдельных половинах дома, каждое утро, встречаясь за столом, здоровались и целовались, казались дружными, но, когда под ножом матери или отчима умирал человек, не встречались два-три дня. Мать и отчим никогда не советовались — домом и, может быть, институтом руководила Елена Платоновна. Одним движением бровей она умела раздавать команды налево и направо, отчим открыто радовался ее тирании и мудрости, смеясь говорил: «Матриархат. Мне оставлен только операционный стол. Вот это и называется свободой. А лозунг эмансипации: «Каждой женщине — домработницу!»
Можно понять, чем Игорь Саввович был озабочен сейчас, когда сосредоточенно размышлял о семейном устройстве, матриархате? Не интересует же его, кто глава дома: Светлана или он? Кстати, газеты последних лет с умным видом писали, что современная семья — союз двух равноправных людей, делящих поровну тяготы быта. Только псих мог представить отчима Савву, под ручку с матерью идущего по универсальному магазину...
Почему же Игорь Саввович, позабыв о следователях и гаражах, занимается такими пустяками, как письменный стол в домашнем кабинете, за которым ни разу не сидел, создавая непреходящие ценности! А потому, подумал он, что дома-то у меня не было! Гостиница, ночлежка, часовая мастерская... Ленивое возвращение
366
в этот так называемый дом, радость, когда есть время возиться с часами, скука, если кто-нибудь или что- нибудь этому мешает, — такой вот расклад! Потому и прокрадывается тайно в дом трехрожковый торшер.
Раздался тоненький телефонный звонок, Игорь Саввович и не подумал взять трубку параллельного телефона, стоящего в полуметре от его руки. Звонил скорее всего полковник Сиротин или мать Светланы. Ох, Митрий Микитич, дорого обойдется тебе беспокойство об Игоре Гольцове! Вчера говорили, что бездарная кривоногая авантюристка добилась встречи со вторым секретарем обкома. Эта дойдет до Старой площади в Москве...
— Тебя к телефону, — полуоткрыв двери кабинета, сказала Светлана. — Совсем незнакомый голос...
Игорь Саввович поднял трубку.
— Гольцов слушает.
— Товарищ Гольцов, с вами говорит помощник товарища Левашева. Меня зовут Романом Трофимовичем. Здравствуйте, товарищ Гольцов!
— Здравствуйте!
Высокий брюнет в светлом костюме, модная обувь, по-настоящему красивые, отлично завязанные галстуки — таков помощник. С Игорем Саввовичем они знакомы давно и коротко, обращаются обычно друг к другу на «ты», причем Игорь Саввович называет помощника Романом с ударением на первом слоге, а помощник кличет его Гольцом. «Здорово, Голец, как твое ничего?» — «Привет, Роман, твоими молитвами!»
— Товарищ Гольцов, не могли бы вы через четверть часа заглянуть в приемную товарища Левашева?
«Четверть часа», «не могли бы вы» — это, несомненно, слова первого секретаря обкома. Так расфранченный Роман говорить не умел.
— Товарищ Гольцов, вы слышите меня...
— Слышу, слышу, товарищ Гремячкин! Пришлите, пожалуйста, машину. Моя в разъезде...
— Отправляю, товарищ Гольцов...
Стоящая в полуоткрытой двери Светлана только бесшумно пошевелила губами, когда Игорь Саввович положил трубку.
— Придется надеть галстук, — сказал Игорь Саввович. — Пиджак тоже...
Он уже чувствовал облегчение. В три часа состоится
367
бюро, на которое вызван Иван Иванович Карцев, через десять минут он сам увидит и услышит Левашева, так что часам к шести вечера все кончится — скорее бы, ой, скорее! Левашев вопрос о нарушении генерального плана застройки, конечно, поставит последним, бедный Иван Иванович натерпится вволюшку горестного ожидания, но Игорь Саввович Гольцов — увы! — ничем не может помочь тестю, разговор с Левашевым заранее обдумывать не хотел.
— Светлана, мне нужен любой галстук...
— Хорошо! Завязать?
— Он завязан.... Я к Левашеву. Тебе лучше поехать к матери. Нельзя же ее оставлять одну.
— Там Иван Иванович старший...
— И все-таки тебе лучше поехать к матери.
«Может быть, я и женюсь на Светлане! — с жестокой иронией подумал Игорь Саввович. — Пока же мне нужно, так сказать, определить свое положение во времени и пространстве...» Он затянул угол галстука, глядя на свое отражение в стекле книжного шкафа, пятерней расчесал волосы, опять принялся за галстук.
— Игорь, что ты делаешь? — воскликнула Светлана. — Ты себя задушишь...
Он молчал, чувствуя, как пухнет и багровеет лицо, как губы — валентиновские губы — вытягиваются в злую ниточку. Показалось, что он похож на плохо смазанную машину, так как от отчаянных усилий не закричать на Светлану внутри все скрежетало и звенело. Он тупо подумал: «Я сволочь! Мне легче, чем Светлане. Я сволочь!»
— Я поеду к матери, — быстро сказала Светлана. — Поеду, поеду!
Спасибо! Игорь Саввович шумно выдохнул воздух, на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, жены не было в кабинете. «Ну, Роман, где же твоя машина?»
По широкой обкомовской лестнице, устланной толстым ярко-красным ковром, прижатым к ступеням надраенными бронзовыми прутьями, Игорь Саввович легким шагом поднимался на третий этаж, где находилась приемная и кабинет Левашева. Обком помещался в старинном красивом здании бывшего губернаторства —
368
стены метровой толщины, длинные и широкие коридоры, огражденные от комнат такими же толстыми стенами, как и наружные. Не меньше десяти дверей — дубовых, резных — выходили в коридор с каждой стороны, но в любое время суток из двадцати кабинетов, занятых людьми, телефонами, вентиляторами и радиодинамиками, в коридор не просачивалось ни звука — такими толстыми были стены и двери.
Такая же дверь, как и все другие, табличка с номером 309, бронзовая ручка в форме львиной головы, отполированная до сияния, как медь на военном парусном судне. Игорь Саввович потянул дверь на себя, она не открылась, а как бы величественно поплыла навстречу — бесшумная и толстая, словно дверь в гигантском сейфе. Повеяло теплом и запахом лака, солнце светило из трех окон-великанов, среднее из которых имело форму сердца. Таких окон в здании обкома было шесть, по два на этаже, исключая первый. В приемной жили два звука: смачно постукивала электрическая пишущая машинка да гудел шмелем огромный вентилятор, направленный в сторону еще одной ромской знаменитости — Юлии Марковны Ивановой: эта худощавая и медленная женщина лет шестидесяти, по подсчетам любителей-кра- еведов, пережила шестнадцать первых секретарей и ни разу в рабочий день не вышла из здания обкома раньше одиннадцати часов вечера. Увидев Игоря Саввовича и поздоровавшись, Юлия Марковна мгновенно выключила электрическую машинку, нажала еще на две кнопки, и сразу после этого из маленькой двери — противоположной огромной — показался помощник первого секретаря Роман Трофимович Гремячкин. Как и следовало ожидать, бесконечно модный, в босоножках на платформе и — вот новость! — в очках. Он шел к Игорю Саввовичу с таким видом, словно недоумевал, почему и для чего в приемной появился этот незнакомый человек. Еще на ходу, чтобы Игорь Саввович и рта разинуть не успел, Гремячкин пророкотал:
— Гольцов Игорь Саввович? Здравствуйте!
Дурак!
— Да, я Гольцов!
Гремячкин и знаменитая Юлия Марковна Иванова одновременно посмотрели на часы: оставалось ровнр
две минуты до двух часов дня. Гремячкин опять пророкотал:
21 Биль Липатов, том 4
369
— Через две минуты товарищ Левашев вас примет... Прошу обратить внимание на мои слова. — Гремячкин прокашлялся, и Игорь Саввович насмешливо подумал, что у тонкоголосого в обычной обстановке Романа здорово болит горло от необходимости в рабочее время басить и даже рокотать. — Товарищ Левашев может вам уделить только десять минут, — продолжал Гремяч- кин. — День Кузьмы Юрьевича расписан по минутам, и, если вы перерасходуете свой лимит, окажется не принятой... — Он заглянул в изящную записную книжку. — ...Останется не принятой вдова товарищ Варенцова... Не забывайте, пожалуйста, поглядывать на часы, товарищ Гольцов.
И как только Роман умолк, открылась дубовая дверь, в приемную из кабинета Левашева вышел гремящий орденами и медалями маленький и худенький человек. Это был известный по областной и центральным газетам Старков, уникальный комбайнер, заработавший на трудовом фронте всевозможные награды, но в городе и области больше прославившийся тем, что на самых представительных совещаниях ругал всех министров, имеющих отношение к сельскому хозяйству. Самым мягким словом при этом считалось «бездельники». Старкова на трибуну давно не пускали, но комбайнер вылезал сам на сцену под аплодисменты соскучившегося зала и бойко отбарабанивал очередную порцию оскорблений. Он и в жизни был человеком злым, неразговорчивым, подозрительным; вывалившись из кабинета Левашева, посмотрел на Игоря Саввовича, Гремячкина и Юлию Марковну красными от злости бычьими глазами.
— Бездельники! Бюрократы! Заелись! — прокричал Старков и пошел к выходу. — Ладно! Доживем до конференции... Крючкотворы!
В приемной сделалось по-обкомовски тихо. Юлия Марковна снисходительно улыбалась, Гремячкин осудительно хмурился, а Игорь Саввович, не ожидая приглашения Романа, шел к большим дверям. Пройдя по кабинету шагов пятнадцать, Игорь Саввович остановился, чтобы Левашев тоже успел сделать положенные ему пятнадцать шагов. Рука у Левашева была тонкая, интеллигентно вялая, зато в плечах он был много шире Игоря Саввовича и выше сантиметра на четыре. Всегда загорелое мускулистое лицо было слегка озабоченным, выпуклый подбородок украшала «кинематографи¬
370
ческая» ямочка, и вообще первый секретарь был интересным мужчиной.
Игорю Саввовичу всегда до злости не нравилась привычка Левашева щурить глаза, чтобы рассматривать собеседника с откровенной уверенностью, что через ми- нуту-другую он с точностью высокого класса поймет, кто стоит перед ним. В ответ на это Игорь Саввович тотчас же начинал щуриться и тоже разглядывать Левашева: «Я вас вижу насквозь».
— Здравствуйте, Кузьма Юрьевич!
— Здравствуйте, Игорь Саввович!
Заместитель главного инженера треста Ромскстрой Игорь Саввович Гольцов яростно завидовал Левашеву: не кабинету первого секретаря, не высокому посту, не огромной власти, а лишь тому, что Левашев как-то открыто, стопроцентно искренне умел быть счастливым работой. Поднимался ли он на трибуну, осматривал ли новую сплоточную машину, говорил ли по телефону, разбирал ли склоку — все это Левашев делал так, что было видно: нет на свете ничего интереснее и важнее, чем говорить по телефону или осматривать сплоточную машину. О работоспособности первого секретаря ходили легенды, сам Игорь Саввович однажды наблюдал, как после труднейшего и суматошного дня открытия навигации Левашев — свежий и веселый — после одиннадцати сел работать в холодной заезжей. Что делалось за стенами левашевского особняка, знали немногие, но Игорю Саввовичу, зятю Карцева, было известно, что отдыхал Левашев только во время игры в теннис; остальное — изучение отраслей промышленности, сельского хозяйства, иностранные языки. Кузьма Левашев был молод, и потому на первом из своих бюро в Ромском обкоме сказал товарищам: «Большинство из вас старше меня на войну, но я попробую подтянуться...» Слова «старше на войну» мог сказать лишь человек тонкого ума и образного мышления.
— Садитесь, Игорь Саввович... Старательный Гремячкин вас, конечно, предупреждал, что нужно поглядывать на часы. Однако до трех я свободен...
Левашев сел, откинулся на спинку обыкновенного стула, задумался, позабыв убрать с лица насмешливую улыбку над «старательным Гремячкиным». Может быть, он давал возможность Игорю Саввовичу оглядеться и собраться с мыслями, так как на самом деле работал
24*
371
по минутам, сбивая их туго, как спички в полном коробке.
— Я, по-видимому, сделал ошибку, — не выходя из задумчивости, проговорил Левашев. — Прежде чем говорить с начальником управления внутренних дел, прокурором города и следователем Селезневым, мне нужно было безотлагательно повидаться с вами, Игорь Саввович...
Не было улыбки на лице Левашева, тверды были странные губы — квадратные и преувеличенно выпуклые, — прищуренные глаза прощупывали Игоря Саввовича, как радар опасный сектор неба. Естественно, что Игорь Саввович немедленно тоже прищурился, тоже откинулся на спинку кресла, чтобы изучать лицо Левашева и все остальное.
— Вам видней, — весело сказал Игорь Саввович. — Правда, мне думается, что порядок встреч никакого значения не имеет...
— Не скажите, — тонко улыбнувшись, ответил Левашев. — Уверен, что потратил бы в три раза меньше времени, если бы начал с вас знакомиться с гаражным делом. — Он больше не смотрел в лицо Игоря Саввовича. — Если хотите, я могу вам объяснить.
Теперь на квадратных губах первого секретаря застыла та же улыбка, с какой он говорил о сверхбдительности своего помощника Гремячкина.
— Объясните, пожалуйста! — попросил Игорь Саввович.
— Извольте! — легко откликнулся Левашев. — Вы очень искренний и правдивый человек, не умеете скрывать свои чувства, а когда пытаетесь, то получается обратный результат. — Он выпрямился. — Теперь я верю следователю Селезневу, который отстаивает нелепое утверждение, что вы не имеете никакого отношения к гаражу, кроме мельком учиненной подписи...
Игорь Саввович начал медленно краснеть, остро чувствовал, что краснеет, старался, чтобы этого не заметил Левашев, и от всей кутерьмы — вот он, конец! — глаза защипало от слез стыда. «Конец!» — еще раз подумал Игорь Саввович и прямо посмотрел на Левашева, так как терять уже было нечего. «Трус и подлец!» — проклинал себя Игорь Саввович и видел сквозь непролитые слезы, как, словно в мареве, колышется фигура Левашева со склоненной головой и глазами, смотрящи¬
372
ми в стол... Игорь Саввович именно сейчас понял, что с момента, как услышал голос помощника первого секретаря обкома, он по-мальчишески хорохорился, внушал себе, что не боится Левашева, как и вообще никакой власти, что он, Игорь Саввович, сам себе Левашев, сам себе судья и прокурор; все это он демонстративно принес в кабинет первого секретаря и еще на ходу, до рукопожатия, был понят Левашевым, а слова «старательный Гремячкин» и задумчивость были нужны Леваше- ву только для того, чтобы скрыть улыбку над детским и наивным стремлением Гольцова проявлять не нужную никому независимость и отвагу отчаяния. Теперь и тот факт, что Левашев снисходительно не глядел на Игоря Саввовича, а смотрел в стол, казался пощечиной, прощение было обидным, и уже хотелось, чтобы первый секретарь видел, как густо покраснел Игорь Саввович и что у него на глазах слезы. Но Левашев глядел в стол, думал свою думу, и опять на его лице не было улыбки, и квадратные губы были крепкими.
— Сейчас от меня вышел комбайнер Старков, — как ни в чем не бывало заговорил Левашев. — Вы, конечно, его знаете... Мне хочется поделиться с вами мыслями, которые возникли после встречи с комбайнером...
Игорь Саввович заметил чернильное пятнышко на указательном пальце правой руки Левашева, осторожно выдохнул воздух и подумал, что и самый дешевый серенький галстук — тоже детская жалкая игра в независимость. Ох, как был плох этот Игорь Саввович Гольцов, сидящий против напряженно думающего и строго одетого человека!
— Власть, слава, дозволенность — опасные вещи! — продолжал 'Левашев. — Простая истина, а как легко и охотно люди о ней забывают. Видимо, это тоже свойство славы и власти: забывать об их опасности...
Левашев поднялся, вышел из-за стола, медленно двинулся вперед по узкой ковровой дорожке — второй, не главной. Две дорожки в сравнительно небольшом кабинете были известны в городе и области, считались прихотью и странностью первого секретаря обкома, не умеющего долго сидеть на месте. Об этом в городе и области говорили так же сдержанно, как о послевоенном первом секретаре обкома Москвине, который, заняв место в президиуме, выпрямлялся, уравновешивался,
373
после чего три часа сидел не шелохнувшись и не изменив хмурого выражения лица. Левашев считался «ходячим», он больше часа на месте не высиживал, уходил за сцену или, если позволяла обстановка, расхаживал за спинами президиума. «Нервный!» — говорили о Лева- шеве, который, расхаживая, еще и держал правую руку в кармане и что-то перебирал пальцами. По одним сведениям, это был металлический шарик от детского бильярда, по другим — цепочка канцелярских скрепок. '
— Вы видели, Игорь Саввович, каким вышел из кабинета Старков? — спросил Левашев, возвращаясь по левой дорожке к столу. — Вернее, не вышел — выбросился... Вы его видели?
— Да.
— Он не кричал: «Бездельники! Заелись!»?
— Кричал.
Левашев остановился, пальцы руки пошевеливались в кармане.
— Ему нельзя помочь: поздно, преступно поздно! — сказал он. — Старков — явление новое, малоизученное... Под аплодисменты зала, умиляющегося от одного факта, что на трибуну поднимается простой рабочий человек, Старков демагогически разносит в пух и прах министерское начальство. Всех уличает во всех смертных грехах, обвиняет в бесхозяйственности, а сам ежегодно — заметьте, ежегодно! — получает новый комбайн, в два раза больше положенного запасных частей и другие привилегированные условия. Грудь — иконостас, хорошая рабочая форма, но во что это превратилось? «Чья у нас власть? — кричал он пять минут назад. — Рабочая власть. Я власть!» — «А что случилось, товарищ Старков?» — «Как что? Поселковый Совет у меня отрезал огород...» — «Какой величины был огород?» — «Гектар!» — «Помилуйте, Старков, поселковый Совет прав!» — «А кто не спит ночами?»
Левашев снова остановился, повернулся, пошел к столу.
— Мало-помалу выяснилось, что Старков считает врагами, — первый секретарь загнул один палец на левой руке, — начальство всех мастей — раз, гнилую интеллигенцию — два, заводских рабочих, которые под дождем не мокнут, — три, партийное руководство, которое развело демократию, — четыре, и на пятое —
374
«понастроили себе кабинеты». На Олимпе только один — комбайнер Старков! — Левашев считал шаги, это было видно по напряженным бровям. — Каждый год новенький комбайн, гектар огорода, дом из пяти комнат, преподнесенный в дар совхозом, черная «Волга» в бетонном гараже, гонорары за статьи, которые пишет для Старкова «гнилая интеллигенция», путевки в южные санатории, заграничные поездки...
Он возвращался к столу сосредоточенный, с вертикальной морщиной на лбу.
— Игорь Саввович, у вас никогда не бывало вот такого ощущения вседозволенности, пьянящей раскованности, сиятельного могущества? Будьте искренни, пожалуйста, и даже не торопитесь... — Он добавил: — Сегодня, правда, очень тяжелое бюро...
Первый секретарь думал об Иване Ивановиче Карцеве, он думал о нем — теперь это было ясно — все последние дни, где бы ни был и чем бы ни занимался, и сейчас еще раз проверял на Игоре Саввовиче свои долгие размышления о гаражном деле, тесно связанном с понятиями границы власти, правда власти, опасность власти, тяготы и обязанности власти...
— Мне чуждо все то, о чем вы говорите, Кузьма Юрьевич, — сказал Игорь Саввович. — Если начистоту, то я довольно снисходительно отношусь к власть имущим, сравнительно легко подчиняюсь, но чувствую неловкость и даже некую брезгливость, когда мне приходится осуществлять собственную власть. Если я вас правильно понимаю, вы на меня не обидитесь...
Теперь они играли, как говорится, на равных, хотя было трудно понять, откуда пришла уверенность в этом к Игорю Саввовичу. Оттого ли, что Левашев хорошо и просто улыбался, или оттого, что Игорь Саввович почувствовал естественность своего присутствия в этом кабинете и неторопливого разговора.
— И вы, конечно, как многие молодые технократы, считаете, что степень некомпетентности в годы научно- технической революции увеличивается по мере возрастания власти? — заинтересованно подхватил Левашев. — Притом возрастание происходит чуть ли не в геометрической прогрессии? Не так ли?
Игорь Саввович усмехнулся.
— Эта точка зрения несправедлива уже потому, что попахивает абсолютной истиной. Нет, скорее всего приемлемо биологическое толкование... Если рождаются
поэты, сапожники и солдаты, отчего не рождаться лидерам? — Он сделал паузу. — Что касается вашего вопроса о вседозволенности власти, то мне и в голову никогда не приходило, что я — власть. Мне об этом всегда напоминали, чтобы я, как уже говорилось, неохотно командовал... Учтите при этом, что техническое руководство я не отношу к разряду власти в обычном ее понимании. Пример: управляющий Николаев и главный инженер Валентинов. Первый — воплощение власти, второй — техническое руководство, интересное и необременительное.
Левашев остановился возле стола, оперся левой рукой, не мигая смотрел на Игоря Саввовича. В молчании прошло, наверное, полминуты, затем первый секретарь, видимо, соглашаясь с самим собой, удовлетворенно кивнул.
— И все-таки, Игорь Саввович, вы технократ, — сказал Левашев. — Ив этом качестве неоригинальны, если даже не плететесь в хвосте. В споре физиков и лириков чаша весов качнулась в сторону лириков.
Первый секретарь выпрямился, сунул в карман и левую руку.
— Власть, власть! — с непонятной интонацией проговорил Левашев. — Давайте-ка, Игорь Саввович, мысленно поменяемся местами. Вы первый секретарь Ром- ского обкома партии. Несколько лет назад после долгого и внимательного изучения вы обращаетесь к бюро с предложением рекомендовать первым заместителем председателя облисполкома одного из замечательнейших людей области — Ивана Ивановича Карцева. Он умен и честен, нечеловечески работоспособен, добр, знает, как свою спальню, область, скромен и принципиален. Одним словом, Иван Иванович Карцев — явление исключительное. — Левашев шагал себе и шагал. — Вы не ошиблись! За короткре время Карцев выводит из отстающей в преуспевающую целую отрасль хозяйства, накапливает материал для резкого скачка еще одной отрасли... Иван Иванович Карцев завоевывает уважение и любовь товарищей по работе, находясь в самом расцвете сил, приобретает максимально рабочую форму...
Левашев остановился.
— И вот однажды выясняется, что его зять и дочь построили гараж на месте детской площадки, связались
376
с преступником-рецидивистом. Мало того, зять, будучи несуразно пьяным, ввязывается в драку, и через сутки город и область говорят, что Карцев незаконно построил дочери гараж, зять Карцева — пьяница и драчун, чуть не убивший безвинного человека. Письма и жалобы идуг в обком, в «Правду», в ЦК партии.
Левашев стоял посередине узкой дорожки боком к Игорю Саввовичу, лоб был надвое разрезан морщиной, правая рука в кармане замерла.
— Вы первый секретарь обкома, товарищ Гольцов! Решайте судьбу Ивана Ивановича Карцева. Помните, что ему давно за пятьдесят, что никакого специального образования, кроме партийной школы, он не имеет. Потеряв место в облисполкоме, Иван Иванович будет вынужден работать завотделом в каком-нибудь райисполкоме, да еще и не городском, так как городской промышленности не знает... Ну, решайте вопрос, первый секретарь обкома Гольцов! Ваше слово — последнее и решающее в этом случае слово... Не тяните, а принимайте решение. Вон на том стуле обычно сидит ваш тесть. Сейчас он, безупречно честный человек, смотрит в пол... Принимайте решение, товарищ Гольцов!
Игорю Саввовичу было холодно, дрожащие руки пришлось зажать между коленями.
— Молчите? Хорошо! Еще подбросим поленьев... На место Карцева назначить некого, сегодня у него в руках все нити управления двумя отраслями промышленности... Ну, решайте, товарищ Гольцов! Члены бюро уже выступили, и голоса разделились — вы остались решающим голосом... Поднимайтесь, говорите, члены бюро могут понять ваше молчание как растерянность и нерешительность. Вас же зовут «хозяином», «шефом», «первым», «самим». Вы член ЦК, вы говорите от имени ЦК. Начинайте!
Это было не наказание, это была кровавая расправа. Игорь Саввович коленями стискивал руки, лоб обильно вспотел, смотреть в гневное и яростное от боли за Карцева лицо первого секретаря он не мог, поэтому смотрел только на пустой стул, на котором скоро, через пятьдесят минут, будет сидеть, опустив глаза, Иван Иванович Карцев. Что стоили переживания Игоря Саввовича, мальчишки, труса и фрондера, перед тем, что ожидало отца Светланы? Мелочь, копейки, мокрые от кваса, на которые квас куплен.
377
— По-прежнему молчите! — Левашев сердился. — Ну, убивайте, убивайте собственного тестя молчанием, продолжайте в том же духе!
Игорь Саввович неожиданно тонкоголосо крикнул:
— Карцев ни в чем не виноват! Иван Иванович ни о чем не знал. Он и понятия не имел ни о каком гараже...
Левашев неторопливо вернулся к столу, сел, прищуренными глазами начал смотреть на Игоря Саввовича с презрением и гневом. Он молчал. Медноголосо тикали старинные часы, шуршал большой вентилятор, сквозь форточку доносился легкий свист, ни на что не похожий.
— Вы говорите: «Карцев и понятия не имел о гараже!» — жестко повторил Левашев. — Фу! А я вас держал за взрослого человека, интересовался вашей точкой зрения на власть, предполагал, что как технократ вы считаете опасностью власти некомпетентность, а вы мне выкладываете школьное: «Петька не знал, что я утащил мел!» Неужели не понимаете, что ваш довод — чуть ли не главное обвинение против Карцева? — Он повысил голос: — Власть имущий, как выражаетесь вы, обязан знать, что делается под его именем... «Не знал!» Обязан знать все, что делается, делалось и будет делаться под прикрытием его имени...
Первый секретарь опять прищурился, успокаиваясь, по-ученически положил руки на стол.
— Мы караем за преступления уголовного порядка, за производственные промахи, за служебное несоответствие, за пассивность в производственной и административной сферах, а как мы относимся к инфантильности? — проговорил Левашев. — Вам тридцать лет, товарищ Гольцов, но вы себя ведете и мыслите как несовершеннолетний.. Я за вами наблюдаю давно и не могу понять, отчего вы с каждым годом идете вниз, вместо того, чтобы подниматься? Откуда это безразличие ко всему, равнодушие, усталость? — Он помолчал. — Что вы сделали с тестем? Наконец, почему вы так расточительно испортили собственную карьеру?.. Нет, товарищ Гольцов, инфантильность должна быть наказуемой!
Левашев энергично поднялся, проверил, хорошо ли лежит галстук, прокашлялся. По всему было' видно, что он собирается сказать Игорю Саввовичу самое важное, самое главное, для чего, собственно, Гольцов и был
378
приглашен в обком партии, но двери вдруг распахнулись, Юлия Марковна подбежала к Левашеву, потянулась к его уху и стала что-то шептать, волнуясь и почти плача.
— Что! — вскрикнул Левашев. — Когда?
— Неизвестно. Часа полтора никто не входил в кабинет: думали, работает... Боже мой, какое несчастье!
Левашев схватил трубку, бросил, рванул другую и опять бросил — попадались ненужные телефоны, и только в третий он крикнул:
— Больницу!
Игорь Саввович увидел ружья, которые висели над кроватью тестя, вспомнил, что в его рабочем столе хранится пистолет, и, по-прежнему глядя на стул, где во время бюро должен был сидеть Иван Иванович, думал: «Если больница, значит, не смертельно!» После этого Игорь Саввович заметил, что по ошибке смотрит на другой стул. Он вздрогнул, когда Левашев с лязгом бросил трубку на телефонный столик.
— Валентинов при смерти, — проговорил он раздельно. — Третий инфаркт... Какие люди! Валентинов, Карцев, полковник Сиротин...
Он схватил заговорившую на столике трубку.
— Левашев! Докладывайте...
Игорь Саввович кособоко пошел к дверям по узкому ковру, думая, что Левашев не заметит его исчезновения.
ИГОРЬ гольцов
Валентинов умер поздно, после двенадцати, когда трамваи по Ромску ходили редко, а вот троллейбусов, пожалуй, было не меньше, чем' днем. «Наверное, потому, — размышлял Игорь Саввович, — что троллейбусные маршруты значительно длиннее трамвайных. Ведь на окраину иначе, чем троллейбусом, не попадешь». В темноте он заблудился, потому что из больницы вышел в незнакомые ворота, чтобы ни с кем не встретиться.
Бабушка Надежда Георгиевна держалась молодцом, не захотела, чтобы покойного сына положили в морг, и теперь ждала машину, чтобы увезти одетое в полосатую больничную пижаму тело Валентинова в отчий дом
379
на Воскресенской горе. Она громко — слишком громко — сказала, что ни гражданской панихиды, ни поминок не будет, и просила пожаловать только на Воскресенское кладбище на погребение, где была родовая могила Валентиновых. Много там, кроме Валентиновых, лежало ромских декабристов, сыновей и дочерей декабристов, внуков и внучек декабристов, правнуков и правнучек декабристов. Когда все уходили, бабушка опять слишком громко сказала: «Последний Валентинов».
Странная выдалась ночь. Туч не было, но и звезд тоже, а луна, видимо, только собиралась показаться. Вспыхивали под трамвайными и троллейбусными дугами фонтанчики искр, из городского сада доносились звуки старинного романса, переделанного под шейк, и было невозможно понять, как это умудрились сделать. Пахло пылью с тополиных листьев, тополя были еще чернее темного неба, и только стволы тревожно светились — чудилось, что идешь по горелому лесу. На Ро- ми сонно шипели пароходы.
В семь часов вечера всему взбудораженному городу стало известно, что Сергей Сергеевич Валентинов через две-три недели каждое утро будет по-прежнему спускаться на негнущихся ногах с Воскресенской горы, чтобы сесть за стол в кабинете с окнами в трех стенах. Профессор Напольский, лечащий врач Макеева, член- корреспондент Академии медицинских наук пенсионер Наумов, составившие консилиум, пришли к выводу, что опасность миновала. В восьмом часу Сергею Сергеевичу принесли ужин, он все быстро и деловито съел и потребовал для чтения детектив, клятвенно пообещав, что при чтении не будет делать движений — «клянусь своей бородой!», — не переворачиваться на бок. Узнав об этом, пришел разъяренный профессор Напольский, назвал Валентинова по-свойски болваном, книгу не дал, а вместо молоденькой напуганной сестры привел дежурить возле больного старшую сестру отделения — суровую и даже на вид злую старуху.
До половины девятого, по рассказам старшей сестры, Валентинов послушно лежал на спине, изредка задремывал, а в восемь сорок четыре — сестра засекла время — потерял сознание. Кислородные подушки, массаж сердца, шесть инъекций привели Валентинова в сознание, но профессора Напольского главный инженер не узнал, сестру назвал Ильей Матвеевичем и опять поте¬
380
рял сознание. Снова кислород, инъекции, массаж сердца, после чего Валентинов открыл глаза и сразу улыбнулся. «Долго я спал? — спросил он. — Где я нахожусь?» Затраченная на вопросы энергия дорого обошлась больному: опять потерял сознание, затих, казалось, не дышал. После этого и случилось то, что сестра- старуха назвала «начал обираться». Восковыми руками Валентинов снимал нечто невидимое с лица, пытался разгладить бороду, осторожно, словно золотые пылинки, сметал что-то с груди.
Для инфарктника Валентинов умирал странно — слишком долго. Около десяти часов снова собрался консилиум, растерянный ненаучными фактами течения инфаркта, применил все известные реанимационные средства, отчего больному стало еще хуже — задыхался, не приходя в сознание. Так продолжалось до одиннадцати часов пятидесяти минут, после чего Сергей Сергеевич вдруг начал розоветь и медленно-медленно приходить в сознание, что было для членов консилиума неожиданным. Они всполошились, не сговариваясь, так посмотрели на старшую сестру, что она с размаху вонзила тонкую и длинную иглу с • адреналином.
— Где я нахожусь?
Валентинов узнал Напольского, улыбнулся ему, чле- ну-корреспонденту Наумову дружески кивнул, умудрившись оторвать голову от подушки, попросил воды. Напившись, Валентинов сказал:
— Я умираю, друзья... Возьмите карандаш и бумагу... Спасибо! Телефон три, двадцать пять, шестнадцать... Повторите. Спасибо! Попросите к телефону Елену Платоновну. Пусть приедет. Времени мало!
В палате Валентинова был телефон, главный инженер чуть-чуть приподнялся, чтобы видеть, как Наполь- ский набирает номер. На четвертой цифре Валентинов ойкнул, вытянулся, замер, невозможно долго не дышал, а потом из его груди вырвался хрип, такой звук, который ни с чем сравнить нельзя и который называется предсмертным хрипом... Сердце остановилось, глаза были открыты. Старшая медсестра, властно отстранив руку профессора Напольского, потянувшуюся к пульсу умершего, вернула на место отвалившуюся челюсть, двумя пальцами другой руки закрыла глаза покойника.
381
Мать Валентинова, Игорь Саввович, управляющий Николаев и еще трое друзей главного инженера в палату умирающего допущены не были, сидели в разных углах большой приемной в мягких креслах с журналами в руках — прошлогодние «Огоньки» и свежие номера «Здоровья». О смерти Валентинова они узнали минут через десять после того, как она произошла. Первым вниз спустился старенький член-корреспондент, сел в кресло, взял со стола журнал. Еще минутой позже спустилась старшая медсестра с небольшим чемоданчиком в руках, поставила его на стол и тоже села.
— Скончался? — тихо спросила Надежда Георгиевна.
— Да! — ответила старшая медсестра и, приготовившись вскочить, покосилась на мать покойника, но Надежда Георгиевна сказала:
— Проводите меня к сыну.
Игорь Саввович подумал: «Так не бывает!»
Бабушка поднялась, глядя вверх, прямая по-солдат- ски, пошла впереди — такая спокойная, что было страшно за ее жизнь. Сестра, схватив чемоданчик, бросилась за Надеждой Георгиевной.
— Он моложе меня на двенадцать лет, — сказал удивленно член-корреспондент. — Двенадцать!
Игорь Саввович беспокойно оглядывался. Откуда-то доносились странные короткие удары, похожие на азбуку Морзе; трудно было понять, что это такое, но отвлечься было невозможно, и до ухода из больницы Игорь Саввович так и не понял, что стучало, и под этот звук, от которого ломило в висках, все ждал и ждал чуда. Кто-то должен был подойти к нему, заглянув в лицо, сурово сказать: «Идите к отцу!» Однако Игоря Саввовича никто не замечал, бледные и суматошные люди скользили по нему таким же невидящим взглядом, как по мебели, и убегали делать с покойником нужное, обязательное, от этого особенно жуткое. В первом часу ночи он поднялся, на цыпочках, воровски, шагом вышел на улицу и юркнул в незнакомые ворота.
Сейчас Игорь Саввович во все глаза смотрел на тополиный сквер, выжженный, казалось, пожаром, но странный оттого, что обнаженные стволы остались светлыми. Это объяснялось просто: на фоне черного неба черные кроны тополей стали невидимками. В сквере было бы страшно до жути, если бы не звенели за то¬
382
полями трамваи и не шуршал асфальт под шинами троллейбусов. По-прежнему кощунственная музыка приплывала с танцевальной площадки' городского сада.
Куда идти? Где мать? Где жена? Что с тестем?
«Какие все это пустяки! Какое это имеет значение!» Тихо-тихо шумят невидимые кроны тополей — это навсегда, это вечно; висит над головой черная прорва неба — это было, есть и будет; бормочет сонная пичуга — это бормотание вечности. А вот Валентинов никогда больше не позвонит своему заместителю, не скажет в трубку: «Игорь Саввович, забегите на минутку». Умрет теперь, наверное, скоро бабушка, старый дом Валентиновых, опустев, станет гулким, как барабан на знойном солнце. Потом дом Валентинова снесут, городской архитектор на плане Ромска на месте валентинов- ского дома больше не напишет: «Сносу не подлежит». Все. Род Валентиновых по мужской линии оборвался. Единственный из рода декабристов мужчина носит фамилию Саввы Гольцова. Бабушка похоронит сына на том месте, где присмотрела могилу для самой себя, громко скажет: «Опередил!» Плакать бабушка на людях не станет...
Игорь Саввович перешагнул через низкий заборчик сквера, не оглядываясь, пошел через широкую улицу с трамвайными путями и следами троллейбусных шин. Возбужденное, словно от алкоголя, приподнятое наркотическое состояние испытывал Игорь Саввович. Ему будто хотелось, чтобы на него обрушился звенящий красный трамвай, ударил в грудь радиатор автомобиля или громада троллейбуса — смерти нет, не существует. Он, Игорь Саввович Гольцов, неторопливым шагом и не глядя по сторонам пересекающий улицу, бессмертен, как небо или бормотание сонной пичуги. Нет смерти — значит, нет и жизни. Видимое, слышимое, осязаемое — сон, придумка, объемный кинофильм. Он невольно подумал: «Солипсизм!» — но было сладостно и пьяно, тепло под сердцем, тело исчезало, прозрачное, словно под рентгеном. «Жизнь и смерть — ничего этого не существует. Нет и того, что несуществующий Игорь Саввович несуществующими мозгами понимает: жизнь и смерть не существуют!» Пустота, космос, царство мертвой материи. Страха тоже нет — не может быть, если нет ничего...
Считая ступеньки, Игорь Саввович поднялся на тре¬
383
тий этаж, хотел достать ключи, но раздумал. На лестничной площадке горела очень яркая лампочка, двери четырех квартир были обиты дерматином разных цветов— коричневым, черным, зеленым и блекло-красным. Он вспомнил, как при заселении дома в его квартиру ворвался деловито-взволнованный сосед в подтяжках и шлепанцах на босу ногу, очкастый и ученый: «Соседи, дорогие и милые соседи, есть предложение сделать нашу лестничную клетку веселой. Не будем обивать двери коричневым скучным дерматином. Давайте договоримся, кому обивать двери черным дерматином, кому — коричневым и так далее...» Светлана хохотала, но в переговоры вступила.
Игорь Саввович ни одного человека из трех квартир не знал, хотя некоторые лица помнил и при встрече на лестнице здоровался. В городе он соседей не узнавал. Кто такой, например, мужчина в подтяжках? Хорошие ли сны видит он сейчас за дверью с блекло-красным дерматином? Впрочем, как можно сейчас спать, когда небо пусто, словно дырявый карман? Игорь Саввович сморщился, не чувствуя боли от прикушенной и обильно кровоточащей губы, стал поочередно нажимать кнопки звонков трех квартир. Каждую он прижимал долго, наверное, по полминуты, потом оперся на перила и начал спокойно ждать, когда откроются двери. Первым выглянул очкастый и ученый, тот самый, что в подтяжках.
— Ах, это вы, сосед? Чем могу... Простите!
Игорь Саввович молчал. Он молчал и тогда, когда из двух других квартир выглянули женщина и молодой человек в красной пижаме.
— Что случилось?
— Вы звонили?
Они тоже замолчали, успев переглянуться. Соседи двоились и троились в глазах, губы дрожали, значит, Игорь Саввович собирался плакать, но до сих пор не знал об этом. Наконец в немой тишине очкастый и ученый бесшумно вышел из дверей, остановился рядом и несколько секунд молчал перед Игорем Саввовичем.
— Простите! — сказал Игорь Саввович. — Сам не знаю, что делаю.
— Разрешите, я вам помогу, — сказал сосед в очках. — Вы не попадаете рукой в карман... Вам нужны ключи от квартиры? Вот они...
В прихожей было по-ночному тепло, тихо и светло; возле светильников кружились крохотные ночные бабоч¬
384
ки, на зеркале краснел четкий след губ, намазанных губной помадой — загадочный, непонятный, заменивший точечки пудры на зеркалах, которыми пользуются женщины.
— Сидите? — спросил он у матери и жены, войдя в гостиную. — Я сниму галстук и тоже... сяду.
Он вернулся из кабинета в распахнутой рубахе, сел, подпер подбородок руками.
— Валентинов-то умер, — сказал он. — Слышали, Валентинов-то умер? — И вдруг сделался деловитым.— Да, Светлана, тебе тоже придется пойти на погребение — непременно, непременно!
Женщина в сером костюме, в белой блузке с галстуком-бабочкой, какие носят знаменитые актрисы, была матерью Игоря Саввовича Гольцова. Ей не шел загар, на юге мать всеми средствами спасала лицо от солнца, но все-таки немного загорала и от такой малости заметно дурнела. Сейчас, то есть сегодня, мать Игоря Саввовича Гольцова была неестественно бледна, и от этого безупречно красива — и серые большие глаза, и нежные изгибы блестящих бровей, и классический овал лица. Все, ей принадлежащее, было при матери... Женщина в сером костюме, в лакированных туфлях, с огромной копной волос была матерью Игоря Саввовича Гольцова, и он любил ее так, как может любить мать добрый, умный, благодарный за материнскую любовь сын. Игорь Саввович любил низкий артистический голос матери, ее манеру откусывать — энергично и весело — концы длинных слов, любил видеть, как она ходит, сидит и стоит. И сейчас, глядя на мать, бледную, убитую и растерянную, наверное, до паники, но внешне сдержанную и даже как бы сонную, он любил ее не меньше, чем раньше, а может быть, даже больше, так как мать была и оставалась единственным родным человеком на свете, перед которым не стыдно упасть на колени и выплакаться, как это бывало в детстве. Игорь Саввович сидел перед матерью, страдая, на глазах у него были слезы, когда он спросил:
— Мама, как же это случилось, мама? Почему в тридцать лет... — Не договорив, он прижал руки к груди. — Ты ведь этого не хотела, мама, ты не могла этого хотеть...
Игорь Саввович плакал экономно: молча глотал слезы, кадык судорожно двигался, лицо было почти сухим. Когда он притих совсем, раздался голос Светланы:
25 Виль Липатов, том 4
385
— Папе объявили строгий выговор с занесением...
I Он повернул голову, чтобы увидеть жену, но она сидела позади него, закрытая высокой спинкой кресла, и Игорь Саввович решил, что успеет еще посмотреть на Светлану.
; — Строгий выговор с занесением в учетную карточку — суровое наказание! — сказала Елена Плат0Н0)В- на. — После такого обычно следует снятие с руководящей должности...
Женщина, которая никогда не ошибалась и всегда была права, не любила, если в чем-нибудь отсутствовала полная ясность.
РАССКАЗЫ
САМОЛЕТНЫЙ КОЧЕГАР
Он появился в конторе лесозаготовительного пункта в середине июня. Шло важное заседание. Час назад у дизельного трактора расплавились подшипники, и теперь начальник пункта Сухов, покрасневший и взъерошенный, искал виновных.
— Здравствуйте! Я вот... пришел, — сказал он, входя в комнату.
Шумный разговор прервался на полуслове. Сухов недоуменно посмотрел на свою руку, вытянутую вперед, и, вместо того чтобы стукнуть ею по столу, согнул в локте и рассеянно поправил прическу.
— То есть как, — спросил он, — как это пришел?
— А из Радугина, — пояснил паренек. — Ждал- ждал машину, а ее нету, вот и пришел пешком...
Паренек полез рукой за пазуху, порылся в кармане, но ничего не нашел: Тогда он полез в другой карман, затем в третий, но безрезультатно. Паренек улыбнулся над своей неловкостью и стал шарить рукой в заднем кармане брюк. Лицо его засияло, он шумно вздохнул:
— Вот она... — и протянул Сухову какую-то бумажку, — справка из детдома...
Сухов повертел бумажку в руках.
— Что же это делается, а, товарищи? — сказал он плачущим голосом. — Какая бумажка, из какого детдома?
— А из Радугинского, — охотно ответил паренек, присматривая для себя место. Ему понравился стул у окна, и он сел на него, положил руки на колени и благожелательно посмотрел на окружающих. — Да вы читайте, там все сказано...
И тогда раздался негромкий смех технорука Волошина.
— Слушай, — сказал он Сухову, — ты действительно читай! Видишь же, человек пришел.
388
За Волошиным засмеялись все. Уж очень не вязалась маленькая худощавая фигура, светлые наивные глаза пришедшего с обстановкой комнаты, в которой сидели сердитые громкоголосые люди и спорили о расплавленных подшипниках.
Сухов развернул справку. Он вслух прочел о том, что Иван Иванович Пыж по собственному желанию пошел работать в леспромхоз и что детдом одобрил его решение, так как Пыж с детского возраста проявил любовь к машинам. В детдоме Пыж прошел полный курс семилетки , (свидетельство прилагается) с похвальными успехами. Там же он занимался в кружке юных техников и изобрел мотоцикл, который наверняка бы двигался, если бы Пыж достал некоторые части.
После официальной части старческим женским почерком было приписано, что Ваня Пыж имеет и некоторые недостатки. Например, он не всегда тщательно следит за собой, а в детдоме покуривал самосад, который выращивал в не известном никому месте.
Когда Сухов кончил читать, Пыж снисходительно улыбнулся: «Пишут же, черти, сами не знают что!» — и протянул начальнику свидетельство об окончании семилетки.
— Все пятерки, — объявил Сухов.
— А по физкультуре четверка, — поправил Пыж.
— Да, по физкультуре четверка, — радостно подтвердил Сухов.
Теперь это был другой Сухов, очень непохожий на того Сухова, который пять минут назад заявил, что, если у дизеля еще раз расплавится подшипник, он отнесет стоимость простоя на счет виновного, влепит ему строгий выговор в приказе и вообще жизнь виновного после этого станет очень тяжелой.
— Трактористом хочу быть, — сказал Пыж, поняв, что наступило время для делового разговора: всякие ненужные бумажки прочитаны.
— Как, товарищи, — обратился Сухов к присутствующим, — что ответим?
— Испытать можно... — заговорили мастера.
— Решено! — Сухов стукнул рукой по столу.
Такое случилось впервые: обычно кандидатуры новых учеников трактористов обсуждались часами.
— Вот это по-деловому, — вдруг весело заявил Пыж, быстро сложил бумажки в карман и на прощанье протянул Сухову руку: — Спасибо!
389
— Слушай, Иван Иванович, — остановил его Волошин. — Ты хоть нам-то скажи, где выращивал табак?
— А за баней, в крапиве...
Так Пыж стал учеником тракториста. В общежитии, где ему отвели место, он аккуратно разложил вещи, красиво заправил кровать, затем нашел сторожиху тетю Машу, выпросил у нее березовый веник и отправился в баню. Из бани он вернулся красный и очень довольный собой. Пыж сел на стул у печи и стал терпеливо ожидать своих товарищей по комнате.
Первым вернулся невысокий паренек с длинными, давно не стриженными волосами. Заметив Пыжа, он сказал: «Здорово!» — и стал что-то искать в тумбочке, но не нашел и потребовал:
— Дай-ка мыло... Опять уперли!
— Тракторист? — уважительно спросил Пыж, протягивая мыло.
Паренек посмотрел на него, зачем-то оттопырил нижнюю губу и хмыкнул:
— Держи карман шире!.. Так тут тебя и посадят на трактор! Помощник я, вот кто! — И ушел мыться.
Потом ввалились сразу двое — оба длинные, черные, в одинаковых промасленных фуфайках, пахнущих мазутом и хвоей. Каждый из пришедших был в два раза выше Пыжа. Поэтому он уверенно подумал, что уж эти-то двое обязательно трактористы.
— Привет! — угрюмо сказал один из них, черным сердитым глазом рассматривая Пыжа. Второй глаз тракториста был прикрыт темной челкой. — Кто такой? — продолжил он, сбрасывая фуфайку прямо на пол.
— Из детдома я, из Радугина, — ответил Пыж. — Учеником тракториста буду. — И строго добавил: — Подними фуфайку-то, ишь разбросался!
Вошедшие переглянулись. Тот, что молчал и казался особенно сердитым, свирепо поворочал глазами и больше удивленно, чем зло, сказал:
— Смотри-ка, Петро, еще один указчик выискался! Ну прямо житья от них не стало! Повесь фуфайку, назло всем повесь!
Захватив полотенце и мыло, они тоже ушли. «Здорово попало им от кого-то»,— с сожалением подумал
390
Пыж, стараясь представить человека, который мог сделать это.
Вскоре явился пятый жилец комнаты. Дверь с треском распахнулась, стекла в окнах дрогнули, и на пороге выросла фигура парня лет двадцати. Одет он был чисто, даже немного франтовато: рабочий комбинезон был из добротной новой материи, фуражка из блестящей кожи, а в выеме коричневой рубашки были видны синебелые полоски тельняшки. Парень обвел комнату серыми большими глазами и не мигая уставился на Пыжа:
— Здрасте! — насмешливо протянул он. — Откуда бог послал?
Это не понравилось Пыжу. Он тоже не мигая стал глядеть в глаза вошедшему.
— А ты откуда выскочил как бешеный? — спросил Пыж.
Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза— Пыж со спокойной уверенностью, а парень с вызовом и угрозой. Первым не выдержал парень в тельняшке. Он отвел взгляд и подошел к Пыжу.
— Ты смотри, ты знаешь... — пригрозил он.
— Я и так смотрю...
Неизвестно, что произошло бы дальше, если бы в комнату не вошли два сердитых тракториста. Увидев их, парень сразу же забыл о Пыже.
— Знаешь, Левка, так работать нельзя, — сердито заговорил парень, — я тебе сто раз петь об этом не стану. А по часу чокеровать лес тебе никто не позволит!
Левка стал оправдываться; в разговор вмешался второй тракторист, они заговорили о каком-то мастере Павле Ивановиче, то ругая его, то восхищаясь его твердой линией, потом опять заспорили о чокерах, и Пыж из разговора понял, что все живущие в комнате не трактористы, а, так же как и он, ученики. И еще узнал он, что парня в тельняшке зовут Емельяном.
Доругавшись с товарищами, Емельян внезапно повернулся к Пыжу и насмешливо бросил:
— Рот закрой! Ворона залетит!
Пыж смутился. Оказалось, что действительно, увлеченный спором, он открыл рот. Как это заметил Емельян, разговаривающий с товарищами, Пыж понять не мог. Но он быстро справился с собой и, как будто ничего не произошло, отвернулся к окну.
— Так-то лучше! — торжествующе заметил Емельян и с обидной снисходительностью спросил у вихрасто¬
391
го тракториста, вернувшегося из умывальника: — Кого это к нам прислали?
— Не знаю... учеником тракториста, говорит, будет...
— Помощником! Ну, знаешь, прицепи корове седло! — с издевкой заметил Емельян, окидывая взглядом щуплую фигурку Пыжа. — Это же не ученик... это же — самолетный кочегар, — нашел он выражение, которым механизаторы называли людей, не причастных к технике.
В этот момент открылась дверь, и в комнату вошли знакомые Пыжу начальник пункта и загорелый человек, который спрашивал в конторе, где Пыж выращивал самосад.
— Здравствуйте, товарищи!
Они медленно обошли комнату, заглянули в тумбочки, проверили постели. Окончив обход, загорелый внимательно посмотрел на Емельяна:
— Поздравляю вас, Емельян Прохорович! Вы, говорят, сегодня чуть-чуть норму не выполнили.
Краска бросилась в лицо Емельяну. Не поднимая глаз на загорелого, он забормотал:
— Смешно, конечно.. Вам, товарищ парторг, только шутки...
— Не то, не то, Емельян, — улыбнулся загорелый, — растерялся ты, право слово, растерялся!
Затем начальник пункта и загорелый внимательно посмотрели на Пыжа. Парторг вдруг весело подмигнул Пыжу. -
Пыж понял его так: «Попался, брат, Иван Иванович! Ну ничего, бывает и хуже! Все перемелется, мука будет!»
Когда на следующий день Пыж явился в лесосеку, Емельян сразу же заметил его. Он громко закричал: — А, самолетный кочегар пришел...
Пыж и бровью не повел. Перепрыгивая через толстые бревна, он поднялся на эстакаду — так называется в лесосеке площадка, на которой распиливаются на бревна деревья. Слева на эстакаду поднимался трелевочный трактор. Лязгая гусеницами, машина с трудом втаскивала большой воз хлыстов. Деревья точно за что- то зацепились, так ощутимо было их сопротивление усилию трактора. Тракторист высунулся из кабины, гром¬
392
ко выругался и дал такой газ, что трактор поднялся на дыбы, как норовистый конь. Ветки затрещали, хлысты медленно поползли за трактором.
— Силища! — восхитился Пыж.
Позади него вдруг появился маленький человек в очках, привязанных за уши цветными веревочками. Человек обрадованно посмотрел на тракториста и закричал:
— Тэк-с, товарищ Дутов, трактор перегружен!
Тракторист — пожилой, сутулый, с висячими украинскими усами — проворно выскочил из кабины и тоже почему-то обрадованно потребовал, чтобы пересчитали бревна. Бревна пересчитали, даже измерили толщину каждого небольшой палочкой с зарубками, и человек в очках разочарованно заявил, что нет, трактор не перегружен, а то, что он с трудом поднял хлысты на эстакаду, объясняется просто — эстакада высоко. Собственно говоря, это он знает давно и даже предупреждал кого следует, но ведь есть люди, которым хоть кол на голове теши, ничего не понимают.
Тогда тракторист рассердился. Он поднял с земли газогенераторную чурочку, сунул ее под нос человеку в очках и ехидно спросил:
— Сырая?!
Человек в очках взвесил чурочку на руке, вернул ее трактористу и озабоченно согласился:
— Сыровата...
— Да не сыровата, а сырая! И вот я тебя спрашиваю: будет на такой чурочке трактор тянуть на все сто? Будет, спрашиваю?
— Ты не суй чурочку-то! Сам вижу... Мне бы только узнать, то эту чурочку принял! — стукая кулаком о кулак, свирепо продолжал он. — Ты кто? — Это уже относилось к Пыжу, которого человек в очках обнаружил, обернувшись назад. — Почему не работаешь? Дутов, возьми-ка его в оборот... Это ученик.
Человек в очках убежал, и Пыж остался наедине с сутулым трактористом, который бесцеремонно его разглядывал. По-видимому, осмотр не удовлетворил его. Дутов кивнул головой в сторону лесосеки и спросил;
— Это тебя они... самолетным кочегаром-то?
— Меня, — просто ответил Пыж.
— Ты, говорят, с детдому, — продолжал Дутов, свертывая самокрутку толщиной в палец.
— Да.
393
— Так, так... Кличут как?
— Иван... Фамилия Пыж.
— Ишь ты — Пыж!.. Чем патроны забивают... Технику безопасности проходил?
— Нет еще. Велели к мастеру Павлу Ивановичу.
— Значит, к нему и надо. Вон он, Павел Ивано- вич-то, в очках. Вот что, парень, ты давай-ка пока садись в трактор. Я тебе на ходу объясню пятое, десятое...
Обо всем забыл Пыж, забираясь в кабину трелевочного трактора. Рядом с ним, поблескивая десятками ручек и приборов, поблескивая медью, гудел источающий тепло мотор. Прямо перед глазами — окно, по которому, если надавить маленькую кнопочку, задвигается плоская щеточка-дворник, очищающая стекло от грязи. Дутов выжал сцепление, хрустнули шестерни коробки передач; вздернувшись на дыбы, трактор быстро взял с места. Пыж обеими руками вцепился в сиденье, затаив дыхание смотрел то в окно, то на рычаги управления, которые передвигал Дутов, то нагибался к мотору. Бледноватое лицо Пыжа покраснело от волнения. Дутов искоса посмотрел на него, тихо засмеялся:
— Ишь ты!.. Чем патроны забивают!.. Ну, парень, смотри да слушай! Первое твое дело — чурочка. С нее любой тракторист начинается...
Они оказались несложными — эти первые обязанности Пыжа. Когда трактор вернулся на эстакаду, Дутов показал ему большую плетеную корзину: в нее набирали чурочку.
— Чурочка — она легкая, если сухая, — заметил Дутов, снова, как в прошлый раз, окидывая Пыжа оценивающим взглядом. — Топить бункер, парень, — это тебе не печку шуровать. Пока ты этому делу не выучишься, не будет из тебя тракториста, хоть ты всю математику назубок пройди.
Пыж выжидательно молчал, но Дутов так и не сказал главного — когда начнет учить управлять трактором. Пыж незаметно вздохнул, потом поплевал на руки, взял корзину и направился к навесу, под которым лежала чурочка.
— Правильно, — одобрил Дутов. — Я рейс сделаю, а ты заправочку приготовишь...
Пыж быстро наполнил корзину чурочкой и от нечего делать стал собирать топливо, разбросанное около навеса. Чурочку рассыпали дорожкой, и Пыж все дальше
394
и дальше уходил к разделочной эстакаде. Неожиданно он наткнулся на мастера Павла Ивановича. Мастер держал в руках блокнот и шевелил губами, видимо подсчитывая что-то. Он рассеянно пробормотал:
— Смотреть надо! — но, увидев, что Пыж собирает чурочку, поджал губы и сердито ткнул пальцем: —Это что, чурочка или нет, спрашиваю?! — Он немного подумал и застучал кулаком о кулак: — Мне бы только узнать, кто эту чурочку рассыпает! Только бы узнать!..
Он как-то быстро успокоился и приказал:
— В семь часов занятия на курсах трактористов. Быть без опоздания! Понятно?
Подъехал Дутов. Он похвалил Пыжа за собранную чурочку, легко забрался на трактор и открыл крышку бункера. Густой удушливый дым повалил из него.
— Давай! — крикнул Дутов.
Взвалив корзину на плечо, Пыж осторожно пошел к трактору. Да, чурочка была сыровата — это хорошо понял он, когда стал забираться на трактор, держась одной рукой за погрузочный щит. Правая нога еле достала до верхней гусеницы, он качнулся и схватился рукой за обжигающий металл бункера.
— Скорее! — торопился Дутов. Когда первую корзину высыпали, он успокоил: — Еще три-четыре корзины — и хватит...
Не успел Пыж набрать вторую корзину, как к заправочному пункту подъехал Емельян. Он оглянулся по сторонам — есть ли слушатели? — и, увидев, что два парня работают поблизости, уселся на высокий пень. Пыж в этот момент забирался на трактор, согнувшись под тяжестью корзины.
— Да, — громко начал Емельян, — без подъемного крана не обойтись. Давай, ребята, шуруй до Павла Ивановича. Пусть автокран пришлет!
Пыж даже не повернулся к Емельяну. Он высыпал чурочку и пошел за следующей корзиной. Емельян еще острил, расспрашивал об устройстве самолета, осведомлялся, какое давление следует держать в котле во время посадки на землю, но все напрасно: Пыж точно не видел Емельяна. Он расторопно — руки так и мелькали — набирал чурочку, с усилием, но уже ловко поднимал корзину на трактор, а когда бункер был заполнен, уехал вместе с Дутовым в лесосеку, так и не взглянув в сторону Емельяна.
Рабочий день кончился неожиданно.
395
— Пошабашили! — сказал Дутов, и через полчаса Пыж на лесовозной машине ехал в поселок. Он боялся опоздать на занятие и поэтому, наскоро поев, побежал в красный уголок лесопункта, где помещались курсы трактористов. В гулком прохладном помещении еще никого не было.
Стены комнаты сверху донизу увешаны схемами, плакатами, цветными диаграммами. А у окна на широком столе — самое интересное — настоящий тракторный мотор. Но когда Пыж пригляделся, то оказалось — вовсе не мотор, а разрез двигателя, искусно сделанный из дерева и тонкой жести. Пыж узнал карбюратор, цилиндр, поршни, коробку передач. Он провел рукой по мотору и смущенно оглянулся. В дверях стоял молодой человек с портфелем в руках. Он смотрел на Пыжа, приподняв подбородок.
— Итак, — сказал молодой человек, — здравствуйте!
Пыж понял — это преподаватель. Так оно и оказалось, когда собрались все слушатели.
— Начнем! — строго сказал преподаватель.
И началось неожиданное. Пыж думал, что преподаватель подойдет к модели мотора и станет рассказывать об устройстве заманчиво поблескивающих загадочных вещей. Но, увы! Преподаватель заглянул в тетрадь, испытующе посмотрел на слушателей и голосом, в котором чувствовался скрытый подвох, произнес:
— Итак, Александр Пилипчук, ответьте-ка нам, как нужно соединять вольтметр, амперметр и источник тока? Так, прекрасно! А не напишете ли вы, Александр Пилипчук, формулу емкости конденсатора?
Пыжу было невдомек, что манеру спрашивать с «подковыркой» недавний выпускник Красноярского лесотехнического института перенял у профессора Королева — грозы всех студентов. Об этом Пыж не знал. Соскучившись, он рассеянно слушал ответы и думал, что ему определенно не везет. И вдруг Пыж насторожился.
— Емельян Кузьменко, — вызвал преподаватель, и Пыжу показалось, что его голос прозвучал еще более иронически. — Идите к доске! Что же вы медлите, Емельян Кузьменко? — спросил он потом, увидев, что слушатель продолжает сидеть на месте.
Емельян вышел к доске. Он поднял бровь и хмуро посмотрел на преподавателя. «Давай придирайся!» — говорила его поза.
396
— Итак, Емельян Кузьменко, напишите-ка нам формулу Джоуля — Ленца.
Емельян взял в руки мел. Мел не понравился ему* он выбрал другой кусок, взял тряпку и начал старательно вытирать доску. Вытирал он долго, натер до блеска и шумно выдохнул воздух.
— Пишите же, — торопил преподаватель. — Как начинается формула?
— Кю... — быстро сказал Емельян, —* кю равняется...
— Чему же равняется?
Емельян переступил с ноги на ногу, взгляд его пробежал по рядам и неожиданно наткнулся на взгляд Пыжа.
— Ничему не равняется! — вдруг грубо сказал Емельян.
Тогда преподаватель заявил, что с него хватит: он достаточно возился с Кузьменко. Загибая пальцы, он стал перечислять грехи Емельяна — пропустил три занятия, к ответам не готовится, грубит, нарушает тишину. Подытоживая сказанное, преподаватель пообещал пожаловаться на Емельяна секретарю партийной организации лесопункта. «Это тому, загорелому», — вспомнил Пыж.
Урок продолжался. Спросив еще двух человек, преподаватель вызвал к доске Пыжа.
— Вы отстали на семь занятий. Посмотрим, сможете ли нагнать группу... Итак, Иван Пыж, напишите нам формулу Джоуля — Ленца!
Ломким сероватым мелом (в школе таким и писать не стали бы) Пыж написал формулу.
— Извольте объяснить значение букв.
Пыж объяснил.
— Мгу! — многозначительно произнес преподаватель. — Будьте добры теперь рассказать о диэлектриках и электриках.
Пыж рассказал. Тогда преподаватель попросил изложить как можно поточнее определение напряжения тока. И на этот вопрос Пыж ответил.
— А что такое диэлектрическая постоянная?
Оказалось, что и о диэлектрической постоянной Пыж
знает. Это даже немного обескуражило преподавателя, он перестал иронически щурить глаза и повернулся к Пыжу всем телом.
397
— Как выведен коэффициент в формуле Джоуля — Ленца?
— Опытным путем, — ответил Пыж, споткнулся и по слогам произнес: — Опытным, или эмпирическим. (Это слово он слышал от старшеклассников.)
— Садитесь, Иван Пыж! — весело сказал преподаватель обыкновенным голосом двадцатичетырехлетнего молодого человека. — Хорошо!
Ночь прошла беспокойно. Пыж ворочался на кровати, разговаривал с кем-то, называл неизвестную Марию Федоровну, а под утро, вскрикнув, проснулся. Ему приснилась гигантская плетеная корзина. Она висела в воздухе и очень медленно переворачивалась. Пыж долго размышлял, почему корзина не падает на землю, удивлялся этому обстоятельству и не заметил, как корзина перевернулась. С громом и свистом полетели на него четырехугольные куски дерева с очень острыми краями. Он хотел убежать, но ноги точно пристыли к земле, и ему оставалось думать одно, что чурочка сырая и никто не может помочь ему. Когда все из корзины высыпалось, Пыж проснулся от чувства облегчения. В комнате было светло, как днем. В графине, стоящем на тумбочке у окна, порозовела вода.
Пыж стал перевертываться на бок и почувствовал, что все тело болит. Ныли руки и ноги, покалывало в боку. Спать не хотелось. Пыж тихонько поднялся и стал одеваться. На цыпочках он вышел на улицу. Занимался день. Кругом все розовело, а сигнал на кузове автомобиля горел ярким красным огнем.
Вчера утром Пыж заметил несколько старых корзин, валявшихся без дела у механической мастерской. Корзины были на месте. Пыж внимательно осмотрел их. Хорошие еще корзины, целых три штуки. Только у одной немного подносилось дно. Перевязать его веревочками — дело пяти минут. Вот только где достать веревочки? Пыж вспомнил седенького сторожа, с которым он познакомился в первый день приезда на лесозаготовительный пункт. Сторож сидел на лавочке у входа в мастерские. Он обрадовался возможности поболтать с Пыжом.
— Веревочки? Как же не быть веревочкам. У хозяина, который всегда при деле, да не быть веревочке? Мы это дело мигом! Мы это дело сейчас...
398
Старик принес несколько старых обрывков каната. Они распустили их, и старик помог Пыжу отремонтировать корзины.
Теперь оставалось главное — увезти корзины в лесосеку. Пыж предполагал, что шофер лесовозной машины откажется взять громоздкий груз. Поэтому он отправился в диспетчерскую.
Здесь еще никого не было. Пыж сел на лавку и привалился к стенке: вдруг оказалось, что мучительно хочется спать. И Пыж быстро уснул.
— Вставай! Слышишь, вставай! — Над Пыжом наклонилась усатая физиономия Дутова. — Ты почему, парень, здесь спишь?
— Я нечаянно, — стал оправдываться Пыж. — Хотел вас подождать и уснул... Я штуку одну придумал. Корзины тут нашлись какие-то лишние. Вот посмотрите.
Еще ничего не понимая, Дутов послушно пошел за Пыжом, а когда узнал, в чем дело, радостно потрепал своего ученика по плечу:
— Дело, парень. Мы шофера мигом уговорим. Пошли-ка!
Шофер долго не соглашался. Особенно он упирал на то, что в машине для людей не место всяким корзинам. Он очень гордился, этот шофер, своими почетными обязанностями, но с Дутовым ничего сделать не мог. Сдался он после того, как тракторист вышел из терпения и закричал:
— Ты, Сенька, смотри! Ты хоть и шофер, а я сниму ремень и так тебя обработаю!.. Вот приди сегодня домой!
Пыж от удивления вытаращил глаза: шофер оказался родным сыном Дутова. После нахлобучки он вылез с ворчаньем из кабины и сбросил в кузов все три корзины, приговаривая сквозь зубы, что будет жаловаться самому директору леспромхоза Сутурмину на самоуправство разных там отцов, которые лезут не в свое дело.
Но он скоро успокоился. Рабочие между тем собирались. Рядом с Пыжом уселся сосед по комнате, который просил у Пыжа мыло. Его звали Ефимом. Протирая заспанные глаза, Ефим без остановки рассказал Пыжу, что Емельян вчера куда-то ходил. Было это после занятий, и все предполагают, что Емельян бегал
39 э
упрашивать преподавателя не жаловаться на него парторгу Волошину.
Парторга Емельян боится больше огня. И не то чтобы парторг был слишком сердитым, нет — дело тут в другом. Парторг неделю назад заступился за Емельяна перед директором леспромхоза, который хотел перевести Емельяна из учеников в обрубщики сучьев. Емельян тогда здорово проштрафился. Он без разрешения тракториста сел в кабину и давай ездить по карчам. Чуть погрузочный щит не поломал. Вот Волошин и заступился за Емельяна. Он сказал директору, что ручается за Емельяна, а Емельян обещал больше не безобразничать.
Потом Ефим сообщил, что ему здорово понравилось, как Пыж вчера срезал преподавателя. Так ему и надо, пусть знает, какие люди живут в сорок четвертой комнате общежития! Подумаешь, зазнался со своим Джоулем — Ленцем.
Болтая с Ефимом, Пыж и не заметил, как машина пришла в лесосеку. На эстакаде было тихо. Только что сменилась ночная смена. Тракторы стояли в ряд, легкий парок клубился над ними; казалось, тяжелые машины отдыхают. Изредка из бункера какого-нибудь трактора вырывался тоненький язычок огня: догорал газ. Словно сменившие кожу змеи, мертво лежали на бревнах темные кабели электропил. Только слева на передвижной электростанции раздавался визгливый звук напильника. Там точили цепи для электропил.
Неизвестно откуда появился мастер Павел Иванович. В руках он держал знакомый Пыжу блокнот.
— Выгружайся! — закричал Павел Иванович.
Кричал он зря: все и без команды попрыгали на
землю. Пыж сошел последним. Он подавал Дутову корзины.
— Ты, однако, сегодня не завтракал? — подозрительно спросил Дутов, а когда Пыж сознался, что да, не ел, распорядился: — Я машину проверю. Иди завтракай!
Делать было нечего. Пыж зашел в передвижную столовую и попросил гречневой каши. Буфетчица удивилась:
— Это что же за мода, кушать утром? Дома надо завтракать, молодой человек! Мы, молодой человек, завтраками не кормим.
Из маленькой, отгороженной фанерой кухни появи¬
400
лась белобрысая официантка и что-то зашептала на ухо буфетчице. Та слушала ее, строго поглядывая на Пыжа. Наконец буфетчица сказала:
— Гречневой каши нет, молодой человек!
Пыж понял, что с буфетчицей шутить нельзя, — такая это строгая и неприступная женщина. Он надвинул фуражку на лоб и пошел к двери.
— Постойте, молодой человек! — вдруг заволновалась буфетчица. — Вам же сказано, что гречневой каши нет! Придется минут пять подождать, пока каша будет готова.
Через десять минут Пыж вышел из столовой, ощущая тяжесть в желудке. Ему наложили огромную порцию каши, но Пыж не ударил в грязь лицом: на тарелке осталось ровно столько, сколько полагается для приличия. Теперь можно было смело приступать к работе. Пыж так и сделал. Ое подошел к складу чурочки и быстро наполнил все три корзины. В ожидании Дутова он присел на бревно. Солнце висело высоко над лесом. Кроны сосен из темно-зеленых стали бирюзовыми. На иглах еще вздрагивали разноцветные капельки росы. Длинные стройные тени ровными полосами расчертили землю. Где-то далеко в лесу тонко посвистывала пичужка. Но вот робко, словно пробуя силу, фыркнул тракторный мотор, на секунду затих, а затем уверенно, торжествующе зарокотал, оглашая лес бодрым, веселым голосом. И лес ответил ему задорным эхом. А когда эхо, перекликаясь, затихло, заработали моторы сразу всех тракторов. Перебивая друг друга, они спешили увериться в собственной силе и здоровье.
Вспыхнул и заклубился над выхлопными трубами передвижных электростанций голубоватый дымок. Змеевидные кабели ожили, с шуршаньем поползли по земле, чтобы впиться черным раструбом контакта в электрические пилы. Щелкнули выключатели. Крошечные моторы электрических пил запели звонко, досадливыми осиными голосами.
Дутов первым подъехал к заправочному пункту.
— Начинай, парень! — радостно крикнул он.
Пыж подал Дутову одну за одной четыре корзины
чурочки. Никогда еще трактор так быстро не заправлялся. Это привело тракториста в восторг:
— Н-но-о, Иван Иванович! — Дутов покрутил.головой. — Парень ты башковитый. Ведь чего проще этого, а никто не додумался.
2G Виль Липатов, том '&
401
Он уехал в лесосеку, а Пыж быстро набрал в корзины еще одну заправку и пошел к трактору. Дутов посадил Пыжа в кабину и, пока чокеровщики зацепляли хлысты, рассказывал ему о хитроумном устройстве тракторной лебедки, которая оказалась сильнее самой машины. Если трактор не может взять с места воз хлыстов, то лебедкой их сдвинешь, как пушинку. Однако пусть Пыж не думает, что в лебедке сила берется невесть откуда. Очень хитрое это дело — хорошо отрегулировать лебедку. Правда, Пыжу повезло: Дутов научит его так регулировать лебедку, что другие трактористы завидовать будут.
Первый воз хлыстов они привезли на эстакаду, когда работа была в разгаре. Мастер Павел Иванович был тут же. Он велел Пыжу немедленно вылезать из машины и следовать за ним. Не понимая, что произошло, Пыж пошел за мастером. Они остановились у заправочного пункта. Здесь стоял трелевочный трактор, на котором работал Емельян. Тракторист — степенный, очень высокого роста латыш — что-то горячо объяснял своему ученику. Емельян упрямо качал головой. Но тракторист настаивал, жестикулировал и даже погрозил пальцем, поднеся его под самый нос Емельяна. Затем он увидел мастера Павла Ивановича.
— Ага! — обрадовался тракторист. — Вот и Павел Иванович пришел! Павел Иванович, послушайте-ка!
Емельян схватил тракториста за рукав.
— Ладно, ладно! — торопливо сказал он.
Павел Иванович подозрительно посмотрел на Емельяна. В руках мастера появился знакомый блокнот. Он помахал им в воздухе:
— Нам все известно! И все-таки опять фокусы!
— Да я же согласен, — угрюмо ответил Емельян.
Павел Иванович вынул старинные массивные часы,
щелкнул крышкой, обернулся к Пыжу и недовольно сказал:
— Порядок подачи рационализаторских предложений строго определен в положении. То, что внесли вы, товарищ Пыж, — это, конечно, не рационализаторское предложение, но сие не значит, что мастер должен узнавать о нем через третьи руки. Так-то! Применение нескольких корзин для загрузки бункеров чурочкой, при всей простоте и даже наивности идеи, дает определенный экономический эффект. Что это значит? А то, что я должен провести хронометраж. Порядок установим
402
такой. Оперируя только одной корзиной, ученик товарищ Кузьменко загрузит бункер трелевочного трактора номер семь. Затем товарищ Пыж, применяя четыре корзины, загрузит бункер трактора номер два. Приступаем!
Обступившие заправочный пункт рабочие сдержанно улыбались, а Дутов — тот открыто смеялся, хитро посматривая на Емельяна.
— Приступаем! — грозно повторил мастер.
Тогда Пыж решительно вышел вперед и, чувствуя,
как горло перехватило волнение, заговорил:
— Я не понимаю... Ну что такого... Подумаешь, четыре корзины! А Емельян — он при чем! Не надо никаких хронометраже!... Вот честное слово, не надо! —- Пыж покраснел, его тонкий голос дрожал.
Мастер Павел Иванович снял цветные веревочки с ушей, сунул очки в карман и, близоруко щурясь» смотрел на Пыжа. Без очков лицо мастера казалось незнакомым, оно было моложе и добрее.
— Мы принимаем ваше предложение, сказал он.
«АНИКИТА С МУЗЫКОЙ»
1
Второй вызов в больницу дядя Ани- кита получил двадцать пятого июня, совершенно случайно, когда, гуляя по своей пенсионной незанятости, невесть с чего присел на скамейку возле чужого дома. Здесь и настиг его нарочный из больницы.
— Иди, иди, куда пошел! — было прогнал его дядя Аникита, но нарочный, вручая повестку, внушительно сказал:
— Завтра ровно в девять, обязательно! — Нарочный помахивал папочкой с тесемками и был как назло сыном Феньки Волковой.
— Без опозданий, дядя Аникита! — еще раз предупредил он. — Хирург осердится!
Он пошел, помахивая своей папочкой, а дядя Аникита порвал бумагу в мелкие клочки и со свирепостью посмотрел вслед нарочному. Так как он был сыном Феньки Волковой, то дядя Аникита подумал: «Поди,
26*
403
Фенька тоже знает, что меня второй раз в больницу кличут?» Он повозился на скамейке и так осатанел в злости к самому себе, что захотелось вдруг стукнуть себя по седой башке. «Коровья жижа, овечий хвост!» — подумал он.
Ветер разнес обрывки повестки в разные стороны, и дядя Аникита вдруг пожалел, что не прочел ее. Может быть, там было сказано, зачем вызывают его в больницу второй раз, чего это надо от дяди Аникиты районному хирургу — человеку сердитому и грозному. Дядя Аникита его хорошо знал, так как рубил районному хирургу дом. «Этот зазря второй раз не вызовет», — подумал дядя Аникита, хотя считал, что и в первый раз его вызывали беспричинно.
Неделю назад районный хирург, встретившись с дядей Аникитой в магазине сельпо, принародно ухватил его за рукав: «На ловца и зверь идет! Завтра утром быть в больнице? Понятно?» Глаза у него были черные и злые, голос гудел, словно хирург говорил из пустой бани, а пальцы были хоть и тоненькие, крепость в них была мужичья. Потому дядя Аникита назавтра оказался в больнице, смущенный и немного растерянный. От этого он злился и топал ногами громче обычного.
— Ага! Пришел! — грозно обрадовался районный хирург.
— Давай просвечивай! — тоже обозлился дядя Аникита.
Его пихнули в темную комнату, где горел только красный фонарик и было смурно, как в чужом окопе; потом велели раздеться до пояса, и, раздевшись, он почувствовал себя так одиноко и безнадежно, что поежился, словно от холода, хотя в комнате была жарища. «Ведь они меня будут насквозь глядеть!» — подумал дядя Аникита и тут же удивился — обочь его вдруг раздался тоненький женский голос:
— Пациент, встаньте в аппарат!
Значит, кроме районного хирурга, в комнате была еще женщина, по голосу молодая и белобрысая.
— Которая там попискиват, я тебя должен видеть или нет? — строго спросил дядя Аникита. — Разве это порядок, что тебя насквозь глядят, а ты того человека и вприглядку не видел!
— Потом посмотрите! — прохрипел районный хирург. — Топайте ко мне!
Ведомый за руку районным хирургом, дядя Аники-
404
(
та в темноте куда-то полез, за что-то задел головой, пребольно ударившись, а потом и вовсе застрял голыми плечами в холодных железинах.
— Ого! — сказал районный хирург. — Он не входит в аппарат!
— Уберите скамеечку из-под ног, — пропищала врачиха.
— Скамеечки нет, — ответил хирург. — Он и в ширину не входит.
— Феноменально!
Они что-то раздвинули и подняли; врачиха смеялась кудахтающим смехом, районный хирург ругался басом, и дядя Аникита окончательно вышел из себя.
— Просвечивайте! — зашипел он.
Вспыхнуло, зажужжало, задвигалось; непонятный холодок пронзил дядю Аникиту насквозь, а может быть, это показалось, но он почувствовал, как у него что-то шевельнулось в груди и затрепетало, и вдруг так стало жалко себя, что он подумал: «Пропал я!»
— Надо сделать фотографии! — распорядился хи- рург.
«Чего хотите, делайте!» — в ответ подумал дядя Аникита и с этой секунды стал ко всему безразличным. Они его еще долго вертели, ставили так и этак, что-то говорили меж собой, но дядя Аникита и слышать ничего не хотел. Приглядевшись к темноте, он увидел на стенке плакат с крупными буквами, из которых получилось слово «мух». Это показалось ему почему-то очень обидным, и дядя Аникита даже и думать ни о чем не стал.
Когда зажегся свет, дядя Аникита натянул махом две рубахи — верхнюю и исподнюю, — не слушая по- прежнему оживленного разговора хирурга с врачихой, незаметно вышел из комнаты и быстро зашагал домой молодым ельником. «Овечий хвост!» — думал он о районном хирурге. День был солнечный, прозрачный; до- летывал в воздухе тополиный пух; матово светилась на горизонте Обь. «Ах, ах, овечий хвост!» — ругался дядя Аникита.
Сегодня его вызвали в больницу вторично, и нарочный — Фенькин сын! — говорил с дядей Аникитой настырно, и сам дядя Аникита не может понять, зачем он сидит на лавочке возле чужого дома. «Смурной я какой-то! — подумал дядя Аникита. — Бескостный, как рыба стерлядь!» Очень собой был недоволен дядя Ани-
405
кита и, посмотрев на улицу, еще насмешливей скривил губы: «Не дома, а собачьи будки!», — хотя половину из них рубил сам.
Сердитый он был и смурной очень, и когда в таком настроении пришел домой, то калитку за собой затворил так ожесточенно, что четыре пса от нервности стали повизгивать.
— Молчать! — сказал им дядя Аникита.
Как раз в этот момент вышла на крыльцо законная жена Евдокия и встала, подбоченившись.
— Дела нет? — спросил дядя Аникита.
— У того дела нет, кто шляется где попадя! — ответила жена Евдокия. — Опять из больницы приходили.
— Это мы знам!
Ей, законной жене Евдокии, было под семьдесят, но ничего такого старушечьего в ее фигуре не было — как была круглая и задастая, так и осталась; лицо у нее, однако, очень переменилось: оно тоже раньше было круглым, но теперь из-за морщинистости сделалось вдвое меньше прежнего и тонуло в седых волосах. Глаза, и без того большие, как у совы, теперь с лица смотрели совсем по-птичьи, так как в них с годами образовывалась все большая непрозрачность. Это жена Евдокия к старости становилась сильно дальнозоркой, и когда смотрела на человека, то казалось, что проглядывает его до позвоночника.
Сейчас жена Евдокия тоже посмотрела в глубь дяди Аникиты и сказала ядовито:
— Фенькин сын приходил!
— А из этого что следовает?
— Что ты кобель проклятый! — вот что следовает!
Дядя Аникита сложил губы дудочкой и свистнул.
— Ты на этой ревности с ума свихнулась... — сказал он. — Сойди с моих глаз!
— Кобель проклятый! — опять сказала жена Евдокия.
— Сойди с моих глаз!
Тогда жена Евдокия сняла руки с бедер и начала махать ими перед носом дяди Аникиты:
— Я те сойду! Бьешься как рыба об лед, а тут Фенькины сыновья приходют! Кабанчик загородку прервал и в Марфин игород сиганул, игурцы второй день не политы, картошка в подполе ростки пускат, Андрюшка себе губу своротил... Да пропади все пропадом, что¬
406
бы я хуть каку заботу имела! Да пущай оно все на извод идет, если я пальцами пошевельну! Да пущай хуть обои губы сворачивают, чтобы я сердцем с этого заходилась! Да пущай...
Жена Евдокия стала наворачивать одно на другое, с каждым словом распалялась, как костер на ветру, и, услышав такое, дядя Аникита вздохнул, сел на крыльцо и склонил голову набок — так ловко было слушать законную жену Евдокию. Однако он посмотрел на загончик, где обретался кабан, и увидел, что он преспокойно сидит на месте. «Только одно интересно, — подумал дядя Аникита, — как это Андрюшка себе губу своротил!»
— В тебе регламент кончается? — спросил он, заметив, что жена Евдокия пошла на убыль. — Я, что ли, игурцы поливать буду? Полон дом баб!
Дядя Аникита встал и пошел в дом, построенный интересно — сначала это была обыкновенная пятистенка, потом к ней дядя Аникита пристроил загогулину, потом еще загогулину, а потом уж соединил эти загогулины, так что дом вышел здоровенный и запутанный.
Дядя Аникита сперва вошел в сенцы, просторные, как клуб в иной захудалой деревне, здесь он снял с ног большие чирки и остался в белых носках из овечьей шерсти. Только тогда он отворил дверь в первую комнату. Здесь сидела невестка Зинаида, сложив тяжелые руки на коленях. Лицо у нее все было в коричневых пятнах — ходила беременной; живот из-под пестрого фартука выступал горой. Он, Зинаидин живот, немного кособочил, и дядя Аникита подумал с удовольствием: «У этой опять мальчишенка будет!»
— Сиди заседай! — сказал он Зинаиде. — Если увижу, что игурцы поливаешь, всем мало не будет!
Во второй комнате невестка Ираида гладила белье, так как вчерашний день все бабы занимались стиркой, сегодняшним утром ходили на речку полоскать, и перед Ираидой была гора белья. Потому дядя Аникита прошел мимо Ираиды молча.
В третьей комнате невестки Елизаветы не было — удивленья это для дяди Аникиты не составило, так как Елизавета была баба шляющаяся, и дядя Аникита сразу сообразил, что она ушла шептаться с невесткой Валентиной. Потому он прошел насквозь третью комнату и завернул в первую загогулину. Здесь и жила невестка Валентина, которая, будучи директором средней
407
школы, вела себя до такой степени гордо, что просила, чтобы дядя Аникита стучал в ее комнату не только ночью, но и днем. У ее дверей дядя Аникита свирепо повел бровями, но постучался.
— Войдите! — послышался красивый голос Валентины.
Елизавета вправду сидела здесь; увидев дядю Ани- киту, она потупила серые глаза, и он подумал: «Это не баба, а сплошная наказания!»
— Где Андрюшка? — строго спросил он.
— На дворе, а что?
— Он губу своротил?
— О боже! — пренебрежительно сказала Валентина и повела налитыми плечами. — Обыкновенная царапина!
Невестку Валентину дядя Аникита уважал и поэтому сказал особенно строго:
— Вострите лыжи игурцы поливать!
— Польем, когда кончим разговор, — спокойно ответила невестка Валентина. — Через десять минут.
Пятой невестки, Розы, цыганки по крови, дома не было, потому дядя Аникита сразу пошел во вторую загогулину, где обреталась временно самая чудная его невестка — Лариса. Жила она в семье всего второй месяц, и случилось это по той причине, что сын дяди Аникиты Федор, инженер, уехал в длительную командировку. В большом городе оставить молодую жену он остерегся и телеграммой попросил отца о согласии принять на три месяца Ларису.
Встречать к пароходу городскую невестку вышла вся семья, и дядя Аникита, увидев ее, сразу затосковал — ничего бабского в ней не было, помимо этого, на носу бабочкой сидели очки-пенсне, а шла она по трапу так чудно, как ходили японки на своих сплющенных ножках. Японок дядя Аникита видел в русско-японскую войну. Однако характером невестка понравилась дяде Аниките — была ласковая и тихая. Через неделю дядя Аникита сказал ей:
— Ты баба неплохая, только надо тебе тела набрать. С завтрего дня вдарюсь я в рыбаловку, зачнем тебя исетриной кормить. С исетрины ты и очков лишишься. По радио передавали, что от рыбьего жиру близорукость проходит. Я сильную надежду на это дело имею!
408
К невестке Ларисе дядя Аникита тоже постучался, хотя она об этом никогда не просила. Сидела Лариса, как всегда, с ногами на стуле, бледная оттого, что читала.
— Иди игурцы поливать, — мягко сказал дядя Аникита. — Тебе воздух нужон.
— Спасибо! — поблагодарила неизвестно за что Лариса. — Разрешите, я дочитаю несколько страниц.
— Дочитай! — ответил дядя Аникита и, улыбаясь, вышел из комнаты. Ему было смешно за сына Федора, который поостерегся оставить в городе Ларису.
Вернувшись в сени, дядя Аникита надрючил чирки и подошел к жене Евдокии, которая все еще стояла на крыльце. Вид у нее был задумчивый, и дядя Аникита сказал тихо:
— Бабы сейчас выйдут игурцы поливать!
— Я их уже полила! — ответила жена Евдокия и вздохнула. — Это уж так и клади, что Зинка без Николая родит! Рази он успет приехать из командировки! Тебе когда в больницу?
— Утресь.
— Я чисто белье на сеновале положила, переоденься, не то от портянок на всю деревню дегтем вонят. Ты хуть щиблеты надрючь.
— Может, еще шляпу надеть!
— С тобой разговаривать у меня сердца не хватат.
Слова у жены Евдокии были ругательные, но голос
тихий и добрый. Они все стояли друг против друга на крыльце. Солнце хотя и шло уже на убыль, к серебристым тополям, светило еще ярко, старательно. Ветер поддувал под распущенную рубаху дяди Аникиты, телу от этого было ласково, словно кто поглаживал нежно по коже. Над Обью, видной в просвете деревьев и домов, толклись солнечные лучи; было настолько тихо, что послышалось, как на дальней старице Оби тревожно гуднул буксир, эхо отдалось и затихло в тальниках, но тревога осталась в густом воздухе. Буксиру, наверное, было одиноко, трудно буравить встречный стрежень.
«Районный хирург, овечий хвост! — подумал дядя Аникита. — Это зачем же он меня второй раз вызыват в больницу?»
— Стою как дура, — сказала жена Евдокия, — а в доме квашенка поспела!
409
2
Из больницы дядя Аникита вернулся в полдень. Жена Евдокия, словно зная, что вот именно сейчас он войдет во двор, стояла на крыльце, сложив руки на груди. Он еще и калитку не прикрыл за собой, как она спросила низким голосом:
— Чего сказали в больнице?
— Ничего! — ответил дядя Аникита и, мерным шагом пройдя весь двор, сел на бревна возле бани. Он трубно высморкался. Одетый в белую рубаху из иностранного полотна, в фасонистых брюках, но в чирках, за версту пахнущих дегтем, походил он на человека, приехавшего погостить и вот присевшего на бревна, чтобы полюбоваться деревенской жизнью. Жена Евдокия внимательно смотрела на него.
— Это чего же делатся! — тихо сказала она.
— Ничего! — в сердцах, но тоже негромко ответил дядя Аникита. — Они, язвы-холеры, по-иностранному болтали. А районный хирург как пошел провожать, то говорит про то, что надо ноги всухе держать.
, После этих слов жена Евдокия сошла е крыльца и медленно двинулась к дяде Аниките — совиные глаза ее глядели изумленно.
— Это как же ноги всухе держать, если ты все время в обласке да по камышам шаришься! — тонко закричала она. — Это ведь сдуреть надо такое говорить!
— Им заказ на слова не сделашь! — усмехнулся дядя Аникита. — Потом районный хирург сказал про то, что мне надо в больницу за два месяца раз приходить.
— Раз на два месяца! — охнула жена Евдокия. — Так и сказал?
— Врать буду?
Жена Евдокия села на бревно рядом с дядей Ани- китой, сложила руки на груди; лоб от думанья у нее совсем сморщился, а смотрела она в ту самую далекую даль, до которой нормальным глазам не добраться. Размышляла она, наверное, минут пять, потом тихо- тхо спросила:
— Чего же это, Аникитушка, может означать?
— Холера их знат!
— А ты бы спросил.
— Этого еще не хватало!
410
Дядя Аникита сердито засопел и рывком распахнул ворот рубахи — душила она его. Был один из самых жарких дней июня, солнце палило, как на юге, и, непривычный к жаре от солнца, дядя Аникита обливался потом. Жена Евдокия приметила это и догадливо проговорила:
— Потеешь, как молодая девка. Может, у тебя сердце как у меня заходится?
— Этого еще не хватало!
Жена Евдокия все пристальнее смотрела на дядю Аникиту, в дальнозорких ее глазах словно что-то перемещалось, уходило; пальцами она ровняла оборку на длинной юбке, и пальцы у нее были беспокойные, торопливые.
— Ты весь какой-то несподручный, Аникитушка! — наконец вздохнула она.
Дядя Аникита сидел неподвижно. В белой рубахе он был чужой и далекий, по-прежнему похожий на залетного гостя. На слова жены он сначала ничего не ответил, потом же помотал головой и саркастически улыбнулся. Непонятное выражение было на его лице, продубленном и черном от загара, — и печали не было, и радости не было, и спокойствия не было, и беспокойства большого не было. Глядел он, как и жена Евдокия, в далекую даль, и губы шевелились, словно он шептал что-то.
— Оставь ты меня на спокое! — наконец сказал дядя Аникита торжественным голосом, сделав при этом такой жест рукой, точно благословлял жену. — Иди по своим делам и заботу свою адскую уйми. Должен я о себе на просторе подумать!
Говорил дядя Аникита напевным церковным слогом; откуда это у него взялось, понять было нельзя, так как в церкви он отроду не был, и жена Евдокия, оробев от такой 'несообразности, пошла прочь от него сторожко, чуть ли не вздымаясь на цыпочки. На крыльце она, однако, остановилась, каменно замерев, но руки уперла в бока. Только этим она и выразила противление мужевой необычности.
— Иди, иди! — сказал дядя Аникита.
Еще немного посидев, дядя Аникита медленно пошел к сеновалу, забрался по зыбкой лесенке к маленькой, похожей на лаз, двери. Пыльные лучи пробивались сквозь неплотные доски, захватывающий горло дух шел от сухого сена, мышиные й амбарные запахи висели
411
возле кирпичной трубы. Кавалерийская попона со звездами лежала под слуховым окошком, валялись растрепанные книжонки. Дядя Аникита со злостью сорвал с себя обе рубахи, оставшись голым до пояса, сладко передохнул воздух, как расседланная лошадь.
Городской моды загорать на солнце дядя Аникита не имел, и потому он был белый, гладкий, хотя под кожей перекатывались мускулы. С чего у него была эта гладкость в теле, как у женщины, хорошо и сладко кормленной, он знать никак не мог, но этой своей гладкой нежности на людях стыдился.
Дядя Аникита медленно опустился на попону со звездами. Он не понимал сам себя, но чувствовал, что бродит в нем что-то важное, как бродит в бочке крепкая брага; мелькали перед глазами картины и смутные видения, наползали отдаленные голоса, точно за тонкой стенкой разговаривали люди. В глазах мельтешили красные круги, руки и ноги поднывали и покалывало под ложечкой, в том самом месте, к которому районный хирург несколько раз прикасался холодными колкими пальцами. Казалось, что пальцы прикасаются до сих пор, и дядя Аникита подумал: «Не зря их учут! Самое больное место, коровья жижа, нащупал!»
Сунув руку под подушку, дядя Аникита вынул транзисторный радиоприемник «Спидола». При этом он смущенно улыбался, на приемник смотрел искоса, отстраненными глазами. Радиоприемник подарил ему сын Федор, и дядя Аникита сначала помирал со смеху, потом же к приемнику пристрастился до невозможности — брал его с собой на рыбалку и на охоту и дошел до такой степени, что без него и жить не мог. Свое пристрастие к транзистору дядя Аникита держал в тайне, но старики сверстники его как-то засекли, и с той поры по деревне и поползло прозвище «Аникита с музыкой».
Приемник жил у дяди Аникиты уже больше года, но всегда было тревожно-радостно прикасаться пальцем к гладенькому рычажку, так как постоянно не верилось, что коробочка, которая тихо лежала под подушкой, вдруг запоет или заговорит человеческим голосом.
— Штукенция! — почесав в голове, сказал дядя Аникита.
Он повернул вертушку, нажал на кнопку, и белая коробка печально и ласково запела. Голос у нее был открытый и чистый, тоску свою она выговаривала от¬
412
кровенно, и дядя Аникита медленно закрыл глаза. Ему казалось, что сначала пело сбоку от него, потом запело вокруг, а потом — в нем самом. Дядя Аникита пел весь — от жилки до косточки, — все тело тосковало, тревожилось. Виделся ему круглый луг, заросший белыми цветами, ручей, полыхающий в осокорях, и белое солнце над лугом. Дрожала черемуховая ветка, от нее тек волнистый воздух. Тоска схватила дядю Аникиту прямо за сердце, и он быстро открыл глаза.
В слуховое окно глядела на него яркая и веселая звезда. Чуда в этом не было, так как дядя Аникита находился словно бы в колодце, из которого и днем видны звезды, но сегодня луч веселой и яркой звезды заставил дядю Аникиту зябко поежиться. Он собрался свирепо цыкнуть на самого себя, но вдруг замер — дядя Аникита понял, что с ним происходило. «Вота оно что!» — протяжно подумал он.
Дядя Аникита почувствовал, как на его лицо, застывая в морщинах и стягивая кожу, стало надвигаться непривычное небывалое выражение. В диковину было то, что он ощущал свое лицо, но это было так, и дядя Ани- кита туго сжал рукой щеки и рот. В таком положении он и застыл.
Прошло минут пять.
— Начинаем передачу для радиослушателей Сибири и Дальнего Востока! — вдруг сказал транзистор, разом приглушив музыку. — В сегодняшней программе...
Дядя Аникита вздрогнул и очнулся.
— Коровья жижа! — сказал он транзистору.
На его лице все каменело то выражение, которое он чувствовал, но прогнать не мог.
— Тудыть вас перетудыть! — смутно выругался дядя Аникита.
3
Не останавливаясь в кухне, где жена Евдокия возилась с квашенкой, дядя Аникита крупным шагом проследовал в свою комнату, обставленную узкой кроватью, низким столам и верстаком, на котором валялась всякая всячина. На стене висели шесть ружей разных фасонов, сети, на полках грудились переметы и закидушки, донки и блесны, поплавки из балберы и разные другие ловуш¬
413
ки. На столе рядками расположились банки с порохом и дробью, кучкой лежали гильзы, шесть шомполов торчали из специальных отверстий.
Прежнее, самому себе незнакомое выражение было на лице дяди Аникиты, когда он снял со стены старенькую курковку тульского завода. Корявыми, туго гнущимися пальцами дядя Аникита провел по гладкой ложе и подумал: «Тулка, она самая верная!» Он поставил ружье у дверей, взял со стола несколько банок с порохом, дробь, пыжи и мерку — это тоже отнес к дверям. После этого дядя Аникита сел на стул и задумался. Мысль, верно, была напряженной, так как на лбу появились капельки пота. «Правильно!» — наконец подумал он.
Дядя Аникита добавил в кучку капроновую сеть, два ножа — маленький и большой, — алюминиевый и медный котелки, небольшой топорик и несколько веревок разной толщины. Потом он еще раз присел на табурет, напряженно раздумывая. «Кажись, все!» — сказал он сам себе и, поднявшись, пошел из комнаты, так и оставив кучку вещей у порога. Шел он тяжеловато-медленно, подминая застонавшие половицы.
В кухне жена Евдокия, покончив с квашенкой, скребла стол острым ножом. Услышав шаги мужа, она распрямилась, поглядела на него, и нож вдруг выпал из ее рук.
.— Что с тобой наделалось? — округлив глаза, прошептала она. — Это чего ты опять задумал?
Только жена Евдокия могла прочесть на лице дяди Аникиты правду, разглядеть на нем суровое его решение, и когда она шепотом прокричала свои вопросы, а потом кинулась к нему, ни один мускул не дрогнул на лице дяди Аникиты, ничем он не показал слабость. Наоборот, на законную жену Евдокию дядя Аникита смотрел просветленно и ласково.
Если говорить откровенно, то жена Евдокия была хорошей женой. Девять сынов и три дочери родила она дяде Аниките, за водку ругалась отчаянно, но без перебору, женскую работу исполняла всегда на чуток раньше загада, мужа и детей держала в сытости, а на бабьи наряды была падка в меру. Одно плохо было в законной жене Евдокии — ее ненасытная ревность. Конечно, дядя Аникита по женской части был не мед, но она доходила до такой лютости, что не обошла ревностью ни одной бабы в деревне, приплетая ему и самых бросовых.
414
Ревность жены Евдокии была бы меньше чудна, если бы она, находясь еще в бабьем расцвете, сама не поняла бы ее. Однажды душным летом, когда на сеновале все пропахло увядающими ромашками и всю ночь кричала в лесу птичья живность, а осколок месяца висел прямо над головой хмельного от молодости дяди Аникиты, долго смотрела в небо жена Евдокия блестящими глазами, вздыхала протяжно и, наконец, обхватив дядю Аникиту прохладной рукой за шею, шепнула: «Тебе, Аникитушка, конечно же одной бабы мало! Век мне с тобой горевать!»
С этого дня и пошла выделывать выкрутасы ее ревность, иногда до того хитроумная, что дядя Аникита со смеху катался в лопухах. Во всем же остальном свою законную жену Евдокию он уважал и любил. Сейчас дядя Аникита огладил ее ласковым взглядом, затаив в сомкнутых губах нежность, тихонечко отодвинул жену Евдокию в сторону, чтобы не мешала выйти из дома. От его молчания и просветленных глаз она на секунду оторопела, и дядя Аникита беспрепятственно вышел во двор.
Четыре свирепых пса, дрожа от страсти, следили за дядей Аникитой красными, как с перепою, глазами. «Собаки тоже чуют, — подумал дядя Аникита. — Это не зазря говорится, что собака — друг человека». Окруженный псами, он прошел в амбарушку и вынес из нее громоздкий тулуп. Он уложил его на дворе, возле большого нового обласка, и, подумав, принес свое любимое весло. От всего этого псы совсем освирепели, и дядя Аникита уж хотел со всего маху матюгнуться, но осекся — на крыльце стояли законная жена Евдокия и невестка Валентина.
— Аникита Иванович, — строго заговорила Валентина, — нам не безразлично, куда это вы так тщательно собираетесь! Евдокия Петровна беспокоится, да и я, признаться, тоже. Может быть, вы скажете, куда собрались?
Этаким макаром невестка Валентина выражалась всегда, но дядя Аникита все равно уважал ее за твердость характера и прямолинейность.
— Собаки и те понимают, — сумрачно сказал он. — Куда? Собаки и те понимают, что на рыбаловку.
Дяде Аниките казалось, что объяснил он хорошо и откровенно, но жена Евдокия вынырнула из-за спины невестки Валентины и прокричала насмешливо:
415
— На рыбаловку! А тулуп почто?
— Ночи-то холодные!
— Холодные! — всплеснув руками, удивилась жена Евдокия. — Почто же ты его ране, тулуп-то, не брал?
— Ране?
Дядя Аникита бросил на землю любимое весло, распрямился и тряхнул головой так отрешенно, что его кудрявые волосы, все до единого целые, пошли по лбу и ушам -кольцами. Сарказм и смирение, ирония и печаль, вызов и издевка были в его голосе, когда он повторил:
— Ране? Ране-то меня и в больницу раз на два месяца не кликали!
После этих слов дядя Аникита, повернувшись, зашагал к калитке, рывком открыл ее. Псы бросились за ним, но у калитки осели, тонко и жалобно заскулили.
— Вот что делатся! — всплеснула руками жена Евдокия.
4
К кому и зачем ходил дядя Аникита, стало известно лишь несколько дней спустя, но вернулся он в девятом часу, медленный и далекий. Он вошел во двор и на мгновение приостановился.
На лице дяди Аникиты была смесь торжественности и печали, раздумья и просветленности. Казалось, что черты лица его заострились, отчего дядя Аникита помолодел; в глазах читалось необычное выражение — что- то иконное виделось в них, потемневших и блестящих.
Тихо-тихо было во дворе. Застыла у летней плиты жена Евдокия, молча сидели за летним обеденным столом сыновья, невестки, внуки и внучки. Все были умыты и одеты, причесаны и ухожены, но еще не ужинали, поджидая дядю Аникиту.
Никло к обским сорам и веретям солнце, пестрела тенями от телеграфных столбов деревенская улица; трава на дворе у корня почернела, словно пролили тушь, и тени — тоже черные — бродили кругом-вокруг, заглядывая в углы и тайнички.
Глупый человек бы понял, что за минуту до прихода дяди Аникиты сыновья, невестки, внуки и внучки су- дили-рядили о нем, дошло до спора и ожесточения, так как на лице старшего сына, Василия, все еще меркли красные пятна. И стоял над столом младший сын, Владимир, вздернув руку для говоренья, — в утихающем
416
солнце ярко светилась его белая рубаха. «Большая война была здесь! — подумал дядя Аникита. — Васька-то не умет отбиваться от баб!»
— Помогите матери чугун снесть, — сухо сказал дядя Аникита. — Сидят, как бугаи, а мать корячится!
— Сама снесу, — ответила жена Евдокия. — Они только и умеют, что пролить!
Неся на лице возвышенность, иконность и торжественность, дядя Аникита прошел к столу и сел на свое хозяйское место. Он взял деревянную расписную ложку.
— Снедать надо! — трубно сказал он.
Пятеро сыновей дяди Аникиты, живущие с ним, были широки в плечах и высокорослы, как отец, но лицами походили на мать, хотя были удивительно разными: один походил на мать только глазами и подбородком, другой перенял нос с широкими разводьями ноздрёй, третий — лоб и впалые щеки, четвертый — одни глаза, пятый — губы и крутой подбородок.
Слышен был только звяк ложек да жеванье, редкие вздохи да скрипенье немножко расшатанного стола. Человек девятнадцать собралось за столом, и дядя Аникита видел, что сыновья и внуки, невестки и внучки время от времени поглядывают на него с тревогой и любопытством. «Большая война была!» — опять подумал он.
В мисках уже оставалось похлебки на самых донышках, когда старший сын, Василий, тихо и невыразительно спросил:
— Ты, бать, видно, на длинну рыбаловку собрался?
Дядя Аникита. нахмурился и ответил:
— Время само скажет.
Снова пророкотали ложки, еле уловимый шумок пронесся над столом, и сказал так же тихо и невыразительно третий сын, Петр:
— Ты, бать, поди на Квистарь ладишься?
— Чего ему делать на Квистаре! — усмехнулся младший сын, Владимир. — Уж если ехать на длинну рыбаловку, то надо ладиться на исетра. Ты, бать, поди, на Дальни гривы?
—* Исетра нынче на Дальних гривах не возьмешь, — сказал после длинной паузы второй сын, Григорий. — На прошлой неделе катером там шел, так весь обзеле- нел от злости.
— С чего это обзеленел? — спросил Василий.
27 Виль Липатов, том 4
417
— А как не обзеленешь, если там сплавконтора бревнотаску поставила. Плотов нагнали — ужасть сколь!
— Ну, тогда он на Солдатски пески! — решил четвертый сын, Семен, кладя ложку на стол. — Там намедни дядя Амвросий трех исетров взял!
Смешно это было — все пятеро сыновей у дяди Аникиты были разные: Владимир преподавал физику и математику, Василий плотничал, Григорий был механиком, Петр — агрономом, Семен — геодезистом, но говорили про рыбалку все одинаковыми словами, напевно и медленно. Разговор был длинный, с большими паузами, и, наверное, прошло минуты три после слов Семена, когда Василий сказал:
— На исетра надо пробираться на Дальни осокори!
Когда доели похлебку, жена Евдокия поставила на
стол огромную сковородку с картошкой и мясом, несколько мисок с редиской и луком и на этот раз села за стол сама, придвинув к себе остывающую похлебку. Глаза у нее блестели, губы были насторожены.
— Ты бы сказал, бать, куда едешь? — спросил сын Владимир, когда ложки стали поскрипывать по дну сковородки. — На Дальни гривы тебе пути нет, так как ты ружье взял.
— Вона что! — шибко удивился Василий. — Я на ружье-то и не посмотрел!
Дядя Аникита молчал, медленно повертывая пальцами деревянную ложку. Сначала он на нее никакого внимания не обращал, но потом повернул еще раз и вдруг поразился — -на плоском черешке был нарисован маленький, непохожий на земные цветок: «Ведь этой
ложкой я лет десять ем!» Он пристально разглядывал цветок, вертел ложку так и эдак, и глубокая, жгучая обида заползала в грудь. Как это он не видел цветок на ложке, как за десять лет не обратил на него внимания? Дядя Аникита затосковал.
Встала на миг в памяти ослепительно яркая земля. За протоками и озерами лежала она, напевная и солнечная; плыли прозрачные облака, билась в омутах от переизбытка силы и тяжести жизни рыба, носились над камышами утки, росли и умирали травы, ныла тишина веселым колокольным звоном. «Жизнь, она течет!» — подумал дядя Аникита, поднимаясь из-за стола.
Вставал дядя Аникита во всей громоздкой величине и силе, как бы поднимался над семьей, как бы перерастая всех, сидящих в приглушенности. И, встав во весь
418
рост, оглядел дядя Аникита коротким, но зорким запоминающим взглядом дом свой и двор свой, и сказал дядя Аникита звонким голосом:
— На рыбаловке длинно время буду!
Он повернулся, чтобы идти к обласку и припасам, и пошел уже, чувствуя спиной тишину, как настиг его высокий голос жены Евдокии. А потом настигла и сама законная жена Евдокия, бросившись наперерез.
— Ой, да не пускайте вы его! — вскричала законная жена Евдокия. — Это ведь он помирать поехал! Еще когда молодой был, то говорил: «Как смерть забрезжится, сяду в обласок и помру на озере или реке!» Ой, да не пускайте вы его!
Вот так вскричала законная жена Евдокия, и дядя Аникита на ходу стал, словно на стенку наткнулся, и, стоя столбом, побледнел немножечко. И настала самая тихая тишина.
— Деда помират, — вдруг завыл истошно пятилетний внук дяди Аникиты, тоже Аникита. — Помират деда!
И не стало тишины — все вскочили из-за стола, закричали вразнобой и приглушенно. Кричали маленькие, ругался на них сын Василий, стонала обморочно городская невестка Лариса. И, не разбирая сам себя, не зная, что делает, дядя Аникита набрал в грудь воздуху и гаркнул оглушительно:
— Ти-ша-а!
Когда все стихло, то вдруг увиделось, что сидели себе спокойно на месте сын Владимир и невестка Валентина. Она даже ела молоко с сухариками и сказала потому в нос:
— Садитесь все! А вам стыдно, Евдокия Петровна, травмировать семью. Никаких оснований для смерти нет! Совершенно очевидно, что Аникита Иванович едет на рыбную ловлю.
— Як хирургу заходил! — тихо и ласково сказал сын Владимир. — Ругается как извозчик. Ему область приказала взять на учет тех жителей, которым больше девяноста лет. Кричит: «Статистики захотели, а у меня два корпуса не ремонтированы!»
Сильная стояла во дворе тишина. Солнце совсем ушло за горизонт и светило косыми лучами. Лежал на лице дяди Аникиты красный отблеск.
— Язва-холера! — сказала жена Евдокия. — Сколь я с этим человеком мук приняла, это просто на удивленье!
27*
419
МИСТЕР-ТВИСТЕР
1
Первая шляпа в Тагаре появилась вскоре после войны.
Однажды, ни поздно, ни рано, а так себе, в середи- ночке дня, на пыльной тагарской площади, на которой стоят клуб, больница, детские ясли, почта и другие учреждения, появился маленький человек. С какой улицы он вышел на площадь, никто не приметил; ясельной поварихе примстилось, что человек на площади стоял испокон веков.
Держа в руках по фанерному чемодану, человечек по-хозяйски осматривался, потом опустил чемоданы в пыль, громко, сладостно чихнул.
— Будьте здоровы, Семен Лукич! — сам себе пожелал он.
Человечек приметил в окне тетку Марию, неторопко двинулся к ней. Пока он шел, тетка Мария рассмотрела то самое, что было надето на его голову, хотя шляпа не очень-то походила на шляпу — старая, пятнистая, измызганная, она обнимала голову человечка так, словно состояла из отдельных лепестков. Вверху на шляпе зияла дыра.
— Семен Лукич Сюткин приветствует вас! — неожиданно глубоким басом сказал человечек и приподнял шляпу над лысой круглой головой. — Не являетесь ли вы случайно холостячкой, ибо предо мной остро стоит вопрос с жильем!
— Чего? — строго спросила его тетка Мария, и тогда человек объяснил:
— Жительство буду иметь в Тагаре, потому интересуюсь жилплощадью!
Поняв, повариха обиделась: закрывая окно, сказала:
— Сам ты холостяк! У тетки Марфы фатера свободная.
Человечек продолжал с прежним любопытством озирать площадь и прилегающие к ней улицы — пустынные и пыльные. В этот средний час Тагар работал, в домах сидели только старики со старухами, да шарились по улицам ребятишки, которые уже заметили необычного человечка и потому густо шли на площадь. Каждого из них человечек встречал вежливым сниманием шляпы, а
420
когда молчащих и удивленных мальчишек стало много, он еще раз снял шляпу и спросил:
— Братья-мальчишки, скажите Семену Лукичу Сют- кину, кто в этой милой деревеньке носит имя тетка Марфа?
Ребятишки молчали, напряженно осматривая человечка и его шляпу. Нездешний, чудной был он.
— У нас не деревенька, а рабочий поселок! — басом ответил белоголовый мальчишка.
— Мерси, сто раз мерси! — уважительно закланялся человек и улыбнулся виновато. — Кто меня проведет к тетке Марфе?
— Отчего не провести, — сказал тот же мальчишка. — Провести всегда можно...
— Ах, ах, будьте добры! — раскинув руки и снова кланяясь, попросил человек. — Семен Лукич Сюткин любит детей!
Он двинулся в путь, тесно окруженный ребятишками, которые, стараясь пробиться к человечку, мешали ему шагать, но человечек улыбался радостно. Они прошли метров сто, как раздался тоненький детский вскрик:
— Ого! Он пьяный! От него водкой пахнет!
Процессия остановилась; человек поставил на землю
чемоданы, близоруко прищурившись, нашел среди мальчишек того, что сказал про водку, положил ему руку на плечо и торжественно сказал:
— Малыш! Ты не прав! Во-первых, Семен Лукич Сюткин не пьян, а слегка выпивши, а во-вторых... —• Человек задрал руку, театрально потряс ею и продолжил возвышенно: — А во-вторых, малыш, Семен Лукич Сюткин никогда не пьет водку. Он употребляет только и только тройной одеколон!
После этого он опустил руку и предложил:
— Можете понюхать, малыши!
Его понюхали.
— Он, — сказал белобрысый, мальчишка. — Мой батька, как побреется, им мажется.
— Вот видите! — радостно сказал человек. — Ну, грядем же к тетке Марфе!
В доме у тетки Марфы человек повел себя тоже необычно: он подошел к ней, притронулся к пуговице на Марфиной тощей груди и сказал:
— Мне, конечно, больше нравятся по комплекции полные, но кто-то ведь должен любить худых женщин!
Человек говорил приглушенно, ласкал светлым взгля¬
421
дом пожухлые плечи Марфы. Ничего не поняв, она все- таки почему-то не убирала его руку с пуговицы.
— Я двести рублев за месяц беру с кормежкой! — сказала она визгливо. — Да чтоб не приходить поздно ночью, я от этого завсегда просыпаюсь.
— Цена правильная! — деловито сказал человек. — Поздно ночью я приходить ие буду. Задаток сто рублей — получите! Прошу указать место для спанья и размещения чемоданов.
Тетка Марфа снова ничего не поняла, но ассигнация радужно сверкала под носом, и она молча показала на широкую лавку, потом, приподняв ситцевую занавеску, ткнула пальцем в сторону кухонного стола, затем показала на русскую печку. Человек молча наблюдал за ней, а когда тетка Марфа кончила жестикулировать, сказал:
— Мне квартира нравится. Кроме того, я люблю вдов.
— Живи! — хрипло ответила тетка Марфа, испуганно глядя на него, так как человечек сделал руками такое движение, какое делает фокусник перед тем, как вынуть из пустого ящика сизых голубей. Шляпа по- прежнему была у него на голове — из-под лепестков глядели радостные щедрые глаза.
— Раз, два, три! — сосчитал человек и открыл первый чемодан. — Я словно знал, что вы будете худой комплекции!
Он вложил в руки тетки Марфы цветастый полушалок, такой яркий, что Марфа накатом покраснела, а ребятишки в дверях и окнах загалдели. Человек покачал головой и погрозил им пальцем, потом вопросительно посмотрел на Марфу, которая продолжала держать вчуже на плечах яркий полушалок.
— Разве он вам не нравится? — спросил человечек.
— Нравится, — робко ответила тетка Марфа.
Человек, снова нагнулся над чемоданом, тем же жестом фокуоника достал начищенный до блеска мастерок, уровень, очки-фильтры, брезентовый фартук, молоток, щипцы-кусачки, несколько долот; затем пошли бритвы и точильные, брусья, пульверизаторы с резиновыми грушами, флаконы с одеколоном, коробочки с пудрой, две машинки для стрижки и несколько чистых парикмахерских простынь. Все это на глазах изумленных ребятишек и тетки Марфы человечек выложил на пол и хозяйственно оглядел. Очень довольный собой, он с приятностью улыбнулся.
422
— Ах! Ах! — прокудахтал он. — Ах-хах!
Потом человек выбросил в воздух правую руку:
— Дети! Цветы жизни! Грядите по вашему рабочему поселку, которому имя деревня, сообщите всем-всем, что приехал на жительство Семен Лукич Сюткин — печник, парикмахер и великий артист. Кладу печки, брею бороды и божественно играю в пьесах незабвенной памяти драматурга Островского, а также Уильяма Шекспира!
Ребятишки не дыша смотрели «а него, таращили глаза, а потом тот самый, что уловил запах алкоголя, восторженно воскликнул:
— Мистер-Твистер!
Ребятишки недавно читали в школе стихотворение Маршака под таким названием, потому им показалось, что человек в шляпе похож на Мистера-Твистера. Это же была первая шляпа на татарской земле!
— Мистер-Твистер! Мистер-Твистер! — в восторге кричали ребятишки. — Мистер-Твистер, бывший мини- стер...
— Неплохо придумано! — радостно улыбнулся человечек.
Так Семен Лукич Сюткин стал Мистером-Твистером.
2
Свою деятельность в Тагаре Мистер-Твистер начал с печного дела.
В понедельник, в семь часов утра, сытно позавтракав яичницей, молоком и малосольными огурчиками, изысканно поблагодарив Марфу, с холщовой сумочкой он пришел в центр Тагара, где стоял дом учительницы Садовской. Мистер-Твистер старательно вытер ноги о половичок на крыльце, оглушительно покашляв, деликатно постучал в дверь. Ему тотчас же открыли — на пороге стояла сама учительница Садовская, дама маленького роста, подвижная и веселая. Она по-мужски крепко держала в пальцах самокрутку из злого табака. Чему-то улыбнувшись, Садовская дружески кивнула Мистеру- Твистеру. Он солидно прошагал в дом, поклонился пустой прихожей и сказал:
— Все человеческие слабости имею, а вот страсти к курению лишен. Причину этого найти не могу, хотя неоднократно задумывался.
423
— И никогда не курили? — заинтересованно спросила Садовская.
— Не мог-с! Пытался, но, извините, не мог-с! — тоном великого сожаления ответил Мистер-Твистер. — Прошу допустить к лицезрению калорифера!
Учительница Садовская, не поняв его, удивленно подняла брови, остановилась даже, и Мистер-Твистер спокойно объяснил, что печки он называет калориферами, иного названия принципиально не приемлет и с большим удовольствием называл бы себя калориферщиком, если бы деревенский и городской люд понимал это слово. Говоря, Мистер-Твистер снисходительно смотрел на учительницу, аристократически щурил глаза, чуточку картавил на французский лад, так что слово «калори- ферщик» у него звучало как «кагагифещикь». Слушая его, Садовская оживленно курила, морщила нос, смеялась, а когда Мистер-Твистер закончил, сказала радостно:
— Интересный, хороший человек!
— Так сотворен-с! — коротко и важно ответил он.
Введенный в комнату, Мистер-Твистер к печке не
пошел, а остановился как можно дальше от нее. Склонив голову, он сначала бегло осмотрел нелепое кирпичное строение, затем по-снайперски пронзительно прищурил глаза и строевым шагом подошел к печке. Открыв дверцу топки, Мистер-Твистер заглянул в нее и даже сунул руку.
— Интэрэсно! — прошептал он. — Интэрэсно!
Теперь Мистер-Твистер печку рассматривал дотошно
и въедливо — то склонял голову набок, то потирал руку об руку, то вздыхал тоненько и страстно. Голубые, светлые, наивные глаза загорались, тухли, нечто похожее на священный жреческий трепет виделось в них. Минуты две Мистер-Твистер находился в движении и страстях, потом же мгновенно успокоился.
— Лицезрение окончено! — торжественно сказал он и сел на гнутый венский стул. — Прошу и вас садиться, уважаемая!
Радостно морща нос, забывая затягиваться злым самосадом, учительница села напротив Мистера-Твистера. Приняв все это как должное, он положил ногу на ногу, доброжелательно помаргивая ресницами, неторопливо заговорил:
— Во-первых, я должен вам сказать, что мастер, знающий себе цену, не станет хулить другого мастера!
424
Потому вашего слуха не коснется мое чернящее слово! — Он поднял вверх мальчишеский худой палец. — Не коснется! Во-вторых, уважаемая, скажу, что предыдущий мастер явных ошибок не сделал. Его ошибка, уважаемая, как бы сказал незабвенной памяти драматург Шекспир, в сени скрывается дерев!
— То есть? — восторженно спросила учительница.
— Культурность вашу мастер не учел, — перейдя окончательно на торжественность шекспировского стиха, ответил Мистер-Твистер. — Голландка эта для дома деревенского сугубо, а особняк ваш три комнаты включает. Вот так-с, уважаемая!
После этого Мистер-Твистер распахнул пиджак, сунул пальцы за пояс падающих штанов и оценивающе прищурился — он переводил взгляд с печки на учительницу, соединял их вместе, опять разъединял. Мис- тер-Твистер был хмур, напряжен. Трудную работу выполнял он и не скрывал этой трудности.
— Не премину заметить, уважаемая! — наконец сказал он. — Не премину заметить, что при назначении цены хотел бы видеть присутствие вашего молодого и образованного сына!
— Володька? — удивилась учительница. — Он же не знает, почем хлеб!
— Извините-с! — важно сказал Мистер-Твистер. — Все равно мужчина!
Смеясь, Садовская пошла в соседнюю комнату, пробыла там минут пять — раздавался то сердитый, то смеющийся ее голос. Затем учительница вернулась и стала рядом с Мистером-Твистером.
— Доброе утро!
Задев плечом за косяк двери, вошел в комнату молодой и образованный сын — тонкий, сутулый, лохматый, одетый в потешно длинные трусы. Поддернув их, сын учительницы сердито спросил:
— Чего тебе надобно, старче? Разве ты не знаешь, черт меня возьми, что я вчера до двух часов ночи репетировал!
— С тобой хотят посоветоваться, — показывая глазами на Мистера-Твистера, сказала учительница. — Проснись, оболтус!
Только теперь молодой и образованный сын учительницы заметил Мистера-Твистера, скромно сидящего в сторонке. Мистер-Твистер с достоинством поднялся, раскланявшись, протянул утлую, но энергичную руку.
425
— Семен Лукич Сюткин, прозванный местными ребятишками Мистером-Твистером! — представился он. — Прошу любить и жаловать!
Молодой и образованный сын сонно улыбнулся:
— Здравствуйте, Мистер-Твистер! Я много слышал о вас!
Сонное выражение сползало с полумонгольского лица сына учительницы, глаза блестели, и он сделался очень похожим «а мать — только длинной самокрутки и маленького роста не хватало ему, чтоб быть матерью.
— Чем могу служить? — спросил молодой и образованный сын, неумело сдвигая рыжие прямые брови. — Трое составляют совет!
Мистер-Твистер почтительно стоял. Парикмахерская услужливость и городской лоск, готовность услужить и надменность, уничижительность и гордость боролись в нем.
Но потом все это исчезло, Мистер-Твистер озабоченно швыркнул носом и сказал:
— Хочу объяснить свое поведение! — Он сел на венский стул, закинул ногу на ногу. — Калорифер в вашем доме я в первую очередь решил воздвигать потому, что вы, молодой человек, являетесь, как и я, слугой покорным Мельпомены! Я сумел разузнать, что вы будете режиссером местного драмкружка. Так это?
— Именно так! — ответил молодой и образованный сын, счастливыми глазами посмотрев на мать. — Вы театральный любитель, Мистер-Твистер?
— Томск и Шегарка, Новосибирск и Камень, сотни сел и деревень видели на своих самодеятельных подмостках игру Семена Лукича Сюткина, прозванного местными ребятишками Мистером-Твистером! — продекламировал Мистер-Твистер и встал в позу героя, которому вложили в руку шпагу. — Зал сотрясался от рыданий и смеялся до слез! Играю Любима Торцова в пьесе «Бедность не порок» незабвенной памяти драматурга Островского и короля Лира в пьесе одноименной великого лицедея Уильяма Шекспира!
— Вы будете играть! — ответил тем же торжественным, напыщенным слогом молодой и образованный сын учительницы, не замечая, как смеется его мать. — Я зачисляю вас в драмкружок! Сегодня в семь — репетиция!
— Рад! Счастлив! Прельщен! — щелкнув каблуками,
426
ответил Мистер-Твистер и деловито посуровел: — Приступаю к назначению цены.
Теперь он соединял и разъединял взглядом печку, учительницу и ее молодого образованного сына, взвешивал и оценивал их на собственных невидимых весах. Эта работа была трудна, и на лбу Мистера-Твистера показались капельки пота. Он дважды вставал и дважды садился, встав же в третий раз, сказал:
— Семьдесят пять рублей и двенадцать бутылок тройного одеколона! Калорифер будет называться «фан- тази». Конструкция — моя!
Когда учительница и ее сын наконец поняли; что такое двенадцать бутылок тройного одеколона, Садовская просительно обратилась к Мистеру-Твистеру:
— Семен Лукич, но нельзя ли сделать так? Я дам деньги, а вы сами купите одеколон.
— Никак нельзя! — сурово ответил Мистер-Твистер. — Когда одеколон покупаете вы, я его употребляю с легким сердцем.
Все трое внимательно смотрели на печку, молчали, весело поглядывая друг на друга.
— Да! — озабоченно сказал Мистер-Твистер. — При работе люблю зрителя. Так что прошу разрешить свободный доступ в дом ребятишек и всех желающих!
— Пожалуйста, пожалуйста! — радостно сказала учительница Садовская.
3
На третий день Мистер-Твистер заканчивал работу над печкой «фантази» собственной конструкции. Двенадцать ребятишек, два старика и учительница Садовская внимательно и жадно следили за Мистером-Тви- стером.
Печка выросла круглой и многоэтажной; сложенная из плохо обожженного кирпича, походила она двумя нижними опоясками на домну, верхним ярусом — на шахматную ладью, а по размерам была в два раза меньше прежней. Печка удивляла и пугала ребятишек, стариков и учительницу необычностью, странной легкостью и тем, что казалась падающей. Да, да, эта печка стояла так, что, глядя на нее, учительница вспомнила знаменитую падающую башню в Пизе. Печка падала, и падала,
427
на взгляд, стремительно, так что два старика и учительница располагались на почтительном расстоянии от нее. Ребятишки, те и вовсе грудились за открытыми окнами и дверью.
Мистер-Твистер, сурово сдвинув брови, работал. С са- .мого утра он ни разу не посмотрел на зрителей, не замечал их так прочно, словно в комнате на самом деле никого, кроме него, не было. Трагически были прищурены рыжие ресницы, принципиальным бантиком сложены губы, нос как бы навечно прошмыгнут. По-прежнему обнимала голову шестью лепестками измызганная шляпа, из-под которой независимо смотрел круглый красный нос.
Мистер-Твистер вмазал металлическую дверцу, ласково огладил рукой застывающий в пазах раствор, ото- шедши ровно на три шага, посмотрел на дверцу испытующе. Что-то не понравилось ему, он опустился на корточки, покачивая головой, укоризненно зацыкал. Потом Мистер-Твистер стремительно, словно подхваченный вихрем, бросился к печке, но, чуточку не добежав до нее, опять присел на корточки, застыл в горестной позе. Отчаяние и безнадежность виделись в его согнутой спине, трагедией веяло от жалобно искривленной шеи, квадратные уши обреченно висели.
Ребятишки, два старика и учительница Садовская молчали спокойно — они не только привыкли к тому, что вытворял Мистер-Твистер, но уже знали, что за этим последует. Посидев на корточках, он снова бурно, провыв нечленораздельное, бросился к печке, пальцами чуткими и напрягшимися притронулся к дверце и залился тоненьким хлюпающим смехом.
— Эврика! — счастливо вскричал Мистер-Твистер. — Эврика!
Он со злобой вырвал вмазанную дверцу из старого гнезда, пал пред печью на колени и начал сызнова осторожно вмазывать дверцу.
— Весь век учись! — пробормотал он, елозя задом по полу. — А дураком помрешь!
Сложную, но довольно однообразную пьесу играл Мистер-Твистер. Это была горестная история о том, как два человека живут в одном человеке. Один из них разговаривает басом, второй — баритоном; первый из них возводил бы обыкновенную голландку, второй — калорифер «фантази»; первый не хотел бы прикасаться кровоточащими пальцами к вмазанной дверце, второй —
428
теми же пальцами вырывал ее с корнем. Кладущий печку Мистер-Твистер был театром двух актеров. Наверное, поэтому и не смотрел он на зрителей, что не могут из одних и тех же глаз смотреть два человека одновременно!
Вмазав дверцу вторично, Мистер-Твистер осторожно, на цыпочках, двигаясь вперед спиной, отходил к дальней стене комнаты. Остановившись, посмотрел на печку исподлобья, смерил ее с ног до головы, как женщину, ничего не выразив на лице. Потом Мистер- Твистер на несколько минут замер, плотно закрыв глаза. Минуты через четыре он открыл глаза и сказал грозно;
— Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?
— Тебе лучше знать — ты человек городской! — ответил старик с палкой.
Мистер-Твистер упал плоским задом на табуретку, до боли в коже начал тереть лицо. Затем он еще раз каменно замер, а потом пружинисто вскочил:
— Алле-гоп!
Голубые, светлые, наивные глаза Мистера-Твистера смотрели на зрителей трезво и весело. Держа на отлете руки, кандибобером он прошелся по комнате, сев на гнутый стул, сказал:
— Калорифер, уважаемая, готов! Прошу принести вязаночку дров для окончательных испытаний!
Смеясь глазами, он глядел на учительницу, потом перевел взгляд на мальчишек и стариков, затем поднял обе руки.
— Уважаемые товарищи! — торжественно пропел Мистер-Твистер, — Прошу минуточку внимания! Спасибо! Дорогие товарищи зрители, не кажется ли вам калорифер кривым? Не представляется ли вам, что он может упасть?
— Представляется! — сказала учительница Садовская. — Очень, даже!
— Тебе лучше знать — ты человек городской, — сказал старик.
— Вопросов больше не имеется! — сказал Мистер- Твистер и, встав, пошел церемониальным шагом к печи. Поднявшись на табуретку, Мистер-Твистер быстро и ловко провел по торцу печки известковую полосу. После этого он вернулся на прежнее место, сел и ласково улыбнулся.
429
— А теперь что? — наивным деревенским голосом спросил он. — Теперь что, спрашиваю?
Замечательно прямая, удивительно стройная, воздушно-легкая печка, похожая теперь только на шахматную королеву, стояла в комнате.
— Вот так-то, уважаемая! — философски-задумчиво сказал Мистер-Твистер. — Это он казался косым по той причине, что очень даже прямой. Так, уважаемая, бывает! Если калорифер прямой, то кажется косым, если косой — то кажется прямым! — Он грустновато вздохнул. — Вот и с людьми бывает так же! Прямой оказывается косым, косой — прямым... А теперь тащи дрова, уважаемая!
Обильно политые керосином дрова взялись дружно. Громогласно захлопнув дверцу, Мистер-Твистер сел на прежнее место и даже бровью не повел, когда из печки повалил черный керосиновый дым. В комнате зачихали, закашляли, задвигались, но Мистер-Твистер прикрикнул:
— Терпи! Калорифер сырой!
Вскорости дым разошелся, в комнате развиднелось, и все вдруг услышали утробный рокочущий звук — наперебой стреляли поленья, гудело в трубе, пело в дверце. Потом что-то грохнуло, словно прорвалось, и, как паровозная топка, как вагранка, загудела печка типа «фантази» собственной конструкции Мистера- Твистера.
Учительница Садовская прислушалась к ее рокочущему голосу, и ей показалось, что дом сдвинулся с места, поплыл пароходом в дальность и круговерть. Освобождаясь от наваждения, Садовская тряхнула головой и услышала озабоченно-деловой голос Мистера-Твис- тера.
— В воскресенье показываю стрижку и бритье! — говорил он, складывая инструмент в холщовый мешочек. — Прошу разнести молву об этом по весям рабочего поселка! Адью!
Мистер-Твистер низко поклонился и под веселый, самолетный уже гул печки пошел к выходу. Шестью лепестками обнимала голову шляпа, кургузо торчал застиранный вельветовый пиджачок, но шел Мистер-Твистер походкой короля Лира в тот момент, когда, поняв призрачность бытия, духом и телом вознесся король к не¬
430
тленности разума и вечности жизни. Однако в дверях «король Лир» задержался:
— Прощайте! Я сделал все, что мог, пусть другой сделает лучше!
4
В воскресенье утром на дворе тетки Марфы, заросшем лебедой, Мистер-Твистер устанавливал табуретку, к которой собственноручно прибил три палки буквой П. Он обтянул их старым мешком, в мешок натолкал солому, и стала табуретка походить на форменное парикмахерское кресло. Мистер-Твистер внимательно осмотрел его и сквозь зубы сказал:
— Окаменелость!
Пока он устанавливал кресло, тетка Марфа с испуганными глазами по одной вещичке вытаскивала на двор бритвенные принадлежности. Длинная новая юбка на Марфе раздувалась от старательности, босые ноги переступали мелко, как в танце, и каждый раз, сбегая с крыльца, смотрела Марфа длинно и робко на Мистера-Твистера. В седьмой раз тетка Марфа поволокла из дома большое, засиженное мухами и заклеенное по углам фотографиями зеркало. Она его спускала с крыльца, когда Мистер-Твистер услышал ее посапывание и вздохи.
— Для мужской работы существуют мужчины! —■ строго сказал он.
Мистер-Твистер сам отнес на место и установил зеркало, потом сел в кресло и затих. Он был в шляпе, в белой пахнущей стиркой рубахе, на ногах блестели новые калоши, которые приятно поскрипывали, когда он задевал ими друг о друга. Склонив голову, Мистер- Твистер смотрел в утреннее небо.
За тальниками, за серой излучиной Оби взошло солнце. Алое, как перезрелый арбуз, без ножек-лучей по раннему времени, оно тяжело лежало на тальниковых ветках, светило хорошо и мягко — лежал нежный свет на тополиных листьях, скользил осторожно по сосновым иголкам, пробивался в тьму темную ночи, что таилась в кронах. Ласков был утренний солнечный свет, и мир отвечал ему на это ласковой и нежной приглушенностью.
— Эх, Марфа! — печально сказал Мистер-Твистер. — На это и живет человек, чтобы глядеть, как
431
всходит солнце! А мы рази смотрим на него? Мы на себя самих всю жизнь смотрим, словно это мы солнце- то! Эх, Марфа, Марфа, Марфа-Посадница!
Марфа не поняла Мистера-Твистера, но на ласковопечальный голос его потянулась трепетно и безвозмездно — неслышно ступая босыми ногами, подошла, села рядом с креслом, на волглую от росы траву. Грязнила свою новую юбку Марфа, но спиной прижалась к худой ноге Мистера-Твистера. Смотрела туда же, куда смотрел он, — в даль дальнюю, в белое и нежное небо.
— Эх, Марфа, Марфа-Посадница! — тихо повторил Мистер-Твистер, кладя руку на голову Марфы. — Тишина какая! Себя слышно.
Пальцы Мистера-Твистера перебирали волосы Марфы, ласкали, нежили; невесомой и в то же время тяжелой была его рука. Съежилась в комочек под ней тетка Марфа, испуг медленно уходил из глаз — большими стали, светлыми. Когда Мистер-Твистер погладил Марфу по щеке, она схватила его руку и прижалась к ней.
— Мистер-Твистер! — прошептала она. — Окаянный!
Он не убрал руку — еще глубже посмотрел в небо, на красный солнечный круг.
— Некрасивую бабу надо сильно любить! — сказал он. — Красивая-то сама себя любит. Ах, Марфонька, касаточка моя!
Солнце сползало с тальниковых ветвей, просвечивало и меньшилось в размерах. Тянулись уже ноги-усики, понемногу уже покручивалось солнце возле невидимой оси. Выступали спрятанные миром ранее детали — на тополе вдруг появилась тонкая ветка, которой раньше в помине не было, на конце крыши сидел, оказывается, нахохлившийся воробей.
— Кто здеся бреет-стрижет, ай, отзовись! — раздался за калиткой робковатый голос. — Примайте гостей!
— Милости просим, милости просим! — кланялся Мистер-Твистер, задом отступая от входящего во двор клиента, на голове которого росли восхитительные космы. — Милости просим!
Как только клиент добрался до странного кресла, из-за забора, как по команде, высунулись головы ребятишек, а когда клиент садился в кресло, деловым рабочим шагом вошли те два старика, что присутствовали при кладке печи. Поздоровавшись, старики уселись на бревна, положили черные руки на палки.
432
— Печки ты кладешь баские, это уже слыхом слыхать, — угнезживаясь в кресле, говорил первый клиент. — А про то, как ты бреешь-стрижешь, разговору еще не было. Печки ты, конечно, кладешь баские, как насчет стрижки — это посмотреть надо.
— «Фокстрот», «полька», «бобрик» и прическа «фантази»! — пощелкивая ножницами, покрикивал Ми- стер-Твистер. — Прическа «фантази» собственного изобретения. Так как вы хотели видеть себя постриженным?
Вот так говорил Мистер-Твистер, и теперь было окончательно ясно, что за креслом парикмахера он играл роль местечкового мастера-еврея.
Он прищурил глаз, пощелкал в воздухе ножницами, произнес тоненько:
— Вы думаете, «фокстрот» или «полька» — очень хорошо! Это, может быть, хорошо для мальчишки, а для вас, такого человека, который сам ловит рыбу, это плохо. Так я вам советую все-таки приобрести приче- сочку «фантази». Если вам нравится мой калорифер «фантази», так почему не понравится моя прическа «фантази»?
— Валяй под «фантази»! — гаркнул клиент и закрыл глаза. — Валяй как хошь!
— Тебе лучше знать, ты человек городской, — сказал старик с палкой.
Мистер-Твистер отошел от клиента метров на пять, точно так, как два дня назад смотрел на печку, нацелился на его лохматый затылок. Левый глаз Мистера- Твистера был прищурен, снисходительно-барская усмешка держалась в губах. И точно так, как во время кладки, Мистер-Твистер, рассмотрев голову клиента из отдаления, с утробным ревом бросился на нее. Ножницы заскрежетали и заполыхали на солнце.
— Мистер-Твистер! — спросил белоголовый мальчишка, висящий на заборе. — Ты чего же одеколон-то не пьешь?
Мистер-Твистер остановился, щелкнул в воздухе ножницами и громко ответил:
— В воскресенье Семен Лукич Сюткин не пьет! В воскресенье и так весело!..
До трех часов дня Мистер-Твистер стриг и брил, потом делал прически «фантази» деревенским модницам, а время, оставшееся до темноты, потратил на бесплатную стрижку ребятишек. Солнце ушло за тальники, побрызгав на земле предзакатными цветными пятнами,
28 Виль Липатов, том 4
433
совсем скрылось, когда Мистер-Твистер прекратил работу.
— Прием окончен! — важно сказал он и устало поклонился. — Через три недели приглашаю уважаемую публику на премьеру пьесы незабвенного драматурга Островского «Бедность не порок». Семен Лукич Сют- кин, прозванный ребятишками Мистером-Твистером, играет роль Любима Торцова. Разнесите об этом молву по весям поселка!
5
За две недели Мистер-Твистер сложил еще три печки «фантази», голландку, отремонтировал плиту в правлении колхоза, в очередное воскресенье опять брил и стриг. И каждый вечер Мистер-Твистер репетировал «Бедность не порок» под руководством молодого и образованного сына учительницы.
Тщательно отмывшись от раствора и кирпичной пыли, имея на ногах новые вельветовые штаны, на плечах красную рубаху старинного покроя, на голове шляпу, Мистер-Твистер шел на репетицию, держа в руках старинный зонтик-трость, которым помахивал на манер Чарли Чаплина. Сурово стуча зонтиком, Мистер-Твистер шел по пустому клубному залу, поднимался на сцену, не здороваясь, трагически смотрел на молодого и образованного режиссера.
— Вдохновляетесь? — строго спрашивал Мистер- Твистер.
— Здравствуйте! — со вздохом отвечал режиссер- постановщик. — Занимайте свое место!
С той минуты, как Мистер-Твистер поднимался на сцену, начинались страдания режиссера — он заикался, бледнел, впадал в мальчишеские истерики, обессилев, минут пять сидел в трансе на режиссерском стуле. Иногда сын учительницы, не выдержав, бросал на пол бутафорскую посуду из купеческого быта.
— Искусство требует жертв! — неизменно отвечал на это Мистер-Твистер и сардонически улыбался. — Охотно подожду!
Режиссер-постановщик впадал в истерику потому, что еще на первой репетиции выяснилось — Мистер- Твистер роль Любима Торцова знает назубок, но в текст Островского вставляет свои, мистер-твистерские слова.
434
В пьесе «Бедность не порок», которую молодой режиссер держал в руках, было написано:
ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ Митя и Любим Карпыч
Любим Карпыч. Митя, прими к себе купеческого брата Любима Карпова сына Торцова.
Митя. Милости просим.
Любим Карпыч (садится). Брат выгнал! А на улице в этом бурнусе немного натанцуешь! Морозы... время крещенское — бррр!.. И руки-то озябли, и ноги-то ознобли — бррр!
Митя. Погрейтесь, Любим Карпыч.
Любим Карпыч. Ты меня не прогонишь, Митя? А то ведь замерзну на дворе-то... как собака замерзну.
Митя. Как можно, что это вы говорите!
Вот что лежало под носом молодого и образованного режиссера-постановщика, а на сцене произошло черт знает что! Правда, Мистер-Твистер свой первый выход на сцену обставил эффектно, правда, он не опоздал ни на минуту и даже первую реплику произнес правильно.
— Митя, прими к себе купеческого брата Любима Карпова сына Торцова! — сказал Мистер-Твистер, и драмкружковцы похолодели — столько одиночества и горя было в его словах. — Прими, Митя!
Естественно пьяно качнувшись, Мистер-Твистер добросовестно выслушал реплику Мити, трагически и обреченно опустился на стул. Шесть лепестков шляпы обнимали несчастную голову, лежали бессильно на коленях руки, сверкал гордовато-презрительно глаз. Живой Любим Торцов сидел на сцене, и режиссер-постановщик поежился.
— Ты меня не прогонишь, Митя? — тихо спросил Торцов — Мистер-Твистер. — Ноне ведь в Томске холодно! Замерзну я на вокзале-то, как собака замерзну!
— Стоп! — заорал ошарашенный режиссер-постановщик. — Какой Томск, какой вокзал?
Мистер-Твистер сидел в прежней трагической позе Любима Торцова. Медленно-медленно приходил он в себя, а когда вернулся в реальный мир, то, усмехнувшись, сказал:
2
435
— Великие авторы уважали отсебятину! А я даю не просто роль, а роль «фантази». Так что прошу не мешать репетировать! — Он сделал великодушный жест, но потом вдруг сказал общительно: — А что касаемо томского вокзала, то его зимой шибко плохо топят. Собаки не выдерживают!
И начинались мучения молодого и образованного режиссера: в неожиданных местах Мистер-Твистер вставлял отсебятину, да такую, что драмкружковцы иногда валились с ног от смеха, иногда долго стояла непонятная тишина, которая заканчивалась истерикой постановщика. Мистер-Твистер (на все это сардонически улыбался, замечания выслушивал, брань и крик принимал, но продолжал прежнее. Иногда Мистер-Твистер говорил уверенно: «В этой роли меня народ принимает!»
Последнюю печку Мистер-Твистер сложил в четверг, за два дня до премьеры; переодевшись в кабинете председателя колхоза, домой не пошел, а тихонечко двинулся к околице деревни. До репетиции оставалось еще два часа, и Мистер-Твистер шел да шел пыльной от жары дорогой. Смотрел он в землю, так что не заметил, как дорога привела на крутой берег Оби. Мистер-Твистер вздохнул и выпрямился.
В пять часов пополудни вода в Оби походила на расплавленный металл — широкие берега и ветлы не отражались в ней, блики и волны не бродили, вольный ветерок не дул. Мертвой, металлической казалась река, и мертвая, металлическая тишина висела над ней. Беззвучно пролетели две чайки, окаменев от жары, висел в белом небе коршун, стыла на мертвом плесе мертвая лодка. В неподвижной вечности лежала у ног Мистера- Твистера река.
За три недели жизни в Тагаре Мистер-Твистер ни разу не был на Оби, но вот пришел к ней и сидел молча — болели глаза от блеска, маялась душа, тяжелело тело. Маленький, затерянный на высоком берегу, сидел Мистер-Твистер, в тишине боялся вздыхать. «Мать честная!» — подумал он. И застыл, затаился. Сколько сидел он так, сказать трудно, а пришел в себя от сладких вздохов, от страстного дыхания.
— Ого-го! — удивился Мистер-Твистер, приподнявшись. — Дорогой!
Над ним стоял пестрый теленок. Как бы отталкиваясь от широко расставленных передних ног, изгото- вясь к прыжку назад, теленок длинно вытягивал шею,
436
стараясь достать розовым языком щеку Мистера-Твистера. Глядели преданно бессмысленно-ласковые телячьи глаза, стекала детская слюнка с губ, дышали хлебным теплом нежные ноздри.
— Теленок! — высокопарно произнес Мистер-Твис- тер. — Тебе тоже плохо, теленок?
6
Во время премьеры, в антракте, местные франты стояли возле сцены, пересмеиваясь, поглядывая в зал. Носили они чудовищно широкие брюки, спортивные майки с короткими рукавами, широкие ремни с военными пряжками, а на девушках-франтихах топорщились платья с оборками, волосы обнимали специальные полукольца.
Стоял возле сцены приехавший на побывку послевоенный лейтенант Вася Манголин с лицом добрым и мужественным; ходил по залу колхозный тракторист Ванюшка Анисимов, подражающий актеру Крючкову из военных фильмов; вертели головами с прической «фантази» колхозные доярки; сидели в первых рядах в толстых куртках с глухими воротниками председатель колхоза, председатель сельсовета и директор маслозавода Манголин.
Уже прошло два действия комедии «Бедность не порок», уже Любим Торцов — Мистер-Твистер срывал несколько раз бурные аплодисменты, уже пожилые женщины заранее поплакивали в платочки при его появлении на сцене, уже счастливая Марфа в третий раз рассказывала, что ест и где спит Мистер-Твистер, но до конца было еще порядочно. На сцене грохотали молотками и ругались, голос молодого и образованного ре- жиссера-постановщика доносился до задних рядов; его мать посмеивалась, сидя среди председателей.
Минут через двадцать молотки замолкли, режиссер- постановщик истошно закричал, что-то упало с разбитой обреченностью, потом опять постояла глухая тишина, и занавес неровно пополз в стороны. Сперва открылась левая сторона, затем правая, и постепенно обнажилась вся сцена, посёредь которой стоял пышный диван. Он первый раз появился в пьесе, и по рядам прокатилось:
Манголинский диван!
437
Директор маслозавода Манголин, сидящий с сыном- лейтенантом в первом ряду, смущенно-гордо улыбнулся, а лейтенант едва приметно свел на переносице невидимые от белобрысости брови.
— Не ждали-то, матушка, не чаяли, — сказала Арина из драматурга Островского голосом восьмиклассницы Любки, одетой в старушечье платье. — Налетел ястребом, как снег на голову, вырвал нашу лебедушку из стада лебединого, от матушки, от батюшки, от родных, от подружечек...
Пожилые женщины немедленно поднесли платки к носам, пригорюнились; построжал совсем глазами председатель колхоза; прокашлялся решительно директор Манголин. И пьеса пошла ладно и споро — любители выходили на сцену без опозданий, реплики произносили своевременно, от волнения не путались — третий акт! — играли старательно, до неистовости добросовестно, так как зал слушал пьесу самоотверженно. Замерев, сидели зрители, жарко дышали взволнованно открытые рты, блестели от света рампы искренние страдающие глаза. Пощелкивали от сдерживаемых движений рассохшиеся стулья, иногда на весь зал раздавался дружный страдательный вздох пожилых женщин.
Зал ждал появления Мистера-Твистера — это слышалось в чуткой тишине, замечалось по тому, что время от времени пожилые женщины и ребятишки смотрели на счастливую Марфу. Чувствуя взгляды, она старалась ее обертываться из начальничьего первого ряда, но не выдерживала — сверкали большие, страшноватые на худом лице глаза. На спине Марфы, ласково обнимая, лежал подаренный Мистером-Твистером полушалок.
Наконец Мистер-Твистер вышел на сцену. Он, как и полагается, как учил молодой и образованный режиссер, смешался с толпой, в трагическом величии сверкал глазом из-под шляпы с шестью лепестками. Гордость и все несчастья мира лежали на его потрепанной фигурке. И так величественно он стоял в толпе, что не смешивался с ней, не терялся, будучи маленький ростом. Затих, притаился зал. Марфа сглотнула слюну, ойкнул белобрысый мальчишка, старик с палкой одобрительно покачал головой, прищурился директор Манголин.
— Брат, отдай Любушку за Митю! — сказал Мистер-Твистер — Торцов и вышел из толпы. — Брат, отдай Любушку за Митю!
Он это так сказал, что Гордей Торцов помолчал
438
немного, но потом, взяв себя в руки, по пьесе стал поносить пьяницу брата. Он кричал и топал ногами, а Мистер-Твистер — Торцов все ближе и ближе подходил к нему, сверкая королевским глазом.
— Брат, отдай Любушку за Митю, — в третий раз сказал он.
И молодой образованный режиссер, играющий Гордея Торцова, снова опешил: Мистер-Твистер не упал старшему брату в ноги, как полагалось по ремарке, а обратился к залу.
— Брат, отдай Любушку за Митю! — в зал потребовал Мистер-Твистер.
— Отдавай! — крикнул из задних рядом белобрысый мальчишка.
— Надо бы отдать! — сказал старик с палкой.
Зал зашумел, но Мистер-Твистер успокаивающе поднял руку.
— Человек ты или зверь? — трагически и царственно спросил он. — Пожалей ты Любима Торцова! Вот не смогу я класть печки, брить-стричь, играть роли, кто меня пожалеет! Брат, отдай Любушку за Митю — он мне угол даст! Назябся уж я, находился по земле, сколько в одной Томской области переменил городов и сел. Отдай, брат, Любушку за Митю!
На сцене не стало Любима Торцова — был только Мистер-Твистер. Это он, предугадывая печальный конец свой, просил Гордея Торцова дать угол ему и кусок хлеба, это он, Мистер-Твистер, гордый и несчастный, просил за себя. Глядел из-под лепестка шляпы один- единственный глаз, страдало маленькое, щуплое тело. Трепет прокатился по маленькому клубу, но никто не посмел перебить Мистера-Твистера. Тишина, трепетная, взволнованная, наполняла клуб.
— Гордей Карпыч, — сказала, сдерживая слезы, учительница Людмила Павловна, играющая Пелагею Егоровну, — неужто в тебе чувства нет?
— А вы в самом деле думали, что нет? — вытирая настоящие слезы, ответил режиссер-постановщик. — Ну, брат, спасибо, что на ум наставил...
Заплакали от счастья пожилые татарские женщины* Пьеса кончилась, и никто не мешал им плакать. А затем зал, осатанев, закричал от восторга — били в ладоши, стучали ногами, хлопали кепками друг друга по спине, а когда Мистер-Твистер вышел кланяться, то на его глазах блестели большие счастливые слезы.
439
— Сразу видать — городской! — сказал старик с палкой.
Вместе со всеми Мистеру-Твистеру аплодировала учительница Садовская.
Мистер-Твистер царственно кланялся.
7
На следующее утро Мистер-Твистер проснулся необычно рано — в четыре часа. В темноте протянул вялую руку к табуретке, нащупав эмалированную кружку, долго и трудно пил холодную воду. Затем на несколько минут все затихло — слышалось только трудноватое дыхание Марфы, — а уж потом Мистер-Твистер со шле- потком опустил ноги на пол.
Рассвет пролез в маленькие окна, лег дорожками на пол, выхватывая из углов предметы. Фурчала вногах у Марфы кошка; из палисадника тянуло сладким запахом созревающего хмеля.
— Финита! — прошептал Мистер-Твистер. — Конец!
Он привычно, по-утреннему, нахлобучил шляпу, потом свой будничный наряд, на цыпочках пошел за ситцевую занавеску, где стояли два фанерных чемодана.
— Финита комедия! — еще раз сказал он негромко.
Мистер-Твистер начал укладывать в чемодан мастерок и уровень, парикмахерские простыни и пульверизатор, бритвы и отвес, долота и белье, щипцы-кусачки и сквозное зимнее пальто. В последовательности, заведенной, видимо, давно, укладывал он все это, пришептывая, подмигивая сам себе, страдальчески морща голое маленькое лицо. Минут за десять все было аккуратно сложено, и Мистер-Твистер вышел из-за ситцевой занавески.
Сидя на кровати в одной сорочке, Марфа испуганно и сонно смотрела на него. Взволнованный предутренний румянец жег ее лицо, тени вчерашнего — фантастического, невозможного — бродили по губам.
— Ты чего таку рань? — спросила она, улыбаясь и потягиваясь. — Это мне надо рано-то! Вчерась порешила — пораньше вызвездюся, блины сгоношу. Ты ложись, досыпай!
Мистер-Твистер скорбно молчал. Крупные морщины на маленьком лице казались синими, рот округлился и
440
завял. Страдальчески смотрели на Марфу светлые «наивные глаза, покрытые тоненьким лаком тоски.
— Я ухожу, Марфа! — тихо и страстно сказал он.— Двадцать один день прожил, теперь ухожу!
— "Это куды? — ничего не понимая, спросила Марфа и поелозила спиной по беленой стенке. — Печку кому класть, что ли?
— Совсем ухожу, из деревни! — сказал Мистер-Твистер и пошел за занавеску. Он вернулся с двумя чемоданами, поставил их на пол. — У меня цикл завершился, Марфа!
Кошка в ногах Марфы перестала фурчать, поднялась, змеиным движением запрыгнула на колени к женщине. Женщина схватила ее, прижала к тощей груди, огладила трепетавшей рукой. Прежний вечный испуг ушел из глаз Марфы, но пришел другой.— осмысленный, бабий.
— А блины-то как? — прошептала она. — Завести ведь хотела!
Мистер-Твистер медленно опустился на колени, обхватил руками голые и теплые ноги Марфы, прижался лицом. Со стороны казалось, что нет у Мистера-Твисте- ра головы, а лежит на коленях у Марфы шляпа, состоящая из шести лепестков.
— Меня тоже надо пожалеть! — сказал он тоскливо. — Не умею я жить так, чтобы день за днем! Тоска меня съест, Марфа! — Мистер-Твистер сжал кулачки, покачиваясь из стороны в сторону, как мусульманин на молитве, пронзительно продолжал: — Что я еще покажу деревне, народу? Ничего не могу показать? Все свои печки я сложил, всех побрил-остриг, роль Любима Торцова сполнил.
Смотрел на Марфу с дремучей тоской блестящий в тени шляпы глаз, брошенные вдоль тела руки суетились пальцами.
— Ничего я народу больше показать не могу! — со стоном сказал Мистер-Твистер. — Весь я вышел, Марфа, а драматурга Уильяма Шекспира здесь не ста- вют — сил не хватает! Снова цикл начинать не могу я, Марфа! Умру от тоски!
Последним,' прощающимся движением припал Мистер-Твистер к коленям Марфы, приник, как ребенок приникает к материнской груди, отдался без остатка Марфиным коленям и ей же пожаловался:
— Сейчас я тебя люблю, Марфа, а еще поживу —
441
разлюблю! Не могу я жить, когда день за днем, день за днем, день за...
Все утишивался, исчезал голос Мистера-Твистера, раз пять, затихая, повторил он слова «день за днем»,и почудилось, что эти слова как бы растворились в его тоске. Замолчав, замер Мистер-Твистер — не двигая головой, переводил глаза с лица Марфы на ее руки, никлые плечи, на плохо беленную стенку, на одеяло, собранное из цветных кусочков. Потом Мистер-Твистер отрешенно тряхнул головой.
— Нет, не могу! — сказал он и поднялся. — Не пришла еще старость!
— Не уходи, — без выражения сказала Марфа. — Поживи еще.
После этого она поднялась, через голову надела ситцевое старушечье платье, шатаясь, медленно пошла к русской печке. Марфа громыхнула заслонкой, поскрежетала сухими щепочками растопки. Покачивалась, как на ветре, ситцевая занавеска.
— Подожди, блины на дорогу спеку, — опять без выражения сказала Марфа. — Полчаса-то ждать.
— Спасибо, Марфа! — ответил Мистер-Твистер. — Семен Лукич Сюткин уходит рано, когда народ спит. Не люблю, если провожают. Хорошая ты баба, Марфа! Бог тебя храни!..
Когда Мистер-Твистер и Марфа вышли за калитку, Тагар еще спал — храпели ребятишки, видел во сне драматурга Островского режиссер-постановщик, тоскуя по куреву, плохо спала учительница Садовская; за будние дни отсыпался директор Манголин, работающий шесть дней недели по московскому распорядку. Ни в одном доме не топились печки, трубы молчали пустые.
Солнце едва-едва всходило. Просунулся в тальниковое переплетение острый и рыжий край, врезаясь, не мог еще пробиться. Холодным, пустынным открывалось утро, понуро лежала дорога с прибитой росой тяжелой пылью. Призрачным, рисованным казался Тагар, похожий сейчас на декорацию. Неизвестно откуда прилетев, сидела на дороге старая и не черная вовсе, а серая ворона.
— Дальше не провожай! — вздрогнув голосом, сказал Мистер-Твистер. — Не люблю плакать! Прощай, Марфа!
— Прощай! — ответила она.
Семен Лукич Сюткин, и без того маленького роста, из отдаления казался подростком. Похожий со своими
442
чемоданами на рычажные весы, согнутый тяжестью, все дальше и дальше уходил он по длинной дороге. Вот миновал прясла околицы, вот пошел вдоль темных тальников, вот приблизился к спуску. Сперва исчезли ноги, затем спуск поглотил всего Мистера-Твистера; только еще раз вдруг показалась шляпа, но потом исчезла навсегда.
Солнце всходило.
«КУКЛА ГОСПОЖИ БАРК»
1
Послав к черту дядю Ивана, предложившего ради субботы выпить, Венька Кузьмин поставил трактор под навес, сердито хлопнул его рукой по горячему боку и, еще раз чертыхнувшись, пошел молодым сосняком.
Позади него доревывали усталыми субботними голосами трактора, пыхтел паровой кран, но Венькины оттопыренные уши этого уже не воспринимали, а когда он все-таки прислушался, то поймал гулкое кукование. Кукушку Венька дважды видел во время работы: серая и незаметная, перепархивала с сосны на сосну, отдаляясь от трелевочных волоков. «Ищет, зараза, кому яйцо подложить!» — еще тогда подумал Венька, но сейчас кукушку слушал с удовольствием.
В приметы он не верил, кукованье считать не стал, а только немного послушал-послушал да и пошел дальше. Справа от Веньки были сосны и слева от него были сосны. Голенастые деревья росли тесно, заплетаясь над головой кронами, и потому Веньке только умом было известно, что идет мелкий комариный дождь, так как сосны пропускали редкие крупные капли. Они, цокая, впивались в мох и немедленно пропадали. Комаров, конечно, было много, но Венька от них не отмахивался — он загодя намазал руки, шею и лицо жидкостью «Тайга».
— А дождь-то ого-го какой! — удивленно сказал Венька, выбравшись из сосновой расщелины. — Ишь как наяривает!
Три вагонки стояли в серой пелене дождя. На них висели мокрые флаги и плакаты. Они тоже намокли и
443
почернели, как и сами вагонки, которые Веньке всегда напоминали поезд и этим привлекали необычайно. Сейчас же — под дождем и серостью — вагонки на поезд не походили, и Венька разочарованно поморщился.
Дождь действительно теперь уже не моросил, а шел настойчиво и старательно; состоял дождь из частых прямых струек, которыми все видимое как бы перечеркивал и пеленал в серость. У вагонок никого не было, но когда Венька подошел поближе да завернул к умывальникам, то увидел Спартака Иванова.
— Здорово! — буркнул Венька, хотя видел Спартака десять минут назад.
Спартак ничего не ответил. Под дождем, в комарином гуле и сырости на нем были только заграничные плавки. Спартак Иванов был татарином, черен до невозможности, и когда дождевая вода струилась по телу, то мускулы переливались, блестели, а когда Спартак замирал, то походил на чугунную скульптуру. Он старательно поднимал и опускал две гири. На голой спине, животе Спартака спокойно сидели большие красные комары.
— Здорово, Венька! — опуская гири, ответил Спартак. — Чего рано сегодня?
— Суббота, — нехотя ответил Венька. — Убей ко- маров-то!
Спартак, оглушительно шлепая ладонью, перебил комаров, выпрямился, потом презрительно улыбнулся.
— Дядя Иван, поди, опять на бутылку соображает,— сказал он.
— А чего ему еще делать!
— Алкоголызм! — зло выкрикнул Спартак и снова стал поднимать гири. — Алкоголызм!
Венька привычно подивился его силе, посмотрел, качая головой, как двигаются мускулы, и полез в вагонку, в тамбур-прихожую, обитую хорошим материалом. Здесь он снял сапоги, размотал длинные портянки, сладостно пошевелил пальцами ног, бросил сапоги в нишу, а портянки развесил на специальных колышках. Все это было устроено здорово, умно, и Венька в который раз уж порадовался порядку. «Придумают же, черти!» — мысленно похвалил он.
Босиком, в одних штанах, Венька вошел в вагонку. Он только закрыл за собой дверь, как его всего охватило чувство уюта и необычности — уют исходил от белых стен вагонки, от полок с чистым бельем, от рассыпанных шахмат на столике, от недорогой, но широкой
444
дорожки. Уютны были занавесочки на окнах, цветки в горшках, яркие плакаты с красногубым молодцом, который призывал копить деньги в сберегательной кассе.
Необычность Венька чувствовал оттого, что вагонка представлялась движущейся. Как только он входил в нее, так появлялось ощущение неторопливого, плавного движения. В первый раз оно возникло у него ночью, когда Венька невесть почему проснулся, — за окном тихонько гудел тракторный мотор, двигался в чьих- то руках фонарь, и Веньке спросонья показалось, что он мальчишкой с матерью едет в вагоне. С тех пор он не мог отрешиться от ощущения движения и всякий раз, входя в вагонку, ехал вместе с ней в далекое и радостное.
— Здорово! — сказал Венька большому бледнолицему мужчине. — Лежишь?
— Лежу, — охотно ответил мужчина. — Тридцать девять и два!
Широкий бинт опоясывал горло мужчины, на лбу лежала резиновая штуковина с горячей водой. Он дождался, когда Венька дойдет до середины вагонки, и спросил:
— В шестую делянку перешли?
— Перешли.
Венька зашел в свое купе-закуток, достал с багаж- ничка ядовито-коричневый чемодан, открывая его, ожесточенно и весело защелкал замками. Хмуро улыбаясь, он вынул из чемодана толстый лыжный костюм с начесом. Все еще хмурясь и недовольно ворча, Венька натянул на себя костюм, украдкой заглянул в маленькое зеркальце и уж тогда залез на свою верхнюю полку. Он вытянулся и сладостно закрыл глаза.
— Авиационник — это да! — мечтательно сказал внизу мужчина. — Авиационник, он самолетам нужной!
С минуту полежав на полке, Венька понял, что не уснет, — в вагонке не было стука и грома, разнобоя голосов, хохота трактористов. «Интересно, черт возьми!» — подумал Венька, сообразив, что в тишине он засыпать не привык. Кроме того, в свои двадцать лет он от трактора не уставал и, полежав минуту, почувствовал себя отдохнувшим, свежим. Он снова мог ходить под дождем, управлять трактором, чокеровать лес. «Интересное, черт возьми, дело!» — опять подумал он.
— Ты отчего простуживаешься? — неожиданно для самого себя спросил Венька мужчину и даже, изогнув¬
445
шись, посмотрел на него сверху. — Спартака в борьбе побеждаешь, а вот все время простуживаешься!
— От невравновешенности это у меня! — после длинной паузы задумчиво ответил мужчина. — Другой работает полегонечку да потихонечку, а я весь дрожжу. В теле от этого получается жар, а как из трактора выйду — вдаряет холод! Тут простуда и образуется.
— Поспокойней надо, — сказал Венька. — Чего дро« жжать-то?
Вагонка тихо плыла. В окна, точь-в-точь такие, как у поезда, была видна частая сетка дождя, одинокая сосна, полупризрачная от серости; больше ничего не было видно в окна, что и было странно, — вагонка движется, а сосна все стоит на месте. «Нет, не уснуть мне!» — подумал Венька и озабоченно почесал нос.
— Чего дрожжать, когда работаешь, — рассеянно сказал он. — Дрожжать не надо...
— Венька! — снова после паузы спросил снизу мужчина. — Вот скажи — куда ты деньги девашь? Пить не пьешь, бабы у тебя нет, дом не ставишь. Куда же деньги?
— Мамке, — коротко ответил Венька и, подумав, добавил: — У нее, кроме меня, еще четыре дурака.
После этого Венька спустил ноги с полки, внимательно посмотрел на мужчину и глубокомысленно спросил:
— Вот что интересно! Ты простуженный, а не чи- хашь. Это как?
— У меня болезнь без чиху проходит, — сказал мужчина. — А почему, сам не знаю.
В толстых вязаных носках из овечьей шерсти Венька прошел вдоль пустой и тихой вагонки. Потрогал пальцем рассыпанные шахматные фигуры, постоял у молчащего приемника (еще не работала передвижная электростанция), лениво посмотрел на старую стенную газету- «молнию», подумав немного, сложил в стопочку черные костяшки домино. Потом Венька выпрямился и широко, отчаянно, с хрустом в скулах, зевнул.
— Я когда простужусь, — сказал он, — то страсть как чихаю!
Затем Венька быстро подошел к своей полке, снял с вешалки полурабочие штаны и толстый свитер. Лицо у Веньки при этом сделалось решительным, словно он вспомнил что-то очень важное. И таким у него лицо было все время, пока Венька быстро и ловко одевался. Уже
446
одетый, он, как чужого, осмотрел себя, притопнул поочередно сапогами и серьезно сказал:
Поеду в Линевку. Когда ребята придут, то у меня крупа в кульке. Пусть возьмут на общу кашу.
— Шибко дожж! — сказал мужчина, из-под резиновой штуковины поглядывая за окно. — Ох, чудной ты, Венька!
— Это почему? — спросил Венька, останавливаясь.
— А потому что бить тебя некому, — рассудительно проговорил мужчина и приподнялся. Резиновая штуковина покатилась, упав на матрац. — Бить тебя некому, Венька! Тебе делать нечего, а трактор на прикол поставил. Тридцатку мог на стары деньги еще зако- лымить.
— Все деньги не заработаешь! — ответил Венька и махнул рукой. — Ты лежи, если болеешь, лежи себе...
2
Хлопая сапогами по брезентовому дождевику, Венька быстро шел по узкой тропинке. Сосняка здесь не было — сплошные березы да осины, и потому со всех сторон на Веньку проливались потоки холодной воды. Однако до берега оставалось недалеко, а по осинам и березам видно было — приближается Обь. Действительно, метров через двести деревья и кусты внезапно оборвались, словно скакнули назад, и Венька — весь как был! — оказался на высоком обском берегу.
— Ого-го! — удивленно произнес он.
Левый берег Оби не просматривался, середина — тоже, и если бы Венька не знал, что он есть, левый берег, то можно было бы думать, что стоит Венька на берегу моря. Но это был сплошной обман, так как всего километровой ширины была в этом месте Обь и в ясные дни деревня Линевка, что находилась на левом берегу реки, виделась до беленых труб.
Дождь шел по-прежнему ровно и настойчиво, ни прогалин, ни пустот не было в нем, и поэтому угадывалось, что дождь зарядил надолго — на три дня, неделю, десять дней. И, поняв это, Венька подумал, что уже к вечеру он привыкнет к дождю, как привыкал быстро и к жаркой погоде. Уже сейчас Венька от дождя больших неудобств не испытывал, а только бдительно следил за тем, чтобы вода не проникла за голенища сапог. Если
447
это произойдет, то, во-первых, сам не стащишь сапоги, во-вторых, натрешь мозоли.
— Эге-гей! — по-лесному крикнул Венька. — Не то- ропьсь!
Под яром в большой моторной лодке уже сидели несколько разноцветных женщин и два нахохлившихся мужика. У мотора возился однорукий человек в древней шинели и черной от дождя пилотке. Венька пригляделся, прихватив руками плащ, чтобы не раздувался, прыгнул под яр. На скользкой глине он потерял равновесие, упал и съехал к лодке. Венька сконфуженно улыбнулся, но одна из женщин все равно засмеялась.
— Здравствуйте, приехали!
Венька строго посмотрел на нее, но ничего не сказал, так как линевские мужики на него смотрели равнодушно. Однорукий перевозчик еще раз дернул веревочку стартера, мотор не завел и негромко окликнул:
— Эй, леспромхозовский!
— Но! — ответил Венька.
— Обратно катеру не будет. Мотор барахлит — это раз, суббота — это два.
Венька посмотрел на реку, потом на берег, потом на однорукого перевозчика и наморщил лоб. Однако думал Венька недолго — махнул рукой и сказал:
— Заводи мотор-то, чего разговаривать.
Когда мотор завелся, Венька уже сидел прочно, втянув голову в воротник гремящего плаща, сунув руки в карманы. Цму уже было тепло, уютно, дождь казался далеким, идущим стороной, а то, что капли били по плащу, убаюкивало, успокаивало. И пока катер, развертываясь, вычерчивал крутую дугу, пока перевозчик ругался отчаянно, Венька ласково думал о том, что возьмет в библиотеке самую лучшую книгу. «Катька для меня все сделает, — подумал он. — Она такая, Катька!»
Но потом, когда уже катерок завершил крутую дугу, когда перевозчик перестал ругаться и дал полный газ, Венька в один глаз выглянул из своего уютного шалашика и сердито, с укоризной посмотрел на однорукого. Веньке было неудобно, но он все-таки помотал головой; отчего весь плащ захрустел.
— Этот мотор надо давно выбросить, — поняв его, словоохотливо сказал однорукий перевозчик. — Если хотите знать, граждане, на нем что ни железина, то на
448
соплях! Вот за что я сейчас держуся? — с внезапной гордостью спросил он и заранее захохотал. — Вот скажи, леспромхозовский, за что я держуся?
Подумав, Венька неохотно выполз из балаганчика плаща, мельком посмотрел на руки перевозчика.
— За газ держисься! — сказал он.
— Хе-хе-хе! — счастливо засмеялся перевозчик. — Хоть ты и леспромхозовский, а не угадал. У этого мотора газу давно нет. За подсос держусь я, парень! За подсос! — повторил перевозчик и опять радостно захохотал.
— Ишь ты! — сказал Венька и снова спрятал голову в шалашик. Дождь барабанил по плащу, и можно было из этих звуков составить любую мелодию. Венька попробовал намыкивать про себя «Подмосковные вечера» — дождь барабанил в такт, перешел на «Крепись, геолог...» — тоже подходило, а когда напел под нос «Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло...», то дождь тоже охотно запел с ним. Потом Венька перестал петь и подумал о перевозчике: «Это он на фронте руку оставил!»
— Слезай — приехали! — весело закричала та женщина, которая смеялась над Венькой. — Выходи, молчаливый мужик!
«Молчаливый мужик» относилось к Веньке, и он удивленно посмотрел в близкое сейчас лицо женщины. Ей не было сорока лет, как он подумал раньше, а было самое большее, двадцать пять, и у нее по-девчоночьи смеялись глаза. И она так смотрела на Веньку, что он почувствовал неловкость.
— Из «Зари», что ли? — спросил Венька.
— Из нее, — ответила женщина и пошла как-то так, что Венька опять почувствовал неловкость. И чтобы загладить ее, Венька еще раз посмотрел вслед женщине. «Вот как!» — подумал он.
— Значит, обратно не пойдешь? — спросил он перевозчика, протягивая десять копеек.
— Не пойду! — хорошо ответил перевозчик, благодарный Веньке за давешний вопрос. — Ночуй в Линев- ке — что, девок мало? Вот одна пошла. Ишь как зыркает!
Ничего не ответив, Венька зашагал по пологому берегу. Здесь, в Линевке, дождь вроде бы шел тише, но это опять было сплошным обманом, так как дождь в деревне всегда кажется слабее, чем в лесу, а в городе неболь¬
29 Виль Липатов, том 4
449
шой дождь совсем не виден: когда Венька в прошлом году был в Томске на совещании молодых лесозаготовителей, то он только потом вспомнил, что все два дня в городе шел такой же нудный дождь, как сейчас.
На деревянном доме, в котором находилась библиотека, висела куча табличек с надписями: на первой было написано красным «Клуб», на второй — «Сберкасса», на третьей — «Агитпункт», на четвертой — «Библиотека», на пятой — «Сельсовет» и на шестой — «Почта». Как столько учреждений помещалось в одном доме, понять было трудно, но тут обману не было, так как все шесть табличек говорили правду. Потому Венька стал скрестись и чиститься.
Перво-наперво он снял плащ и стряхнул его, затем ладонью смахнул оставшуюся воду, выжал рукава и положил плащ на жердочку клубного крыльца. Затем Венька щепочкой и водой из лужи начал мыть сапоги. Щепочкой он счищал ошмотья глины, водой смывал остатки и делал это до тех пор, пока не показался рисунок свиной кожи. Щепочку Венька забросил, а руки насухо протер носовым платком, который достал из кармана. «Утром выстираю! — решил он, пряча платок в карман плаща. •— Все равно придется стирать портянки!»
Неторопливо войдя в библиотеку, Венька вежливо остановился на пороге. Как всегда, возле крашеной перегородки сидели пацаны и девчонки, за единственным читательским столом, покрытым красной материей для лозунгов, располагался худой старик в сильных очках, который целыми днями читал журнал «Международная жизнь».
— Здравствуйте-бывали! — солидно, по-рабочему поздоровался Венька и пошел к деревянной перегородке. — Привет с правого берега! — добавил он, когда приметил библиотекаршу Катю.
— Здравствуйте, товарищ Кузьмин!
Венька прошел еще несколько шагов, облокотился на перегородку и молча посмотрел на Катю. Кутаясь в теплый платок, она сидела на маленьком стуле, поджав под себя ноги.
— Слушаю! — сказала Катя.
Венька молчал, разглядывая корешки книг. Он не мог смотреть библиотекарше в глаза, так как знал, что она по-особенному относится к нему. По тому, как Катя встала, как сказала строго «товарищ Кузьмин», Венька
450
и сегодня понимал, что она относится к нему не так, как ко всем.
— Такое дело! — сказал Венька и постукал пальцами по дереву.
Потом он набрался сил и искоса, мельком посмотрел на Катю. И, как всегда, его поразило то, что они — Катя и он — походили. У библиотекарши Кати, как и у Веньки, было круглое веснушчатое лицо, крепкий прямой нос и крутые рыжие брови. У библиотекарши Кати, как и у Веньки, зеленым и коричневым переливали круглые немигающие глаза. И какой-то еще другой, ускользающей и далекой мыслью Венька иногда думал о том, что они с Катей похожи не только внешне.
После того как Венька быстро и боязливо взглянул на Катю один раз, он уже длиннее и проще посмотрел на нее вторично. Потом он в третий раз посмотрел на нее. «Вот теперь хорошо!» — подумал Венька, но все- таки и на этот раз отвернулся, когда Катя поймала его взгляд. Венька кашлянул и подумал огорченно: «Эх, почему мы так похожи!»
Откуда, как и почему — неизвестно, но жило в Веньке по-мужичьи твердое убеждение в том, что девчонка, которую он полюбит, не может походить на него, Веньку. Их похожесть была таким все разрушающим обстоятельством, что Венька, которому Катя нравилась, относился к ней насмешливо. Вот и сейчас он еще раз подумал: «Эх, зачем мы так похожи!» — и после этого легко посмотрел девушке прямо в глаза. Он даже повернулся к ней, взглядом без значения пробежал по Катиной фигуре и тем же солидным, рабочим голосом, которым здоровался, спросил:
— Чего-нибудь хорошенькое, с приключениями есть?
— Опять с приключениями! — сказала Катя и тихо, мило улыбнулась. — Восемь классов образования, а все еще... Давно пора браться за серьезную литературу!
— Закончу десятилетку и возьмусь, — мирно ответил Венька. — В вагонке шумят, так лучше приключенческую.
Катя вздохнула, но к полкам не пошла — слегка нагнулась и достала небольшой потрепанный томик.
— Про шпионов! Одно название чего стоит!
Венька радостно посмотрел на книгу, лесным голосом прочел:
— Хаджи Мурат Мугуев. «Кукла госпожи Барк». Ого-го!
29*
451
Он, конечно, спугнул старика, ребятишки тоже встрепенулись. Смеясь беззвучно, Катя пальцами показала на свои губы.
— Тсс! — прошептала она. — Какой голосистый!
Потом Катя вышла из-за перегородки, пошептавшись с ребятишками, взяла у них новый «Огонек».
— Посмотрите, — предложила она Веньке. — Вы любите!
Он взял журнал, а пока Катя шла обратно, смотрел на нее. Теплый платок она оставила за перегородкой, была теперь в легком платье — виделись сильные и длинные ее ноги, длинная спина, по которой при ходьбе катилась волнистая тень. На спине у Кати платье залегало глубокой ложбиной. Венька почувствовал непонятную сухость во рту, дыхание на секунду пропало, но он снова подумал: «Ах, почему мы так похожи!»
«Огонек» Венька начал просматривать с последней страницы — так он делал всегда — и сразу наткнулся на юмористические рисунки. Он сперва потешно надул щеки, не выдержав, опять по-лесному захохотал. Смеялся он длинно, откинувшись за спинку стула, стуча каблуками по полу.
■— Тсс! Вы, как ребенок, ей-богу!
Катя была права: смеясь, Венька походил на рыжего двенадцатилетнего мальчишку.
3
Минут десять Венька разговаривал с Катей, минут пятнадцать перелистывал «Огонек», но за это время на дворе переменилось: когда Венька вышел на клубное крыльцо, то от удивления свистнул.
К дождю неизвестно откуда примешался порывистый низовой ветер. О железную крышу ближайшего дома дождевые капли разбивались в мелкую пыль, ветер хватал ее, рассеивал, и казалось, что крыша дымится. Очень крепкий был ветер, и Венька опять протяжно свистнул, хотя свистеть и не полагалось бы. Свистеть надо, наоборот, когда хочется ветру.
— Ай какой кавардак! — поджимая губы, сказал Венька и, спрыгнув с крыльца, напрямки пошел к Оби, которая тоже изменилась. Во время особенно сильных ударов ветра река открывалась во всю громадную мо¬
452
гущественность. Километровой ширины, Обь была белая и клокочущая, как вода в кипящем котелке.
— Ай какой кавардак!
Венька озабоченно покачал головой. Не простым делом было теперь, когда сорвался дурацкий ветер, выбрать обласок, и, озабоченно покачивая головой, Венька пошел вдоль берега, прорезая ветер, который грабастал за полы, забирался под плащ, надувая на спине горбом.
Деревня Линевка была такой маленькой и старой, что замков на обласках и лодках не было; мало того, под перевернутыми обласками и лодками лежали весла, так что, когда Венька неторопливо прошелся туда и обратно, он уже решил, на чем поплывет. Он выбрал небольшой старый обласок — высоконькие нос и корма, борта обиты деревянными рейками и рядом аккуратно лежит берестяной черпак. «Должно быть, пригодится!» — подумал Венька, ногой перевертывая обласок. Весло тоже было хорошим — острым на конце и загнутым ловко.
Венька подтянул обласок к воде, бросил в него весло, нахмурившись, задумался. Он почесал через кепку затылок, что-то пробормотал и вдруг прицыкнул —на- конец-то вспомнил то, что помучивало. Венька, улыбнувшись, достал из-за пазухи книгу, перевернул ее заголовком вверх, снял кепку, книгу положил на голову. Затем он на книгу надел кепку.
— Порядок в танковых частях! — солидным басом сказал он.
Венька вошел в воду по щиколотку, повернул обласок носом к реке и, балансируя, не дыша, сел в него. Прикатила большая волна — видимо, знаменитый девятый вал! — подняла обласок, потащила обратно на берег, но Венька уже держал в руках весло и ловко греб- нулся им о макушку высокой волны. И как только он сделал первый гребок, на лице его появилось и застыло специальное деловое, озабоченное выражение. Оно держалось на его лице всегда, когда Венька работал, играл в бильярд или читал книгу, — нижняя губа чуточку прикушена, левый глаз прижмурен, у рта остренькие складки.
На реке волны казались в два раза больше, чем с берега, вода не только клокотала и пенилась, но ревела и стонала. Ветер помогал течению, подхлестывал его, и Венька направил обласок не поперек реки, а по¬
453
чти против течения, чтобы не снесло километра на полтора ниже нужного места. Венька плыл по гипотенузе, которая хотя и короче суммы обоих катетов, но много длиннее одного из них.
— Ай какой кавардак!
Теперь их было четверо: с одной стороны Венька и ловкий старый обласок, с другой — Обь и ветер с дождем. Обь и ветер с дождем старались не пустить Веньку на правый берег, а Венька и обласок хотели приплыть именно туда, где уютная вагонка, чистая постель и матовый свет электрических лампочек.
Венька отгребся от берега метров на восемьдесят, когда в первый раз подумал о том, что он, Венька, ловкий и дошлый парень. «Я — ничего!» — с удовольствием подумал Венька, так как из пятнадцати обласков выбрал лучший. Как он и предполагал, обласок хорошо держался на волне, не зарывался носом в воду, и, следовательно, черпак мог оказаться лишним. Одним словом, это был добросовестный, старательный обласок, и Венька даже подмигнул ему тем глазом, который не был прищурен.
Венька на берегу прикинул, что переплывать реку понадобится минут тридцать пять — сорок, но теперь, рукой чувствуя волну, думал о том, что, пожалуй, не справится и за пятьдесят. И действительно, он отплыл метров полтораста от берега, а ручные часы, обнажающиеся при гребке, показывали, что прошло десять минут. По-хорошему бы часы полагалось снять с руки, но Венька об этом на берегу забыл, а снимать часы сейчас... Венька хотел бы посмотреть на человека, который бы рискнул, снимая часы, бросить весло. «Ого-го, что было бы с этим человеком!» — насмешливо подумал он.
Венька был заштрихован косыми линиями дождя, припорошен водяной пылью, которую ветер срывал с гребней волн; в равные промежутки времени Венька с обласком проваливался между волнами. И хотя обласок по-прежнему не зачерпывал воду, от дождя и водяной пыли она все-таки понемножку собиралась на дне. Однако это Веньку заботило не очень: берестяной черпак лежал у ног, а он умел одной рукой грести, второй — вычерпывать воду. Кроме того, берестяной черпак был остяцкой формы и придумки, а каждому известно, что остяцким черпаком можно быстро и незатруднительно вылить воду из обласка. «Остяки, они ух какие дошлые!» — благодарно подумал Венька. Он тут
454
же вспомнил, что книгу написал Хаджи Мурат Мугуев, и подумал уже весело: «Татарин, наверное! Они все, как и Спартак, шибко дошлые!»
Проработав веслом примерно полчаса, Венька выбрал момент, чтобы оглядеться. Он посмотрел по сторонам и еще сильнее нахмурился — давно не было такого сильного ветра. «Ух как она бушует!» — подумал он, так как Обь действительно бушевала изрядно — посередине ходили по-настоящему морские, крутые и пенные волны. Когда обласок вздымался на их вершины, то Венька с обласком как бы повисал над высотой. «Хороший я выбрал обласок! — с гордостью подумал он. — Другой бы давно перевернуло!» Но даже этот хороший обласок, спускаясь с волны, так наклонялся, что нос почти вертикально уходил вниз. «Ну, просто сдурела она!» — подумал Венька об Оби.
До берега оставалось метров четыреста, и Венька уже подумывал о том, что вот у берега-то его может перевернуть. «А где же еще, конечно, там! — раздумывал он. — Хорошо, что я книгу положил в кепку». Правый берег, обрывистый и высокий, держал возле себя сильное, коварное течение, которое и в тишайшую погоду завивалось уловами и крутовертями. В эти улова брошенная палка уходила в воду торчком и бесследно.
«Придется искупаться!» — еще раз подумав о правом береге, решил Венька и успокоился, так как ему надо было потрудиться. Странно, но ловко изогнувшись, он обвил левой рукой весло, вихляющими движениями стал работать ею, а правой рукой стал вычерпывать воду берестяным черпаком. «Не каждый может грести и вычерпывать воду!» — по-мальчишески заносчиво подумал он.
Когда вода вычерпалась, то на часах стрелки показывали без пяти шесть: он плыл пятьдесят минут. Это были пустяки-вареники, так как до берега оставалось метров десять.
В сапогах у Веньки была вода, за воротником — вода, мокрые брюки на коленях натянулись и терли кожу, но самыми зловредными оказались рукава плаща: мокрые, они мешали грести.
Сквозь звуки дождя и стук волн о днище обласка Венька уже слышал звериный рев крутоверти возле правого берега. Как следует подумав, он решил приставать меж старым осокорем и молодой березой — и
455
волна была поменьше, и улово вертелось вроде не такое крутое, как слева. Потому Венька повернул обласок, стал грести изо всех сил, чтобы помешать течению подхватить обласок. Нижнюю пухлую губу Венька закусил, прищурил оба глаза.
Улово оказалось круче и шире, чем Венька думал, — тугая струя ухватила обласок за нос, дернула жестоко и медленно перевернула. Понимая, что он смешно взбрыкивает ногами, Венька вывалился из обласка. Он падал в воду, а сам изгибался, вился ужом, тянул голову вверх, чтобы не окунуть в воду книгу. Бог знает, как ему это удалось, но в реку Венька попал ногами, на лету схватился за обласок и сильно потянул за мокрое днище.
— Не замочил! — радостным басом сказал Венька. — Не замочил!
Потом Венька громко и зло выругался. В улове мгновенно пропал берестяной черпак. «Что я хозяину скажу? — подумал Венька. — Черпак-то остяцкий, особенный!»
4
Под двумя теплыми одеялами — своим и спартаковским — Венька быстро согрелся, отошел и подобрел. Уютно горела над головой лампочка в матовом колпаке, снизу шло тепло, и Веньке было хорошо. За час он отхватил страниц тридцать и немного побледнел от углубленности. Читая, волнуясь, Венька то лежал под одеялами весь плоский, то сгибался крючком, то лунатическим движением всей спиной заползал под подушку. При этом руку с книгой от глаз он не отрывал, и при всех перемещениях его тела книга как бы оставалась неподвижной.
В вагонке шла субботняя вечерняя жизнь — пришли все жильцы, шумели, смеялись, спорили, но это происходило вне Веньки, помимо него. Он не заметил, как пришел и повозился на нижней полке Спартак, не слышал, как пел протяжное дядя Иван, как угрюмый тракторист из Венькиной сумки доставал Венькину крупу. В другом мире жил Венька... В этом мире южное солнце ласкало тонкую кожу блондинки, сверкало на ее белых зубах. Ананасы и шампанское, лакированные автомобили и птичьи хвосты фрака, огни на мокром асфаль¬
456
те и клохтанье джаза — вот что жило, вертелось, дрожало и переваливалось вокруг Веньки. Прикасался пальцами к ажурному чулку блондинки черноволосый молодой человек, уходил в ночь, которая грохотала выстрелами, кишмя кишела шпионами. Шел по земле седоволосый майор с усталым лицом, ждала его верная жена; потом опять вышагивала блондинка на своих тонких каблучках.
Люди безостановочно входили на страницы книги, громко или тихо разговаривали, стояли перед глазами, как живые. Вот опять появилась блондинка, потом черноволосый молодой человек, в глазах которого отражались и автомобили, и хрустальные бокалы, и тусклый металл пистолетных рукояток. Потом появился опять седоволосый майор и сказал спокойно: «Торопиться не будем! Помните, лейтенант, что торопливость нужна только при ловле блох. Мы берем не одного диверсанта, мы идем за всей организацией!» — «Слушаю, товарищ майор!» — ответил лейтенант и пошел к двери. «Венька, а Венька!» — сказал лейтенант, и майор удивленно оглянулся...
...Венька пришел в себя и понял, что его зовет Спартак. Одетый в Венькин шерстяной свитер, он стоял возле верхней полки, которая была ему выше переносицы.
— Молчишь как вкопанный! — сверкая глазами, сердито сказал Спартак. — Очумел, что ли?
— Я, Спартак, читаю! — по-детски протирая глаза сжатыми кулаками, ответил Венька. — Книга попалась шибко интересная!
— Ладно, ладно! — сурово сказал Спартак. — Ты на чем приехал?
— На обласке.
— Вот хорошо! — сказал Спартак и спросил: — Шибко волна гулят?
— Есть! — ответил Венька, продолжительно улыбнувшись. — В Линевку хочешь ехать?
Венька еще раз посмотрел на Спартака и снова продолжительно улыбнулся.
— Весло там есть! — сказал Венька. — Ты только спусти обласок ниже старого осокоря, а то возле него улово шибко крутое. Перевернет!
— Далеко спускать?
— А метров двадцать. За молоду березу.
Венька с той же улыбкой смотрел на Спартака, ли¬
457
цо у Веньки было затаенно-счастливое, и Спартак помедлил уходить.
— Что за книга? — спросил он.
— Интересная! — оживленно ответил Венька. — Писатель, видно, из вас, из татар. Фамилия Хаджи Мурат Мугуев. Ох, и здорово пишет! Не оторвешься!
Потом вдруг Венька стал печальным — опустились широкие плечи, завял мальчишеский рот. Голова все еще лежала на руках, и потому в положении фигуры была тоскливая усталость.
— Вот живут люди, Спартак! — тихо сказал Венька. — Борются, любят, побеждают! А мы как живем? — Он обвел вагонку глазами, насмешливо дернул губой. — Всю жизнь здесь проторчишь, а ничего путного не сделаешь! Так и помрешь в тихости.
— Ладно, ладно, — ответил Спартак. — Потом поговорим. Весло-то где?
— Под обласком!
Спартак пошел к дверям, но на полпути остановился.
— Книгу никому не отдавай! — сказал он и строго погрозил пальцем. — Я на очереди. Понял?
— Понял! — ответил Венька.
КОЛОБКОВСКАЯ КОРОВА
1
Корову Колобковы взяли телком в соседней деревне. Масти она была рыжей, на груди имелось громадное темное пятно, возле глаза — островок белой шерсти, а рога росли вразнотык. В телках рогов у нее, конечно, не было, и когда Рафаил Колобков выводил телка из чужого двора, то он, телок, нежно мыкнул, поддел Рафаила кучерявым лбом и побежал за ним резво, как собачонка. Рафаил, который думал, что трехмесячного телка придется из родного дома вытаскивать силком, остановился, почесал нос и сказал:
— Вишь какой резвый!
— Ты на это вниманья не держи, — задумчиво ответил хозяин телка. — Опасность была бы, если бы он родился бычком.
458
— Это правильно! — согласился Рафаил. — Парни всегда на мать похожи, а девчонишки — на отца... А чего же мать-то, корова-то? Шалопутная?
— Врать не буду. Удоиста — это всей деревне на удивление, а вот что шалопутная, то шалопутная... Гуля- щая она!
— То есть?
— А места своего не знает.
— Приучать бы надо...
— Не приучится!
— Ну это брехня!
Рафаил вежливо пожал руку хозяину, слегка пошатываясь от магарыча, повел телка обрывистым берегом Оби, что-то напевая про себя и изредка снисходительно улыбаясь. Настроение у Рафаила было хорошее, а из-за резвости телка шесть километров меж деревнями они прошли быстро. Однако по родной деревне телок и Рафаил двигались с остановками. Перво-наперво к ним подошел дед Крылов — он поднялся со скамеечки, на которой сидел, переступил телку и Рафаилу дорогу и стал гладить свою пышную бороду.
— Телок себя со всех сторон оказывает, — вдумчиво сказал дед Крылов, оглядывая телка и наморщивая лоб. — Задние мослы не сходятся, значится, вымени простор, в грудке широкий, значится, силов в нем много, ноги передни коротки, значится, по пастьбе уставать не будет. Ты, Рафаил, себе на заметку возьми, что корова должна оказывать передни ноги короче, а шею подлиньше, чтоб трава потреблялась до самого корня...
Дед Крылов обошел телка кругом и заглянул ему в морду. Глядел он долго, морщился, посапывал носом, затем обеими руками взялся за бороду.
— Ну вот что, Рафаил! — наконец решительно сказал он. — Этот телок шибко себе на уме. Ты глянь, как он на мою рубаху косится. Что синяя, вот что ему завидно...
Рафаил пошел за телком дальше, придерживая его, чтобы не бежать перед чужими окнами, а дед Крылов все стоял посередь дороги и громко удивлялся:
— Телок шибко себе на уме! Ох, на уме...
Во второй раз Рафаила и телка остановила баба Сузгиниха, бегавшая в магазин за солью, но внезапно купившая ситцу и потому задолжавшая продавщице Дуське рубль восемьдесят шесть копеек. Так что баба
459
Сузгиниха имела денежное настроение и сразу приступила к делу.
— Ну народ, ну народ! — пропела она, всплескивая руками. — Никому верить нельзя! Вчерась была у Опе- нышевых, так Нюська болтала, что твоя Клавдея сукно на пальто брала. Как же жить, если никому верить нельзя! Сукно на пальто, а, смотри-ка, Рафаил телка ведет... А чего он брыкается? — вдруг спросила баба Сузгиниха. — Ой, Рафаил, это у него не иначе как грыжа!..
— Пропусти! — мрачно сказал Рафаил. — Сойди, говорю, с дороги...
— Вона что... Сойди с дороги! Конечно, когда корову поимел, то: «Сойди с дороги!», а когда коровы не было, то все: «Тетка Марея, тетка Марея, не продашь ли молочка?..» Ну, народ пошел! Рубль восемьдесят шесть копеек и те в долг еле выпросишь...
Больше Рафаила и телка никто не останавливал, и они беспрепятственно вошли во двор дома, где все сверкало новизной и чистотой: и сам дом, и ограда, и крылечко, на котором сидела Рафаилова жена, Клавдия. И совершенной новизной повеяло на Рафаила от того, как смотрела на него жена. Шесть лет они прожили вместе, народили двоих детей, но он еще ни разу не видел в глазах Клавдии такого странного и потому нового выражения. Она смотрела на него так, словно он вводил во двор не телка, а послов иностранной державы, которые предложат Клавдии немедленно заговорить на французском или каком другом языке.
— Магарыч пили, — осторожно сказал Рафаил. — Это тебе не пимы купить, а корову...
— Лапушка моя, — тихо сказала Клавдия телку, — желтенький бочок, черно пятнышко...
Широко расставив все четыре ноги, телок с задумчивым видом пописал на лопухи — звук был тонкий и веселый, как от дождевой струи, — потом, «и секунды не колеблясь, подошел к Клавдии и ткнулся теплыми губами ей в руки.
— Ишь ты! — отвертываясь от жены, сказал Рафаил. — Вон что!
— Я ее Чернушечкой назову... Лапушка моя, Чер- нушечка!
— Хорошо, Чернушка так Чернушка! — согласился Рафаил, хотя телку справедливее было бы назвать Рыжухой. — Пусть будет по-твоему.
После этого Рафаил все-таки сел на крылечко, на¬
460
гнал на себя строгость, то есть свел брови, прокашлялся и солидно произнес:
— Ты, Клавдия, женщина работящая, старательная, мне тебя не учить, но ты возьми в заметку, что у Чернушки мать гулящая, шалопутная, а дед Крылов про телка сказал: «Он себе на уме!» К месту его надо приучать — вот что, Клавдия.
— Была нужда... Ты гляди, Рафаилушка, какая она ласковая да прекрасненькая. Лапушка моя, солнышко мое!
— Ты все-таки поимей в виду, Клавдия.
— Ничего я поиметь не хочу! — сердито ответила жена. — Этот телок — всех мер!
Она оказалась права — на новом месте Чернушка вела себя великолепно. До блеска выскобленная Клавдией, ухожениая и сытая, она с утра до вечера смирненько паслась на задах дома, привязанная длинной веревкой за шею к специально забитому колу. Болтушку из черной муки и мятую картошку Чернушка ела аппетитно, на хозяев глядела весело, а вечером в стайку бежала, задрав хвост. В общем, все было прекрасно, и к концу второй недели Клавдия открыто сказала мужу:
— Вот чем ты хорош, что панику умеешь напускать! Понятливее этого телка я на свете не видывала, так что дед Крылов пусть прикроется. Нечего ему про нашу Чернушку разные слухи распускать. Ты ему так и скажи, Рафаилушка.
— Ладно, скажу, — ответил Рафаил и спросил: — А где теперь Чернушка?
— А на задах дома. Вот пойдем, полюбуемся на нашу красавицу!
Они пошли за дом, но Чернушку там не обнаружили. Колышек — он торчал, веревка — она лежала на земле вся, а вот Чернушки не было, хотя на веревке сохранилась петля, которая раньше охватывала ее длинную шею.
— Ну просто кибернетика! — поразился Рафаил, рассматривая веревку и колышек. — Может, Клавдия, кто веревку развязал, а потом завязал...
— Ой, побежали, Рафаилушка! — расширяя глаза, ответила Клавдия. — Ой, побежали Чернушечку искать!
Оставив детей без ужина, а дом без присмотра, Клавдия и Рафаил побежали не в деревню, а за околицу, по неопытности полагая, что Чернушка соскучилась по родному дому. С километр они бежали вместе, хотя надо
461
было бы разделиться — например, Рафаилу бежать за околицу, а Клавдии остаться в деревне. Но они бежали вместе и наверняка добрались бы до соседней деревни, если бы им на пути не попался мальчишка. Он катил перед собой обруч от тележного колеса; завидев Клавдию и Рафаила, кругом объехал их, прижал обруч ногой к земле и сказал:
— Дяденька Рафаил, вас у Бондаренко ждут. Сам вашего телка держит, а сама говорит: «Усю муку зъел!»
Так оно и оказалось: старик Бондаренко обеими руками держал Чернушку за туловище, а старуха Бонда- ренчиха обходила густо собравшихся соседей, всплескивая руками.
Увидев Клавдию и Рафаила, Чернушка поддала задом так, что дед Бондаренко руки ослабил и утробно охнул, а Чернушка подбежала к Рафаилу и Клавдии, ласковая, как кошка, прижалась к их коленям. Морда у нее была белая от муки.
— У район ездил, — сказал старик Бондаренко, потирая подбородок. — Мельник мине сват, так говорю: «Магазинна крупчатка скусу не даеть!»
— Усю крупчатку у зусеке зъел а! — подтвердила старуха. — Ну, вот усю, как помелом помела...
— Когда корову купишь, — подумав, сказал старик Бондаренко, — хоть она и телок, усе деньги убьешь... Это мы, Рафаил, понимаем, но усю крупчатку зъела...
Что старики хотели сказать дальше, так и осталось неизвестным, так как в толпе сочувствующих соседей появился дед Крылов. Раздувая движением бороду и постукивая палкой, он приблизился к Чернушке, поглядел ей в мучную морду, понимающе покачал головой и поманил Рафаила пальцем:
— Я ж тебе говорил: этот телок себе на уме...
Походило, что дед Крылов прав. Когда Клавдия и
Рафаил привели Чернушку домой, то она при виде веревки сделалась послушной и сама подошла к ней. После этого Рафаил осторожно сел на землю, почесал нос и, пожалуй, в первый раз за все время посмотрел на телку длинным и трезвым взглядом — смотрел дотошно и въедливо, как деревенский житель и зрелый мужик, как посторонний человек и отец семейства. Потом он# покачав головой, негромко сказал Клавдии:
— Ты шибко не пугайся, Клавдия, но с этой коровой будет больша морока. Главно, чтобы ребятишек не за¬
462
пустить и от колхозных дел не отойти... Для этого мы должны друг дружки держаться.
— Ох, Рафаилушка, — вздохнула Клавдия, — как же она ларь-то открыла?
2
После истории с крупчаткой наступило затишье. Уж Рафаил отнес старухе Бондаренко три рубля и пуд пшеничной муки, уж Клавдия расстаралась достать Чернушке специальный кожаный ошейник, уж Чернушка не надувала шею, когда Рафаил надевал его на нее, уж в деревне стали забывать про крупчатку, как оказалось, что Чернушка и не пытается никуда удрать.
Выяснилось это после того дня, когда Рафаил получил новый трактор ДТ-54 и на радостях приехал на нем домой обедать. Он заглушил машину у самых ворот, поднялся на крыльцо и стал тереть сапоги о половичок, хотя грязи на улице не было. Однако ничего с собой Рафаил поделать не мог и, когда Клавдия выбежала из дома, сказал:
— Петр Симкин тоже хотел, а трактор-то мне дали... Вроде лучше работаю.
Тут его взгляд упал на Чернушку, которая после истории с крупчаткой паслась не за домом, а в огороде. Он посмотрел на нее и увидел, что за месяц телка выросла, рыжая шерсть сделалась яростной, настырной, словно бока Чернушки охватило жаркое пламя; блестели выпуклые глаза с загнутыми ресницами, и уже вершилось чудо — вразнотык торчали острые рога, то есть один тянулся в небо, а другой заворачивался колобом к кудрявой челке на лбу.
— Клавдия, а Клавдия, — сказал Рафаил, — давай- ка отпустим в стадо Чернушку. Даже человеку выговор через год сымают, может, и Чернушка исправилась...
— Давай, Рафаил!
Вечером этого же дня в доме Колобковых сидел пастух Сидор, въедливо смотрел на хозяев и туда-сюда вертел левой рукой — какая-то странная болезнь была у Сидора, от которой он никак не мог остановить левую руку. Затихала она только тогда, когда Сидор спал, а в остальное время суток рука отплясывала суматошный танец. Пастух молча выпил три стакана чаю, пере¬
463
вернул стакан вверх дном, показывая, что напился, и сказал:
— Мне от директора восьмилетки, окромя денег и молока, прочитана газета полагаться, так я всегда при последних известиях...
— Это так, Сидор Иванович, —согласился Рафаил, — это конечно...
— Может, еще чего поедите, Сидор Иванович? — забеспокоилась Клавдия. — Может, сметанки или творожку?..
— Нам сметанка ни к чему...
— Хорошо! — решительно сказала Клавдия. — Полтора литра молока и пять рублей...
— Пять рублей сразу или частями?
— Сразу три рубля...
— Ну ладно! Попасу я вашу телку. Тоись попробую...
Сидор попробовал, и вот тут-то и выяснилось, что Чернушка убегать не собирается. Рафаил и Клавдия об этом узнали, конечно, от Сидорова подпаска Кольки.
— Самая смирная телка в стаде, — сказал он. — Вы не думайте, тетка Клава, что Сидор сам пасет ее, он только газеты читает. А с Чернушкой и работы нету — ходит себе да веселится...
Так оно и было. Оказавшись в стаде, Чернушка повеселела и успокоилась, за какую-то неделю научилась сама уходить из дома и возвращаться, призывно трубила, когда Сидор с Колькой опаздывали, и очень подружилась со взрослыми коровами. Одним словом, Чернушка стала такой образцовой, что дней через десять Рафаил, повстречав деда Крылова, сказал:
— Чернушка-то, а!
— Ничего не «а»! — с достоинством ответил дед Крылов. — Ты, Рафаил, жди, что она себя покажет...
— Вот еще!
— Покажет, покажет...
Дед Крылов был прав. На двенадцатый день пребывания Чернушки в стаде в деревне случился переполох — солнце уже клонилось к Оби, река была уже розовой, как клюквенный кисель, уже участковый уполномоченный Анискин прошел на вечернее купание, а коровы с пастбища не возвращались. Обеспокоенные женщины, как часовые, стояли у ворот, застив глаза ладонями от низкого солнца, глядели на дорогу, но напрасно. Полчаса, час прошло — коров не было...
464
В деревне начались события. Перво-наперво шум раздался в старинном зыкинском доме, возле ворот которого стояли сразу три невестки, одетые так, словно собирались встречать Восьмое марта. Это у зыкинских невесток была такая мода, что если одна выходила за ворота в новой ситцевой кофточке, то вторая немедленно бежала надевать крепдешиновую, а третья выходила уж в шерстяной. Посмотрев на это, первая невестка, конечно, бежала в дом, чтобы.... Одним словом, конца беганью не было. Сегодня наблюдалось такое же положение, но вместо того, чтобы стоять тихо, отвернувшись друг от друга, невестки вдруг загалдели и испуганно прыснули в сторону.
— А вот я вас! — раздался на всю деревню страховидный голос. — Телешом всех троих в баню посажу!
На улицу вылез старый дед Зыкин с палкой в руках. Лет ему было около ста, был он черен, как цыган, но при лысой голове и таких длинных руках, что казалось, задевает ими за землю. Дед всю жизнь только тем и занимался, что воевал — и русско-японская, и империалистическая, и гражданская, — потому ни черта ни ладана не боялся.
— А ну подойди, котора ближе! — заорал он невесткам. — Счас палкой огрею! Подходи, как там тебя по имени...
Старый дед Зыкин бушевал оттого, что до ста лет дожил на парном молоке, а сегодня его не было.
— Подходи, говорят! — требовал он.
Ближняя невестка Людмила к нему не пошла, а, наоборот, скрылась, но зато к дому Зыкиных повалили мальчишки, мужики и даже некоторые бабы. Ну, в минуту вокруг старика Зыкина собрался народ, так как вот уже года два старый дед Зыкин на улицу не выходил. Потому люди на деда Зыкина смотрели уак, словно он был приезжий. От этого дед совсем впал в лютость и огрел палкой ближнего мужика, Люборцева Михаила. Огрел, видимо, больно, так как Люборцев Михаил заорал и принялся бежать.
— Запорю! — лютовал дед. — Искалечу!
Дед Зыкин орал, Михаил Люборцев убегал, ребятишки хохотали и галдели, три невестки нападали друг на друга, разбираясь, кто из них ближе стоял к старику и кого он хотел в первую очередь огреть палкой, — большой начался переполох возле дома Зыкиных. Конеч¬
30 Виль Липатов, том 4
465
но, народ на этот шум повалил еще гуще, и через десять минут возле дома было так, что хоть собрание открывай.
— Марш по домам! — орал дед Зыкин.
— Он ему кость, кость Михаилу-то сломил! — заливалась баба Сузгиниха. — Михаил-то в больницу побег!
— Сама такая!.. — кричали друг другу невестки.
Вот что произошло возле дома Зыкиных, но ведь не
вся деревня собралась возле него — осталось и кроме. Потому на другом конце деревни, на восточном, события шли своим чередом. Здесь из крайнего дома вышел человек с фанерным чемоданом в руках и легкой походкой направился по пылыной и длинной деревенской улице. Сначала он шел один, спокойно, но потом из ворот выбежала баба лет тридцати и бросилась за ним. В две секунды она догнала человека и схватила за рукав.
— Паша! Пашенька! — проникновенно сказала она. — Солнышко мое! Ты чего же серый кустюм-то взял? Он ить вместе нажитой...
Человек — шофер Павел Косой — поставил чемодан на землю, подумал немного, затем открыл чемодан и вынул из него серый костюм.
— На твой костюм!
Он опять пошел по улице, но женщина, перекинув костюм через плечо, догнала его:
— Пашенька! Ласка моя, а черны брюки!
— На тебе черны брюки...
К Павлу Косому и его жене Вере, которые разводились в месяц два раза, тоже пошел народ — прибегали те ребятишки, что не успели к Зыкиным, несколько мужиков, баб и сам дед Крылов. Как раз в тот момент, когда в чемодане у Павла почти ничего не осталось, дед Крылов преградил ему дорогу и сказал:
— Опять уходишь?
— Ухожу! — гордо ответил шофер. — Ты бы тоже, дед Крылов, ушел, если бы тебя заместо ужина бабскими сказками угощали...
— Так нет же коров! — обрадованно завыла шофе- рова жена. — Нет коров-то!
— Будто бы я когда-то молоко пил! — усмехнулся шофер. — Будто бы она не все молоко учителям продает...
— Ах, вот что! — завопила шоферова жена. — Я учителям молоко продаю! А кто вчера Маруську Шмеле¬
466
ву домой провожал? А на сером пиджаке, который вместе нажитой, чья помада? А я, значит, молоко учителям продаю...
Происходили в деревне и мелкие события, но вскоре все стихло, так как на улице появился велосипедист — ехал Сидоров подпасок Колька. Он не остановился возле шофера и его жены, не заехал в колхозную контору, не обратил внимания на толпу возле дома Зыкиных, а прямым путем подкатил к дому Колобковых, на крыльце которого тихонько сидели Клавдия и Рафаил. Колька еще снимал ногу с педали велосипеда, а Рафаил уже шепнул Клавдии:
— Ты шибко не волнуйся. Что будет, то и будет.
— Беда, дядя Рафаил! — интимным шепотом сказал Колька. — Чернушка сама пропала и полстада увела...
— Вот и все! — меланхолично протянул Рафаил. — Вот и все!
— Вы не бледнейте, дядя Рафаил, — жалобно утешил Колька. — Хозяин хоть за корову и отвечает, но дело до суда не надо доводить. Сидор вам велел народ собирать.
Через полчаса десятка два мужиков и семеро самых бойких баб покидали деревню, отправляясь на поиски коров, уведенных Чернушкой, а у колхозной конторы стоял председательский «газик», в котором сидели председатель, участковый уполномоченный Анискин, дед Крылов и Рафаил. Когда бабы и мужики двинулись в путь, председатель, сидящий за рулем, повернулся назад и спросил Рафаила:
— Двинемся и мы, что ли?
— Давай, Иван Иванович, — озабоченно ответил Рафаил.
«Газик» был новенький и резвый, председатель ездил быстро, и вскоре они приехали на пастбище, то есть на то место, где пастух сворачивал стадо на луга и верети с проселочной дороги. Сидор стоял на обочине и сплетал кончик бича. Завидев председательскую машину, он вытянулся и пошел навстречу, печатая шаг и поигрывая левой рукой.
— Ну! — набросился на него Рафаил. — Что такое?
— А такое, — бойко ответил Сидор, — что полстада нету... Вот вы гляньте на то, что осталось, и сами поймете, какая язва эта телка...
Приехавшие глянули на остатки стада и застонали — самые мелкие, бросовые и старые коровы, никчемные
30*
467
бычишки паслись на вытоптанном лугу, сбитые Сидором в испуганную дисциплинированную стайку. Рафаил тяжело вздохнул, нахмурил брови и отчаянно сказал:
— Ты, Сидор, коров пасешь или газетки читаешь? Где же твои глаза были, старый ты хрен, что телка полстада увела?
— Я, конечно, извиняюсь, — смиренно ответил Сидор. — Я, конечно, прошу прощения, но кто тут есть начальство? Или вот председатель Иван Иванович, человек, который облаченный, или вот товарищ участковый Анискин, который при нагане, или вот ты, товарищ Колобков, который хозяин телки, что полстада увела...
— Сидор, — краснея и запинаясь, сказал Рафаил.— Ты, Сидор...
— Мало что Сидор! — сердито ответил пастух. — Ежельше я тебе поручил народ на поиски поднимать, то это не означает, что ты должен председателями и участковыми командовать... Ты лучше стадо ищи с твоей проклятой телкой...
— Не надо искать стадо, — вдруг сказал участковый Анискин. И без того толстый, он, чтобы не рассмеяться, надувал губы и казался лицом от этого еще толще. —■ Не надо!
— Как так?
— А так, что возвращается стадо... Ох, штрафану я тебя за газетки, Сидор!
И на проселочной дороге раздался хохот — смеялся председатель Иван Иванович, не смеялся, а точно икал участковый, по-стариковски хихикал дед Крылов и хохотал счастливый Рафаил.
Стадо действительно возвращалось. Из-за крупных берез, из-за синевы обской, что маячила меж березами, по-козлиному грациозно выходила Чернушка — голова поднята, хвост крючком, рыжее пламя заливало бока. За ней шли крупные коровы, а первой шла за Чернушкой корова самого председателя Ивана Ивановича.
— Ишь ты! — сказал он.
Корова участкового уполномоченного шла пятой.
— Перемелется — мука будет, — после длинной паузы со вздохом заметил дед Крылов. — Ты теперь, Рафаил, надежду держи на зиму. Сколько разов бывало, что корова за зиму перебесится...
468
— Зима, зима, — откликнулся председатель. — С одной стороны, до нее долго, с другой — коротко...
— На мясо! — посопев носом, сердито сказал участковый. — Волокется, как корова...
3
За зиму Чернушка стала крупной видной коровой. Рыжина на боках загустела, сделалась почти красной, блестящие рога выросли вразнотык, но были остры и длинны, голова гордо сидела на длинной плавной шее. Такая выросла корова, что, когда Клавдия с большой опаской выводила ее на двор размяться, соседи останавливались, качали головой и, словно сговорившись, произносили одно и то же слово: «Баская!»
Зимой с Чернушкой случались только мелкие происшествия, такие, что не выходили за пределы колобовского двора. После ноябрьских праздников она, например, села. Случилось это утром, когда Рафаил собирался возить тракторными санями навоз, а Клавдия хлопотала по хозяйству. Рафаил уже подпоясывал полушубок, собираясь уходить, как в избу вбежала Клавдия:
— Она сидит!
— Как это сидит?
— А вот на заду!
Рафаил побежал в стайку. Действительно, Чернушка сидела, вытянув задние ноги, передними уперевшись в доски ясель. Поза у нее была приветливая, хлебосольная, а на хозяина она смотрела с задумчивой лаской.
— С чего она села? — спросил Рафаил.
— А ни с чего!
Опасного в том, что корова сидит, конечно, не было, но вскоре выяснилось, что Чернушка ни лежать, ни стоять не хочет. Рафаил помахал на нее руками — никакого внимания, покричал — и бровью не повела, схватив ее за рога, попытался повалить — не смог. Чернушка сидела прочно, как железобетонная.
— С чего-то же она села! — рассердился Рафаил. — Может, ты на нее шумнула или пищу не ту дала. Не может же корова просто вот так сесть!
— И не шумела, и пищу правильну дала, — ответила Клавдия.
Рафаил еще минут пять повозился с Чернушкой и рассердился окончательно:
469
— Ну и пусть сидит! Сколько разов я из-за нее на работу опаздывал...
— Дак и я опаздывала!
Рафаил пошел было вон из стайки, но у дверей остановился:
— Клав, а Клав! — позвал он. — Что сидит, ты никому не рассказывай.
— Что я дура, что ли?..
Рафаил и Клавдия не врали, когда говорили, что из- за Чернушки несколько раз опоздывали на работу. Да и любой человек опоздает на колхозный наряд, если у него корова вышибет лбом двойные оконные рамы и сунет голову в дом: во-первых, надо рамы заделывать, чтобы ребятишки не померзли, во-вторых, заботиться, не поранилась ли корова. И уж конечно, никто не поспеет на работу, если его корова наденет на голову ведро, а снять его невозможно, так как дужка зашла за кривой рог. Пока Рафаил нашел пилку по железу, пока пилил, пока снимал...
Одним словом, на колхозное отчетно-выборное собрание Рафаил с Клавдией шли неохотно, сели в последних рядах, хотя в прошлые годы садились там, где было место. Но председатель Иван Иванович в докладе их не обругал, а даже отметил, что Рафаил перевыполняет нормы выработки, а Клавдия не допускает падежа птицы. Однако во время выборов Рафаил очень переживал. Когда стали предлагать кандидатуры, то третьим поднялся дед Крылов и сказал:
— Тут я промеж стариков посоветовался, так надо в ревизионну комиссию беспременно избрать Рафаила Колобкова.
— Правильно будет! — сказали в зале.
За Рафаила проголосовали единогласно, но, когда народ расходился с собрания, к нему боком подошел пастух Сидор, раскручивая руку пропеллером, решенно сказал:
— Раз ты через эту дику корову большу славу поимел, то никакой идиот тебе ее за пять рублей пасти не станет...
Иными словами, за зиму никаких крупных происшествий с Чернушкой не произошло, но Рафаил и Клавдия с большой тревогой ждали весны. Она надвигалась не клейкими почками и не веселыми ручейками в оврагах, за которыми они оба в прошлые годы исправно следили, а приметами в жизни и причудах Чернушки. Чем длин¬
470
нее становился день, тем теплее ночи селились над деревней, тем чаще из стайки доносилось трубное мычание — веселье и призыв были в нем, томление и нега, ликование и угроза.
В первый раз Чернушка подала голос на рассвете, часов в пять, когда апрельское небо отливало сиренью, а сквозь тюлевые шторки просвечивала большая утренняя звезда, зеленая и сладкая. Клавдия и Рафаил проснулись, увидели сиреневое небо и зеленую звезду, почувствовали шевеленье темени над головой и долго-долго лежали неподвижно. Потом Рафаил прижался головой к гладкому и теплому плечу Клавдии, потерся об него глазом.
— Звезда-то, звезда-то, как живая! — сказал он.
Чернушка промычала три раза, затихла, тишина возилась под потолком вместе с теменью; потом возник новый звук — низкий и протяжный. Сначала Клавдия и Рафаил не поняли, что это такое, затем все стало ясно: это ревел на колхозной ферме племенной бык Черномор. Он промычал три раза, и началось — в дворах и стайках деревни, одна за одной, подавали голоса коровы: басистые, писклявые, надсадные, дребезжащие. Всякие голоса раздавались над деревней, а когда затихли, то тишины уж не было. Скрипели пружинные матрацы и доски кроватей, хлопали двери, гремели заслонки у печек — это поднимались бабы.
— Давай и мы вставать, — сказала Клавдия. — Чего уж теперь...
— Давай.
После длинных майских праздников, в тот день, когда Обь начала сжиматься в разливе, обнажая заливные луга, в тот день, когда дед Крылов на рассвете вышел на берег реки и, нюхнув воздух, пробормотал про себя: «Тут уж в самый раз!», в тот самый день, когда пастух Сидор купил в сельповском магазине бутылку «Московской»,— в этот самый день Чернушка впервые вышла на улицу. Она задрала голову, нюхнула воздух, раздув ноздри, тоненько, страстно промычала. Потом трижды омахнула себя по бокам хвостом и жеребячьей рысью пошла в луга, оставляя на сырой дороге ровные, печатные следы.
Напрасно пастух Сидор, срядившийся в этом году пасти Чернушку за шесть рублей, кричал ей: «Стой!», напрасно гнался за ней на велосипеде подпасок Колька, напрасно кричали бабы и мужики — Чернушка шла и
471
шла, уводя за собой стадо. Вся деревня смотрела на это молча и напряженно, непонятно и безнадежно. Когда же шум уходящего стада затих, то дед Крылов в одиночестве вышел на дорогу, почесал голову и сказал:
— Ну, началось!
Действительно — началось. Ровно через десять дней, под вечер, на квартиру к Колобковым пришел колхозный зоотехник Петр Игнатьевич, вежливо поздоровавшись с хозяевами, стал манить Рафаила в сторонку, прищуривая один глаз, а вторым косясь на Клавдию.
— На одно словечко, Рафаил, на одно словечко! — говорил он, пятясь. — При Клавдии Александровне неловко. Невдобно при Клавдии Александровне...
Ничего не понимая, но заранее бледнея, Рафаил вышел на двор, прошел за пятящимся зоотехником до ворот и по знаку гостя наклонил к нему ухо.
— Все стадо может остаться яловым! — сказал зоотехник и прищурил сразу оба глаза. — Вот такая ситуация...
— Господи, я-то при чем!
— Вы, Рафаил Семенович, ни при чем, но ваша корова Чернушка себя так поставила, что племенной бык Черномор из колхозного стада перешел в личное, но и в нем ходит за вашей Чернушкой, как привязанный...
— Вот так! — меланхолически сказал Рафаил. — Вот так!
— Дело пахнет неприятностью, гражданин Колобков! Вам вообще надо обратить внимание на себя. Вы, говорят, на пахоте допустили огрехи, изредка опаздываете на работу, вот третьеводни трактор два часа простоял...
— Так мы Чернушку к вам же водили, Петр Игнатьевич! — обиженно закричала с крыльца Клавдия. — Она чего-то там съела, и вы сами велели ей уколы произвесть...
— А вам стыдно подслушивать, товарищ Колобко- ва! — быстро повернулся к ней зоотехник. — К вам критика тоже относится. Яйценоскость на ферме не поднимается, во вторник петух в триер попал, вчера овцы птичье зерно поели...
— Вот так! — упрямо повторил Рафаил, опуская голову. — Вот так!
— Плохо дело, Колобков, плохо!
Вечер уже был, девятый час шел, на зоотехнике, ко¬
472
торый целый день провозился с Черномором и Чернушкой, лежал слой майской сухой пыли, кожа на лице у него обвисла и посерела, глаза устало поблескивали, на ногах он нервно приплясывал — ох, плохо было, плохо! Рафаил посмотрел на Клавдию, Клавдия — на Рафаила. Плохо, ох, плохо! И месяц висел над деревней какой-то кособокий, и Обь как-то серела, и дома как-то стояли вразброску...
— Тра-ля-ля! — легкомысленно пропел Рафаил.
И как раз в этот миг над деревней накатом пронесся первобытный рев — он походил на гудок парохода, когда тот приставал к обским пристаням и жители деревень все до единого суматошно вываливали на берег. Но пароход прошел мимо деревни только вчера, и Рафаил с зоотехником, одновременно вздрогнув, выбежали за ворота.
Ревел не пароход — ревел племенной бык Черномор. Черный, блестящий, словно отлитый из чугуна и отлакированный японским лаком, могучий, как движущийся памятник, Черномор шел и ревел — восторженно и дико, радостно и страшно, отреченно и самозабвенно. Впереди него смирно, покорно, застенчиво, но грациозно и гордо не шла, а вытанцовывала Чернушка с волнистым чубчиком на лбу. Позади них, где-то в отдалении, двигалось остальное стадо.
— Мать честна! — прошептал Рафаил. — Мать честна!
СИЛЬНО ДОЛГИЕ СНЫ
Светлой памяти тогурского долгожителя Афанасия Ивановича Сопрыки- на посвящается.
1
В ночь с четверга на пятницу дед Евлампий Крылов,, старый старик, почувствовал в болящем третий месяц боку сквозную легкость, сладость и теплоту, словно кто-то одним добрым мановением руки снял тупую боль и нудное томление, да еще и придал всему телу молодой прыти, от которой хотелось немедленно куда-то идти, бежать или взлететь воздуш¬
473
ным шариком. Сначала Евлампий с печи слезать решительно не хотел, пытался придремать, но, поворочавшись с боку на бок минут десять, места себе в лежачем положении так и не нашел. Пришлось тихонечко спуститься вниз, в кромешной темноте натянуть штаны и клетчатую ковбойку, расчесать пятерней спутавшуюся бороду. В соседней комнате спала Верка, младшая дочь шестнадцати лет, спала, как всегда, на спине, с могучим храпом, да таким, что никакой мужик-храпун не угонится. По этой причине на дощатую стенку дочериной комнаты дед Евлампий посмотрел благодарно — под прикрытием храпа он смог и сапоги ронять на пол, и громко кряхтеть, все равно никто не услышит. Однако сапоги старик Евлампий лет пять уже не носил, а независимо от времени года надевал на шерстяной носок разношенные валенки. У него — этакая беда! — в любую жару ныли от холода колени и кончики пальцев рук и ног.
Мягко толкнув от себя толстую избяную дверь, Евлампий выбрался в темные сени, из них, с трудом найдя чугунную щеколду, вывалился на высокое и скрипучее крыльцо, проклиная третьего по возрасту сына Егора за то, что лет пять ладился эту скрипучесть крыльца изничтожить, но только болтал языком, так его и разэтак! «А вожжами! — сладостно подумал старик Евлампий, сообразив, что Егора можно отхлестать, не снимая с него штанов: ходит в срамных джинсах в обтяжку. — Вожжами, вожжами! — продолжал думать старик, осваиваясь в ночной темноте. — Если, к примеру сказать, такие вожжи, как у деда Севостьяна, то прощайся, Егорша, со своими джинсами! Это как пить дать!»
Было морочно и жарко, дождевые тучи висели буквально над крышами домов, туман цеплялся за плетни и кромку леса, и, наверное, поэтому казалось, что из одной избы, теплой и сухой, дед Евлампий вышел в другую избу — попросторнее и похолоднее, отчего сквозная сладость и легкость в боку, нежное тепло под сердцем стали до того отчетливыми и резкими, что старик дрожащей рукой придирчиво ощупал собственную грудь под толстой фланелевой рубахой. «Ну, это же просто чудо из чудесов! — и усмехнулся низкому небу. — Всех этих докторов в кучу собрать и на прополку! — Старик Евлампий хрипло расхохотался, так как в его семье врачами были второй по счету сын и старшая дочь, а из
474
внуков в доктора подались пятеро. — Значится, бригада на прополке из семи человек! —смеялся дед Евлампий. — А второе дело — посадить всех на хлеб и квас, чтобы стариков желудочной кишкой не истязали!» Сам дед Евлампий кишку глотать отказался наотрез, но знал одного старого, который глотал и сразу после этого стал худеть, заговариваться. И немудрено, если в этой кишке, говорят, три метра и она в животе свертывается в кольца, как змея на солнце.
Дед Евлампий прислушался: ни шороха, ни лягушачьего голоса, ни собачьего брехания; тишина клубилась и мерно подрагивала, тишина для самой себя была тихой, и поэтому старик Евлампий слышал дыхание и стук сердца, и с каждой секундой его дыхание и его сердце приносили все большее и большее облегчение, и все это было продолжением того, что произошло на печке, когда он проснулся оттого, что увидел себя во сне двадцатилетним, да еще и женихом при тросточке и высокой фуражке с лакированным козырьком... Приснилось, будто шел он к околице, где, прижавшись к пряслу острой высокой грудью, стояла Мария. Руки и ноги у Евлампия походили по силе и упругости на сталь литовки, он не шагал к пряслу с Марией, а парил над узенькой тропкой, заросшей по бокам одуванчиками и вязиль-травой, любимой коровами. Он знал, что Мария будет отбиваться, сильная, как олениха, не сразу допустит до себя, но от этого было совсем весело и хотелось, плывя по воздуху, еще и плясать. Он руками своими литыми и ногами в три движения усмирит девку, но для порядку даст ей время колотить локтями в грудь и больно отбиваться коленями, чтобы не затаила на всю жизнь обиду. Дескать, сразу, кобелина проклятый, обхватил, повалил, накрыл своим большим звериным телом. Пусть Мария старухой будет вспоминать, как от ловкого удара у Евлампия посыпались из глаз искры...
— Вота! Вота чего прильстился! — протянул старик, прислоняясь к балясине крыльца. — Такое чудо еще не бывало! Могет быть, я еще сплю без задних ног?
Чудо и на самом деле произошло. Как только почувствовались в боку сквозная легкость, сладость и теплота, дед Евлампий пережил необычное. С высокой пег чи он опустился с упругостью семидесятилетнего, шагал по дому и тихо открывал избяные двери, будто лет
475
ему шестьдесят, в сенях шарашился пятидесятилетним, а сейчас, стоя на крыльце, сбрасывал с себя года быстро, как осина листья по ветряной осени, и голова от этого кружилась, словно от бутылки хорошей водки. Низкому небу, например, он усмехался сорокалетним, а о докторах, что ни лешего не понимают, думал мужиком, которому тридцать. Потом чудеса на некоторое время твориться перестали, минуту-другую он слушал обычную тишину, ничего нового за собой не примечая, но вдруг без времени и без толку в болоте расквакалась молодая лягушка, и от этого дед Евлампий — на сколько времени, неизвестно — не то что потерял сознание, а как бы отключился от расшатанного крыльца, липкого тумана и тяжелых туч, чтобы через десяток секунд, будучи в отключении, спуститься с крыльца и встать ногами в валенках на живую землю. От этого дела старик Евлампий мгновенно пришел в себя. «Валенок, он себя оказывает!» — важно подумал он.
Впрочем, валенки у деда Евлампия были старые, но недавно добротно и толсто подшитые крепкой дратвой. Толстые подошвы не мешали чувствовать, как гудит, звенит, подрагивает и пошевеливается во сне сырая, теплая, мягкая по-ночному земля. Евлампию в молодости говорили, что земля и сама вокруг себя вертится, и вокруг солнца ведет хоровод, и само солнце тоже в стоячести не находится. «Все это враки!» — привычно думал Евлампий, а сам в эту минуту чувствовал, что не враки, а правда: вертелся он, Евлампий, и заодно с землей, и вокруг одного солнца, и другого, и третьего. Вспыхнула отчего-то в глазах крохотная молния, туман поплыл розовый, изба напротив полыхнула мгновенным пожаром, и от этой небольшой малости старик Евлампий Кузьмич Крылов насовсем вроде сделался тем двадцатилетним парнем, который шел при тросточке и фуражке к Марии, а она ждала его. За свои девяносто восемь лет не прожив ума, дед Евлампий живо сообразил, что снится ему двойной сон: один про Марию, второй про то, как слез он ночью с печи и — ни за здорово живешь! — пошел на крыльцо ждать, пока не заквакает дура лягушка. Сразу наступил покой, и, чтобы отделаться от первого сна, дед Евлампий покосился на серую в тумане сараюшку, язвительно улыбнулся и пробормотал:
— А без вожжей не обойтись, ежели Егор простого
476
слова не понимает! Этак можно все хозяйство в гниль пустить!
Гневался дед Евлампий потому, что дверь сарая перекосились, порожек подгнил. «Одно плохо, что вожжей в доме сто лет нету! — обстоятельно рассуждал старик, чтобы второй сон был со всех концов понятен. — И откуда вожжам быть, если на весь колхоз пять лошадей осталось, да и тех в автомашине на дальние покосы возят. Смех, и только!»
Надо было идти в избу, забираться на полати, чтобы чудной сон перевернулся на другой бок, но деду Евлампию хотелось повременить в новом своем обли- чии. Сильно хорошо было чувствовать молодыми руки и ноги, высокими плечи, прямой — шею; сильно хорошо было дышать сквозной от легкости грудью, слушать бой сердца, такой ровный, точно они с Марией уже прилегли на копну и успели отдышаться; хорошо было видеть глазами и далекое, и близкое и слушать в тишине такое, чего дед Евлампий не слышал годов пятьдесят, а чувствовать такое, что было давно и совсем-совсем забыто: тоску по бабьей ласке, по разворошенной плугом земле и шелестящей под днищем обласка воде Оби. «Вот такого хорошего сна я еще не видел! — подумал старик и только после этого сообразил, что никуда ему торопиться не надо, так как человек над собственными снами не хозяин и, если что ладное снится, нет такого закона, чтобы самому поспешить проснуться. — Надо весь сон в подробности досмотреть!» — решил старик.
Дед Евлампий сладостно и хрустко потянулся вверх, полегчавшие руки соединил над головой, а затем подбоченился и повел плечом так, словно собрался танцевать «Коробочку» — в этом деле по молодости старик был исключительным мастаком. Стоя браво, по-молодецки прямо, Евлампий понимал твердо, что Марии вроде бы здесь и нет, а все-таки она есть и наблюдает за каждым его движением и вздохом. От этого старик заулыбался молодой улыбкой и здорово удивился, что от улыбки не чувствуется твердая кожа на лице. Потом Евлампий без всякой причины, а просто так — от молодости и силы — расхохотался и опять удивился своему хохоту: «Неужто я так смеялся в парнях? Вот уж срамота!» Подчиняясь диковинному сну, старик Евлампий неторопливой подпрыгивающей походкой дошел до калитки и замер — даже сквозь волокнистый туман он видел серую корочку реки, горящий красный бакен и
477
слушал, как Обь тихонечко подмывает глинистый яр и как скребутся в земляных норах береговые ласточкй. «Вот это было! —- обрадовался старик. — По молодости я был такой слухмяный, что мыша из норы шмыгнет, я ее слышу».
— Батя, а батя! — тревожно раздалось на крыльце. — Ты это куда сгинул, батя?
В ответ на такие глупые слова дед Евлампий опять незнакомо для себя захохотал, а прохохотавшись, подошел к крыльцу, чтобы как следует разглядеть сына Егора: от калитки средний сын выглядел страхолюдно.
— Пошли домой, батя?
«Чего же это такое делается?» — между тем думал старик, вблизи увидев, как был стар и дряхл его средний сын, геройский мужик, но непутевый хозяин. Морщинистое лицо, одрябший подбородок, вмятый рот, словно не хватало целого ряда зубов, и глаза у сына тоже были старыми, грустными и потухшими, стариковские были глаза, и спина стариковская, и движения стариковские, да и сам Егор с ног до головы был стариком, а почему это случилось и привиделось во сне, дед Евлампий, конечно, понять не мог. Он только печально улыбнулся.
— Ты чего это, Егор? — спросил старик молодым голосом и дотронулся стальной, похожей на литовку рукой до сыновнего плеча. — Ты почто такое над собой учудил?
Сын скучно отозвался:
— Пошли досыпать, батя, а то весь дом перебудим. Я тебе на полати взлететь помогу...
Над этим дед Евлампий хохотать не стал, чтобы не обидеть Егора, который и без того был стар и нуждался больше отца в жалости и поддержке, но странно было — почему Егор не замечает помолодевшего до парнишечьего возраста отца. «Надо быть, глазами плох стал!» — догадался старик и почувствовал желание сделать что-нибудь приятное Егору. Он поразмыслил и сказал:
— Кость у тебя крепкая, Егор, широкая, звериная. Через это дело ты, стать может, до ста лет проживешь. Тока не потребляй десятками соленые огурцы. Это я тебе в полной серьезности говорю...
Средний сын Егор тронул себя за небритую стариковскую щеку и в сердцах даже перешел на «вы».
— Вы, батя, — сказал он, — вы бы лучше дали дому
478
проспаться, чем мой годы считать... Вы лучше сообразите, что, кроме меня, вас некому на полати подсадить.
Дед Евлампий усмехнулся, заложив руки за спину.
— Это еще как сказать... — проговорил он внушительно, и глаза его сверкнули. — Надо, брат, разобраться, кто кого подсаживать наладится... — После этого дед Евлампий вдруг тяжело задышал и жалобно спросил: — Егор, я таких снов сроду не видал, так ты, может, скажешь, как проснуться, чтобы тебя стариком старым не видеть?
Туман опускался ниже и густел, уже не одна лягушка, а десятки подавали голоса с гнилой болотины, скрипело под ногами Егора рассохшееся крыльцо, возились в хлеву две свиньи, тощая и жирная. «А может, я и не сплю? — хлопотливо подумал старик и еще пристальнее вгляделся в сына. — Нет, гражданин старый Крылов, ты шибко крепко и чудно спишь, а наизаболь размещаешься на полатях, где с вечеру зимой верещат сверчки!»
— Пошли, батя! — сказал Егор и крепко взял отца за руку. — С каждым может случиться, что спросонья дичь порешь... Пошли, батя.
— Погоди, Егор, дай охолонуться.
Дед Евлампий перестал дышать, прислушиваясь к самому себе и глядя на раздерганный туман, что ломтями плавал над пряслами и калиткой. «А ведь я не сплю! — подумал он протяжно. — Я, наоборот, очень даже выспавшийся, такая вот история!» Незаметно для себя он делался все прямее и выше ростом, согнутая годами спина сама собой распрямилась, ноги, молодея, удлинились. Евлампий чувствовал свежесть тела, радость от этой свежести; мускулы на руках и шее — на шее особенно — затвердели, и было такое чувство, словно, до отчаянности нахлеставшись веником в огненной бане, вышел он на хрусткий мороз.
— Постой, Егор! — громче прежнего повторил дед Евлампий. — В этом деле торопиться — людей насмешить. — Он помолчал и спросил: — Ты ничего на мне не примечаешь?
— Примечаю! — сказал Егор. — Ты, батя, такой, ровно бутылку водки хватил... Хорохоришься ты, батя, выламываешься, ровно молодой...
Туман звенел и покачивался, старый плетень пел басом и тоже раскачивался, земля по-прежнему гудела
479
под ногами, точно и она хотела сквозной легкости и теплоты, такой же, как в груди старика Евлампия, и лягушки вторили земле и небу, кричали земле и небу «спасибо» за то, что могли кричать, были живыми.
— Отец, это чего же ты во дворе стоишь? — раздался сонный голос, и с крыльца спустилась вторая жена деда Евлампия, медленная и полная Валентина. — Чего тебе не спится, когда такой туманище?
Батюшки-светы! Если средний сын Егор был стариком, то вторая жена Валентина рядом с ним казалась и вовсе старой старухой, которой на земле имелось одно место — теплая печь, а она почему-то проживала на кровати. Валентина была такая, что дед Евлампий жену не узнал бы, если бы не голос и крыльцо, на котором она стояла, да сын Егор, который на мачеху глядел ласково.
— Вы бы обои помолчали! — строго сказал Евлампий. — Если вы молчать не будете, я сроду ничего не пойму...
«Какой же это сон!» — еще раз насмешливо подумал старик, когда на крыльцо выбрался, спросонья задев плечом за дверную стойку, младший внук Венька, комбайновый бригадир и злостный бабник. Он на деда посмотрел злыми-презлыми глазами, поморщился:
— Его надо на печь загнать... Хрен я норму выполню, если он всю ночь будет по двору шарашиться. — И повернулся к родной бабушке, то есть Валентине. — Бабуль! Снести деда на полати, чтобы все чин-чина- рем? А? Снести?
Валентина не ответила, а на крыльце появился младший сын старика Евлампия, городской учитель, ученый человек и рассудительный, словно древний поп. Он на отца посмотрел с обожанием, но ничего не сказал, так как, наверное, еще не знал, что говорить. Се- кунду-другую стояла тишина, а потом из огромного дома на четырнадцать комнат и четыре клетушки народ повалил густо, чтобы понять, что творится на белом свете в четыре часа утра, туманного и прохладного. Жены сыновей и внуков, мужья дочерей и сами дочери, внуки и правнуки так и полезли из дома, словно из улья пчелы, когда кто-нибудь сунет в леток хворостину. Все были сонные и злые почище пчел...
— Молчать, вот что я вам велю! — крикнул старик Евлампий и притопнул ногой. — Стой смирна и не ше- вольсь!
480
Над головой, высоко-высоко, за толстыми и лохматыми тучами, что-то пело гитарным низким голосом, пело протяжно, без мелодии, пело так негромко, что, наверное, кроме Евлампия, этого пения никто не слышал, и ничего удивительного в этом не было, так как вся родня деда Евлампия была старой, вялой и равнодушной, а пятилетний правнук Сережка, выглядывающий из-за шелковой материнской рубахи, казался, наоборот, неразумным грудником. «Ничего не видят, не слышат, не понимают!» — с жалостью подумал старик, прислушиваясь к небесному пению. Походило это на радио, когда передают совсем неразборчивое, но сердце все равно начинает корчиться и подвывать, хочется чего-то такого, чего не бывает и даже быть не может.
— Ма-а-а-лчать!
Батюшки-светы! На крыльцо высыпали человек двадцать, от мала до велика, каждый на особицу, а вот старику Евлампию казалось, что он видит одно лицо — огромное, глазастое и встревоженное: ни одной знакомой черты в этом лице не было, никого похожего за всю жизнь Евлампий не встречал, узнать по лицу никого не мог и только дивился, как много в том огромном лице печали и понимания, словно тот, кому принадлежало лицо, все знал про него, старого Евлампия. Может статься, знал и то, чего сам Евлампий знать не мог и не должен был знать. Когда громадное лицо подмигнуло правым глазом, видать, пригласило к разговору, Евлампий неожиданно для самого себя сказал:
— Если не спать, то уж всем не спать! Егор, добу- живай остальной народ...
Старик Евлампий уже понял, что все это значило — и пение за облаками, и большое лицо с пронизывающими насквозь глазами, и туман, что лохмотьями висел над землей, и прямая его спина, а главное, отчего ему, почти столетнему человеку, сейчас, казалось, нет и двадцати. И, понимая все это, понимая так глубоко, как никогда не понимал, Евлампий теперь находил в огромном лице одну за одной знакомые черты — рот, подбородок, брови. Между тем на высокое скрипучее крыльцо в сердитом и сонном молчании выходили и выходили жильцы длиннющего из-за многочисленных пристроек дома. Всего вышло, может быть, человек тридцать, так как родню старик Евлампий сроду сосчитать не мог: одни уезжали, другие приезжали, третьи редко ночевали или, наоборот, дневали дома.
31 Виль Липатов, том 4
481
Скоро Евлампий заметил, что если первые родственники вываливали на крыльцо, полные досады и злости на него, разбудившего весь дом, то теперь, напоследок, выходили притихшие, встревоженные, наконец, испуганные. «Тоже, змеюки, все понимают! — одобрительно подумал старик. — Дураки, дураки, а умные, как вутка, только вотруби не едят!»
— Все, что ли? — строго спросил он.
— Вроде все! — шепотом ответил средний сын Егор. Он тоже позабыл, сколько народу проживает в отчем доме, сутками был занят сейчас своей тракторной бригадой, уходил из дома на зорьке, возвращался в потемках и, поев, валился снопом на высокую кровать.
— Слушайте, что буду говорить! — яростно произнес дед Евлампий, и голос прозвучал сильно, молодо, ударно. — Слушайте, и не охать или там ахать... Держать себя в струне! Молчать! В затмение не входить!
Самое большое, двадцать лет было сейчас деду Евлампию, тело, руки и ноги были звонкими от молодости, от раздувшейся, переполненной воздухом груди, и казалось, что при желании может подняться над землей и полететь ярким воздушным шариком, и мысли тоже были молодые, игривые, легкие, несерьезные, точно у малого ребятенка. Хотелось, например, попрыгать на одной ноге, бормоча: «Эники, беники ели вареники!» Одним словом, происходило такое, чего дед Евлампий умом не понимал, но сердцем чувствовал: вот оно, вот оно пришло! Давеым-давно приход неизбежного старик Евлампий ждал и привык ждать, в большие дожди или кромешную жарынь молил кого-то, чтобы неизбежное пришло, и все это продолжалось так долго, что перестало быть страшным, а иногда вызывало гнев, что торопиться не спешило. «Эники, беники ели вареники!»
— Я седни помирать стану! — не громко и не тихо сказал старик Евлампий. — Седни моей жизни предел выйдет. Так что слушайте без пропуску... Вот ты, жена Валентина, мне новую одежину расстарайся дать, а ты, Егор, вали к Федосеевичу, чтобы деревянную одежину мастерил, да сильно строгать не старался. К нежностям непривычные! Стой бежать! Еще тебе такой наказ, Егор. Мимо дома Василия Мурзина, который Во Дворе Колодец, бежать станешь, так скажи Василию, что друг помирать наладился. Пущай живой или мертвый прийтить расстарается. А еще, Егор, я тебе велю...
482
На этих словах старик Евлампий остановился, чтобы вспомнить, что еще наказать надо среднему сыну Егору, когда окончательно умереть наладится. «Теперь ничего забывать нельзя! — строго думал он. — Теперь, если что забудешь, так на всю жизнь останется позабытым. Так что, Евлампий, думай неторопко и со смыслом... Не торопись, не торопись, успеешь еще належаться!»
— Вот что я тебе, Егор, велю... — начал старик, но кончить ему не дали, навалились всем обществом.
Сначала родственники старика Евлампия, конечно, думали, что отец, дед и прадед со сна порет чушь, но, когда увидели его потоньшавшее за ночь лицо и распрямившуюся чудесным образом спину, поняли, что творится все-таки неладное, и от этого все вопящим комком свалились с крыльца, бросились под ноги старика, крича, угрожая, заклиная и умоляя. Малые ребятишки визжали от испуга, повзрослее орали, чтобы дед или прадед перестал чудить; женская бригада, понятно, вела себя одинаково, то есть независимо от возраста плакала и кричала неразборчивое. В этом месиве, понятно, было не разобрать, где жена, а где столетняя теща, в этой неразберихе нормальным человеком выглядел только средний сын Егор, стоящий отдельно с загнутыми тремя пальцами на правой руке, и вид у него был деловито-озабоченный — боялся перепутать Василия Мурзина, который Во Дворе Колодец, с Василием Мур- зиным, который Корова Принесла Двойню.
— Вот что я тебе, Егор, велю...
Сквозь крик и плач голос Евлампия до сына Егора не пробился, да и наказывать сыну больше ничего не хотелось. Сильным, но осторожным движением старик Евлампий освободился от объятий рыдающих и вопящих родственников, оказавшись на свободе, с удивлением наблюдал, как родственники продолжали грудиться, хотя его-то среди них не было. Тогда Евлампий подошел к сыну Егору, который по-прежнему смотрел на три загнутых пальца, толкнул его плечом и спросил:
— Твоя-то где? Наташка где, спрашиваю?
— Спит, вот где! — виновато и сердито ответил Егор. — Об прошлый год, когда у меня обласок украли, она так и не проснулась... Слышь, бать! — на ухо отцу шепнул Егор. — Мне твои распоряжения выполнять или это на тебя ночная блажь зашла, что помирать пора? Ты мне обязательно правду скажи, я еще доспать дол¬
31*
жен, как мне придется три смены работать. Говори, опять шуткуешь или взаболь помирать собрался?
Евлампий трубно ответил:
— Отшутковался я, хватит! Помру ближе к обеду... Беги по моим заданиям, Егор, хорошо беги, чтобы одна нога здесь, другая там, где нас пока нету... Стой бежать! Продавщице Дуське скажи, чтобы водки поболе придержала. Как отец, прошу тебя, Егор, на поминки денег не пожалей. Пусть народ наестся да напьется от души... Моя тысча страчена?
— Целенькая!
— Молодца! Начинай бежать...
2
Жена Валентина — она у деда Евлампия второй была — ни вопить, ни плакать не решилась, а повела себя сильно умно: проявила послушание, за что и была допущена в горницу, в которой муж потихоньку собирался в дальнюю дорогу. Он уже сам нашел в комоде и вынул пару чистого белья и ситцевую рубаху, наладился было идти за яловыми сапогами, как Валентина робко открыла дверь и в сутулости застыла на пороге, точно спрашивала: «Если ты помирать собрался, мне-то где находиться? На передовой позиции или в спальне, где мое место от роду определено?»
— Проходь, проходь, Валентина! — разрешил старик. — Не робей, ничего не бойся, одного меня слушайся, как я теперь самый умный!
Он смотрел на вторую жену Валентину, смотрел на нее, стоящую в трех шагах, крупную моложавую шестидесятилетнюю женщину, и не видел ее, точно жена сделалась стеклянной. Дед Евлампий происходящее и видимое осознавал и видел сейчас вообще очень плохо, как бы в перевернутый бинокль, да еще с матовыми стеклами. Все то, что он хорошо видел и отчетливо слышал, происходило не в окружении, а в самом Евлампии, который изнутри сейчас, казалось, был таким громадным, как вся — невозможно поверить! — земля, и по желанию можно увидеть, как карабкается по ветке мартышка или похрюкивает в болоте бегемот. «Это телевизор кажет передачу «В мире животных», — подумал старик. — Чего только не насмотришься!»
— Отец, а отец? — тихо позвала жена Валентина. —
484
Ну, скажи обратно, что шуткуешь, да я варить обед налажусь. — Она прижала руки к большой груди. — Слова тебе никто плохого не скажет, если ты над всеми нами шутку произвел. Я тебе за правду такие пельмени слеплю — меньше кошачьего уха. Наешься и сутки проспишь на полатях без задних ног... Отец, а отец?
Со второй женой Валентиной старик Евпампий Крылов прожил тридцать с лишним лет, женился на ней, когда Валентине было двадцать, а ему шестьдесят, и благодаря такой разнице в годах за все это время Валентину ни разу не обидел и словом, но и ни разу не говорил ей таких слов, какие говорят по телевизору или в кино: «Я тебя люблю!» Тьфу, да и только! Валентина, наверное, тоже сильно бы удивилась, если бы муж признался ей в любви. А для чего? Если женился, значит, любит, какие тут могут быть сомнения или вопросы, а что касается самой Валентины, то она мужа и любила, и боялась, и почитала, и обожала, но об этом никогда, разумеется, тоже не говорила: всякая жена обязана мужа любить и своему мужу всячески угождать, иначе зачем же люди женятся.
— Отец, а отец, скажи, что шуткуешь. Скучно тебе без рыбалки, вот ты и шуткуешь. Говори, отец.
Евлампий жену Валентину слышал, но, что она говорит, не понимал, так как жил в таком мире, в котором не бывал. Что-то сиреневое, теплое и подвижное виделось, какой-то мерцающий свет проливался в грудь из сиреневого мира, и было Евлампию хорошо, как бывало в детстве, когда, набегавшись за день, возвращался домой и пил из большой кринки холодное молоко перед тем, как забраться на полати к родному прадеду Федору, которому в те времена шел сотый год и пахло от которого пчелиными сотами, хотя пчел у деда лет сорок не водилось.
— Отец, а отец!
Жена Валентина виделась Евлампию перевернутой, точно он на нее смотрел, стоя ногами на потолке, жена Валентина была маленькой и зыбкой, как матерчатая кукла, но он понимал, что она говорит важное, самое важное для нее, поэтому напрягся и звонким мальчишеским голосом произнес:
— Устал я — вот главное дело, Валентина! Эта ночь у меня бессонной была, так вот сильно хочется доспать, Валентина.
Прадед старика Евлампия столетний Федор умирал
485
нахально и хулиганисто, например, старшего внука поставил у изголовья с толстой свечой в руках, хотя ни бога ни черта не боялся, варнак был варнаком; правнуку Евлашке приказал петь: «Солдатушки, браво ребятушки...» Хулиган из хулиганов! Бывало, во главе обеденного стола сядет, ложку оближет и вдруг закроет глаза, словно ему придремнуть охота. Он, срамник, делает вид, что дремлет, а все застолье голодное сидит, ожидает, пока он ложку в суп опустит. Вот какой был издеватель, царство ему небесное!
— Мне на этом свете годить нельзя! — звонко продолжал старик Евлампий. — Ты, Валентина, сама должна смекнуть, что мне сейчас, когда охота, надо помирать. Сейчас я не умри, меня какая-нибудь болезнь заест или сильная тоска. Так что мне сейчас самое время помирать. Хватит! Девяносто восемь годов — это я шибко длинно прожил, Валентина...
Дед Евлампий говорил все это в горнице, но ему казалось, что он стоит на вершине твердой горы, весь белый и блестящий, роняет слова, точно золотые монеты. Жена Валентина у него, конечно, есть, такую женщину он знает и о ней помнит, но увидеть ее не может, так как женщина мельтешится у самого подножия твердой горы. Дышалось ему сладостно, тело по-прежнему было легким, и речь он держал правильную, умную речь он держал, уподобившись стоять на самой вершине всего и всея. Может, это и была вся земля!
— Мне умереть, как спать, хочется, вот такие дела, Валентина! Вы меня промеж трех берез положите, вы меня повыше взгромоздите, чтобы мне оттуда Обишку и кедрачи видать было. Это вы обязательно так сделайте! — Дед Евлампий помолчал. — Теперь я, Валентина, как на генеральной ассамблее, слово за собой резервирую, а ты по хозяйству расстарайся, чтобы завтра большие по мне поминки изделать. Это дело я за сто годов заработал... А вот этого — плакать — ты у меня не моги! Большая беда может напослед содеяться. Вдруг я тебя ременными вожжами повдоль спины... А теперь иди, Валентина!
Оставшись в одиночестве и тишине, старик Евлампий стал поглядывать на красный угол горницы, где лет сорок назад висела черная икона, за которую он, бывало, прятал бутылку водки, когда первая жена Мария по пьяному делу устраивала большой визг и топанье ногами, так как была своенравная, мужем по неопытно¬
486
сти смолоду распущенная и вообще загулистая. Однако ее старик Евлампий любил, лет десять тосковал по первой любви и первой жене, но и вторую жену любил не меньше. В шестьдесят лет он, говорили, выглядел на неполные пятьдесят, лицо имел загорелое и тугощекое, фигуру молодецкую и все-таки декабрьскими или январскими ночами на широкой пружинной кровати умел зазябнуть и охотно грелся теплом большой и послушной Валентины, пахнущей всегда козьим молоком, хотя коз в хозяйстве не было. «Они обои хорошие, Мария и Валентина!» — душевно подумал Евлампий и в задумчивости сел на кедровую лавку.
Что ни говори, как ни раскидывай и подсчитывай, зажился дед Евлампий на этой теплой и круглой земле. Еще позавчера ему как-то мельком подумалось, что смерть — пакость сухорукая! — ходит неподалеку, подмигивает круглым глазом, стукотит костями: «Пора, Евлампий, пора!» Он и сам понимал, что давно пора, так как жил в деревне — честное слово! — новоселом. Соберется с силами, слезет с печки, пойдет мелким шагом по улице — чужая деревня со всех сторон. Где дружки и приятели? Где знакомые бабы, любящие и содержащие самогон? Где бубенцы под дугой у тройки?.. Давно лежат на деревенском кладбище все друзья и знакомые, потому и попадаются навстречу люди, которых дед Евлампий не знал и знать не мог. Сидел в колхозной конторе двадцать шестой на его веку председатель, а бригадами командовали внуки и правнуки бывших дружков. Остановишь такого на тротуаре, возьмешь на разговор — и ломай голову. Скажем, Рэм Сопрыкин. Это не того Сидора Сопрыкина внук, который себе на охоте глаз повредивши, и не того Николая Сопрыкина, который всегда без курева, а того Сопрыкина, который Семен и на четвертой жене женат — они у него отчего- то долго не жили, хотя Семен Сопрыкин человеком был самостоятельным и добрым. Короче сказать, по деревне идешь знакомой, а население чужое. Вот только Васька Мурзин, наипервейший дружок, за месяц раза два с полатей слезает, встречаясь с Евлампием, для начала разговора говорит: «Это разве колхоз? Это разве рыбаки? Это разве трактористы? Смех один, вот что я тебе скажу, Евлаша! Закурить есть? Тьфу! Ты с роду некурящий!..»
— Ну, ладноть!
Не торопясь, чтобы телу по-прежнему было легко и
487
радостно, Евлампий стянул с себя старое фланелевое бельишко, поеживаясь от холода, стал натягивать хрустящее и пахнущее почему-то морозцем синтетическое белье, купленное Валентиной по распоряжению мужа именно на тот случай, когда он, сложивши руки на груди, соберется ложиться на кедровую скамью. Кальсоны были чудные, без пуговиц, на широкой резинке в поясе, и надевать белье было славно: мягкое такое, словно не существующее. Переодевшись, дед Евлампий пошел было в кухню, чтобы снять с полатей легкое одеяльце, но вспомнил, что в кухне сейчас стоит рев и плач. Вполголоса выматерившись, он праздно сел на лавку, думая: «В родном доме не можешь пойти, куда тебе охота. Все из-за баб, забодай их воробей!»
Тело постанывало и ныло, как после длинного и тяжкого рабочего дня, и действительно хотелось не только спать, но и... На этом старик Евлампий останавливался, мозг дальше мысль не пропускал, и мысль о смерти пока — вот как права Валентина! — была чужой, подсказанной со стороны и поэтому нечеткой, туманной, хотя в том, что сегодняшний день он не переживет, Евлампий был уверен, но страх его не охватывал. «Хорошо пожил, долго пожил, чего уж там жаловаться. Сколько я этой рыбы поймал? Сколько я этой водки перепил! Сколько я этих баб перевидал! Пора, Евлампий, пора!..» В эту минуту и вошел в горницу первейший друг Васька Мурзин, который из тех Мурзиных, что На Огороде Растут Маленькие Яблони и Груши.
— Здорово, полчек!
— Здорово, Васька!
Старому деду Василию Мурзину шел сто первый год, был он высок и костист, от этого гремел и поскрипывал на ходу; лицо Василий имел иконное, тогурский поп говорил, что похож старик на святого Серафима, только надо бороду аккуратно подстричь, чтобы не торчала совковой лопатой. Дед Мурзин еще на русско-японской войне подносил снаряды к орудию, на первой империалистической ходил в разведку и знал лично казака Кузьму Крючкова, о котором говорил: «Чубина лихой, а насчет смелкости большое сомненье берет...» — и кашлял при этом многозначительно. Сейчас дед Мурзин, неторопливо оглядев приятеля, проговорил:
— Туманишша низко стелется, лягухи кричат дружно, так что день будет сильно жаркий... Ну, а теперь еще раз ■— здорово бывали, Евлаша!
488
Дед Евлампий повторов не любил и поэтому сдержанно ответил:
— Здорово бывали, Василий. Садись на лавку, где стоишь. У тебя ноги слабые.
Это он правду говорит, ноги у старого деда Мур- зина подкашивались и дрожали, да и чудно было бы, если бы такие длинные и мосластые ноги вели себя спокойно. Усевшись, гость внимательно посмотрел на потолок, помигал поперечной балке и еще задумчивее прежнего сказал:
— А еще так может быть: небо тебе откроется, на нем черна туча. До скольки разов так бывало, ежели над Квистарем тумана нету... Слышь, Евлаша, какая у тебя думка имеется? Есть туманишша над Квистарем?
— Есть, Василий! — многозначительно ответил Евлампий. — Неужто ты за сто лет приметить не мог, что над Квистарем всегда туман, если лягухи в полночь реветь начинают. — Он надменно усмехнулся. — Это надо до ста годов дожить и не знать, когда над Квистарем туманишша, а когда его, наоборот, нету. Ты, может, глухой, а, Василий, ты, может, лягух не слышишь?
— Сам глухой! — сильно обиделся старик Василий.— Мышь из своего расположенья выйдет, я слышу. А ты: «Глухой!» Язык у тебя без костей, Евлаша! Бабий у тебя язык, к примеру сказать, ты его сдерживай, черт глухой!
Одет старик Василий был, конечно, хвастливо, нескромно, не по летам, так его и разэтак! При гимнастерке и галифе, сползающих с тощего брюха, при фуражке и хромовых сапогах, да еще вдобавок ко всему на фуражке блестела надраенная кокарда, то ли царская, то ли теперешняя — с трех метров не разглядеть.
— Ну, ладно! — проговорил дед Мурзин. — Поздоровкались, поругались, надо и дела делать... Это чего у тебя весь дом слезами обливается, Евлампий? И чего ты это за мной послал в таку рань? Я ведь, Евлаша, до «Полевой почты «Юности» теперь сплю-дремлю. Чего ты, дружка, по ночам разоряешься? Молчать будем?
Пень старый! Гнилушка ночная! Ведь точно знает, зачем его позвали к товарищу в шестом часу утра, а фокусы-мокусы показывает, точно из ума выжил. Ох, сильно хорошо знал своего дружка Евлампий Крылов, каждый фокус наперед предвидел, но за это уважал Василия, подчинялся ему, как старшему, никогда попе¬
489
ред Василия в разговор или спор не лез. Однако сейчас старик Евлампий на старинного дружка рассердился и поэтому ничего не сказал, только подергал правым уголком губ.
— Ты, Евлаша, мне сам должон доклад сделать! — продолжал столетний черт. — У меня времени твои загадки отгадывать на сегодняшний день не имеется. Ты сам, сам, Евлаша, обрисуй текущий момент. — И, помолчав, спросил сурово: — Если ты дельно помирать сгоношился, то это один разговор. Если чудишь на старости лет — другой разговор. Обрисуй момент! — дед Василий сильно грамотно говорить научился потому, что /без газеты и в сортир не ходил, любую газетину читал от корки до корки. — Тебе говорят, освети момент!
Тихо было в комнате и душно, мухи жужжали под потолком, оса, видать, со вчерашнего дня слепо тыкалась в оконное стекло, на задах деревни — молодец! передовичок! — ровно трещал дизельный трактор. Видать, готовили к утру еще одну траншею для силоса. Гиревые часы на стене горницы время отсчитывали старательно!
— Это я тебе говорю, Евлаша, обрисуй момент. Помирать собрался?
— Помирать! — старательно ответил Евлампий. — Мне, друг Василий, самый предел подошел. Так смекаю, что об обедешное время преставлюсь! — Он вздохнул. — Как говорится в твоей газетке, все сроки вышли...
Лицо у Евлампия в этот момент было иконное, круглые глаза смотрели поверх Василия, комнаты, дома и всего прочего, нос уже самую чуточку заострялся. Увидев это, столетний Василий Мурзин начал крепко чесать пальцами блестящую лысину и кряхтеть, словно пилил дрова поперечной пилой. Две-три минуты помолчав, он тонким от сердитости голосом спросил:
-— А ты знаешь, товарищ Крылов, как я в твое расположение пришагал? Вот то-то и оно-то, что ты ничего не знаешь и знать не можешь. Правда, с печки я — не соврать! — сам ссыпался, но идти сам не шел. С правой стороны, это, у меня сноха, с левой, обратно сказать, правнук. Обои меня под белы руки ведут, чтобы я ненароком с землей не поцеловался. — Он разъярился. — Ты смекаешь, к чему такой рассказ веду?
490
— Смекаю, Вася! — мирно отозвался Евлампий. — Конечно, ты меня на три года старше, конечно, тебе бы •надо первому предстать, но я ведыне виноватый, что меня уже позвали, а до тебя еще докричаться не могут.
Старик Василий совсем разъярился:
— Врешь! Меня давно звали, но я вроде не слышу. Я над собой командер, а ты леший знает кто. Не серди меня, сильно прошу, не серди меня!
Евлампий мирно улыбнулся.
— Я тебе, Василий, на весь процент верю! — сказал он. — Что тебя звали, что помирать страшно. — Он помолчал, облизывая черные губы. — Меня тоже раньше звали, но так звали, что от страха, ты мне поверь, голос пропадал. А теперь меня, Василий, так позвали, что умереть — одна радость. Чего это такое, я тебе объяснять не стану, до этого дела сам допрешь, а вот мои наказы ты, конечно, выполнишь. Я как помирать лягу, тебе всю позицию объясню... Ты меня слышишь, Василий?
— Не слышу я тебя, наотрез не слышу! — признался столетний черт. — Я на тебя гляжу и вижу...
— Чего ты видишь?
— Вижу, что на тебя благодать сошла. Глаз у тебя светлый и зоркий, ровно у коршуна, с лица ты восковой, сам весь горбатый, но прямой! — Старик Василий Мурзин бегло и неумело перекрестился. — Ты легкий стал, ровно чахоточный, на лавке не сидишь, а вроде над ней возносишься... Это отчего? Какое тебе видение вышло, Евлаша?
— А не скажу! — средним голосом ответил Евлампий. — Было же сказано, что до этого ты своим умом допрешь и помирать будешь с большой охоткой... На этом конец! Ты мне лучше скажи, Василий, как звали того городского, который мою Марию все в кусты звал и которому я за это дело вязы свернул? Ну, как вот его звали?
— Аркадий Александрович Голубовский! А был он из этих, которые ночь работают, день спят. Волос у него был сильно кудрявый, нога у него была...
— Постой, постой! — строго перебил Евлампий. — Что ты при памяти, это я сто лет знаю. Отвечай еще на одну загогулю. Как мою дочь звали, которая на третьем месяце померевши?
— Зинаида ее звали, но она не на третьем, а на пятом месяце. Тьфу тебя, Евлашка, такого дела
491
не помнишь, а еще помирать об сегодняшний день наладился.
— Не гуди! — остановил его Евлампий. — Не трепыхайся!
Если по правде сказать, то помирать Евлампий сгоношился не сегодня, еще три месяца назад он стал всерьез подумывать о вечном отдыхе под березами. А во- обще-то всю жизнь думал он о смерти, лет семьдесят мучительно старался понять, что будет с ним, когда ничего не будет. Злой холод забирался при мысли об этом за воротник рубахи, от страха замирало сердце. Выхода, казалось, не было, но три месяца назад при тихой зорьке и высоком утреннем небе, при сиянии большой звезды, при зеленой и душной мгле засветилась своя собственная звезда: это старик Евлампий в одно мгновение понял, что будет, когда ничего не будет. Сразу после этого дед Евлампий и начал неторопливо, исподволь, многодумно готовиться к сегодняшнему дню. Перебирал свою столетнюю жизнь от начала до конца, додумывал недодуманное, досматривал недосмотренное и, если чего не помнил, спрашивал ужены Валентины, всегда жалея, что нет на земле Марии, которая могла и то помнить, чего он на свете не помнил, острая на память была.
— Еще вот такую хреновину я у тебя спрошу, дружка Василий! — врастяжку проговорил Евлампий. — Никак не вспомнию, когда меня мужики за баб били, то исть уму-разуму обучали? После Халхин-Голу или, к примеру сказать, после финской? Ты меня тогда хорошо звезданул. Вот когда это было, Василий?
Старый приятель чертыхнулся.
— Настоящий дурак! — в сердцах сказал он. — Все путат, ровно детсадовский мальчишка... Опосля Отечественной мы тебя уму учили. Семеро нас было, правду сказать. Во-первых, Арканя Неганов, во-вторых, Коль- ша Неганов, в-третьих, Виталька Колотовкин, в-четвертых, Генка Шебалин, в-пятых, Натолька Трифонов и, в-шестых, Лешка Полевщуков...
Старик Евлампий по-прежнему смотрел на дружка печально и думал, что при такой памяти, как у Василия, помирать не надо: можно лежать ка печи и вспоминать, как прожил жизнь, час за часом, день за днем. Что касается самого Евлампия, то он многое перезабыл, многое виделось туманно, и, хоть убей, не мог без дружба Василия вспомнить, кто из мужиков за баловство с
492
бабами увечил его в голубом ельнике. Хуже того, Евлампий забыл и Арканю и Кольку Негановых, так плотно забыл, словно они и на белом свете не живали. Он огорченно поцыкал и виновато сказал:
— У тебя не память, Василий, а просто центральная газета...
Скрипнула и осторожно распахнулась дверь горницы, в щель просунула голову вторая жена Валентина, хотела что-то спросить, но дед Евлампий на нее сердито шум ну л:
— Здесь сейчас бабам не место! Уйди, Валентина, от греха подальше!
Не только женщинам, но каждому деревенскому человеку нечего было делать сейчас в присутствии Василия и Евлампия, которые в русско-японскую войну были взрослыми мужиками, в партизанах гражданской считались немолодыми, в Отечественную по возрасту уже не воевали, хорошо помнили время, когда на месте деревни рос сумрачный лиственник и веселый кедрач. Одни они остались на этой теплой и круглой земле, давным-давно легли под березы и братья Негановы, и злой, как дикий пес, Генка Шебалин, и веселый Анатолий Трифонов; т^к уж получилось, что остались они по ошибке или злому умыслу, неизвестно, помирать среди незнакомых и далеких людей, понять которых не могли.
— Евлампий, а Евлампий! — жадно спросил дед Василий. — Ас какой стороны на тебя благодать нашла? И какая она, твоя благодать?
Тише прежнего было в горнице, сильнее пахло сушеной травой и пчелиными сотами, и уже короткий солнечный лучик заглядывал в маленькое окошко и под потолком начинали погуживать мухи, по-утреннему никчемные.
— Хочешь, обижайся, хочешь, не обижайся, Василий, но про свою благодать сказать не могу. Она у каждого человека разная... Одно могу сказать, что теперь мне помирать легко, сподручно. — Он посмотрел на часы-ходики. — Так смекаю, что об двенадцатый час отойду... Ты слышишь меня, Василий?
— Слышу.
— Ты мой бабский и другой народ поуспокой, растолкуй, что про меня зиаешь. Не дай мне от горя сохнуть. Да ты слышишь ли меня, Василий?
— Слышу.
493
— А чего весь прибледнел и маешься? Ты мне это дело брось! Ежели ты меня не поймешь, то уж никто на этом свете не поймет. Мы с тобой поболе чем родня, мы с тобой одной веревочкой связаны, вот и значит, что ты должен меня в дальний путь сопроводить и за меня до поры и времени на земле прохлаждаться... В остатный раз спрашиваю: слышишь ты меня, Василий?
Но и на этот раз старинный друг ничего не ответил. Сидел сутулый и бледный, с потухшими глазами и словно весь потоньшавший за последние две-три минуты; смотрел он в пол, дышал осторожно, одним словом, был такой, что у деда Евлампия сердце кровью облилось. Понял он, что бросает, как кутенка, старика Василия одного в непонятной, незнакомой, словно чужой, деревне. Ему теперь словечком не с кем будет перекинуться, никто в деревне и слыхом не слыхал о братьях Нега- новых, и от этого Василий будет страдать, будто на необитаемом острове. У Василия первая и последняя жена умерла тридцать лет назад, сыновья, дочери, внуки в большие люди вышли, обретаются в городе и в деревенской жизни ни уха, ни рыла. Выйдет Василий Мурзин с поминок по Евлампию Крылову, сядет на лавочку и затоскует, как медведь-шатун под новый год. Хоть локти кусай, такое одиночество догонит и поймает. Расскажет старик кому-нибудь про русско-японскую, а для того эта война — все равно что первая мировая. И будет ходить дед Мурзин по деревне, как по неизвестной земле, одинокий и жалкий.
— Василий, Василий, ты меня, спрашиваю, слышишь?
— Плохо я тебя слышу, Евлаша, сильно плохо. Ровно комар у меня над ухом гудишь... В большой обиде я на тебя.
— А это через что?
— А через то, что поперед батьки в пекло лезешь, чужую очередь занимаешь и вообще... Так что молчи, пока я сердцем не изошел. Молчи, кому говорят!
Однако трудно было молчать человеку, который с одиннадцатого часа на двенадцатый собирался уходить с этой теплой и круглой земли, так как много мыслей, важных и пустяковых, накопилось за девяносто восемь лет, хранилось где-то в неизвестности, а вот теперь по- шло-поехало-поперло! Вдруг вспомнилось, что на старице Оби есть место, где осетр на осетре, а забыто об
494
этом было лет сорок назад. И как величать даже двоюродных братьев Аркани Неганова, вспомнилось, и как поп Федот лет шестьдесят назад из обласка вывалился...
3
До девяти часов утра занимали оборону в горнице два самых старых в деревне старика, один из которых к двенадцати часам собирался на встречу с теми, кого давно нет, но вроде бы они и есть. Повспоминали то и это, два раза поссорились и три раза помирились, но ругательное дело довели до конца, то есть опростались до донышка, как водочные бутылки. Столетний дед Василий свою задачу на предстоящий день понял, пообещал все выполнить в строгости и обязательно ничего не напутать, на что дед Евлампий всем сердцем положился: память у Василия была до сих пор верная. Прежде чем выйти из горницы, чтобы уговаривать по- койникову родню от горя не худеть, старший товарищ низко поклонился, помедлив, отер рукавом красные слезящиеся глаза. Удивленным, непонимающим, вопросительным было его лицо, иконописное и пергаментное. Сто один год — такое редко проживал обский житель, человек северный, намерзшийся возле костров, в зимовьях, в домах.
— Что наказано, сполню в большой точности! — пообещал Василий и, согнувшись в три погибели, выбрался из горницы вперед спиной со словами: — В одиннадцать часов ты меня жди, жди, Евлампий Николаевич!
Старый дед Василий свое слово сразу начал держать, так как в горницу больше никто из ревущих или испуганных не просунулся и вообще потише стало за стенами, видно, родня со сло>в Василия успокаивалась.
Надменно усмехнувшись, старик Евлампий поднялся с лавки, весь белый и хрусткий от нового белья. Поглядев на себя в большое висячее зеркало и оставшись довольным изображением, осторожно вынул яловые сапоги, от которых ожидал подвоха. Дед Евлампий сапоги последний раз надевал на девяностолетие, стер в кровь ноги и теперь ожидал такой же беды, но дело обернулось неожиданной стороной. С большим трудом он на¬
495
тянул сапоги на мосластые разбухшие ноги, сделал шаг, застонал от боли и уже было решил еадеть другие сапоги — кирзовые, как замер на месте, подумав: «А чего мне сапоги менять, ежели я... Ну и дурак же ты, Евлампий!» Успокоившись и хромая, он еще раз прошелся по горнице.
— Хороший сапог! На заказ шитый сапог. Ванька Шубин его мне на день рождения ладил... Эх, какой хороший сапог!
Евлампий вплотную приблизился к пожелтевшему зеркалу, поднявшись на цыпочки, принялся внимательно разглядывать лицо. Конечно, за бессонную ночь оно здорово помолодело, само собой понятно, на скулах лишаем расцвел румянец, губы порозовели, но вот глаза... В глазах он не увидел зрачков, которых и на самом деле зеркало не отражало — так они расширились. Глаза от этого совсем потемнели, блестели и как бы дрожали от трепещущих ресниц, рыжих в молодости. «Сильно я это дело боюсь!» — отчужденно подумал Евлампий, так как осознанного страха не чувствовал и почувствовать не мог, а только все больше и больше ощущал желание лечь, вытянуться, закрыть глаза, тихо и славно уснуть.
Прямой, помолодевший, подтянутый, нарядно одетый, Евлампий понимал, что все это ему кажется: сгорбленная спина прямой стать не может, искривленный работой и рыбалкой позвоночник не выпрямишь, а молодость обманна, как утренняя туча, которая идет вровень с солнцем. Туча эта всегда розовая и прозрачная, кружевная, с голубой каемкой, ростом она невелика, но глазом мигнуть не успеешь, как разрастется, потемнеет и заклубится, закроет солнце черным крылом и сделает весь мир темным и неприютным, как рига после молотьбы. На такую тучу всегда слетается воронье и от радости помалкивает, точно каркать не умеет. Воронам все плохое в радость... «Правильно я помираю! — думал старик, зорко глядя в пожелтевшее зеркало. — Аккурат в самый раз помираю, и страху во мне нету! Одно плохо: знать не могу точно, что будет, когда ничего не будет. Ну, это дело мы еще будем разжувати, а теперь, Евлампий, тебя надо побрить, что’бы все чин чинарем!»
Старик открыл двери горницы.
— Егорша! — зычно крикнул он. — Иди к своему отцу, который, к примеру сказать, небритый. Шпарь во всю ивановскую!
496
Егор переступил порог, но дальше не пошел, встал на месте, застенчиво глядя себе под ноги. Какую-то вину имел он перед отцом, какую-то такую пулю отлил, что честно в отцовские глаза смотреть не мог. Старик Евлампий басовито прокашлялся, гордясь тем, что такой здоровый мужик, как Егор, боится отцовского гнева; помнил, знать, о супонном ремне, который до сих пор висел на вешалке.
— Нагрешил — покайся! — мирно проговорил Евлампий. — Я ведь строгий, но сердцем отходчивый. Говори!
— Я, батя, доктора пригласил, врача, который против нервов. Народ говорит, что тебя, батя, ему надо непременно показать. Я думаю: покажу, если врач против нервов... — Он почесал затылок. — Против нервов — это сильно хорошо, батя, ни капель тебе, ни порошков, а так, разговорчики.
— Молчать!
— Молчу.
— Совсем молчишь?
— Совсем.
— Ма-а-а-ладца!
Евлампий звучно провел крючковатыми пальцами по трехдневной щетине на лице, прищурившись, соображал, дать волю сыну Егору или произвести укорот. «Его в одночасье распустишь, потом втроем не скрутишь... Эх, ежели мне сейчас за супонну плетку?!»
— Ладно! — сказал дед Евлампий. — Твоя взяла! Но за это ты своей электрической хреновиной меня по- брой. Да смотри, чтобы чище чистого!
Брил отца средний сын Егор электрической бритвой «Бердск» с тремя плавающими ножами, бритва была новая и потому начала щипать, на что Евлампий и слова не сказал, так как от электрической бритвы заранее ожидал всяких пакостей. Однако дышал он умеючи —набирал полную грудь воздуху и затаивался, потом осторожно выпускал и косился на сына, дескать, не замечает ли, что родной отец боится электрической бритвы.
— Ты мне, батя, сегодня здорово глянешься, — сказал средний сын Егор, который в отличие от других сыновей старика высшего образования не имел, а просто закончил семилетку. —■ Говорю, что ты мне, батя, сегодня глянешься. Во-первых, веселый, во-вторых, мирный! — Он коротко хохотнул. — А те дураки ревмя ре¬
32 Виль Липатов, том 4
497
вут: «Дедушка помирает!» Ха-ха и ха! Этот дедушка еще деда Василия Мурзина переживет... С тебя, батя, полтинник.
— Полтинник! — обмер Евлампий. — За что же это полтинник, если без мылу и одеколону? Ты так, Егорка, в одночасье разбогатеешь... Полтинник! Да пятиалтынный — красная цена... Сунь руку за шиворот: нет волос, чтобы щекотаться?
— Смешно слушать тебя, батя. От электрической бритвы волос, которые для щекотанья, сроду не бывает.
— Егорка!
— Чего, батя?
— Разговорился больно, власти набрался над отцом, если волос снял... Мотри у меня, Егорка.
— А чего мне бояться?
— Плетки. Сыромятной. Котора на вешалке.
— Хе-хе-хе!
— Хехекать опосля будешь, а теперь скажи, почто в мою смерть не веришь? Чего думаешь, что родной отец комедь устраивает? Ну, отвечай!
— Не хочу и не буду.
— А это почему?
— А что кончается на «у». Побрили тебя, вот и лежи себе на полатях, носом посапывай, если говорить не с кем.
Егор говорил, а сам морщил нос и прятал глаза: так был счастлив тем, что отец действительно ломает комедию, куражится над ближними, а сам и не думает помирать, если позволил побрить электрической бритвой — такое бывало и раньше, когда отец чувствовал себя молодо и легко.
— Управы нет на тебя, батя! — лицемерно вздохнул Егор. — Совсем ты распустился. Что хочешь, то и порешь... Вот и дядя Василий говорит...
— А что он говорит?
— Что ты хочешь через эту, которая смерть, перед всем честным народом покрасоваться и свой авторитет резко повысить... Он это с сердцем говорил, с обидой — просто смех один!
— С обидой?
— Угу.
— Совсем из ума выжил, лиходей! — рассердился дед Евлампий. — Ишь какой двухсторонний. Мне одно, вам другое... Слушай, Егор, а врач от нервов — это баба или, обратно, мужик?
498
— Это, батя, мужик, на бабу похожий. Сам тонкий, голос писклявый, ровно у осеннего комара. Знаешь, как он прозывается? Во! Не знаешь! Генарий Георгиевич — язык обломаешь о зубы. Тебе это сроду не выговорить.
Евлампий промолчал, соображая, потом огладил пятерней бороду и спросил прямо:
— А он где, врач от нервов?
— В проходной комнате, батя. При очках и чемоданчике. Курит длинны сигареты, а пепел на дорожку сыплет.
Евлампий медленно сел на кедровую лавку, сложил руки на животе, по-купечески покрутил пальцами то слева направо, то наоборот. Борода у негр торчала, глаза прикрывались, словно решил немедленно уснуть. Глядя на это, средний сын Егор улыбнулся длинно и насмешливо: «Давай, давай, выкомаривай, если делать тебе нечего. Мы потерпим, не привыкать!» Подумав, Егор тоже сел на лавку и положил руку на живот, дескать, мы тоже умеем вертеть пальцами, когда на колхозную работу из-за шебутного отца не пошли. Умеем!
— Он, значит, с чемоданчиком? — спросил Евлампий.
— Кто?!
— Врач от нервов.
— А! С чемоданчиком.
— Так! Большой чемодан?
— Подходящий.
— Еще раз так! Это дело, что он с большим чемоданчиком. Глаза какие?
— Вроде с перепою.
— Обратно хорошо. Так как, говоришь, его зовут?
— Хе-хе-хе! Генарий Георгиевич. Тебе сроду не запомнить.
— Мне? Дурака! Да я при своих деряносто восьми годиках лучше тебя все помню. Вот дурака!
— Скажи, как его зовут?
— Их зовут просто. Генарий Георгиевич, доктор от нервов.
Помолчали. Средний сын Егор тоненько вздохнул и почесал макушку; отец покосился на сына, затаенно улыбнулся и сунул руки под ягодицы, отчего стал еще прямее и надменнее... В соседних комнатах было тихо, там с приходом врача, видимо, совсем успокоились и
32*
499
теперь, кто помоложе, досыпал; жена Валентина, надо думать, колдовала над русской печкой, чтобы в срок накормить весь крыловский род, жена Егора обязательно пошла на ферму, где сейчас никакой работы, конечно, не ведется: весь бабский род обсуждает, как «умирает» старый дед Крылов, перепутавший день и ночь. Говорят, судачат: «Конечно, будешь выкомаривать, если сутками с полатей не спускаешься! Ты вот скажи Егору, чтобы деда Евлампия не баловал. Какое у тебя может быть перевыполнение, если всю ночь шара- шишься!» А в проходной комнате сидел с большим чемоданчиком врач от нервов по прозванию Генарий Георгиевич.
— Ты, Егор, вот что, — задумчиво проговорил Евлампий. — Ты шагай себе, отчаливай, как говорится, отсюдова, как мне надо одному побыть. Улепетывай!
Странное дело происходило со стариком Евлампием: казалось, что и в доме как бы занимается тихий рассвет. Вот недавно все было темно и печально, ничего разобрать было нельзя, но вот побелело чуть-чуть в окнах, едва приметно побелело, и уж понималось, что близок, очень близок момент, когда брызнет веером зеленовато-розовый и прямой солнечный луч. Старик Евлампий строжал лицом, сидел прямее прямого, глаза расширились, точно хотел видеть все разом, боялся пропустить и крошечный осколок молодого света. «Такое дело к хорошей погоде! — деловито подумал он. — А хорошая погода сейчас нужна. Хлеба косить!.. Теперь такой вопрос. Почему во мне нет страха?» Он прав был: страх головы и сердца не касался, словно кто-то нарочно отводил его в сторону.
— Ты и в самом деле блажишь, Евлампий! — вслух и строго сказал старик. — Придумал черт знает что, на всю деревню переполох навел, доктора от нервов потревожил, а к себе не пускаешь.
Рассвет между тем продолжался. Казалось, выпростался из-за далечины горизонта и второй, теперь рассеянный луч, огладил небо разноцветьем и попритушил- ся до поры до времени, так как в эти секунды кончилось земное безмолвие: пропела медная труба, звук ее был прозрачен и светел, светел и прозрачен. «Пора! Пора! — подумал Евлампий, шире прежнего открывая сизые, словно отмороженные глаза. — Жизня прожита дай бог каждому, и каким надо быть дураком, чтобы
500
кликать доктора от нервов. Это обязательно бабский народ произвел, знаю я их в доскональности... Эх!» Старик Евлампий на кедровой лавке сидел так ловко, что видел свое лицо в зеркале. Он вообще все это время, пока брился, разговаривал с Егором, представляя рассвет, видел свое лицо, просветленное, строгое и смиренное, а вот сейчас из зеркала созерцало комнату лицо Георгия Победоносца с раскольничьей иконы — хитрое, ловкое и воинственное.
— Это они правильно делают, что мне не верят! — пробормотал старик. — Не глупее меня, в школах да институтах обучались... И доктор от нервов — не дурак. Звать надо их, ох, надо!
Вместе с доктором от нервов в горницу пришли жена Валентина и средний сын Егор, колхозный работник при тракторном деле. Сын, усмехаясь, осторожно сел на лавку, далеко от отца, жена Валентина осталась стоять у дверей, а хилый и бледный доктор от нервов, взяв табуретку, подсел вплотную. Чемоданчик у него на самом деле был большой, пахло от доктора женскими духами, но пахло хорошо. Наморщивая высокий и длинный лоб, доктор Генарий Георгиевич весело и неторопливо спросил:
— Ну, когда и почему мы с вами собрались умирать? Расскажите все с самого начала. Расскажите так, словно я поп, а вы исповедывающийся. И не торопитесь.
Старик строго померцал ресницами.
— Вот это дело, попов, я терпеть не терплю! Поп, известное дело, хуже бабы с пустыми ведрами. Так что извиняйте, товарищ доктор, если что не так сказал.
— Хорошо! — еще веселее произнес Генарий Георгиевич. — Будем разговаривать просто.
Он был весь прозрачный и хлипкий, на табуретке сидел непрочно, словно мог от легкого шевеления воздуха улететь в раскрытое окошко, но был весь красивенький. Глаза, брови, губы, подбородок казались вырезанными из белого дерева осины, и лоб у доктора от нервов был здоровенный, как у Василия Мурзйна — человека сильно умного и потому дожившего до ста одного года.
— Я еще раз извиняюсь, товарищ доктор Генарий Георгиевич, — медленно произнес Евлампий. — Ясиль-. но извиняюсь, но в толк взять не могу, почему со мной беседовает доктор от нервов? Это ведь, парень, ошибка!
501
— А кто должен с вами беседовать, Евлампий Николаевич?
— Доктор от сердца! — строго и громко ответил старик — Если у человека слабое сердце, то и доктор должон быть от сердца.
— Ясно! Вот теперь ясно... Значит, у вас имеются жалобы на сердце? Где болит?
Старик Евлампий надменно усмехнулся, свел брови на переносице, но сразу ничего не сказал, а послушал, как в палисаднике пошумливают рябины с акациями и уже галдят воробьи. Лицо у него опять делалось отрешенным, возвышенным, отчего казалось, что старик медленно-медленно уходит, вернее, уплывает из горницы.
— Нигде у меня не болит! — наконец торжественно заявил он. — Болеть у меня ничего не может, но сердце, к примеру сказать, кончается.
— Как вас понимать, Евлампий Николаевич?
— А меня и не надо понимать, я сам все знаю... Сердце у меня сильно притомилось, жить больше не хочет, длинного отдыха просит. — Он еще раз прислушался к палисадниковым воробьям: дрались и вообще озорничали, такие-сякие. — Я с сердцем согласный, что мне надо сильно долго отдыхать. Хватит, нажились, натерпелись, нарадовались... Пущай другой народ живет.
Тише тихого было в горнице. Средний сын Егор, естественно, насмешливо кривил губы, жена Валентина со сложенными на груди руками смотрела в одну точку, и вид у нее был такой, словно сердито говорила: «Ну, кто прав? «Выкаблучивается, ишь как выкаблучивается!» Дудочки! Раз сказал, что собрался помирать, значит, помрет. Он у меня такой, что языком зря не мелет!»
— И все-таки разрешите задать ряд вопросов, — сказал доктор от нервов. — Скажите, Евлампий Николаевич, не испытываете ли вы легкости в теле? Такой, знаете ли, что хочется улететь. А? Испытываете?
— Испытываем! Шибко сильно испытываем. — Старик улыбнулся. — Ежели вставить в зад соломинку, улечу к ядрене фене! Поминай как звали...
Тонкий и хлипкий доктор от нервов менялся на глазах, то есть делался серьезным, и глаза у него стали мудрыми, и подбородочек торчал задорно, и движения были такими энергичными, точно он подавал снопы
502
в барабаны паровой молотилки. А главное, от возбуждения у него покраснели до пундовости большие мальчишечьи уши.
— И вы чувствуете такую усталость, какой никогда в жизни не чувствовали? Не так ли, Евлампий Николаевич? Весь организм жаждет длительного освежающего отдыха. Не так ли?
— Точно так, товарищ доктор от нервов. Сильно вы ученый человек, если все про меня знаете... Теперь у меня к вам вопрос: вы сегодня позавтракавши? Спрашиваю, сегодня снедали?
Генарий Георгиевич диковато покосился на старика.
— Спасибо! — тонким голосом ответил он. — Я имею привычку утром есть поздно.
— Плохая привычка, товарищ доктор от нервов, — строго проговорил дед Евлампий. — От такой привычки можно богу душу отдать. — Он собрал на лбу морщины. — Кто утром плохо и поздно ест, у того кишка слабая и голова кружится. К примеру сказать, я утром всю свою жизнь два обеда потреблял. — Старик Евлампий повернулся к жене Валентине, посмотрел на нее прицельным взглядом. — Ты вот что, хозяйка. Поведи товарища доктора на кухню да хорошенько накорми.— Й опять повернулся к Генарию Георгиевичу: — Я шибко извиняюсь перед вами, что насчет кухни командую, но я еще часа два буду жить, так что из горницы Ыне уходить тоскливо.
Сын Егор расплылся в длинной издевательской улыбке. Вид у него, срамца, был такой, словно Егор сидел в клубе и глядел интересное кино, конец которого ему был прекрасно известен, а все остальное видел впервые. Был момент, когда показалось, что Егор крикнет «браво!» и замашет рукой. Это было, когда отец говорил про соломинку, с помощью которой может улететь к ядрене фене.
— Спасибо за приглашение, Евлампий Николаевич! — смущенно поблагодарил доктор от нервов. — Спасибо, но мне необходимо задать вам еще несколько вопросов.
— Вопросы задавать не будешь! — весело отозвался старик. — Хватит, наспрашивался! Я сейчас такой, что мне самому надо задавать вопросы. — Он прищурился. — Вот я тебе такой вопрос загну. Что будет, когда ничего не будет? Если ты на этот вопрос ответишь, то
503
умней Васьки Мурзина. Он до ста одного года дожил, а ни хрена в жизни не разбирается. Ему шибко трудно помирать придется... Ну, отвечай, что будет, когда ничего не будет? Нет, ты по-ученому не улыбайся, а отвечай прямо: будет то-то и то-то!
— Это сложный вопрос, Евлампий Николаевич.
— А я простых вопросов не задаю, особливо за два часа до последней смерти...
Врач оживился:
— Что значит «последней» смерти, Евлампий Николаевич?
— А то и значит, что последней. — Дед Евлампий смотрел в потолок, словно читал на нем крупные буквы. — Ну, во-первых, я на шестнадцатом году жизни сильно помереть хотел, даже жакан себе отлил для крупного калибра... Ты это запомни, парень, что человеку на шестнадцатом году всегда помереть охота. Он об это время понимает, какая это хреновая штука — жиз- ня... Ну, а потом я до десяти разов помирал. Когда первый раз женился. Когда в первую империалистическую бомбы на себя принимал. Когда в тайге с медведем встрелся. Когда у меня самый младший ребенок рождался... Эх, да что говорить! Человеку до смерти всегда один шаг. Умереть — это много проще, чем жить... — Он умолк, задумался. — Тот плохой мужик, что думает, что умереть труднее, чем жить. Это значит, что он работает шаляй-валяй, с бабой спит шаляй-валяй, водку пьет шаляй-валяй... Или, к примеру сказать, в охоте или рыбаловке ни уха ни рыла... Стоп, машина! Ты это чего, товарищ доктор, по сторонам оглядываешься, словно за тобой кульманаковские собаки гонятся?
Врач-невропатолог Генарий Георгиевич на самом деле так смотрел по сторонам, словно не верил в происходящее, словно считал старика, его жену и сына длинным сном, от которого надо немедленно проснуться, иначе умом тронешься. И вид у него от этого был затравленный. Он хотел что-то сказать или спросить, но в последний момент раздумал и махнул рукой: «Я же не могу говорить, я же сплю... Ой, надо пробудиться, пока греха не вышло!» Дед Евлампий все это хорошо видел, распрекрасно понимал, что творится с доктором от нервов, и думал с печалью, что ничем бедному человеку помочь не может. Как поможешь человеку, который и тридцати лет не прожил на берегу реки Оби? «Он доктор, конечно, хороший, старательный! — сочувствен¬
504
но думал старик. — Душевный он человек, хотя понятия в нем мало, как кедров в осиннике... Ничего, обомнется!»
— Раз, товарищ доктор от нервов, ко мне вопросов у вас нету, извиняйте! Я больше с вами беседовать не могу. Времени у меня мало осталось, вот какая история! Егор! Валентина!
— Чего, батя?
— Слушаю тебя, отец.
— Возьмите табуретку да вынесите в сад. Поставьте под осокорем, который мне ровесник... Команда ясная?
— Сильно ясная, батя!
— Вынесем, отец.
Из нагрудного кармана ковбойки старик Евлампий вынул голубую расческу, в полной тишине старательно расчесал аккуратно подстриженную бороду, раздвоив на два жала, приосанился, то есть вздел бороду к потолку, красиво обклеенному обложками из журнала «Огонек» за разные годы. Не меняя позы, вкрадчиво спросил:
— А чего мы рассиживаемся, если команды я дал понятные? Почему, к случаю сказать, табуретка не вытаскивается? Почему, обратно, доктор от нервов мне «до свидания» не говорит, если я с ним культурно, по-людски попрощался? А? Это почему такое непослушание? Думаете, если человек через два часа помрет, так над ним можно что попало выкомаривать?
Дед Евлампий поднялся, гибко выпрямился.
— Почитай сто лет в этом доме против меня никто не шел, — сказал он грозно, — так уж вы дотерпите! Всего и ждать-то осталось два часа с прибаутками...
4
Табурет поставили в середине небольшого сада, примыкающего к громадному дому; поставили табурет так, чтобы старик Евлампий опирался спиной на черный ствол древнего осокоря, который всегда теплый, а листва безмолвна в самый сильный ветер. Старик Евлампий вообще считал, что деревьев лучше, чем осокори, не бывает: во-первых, ствол всегда теплый, во-вторых, с осокоря берут балберу для поплавков к неводам и сетям, в третьих, под осокорем молния не страшна. Не бьет она, зараза, в осокори!
505
Дед Евлампий сказал:
— Вынесли. Поставили. Прислонили. Ну и шагайте себе домой, там делов много, а мне надо сильно думать. Айда из сада, айда!
Теплый ствол, сдержанное гудение, щебет и чириканье, влажный шум черемух и рябин, берез и осин — все было знакомым и до обыденности привычным, но с дедом Евлампием и дальше продолжали твориться загадочные и жуткие вещи. По-прежнему казалось, что где- то отдельно от дома и самой земли продолжается неторопливый рассвет, и сейчас как раз было такое время, когда начинал выглядывать из-за кромки того несуществующего леса раскаленный до невозможности край огромного солнца, такого огромного, какого на самом деле не бывает. Верно, из-за яркого света, режущего глаза, во всем просторном мире старый дед Евлампий видел только самое значительное, самое важное. Например, листья по отдельности не виделись, а рисовались сплошной кроной, доски забора тоже исчезли, словно городьба была сплошной, и все остальное укрупнилось, выросло, как бы набухло до желанной густоты и плотности, словно мир решил не показываться в своей резной затейливости. Если разобраться по справедливости, то существовало сейчас на свете всего две вещи — земля и небо, на котором такие подробности, как деревья или заборы, не просматривались, значения не имели. А потом пришло и совсем диковинное чувство, от которого Евлампий тревожно пощурился и промычал:
— Хо-о-о-лёра!
Земля пустеет — вот какая чепуховина примерещилась старику. Деревья будто растворяются в жидком воздухе, забор горит на медленном огне, и видимыми остаются опять две вещи — земля и небо, пустые и голые до невозможности, одичалые и холодные. «Призывает, призывает!» — четко подумал дед Евлампий и закрыл глаза, чтобы не видеть пустоты, от которой холодное сердце начинает биться, как окунь на крючке. А холодело не только сердце, все тело открывалось сквозному ветру, что дует меж пустыми землей и небом; холод пронизывал иглами, сковывал и совсем не походил на обычный холод — этот шел не снаружи, а только изнутри, поднимался вверх, как приступ удушья, и остановить его могла только та самая сила, которую сегодня ночью почувствовал Евлампий, сразу поняв, куда она его поведет. «Туда! Туда! — откликался на зов старый Евлам¬
506
пий и всем телом тянулся вверх, чтобы спина целиком лежала на теплой коре древнего осокоря, посаженного еще дедом старика. — Туда! Туда! Не робей, Евлампий, самое страшное осталось позади...» Мысль о том, что смерть легче жизни, пришла к нему года три назад, а полгода назад — еще при теплом сердце — он понял, что умирать можно весело, сильно весело, так как почти понял, что будет, когда ничего не будет.
Полгода назад, когда старик впервые понял, что это такое — жизнь и смерть, февральский день выдался по- весеннему теплым; крыши домов вырядились в бахрому сосулек, воробьи были такие мокрые, что казались тяжелыми, по небу наперегонки неслись низкие грозовые тучи. Евлампий сидел одиноко в кухне, смотрел сквозь окно на февральское безобразие и, казалось, ни о чем не думал, когда приплыла тучей мысль: «Что будет, когда ничего не будет? — А за ней вспыхнула в голове и отгадка страшного вопроса: — Батюшки, вот же что будет, когда ничего не будет! А я, дурак, об этом деле понятия не имел!» И в тот же миг понял, что умрет скоро, летом, проводив в вечность сенокос и начало жатвы. Увидеть это в последний раз жизнь ему позволила, а он не знал, за какие такие заслуги доведется в последний раз унюхать запах скошенной травы и увидеть полосатую под ветром рожь. «Жизнь, правду сказать, всегда была ко мне добрая, — блаженно думал старик. — Пулю до меня не допустила, баб дала хороших, детей удачливых и послушных, сильно большое здоровье, такое большое, что умираю здоровым. Эти, которые печенки- селезенки, находятся в сильном порядке! Вот это дело удивительное и непонятное!» Он и в самом деле удивлялся на то, что за всю жизнь ни одной болезнью не болел, зубы до сих пор имел свои, а вот собрался помирать, собрался с большой охотой и даже нетерпением.
Между тем мир вокруг деда Евлампия все упрощался да упрощался, куб превращался в квадрат, шар в круг, и краски постепенно исчезали, точно их растворяли, и так быстро, что скоро осталось два цвета — черный и красный. Последним цветом, то есть красным, кичилось небо, земля была непроглядно черной. В кромешной тишине негромко и осторожно пел чужим, сорочьим голосом старый скворец, а остальной птичий народ пел тоже, но Евлампий этих голосов не слышал,
507
так как звуки, и тишина тоже укрупнились, то есть потеряли мелкую подробность. Старый скворец был слышен только потому, что пел про то, что бывает, когда ничего не бывает, и по этому поводу дед Евлампий озаренно думал, что звери там или птицы, лягушки или букашки с самого рождения все знают о смерти и не держатся за жизнь, словно она легче смерти. Все они потому и не умеют разговаривать, что все знают и ничего важного друг другу сказать не могут. «Они ушлые, они здорово ушлые, просто умом их понять невозможно, такие они ушлые», — думал Евлампий, закрывая медленно глаза, чтобы не видеть дурманящей красоты неба и чтобы подумать, боится он смерти или не боится. Человек, надо сказать, тоже ушлое животное.
С закрытыми глазами старик стал дышать осторожно, длинными вдохами и выдохами, и поэтому слышал только себя — скворец и тот сейчас бы замолк. «Вот дела так дела!» Никаких чувств, кроме ощущения громадной усталости, Евлампий не испытывал, а усталость была такой, какой у живого человека быть не могло. Он так устал, точно все девяносто восемь лет пахал землю, перерывов не имел даже на завтрак, обед и ужин. От такого тяжелого дела на плечи навалилась каменная гора, грудь и живот наполняли булыжники, да и кровь в нем текла каменная, черная. «Пора, Евлампий, пора! Все на белом свете тебя призывает. Так что пора, брат, пора!» Ни жалости к себе самому не было, ни печали, ни страха перед неизвестностью. Правда... Правда, если с умом разобраться, было такое, что при воспоминании кололо сердце тонкими иголками. Это было вот что такое! Течет маленькая река Ягодная, где-то впадает в Обь, один берег у излучины зарос могучими черемухами, на втором голенастые кедры, шумливые от ветра, который живет на большой высоте, и все это тихое, звонкое от тишины, на воде ни морщинки, ни рябинки. Такое место, что у Евлампия всегда сжималось сердце так, как сжимается, когда первый раз з жизни испуганный ложишься на рыжую землю с испуганной женщиной.
Это место — излучину — лет двадцать назад старик Евлампий показал самому старшему сыну Андрею, умному и образованному, даже, как говорили, профессору. Андрей тихонечко охнул: «Левитан!» — и скоро показал отцу картинку под названием «Вечерний звон». Дед Евлампий посмотрел на нее и тоже охнул — излу¬
508
чина, точь-в-точь излучина, и тоской наносит такой сильной, что плакать хочется. «Излучину жалко оставлять другому народу, который незнакомый! — подумал Евлампий, но тут же спохватился. — Я ведь ее, излучину, тоже при себе держать буду. Она ко мне прикипит!»
Чем дольше сидел Евлампий под древним осокорем, привалившись спиной к его теплой коре, тем красней становилось небо и черней земля, на которых совсем не оставалось никаких подробностей, и от этого приходило чувство пустынности и незнакомого старику Евлампию одиночества. Один на один оставался он с землей и небом, никакого третьего существа не оказывалось, отчего и казался старик самому себе громадным, непомерно громадным человеком, стоящим на черной земле, а голову держащим в красном свечении неба. Может быть, десять километров длины было в Евлампии, он сам, глядя со стороны, свою голову в поднебесье не видел. «Она, оказывается, и вон какая бывает! — не ленился думать старик. — Она тебя то в тесный гроб уложит, то до неба протянет. Сильно интересно, что она еще умеет!» Он с кривой улыбкой над самим собой пощупал голову — на месте, поинтересовался ногами — стоят на рыхлой земле. Все как обычно, но и второе дело продолжалось, то есть стоял он над землей на высоте десять километров, и вместо ковбойки была на плечах старинная пестрая длинная рубаха с крученым ярким поясом.
Сколько минут, часов просидел Евлампий на табуретке, он точно знать не мог, но чувствовал, что время приближается, подходит к самому опасному краю его жизни меж небом и землей. Он и не предполагал, что живущие в нем биологические часы отмерили ровно час сидения под осокорем с теплой корой, но уже ощущал в себе тягу к переменам, которые, впрочем, начались сами по себе. Во-первых, мир наполнялся и распухал от потерянных подробностей; кроме умеренного красного неба и коричневатой земли, снова ожили старые знакомые — деревья, дома, стена кедрачей, плещущая волной о высокий яр река Обь; звуки и запахи тоже возвращались. Например, густо зачирикали самые никчемные из всех крылатых — прыгучие воробьи. Возвращение мира происходило быстро, много быстрее, чем исчезновение мира, и Евлампий только жмурился и тряс головой. Когда же все сущее стало на свои места, опе¬
509
ревшись на глянцевый посох, дед Евлампий начал подниматься с кедровой табуретки.
Это дело — поднимание с табуретки — старик Евлампий Крылов проделал с такой важностью и значительностью, словно спускался с трона главного на зем- .ле царства. Правда, он застонал от боли в пояснице, верно, что он разгибался с трудом и осторожно, но все это пропало, как только старик выпрямился. Был он начальственный и торжественный, как самый лучший праздник, был он величественный и надменный, снисходительный и великодушный. Борода сама собой раздвоилась, губы выдавили из щек такую волевую складку, какой позавидовал бы и маршал; умно, мудро и всепонимающе смотрели на свет божий невыцветшие голубые глаза. «Пора!» — подумал он в последний раз и, опираясь на посох, двинулся в сторону дома, где по- прежнему было тихо. Похожий на привидение, старик прошел мимо комнаты Егора — сын и невестка сидели возле стола при открытых дверях; на месте оказались младшая дочь с двумя внуками, разговаривали негромко за дверью предпоследней дочери, муж которой на работу тоже не пошел. Одним словом, ничего не переменилось в доме, пока Евлампий в саду разглядывал красное небо и черную землю.
— Валентина, а Валентина, выдь-ка на час! — позвал старик, полуоткрывая двери своей спальни. — Да ты не торопись, не убивайся! — потребовал он, увидев, как жена опрометью бросилась к нему. — Не убивайся, честью тебя просят, Валентина! Ты должна быть самая спокойная да тихая в доме. — Он неожиданно для самого себя взял жену за руку, стиснул пальцы. — Ты, Валентина, скажу я тебе, в слезы не бросайся. Мы с тобой вскорости встретимся...
Давно он не говорил жене ласковые слова, много лет не называл Валентину «малая пичуга», а вот сейчас потянуло, и он бы не стал сдерживаться, если бы перед глазами не стояло прежнее: раскаленное до красноты небо и черная пустынная земля. Перед ними любые слова теряли смысл.
— Ты, Валентина, сердце крепи, характеру наберись.
Продолжая стискивать руку жены, Евлампий наклонился к ее уху и боязливым шепотом проговорил:
— Если ты думаешь, что я насовсем ухожу, то это большой обман! Смекай, Валентина, что говорю.
510
Жена была на две головы ниже Евлампия, задрав голову, она глядела на мужа расширенными страхом глазами и вся мелко-мелко дрожала, словно только что вылезла из проруби, а накинуть на себя было нечего. Он, склонившись, смотрел в ее лицо. Хорошей, просто лучше не надо, женой была Валентина Колотовкина — девчушка, которая родилась в доме Афанасия Колотовкина, когда старику Евлампию было много-много лет с хвостиком. Ребенком он носил Валентину на руках, когда чуть подросла, любил водить на пасеку и угощать сотами. Разве мог он подумать, что женится на пичуге, проживет с ней почти сорок лет и оставит на земле одну в полном расцвете сил?
— Ты не убивайся, не убивайся, Валентина! — говорил он в бледное от горя лицо жены. — Тебе убиваться нельзя, ты женщина молодая, и тебе надо замуж выйти, как годовщина исполнится.
Лицо у Валентины было круглое, черноглазое, розовощекое, но сейчас все дрожало и перекашивалось, так как сильно хорошим мужем — ласковым и добрым — был для нее Евлампий Крылов, человек, для всех посторонних завидный: девяносто восемь лет прожил он в дружбе и согласии со всем миром, печалиться долго не умел, злобы ни на кого не держал, от каждого человека умел брать добро и каждому платил тем же. Словно мухи вокруг сахара, роились вокруг Евлампия всю жизнь-жизнюху хорошие, добрые люди и становились еще лучше и еще добрее от добра и ласки Евлампия.
— Ты не убиваться должна, Валентина, а честь по чести сопроводить меня в то дело, которое только для глупых страшное. Чтобы улыбалась, этого я от тебя просить не могу, этого от тебя просить мне никто позволенья не даст. А вот чтобы ты себя в струне держала, это я могу просить! Так слышь, Валентина, ты меня без слез проводи, все, что надо, аккуратно сделай, а за меня не беспокойся.
Почти прикасаясь губами к уху жены, Евлампий шепнул:
— Я знаю, что будет, когда ничего не будет!
Он замедленно выпрямился, помигав, стал смотреть в стену, но так, словно ее не существовало, и Евлампий видел, как бесшумно струится Обь, как высовывают головы из земляных гнезд береговые ласточки, как прока-' тываются волны ветра по нескончаемой глади тайги,
511
бродят медведи, парят острокрылые чайки и как растут травы. Какие стены могли помешать глазам человека, который знал, что будет, когда ничего не будет?!
5
Диван-кровать в доме Крыловых купили в прошлом году, самую модную кровать, то есть на сплошном поролоне, но скоро выяснилось, что спать на ней не хочет даже самый глупый правнук. Что и почему, этого никто не объяснил, но диван-кровать поставили в горницу, легкомысленный узор прикрыли ситцем с цветами малины и стали называть телевизионным, так как с него дед Евлампий, дочери и сыновья, внуки с правнуками смотрели разные передачи из Москвы и области.
— Вот что прошу, Валентина! — сурово проговорил дед Евлампий. — Ты мне на телевизионну кровать кожушок положи да большу пухову подушку, чтобы голова хорошо лежала. А опрежь этого дай-ка мне шерстяной костюм...
Шерстяной костюм был куплен лет пятнадцать назад, куплен не сразу и за большие деньги, так как настоящие шерстяные костюмы из моды начали выводиться, а Евлампий ничего другого, кроме натуральной шерсти, не признавал. Он за всю жизнь износил два костюма, первый еще в молодости, еще до револрэ- ции. Второй костюм он даже чуточку поистереть не успел, так как надевал его не более четырех раз в год, а шкаф самолично засыпал нафталином. Имелась у Евлампия и хорошая рубаха — белого полотна, туго накрахмаленная месяцев шесть назад.
— Отец, ой, отец! — пролепетала жена Валентина. — Ой, да чего же ты надо мной производишь, отец! Ой, да на кого же ты меня хочешь спокинуть! Ой, родненький ты мой, единственный!
Евлампий посмотрел на жену сердито.
— А я что тебе говорил, Валентина! — прикрикнул он. — Я тебя убиваться просил или, наоборот, себя в струне держать? Ну, отвечай!
Однако жена Валентина ничего не ответила, а полезла в шкаф за шерстяным костюмом и полотняной рубашкой; спина у нее при этом вздрагивала, а лопат-' ки ходили ходуном — наверное, плакала, такая-расся-
512
кая, неслух окаянный! Она мужа полюбила еще в несмышленых девчушках, на двадцатом году трем молодым женихам отказала, словно знала, что на ее долюшку и приходится он, старый молодец Евлампий. Всей деревне от самого Евлампия и самой Валентины было известно, что любовь у них самая отчаянная и счастье их большое, такое большое, какого не бывает у молодых мужей с молодыми женами. Так что всю жизнь с Евлампием жена Валентина налюбоваться на него не могла, но в слова ничего не пускала, чтобы слова обратного действия не произвели — есть такая примета! Только раз, только один раз на третьем году жизни двадцатитрехлетняя Валентина прошептала в горячее ухо мужа: «С тобой беда случится — себя порешу!» И он — тоже впервые и тоже шепотом — ответил в пахучую тишину: «Возле тебя я до ста лет проживу!»
И на самом деле старик Евлампий не дожил бы до девяноста восьми лет, если бы его сызмальства не полюбила красивая и молодая девка. Она длинные годы дышать на мужа не смела, держала его в сытости и чистой жизни, а самое главное — не давала погаснуть радости любви. Он домой к Валентине возвращался, как на самый веселый праздник, он шести часов не выдерживал без жены, скучал дико и, засыпая на Валентинином шелковом плече, знал, что ему предстоит и такое пробуждение, в котором есть Валентина, Валентина и только Валентина. Он всякую мысль жене поверял, он ее слушал, когда советовала, он сам понять не мог, чего это жизнь ему такой царский подарок поднесла — красивую и умную, добрую и совсем молодую жену. А что касается первой жены, то ее Евлампий от дальности времени, огромности лет совсем не помнил, к памяти вызвать не мог, но умом знал, что первая жена была сильно хорошим и справедливым человеком, что звали ее Марией и что она была сильная и горячая, как молодая лошадь.
— Ты должна себя в крепкой струне держать, — тихо продолжал Евлампий, осторожно обнимая жену.— Ты, Валентина, за меня во всех делах остаешься, на тебе дом, огород да весь живой домашний народ... Ты почти в пополам меня младше, на кого, кроме тебя, все оставлю? Нет, Валентина, ты должна себя в крепкой струне держать, а ты вот плачешь. Спрашиваю, ты плачешь?
33 Виль Липатов, том 4
513
— Плачу, Евлаша, сильно горько плачу! — сквозь слезы проговорила Валентина и прижалась щекой к суконной груди мужа. — Ты думаешь, что я остаюся, а я без тебя не жилец. Ну, чего мне в жизни делать, если положат тебя промеж молодых берез? Ой, Евла- шенька; ой, родненький, дай ты мне пореветь, когда в горнице никого нету. Ой, дай мне поплакать, а то не выдержу и с тобой отправлюся... Ой, ласковый мой да добрый мой, на кого же ты меня спокида- ешь?!
Горячими слезами поливала Валентина грудь своего столетнего мужа, выла в голос и вся дрожала, как овечий хвост, и дед Евлампий ее останавливать не стал, так как признал право жены поплакать в горнице наедине с ним, чтобы потом держать себя в крепкой струне, коли оставалась она одна-одинешенька в большом доме, набитом плотно несмышленым и нуждающимся в бабьей руке народом. «Должна она пореветь, — думал Евлампий. — Ей без этого дела просто никак не возможно... По правде сказать, так получается, что мне помирать легче, чем ей оставаться. Я помер, да и вся недолга, а ей жить надо, хоть короткое время, но надо. Вот она и интересуется, на кого я ее спокидаю! Пра слово, сильно она горемычная баба!»
— Евлаша, голубок мой сизый, да как я без тебя пить, есть, спать буду?! Не покидай, не уходи, сладкий мой! На руках носить буду, пылинки сесть не дам! Ой, да что ты со мной делаешь!
Он гладил теплые и вздрагивающие плечи жены, смотрел в невидимое никому, кроме него, пространство, и рот у него был разинут, так как пришла в гладко причесанную голову дикая до невозможности мысль. Евлампию подумалось, что он сам не верит в свою близкую смерть и все делает и говорит несерьезно, словно областные артисты на сцене клуба, и, более того, не сам все это говорит и делает, а кто-то тихонечко нашептывает ему, как говорить и поступать. А жена, а лучшая в мире жена мужу поверила полностью, ревет и стонет, проливает горячие слезы, бедолага несчастная!
— Ой, люди добрые, смотрите, люди добрые, какое дело, плохо дело вершится! Ой, Евлашенька, солнышко мое незакатное, куда же ты уходишь от меня, сиротинушки?
514
«А вдруг не помру? — испуганно подумал старик Евлампий и весь передернулся от страха. — Вдруг я, правда, как говорит Егор, комедь ломаю? Ну беда! Да за такое дело с меня надо три шкуры спустить да солью присыпать!» От такой мысли Евлампий от ревущей белугой жены отстранился, при костюме и белой рубахе заглянул в настенное, косо повешенное зеркало. Мать честная! Нарядный и розовощекий старик смотрел на него выпуклыми от строгости глазами; прямым, надменным, начальственным был этот старик и на близкого покойника совсем не походил, а, наоборот, казался человеком, собравшимся топтать землю еще сто лет с довеском.
— Погоди, не реви! — властно распорядился старик Евлампий. — Реветь — это всегда поспеть можно, а вот знать, помрешь ты или не помрешь, это серьезное дело... Вона чего!
Он только сейчас заметил, что в дверную щелочку поочередно заглядывают носы и глаза. Узнал среднего сына Егора, его жену, правнучку, двух внуков и прочую домашнюю челядь, то есть всех тех, кто в смерть отца, деда и прадеда не верил, но все равно беспокоился. Мало ли что может случиться с человеком, которому девяносто восемь лет, да он еще принял бесповоротное решение после одиннадцати ноль-ноль отдать богу душу? Такого дела — шпионства — старик в своем доме допустить не мог и потому строго сказал жене Валентине:
— Ты без меня доплакивай, а я счас этих, которые без стыда и совести, подальше далекого пошлю.
Весь суконный и красивый, похожий на громадного медведя, вставшего на дыбки, Евлампий на цыпочках подошел к дверям и, как только очередной нос заглянул в щелочку, вытащил подглядывающего за грудки. Это был правнук, но имя у правнука такое заковыристое, что старик его не запоминал и теперь многообещающе сказал:
— А ежели солдатским ремнем? А ежели розгой из талины? Большая тебе приятность будет?
— Отпусти, дед! — сердито ответил правнук Эдуард. — Терпеть не могу, когда меня за грудки хватают.
— А солдатский ремень любишь?
— Отпусти, дед, добром тебе говорят!
33*
515
— А что ты мне такое произведешь, когда грозишься?
— Мало ли чего! Короче, отпускай! А то знаешь...
Таких слов старик Евлампий двести лет не слышал, таких строгих глаз сто лет не видел и вдруг понял, что правнук Эдуард — два вершка от горшка! — похож на того человека, который вырядился в черный шерстяной костюм и не знает точно, помрет или не помрет после одиннадцати ноль-ноль. Вот такая петрушка получается!
— Отчаливай, бесова душа! — гневно бросил Евлампий. — Вали с моих глаз, пока я не разорвался.
Двери старик закрыл со злым стуком, плюнул-ду- нул; походил он сейчас в своем черном костюме с белой грудью на осеннего ворона, учуявшего дыхание зимы. Евлампий и на жену Валентину посмотрел строго, изломав гневным зигзагом левую лохматую бровь. Это у него было смешно устроено — брови. Правая ровная, гладкая, по-женски аккуратная, а левая похожа на собачий хвост, пришитый над глазом.
— Хватит реветь! — зло сказал он жене Валентине. — Опрежь горя плакать — это все одно что водку без капусты пить. Наревешься еще, если в сам деле помру в назначенный срок... Постели мне телевизионну кровать... Две подушки положи, а под меня не старайся, мне мягкость хужее всего. Небось всю жизнь проспал на полатях да печке. Ну, стели, стели, ворон ртом не лови...
И еще один раз подошел старик Евлампий к большому настенному зеркалу, одернул пиджак и, придав лицу благообразие, заглянул в желтеющее стекло. Мать честная! По-прежнему ничего покойницкого не было ни в лице, ни в фигуре, ни в выражении лица. Стоял перед зеркалом осанистый и крепкий старик, собравшийся, так казалось, праздновать серьезный праздник на два-три дня или ехать на гостевание к сыну Петру, что живет в городе Москве, на Малой Пироговке. Это второй сын старика Евлампия, ему сейчас шел семьдесят седьмой год, и, говорили, здорово прихварывал сердцем, за что отец его в письмах, которые диктовал своему внуку, называл слабожильным, а однажды продиктовал так: «Сердце у каждого человека есть, болит оно, к несчастью, а тот, кто на это внимание обращает — не пришей кобыле хвост и лови стерлядь руками». Нет, не по¬
516
койник выглядывал из желтеющего зеркала, а вот это самое — не пришей кобыле хвост.
— Подушки-то можно не взбивать! — сказал он жене Валентине. ■— Я сроду высоко не любил, а уж теперь... — Дед махнул рукой — Теперь я, мать, в сильное затмение вошел. Просто тебе растолковать не могу, на каком свете сейчас нахожусь. Так что у меня к тебе сердечная просьба: выйтить из комнаты на само коротко время! — Он просительно погладил руку жены. — Сильно прошу, сделай это дело. Сильно прошу!
Оставшись наедине с белой постелью, дед Евлампий прищурился на нее и замер в недышащей неподвижности. Наступала тишина и сквозная легкость, белое полотно не то голубело, не то расплывалось небесной синевой, все вокруг опять раздвигалось, раздвигалось все быстрее и быстрее, и, к чему это все делалось, понять было нельзя, но вот лиственничные стены пали, потолок, полегчав, взлетел под облака, и было перед дедом Ев- лампием то же самое, что виделось из сада: до невозможности красное небо и угольно-черная земля, над которыми стоял старик Евлампий. И все было много ниже его ростом, отчего тело сделалось сквозным и тоже улетело под облака, хотя сам он — вот чудеса! — никуда не двинулся. Значит, были два Евлампия: первый, что стоял в горнице, второй, который улетел под облака, но не затерялся. «Правильной я жизни человек! — хвастливо подумал Евлампий и передохнул прозрачной, как дымка, грудью. — Завсегда что обещаю, то и делаю. Нечего мне бояться, будто бы не помру. Еще как помру... Сейчас вот сделаю то, чего сам не знаю, поме- щуся там, где ничего нет, и возьмусь помирать сильно старательно, чтобы хвастуном не прослыть!» Приняз такое решение, старик стал клониться на бок, то есть заставил встать на дыбки небо и землю, куда-то уперся руками, куда-то встал ногами, и после этого земля и небо повисли над ним, точно два огромных разноцветных прожектора, горячих, но ласковых. «Теперь надо сделать, чтобы ничего не колыхалося и не шевелило- ся!» — командовал он себе и делал все, как ему хотелось: расположился так, что знал, где он, Евлампий, начинается и где кончается, чтобы не было печально голове и холодно ногам. Заняв хорошее место, старик опять затаился в блаженной неподвижности и вскоре стал наблюдать невероятное: на грани красного неба и черной земли одна за одной возникали из тумана ве¬
517
щи не вещи, а не разбери что, ей-богу! Вот серое и расплывчатое понеслось навстречу глазам, хотело как бы впитаться в них, но, не долетев, село и превратилось в обыкновенное окно, распахнутое настежь. Потом из голубой точечки пролил свет платяной шкаф, вставший на привычное место, а за ним — здрасьте вам! — приплелся на восьми раненых ногах и занял свое законное место телевизор «Огонек».
— Вот такая история! — ошалело пробормотал старик. — Ах, какая история, будь ты неладна!
И не мудрено было удивляться, так как Евлампий, оказывается, уже лежал на диване-кровати, лежал на спине, с руками, сложенными на груди, и был у него тот самый вид, какой полагалось иметь человеку, собравшемуся на девяносто девятом году жизни помирать от усталости, похожей на тяжелую болезнь. И самым главным в нем — так умирающий сейчас чувствовал — были руки, побледневшие, несмотря на вечный загар. Как ему думалось, помирание начнется с рук, они медленно начнут холодеть, словно будет падать на пальцы все более и более холодный снег, поддувать сиверко. Когда умрут руки, сердце еще будет жить; лицо начнет помирать с подбородка, помирать будет долго, так как все на лице кончится, а вот глаза — они будут зорко всматриваться в то, где есть отгадка: что будет, когда ничего не будет? Глаза позже сердца помрут.
Прежней, до мелочей знакомой была горница, но в ней произошла перемена — высоко поднялся потолдк, хотя углы были на прежних местах; потолок поднялся так высоко, что казался голубым и летучим, и ожидалось от него все, например, могло проглянуть солнце. «Вот это сильно хорошо!» — гордо подумал старик Евлампий и стал обмысливать, как ему быть дальше. Нужно призвать в горницу всю родню, велеть подойти поближе, рассказать им, как надо жить дальше, что надо делать и чего не надо делать. Жизнь дед Евлампий сейчас понимал так хорошо, словно она была открытым на всех разом страницах букварем с цветными картинками. Главнее самого главного было то, что старик Евлампий знал, что будет, когда ничего не будет. А вот уж это-то надо было обязательно рассказать всему крыловскому роду — от мала до велика. Эти Крыловы — маленькие и большие — обливаются холодным потом от страха перед тем, что будет, когда ничего не будет. Когда-то и он, дед Евлампий, чувствовал, как волосы
518
поднимаются на дыбки при мысли о том, что он умрет и никогда, никогда, никогда не вернется на землю, где есть розовая излучина реки Ягодной с такой черемухой, что полк солдат набьет животы и еще останется. Была и такая минута в жизни Евлампия, когда он себя совсем потерял и долго стыдился происшедшего, но оно было, на самом деле было... На излучине реки Ягодной под снеговое цветение черемухи ловил он карасей, которые, как известно, начинают клевать, только когда начнет цвести черемуха. Он таскал себе рыбину за рыбиной, ничего плохого не ожидал, ни о чем особенном не думал, но в какой-то момент вдруг перестал видеть поплавок из балберы, так как вторым зрением увидел всю излучину и — вот странно! — самого себя в лодке с трепыхающимися карасями. «А вот помру — этого ничего не будет!» — внезапно подумал молодой Евлампий и втянул голову в плечи, волосы встали шапкой, стянули виски и зашевелились. Он понял, что значит никогда, почувствовал это и поэтому слышал, как на реке Ягодной кто-то ревет истошным сдавленным голосом, кричит так, как заяц перед смертью, и в крике этом такая смертная тоска, от которой дышать на земле нечем. «А ведь это я кричу!» — медленно и рассудительно подумал он, но от этого крик не прекратился, а, наоборот, спиралью вонзился в небо, как бы высверкав из него кривую молнию. Минуты две кричал на реке Ягодной молодой Евлампий, и уже никогда после этого мысль о смерти не захватывала его врасплох, то есть он предугадывал ее появление, готовился, и дело кончалось только холодной шапкой вздыбившихся волос. А сегодня старый старик дед Евлампий понял, что будет, когда ничего не будет, это знание пришло к нему на девяносто девятом году жизни, долго оно не приходило и, наверное, могло и не прийти, так что было преступлением не сказать молодым и старым Крыловым, что будет, когда ничего не будет. «Страшно ведь, когда кричишь сам, а думаешь, что кричит вся излучина, — думал Евлампий, помнящий свой крик на Ягодной и не желавший, чтобы, скажем, правнук Эдуард корчился в лодке и умирал заживо. — Все им обскажу, все, до самой последней нитки обскажу!»
Надо было позвать жену Валентину, она небось ошивалась возле дверей, но, чувствовалось, горла не хватит, и подняться с дивана-кровати дед Евлампий теперь,
519
пожалуй, не смог бы, так как легкая и веселая тяжесть уже ощутимо и властно прижимала его к мягкому, удобному ложу, да и руки, они начинали понемногу неметь, и неизвестно еще, смог ли бы он их разнять, если бы даже крепко захотел. Оставалось ждать, когда жена Валентина сердцем догадается открыть двери в горницу, чтобы услышать последнее в их совместной жизни строгое указание, и, конечно, жена Валентина, любимая и преданная жена, своим бабьим сердцем почуяла тревогу и быстро вошла в комнату, чтобы от испуга попятиться. Нет, она не оттого попятилась, что муж лежал со скрещенными на груди руками и вздыбленной бородой, а оттого, к а к он лежал и к а к смотрел на жену Валентину. «Умная, все поняла!» —длинно подумал Евлампий.
— Валентина, а Валентина! — негромко позвал
он.
— Говори, отец, все слышу! — вздыбленным голосом ответила жена. — Ой, говори, говори, кормилец!
Он сказал:
— Зови всех, но помни...
— Что мне помнить, Евлаша, что помнить, единственный?
— Ни крика, ни плача, ни суетни! — властно произнес старик. — Если кто заплачет или, того хуже, заголосит, я с тяжелым сердцем помирать буду, мне плохо помирать будет. Вот это ты понять можешь?
— Ой, ничего я не понимаю, Евлаша, но все будет по-твоему, только по-твоему, как ты зажелаешь...
— Тогда не суетись, зови народ и себе хороший вид придай. Слышишь меня, с тебя все начинается — и рев, и спокойствие... Ну, иди, иди, выполняй что сказано!
Жена ушла. Евлампию по-прежнему непонятно было, отчего так высоко поднялся потолок, начинающий просвечивать веселой голубизной, ведь раньше он видел красное небо и черную землю, а тут черт знает что творилось, если спокойно разобраться. Борода так и утыкалась в голубое и теплое. «Ну и хрен с ним, что мне мерещится! — надменно подумал старик. — Мне впереди не такое видать... Так что удерживай себя в узде, красноармеец Крылов!» И это тоже было непонятным, отчего он сам себе вспомнился в красноармейской форме со штыком на боку. Было это двести лет назад, а
520
вот примчалось на голубой потолок, и извольте полюбоваться! Даже шинельным сукном запахло, ружейным маслом и ковылем — они стояли тогда в Сальских степях. «Начинается!» — протяжно подумал Евлампий, так как давным-давно в какой-то книжке прочел, что перед смертью каждый человек в сильно короткое время видит всю свою жизнь, которая «так и проходит перед его мысленным взором».
Глядя в голубеющий потолок, дед Евлампий услышал негромкий топоток — это собирались в горнице Крыловы. Всего их было, как подсчитал за два года до собственной смерти самый-самый старший сын, шестьдесят семь. Родился он от первой жены, Марии, в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, благодаря первой империалистической и гражданской войнам образование получил поздно, на рабфаке, так как удрал на собственном девятнадцатом году из родной деревни. Семен Евлампиевич был партийным работником, в своей далекой Москве работал, в самом центре города, свежего воздуха и рыбалки не знал и помер от этого рано. Интересно было вот что: от каждой из жен — Марии и Валентины — старик Евлампий имел по четыре ребенка. Сейчас Евлампий старался сообразить, сколько же его потомков обреталось в деревне, то есть проживало в огромном, как пчелиный улей, доме. В прошлом году — это он хорошо помнил — из шестидесяти семи человек проживали тридцать девять, считая и мелюзгу.
Дом, в центре которого лежал старик Евлампий, сначала был обыкновенным пятистенком на четыре комнаты, но потом начал быстро разрастаться — прирубили в сторону огородов еще две комнаты, затем к этому прирубку пристроили еще две комнаты, а потом пошло- поехало, как снежный ком с крутой и высокой горы. В улицу дом расстраиваться не мог, пошел толстеть в стороны да вытягиваться на огороды, пока не получилось смешное дело — выросла здоровенная буква Т, которая, так молодой народ говорил, годилась для посадки самолетов. Восемнадцать комнат образовалось к концу тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, и этого было так много, что Евлампий, не любящий совать нос в чужие дела, во многих комнатах не бывал.
Деревня, если правду говорить, здорово была разбавлена Крыловыми. Если идут по улице три учитель¬
521
ницы, то одна — непременно Крылова, сидят в клубе четыре врачихи — одна Крылова, работают пять тракторов — на трех сидят Крыловы, прочесывают поле семь комбайнов — трое Крыловых. Председателем был Крылов, сельсоветом командовал Крылов, охранял природу от браконьеров Крылов. На особицу от всех стоял средний и любимый сын Егор, который в тридцать лет был на пенсии по инвалидности. Заснул на тракторе, повалился в борозду, и плуг проехался по -нему сверкающим лезвием. Оставшись одноруким, Егор все-таки вернулся на гусеничный трактор, начал работать так хорошо, что районная газета «Советский Север» стала трубить во все трубы. Дескать, патриот и герой, дескать, чудесное чудо, но отец Егора, то есть он, старик Евлампий, этим разворотом был сильно недоволен и потому как-то призвал к себе Егора, посадил рядом, помолчал сколько надо, а потом в сердцах сказал: «Пять двуруких трактористов силосные ямы от лопаты роют, пять двуруких трактористов по деревне как неприкаянные ходят, а ты с одной рукой... Короче говорить, ты мне это дело бросай! Пенсия есть, с голоду не помрешь, уступи место, кому сидеть на тракторе положено! Ну, поработай, скажем, в посевную, покосы и уборку. И хватит!» После этого Егор стал в доме главным. Самый старший сын Семен, что работал в центре Москвы, как-то, смеясь, сказал: «Егор, он премьер-министр, а ты батя, словно английская королева — царствуешь, но не управляешь!» А и правда! Однорукий Егор шустро управлялся со всем сложным крыловским хозяйством. Как он сам говорил, «единоручно перекалывал три поленницы дров», бочкой наваживал воду, вспахивал огород, латал крышу, стены, ремонтировал поочередно все восемнадцать комнат. Он же разбирал бабьи и ребячьи ссоры, находил правых и виновных, мирил и только в редких случаях обращался к Евлампию — это уже когда никакими силами не мог управиться с бабьей половиной.
Шуршали, нечаянно стучали каблуками в крашеный пол, скрипели досками Крыловы, цепочкой проникающие в горницу, где лежал на диване-кровати старый старик дед Крылов, давший им жизнь и теперь захотевший видеть родню перед смертью. Наверное, по приказанию Егора входившие выстраивались вдоль большой стены, то есть параллельно ложу Евлампия, и он, скосив глаза, мог видеть, кто пришел и как себя дер¬
622
жит. Для начала выяснилось, что умная Валентина всякую мелочь в горницу не привела, самым юным был семилетний правнук Эдуард, грубиян и зараза, недавно обещавший родному прадеду сделать такое, что и придумать трудно. Из старших был виден младший сын от первой жены Федор, разменявший шестой десяток, состоящий при плохой работе председателем сельсовета, старший сын от второй жены Яков, сорокалетний тракторист, видно, сбегавший в тракторный гараж и получивший отгул, а также старшая дочь Нина от второй жены, учительница, даже не учительница, а директор школы. Понятно, что с Федором, Яковом и Ниной пришли их жены и мужья, внуки и так далее. Явился, например, любимый внук Иван — двадцатипятилетний врач, по специальности глазной. Ростом он был выше деда, то есть имел два метра, но — неслух чертов! — горбатился, словно стеснялся быть таким большим. Он и сейчас походил на костыль с выгнутой ручкой. Рядом с ним стояла единственная дочь от первой жены Ксения, которой шел восьмой десяток и которая была так дряхла, что ее поддерживал внук деда Евлампия Евлампий, белокурый и голубоглазый, колхозный агроном, полмесяца назад отпраздновавший шумное пятидесятилетие.
Горница уже была полна тихого, осторожно дышавшего народа, когда вошли доктор от нервов и главный врач поселковой больницы, сильно старый Яков Кириллович, который называл себя фельдшером первой империалистической войны, но, говорят, в давние времена кончил целый университет. Утром, когда бегали за врачом, Якова Кирилловича не было — рыбачил на Ма- мыкинских песках, где хаживала по дну и стерлядь, уходившая в небытие рыба. Яков Кириллович с ходу приблизился к Евлампию, цепко схватил его за руку, шевеля губами, посчитал пульс.
— Покажи язык! Еще дальше... Так, так, так!
Высокий потолок над Евлампием напоминал теперь небо за несколько минут до появления рассветного зарева, то есть начинал раскаливаться, как лемех в кузнице. Еще не виделись рассыпчатые первые лучи солнца, еще вся птичья мелочь и прочая живность попискивала, пела и разорялась тихонечко, вполголоса, робко, ожидая команды от солнца. Никто не поверит, но на потолке-небе посверкивали и редкие звезды, не было только луны, и в этом удивления не содержалось — з
523
эти дни луна еще. не народилась, что значило, старый дед Евлампий никогда больше не увидит луну, и он как раз об этом и думал, когда в горницу влез последний внук, живущий в родной деревне. Это был дедов любимец Иван, сын Евстигнея, сына от первой жены. Сам Евстигней до смерти отца не дожил, погиб в авиационной катастрофе, когда летел в Египет, где был видной шишкой в посольстве... Короче, в просторную горницу набился весь народ, проживающий с дедом Евлам- пием, и он ревностно пересчитал пришедших... Родня жалась к стене и молчала, средний сын Егор улыбался так, словно хотел сказать: «Ну, посмотрите, люди добрые, какой шуткарь мой батька! Это ведь он все выко- маривает для смеху!» Стояла с мокрыми глазами и за- морщинившимся лицом жена Валентина, правнук Эдуард на прадеда смотрел тоже насмешливо: «Играет дедуля!» Улыбался краешком губ хилый врач от нервов, и только фельдшер времен первой империалистической войны Яков Кириллович смотрел на старика Евлампия со спокойной грустью — этот понимал, что к чему и почем сотня гребешков.
— Егор, а Егор! — позвал старик. — Я могу и об- шибку дать, так что посчитай, весь ли народ собрался. Жалко будет, если кого нету — буду про крупно дело рассказывать.
Средний сын Егор пришедшую родню считать не стал, а сразу ответил:
— Все собрались, батя, но телеграммы мы не давали.
— Это почему?
— А потому.
Хорошо было бы начать говорить, если бы на потолке-небе начался рассвет, но на западный край потолка наползла узкая, но толстая тучка и солнце собиралось обогнать ее только минут за десять. Старик Евлампий вздохнул, почесал рукой кончик носа, сложил опять похудевшие за утро руки на груди и покосился на жену Валентину, которая стояла у его изголовья, стояла,конечно, по праву и справедливости. Нарожай и вынянчи такую ораву — поймешь, где тебе надо стоять. «Ну, ладно, с этим делом полный порядок! — облегченно подумал старик. — Теперь с имя надо поговорить, и хорошо поговорить, чтобы в понятие взошли. Думай, Евлампий, сильно думай, прежде чем рот раскрыты
524
Болтать всякий может, а вот поговорить с родней перед смертью — это совсем другое дело!»
— Меня надо сильно внимательно слушать, — сказал он вслух, — здорово внимательно! Дело простое: узнал я, что будет, когда ничего не будет...
Если бы не сложенные на груди руки, если бы не глаза, направленные в одну точку потолка, и если бы не парадный костюм с белой рубахой, дед Евлампий походил бы на только что проснувшегося, хорошо выспавшегося человека, готового немедленно пахать или рубить дом. Жаркий румянец лежал на чисто выбритых щеках, краснели пухлые губы, бороденка, торчащая в потолок, походила на кукиш, который старик показывал всем и вся, говоря насмешливо: «А у меня на вас еще посильнее управа имеется. Вот только заплачьте или просто пустите слезу!» И вот что характерно: при
черном костюме и белой рубашке на Евлампии были разноцветные — три разные нитки — синтетические носки.
— Если все собралися и превратилися в слух, я начинаю! — сказал Евлампий тихим задумчивым голосом. — Сначала так скажу: простите меня, окаянного, что в уборочно время помирать наладился. Разве хорошо, когда два трактора и комбайн простаивают? Нет, это сильно плохое дело!
На голубом потолке-небе, оказывается, можно было увидеть что твоя душенька пожелает, например, Варь- кин клин, где теперь простаивал комбайн внука Ивана — не того Ивана, а другого внука... Рожь чуточку положил на землю град позапрошлой недели, спелую, ее надо было убирать прямо сегодня, а над рожью неподвижно застыл коршун с зубчатыми крыльями, и солнце висело белое-пребелое, словно январское, но, конечно, жаркое. «Вот что плохо, — подумал Евлампий,— вот что плохо, что на своих ногах мне уж больше не ходить на Варькин клин, хоть это я придумал такое название. Это ведь по Варьке Сопрыкиной названо, как она во ржи своего Андрюшку народила. Вот я и обозвал клин Варькиным...» Он хотел посмотреть на рожь еще немного, но она исчезла и на небе-потолке снова сияли самые яркие звезды, в том числе утренняя, жаркая, как электрическая лампочка на макушке новогодней елки. Значит, выходило, что не все и не долго мог видеть Евлампий на потолке-небе.
525
— Надоть скорее взять Варькин клин! — сказал старик. — Ты, Яков, поимей это в видимости, чтобы чего плохого не случилось. Я так полагаю, что послезавтра начнется большой дожжище и ден пять будет идти без продыху... — Приподняв голову, он нашел глазами старшего сына Якова от второй жены и, убедившись, что его слушают, снова занял свою покойницкую позу. — Теперь слушай, родной народ, как надо проживать дальше, что делать да как быть. Ну, во-первых, Д0хМ не рушить, по другим домам не разъезжаться, а, наоборот, всем собираться под одну крышу. Это дело матери Валентины и Якова, который к дому всегда ласковый да хозяйственный. — Он перевел дыхание. — У меня такая думка имеется, что все Крыловы под родной крышей помирать будут, если они не последние дураки... Теперь скажу, во-вторых, что надо жить дружно, едино, в большом согласии. Без этого, родной народ, всем Крыловым выйдет полная погибель без сроку и смысла. Здря все Крыловы изведутся от такого плохого дела — это я вам чистую правду говорю.
Крыловы, о которых говорил старик, стояли мертво, статуями, казалось, даже и не слышали, слушая деда Евлампия, и только два человека вели себя вольно: скептически улыбался над чудищем отцом средний сын Егор и не могла не пустить слезу жена Валентина, уверенная, что муж сдержит слово — поговорит немного да помрет, оставляя ее во главе громадного дома и в горемычном вдовстве. Что касается врачей, то фельдшер времен первой империалистической войны Яков Кириллович хмурился и жевал ус, а доктор против нервов от волнения то краснел, то бледнел и дышал тяжело, с присвистом. Он здорово молодой был, этот доктор от нервов!
— Крыловы друг без друга — все равно что телега без колес, — продолжал Евлампий. — Значится, завет мой такой: жить в дружбе и родственности. Ты слышишь меня, Валентина?
— Слышу, отец, слышу, родной!
— А ты, Егорий, меня слышишь?
— Слышу, батя!
А вот самого себя старик Евлампий не слышал, казалось, звуки идут в сторону тихой родни, а от ушей старика отлетают. Он этому подивился, но времени на длинное удивление не было: потолок-небо все расши¬
526
рялся да расширялся, звезд становилось больше, и — вот новость! — вставала над головой луна, щербатая, показывающая, что собирается увеличиваться, а не умирать. Она, наверное, дня через четыре станет полной, блестящей, круглой. И уже висела в далекой вышине та звезда, которая на родине Евлампия светит сильно, очень сильно, ярко с центра неба, ученые сыновья и дочери называют эту звезду Полярной. Наверное, от нее, яркой и близкой звезды, в грудь старика медленной змеей, сладостно, неторопко вползал такой же страх-ужас, какой Евлампий испытывал в молодости, когда думал, что умрет навсегда. Грудь, то есть все, что находится за ребрами, костенело от холода, сжимаясь в крохотные комочки, одновременно с этим кричало и вопило так, что Евлампий сам себе казался сплошным криком, огромным ртом, разинутым во всю мочь. Он вопил на всю землю, а все оттого, что вдруг пришла мысль: «А если я ошибся и не знаю, что будет, когда ничего не будет?»
— Еще от меня наказ будет такой, — между тем продолжал говорить тот Евлампий, который жил помимо своей вопящей груди. — От земли, ребята, не отходите. Конечно, на свете все есть, но земля не выдаст, не продаст. Возле нее всегда кусок хлеба найдется. Человек в спокойствии живет, ежели стоит на земле, какую пахать надо. Это мне отец говорил, отцу дед, а деду прадед. Сколь времени с той поры прошло, а Крыловым нету никакого износу.
Если внимательно посмотреть на Крыловых, на потомков старика Евлампия, выстроившихся вдоль стены горницы уступами — самый низкий правнук Эдуард, — то можно было заметить, что никто, кроме жены Валентины, слез не проливал, беззвучно не плакал, что значило единственное: не верили Крыловы в смерть патриарха, такой он лежал свежий и энергичный на модерном диване-кровати, да еще с надменно задранной в потолок бородой. Был, пожалуй, один человек, который к происходящему относился серьезно, нервничал, глаза имел красные и время от времени хватался худыми пальцами за грудь. Это доктор от нервов не давал себе отдыху-продыху, а вот фельдшер времен первой империалистической войны Яков Кириллович — большой друг деда Евлампия — слушал теперь спокойно.
— Значится, повторяю я это дело, — продолжал старик. — С земли не уходите ни в коем разе. Тогда
527
Крыловы еще долго жить будут. Они в куче жить будут, без горя-печали при своем родном доме, который еще надо прирубать... Егорша!
— Чего?
— Две комнаты прируби, чтобы двадцать было. Нам эта теснота, к слову сказать, без надобности. Это пускай городские теснятся, а нам стыд да позор. Посередь тайги живем, грех не пристроиться...
«Скоро это дело конец поимеет!» — с тихой радостью подумал старик, зная по опыту многих лет, что такой большой страх, который терзал его сейчас, более двух-трех минут не живет: распространится холодными иголками по всему телу, пригреется и понемногу отпустит, оставив только большую усталость, словно он с утра и до темна пахал целину сохой, и вот эта самая усталость была неоценимым благом, так как от нее хотелось надолго забыться, а может, и умереть; и это была та самая усталость, о которой давеча спрашивал молодой хилый доктор от нервов, человек дотошный.
— В-третьих сказать...
Исчезал страх, проходил, как лед на Оби в последние денечки ледохода, и в груди легчало, словно из нее постепенно вынимали печенки-селезенки и прочее. Дело кончилось тем, что грудь стала казаться надутой до отказа детской бирюлькой — воздушным шариком розового цвета, что казалось смешным, несерьезным, как кино в клубе, где люди ходят, сидят, стоят и разговаривают понарошке. Со смеху можно было умереть, глядя, как в этом кино целуются — с подходцем и хитростью. Живой человек так целоваться не мог, честное слово!
— Больше у меня наказов не будет! — твердо и неожиданно вызывающе проговорил Евлампий. — Я не поп, чтобы без продыху говорить... Я — это Евлампий Крылов, и вся недолга, как говорится, если взять к примеру... Я только за то скажу, какую жизнь прожил и чего в ней понял. Может, вам от этого полезность выйдет...
Уходил страх, покидал все еще сильное, звероватое тело старого старика деда Евлампия, и он уже чувствовал, как холодно поднывают ступни, всегда первые освобождающиеся от страха перед смертью. И дышать ему было легко, и говорить, и одновременно с этим думать о том, что будет, когда ничего не будет. До этого
528
времени, так смекнул старик, остались, как говорится, считанные минуты. Надо было воспользоваться ими, но слова с губ Евлампия теперь слетали медленно, как бы зажеванные и линялые, бесцветные и плоские, хотя говорил он, как сам чувствовал, охотно, а не то чтобы поневоле.
— Вот я такой вопрос заостряю, — говорил Евлампий. — Какую я жизнь прожил по сегодняшний смертельный день? Кому есть интерес, отвечаю: жизнь я прожил сильно хорошую, но, обратно сказать, короткую, ровно рубашка у пацаненка... — Он расцепил руки и огладил правой торчком стоящую бороду. — Теперь я с другой стороны зайду. Так скажу: если бы моя жизнь была длиннее, то я сильно бы по смерти и отдыху заскучал. Вот если подумаешь, что будешь проживать вечно, тебя сильная, как грызь, тоска берет. Аж сердце замират! Ну, слов нет, как от страха вечной жизни печенки-селезенки в стон бросаются... Я тебя, доктор от нервов, видеть не могу, но так чувствую, что ты чего-то такого на бумажке чиркаешь. Ты у меня такое дело прекрати, а то команду отдам, чтобы... этого самого...
Деревенский невропатолог на самом деле что-то нетерпеливо записывал на сложенном тетрадном листе, торопился, дрожал отчего-то, а после слов старика пришел в такое замешательство, что покраснел накатом, выронил карандаш, а злополучный листок спрятал где- то на заду, так здорово у него дрожали костлявые пальцы. Фельдшер военного времени на коллегу посмотрел убийственными глазами, они у него были, как у рака, вылупленными, и дед Евлампий, смотрящий в потолок, все это увидел мысленно и так четко, словно происходило на его глазах. Чтобы не улыбнуться, он подумал сочувственно: «А ведь ему, старому черту Якову Кирилловичу, куча годов. Тоже, наверное, скоро наладится помирать. Жалко, ох, как жалко, если такой хороший доктор помирает!»
Совсем притихшие, стояли разнокалиберные Крыловы, возрастом от семи до семидесяти лет, и уже казалось, что и на самом деле встревожены поведением отца, деда и прадеда. Чем, как говорится, черт не шутит, возьмет да помрет, так как улыбку, которую Евлампий спрятал, почти все Крыловы заметили и переглянулись испуганно. Не бывало еще такого, чтобы глава крыловского рода недоулыбался или недосердился —
34 Виль Липатов, том 4
529
старик был взбалмошный, этого ото всей деревни не скроешь.
— Хорошую жизнь я прожил, родственники. На войне меня не убили, все болести прошагали мимо, сколь сейчас ни проживает Крыловых, мало кто помер. Моя дочерь Ксюша восьмой десяток разменяла. — Евлампий опять пригладил бороду. — Крыловы, они шибко живучие да прочные, если на зуб попробовать. За это мне самому от вас низкий поклон. Только прошу все общество молчать... А теперь далече поплывем. Жизнь бывает не тока хорошая, но еще и счастливая, так что я себя спрашиваю строго-престрого: «А был ли ты, Ев- лашка, счастливым?» Подумаю, подумаю да еще раз подумаю и сам себе отвечаю: «Был счастливым, да не просто, а сильно счастливым!» А после этого себя на другое дело пытаю: «А в чем твое счастье состояло, Евлашка Крылов?» Вот об этом деле я всего длиннее думаю. Были на моем веку бабы — это хорошее счастье, была самогонка — тоже славное счастье, были ребятишки — того лучше, но вот где я был больше всего счастливым? Все переберу и отвечаю себе твердо: «Бабы, самогонка, дети — все дело сильно хорошее, но поперед всего этого я вспоминаю, как на девятнадцатом году Березовский клин на каурой паре пахал. Солнце, это, горит, от земли сладкий дух поднимается, лошадиным потом пахнет. Вот это было совсем большое счастье!»
Небо-потолок уже нужно было называть просто небом, ночным небом, и, судя по звездам, это было осеннее небо, когда хвост Большой Медведицы лежит за рекой Обью, повернувшись к тому месту, куда на ночь прячется передохнуть, хорошенько поработав, солнце. Светлел с каждой секундой Чумацкий Шлях, то есть Млечный Путь, и походил он на развесистое дерево, на ветку которого прикрепили золотое яблоко-луну. Если бы у Евлампия было время остановить свой разговор и подумать о Чумацком Шляхе, необычно осененном, понял бы он, что страшнее этого дерева ничего быть не может — холодной вечностью и вечным тленом веяло от его мертвенного сияния. Да и луна, если забыть о том, что по ней ходили люди, сторожила вечность.
— Землю пахать, хлебушко жать, рыбалить, охотничать, стога метать — лучше счастья нету! — медленно продолжал дед Евлампий. — Мой отец говорил, а
530
ему его отец говорил, а тому еще один отец говорил, что слаще рабочего пота ничего не бывает. Крыловы испокон веков от работы не бегали, так что вы меня слушайте да на ус мотайте. Завсегда у вас будет счастье, если на работу будете ходить веселой ногой. Это я вам как завещание делаю. — Он неожиданно весело и светло улыбнулся. — Окромя этого, мне вам завещать нечего. Золота и денег нету, не копил, а дом вы сами строили до того, что я в нем блужу, ровно в чужом лесу... Теперь почти последние мои слова. Я вот ухожу от вас, так за меня остается жена Валентина, лучше которой не знаю. Вы ее слушайте, как меня, поперек не делайте, а главное — помогайте кто чем может. Егор, к слову сказать, должен дом в сохранности держать, если он деревню сильно уважает, в город на легкие хлеба бегать не собирается...
От ступней до кончиков пальцев свинцовая холодность понемногу поднималась все выше и выше и — вот диво дивное! — была приятной, наверное, потому, что рядом с холодностью тело охватывала сладкая и желанная истома сонливости, предстоящего длинного и освежающего сна. Руки и ноги потому и холодели, что устали до такой границы, дальше которой быть не могло, и требовался только и только крепкий, необыкновенно крепкий сон. И с каждой секундой дед Евлампий все острее — такого никогда не было — чувствовал жизнь тела в каждой косточке и каждой мышце, словно руки, ноги, сердце, голова, печенки-селезенки отделились друг от друга и было интересно узнать, как они там, болезные, поживают.
— Вы не поверите, но я сейчас на потолке ночноне- бушко вижу. Ну, все до одной звездочки и при луне! — задумчиво, но и хвастливо сказал Евлампий. — Такого чуда вам сроду не увидать... А теперь я немного помолчу, а вы стойте и не шевелитесь — хочу помолчать по важному делу, сильно важному!
До того открытия, которое дед Евлампий сделал всего два часа назад, он шел всю жизнь, все девяносто восемь годков, как одна копеечка. Ну, никак не мог поверить он с самых молодых ногтей, что за небом со звездами ничего не было, там было — это он сам открыл, без книг и газет — еще одно небо со звездами, а за ним еще одно, конца этим небам не было, края они не имели, и только потому, именно поэтому дед Евлампий не верил, что человек умирает насовсем, но два
34*
531
часа назад еще не знал, что будет, когда ничего не будет, а ведь вот узнал, открыл и поверил в это, как в таблицу умножения, которой умел пользоваться. Открытие пришло, как всегда, нежданно-негаданно и бог знает откуда. Он и сам не заметил. Острая, как язык маленького костерка, мысль, и все ею осветилось, точно вспыхнула военная ракета. «Аааа! Вот что будет, когда ничего не будет! Ма-ать родная!»
— Стойте! Молчите! Не шевелитесь Думаю я...
Ноги, руки, сердце — все жило по отдельности, и так жило, словно по отдельности собиралось утихнуть, замереть, остаться в бесконечном длинном сне, вернее, в длинных снах, которые — спаси жизнь! — конца не имели. Уловил Евлампий и новое: холодели не только кончики пальцев и ступни, а все остальное — отдельное — во всем нем, вытянувшемся на диване-кровати, словно барин на пуховой перине. Теперь начинало холодеть под сердцем, словно в груди поднимался северный ветерок, голова становилась большой, опухшей, выставленной на холод, все равно как после сильного похмелья; да и там, где располагались печенки-селезен- ки, кололи со всех сторон острые льдинки-иглы, и от всего этого было такое сладостное и желанное ощущение, какое испытывал молодой и здоровый Евлампий, когда после двухсуточной бессонной охоты возвращался домой и, весь иззябший, по-собачьи усталый, еле удерживающий в руках ложку, после пьянящего обеда заваливался спать на нагретые полати. Счастливее этого мига в жизни не бывало, и вот сейчас старику казалось, что он охотился долго, сто лет или двести, разницы не имеется, и уже поставил ногу на лавку, чтобы с нее нырнуть в овчинную дикую радость покоя. Он торопился, он здорово торопился, но что-то чрезвычайно важное удерживало его. Это походило на то, что, скажем, убил он матерого медведя, а не сказал мужикам, что надо идти к медведю и куда идти. Дед Евлампий сейчас всех других Крыловых видел целиком и полностью, как одно громадное лицо, похожее и на его лицо, и на лицо первой жены Марии, и на лицо второй жены Валентины. На этом лице он видел каждую морщинку, замечал движение каждого мускула, читал даже мимолетную мысль в орехового цвета глазах. «А ведь я знаю в точности, где лежит медведь! — со счастливым замиранием сердца подумал Евлампий и закрыл глаза. — Все им обскажу, вот только не уснуть бы мне
532
на самом главном месте. Значит, силов надо набраться!» Свежее и живее всего сейчас у старика была голова, он напрягся, сосредоточился, открыл глаза —все до одной звезды стояли над головой. «Ты просто молодец, Евлаша!»
— Теперь объясню, что будет, когда ничего не будет, — властным от слабости голосом проговорил старик. — Сам я, слов нету, помру сразу, как вам последнее слово скажу, а вот что будет, когда ничего не будет, это дело я раскумекал... с-
Одна звезда, умеренно яркая, погасла над головой старика. Это была такая мелочь, что Евлампий ее не заметил, но зато мысленно улыбнулся над тем, как вели себя его отдельные части, ставшие самостоятельными. Руки, к примеру сказать, ноги, к примеру сказать, и все тело без ведома и согласия хозяина укладывались спать — перевертывались на бок, подкладывали ладошку под щеку, счастливо и длинно вздыхали, счастливые от возможности уснуть; так что ногами Евлампий теперь не владел, только остренький холодок чувствовался на их месте; руки тоже, видать, собрались вдогонку за ногами, он хотел их разжать, чтобы прогнать муху, севшую на нос, а они, холеры, не разжались. На этом месте погасла еще одна яркая звезда, и вот это-то старик Евлампий заметил.
— Вот как я это дело раскумекал...
Пожалуй, никогда в жизни Евлампию так не хотелось спать, как сейчас, когда лежал он в собственном доме, но под живыми звездами. Он так спать хотел, как когда-то, несмышленышем, хотел жить. Так спать хотел, словно к его виску приставили пистолет и сказали: «Не уснешь — тут тебе и смерть!» Он так спать хотел, что от счастья в горле набухали рыдания. Он так хотел спать, как баба во время схваток рожать. Все отдельные части его тела криком кричали: «Закрывай глаза, забывайся, а то ты сейчас плохо живешь, Евлампий Крылов!» Легкий морозец пробегал по спине, готовился закостенить ее, успокоить от всех болей и стонов в пояснице, а над головой — звезды одна за одной гасли — распухала, делалась похожей на большой радужный фонарь Полярная звезда, которая зимними ночами водила, верная и близкая, Евлампия по незнакомым дремучим лесам.
— Вот как я это дело раскумекал... Умереть я, право слово, умру, совсем умру... — Дед Евлампий гово¬
533
рил тихо, хотя ему казалось, кричит на всю горницу. — Я так совсем умру, что сроду обратно не возвернусь. Лежать, сидеть или ходить уж никогда не буду, но это не сильно страшно. — Он тяжело передохнул. — Это не сильно страшно потому, что не сильно страшно, если правду сказать...
• Единственная звезда в небе, увеличиваясь в размерах, линяла, истоныналась, блекла и уже походила не на фонарь, а на луну в утреннем тумане. Что касается желания спать, затягивающей сонливости, то за право бодрствовать и говорить дед Евлампий платил дорого, чистым золотом: так было трудно держать открытыми глаза, ворочать разбухшим языком, шевелить потолстевшими губами. Что еще легко и славно проживало в старике, так это легкие, которыми он жадно захватывал теплый и душный воздух горницы, пахнущий живыми Крыловыми. В каждом доме, известно, имеется свой запах, иначе быть не может, и вот воздух крыловского дома, который Евлампий сам построил после войны, пахнул хорошо: лесом, травой, печеной картошкой, влажной землей, теплом полатей и здоровым потом, который не от жары, а от работы. Свой собственный запах — душноватый запах старости — старик Евлампий чуять не мог, как пьяный человек запаха от себя не чувствует. Забавно было, что ноздри у него раздувались, как у молодого жеребца после длинной пробежки.
Старик Евлампий сказал:
— Короче говорить, на землю я обратно не возвернусь, но это, обратно говорю, не сильно страшно... — Он сделал еще одну длинную паузу, заглотал как можно больше воздуху, выдохнул его, и вдруг голос деда Евлампия стал звонким и ликующим, словно военная труба перед последней победной атакой. — Ну весь, просто весь я умру, но одного у меня никто отобрать не может и не отберет. — Он свирелью крикнул в темное небо-потолок: — Я сильно длинные сны буду после смерти видеть, такие длинные, что нет конца- краю!
Не дышали многочисленные Крыловы, смертвел бывший военный фельдшер Яков Кириллович, текли по щекам жены Валентины крупные — в горошину — и медленные слезы. Старик Евлампий так крикнул, что крик, казалось, зацепился за потолочную балку и вибрировал, неспособный уйти из дома, и, честное слово, каза¬
534
лось, что этот крик — живой и остроконечный, как кедровая шишка.
— Когда человек ночью спит, он короткие сны видит, а если человек умрет с радостью или без радости, он сильно длинные сны видит! — сказал Евлампий дрожащим от слабости голосом. — Я все буду видеть. Как мальчишкой был, как первый раз штаны надел, как воевал, как рыбалил, как охотничал, как пил чай с морозу. Я, к примеру сказать, то место Ягодной увижу, где река поворот себе дает и кажется, что над ней медные колокола звенят... Я вам гольную правду говорю. Какая разница, что ты одну ночь спишь или навсегда уснул? — Голос его опять зазвенел тонкой медью. — Ночью я тоже мертвый, неживой, а короткие сны про всяку всячину наблюдаю... чего же посля смерти мне без сильно длинных снов жить?
Ничего нового и особенного с дедом Евдампием после этого не произошло, а только все сильнее и сильнее клонило в сон, веки, затяжелев кирпичами, норовили закрыться сами, а уже о других его частях и речи не было — призывали сладкими голосами на бесконечный отдых, сладкий, как мед в сотах. Даже само сердце быстро идти отказывалось, притихало, как часы, если у них кончается пружинный завод. «Ну, что же, вроде я им все обсказал! — деловито подумал Евлампий. —■ Так что волынку нечего тянуть, надо помирать, раз помирать собрался. Самостоятельным надо быть, вот что я тебе скажу, Евлампий! Помирай и больше не кочевряжься!»
— Последнее говорю: живите долго, будьте здоровы, по мне не голосите... Одним словом, прощевайте!
Ни одной звезды уж "не было на небе, и только луна — на чем висела, неизвестно — посверкивала живо и любопытно, похожая при этом на керосиновую лампу. «Пора, пора, брат Евлампий!» Он собрался по ребячьей привычке сунуть сложенные ладони между коленями, свернуться в три погибели и, угнездившись удобно, в такой большой сладости и покое умереть на веки веков. Но ничего у Евлампия не получилось — только начал повертывать голову, как на нее, похоже, бросили большую пуховую подушку, глаза сами быстро и прочно закрылись, фиолетовые искры полыхнули перед глазами, сладкая судорога пронзила тело и... Прежде чем умереть, дед Евлампий успел подумать: «В гроб-то все равно на спину кладут!»
535
— Так! — пробормотал бывший военный фельдшер. — Так!
Однако Крыловы еще ничего не поняли, терпеливо ждали, что еще скажет муж, дед и прадед про сильно длинные сны, которые будет смотреть после последней смерти. Первой, само собой понятно, спохватилась жена Валентина — бросилась к мужу, заголосив, упала жерновом на его высокую и выпуклую грудь. Что она кричала, понять было нельзя, но все остальные Крыловы вдруг тоже непонятно заголосили, всей плотной массой метнулись к ложу Евлампия, и началось светопреставление, крик и спиральный визг насмерть перепуганного правнука Эдуарда. И только один Крылов стоял на месте, неверующе почесывая подбородок и глядя на бушующую родню исподлобья. Это, конечно, средний сын Егор, который в смерть отца до сих пор не верил, считая, что он выкомаривает. Думал, наверное,что отец нарочно затаил дыхание и сам сделал веки тоненькими, словно из папиросной бумаги, а как только не хватит воздуха, ехидно и радостно крикнет: «Здорово я вас испужал? Небось поджилки трясутся!»
Крик стоял, вой, стенания, разобрать, где старшие Крыловы, а где младшие, было невозможно, и по-прежнему тонко вопил правнук Эдуард, которого умерший дед звал обидно — Дусей. И пришло время, когда средний сын Егор понял, что отцу не до шуток, что страшное — вот оно, случилось, и, поняв это, плотно зажал ладонью рот. Он кричать не мог и не хотел, он был настоящим сыном старика Евлампия, а вот крику в доме все равно стало больше.
— Товарищи! Товарищи! — послышалось в горнице, и кричал это доктор против нервов, кричал таким могутным басом, которым судьба часто одаряет хилых и немощных мужиков, чтобы наградить за телесную бедность. — Товарищи! Товарищи!
Он кричал таким же ликующим голосом, которым дед Евлампий говорил, что после смерти будет всегда и вечно видеть сильно длинные сны, он таким голосом кричал, каким кричит мальчишка, когда научится плавать.
— Товарищи! — кричал доктор от нервов. — Не смейте плакать и кричать, товарищи! Сейчас вы увидели одного из самых счастливых людей на земле, которому судьба даровала естественную смерть... — Он воз¬
536
дел обе руки к потолку. — Немногие смертные награждаются так по-царски... Великий ученый Мечников утверждал, что так должны умирать все люди, и они будут так умирать!
Он все кричал и кричал, лохматый и неистовый, а его, наверное, не слышали, объятые неизмеримым горем, и только сильно старый фельдшер Яков Кириллович не только слышал доктора от нервов, но и смотрел на него, задумчивый и сгорбленный, сделавшийся вдруг маленьким, хотя был самым высоким человеком в деревне Крылово, открытой и обжитой отцом только что умершего Евлампия Николаевича Крылова.
ЗАГЛАВНОЕ НАЧАЛЬСТВО
Он выглядит заправским сплавщиком.
Брюки — из брезента, куртка — из чертовой кожи, а на голове, несмотря на теплый июньский день, — зимняя шапка. Как и все, он в синих больших рукавицах, на ногах — разношенные кирзовые сапоги.
Он приходит на работу вместе со взрослыми, шагает с ними как равный среди равных. Правда, он работает только летом, когда учащихся распускают на каникулы, но у него такая же плавная, цепкая походка, как и у взрослых сплавщиков, привыкших бегать по бревнам.
Его дед, старый сплавщик Яро-ма, по нескольку раз в день пробирается на цыпочках за штабеля; притаившись, высматривает, не сверкнет ли в пальцах внука предательский огонек самокрутки. Об этом знает внук, но он не показывает виду.
Он бракер сплавного участка.
Как он стал бракером, знают все.
Случилось это неожиданно. Старший брат Ефима, участник Отечественной войны, кавалер двух орденов «Славы», опытный бракер, как-то разбушевался в кабинете начальника участка.
— Не буду бракером! Бабья работа! Пиши приказ об увольнении! Пойду в лес работать... — наседал он на начальника.
— Не держим! — кричал покрасневший начальник
537
участка. — Иди хоть на курсы министров. Но ты замену найди, ты мне бракера представь!
И вот тут старший брат кивнул в сторону Ефима, который молча сидел в уголке:
— Вон она, замена, сидит! Ефим любого бракера за пояс заткнет!
Начальник громыхнул кулаком по столу:
— Вопрос поставлю... на бюро!.. Жалобу напишу по поводу издевательства...
Неожиданно для себя Ефим поднялся и, насупившись, сказал:
— Пусть братка в лес идет. Я поработаю за него...
Тихо стало в конторе. Разинув рот сидели сплавщики, еще не разобрав как следует, смеяться нужно или сердиться.
И сказал тогда бригадир Семушкин:
— А что — Ефим может! Когда Кирилл по делам в район ездил, он оставался. Ничего, сортимент знает...
И оттого, что все молчали, Семушкин добавил:
— Ефима проверить можно... А Кирилл прав: не для него эта работа...
Семушкин и не подозревал, что Ефим всему виновник. Старший брат, удивляясь быстрым успехам Ефима в бракерских делах, все чаще задумывался над тем, что его работа не так уж сложна, как ему казалось раньше. С этого все и пошло.
...В этот же день сдавшийся начальник проэкзаменовал Ефима, который выдержал экзамен и был временно допущен к исполнению обязанностей бракера.
Неприятности начались очень скоро.
Утром следующего дня начальник участка, проходя по эстакадам, увидел такую картину. На толстом сосновом бревне стоит Ефим и внимательно смотрит вдаль, словно пожар заметил. На земле полукругом выстроились лесозаготовители с бригадиром Бричкиным во главе. Они возбуждены, наседают на Ефима, а тот все смотрит вдаль, широко расставив ноги.
— Это издевательство! — кричит Бричкин. — Посадили мальчишку, а мы расхлебывай!.. Ты примешь лес или нет? Говори прямо!
Ефим перестал разглядывать далекий лес, шмыгнул
538
носом, аккуратно вытерся маленьким клетчатым платком, помолчал немного, видимо, подбирая слова, и уж тогда спокойно сказал:
— Принять не могу. По стандартам не могу. Вот тут написано. — Он задрал ситцевую рубаху и достал из-за ремня замызганную книжонку — стандарты. — Вот смотрите! Тут указано, что...
— Ты книгу не суй! — замахал руками Бричкин. — Ты на лес смотри...
— Смотрел. В трещинах и с прогибом. Не приму.— Ефим опять уставился вдаль, задрав белобрысую голову.
...Тут и подошел начальник сплавного участка. Лесозаготовители поздно увидели его; они еще кричали на Ефима, когда начальник спросил, в чем дело.
Первым опомнился Бричкин. Он сразу снизил тон, расцвел дипломатической улыбкой.
— Да пустяки, товарищ Спиридонов. Мы уже разобрались...
Ефим живо спрыгнул с бревна, торопливо заговорил:
— Ничего мы не разобрались... Они думают, я ничего не понимаю. Пиловочник за судовой хотят спихнуть... Вы посмотрите сами.
Начальник посмотрел: на эстакаде лежал пиловочник...
— Эт-то что такое? — грозно спросил он.
С тех пор и началось. Недели две подряд начальник сплавного участка отвечал на запросы треста Том- лес, по какому поводу и на каком основании на сплавном участке работает бракер, не имеющий образования и, по слухам, несовершеннолетний. В конце каждого запроса категорически предлагалось отстранить бракера от занимаемой должности.
Все это, возможно, кончилось бы тем, что Ефима действительно отстранили бы, но на сплавучасток приехал главный инженер сплавной конторы. Черноволосому молодому, веселому инженеру понравился Ефим. Он долго жал руку мальчугана и все расспрашивал о том, как он отбрил Бричкина...
И вот мальчуган второе лето работает бракером. Бричкин ведет с ним осторожную, с расчетом на измор, борьбу. Много средств он перепробовал, но напрасно: Красноярский сплавучасток принимает только хороший, кондиционный лес.
539
Бричкин жалуется товарищам:
— Говорить с ним по-человечески нельзя! Вчера сорок кубометров крепежа в пиловочник перевел. Я ему говорю: «Ефим, пойми, да никто этого не заметит — сколы пустяковые». Уставился в небо, носом шмыгает и молчит. «Ефим!» — прошу его по-человечески... Обратно в небо смотрит! «Я, — говорит, —* пионер». -— Бричкин тяжело вздыхает и сердится: — Ведь от земли два вершка, соплёй пришибить можно, а строит из себя заглавное начальство...
Примечания
Игорь Саввович
Роман впервые опубликован в журнале «Знамя», № 7—9, 1977 г. Первое издание — в книге «Игорь Саввович». М., «Молодая гвардия», 1978.
Самолетный кочегар
Рассказ впервые опубликован в газете «Молодой ленинец» (Томск), сентябрь — октябрь 1955 г. Первое издание — в книге «Самолетный кочегар». М., «Советский писатель», 1968.
«Аникита с музыкой»
Рассказ впервые опубликован в журнале «Огонек», № 32, 1966 г. Первое издание — в книге «Самолетный кочегар». М., «Советский писатель», 1968.
Мистер-Твистер
Рассказ впервые опубликован в журнале «Знамя», № 2, 1967 г. Первое издание — в книге «Самолетный кочегар». М., «Советский писатель», 1968.
«Кукла госпожи Барк»
Рассказ впервые опубликован в газете «Литературная Россия», 30 июня 1967 г. Первое издание — в книге «Самолетный кочегар». М., «Советский писатель», 1968.
Колобковская корова
Рассказ впервые издавался в книге «Самолетный кочегар». М., «Советский писатель», 1968.
Сильно долгие сны
Рассказ впервые опубликован в журнале «Дружба народов», № 9, 1979 г.
Заглавное начальство
Рассказ впервые опубликован в сборнике «Первое знакомство». М. «Детская литература», 1960.
СОДЕРЖАНИЕ
Игорь Саввович, роман 5
Рассказы
Самолетный кочегар 388
«Аникита с музыкой» 403
Мистер-Твистер 420
«Кукла госпожи Барк» 443
Колобковская корова 458
Сильно долгие сны 473
Заглавное начальство 537
Примечания 541
Липатов В. В.
61 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. Игорь Саввович; Рассказы /Сост. А. В. Липатова; Худож. Ю. Бажанов. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 542 с.
В пер.: 2 р. 30 к. 100 ООО экз.
В четвертый том входят роман «Игорь Саввович» и рассказы. Герои романа — тридцатилетние люди, родившиеся после войны и вступающие ныне на руководящие посты разных звеньев народного хозяйства. О гражданской зрелости этого поколения, о чувстве ответственности перед государством, перед народом идет речь в романе. Место действия — сибирский город наших дней.
Рассказы написаны в разные годы. Все они о Сибири и ее жителях.
4702010200—001 078(02)—85
Свод. пл. подписных изд. 1985
ББК 84Р7 Р2
ИБ № 4244
Виль Владимирович Липатов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т 4.
Редактор 3. Коновалова
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Г. Прохорова
Корректоры Е. Дмитриева, Т. Пескова,
И. Тарасова
Сдано в набор 07.05.84. Подписано в печать 07.09.84. А08153. Формат 84Х108‘/з2. Бумага типографская N° 1. Гарнитура «Лите« ратурная». Печать высокая. Условн. печ. л. 28,56. Условн. кр.-отт. 28,98. Учетно-изд. л. 30,7. Тираж 100 000 экз. (50 001 — 100 000 экз.). Цена 2 р. 30 к. Заказ 562.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущев¬
ская, 21.