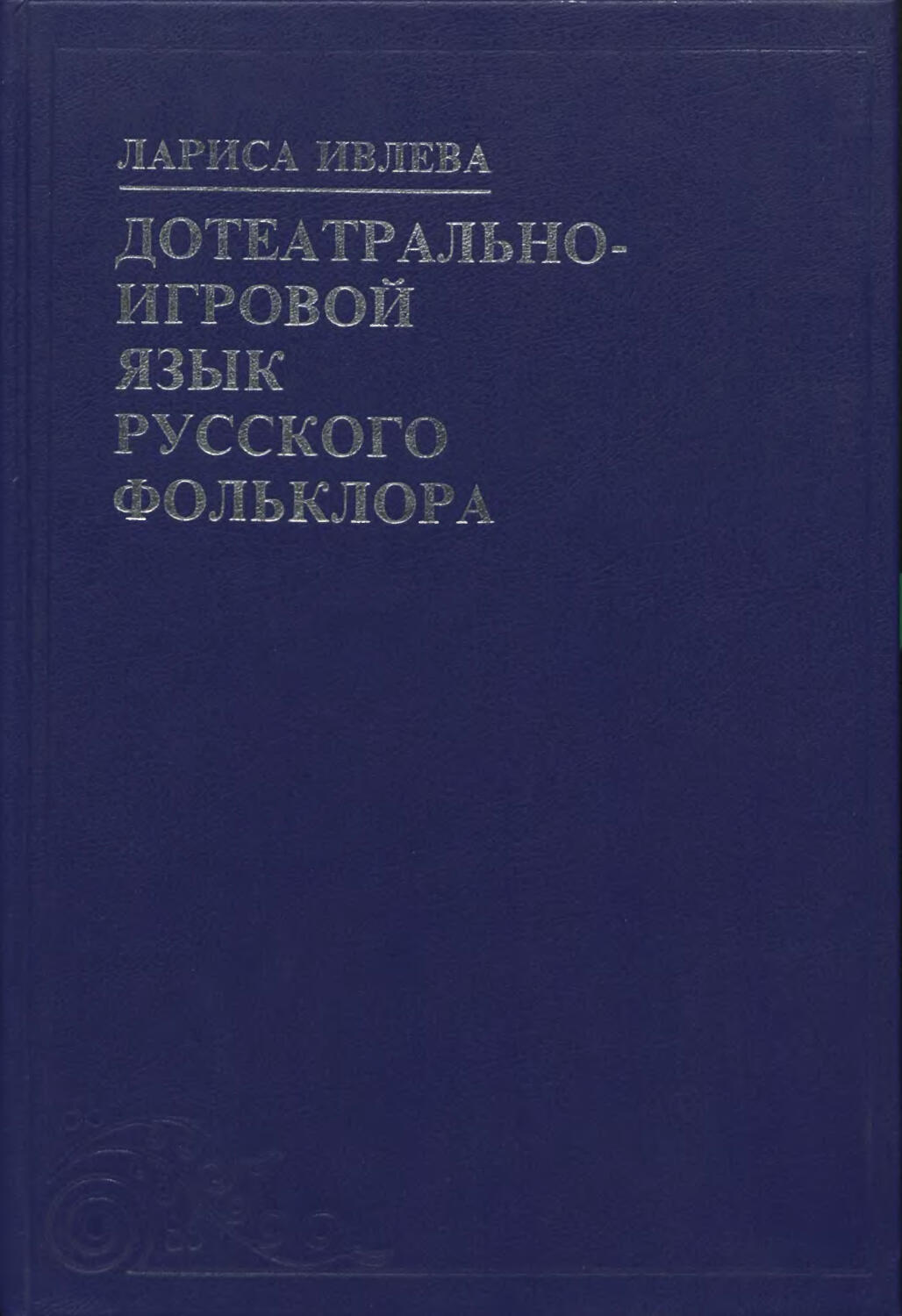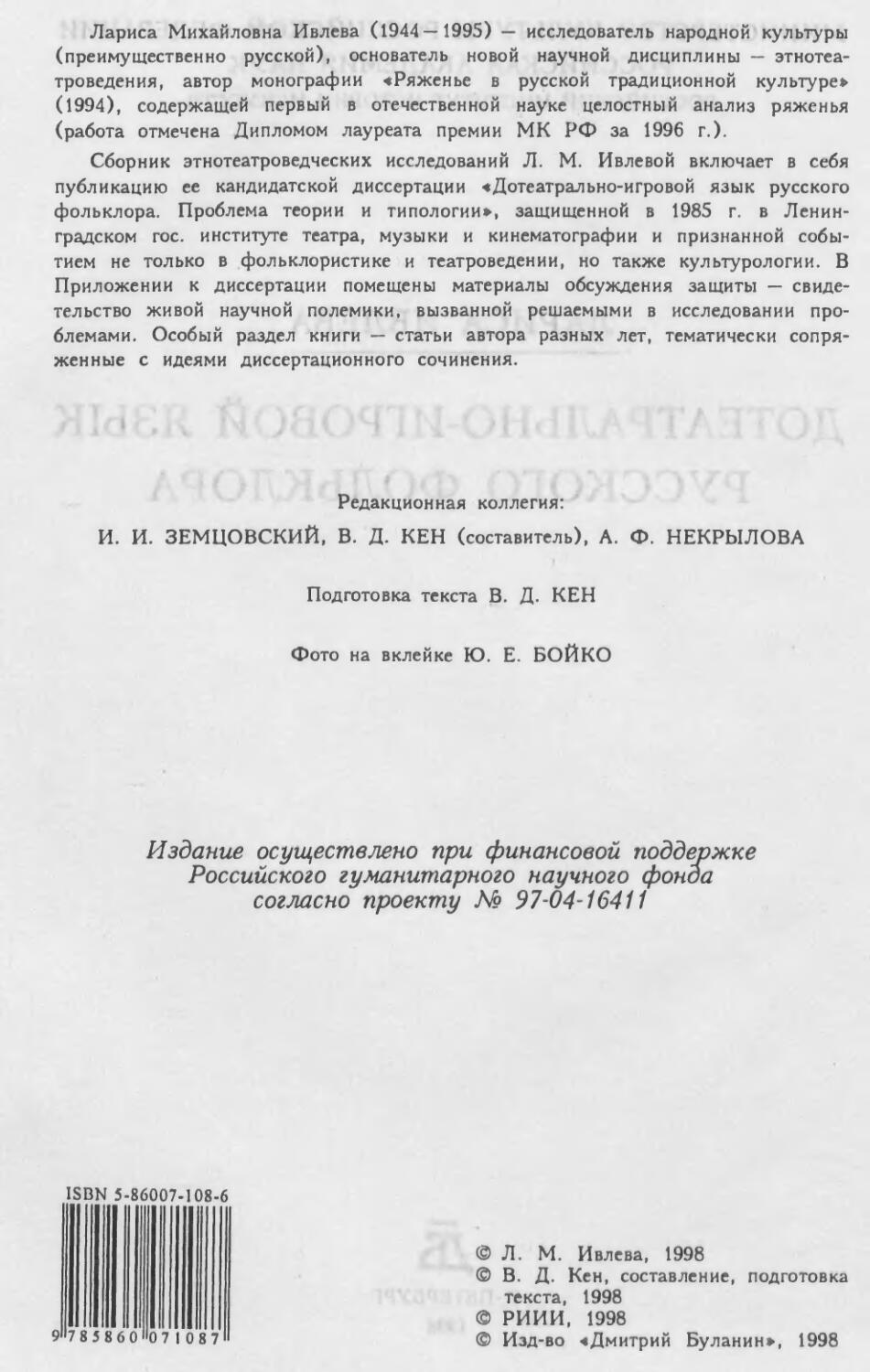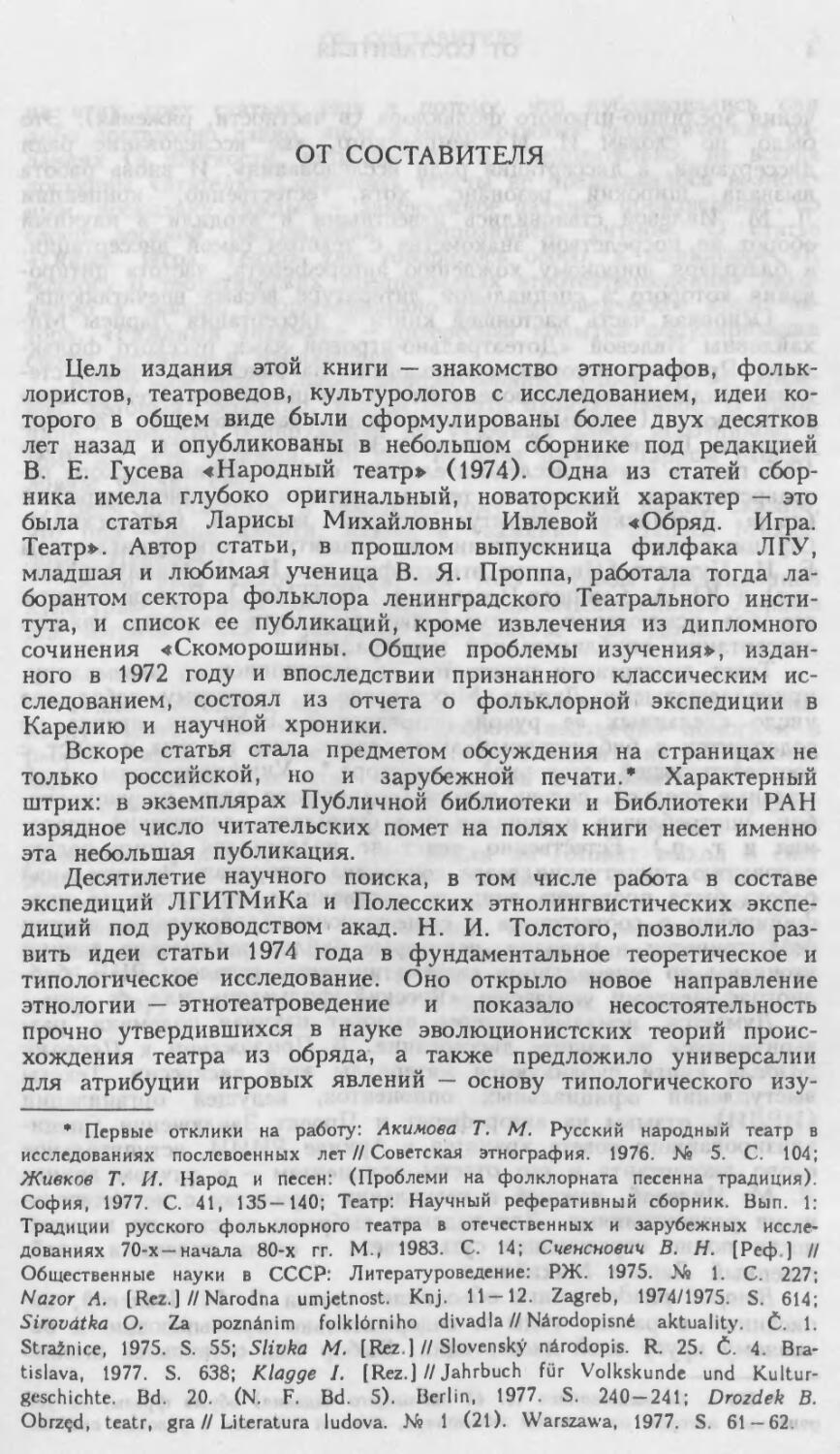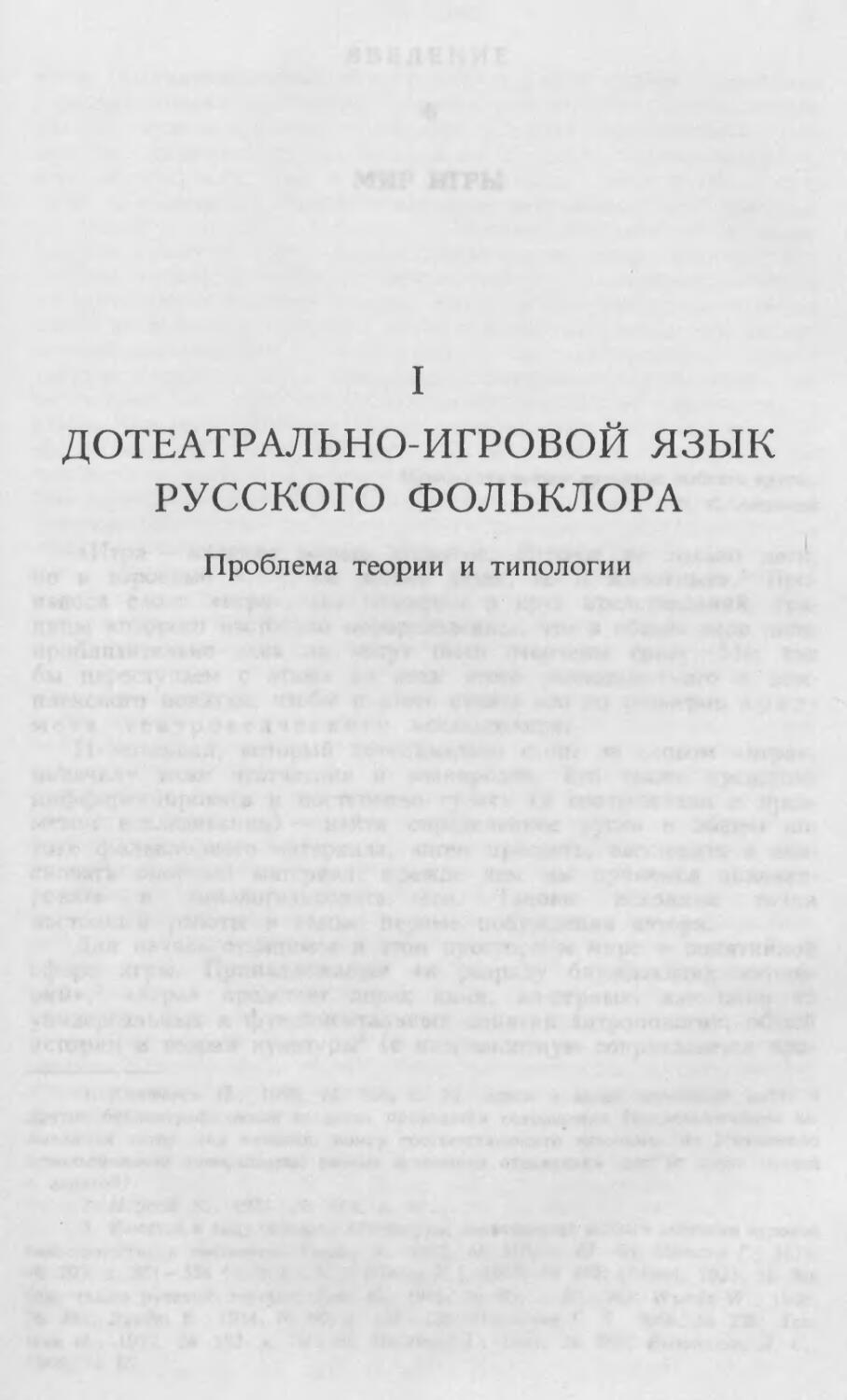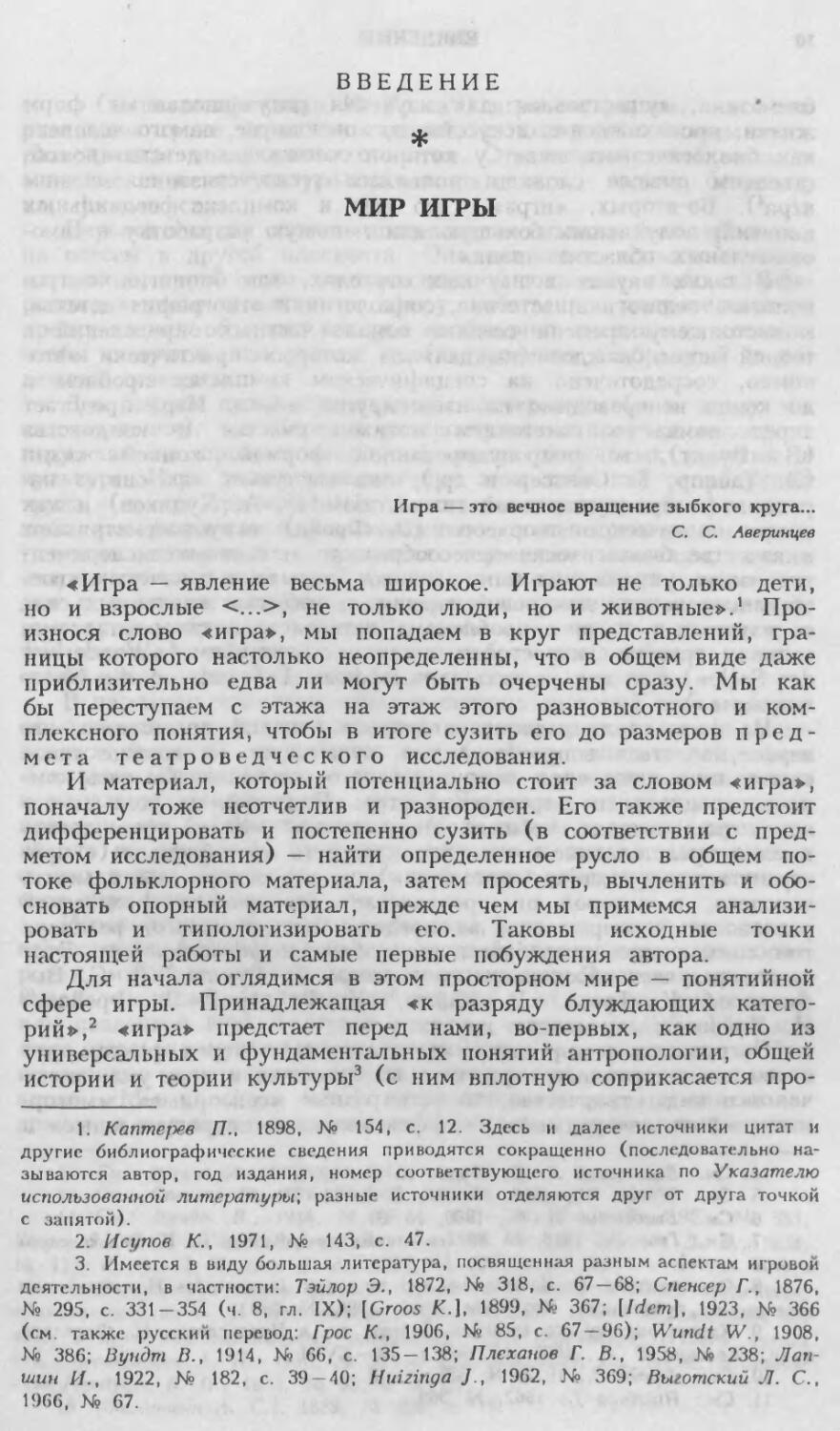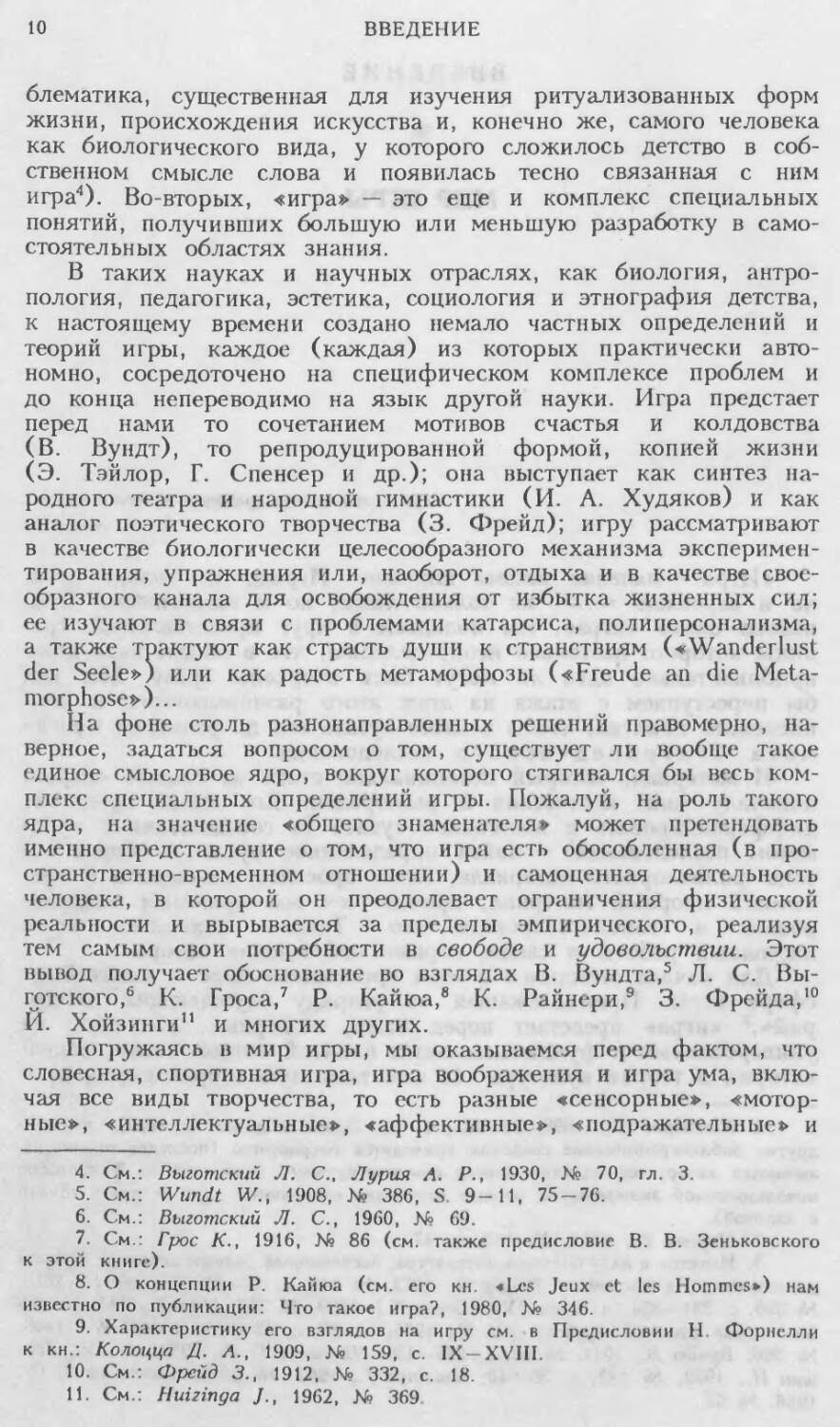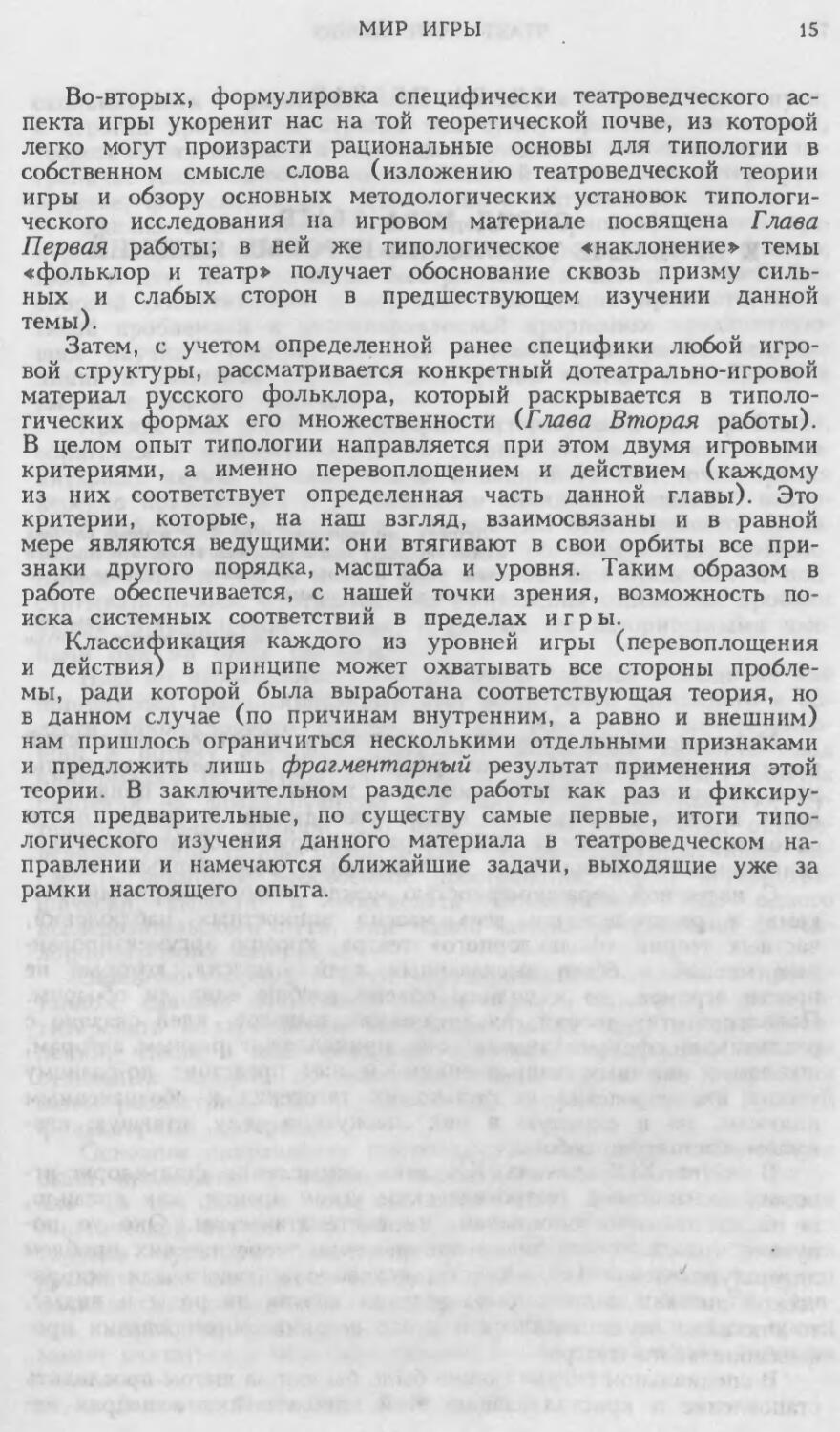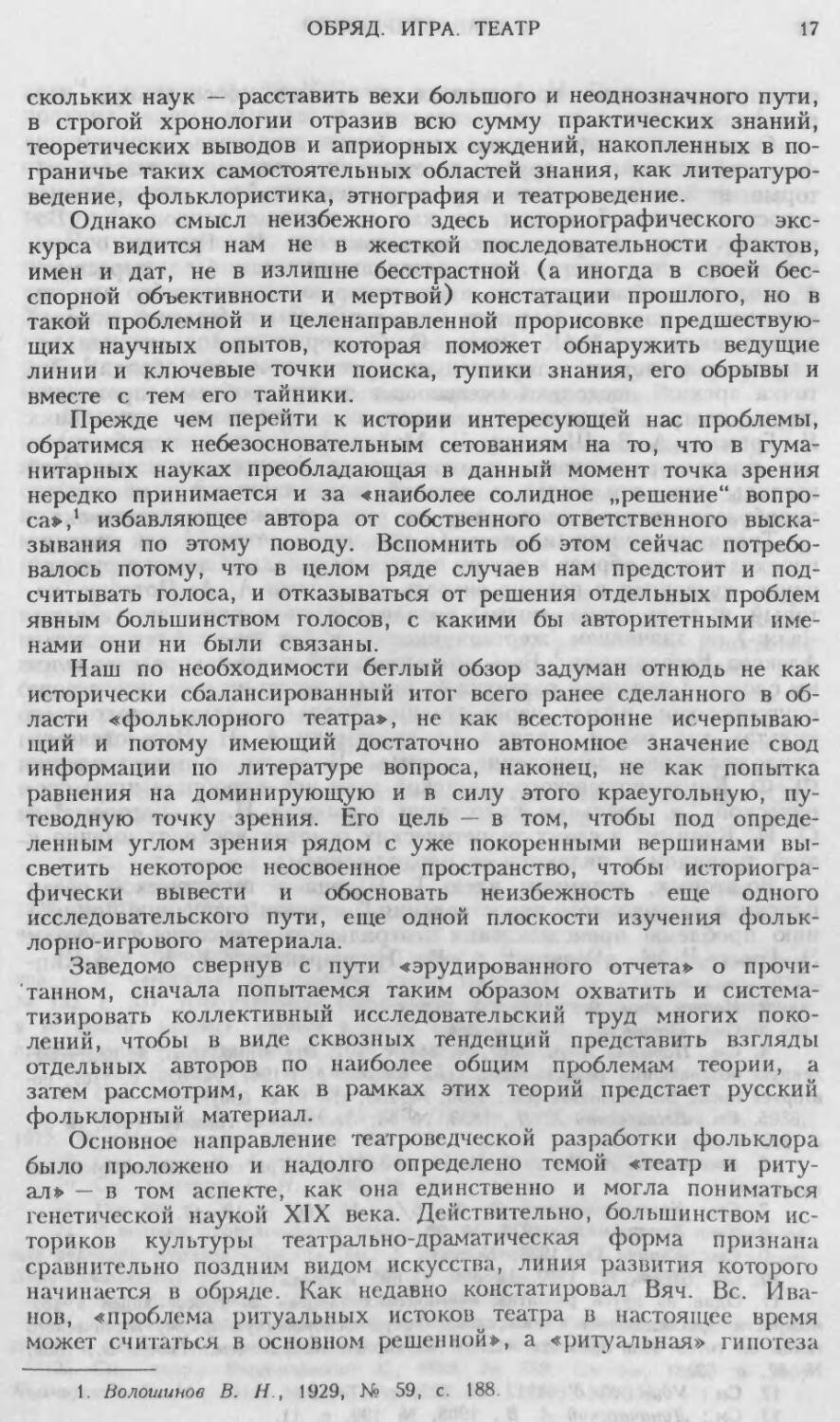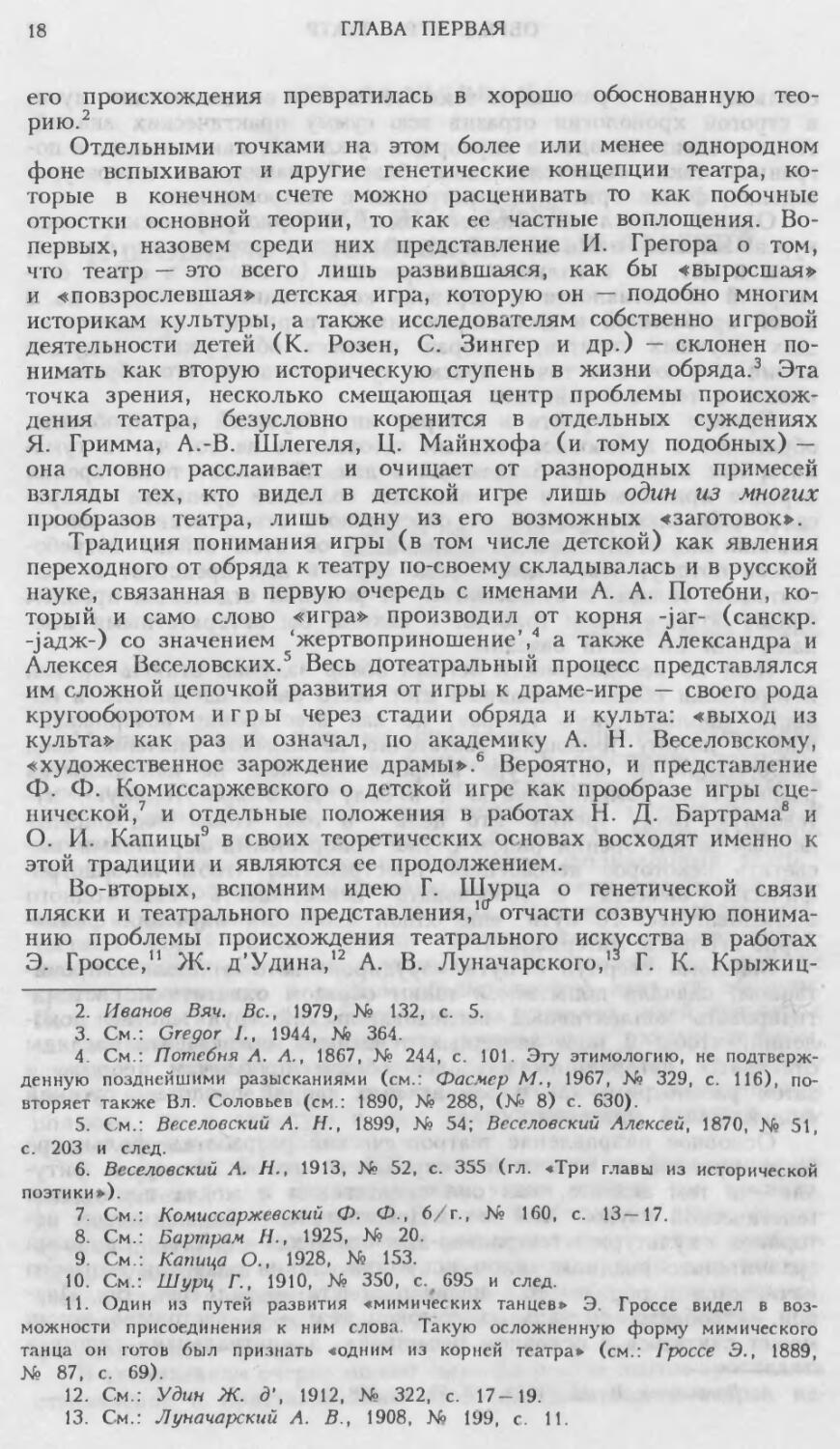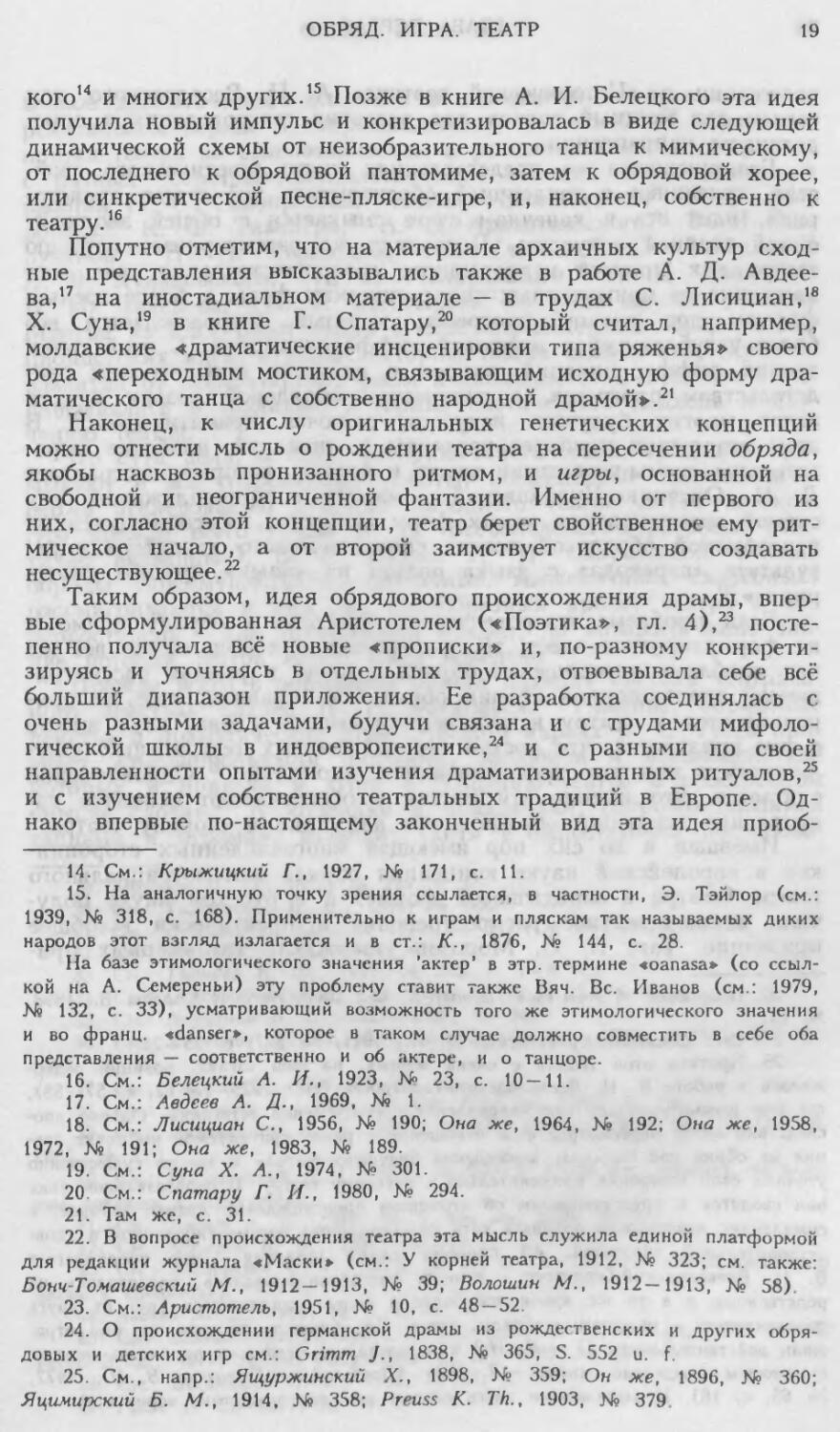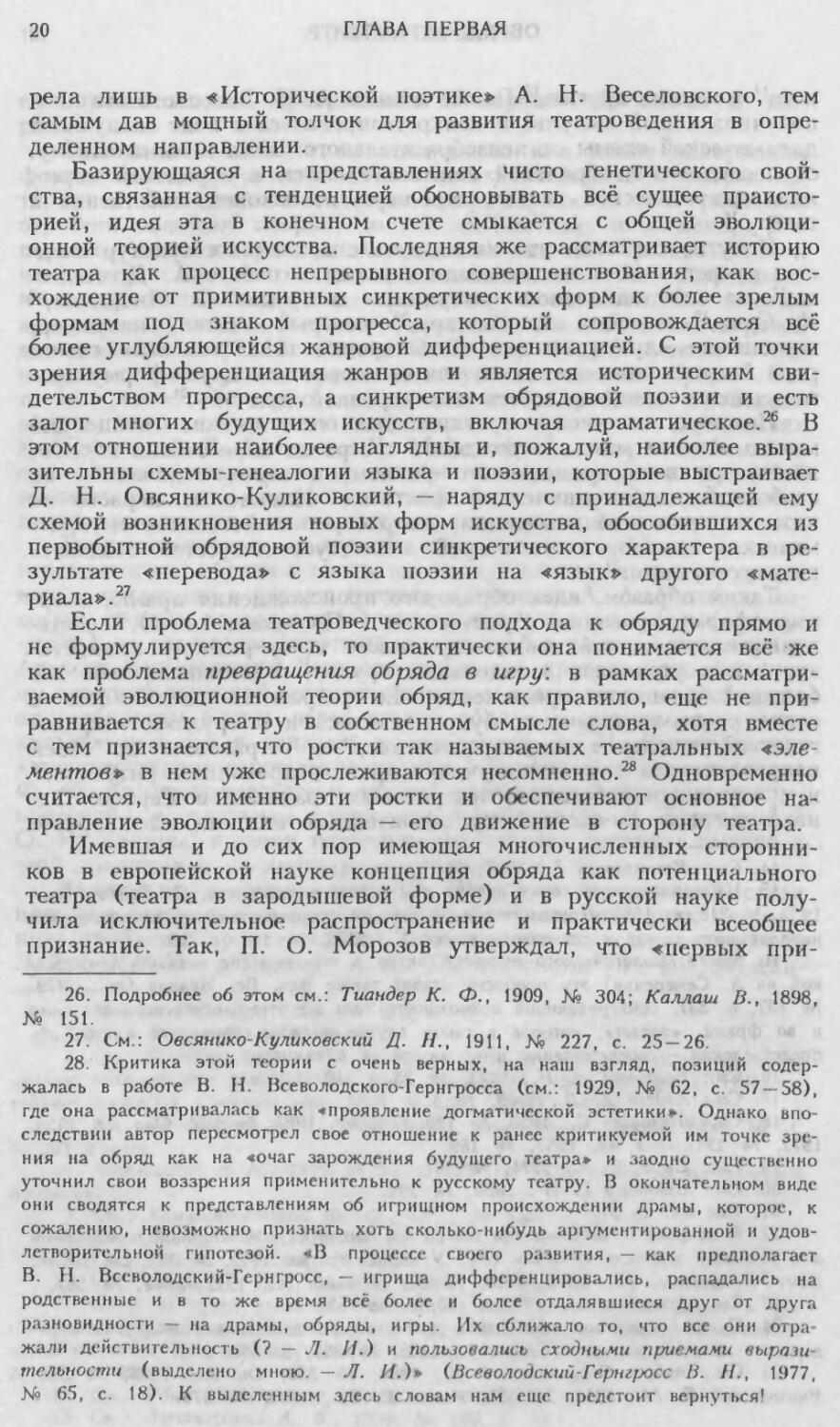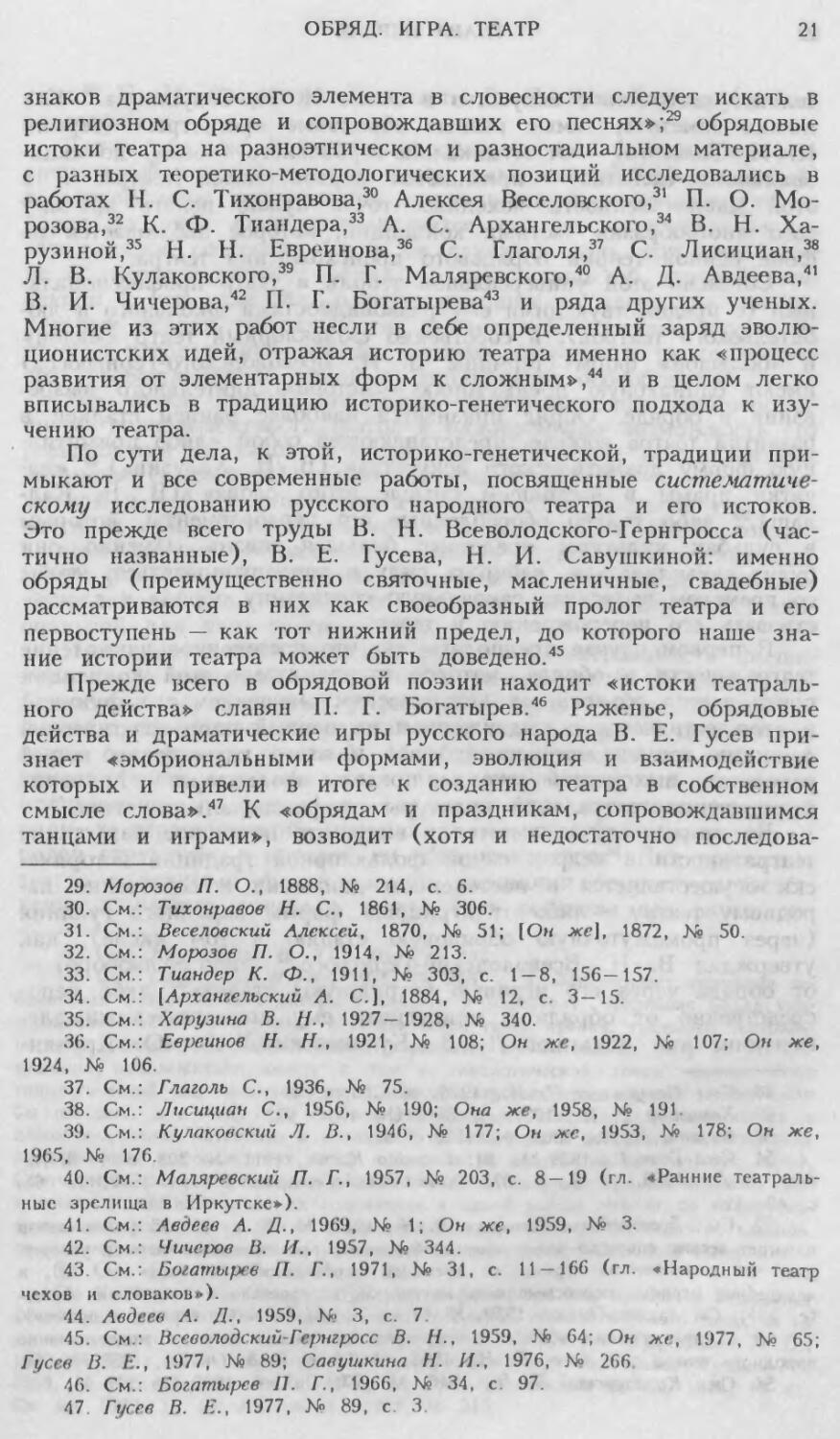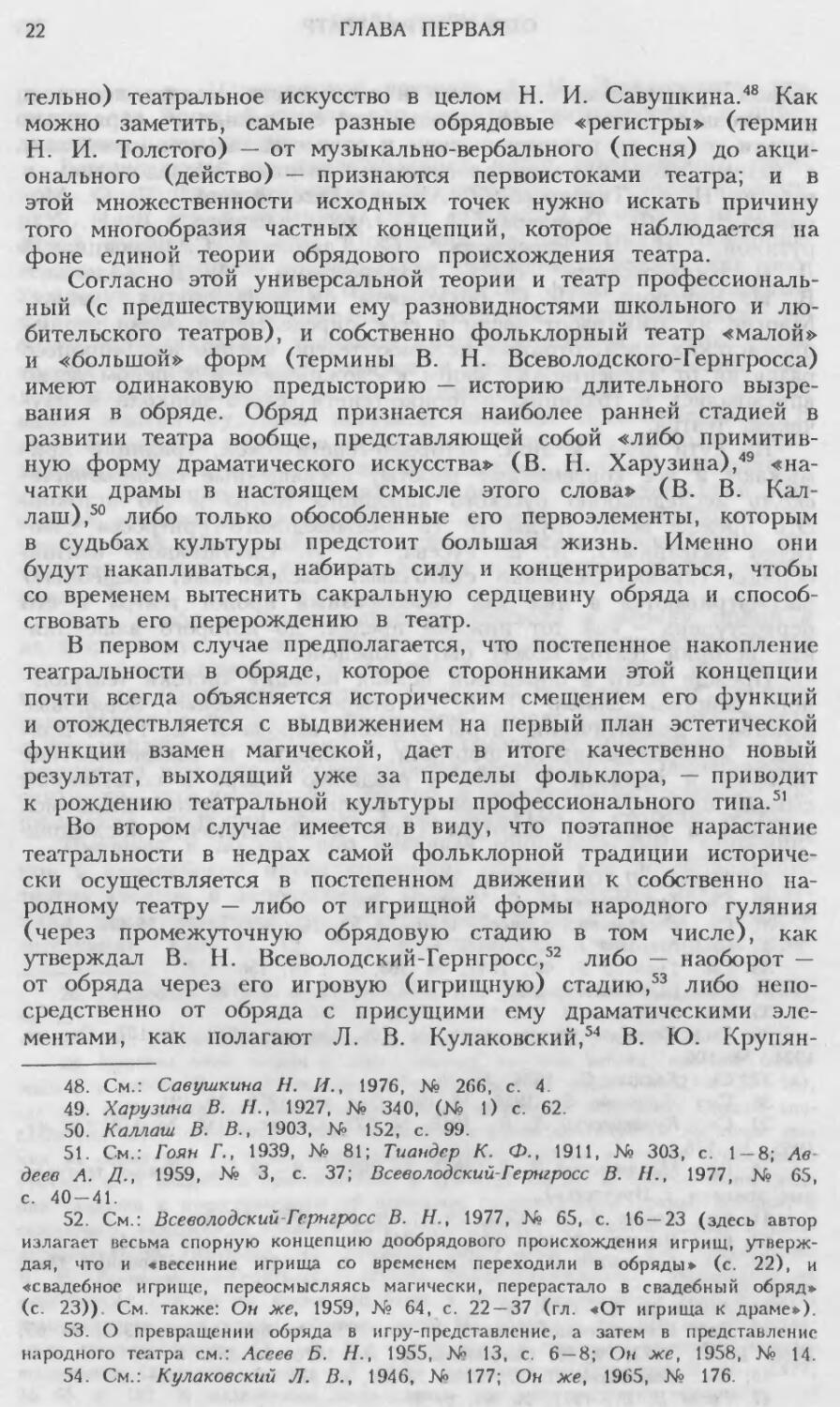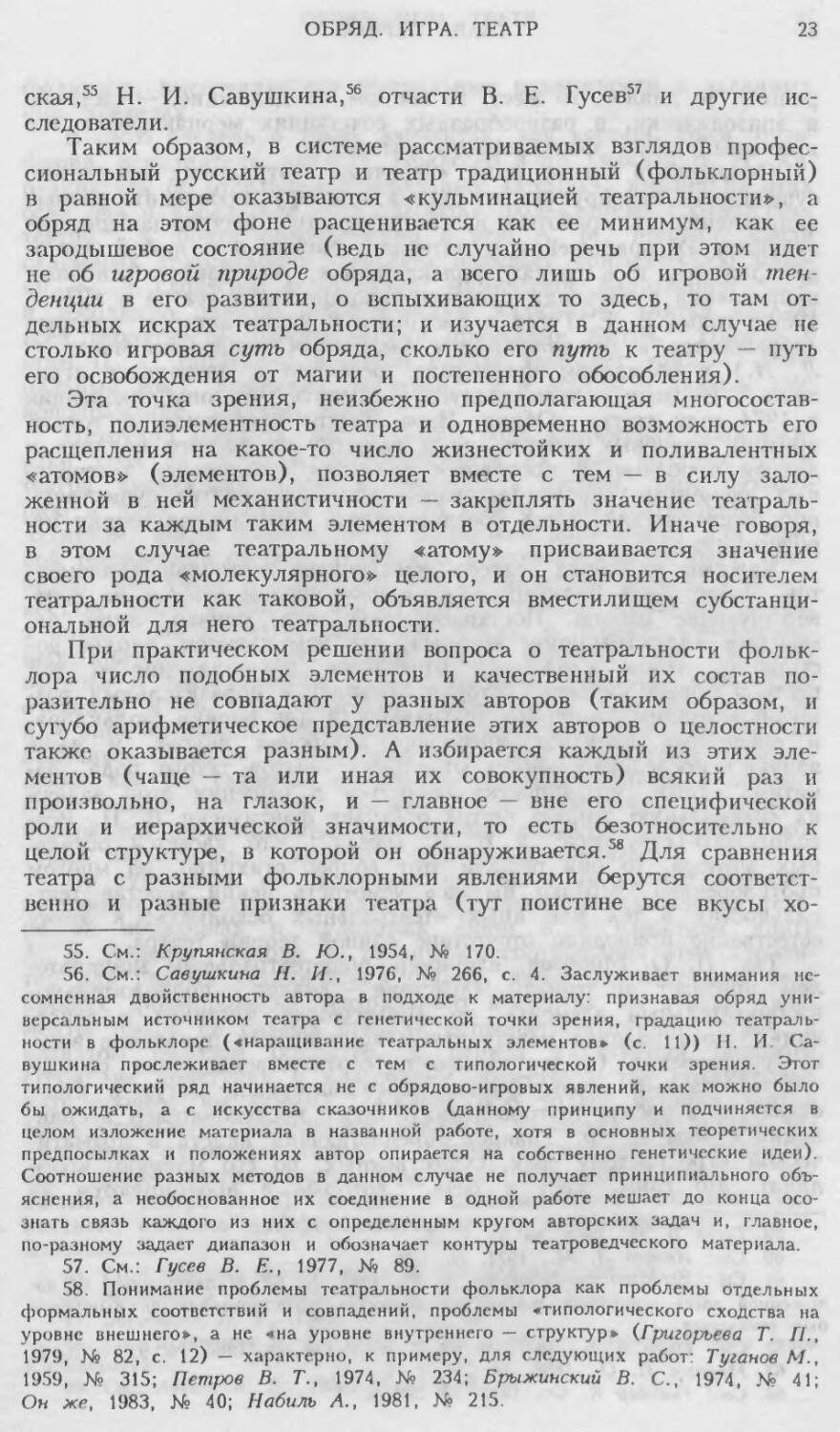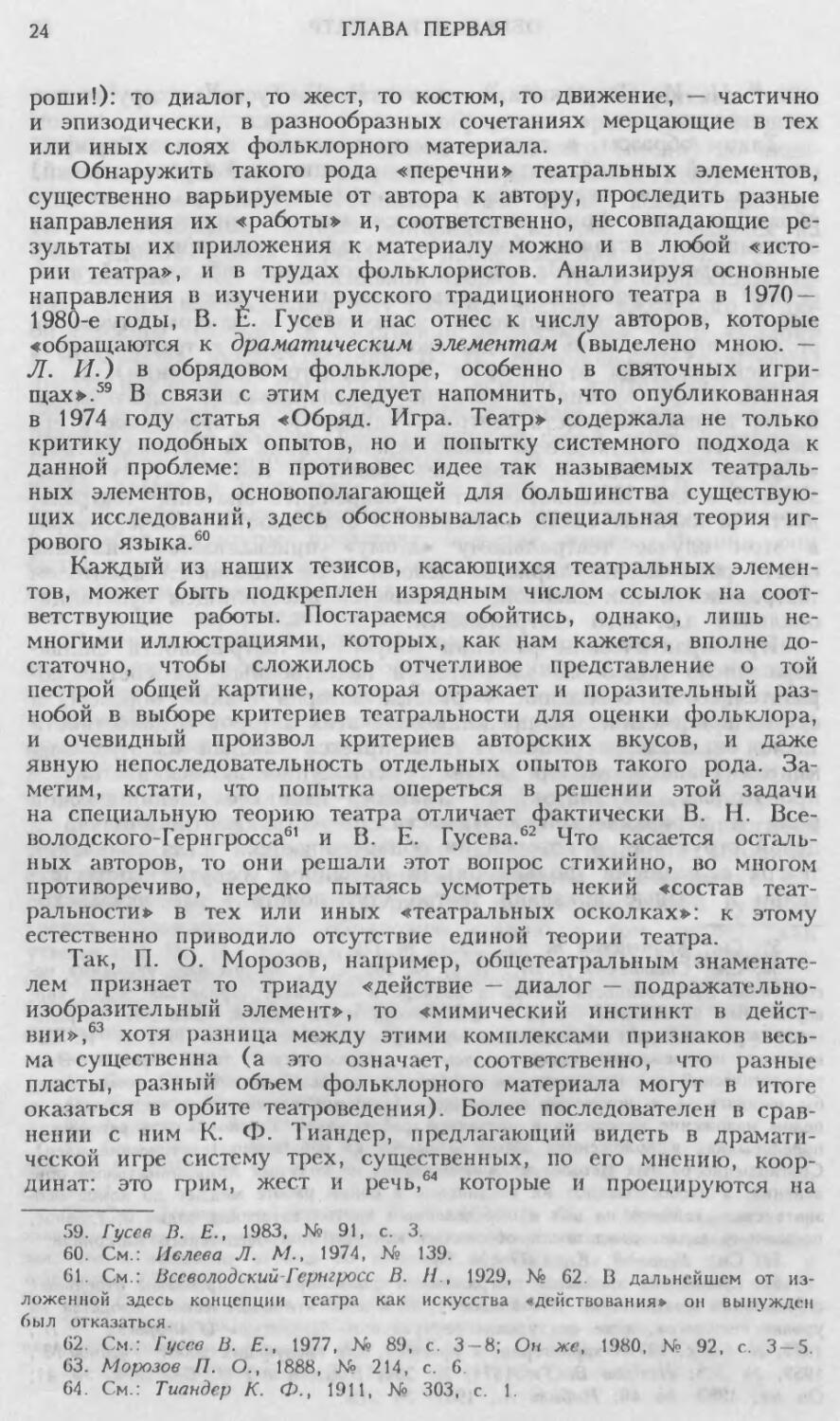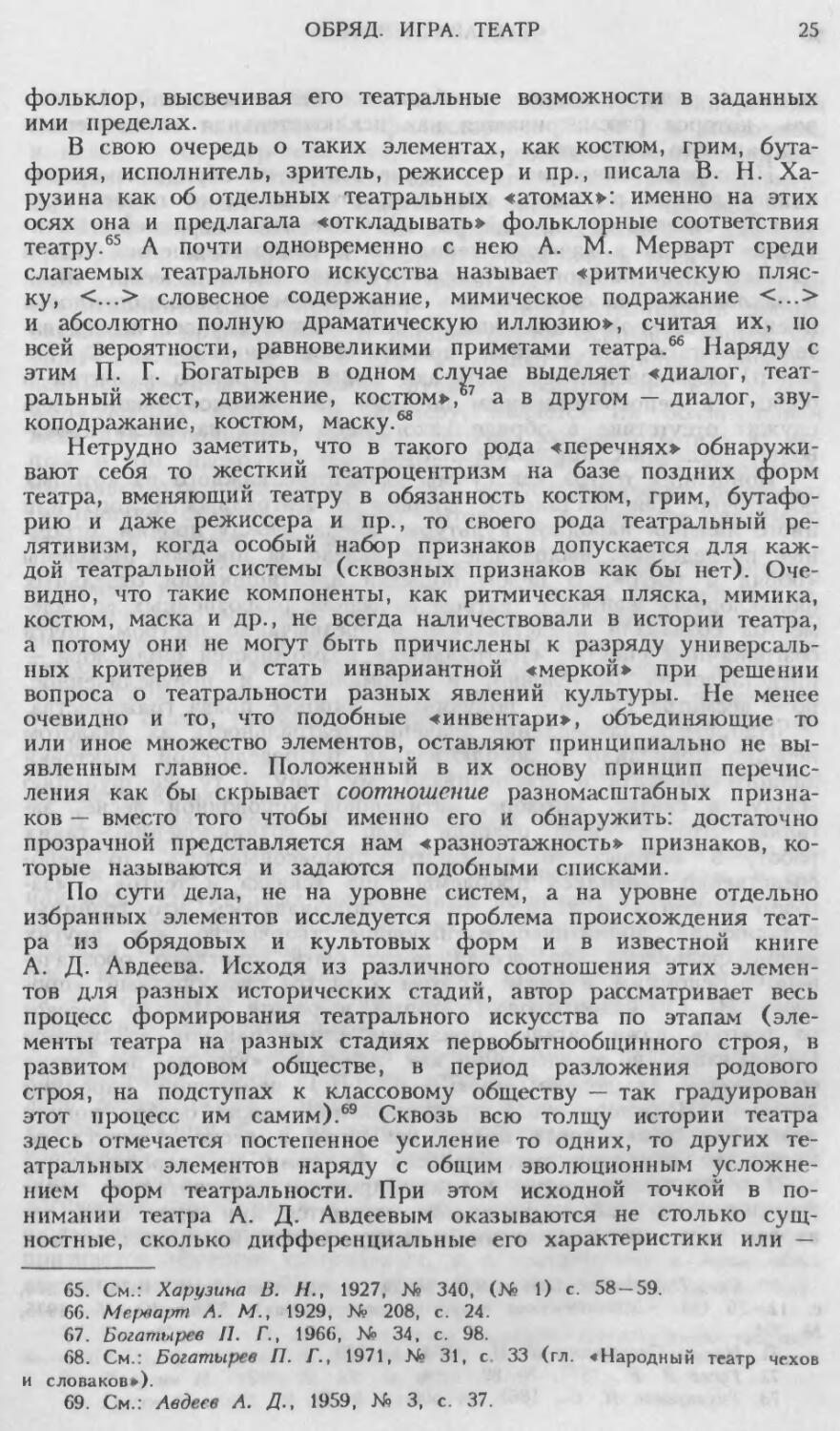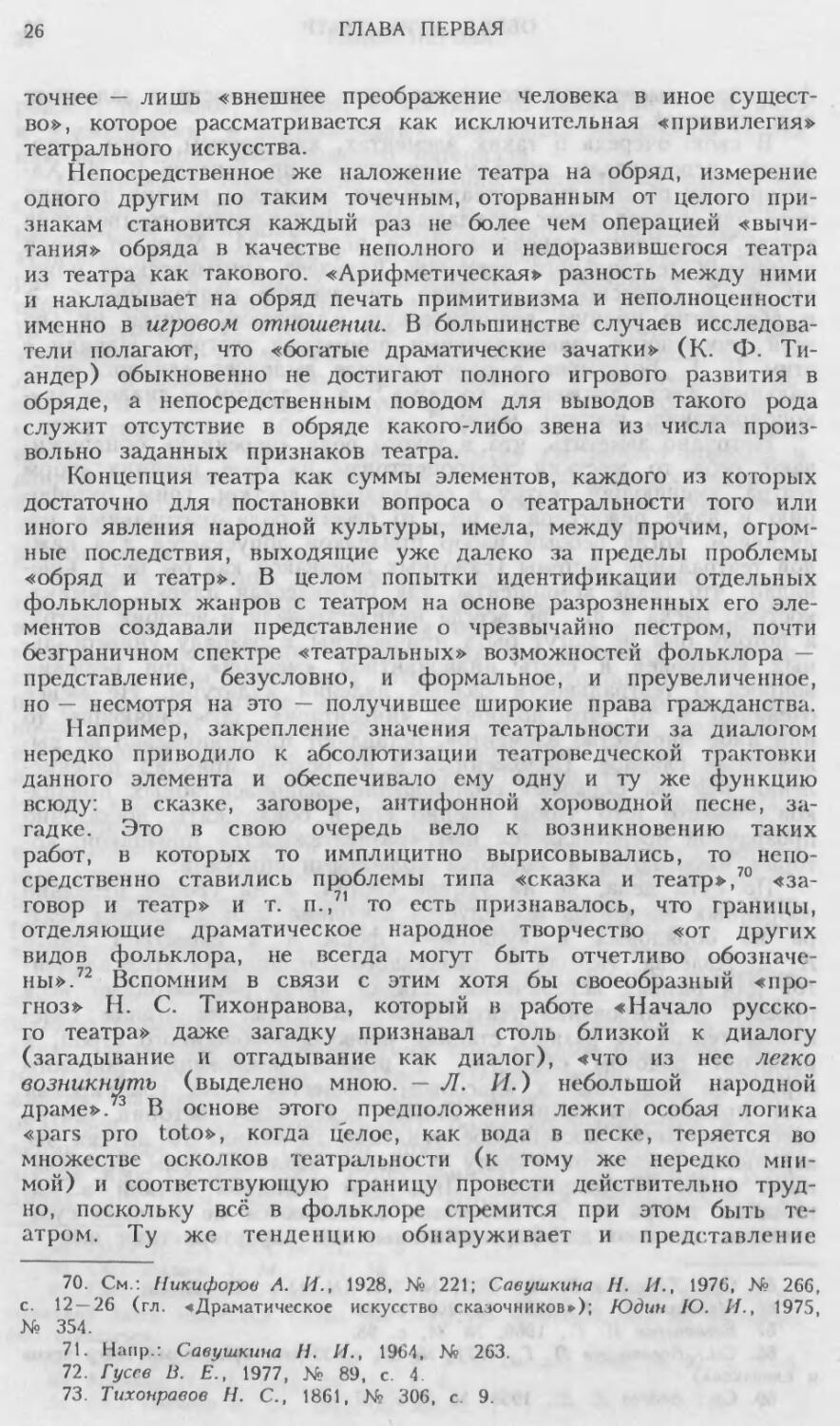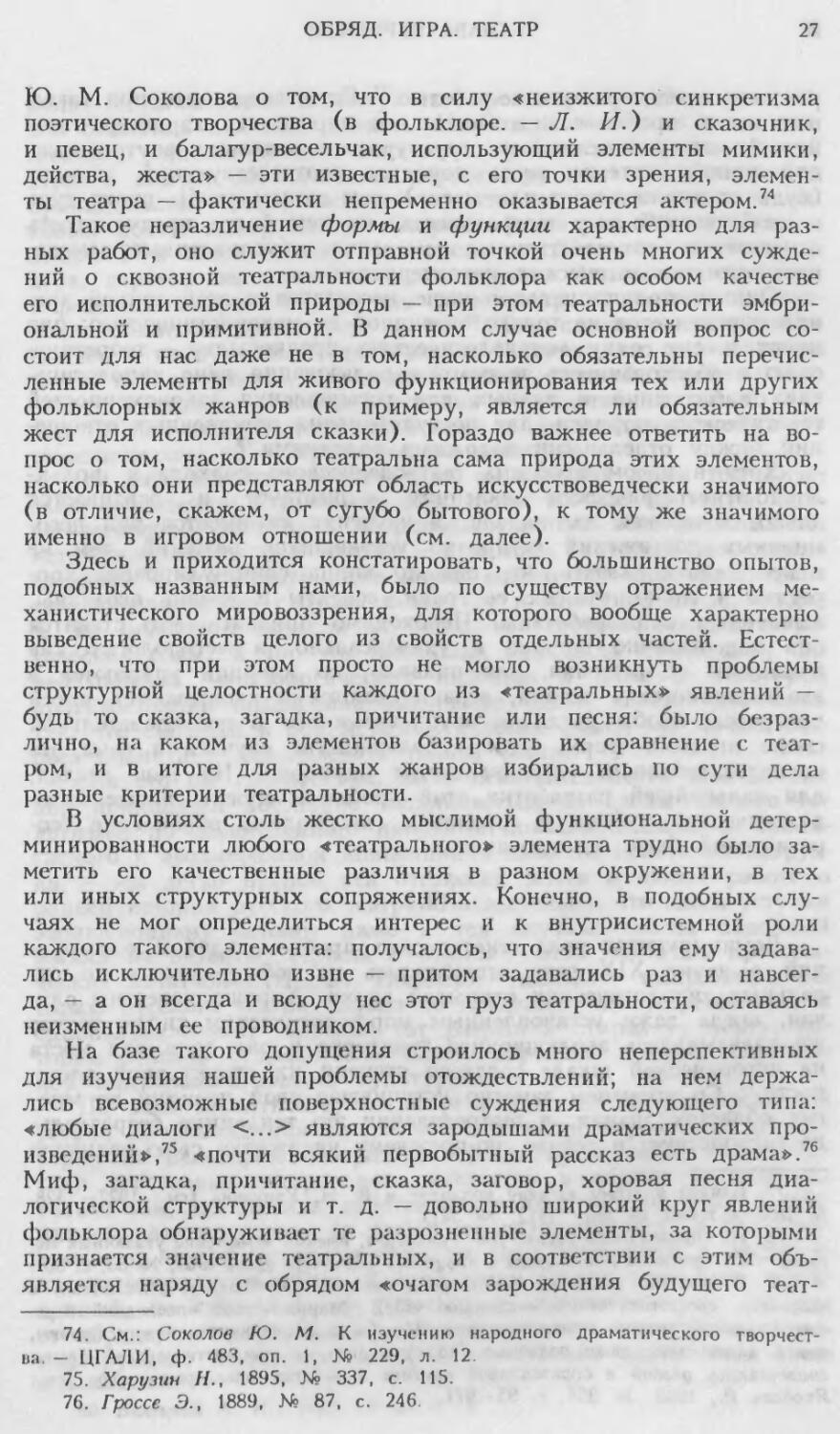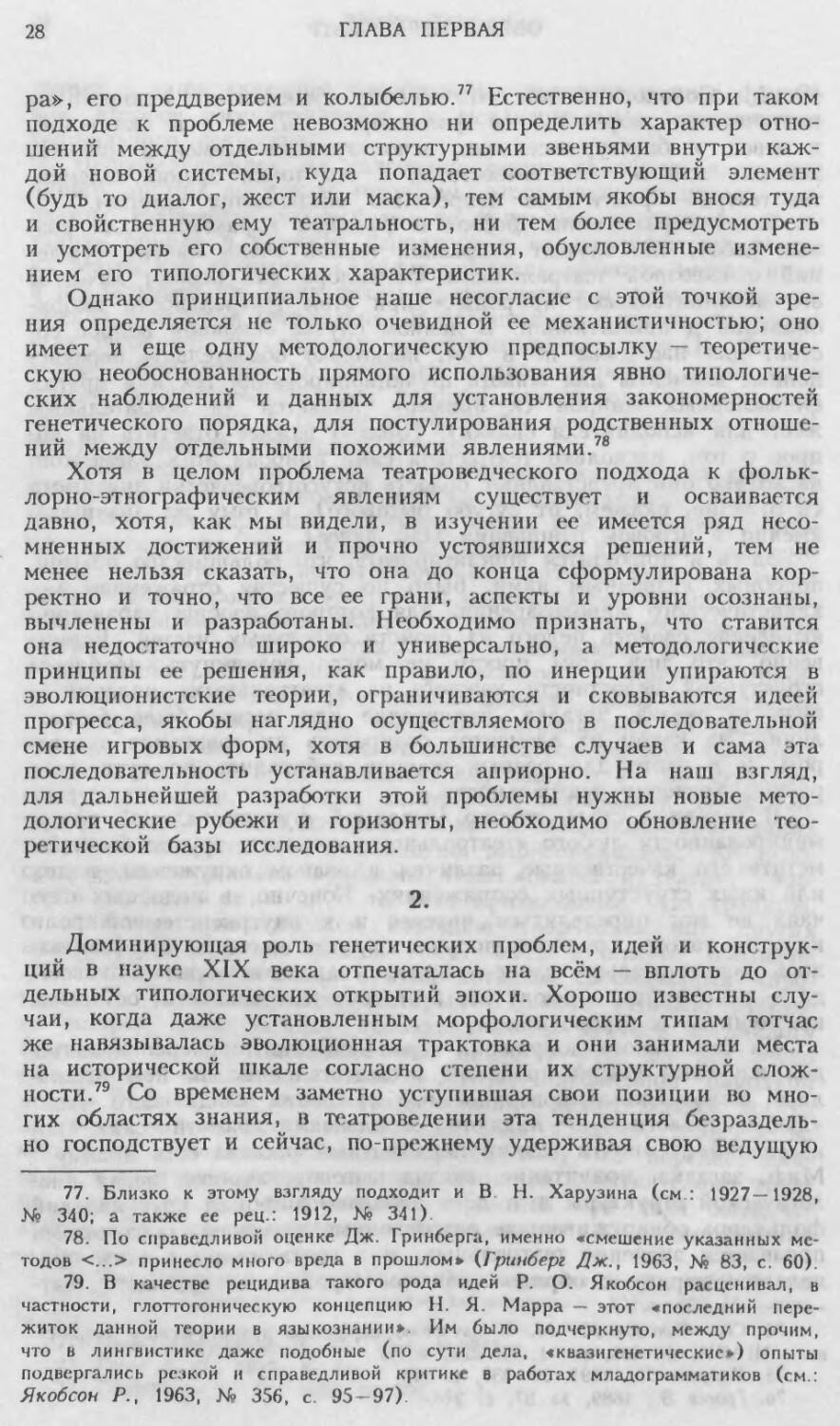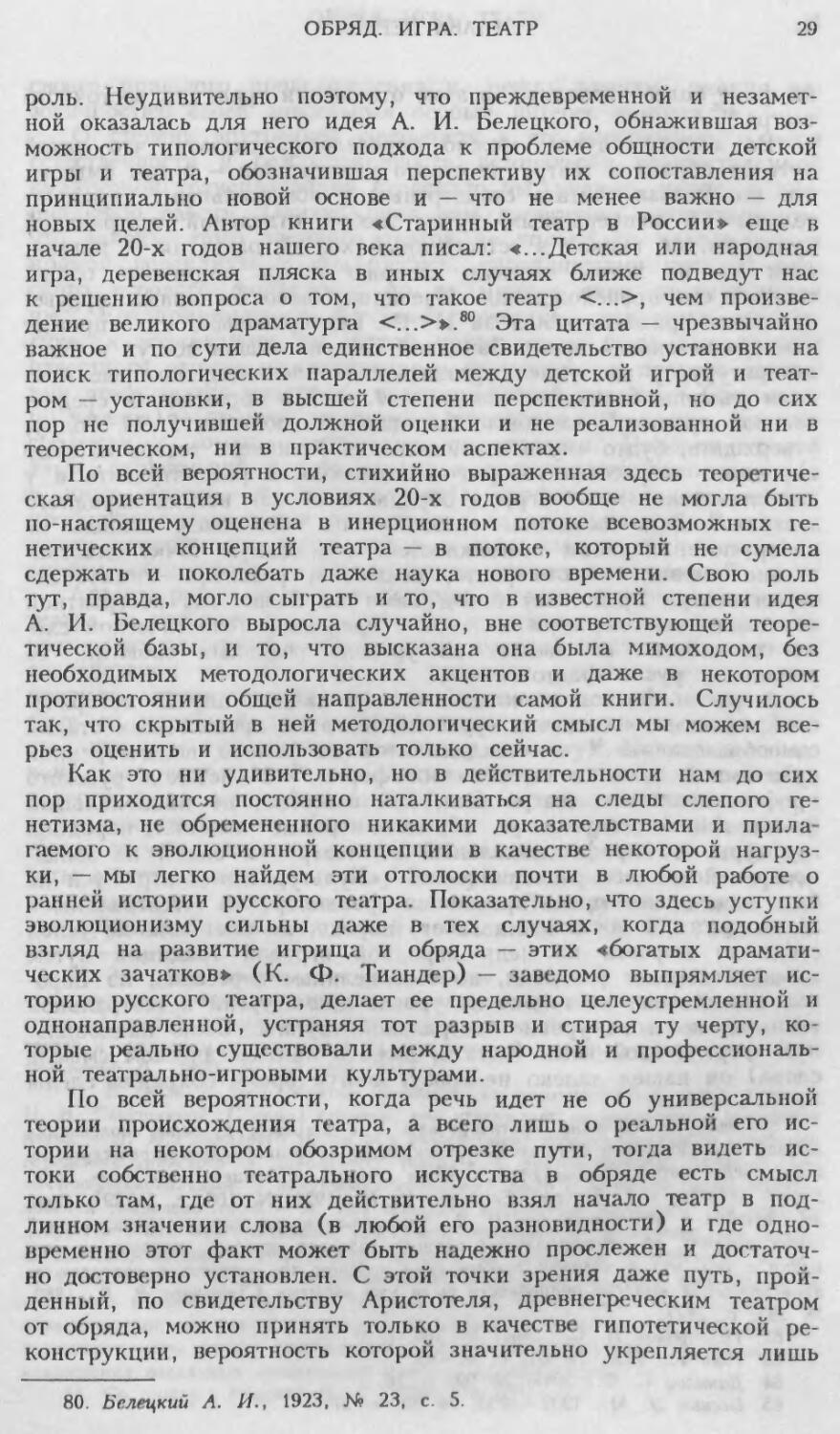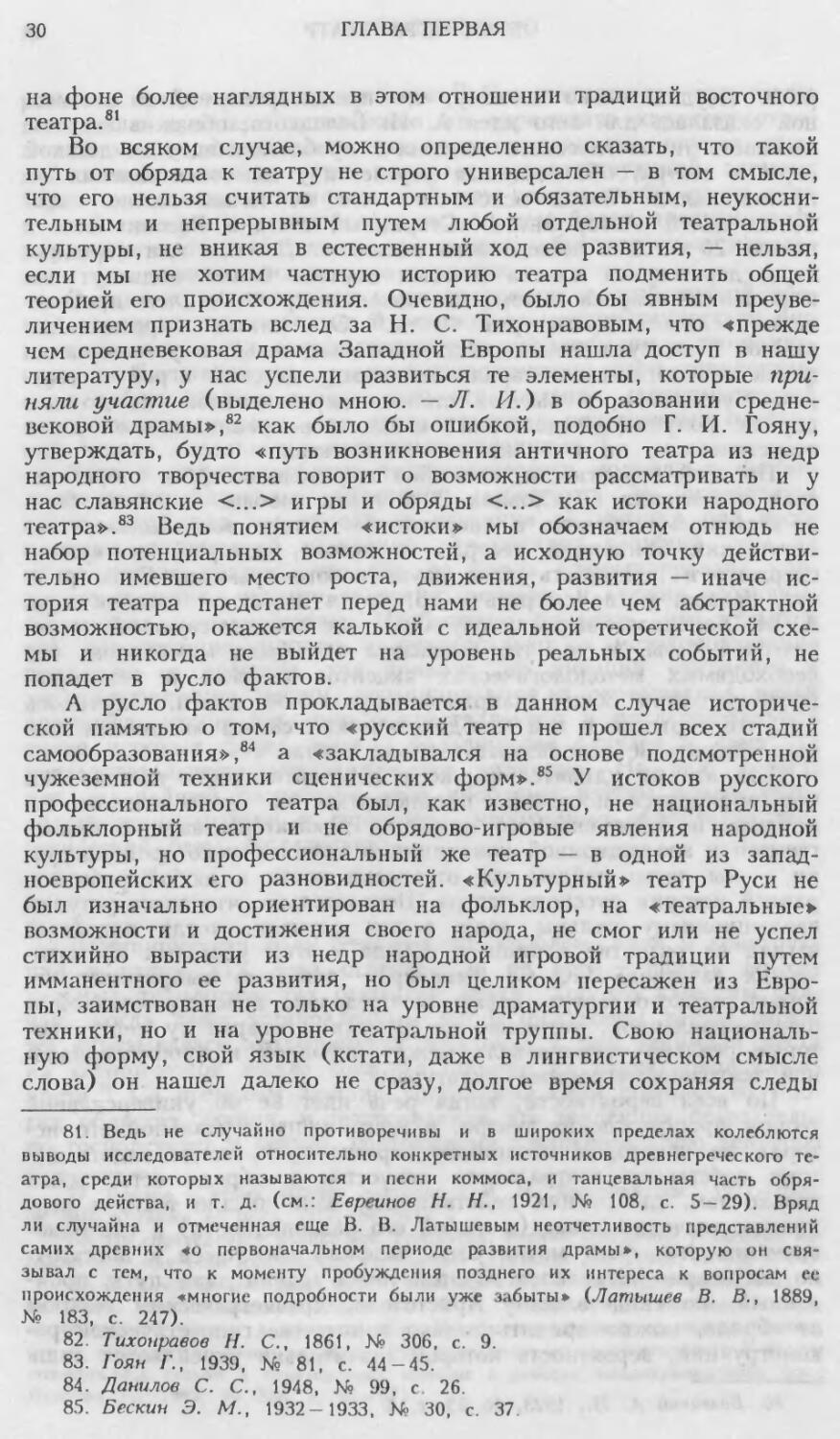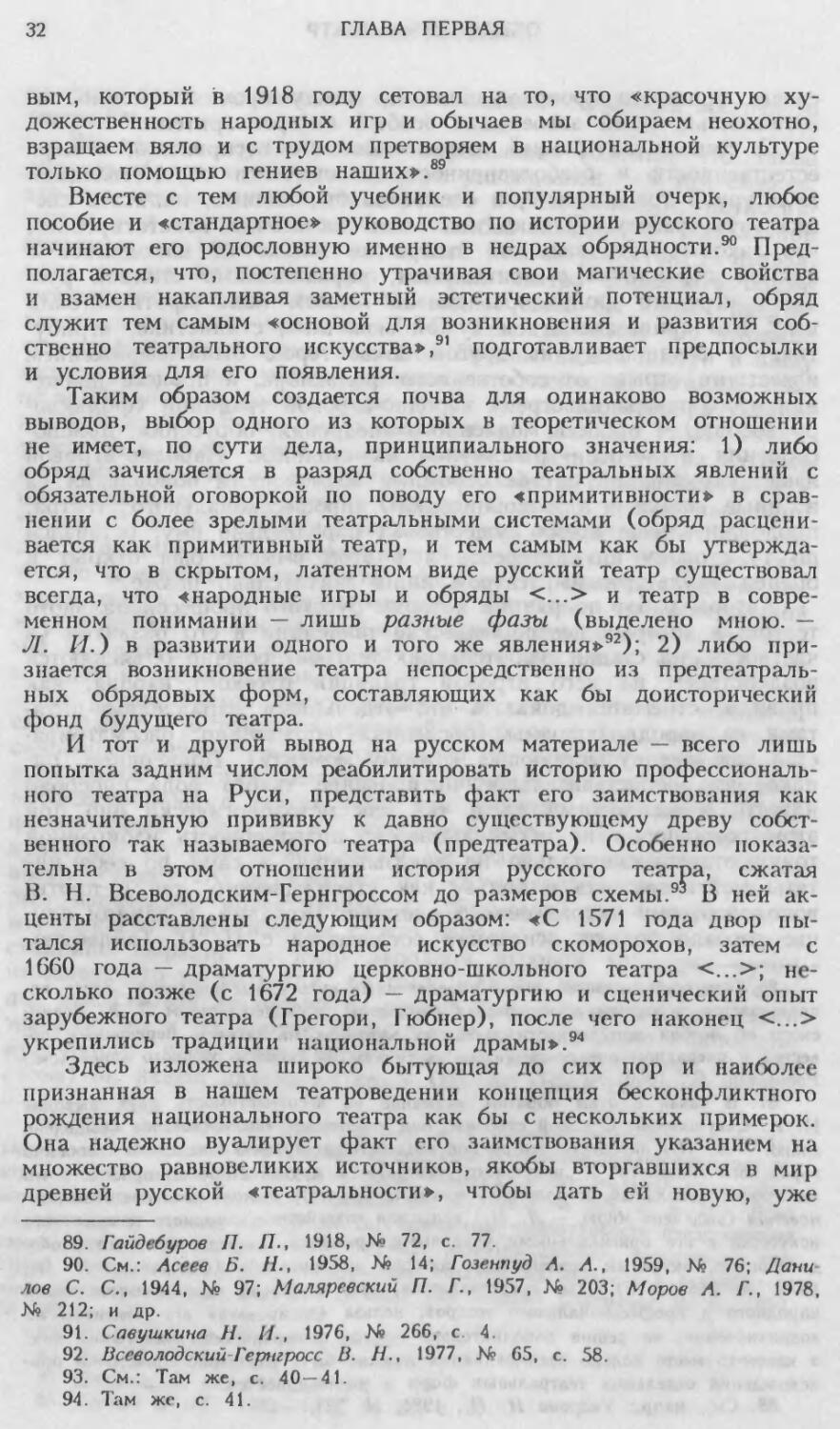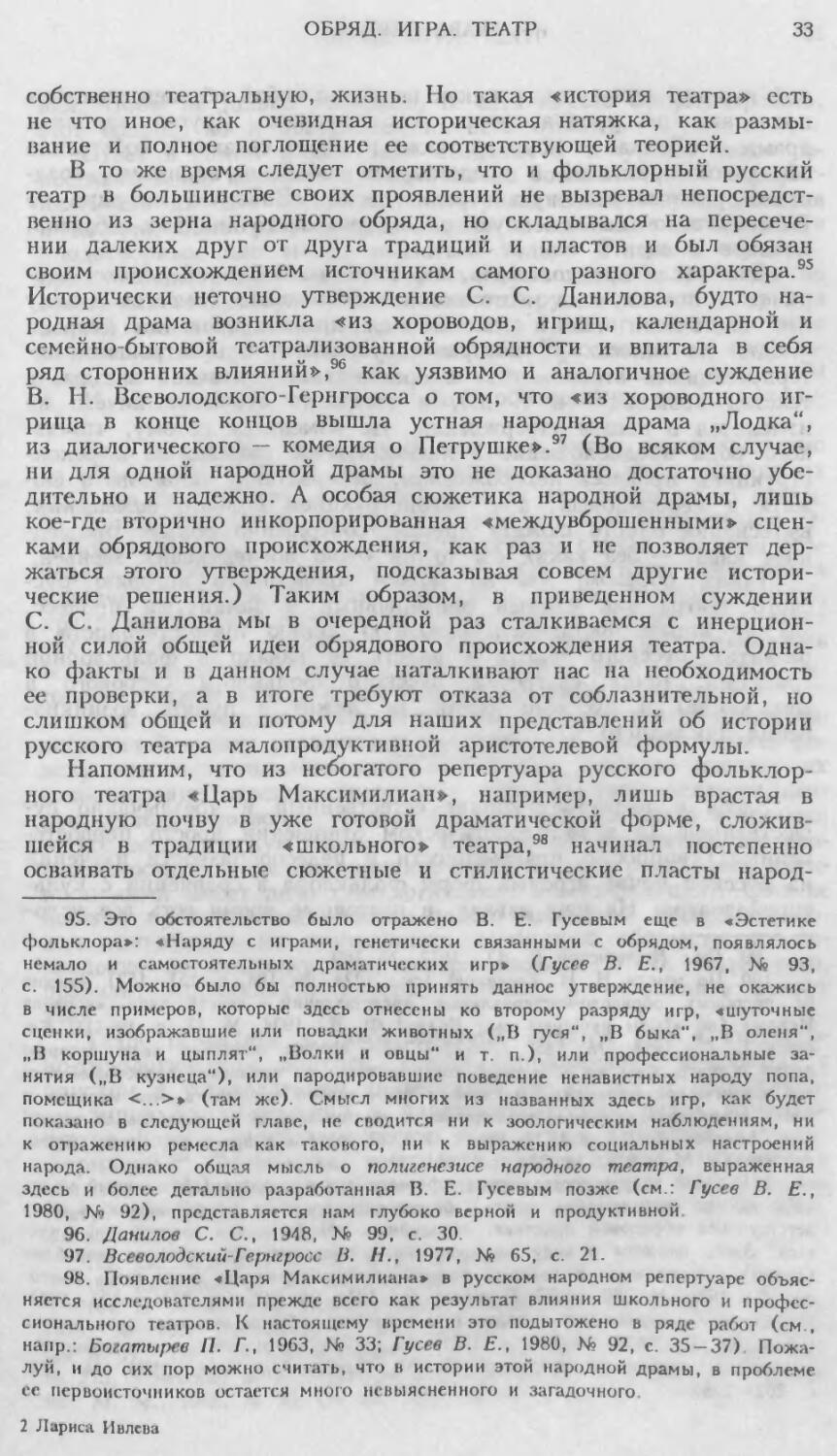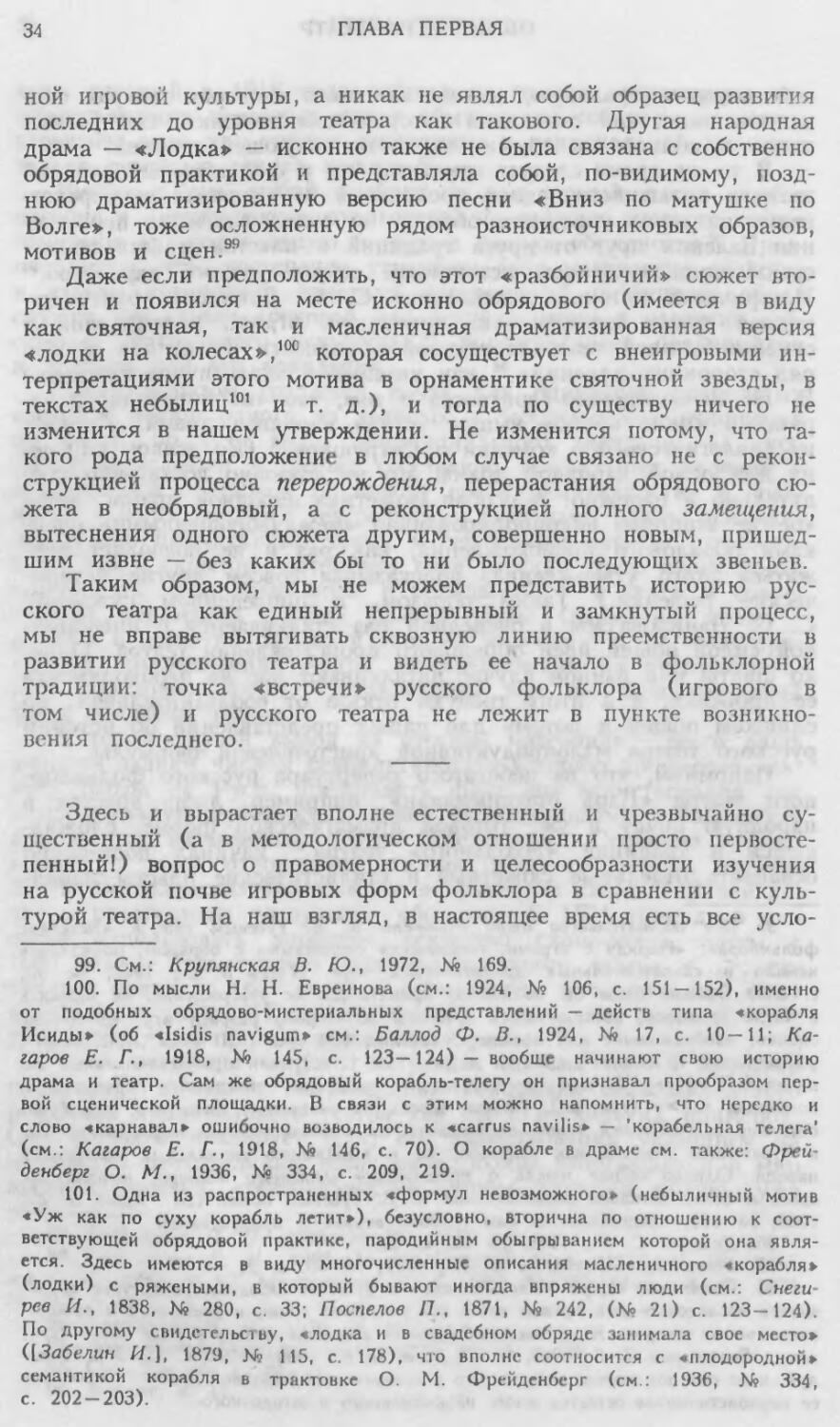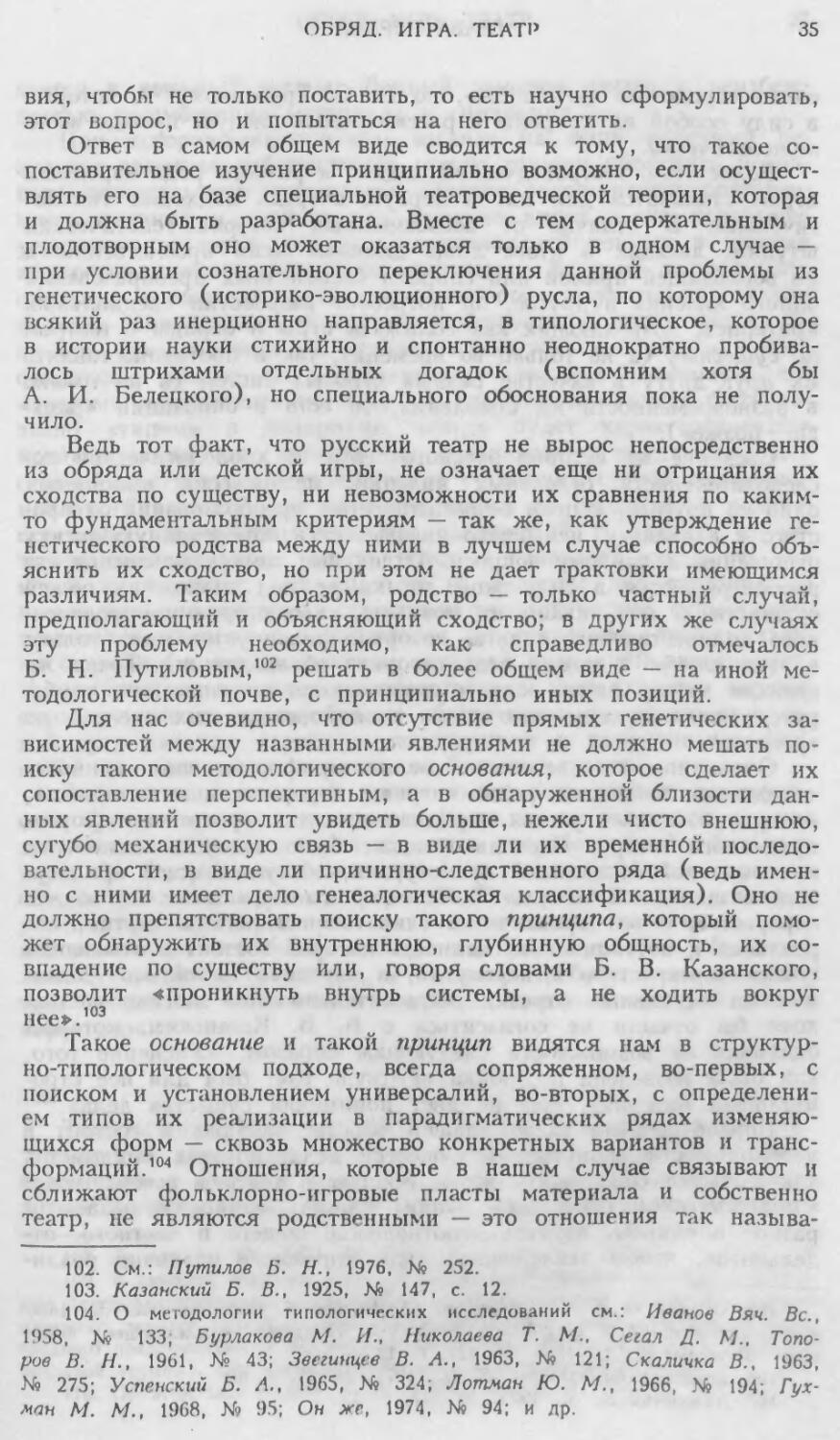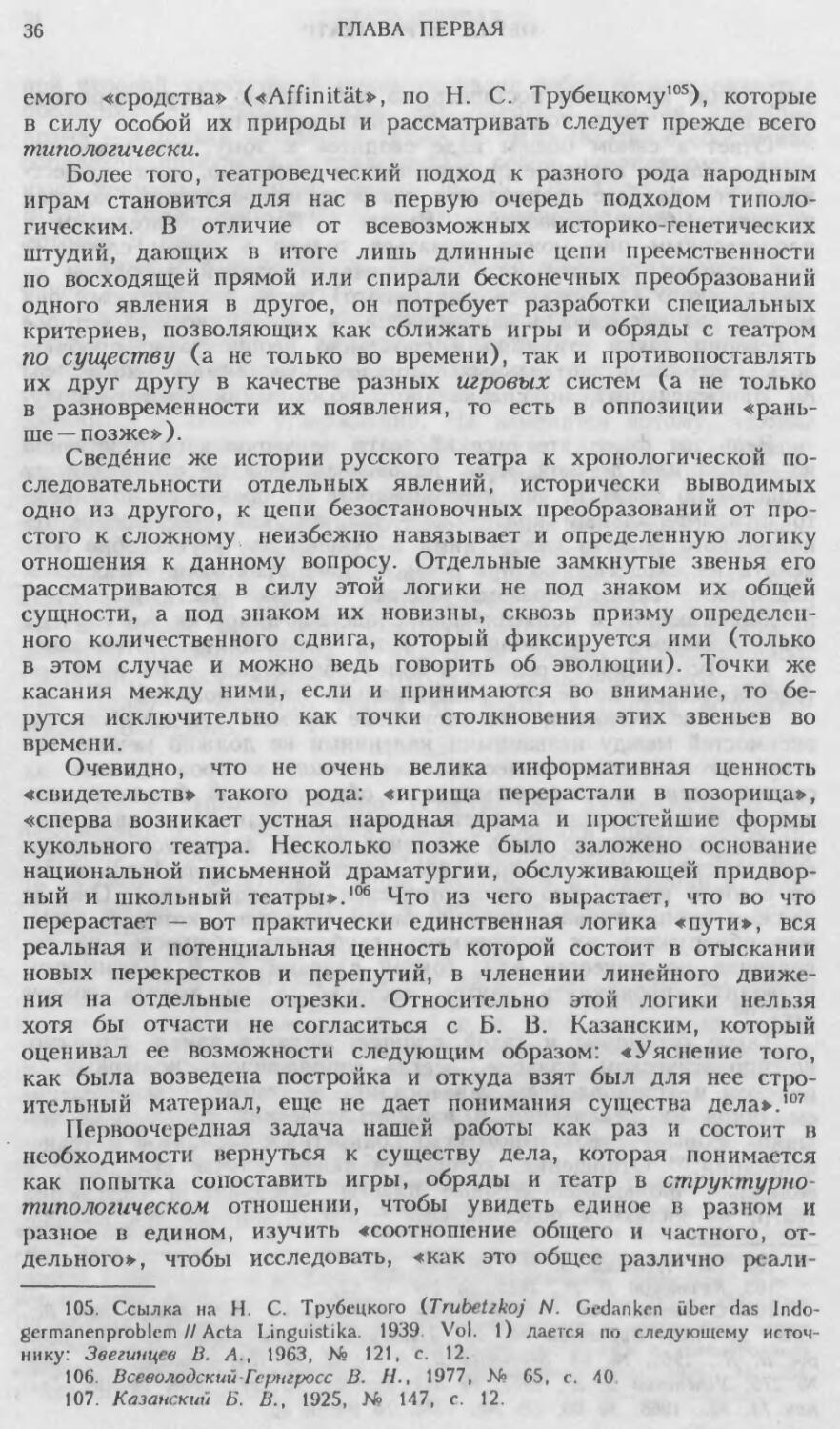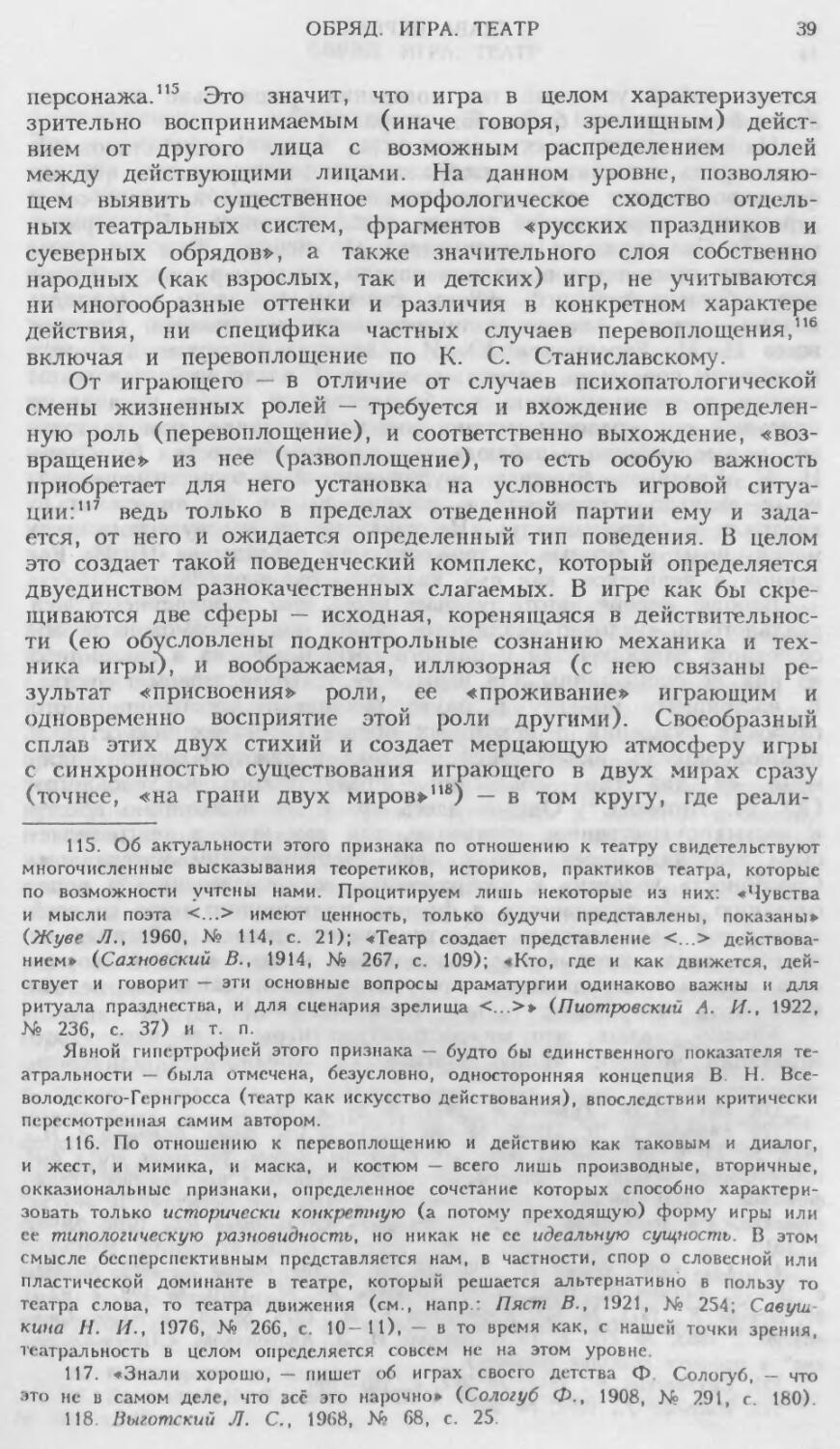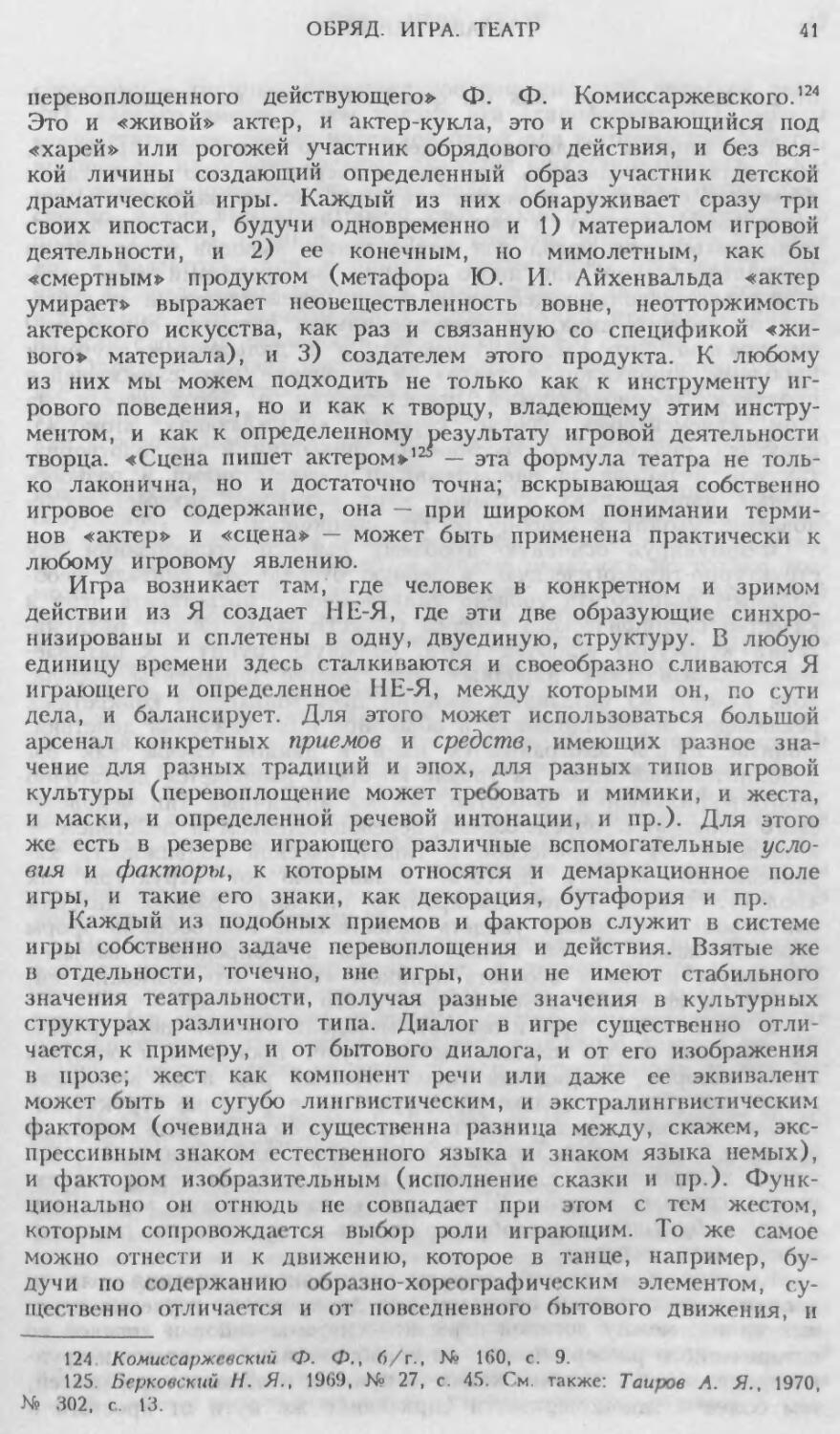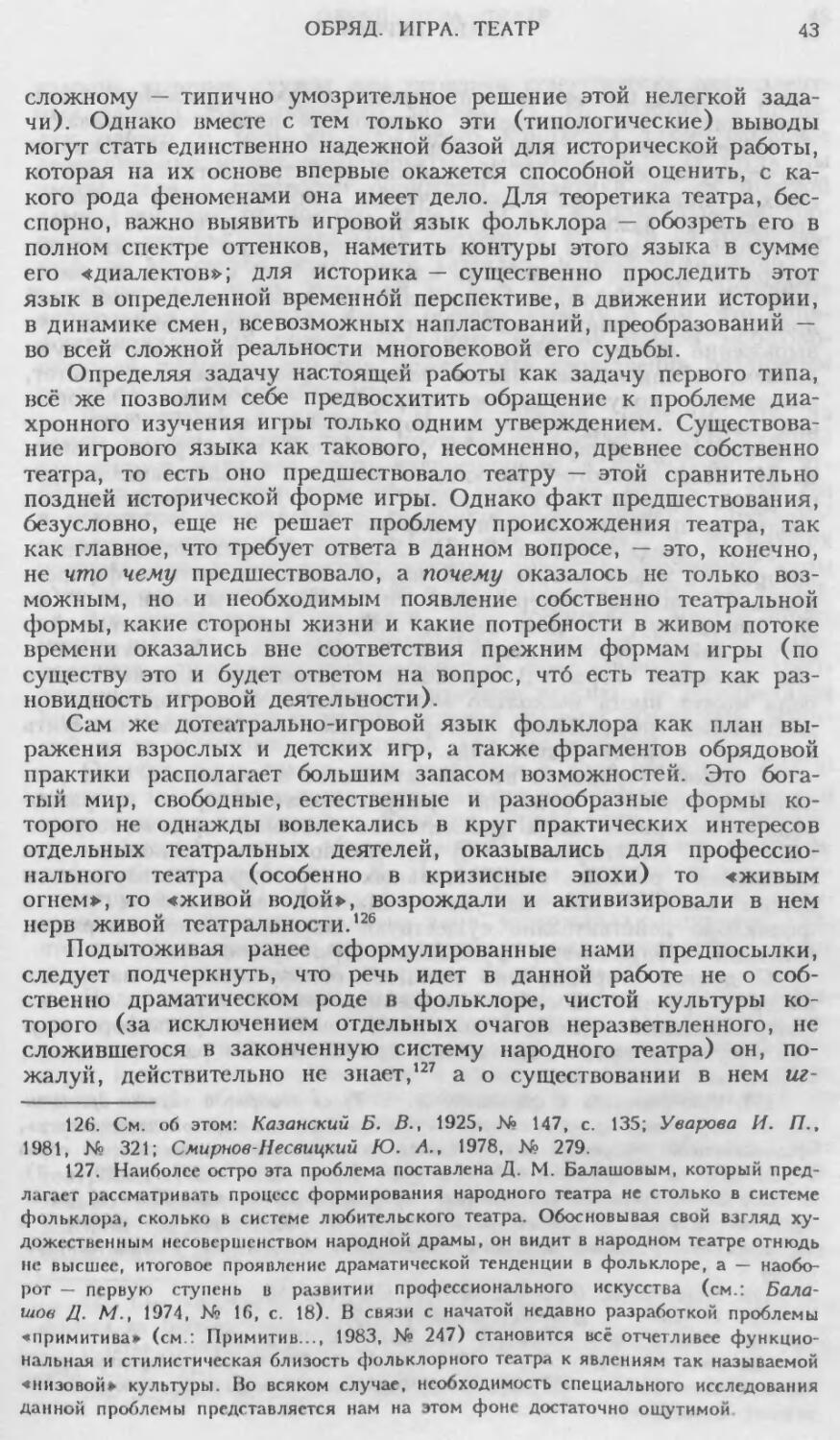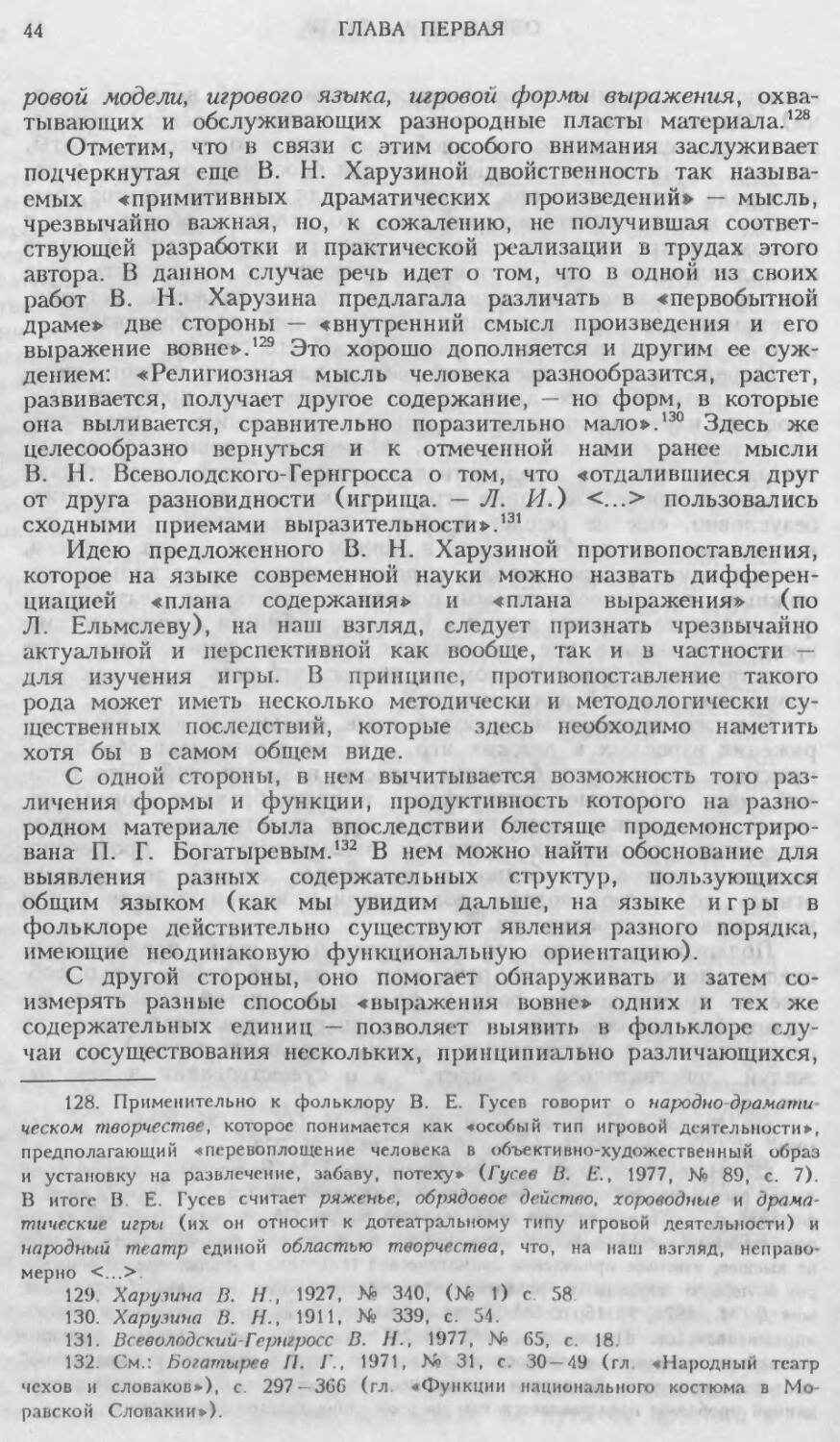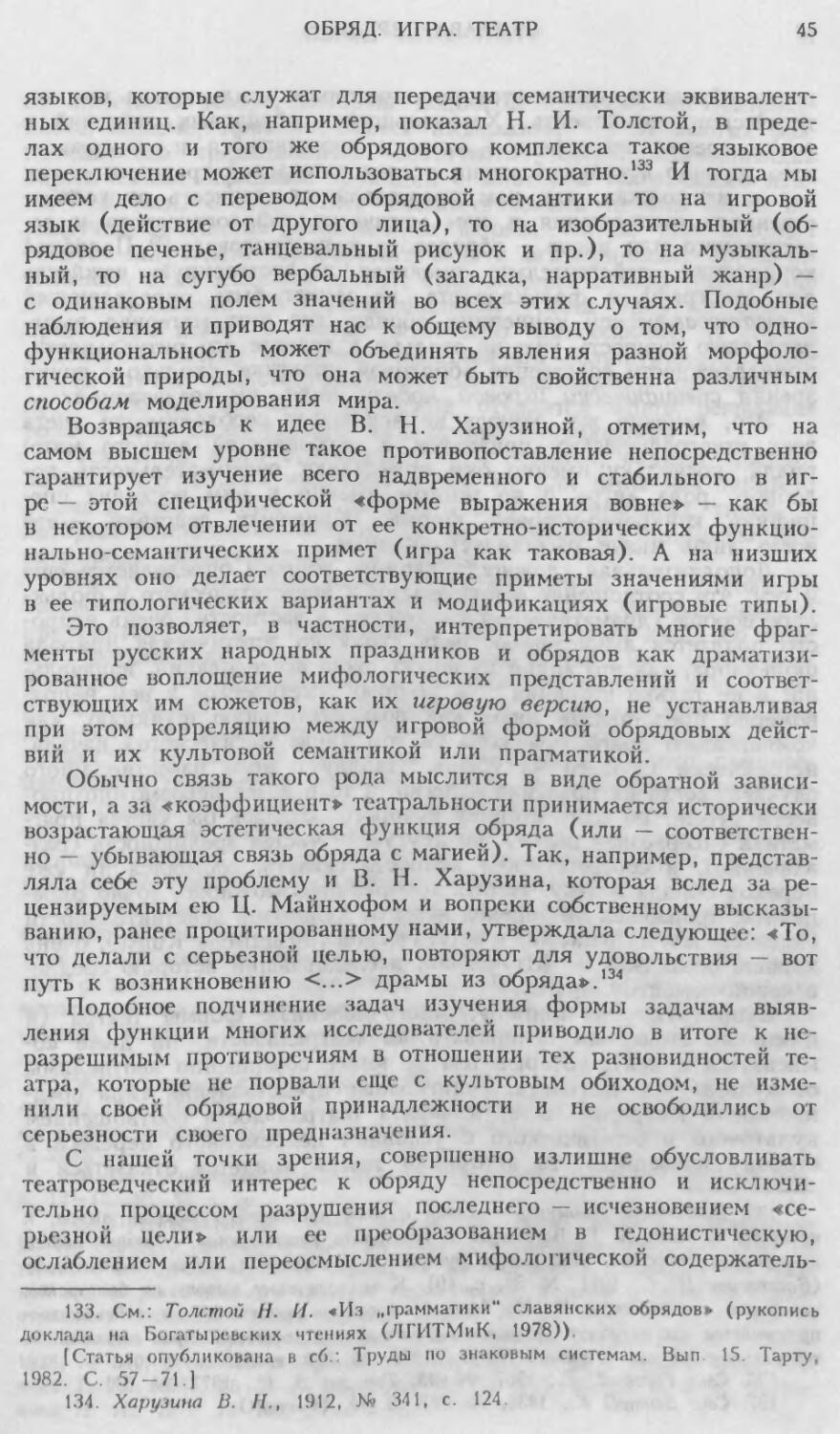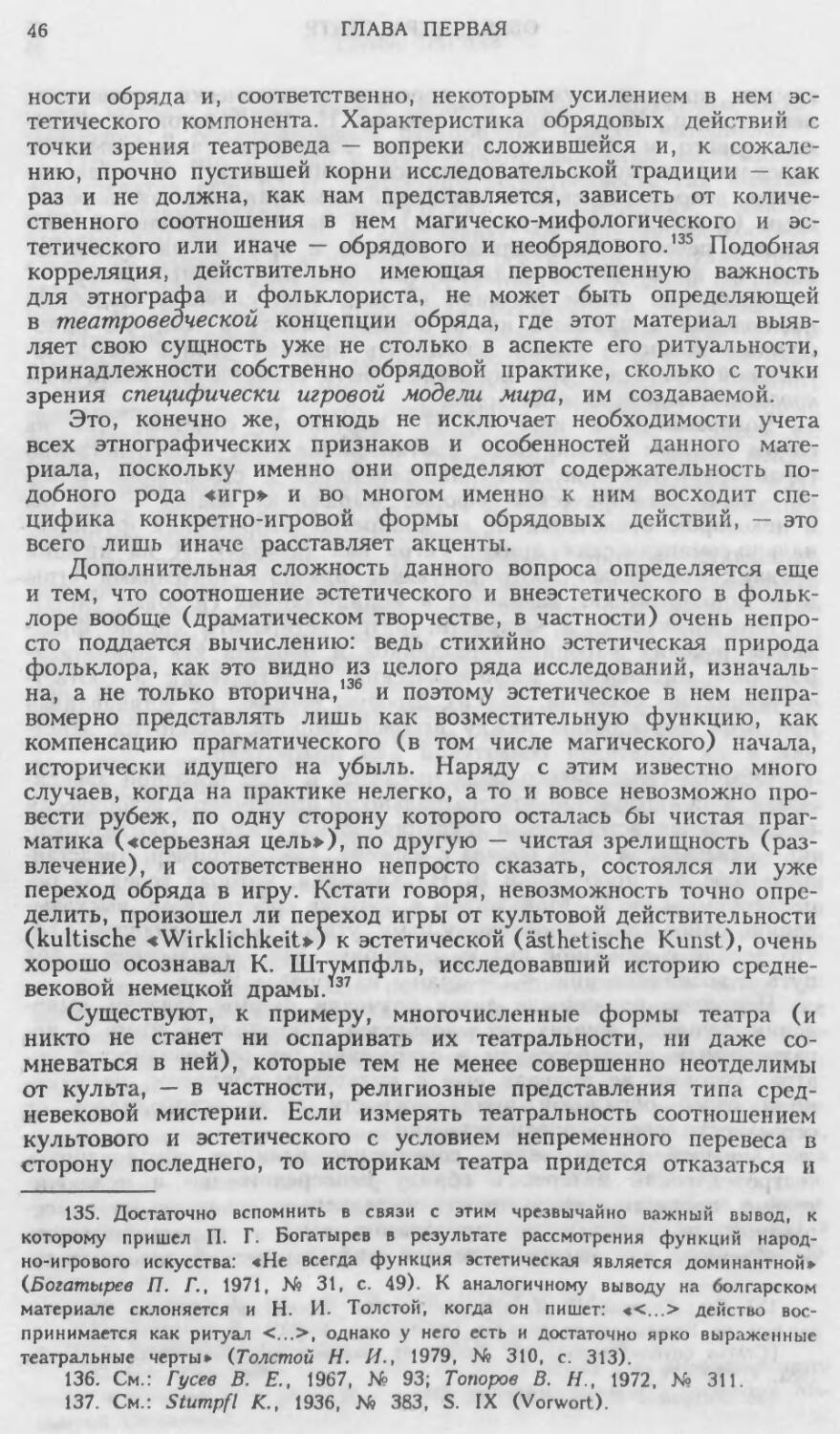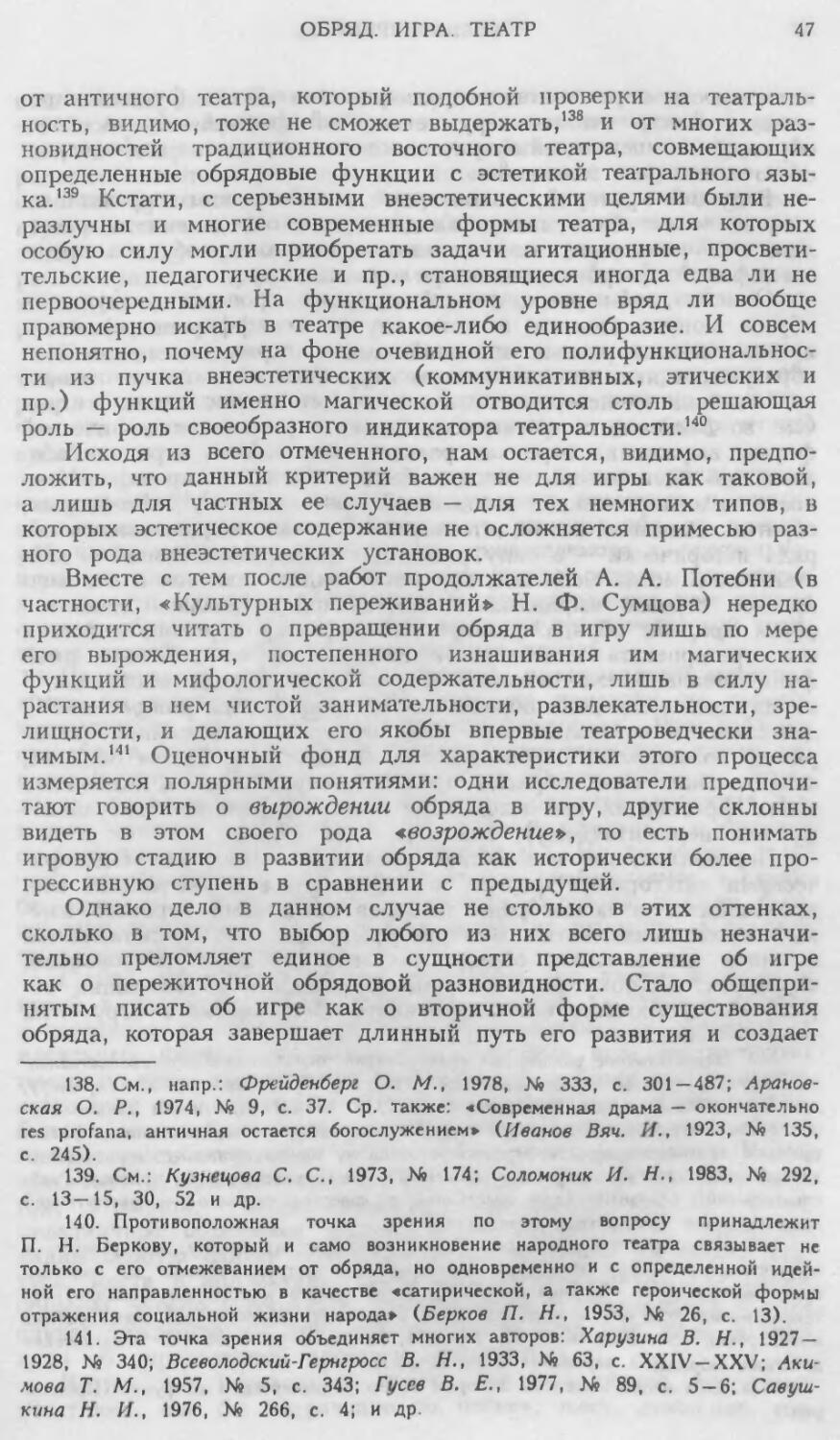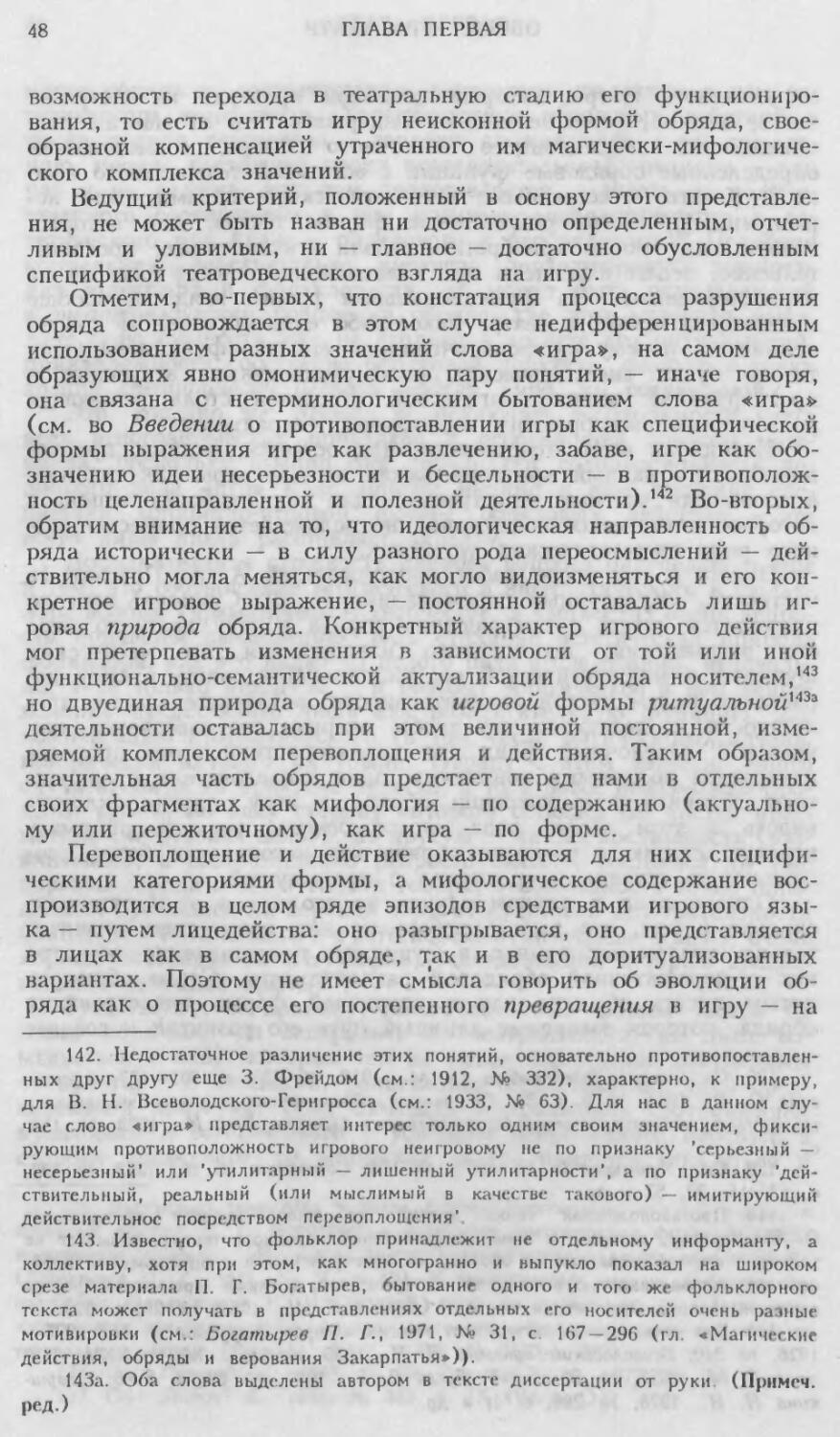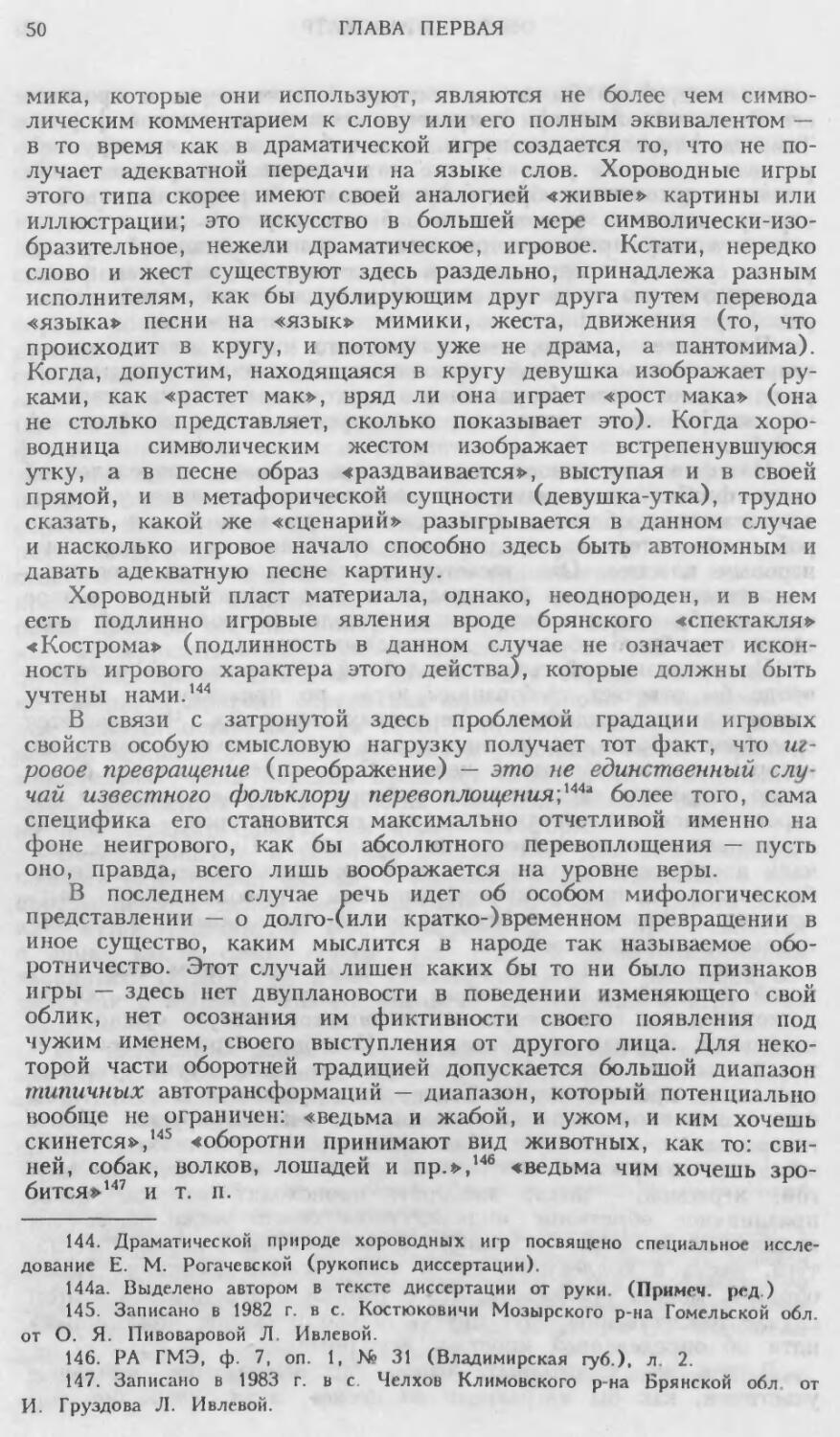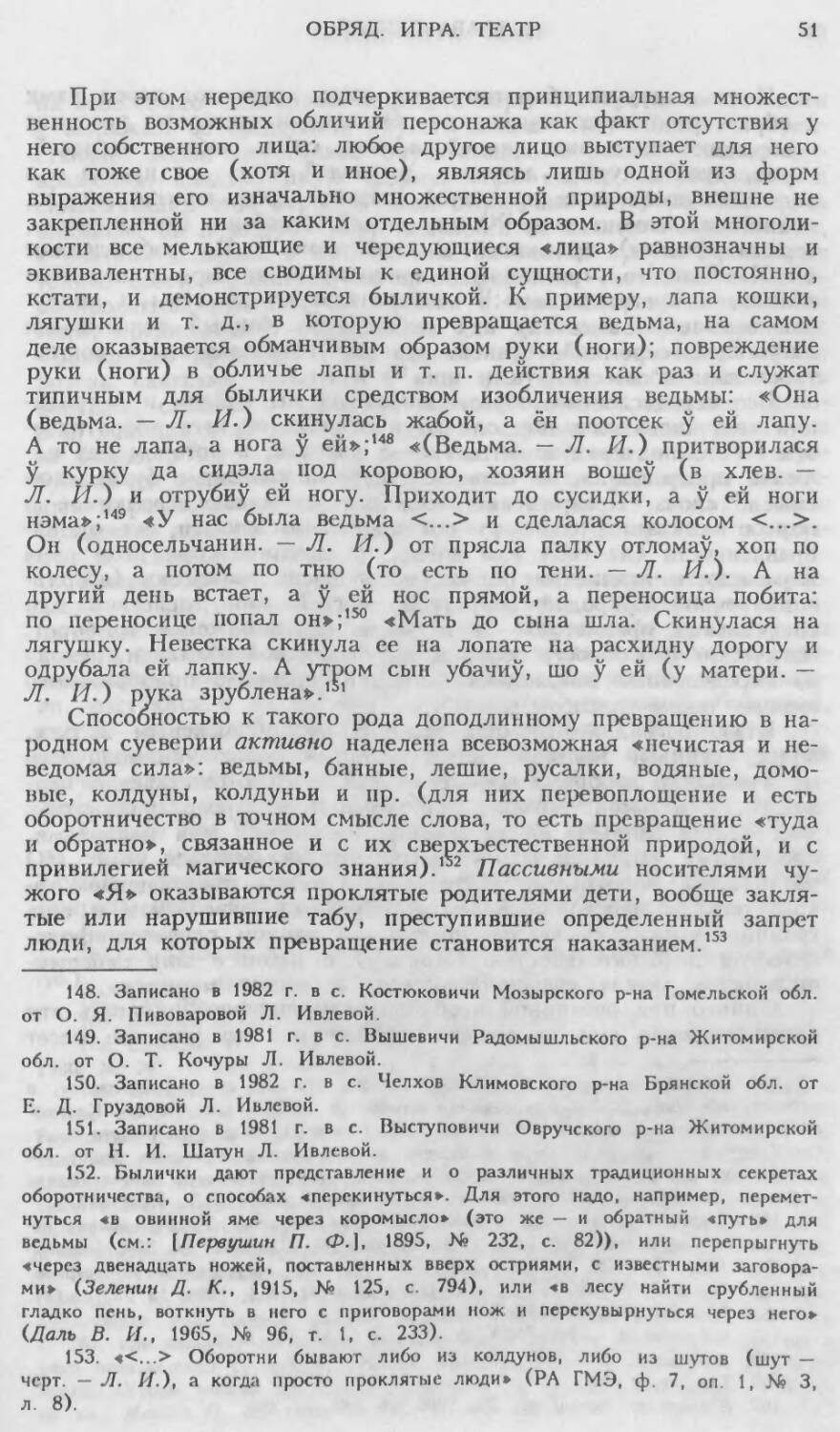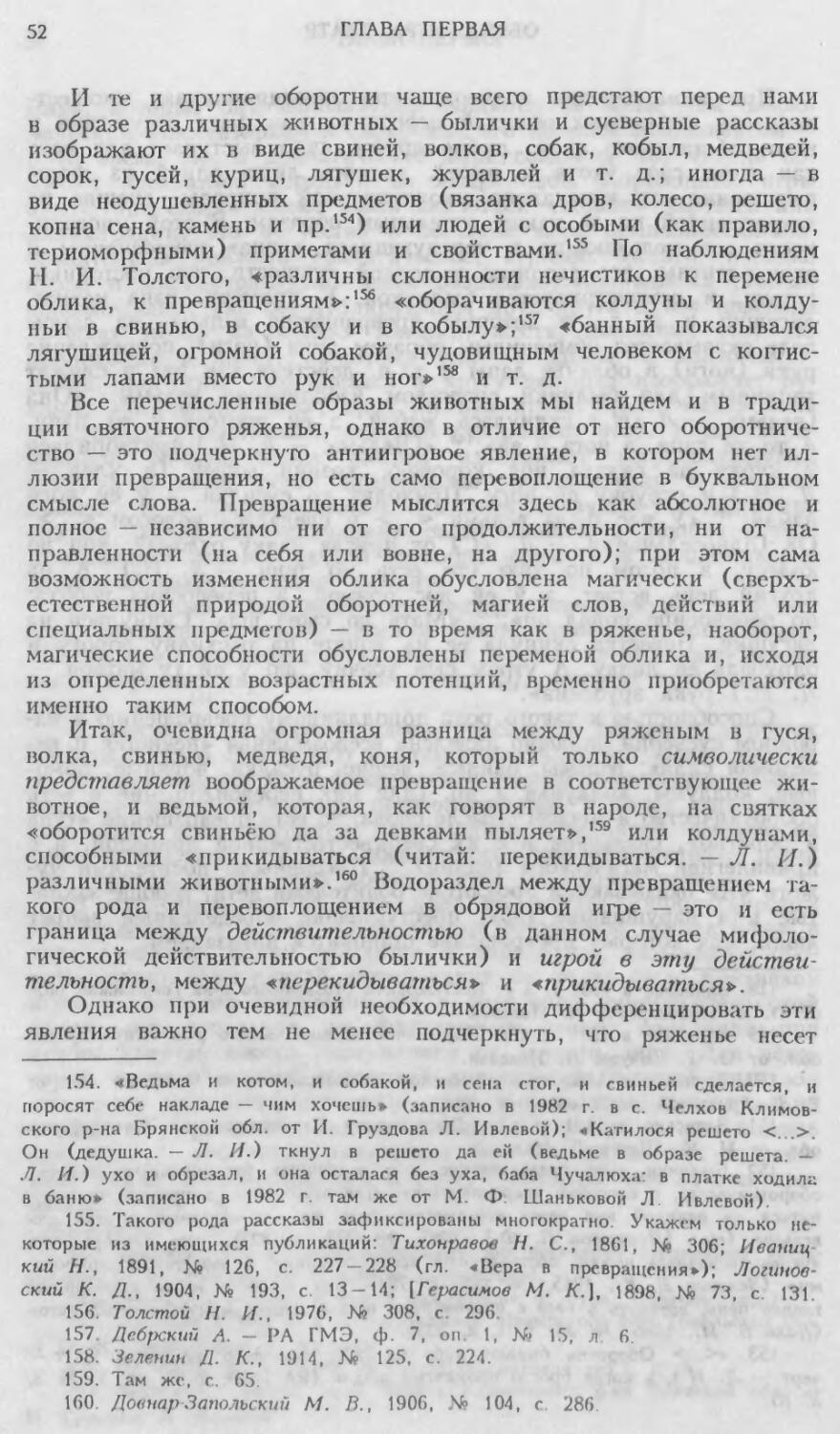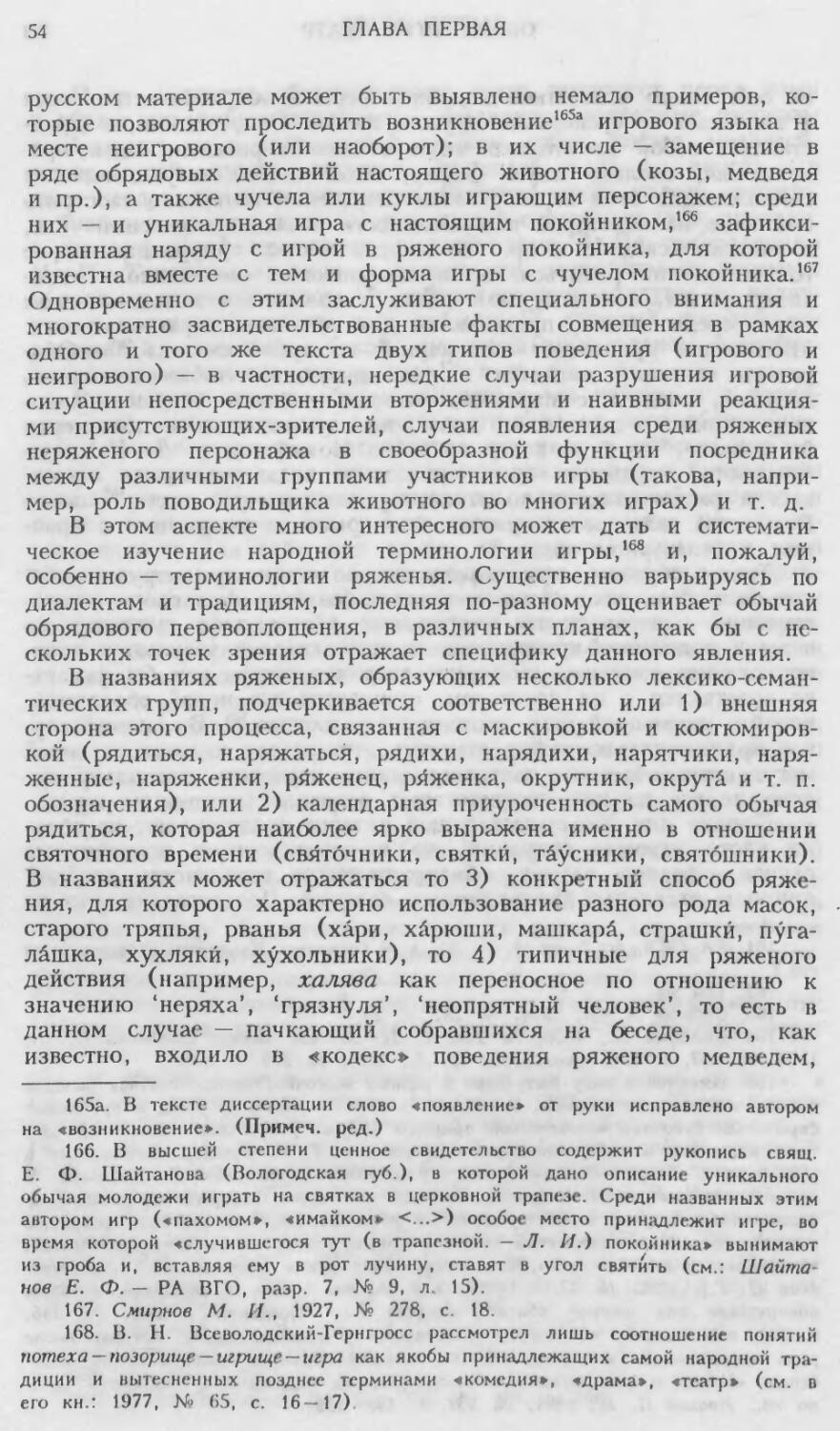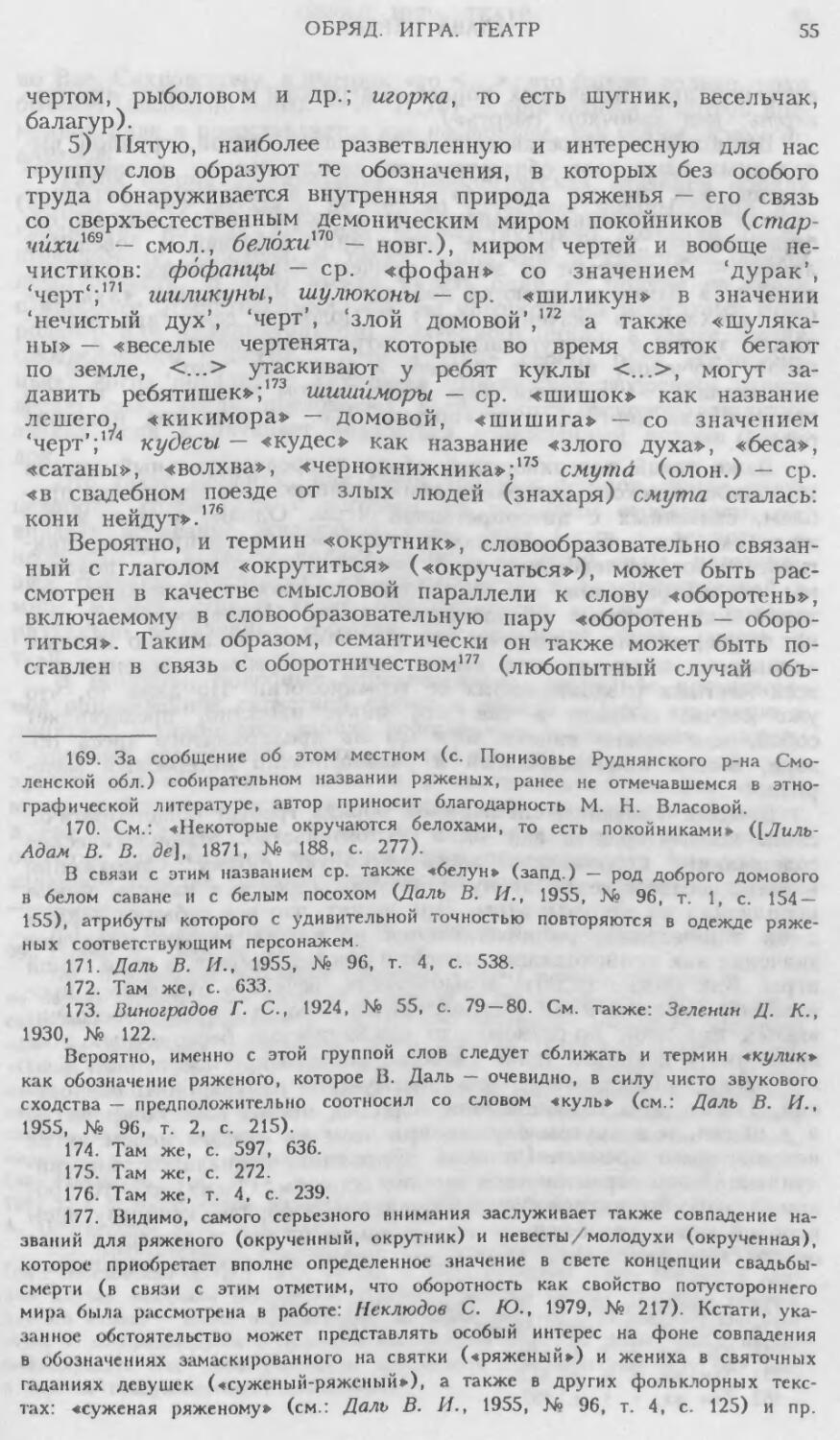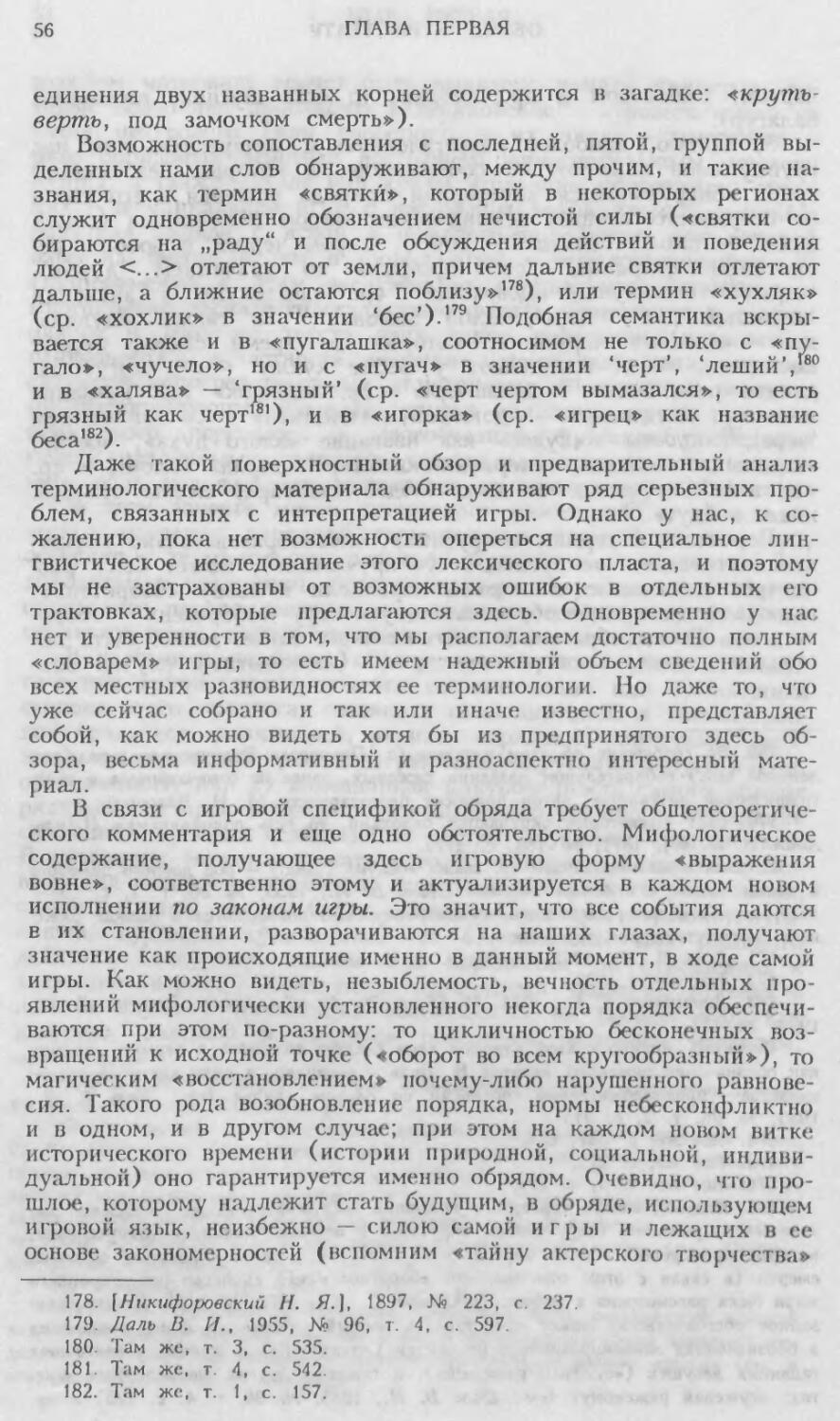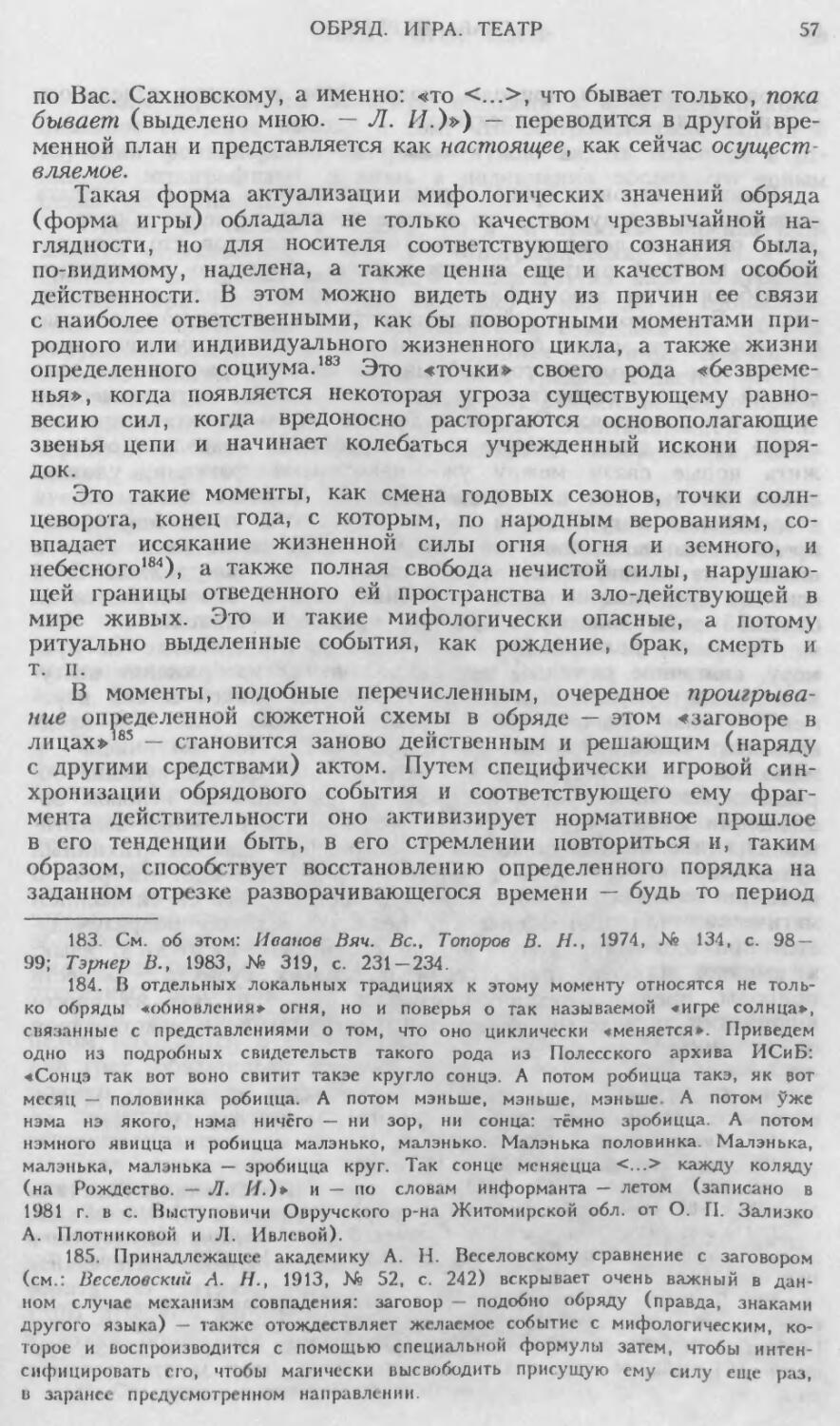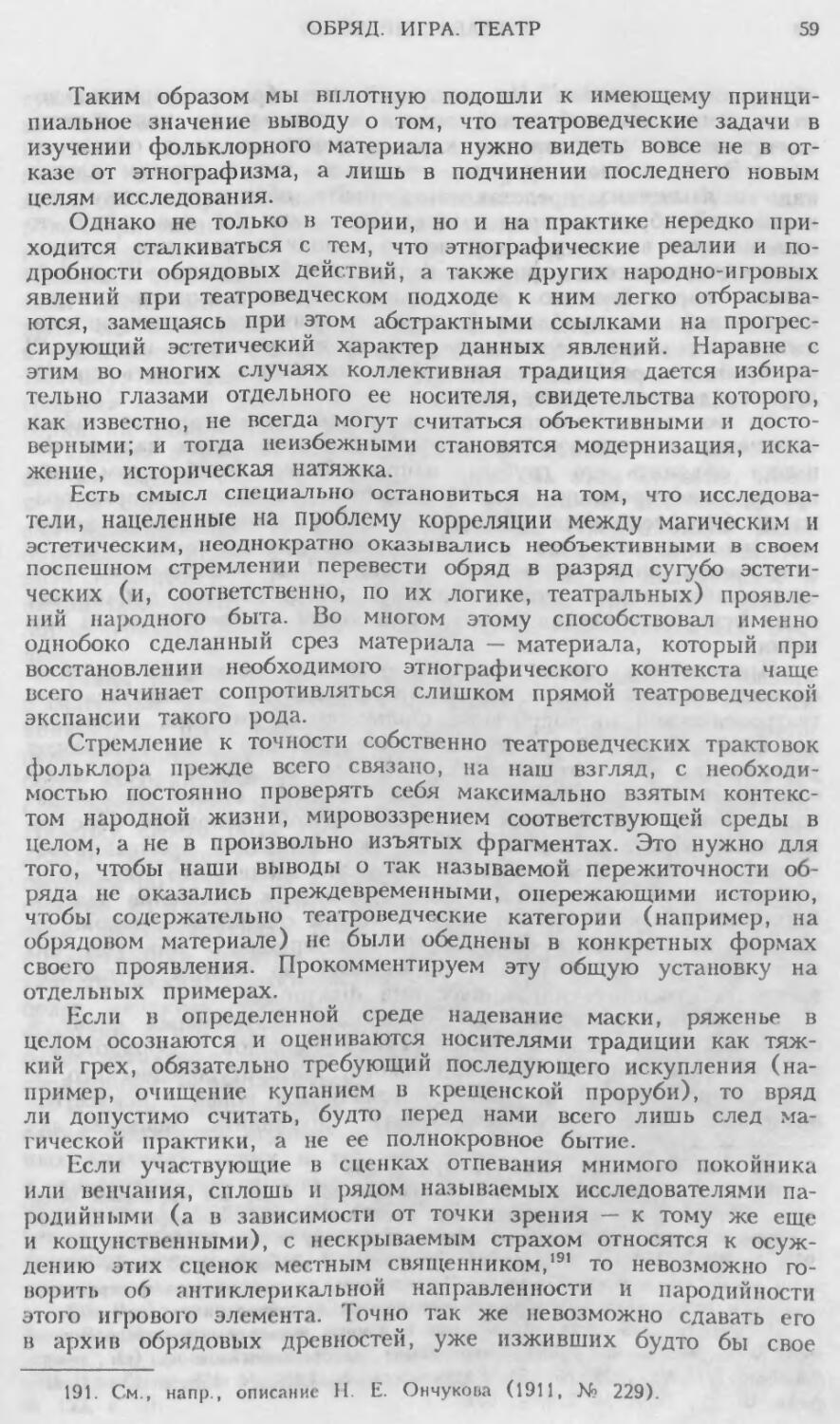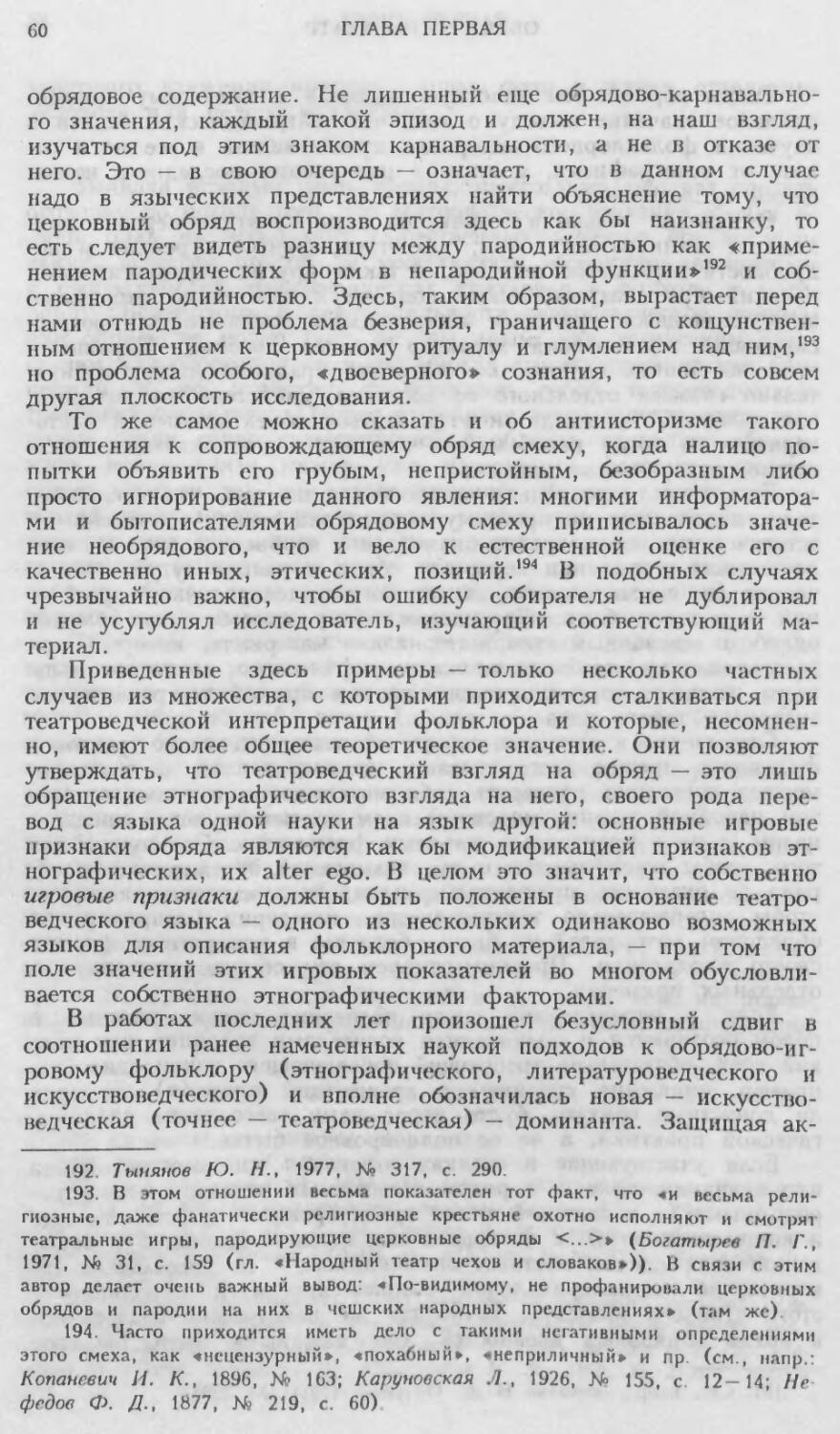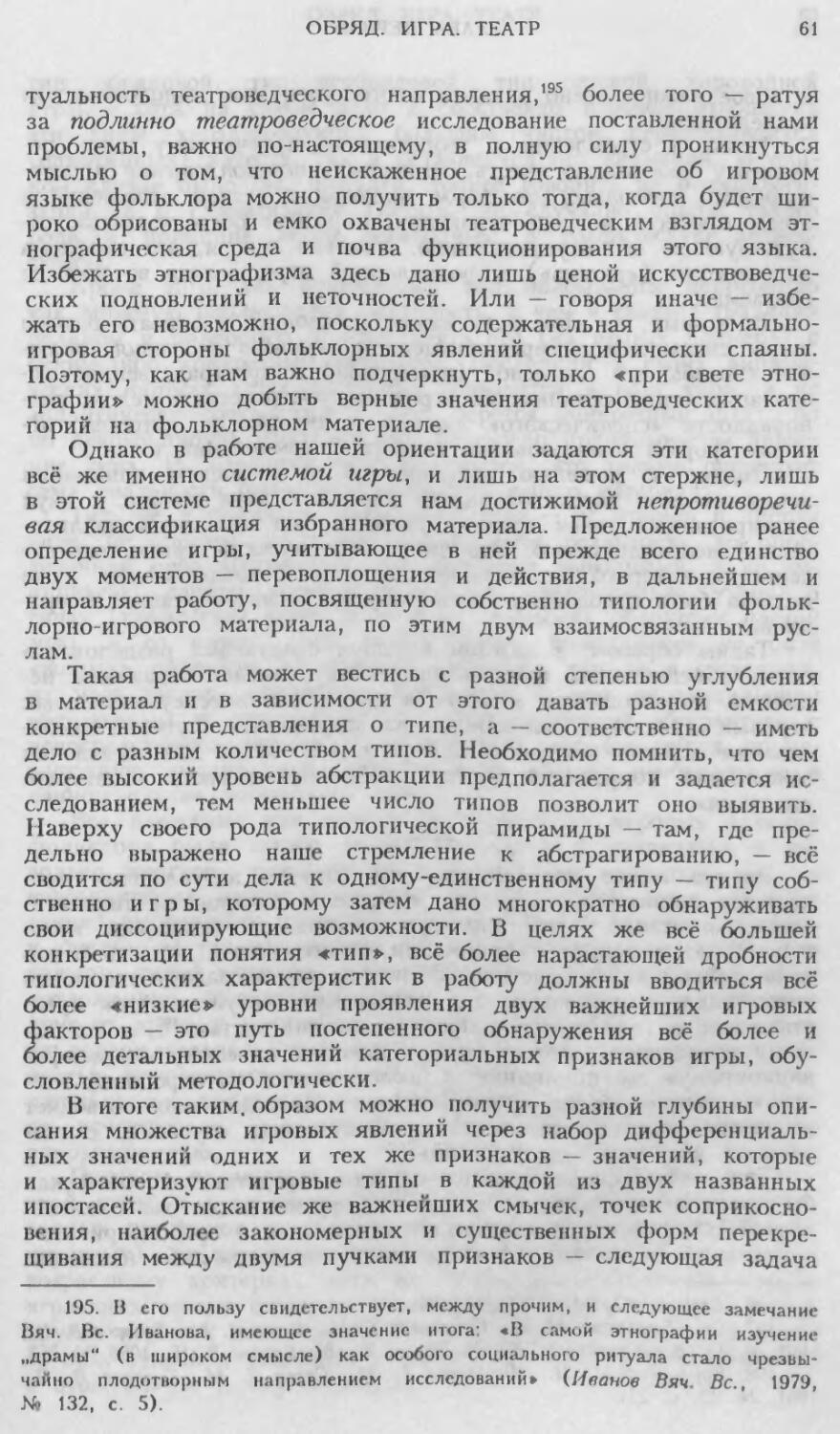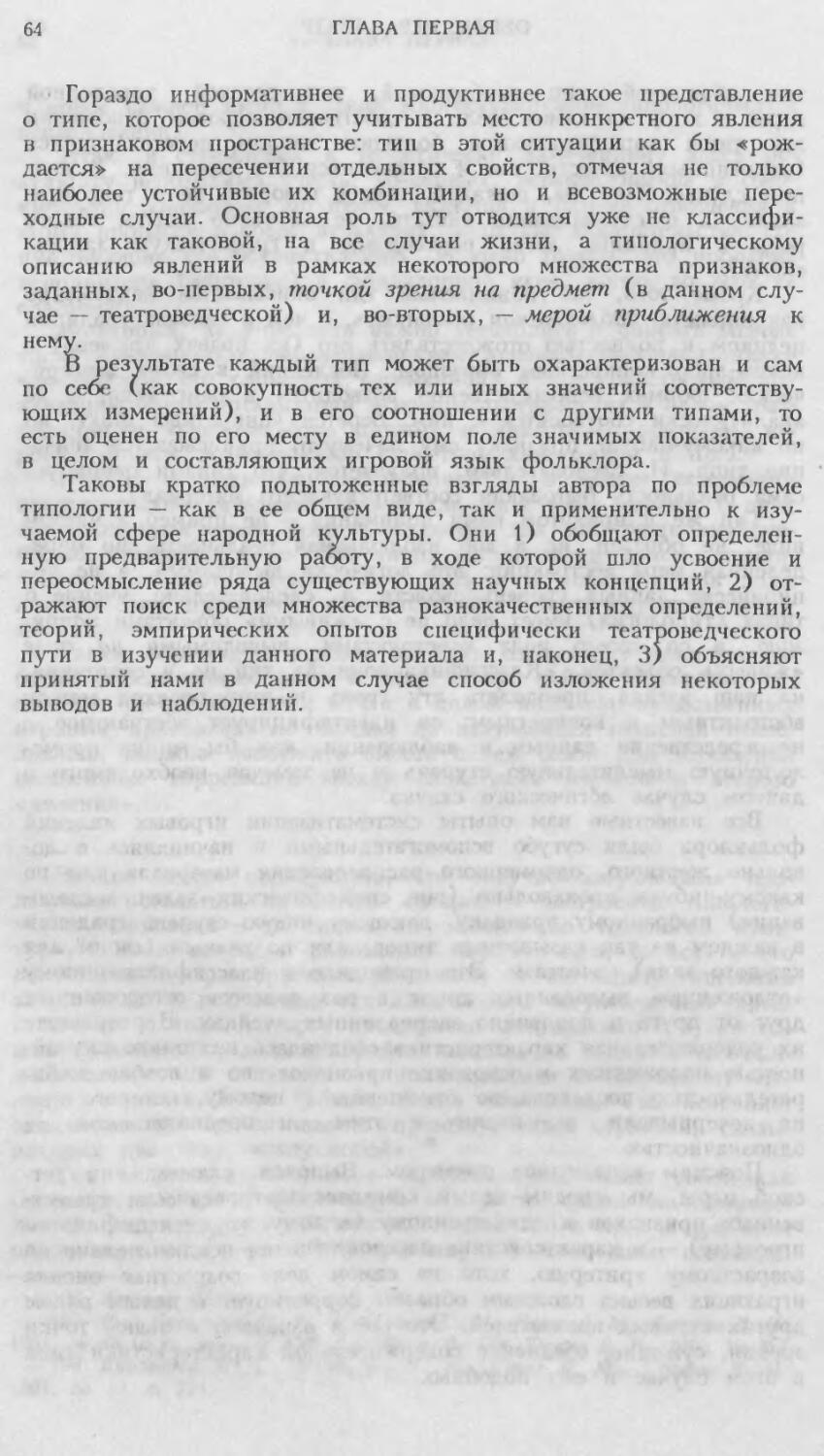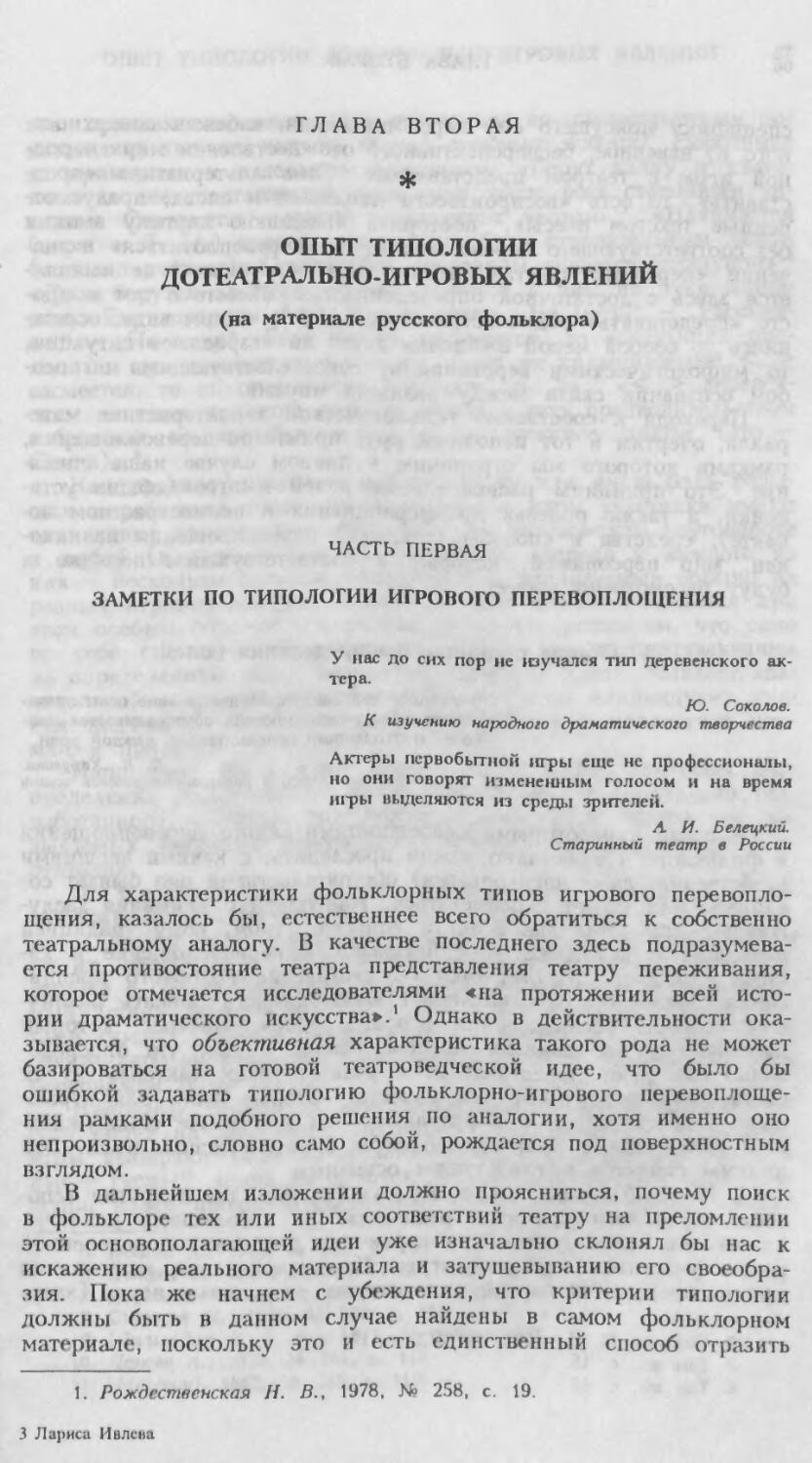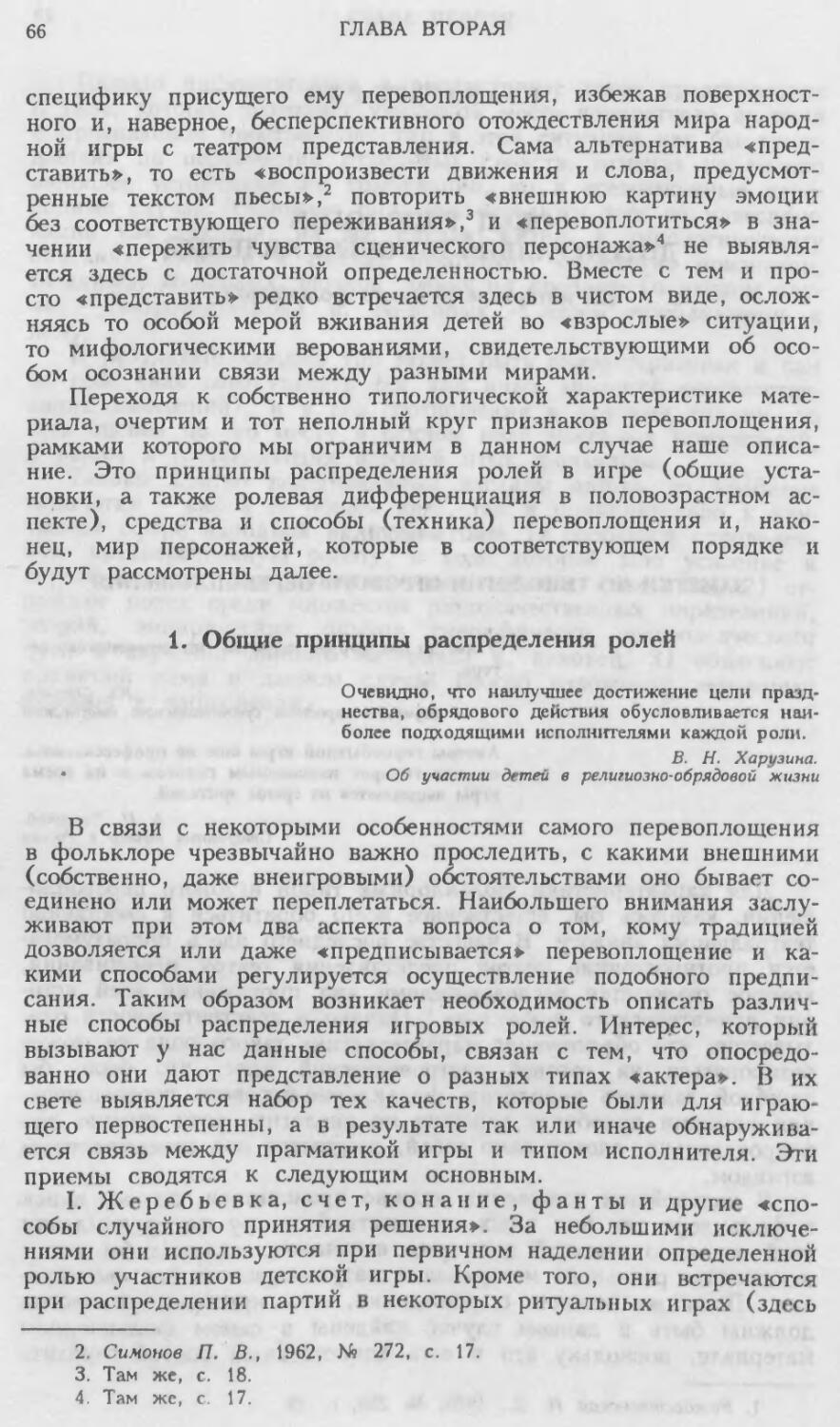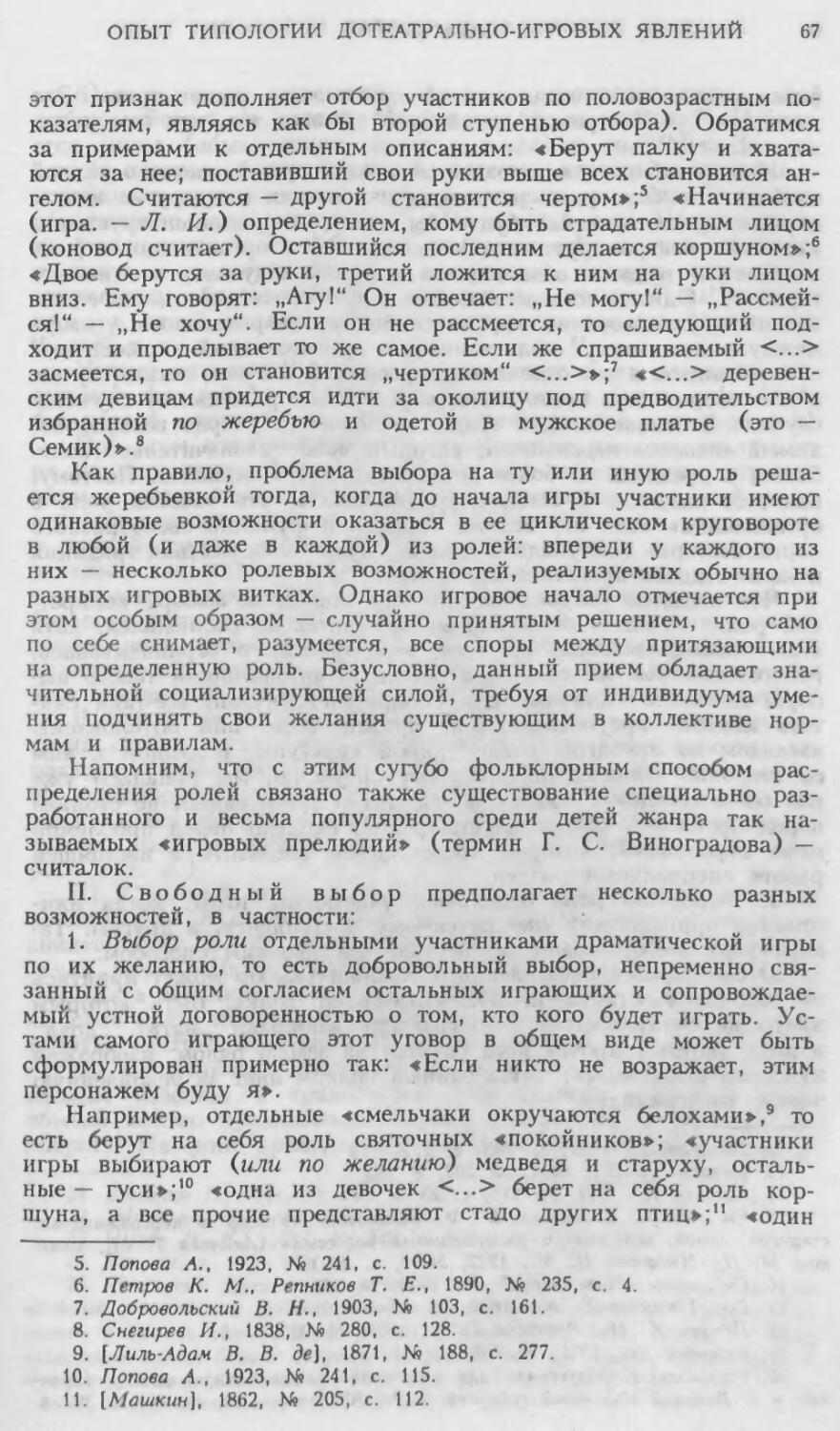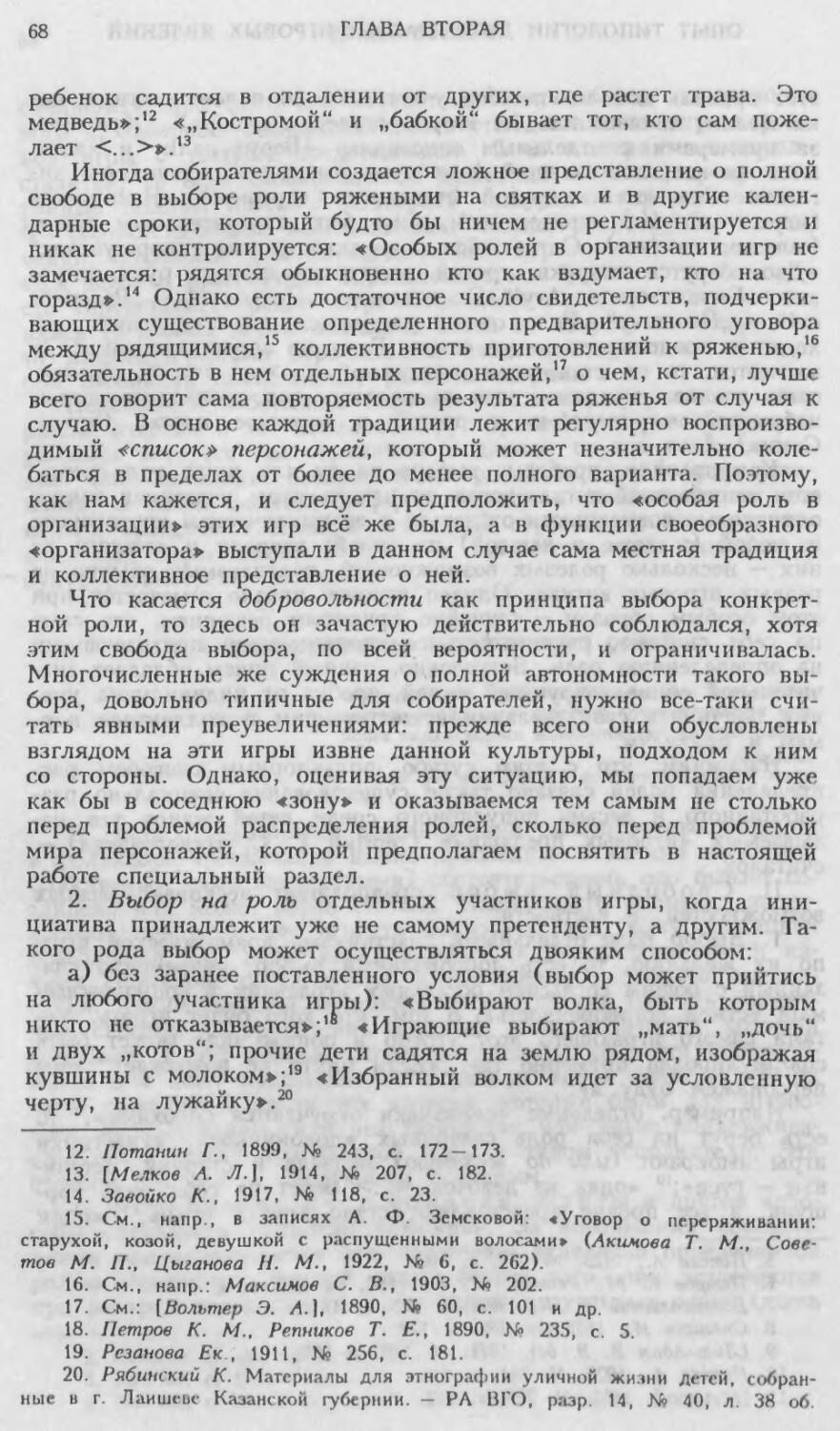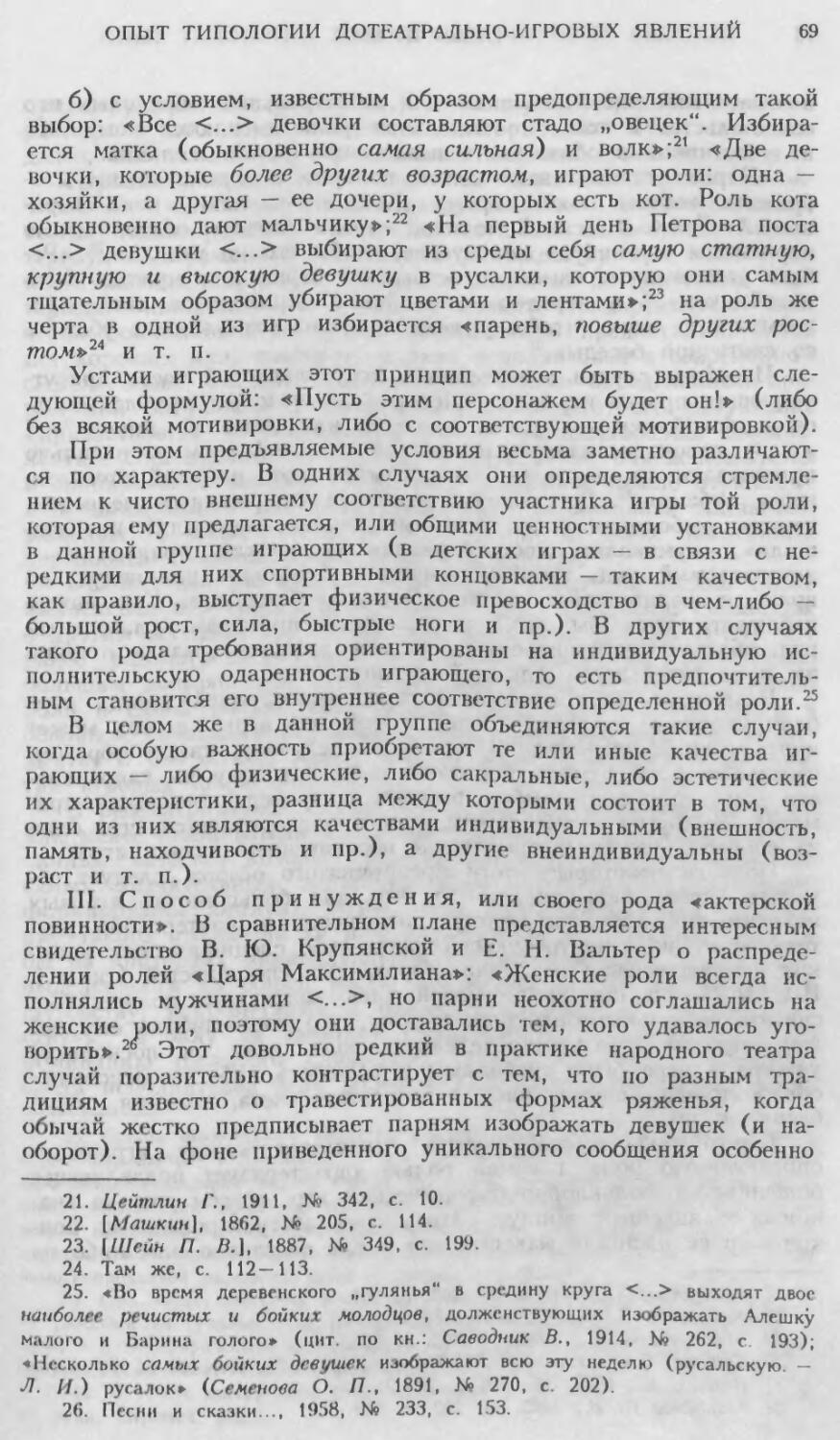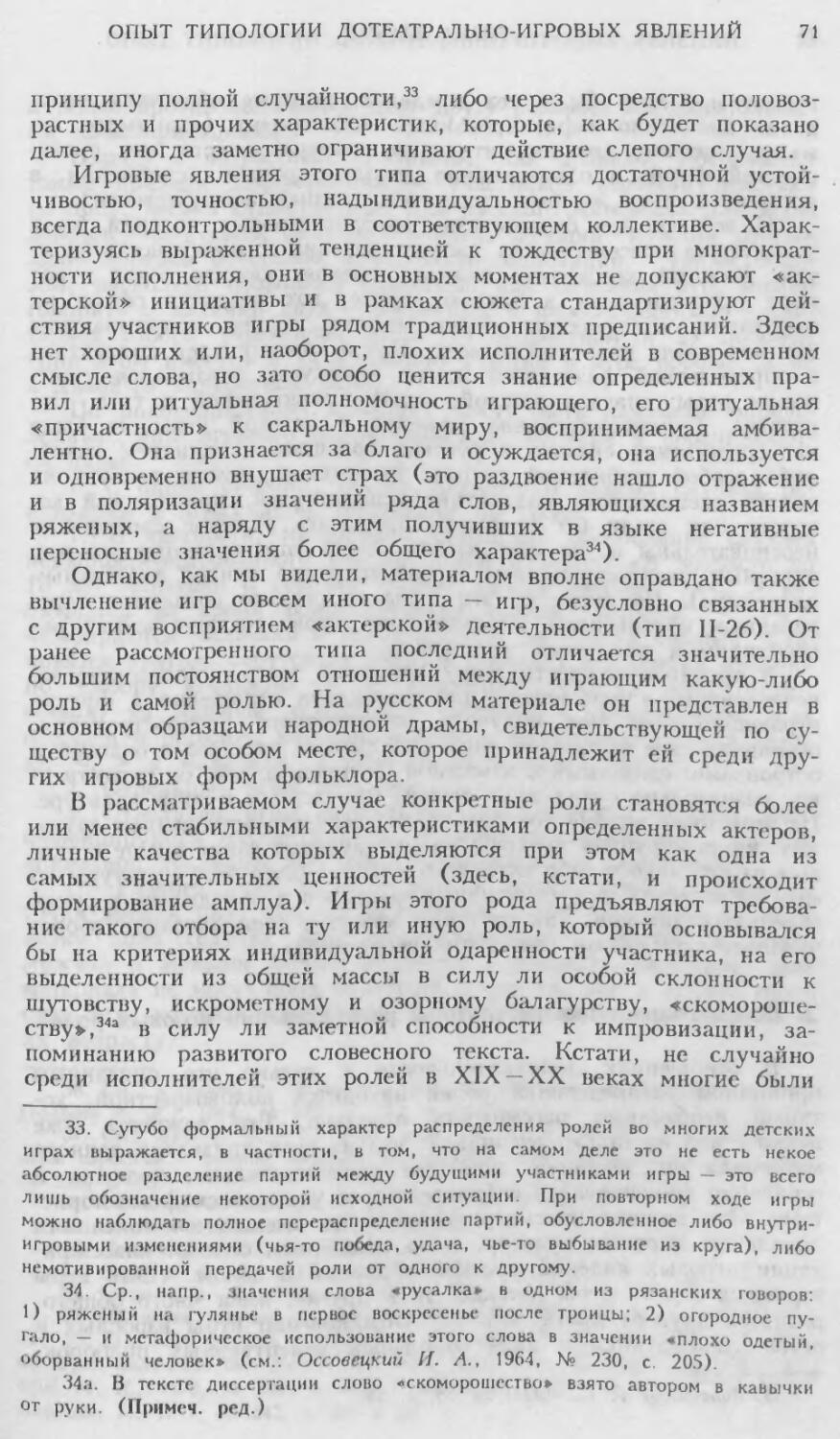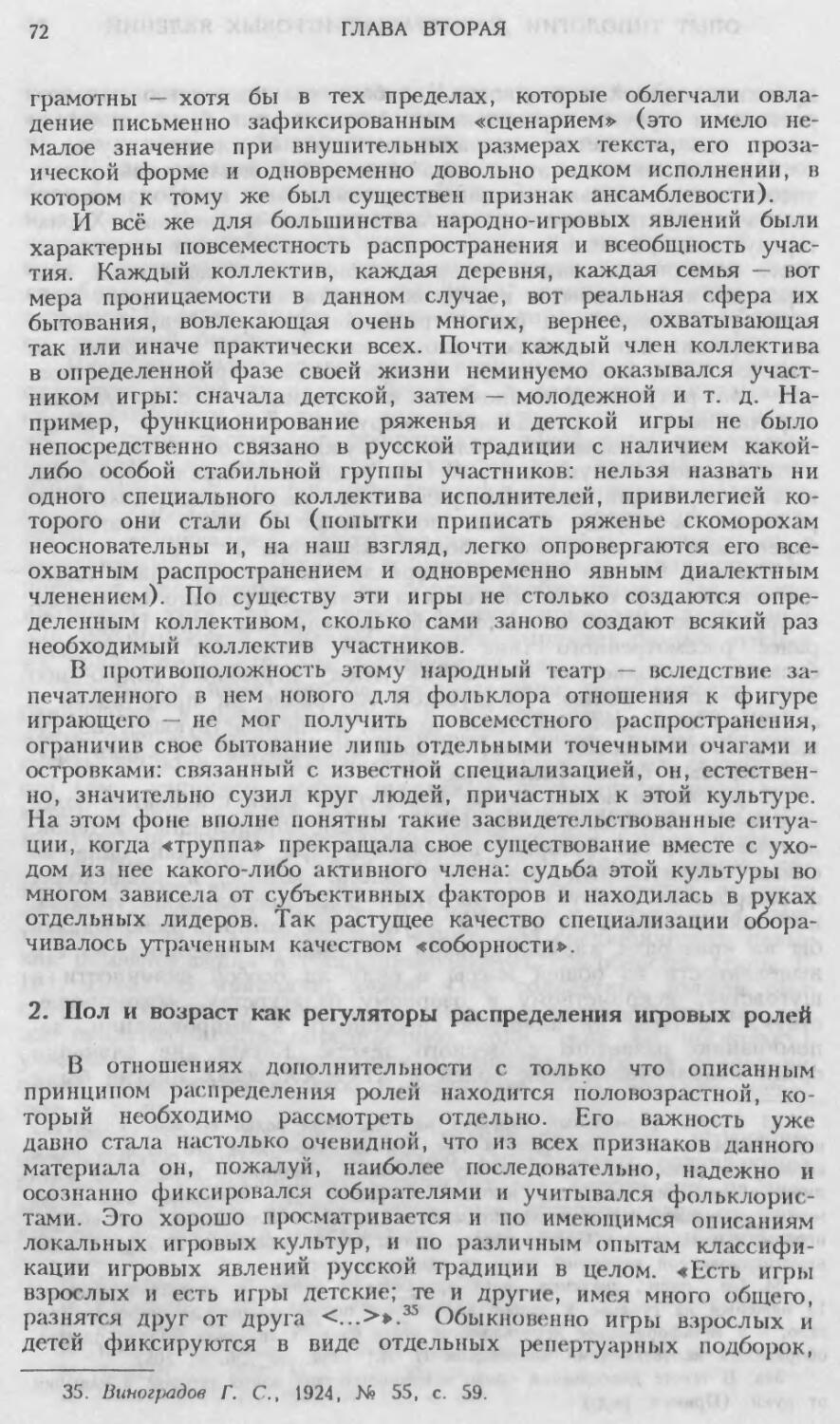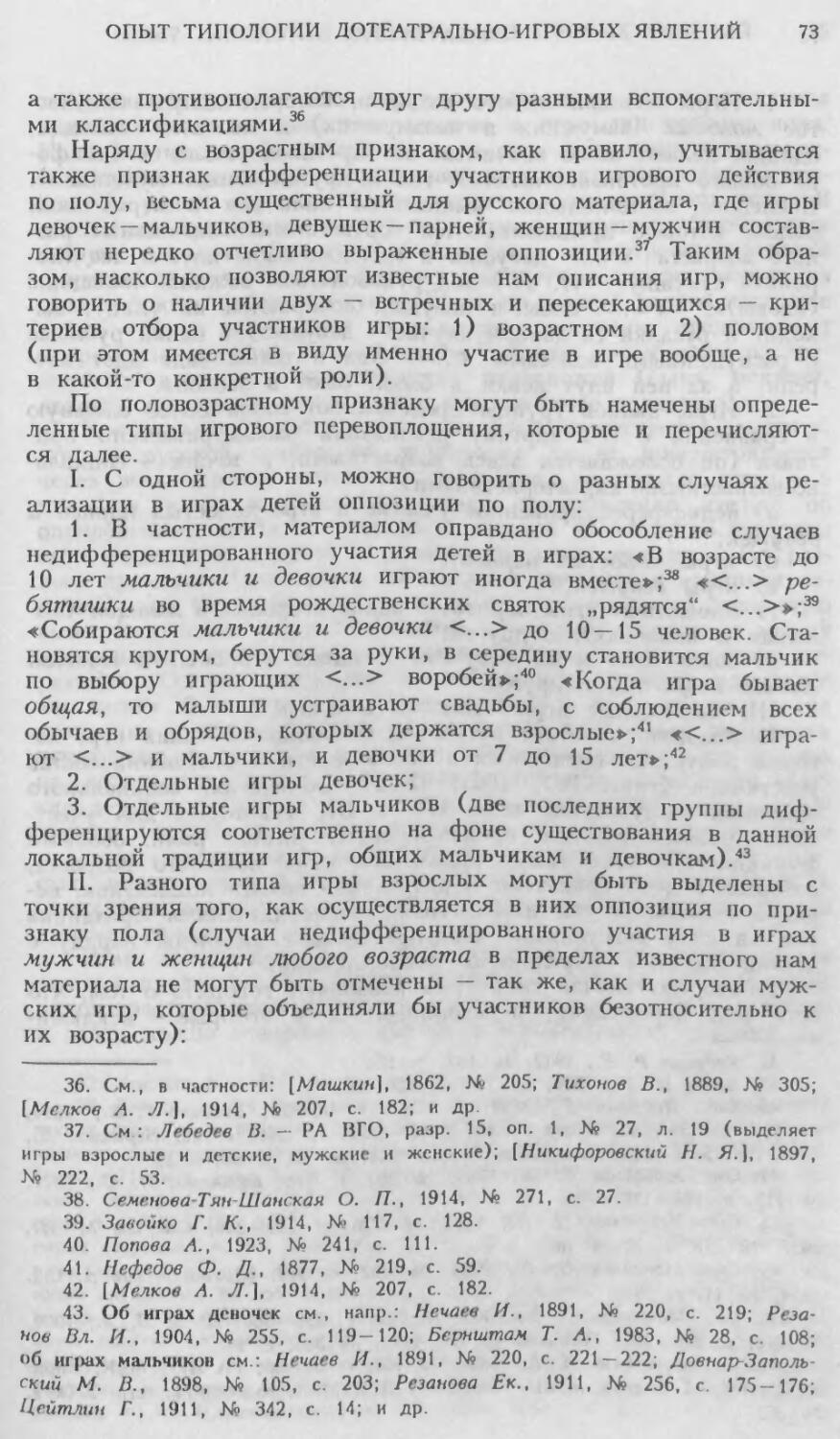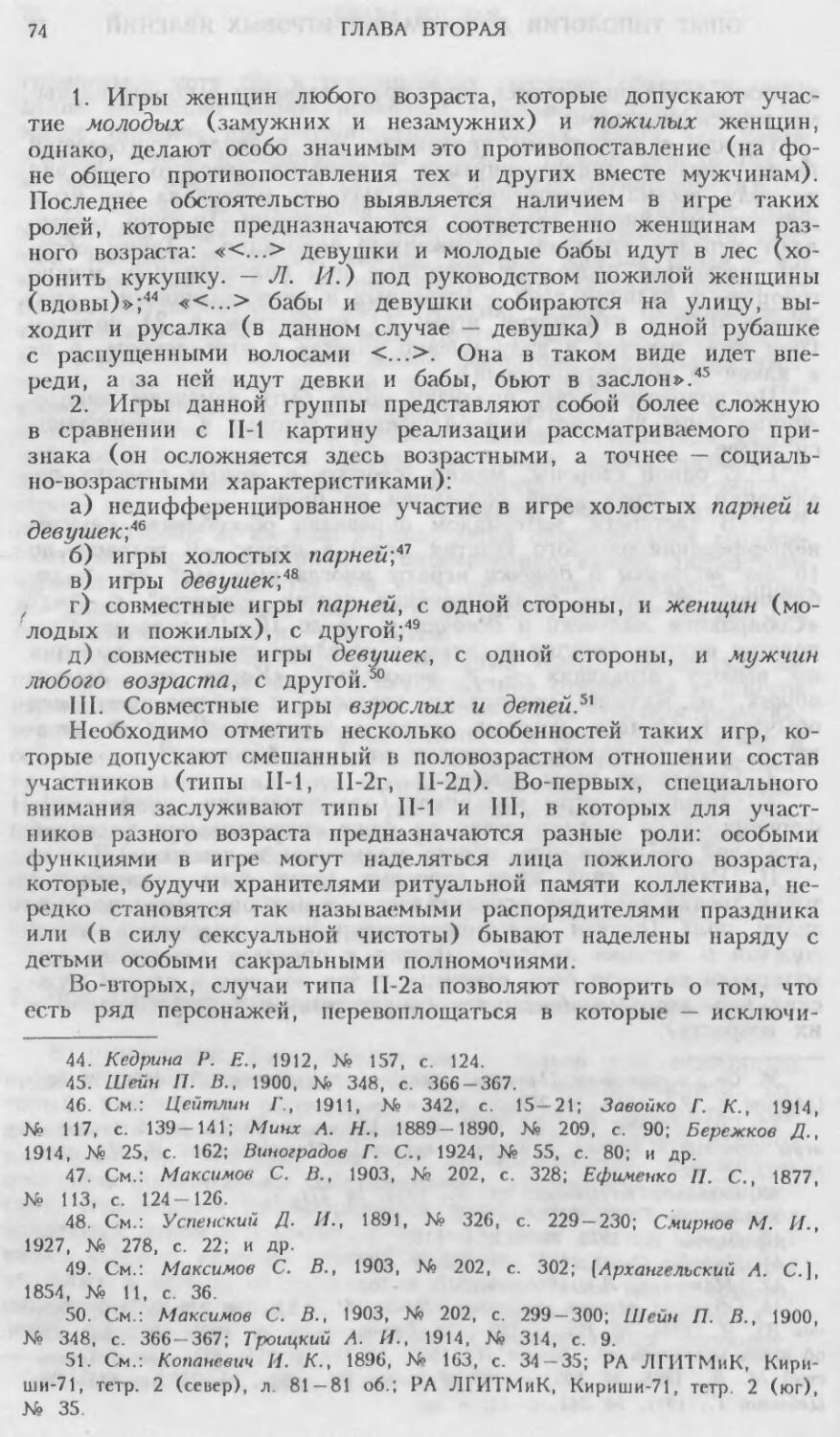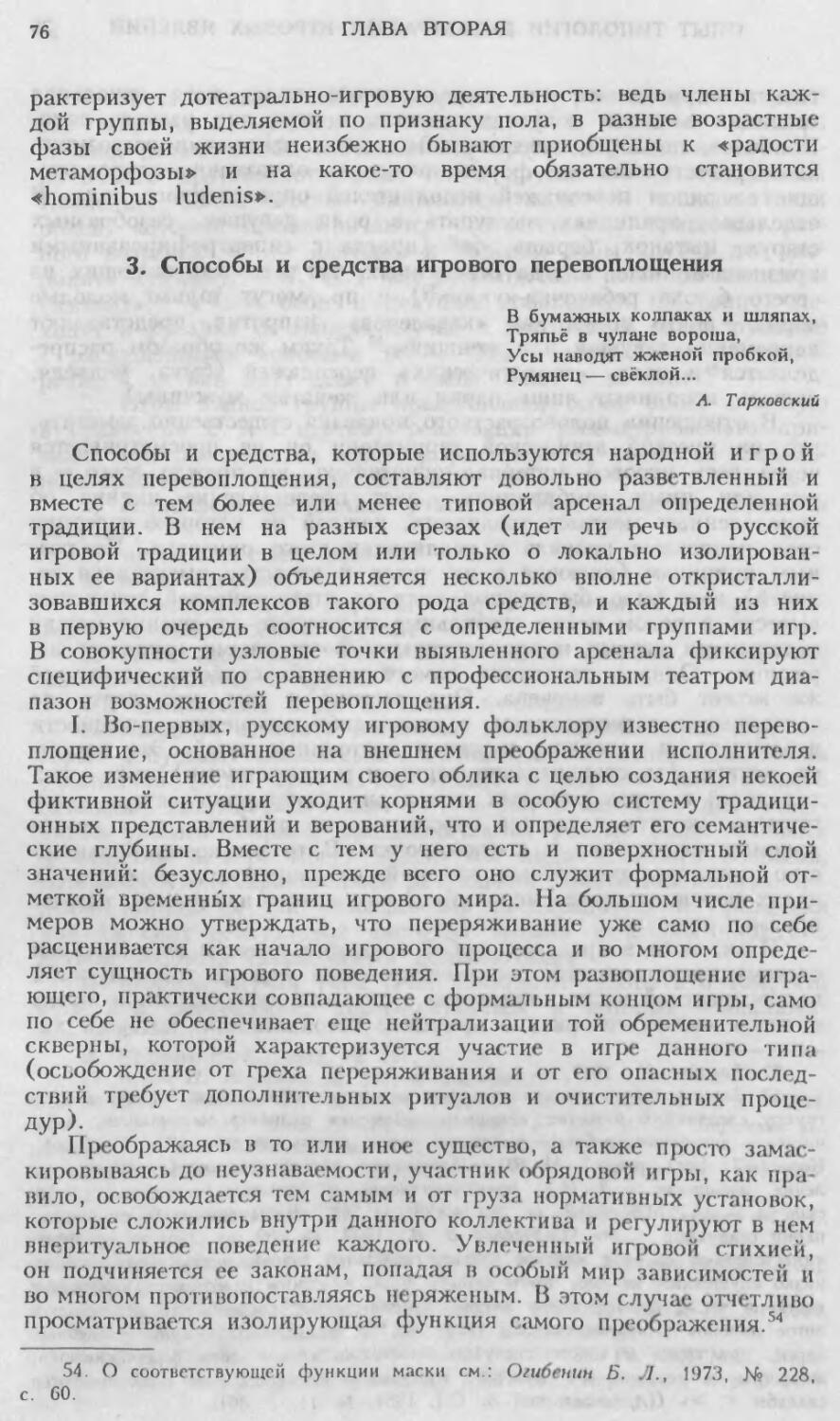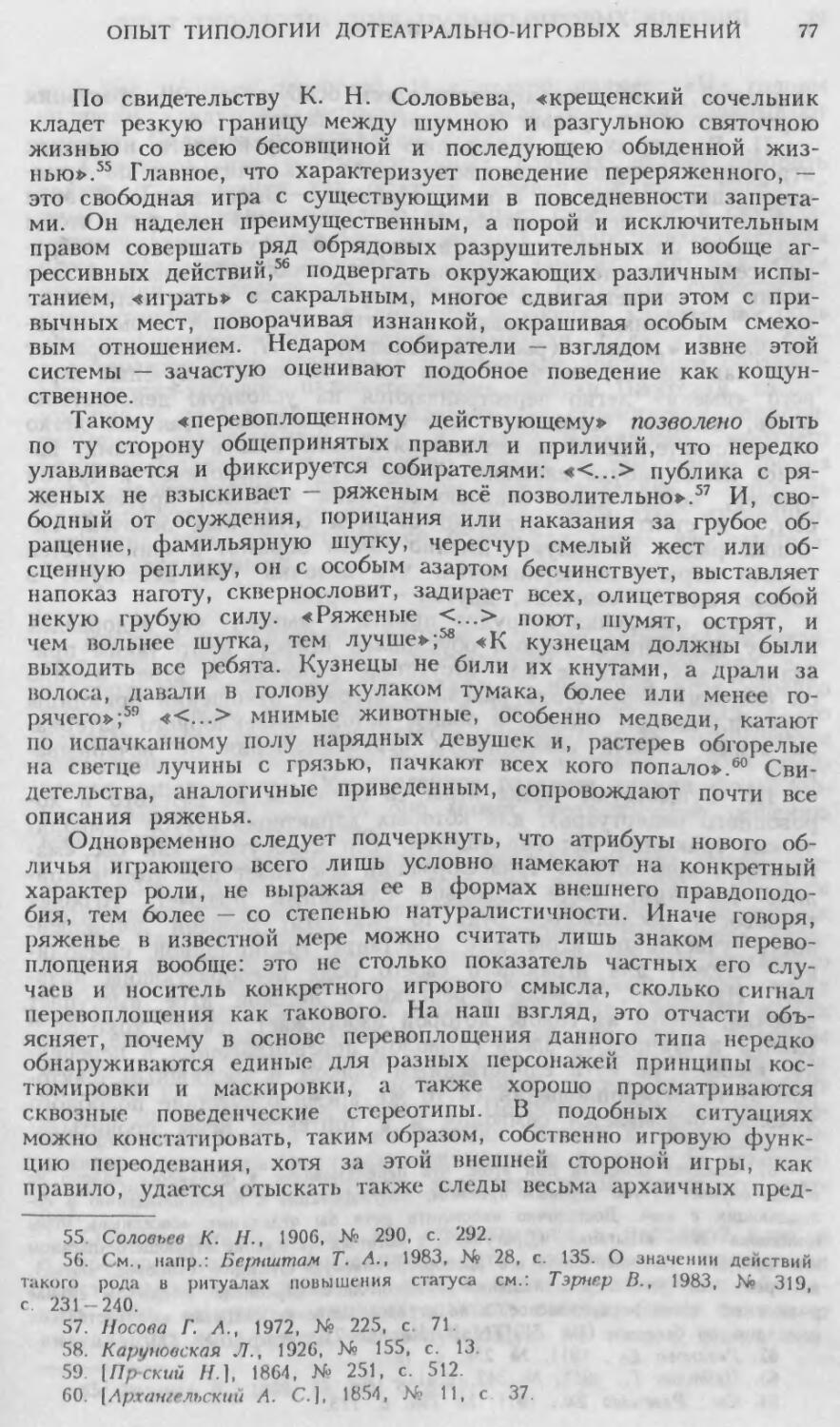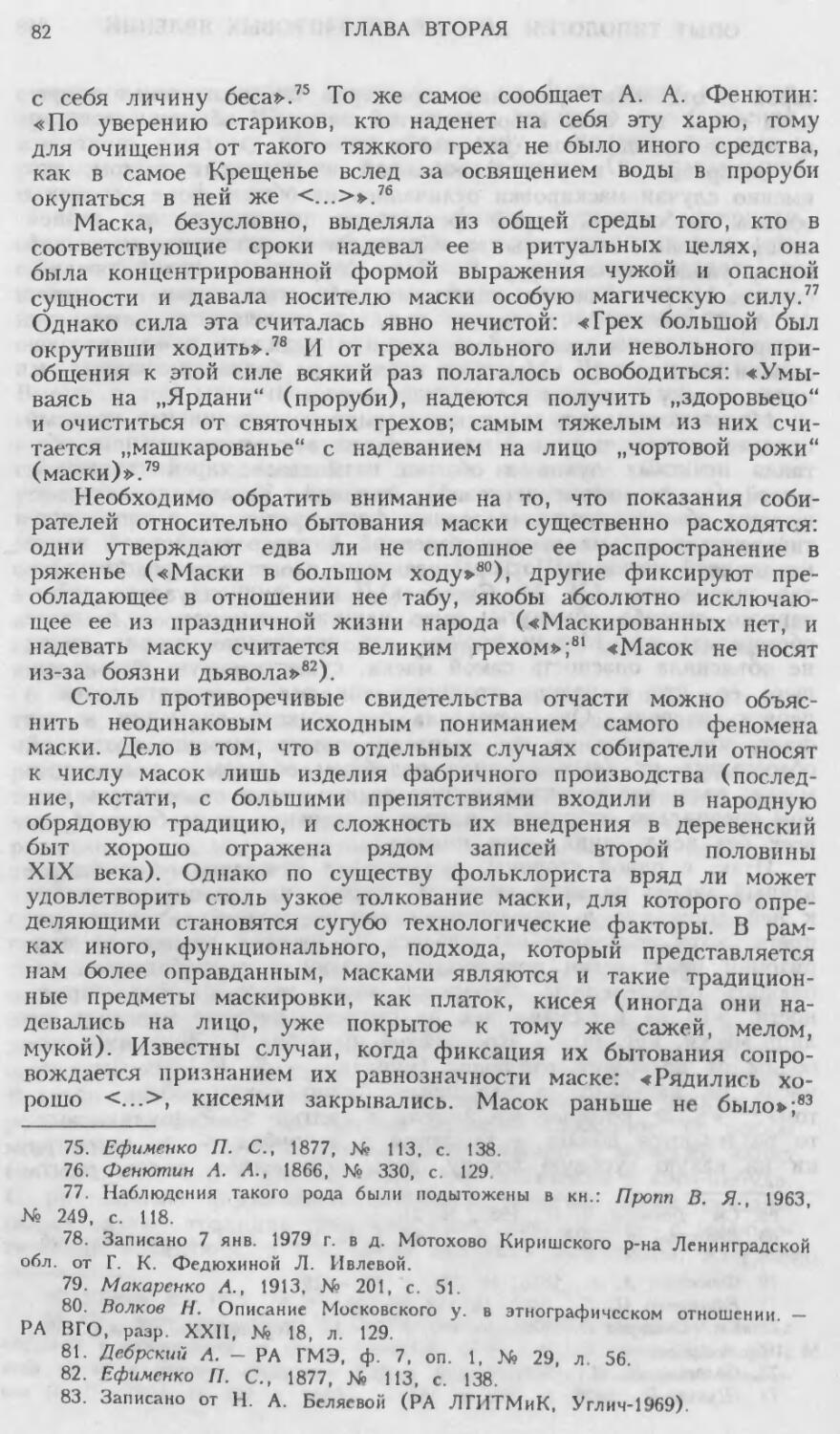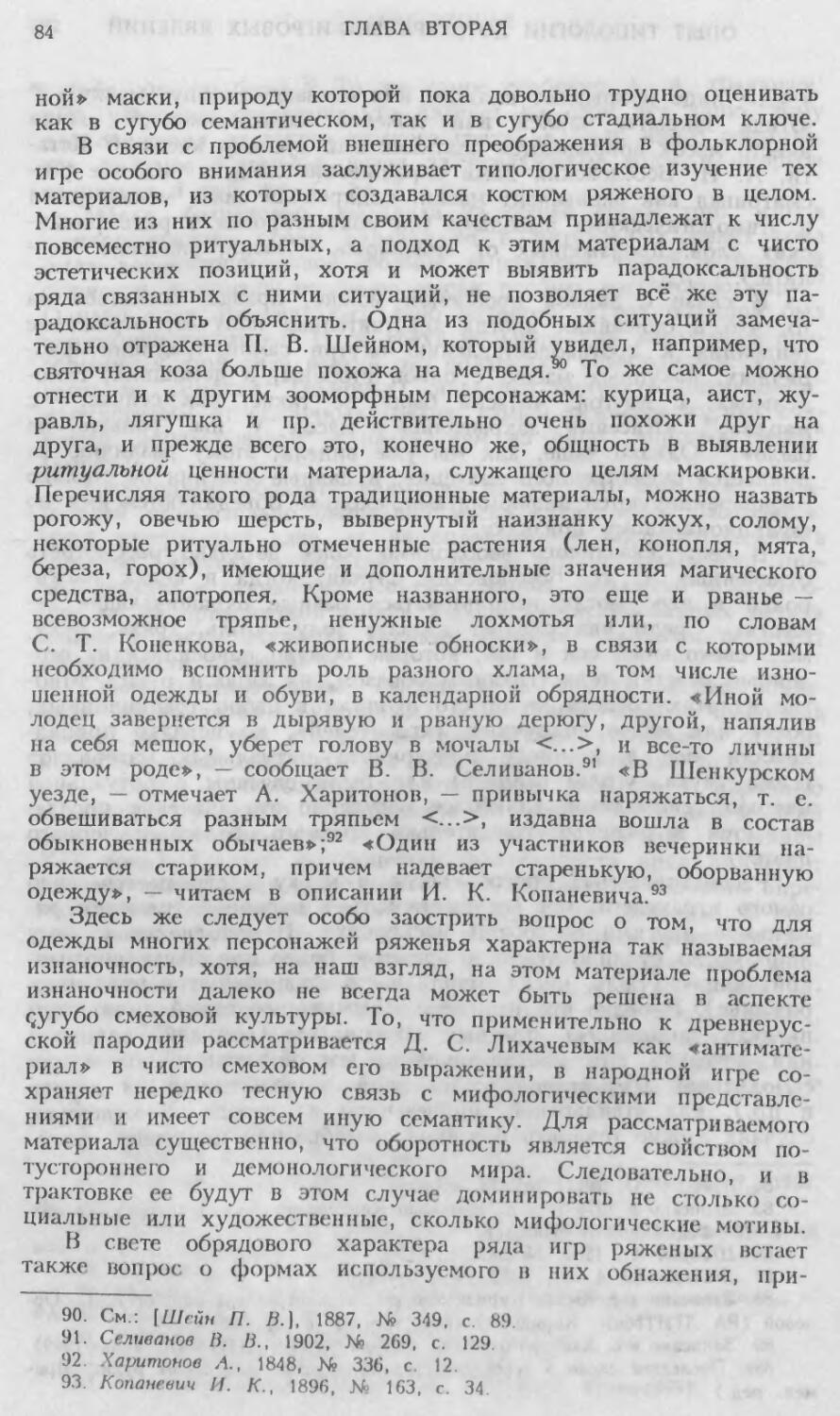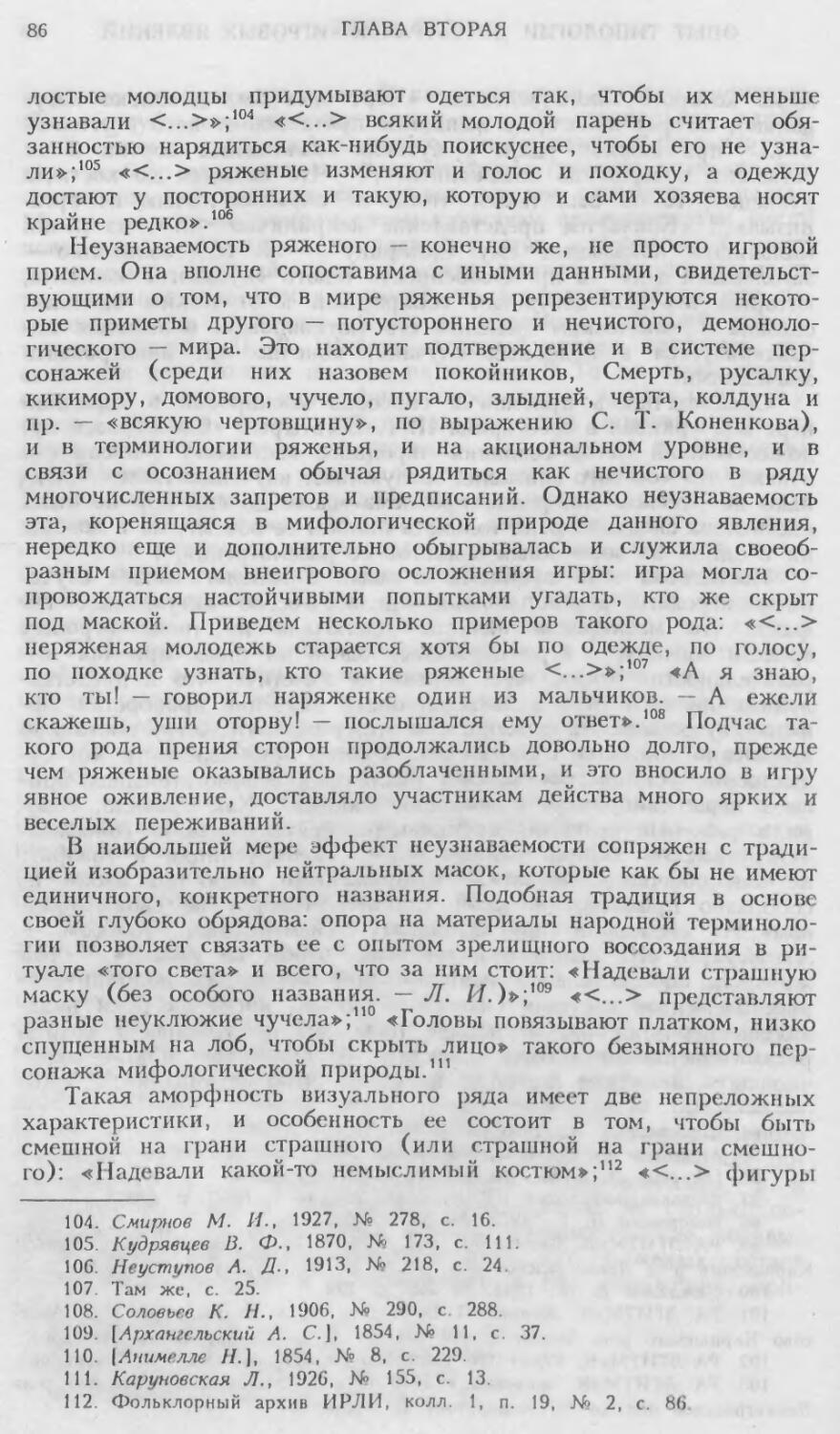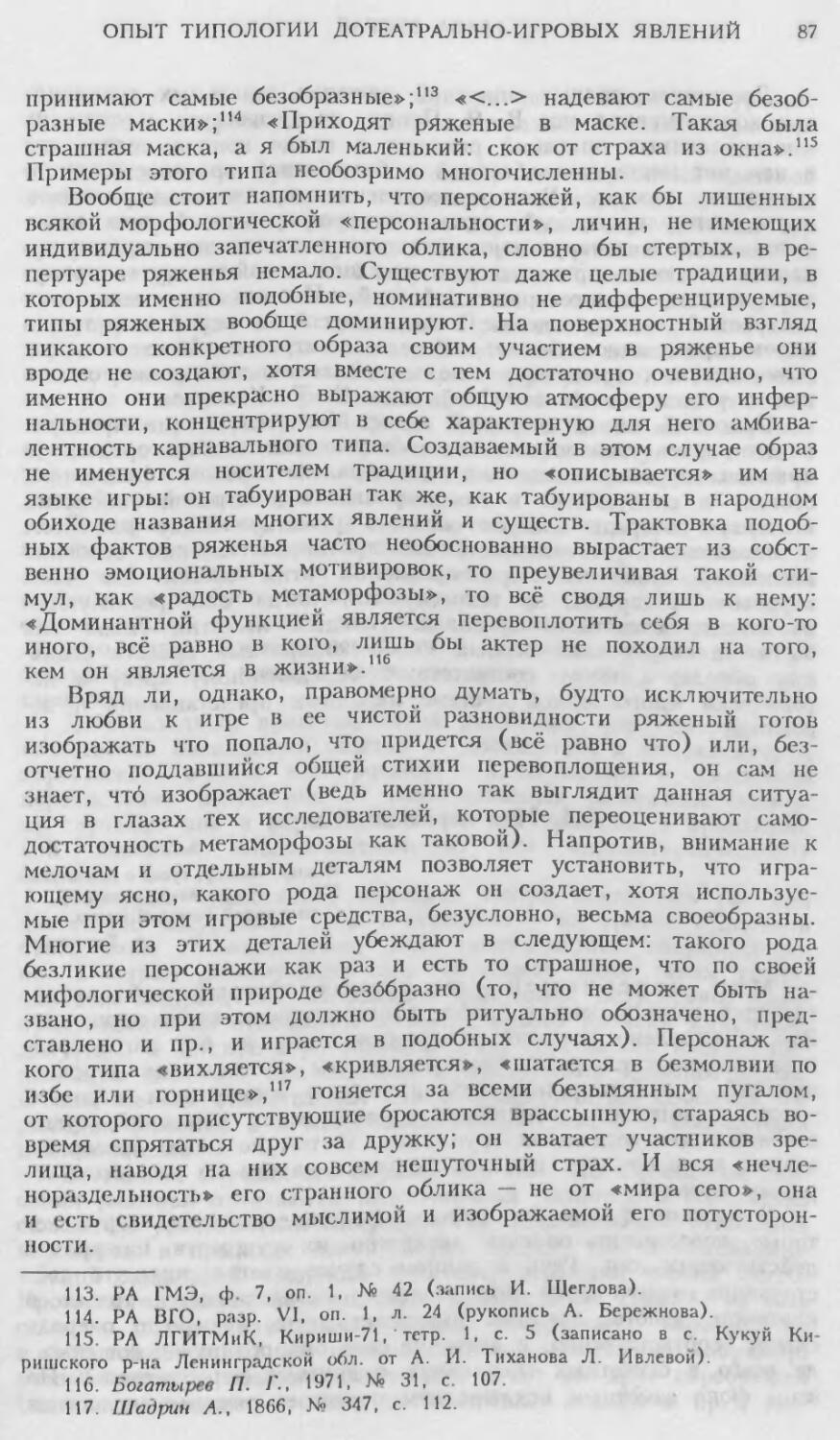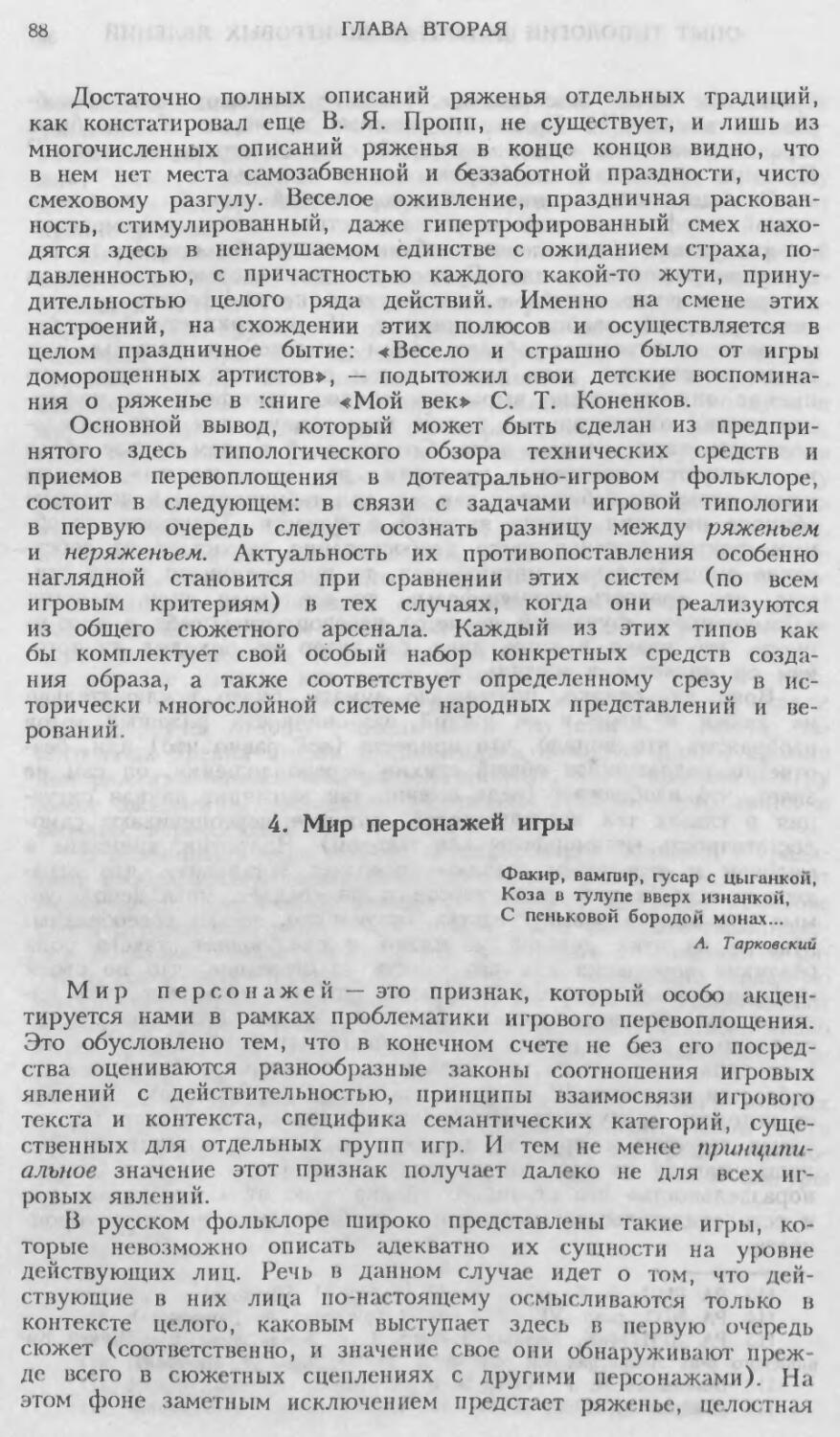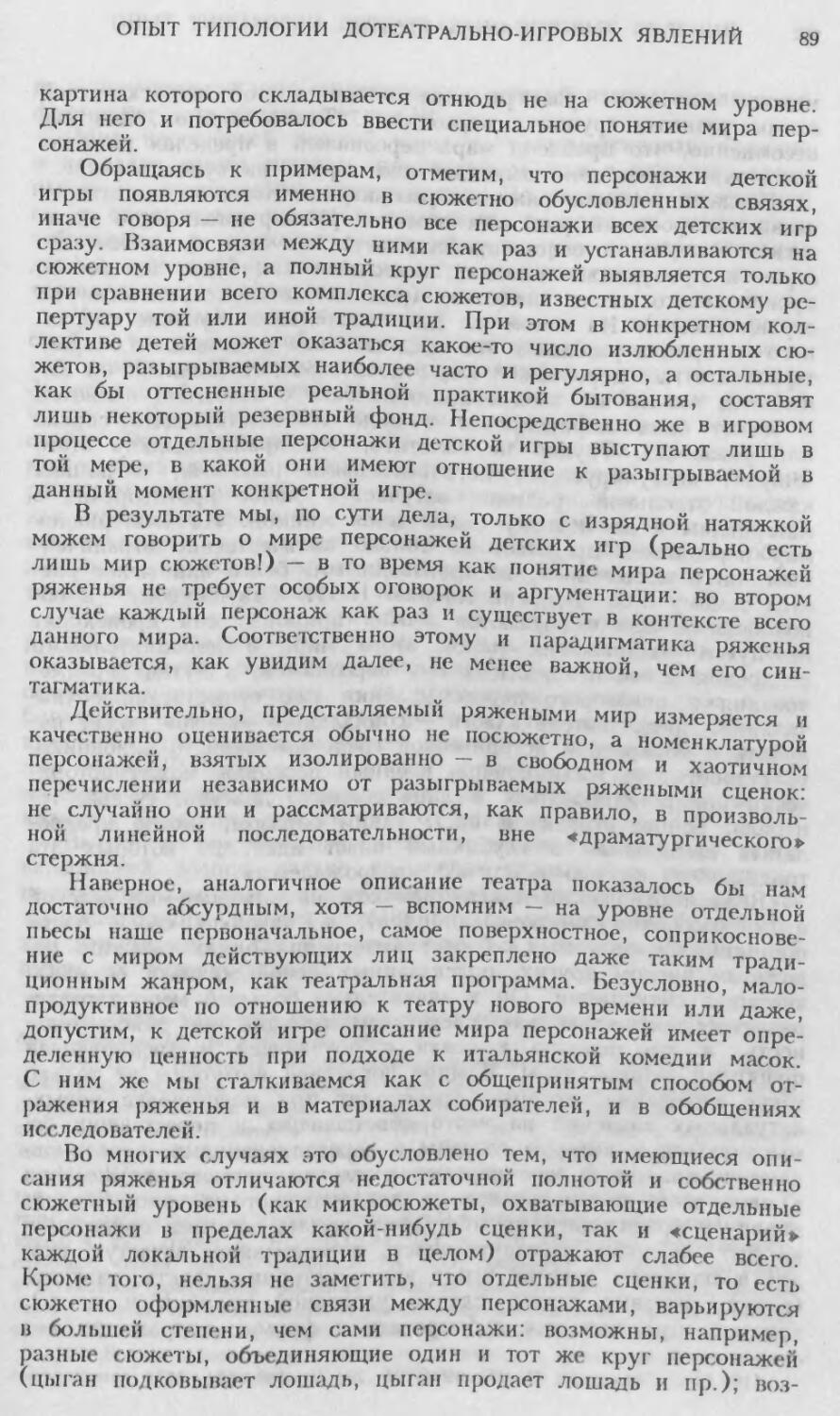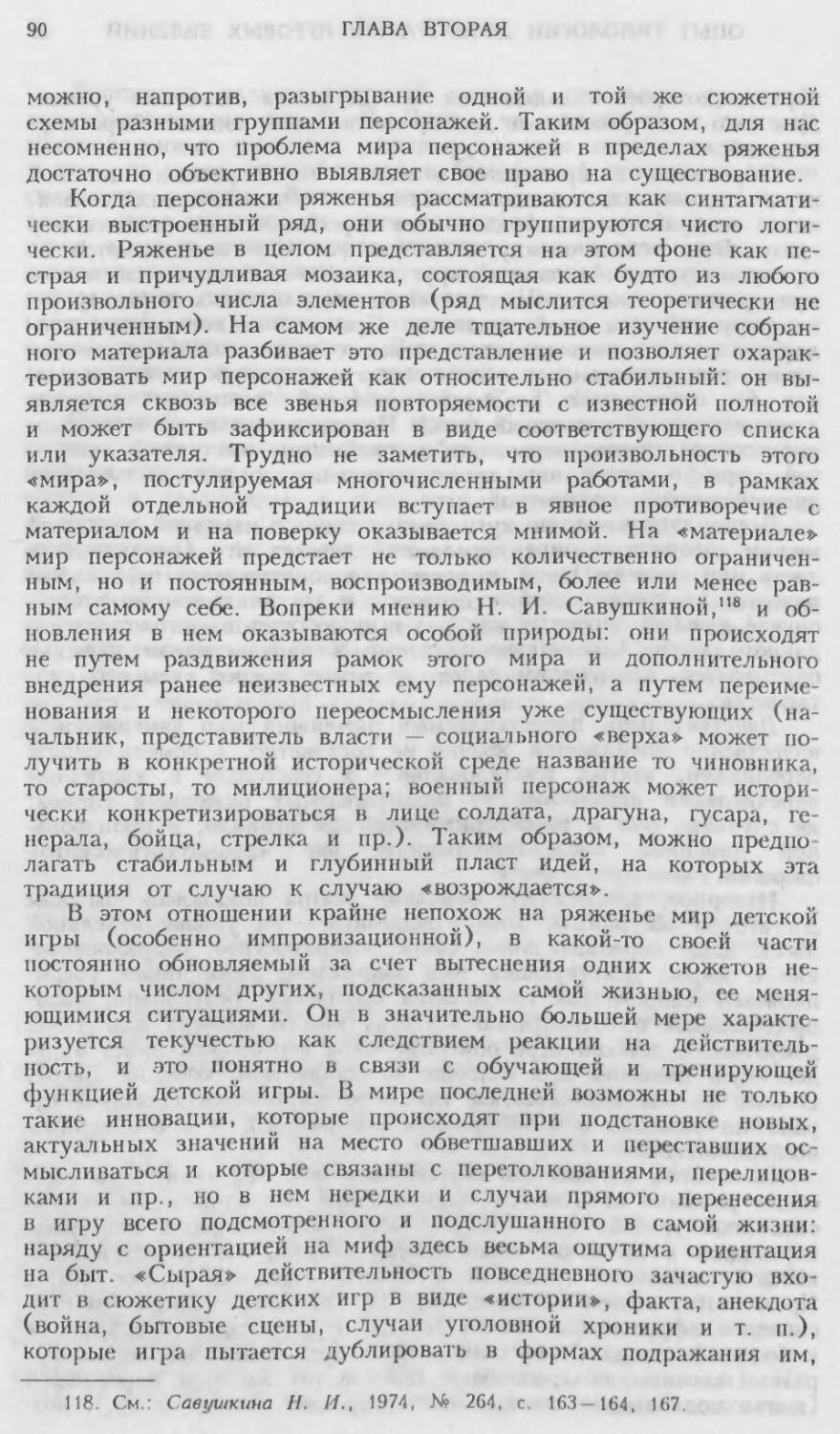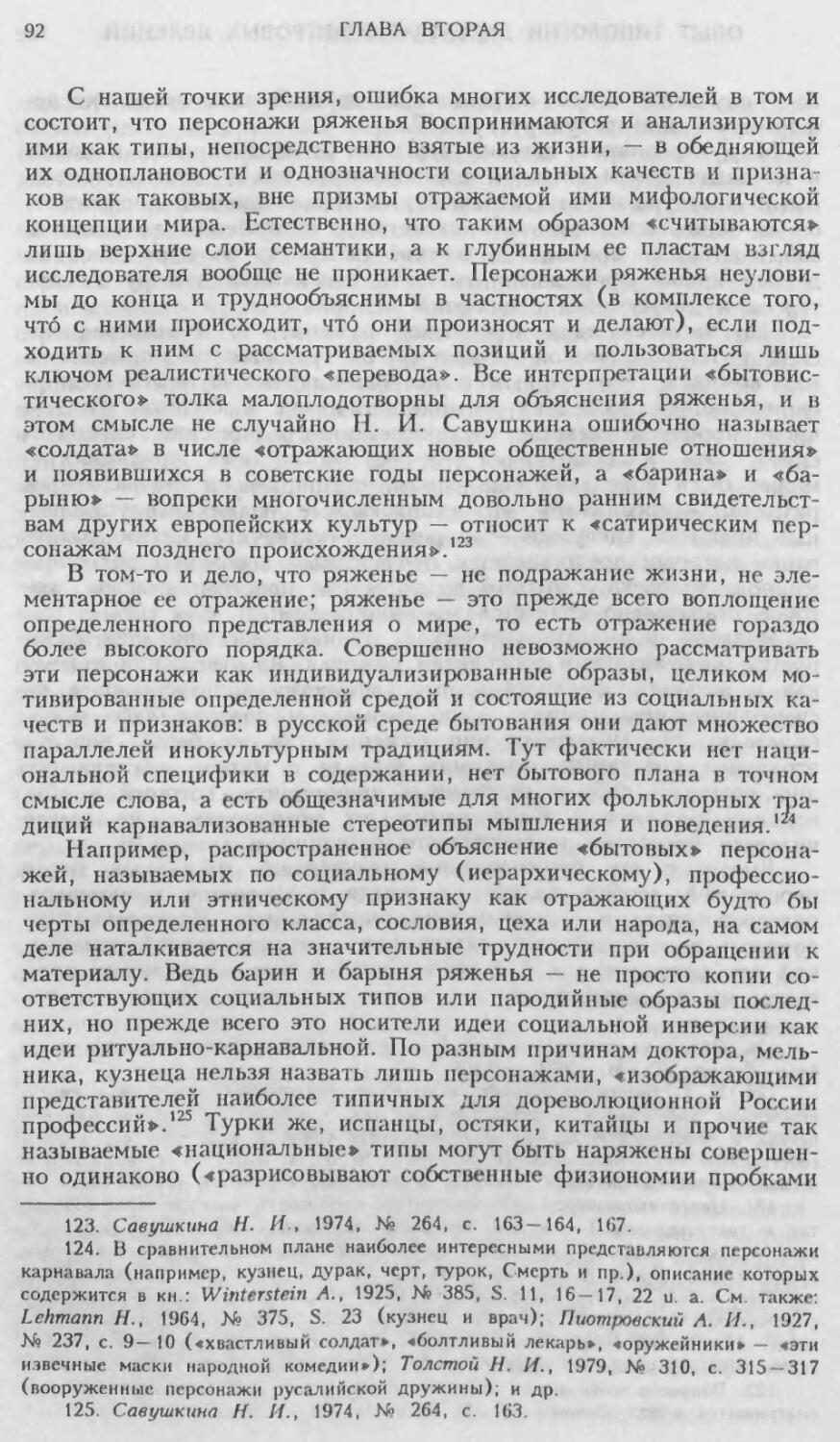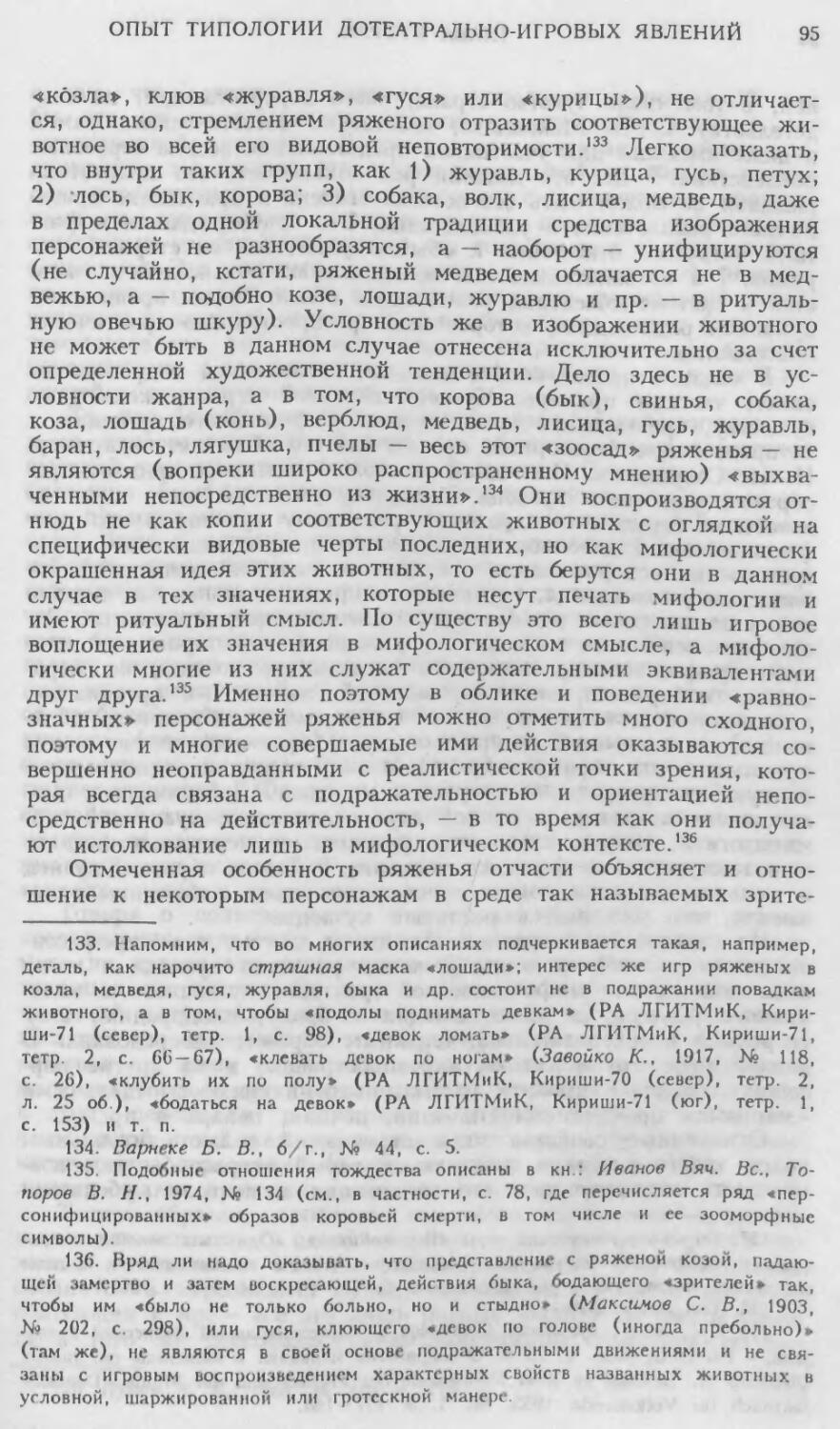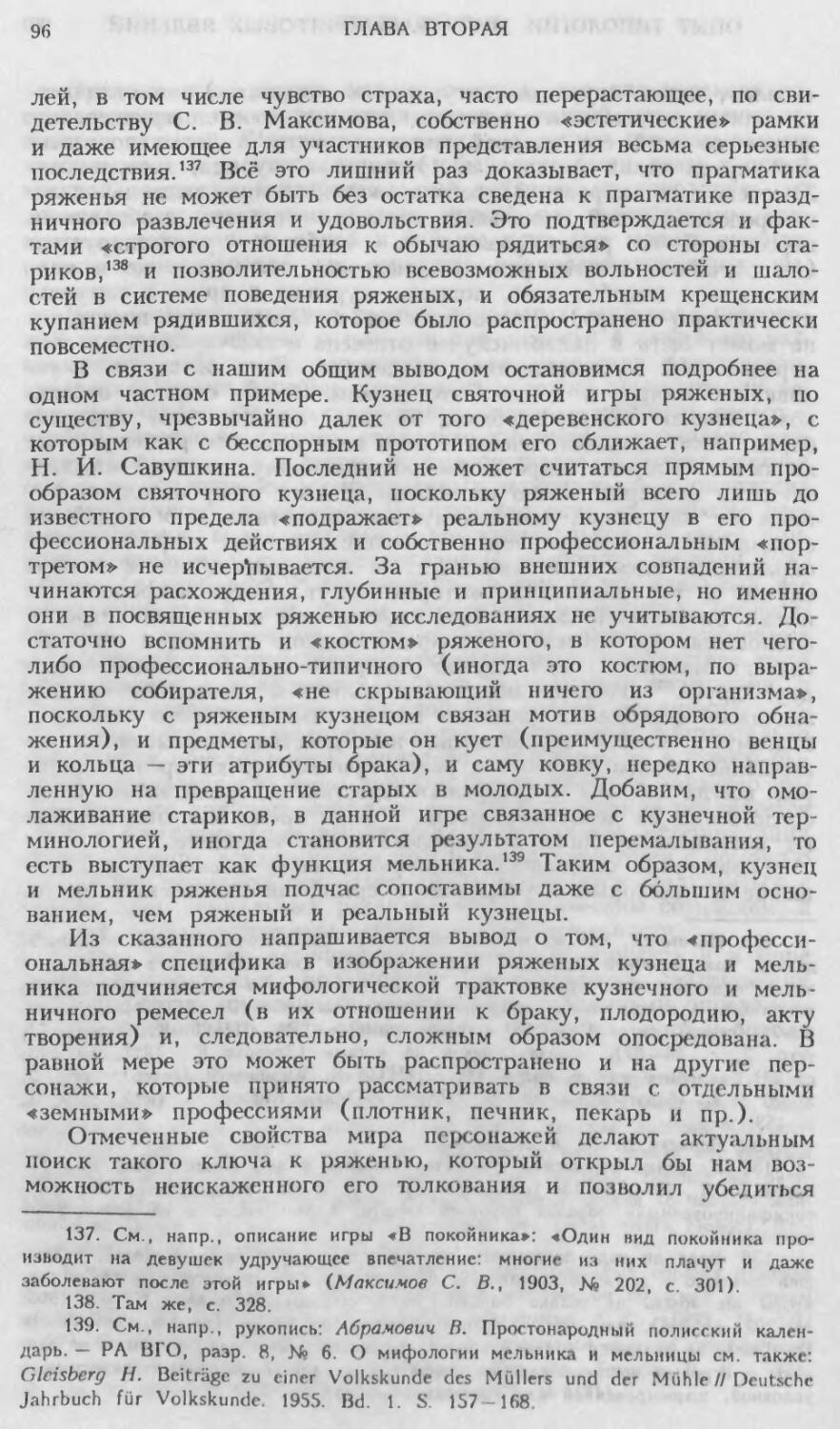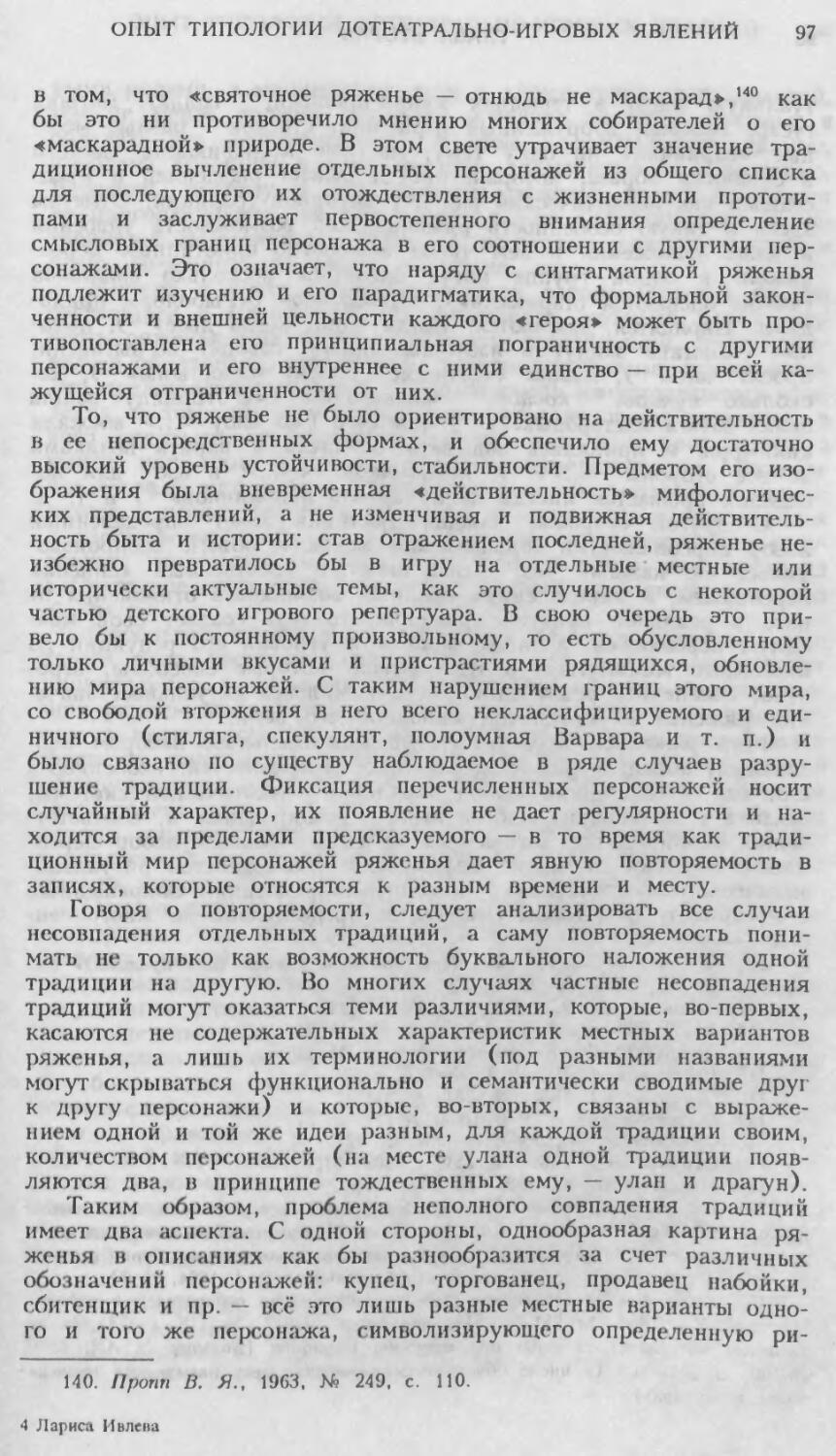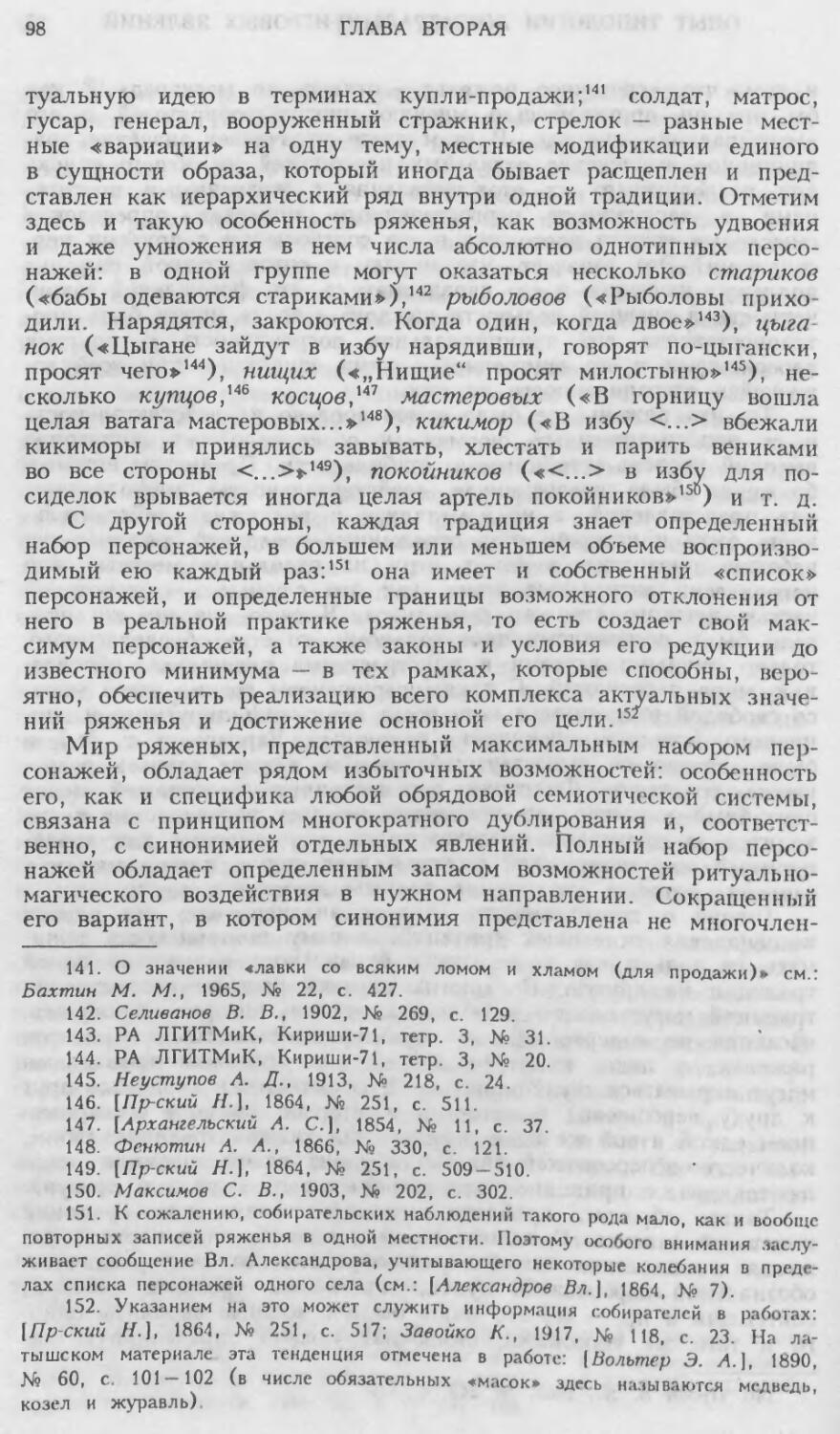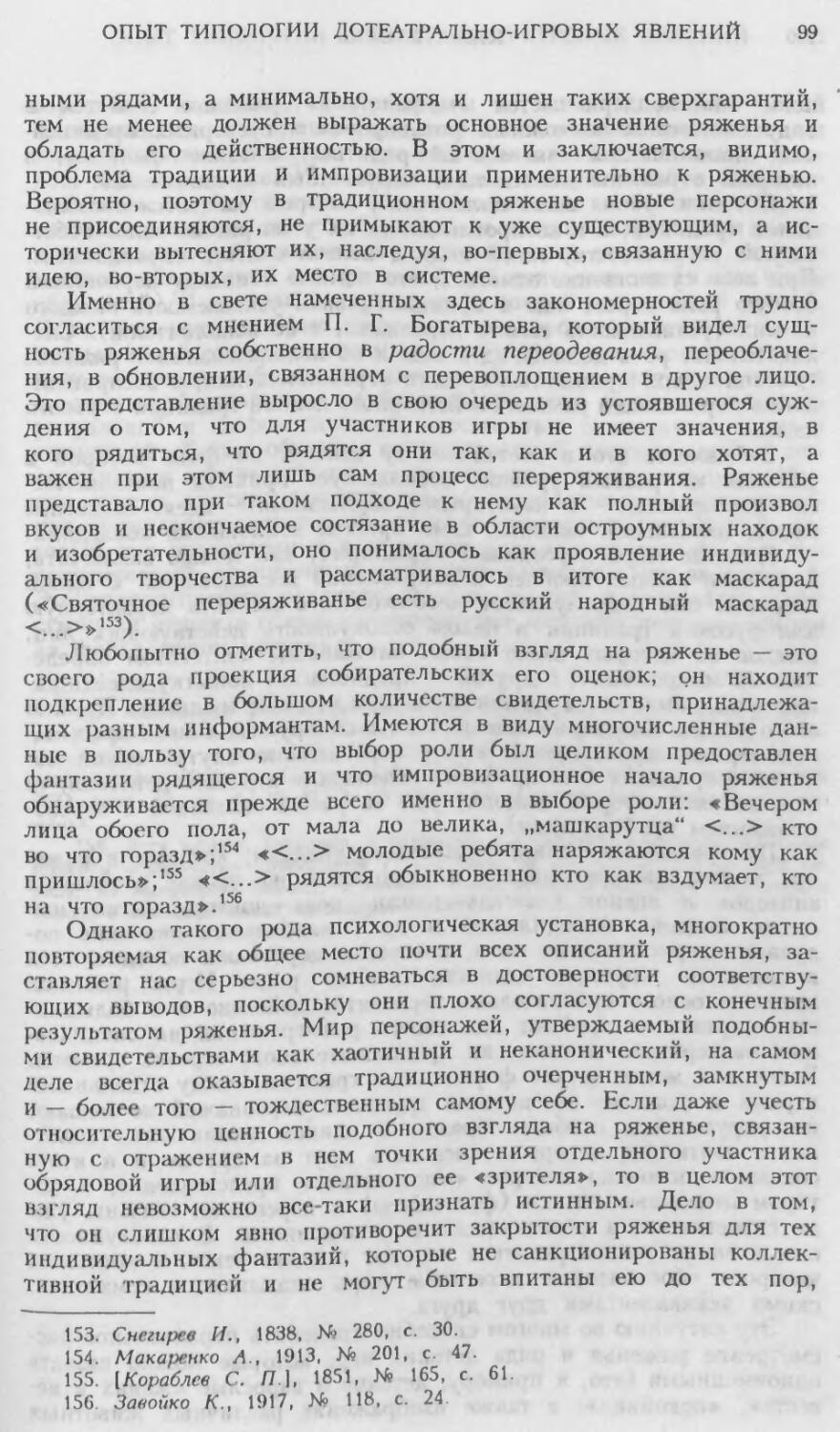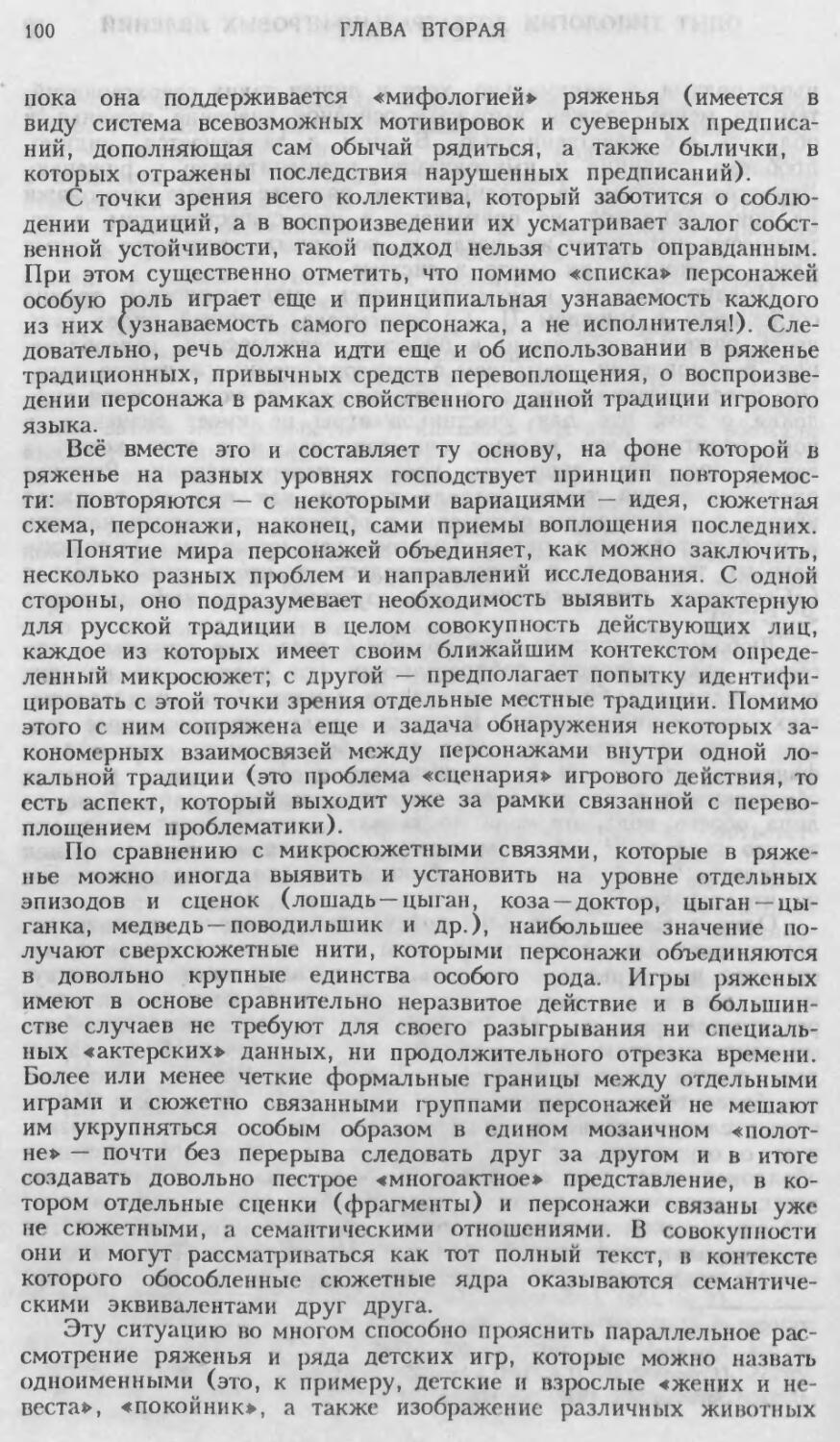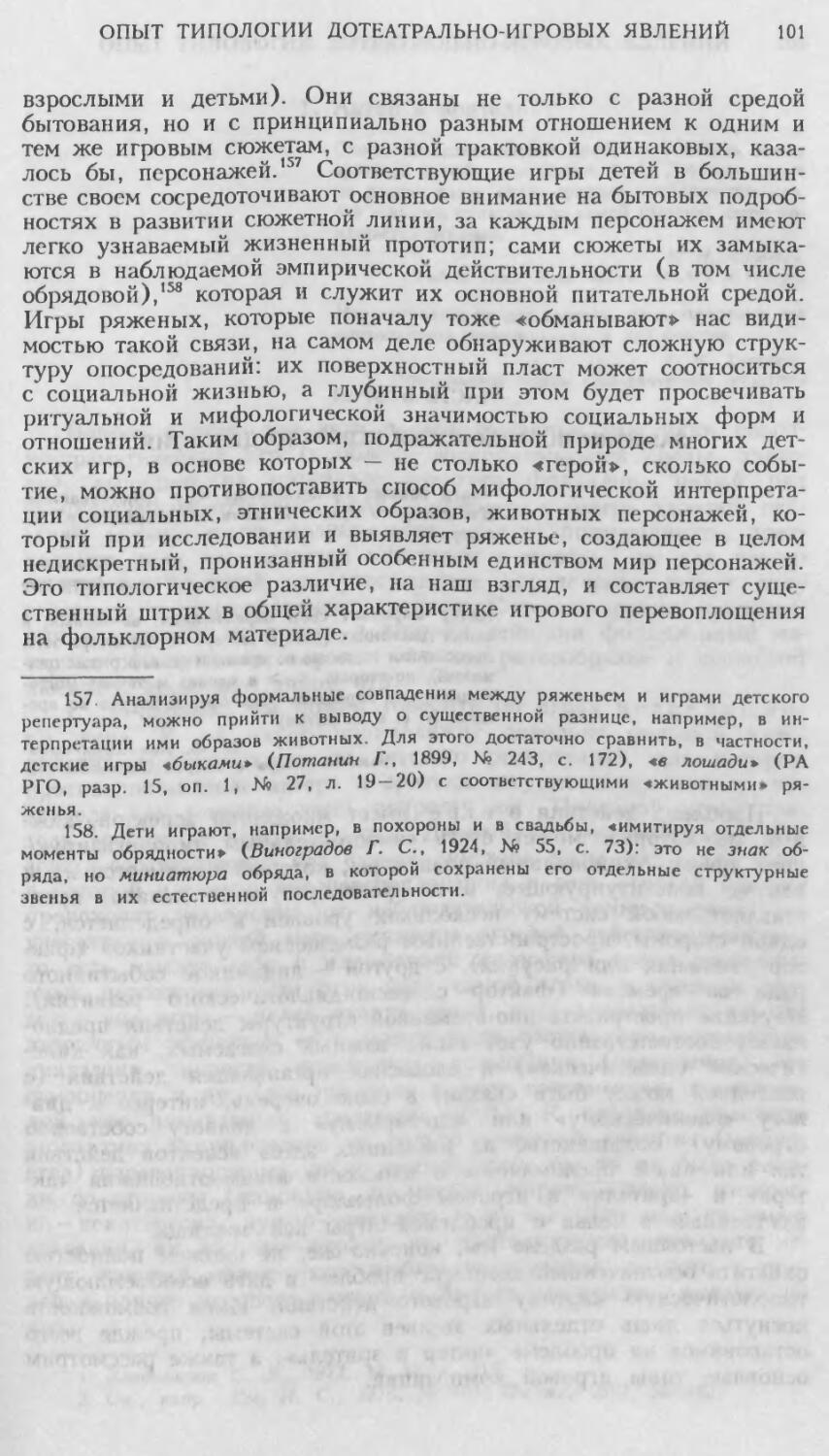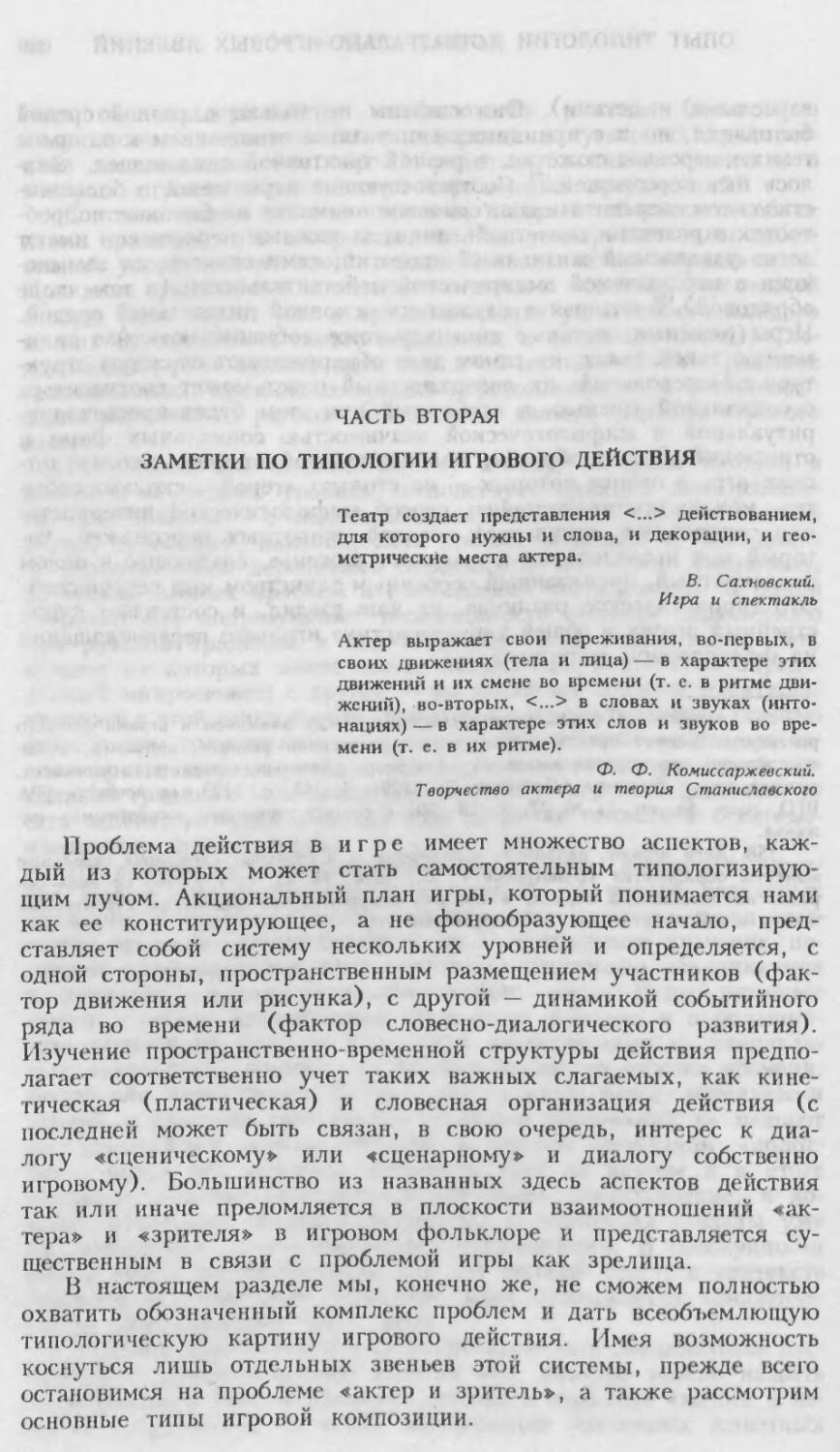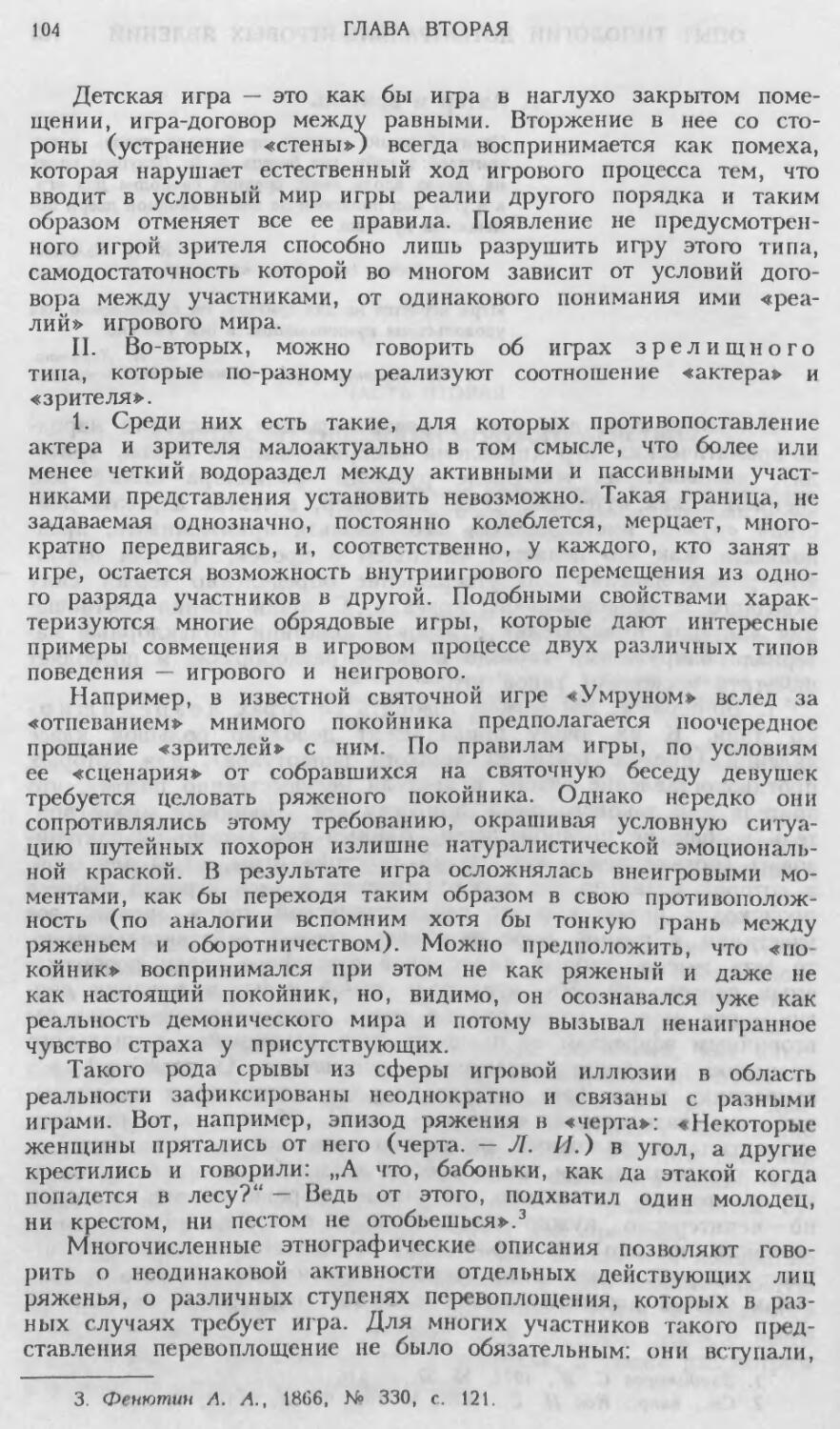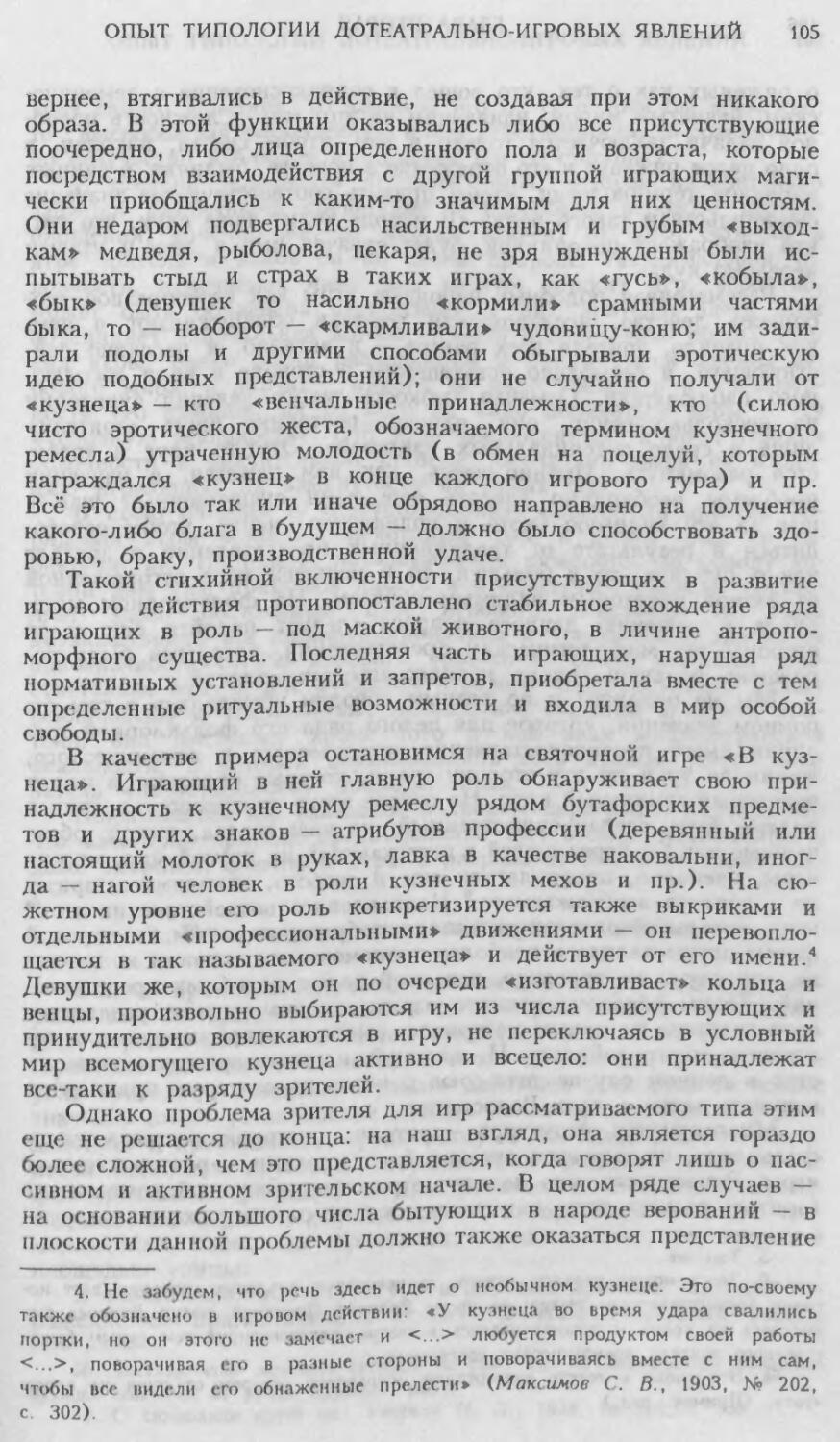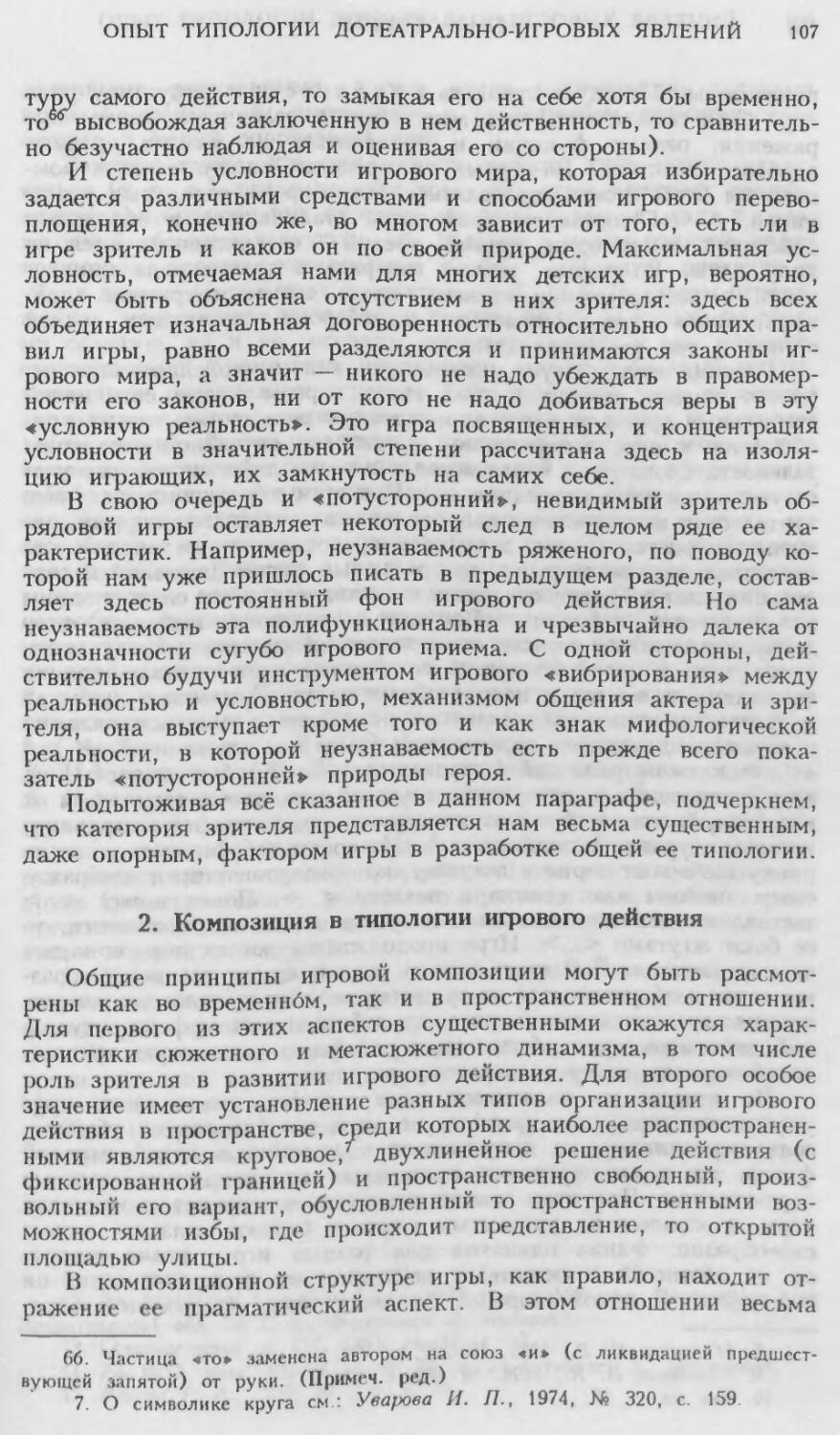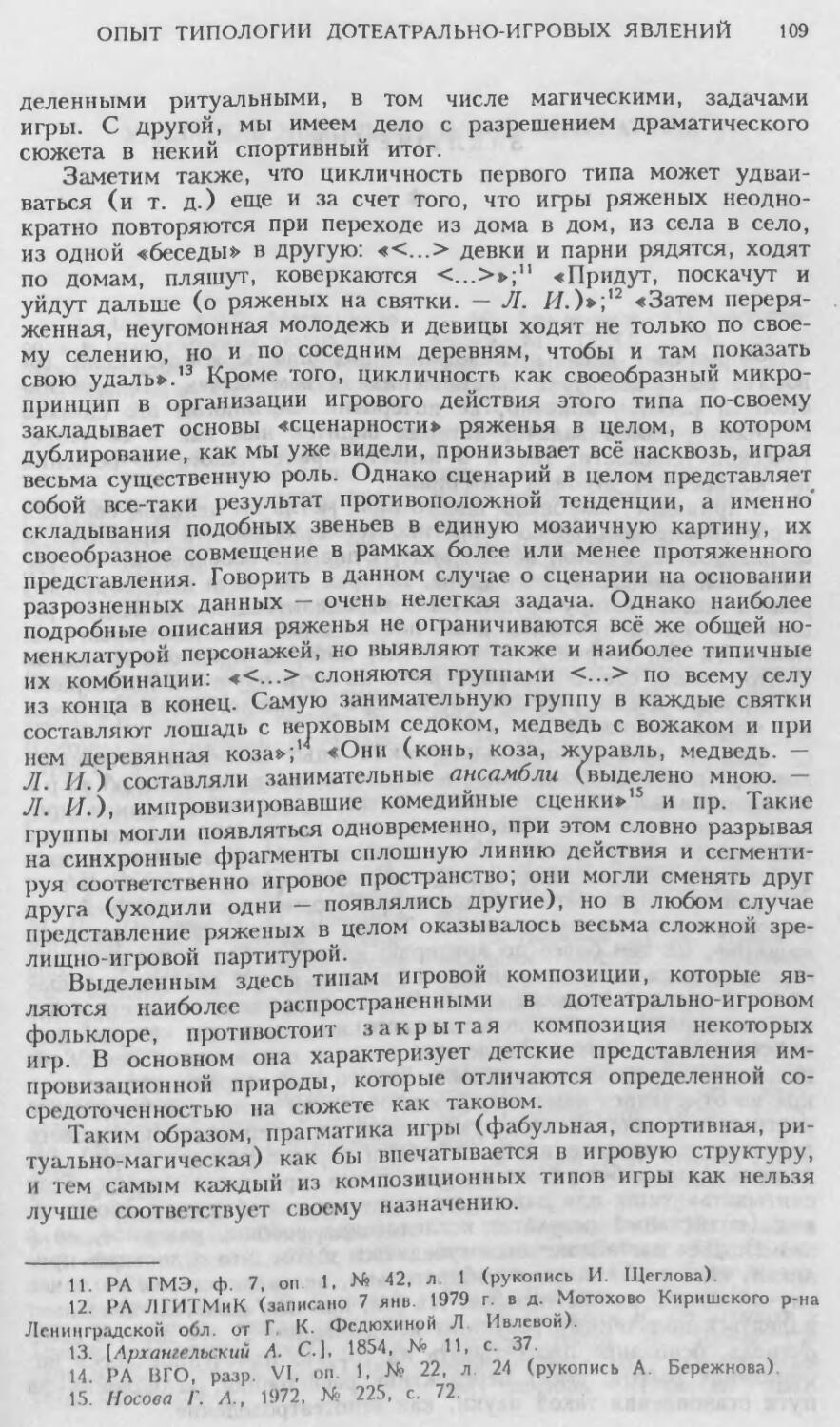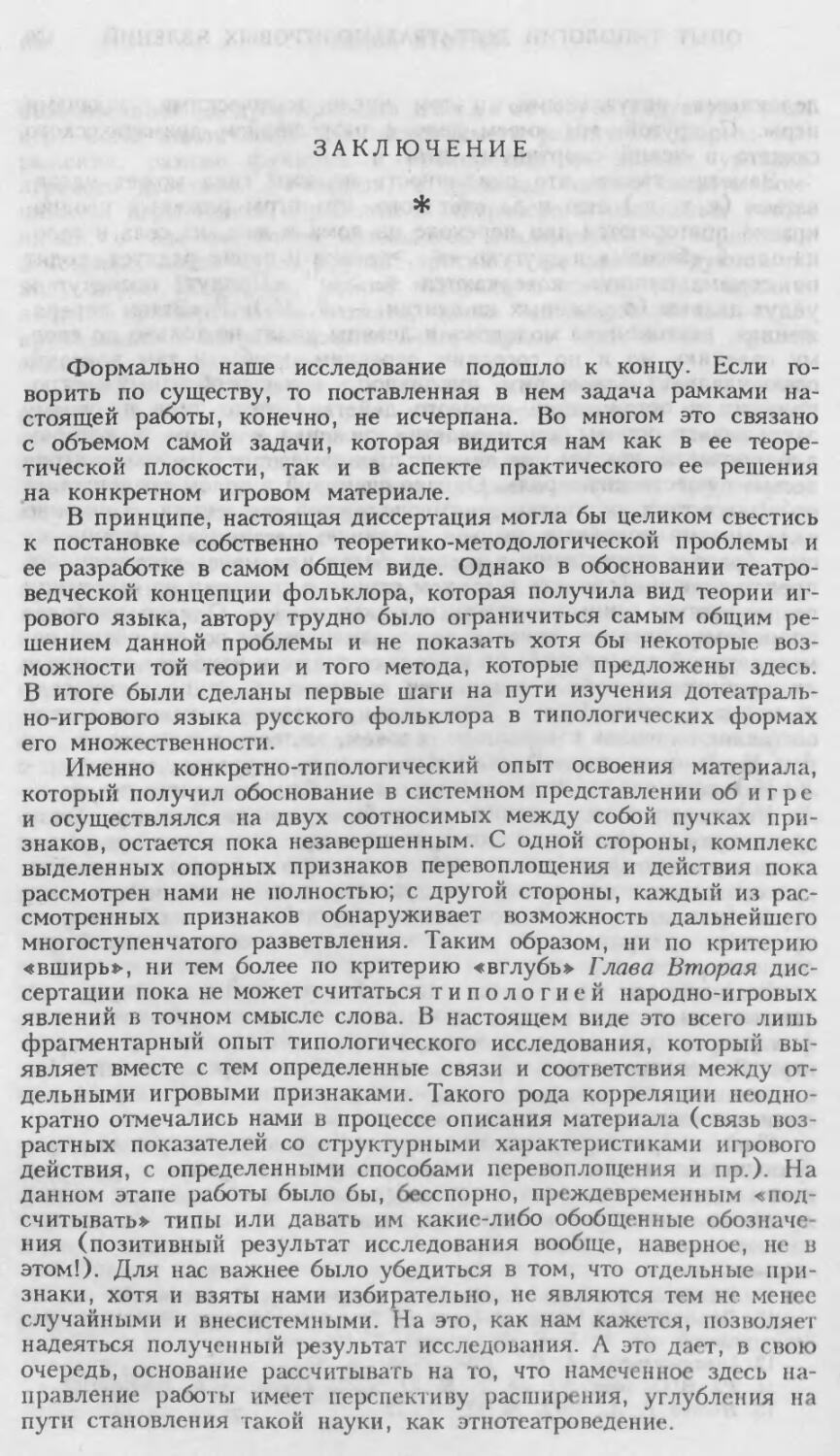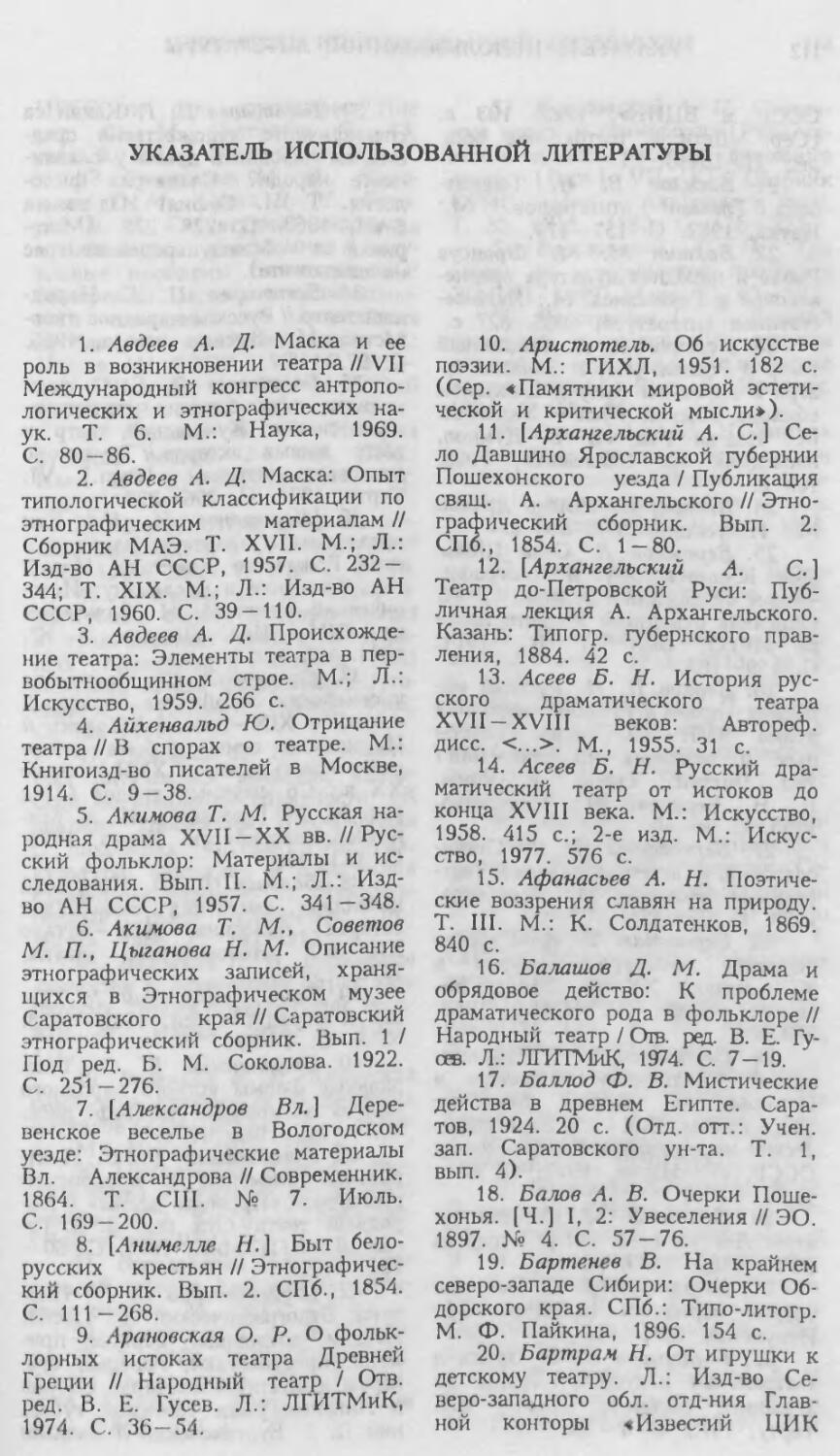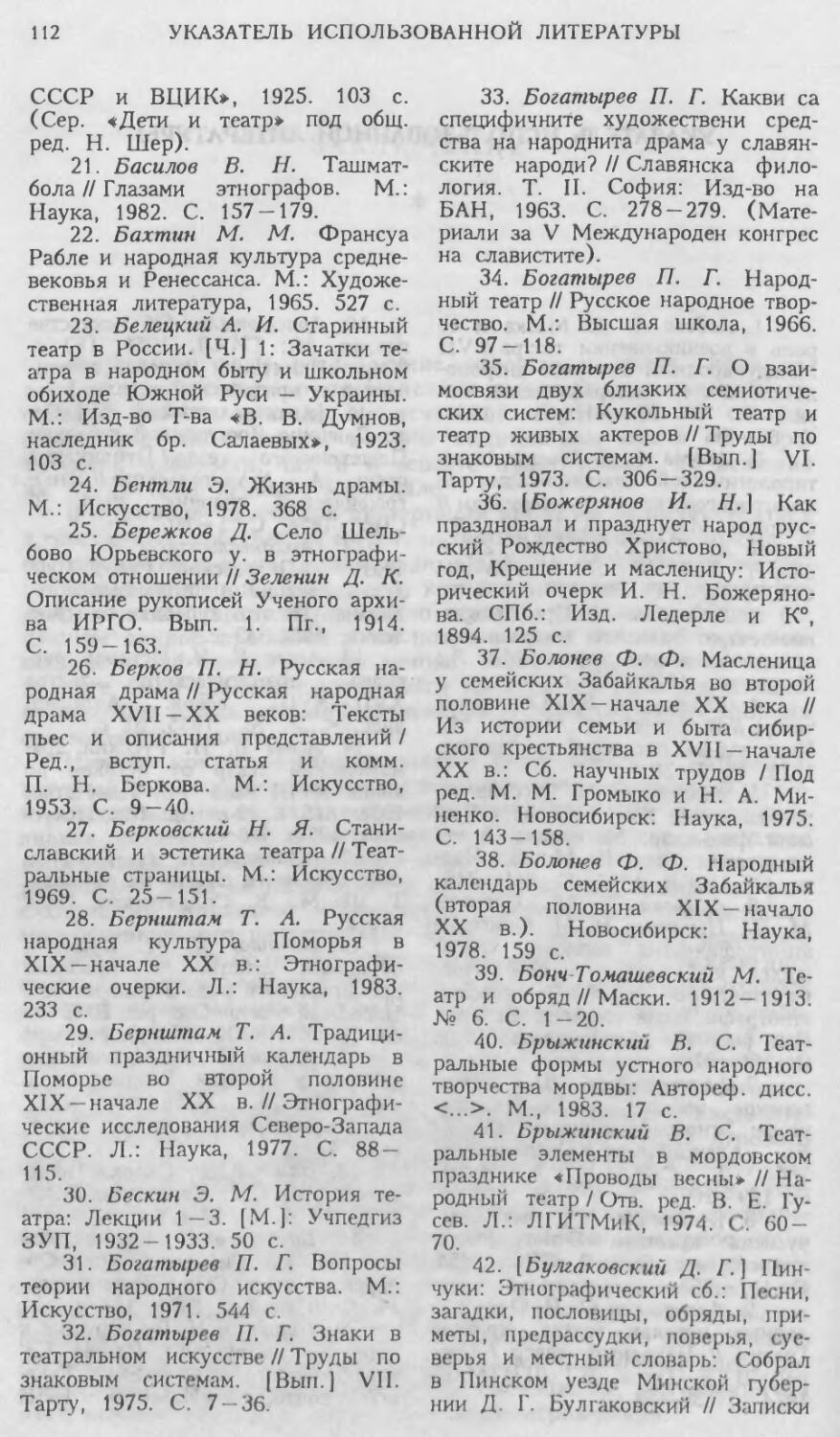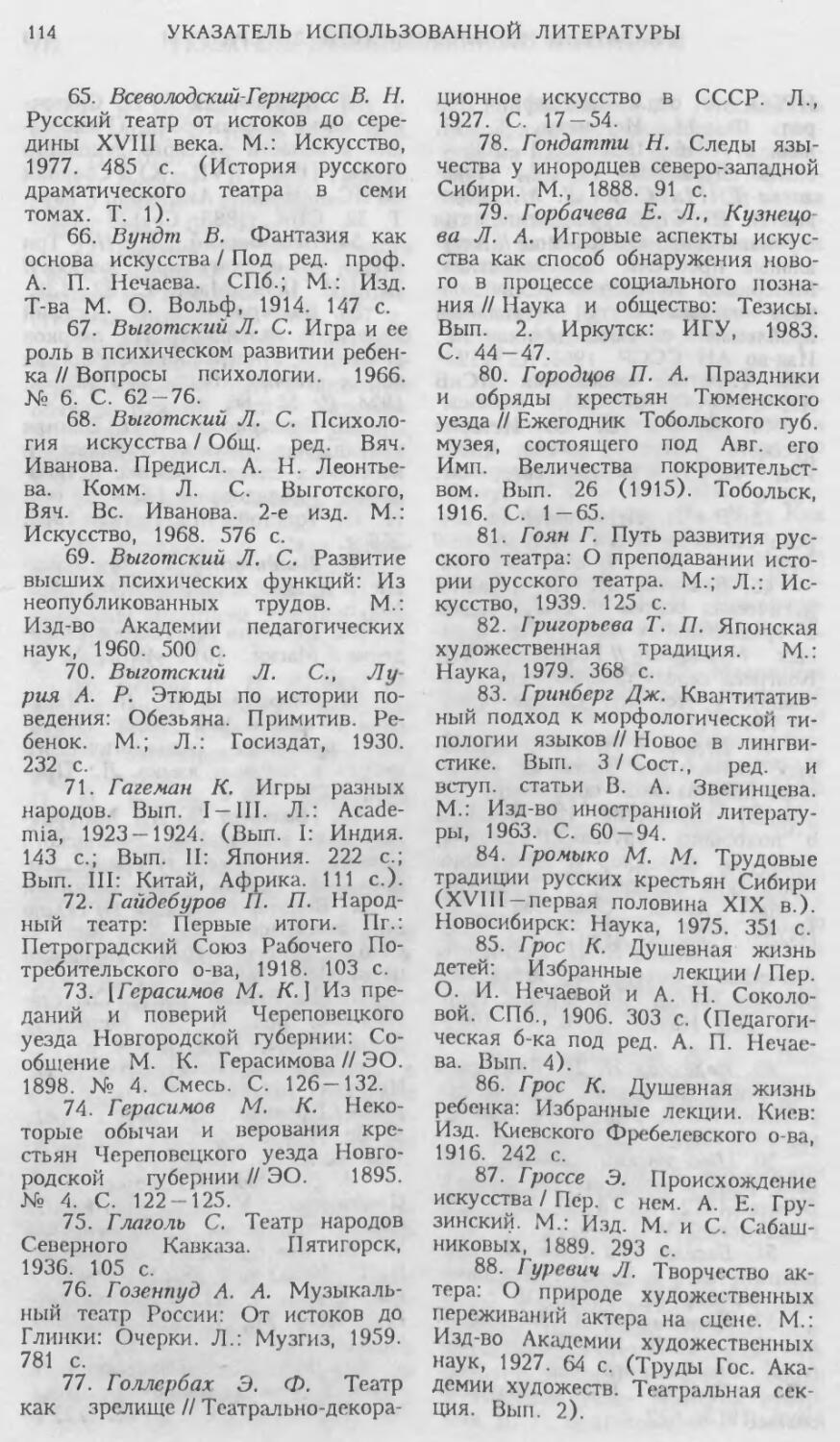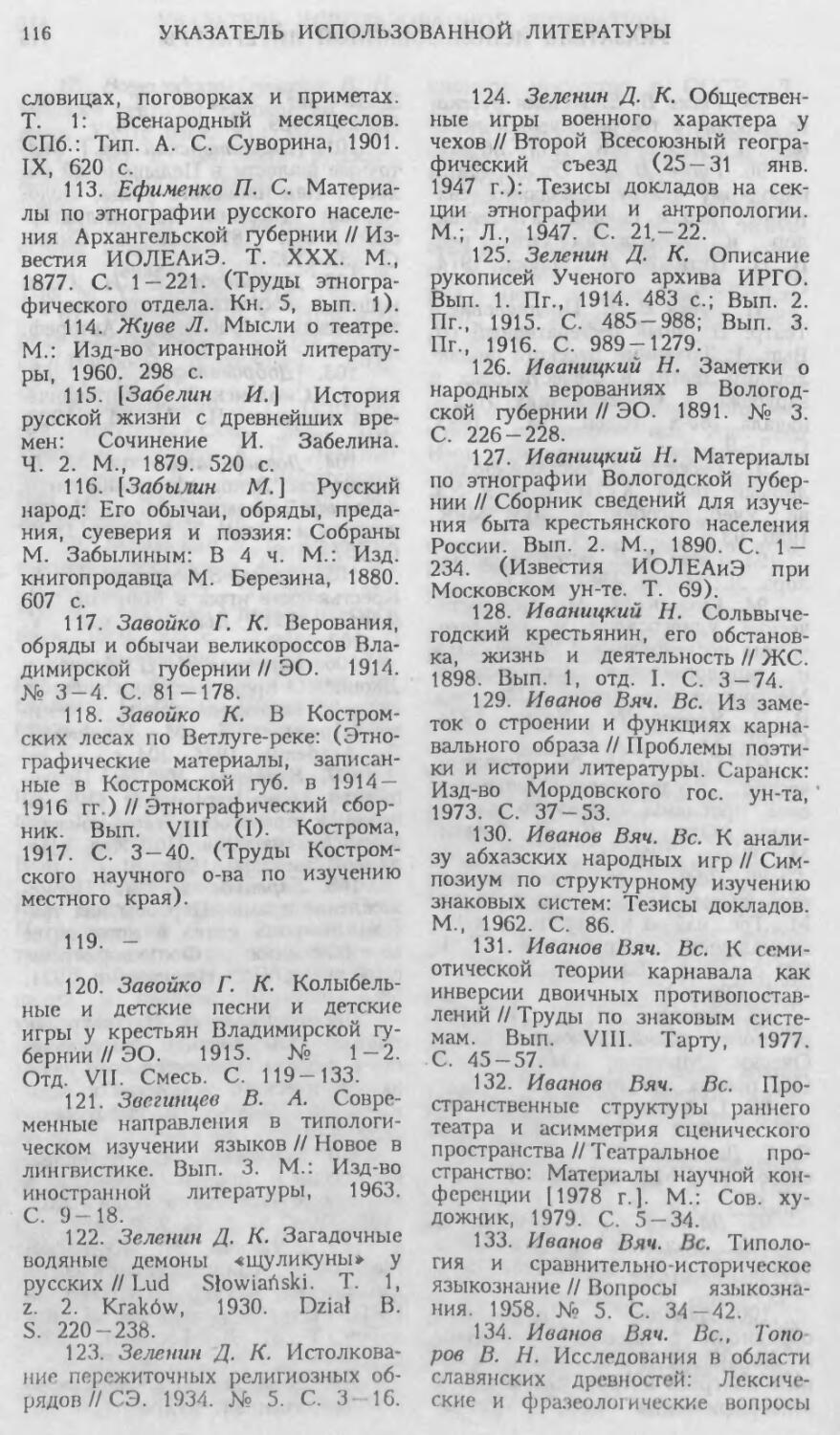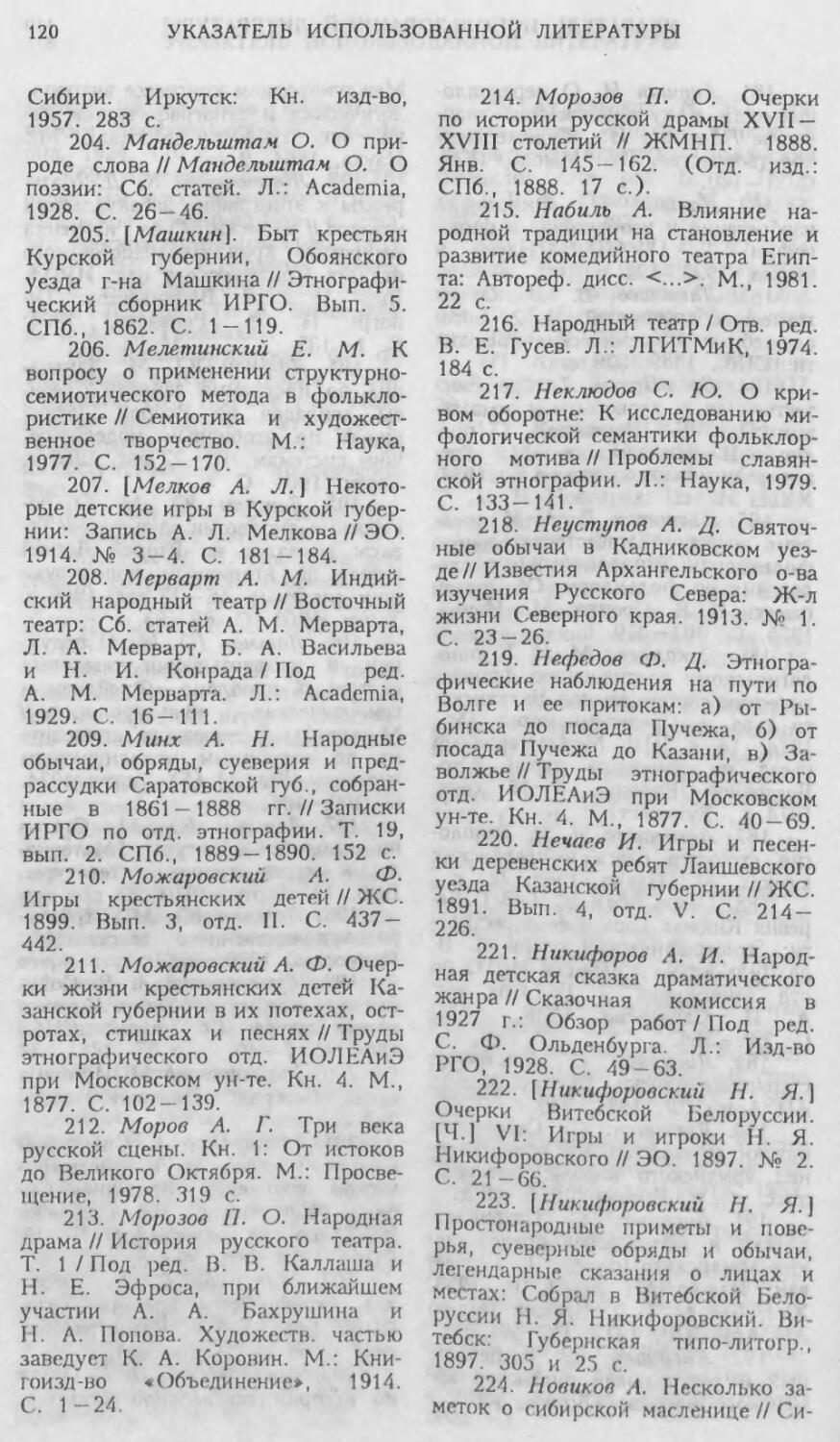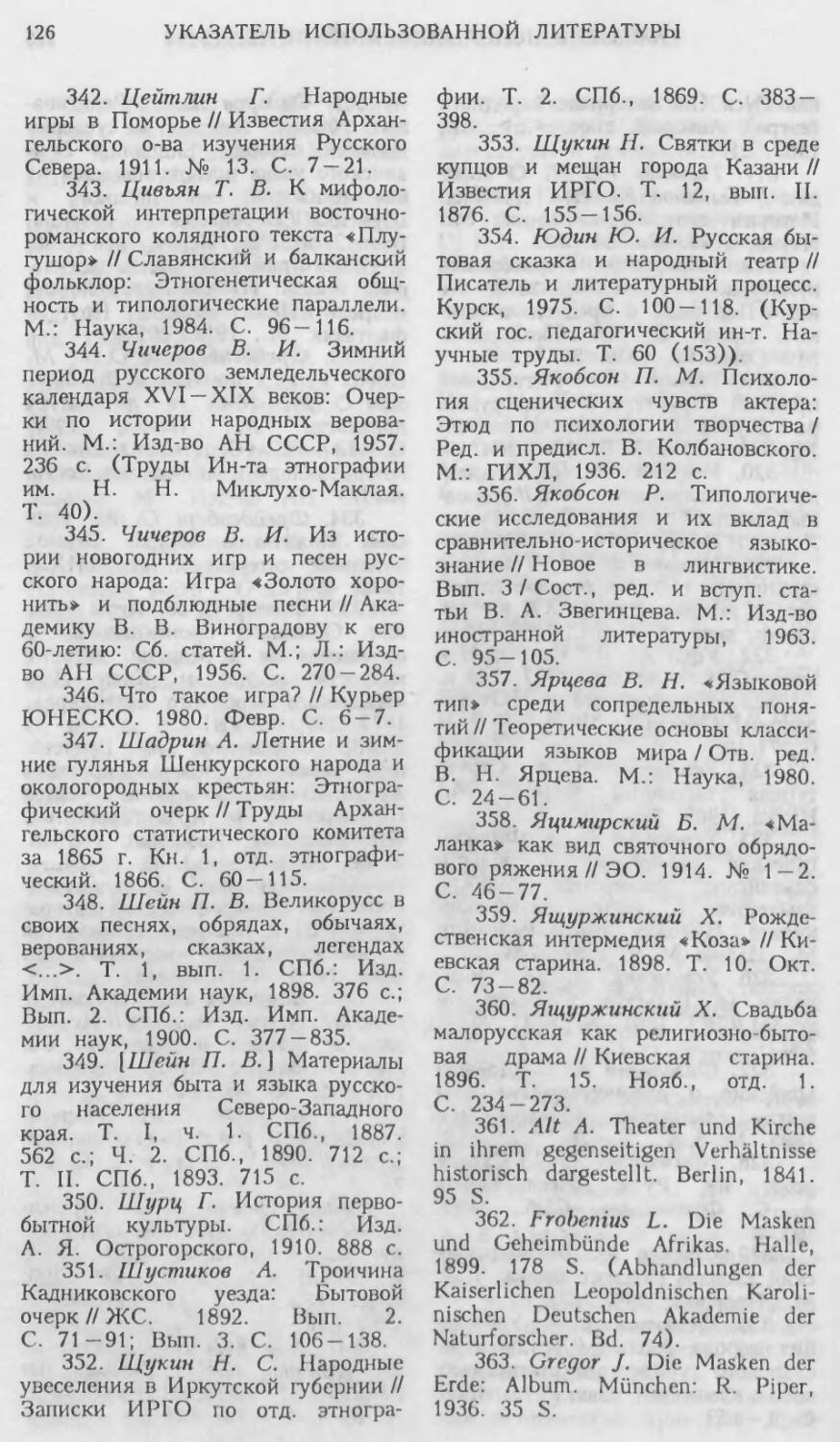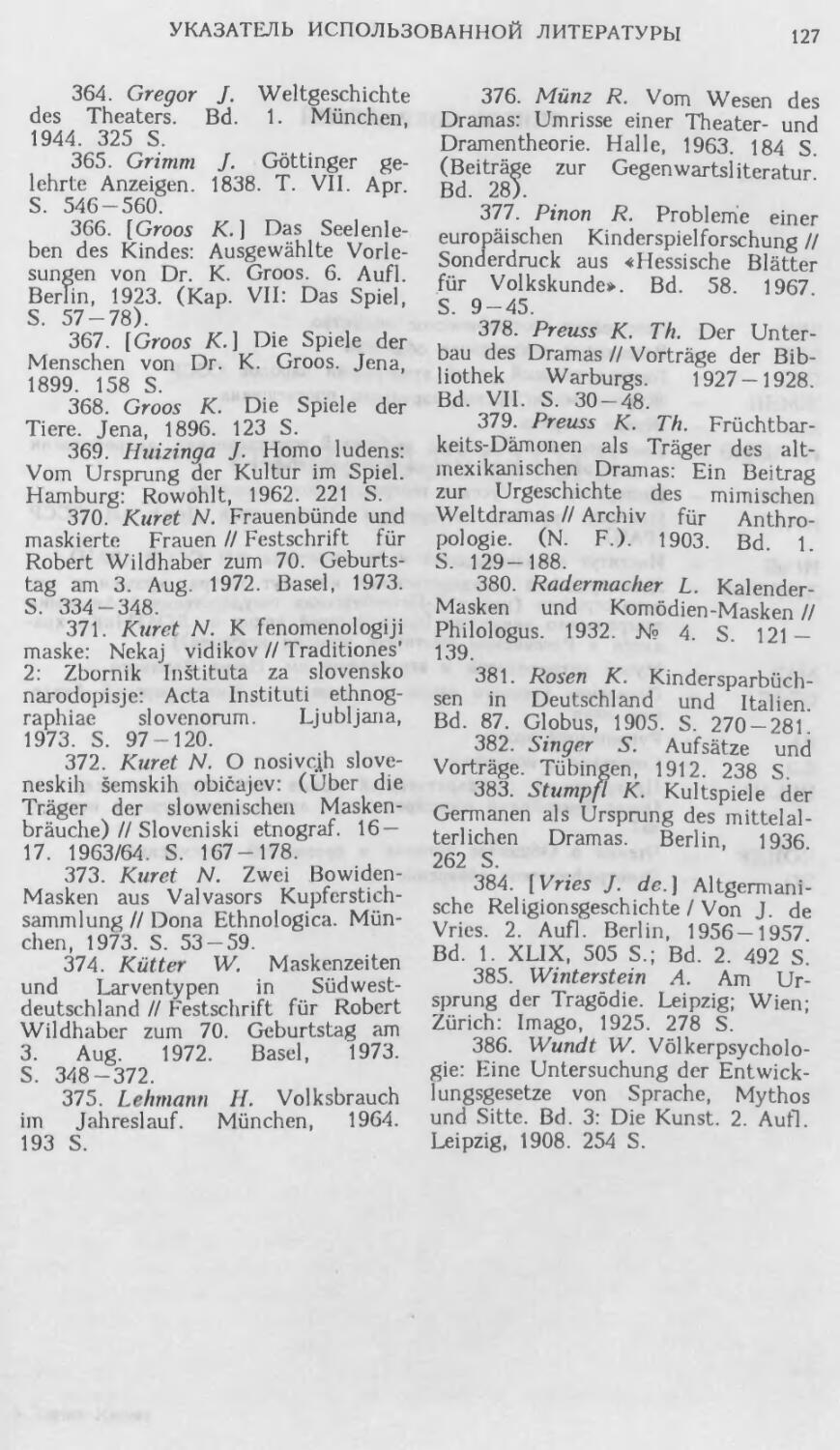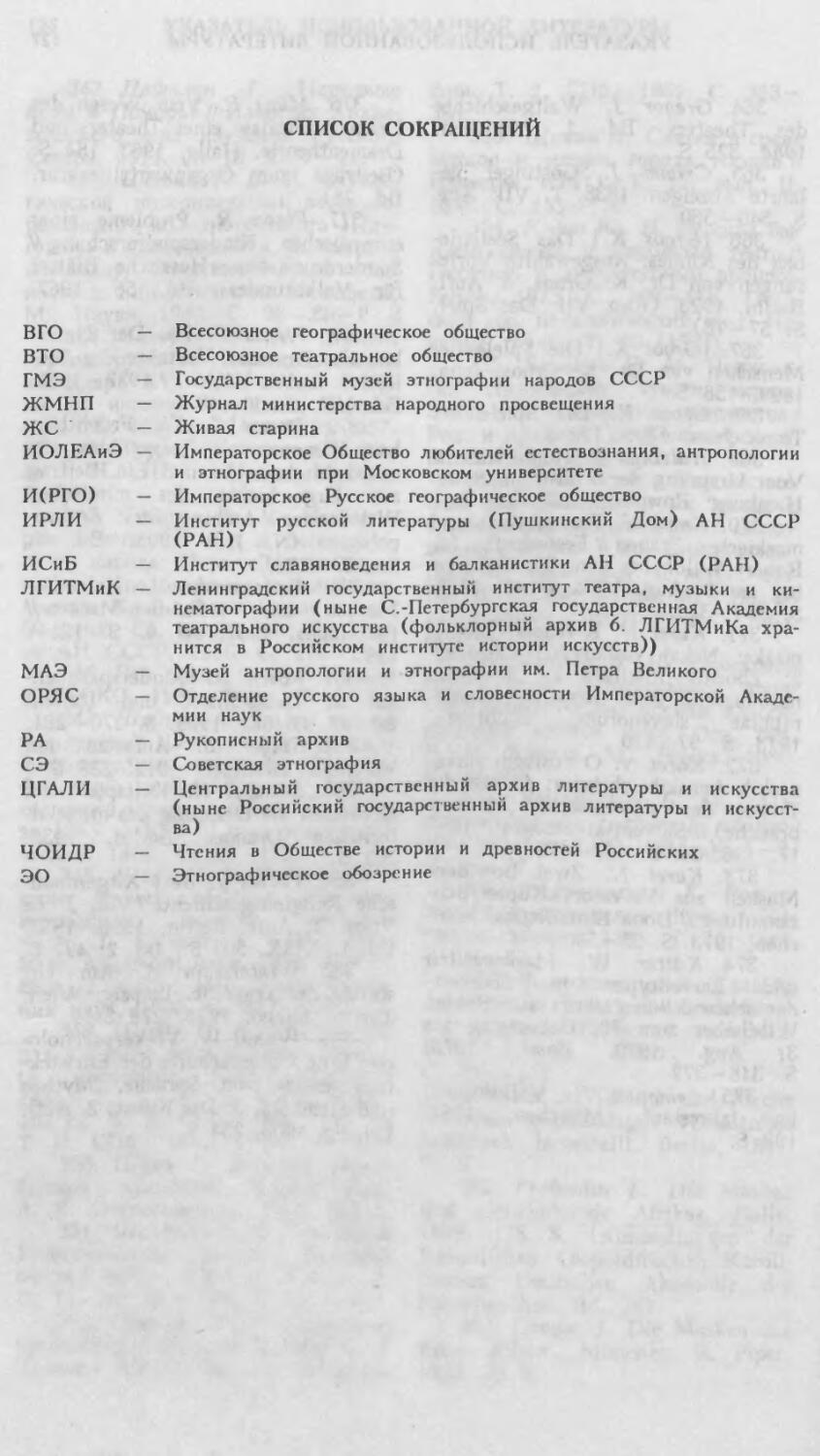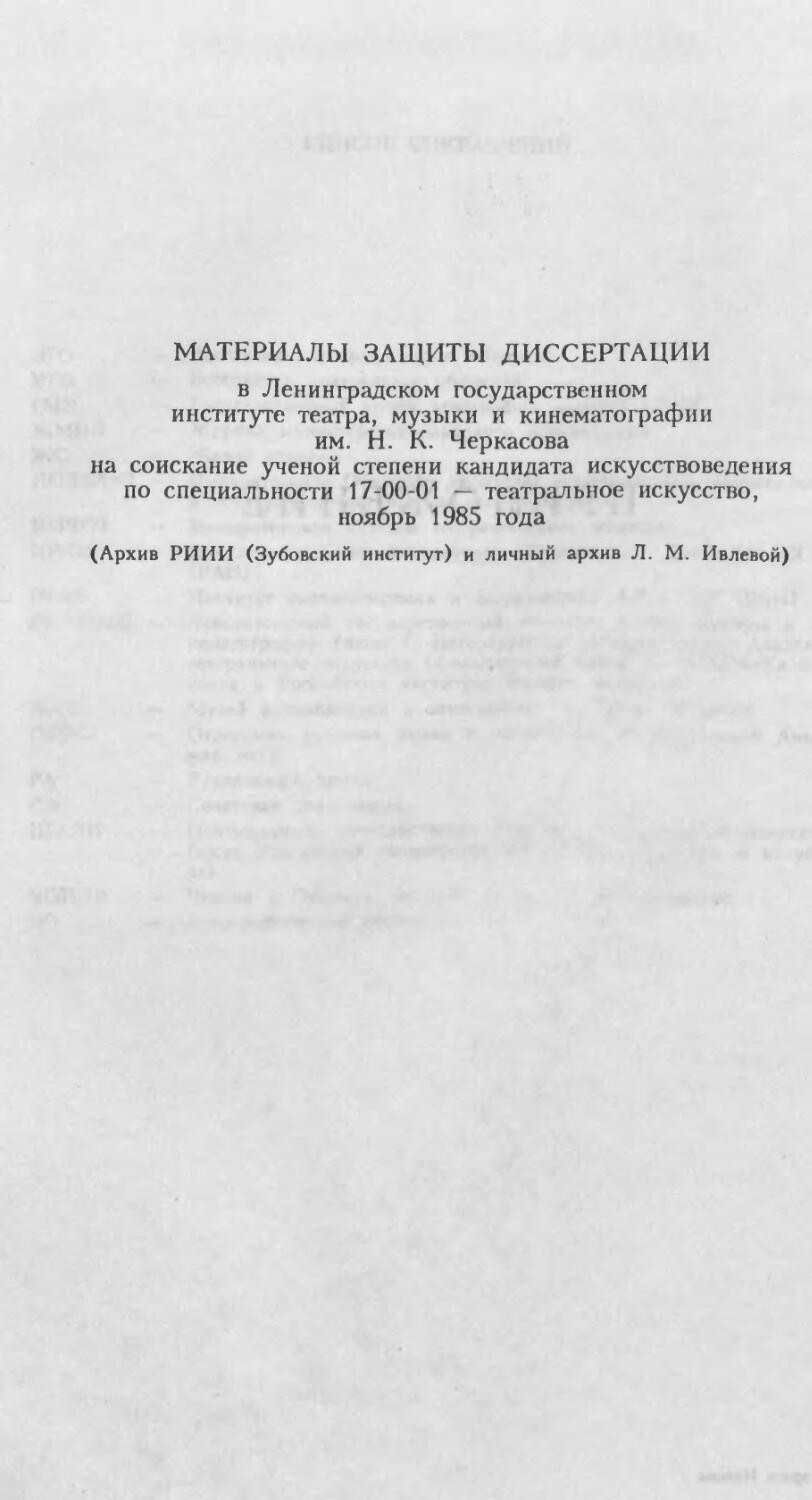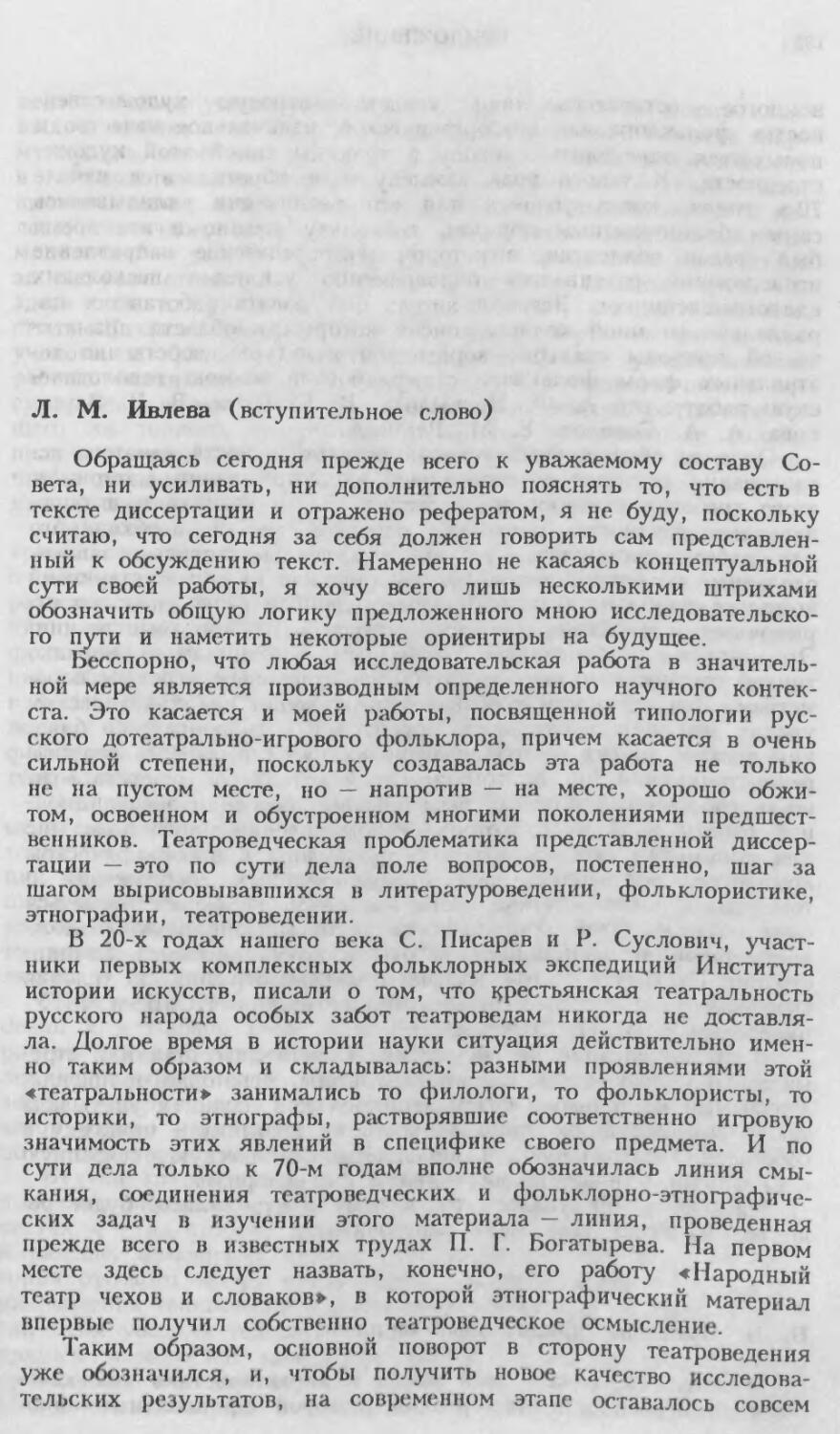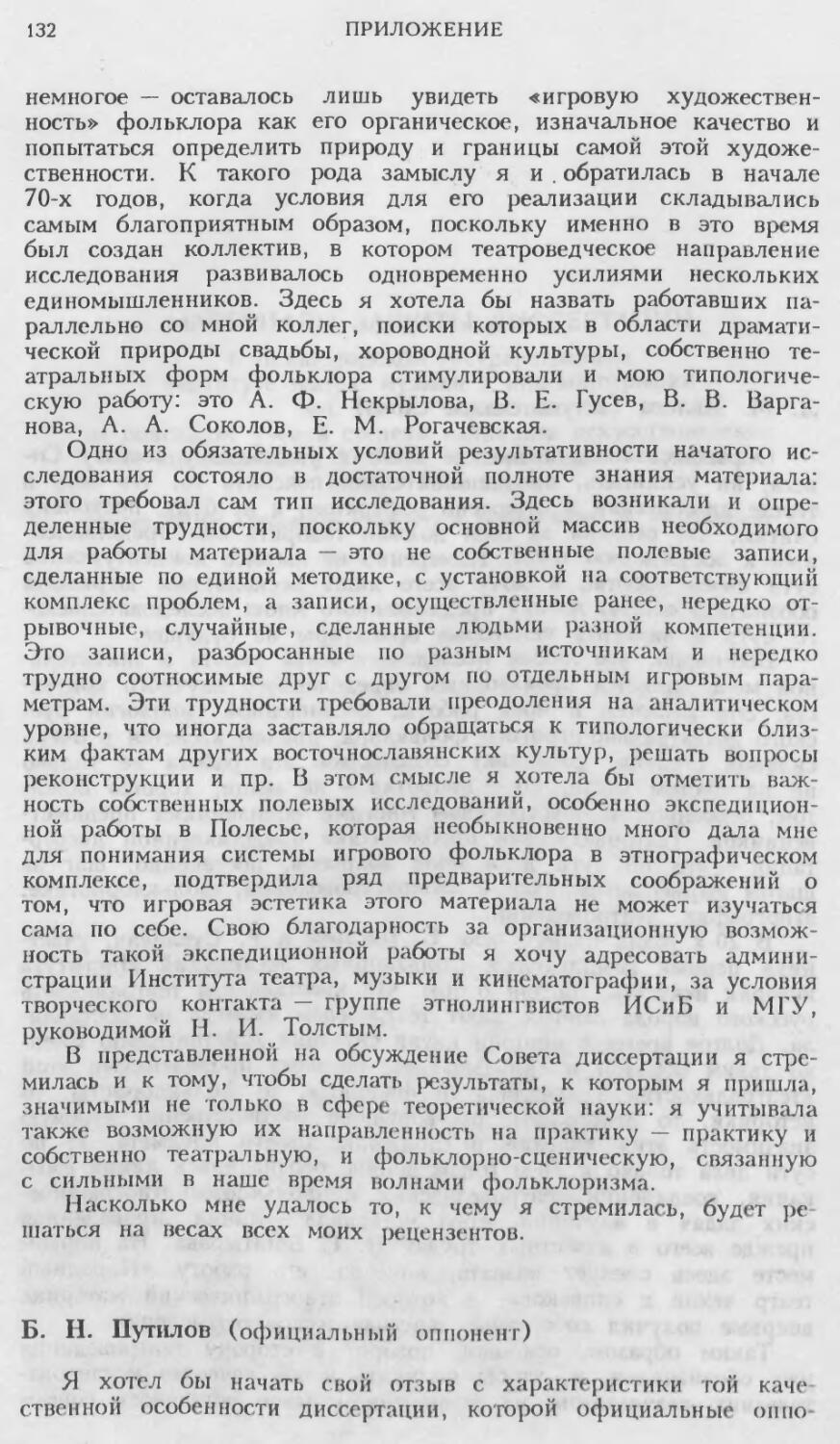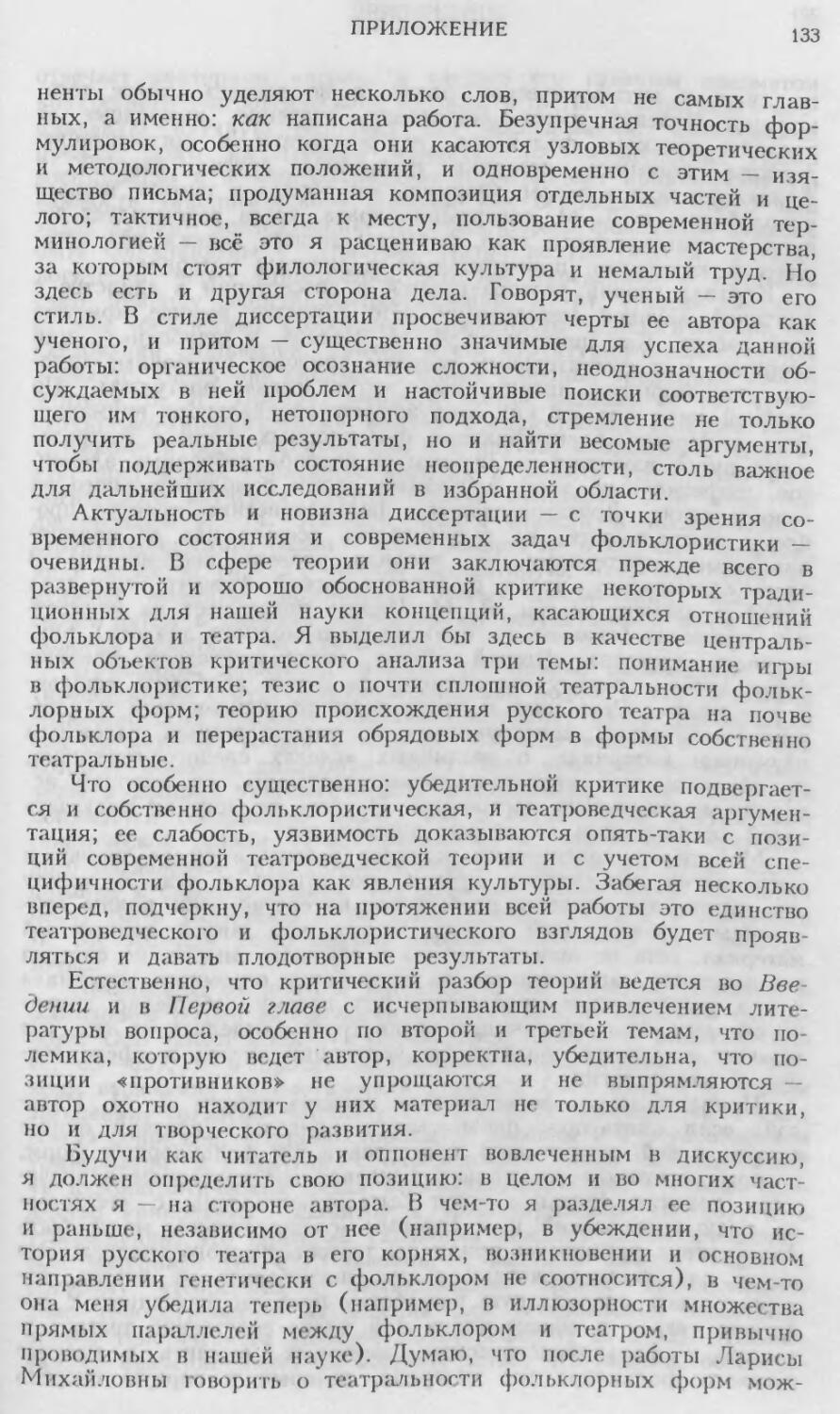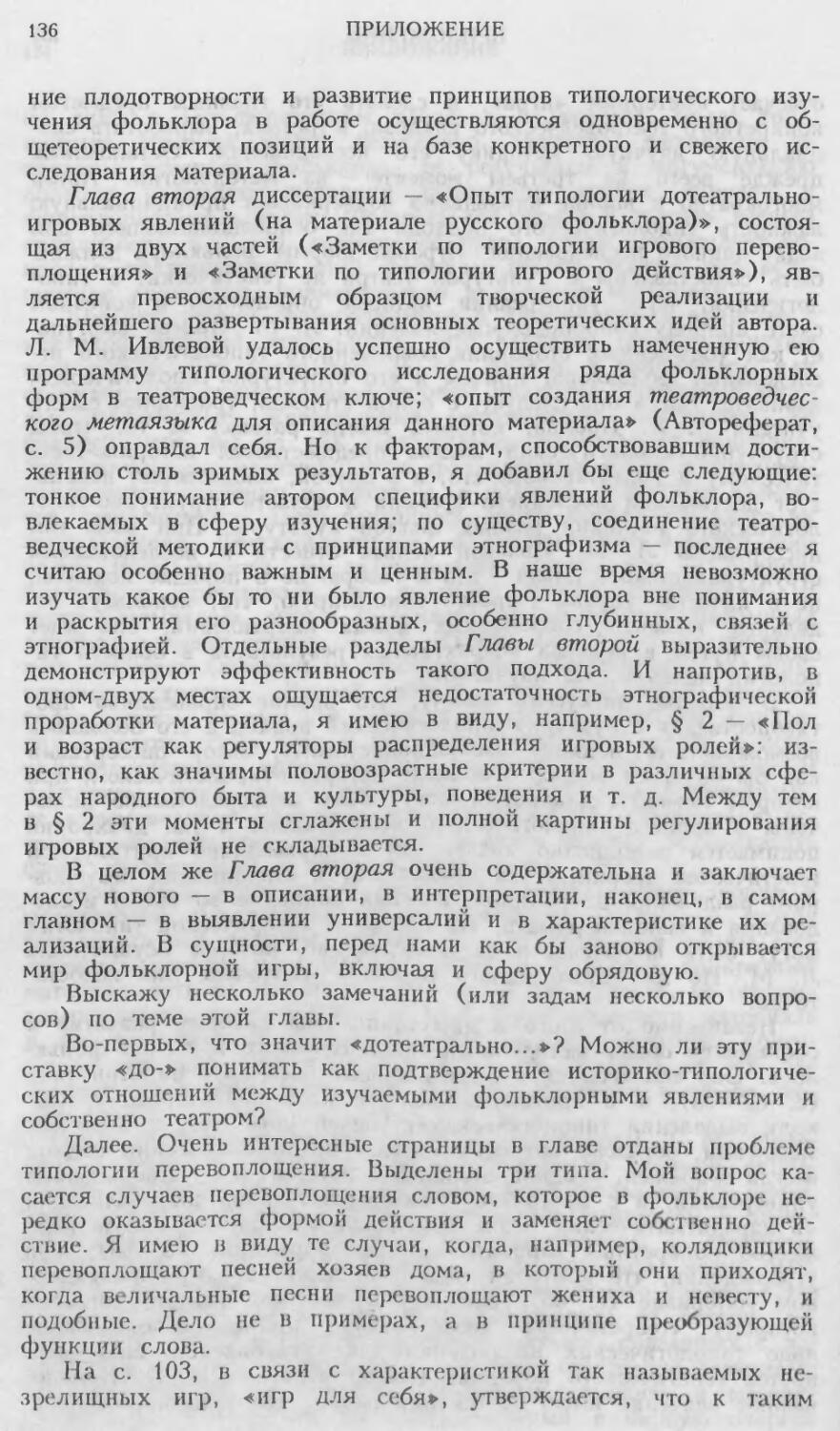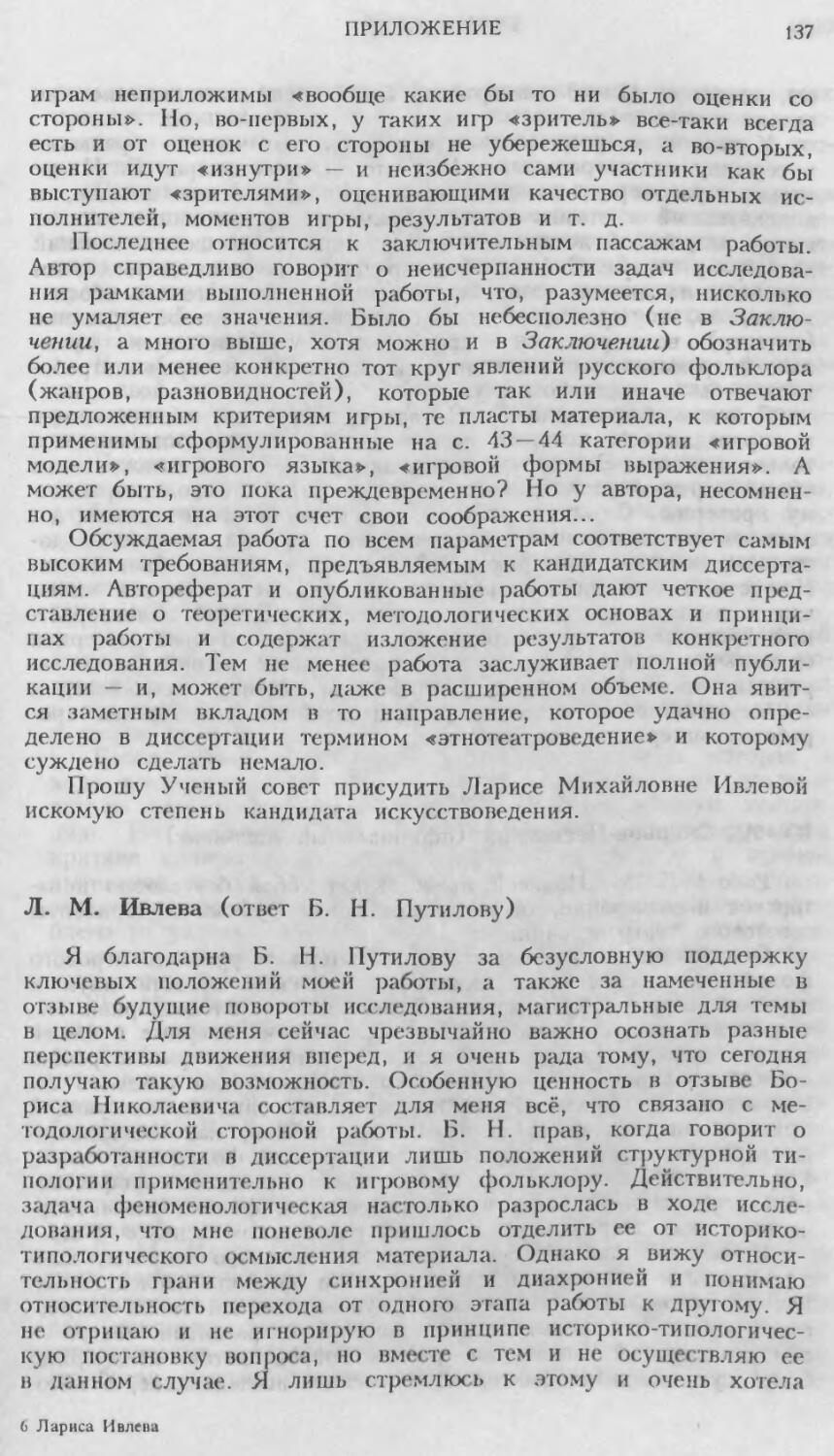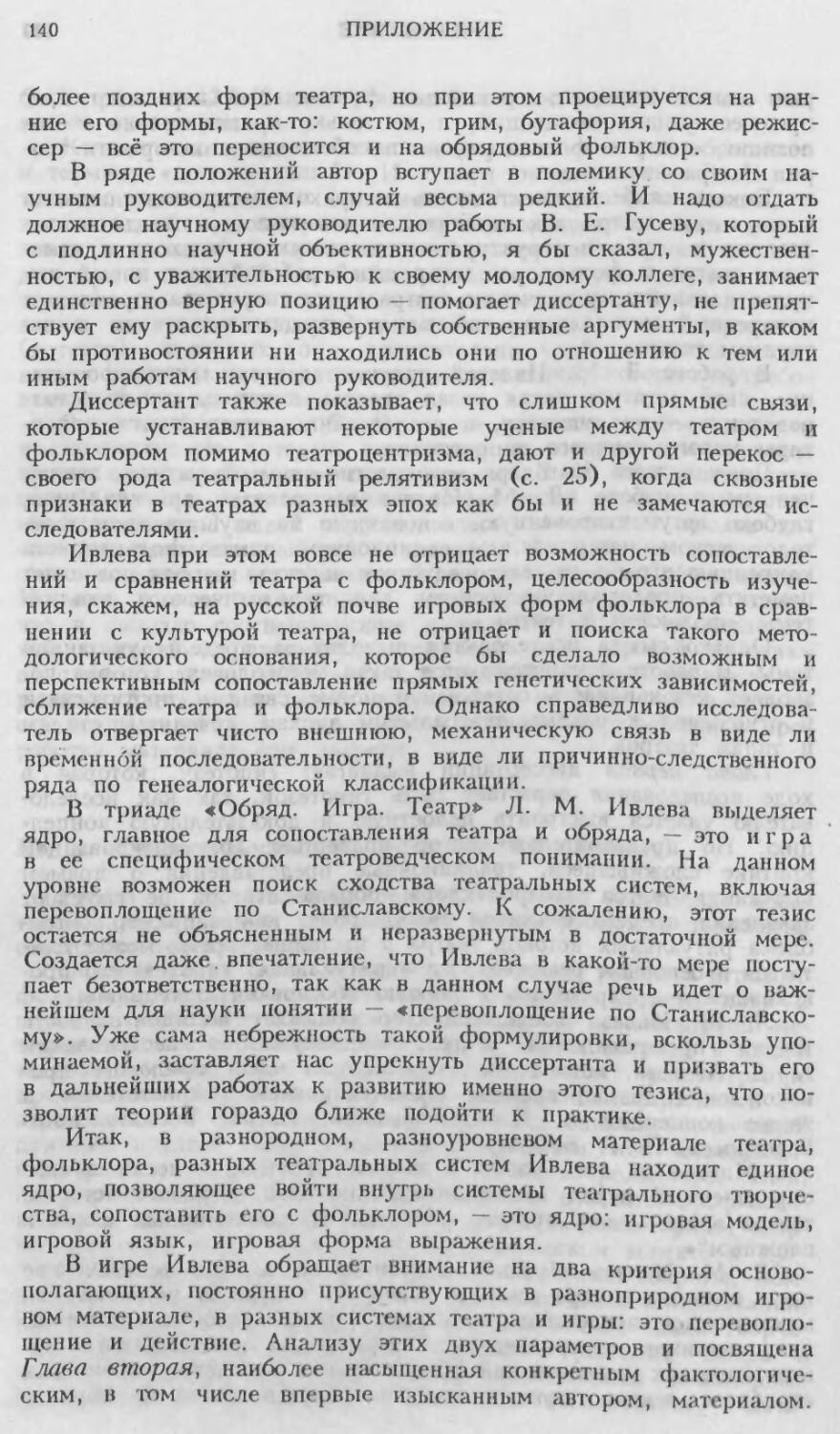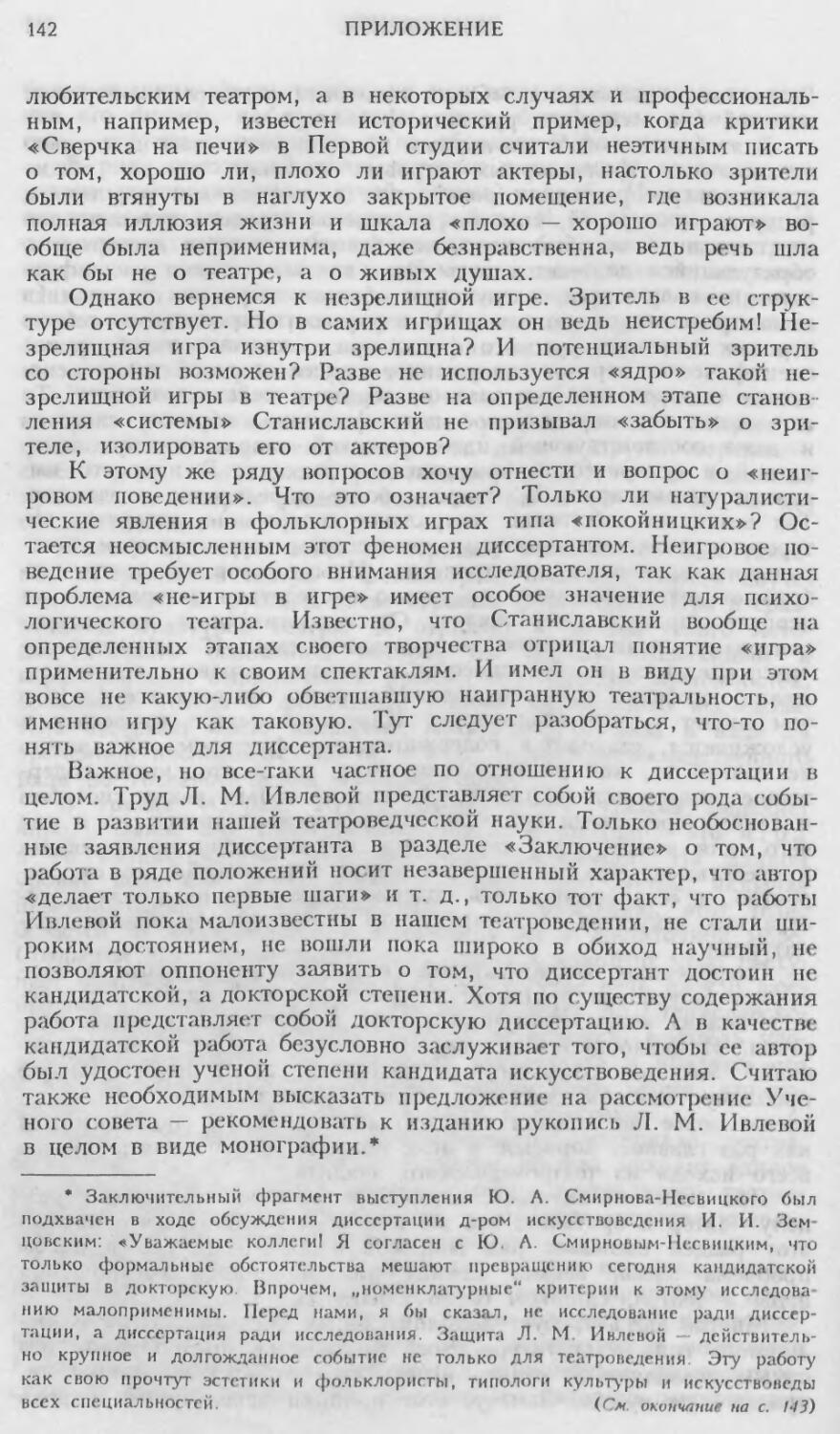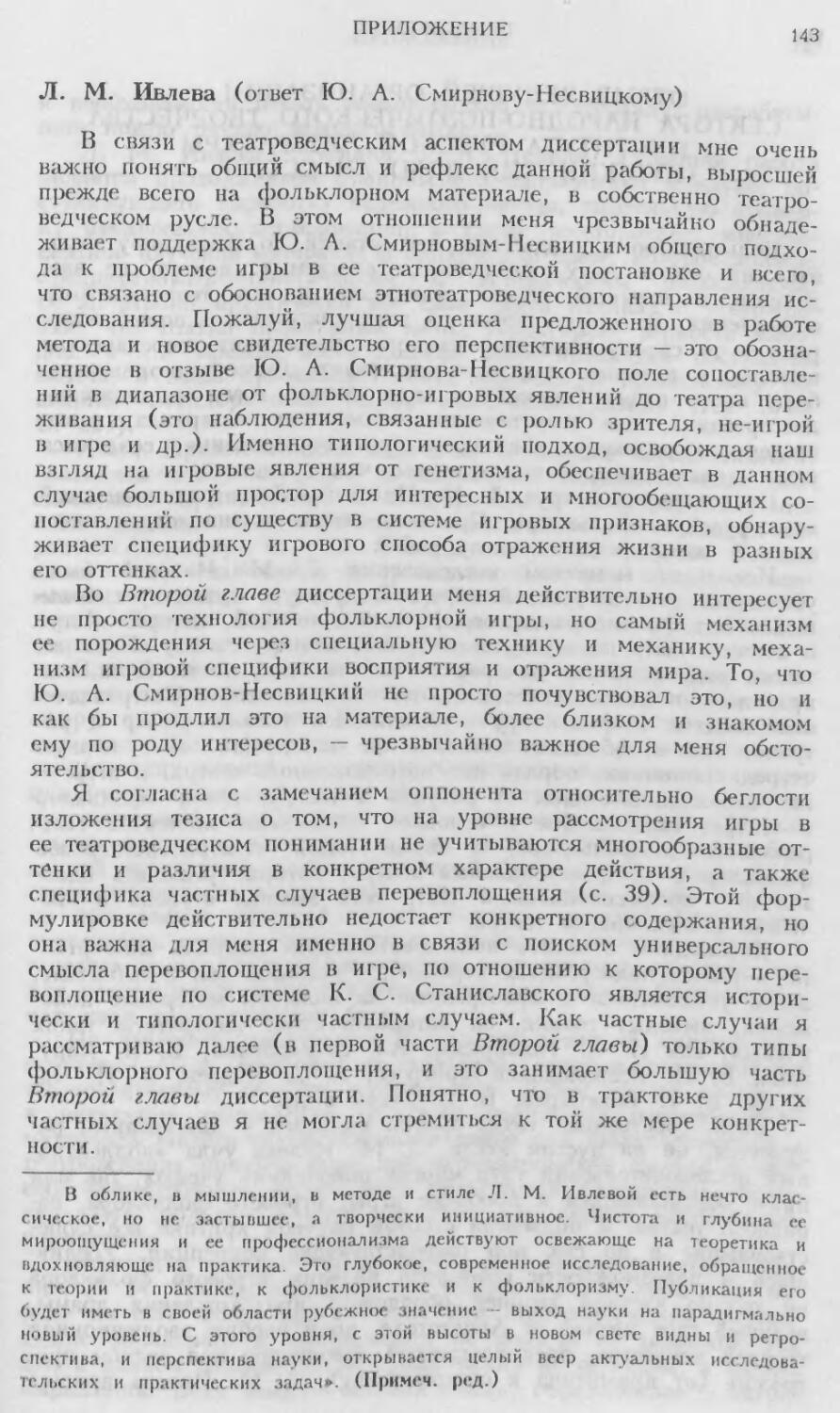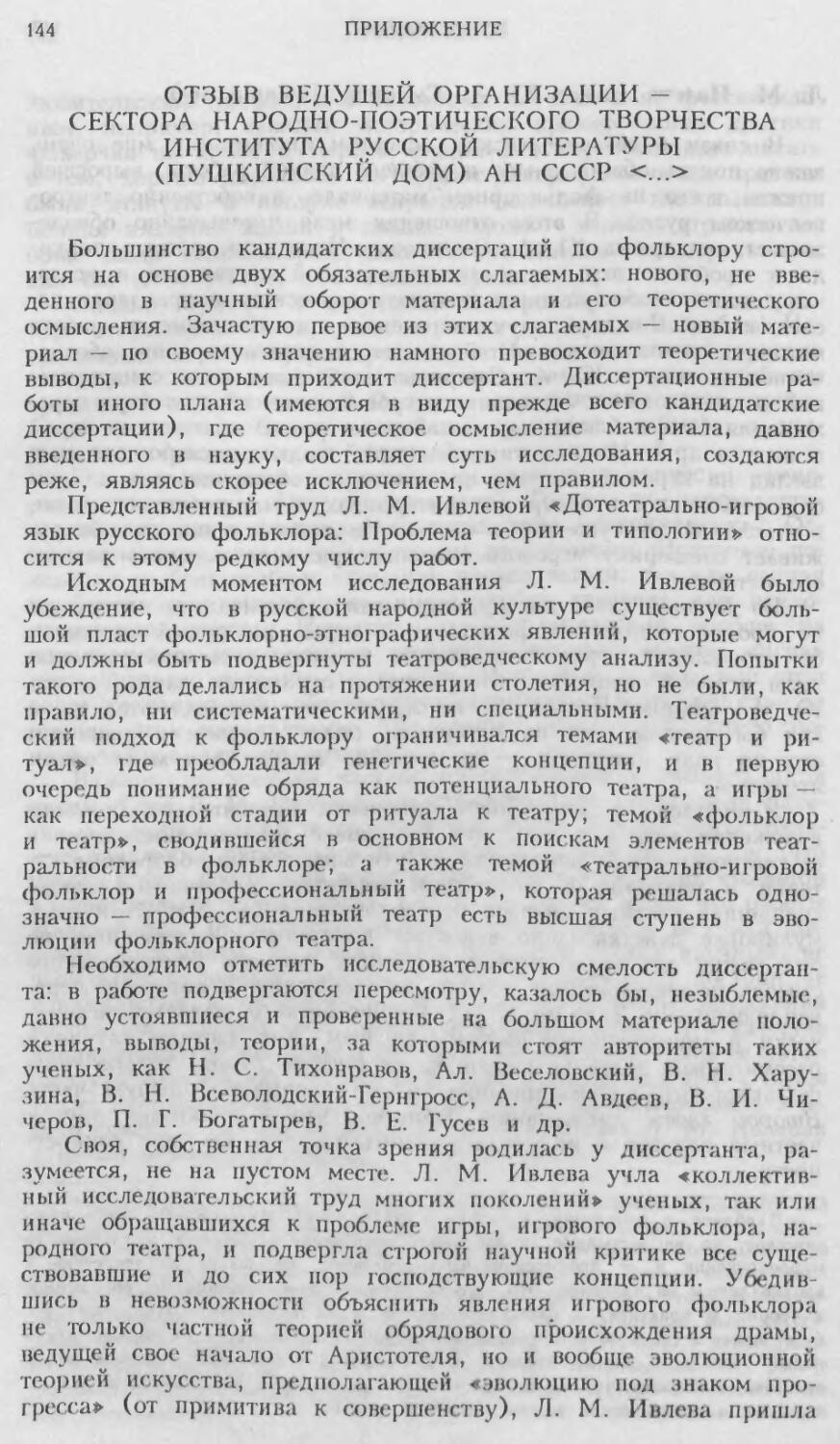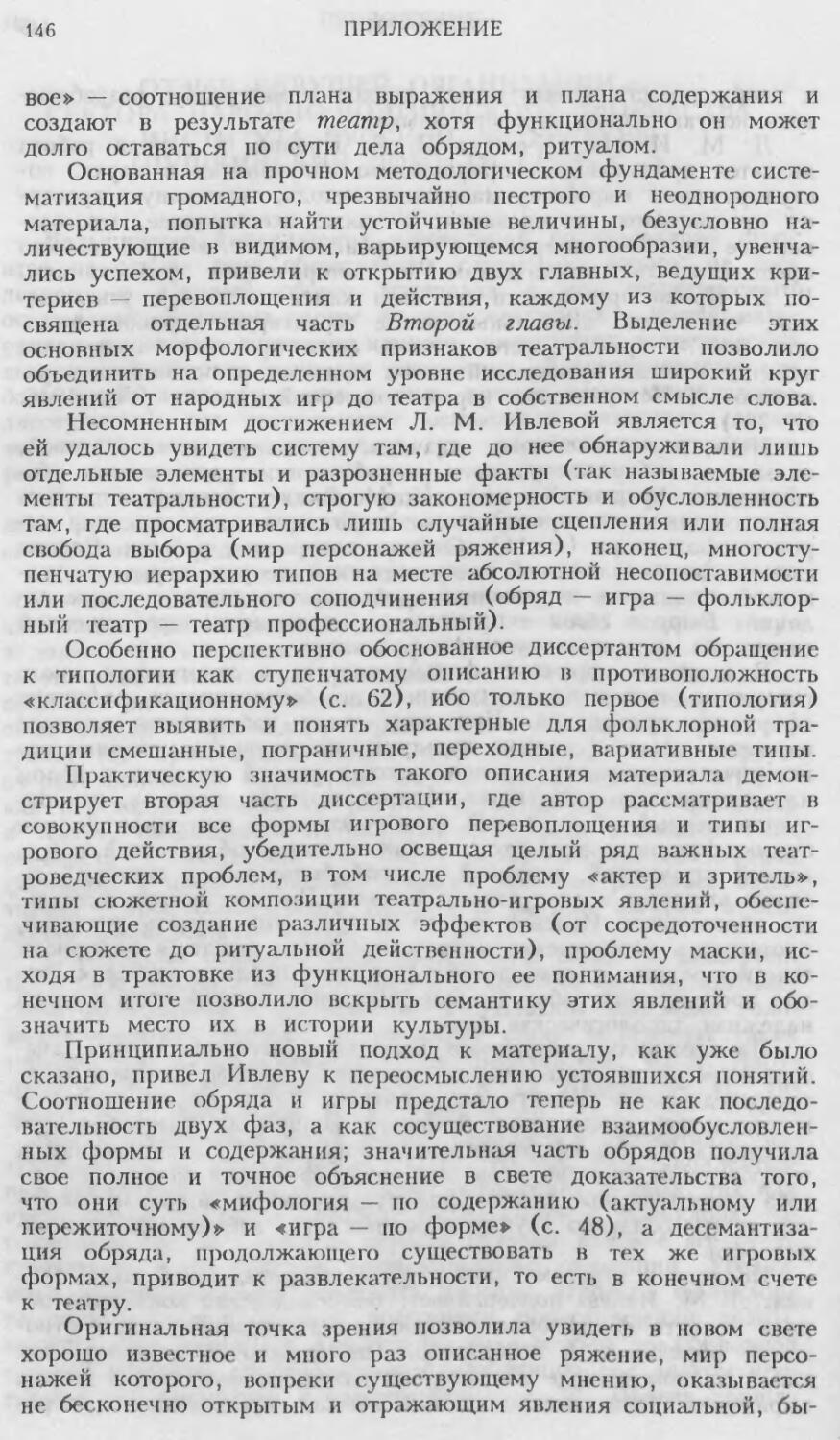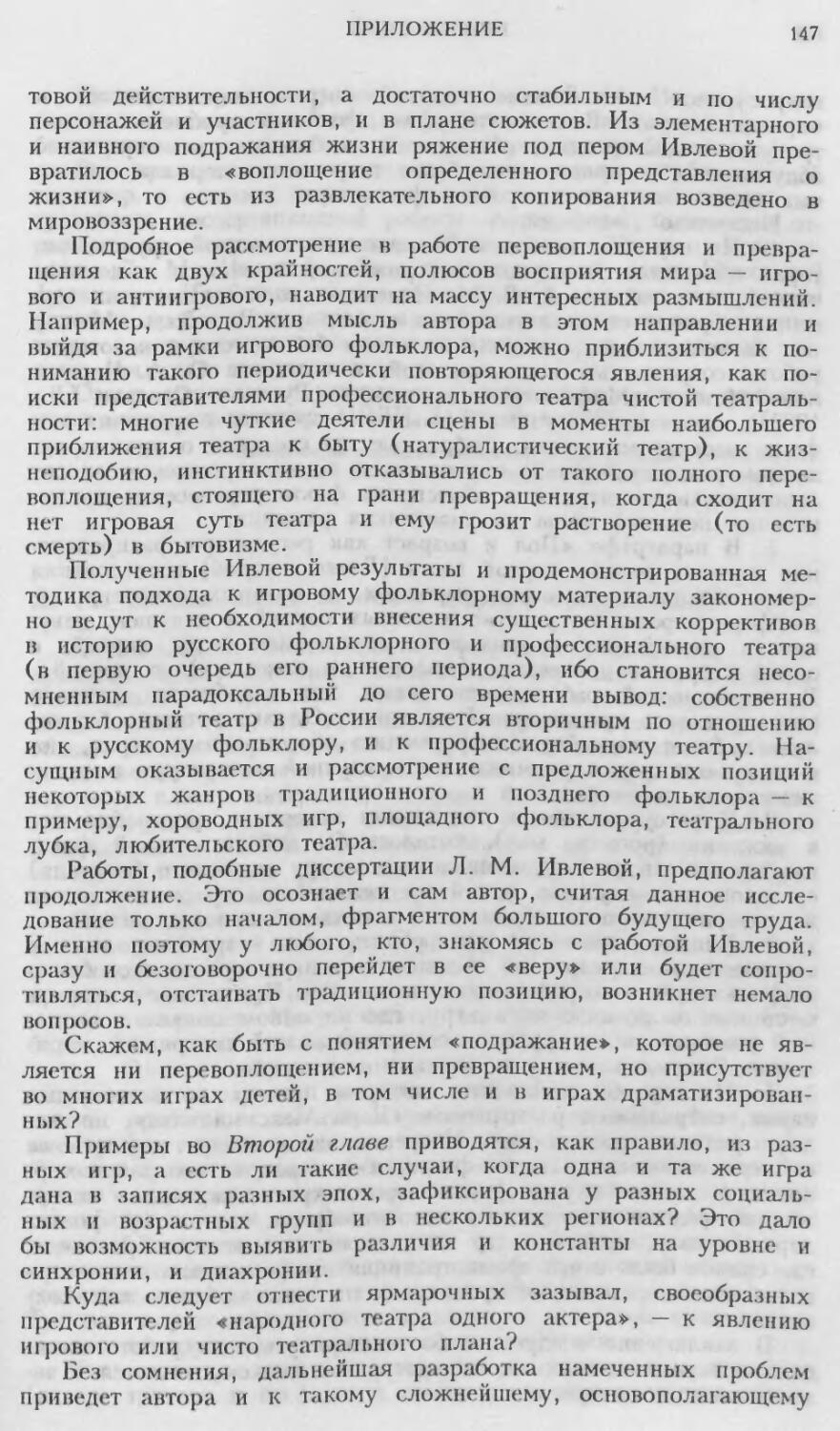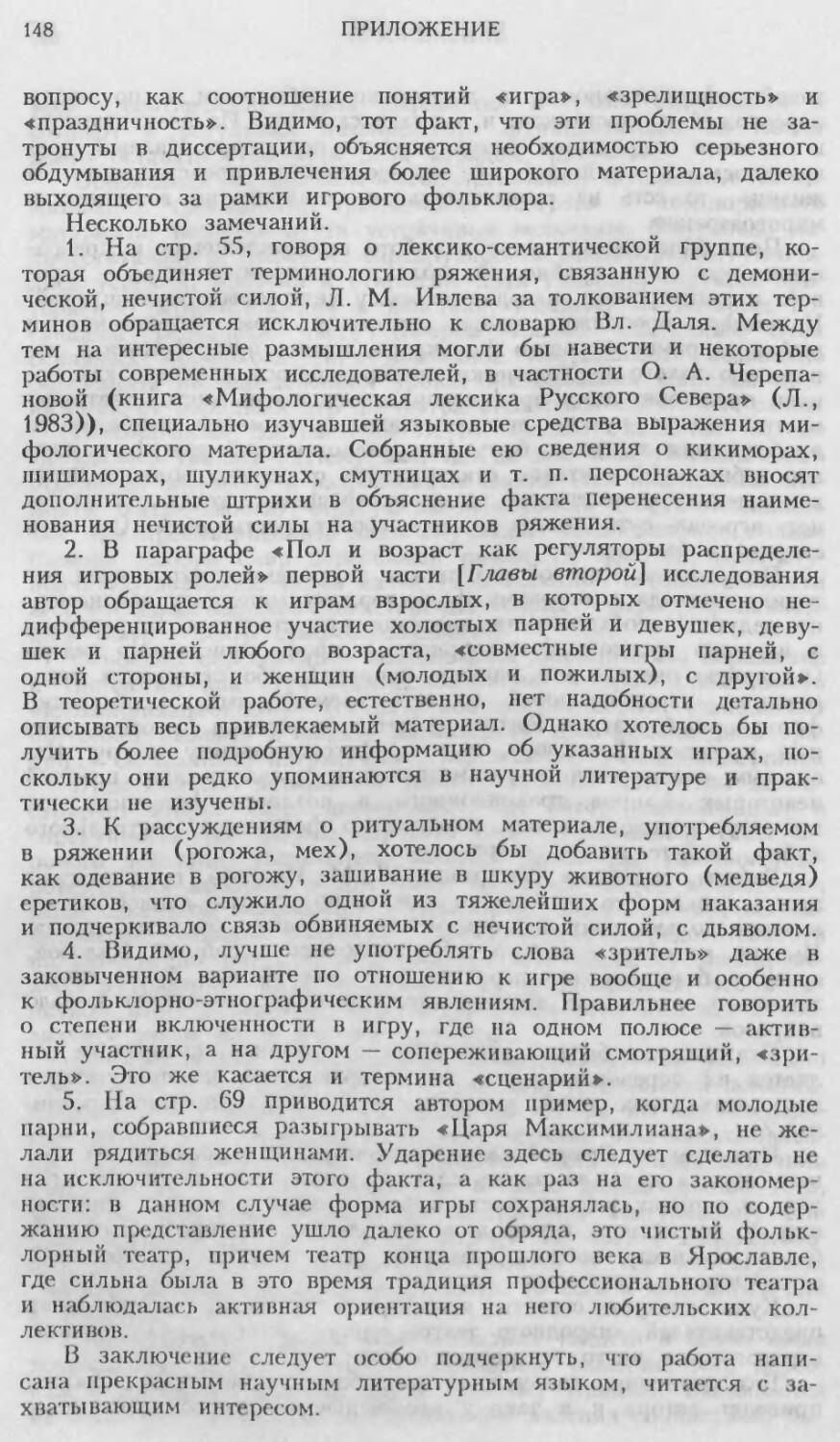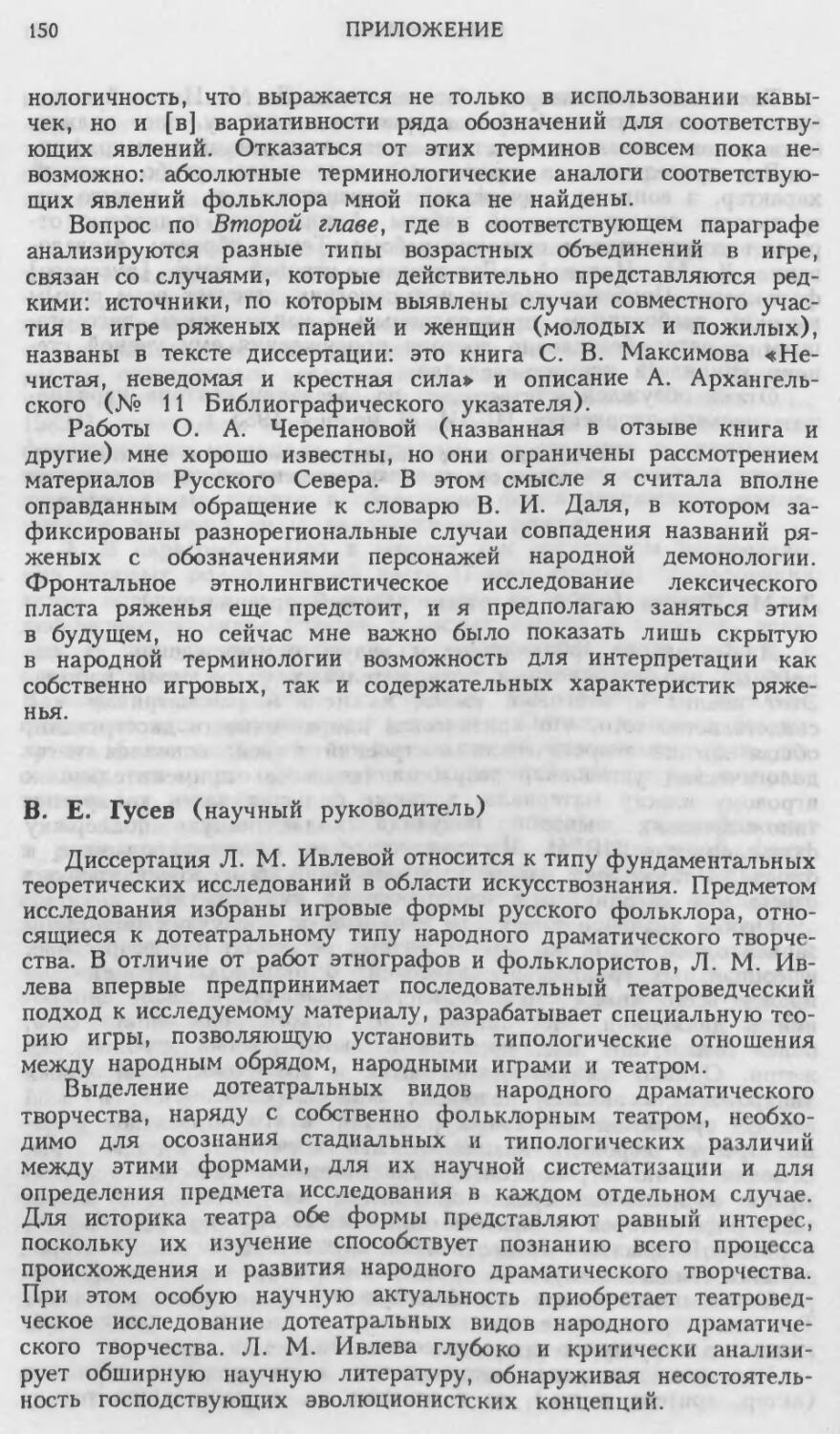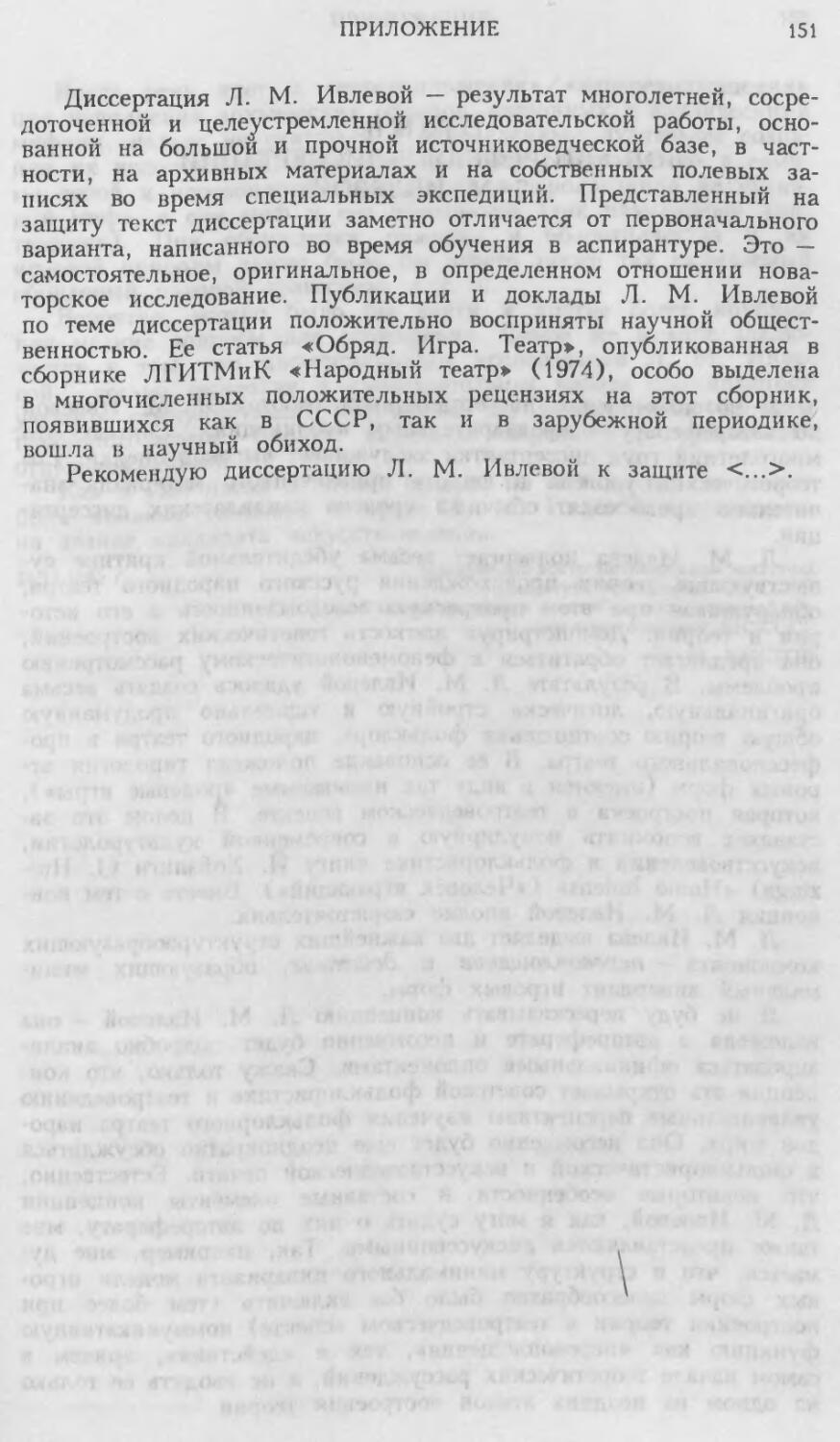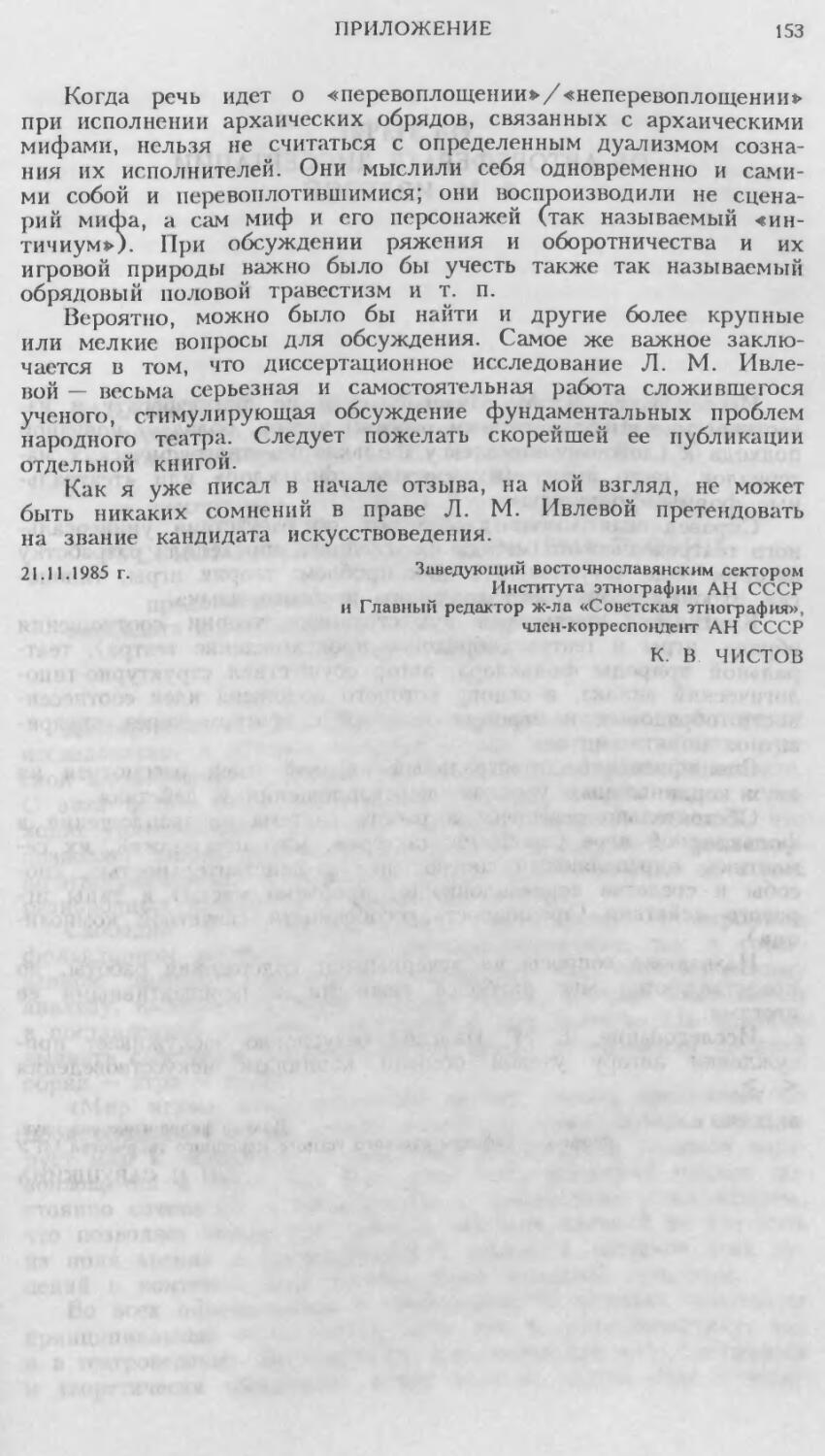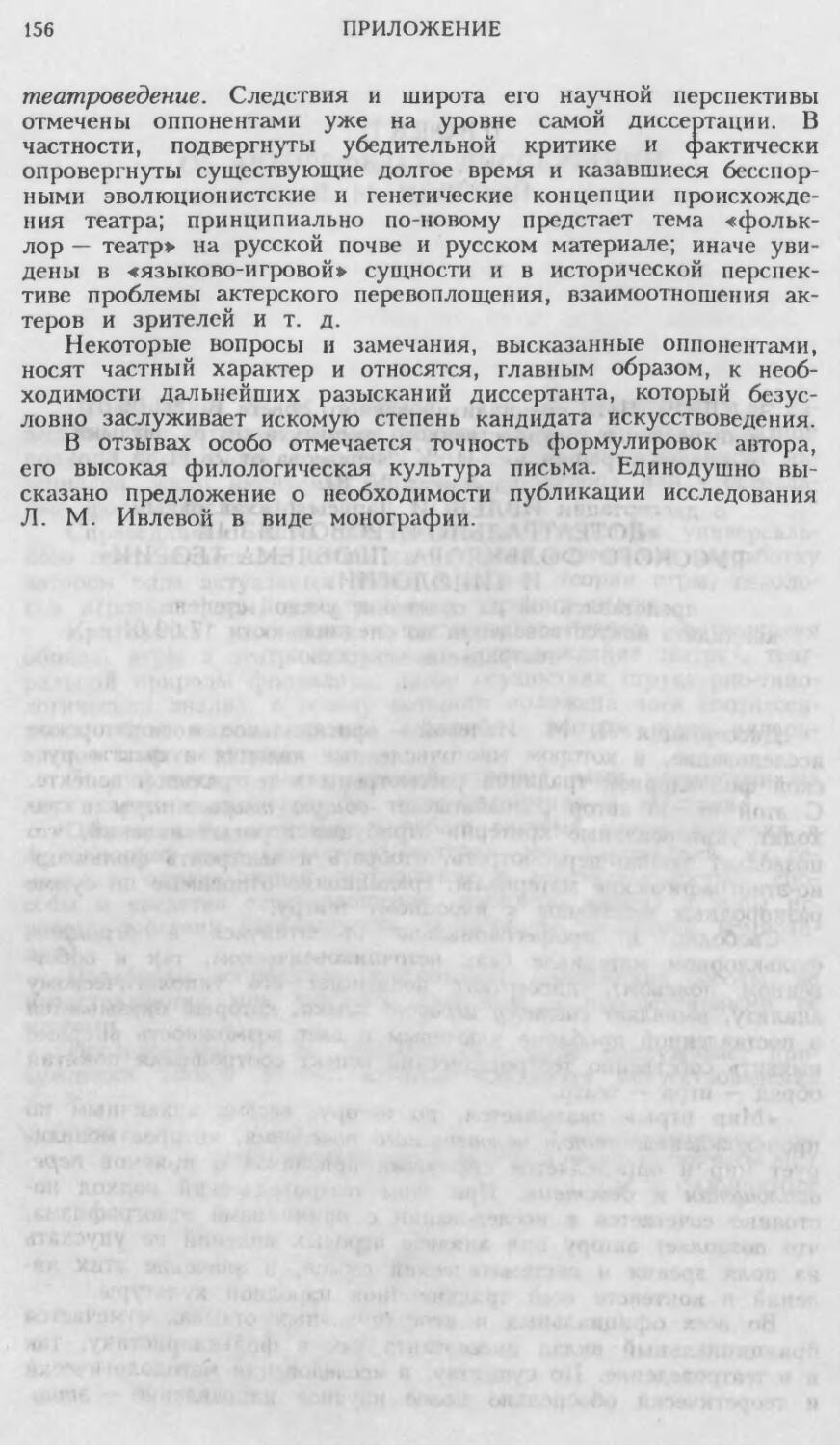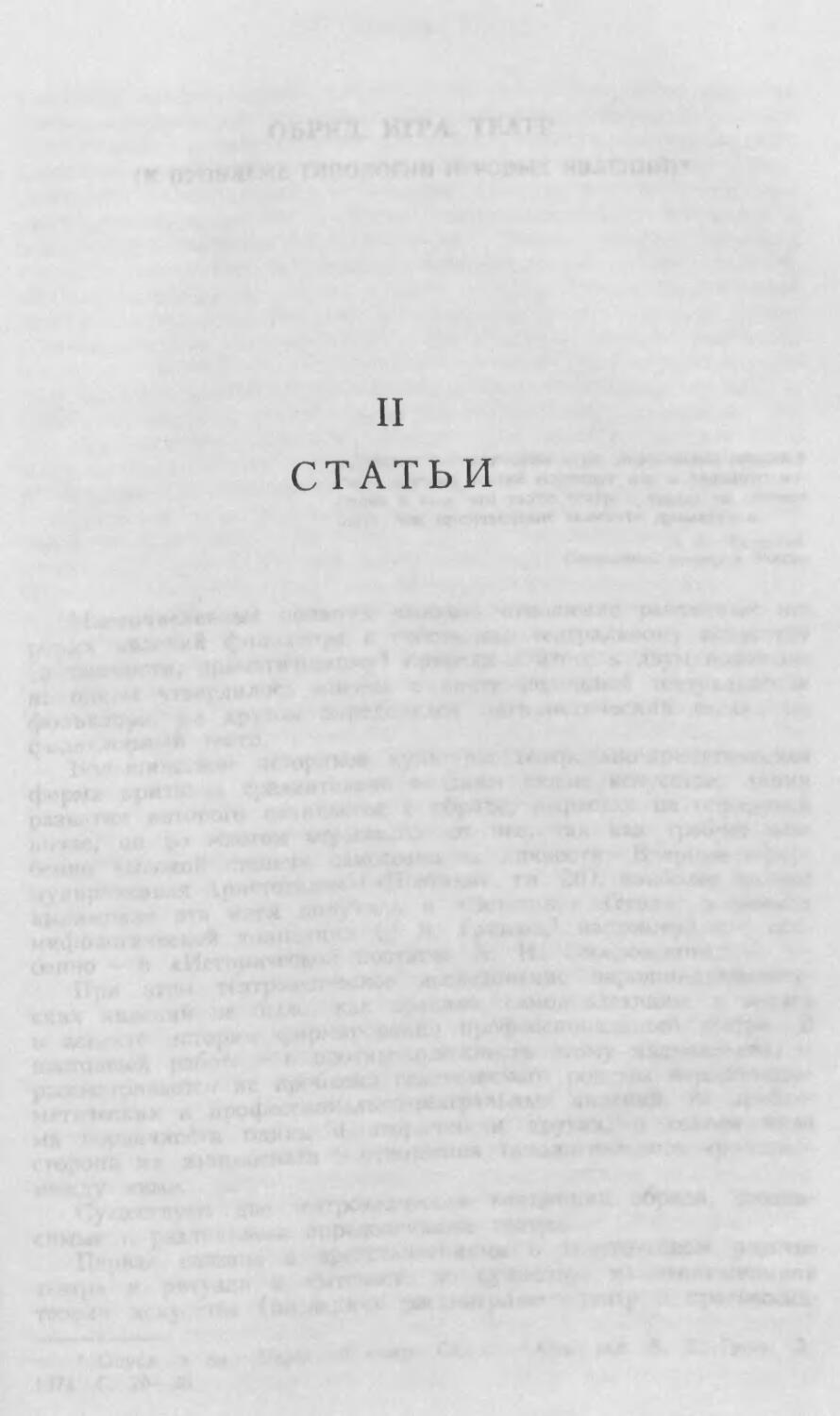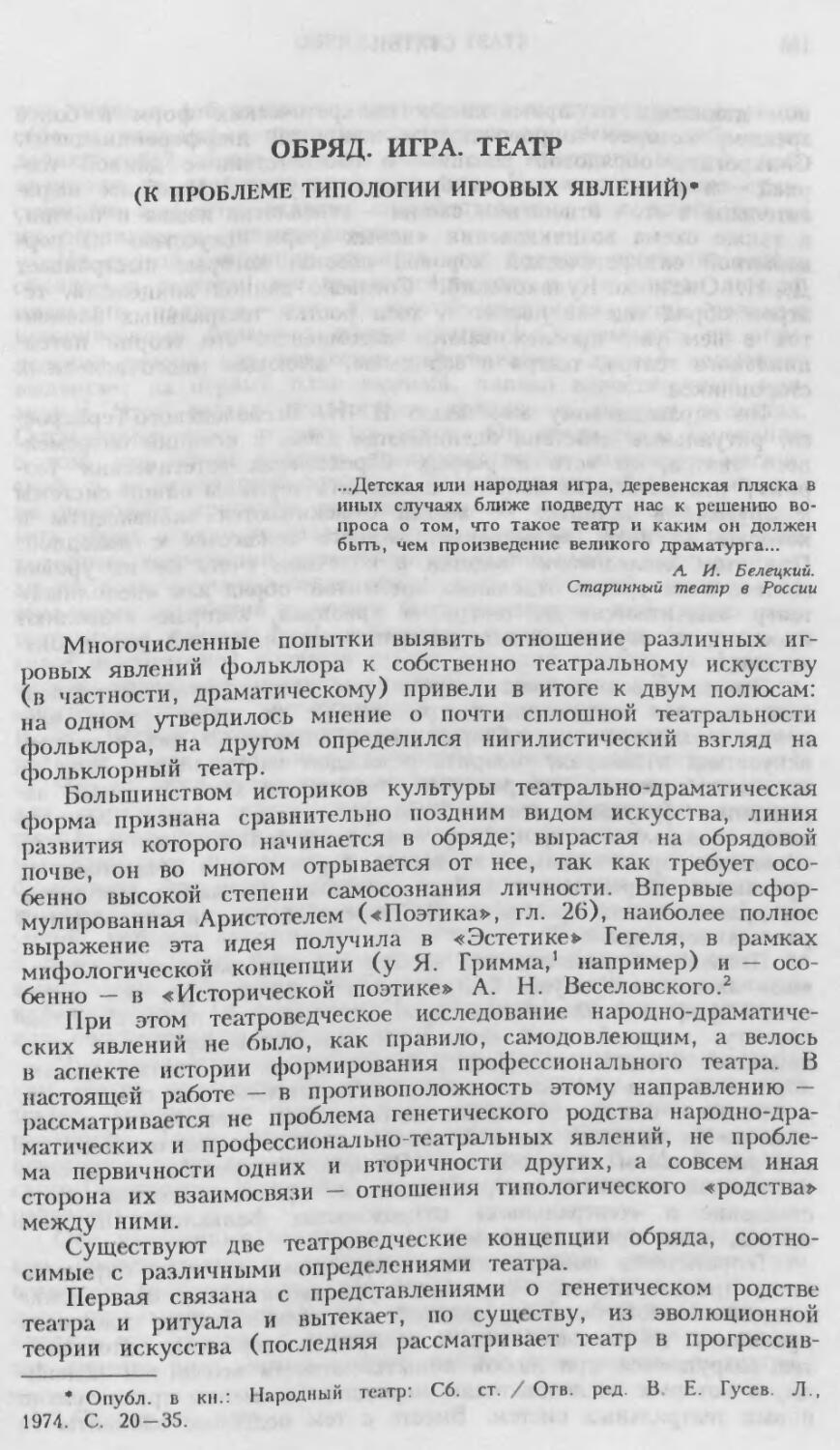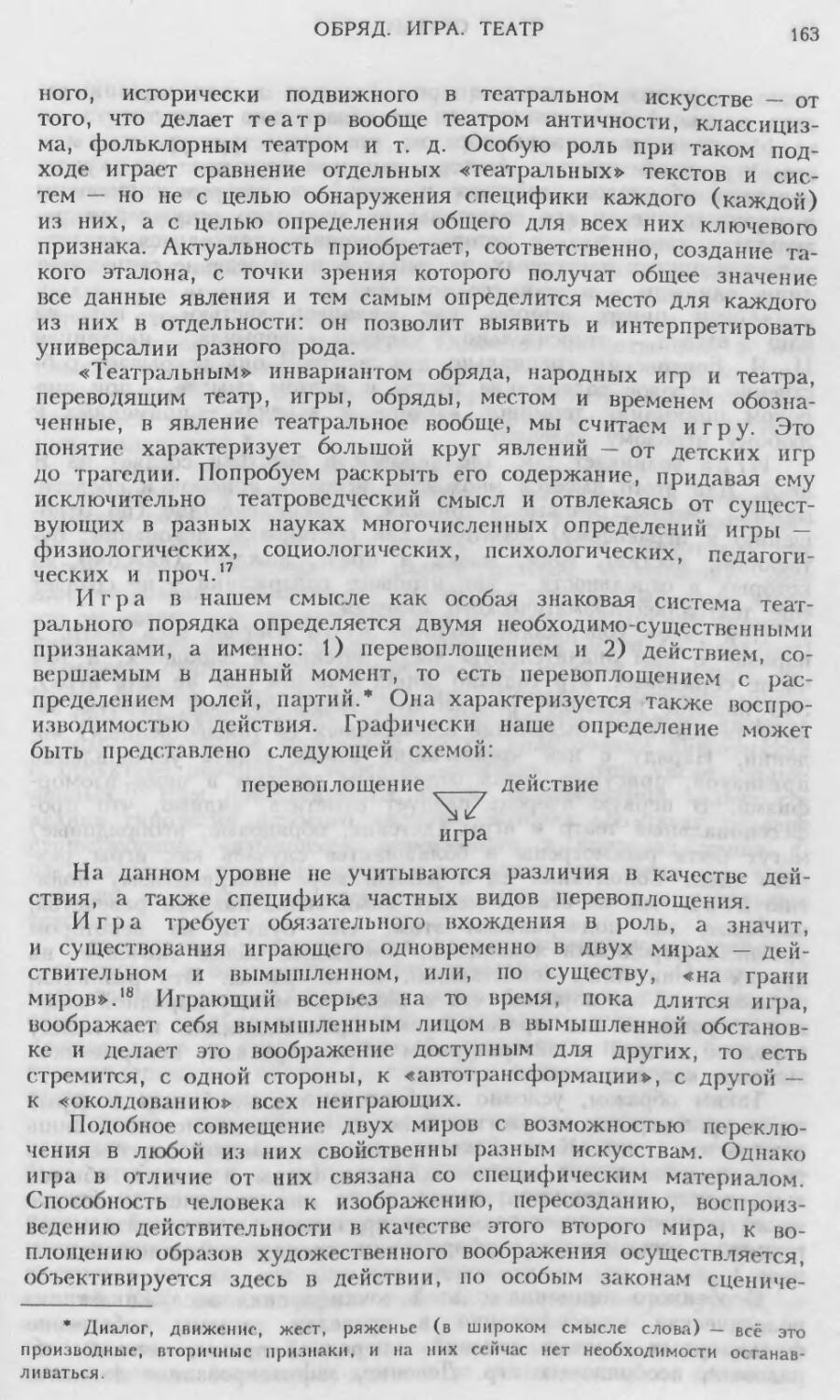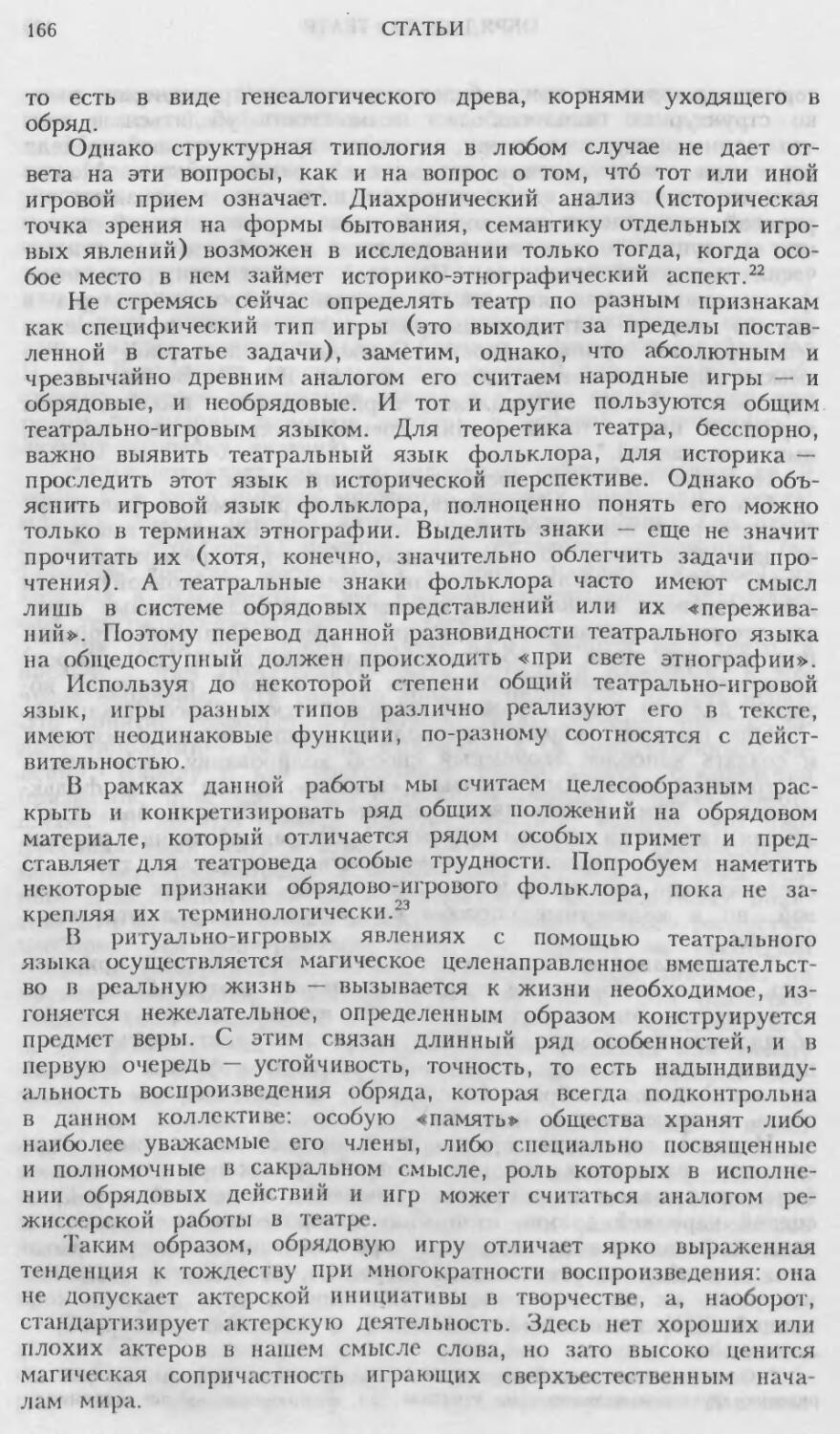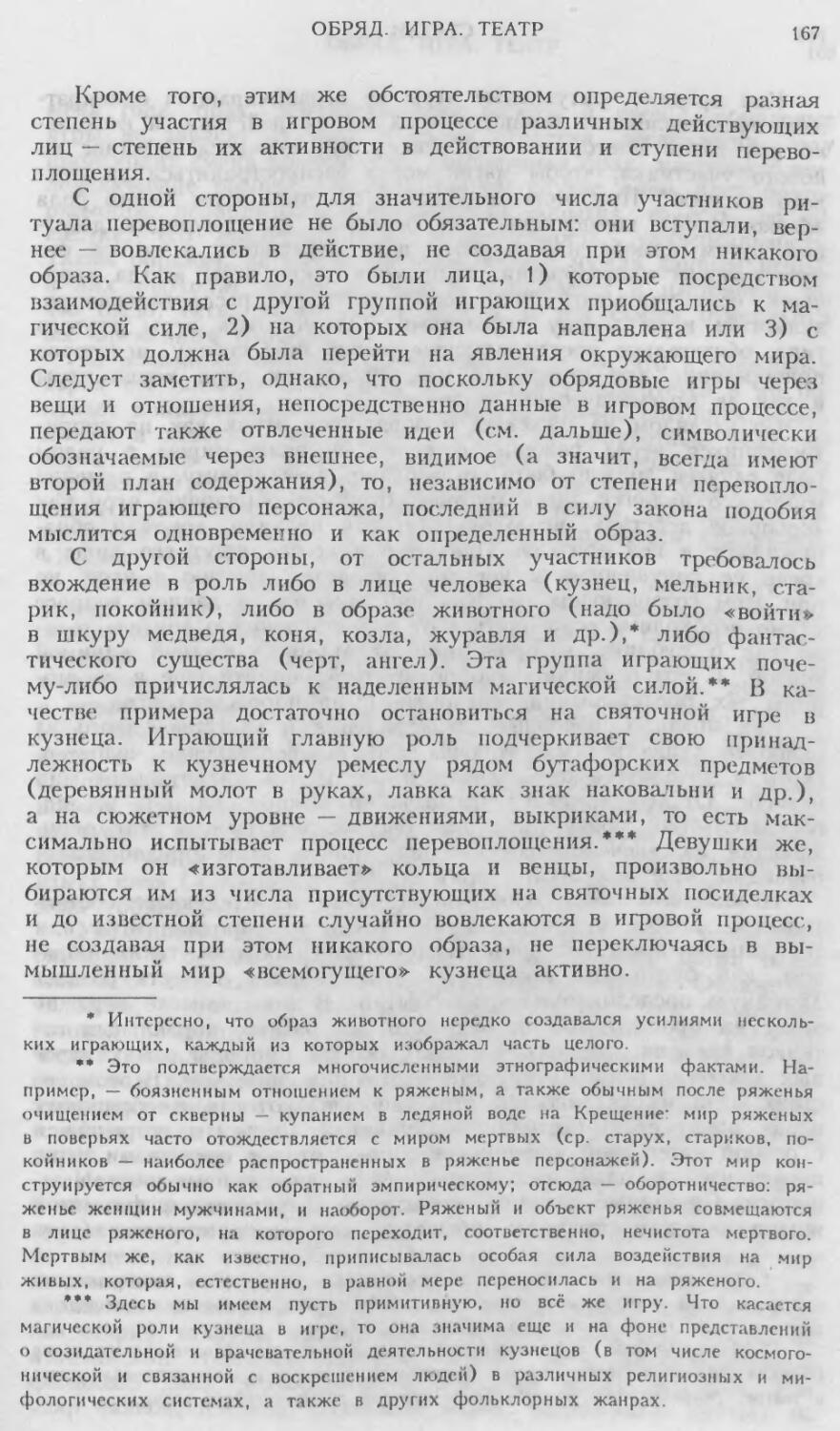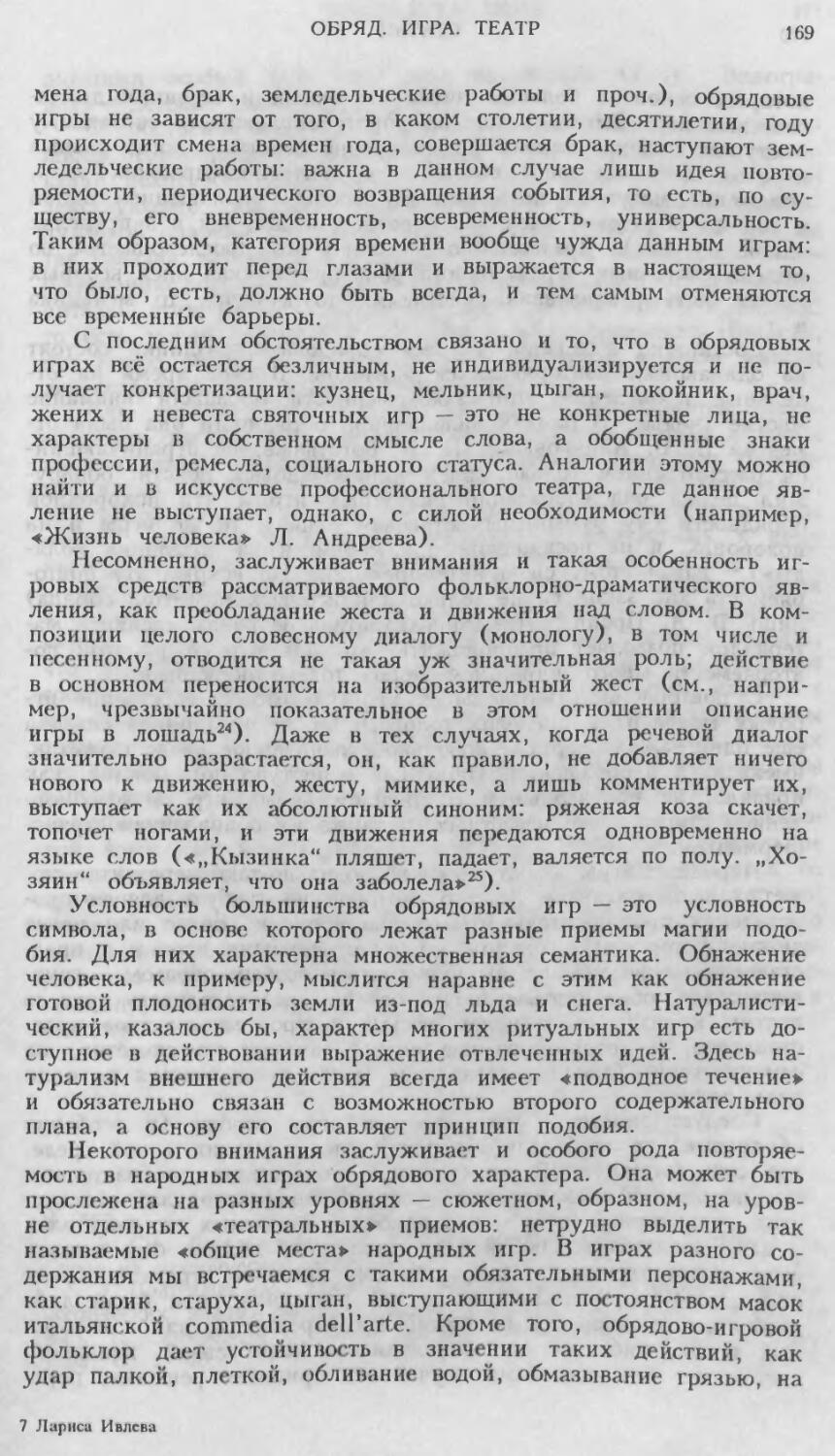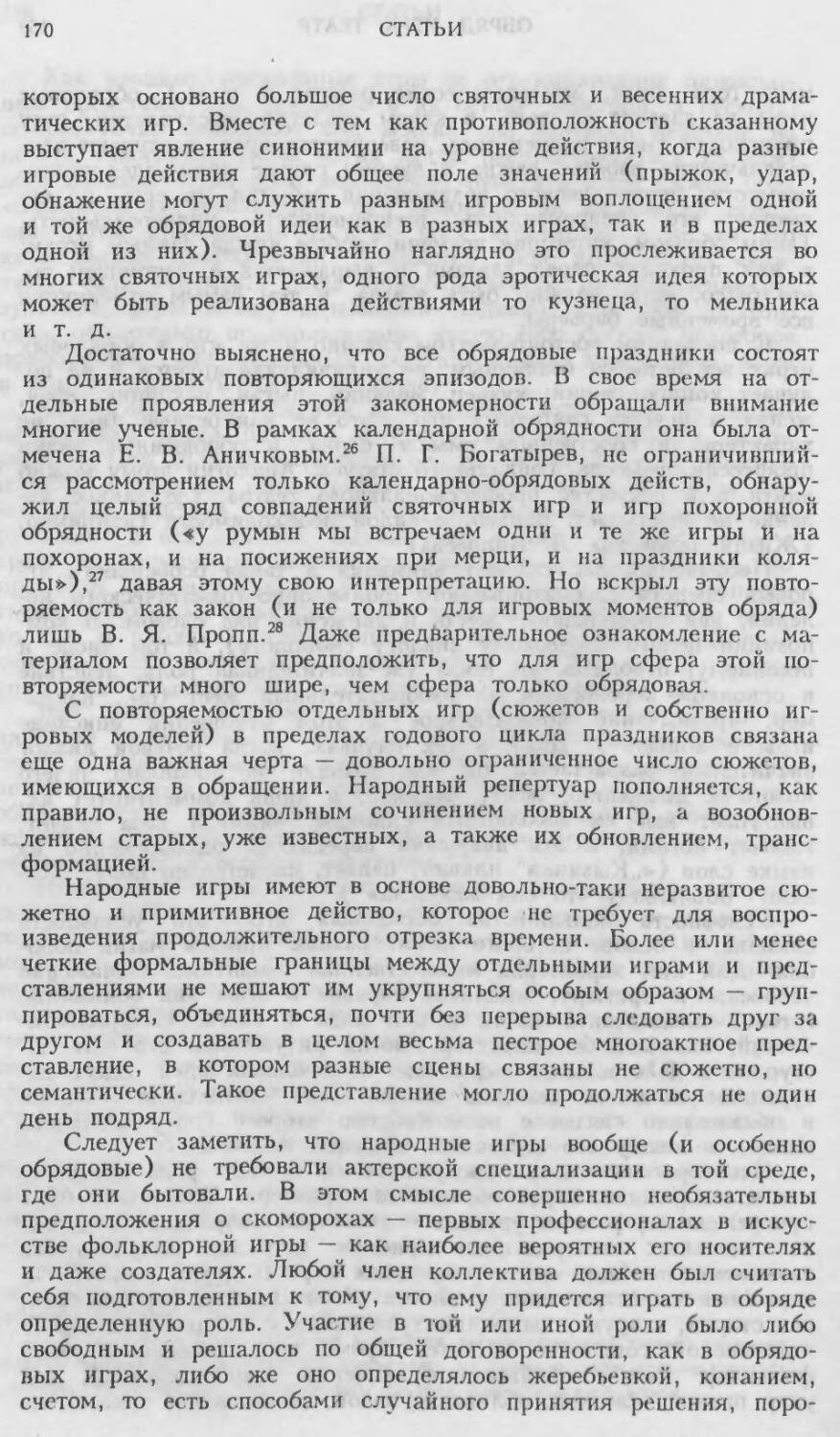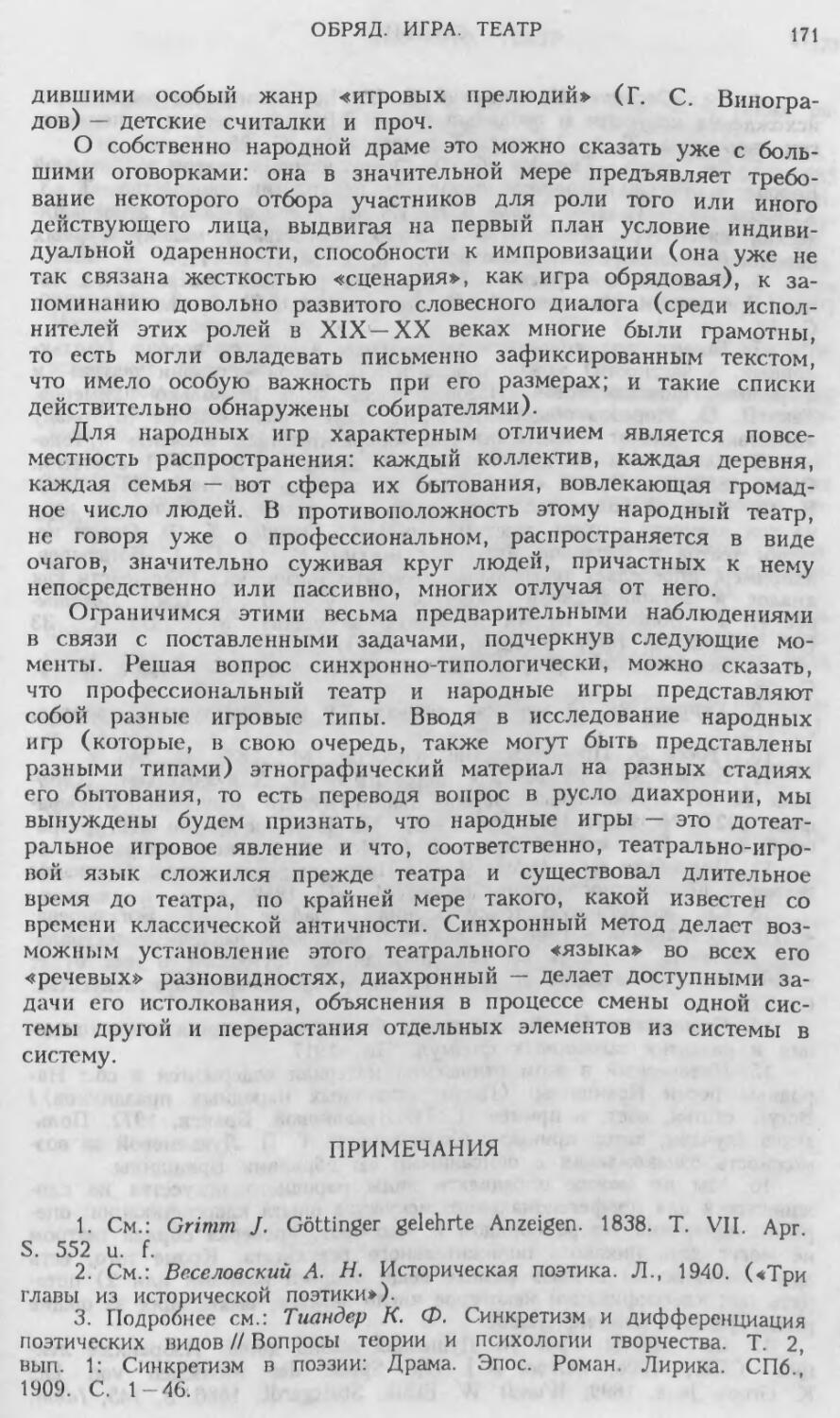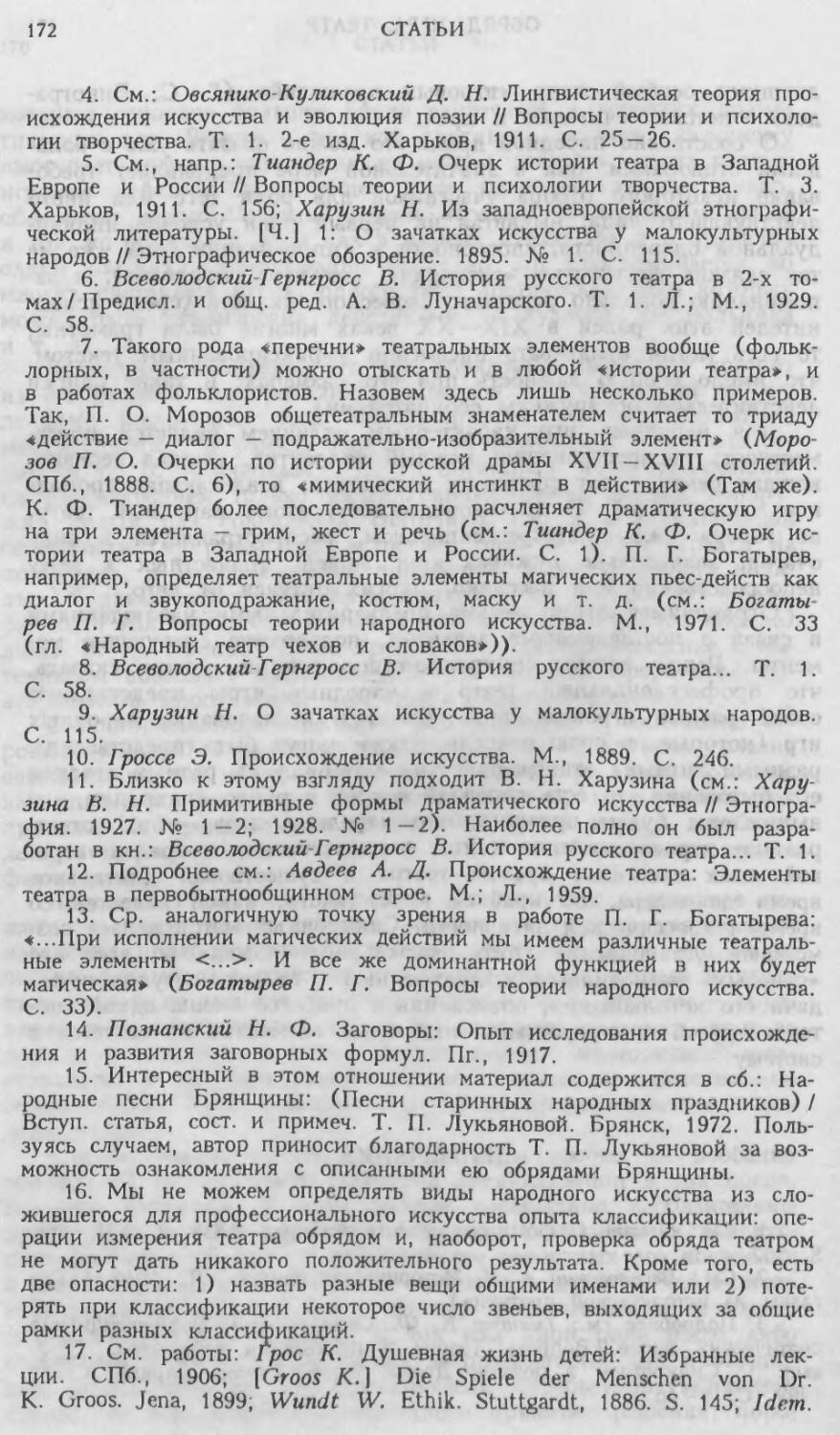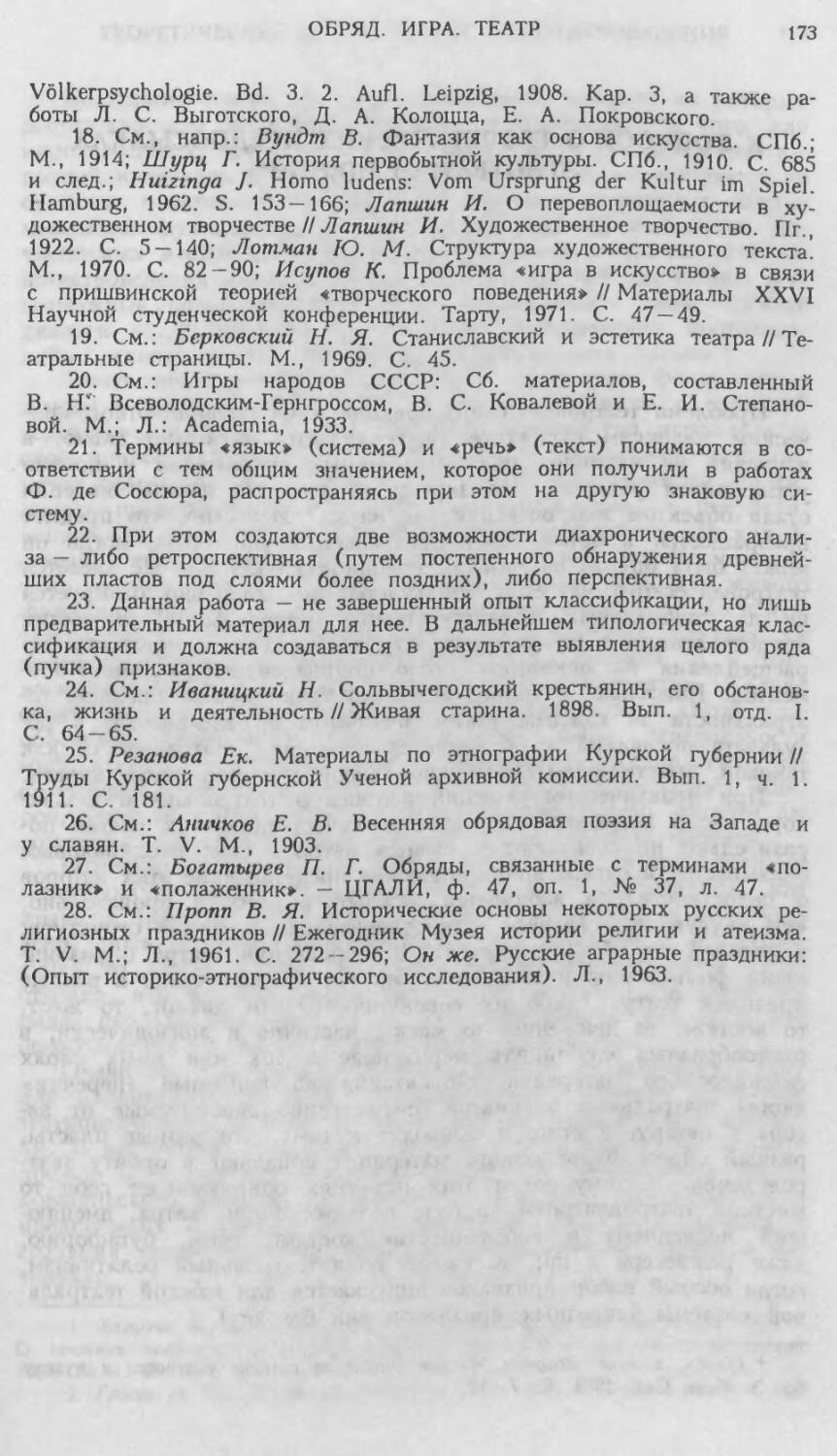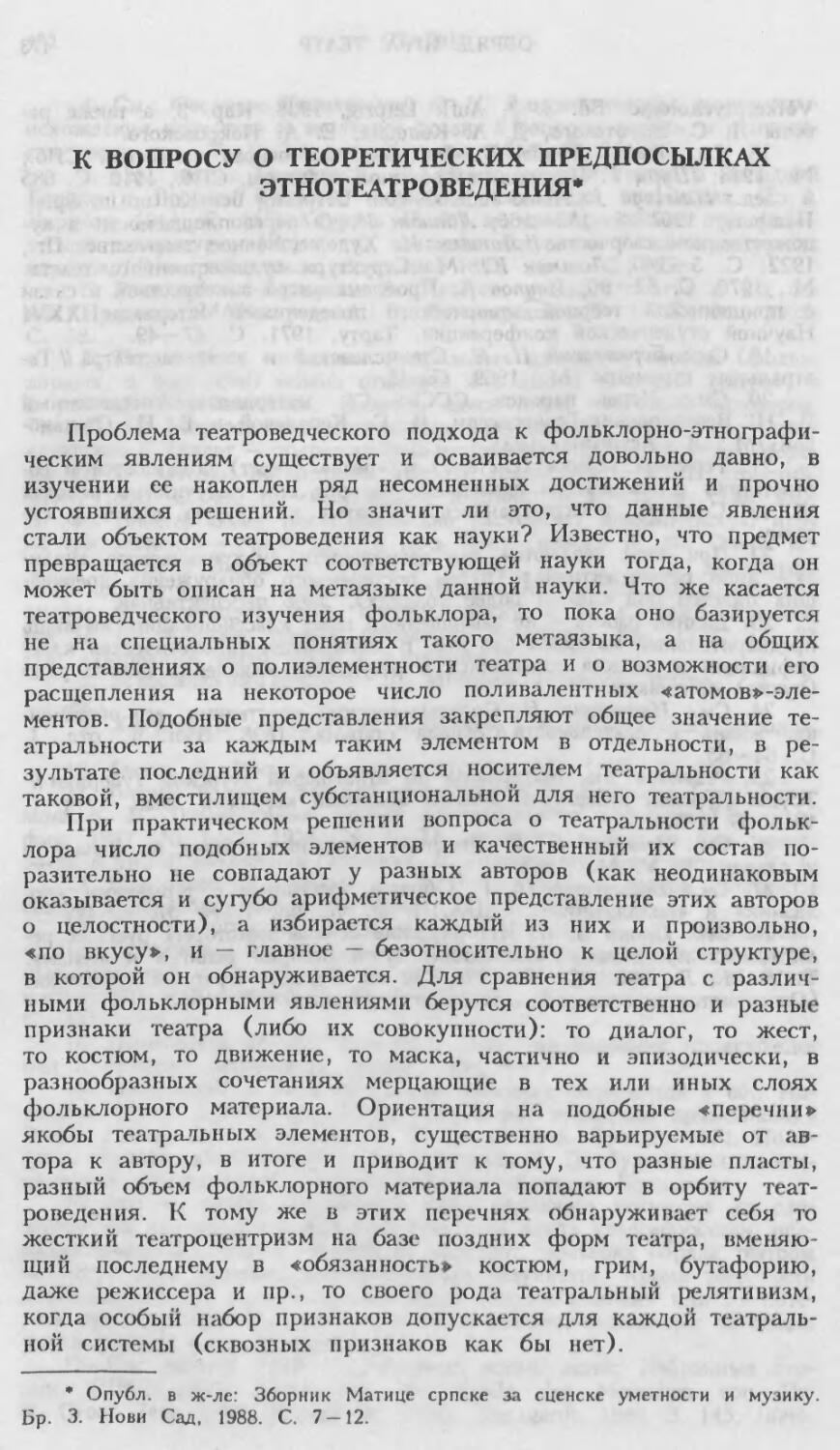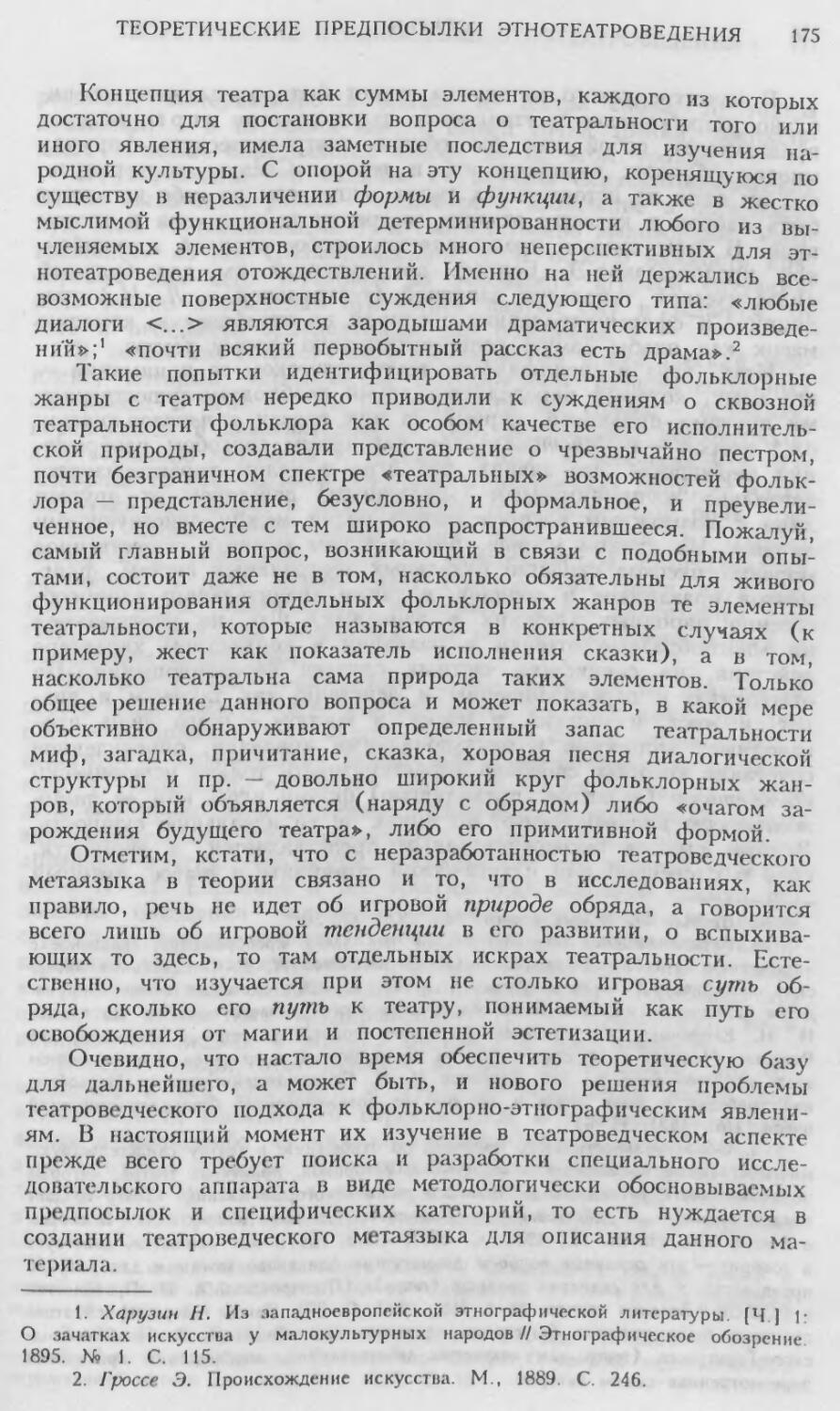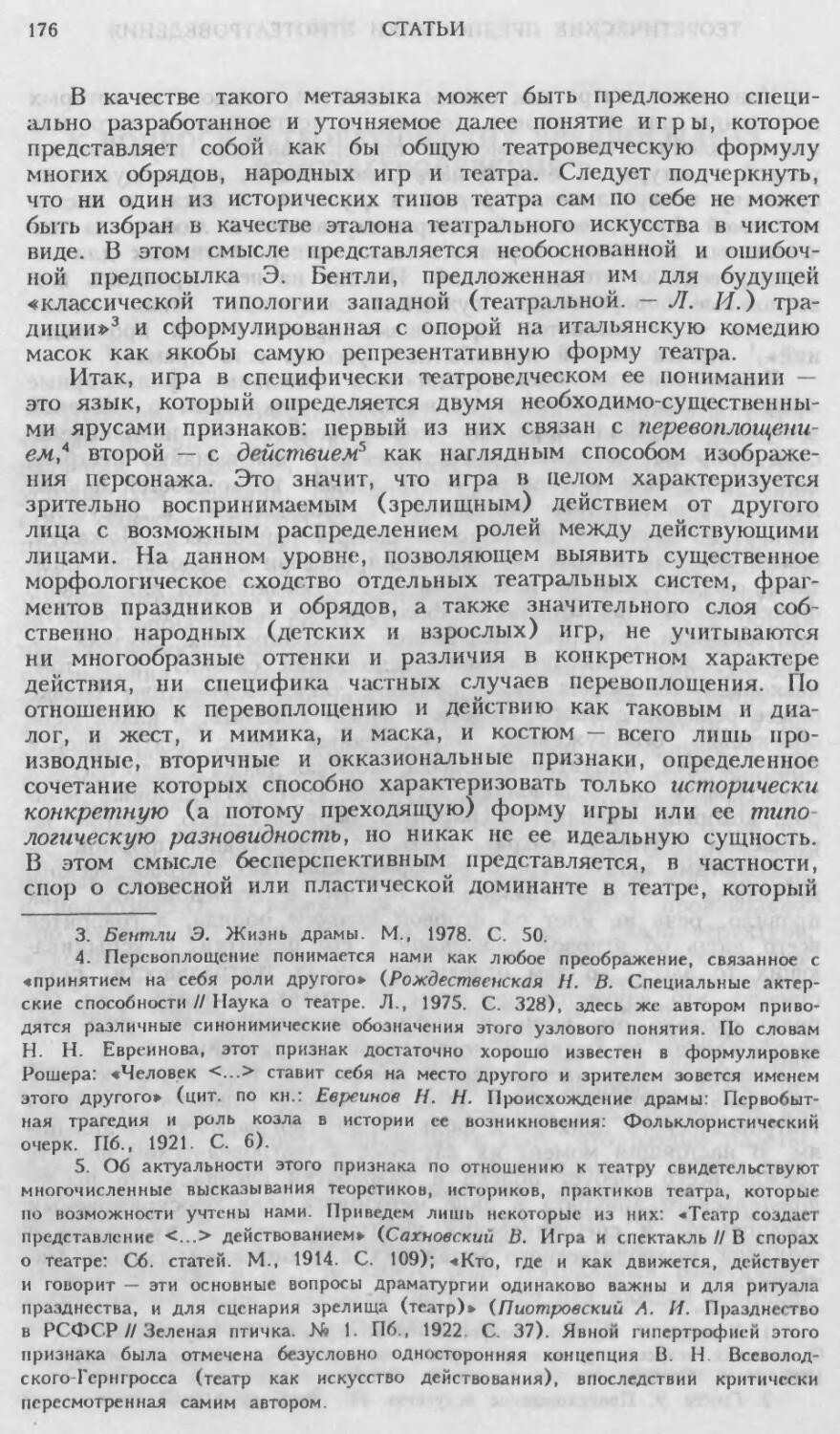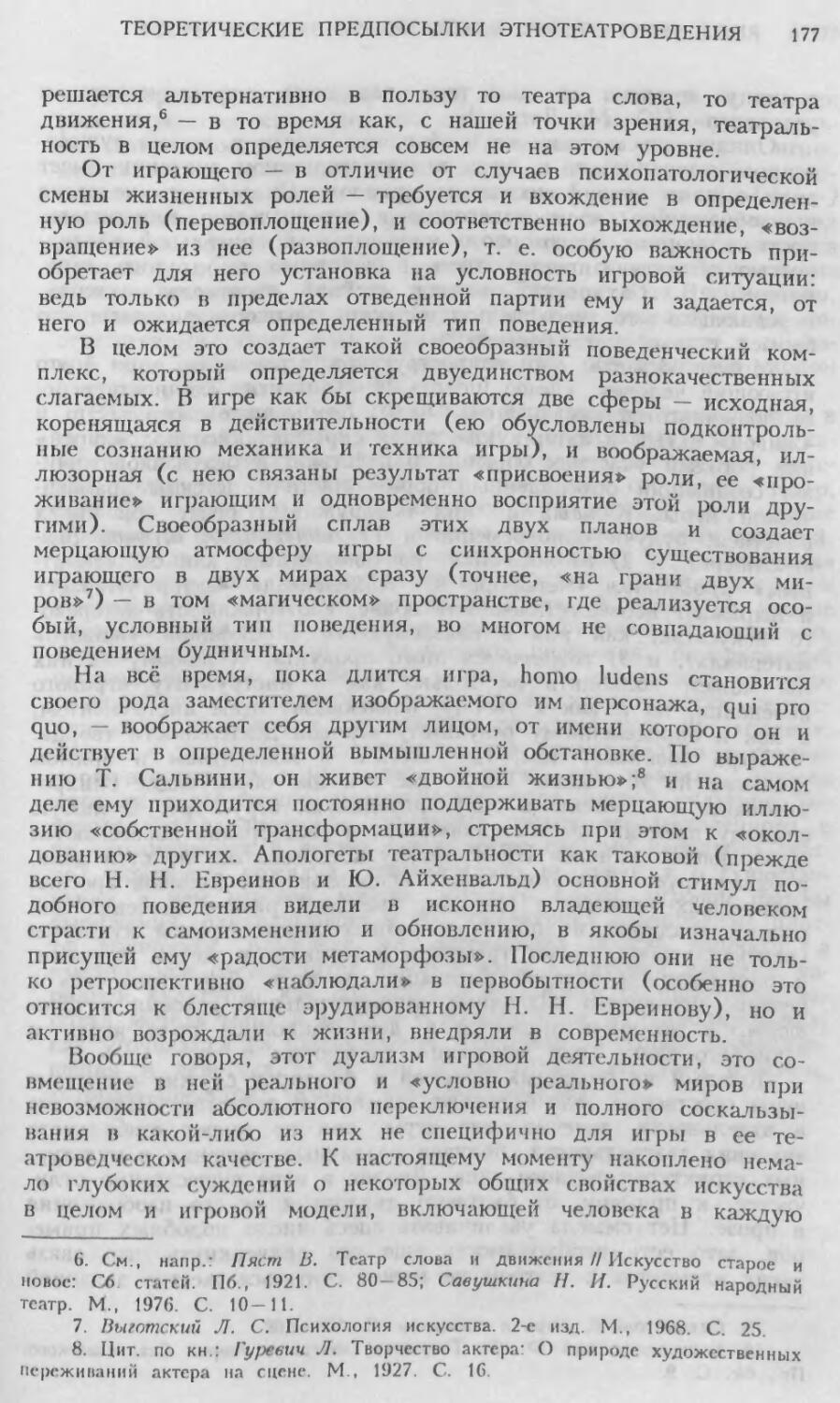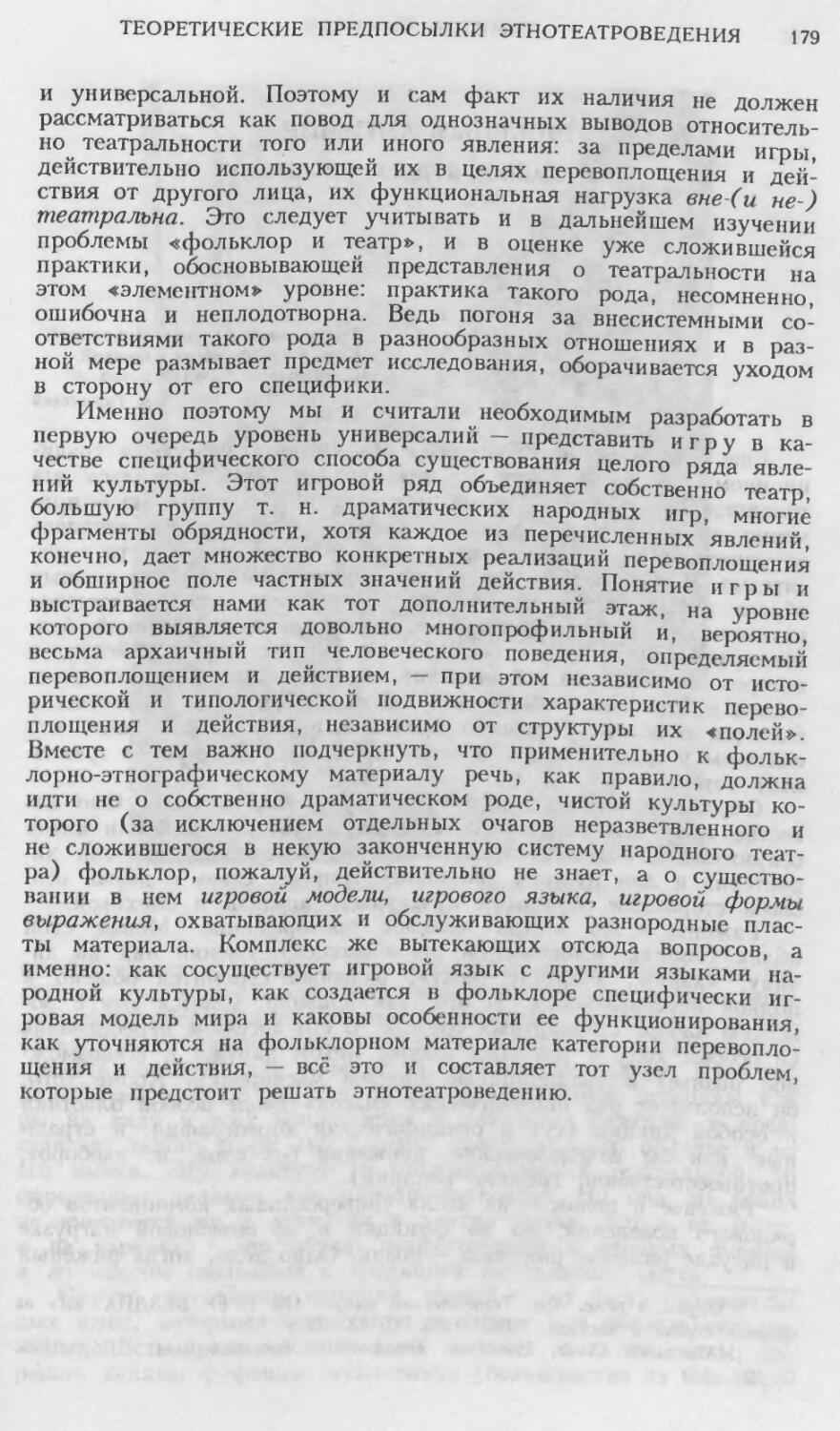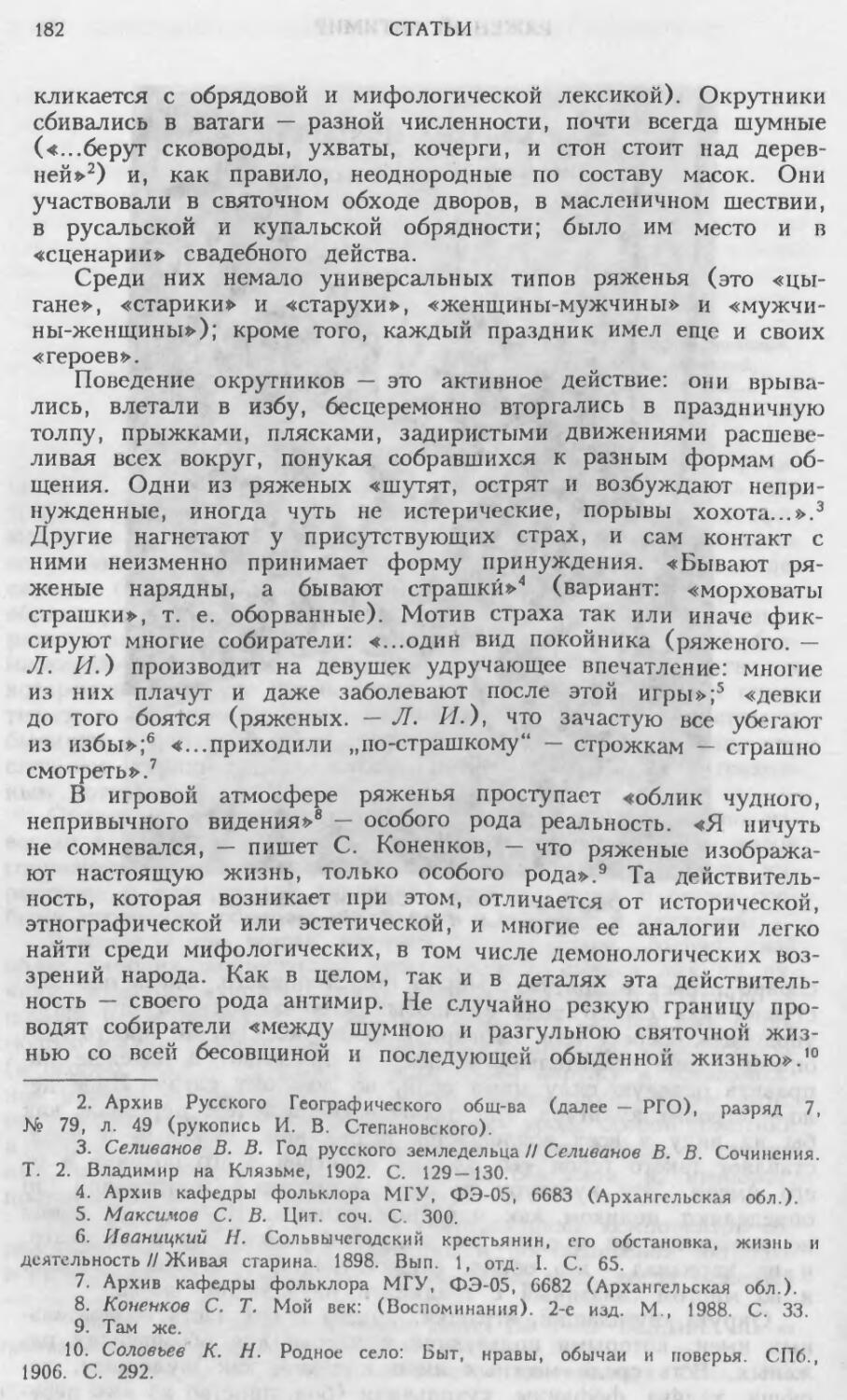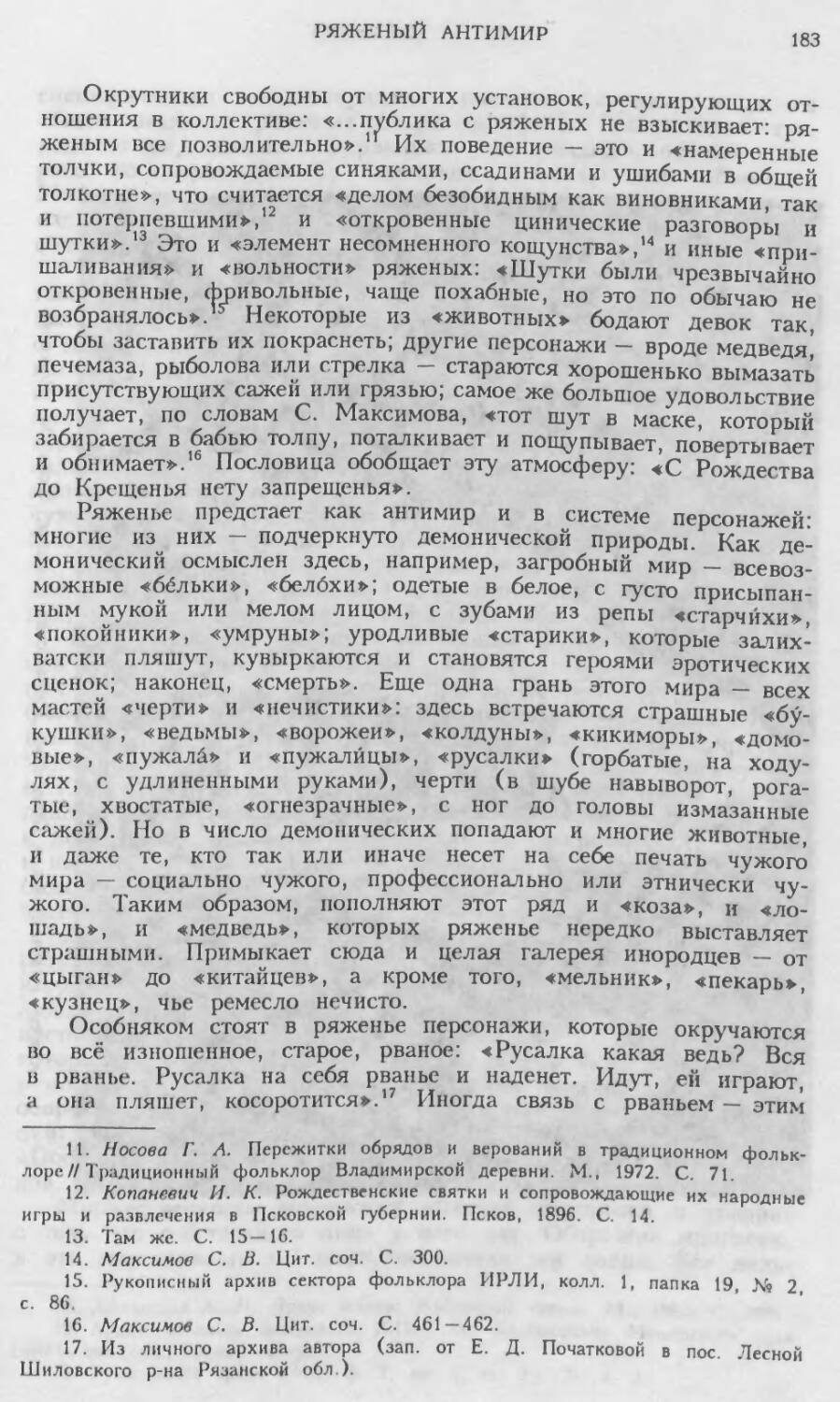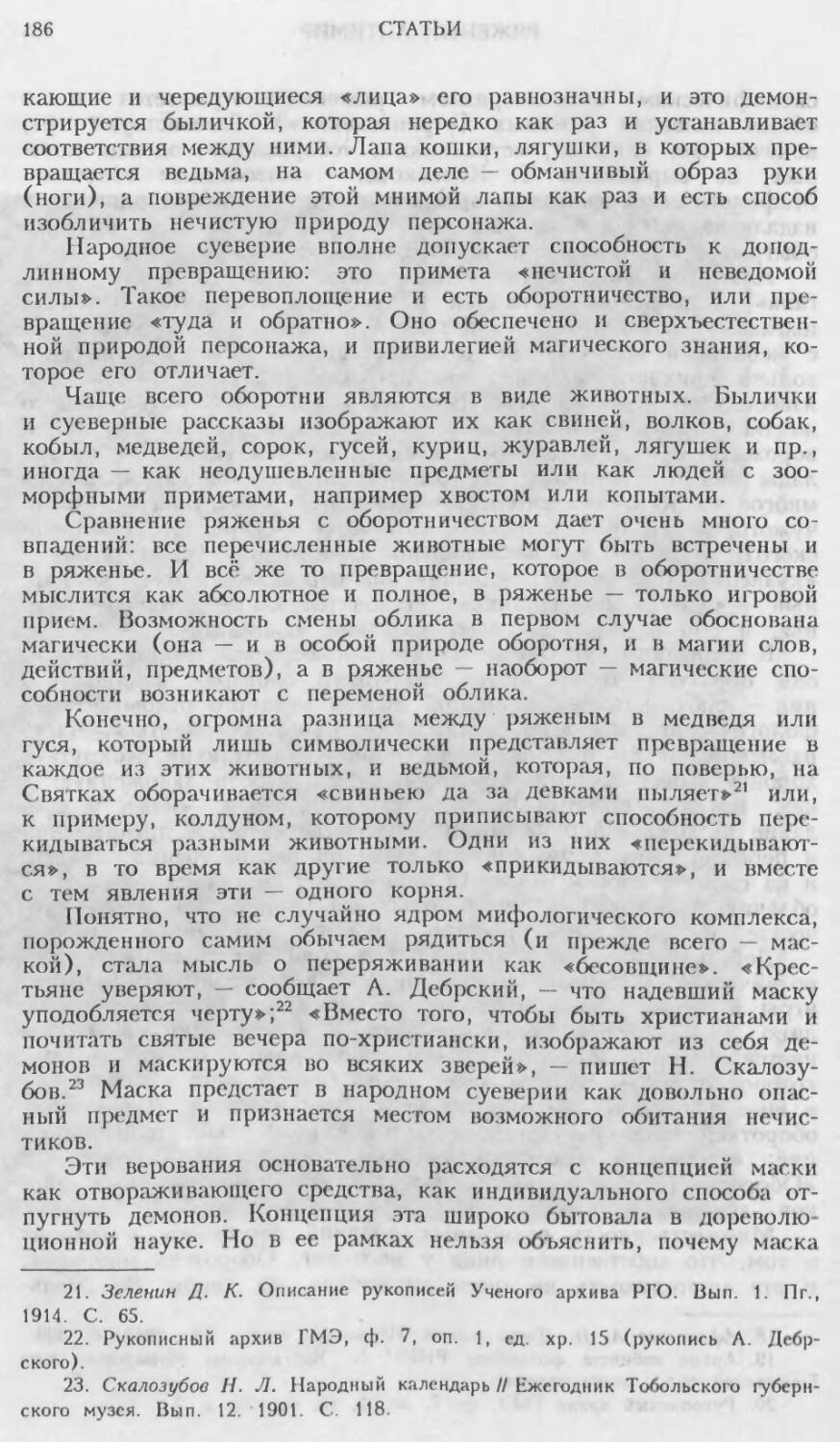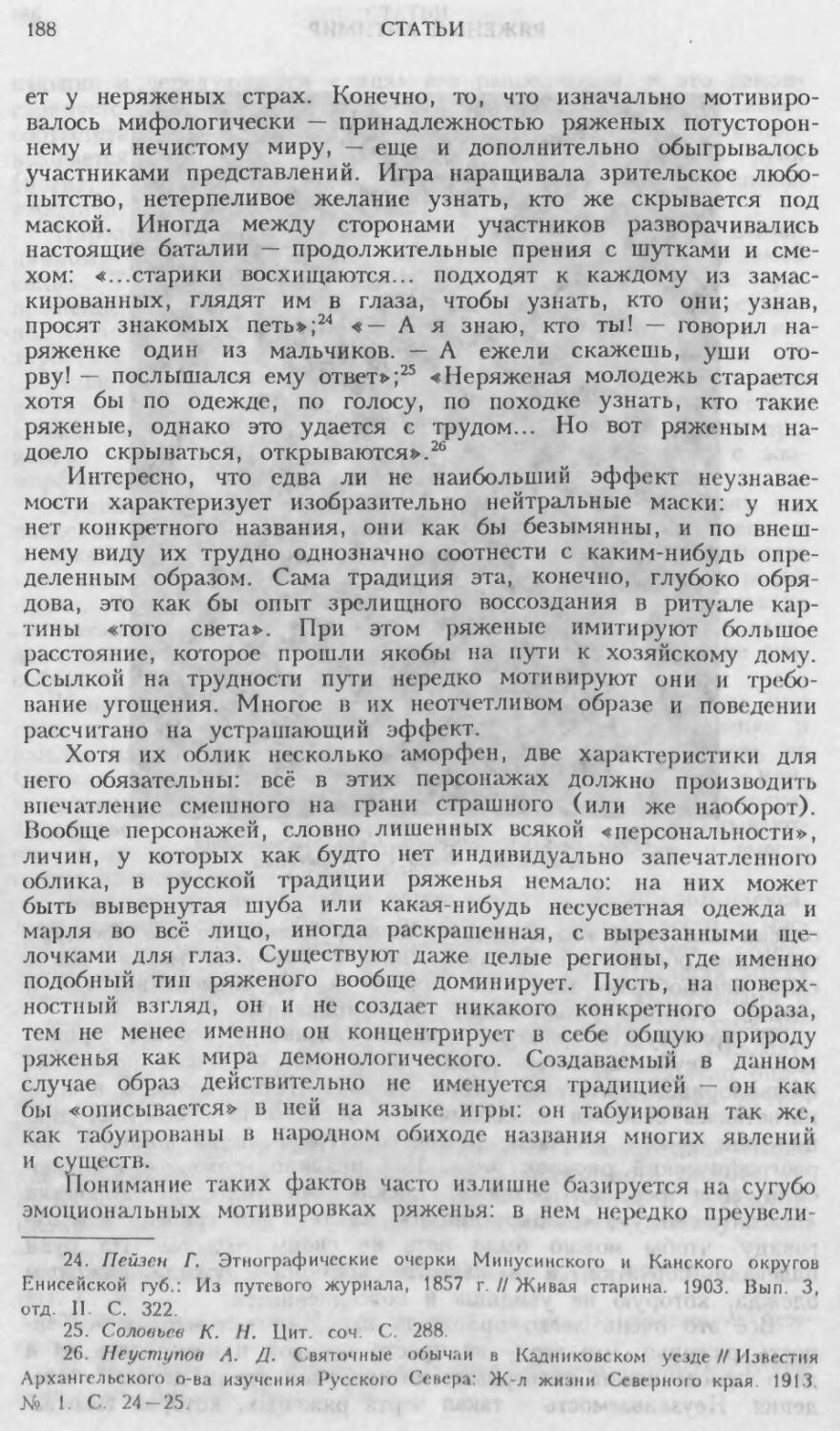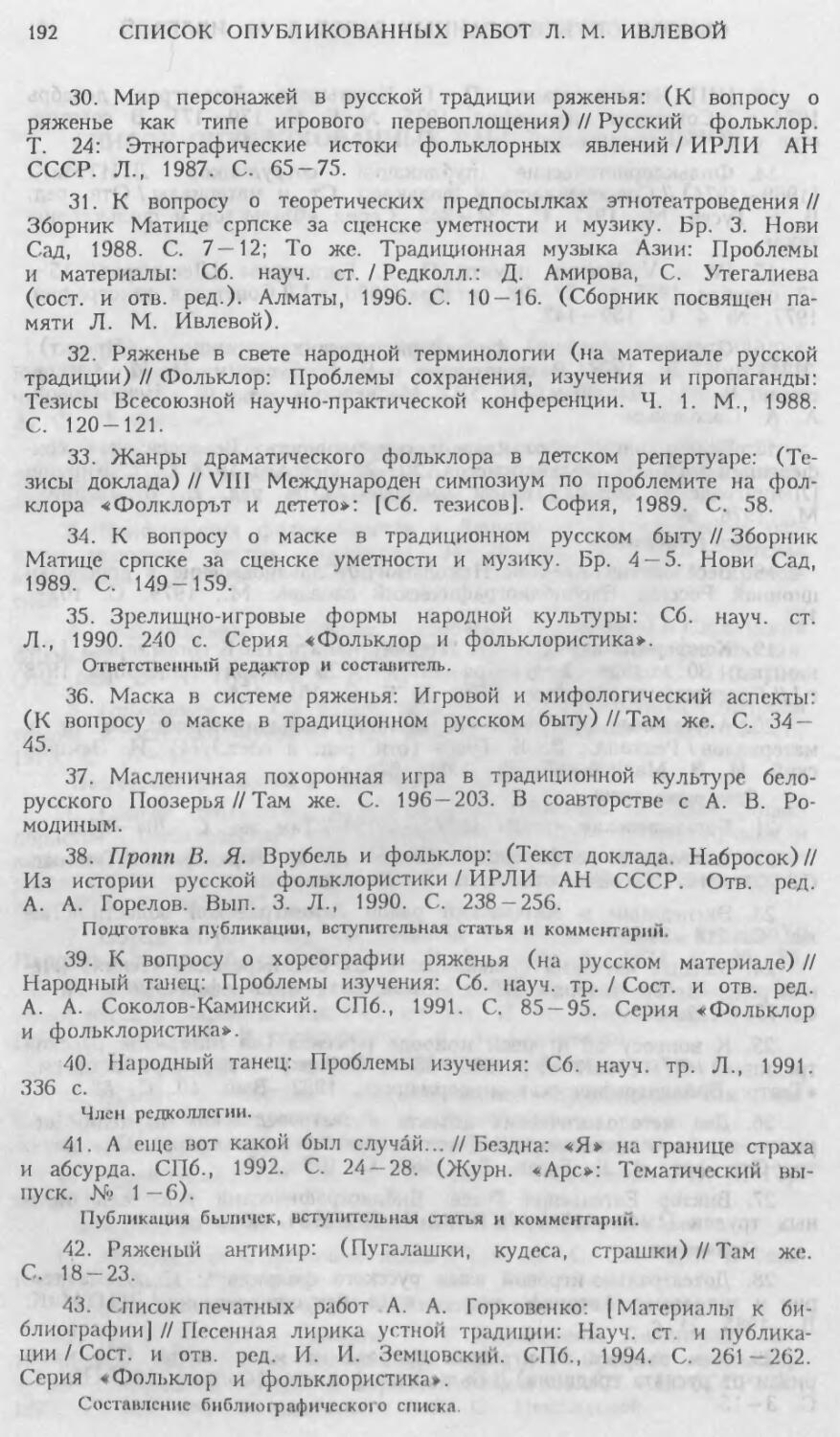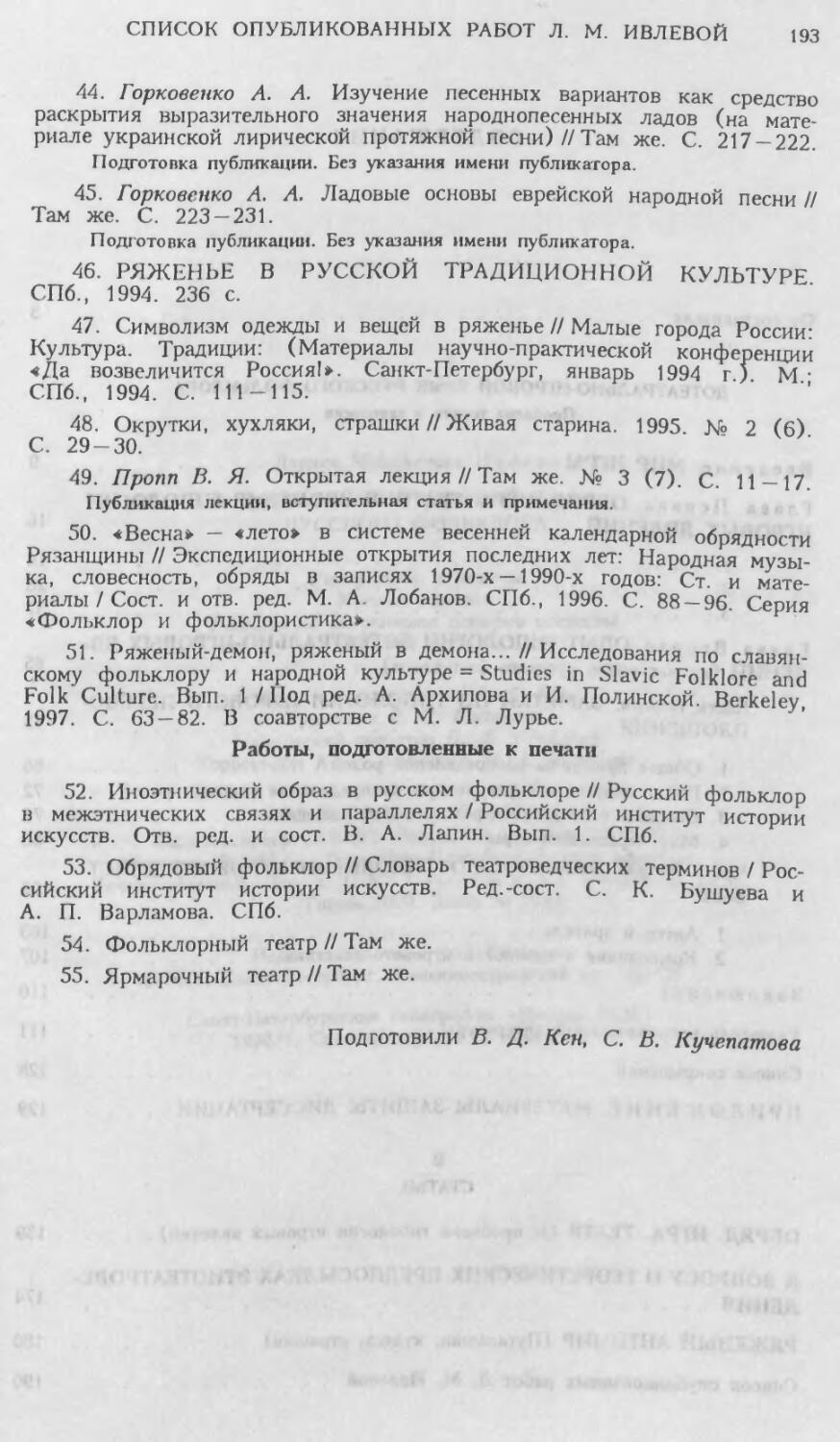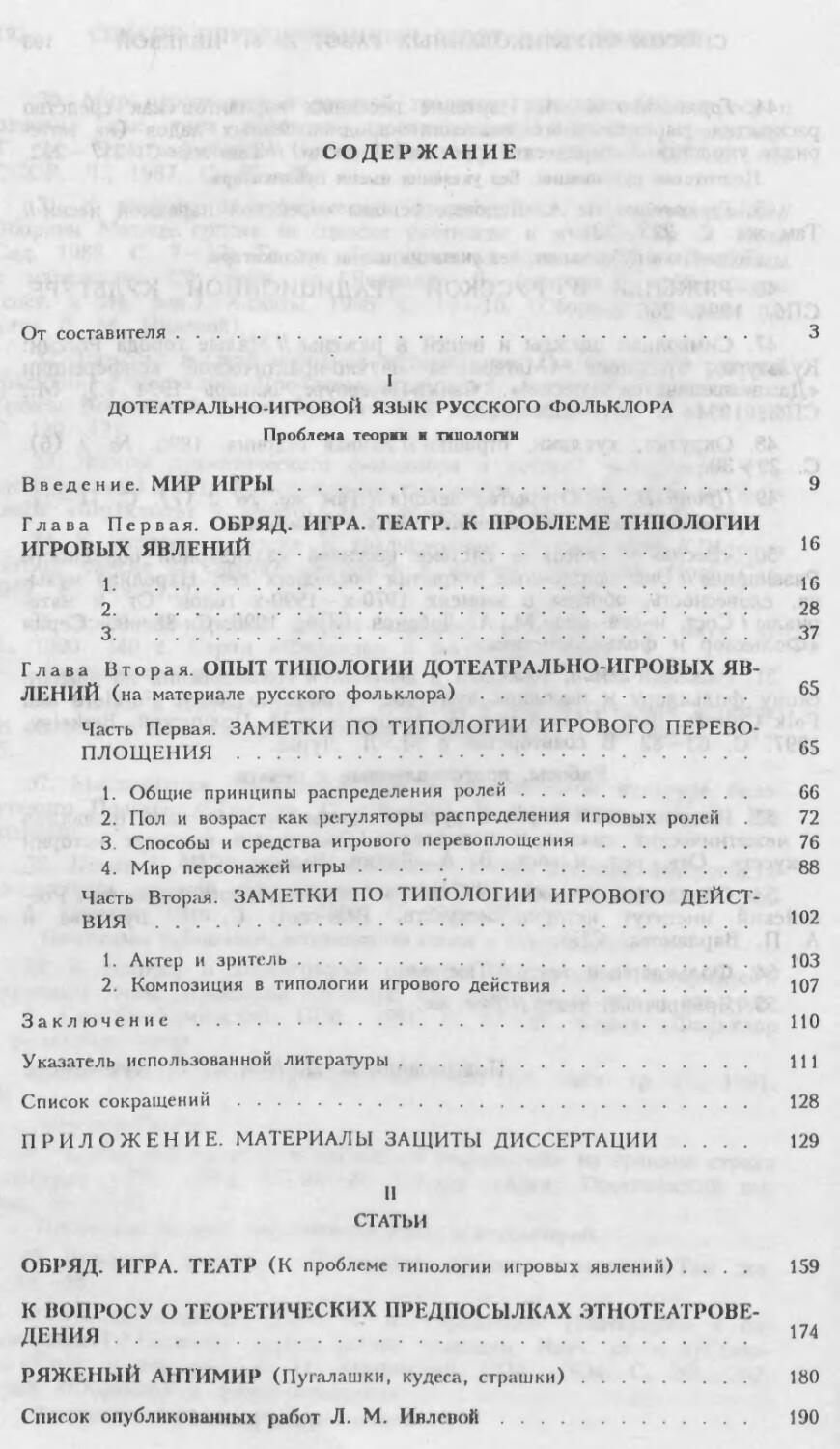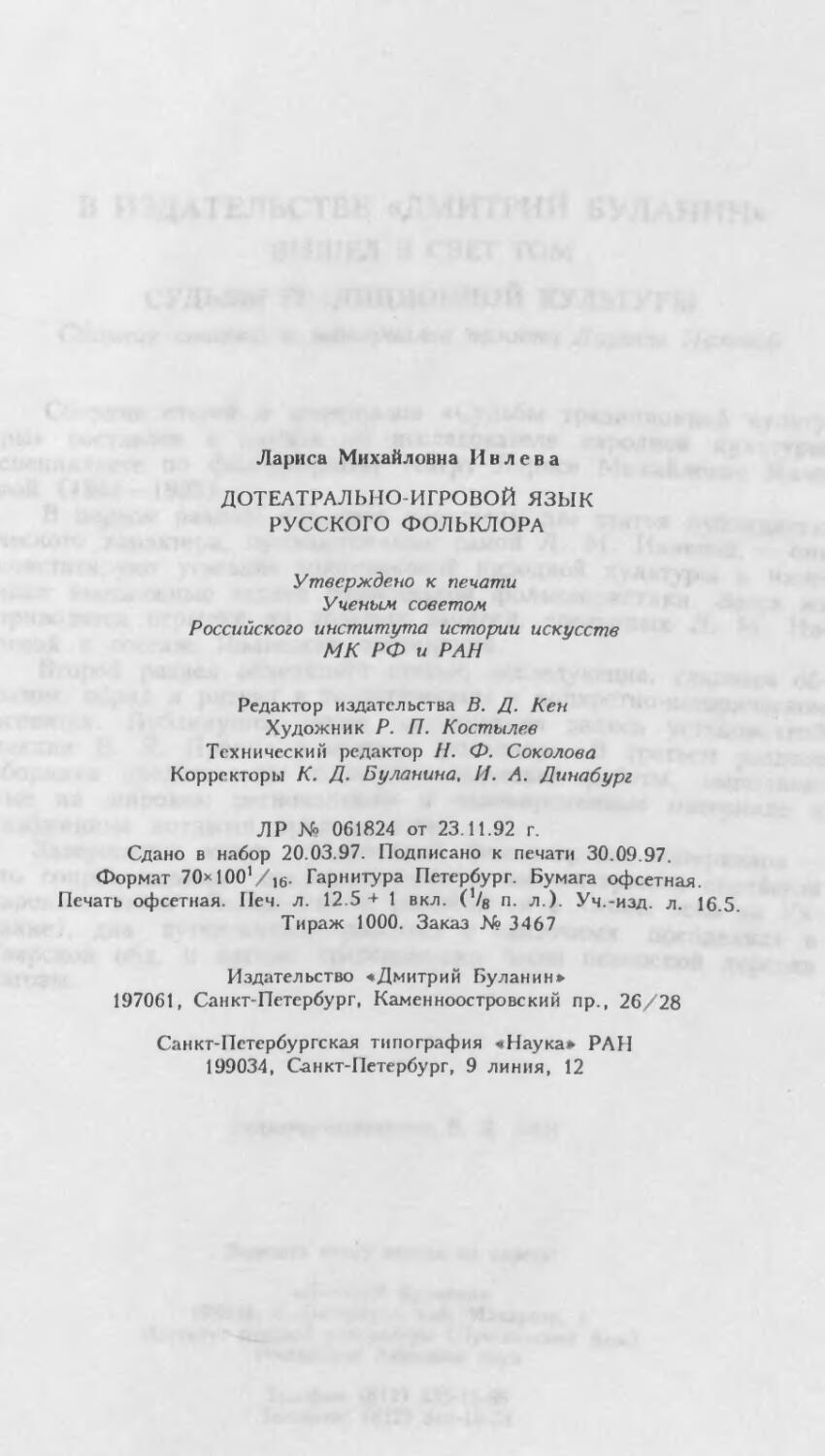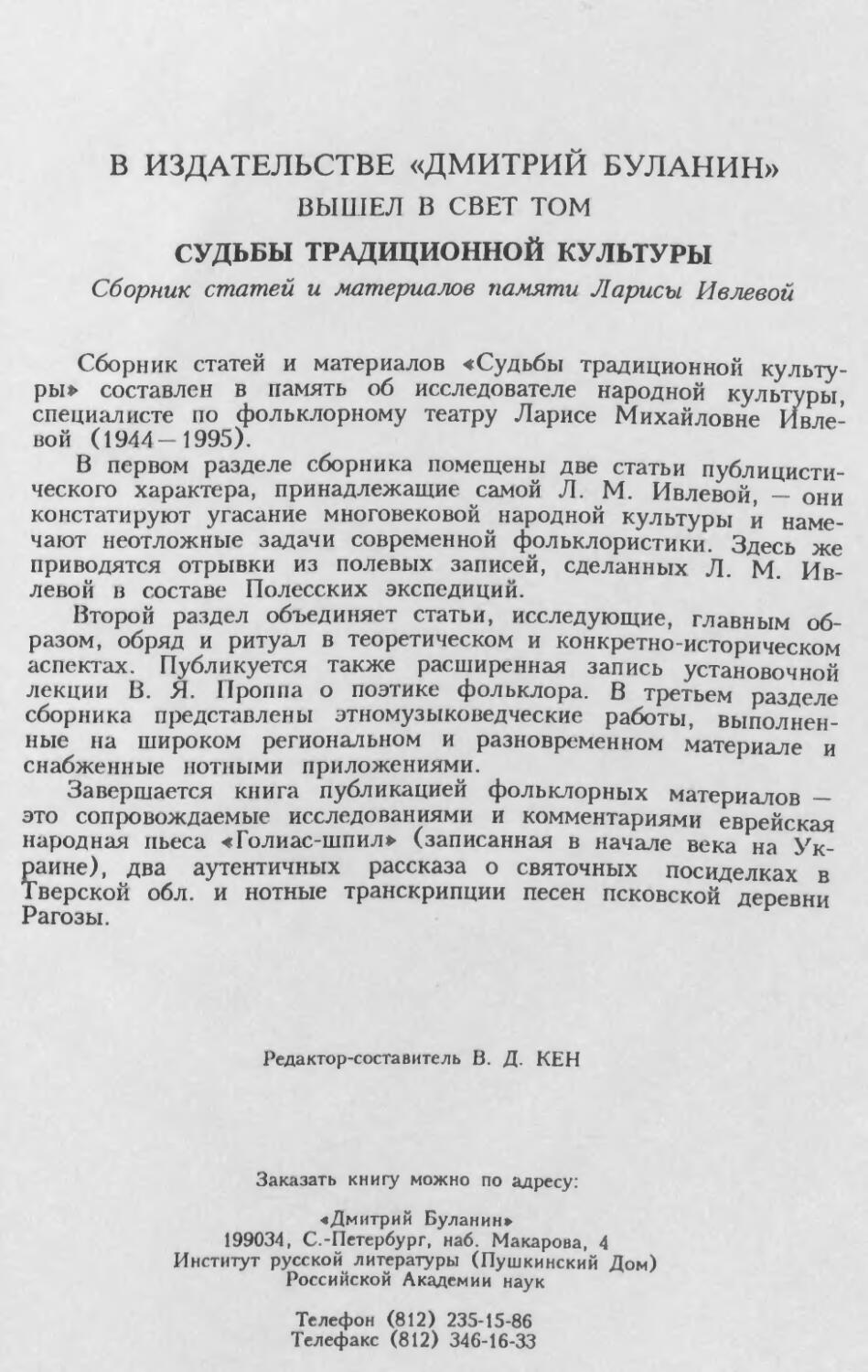Текст
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ
ЛАРИСА ИВЛЕВА
ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ЯЗЫК РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА
С.-ПЕТЕРБУРГ
1998
Лариса Михайловна Ивлева (1944—1995) — исследователь народной культуры (преимущественно русской), основатель новой научной дисциплины — этнотеатроведения, автор монографии «Ряженье в русской традиционной культуре» (1994), содержащей первый в отечественной науке целостный анализ ряженья (работа отмечена Дипломом лауреата премии МК РФ за 1996 г.).
Сборник этнотеатроведческих исследований Л. М. Ивлевой включает в себя публикацию ее кандидатской диссертации «Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. Проблема теории и типологии», защищенной в 1985 г. в Ленинградском гос. институте театра, музыки и кинематографии и признанной событием не только в фольклористике и театроведении, но также культурологии. В Приложении к диссертации помещены материалы обсуждения защиты — свидетельство живой научной полемики, вызванной решаемыми в исследовании проблемами. Особый раздел книги — статьи автора разных лет, тематически сопряженные с идеями диссертационного сочинения.
Редакционная коллегия:
И. И. ЗЕМЦОВСКИЙ, В. Д. КЕН (составитель), А. Ф. НЕКРЫЛОВА
Подготовка текста В. Д. КЕН
Фото на вклейке Ю. Е. БОЙКО
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда согласно проекту № 97-04-16411
© Л. М. Ивлева, 1998
© В. Д. Кен, составление, подготовка текста, 1998
© РИИИ, 1998
© Изд-во «Дмитрий Буланин», 1998
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Цель издания этой книги — знакомство этнографов, фольклористов, театроведов, культурологов с исследованием, идеи которого в общем виде были сформулированы более двух десятков лет назад и опубликованы в небольшом сборнике под редакцией В. Е. Гусева «Народный театр» (1974). Одна из статей сборника имела глубоко оригинальный, новаторский характер — это была статья Ларисы Михайловны Ивлевой «Обряд. Игра. Театр». Автор статьи, в прошлом выпускница филфака ЛГУ, младшая и любимая ученица В. Я. Проппа, работала тогда лаборантом сектора фольклора ленинградского Театрального института, и список ее публикаций, кроме извлечения из дипломного сочинения «Скоморошины. Общие проблемы изучения», изданного в 1972 году и впоследствии признанного классическим исследованием, состоял из отчета о фольклорной экспедиции в Карелию и научной хроники.
Вскоре статья стала предметом обсуждения на страницах не только российской, но и зарубежной печати.* Характерный штрих: в экземплярах Публичной библиотеки и Библиотеки РАН изрядное число читательских помет на полях книги несет именно эта небольшая публикация.
Десятилетие научного поиска, в том числе работа в составе экспедиций ЛГИТМиКа и Полесских этнолингвистических экспедиций под руководством акад. Н. И. Толстого, позволило развить идеи статьи 1974 года в фундаментальное теоретическое и типологическое исследование. Оно открыло новое направление этнологии — этнотеатроведение и показало несостоятельность прочно утвердившихся в науке эволюционистских теорий происхождения театра из обряда, а также предложило универсалии для атрибуции игровых явлений — основу типологического изу
* Первые отклики на работу: Акимова Т. М. Русский народный театр в исследованиях послевоенных лет//Советская этнография. 1976. № 5. С. 104; Живков Т. И. Народ и песен: (Проблеми на фолклорната песенна традиция). София, 1977. С. 41, 135—140; Театр: Научный реферативный сборник. Вып. 1: Традиции русского фольклорного театра в отечественных и зарубежных исследованиях 70-х —начала 80-х гг. М., 1983. С. 14; Сченснович В. Н. [Реф ] // Общественные науки в СССР: Литературоведение: РЖ. 1975. 1. С. 227;
Ыагог A. [Rez.] И Narodna umjetnost. Knj. 11 — 12. Zagreb, 1974/1975. S. 614; Sirovdtka O. Za poznAnim folkl6rniho divadla//NArodopisni aktuality. 0. 1. Strainice, 1975. S. 55; Slioka M. [Rez ]//Sloven sky nArodopis. R. 25. C. 4. Bratislava, 1977. S. 638; Klagge J. [Rez.J // Jahrbuch fur Volkskunde und Kultur-geschichte. Bd. 20. (N. F. Bd. 5). Berlin, 1977. S. 240-241; Drozdek B. Obrz^d, teatr, gra//Lite rat ura ludova. M 1 (21). Warszawa, 1977. S. 61 — 62.
4
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
чения зрелищно-игрового фольклора (в частности, ряженья). Это было, по словам И. И. Земцовского, «не исследование ради диссертации, а диссертация ради исследования». И вновь работа вызвала широкий резонанс, хотя, естественно, концепции Л. М. Ивлевой становились известными и входили в научный оборот не посредством знакомства с текстом самой диссертации, а благодаря широкому хождению автореферата, частота цитирования которого в специальной литературе весьма впечатляюща.
Основная часть настоящей книги — диссертация Ларисы Михайловны Ивлевой «Дотеатрально-игровой язык русского фольклора: Проблема истории и типологии» на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности «театральное искусство» (научный руководитель — заслуженный деятель искусств России В. Е. Гусев). Защита состоялась в ноябре 1985 года в научно-исследовательском отделе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский институт истории искусств (Зубовский)). Официальными оппонентами на защиту были приглашены Б. Н. Путилов (Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая) и Ю. А. Смирнов-Несвицкий (ЛГИТМиК). В ходе защиты все без исключения выступающие выражали надежду увидеть диссертацию опубликованной монографией.
Текст диссертации печатается по машинописному экземпляру, принадлежавшему Ларисе Михайловне и имеющему небольшое число сделанных ее рукой исправлений. Если эта правка не содержится в библиотечных экземплярах, она внесена в текст с соответствующей оговоркой редактора.* Унифицированы формальные средства подачи текста (сокращения слов, рисунок скобок, употребление инициалов при фамилиях, логические ударения и т. п.). Естественно, текст не подвергался иному редактированию; пунктуация везде сохранена авторская. Значительная работа была проведена лишь со справочным аппаратом: он унифицирован в соответствии с существующими правилами, внутри себя приведен в порядок, некоторые библиографические данные уточнены по генеральному систематическому катало^ РПБ, библиографическому указателю «Русский фольклор» или de visu.
Думается, немалый интерес вызовет научная полемика, развернувшаяся на защите диссертации. В Приложении к Первому разделу книги публикуются материалы этой дискуссии. Тексты выступлений официальных оппонентов, ведущей организации (ИРЛИ), отзывы на автореферат и Проект Заключения Специализированного совета хранятся в Архиве РИИИ, вступительное слово диссертанта и его ответы оппонентам — в личном архиве Л. М. Ивлевой, каждый в нескольких вариантах с незначительными разночтениями. Для издания выбраны тексты, по возможности полно отражающие суть ответа и стиль полемики, свойственный Ларисе Михайловне.
Второй раздел книги объединяет статьи Л. М. Ивлевой, написанные в разные годы и содержательно примыкающие к основному кругу идей диссертации. Выбор был остановлен именно
* На с. 64 машинописи (с. 44 настоящего издания) обрыв фразы, не устраненный автором ни в одном экземпляре, отмечен отточием в угловых скобках.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
5
на этих трех статьях еще и потому, что публиковались они либо достаточно давно, либо в малотиражных периодических изданиях (в частности, югославском) и, следовательно, не всегда доступны читателю. Сокращать тексты не представилось возможным, поскольку каждый — законченное научное произведение, со своей логикой рассуждения, композицией, ритмом. О статье «Обряд. Игра. Театр» уже говорилось особо, в миниатюре «К вопросу о теоретических предпосылках этнотеатроведения» лаконично и изящно сформулировано этнотеатроведческое кредо автора, «Ряженый антимир» — интересная попытка популяризации своих взглядов и наблюдений.
Книгу завершает Список опубликованных работ Л. М. Ивлевой, который, вероятно, нельзя считать окончательным. В принципе, возможно обнаружение не учтенных здесь источников, к тому же есть надежда, что еще не одна работа Ларисы Михайловны увидит свет.
Всем причастным к предпринятому изданию важно сказать, что оно — дань памяти, любви и уважения к Ларисе Михайловне Ивлевой.
Вслед этой книге подготовлен том «Судьбы традиционной культуры», который собрал друзей и единомышленников Ларисы для встречи с ней в научном пространстве — ее Доме.
Тепло благодарю маму Ларисы Михайловны — Нину Степановну Ивлеву, чье мужество и доброта неизменно помогали в работе с архивом и над книгой. Хочется надеяться, что радость видеть изданной еще одну книгу дочери поддержит ее.
Я признательна за квалифицированные советы моим соредакторам — этномузыковеду И. И. Зсмцовскому (совместно с американским фольклористом Дж. Бейли он готовит выход в свет диссертации Л. М. Ивлевой на английском языке «The Pretheater Play Language of Russian Folklore: Theory and Typology») и этнотеатроведу А. Ф. Некрыловой, которая заменила Ларису Михайловну на посту заведующего сектором фольклора РИИИ.
Благодарю также Любовь и Наталью Ивлевых, Наилю Аль-мееву, Веру Варганову, Ирину и Александра Ромодиных.
I
ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ЯЗЫК РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА
Проблема теории и типологии
ВВЕДЕНИЕ
*
МИР ИГРЫ
Игра — это вечное вращение зыбкого круга...
С. С. Аверинцев
«Игра — явление весьма широкое. Играют не только дети, но и взрослые <...>, не только люди, но и животные».1 Произнося слово «игра», мы попадаем в круг представлений, границы которого настолько неопределенны, что в общем виде даже приблизительно едва ли могут быть очерчены сразу. Мы как бы переступаем с этажа на этаж этого разновысотного и комплексного понятия, чтобы в итоге сузить его до размеров предмета театроведческого исследования.
И материал, который потенциально стоит за словом «игра», поначалу тоже неотчетлив и разнороден. Его также предстоит дифференцировать и постепенно сузить (в соответствии с предметом исследования) — найти определенное русло в общем потоке фольклорного материала, затем просеять, вычленить и обосновать опорный материал, прежде чем мы примемся анализировать и типологизировать его. Таковы исходные точки настоящей работы и самые первые побуждения автора.
Для начала оглядимся в этом просторном мире — понятийной сфере игры. Принадлежащая «к разряду блуждающих категорий»,2 «игра» предстает перед нами, во-первых, как одно из универсальных и фундаментальных понятий антропологии, общей истории и теории культуры3 (с ним вплотную соприкасается про
1. Каптерев П., 1898, № 154, с. 12. Здесь и далее источники цитат и другие библиографические сведения приводятся сокращенно (последовательно называются автор, год издания, номер соответствующего источника по Указателю использованной литературы; разные источники отделяются друг от друга точкой с запятой).
2. Исупов К., 1971, ЛЬ 143, с. 47.
3. Имеется в виду большая литература, посвященная разным аспектам игровой деятельности, в частности: Тэйлор Э., 1872, ЛЬ 318, с. 67—68; Спенсер Г., 1876, ЛЬ 295, с. 331-354 (ч. 8, гл. IX); [Groos К.], 1899, № 367; [Idem], 1923, Nb 366 (см. также русский перевод: Грос К., 1906, ЛЬ 85, с. 67 — 96); Wundt W., 1908, № 386; Вундт В., 1914, ЛЬ 66, с. 135-138; Плеханов Г. В., 1958, ЛЬ 238; Лап-тин И., 1922, № 182, с. 39 — 40; Huizinga J., 1962, ЛЬ 369; Выготский Л. С., 1966, ЛЬ 67.
10
ВВЕДЕНИЕ
блематика, существенная для изучения ритуализованных форм жизни, происхождения искусства и, конечно же, самого человека как биологического вида, у которого сложилось детство в собственном смысле слова и появилась тесно связанная с ним игра4). Во-вторых, «игра» — это еще и комплекс специальных понятий, получивших большую или меньшую разработку в самостоятельных областях знания.
В таких науках и научных отраслях, как биология, антропология, педагогика, эстетика, социология и этнография детства, к настоящему времени создано немало частных определений и теорий игры, каждое (каждая) из которых практически автономно, сосредоточено на специфическом комплексе проблем и до конца непереводимо на язык другой науки. Игра предстает перед нами то сочетанием мотивов счастья и колдовства (В. Вундт), то репродуцированной формой, копией жизни (Э. Тэйлор, Г. Спенсер и др.); она выступает как синтез народного театра и народной гимнастики (И. А. Худяков) и как аналог поэтического творчества (3. Фрейд); игру рассматривают в качестве биологически целесообразного механизма экспериментирования, упражнения или, наоборот, отдыха и в качестве своеобразного канала для освобождения от избытка жизненных сил; ее изучают в связи с проблемами катарсиса, поли персонализма, а также трактуют как страсть души к странствиям («Wanderlust der Seele») или как радость метаморфозы («Freude an die Metamorphose»)...
На фоне столь разнонаправленных решений правомерно, наверное, задаться вопросом о том, существует ли вообще такое единое смысловое ядро, вокруг которого стягивался бы весь комплекс специальных определений игры. Пожалуй, на роль такого ядра, на значение «общего знаменателя» может претендовать именно представление о том, что игра есть обособленная (в пространственно-временном отношении) и самоценная деятельность человека, в которой он преодолевает ограничения физической реальности и вырывается за пределы эмпирического, реализуя тем самым свои потребности в свободе и удовольствии. Этот вывод получает обоснование во взглядах В. Вундта,5 Л. С. Выготского,6 К. Гроса,7 Р. Кайюа,8 К. Райнери,9 3. Фрейда,10 И. Хойзинги11 и многих других.
Погружаясь в мир игры, мы оказываемся перед фактом, что словесная, спортивная игра, игра воображения и игра ума, включая все виды творчества, то есть разные «сенсорные», «моторные», «интеллектуальные», «аффективные», «подражательные» и
4. См.: Выготский Л. С., Лурия А. Р., 1930, № 70, гл. 3.
5. См.: Wundt W.t 1908, Mb 386, S 9-11, 75-76.
6. См.: Выготский Л. С., 1960, Nb 69.
7. См.: Грос К., 1916, Mb 86 (см. также предисловие В. В. Зеньковского к этой книге).
8. О концепции Р. Кайюа (см. его кн. «Les Jeux et les Homines») нам известно по публикации: Что такое игра?, 1980, № 346.
9. Характеристику его взглядов на игру см. в Предисловии Н Фирнелли к кн.: Колоцца Д. А., 1909, № 159, с. IX —XVIII.
10. См.: Фрейд 3., 1912, Mb 332, с. 18.
11. См.: Huizinga J., 1962, Mb 369
МИР ИГРЫ
11
т. п. (по классификации К. Гроса12 13) игровые формы, — всё это различные грани игры как таковой, из которых и складывается разноцветная мозаика этого понятия. Отыскивать в этой мозаике значение некоего культурологического целого — задача, безусловно, философская.
Перспектива же нашего исследования должна быть обозначена совсем в другой плоскости. Она связана с попыткой выйти из емкого круга этого комплексного и пока еще слабо дифференцированного понятия в сферу собственно театроведческого представления об игре, которое необходимо специально создать, чтобы получить для работы целенаправленно отобранный и надежный материал.
Для наших целей существенно подчеркнуть (и к этому мы еще вернемся), что широкое распространение получил взгляд на игру как на продукт вторичной жизни отдельных явлений в культуре. Игра рассматривается при этом либо как репродукция труда — в ее тренирующей и коллективизирующей функции, либо как развлекательное, очищенное от непосредственно практических намерений подражание серьезным занятиям, копия «взрослых деятельностей*Л (в том числе как пережиточная стадия в процессе выветривания и распада различных социальных институтов, обрядов, культов14), либо как импульс и вместе с тем определенный этап на пути преобразования обряда в самостоятельные виды искусства, в частности в драму.15
В народном языковом обиходе система значений слова «игра* оказывается весьма разветвленной и складывается из ряда переносных значений, возникших на общей лингвистической почве и в своем удалении от смыслового ядра приведших фактически к появлению омонимичных форм. Некоторые из них учтены, к примеру, А. С. Фаминцыным: «Под словом игра следует понимать не одну игру на инструменте, но и тесно связывавшееся с нею в старину пение, — так в былинах обыкновенно понимается игра скоморохов <...>*.16
Игровой мир русского фольклора, как он охватывается соответствующей народной терминологией, поразительно разносто-ронен, многолик и, безусловно, неоднороден. Языковая практика народа выявляет его диапазон широко — от полюса хороводной или свадебной игры («играть песню*, «играть свадьбу*) до полюса игры на музыкальном инструменте; она позволяет пройти по разным его ступеням, как бы играя всеми значениями самого слова. «Мы называем игрой воспроизведение детьми или молодежью, а в известных случаях и взрослыми различных бытовых
12. См.: \Groos К.], 1899, № 367.
13. См.: Спенсер Г., 1876, 295, с. 335.
14. См.: Вундт В,, 1914, № 66, с. 138-139; Rosen К., 1905, № 381;
Singer S., 1912, 382; Резанов Вл. И., 1904, № 255; Зеленин Д. К., 1934,
№ 123, с. 11-12; Фукъер Б. де, 1877, № 335; и мн. др.
15. См. далее о теории распада первобытного синкретического прадейства, объясняющей, по А. Н. Веселовскому, происхождение драмы вырождением обряда в игры при календарных праздниках через переходную ступень культа (см.: Веселовский А. Н., 1913, № 52, с. 285 — 286, 354). Ср. также: Всеволод-ский-Гернгросс В. Н., 1933, № 63, с. XVIII.
16. [Фаминцын А. С.], 1889, № 328, с. 10.
12
ВВЕДЕНИЕ
сцен, например, охоты, войны, революции <...>, мы называем игрой прятки, ловитки, городки, лапту; мы знаем длинный ряд игр хороводных», — пишет по этому поводу В. Н. Всеволод-ский-Гернгросс,17 присоединяя к данному списку еще и группу обрядовых игр.
Вместе с тем можно привести немало примеров, когда в научном (в том числе фольклористическом и этнографическом) обиходе разные значения этого слова также не дифференцируются и используются, по существу, синонимично. За общим названием мало похожих друг на друга явлений народной культуры исследователи нередко готовы видеть некие общие свойства, а строительство смысловых мостов на этой языковой базе оборачивается то поспешными генетическими выводами,18 то смелыми заменами одного явления другим только по сходству их наименований. Последнее касается прежде всего таких не до конца размежеванных понятий, как игра — проявление драматического начала и игра — забава, увеселение, развлечение, которые на практике нередко взаимозаменяются, соскальзывают одно на другое, окончательно теряя при этом свою специфику.
В русской фольклористике одной из первых попыток выстроить терминологический «словарь» игры, внутренне организовать охватываемый им пестрый и разрозненный материал, найти место отдельных игровых явлений в многослойном и разнокачественном мире игры стала антология «Игры народов СССР» (1933, № 142).19 В предисловии к этому труду были достаточно подробно изложены основные классификационные принципы его составителей, а также дан критический разбор некоторых предшествующих опытов, принадлежащих зарубежным исследователям народной игры.
Утверждая в этой статье принадлежность всех без исключения игровых явлений «к одной общественной практике» (она понимается при этом как «действенное воспроизведение любого жизненного явления <...> вне его реальной практической установки»20), В. И. Всеволодский-Герн гросс попытался вместе с тем преодолеть существующую языковую инерцию, сливающую в одном слове как минимум два самостоятельных понятия (игра как забава; игра как установка на «проживание» вымышленной ситуации). Вернее, он сделал соответствующую языковую практику своеобразным инструментом историко-типологического подхода.
В значительной степени усвоив предложенную в свое время А. Гомм классификацию игр, критически оцененную им как всего лишь бесперспективный «перечень», В. Н. Всеволодский-Герн-
17. Всеволодский-Гернгросс В. Н., 1933, № 63, с. XV.
18. Показательно, например, генетическое истолкование разновидностей детской игры П, Ф. Каптеревым (см.: 1898, М? 154, с. 12), который рассматривает их в следующей исторической последовательности: 1) самые ранние и простые игры — физические, подвижные, 2) затем — подражательные, связанные с внесением в «моторную» игру «психического элемента», 3) драматические.
19. Отдельные опыты классификации, непосредственно связанные с задачами публикации материала, предпринимались и ранее, но, как правило, они ограничивались детской игрой.
20. Всеволодский-Гернгросс В. II., 1933, N* 63, с. XXIII.
МИР ИГРЫ
13
гросс наметил три основные группы — три «формальных типа» — игр (драматические, спортивные, орнаментальные), а также промежуточные ступени между ними (игры в войну и хороводные).21 Наряду с этим и как бы вопреки сугубо «формальному» характеру данных типов, он попытался объяснить существование основных и переходных разновидностей игр всевозможными историческими мутациями, создающими почву как для развития так называемого «игрового стержня» в драму, так и для вырождения его в спорт и танец.22 Таким образом, игра в понимании В. Н. Всеволодско-го-Гернгросса — очень емкий организм, скрывающий в себе до определенного времени и затем разворачивающий довольно большой комплекс культурных возможностей. Типология же игрового материала народов СССР, предпринятая им, была изначально «рабски подчинена мышлению во времени»23 и по существу оказалась в результате только поводом для своеобразной эволюционной концепции — концепции с одним неизвестным. Неясной для В. И. Всеволодского-Гсрнгросса так и осталась точка отсчета эволюционного ряда: представляют ли собой «игры спортивные и орнаментальные <...> продукт вырождения игр драматических, или игры драматические являются продуктом развития игр спортивных и орнаментальных».24
Несмотря на это именно в теоретическом отношении данная работа значительно опередила, по нашему мнению, практику самих составителей антологии, которые при отборе и расположении конкретного материала так и не преодолели многих классификационных барьеров. Вопреки общей характеристике так называемых драматических игр, которая принадлежала известному историку театра, даже соответствующий раздел антологии получился по существу антитеатроведческим, поскольку основной критерий дифференциации игрового материала не был до конца разработан и реализован В. Н. Всеволодским-Гернгроссом именно па театроведческом уровне.
Наряду с этим антология в целом не отвечала ни собственно фольклористическим, ни сугубо этнографическим, ни даже самым общим историко-культурным задачам исследования. Предельно формализовав положенные в основание работы классификационные критерии, составители тем самым лишили их подлинно этнографической содержательности25 и одновременно не придали им также (хотя бы в пределах драматических игр) отчетливо и последовательно театроведческого характера.
Весьма показательно, например, что обрядовые игры, которые в принципе не противоречат данному В. Н. Всеволодским-Герн-гроссом определению игр драматических, оставлены всё же за пределами рассматриваемого материала — как в силу свойственного им «магизма и суеверия», так и по признаку времени их
21. См.: Там же, с. XV—XVI.
22. См.: Там же, с. XVIII.
23. Манделыитам О., 1928, .№ 204, с. 27.
24. Всеволодский-Гернгросс 13. Н., 1933, № 63, с. XVII.
25. В этом можно видеть следствие общего подхода к фольклору с нефольк-лористических позиций — подхода, не принимающего в расчет сложность фольклорной семантики, определяемой не только конкретным единичным текстом, но и контекстуальным пластом, который нуждается в дополнительном выявлении
14
ВВЕДЕНИЕ
исполнения. Не случайна и рубрикация, введенная внутри группы драматических игр и фактически уже ничем не напоминающая о замысле собственно театроведческой интерпретации данного комплекса явлений: игры производственные и бытовые с последующим делением первых на охотничьи и рыболовные, скотоводческие и птицеводческие и, наконец, земледельческие.
Избранный тематический принцип оказался сопряженным с бесконечными затруднениями в конкретных опытах его реализации и привел к большому числу весьма спорных составительских решений. На самом деле игры не выстраиваются по предложенным здесь тематическим узлам, зачастую претендуя на два—три места в классификационной ячейке. К тому же чисто внешняя и прямолинейная (без учета фольклорной поэтики и глубинной семантики) оценка игрового сюжета — оценка по поверхностно тематическому признаку, по «одежке*, — нередко оборачивается ошибочными и даже курьезными выводами составителей.
Безусловно, нельзя не отметить определенную парадоксальность того факта, что театровед занял в данном случае нетеатроведческую позицию и вместо ожидаемой игровой концепции обряда попытался создать культурологическую концепцию игры. Однако сейчас для нас существеннее другое: названная антология принадлежала историку театра, который за счет фольклорного материала впервые принципиально и по-настоящему широко разомкнул привычные театроведам источниковедческие границы и выделил особую группу драматических игр, что само по себе уже открывало перспективу их театроведческого изучения.
Вместе с тем следует сразу же напомнить, что только в том случае «предмет превращается в объект соответствующей науки, если он может быть описан и действительно описан на метаязыке данной науки*.26 Здесь мы и подошли, как нам кажется, к определению основных задач диссертации, в которой народно-игровые явления рассматриваются именно в театроведческом аспекте, чему предшествуют поиск и разработка специального исследовательского аппарата в виде методологически обосновываемых предпосылок и специфических категорий, то есть опыт создания театроведческого метаязыка для описания данного материала.
Таким образом, сначала нам предстоит как бы «вдохнуть* в понятие «игра* то специфическое содержание, которое неизбежно ограничит ее лишь театроведчески значимой сферой. Особые очертания и особую актуальность приобретет в связи с этим, во-первых, проблема материала для исследования: нам придется дополнительно произвести своего рода сортировку всего доступного объема народно-игровых явлений, чтобы извлечь из их числа только те, которые вполне соответствуют терминологическому значению «игры* и действительно допускают возможность театроведческой трактовки.27
26. Лекомцева М. И., 1968, ЛЬ 187, с. 12. •
27. В целях достаточной представительности материала, принципиально важной для любой типологической работы, автор учитывал его со всей доступной полнотой, используя разного типа публикации XIX —XX веков, собственные экспедиционные записи, а также ряд рукописных источников, в том числе архивные фонды ЛГИТМиК, ВГО, ГМЭ, ИРЛИ, ЦГАЛИ, ИСиБ.
МИР ИГРЫ
15
Во-вторых, формулировка специфически театроведческого аспекта игры укоренит нас на той теоретической почве, из которой легко могут произрасти рациональные основы для типологии в собственном смысле слова (изложению театроведческой теории игры и обзору основных методологических установок типологического исследования на игровом материале посвящена Глава Первая работы; в ней же типологическое «наклонение» темы «фольклор и театр» получает обоснование сквозь призму сильных и слабых сторон в предшествующем изучении данной темы).
Затем, с учетом определенной ранее специфики любой игровой структуры, рассматривается конкретный дотеатрально-игровой материал русского фольклора, который раскрывается в типологических формах его множественности (Глава Вторая работы). В целом опыт типологии направляется при этом двумя игровыми критериями, а именно перевоплощением и действием (каждому из них соответствует определенная часть данной главы). Это критерии, которые, на наш взгляд, взаимосвязаны и в равной мере являются ведущими: они втягивают в свои орбиты все признаки другого порядка, масштаба и уровня. Таким образом в работе обеспечивается, с нашей точки зрения, возможность поиска системных соответствий в пределах игры.
Классификация каждого из уровней игры (перевоплощения и действия) в принципе может охватывать все стороны проблемы, ради которой была выработана соответствующая теория, но в данном случае (по причинам внутренним, а равно и внешним) нам пришлось ограничиться несколькими отдельными признаками и предложить лишь фрагментарный результат применения этой теории. В заключительном разделе работы как раз и фиксируются предварительные, по существу самые первые, итоги типологического изучения данного материала в театроведческом направлении и намечаются ближайшие задачи, выходящие уже за рамки настоящего опыта.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
*
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
...Детская или народная игра <...> в иных случаях ближе подведут нас к решению вопроса о том, что такое театр и каким он должен бьпъ, чем произведение великого драматурга...
А И. Белецкий.
Старинный театр е России
1.
Многочисленные попытки определить характер отношений между различными пластами фольклора и собственно театральным искусством (главным образом, драматическим) привели в итоге к двум полюсам: на одном утвердилось мнение о почти сплошной театральности фольклора, на другом обозначился нигилистический взгляд даже на собственно фольклорный театр.
С известной неравномерностью между этими полярными точками и распределяется весь массив конкретных наблюдений, частных теорий «фольклорного» театра, хорошо аргументированных мнений и бегло высказанных идей — массив, который не просто огромен, но в полном объеме вообще едва ли обозрим. Появление этих теорий, аналитических выводов, идей связано с различными сферами знания; они принадлежат разным авторам, школам и научным направлениям, и нам предстоит по-разному учесть их, определив не только их тяготения к обозначенным полюсам, но и скрытую в них движущую силу, ставшую стимулом настоящей работы.
В науке XIX —начала XX века осмысление фольклорно-игровых явлений под театроведческим углом зрения, как правило, не было ни самостоятельным, ни систематическим. Оно то получало прикладное значение при решении теоретических проблем литературоведения (в частности, основополагающего для исторической поэтики вопроса о разделении поэзии на роды и виды), то стихийно осуществлялось в русле истории формирования профессионального театра.
В специальном очерке можно было бы шаг за шагом проследить становление и кристаллизацию этой проблематики в недрах не-
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
17
скольких наук — расставить вехи большого и неоднозначного пути, в строгой хронологии отразив всю сумму практических знаний, теоретических выводов и априорных суждений, накопленных в пограничье таких самостоятельных областей знания, как литературоведение, фольклористика, этнография и театроведение.
Однако смысл неизбежного здесь историографического экскурса видится нам не в жесткой последовательности фактов, имен и дат, не в излишне бесстрастной (а иногда в своей бесспорной объективности и мертвой) констатации прошлого, но в такой проблемной и целенаправленной прорисовке предшествующих научных опытов, которая поможет обнаружить ведущие линии и ключевые точки поиска, тупики знания, его обрывы и вместе с тем его тайники.
Прежде чем перейти к истории интересующей нас проблемы, обратимся к небезосновательным сетованиям на то, что в гуманитарных науках преобладающая в данный момент точка зрения нередко принимается и за «наиболее солидное „решение" вопроса»,1 избавляющее автора от собственного ответственного высказывания по этому поводу. Вспомнить об этом сейчас потребовалось потому, что в целом ряде случаев нам предстоит и подсчитывать голоса, и отказываться от решения отдельных проблем явным большинством голосов, с какими бы авторитетными именами они ни были связаны.
Наш по необходимости беглый обзор задуман отнюдь не как исторически сбалансированный итог всего ранее сделанного в области «фольклорного театра», не как всесторонне исчерпывающий и потому имеющий достаточно автономное значение свод информации по литературе вопроса, наконец, не как попытка равнения на доминирующую и в силу этого краеугольную, путеводную точку зрения. Его цель — в том, чтобы под определенным углом зрения рядом с уже покоренными вершинами высветить некоторое неосвоенное пространство, чтобы историографически вывести и обосновать неизбежность еще одного исследовательского пути, еще одной плоскости изучения фольклорно-игрового материала.
Заведомо свернув с пути «эрудированного отчета» о прочитанном, сначала попытаемся таким образом охватить и систематизировать коллективный исследовательский труд многих поколений, чтобы в виде сквозных тенденций представить взгляды отдельных авторов по наиболее общим проблемам теории, а затем рассмотрим, как в рамках этих теорий предстает русский фольклорный материал.
Основное направление театроведческой разработки фольклора было проложено и надолго определено темой «театр и ритуал» — в том аспекте, как она единственно и могла пониматься генетической наукой XIX века. Действительно, большинством историков культуры театрально-драматическая форма признана сравнительно поздним видом искусства, линия развития которого начинается в обряде. Как недавно констатировал Вяч. Вс. Иванов, «проблема ритуальных истоков театра в настоящее время может считаться в основном решенной», а «ритуальная» гипотеза
1. Волошинов В. Н., 1929, № 59, с. 188.
18
ГЛАВА ПЕРВАЯ
его происхождения превратилась в хорошо обоснованную теорию.2
Отдельными точками на этом более или менее однородном фоне вспыхивают и другие генетические концепции театра, которые в конечном счете можно расценивать то как побочные отростки основной теории, то как ее частные воплощения. Во-первых, назовем среди них представление И. Грегора о том, что театр — это всего лишь развившаяся, как бы «выросшая» и «повзрослевшая» детская игра, которую он — подобно многим историкам культуры, а также исследователям собственно игровой деятельности детей (К. Розен, С. Зингер и др.) — склонен понимать как вторую историческую ступень в жизни обряда.3 Эта точка зрения, несколько смещающая центр проблемы происхождения театра, безусловно коренится в отдельных суждениях Я. Гримма, А.-В. Шлегеля, Ц. Майнхофа (и тому подобных) — она словно расслаивает и очищает от разнородных примесей взгляды тех, кто видел в детской игре лишь один из многих прообразов театра, лишь одну из его возможных «заготовок».
Традиция понимания игры (в том числе детской) как явления переходного от обряда к театру по-своему складывалась и в русской науке, связанная в первую очередь с именами А. А. Потебни, который и само слово «игра» производил от корня -jar- (санскр. -]адж-) со значением ‘жертвоприношение’,4 а также Александра и Алексея Веселовских.5 Весь дотеатральный процесс представлялся им сложной цепочкой развития от игры к драме-игре — своего рода кругооборотом игры через стадии обряда и культа: «выход из культа» как раз и означал, по академику А. Н. Веселовскому, «художественное зарождение драмы».6 Вероятно, и представление Ф. Ф. Комиссаржевского о детской игре как прообразе игры сценической,7 и отдельные положения в работах И. Д. Бартрама8 и О. И. Капицы9 10 в своих теоретических основах восходят именно к этой традиции и являются ее продолжением.
Во-вторых, вспомним идею Г. Шурца о генетической связи пляски и театрального представления, отчасти созвучную пониманию проблемы происхождения театрального искусства в работах Э. Гроссе,11 Ж. д’Удина,12 13 А. В. Луначарского, Г. К. Крыжиц-
2. Иванов Вяч. Вс., 1979, N? 132, с. 5.
3. См.: Gregor Г, 1944, N? 364.
4. См.: Потебня А. А., 1867, № 244, с. 101. Эту этимологию, не подтвержденную позднейшими разысканиями (см.: Фасмср М., 1967, № 329, с. 116), повторяет также Вл. Соловьев (см.: 1890, N? 288, (N? 8) с. 630).
5. См.: Веселовский А. Н., 1899, № 54; Веселовский Алексей, 1870, No 51, с. 203 и след.
6. Веселовский А. Н., 1913, № 52, с. 355 (гл. «Три главы из исторической поэтики»).
7. См.: Комиссаржевский Ф. Ф., 6/г., № 160, с. 13—17.
8. См.: Бартрам Н., 1925, N? 20.
9. См.: Капица О., 1928, № 153.
10. См.: Шурц Г., 1910, N? 350, с. 695 и след.
И. Один из путей развития «мимических танцев» Э Гроссе видел в возможности присоединения к ним слова Такую осложненную форму мимического танца он готов был признать «одним из корней театра» (см.: Гроссе Э., 1889, № 87, с. 69).
12. См.: Удин Ж. д', 1912, № 322, с. 17-19.
13. См.: Луначарский А. В., 1908, № 199, с. И.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
19
кого14 и многих других.15 Позже в книге А. И. Белецкого эта идея получила новый импульс и конкретизировалась в виде следующей динамической схемы от неизобразительного танца к мимическому, от последнего к обрядовой пантомиме, затем к обрядовой хорее, или синкретической песне-пляске-игре, и, наконец, собственно к театру.16
Попутно отметим, что на материале архаичных культур сходные представления высказывались также в работе А. Д. Авдеева,17 на иностадиальном материале — в трудах С. Лисициан,18 X. Суна,19 в книге Г. Спатару,20 который считал, например, молдавские «драматические инсценировки типа ряженья» своего рода «переходным мостиком, связывающим исходную форму драматического танца с собственно народной драмой».21
Наконец, к числу оригинальных генетических концепций можно отнести мысль о рождении театра на пересечении обряда, якобы насквозь пронизанного ритмом, и игры, основанной на свободной и неограниченной фантазии. Именно от первого из них, согласно этой концепции, театр берет свойственное ему ритмическое начало, а от второй заимствует искусство создавать несуществующее.22
Таким образом, идея обрядового гпю похождения драмы, впервые сформулированная Аристотелем («Поэтика», гл. 4),23 постепенно получала всё новые «прописки» и, по-разному конкретизируясь и уточняясь в отдельных трудах, отвоевывала себе всё больший диапазон приложения. Ее разработка соединялась с очень разными задачами, будучи связана и с трудами мифологической школы в индоевропеистике,24 и с разными по своей направленности опытами изучения драматизированных ритуалов,25 и с изучением собственно театральных традиций в Европе. Однако впервые по-настоящему законченный вид эта идея приоб
14. См.: Крыжицкий Г., 1927, 171, с. И.
15. На аналогичную точку зрения ссылается, в частности, Э. Тэйлор (см.: 1939, № 318, с. 168). Применительно к играм и пляскам так называемых диких народов этот взгляд излагается и в ст.: К., 1876, № 144, с. 28.
На базе этимологического значения ’актер’ в этр. термине «oanasa» (со ссылкой на А. Семереньи) эту проблему ставит также Вяч. Вс. Иванов (см.: 1979, N? 132, с. 33), усматривающий возможность того же этимологического значения и во франц, «danser», которое в таком случае должно совместить в себе оба представления — соответственно и об актере, и о танцоре.
16. См.: Белецкий А. И., 1923, № 23, с. 10 — 11.
17. См.: Авдеев А. Д., 1969, Xfo 1.
18. См.: Лисициан С., 1956, № 190; Она же, 1964, № 192; Она же, 1958, 1972, М 191; Она же, 1983, Н 189.
19. См.: Суна X. А., 1974, № 301.
20. См.: Спатару Г. И., 1980, № 294.
21. Там же, с. 31.
22. В вопросе происхождения театра эта мысль служила единой платформой для редакции журнала «Маски» (см.: У корней театра, 1912, № 323; см. также: Бонч-Томашевский М., 1912—1913, № 39; Волошин М., 1912—1913, № 58)
23. См.: Аристотель, 1951, № 10, с. 48—52.
24. О происхождении германской драмы из рождественских и других обрядовых и детских игр см.: Grimm J., 1838, № 365, S. 552 u. f.
25. См., напр.: Ящуржинский X., 1898, № 359; Он же, 1896, № 360; Яцимирский Б. М., 1914, № 358; Preuss К. Th., 1903, № 379
20
ГЛАВА ПЕРВАЯ
рела лишь в «Исторической поэтике» А. Н. Веселовского, тем самым дав мощный толчок для развития театроведения в определенном направлении.
Базирующаяся на представлениях чисто генетического свойства, связанная с тенденцией обосновывать всё сущее праисторией, идея эта в конечном счете смыкается с общей эволюционной теорией искусства. Последняя же рассматривает историю театра как процесс непрерывного совершенствования, как восхождение от примитивных синкретических форм к более зрелым формам под знаком прогресса, который сопровождается всё более углубляющейся жанровой дифференциацией. С этой точки зрения дифференциация жанров и является историческим свидетельством прогресса, а синкретизм обрядовой поэзии и есть залог многих будущих искусств, включая драматическое.26 В этом отношении наиболее наглядны и, пожалуй, наиболее выразительны схемы-генеалогии языка и поэзии, которые выстраивает Д. Н. Овсянико-Куликовский, — наряду с принадлежащей ему схемой возникновения новых форм искусства, обособившихся из первобытной обрядовой поэзии синкретического характера в результате «перевода» с языка поэзии на «язык» другого «материала».27 28
Если проблема театроведческого подхода к обряду прямо и не формулируется здесь, то практически она понимается всё же как проблема превращения обряда в игру', в рамках рассматриваемой эволюционной теории обряд, как правило, еще не приравнивается к театру в собственном смысле слова, хотя вместе с тем признается, что ростки так называемых театральных ^элементов^ в нем уже прослеживаются несомненно.26 Одновременно считается, что именно эти ростки и обеспечивают основное направление эволюции обряда — его движение в сторону театра.
Имевшая и до сих пор имеющая многочисленных сторонников в европейской науке концепция обряда как потенциального театра (театра в зародышевой форме) и в русской науке получила исключительное распространение и практически всеобщее признание. Так, П. О. Морозов утверждал, что «первых при
26. Подробнее об этом см.: Тиандер К. Ф., 1909, № 304; Каллаш В., 1898, № 151.
27. См.: Овсянико-Куликовский Д. Н., 1911, М 227, с. 25 — 26.
28. Критика этой теории с очень верных, на наш взгляд, позиций содержалась в работе В. Н. Всеволодского-Гернгросса (см.: 1929, № 62, с. 57 — 58), где она рассматривалась как -«проявление догматической эстетики». Однако впоследствии автор пересмотрел свое отношение к ранее критикуемой им точке зрения на обряд как на «очаг зарождения будущего театра» и заодно существенно уточнил свои воззрения применительно к русскому театру. В окончательном виде они сводятся к представлениям об игрищном происхождении драмы, которое, к сожалению, невозможно признать хоть сколько-нибудь аргументированной и удовлетворительной гипотезой. «В процессе своего развития, — как предполагает В. И. Всеволодский-Гернгросс, — игрища дифференцировались, распадались на родственные и в то же время всё более и более отдалявшиеся друг от друга разновидности — на драмы, обряды, игры. Их сближало то, что все они отражали действительность (? — Л. И.) и пользовались сходными приемами выразительности (выделено мною. — Л. И.)* (Всеволодский-Гернгросс В. Н., 1977, № 65, с. 18). К выделенным здесь словам нам еще предстоит вернуться!
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
21
знаков драматического элемента в словесности следует искать в религиозном обряде и сопровождавших его песнях»;29 обрядовые истоки театра на разноэтническом и разностадиальном материале, с разных теоретико-методологических позиций исследовались в работах Н. С. Тихонравова,30 Алексея Веселовского,31 П. О. Морозова,32 К. Ф. Тиандера,33 А. С. Архангельского,34 В. Н. Ха-рузиной,35 Н. Н. Евреинова,36 С. Глаголя,37 С. Лисициан,38 Л. В. Кулаковского,39 П. Г. Малярсвского,40 А. Д. Авдеева,41 В. И. Чичерова,42 П. Г. Богатырева43 и ряда других ученых. Многие из этих работ несли в себе определенный заряд эволюционистских идей, отражая историю театра именно как «процесс развития от элементарных форм к сложным»,44 и в целом легко вписывались в традицию историко-генетического подхода к изучению театра.
По сути дела, к этой, историко-генетической, традиции примыкают и все современные работы, посвященные систематическому исследованию русского народного театра и его истоков. Это прежде всего труды В. Н. Всеволодского-Гернгросса (частично названные), В. Е. Гусева, Н. И. Савушкиной: именно обряды (преимущественно святочные, масленичные, свадебные) рассматриваются в них как своеобразный пролог театра и его первоступень — как тот нижний предел, до которого наше знание истории театра может быть доведено.45
Прежде всего в обрядовой поэзии находит «истоки театрального действа» славян П. Г. Богатырев.46 Ряженье, обрядовые действа и драматические игры русского народа В. Е. Гусев признает «эмбриональными формами, эволюция и взаимодействие которых и привели в итоге к созданию театра в собственном смысле слова».47 К «обрядам и праздникам, сопровождавшимся танцами и играми», возводит (хотя и недостаточно последова
29. Морозов П. О., 1888, № 214, с. 6.
30. См.: Тихонравов Н. С., 1861, N? 306.
31. См.: Веселовский Алексей, 1870, № 51; [Он же}, 1872, № 50.
32. См.: Морозов П. О., 1914, М? 213.
33. См.: Тиандер К. Ф., 1911, № 303, с. 1-8, 156-157.
34. См.: [Архангельский А. С.], 1884, N? 12, с. 3—15.
35. См.: Харузина В. И., 1927-1928, № 340.
36. См.: Евреинов Н. Н., 1921, М 108; Он же, 1922, № 107; Он же,
1924, № Ю6.
37. См.: Глаголь С., 1936, № 75.
38. См.: Лисициан С., 1956, № 190; Она же, 1958, № 191
39. См.: Куликовский Л. В., 1946, № 177; Он же, 1953, N? 178; Он же, 1965, № 176.
40. См.: Маляревский П. Г., 1957, № 203, с. 8—19 (гл. «Ранние театральные зрелища в Иркутске»).
41. См.: Авдеев А. Д., 1969, № 1; Он же, 1959, № 3.
42. См.: Чичеров В. II., 1957, N? 344.
43. См.: Богатырев II. Г., 1971, N° 31, с. 11 — 166 (гл. «Народный театр чехов и словаков»).
44. Авдеев А. Д., 1959, № 3, с. 7
45. См.: Всеволодский-Гернгросс В. Н., 1959, № 64; Он же, 1977, № 65; Гусев В. Е., 1977, Nq 89; Савушкина Н. II., 1976, № 266
46. См.: Богатырев Л. Г, 1966, № 34, с. 97.
47. Гусев В. Е., 1977, № 89, с 3.
22
ГЛАВА ПЕРВАЯ
тельно) театральное искусство в целом Н. И. Савушкина.48 Как можно заметить, самые разные обрядовые «регистры» (термин Н. И. Толстого) — от музыкально-вербального (песня) до акци-онального (действо) — признаются первоистоками театра; и в этой множественности исходных точек нужно искать причину того многообразия частных концепций, которое наблюдается на фоне единой теории обрядового происхождения театра.
Согласно этой универсальной теории и театр профессиональный (с предшествующими ему разновидностями школьного и любительского театров), и собственно фольклорный театр «малой» и «большой» форм (термины В. Н. Всеволодского-Гернгросса) имеют одинаковую предысторию — историю длительного вызревания в обряде. Обряд признается наиболее ранней стадией в развитии театра вообще, представляющей собой «либо примитивную форму драматического искусства» (В. Н. Харузина),49 «начатки драмы в настоящем смысле этого слова» (В. В. Кал-лаш),50 либо только обособленные его первоэлементы, которым в судьбах культуры предстоит большая жизнь. Именно они будут накапливаться, набирать силу и концентрироваться, чтобы со временем вытеснить сакральную сердцевину обряда и способствовать его перерождению в театр.
В первом случае предполагается, что постепенное накопление театральности в обряде, которое сторонниками этой концепции почти всегда объясняется историческим смещением его функций и отождествляется с выдвижением на первый план эстетической функции взамен магической, дает в итоге качественно новый результат, выходящий уже за пределы фольклора, — приводит к рождению театральной культуры профессионального типа.51
Во втором случае имеется в виду, что поэтапное нарастание театральности в недрах самой фольклорной традиции исторически осуществляется в постепенном движении к собственно народному театру — либо от игрищной формы народного гуляния (через промежуточную обрядовую стадию в том числе), как утверждал В. Н. Всеволодский-Гернгросс,52 либо — наоборот — от обряда через его игровую (игрищную) стадию,53 либо непосредственно от обряда с присущими ему драматическими элементами, как полагают Л. В. Кулаковский,54 В. Ю. Крупян-
48. См.: Савушкина Н. И., 1976, № 266, с. 4.
49. Харузина В. Н., 1927, № 340, (М? 1) с. 62.
50. Каллаш В. В., 1903, № 152, с. 99.
51. См.: Гоян Г., 1939, № 81; Тиандер К. Ф., 1911, № 303, с. 1 — 8; Ав деев А. Д., 1959, № 3, с. 37; Всеволодский-Гернгросс В. Н., 1977, № 65, с. 40-41.
52. См.: Всеволодский-Гернгросс В. Н., 1977, N? 65, с. 16 — 23 (здесь автор излагает весьма спорную концепцию дообрядового происхождения игрищ, утверждая, что и «весенние игрища со временем переходили в обряды» (с. 22), и «свадебное игрище, переосмысляясь магически, перерастало в свадебный обряд» (с. 23)) См. также: Он же, 1959, № 64, с. 22 — 37 (гл. «От игрища к драме»).
53. О превращении обряда в игру-представление, а затем в представление народного театра см.: Асеев Б. Н., 1955, N? 13, с. 6 — 8; Он же, 1958, № 14.
54. См.: Кулаковский Л. В., 1946, № 177; Он же, 1965, № 176.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
23
ская,55 Н. И. Савушкина,56 отчасти В. Е. Гусев57 и другие исследователи.
Таким образом, в системе рассматриваемых взглядов профессиональный русский театр и театр традиционный (фольклорный) в равной мере оказываются «кульминацией театральности»-, а обряд на этом фоне расценивается как ее минимум, как ее зародышевое состояние (ведь не случайно речь при этом идет не об игровой природе обряда, а всего лишь об игровой тенденции в его развитии, о вспыхивающих то здесь, то там отдельных искрах театральности; и изучается в данном случае не столько игровая суть обряда, сколько его путь к театру — путь его освобождения от магии и постепенного обособления).
Эта точка зрения, неизбежно предполагающая многосостав-ность, полиэлементность театра и одновременно возможность его расщепления на какое-то число жизнестойких и поливалентных «атомов» (элементов), позволяет вместе с тем — в силу заложенной в ней механистичности — закреплять значение театральности за каждым таким элементом в отдельности. Иначе говоря, в этом случае театральному «атому» присваивается значение своего рода «молекулярного» целого, и он становится носителем театральности как таковой, объявляется вместилищем субстанциональной для него театральности.
При практическом решении вопроса о театральности фольклора число подобных элементов и качественный их состав поразительно не совпадают у разных авторов (таким образом, и сугубо арифметическое представление этих авторов о целостности также оказывается разным). А избирается каждый из этих элементов (чаще — та или иная их совокупность) всякий раз и произвольно, на глазок, и — главное — вне его специфической роли и иерархической значимости, то есть безотносительно к целой структуре, в которой он обнаруживается.58 Для сравнения театра с разными фольклорными явлениями берутся соответственно и разные признаки театра (тут поистине все вкусы хо
55. См.: Крупянская В. Ю., 1954, №? 170.
56. См.: Савушкина Н. И., 1976, № 266, с. 4. Заслуживает внимания несомненная двойственность автора в подходе к материалу: признавая обряд универсальным источником театра с генетической точки зрения, градацию театральности в фольклоре («наращивание театральных элементов» (с. И)) Н. И Савушкина прослеживает вместе с тем с типологической точки зрения. Этот типологический ряд начинается не с обрядово-игровых явлений, как можно было бы ожидать, а с искусства сказочников (данному принципу и подчиняется в целом изложение материала в названной работе, хотя в основных теоретических предпосылках и положениях автор опирается на собственно генетические идеи). Соотношение разных методов в данном случае не получает принципиального объяснения, а необоснованное их соединение в одной работе мешает до конца осознать связь каждого из них с определенным кругом авторских задач и, главное, по-разному задает диапазон и обозначает контуры театроведческого материала.
57. См.: Гусев В. Е., 1977, Н 89.
58. Понимание проблемы театральности фольклора как проблемы отдельных формальных соответствий и совпадений, проблемы «типологического сходства на уровне внешнего», а не «на уровне внутреннего — структур» {Григорьева Т. П., 1979, № 82, с. 12) — характерно, к примеру, для следующих работ: Туганов М., 1959, № 315; Петров В. Т., 1974, № 234; Брыжинский В. С., 1974, N? 41; Он же, 1983, № 40; Набиль А., 1981, № 215.
24
ГЛАВА ПЕРВАЯ
роши!): то диалог, то жест, то костюм, то движение, — частично и эпизодически, в разнообразных сочетаниях мерцающие в тех или иных слоях фольклорного материала.
Обнаружить такого рода «перечни» театральных элементов, существенно варьируемые от автора к автору, проследить разные направления их «работы» и, соответственно, несовпадающие результаты их приложения к материалу можно и в любой «истории театра», и в трудах фольклористов. Анализируя основные направления в изучении русского традиционного театра в 1970 — 1980-е годы, В. Е. Гусев и нас отнес к числу авторов, которые «обращаются к драматическим элементам (выделено мною. — Л. И.) в обрядовом фольклоре, особенно в святочных игрищах».59 В связи с этим следует напомнить, что опубликованная в 1974 году статья «Обряд. Игра. Театр» содержала не только критику подобных опытов, но и попытку системного подхода к данной проблеме: в противовес идее так называемых театральных элементов, основополагающей для большинства существующих исследований, здесь обосновывалась специальная теория игрового языка.60
Каждый из наших тезисов, касающихся театральных элементов, может быть подкреплен изрядным числом ссылок на соответствующие работы. Постараемся обойтись, однако, лишь немногими иллюстрациями, которых, как нам кажется, вполне достаточно, чтобы сложилось отчетливое представление о той пестрой общей картине, которая отражает и поразительный разнобой в выборе критериев театральности для оценки фольклора, и очевидный произвол критериев авторских вкусов, и даже явную непоследовательность отдельных опытов такого рода. Заметим, кстати, что попытка опереться в решении этой задачи на специальную теорию театра отличает фактически В. II. Все-володского-Герн гросса61 и В. Е. Гусева.62 Что касается остальных авторов, то они решали этот вопрос стихийно, во многом противоречиво, нередко пытаясь усмотреть некий «состав театральности» в тех или иных «театральных осколках»: к этому естественно приводило отсутствие единой теории театра.
Так, П. О. Морозов, например, общетеатральным знаменателем признает то триаду «действие — диалог — подражательноизобразительный элемент», то «мимический инстинкт в действии»,63 хотя разница между этими комплексами признаков весьма существенна (а это означает, соответственно, что разные пласты, разный объем фольклорного материала могут в итоге оказаться в орбите театроведения). Болес последователен в сравнении с ним К. Ф. Тиандер, предлагающий видеть в драматической игре систему трех, существенных, по его мнению, координат: это грим, жест и речь,64 которые и проецируются на
59. Гусев В. Е., 1983, М 91, с. 3.
60. См.: Ивлева Л. М., 1974, № 139.
61 См.: Всеволодский-Гернгросс В. И., 1929, Ng 62. В дальнейшем от изложенной здесь концепции театра как искусства «действования» он вынужден был отказаться.
62. См.: Гусев В. Е., 1977, № 89, с. 3-8; Он же, 1980, № 92, с. 3-5.
63. Морозов П. О., 1888, № 214, с. 6.
64. См.: Тиандер К. Ф., 1911, № 303, с. 1.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
25
фольклор, высвечивая его театральные возможности в заданных ими пределах.
В свою очередь о таких элементах, как костюм, грим, бутафория, исполнитель, зритель, режиссер и пр., писала В. Н. Харузина как об отдельных театральных «атомах»: именно на этих осях она и предлагала «откладывать» фольклорные соответствия театру.65 Л почти одновременно с нею А. М. Мерварт среди слагаемых театрального искусства называет «ритмическую пляску, <...> словесное содержание, мимическое подражание <...> и абсолютно полную драматическую иллюзию», считая их, по всей вероятности, равновеликими приметами театра.66 Наряду с этим П. Г. Богатырев в одном случае выделяет «диалог, театральный жест, движение, костюм», 7 а в другом — диалог, звукоподражание, костюм, маску.68
Нетрудно заметить, что в такого рода «перечнях» обнаруживают себя то жесткий театроцентризм на базе поздних форм театра, вменяющий театру в обязанность костюм, грим, бутафорию и даже режиссера и пр., то своего рода театральный релятивизм, когда особый набор признаков допускается для каждой театральной системы (сквозных признаков как бы нет). Очевидно, что такие компоненты, как ритмическая пляска, мимика, костюм, маска и др., не всегда наличествовали в истории театра, а потому они не могут быть причислены к разряду универсальных критериев и стать инвариантной «меркой» при решении вопроса о театральности разных явлений культуры. Не менее очевидно и то, что подобные «инвентари», объединяющие то или иное множество элементов, оставляют принципиально не выявленным главное. Положенный в их основу принцип перечисления как бы скрывает соотношение разномасштабных признаков — вместо того чтобы именно его и обнаружить: достаточно прозрачной представляется нам «разноэтажность» признаков, которые называются и задаются подобными списками.
По сути дела, не на уровне систем, а на уровне отдельно избранных элементов исследуется проблема происхождения театра из обрядовых и культовых форм и в известной книге А. Д. Авдеева. Исходя из различного соотношения этих элементов для разных исторических стадий, автор рассматривает весь процесс формирования театрального искусства по этапам (элементы театра на разных стадиях первобытнообщинного строя, в развитом родовом обществе, в период разложения родового строя, на подступах к классовому обществу — так градуирован этот процесс им самим).69 Сквозь всю толщу истории театра здесь отмечается постепенное усиление то одних, то других театральных элементов наряду с общим эволюционным усложнением форм театральности. При этом исходной точкой в понимании театра А. Д. Авдеевым оказываются не столько сущностные, сколько дифференциальные его характеристики или —
65. См.: Харузина В. Н., 1927, № 340, (№ 1) с. 58-59.
66. Мерварт А. М., 1929, Nb 208, с. 24.
67. Богатырев П. Г., 1966, Nb 34, с. 98.
68. См.: Богатырев П. Г., 1971, 31, с 33 (гл. «Народный театр чехов
и словаков*).
69. См.: Авдеев А. Д., 1959, № 3, с. 37.
26
ГЛАВА ПЕРВАЯ
точнее — лишь «внешнее преображение человека в иное существо», которое рассматривается как исключительная «привилегия» театрального искусства.
Непосредственное же наложение театра на обряд, измерение одного другим по таким точечным, оторванным от целого признакам становится каждый раз не более чем операцией «вычитания» обряда в качестве неполного и недоразвившегося театра из театра как такового. «Арифметическая» разность между ними и накладывает на обряд печать примитивизма и неполноценности именно в игровом отношении. В большинстве случаев исследователи полагают, что «богатые драматические зачатки» (К. Ф. Ти-андер) обыкновенно не достигают полного игрового развития в обряде, а непосредственным поводом для выводов такого рода служит отсутствие в обряде какого-либо звена из числа произвольно заданных признаков театра.
Концепция театра как суммы элементов, каждого из которых достаточно для постановки вопроса о театральности того или иного явления народной культуры, имела, между прочим, огромные последствия, выходящие уже далеко за пределы проблемы «обряд и театр». В целом попытки идентификации отдельных фольклорных жанров с театром на основе разрозненных его элементов создавали представление о чрезвычайно пестром, почти безграничном спектре «театральных» возможностей фольклора — представление, безусловно, и формальное, и преувеличенное, по — несмотря на это — получившее широкие права гражданства.
Например, закрепление значения театральности за диалогом нередко приводило к абсолютизации театроведческой трактовки данного элемента и обеспечивало ему одну и ту же функцию всюду: в сказке, заговоре, антифонной хороводной песне, загадке. Это в свою очередь вело к возникновению таких работ, в которых то имплицитно вырисовывались, то непосредственно ставились проблемы типа «сказка и театр»,70 «заговор и театр» и т. п.,71 то есть признавалось, что границы, отделяющие драматическое народное творчество «от других видов фольклора, не всегда могут быть отчетливо обозначены».72 Вспомним в связи с этим хотя бы своеобразный «прогноз» Н. С. Тихонравова, который в работе «Начало русского театра» даже загадку признавал столь близкой к диалогу (загадывание и отгадывание как диалог), «что из нее легко возникнуть (выделено мною. — Л. И.) небольшой народной драме».73 В основе этого предположения лежит особая логика «pars pro toto», когда целое, как вода в песке, теряется во множестве осколков театральности (к тому же нередко мнимой) и соответствующую границу провести действительно трудно, поскольку всё в фольклоре стремится при этом быть театром. Ту же тенденцию обнаруживает и представление
70. См.: Никифоров А. И., 1928, №? 221; Савушкина Н. И., 1976, № 266, с. 12 — 26 (гл. «Драматическое искусство сказочников»); Юдин Ю. И., 1975, № 354.
71. Наир.: Савушкина Н. И., 1964, № 263.
72. Гусев В. Е., 1977, № 89, с. 4.
73. Тихонравов Н. С., 1861, № 306, с. 9.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
27
Ю. М. Соколова о том, что в силу «неизжитого синкретизма поэтического творчества (в фольклоре. — Л. И.) и сказочник, и певец, и балагур-весельчак, использующий элементы мимики, действа, жеста» — эти известные, с его точки зрения, элементы театра — фактически непременно оказывается актером.74
Такое неразличение формы и функции характерно для разных работ, оно служит отправной точкой очень многих суждений о сквозной театральности фольклора как особом качестве его исполнительской природы — при этом театральности эмбриональной и примитивной. В данном случае основной вопрос состоит для нас даже не в том, насколько обязательны перечисленные элементы для живого функционирования тех или других фольклорных жанров (к примеру, является ли обязательным жест для исполнителя сказки). Гораздо важнее ответить на вопрос о том, насколько театральна сама природа этих элементов, насколько они представляют область искусствоведчески значимого (в отличие, скажем, от сугубо бытового), к тому же значимого именно в игровом отношении (см. далее).
Здесь и приходится констатировать, что большинство опытов, подобных названным нами, было по существу отражением механистического мировоззрения, для которого вообще характерно выведение свойств целого из свойств отдельных частей. Естественно, что при этом просто не могло возникнуть проблемы структурной целостности каждого из «театральных» явлений — будь то сказка, загадка, причитание или песня: было безразлично, на каком из элементов базировать их сравнение с театром, и в итоге для разных жанров избирались по сути дела разные критерии театральности.
В условиях столь жестко мыслимой функциональной детерминированности любого «театрального» элемента трудно было заметить его качественные различия в разном окружении, в тех или иных структурных сопряжениях. Конечно, в подобных случаях не мог определиться интерес и к внутрисистемной роли каждого такого элемента: получалось, что значения ему задавались исключительно извне — притом задавались раз и навсегда, — а он всегда и всюду нес этот груз театральности, оставаясь неизменным ее проводником.
На базе такого допущения строилось много неперспективных для изучения нашей проблемы отождествлений; на нем держались всевозможные поверхностные суждения следующего типа: «любые диалоги <...> являются зародышами драматических произведений»,75 «почти всякий первобытный рассказ есть драма».76 Миф, загадка, причитание, сказка, заговор, хоровая песня диалогической структуры и т. д. — довольно широкий круг явлений фольклора обнаруживает те разрозненные элементы, за которыми признается значение театральных, и в соответствии с этим объявляется наряду с обрядом «очагом зарождения будущего теат
74. См.: Соколов Ю. М. К изучению народного драматического творчества - ЦГАЛИ, ф. 483, on. 1, № 229, л. 12.
75. Харузин Н., 1895, № 337, с. 115.
76. Гроссе 3., 1889, № 87, с. 246.
28
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ра», его преддверием и колыбелью.77 Естественно, что при таком подходе к проблеме невозможно ни определить характер отношений между отдельными структурными звеньями внутри каждой новой системы, куда попадает соответствующий элемент (будь то диалог, жест или маска), тем самым якобы внося туда и свойственную ему театральность, ни тем более предусмотреть и усмотреть его собственные изменения, обусловленные изменением его типологических характеристик.
Однако принципиальное наше несогласие с этой точкой зрения определяется нс только очевидной ее механистичностью; оно имеет и еще одну методологическую предпосылку — теоретическую необоснованность прямого использования явно типологических наблюдений и данных для установления закономерностей генетического порядка, для постулирования родственных отношений между отдельными похожими явлениями.78
Хотя в целом проблема театроведческого подхода к фольклорно-этнографическим явлениям существует и осваивается давно, хотя, как мы видели, в изучении се имеется ряд несомненных достижений и прочно устоявшихся решений, тем не менее нельзя сказать, что она до конца сформулирована корректно и точно, что все ее грани, аспекты и уровни осознаны, вычленены и разработаны. Необходимо признать, что ставится она недостаточно широко и универсально, а методологические принципы ее решения, как правило, по инерции упираются в эволюционистские теории, ограничиваются и сковываются идеей прогресса, якобы наглядно осуществляемого в последовательной смене игровых форм, хотя в большинстве случаев и сама эта последовательность устанавливается априорно. На наш взгляд, для дальнейшей разработки этой проблемы нужны новые методологические рубежи и горизонты, необходимо обновление теоретической базы исследования.
2.
Доминирующая роль генетических проблем, идей и конструкций в науке XIX века отпечаталась на всём — вплоть до отдельных типологических открытий эпохи. Хорошо известны случаи, когда даже установленным морфологическим типам тотчас же навязывалась эволюционная трактовка и они занимали места на исторической шкале согласно степени их структурной сложности.79 Со временем заметно уступившая свои позиции во многих областях знания, в театроведении эта тенденция безраздельно господствует и сейчас, по-прежнему удерживая свою ведущую
77. Близко к этому взгляду подходит и В. Н. Харузина (см.: 1927—1928, N? 340; а также ее рец.: 1912, N? 341).
78. По справедливой оценке Дж. Гринберга, именно «смешение указанных методов <...> принесло много вреда в прошлом* (Гринберг Дж., 1963, М 83, с. 60).
79. В качестве рецидива такого рода идей Р. О. Якобсон расценивал, в частности, глоттогоническую концепцию Н. Я. Марра — этот «последний пережиток данной теории в языкознании» Им было подчеркнуто, между прочим, что в лингвистике даже подобные (по сути дела, «квазигенетические») опыты подвергались резкой и справедливой критике в работах младограмматиков (см.: Якобсон Р., 1963, № 356, с. 95-97).
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
29
роль. Неудивительно поэтому, что преждевременной и незаметной оказалась для него идея А. И. Белецкого, обнажившая возможность типологического подхода к проблеме общности детской игры и театра, обозначившая перспективу их сопоставления на принципиально новой основе и — что не менее важно — для новых целей. Автор книги -«Старинный театр в России»- еще в начале 20-х годов нашего века писал: «...Детская или народная игра, деревенская пляска в иных случаях ближе подведут нас к решению вопроса о том, что такое театр <...>, чем произведение великого драматурга <...>»-.80 Эта цитата — чрезвычайно важное и по сути дела единственное свидетельство установки на поиск типологических параллелей между детской игрой и театром — установки, в высшей степени перспективной, но до сих пор не получившей должной оценки и не реализованной ни в теоретическом, пи в практическом аспектах.
По всей вероятности, стихийно выраженная здесь теоретическая ориентация в условиях 20-х годов вообще не могла быть по-настоящему оценена в инерционном потоке всевозможных генетических концепций театра — в потоке, который не сумела сдержать и поколебать даже наука нового времени. Свою роль тут, правда, могло сыграть и то, что в известной степени идея А. И. Белецкого выросла случайно, вне соответствующей теоретической базы, и то, что высказана она была мимоходом, без необходимых методологических акцентов и даже в некотором противостоянии общей направленности самой книги. Случилось так, что скрытый в ней методологический смысл мы можем всерьез оценить и использовать только сейчас.
Как это ни удивительно, но в действительности нам до сих пор приходится постоянно наталкиваться на следы слепого ге-нетизма, не обремененного никакими доказательствами и прилагаемого к эволюционной концепции в качестве некоторой нагрузки, — мы легко найдем эти отголоски почти в любой работе о ранней истории русского театра. Показательно, что здесь уступки эволюционизму сильны даже в тех случаях, когда подобный взгляд на развитие игрища и обряда — этих «богатых драматических зачатков»- (К. Ф. Тиандер) — заведомо выпрямляет историю русского театра, делает ее предельно целеустремленной и однонаправленной, устраняя тот разрыв и стирая ту черту, которые реально существовали между народной и профессиональной театрально-игровыми культурами.
По всей вероятности, когда речь идет не об универсальной теории происхождения театра, а всего лишь о реальной его истории на некотором обозримом отрезке пути, тогда видеть истоки собственно театрального искусства в обряде есть смысл только там, где от них действительно взял начало театр в подлинном значении слова (в любой его разновидности) и где одновременно этот факт может быть надежно прослежен и достаточно достоверно установлен. С этой точки зрения даже путь, пройденный, по свидетельству Аристотеля, древнегреческим театром от обряда, можно принять только в качестве гипотетической реконструкции, вероятность которой значительно укрепляется лишь
80. Белецкий А. И., 1923, N? 23, с. 5.
30
ГЛАВА ПЕРВАЯ
на фоне более наглядных в этом отношении традиций восточного театра.81
Во всяком случае, можно определенно сказать, что такой путь от обряда к театру не строго универсален — в том смысле, что его нельзя считать стандартным и обязательным, неукоснительным и непрерывным путем любой отдельной театральной культуры, не вникая в естественный ход ее развития, — нельзя, если мы не хотим частную историю театра подменить общей теорией его происхождения. Очевидно, было бы явным преувеличением признать вслед за Н. С. Тихонравовым, что «прежде чем средневековая драма Западной Европы нашла доступ в нашу литературу, у нас успели развиться те элементы, которые приняли участие (выделено мною. — Л. И.) в образовании средневековой драмы»,82 как было бы ошибкой, подобно Г. И. Гояну, утверждать, будто «путь возникновения античного театра из недр народного творчества говорит о возможности рассматривать и у нас славянские <...> игры и обряды <...> как истоки народного театра».83 Ведь понятием «истоки» мы обозначаем отнюдь не набор потенциальных возможностей, а исходную точку действительно имевшего место роста, движения, развития — иначе история театра предстанет перед нами не более чем абстрактной возможностью, окажется калькой с идеальной теоретической схемы и никогда не выйдет на уровень реальных событий, не попадет в русло фактов.
А русло фактов прокладывается в данном случае исторической памятью о том, что «русский театр не прошел всех стадий самообразования»,84 а «закладывался на основе подсмотренной чужеземной техники сценических форм».85 У истоков русского профессионального театра был, как известно, не национальный фольклорный театр и не обрядово-игровые явления народной культуры, но профессиональный же театр — в одной из западноевропейских его разновидностей. «Культурный» театр Руси не был изначально ориентирован на фольклор, на «театральные» возможности и достижения своего народа, не смог или не успел стихийно вырасти из недр народной игровой традиции путем имманентного ее развития, но был целиком пересажен из Европы, заимствован не только на уровне драматургии и театральной техники, но и на уровне театральной труппы. Свою национальную форму, свой язык (кстати, даже в лингвистическом смысле слова) он нашел далеко не сразу, долгое время сохраняя следы
81. Ведь не случайно противоречивы и в широких пределах колеблются выводы исследователей относительно конкретных источников древнегреческого театра, среди которых называются и песни коммоса, и танцевальная часть обрядового действа, и т. д. (см.: Еереиное Н. Н., 1921, № 108, с. 5—29). Вряд ли случайна и отмеченная еще В. В. Латышевым неотчетливость представлений самих древних «о первоначальном периоде развития драмы», которую он связывал с тем, что к моменту пробуждения позднего их интереса к вопросам ее происхождения «многие подробности были уже забыты» (Латышев В. В., 1889, № 183, с. 247).
82. Тихонравов Н. С., 1861, № 306. с. 9.
83. Гоян Г., 1939, № 81, с. 44-45.
84. Данилов С. С., 1948, № 99, с 26.
85. Бескин Э. М., 1932-1933, N? 30, с. 37.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
31
своего пришлого происхождения и, между прочим, именно экзотичностью своей завоевывая особый интерес зрителя.86
О степени внутренней готовности к его восприятию, о мере естественности и безболезненности исторически осуществленной культурной трансплантации следовало бы, видимо, написать специальную работу. Однако пока нам достаточно констатировать, что законы этого заемного театра не только не находились в прямой перекличке с принципами, управлявшими стихией русского игрового фольклора, но во многом явно противостояли им.87 Его привязанность к чужой сюжетике, стилистике, атрибутике, к возникшему на другой почве герою была выражением известного отрыва от собственного фольклора, а процесс движения этого театра навстречу народно-игровой традиции (фольклору вообще) — процесс медленного внедрения, обрусения, приспособления и ломки — растянулся на столетия. Народно-игровой язык, скрывавший в себе огромные возможности обновления (а в иные эпохи — и оздоровления!) профессионального театра, продолжительное время существовал параллельно ему, оставался по ту сторону его интересов и в этом смысле был открыт и оценен «культурным» театром лишь значительно позже.88
Авторы работ по ранней истории русского профессионального театра, в которых демократические тенденции в его развитии (в частности, на стадии любительских театров) обычно объясняются воздействием на него игровой традиции русского народа, как правило, стремятся доказать это отдельными параллелями-цитатами из народной драмы (последняя, естественно, рассматривается как уже существующая к этому моменту). Подчеркнем, однако, что сопоставительное цитирование такого рода способно навести и на ложный след, так как методологически оно при этом совершенно не обосновывается: правомерность избираемой точки отсчета специально не доказывается, а сами по себе цитаты могут служить в пользу как утверждаемого, так и противоположно ему направленного влияния. Пожалуй, в данном случае гораздо больше оснований согласиться с П. П. Гайдебуро-
86. Это обстоятельство имеет определенные культурные аналогии. Здесь напрашивается, в частности, интересная параллель со свидетельством Д. А. Ровин-ского об особой популярности лубочных картинок на сюжеты переводных повестей и очевидном предпочтении их картинкам на сюжеты русского эпоса (см.: Ровинский Д., 1900, № 257, стб. 234).
87. В связи с этим обратим внимание на несовместимость двух выводов Н. И. Савушкиной. С одной стороны, она утверждает ^возникновение (выделено мною. — Л. И.) народного театра под воздействием профессионального (особенно городского „низового*4 и „школьного** театра)». С другой стороны, признает, что «и профессиональный, и полупрофессиональный театр с момента своего возникновения (выделено мною. — Л. И.) испытали воздействие народного театрального искусства с его оригинальными условными приемами и средствами, его злободневностью, активным воздействием актеров на зрителей» (Савушкина Н. И., 1976, Ng 266, с. 5). Нам представляется, что, отстаивая идею взаимовлияния народного и профессионального театров, нельзя «датировать» его моментом их возникновения, не решив дополнительно вопрос о первичности одного из них: в каком-то месте кольцо взаимовлияния должно быть разорвано проблемой происхождения отдельных театральных форм и разновидностей.
88. См., напр.: Уварова И. /7., 1981, N» 321.
32
ГЛАВА ПЕРВАЯ
вым, который в 1918 году сетовал на то, что «красочную художественность народных игр и обычаев мы собираем неохотно, взращаем вяло и с трудом претворяем в национальной культуре только помощью гениев наших».89
Вместе с тем любой учебник и популярный очерк, любое пособие и «стандартное» руководство по истории русского театра начинают его родословную именно в недрах обрядности.90 Предполагается, что, постепенно утрачивая свои магические свойства и взамен накапливая заметный эстетический потенциал, обряд служит тем самым «основой для возникновения и развития собственно театрального искусства»,91 подготавливает предпосылки и условия для его появления.
Таким образом создается почва для одинаково возможных выводов, выбор одного из которых в теоретическом отношении не имеет, по сути дела, принципиального значения: 1) либо обряд зачисляется в разряд собственно театральных явлений с обязательной оговоркой по поводу его «примитивности» в сравнении с более зрелыми театральными системами (обряд расценивается как примитивный театр, и тем самым как бы утверждается, что в скрытом, латентном виде русский театр существовал всегда, что «народные игры и обряды <...> и театр в современном понимании — лишь разные фазы (выделено мною. — Л. И.) в развитии одного и того же явления»92 93); 2) либо признается возникновение театра непосредственно из предтеатраль-ных обрядовых форм, составляющих как бы доисторический фонд будущего театра.
И тот и другой вывод на русском материале — всего лишь попытка задним числом реабилитировать историю профессионального театра на Руси, представить факт его заимствования как незначительную прививку к давно существующему древу собственного так называемого театра (предтеатра). Особенно показательна в этом отношении история русского театра, сжатая В. Н. Всеволодским-Гернгроссом до размеров схемы.95 В ней акценты расставлены следующим образом: «С 1571 года двор пытался использовать народное искусство скоморохов, затем с 1660 года — драматургию церковно-школьного театра <...>; несколько позже (с 1672 года) — драматургию и сценический опыт зарубежного театра (Грегори, Гюбнер), после чего наконец <...> укрепились традиции национальной драмы».94
Здесь изложена широко бытующая до сих пор и наиболее признанная в нашем театроведении концепция бесконфликтного рождения национального театра как бы с нескольких примерок. Она надежно вуалирует факт его заимствования указанием на множество равновеликих источников, якобы вторгавшихся в мир древней русской «театральности», чтобы дать ей новую, уже
89. Гайдебуров П. /7., 1918, № 72, с. 77.
90. См.: Асеев Б. 1L, 1958, Nb 14; Гозенпуд А. А., 1959, Nb 76; Дани лов С. С., 1944, № 97; Маляревский П. Г., 1957, № 203; Моров А. Г., 1978, Mb 212; и др.
91. Савушкина Н. И., 1976, bfo 266, с. 4,
92. Вссволодский-Гернгросс В. Н., 1977, М? 65, с. 58.
93. См.: Там же, с. 40—41.
94. Там же, с. 41.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
33
собственно театральную, жизнь. Но такая «история театра» есть не что иное, как очевидная историческая натяжка, как размывание и полное поглощение ее соответствующей теорией.
В то же время следует отметить, что и фольклорный русский театр в большинстве своих проявлений не вызревал непосредственно из зерна народного обряда, но складывался на пересечении далеких друг от друга традиций и пластов и был обязан своим происхождением источникам самого разного характера.95 Исторически неточно утверждение С. С. Данилова, будто народная драма возникла «из хороводов, игрищ, календарной и семейно-бытовой театрализованной обрядности и впитала в себя ряд сторонних влияний»,96 как уязвимо и аналогичное суждение В. Н. Всеволодского-Гернгросса о том, что «из хороводного игрища в конце концов вышла устная народная драма „Лодка", из диалогического — комедия о Петрушке».97 (Во всяком случае, ни для одной народной драмы это не доказано достаточно убедительно и надежно. А особая сюжетика народной драмы, лишь кое-где вторично инкорпорированная «междувброшенными» сценками обрядового происхождения, как раз и не позволяет держаться этого утверждения, подсказывая совсем другие исторические решения.) Таким образом, в приведенном суждении С. С. Данилова мы в очередной раз сталкиваемся с инерционной силой общей идеи обрядового происхождения театра. Однако факты и в данном случае наталкивают нас на необходимость ее проверки, а в итоге требуют отказа от соблазнительной, но слишком общей и потому для наших представлений об истории русского театра малопродуктивной аристотелевой формулы.
Напомним, что из небогатого репертуара русского фольклорного театра «Царь Максимилиан», например, лишь врастая в народную почву в уже готовой драматической форме, сложившейся в традиции «школьного» театра,98 начинал постепенно осваивать отдельные сюжетные и стилистические пласты народ
95. Это обстоятельство было отражено В. Е. Гусевым еще в «Эстетике фольклора»: «Наряду с играми, генетически связанными с обрядом, появлялось немало и самостоятельных драматических игр» (Гусев В. Е., 1967, № 93, с. 155). Можно было бы полностью принять данное утверждение, не окажись в числе примеров, которые здесь отнесены ко второму разряду игр, «шуточные сценки, изображавшие или повадки животных („В гуся“, „В быка**, „В оленя**, „В коршуна и цыплят*4, „Волки и овцы** и т. п.), или профессиональные занятия („В кузнеца*4), или пародировавшие поведение ненавистных народу попа, помещика <...>» (там же). Смысл многих из названных здесь игр, как будет показано в следующей главе, не сводится ни к зоологическим наблюдениям, ни к отражению ремесла как такового, ни к выражению социальных настроений народа. Однако общая мысль о полигенезисе народного театра, выраженная здесь и более детально разработанная В. Е. Гусевым позже (см.: Гусев В. E.t 1980, № 92), представляется нам глубоко верной и продуктивной
96. Данилов С. С., 1948, № 99, с. 30.
97. Всеволодский-Гернгросс В. Н., 1977, № 65, с. 21.
98. Появление «Царя Максимилиана» в русском народном репертуаре объясняется исследователями прежде всего как результат влияния школьного и профессионального театров. К настоящему времени это подытожено в ряде работ (см., напр.: Богатырев II. Г, 1963, 33; Гусев В. Е., 1980, 92, с. 35 — 37) Пожа-
луй, и до сих пор можно считать, что в истории этой народной драмы, в проблеме ее первоисточников остается много невыясненного и загадочного
2 Лариса Ивлева
34
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ной игровой культуры, а никак не являл собой образец развития последних до уровня театра как такового. Другая народная драма — «Лодка» — исконно также не была связана с собственно обрядовой практикой и представляла собой, по-видимому, позднюю драматизированную версию песни «Вниз по матушке по Волге», тоже осложненную рядом разноисточниковых образов, мотивов и сцен."
Даже если предположить, что этот «разбойничий» сюжет вторичен и появился на месте исконно обрядового (имеется в виду как святочная, так и масленичная драматизированная версия «лодки на колесах»,99 100 которая сосуществует с внеигровыми интерпретациями этого мотива в орнаментике святочной звезды, в текстах небылиц101 и т. д.), и тогда по существу ничего не изменится в нашем утверждении. Не изменится потому, что такого рода предположение в любом случае связано не с реконструкцией процесса перерождения, перерастания обрядового сюжета в необрядовый, а с реконструкцией полного замещения, вытеснения одного сюжета другим, совершенно новым, пришедшим извне — без каких бы то ни было последующих звеньев.
Таким образом, мы не можем представить историю русского театра как единый непрерывный и замкнутый процесс, мы не вправе вытягивать сквозную линию преемственности в развитии русского театра и видеть ее начало в фольклорной традиции: точка «встречи» русского фольклора (игрового в том числе) и русского театра не лежит в пункте возникновения последнего.
Здесь и вырастает вполне естественный и чрезвычайно существенный (а в методологическом отношении просто первостепенный!) вопрос о правомерности и целесообразности изучения на русской почве игровых форм фольклора в сравнении с культурой театра. На наш взгляд, в настоящее время есть все усло
99. См.: Крупянская В. Ю., 1972, № 169.
100. По мысли Н. Н. Евреинова (см.: 1924, № 106, с. 151 — 152), именно от подобных обрядово-мистериальных представлений — действ типа «корабля Исиды» (об «Isidis navigum» см.: Баллод Ф. В., 1924, N? 17, с. 10—11; Кагоров Е. Г., 1918, № 145, с. 123—124) — вообще начинают свою историю драма и театр. Сам же обрядовый корабль-телегу он признавал прообразом первой сценической площадки. В связи с этим можно напомнить, что нередко и слово «карнавал» ошибочно возводилось к «carrus navilis» — ’корабельная телега’ (см.; Кагоров Е. Г., 1918, № 146, с. 70). О корабле в драме см. также: Фрей' денберг О. М., 1936, X? 334, с. 209, 219.
101. Одна из распространенных «формул невозможного» (небыличный мотив «Уж как по суху корабль летит»), безусловно, вторична по отношению к соответствующей обрядовой практике, пародийным обыгрыванием которой она является. Здесь имеются в виду многочисленные описания масленичного «корабля» (лодки) с ряжеными, в который бывают иногда впряжены люди (см.: Снеги рев И., 1838, № 280, с. 33; Поспелов П., 1871, № 242, (No 21) с. 123-124). По другому свидетельству, «лодка и в свадебном обряде занимала свое место» ([Забелин И.], 1879, №> 115, с. 178), чго вполне соотносится с «плодородной» семантикой корабля в трактовке О. М. Фрейденберг (см : 1936, N? 334, с. 202-203).
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
35
вия, чтобы не только поставить, то есть научно сформулировать, этот вопрос, но и попытаться на него ответить.
Ответ в самом общем виде сводится к тому, что такое сопоставительное изучение принципиально возможно, если осуществлять его на базе специальной театроведческой теории, которая и должна быть разработана. Вместе с тем содержательным и плодотворным оно может оказаться только в одном случае — при условии сознательного переключения данной проблемы из генетического (историко-эволюционного) русла, по которому она всякий раз инерционно направляется, в типологическое, которое в истории науки стихийно и спонтанно неоднократно пробивалось штрихами отдельных догадок (вспомним хотя бы А. И. Белецкого), но специального обоснования пока не получило.
Ведь тот факт, что русский театр не вырос непосредственно из обряда или детской игры, не означает еще ни отрицания их сходства по существу, ни невозможности их сравнения по каким-то фундаментальным критериям — так же, как утверждение генетического родства между ними в лучшем случае способно объяснить их сходство, но при этом не дает трактовки имеющимся различиям. Таким образом, родство — только частный случай, предполагающий и объясняющий сходство; в других же случаях эту проблему необходимо, как справедливо отмечалось Б. Н. Путиловым,102 решать в более общем виде — на иной методологической почве, с принципиально иных позиций.
Для нас очевидно, что отсутствие прямых генетических зависимостей между названными явлениями не должно мешать поиску такого методологического основания, которое сделает их сопоставление перспективным, а в обнаруженной близости данных явлений позволит увидеть больше, нежели чисто внешнюю, сугубо механическую связь — в виде ли их временнбй последовательности, в виде ли причинно-следственного ряда (ведь именно с ними имеет дело генеалогическая классификация). Оно не должно препятствовать поиску такого принципа, который поможет обнаружить их внутреннюю, глубинную общность, их совпадение по существу или, говоря словами Б. В. Казанского, позволит «проникнуть внутрь системы, а не ходить вокруг нее».103
Такое основание и такой принцип видятся нам в структурно-типологическом подходе, всегда сопряженном, во-первых, с поиском и установлением универсалий, во-вторых, с определением типов их реализации в парадигматических рядах изменяющихся форм — сквозь множество конкретных вариантов и трансформаций.104 Отношения, которые в нашем случае связывают и сближают фольклорно-игровые пласты материала и собственно театр, не являются родственными — это отношения так называ
102. См.: Путилов Б. Н., 1976, N? 252.
103. Казанский Б. В., 1925, N? 147, с. 12.
104. О методологии типологических исследований см.: Иванов Вяч. Вс., 1958, № 133, Бурлакова И. И., Николаева Т. М., Сегал Д. И., Топоров В. Н., 1961, № 43; Звегинцев В. А., 1963, № 121; Скаличка В., 1963, № 275; Успенский Б. А., 1965, № 324; Лотман Ю. М., 1966, М? 194; Гух-ман М. М., 1968, № 95; Он же, 1974, М 94; и др.
36
ГЛАВА ПЕРВАЯ
емого «сродства» («Affinitat», по Н. С. Трубецкому105), которые в силу особой их природы и рассматривать следует прежде всего типологически.
Более того, театроведческий подход к разного рода народным играм становится для нас в первую очередь подходом типологическим. В отличие от всевозможных историко-генетических штудий, дающих в итоге лишь длинные цепи преемственности по восходящей прямой или спирали бесконечных преобразований одного явления в другое, он потребует разработки специальных критериев, позволяющих как сближать игры и обряды с театром по существу (а не только во времени), так и противопоставлять их друг другу в качестве разных игровых систем (а не только в разновременности их появления, то есть в оппозиции «раньше-позже»).
Сведение же истории русского театра к хронологической последовательности отдельных явлений, исторически выводимых одно из другого, к цепи безостановочных преобразований от простого к сложному неизбежно навязывает и определенную логику отношения к данному вопросу. Отдельные замкнутые звенья его рассматриваются в силу этой логики не под знаком их общей сущности, а под знаком их новизны, сквозь призму определенного количественного сдвига, который фиксируется ими (только в этом случае и можно ведь говорить об эволюции). Точки же касания между ними, если и принимаются во внимание, то берутся исключительно как точки столкновения этих звеньев во времени.
Очевидно, что не очень велика информативная ценность «свидетельств» такого рода: «игрища перерастали в позорища», «сперва возникает устная народная драма и простейшие формы кукольного театра. Несколько позже было заложено основание национальной письменной драматургии, обслуживающей придворный и школьный театры».106 Что из чего вырастает, что во что перерастает — вот практически единственная логика «пути», вся реальная и потенциальная ценность которой состоит в отыскании новых перекрестков и перепутий, в членении линейного движения на отдельные отрезки. Относительно этой логики нельзя хотя бы отчасти не согласиться с Б. В. Казанским, который оценивал ее возможности следующим образом: «Уяснение того, как была возведена постройка и откуда взят был для нее строительный материал, еще не дает понимания существа дела».107
Первоочередная задача нашей работы как раз и состоит в необходимости вернуться к существу дела, которая понимается как попытка сопоставить игры, обряды и театр в структурно-типологическом отношении, чтобы увидеть единое в разном и разное в едином, изучить «соотношение общего и частного, отдельного», чтобы исследовать, «как это общее различно реали
105. Ссылка на Н. С. Трубецкого (Trubetzkoj N. Gcdanken uber das Indo-gcrmanenproblem//Acta Linguistika. 1939 Vol. 1) дается по следующему источнику: Звегинцев В. А., 1963, N? 121, с. 12.
106. Всеволодский-Гернгросс В. Н., 1977, .№ 65, с. 40
107. Казанский Б. В., 1925, 147, с. 12.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
37
зуется в языке»108 игры. Данный замысел связан с неизбежностью рассмотрения материала в синхронии.
При историко-генетическом взгляде на вещи конечный результат развития действительно можно отчасти объяснить исходным строительным материалом. Однако закономерная повторяемость явлений и свойств при этом не видна — она неизбежно ускользает из поля зрения, заслоняемая всё новыми и новыми конкретно-историческими метаморфозами. В свою очередь это означает принципиальную невозможность получить при таком подходе типологическую картину собственно игровых форм, составить представление об игровом языке как таковом — в максимальном объеме его -«диалектов», — то есть развернуть его «веером» парадигматики. Ведь то, что условно может быть названо «типом» в диахронии, всегда будет характеризоваться исключительно как новация по сравнению с предшествующей стадией и строиться соответственно с позиций сугубо дифференциального подхода, для которого важны не сходства, а количественные, завоеванные временем различия.109 В отличие от историко-сравнительного метода, который позволяет соотносить как исток и результат, как причину и следствие два соседних на шкале времени явления, структурно-типологический существенно раздвигает границы и возможности сопоставления, принципиально освобождая его диапазон от жесткой временнбй зависимости. Кроме того, он предполагает обязательный учет сходства наравне с различиями и таким образом обеспечивает фиксацию стабильной сути явления наряду с его текучими и изменчивыми формами — независимо от причин этой изменчивости.
Этот методологический прием имеет безусловные преимущества при постановке ряда задач. К их числу относится и наша двухчастная задача, которая наряду с разработкой общей теории игры (в театроведческом аспекте) включает также построение общей типологии игровых форм, базирующейся на качественных различительных характеристиках, — типологии, которая в дальнейшем может всё более и более конкретизироваться. Впрочем, любая типология (и общая, и частная) требует основополагающей теории, к изложению опорных моментов которой мы и переходим.
3.
Типологический подход обеспечивается в данном случае тем, что многие обрядовые действия и народные игры могут быть соотнесены с театром через специально разработанное инвариантное понятие игры110 и на уровне этого понятия, положенного
108 Гухман М. М., 1974, № 94, с. 44.
109. В качестве аналогии здесь, пожалуй, целесообразно вспомнить диалектные (специализированные, исторические) словари, которые дифференцированно отражают лексику того или иного говора (социальной среды, эпохи); не давая сводного представления о лексическом фонде диалекта (определенной профессиональной группы), они фиксируют только его специфический пласт.
110. Об этом см.: Ивлева Л. М., 1974, № 139, с. 24-25.
38
ГЛАВА ПЕРВАЯ
в основу метаязыка для их театроведческого описания, обнаруживают определенный изоморфизм.111
Поиск общей театроведческой формулы обряда, народных игр и театра заставил нас на время отвлечься от специфики множества конкретных текстов — отключиться от их функциональных, жанровых, стилистических особенностей, от всего изменчивого, преходящего, исторически неустойчивого в названных явлениях фольклорной, профессиональной и так называемой «третьей» культуры.
На данном этапе работы особая роль принадлежала сравнению отдельных собственно театральных и фольклорных текстов с целью либо обнаружить в них некоторый сквозной, общий и одновременно для каждого из них ключевой признак, либо убедиться в отсутствии такого признака: важно было определить, чтб является для них «абсолютной необходимостью»,112 а что вторично. Такой абсолютной необходимостью, таким театроведческим эталоном, переводящим все конкретные виды театра, народных игр, обрядовых действий, которые связаны с определенным местом и историческим временем, в явление вообще театроведчески значимое, мы и считаем игру в том специфическом ее понимании, которое далее уточняется нами.
На наш взгляд, ни один из исторических типов театра сам по себе не может быть избран в качестве эталона театрального искусства в его чистом виде. В этом смысле представляется необоснованной и ошибочной предпосылка Э. Бентли, предложенная им для будущей «классической типологии западной (театральной. — Л. И.) традиции»113 114 и сформулированная с опорой на итальянскую комедию масок как якобы самую репрезентативную форму театра.
Итак, игра в театроведческом смысле слова представляет собой систему особого рода. Игра — это специфический язык, который определяется двумя необходимо существенными ярусами признаков: первый из них связан с перевоплощением, второй — с действием как наглядным способом изображения
111. Очень тонкое ощущение этого изоморфизма характеризует Л. Леви-Брюля (см.: 1937, No 184, с. 124—132), который вместе с тем по-своему нейтрализовал его на содержательном уровне.
112. Бентли 3., 1978, № 24, с. 50.
ИЗ. См.: Там же.
114. Перевоплощение вслед за И. В. Рождественской понимается нами как любое преображение, связанное с «принятием на себя роли другого* {Рождественская Н. В., 1975, N? 259, с. 328); здесь же автором приводятся разные синонимические обозначения этого узлового понятия. См. также: Она же, 1978, № 258.
Данный признак в театроведческой литературе неоднократно отмечался как единственное специфическое условие существования театра (в этом отношении показательна, в частности, уже упомянутая книга А. Д. Авдеева (см.: 1959, N? 3)). По словам Н. Н. Евреинова, он достаточно хорошо известен в формулировке Рошера: «Человек <...> ставит себя на месте другого и зрителем зовется именем этого другого* (цит. по кн.: Евреинов Н. Н., 1921, No 108, с. 6). В связи с этой проблемой см. также: Комиссаржевский Ф. Ф., 6/г., N? 160; Гуревич Л., 1927, N? 88; Ланг Ф., 1928, К» 180; Якобсон II. И., 1936, № 355; Симонов П. В., 1962, No 272; и др
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
39
персонажа.115 Это значит, что игра в целом характеризуется зрительно воспринимаемым (иначе говоря, зрелищным) действием от другого лица с возможным распределением ролей между действующими лицами. На данном уровне, позволяющем выявить существенное морфологическое сходство отдельных театральных систем, фрагментов «русских праздников и суеверных обрядов», а также значительного слоя собственно народных (как взрослых, так и детских) игр, не учитываются ни многообразные оттенки и различия в конкретном характере действия, ни специфика частных случаев перевоплощения,116 включая и перевоплощение по К. С. Станиславскому.
От играющего — в отличие от случаев психопатологической смены жизненных ролей — требуется и вхождение в определенную роль (перевоплощение), и соответственно выхождение, «возвращение» из нее (развоплощение), то есть особую важность приобретает для него установка па условность игровой ситуации:117 ведь только в пределах отведенной партии ему и задается, от пего и ожидается определенный тип поведения. В целом это создает такой поведенческий комплекс, который определяется двуединством разнокачественных слагаемых. В игре как бы скрещиваются две сферы — исходная, коренящаяся в действительности (ею обусловлены подконтрольные сознанию механика и техника игры), и воображаемая, иллюзорная (с нею связаны результат «присвоения» роли, ее «проживание» играющим и одновременно восприятие этой роли другими). Своеобразный сплав этих двух стихий и создает мерцающую атмосферу игры с синхронностью существования играющего в двух мирах сразу (точнее, «на грани двух миров»118) — в том кругу, где реали
115. Об актуальности этого признака по отношению к театру свидетельствуют многочисленные высказывания теоретиков, историков, практиков театра, которые по возможности учтены нами. Процитируем лишь некоторые из них: «Чувства и мысли поэта <...> имеют ценность, только будучи представлены, показаны» {Жуве Л., 1960, № 114, с. 21); «Театр создает представление <...> действова-нием» {Сахновский В., 1914, № 267, с. 109); «Кто, где и как движется, действует и говорит — эти основные вопросы драматургии одинаково важны и для ритуала празднества, и для сценария зрелища <...>» {Пиотровский А. И., 1922, № 236, с. 37) и т. п.
Явной гипертрофией этого признака — будто бы единственного показателя театральности — была отмечена, безусловно, односторонняя концепция В. Н. Все-вол оде ко го-Гер н гросса (театр как искусство действования), впоследствии критически Пересмотренная самим автором.
116. По отношению к перевоплощению и действию как таковым и диалог, и жест, и мимика, и маска, и костюм — всего лишь производные, вторичные, окказиональные признаки, определенное сочетание которых способно характеризовать только исторически конкретную (а потому преходящую) форму игры или ее типологическую разновидность, но никак не ее идеальную сущность. В этом смысле бесперспективным представляется нам, в частности, спор о словесной или пластической доминанте в театре, который решается альтернативно в пользу то театра слова, то театра движения (см., напр/ Пяст В., 1921, Jsfe 254; Савуш кина Н. И., 1976, № 266, с. 10- 11), — в то время как, с нашей точки зрения, театральность в целом определяется совсем не на этом уровне.
117. «Знали хорошо, — пишет об играх своего детства ф Сологуб, — что это не в самом деле, что зсё это нарочно» {Сологуб Ф., 1908, № 291, с. 180).
118. Выготский Л. С., 1968, №? 68, с. 25.
40
ГЛАВА ПЕРВАЯ
зуется особый условный тип поведения, решительно не совпадающий с нормами будничного мира.
На всё время, пока длится игра, homo ludens становится своего рода заместителем изображаемого им персонажа, qui pro quo — воображает себя другим лицом, от имени которого он и действует в определенной вымышленной обстановке. По выражению Т. Сальвини, он живет -«двойной жизнью*;119 и на самом деле ему приходится постоянно поддерживать мерцающую иллюзию собственной трансформации, стремясь при этом к «околдованию* других. Апологеты театральности как таковой (прежде всего Н. Н. Евреинов и Ю. И. Айхенвальд) основной стимул подобного поведения видели в исконно владеющей человеком страсти к самоизменению и обновлению, в якобы изначально присущей ему «радости метаморфозы*. Последнюю они не только ретроспективно «наблюдали* в первобытности (особенно Н. Н. Евреинов, блестяще эрудированный в этом отношении), но и активно возрождали к жизни, во что бы то ни стало внедряли в современность: «Не накануне ли мы чудесного века маски, позы и фразы*, — торжествующе заглядывал Н. Н. Евреинов в недалекое, как ему казалось, будущее.120
Вообще говоря, этот дуализм игры, это соединение в ней реального и «условно реального* миров при невозможности абсолютного переключения и полного соскальзывания в какой-либо из них не специфичны для игры в ее театроведческом качестве. К настоящему моменту в науке накоплено достаточно много глубоких суждений о некоторых общих свойствах искусства и игровой модели, включающей человека в каждую единицу времени «в два типа поведения — практического и условного* (Ю. М. Лотман).121 Однако здесь сразу же необходимо внести и весьма существенное уточнение, так как игра в театроведческом значении имеет дело с явно специфическим материалом. Способность человека к изображению, воспроизведению и пересозданию действительности в формах иллюзорного мира со всей зрительной наглядностью объективируется здесь в действиях от другого лица, которые Вас. Сахновский назвал «тайной творчества актера*, передающего «то, чего нельзя записать, нельзя нарисовать, что бывает только, пока бывает*.122
Можно сказать, что микроструктура игры и ее ядро — это играющий человек: «homo ludens* И. Хойзинги,123 «личность
119. Цит. по кн.: Гуревич Л., 1927, 88, с. 16.
120. Евреинов Н. Н., [1912], №? 109, с 31—32 (см также: Белецкий А. И., 1923, № 23, с. 6). Отрицая театр как искусство, вернее, растворяя его в бытовых формах жизни, Ю. Айхенвальд отказался видеть в нем что-либо специфическое: «Театр не имеет своего символа, у него нет формулы. И это не случайно, это необходимо, что актер умирает» (Айхенвальд Ю., 1914, .№ 4, с. 15).
121. См., напр.: Wundt W., 1908, № 386, S. 101; Фрейд 3., 1912, № 332, с. 18-19; Лапшин И., 1922, Nb 181; Лотман Ю. М., 1970, № 198, с. 82-90; Исупов К., 1971, ЛЬ 143; Добринская Е. И., 1975, ЛЬ 102, а также: Симпозиум..., 1963, No 273, с. 15 (о докладе И. Л. Андроникова «„Перевоплощение4* в процессе создания образов»).
122. Сахновский В., 1914, ЛЬ 267, с. 108-109.
123. Huizinga J., 1962, Nb 369.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
41
перевоплощенного действующего»- Ф. Ф. Комиссаржевского.124 Это и «живой» актер, и актер-кукла, это и скрывающийся под «харей» или рогожей участник обрядового действия, и без всякой личины создающий определенный образ участник детской драматической игры. Каждый из них обнаруживает сразу три своих ипостаси, будучи одновременно и 1) материалом игровой деятельности, и 2) ее конечным, но мимолетным, как бы «смертным» продуктом (метафора Ю. И. Айхенвальда «актер умирает» выражает неовсществленность вовне, неотторжимость актерского искусства, как раз и связанную со спецификой «живого» материала), и 3) создателем этого продукта. К любому из них мы можем подходить не только как к инструменту игрового поведения, но и как к творцу, владеющему этим инструментом, и как к определенному результату игровой деятельности творца. «Сцепа пишет актером»125 — эта формула театра не только лаконична, но и достаточно точна; вскрывающая собственно игровое его содержание, она — при широком понимании терминов «актер» и «сцена» — может быть применена практически к любому игровому явлению.
Игра возникает там, где человек в конкретном и зримом действии из Я создает НЕ-Я, где эти две образующие синхронизированы и сплетены в одну, двуединую, структуру. В любую единицу времени здесь сталкиваются и своеобразно сливаются Я играющего и определенное НЕ-Я, между которыми он, по сути дела, и балансирует. Для этого может использоваться большой арсенал конкретных приемов и средств, имеющих разное значение для разных традиций и эпох, для разных типов игровой культуры (перевоплощение может требовать и мимики, и жеста, и маски, и определенной речевой интонации, и пр.). Для этого же есть в резерве играющего различные вспомогательные условия и факторы, к которым относятся и демаркационное поле игры, и такие его знаки, как декорация, бутафория и пр.
Каждый из подобных приемов и факторов служит в системе игры собственно задаче перевоплощения и действия. Взятые же в отдельности, точечно, вне игры, они не имеют стабильного значения театральности, получая разные значения в культурных структурах различного типа. Диалог в игре существенно отличается, к примеру, и от бытового диалога, и от его изображения в прозе; жест как компонент речи или даже ее эквивалент может быть и сугубо лингвистическим, и экстралингвистическим фактором (очевидна и существенна разница между, скажем, экспрессивным знаком естественного языка и знаком языка немых), и фактором изобразительным (исполнение сказки и пр.). Функционально он отнюдь не совпадает при этом с тем жестом, которым сопровождается выбор роли играющим. То же самое можно отнести и к движению, которое в танце, например, будучи по содержанию образно-хореографическим элементом, существенно отличается и от повседневного бытового движения, и
124 Комиссаржевский Ф. Ф., б/г., № 160, с. 9.
125. Берковский Н. Я., 19(59, X? 27, с. 45. См. также: Таиров А. Я., 1970, Н 302, с. 13.
42
ГЛАВА ПЕРВАЯ
от движения в игре, как бы формально они ни походили друг на друга.
Нет смысла увеличивать здесь число подобных примеров, зато есть необходимость еще раз подчеркнуть, что связь таких элементов с театром не может считаться жестко заданной и универсальной. Поэтому и сам факт их наличия не должен рассматриваться как повод для однозначных выводов относительно театральности того или иного явления: за пределами игры, действительно использующей их в целях перевоплощения и действия от другого лица, их функциональная нагрузка вне-(и не-) театральна. Это следует учитывать и в дальнейшем изучении проблемы «фольклор и театр», и в оценке уже сложившейся практики, обосновывающей представления о театральности на этом «элементном» уровне (уровне «блуждающих атомов»): практика такого рода, несомненно, ошибочна и неплодотворна, так как в погоне за внесистемными соответствиями в разнообразных направлениях в разной мере размывает предмет исследования, уводит в сторону от его специфики.
Формулируя основную проблему данного исследования как структурно-типологическую, в первую очередь мы считали необходимым разработать уровень универсалий — представить игру в качестве специфического способа существования целого ряда явлений культуры, включая театр, большую группу так называемых драматических народных игр, многие фрагменты обряда, хотя каждое из названных явлений даст множество конкретных реализаций перевоплощения и обширное поле значений действия. Понятие игры выстраивается нами в данном случае как тот дополнительный этаж, на уровне которого выявляется достаточно многопрофильный и, вероятно, весьма архаичный тип человеческого поведения, определяемый перевоплощением и действием — независимо от исторической и типологической подвижности характеристик того и другого, независимо от структуры их «полей». Вместе с тем синхронное описание разных явлений как игровых позволяет увидеть качественное многообразие форм игрового языка и тем самым как бы предопределяет замысел развернуть вширь и обозреть целиком «веер» его возможностей, то есть в конечном счете построить его типологию.
В свой черед, при известной методологической перестройке, эту типологическую картину можно будет пронизать и осветить лучом истории, упорядочив типологический ряд и по вертикали диахронии. Однако только предварительное решение структурнотипологической задачи может по-настоящему открыть дверь в историю и обозначить научную перспективу для выявления отношений исторического следования и взаимодействия между отдельными игровыми типами. Только оно может показать, между чем и чем в будущем целесообразно искать и протягивать гипотетические нити истории.
Конечно, сами по себе выводы синхронного описания вряд ли послужат достаточным стимулом для диахронного изучения игровых типов: между логикой игры как системы типов и логикой ее исторического развертывания, ее преобразований во времени трудно предположить наличие каких-то прямых и однозначных связей, тем более — закономерностей (признание же пути от простого к
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
43
сложному — типично умозрительное решение этой нелегкой задачи). Однако вместе с тем только эти (типологические) выводы могут стать единственно надежной базой для исторической работы, которая на их основе впервые окажется способной оценить, с какого рода феноменами она имеет дело. Для теоретика театра, бесспорно, важно выявить игровой язык фольклора — обозреть его в полном спектре оттенков, наметить контуры этого языка в сумме его «диалектов»; для историка — существенно проследить этот язык в определенной временнбй перспективе, в движении истории, в динамике смен, всевозможных напластований, преобразований — во всей сложной реальности многовековой его судьбы.
Определяя задачу настоящей работы как задачу первого типа, всё же позволим себе предвосхитить обращение к проблеме диа-хронного изучения игры только одним утверждением. Существование игрового языка как такового, несомненно, древнее собственно театра, то есть оно предшествовало театру — этой сравнительно поздней исторической форме игры. Однако факт предшествования, безусловно, еще не решает проблему происхождения театра, так как главное, что требует ответа в данном вопросе, — это, конечно, не что чему предшествовало, а почему оказалось не только возможным, но и необходимым появление собственно театральной формы, какие стороны жизни и какие потребности в живом потоке времени оказались вне соответствия прежним формам игры (по существу это и будет ответом на вопрос, чтб есть театр как разновидность игровой деятельности).
Сам же дотеатралыю-игровой язык фольклора как план выражения взрослых и детских игр, а также фрагментов обрядовой практики располагает большим запасом возможностей. Это богатый мир, свободные, естественные и разнообразные формы которого не однажды вовлекались в круг практических интересов отдельных театральных деятелей, оказывались для профессионального театра (особенно в кризисные эпохи) то «живым огнем», то «живой водой», возрождали и активизировали в нем нерв живой театральности.126
Подытоживая ранее сформулированные нами предпосылки, следует подчеркнуть, что речь идет в данной работе не о собственно драматическом роде в фольклоре, чистой культуры которого (за исключением отдельных очагов неразветвленного, не сложившегося в законченную систему народного театра) он, пожалуй, действительно не знает,127 а о существовании в нем иг
126. См. об этом: Казанский Б. В., 1925, 147, с. 135; Уварова И. П.,
1981, Nb 321; Смирнов-Несвицкий Ю. А., 1978, Nb 279.
127. Наиболее остро эта проблема поставлена Д. М. Балашовым, который предлагает рассматривать процесс формирования народного театра не столько в системе фольклора, сколько в системе любительского театра. Обосновывая свой взгляд художественным несовершенством народной драмы, он видит в народном театре отнюдь не высшее, итоговое проявление драматической тенденции в фольклоре, а — наоборот — первую ступень в развитии профессионального искусства (см.: Балашов Д. М., 1974, X? 16, с. 18). В связи с начатой недавно разработкой проблемы «примитива» (см.: Примитив..., 1983, № 247) становится всё отчетливее функциональная и стилистическая близость фольклорного театра к явлениям так называемой «низовой* культуры. Во всяком случае, необходимость специального исследования данной проблемы представляется нам на этом фоне достаточно ощутимой
44
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ровой модели, игрового языка, игровой формы выражения, охватывающих и обслуживающих разнородные пласты материала.128
Отметим, что в связи с этим особого внимания заслуживает подчеркнутая еще В. Н. Харузиной двойственность так называемых «примитивных драматических произведений* — мысль, чрезвычайно важная, но, к сожалению, не получившая соответствующей разработки и практической реализации в трудах этого автора. В данном случае речь идет о том, что в одной из своих работ В. Н. Харузина предлагала различать в «первобытной драме* две стороны — «внутренний смысл произведения и его выражение вовне*.129 Это хорошо дополняется и другим ее суждением: «Религиозная мысль человека разнообразится, растет, развивается, получает другое содержание, — но форм, в которые она выливается, сравнительно поразительно мало*.130 Здесь же целесообразно вернуться и к отмеченной нами ранее мысли В. Н. Всеволоде ко го-Гер н гросса о том, что «отдалившиеся друг от друга разновидности (игрища. — Л. И.) <...> пользовались сходными приемами выразительности*.131
Идею предложенного В. Н. Харузиной противопоставления, которое на языке современной науки можно назвать дифференциацией «плана содержания* и «плана выражения* (по Л. Ельмслеву), на наш взгляд, следует признать чрезвычайно актуальной и перспективной как вообще, так и в частности — для изучения игры. В принципе, противопоставление такого рода может иметь несколько методически и методологически существенных последствий, которые здесь необходимо наметить хотя бы в самом общем виде.
С одной стороны, в нем вычитывается возможность того различения формы и функции, продуктивность которого на разнородном материале была впоследствии блестяще продемонстрирована П. Г. Богатыревым.132 В нем можно найти обоснование для выявления разных содержательных структур, пользующихся общим языком (как мы увидим дальше, на языке игры в фольклоре действительно существуют явления разного порядка, имеющие неодинаковую функциональную ориентацию).
С другой стороны, оно помогает обнаруживать и затем соизмерять разные способы «выражения вовне* одних и тех же содержательных единиц — позволяет выявить в фольклоре случаи сосуществования нескольких, принципиально различающихся,
128. Применительно к фольклору В. Е. Гусев говорит о народно драмати ческом творчестве, которое понимается как «особый тип игровой деятельности», предполагающий «перевоплощение человека в объективно-художественный образ и установку на развлечение, забаву, потеху» (Гусев В. Е., 1977, № 89, с. 7). В итоге В. Е. Гусев считает ряженье, обрядовое действо, хороводные и драматические игры (их он относит к дотеатральному типу игровой деятельности) и народный театр единой областью творчества, что, на наш взгляд, неправомерно <...>.
129 Харузина В. И., 1927, .№ 340, (№ 1) с. 58.
130. Харузина В. Н., 1911, М 339, с. 54.
131. Всеволодсхий-Гернгросс В. Н., 1977, 65, с. 18.
132. См.: Богатырев П. Г., 1971, № 31, с 30 — 49 (гл «Народный театр
чехов и словаков»), с. 297 — 366 (гл «Функции национального костюма в Мо-
равской Словакии»).
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
45
языков, которые служат для передачи семантически эквивалентных единиц. Как, например, показал Н. И. Толстой, в пределах одного и того же обрядового комплекса такое языковое переключение может использоваться многократно.133 И тогда мы имеем дело с переводом обрядовой семантики то на игровой язык (действие от другого лица), то на изобразительный (обрядовое печенье, танцевальный рисунок и пр.), то на музыкальный, то на сугубо вербальный (загадка, нарративный жанр) — с одинаковым полем значений во всех этих случаях. Подобные наблюдения и приводят нас к общему выводу о том, что однофункциональность может объединять явления разной морфологической природы, что она может быть свойственна различным способам моделирования мира.
Возвращаясь к идее В. Н. Харузиной, отметим, что на самом высшем уровне такое противопоставление непосредственно гарантирует изучение всего надвременного и стабильного в игре — этой специфической «форме выражения вовне» — как бы в некотором отвлечении от ее конкретно-исторических функционально-семантических примет (игра как таковая). А на низших уровнях оно делает соответствующие приметы значениями игры в ее типологических вариантах и модификациях (игровые типы).
Это позволяет, в частности, интерпретировать многие фрагменты русских народных праздников и обрядов как драматизированное воплощение мифологических представлений и соответствующих им сюжетов, как их игровую версию, не устанавливая при этом корреляцию между игровой формой обрядовых действий и их культовой семантикой или прагматикой.
Обычно связь такого рода мыслится в виде обратной зависимости, а за «коэффициент» театральности принимается исторически возрастающая эстетическая функция обряда (или — соответственно — убывающая связь обряда с магией). Так, например, представляла себе эту проблему и В. Н. Харузина, которая вслед за рецензируемым ею Ц. Майнхофом и вопреки собственному высказыванию, ранее процитированному нами, утверждала следующее: «То, что делали с серьезной целью, повторяют для удовольствия — вот путь к возникновению <...> драмы из обряда».134
Подобное подчинение задач изучения формы задачам выявления функции многих исследователей приводило в итоге к неразрешимым противоречиям в отношении тех разновидностей театра, которые не порвали еще с культовым обиходом, не изменили своей обрядовой принадлежности и не освободились от серьезности своего предназначения.
С нашей точки зрения, совершенно излишне обусловливать театроведческий интерес к обряду непосредственно и исключительно процессом разрушения последнего — исчезновением «серьезной цели» или ее преобразованием в гедонистическую, ослаблением или переосмыслением мифологической содержатель
133. См.: Толстой Н. И. «Из „грамматики1* славянских обрядов* (рукопись доклада на Богатыревских чтениях (ЛГИТМиК, 1978))
[Статья опубликована в сб/ Труды по знаковым системам. Вып. 15. Тарту, 1982. С. 57-71.]
134. Харузина В. II., 1912, № 341, с. 124
46
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ности обряда и, соответственно, некоторым усилением в нем эстетического компонента. Характеристика обрядовых действий с точки зрения театроведа — вопреки сложившейся и, к сожалению, прочно пустившей корни исследовательской традиции — как раз и не должна, как нам представляется, зависеть от количественного соотношения в нем магическо-мифологического и эстетического или иначе — обрядового и необрядового.135 Подобная корреляция, действительно имеющая первостепенную важность для этнографа и фольклориста, не может быть определяющей в театроведческой концепции обряда, где этот материал выявляет свою сущность уже не столько в аспекте его ритуальности, принадлежности собственно обрядовой практике, сколько с точки зрения специфически игровой модели мира, им создаваемой.
Это, конечно же, отнюдь не исключает необходимости учета всех этнографических признаков и особенностей данного материала, поскольку именно они определяют содержательность подобного рода «игр» и во многом именно к ним восходит специфика конкретно-игровой формы обрядовых действий, — это всего лишь иначе расставляет акценты.
Дополнительная сложность данного вопроса определяется еще и тем, что соотношение эстетического и внеэстетического в фольклоре вообще (драматическом творчестве, в частности) очень непросто поддается вычислению: ведь стихийно эстетическая природа фольклора, как это видно из целого ряда исследований, изначальна, а не только вторична,136 137 и поэтому эстетическое в нем неправомерно представлять лишь как возместительную функцию, как компенсацию прагматического (в том числе магического) начала, исторически идущего на убыль. Наряду с этим известно много случаев, когда на практике нелегко, а то и вовсе невозможно провести рубеж, по одну сторону которого осталась бы чистая прагматика («серьезная цель»), по другую — чистая зрелищность (развлечение), и соответственно непросто сказать, состоялся ли уже переход обряда в игру. Кстати говоря, невозможность точно определить, произошел ли переход игры от культовой действительности (kultische «Wirklichkeit») к эстетической (asthetische Kunst), очень хорошо осознавал К. Штумпфль, исследовавший историю средневековой немецкой драмы/37
Существуют, к примеру, многочисленные формы театра (и никто не станет ни оспаривать их театральности, ни даже сомневаться в ней), которые тем не менее совершенно неотделимы от культа, — в частности, религиозные представления типа средневековой мистерии. Если измерять театральность соотношением культового и эстетического с условием непременного перевеса в сторону последнего, то историкам театра придется отказаться и
135. Достаточно вспомнить в связи с этим чрезвычайно важный вывод, к которому пришел П. Г. Богатырев в результате рассмотрения функций народно-игрового искусства: «Не всегда функция эстетическая является доминантной* (Богатырев П. Г., 1971, №? 31, с. 49). К аналогичному выводу на болгарском материале склоняется и Н. И. Толстой, когда он пишет: «<...> действо воспринимается как ритуал <...>, однако у него есть и достаточно ярко выраженные театральные черты* (Толстой Н. И., 1979, N? 310, с. 313).
136. См.: Гусев В. Е., 1967, N? 93; Топоров В. Я., 1972, № 311.
137. См.: Stumpfl К., 1936, М 383, S. IX (Vorwort).
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
47
от античного театра, который подобной проверки на театральность, видимо, тоже не сможет выдержать,138 и от многих разновидностей традиционного восточного театра, совмещающих определенные обрядовые функции с эстетикой театрального языка.139 Кстати, с серьезными внеэстетическими целями были неразлучны и многие современные формы театра, для которых особую силу могли приобретать задачи агитационные, просветительские, педагогические и пр., становящиеся иногда едва ли не первоочередными. На функциональном уровне вряд ли вообще правомерно искать в театре какое-либо единообразие. И совсем непонятно, почему на фоне очевидной его полифункциональности из пучка внеэстетических (коммуникативных, этических и пр.) функций именно магической отводится столь решающая роль — роль своеобразного индикатора театральности.140
Исходя из всего отмеченного, нам остается, видимо, предположить, что данный критерий важен не для игры как таковой, а лишь для частных ее случаев — для тех немногих типов, в которых эстетическое содержание не осложняется примесью разного рода внеэстетических установок.
Вместе с тем после работ продолжателей А. А. Потебни (в частности, «Культурных переживаний»- Н. Ф. Сумцова) нередко приходится читать о превращении обряда в игру лишь по мере его вырождения, постепенного изнашивания им магических функций и мифологической содержательности, лишь в силу нарастания в нем чистой занимательности, развлекательности, зрелищности, и делающих его якобы впервые театроведчески значимым.141 Оценочный фонд для характеристики этого процесса измеряется полярными понятиями: одни исследователи предпочитают говорить о вырождении обряда в игру, другие склонны видеть в этом своего рода ^возрождение^, то есть понимать игровую стадию в развитии обряда как исторически более прогрессивную ступень в сравнении с предыдущей.
Однако дело в данном случае не столько в этих оттенках, сколько в том, что выбор любого из них всего лишь незначительно преломляет единое в сущности представление об игре как о пережиточной обрядовой разновидности. Стало общепринятым писать об игре как о вторичной форме существования обряда, которая завершает длинный путь его развития и создает
138. См., напр.: Фрейденберг О. М., 1978, № 333, с. 301 — 487; Арановская О. Р., 1974, № 9, с. 37. Ср. также: «Современная драма — окончательно res profana, античная остается богослужением* (Иванов Вяч. И., 1923, №? 135, с. 245).
139. См.: Кузнецова С. С., 1973, М 174; Соломоник И. Н., 1983, 292,
с. 13—15, 30, 52 и др.
140. Противоположная точка зрения по этому вопросу принадлежит П. Н. Беркову, который и само возникновение народного театра связывает нс только с его отмежеванием от обряда, но одновременно и с определенной идейной его направленностью в качестве «сатирической, а также героической формы отражения социальной жизни народа* (Берков П. Н., 1953, № 26, с. 13).
141. Эта точка зрения объединяет многих авторов: Харузина В. Н., 1927 — 1928, № 340; В севолодский-Гериг росс В, Н., 1933, N? 63, с. XXIV —XXV; Акимова Т. М., 1957, № 5, с. 343; Гусев В. Е., 1977, М 89, с. 5 — 6; Савушкина Н. И., 1976, N? 266, с. 4; и др.
48
ГЛАВА ПЕРВАЯ
возможность перехода в театральную стадию его функционирования, то есть считать игру неисконной формой обряда, своеобразной компенсацией утраченного им магически-мифологиче-ского комплекса значений.
Ведущий критерий, положенный в основу этого представления, не может быть назван ни достаточно определенным, отчетливым и уловимым, ни — главное — достаточно обусловленным спецификой театроведческого взгляда на игру.
Отметим, во-первых, что констатация процесса разрушения обряда сопровождается в этом случае недифференцированным использованием разных значений слова «игра», на самом деле образующих явно омонимическую пару понятий, — иначе говоря, она связана с нетерминологическим бытованием слова «игра» (см. во Введении о противопоставлении игры как специфической формы выражения игре как развлечению, забаве, игре как обозначению идеи несерьезности и бесцельности — в противоположность целенаправленной и полезной деятельности).142 Во-вторых, обратим внимание на то, что идеологическая направленность обряда исторически — в силу разного рода переосмыслений — действительно могла меняться, как могло видоизменяться и его конкретное игровое выражение, — постоянной оставалась лишь игровая природа обряда. Конкретный характер игрового действия мог претерпевать изменения в зависимости от той или иной функционально-семантической актуализации обряда носителем,143 но двуединая природа обряда как игровой формы ритуальной™2* деятельности оставалась при этом величиной постоянной, измеряемой комплексом перевоплощения и действия. Таким образом, значительная часть обрядов предстает перед нами в отдельных своих фрагментах как мифология — ио содержанию (актуальному или пережиточному), как игра — по форме.
Перевоплощение и действие оказываются для них специфическими категориями формы, а мифологическое содержание воспроизводится в целом ряде эпизодов средствами игрового языка — путем лицедейства: оно разыгрывается, оно представляется в лицах как в самом обряде, так и в его доритуализованных вариантах. Поэтому не имеет смысла говорить об эволюции обряда как о процессе его постепенного превращения в игру — на
142. Недостаточное различение этих понятий, основательно противопоставленных друг другу еще 3. Фрейдом (см.: 1912, № 332), характерно, к примеру, для В. Н. Всеволодского-Гернгросса (см.: 1933, Х<> 63). Для нас в данном случае слово «игра» представляет интерес только одним своим значением, фиксирующим противоположность игрового неигровому не по признаку ’серьезный — несерьезный’ или ’утилитарный — лишенный утилитарности’, а по признаку ’действительный, реальный (или мыслимый в качестве такового) — имитирующий действительное посредством перевоплощения’
143. Известно, что фольклор принадлежит не отдельному информанту, а коллективу, хотя при этом, как многогранно и выпукло показал на широком срезе материала П. Г. Богатырев, бытование одного и того же фольклорного текста может получать в представлениях отдельных его носителей очень разные мотивировки (см : Богатырев 11. Г., 1971, 31, с 167 —29G (гл «Магические
действия, обряды и верования Закарпатья»)).
143а. Оба слова выделены автором в тексте диссертации от руки (Примем, ред)
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
49
наш взгляд, было бы точнее говорить в этом случае о процессе его десемантизации при сохранении изначально игровой формы. Там, где стиралась, изнашивалась и забывалась, к примеру, обрядовая семантика ряженья, где интенсивная и напряженно-действенная духовность обряда перерождалась в непритязательность игры-развлечения, в веселое и забавное переодевание исключительно в силу привычки, ряженье из явления духовной культуры по существу превращалось в праздничную бутафорию, в маскарадную затею, в своего рода безделушку — всё в той же игровой форме.
Последнее, конечно, не означает, что мы не должны внимательно относиться к этой заключительной стадии в развитии обряда, — дело здесь, безусловно, в другом: мы должны помнить, что это не единственная игровая ступень в его исторической судьбе.
На фоне восстановления в игровых правах определенной части фольклорного материала заслуживает внимания и противоположная проблема — необходимость отмежевания от некоторой части материала, традиционно причисляемого к театральноигровым пластам. Она касается источников разного характера, в частности, довольно значительным представляется нам вопрос о целесообразности и допустимых пределах театроведческой трактовки свадебного обряда и хороводных игрищ.
По признаку действия и свадебный, и хороводный материал вроде бы отвечает требованиям игры, по признаку же перевоплощения он нуждается в серьезных оговорках. Что касается свадебного обряда, то он многослоен и многоязычен, как и некоторые другие обряды в целом. Есть в нем эпизоды, безусловно, игрового характера (к примеру, ряженье, традиция которого описана нерегулярно и неполно и которое — в отличие от святочного — практически не изучалось). Но во многих случаях преображение отдельных участников, наблюдаемое в свадьбе, наравне с преображением участниц хоровода должно быть все-таки трактовано как перевоплощение не игрового, а церемониально-этикетного свойства.
Смысл его состоит в том, что здесь мы имеем дело не с игрой в некий условный образ, но с игрой участников обряда и хоровода в собственную отвлеченно-социальную сущность в идеальных формах ее выражения. Подобная игра соответствует тем ситуациям, когда абстрагированная от индивидуума сущность становится предметом особой ценности, нуждается в том, чтобы быть замеченной, и поэтому специально демонстрируется. Иначе говоря, здесь отсутствует обязательная для игры стихия НЕ-Я, здесь пет отторжения собственной сущности и се подмены другой, играемой, — здесь, наоборот, происходит как бы некое праздничное обретение индивидуумом своего лица; здесь мы видим особую форму осознания и демонстрации им своего статуса, места в коллективе, своей общественной функции. Таким образом, можно утверждать, что персонаж и исполнитель в этом случае тождественны друг другу, только речь при этом должна идти об определенной ипостаси исполнителя.
В тех же хороводных играх, где выделяются отдельные участники, как бы «играющие по песне», жест, движение, ми
50
ГЛАВА ПЕРВАЯ
мика, которые они используют, являются не более чем символическим комментарием к слову или его полным эквивалентом — в то время как в драматической игре создается то, что не получает адекватной передачи на языке слов. Хороводные игры этого типа скорее имеют своей аналогией «живые» картины или иллюстрации; это искусство в большей мере символически-изо-бразительное, нежели драматическое, игровое. Кстати, нередко слово и жест существуют здесь раздельно, принадлежа разным исполнителям, как бы дублирующим друг друга путем перевода «языка» песни на «язык» мимики, жеста, движения (то, что происходит в кругу, и потому уже не драма, а пантомима). Когда, допустим, находящаяся в кругу девушка изображает руками, как «растет мак», вряд ли она играет «рост мака» (она не столько представляет, сколько показывает это). Когда хороводница символическим жестом изображает встрепенувшуюся утку, а в песне образ «раздваивается», выступая и в своей прямой, и в метафорической сущности (девушка-утка), трудно сказать, какой же «сценарий» разыгрывается в данном случае и насколько игровое начало способно здесь быть автономным и давать адекватную песне картину.
Хороводный пласт материала, однако, неоднороден, и в нем есть подлинно игровые явления вроде брянского «спектакля» «Кострома» (подлинность в данном случае не означает исконность игрового характера этого действа), которые должны быть учтены нами.144
В связи с затронутой здесь проблемой градации игровых свойств особую смысловую нагрузку получает тот факт, что игровое превращение (преображение) — это не единственный случай известного фольклору перевоплощения ™4а более того, сама специфика его становится максимально отчетливой именно на фоне неигрового, как бы абсолютного перевоплощения — пусть оно, правда, всего лишь воображается на уровне веры.
В последнем случае речь идет об особом мифологическом представлении — о долго-(или кратко-) времен ном превращении в иное существо, каким мыслится в народе так называемое обо-ротничество. Этот случай лишен каких бы то ни было признаков игры — здесь нет двуплановости в поведении изменяющего свой облик, нет осознания им фиктивности своего появления под чужим именем, своего выступления от другого лица. Для некоторой части оборотней традицией допускается большой диапазон типичных автотрансформаций — диапазон, который потенциально вообще не ограничен: «ведьма и жабой, и ужом, и ким хочешь скинется»,145 «оборотни принимают вид животных, как то: сви-
зро-
скинется»,145 «оборотни принимают вид животных, как то: ней, собак, волков, лошадей и пр.»,146 «ведьма чим хочешь бится»147 ит. л.
144. Драматической природе хороводных игр посвящено специальное исследование Е. М. Рогачевской (рукопись диссертации).
144а. Выделено автором в тексте диссертации от руки. (Примем, рсд.)
145. Записано в 1982 г. в с. Костюковичи Мозырского р-на Гомельской обл. от О. Я. Пивоваровой Л Ивлевой.
146. РА ГМЭ, ф. 7, on. 1, № 31 (Владимирская губ.), л 2.
147. Записано в 1983 г. в с. Челхов Климовского р-на Брянской обл от И. Груздова Л. Ивлевой.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
51
При этом нередко подчеркивается принципиальная множественность возможных обличий персонажа как факт отсутствия у него собственного лица: любое другое лицо выступает для него как тоже свое (хотя и иное), являясь лишь одной из форм выражения его изначально множественной природы, внешне не закрепленной ни за каким отдельным образом. В этой многоли-кости все мелькающие и чередующиеся «лица» равнозначны и эквивалентны, все сводимы к единой сущности, что постоянно, кстати, и демонстрируется быличкой. К примеру, лапа кошки, лягушки и т. д., в которую превращается ведьма, на самом деле оказывается обманчивым образом руки (ноги); повреждение руки (ноги) в обличье лапы и т. п. действия как раз и служат типичным для былички средством изобличения ведьмы: «Она (ведьма. — Л, И.) скинулась жабой, а ён поотсек у ей лапу. А то не лапа, а нога у ей»;148 «(Ведьма. — Л. II.) притворилася у курку да сидэла под коровою, хозяин вошеу (в хлев. — Л. И.) и отрубиу ей ногу. Приходит до сусидки, а у ей ноги нэма»;149 «У нас была ведьма <...> и сделалася колосом <...>. Он (односельчанин. — Л. И.} от прясла палку отломау, хоп по колесу, а потом по тню (то есть по тени. — Л. И.). А на другий день встает, а у ей нос прямой, а переносица побита: по переносице попал он»;150 «Мать до сына шла. Скинулася на лягушку. Невестка скинула ее на лопате на расхидну дорогу и одрубала ей лапку. А утром сын убачиу, шо у ей (у матери. — Л. И.) рука зрублена».1*1
Способностью к такого рода доподлинному превращению в народном суеверии активно наделена всевозможная «нечистая и неведомая сила»: ведьмы, банные, лешие, русалки, водяные, домовые, колдуны, колдуньи и пр. (для них перевоплощение и есть оборотиичество в точном смысле слова, то есть превращение «туда и обратно», связанное и с их сверхъестественной природой, и с привилегией магического знания). 2 Пассивными носителями чужого «Я» оказываются проклятые родителями дети, вообще заклятые или нарушившие табу, преступившие определенный запрет люди, для которых превращение становится наказанием.153
148. Записано в 1982 г. в с. Костюковичи Мозырского р-на Гомельской обл. от О. Я. Пивоваровой Л. Ивлевой.
149. Записано в 1981 г. в с. Вышевичи Радомышльского р-на Житомирской обл. от О. Т. Кочуры Л. Ивлевой.
150. Записано в 1982 г. в с. Челхов Климовского р-на Брянской обл. от Е. Д. Груздовой Л. Ивлевой.
151. Записано в 1981 г. в с. Выступовичи Овручского р-на Житомирской обл. от Н. И. Шатун Л. Ивлевой.
152. Былички дают представление и о различных традиционных секретах обороти и чества, о способах «перекинуться». Для этого надо, например, переметнуться «в овинной яме через коромысло» (это же — и обратный «путь» для ведьмы (см.: [Первушин П. Ф. 1, 1895, № 232, с. 82)), или перепрыгнуть «через двенадцать ножей, поставленных вверх остриями, с известными заговорами» (Зеленин Д. К., 1915, 125, с. 794), или «в лесу найти срубленный
гладко пень, воткнуть в него с приговорами нож и перекувырнуться через него» (Даль В. И., 1965, М 96, т. 1, с. 233).
153. «<...> Оборотни бывают либо из колдунов, либо из шутов (шут — черт. — Л. И.), а когда просто проклятые люди» (РА ГМЭ, ф. 7, on. 1, № 3, л. 8).
52
ГЛАВА ПЕРВАЯ
И те и другие оборотни чаще всего предстают перед нами в образе различных животных — былички и суеверные рассказы изображают их в виде свиней, волков, собак, кобыл, медведей, сорок, гусей, куриц, лягушек, журавлей и т. д.; иногда — в виде неодушевленных предметов (вязанка дров, колесо, решето, копна сена, камень и пр.154) или людей с особыми (как правило, териоморфными) приметами и свойствами.155 По наблюдениям И. И. Толстого, «различны склонности нечистиков к перемене облика, к превращениям»:156 «оборачиваются колдуны и колдуньи в свинью, в собаку и в кобылу»;157 «банный показывался лягушицей, огромной собакой, чудовищным человеком с ко чистыми лапами вместо рук и ног»158 и т. д.
Все перечисленные образы животных мы найдем и в традиции святочного ряженья, однако в отличие от него оборотниче-ство — это подчеркнуто антиигровое явление, в котором нет иллюзии превращения, но есть само перевоплощение в буквальном смысле слова. Превращение мыслится здесь как абсолютное и полное — независимо ни от его продолжительности, ни от направленности (на себя или вовне, на другого); при этом сама возможность изменения облика обусловлена магически (сверхъестественной природой оборотней, магией слов, действий или специальных предметов) — в то время как в ряженье, наоборот, магические способности обусловлены переменой облика и, исходя из определенных возрастных потенций, временно приобретаются именно таким способом.
Итак, очевидна огромная разница между ряженым в гуся, волка, свинью, медведя, коня, который только символически представляет воображаемое превращение в соответствующее животное, и ведьмой, которая, как говорят в пароде, на святках «оборотится свиньёю да за девками пыляет»,159 или колдунами, способными «прикидываться (читай: перекидываться. — Л. II.) различными животными».160 Водораздел между превращением такого рода и перевоплощением в обрядовой игре — это и есть граница между действительностью (в данном случае мифологической действительностью былички) и игрой в эту действительность, между «перекидываться* и «прикидываться*.
Однако при очевидной необходимости дифференцировать эти явления важно тем не менее подчеркнуть, что ряженье несет
154. «Ведьма и котом, и собакой, и сена стог, и свиньей сделается, и поросят себе накладе — чим хочешь* (записано в 1982 г. в с. Челхов Климовского р-на Брянской обл. от И. Груздова Л. Ивлевой); «Катилося решето <...>. Он (дедушка. — Л. И.) ткнул в решето да ей (ведьме в образе решета. — Л. И.) ухо и обрезал, и она осталася без уха, баба Чучалюха: в платке ходила в баню» (записано в 1982 г. там же от М. Ф Шаньковой Л. Ивлевой).
155. Такого рода рассказы зафиксированы многократно. Укажем только некоторые из имеющихся публикаций: Тихонравов Н. С., 1861, N» 306; Иваниц кий Н., 1891, № 126, с. 227 — 228 (гл. «Вера в превращения*); Логинов-ский К. Д., 1904, № 193, с. 13-14; [Герасимов М. /С.], 1898, М 73, с. 131.
156. Толстой Н. И., 1976, N? 308, с 296
157 Дебрский А. — РА ГМЭ, ф. 7, on 1, № 15, л 6.
158. Зеленин Д. К., 1914, Н 125, с. 224.
159. Там же, с. 65.
160. Довнар Запольский М. В., 1906, N? 104, с 286.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
53
на себе много отпечатков подобной веры в оборотничество, хотя и выражает ее средствами другого языка. Оно, видимо, и представляет собой не столько иную стадию в развитии идеи превращения, сколько иную форму, иной способ актуализации и символизации этой веры. В этом отношении интересно заострить внимание на некоторой параллельности названных явлений. Так, к святкам (свадьбе и пр.) во многих местах приурочивается не только обычай рядиться, но и обыкновение «нечистиков» активизироваться, изменять свой облик и появляться в человеческом мире, среди людей, представляя для них известную опасность: «Волколаки принимают вид парней во время святок»;161 «Оборотень святками является в виде девушки, чтобы заманивать девушек, сводить с парнями, которые угощают девушек, наконец, доходит и до половой связи, но случаев заедания до смерти не бывает»;162 «<...> в эту ночь (на Новый год. — Л. И.) пробуждаются мертвецы <...>, принимают виды различных животных и расхаживаются по земле, пугая крещеный люд»;163 после Рождества дьяволы «в тревоге <...> рыскают по улицам в мрачном и огнезарном виде».164
Таким образом, при обращении к материалу нетрудно убедиться в том, что шкала перевоплощения в фольклоре много-ступенна — от внешнего подражания какому-либо существу до веры в подлинное превращение в него, когда в результате перевоплощения «маска», «костюм», звериная шкура как бы намертво срастаются с их носителем, становятся его новой оболочкой, новой — временной или постоянной — плотью.165 В данном случае принципиально важно отметить, что не все из этих ступеней могут стать объектом театроведческого изучения, поскольку далеко не все из них соответствуют основным критериям игры.
Однако для нас существенный интерес представляют не только чисто игровые ситуации, но и всевозможные пограничные случаи — вернее, случаи, обнаруживающие вероятность двойной природы отдельных фольклорных явлений. Показательно, что на
161. РА ГМЭ, ф. 7, on. 1, № 31, л. 6 (рукопись Каманина, Владимирская губ.).
162. Там же.
163. Соболев А. Н., 1914, № 281, с. 29.
164. Снегирев И., 1838, N? 280, с. 32 — 33. См. также: Степанов Н. П., 1900, № 297, с. 150; Скалозубов И. Л., 1901, № 276, с. 118.
165. Имеются в виду бытующие в разных восточнославянских зонах поверья о том, что в шкуре медведя, волка или в обличье аиста, лягушки и пр. может скрываться существо человеческой природы («Душа у его (волколака. — Л. И.) така, як и мы, а его учаровалы» — из рассказа Г. И. Брынзы, записанного в 1981 г. в с. Веприн Радом ышл некого р-на Житомирской обл. Л. Ивлевой). В связи с этим напомним, например, легенду о человеке, который нарядился медведем, чтобы испугать странствующего по земле Христа, и за это был превращен в животное: «<...> вывернутый кожух и прирос к телу <...>. А что это правда, то говорят: у медведя лапы, как человеческие руки» (цит. по кн.: [Булгаковский Д. Г.], 1890, 42, с. 189), или рассказ о бабе в сарафане, которую
обнаружили под шкурой убитого медведя (см.: Предания..., 1861, № 246, с. 36), или быличку об упыре, подковавшем у кузнеца ведьму, которая после ряда превращений (в собаку, свинью, телушку) приняла наконец облик жеребенка. «Утром многие приходили посмотреть на подкованную женщину» (цит. по кн.: Иванов П. В., 1891, № 137, с. 198 199).
54
ГЛАВА ПЕРВАЯ
русском материале может быть выявлено немало примеров, которые позволяют проследить возникновение1653 игрового языка на месте неигрового (или наоборот); в их числе — замещение в ряде обрядовых действий настоящего животного (козы, медведя и пр.), а также чучела или куклы играющим персонажем; среди них — и уникальная игра с настоящим покойником,166 зафиксированная наряду с игрой в ряженого покойника, для которой известна вместе с тем и форма игры с чучелом покойника.167 Одновременно с этим заслуживают специального внимания и многократно засвидетельствованные факты совмещения в рамках одного и того же текста двух типов поведения (игрового и неигрового) — в частности, нередкие случаи разрушения игровой ситуации непосредственными вторжениями и наивными реакциями присутствующих-зрителей, случаи появления среди ряженых неряженого персонажа в своеобразной функции посредника между различными группами участников игры (такова, например, роль поводилыцика животного во многих играх) и т. д.
В этом аспекте много интересного может дать и систематическое изучение народной терминологии игры,168 и, пожалуй, особенно — терминологии ряженья. Существенно варьируясь по диалектам и традициям, последняя по-разному оценивает обычай обрядового перевоплощения, в различных планах, как бы с нескольких точек зрения отражает специфику данного явления.
В названиях ряженых, образующих несколько лексико-семантических групп, подчеркивается соответственно или 1) внешняя сторона этого процесса, связанная с маскировкой и костюмировкой (рядиться, наряжаться, рядихи, нарядихи, нарятчики, наряженные, наряженки, ряженец, рйженка, окрутник, округа и т. п. обозначения), или 2) календарная приуроченность самого обычая рядиться, которая наиболее ярко выражена именно в отношении святочного времени (святбчники, святки, тАусники, святошники). В названиях может отражаться то 3) конкретный способ ряжения, для которого характерно использование разного рода масок, старого тряпья, рванья (хари, хАрюши, машкарА, страшкй, пуга-лАшка, хухлякй, хухольники), то 4) типичные для ряженого действия (например, халява как переносное по отношению к значению ‘неряха’, ‘грязнуля’, ‘неопрятный человек’, то есть в данном случае — пачкающий собравшихся на беседе, что, как известно, входило в «кодекс» поведения ряженого медведем,
t65a. В тексте диссертации слово «появление* от руки исправлено автором на «возникновение*. (Примем, род.)
166. В высшей степени ценное свидетельство содержит рукопись свящ. Е. Ф. Шайтанова (Вологодская губ.), в которой дано описание уникального обычая молодежи играть на святках в церковной трапезе. Среди названных этим автором игр («пахомом*, «имайком* <...>) особое место принадлежит игре, во время которой «случившегося тут (в трапезной. — Л. И.) покойника* вынимают из гроба и, вставляя ему в рот лучину, ставят в угол святить (см.: Шайтпа нов Е. Ф. — РА ВГО, разр. 7, Nb 9, л. 15).
167. Смирнов М. И., 1927, № 278, с. 18.
168. В. Н. Всеволодский-Гернгросс рассмотрел лишь соотношение понятий потеха — позорище — игрище—игра как якобы принадлежащих самой народной традиции и вытесненных позднее терминами «комедия*, «драма*, «театр* (см. в его кн.: 1977, К» 65, с. 16—17)
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
55
чертом, рыболовом и др.; игорка, то есть шутник, весельчак, балагур).
5) Пятую, наиболее разветвленную и интересную для нас группу слов образуют те обозначения, в которых без особого труда обнаруживается внутренняя природа ряженья — его связь со сверхъестественным демоническим миром покойников (стар-чйхи™ — смол., бел6хиш — новг.), миром чертей и вообще не-чистиков: фофанцы — ср. «фофан» со значением ‘дурак’, ‘черт*;169 170 171 шиликуны, шулюконы — ср. «шиликун» в значении ‘нечистый дух’, ‘черт’, ‘злой домовой’,172 а также «шуляка-ны» — «веселые чертенята, которые во время святок бегают по земле, <...> утаскивают у ребят куклы <...>, могут задавить ребятишек»;1 шишйморы — ср. «шишок» как название лешего, «кикимора» — домовой, «шишига» — со значением ‘черт’;174 кудесы — «кудес» как название «злого духа», «беса», «сатаны», «волхва», «чернокнижника»;175 смута (олон.) — ср. «в свадебном поезде от злых людей (знахаря) смута сталась: кони нейдут».176
Вероятно, и термин «окрутник», словообразовательно связанный с глаголом «окрутиться» («окручаться»), может быть рассмотрен в качестве смысловой параллели к слову «оборотень», включаемому в словообразовательную пару «оборотень — оборотиться». Таким образом, семантически он также может быть поставлен в связь с оборотничеством177 (любопытный случай объ
169. За сообщение об этом местном (с. Понизовье Руднянского р-на Смоленской обл.) собирательном названии ряженых, ранее не отмечавшемся в этнографической литературе, автор приносит благодарность И. Н. Власовой.
170. См.: «Некоторые окручаются белохами, то есть покойниками» {[Лиль-Адам В. В. де], 1871, № 188, с. 277).
В связи с этим названием ср. также «белун» (запд.) — род доброго домового в белом саване и с белым посохом {Даль В, И., 1955, N» 96, т. 1, с. 154 — 155), атрибуты которого с удивительной точностью повторяются в одежде ряженых соответствующим персонажем.
171. Даль В. И., 1955, № 96, т. 4, с. 538.
172. Там же, с. 633.
173. Виноградов Г. С., 1924, N? 55, с. 79 — 80. См. также: Зеленин Д. К., 1930, № 122.
Вероятно, именно с этой группой слов следует сближать и термин «кулик* как обозначение ряженого, которое В. Даль — очевидно, в силу чисто звукового сходства — предположительно соотносил со словом «куль» (см.: Даль В. И., 1955, № 96, т. 2, с. 215).
174. Там же, с. 597, 636.
175. Там же, с. 272.
176. Там же, т. 4, с. 239.
177. Видимо, самого серьезного внимания заслуживает также совпадение названий для ряженого (окрученный, окрутник) и невесты/молодухи (окрученная), которое приобретает вполне определенное значение в свете концепции свадьбы-смерти (в связи с этим отметим, что оборотность как свойство потустороннего мира была рассмотрена в работе: Неклюдов С. Ю., 1979, № 217). Кстати, указанное обстоятельство может представлять особый интерес на фоне совпадения в обозначениях замаскированного на святки («ряженый») и жениха в святочных гаданиях девушек («суженый-ряженый»), а также в других фольклорных текстах: «суженая ряженому» (см.: Даль В. И., 1955, .№ 96, т. 4, с. 125) и пр.
56
ГЛАВА ПЕРВАЯ
единения двух названных корней содержится в загадке: «крутпь-верть, под замочком смерть»).
Возможность сопоставления с последней, пятой, группой выделенных нами слов обнаруживают, между прочим, и такие названия, как термин «святки», который в некоторых регионах служит одновременно обозначением нечистой силы («святки собираются на „раду“ и после обсуждения действий и поведения людей <...> отлетают от земли, причем дальние святки отлетают дальше, а ближние остаются поблизу»178), или термин «хухляк» (ср. «хохлик» в значении ‘бес’).179 Подобная семантика вскрывается также и в «пугалашка», соотносимом не только с «пугало», «чучело», но и с «пугач» в значении ‘черт’, ‘леший’/80 и в «халява» — ‘грязный’ (ср. «черт чертом вымазался», то есть грязный как черт181), и в «игорка» (ср. «игрец» как название беса182).
Даже такой поверхностный обзор и предварительный анализ терминологического материала обнаруживают ряд серьезных проблем, связанных с интерпретацией игры. Однако у нас, к сожалению, пока нет возможности опереться на специальное лингвистическое исследование этого лексического пласта, и поэтому мы не застрахованы от возможных ошибок в отдельных его трактовках, которые предлагаются здесь. Одновременно у нас нет и уверенности в том, что мы располагаем достаточно полным «словарем» игры, то есть имеем надежный объем сведений обо всех местных разновидностях ее терминологии. Но даже то, что уже сейчас собрано и так или иначе известно, представляет собой, как можно видеть хотя бы из предпринятого здесь обзора, весьма информативный и разноаспектно интересный материал.
В связи с игровой спецификой обряда требует общетеоретического комментария и еще одно обстоятельство. Мифологическое содержание, получающее здесь игровую форму «выражения вовне», соответственно этому и актуализируется в каждом новом исполнении по законам игры. Это значит, что все события даются в их становлении, разворачиваются на наших глазах, получают значение как происходящие именно в данный момент, в ходе самой игры. Как можно видеть, незыблемость, вечность отдельных проявлений мифологически установленного некогда порядка обеспечиваются при этом по-разному: то цикличностью бесконечных возвращений к исходной точке («оборот во всем кругообразный»), то магическим «восстановлением» почему-либо нарушенного равновесия. Такого рода возобновление порядка, нормы небесконфликтно и в одном, и в другом случае; при этом па каждом новом витке исторического времени (истории природной, социальной, индивидуальной) оно гарантируется именно обрядом. Очевидно, что прошлое, которому надлежит стать будущим, в обряде, использующем игровой язык, неизбежно — силою самой игры и лежащих в ее основе закономерностей (вспомним «тайну актерского творчества»
178. [Никифоровский Н. Я.], 1897, N? 223, г. 237.
179. Даль В. //., 1955, № 96, т. 4, с. 597.
180. Там же, т. 3, с. 535.
181. Там же, т. 4, с. 542.
182. Там же, т. 1, с. 157.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
57
по Вас. Сахновскому, а именно: «то <...>, что бывает только, пока бывает (выделено мною. — Л. 17.)») — переводится в другой временной план и представляется как настоящее, как сейчас осуществляемое.
Такая фоома актуализации мифологических значений обряда (форма игры) обладала не только качеством чрезвычайной наглядности, но для носителя соответствующего сознания была, по-видимому, наделена, а также ценна еще и качеством особой действенности. В этом можно видеть одну из причин ее связи с наиболее ответственными, как бы поворотными моментами природного или индивидуального жизненного цикла, а также жизни определенного социума.183 Это «точки* своего рода «безвременья», когда появляется некоторая угроза существующему равновесию сил, когда вредоносно расторгаются основополагающие звенья цепи и начинает колебаться учрежденный искони порядок.
Это такие моменты, как смена годовых сезонов, точки солнцеворота, конец года, с которым, по народным верованиям, совпадает иссякание жизненной силы огня (огня и земного, и небесного184), а также полная свобода нечистой силы, нарушающей границы отведенного ей пространства и зло-действующей в мире живых. Это и такие мифологически опасные, а потому ритуально выделенные события, как рождение, брак, смерть и т. п.
В моменты, подобные перечисленным, очередное проигрывание определенной сюжетной схемы в обряде — этом «заговоре в лицах»185 — становится заново действенным и решающим (наряду с другими средствами) актом. Путем специфически игровой синхронизации обрядового события и соответствующего ему фрагмента действительности оно активизирует нормативное прошлое в его тенденции быть, в его стремлении повториться и, таким образом, способствует восстановлению определенного порядка на заданном отрезке разворачивающегося времени — будь то период
183. См. об этом: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. И., 1974, № 134, с. 98 — 99; Тэрнер В., 1983, № 319, с. 231-234.
184. В отдельных локальных традициях к этому моменту относятся не только обряды «обновления» огня, но и поверья о так называемой «игре солнца», связанные с представлениями о том, что оно циклически «меняется». Приведем одно из подробных свидетельств такого рода из Полесского архива ИСиБ: «Сонцэ так вот воно свитит такэе кругло сонцэ. А потом робицца такэ, як вот месяц — половинка робицца. А потом мэньше, мэньше, мэньше А потом $Ьке нэма нэ якого, нэма ничего — ни зор, ни сонца: тёмно зробицца. А потом намного явицца и робицца малэнько, малэнько. Малэнька половинка Малэнька, малэнька, малэнька — зробицца круг. Так сонце менясцца <...> кажду коляду (на Рождество. — Л. И.)* и — по словам информанта — летом (записано в 1981 г. в с. Выступовичи Овручского р-на Житомирской обл. от О. П. Зализко А. Плотниковой и Л. Ивлевой).
185. Принадлежащее академику А. Н. Веселовскому сравнение с заговором (см.: Веселовский А. Я., 1913, № 52, с. 242) вскрывает очень важный в данном случае механизм совпадения: заговор — подобно обряду (правда, знаками другого языка) — также отождествляет желаемое событие с мифологическим, которое и воспроизводится с помощью специальной формулы затем, чтобы интенсифицировать его, чтобы магически высвободить присущую ему силу еще раз, в заранее предусмотренном направлении.
58
ГЛАВА ПЕРВАЯ
кругового движения природы, новая фаза в жизни отдельного человека или целого коллектива.
Выявляя игровую грань обряда, необходимо еще раз сделать оговорку по поводу того, что театроведческое изучение обряда — лишь один из нескольких существенных аспектов его исследования, который притом не может стать абсолютно автономным и свободным от этнографических критериев в подходе к материалу. Более того, в действительности театроведческое понимание обряда не может быть не чем иным, как логическим следствием или оборотной стороной многих его этнографических концепций и по существу представляет собой театроведческую трактовку последних. Однако выделение этого аспекта открывает новые грани давно существующей проблемы, позволяет обнаружить новые связи между уже известными фактами, уловить новые оттенки тех или иных явлений. В итоге новые задачи исследования могут дать и новые результаты, хотя, безусловно, предлагаемая концепция нова не в каждом своем звене и не в каждом из выдвигаемых здесь тезисов, — но, как должно быть ясно из предпосланного ее изложению обзора, она опирается на большой опыт далеких и близких предшественников.
На самом деле, понимается ли обрядовое действие (к примеру, святочное ряженье) как символическое изображение наступающего в природе обновления и совершающихся в ней перемен186 — «как обычай лично (выделено мною. — Л. И.) представлять богов-покровителей природы»187 (в том числе и животные их олицетворения); считаются ли соответствующие обряды отражением культа предков — с акцентом на игровом воплощении либо «богов-предков» (включая их тотемных заместителей), либо «освободившихся из загробного царства стихийных духов-оборотней»,188 либо покойников вообще;189 идет ли речь о попытке воссоздать в обряде мир нечистой силы (в символикомагических или апотропеических целях)190 — всюду подразумевается при этом один и тот же, по своей сути игровой, язык, а именно: иллюзия присутствия всех этих существ — божеств природы, предков, духов-оборотней и пр., — то есть их персонификация посредством фиктивного выступления и действования от их лица.
186. См.: Сумцов Н. Ф., 1889, № 300; Степанов Н. П., 1900, № 297, с. 143—151 (гл. «Святки»); Поспелов П., 1871, Nb 242, (№ 5) с. 174.
187. Сумцов Н. Ф., 1889, № 300, с. 414.
188. Афанасьев А. Н., 1869, № 15, с. 698.
189. См.: [Забелин И.], 1879, № 115, с. 313; Соболев А. Н., 1913, М 282, с. 88 (там же - литература вопроса); Кагаров Е. Г., 1918, № 146, с. 53; Он же, 1918, № 145, с. 118; Соколов Б. М. Святочные обряды с точки зрения истории культуры. — ЦГАЛИ, ф. 483, on. 1, № 3290; Путинцев Ф., 1924, № 253, с. 80.
190. При этом подчеркивается, что ряженые уподобляются нечистой силе, своего обличия нс имеющей и надевающей практически любую личину (см.: [Забелин ИД, 1879, № 115, с. 313; Снегирев И., 1838, Mb 280, с. 32-33; [За былин МД, 1880, № 116, с. 12; Скалозубов Н. Л., 1901, № 276, с. 118; и др.).
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
59
Таким образом мы вплотную подошли к имеющему принципиальное значение выводу о том, что театроведческие задачи в изучении фольклорного материала нужно видеть вовсе не в отказе от этнографизма, а лишь в подчинении последнего новым целям исследован ия.
Однако не только в теории, но и на практике нередко приходится сталкиваться с тем, что этнографические реалии и подробности обрядовых действий, а также других народно-игровых явлений при театроведческом подходе к ним легко отбрасываются, замещаясь при этом абстрактными ссылками на прогрессирующий эстетический характер данных явлений. Наравне с этим во многих случаях коллективная традиция дается избирательно глазами отдельного ее носителя, свидетельства которого, как известно, не всегда могут считаться объективными и достоверными; и тогда неизбежными становятся модернизация, искажение, историческая натяжка.
Есть смысл специально остановиться на том, что исследователи, нацеленные на проблему корреляции между магическим и эстетическим, неоднократно оказывались необъективными в своем поспешном стремлении перевести обряд в разряд сугубо эстетических (и, соответственно, по их логике, театральных) проявлений народного быта. Во многом этому способствовал именно однобоко сделанный срез материала — материала, который при восстановлении необходимого этнографического контекста чаще всего начинает сопротивляться слишком прямой театроведческой экспансии такого рода.
Стремление к точности собственно театроведческих трактовок фольклора прежде всего связано, на наш взгляд, с необходимостью постоянно проверять себя максимально взятым контекстом народной жизни, мировоззрением соответствующей среды в целом, а не в произвольно изъятых фрагментах. Это нужно для того, чтобы наши выводы о так называемой пережиточности обряда не оказались преждевременными, опережающими историю, чтобы содержательно театроведческие категории (например, на обрядовом материале) не были обеднены в конкретных формах своего проявления. Прокомментируем эту общую установку на отдельных примерах.
Если в определенной среде надевание маски, ряженье в целом осознаются и оцениваются^ носителями традиции как тяжкий грех, обязательно требующий последующего искупления (например, очищение купанием в крещенской проруби), то вряд ли допустимо считать, будто перед нами всего лишь след магической практики, а не ее полнокровное бытие.
Если участвующие в сценках отпевания мнимого покойника или венчания, сплошь и рядом называемых исследователями пародийными (а в зависимости от точки зрения — к тому же еще и кощунственными), с нескрываемым страхом относятся к осуждению этих сценок местным священником,191 то невозможно говорить об антиклерикальной направленности и пародийности этого игрового элемента. Точно так же невозможно сдавать его в архив обрядовых древностей, уже изживших будто бы свое
191. См., напр., описание Н. Е. Ончукова (1911, № 229).
60
ГЛАВА ПЕРВАЯ
обрядовое содержание. Не лишенный еще обрядово-карнавального значения, каждый такой эпизод и должен, на наш взгляд, изучаться под этим знаком карнавальности, а не в отказе от него. Это — в свою очередь — означает, что в данном случае надо в языческих представлениях найти объяснение тому, что церковный обряд воспроизводится здесь как бы наизнанку, то есть следует видеть разницу между пародийностью как «применением пародических форм в непародийной функции»192 и собственно пародийностью. Здесь, таким образом, вырастает перед нами отнюдь не проблема безверия, граничащего с кощунственным отношением к церковному ритуалу и глумлением над ним,193 но проблема особого, «двоеверного» сознания, то есть совсем другая плоскость исследования.
То же самое можно сказать и об антиисторизме такого отношения к сопровождающему обряд смеху, когда налицо попытки объявить его грубым, непристойным, безобразным либо просто игнорирование данного явления: многими информаторами и бытописателями обрядовому смеху приписывалось значение необрядового, что и вело к естественной оценке его с качественно иных, этических, позиций.194 В подобных случаях чрезвычайно важно, чтобы ошибку собирателя не дублировал и не усугублял исследователь, изучающий соответствующий материал.
Приведенные здесь примеры — только несколько частных случаев из множества, с которыми приходится сталкиваться при театроведческой интерпретации фольклора и которые, несомненно, имеют более общее теоретическое значение. Они позволяют утверждать, что театроведческий взгляд на обряд — это лишь обращение этнографического взгляда на него, своего рода перевод с языка одной науки на язык другой: основные игровые признаки обряда являются как бы модификацией признаков этнографических, их alter ego. В целом это значит, что собственно игровые признаки должны быть положены в основание театроведческого языка —• одного из нескольких одинаково возможных языков для описания фольклорного материала, — при том что поле значений этих игровых показателей во многом обусловливается собственно этнографическими факторами.
В работах последних лет произошел безусловный сдвиг в соотношении ранее намеченных наукой подходов к обрядово-игровому фольклору (этнографического, литературоведческого и искусствоведческого) и вполне обозначилась новая — искусствоведческая (точнее — театроведческая) — доминанта. Защищая ак
192 Тынянов Ю. Н., 1977, № 317, с. 290.
193. В этом отношении весьма показателен тот факт, что «и весьма религиозные, даже фанатически религиозные крестьяне охотно исполняют и смотрят театральные игры, пародирующие церковные обряды <...>» (Богатырев П. Г., 1971, № 31, с. 159 (гл. ««Народный театр чехов и словаков»)). В связи с этим автор делает очень важный вывод: «По-видимому, не профанировали церковных обрядов и пародии на них в чешских народных представлениях» (там же).
194. Часто приходится иметь дело с такими негативными определениями этого смеха, как «нецензурный», «похабный», «неприличный» и пр. (см., напр.: Копаневич И. К., 1896, № 163; Каруновская Л., 1926, N- 155, с 12—14; Не федов Ф. Д., 1877, № 219, с. 60)
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
61
туальность театроведческого направления,195 более того — ратуя за подлинно театроведческое исследование поставленной нами проблемы, важно по-настоящему, в полную силу проникнуться мыслью о том, что неискаженное представление об игровом языке фольклора можно получить только тогда, когда будет широко обрисованы и емко охвачены театроведческим взглядом этнографическая среда и почва функционирования этого языка. Избежать этнографизма здесь дано лишь ценой искусствоведческих подновлений и неточностей. Или — говоря иначе — избежать его невозможно, поскольку содержательная и формальноигровая стороны фольклорных явлений специфически спаяны. Поэтому, как нам важно подчеркнуть, только «при свете этнографии»- можно добыть верные значения театроведческих категорий па фольклорном материале.
Однако в работе нашей ориентации задаются эти категории всё же именно системой игры, и лишь на этом стержне, лишь в этой системе представляется нам достижимой непротиворечивая классификация избранного материала. Предложенное ранее определение игры, учитывающее в ней прежде всего единство двух моментов — перевоплощения и действия, в дальнейшем и направляет работу, посвященную собственно типологии фольклорно-игрового материала, по этим двум взаимосвязанным руслам.
Такая работа может вестись с разной степенью углубления в материал и в зависимости от этого давать разной емкости конкретные представления о типе, а — соответственно — иметь дело с разным количеством типов. Необходимо помнить, что чем более высокий уровень абстракции предполагается и задается исследованием, тем меньшее число типов позволит оно выявить. Наверху своего рода типологической пирамиды — там, где предельно выражено наше стремление к абстрагированию, — всё сводится по сути дела к одному-единственному типу — типу собственно игры, которому затем дано многократно обнаруживать свои диссоциирующие возможности. В целях же всё большей конкретизации понятия «тип», всё более нарастающей дробности типологических характеристик в работу должны вводиться всё более «низкие» уровни проявления двух важнейших игровых факторов — это путь постепенного обнаружения всё более и более детальных значений категориальных признаков игры, обусловленный методологически.
В итоге таким, образом можно получить разной глубины описания множества игровых явлений через набор дифференциальных значений одних и тех же признаков — значений, которые и характеризуют игровые типы в каждой из двух названных ипостасей. Отыскание же важнейших смычек, точек соприкосновения, наиболее закономерных и существенных форм перекрещивания между двумя пучками признаков — следующая задача
195. В его пользу свидетельствует, между прочим, и следующее замечание Вяч. Вс. Иванова, имеющее значение итога* «В самой этнографии изучение „драмы" (в широком смысле) как особого социального ритуала стало чрезвычайно плодотворным направлением исследований» (Иванов Вяч. Вс., 1979, № 132, с. 5).
62
ГЛАВА ПЕРВАЯ
и новое важное звено в таком многоступенчатом типологическом исследовании.
Итак, в стремлении к теоретически намеченному здесь результату необходимо учесть, во-первых, перевоплощение в совокупности известных его форм, включая и разные отношения к этому процессу в среде играющих, и разные обстоятельства, сопутствующие его осуществлению. Условно говоря, это проблема исполнителя («актера») в фольклорной игре, взятая во всех ее слагаемых.
Во-вторых, на этом пути важно установить и описать разные типы связанного с перевоплощением игрового действия, включая способы его словесной (временной) и пространственной реализации (типы организации игрового пространства в целом, разновидности «сценического» диалога и диалога со зрителем, игровые формы использования сюжетной композиции и пр.).
Подход к решению поставленной и в нашем понимании исключительно двуединой задачи как бы с двух концов, с двух изолированных точек зрения, является для нас лишь аналитической необходимостью. Это чисто методический прием, ограниченность которого затем может быть и в конце концов даже должна быть преодолена соответствующей синтезирующей операцией.
Таким образом, в каждом из двух следующих разделов работы, объединенных нами в одну главу, найдет отражение неполный по отношению к игре в целом комплекс существенных игровых признаков, но каждая из задуманных ступеней исследования должна послужить вместе с тем базой для выявления важнейших корреляций между свойствами первого и второго «деления».
Заодно важно подчеркнуть, что «научно актуальным» продолжает оставаться не только «вопрос о построении типологических описаний — от типологии текстов до типологии культур»,196 но и вопрос о понимании самого типа, то есть о его качественной характеристике. В данном случае задачу типологии автор видит в реализации так называемого «ступенчатого» представления о типе, которое предложено лингвистами197 и, по нашему убеждению, должно прийти наконец на смену «классификационному» его пониманию в исследованиях по народному «театру»: являясь более гибким, более объемным, оно позволяет выяснить «последовательность промежуточных ступеней, связывающих два типа между собой».198
Тип «классификационного» свойства представляет собой как бы окаменелость, отграниченную от других таких же окаменелостей (структурно-типологически, стадиально и пр.) и при этом однозначно и жестко зафиксированную в каком-либо названии:
196. Лотман Ю. И., 1966, № 194.
197. См.: Бурлакова М. И., Николаева Т. М., Сегал Д. М., Топоров В. Н., 1961, № 43 (сокр. вариант: 1962, № 298, с. 3—18); Ярцева В. Н., 1980, М 357.
198. Бурлакова М. И., Николаева Т. И., Сегал Д. М., Топоров В. Н., 1961, № 43, с. 221.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
63
тип обрядовой, тип необрядовой, тип детской, хороводной игры, — хотя на самом деле в собственно игровом отношении эти типы характеризуются большим числом пересекающихся (однотипных) качеств, так и остающихся без внимания. В данном случае было бы, пожалуй, точнее говорить не о типологи-зации, а о схематизации (кстати, не случайно опыты такого рода в принципе легко переводимы в графическую запись-схему).
Кроме того, так понимаемый тип описывается непременно как впрямую наблюдаемая реальность, с чем и связана традиция целиком и полностью отождествлять его (на правах примера) с каким-либо конкретным образцом. Последний в своих эмпирических формах непосредственно возводится в ранг типа, а не аналитически соотносится с ним: берется конкретный факт, но по какому-нибудь признаку ему почему-то приписывается значение типа. И, следовательно, получается, что типами оперирует сама реальность бытования соответствующего материала.
Тип же в принятом нами понимании — не пример в чистом виде, не образец, не в лоб наблюдаемая реальность, но определенная мера абстракции: это логически выводимый, а не эмпирически данный уровень свойств. А, следовательно, учение о типах (типология) имеет дело не с «живыми»- объектами напрямую, а со своего рода конструктами, выводимыми на базе «живых» объектов. «Классификационный» тип не в состоянии, на наш взгляд, преодолеть эту грань и этот переход между абстрактным и конкретным: он идентифицирует абстрактное с непосредственно данным в наблюдении, как бы минуя промежуточную мыслительную ступень и не замечая необходимого в данном случае логического скачка.
Все известные нам опыты систематизации игровых явлений фольклора были сугубо вспомогательными и начинались с довольно жесткого, одномерного распределения материала или по какому-нибудь произвольно (вне специфических задач исследования) выбранному признаку, дающему новую ступень градации в каждом из так называемых типов, или по разным (своим для каждого типа) качествам. Это приводило к классификационному «отложению» выделенных типов в раз навсегда отгороженных друг от друга и понятийно закрепленных ячейках. В результате их содержательная характеристика обеднялась не только случайностью положенных в основание признаков, но и вообще избирательностью последних по отношению к целому, которого они не исчерпывали, а — наряду с этим — и предполагаемой их однозначностью.
Поясним изложенное примером. Выделяя, скажем, тип детской игры, мы сводим целый комплекс театроведчески существенных признаков к единственному (к тому же неспецифически игровому) — к характеристике перевоплощения исключительно по возрастному критерию, хотя на самом деле возрастная оценка играющих весьма сложным образом коррелирует с целым рядом других игровых показателей. Это всё и означает, с нашей точки зрения, сужение, обеднение содержательной характеристики типа в этом случае и ему подобных.
64
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Гораздо информативнее и продуктивнее такое представление о типе, которое позволяет учитывать место конкретного явления в признаковом пространстве: тип в этой ситуации как бы «рождается» на пересечении отдельных свойств, отмечая не только наиболее устойчивые их комбинации, но и всевозможные переходные случаи. Основная роль туг отводится уже не классификации как таковой, на все случаи жизни, а типологическому описанию явлений в рамках некоторого множества признаков, заданных, во-первых, точкой зрения на предмет (в данном случае — театроведческой) и, во-вторых, — мерой приближения к нему.
В результате каждый тип может быть охарактеризован и сам по себе (как совокупность тех или иных значений соответствующих измерений), и в его соотношении с другими типами, то есть оценен по его месту в едином поле значимых показателей, в целом и составляющих игровой язык фольклора.
Таковы кратко подытоженные взгляды автора по проблеме типологии — как в ее общем виде, так и применительно к изучаемой сфере народной культуры. Они 1) обобщают определенную предварительную работу, в ходе которой шло усвоение и переосмысление ряда существующих научных концепций, 2) отражают поиск среди множества разнокачественных определений, теорий, эмпирических опытов специфически театроведческого пути в изучении данного материала и, наконец, 3) объясняют принятый нами в данном случае способ изложения некоторых выводов и наблюдений.
ГЛАВА ВТОРАЯ
*
ОПЫТ типологии ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
(на материале русского фольклора)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЗАМЕТКИ ПО ТИПОЛОГИИ ИГРОВОГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
У нас до сих пор нс изучался тип деревенского актера.
Ю. Соколов.
К изучению народного драматического творчества
Актеры первобытной игры еще не профессионалы, но они говорят измененным голосом и на время игры выделяются из среды зрителей.
А И. Белецкий. Старинный театр в России
Для характеристики фольклорных типов игрового перевоплощения, казалось бы, естественнее всего обратиться к собственно театральному аналогу. В качестве последнего здесь подразумевается противостояние театра представления театру переживания, которое отмечается исследователями «на протяжении всей истории драматического искусства».1 Однако в действительности оказывается, что объективная характеристика такого рода не может базироваться на готовой театроведческой идее, что было бы ошибкой задавать типологию фольклорно-игрового перевоплощения рамками подобного решения^ по аналогии, хотя именно оно непроизвольно, словно само собой, рождается под поверхностным взглядом.
В дальнейшем изложении должно проясниться, почему поиск в фольклоре тех или иных соответствий театру на преломлении этой основополагающей идеи уже изначально склонял бы нас к искажению реального материала и затушевыванию его своеобразия. Пока же начнем с убеждения, что критерии типологии должны быть в данном случае найдены в самом фольклорном материале, поскольку это и есть единственный способ отразить
1. Рождественская Н. В., 1978, No 258, с. 19.
3 Лариса Ивлева
66
ГЛАВА ВТОРАЯ
специфику присущего ему перевоплощения, избежав поверхностного и, наверное, бесперспективного отождествления мира народной игры с театром представления. Сама альтернатива «представить», то есть «воспроизвести движения и слова, предусмотренные текстом пьесы»,2 повторить «внешнюю картину эмоции без соответствующего переживания»,3 и «перевоплотиться» в значении «пережить чувства сценического персонажа»4 не выявляется здесь с достаточной определенностью. Вместе с тем и просто «представить» редко встречается здесь в чистом виде, осложняясь то особой мерой вживания детей во «взрослые» ситуации, то мифологическими верованиями, свидетельствующими об особом осознании связи между разными мирами.
Переходя к собственно типологической характеристике материала, очертим и тот неполный круг признаков перевоплощения, рамками которого мы ограничим в данном случае наше описание. Это принципы распределения ролей в игре (общие установки, а также ролевая дифференциация в половозрастном аспекте), средства и способы (техника) перевоплощения и, наконец, мир персонажей, которые в соответствующем порядке и будут рассмотрены далее.
1. Общие принципы распределения ролей
Очевидно, что наилучшее достижение цели празднества, обрядового действия обусловливается наиболее подходящими исполнителями каждой роли.
В. Н. Харузина.
• Об участии детей в религиозно-обрядовой жизни
В связи с некоторыми особенностями самого перевоплощения в фольклоре чрезвычайно важно проследить, с какими внешними (собственно, даже внеигровыми) обстоятельствами оно бывает соединено или может переплетаться. Наибольшего внимания заслуживают при этом два аспекта вопроса о том, кому традицией дозволяется или даже «предписывается» перевоплощение и какими способами регулируется осуществление подобного предписания. Таким образом возникает необходимость описать различные способы распределения игровых ролей. Интерес, который вызывают у нас данные способы, связан с тем, что опосредованно они дают представление о разных типах «актера». В их свете выявляется набор тех качеств, которые были для играющего первостепенны, а в результате так или иначе обнаруживается связь между прагматикой игры и типом исполнителя. Эти приемы сводятся к следующим основным.
I. Жеребьевка, счет, конание, фанты и другие «способы случайного принятия решения». За небольшими исключениями они используются при первичном наделении определенной ролью участников детской игры. Кроме того, они встречаются при распределении партий в некоторых ритуальных играх (здесь
2 Симонов П. В., 1962, № 272, с. 17.
3. Там же, с. 18.
4. Там же, с. 17.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
67
этот признак дополняет отбор участников по половозрастным показателям, являясь как бы второй ступенью отбора). Обратимся за примерами к отдельным описаниям: «Берут палку и хватаются за нее; поставивший свои руки выше всех становится ангелом. Считаются — другой становится чертом*;5 «Начинается (игра. — Л. И.) определением, кому быть страдательным лицом (коновод считает). Оставшийся последним делается коршуном*;6 «Двое берутся за руки, третий ложится к ним на руки лицом вниз. Ему говорят: „Агу!“ Он отвечает: „Не могу!" — „Рассмейся Iй — „Не хочу". Если он не рассмеется, то следующий подходит и проделывает то же самое. Если же спрашиваемый <...> засмеется, то он становится „чертиком“ <...>*;7 «<...> деревенским девицам придется идти за околицу под предводительством избранной по жеребью и одетой в мужское платье (это — Семик)*.8
Как правило, проблема выбора на ту или иную роль решается жеребьевкой тогда, когда до начала игры участники имеют одинаковые возможности оказаться в ее циклическом круговороте в любой (и даже в каждой) из ролей: впереди у каждого из них — несколько ролевых возможностей, реализуемых обычно на разных игровых витках. Однако игровое начало отмечается при этом особым образом — случайно принятым решением, что само по себе снимает, разумеется, все споры между притязающими на определенную роль. Безусловно, данный прием обладает значительной социализирующей силой, требуя от индивидуума умения подчинять свои желания существующим в коллективе нормам и правилам.
Напомним, что с этим сугубо фольклорным способом распределения ролей связано также существование специально разработанного и весьма популярного среди детей жанра так называемых «игровых прелюдий* (термин Г. С. Виноградова) — считалок.
II. Свободный выбор предполагает несколько разных возможностей, в частности:
1. Выбор роли отдельными участниками драматической игры по их желанию, то есть добровольный выбор, непременно связанный с общим согласием остальных играющих и сопровождаемый устной договоренностью о том, кто кого будет играть. Устами самого играющего этот уговор в общем виде может быть сформулирован примерно так: «Если никто не возражает, этим персонажем буду я*.
Например, отдельные «смельчаки окручаются белохами*,9 то есть берут на себя роль святочных «покойников*; «участники игры выбирают (или по желанию) медведя и старуху, остальные — гуси*;10 «одна из девочек <...> берет на себя роль коршуна, а все прочие представляют стадо других птиц*;11 «один
5. Попова А., 1923, № 241, с. 109.
6. Петров К. М., Репников Т. Е., 1890, N? 235, с. 4.
7. Добровольский В. Н., 1903, №? 103, с. 161.
8. Снегирев И., 1838, № 280, с. 128.
9. [Лиль-Адам В. В. дг], 1871, № 188, с. 277.
10. Попова А., 1923, № 241. с. 115.
И. [Машкин], 1862, М 205, с. 112.
68
ГЛАВА ВТОРАЯ
ребенок садится в отдалении от других, где растет трава. Это медведь»;12 «„Костромой" и „бабкой" бывает тот, кто сам пожелает <...>».13
Иногда собирателями создается ложное представление о полной свободе в выборе роли ряжеными на святках и в другие календарные сроки, который будто бы ничем не регламентируется и никак не контролируется: «Особых ролей в организации игр не замечается: рядятся обыкновенно кто как вздумает, кто на что горазд».14 Однако есть достаточное число свидетельств, подчеркивающих существование определенного предварительного уговора между рядящимися,15 коллективность приготовлений к ряженью,16 обязательность в нем отдельных персонажей,17 18 о чем, кстати, лучше всего говорит сама повторяемость результата ряженья от случая к случаю. В основе каждой традиции лежит регулярно воспроизводимый «список» персонажей, который может незначительно колебаться в пределах от более до менее полного варианта. Поэтому, как нам кажется, и следует предположить, что «особая роль в организации» этих игр всё же была, а в функции своеобразного «организатора» выступали в данном случае сама местная традиция и коллективное представление о ней.
Что касается добровольности как принципа выбора конкретной роли, то здесь он зачастую действительно соблюдался, хотя этим свобода выбора, по всей вероятности, и ограничивалась. Многочисленные же суждения о полной автономности такого выбора, довольно типичные для собирателей, нужно все-таки считать явными преувеличениями: прежде всего они обусловлены взглядом на эти игры извне данной культуры, подходом к ним со стороны. Однако, оценивая эту ситуацию, мы попадаем уже как бы в соседнюю «зону» и оказываемся тем самым не столько перед проблемой распределения ролей, сколько перед проблемой мира персонажей, которой предполагаем посвятить в настоящей работе специальный раздел.
2. Выбор на роль отдельных участников игры, когда инициатива принадлежит уже не самому претенденту, а другим. Такого рода выбор может осуществляться двояким способом:
а) без заранее поставленного условия (выбор может прийтись на любого участника игры): «Выбирают волка, быть которым никто не отказывается», «Играющие выбирают „мать", „дочь" и двух „котов"; прочие дети садятся на землю рядом, изображая кувшины с молоком»;19 «Избранный волком идет за условленную черту, на лужайку».20
12. Потанин Г., 1899, М 243, с. 172-173.
13. [Мелков А. Л.], 1914, N? 207, с. 182.
14. Завойко К., 1917, N? 118, с. 23.
15. См., напр., в записях А. Ф. Земсковой: «Уговор о переряживании: старухой, козой, девушкой с распущенными волосами» (Акимова Т. М., Советов М. П,, Цыганова Н. М., 1922, № 6, с. 262).
16. См., напр.: Максимов С. В., 1903, № 202.
17. См.: [Вольтер Э. А.], 1890, № 60, с. 101 и др.
18. Петров К. М., Репников Т. Е., 1890, 235, с. 5.
19. Резанова Ек., 1911, № 256, с. 181.
20. Рябинский К. Материалы для этнографии уличной жизни детей, собранные в г. Лаишеве Казанской губернии. — РА ВГО, разр. 14, N? 40, л. 38 об.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
69
б) с условием, известным образом предопределяющим такой выбор: «Все <...> девочки составляют стадо „овецек". Избирается матка (обыкновенно самая сильная) и волк»;21 «Две девочки, которые более других возрастом, играют роли: одна — хозяйки, а другая — ее дочери, у которых есть кот. Роль кота обыкновенно дают мальчику»;22 «На первый день Петрова поста <...> девушки <...> выбирают из среды себя самую статную, крупную и высокую девушку в русалки, которую они самым тщательным образом убирают цветами и лентами»;23 на роль же черта в одной из игр избирается «парень, повыше других ростом»24 ит. п.
Устами играющих этот принцип может быть выражен следующей формулой: «Пусть этим персонажем будет он!» (либо без всякой мотивировки, либо с соответствующей мотивировкой).
При этом предъявляемые условия весьма заметно различаются по характеру. В одних случаях они определяются стремлением к чисто внешнему соответствию участника игры той роли, которая ему предлагается, или общими ценностными установками в данной группе играющих (в детских играх — в связи с нередкими для них спортивными концовками — таким качеством, как правило, выступает физическое превосходство в чем-либо — большой рост, сила, быстрые ноги и пр.). В других случаях такого рода требования ориентированы на индивидуальную исполнительскую одаренность играющего, то есть предпочтительным становится его внутреннее соответствие определенной роли.25 26
В целом же в данной группе объединяются такие случаи, когда особую важность приобретают те или иные качества играющих — либо физические, либо сакральные, либо эстетические их характеристики, разница между которыми состоит в том, что одни из них являются качествами индивидуальными (внешность, память, находчивость и пр.), а другие внеиндивидуальны (возраст и т. п.).
III. Способ принуждения, или своего рода «актерской повинности». В сравнительном плане представляется интересным свидетельство В. Ю. Крупянской и Е. Н. Вальтер о распределении ролей «Царя Максимилиана»: «Женские роли всегда исполнялись мужчинами <...>, но парни неохотно соглашались на женские роли, поэтому они доставались тем, кого удавалось уговорить». Этот довольно редкий в практике народного театра случай поразительно контрастирует с тем, что по разным традициям известно о травестировапных формах ряженья, когда обычай жестко предписывает парням изображать девушек (и наоборот). На фоне приведенного уникального сообщения особенно
21. Цейтлин Г., 1911, № 342, с. 10.
22. [Машкин], 1862, № 205, с. 114.
23. [Шейн П. В.], 1887, 349, с. 199.
24. Там же, с. 112—113.
25. «Во время деревенского „гулянья** в средину круга <...> выходят двое наиболее речистых и бойких молодцов, долженствующих изображать Алешку малого и Барина голого» (цит по кн.: Саводник В., 1914, N? 262, с. 193); «Несколько самых бойких девушек изображают всю эту неделю (русальскую. — Л. И.) русалок» (Семенова О. П., 1891, Jsfe 270, с 202).
26. Песни и сказки..., 1958, № 233, с. 153.
70
ГЛАВА ВТОРАЯ
показательны многочисленные для дотеатральных обрядовых игр свидетельства о том, что отдельные роли вменяются кому-либо из участников в обязанность независимо от его желания.
«Парни устанавливают девок попарно и, приказав им изображать кобыл, поют хором: „Кони мои, кони, кони вороные../'»;27 «<...> всякий молодой парень считает обязанностью нарядиться как-нибудь поискуснее, чтобы его не узнали»;28 «Ребята уговаривают самого простоватого парня или мужика быть покойником»,29 а нередко «„покойника" приходится даже привязывать к лавке, чтобы у него не было возможности убежать со святочной беседы».30
Известны случаи вовлечения в игру некоторой части присутствующих против их воли: «Девок <...> волокут прикладываться к покойнику — в рыло целовать или даже в „шишку"»;31 «<...> девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый брюквенными зубами».32 Доставалось девкам и от ряженых медведем, чертом, рыболовом и др., которые «мяли», «хватали» их, «тащили», «кумякали», «обсусоливали» их одежду, приводя ее в неузнаваемый вид, творили всяческие бесчиния, индивидуально вряд ли желательные, но по обряду необходимые. Как можно наблюдать хотя бы по перечисленным примерам, глагольный ряд, обозначающий подобные действия, выражает разные оттенки их принудительности для действующих лиц.
Названные нами способы распределения ролей иногда комбинируются в пределах одной и той же игры, и это может иметь разные значения. В некоторых случаях, таким образом, отдельные роли отмечаются особо — по признаку их сакрально-сти (см., например, выбор русалки в приведенном выше при мере). В других — тем самым просто подчеркивается, что один из способов служит формальным обозначением начала игры.
Подводя некоторые итоги предпринятого обзора, следует обратить особое внимание на то, что для большинства игровых явлений фольклора характерно отношение к «актерской» деятельности как к не требующей каких-либо специфических навыков перевоплощения и специализированных способностей (типы I, П-1, Н-2а). В принципе, любой член коллектива должен был считать себя подготовленным к тому, что когда-нибудь ему всё же придется играть определенную роль, если (и поскольку) участие в игре было свободным и решалось либо на основании общей договоренности, либо в результате счета, конания, жеребьевки и пр.
Такого рода нестабильность отношения между играющим определенную роль и самой ролью характеризует подавляющее большинство фольклорно-драматических игр, совсем еще не знакомых с явлением амплуа. Здесь роль абстрагирована от конкретного ее носителя максимально — она связана с ним либо по
27. Максимов С. Я., 1903, № 202, с. 297.
28. Кудрявцев В. Ф., 1870, № 173, с. 111.
29. Максимов С. В., 1903, № 202, с. 300.
30. Там же См. также: РА ЛГИТМиК, Кириши-71, тетр. 2, № 70.
31. Завойко К., 1917, № Ц8, с. 23-24.
32. Максимов С. В., 1903, № 202, с. 301.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
71
принципу полной случайности,33 либо через посредство половозрастных и прочих характеристик, которые, как будет показано далее, иногда заметно ограничивают действие слепого случая.
Игровые явления этого типа отличаются достаточной устойчивостью, точностью, надындиви дуальностью воспроизведения, всегда подконтрольными в соответствующем коллективе. Характеризуясь выраженной тенденцией к тождеству при многократности исполнения, они в основных моментах не допускают «актерской» инициативы и в рамках сюжета стандартизируют действия участников игры рядом традиционных предписаний. Здесь нет хороших или, наоборот, плохих исполнителей в современном смысле слова, но зато особо ценится знание определенных правил или ритуальная полномочность играющего, его ритуальная «причастность» к сакральному миру, воспринимаемая амбивалентно. Она признается за благо и осуждается, она используется и одновременно внушает страх (это раздвоение нашло отражение и в поляризации значений ряда слов, являющихся названием ряженых, а наряду с этим получивших в языке негативные переносные значения более общего характера34).
Однако, как мы видели, материалом вполне оправдано также вычленение игр совсем иного типа — игр, безусловно связанных с другим восприятием «актерской» деятельности (тип 11-26). От ранее рассмотренного типа последний отличается значительно большим постоянством отношений между играющим какую-либо роль и самой ролью. На русском материале он представлен в основном образцами народной драмы, свидетельствующей по существу о том особом месте, которое принадлежит ей среди других игровых форм фольклора.
В рассматриваемом случае конкретные роли становятся более или менее стабильными характеристиками определенных актеров, личные качества которых выделяются при этом как одна из самых значительных ценностей (здесь, кстати, и происходит формирование амплуа). Игры этого рода предъявляют требование такого отбора на ту или иную роль, который основывался бы на критериях индивидуальной одаренности участника, на его выделенности из общей массы в силу ли особой склонности к шутовству, искрометному и озорному балагурству, «скоморошеству»,343 в силу ли заметной способности к импровизации, запоминанию развитого словесного текста. Кстати, не случайно среди исполнителей этих ролей в XIX— XX веках многие были
33. Сугубо формальный характер распределения ролей во многих детских играх выражается, в частности, в том, что на самом деле это не есть некое абсолютное разделение партий между будущими участниками игры — это всего лишь обозначение некоторой исходной ситуации. При повторном ходе игры можно наблюдать полное перераспределение партий, обусловленное либо внутри-игровыми изменениями (чья-то победа, удача, чье-то выбывание из круга), либо немотивированной передачей роли от одного к другому.
34. Ср., напр., значения слова «русалка» в одном из рязанских говоров: О ряженый на гулянье в первое воскресенье после троицы; 2) огородное пугало, — и метафорическое использование этого слова в значении «плохо одетый, оборванный человек» (см.: Оссовецкий If. А., 1964, № 230, с. 205).
34а. В тексте диссертации слово «скоморошество» взято автором в кавычки от руки. (Примсч. ред.)
72
ГЛАВА ВТОРАЯ
грамотны — хотя бы в тех пределах, которые облегчали овладение письменно зафиксированным «сценарием» (это имело немалое значение при внушительных размерах текста, его прозаической форме и одновременно довольно редком исполнении, в котором к тому же был существен признак ансамблевости).
И всё же для большинства народно-игровых явлений были характерны повсеместность распространения и всеобщность участия. Каждый коллектив, каждая деревня, каждая семья — вот мера проницаемости в данном случае, вот реальная сфера их бытования, вовлекающая очень многих, вернее, охватывающая так или иначе практически всех. Почти каждый член коллектива в определенной фазе своей жизни неминуемо оказывался участником игры: сначала детской, затем — молодежной и т. д. Например, функционирование ряженья и детской игры не было непосредственно связано в русской традиции с наличием какой-либо особой стабильной группы участников: нельзя назвать ни одного специального коллектива исполнителей, привилегией которого они стали бы (попытки приписать ряженье скоморохам неосновательны и, на наш взгляд, легко опровергаются его всеохватным распространением и одновременно явным диалектным членением). По существу эти игры не столько создаются определенным коллективом, сколько сами заново создают всякий раз необходимый коллектив участников.
В противоположность этому народный театр — вследствие запечатленного в нем нового для фольклора отношения к фигуре играющего — не мог получить повсеместного распространения, ограничив свое бытование лишь отдельными точечными очагами и островками: связанный с известной специализацией, он, естественно, значительно сузил круг людей, причастных к этой культуре. На этом фоне вполне понятны такие засвидетельствованные ситуации, когда «труппа» прекращала свое существование вместе с уходом из нее какого-либо активного члена: судьба этой культуры во многом зависела от субъективных факторов и находилась в руках отдельных лидеров. Так растущее качество специализации оборачивалось утраченным качеством «соборности».
2. Пол и возраст как регуляторы распределения игровых ролей
В отношениях дополнительности с только что описанным принципом распределения ролей находится половозрастной, который необходимо рассмотреть отдельно. Его важность уже давно стала настолько очевидной, что из всех признаков данного материала он, пожалуй, наиболее последовательно, надежно и осознанно фиксировался собирателями и учитывался фольклористами. Эго хорошо просматривается и по имеющимся описаниям локальных игровых культур, и по различным опытам классификации игровых явлений русской традиции в целом. «Есть игры взрослых и есть игры детские; те и другие, имея много общего, разнятся друг от друга <...>».35 Обыкновенно игры взрослых и детей фиксируются в виде отдельных репертуарных подборок,
35. Виноградов Г. С., 1924, hfe 55, с. 59.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
73
а также противополагаются друг другу разными вспомогательными классификациями.36
Наряду с возрастным признаком, как правило, учитывается также признак дифференциации участников игрового действия по полу, весьма существенный для русского материала, где игры девочек —мальчиков, девушек— парней, женщин — мужчин составляют нередко отчетливо выраженные оппозиции.37 Таким образом, насколько позволяют известные нам описания игр, можно говорить о наличии двух — встречных и пересекающихся — критериев отбора участников игры: 1) возрастном и 2) половом (при этом имеется в виду именно участие в игре вообще, а не в какой-то конкретной роли).
По половозрастному признаку могут быть намечены определенные типы игрового перевоплощения, которые и перечисляются далее.
I. С одной стороны, можно говорить о разных случаях реализации в играх детей оппозиции по полу:
1. В частности, материалом оправдано обособление случаев недифференцированного участия детей в играх: «В возрасте до 10 лет мальчики и девочки играют иногда вместе*;38 «<...> ребятишки во время рождественских святок „рядятся" <...>*;39 «Собираются мальчики и девочки <...> до 10—15 человек. Становятся кругом, берутся за руки, в середину становится мальчик по выбору играющих <...> воробей*;40 «Когда игра бывает общая, то малыши устраивают свадьбы, с соблюдением всех обычаев и обрядов, которых держатся взрослые*;41 «<...> играют <...> и мальчики, и девочки от 7 до 15 лет*;42
2. Отдельные игры девочек;
3. Отдельные игры мальчиков (две последних группы дифференцируются соответственно на фоне существования в данной локальной традиции игр, общих мальчикам и девочкам).43
II. Разного типа игры взрослых могут быть выделены с точки зрения того, как осуществляется в них оппозиция по признаку пола (случаи недифференцированного участия в играх мужчин и женщин любого возраста в пределах известного нам материала не могут быть отмечены — так же, как и случаи мужских игр, которые объединяли бы участников безотносительно к их возрасту):
36. См., в частности: [Машкин], 1862, № 205; Тихонов В., 1889, N? 305; [Мелков A. Л.], 1914, М 207, с. 182; и др.
37. См : Лебедев В. — РА ВГО, разр. 15, on. 1, № 27, л. 19 (выделяет игры взрослые и детские, мужские и женские); [Никифоровский Н. Я.], 1897, Ко 222, с. 53.
38. Семенова Тян-Шанская О. П., 1914, № 271, с. 27.
39. Завойко Г. К., 1914, № 117, с. 128.
40. Попова А., 1923, № 241, с. 111.
41. Нефедов Ф. Д., 1877, № 219, с. 59.
42. [Мелков А. Л.], 1914, № 207, с. 182.
43. Об играх девочек см., напр.: Нечаев И., 1891, .№ 220, с. 219; Резанов Вл. И., 1904, № 255, с. 119-120; Бернштам Т. А., 1983, № 28, с. 108; об играх мальчиков см.: Нечаев И., 1891, N? 220, с. 221 — 222; Довнар-Заполъ-скии М. В., 1898, М 105, с. 203; Резанова Ек., 1911, Ъй 256, с. 175-176; Цейтлин Г., 1911, 342, с. 14; и др.
74
ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Игры женщин любого возраста, которые допускают участие молодых (замужних и незамужних) и пожилых женщин, однако, делают особо значимым это противопоставление (на фоне общего противопоставления тех и других вместе мужчинам). Последнее обстоятельство выявляется наличием в игре таких ролей, которые предназначаются соответственно женщинам разного возраста: «<...> девушки и молодые бабы идут в лес (хоронить кукушку. — Л. И.) под руководством пожилой женщины (вдовы)»;44 «<...> бабы и девушки собираются на улицу, выходит и русалка (в данном случае — девушка) в одной рубашке с распущенными волосами <...>. Она в таком виде идет впереди, а за ней идут девки и бабы, бьют в заслон».45
2. Игры данной группы представляют собой более сложную в сравнении с П-1 картину реализации рассматриваемого признака (он осложняется здесь возрастными, а точнее — социально-возрастными характеристиками):
а) недифференцированное участие в игре холостых парней и девушек?6 47 48
6) игры холостых парней?1
в) игры девушек?6
, г) совместные игры парней, с одной стороны, и женщин (молодых и пожилых), с другой;49
д) совместные игры девушек, с одной стороны, и мужчин любого возраста, с другой.50 51
III. Совместные игры взрослых и детей.5'
Необходимо отметить несколько особенностей таких игр, которые допускают смешанный в половозрастном отношении состав участников (типы П-1, П-2г, П-2д). Во-первых, специального внимания заслуживают типы П-1 и Ill, в которых для участников разного возраста предназначаются разные роли: особыми функциями в игре могут наделяться лица пожилого возраста, которые, будучи хранителями ритуальной памяти коллектива, нередко становятся так называемыми распорядителями праздника или (в силу сексуальной чистоты) бывают наделены наряду с детьми особыми сакральными полномочиями.
Во-вторых, случаи типа П-2а позволяют говорить о том, что есть ряд персонажей, перевоплощаться в которые — исключи
44. Кедрина Р. Е., 1912, № 157, с. 124.
45. Шейн И. В., 1900, № 348, с. 366-367.
46. См.: Цейтлин Г., 1911, № 342, с. 15—21; Завойко Г. К., 1914, № 117, с. 139-141; Минх А. Н., 1889-1890, № 209, с. 90; Бережков Д., 1914, № 25, с. 162; Виноградов Г. С., 1924, № 55, с. 80; и др.
47. См.: Максимов С. В., 1903, № 202, с. 328; Ефименко II. С., 1877, N? 113, с. 124-126.
48. См.: Успенский Д. И., 1891, № 326, с. 229 — 230; Смирнов М. II., 1927, № 278, с. 22; и др.
49. См.: Максимов С. В., 1903, № 202, с. 302; [Архангельский А. С.], 1854, № И, с. 36.
50. См.: Максимов С. В., 1903, № 202, с. 299 — 300; Шейн П. В., 1900, № 348, с. 366 — 367; Троицкий А. И., 1914, № 314, с. 9.
51. См.: Копаневич И. К., 1896, 163, с. 34-35; РА ЛГИТМиК, Кири-
ши-71, тетр. 2 (север), л. 81 — 81 об.; РА ЛГИТМиК, Кириши-71, тетр. 2 (юг), № 35.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
75
тельная привилегия лиц определенного пола, хотя локальная традиция в целом допускает участие в игре лиц разного пола. Наиболее, пожалуй, показательны в этом отношении всевозможные травестированные формы ряженья, однозначно закрепляющие за рядом персонажей исполнителей определенного пола. В отдельных традициях выступать в роли девушек, безобразных старух, цыганок, барынь, баб (иногда с гипертрофированными признаками пола, иногда беременных, тут же «выпускающих из своего брюха ребеночка-куклу»52) и пр. могут только молодые парни - в то время как «кавалеров», напротив, представляют непременно девушки или женщины.53 Таким же образом распределяется и часть «зоологических» персонажей (быка, медведя, лошадь исполняют лишь парни или женатые мужчины).
В отношении половозрастного признака существенно заметить, что на русской этнической территории он не просматривается через весь игровой материал однозначно, но прежде всего — в тех или иных комбинациях — дает представление именно об определенных местных традициях, каждой из которых известны свои неписаные правила в реализации этого признака. По разным причинам (включая в их число и качество имеющихся записей) нам было бы не под силу со статистической точностью вывести в целом некие стабильные и жесткие отношения между отдельными играми и определенными возрастными группами играющих. Однако тенденция самого общего свойства здесь всё же может быть замечена. Она состоит в том, что игры, не связанные с переодеванием, с каким-либо изменением внешности играющего, в основном являются достоянием детей. Это касается, кстати, (за сравнительно редкими исключениями) даже участия детей в играх ряженых, когда они изображают «пчел», «лягушек», «котят» и прочие персонажи, не прибегая ни к каким приемам маскировки и костюмировки. В то же время большинство дотеатралыю-игровых явлений из репертуара взрослых в целях перевоплощения использует, как можно наблюдать, разные приемы ряжения.
Итак, хотя в пределах любой традиции имеется определенная система представлений, регламентирующая участие той или иной половозрастной части коллектива в тех или иных играх, в целом и здесь можно говорить о принципе всеохватности, который ха
52. Завойко К., 1917, 118, с. 25.
53. Записи такого рода составляют многочисленную, почти универсальную группу сведений о ряженье, например: «Девушки рядились мальчишкам, мальчишки — девчонкам; ребята — медведям: девок ломать придут» (РА ЛГИТМиК, Кириши-71 (юг), тетр. 2, № 69); «Наряжаются только девушки (противопоставление женщинам. — Л. И.), преимущественно в мужские костюмы» (Дебр-ский А. — РА ГМЭ, ф. 7, on. 1, № 29, л. 56); «Бабы одеваются стариками, парни старухами <...>» (Селиванов В. В., 1902, № 269, с. 129); «<...> мужчины одевают на себя женское платье, сарафаны, головы повязывают платком, низко спущенным на лоб, чтобы скрыть лицо; женщины наряжаются в мужские костюмы <...>; бабы „что из озорных" привязывают спереди круглое нераско-лотое полено» (Каруновская Л., 1926, № 155, с. 13); «При крике свадебных песен, при стуке и топоте скачущих, молодежь обоего пола переряживается: женщины и девушки — в мужчин, мужчины — в женщин, и разыгрываются свадьбы <...>» ([Архангельский А. С.], 1854, № И, с 36).
76
ГЛАВА ВТОРАЯ
рактеризует дотеатрально-игровую деятельность: ведь члены каждой группы, выделяемой по признаку пола, в разные возрастные фазы своей жизни неизбежно бывают приобщены к «радости метаморфозы»» и на какое-то время обязательно становится «hominibus ludenis».
3. Способы и средства игрового перевоплощения
В бумажных колпаках и шляпах, Тряпьё в чулане вороша, Усы наводят жженой пробкой, Румянец — свёклой...
А. Тарковский
Способы и средства, которые используются народной игрой в целях перевоплощения, составляют довольно разветвленный и вместе с тем более или менее типовой арсенал определенной традиции. В нем на разных срезах (идет ли речь о русской игровой традиции в целом или только о локально изолированных ее вариантах) объединяется несколько вполне откристаллизовавшихся комплексов такого рода средств, и каждый из них в первую очередь соотносится с определенными группами игр. В совокупности узловые точки выявленного арсенала фиксируют специфический по сравнению с профессиональным театром диапазон возможностей перевоплощения.
I. Во-первых, русскому игровому фольклору известно перевоплощение, основанное на внешнем преображении исполнителя. Такое изменение играющим своего облика с целью создания некоей фиктивной ситуации уходит корнями в особую систему традиционных представлений и верований, что и определяет его семантические глубины. Вместе с тем у него есть и поверхностный слой значений: безусловно, прежде всего оно служит формальной отметкой временных границ игрового мира. На большом числе примеров можно утверждать, что переряжи ванне уже само по себе расценивается как начало игрового процесса и во многом определяет сущность игрового поведения. При этом развоплощение играющего, практически совпадающее с формальным концом игры, само по себе не обеспечивает еще нейтрализации той обременительной скверны, которой характеризуется участие в игре4 данного типа (освобождение от греха переряживания и от его опасных последствий требует дополнительных ритуалов и очистительных проце-дур).
Преображаясь в то или иное существо, а также просто замаскировываясь до неузнаваемости, участник обрядовой игры, как правило, освобождается тем самым и от груза нормативных установок, которые сложились внутри данного коллектива и регулируют в нем внеритуальное поведение каждого. Увлеченный игровой стихией, он подчиняется ее законам, попадая в особый мир зависимостей и во многом п роти во постав ляясь неряженым. В этом случае отчетливо просматривается изолирующая функция самого преображения.54
54. О соответствующей функции маски см.: Огибенин Б. Л., 1973, № 228, с. GO.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
77
По свидетельству К. Н. Соловьева, «крещенский сочельник кладет резкую границу между шумною и разгульною святочною жизнью со всею бесовщиной и последующею обыденной жизнью».55 Главное, что характеризует поведение переряженного, — это свободная игра с существующими в повседневности запретами. Он наделен преимущественным, а порой и исключительным правом совершать ряд обрядовых разрушительных и вообще агрессивных действий,56 подвергать окружающих различным испытанием, «играть» с сакральным, многое сдвигая при этом с привычных мест, поворачивая изнанкой, окрашивая особым Смеховым отношением. Недаром собиратели — взглядом извне этой системы — зачастую оценивают подобное поведение как кощунственное.
Такому «перевоплощенному действующему» позволено быть по ту сторону общепринятых правил и приличий, что нередко улавливается и фиксируется собирателями: «<...> публика с ряженых не взыскивает — ряженым всё позволительно».57 И, свободный от осуждения, порицания или наказания за грубое обращение, фамильярную шутку, чересчур смелый жест или об-сценную реплику, он с особым азартом бесчинствует, выставляет напоказ наготу, сквернословит, задирает всех, олицетворяя собой некую грубую силу. «Ряженые <...> поют, шумят, острят, и чем вольнее шутка, тем лучше»;58 «К кузнецам должны были выходить все ребята. Кузнецы не били их кнутами, а драли за волоса, давали в голову кулаком тумака, более или менее горячего»;59 «<...> мнимые животные, особенно медведи, катают по испачканному полу нарядных девушек и, растерев обгорелые на светце лучины с грязью, пачкают всех кого попало».60 Свидетельства, аналогичные приведенным, сопровождают почти все описания ряженья.
Одновременно следует подчеркнуть, что атрибуты нового обличья играющего всего лишь условно намекают на конкретный характер роли, не выражая се в формах внешнего правдоподобия, тем более — со степенью натуралистичности. Иначе говоря, ряженье в известной мере можно считать лишь знаком перевоплощения вообще: это не столько показатель частных его случаев и носитель конкретного игрового смысла, сколько сигнал перевоплощения как такового. На наш взгляд, это отчасти объясняет, почему в основе перевоплощения данного типа нередко обнаруживаются единые для разных персонажей принципы костюмировки и маскировки, а также хорошо просматриваются сквозные поведенческие стереотипы. В подобных ситуациях можно констатировать, таким образом, собственно игровую функцию переодевания, хотя за этой внешней стороной игры, как правило, удается отыскать также следы весьма архаичных пред
55. Соловьев К. Н., 1906, № 290, с. 292.
56. См., напр.: Бернштам Т. А., 1983, № 28, с. 135. О значении действий такого рода в ритуалах повышения статуса см.: Тзрнер В., 1983, № 319, с. 231 — 240.
57. Носова Г. А., 1972, № 225, с 71.
58. Каруновская Л., 1926, N3 155, с. 13
59. [Пр-ский Н.], 1864, № 251, с. 512.
60. [Архангельский А. С.], 1854, МЬ 11, с 37.
78
ГЛАВА ВТОРАЯ
ставлений, и обусловливающих здесь особую степень срастания играющего с его ролью (об этом см. дальше).
II. Во-вторых, по отношению к некоторой части народных игр можно говорить о перевоплощении исключительно по принципу «допущения» (в смысле Майнонга—Выготского). В этом случае одного переназывания бывает достаточно для того, чтобы играющий сразу же поверил в некую условную логику, вообразил себя определенным персонажем и начал действовать от его имени (а соответственно этому воспринимался и партнерами по игре).61 Например, отдельных участников детской игры «Кувшинчики» «,,матка“ (распорядительница. — Л. И.) наговаривает кого как: творог, масло».62 Они же с момента получения игрового «имени» легко перестраиваются на условную действительность, целиком согласуй с ней свое поведение (так же легко эта действительность может потерять свою власть над ними, появись какая-нибудь внешняя помеха игре). Аналогичен и другой пример, когда «двое означаются: одна ангелом, другая — бесом, — и стоят <...> отдельно от всех остальных девочек, сидящих рядом на полу»;63 именно таким образом и фиксируется начало игры — подчеркивается, что девочки уже действуют в образе: одна — «ангела», другая — «черта».
Путем сравнения нетрудно прийти к выводу, что водораздел между названными типами обусловлен прежде всего таким признаком, как наличие или отсутствие ряжения в игре: именно он разграничивает столь разные в игровом отношении принципы перевоплощения. Однако в общем потоке фольклорного материала этими типами возможности перевоплощения не исчерпываются.
III. Существуют также игры (в основном из детского и хороводного репертуара), для которых характерна сугубо символическая трактовка перевоплощения. Его атрибутом, как бы «магическим кристаллом» трансформации выступает при этом какой-либо внешний, часто довольно случайный предмет. Игровая знаковость последнего — будь то результат разовой договоренности участников игры или константа традиционной символики — служит для играющего своего рода преобразующим началом. Например, в роли перепелки в детской игре выступает девочка, шапка на голове которой изображает птичий хохолок.64 Шапка и становится здесь символом перевоплощения в перепелку, являясь по сути единственным знаком и зрелищным фактором этого перевоплощения (в то же время отсутствие подобного хохолка оказывается символом и в контексте игры прочитыва
61. Следует отметить при этом, что переназывание в фольклоре далеко не всегда служит сугубо игровым приемом, побуждающим к перевоплощению и совпадающим с ним. Достаточно напомнить хотя бы отдельные «беседные» игры молодежи (типа «Цыгана», «Драгуна»), в которых называние играющего цыганом или драгуном означает лишь его распорядительскую функцию (коновод, матка), не требуя от него перевоплощения в какой-либо персонаж: в данном случае роль имеет чисто иерархическое, а не игровое значение («Цыган выбирается: он командир по беседы» (РА ЛГИТМиК, Кириши-71, тетр. 1, № 8))
62. Резанова Ек., 1911, N? 256, с. 191.
63. Цейтлин Г., 1911, № 342, с. И —12
64. См.: Резанова Ек., 1911, .№ 256, с. 173.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
79
ется как примета перепела). Или другой пример: «На головы сидящим кладут по щепочке, подражая тому, как закрывают кринки. Сидящие представляют кринки».65
Очевидно, что в рассмотренных случаях нельзя говорить только о назывании как факторе перевоплощения, — наряду с ним здесь не менее отчетливо выступает стремление к символическому (хотя и предельно условному) уподоблению участника игры определенному персонажу. Легко заметить, что в игровом отношении последние из приведенных примеров существенно контрастируют с теми, в которых играющий какую-либо роль «перевоплощается» по принципу называния. Если в одном случае характер роли изначально имеет некое зрительное обозначение (шапка-хохолок, палка-«бадожок» старухи Пыхтеихи, щепка-крышка и пр.) и игра, как правило, не стремится к дополнительному обыгрыванию роли в плане наглядного, внешнего (перевоплощение здесь предметно задано, и тем самым форма его предопределена), то в другом случае название и сущность роли требуют какого-то «оправдания» в самой игре: интонации, движения играющих становятся более или менее изобразительными, характерными.
Внешнее преображение, которое в театре переживания является лишь психологическим пред-условием перевоплощения, чем-то вроде его «стартовой площадки», в народной игре нередко выявляет совсем иную нагрузку и меру емкости. Здесь в его природе чаще всего улавливается многозначность, открывается сопряженность с глубокими смысловыми пластами, особая магическая нацеленность. Обусловленное разными типами фольклорного сознания, и служить оно может соответственно решению весьма неоднородных задач.
При тщательном сопоставлении фактов в основе такого преображения удается высветить довольно разные по своей сути мотивировки, которые свидетельствуют о принципиально разных корнях данного явления. Здесь, на глубине своего рода «подтекста», можно встретиться и с наивным стремлением играющего к более или менее реалистическому^ копированию, когда смысл перевоплощения определяется задачей имитации, удвоения жизни в ее внешних формах (скажем, сделаться «во плоти» похожим на царя, полководца, барина — конечно, с поправкой на то, как их себе в данной среде представляют, через какой атрибут формы они здесь осмысливаются). Подобная установка на «неметафорический» тип перевоплощения связана с заметным усилением степени изобразительности маски и костюма (в основном такое перевоплощение служит характеристикой народного теат-ра).
Однако наряду с ним мы сталкиваемся в народной игре и с противоположной тенденцией, суть которой — в стремлении просто замаскироваться или, говоря иначе, в намерении обезличить себя, «сменить» индивидуальность своего облика на некую визуальную аморфность, не получающую не только имени соб
65. Тихонов В., 1889, № 305, с. 8—9.
80
ГЛАВА ВТОРАЯ
ственного, но и вообще какого бы то ни было имени или конкретного названия. Это как бы полюса внешнего преображения, известного русскому игровому фольклору, — полюса, которые с разным знаком реализуют идею узнаваемости (неузнаваемости) в игре.
Как свидетельствуют многие факты русского материала, очень редко внешнее преображение в игре ограничивалось приемом собственно маскировки. Наряду с нею оно предполагало в большом числе случаев разные формы костюмировки, дополнительно сопровождаясь иногда к тому же гримировкой, то есть оно опиралось, как правило, на весь комплекс средств, известных данной традиции, в каждом отдельном своем проявлении. Вместе с тем многочисленные описания таких случаев, по возможности систематизированные нами, позволяют заметить, что в контексте народно-христианской культуры маскировка оказывается безусловно выделенной в данном комплексе. Особая, явно усиленная значимость последней разными способами фиксируется в самой традиции, которая именно маскировку связывает, в частности, с наиболее строгой системой запретов: «Наряжаться (и особенно) надевать маски, — пишет Н. С. Щукин в предисловии к материалам Е. Т. Соловьева, — считалось прежде, да отчасти и теперь, осквернением тела, которое дозволялось только на святках, по миновении которых употреблялось очищение весьма нелегкое».66
Именно переряживание (отнюдь не перевоплощение как таковое, то есть не любого типа перевоплощение) давало, как нам представляется, максимум совпадений и перекличек с обо-ротничсством нечисти, то легко скидывающей свою прежнюю материальную оболочку, то вовсе не имеющей собственного обличья. Можно предположить, что именно в силу этой связи пере-ряживанье в целом и осознавалось народом как акт нечистый, опасный и греховный.67
Таким образом, не случайно чисто внешнее и, казалось бы, совершенно безобидное преображение в игре получило явно негативную оценку в пословице, которая отражает, видимо, не только ортодоксально христианскую его трактовку: «В рогожу одеться — от людей (вариант — от Бога) отречься». Эта пословица вскрывает глубинную мотивировку данного явления и свидетельствует о том, что одеться в рогожу и прочие «кум и рек ие одеяния» — значит предаться дьяволу, впустить его под личину. В силу этой мифологической концепции в культуре разных народов и находилось под особым запретом свободное, не регламентированное ритуалом переодевание мужчин в женский наряд (и наоборот), как и другие формы переоблачения в кого-нибудь. С ритуальным нарушением подобных запретов были связаны самые разные традиции, так или иначе соотносимые с мифологическим сознанием, в том числе практика шаманизма, для ко
66. Щукин II. t 1876, № 353, с. 156.
67. Ср., наир., замечание Н. II. Степанова, который греховность ряженья поставил в зависимость от потех «нечистой силы и ведьм, которые крадут с неба месяц и звезды, справляют шабаш и веселятся с нечистыми» (Степа нов //. П., 1900, № 297, с. 150).
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
81
торой в отдельных регионах характерна так называемая «перемена пола» как знак избранничества шамана,68 обычаи сезонного и вообще праздничного ряженья и пр.
Возвращаясь к уже высказанной нами мысли о том, что именно случаи маскировки отличались на общем фоне перемены облика наибольшей мерой греховности, подтвердим это серией собирательских свидетельств: «Крестьяне уверяют, что надевший маску уподобляется черту»;69 «Боже сохрани, за какой тяжкий, смертный грех считали надеть на себя маску-харю», — пишет А. А. Фенютин, в то время как, по свидетельству этого же автора, во время святок безболезненно рядились и «лица завязывали платками»;70 «Масок нс носят из-за боязни дьявола, т. к. надеть маску — значит одеть лицо черта».71
Маска понималась в русском народном суеверии как опасный предмет: наряду с куклой она считалась местом возможного обитания нечистых духов и обычно называлась харей, харюшей, рожей (в том числе чертовой), личиной. Кстати, свидетельствующие об этом немалочисленные факты вступают в явное противоречие с весьма распространенной в дореволюционной науке концепцией маски как отвораживающего средства, «средства против очарования» (И. М. Снегирев),72 73 как индивидуально действенного способа обмануть, даже напугать демонов, а в итоге обезвредить их. Между прочим, эта популярная теория никак не объясняла опасность самой маски, существующую для надевшего ее, что в недрах традиции как раз и акцентируется в первую очередь. Она оставляла без всякого внимания и тот факт, что далеко не все посизели соответствующих воззрений оберегались от злых демонов подобным образом — с помощью маски: ведь, как известно, использование маски становилось уделом специально избранных членов коллектива, а не было делом всех без исключения, всех подряд.
Итак, с одной стороны, существовал, отчетливо сформулированный запрет надевать маску. С другой, ритуальное отношение к ней допускало в определенные сроки нарушение данного запрета, хотя последнее оказывалось на русской этнической территории практически повсеместно связанным с требованием соблюдать определенные обезвреживающие меры и предосторожности. «Те из наряжавшихся на святках, которые надевали на лица маски, купались в Крещенской проруби», «Женщины свободны от подобного очищения (купания. — Л, И.), потому что масок не надевают, а завешивают лицо каким-нибудь лоскутом»;74 «<...> которые же ходили в святки <...> шуликонами, то раздеваются донага и купаются в прорубях <...>, несмотря ни па какую суровую погоду, дабы освященною водою смыть
68. См.: Басилов В. Н., 1982, Мр 21.
69. Дебрский А. — РА ГМЭ, ф. 7, on. 1, № 29, л. 56 (Владимирская губ., 1899 г.).
70. Фенютин А. А., 1866, N? 330, с. 128—129.
71. Ефименко II. С., 1877, Nv ИЗ, с 138.
72. См.: Снегирев И., 1838, М 280, с. 31—33; [Коропчевский Д. Л.], 1892, •№ 166; и др.
73. Соловьев К. Н., 1906, № 290, с. 293.
74. Щукин II., 1876, № 353, с. 156.
82
ГЛАВА ВТОРАЯ
с себя личину беса»-.75 То же самое сообщает А. А. Фенютин: «По уверению стариков, кто наденет на себя эту харю, тому для очищения от такого тяжкого греха не было иного средства, как в самое Крещенье вслед за освящением воды в проруби окупаться в ней же <...>».76
Маска, безусловно, выделяла из общей среды того, кто в соответствующие сроки надевал ее в ритуальных целях, она была концентрированной формой выражения чужой и опасной сущности и давала носителю маски особую магическую силу.77 Однако сила эта считалась явно нечистой: «Грех большой был окрутивши ходить».78 И от греха вольного или невольного приобщения к этой силе всякий раз полагалось освободиться: «Умываясь на „Ярдани“ (проруби), надеются получить „здоровьецо" и очиститься от святочных грехов; самым тяжелым из них считается „машкарованье" с надеванием на лицо „чортовой рожи" (маски)».79
Необходимо обратить внимание на то, что показания собирателей относительно бытования маски существенно расходятся: одни утверждают едва ли не сплошное ее распространение в ряженье («Маски в большом ходу»80), другие фиксируют преобладающее в отношении нее табу, якобы абсолютно исключающее ее из праздничной жизни народа («Маскированных нет, и надевать маску считается великим грехом»;81 «Масок не носят из-за боязни дьявола»82).
Столь противоречивые свидетельства отчасти можно объяснить неодинаковым исходным пониманием самого феномена маски. Дело в том, что в отдельных случаях собиратели относят к числу масок лишь изделия фабричного производства (последние, кстати, с большими препятствиями входили в народную обрядовую традицию, и сложность их внедрения в деревенский быт хорошо отражена рядом записей второй половины XIX века). Однако по существу фольклориста вряд ли может удовлетворить столь узкое толкование маски, для которого определяющими становятся сугубо технологические факторы. В рамках иного, функционального, подхода, который представляется нам более оправданным, масками являются и такие традиционные предметы маскировки, как платок, кисея (иногда они надевались на лицо, уже покрытое к тому же сажей, мелом, мукой). Известны случаи, когда фиксация их бытования сопровождается признанием их равнозначности маске: «Рядились хорошо <...>, кисеями закрывались. Масок раньше не было»;83
75. Ефименко П. С., 1877, N? 113, с. 138.
76. Фенютин А. А., 1866, № 330, с. 129
77. Наблюдения такого рода были подытожены в кн.: Пропп В. Я., 1963, № 249, с. 118.
78. Записано 7 янв. 1979 г. в д. Мотохово Киришского р-на Ленинградской обл. от Г. К. Федюхиной Л. Ивлевой.
79. Макаренко А., 1913, № 201, с. 51.
80. Волков Н. Описание Московского у. в этнографическом отношении — РА ВГО, разр ХХП, № 18, л. 129.
81 Дебрский А. - РА ГМЭ, ф. 7, on. 1, М 29, л 56.
82. Ефименко И. С., 1877, W 113, с. 138.
83. Записано от Н. А. Беляевой (РА ЛГИТМиК, Углич-1969).
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
83
«<...> лицо покрывают платком или одевают личину (маску)»;84 «Лица закрыты марлей или тюлевой занавесочкой»;85 «Лица вместо масок покрываются платками или кусками кисеи».86 Кстати, А. Н. Веселовский даже окрашивание лица в ряженье рассматривал как эквивалент маски, подкрепляя связь между ними и этимологическими выводами (он констатировал в ряде романских слов, производных от «маскары» — маски, значение ‘чернить’).87
В связи с данной проблемой можно, правда, сослаться на то, что в описаниях иногда действительно получает отражение тенденция к противопоставлению внутри самой традиции фабричных, покупных масок, с одной стороны, и домашних, самодельных, с другой: «Маски были не такие, как сейчас, — с марли»;88 «Кисеями закрывались — масок у нас раньше не было».89 Однако чаще, как мы уже видели, этому различию не придается существенного значения, и данные явления не столько дифференцируются информантами, сколько объединяются ими по функциональному признаку.
В свете сказанного необходимо более детально рассмотреть отмеченные А. Н. Веселовским случаи, когда в целях маскировки в игре могли использоваться разные окрашивающие вещества. Среди них следует назвать золу, уголь, грязь, муку, мел, свекольный сок и пр., которые обычно наносились на оголенные участки тела (главным образом, на лицо и руки). Многие из этих средств не просто входили в набор традиционных, более или менее подручных «красителей», но нередко принадлежали еще и к числу подчеркнуто ритуальных материалов (сажа, мука, уголь, глина89*) или были связаны с ритуальной цветовой символикой (наиболее регулярно это значение прослеживается в ряженье относительно красного, белого и черного цветов).
Рассматриваемый способ, когда в маску превращается лицо самого играющего, мог сосуществовать в народной традиции ряженья с другими способами маскировки. В дополнение к нему лицо могло вуалироваться, к примеру, более или менее прозрачной тканью (тюль, кисея, марля часто фигурируют в описаниях ряженья). Нередко предварительно вымазанное сажей лицо затем наглухо закрывалось плотным материалом (рогожей, попоной) или исчезало под маской-личиной, маской-наголовником — или самодельной (берестяной, соломенной, выдолбленной из дерева и пр.), или стандартной, привезенной из города. В подобных случаях можно говорить о весьма своеобразном феномене «двой
84. Завойко К., 1917, М 118, с. 23
85. Записано в 1979 г. в д. Мотохово Киришского р-на Ленинградской обл от Г. К. Федюхиной Л Ивлевой
86. Шадрин А., 1866, № 347, с. 112.
87. Веселовский А. Н., 1883, № 53, с. 162.
88. Записано в д Белая Киришского р-на Ленинградской обл от Е. П. Орловой (РА ЛГИТМиК, Кириши-70 (юг), тетр. 1, с 4).
89. Записано в с. Харлово от М С. Остудиной (РА ЛГИТМиК, Углич-1969) 89а. Последнее слово в текст диссертации вписано автором от руки. (Примем. ред.)
84
ГЛАВА ВТОРАЯ
ной» маски, природу которой пока довольно трудно оценивать как в сугубо семантическом, так и в сугубо стадиальном ключе.
В связи с проблемой внешнего преображения в фольклорной игре особого внимания заслуживает типологическое изучение тех материалов, из которых создавался костюм ряженого в целом. Многие из них по разным своим качествам принадлежат к числу повсеместно ритуальных, а подход к этим материалам с чисто эстетических позиций, хотя и может выявить парадоксальность ряда связанных с ними ситуаций, не позволяет всё же эту парадоксальность объяснить. Одна из подобных ситуаций замечательно отражена П. В. Шейном, который увидел, например, что святочная коза больше похожа на медведя. То же самое можно отнести и к другим зооморфным персонажам: курица, аист, журавль, лягушка и пр. действительно очень похожи друг на друга, и прежде всего это, конечно же, общность в выявлении ритуальной ценности материала, служащего целям маскировки. Перечисляя такого рода традиционные материалы, можно назвать рогожу, овечью шерсть, вывернутый наизнанку кожух, солому, некоторые ритуально отмеченные растения (лен, конопля, мята, береза, горох), имеющие и дополнительные значения магического средства, апотропея. Кроме названного, это еще и рванье — всевозможное тряпье, ненужные лохмотья или, по словам С. Т. Коненкова, «живописные обноски», в связи с которыми необходимо вспомнить роль разного хлама, в том числе изношенной одежды и обуви, в календарной обрядности. «Иной молодец завернется в дырявую и рваную дерюгу, другой, напялив на себя мешок, уберст голову в мочалы <...>, и все-то личины в этом роде», — сообщает В. В. Селиванов.90 91 «В Шенкурском уезде, — отмечает А. Харитонов, — привычка наряжаться, т. с. обвешиваться разным тряпьем <...>, издавна вошла в состав обыкновенных обычаев»;92 «Один из участников вечеринки наряжается стариком, причем надевает старенькую, оборванную одежду», — читаем в описании И. К. Копаневича.93
Здесь же следует особо заострить вопрос о том, что для одежды многих персонажей ряженья характерна так называемая изнаночность, хотя, на наш взгляд, на этом материале проблема изнаночности далеко не всегда может быть решена в аспекте сугубо смеховои культуры. То, что применительно к древнерусской пародии рассматривается Д. С. Лихачевым как «антиматериал» в чисто смеховом его выражении, в народной игре сохраняет нередко тесную связь с мифологическими представлениями и имеет совсем иную семантику. Для рассматриваемого материала существенно, что оборотность является свойством потустороннего и демонологического мира. Следовательно, и в трактовке се будут в этом случае доминировать не столько социальные или художественные, сколько мифологические мотивы.
В свете обрядового характера ряда игр ряженых встает также вопрос о формах используемого в них обнажения, при
90. См.: \Шейн П. В.], 1887, № 349, с. 89.
91. Селиванов В. В., 1902, №? 269, с. 129.
92. Харитонов А., 1848, Jsfe 336, с 12.
93. Копаневич И. К., 1896, № 163, с. 34.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
85
меры которого многочисленны: «Черт одет был довольно натурально, почему некоторые женщины прятались от него в угол*;94 «<...> при каждом ударе у кузнеца сваливались портки и он оставался совершенно обнаженным*;95 «Что касается до костюма кузнецов, то он был таков, чтобы не скрывал ничего из организма»;96 «Кончается представление неприлично <...>; из печки мальчишка показывает ему („старику". — Л. И.) солнышко — заголенный зад»97 и пр. Особенность такого «нулевого» костюма, который нередко побуждает собирателей к этическим оценкам, связана с магическим смыслом его мотивировок: обнажение характеризуется в подобных случаях, конечно же, внеигровыми значениями.
Специфичность приемов и способов маскировки в народной игре подчеркивал в свое время П. Г. Богатырев. «Своеобразен художественный метод создания народного костюма», — писал он, считая, что «особого внимания заслуживает изучение маски».98 Однако на русском материале проблема маски до сих пор не была поставлена специально не только в полном ее объеме, но и вообще ни в одном из возможных аспектов ее рассмотрения.
Постановка этой проблемы в связи с типологическим изучением игрового перевоплощения делает особо актуальным тот факт, что маскировка начисто исключала из числа игровых средств мимику, — игра держалась здесь на иных приемах выразительности. Кроме того, нельзя не отметить, что в представлениях данного типа кульминационное значение приобретал эффект неузнаваемости ряженого: к этому обстоятельству постоянно приковано внимание собирателей. Фактор неузнаваемости мог существенно усиливаться за счет различных вспомогательных приемов игры (например, с помощью дикции). Как правило, говорили ряженые резкими, писклявыми, искусственными голосами: «Окрутниками ходили раньше <...>. По-окрутницки и говорят: не как обычно — визжат»;99 «Наряженные ходят по избам и, сообразно принятым на себя личинам, говорят не своим голосом»;100 «Говорили по-святошному (измененным голосом. — Л. И.)»;101 «Не своим голосом пели, чтобы не узнали».102 Той же цели способствовало использование некоторых дополнительных элементов костюма (известны случаи, когда на руки надевались перчатки или в наряде ряженого фигурировала крайне редко надеваемая в быту одежда): «В старинные платья окру-чались <...>. Даже перчатки надевали, чтоб не узнали»;103 «Хо
94 Фенютин А. А., 1866, N*3 330, с. 121.
95. Максимов С. В., 1903, № 202, с. 300.
96. [Пр-ский If.], 1864, 251, с. 512.
97. Фольклорный архив И ИЛИ, колл. 264, п. 1, № 2, с. 633.
98. Богатырев П. Г., 1963, 33, с. 278.
99. РА ЛГИТМиК, Кириши-71 (юг), тетр. 1, № 42 (записано в д Хотицы Киришского р-на Ленинградской обл. от А. И. Большакова Л. Ивлевой).
100. Селиванов В. В., 1902, № 269, с. 129.
101. РА ЛГИТМиК, Кириши-71 (юг), тетр. 1, с. 23 (записано в д. Авде-тово Киришского р-на Ленинградской обл. от А С. Соловьевой Л Ивлевой).
102. РА ЛГИТМиК, Углич-1969 (записано в с. Харлово от М. С. Остудиной)
103. РА ЛГИТМиК, записано в 1979 г. в д. Мотохово Киришского р-на Ленинградской обл. от М. Кирилловой Л. Ивлевой.
86
ГЛАВА ВТОРАЯ
лостые молодцы придумывают одеться так, чтобы их меньше узнавали <...>»;104 «<...> всякий молодой парень считает обязанностью нарядиться как-нибудь поискуснее, чтобы его не узнали»;105 «<...> ряженые изменяют и голос и походку, а одежду достают у посторонних и такую, которую и сами хозяева носят крайне редко».106
Неузнаваемость ряженого — конечно же, не просто игровой прием. Она вполне сопоставима с иными данными, свидетельствующими о том, что в мире ряженья репрезентируются некоторые приметы другого — потустороннего и нечистого, демонологического — мира. Это находит подтверждение и в системе персонажей (среди них назовем покойников, Смерть, русалку, кикимору, домового, чучело, пугало, злыдней, черта, колдуна и пр. — «всякую чертовщину», по выражению С. Т. Коненкова), и в терминологии ряженья, и на акциональном уровне, и в связи с осознанием обычая рядиться как нечистого в ряду многочисленных запретов и предписаний. Однако неузнаваемость эта, коренящаяся в мифологической природе данного явления, нередко еще и дополнительно обыгрывалась и служила своеобразным приемом внеигрового осложнения игры: игра могла сопровождаться настойчивыми попытками угадать, кто же скрыт под маской. Приведем несколько примеров такого рода: «<...> неряженая молодежь старается хотя бы по одежде, по голосу, по походке узнать, кто такие ряженые <...>»;107 «А я знаю, кто ты! — говорил наряженке один из мальчиков. — А ежели скажешь, уши оторву! — послышался ему ответ».108 Подчас такого рода прения сторон продолжались довольно долго, прежде чем ряженые оказывались разоблаченными, и это вносило в игру явное оживление, доставляло участникам действа много ярких и веселых переживаний.
В наибольшей мере эффект неузнаваемости сопряжен с традицией изобразительно нейтральных масок, которые как бы не имеют единичного, конкретного названия. Подобная традиция в основе своей глубоко обрядова: опора на материалы народной терминологии позволяет связать ее с опытом зрелищного воссоздания в ритуале «того света» и всего, что за ним стоит: «Надевали страшную маску (без особого названия. — Л. II. )»;109 «<...> представляют разные неуклюжие чучела»;110 «Головы повязывают платком, низко спущенным на лоб, чтобы скрыть лицо» такого безымянного персонажа мифологической природы.111
Такая аморфность визуального ряда имеет две непреложных характеристики, и особенность ее состоит в том, чтобы быть смешной на грани страшного (или страшной на грани смешного): «Надевали какой-то немыслимый костюм»;112 «<...> фигуры
104. Смирнов М. И., 1927, X? 278, с. 16.
105. Кудрявцев В. Ф., 1870, X- 173, с. 111.
106. Неустпупов А. Д., 1913, X? 218, с. 24
107. Там же, с. 25.
108. Соловьев К. 11., 1906, № 290, с 288.
109. [Архангельский А. С.], 1854, N? И, с. 37.
ПО. [Анимелле //.], 1854, ХЬ 8, с. 229.
111. Каруновская Л., 1926, X» 155, с. 13.
112. Фольклорный архив ИРЛИ, колл. 1, п. 19, Х> 2, с. 86.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
87
принимают самые безобразные»;113 «<...> надевают самые безобразные маски»;114 «Приходят ряженые в маске. Такая была страшная маска, а я был маленький: скок от страха из окна».115 Примеры этого типа необозримо многочисленны.
Вообще стоит напомнить, что персонажей, как бы лишенных всякой морфологической «персональности», личин, не имеющих индивидуально запечатленного облика, словно бы стертых, в репертуаре ряженья немало. Существуют даже целые традиции, в которых именно подобные, номинативно не дифференцируемые, типы ряженых вообще доминируют. На поверхностный взгляд никакого конкретного образа своим участием в ряженье они вроде не создают, хотя вместе с тем достаточно очевидно, что именно они прекрасно выражают общую атмосферу его инфер-нальности, концентрируют в себе характерную для него амбивалентность карнавального типа. Создаваемый в этом случае образ не именуется носителем традиции, но «описывается» им на языке игры: он табуирован так же, как табуированы в народном обиходе названия многих явлений и существ. Трактовка подобных фактов ряженья часто необоснованно вырастает из собственно эмоциональных мотивировок, то преувеличивая такой стимул, как «радость метаморфозы», то всё сводя лишь к нему: «Доминантной функцией является перевоплотить себя в кого-то иного, всё равно в кою, лишь бы актер не походил на того, кем он является в жизни».116
Вряд ли, однако, правомерно думать, будто исключительно из любви к игре в ее чистой разновидности ряженый готов изображать что попало, что придется (всё равно что) или, безотчетно поддавшийся общей стихии перевоплощения, он сам не знает, чтб изображает (ведь именно так выглядит данная ситуация в глазах тех исследователей, которые переоценивают самодостаточность метаморфозы как таковой). Напротив, внимание к мелочам и отдельным деталям позволяет установить, что играющему ясно, какого рода персонаж он создает, хотя используемые при этом игровые средства, безусловно, весьма своеобразны. Многие из этих деталей убеждают в следующем: такого рода безликие персонажи как раз и есть то страшное, что по своей мифологической природе безббразно (то, что не может быть названо, но при этом должно быть ритуально обозначено, представлено и пр., и играется в подобных случаях). Персонаж такого типа «вихляется», «кривляется», «шатается в безмолвии по избе или горнице»,117 гоняется за всеми безымянным пугалом, от которого присутствующие бросаются врассыпную, стараясь вовремя спрятаться друг за дружку; он хватает участников зрелища, наводя на них совсем нешуточный страх. И вся «нечленораздельность» его странного облика — не от «мира сего», она и есть свидетельство мыслимой и изображаемой его потусторонности.
ИЗ. РА ГМЭ, ф 7, on. 1, № 42 (запись И. Щеглова).
114. РА ВГО, разр. VI, on. 1, л. 24 (рукопись А. Бережнова).
115. РА ЛГИТМиК, Кириши-71, тетр. 1, с. 5 (записано в с Кукуй Киришского р-на Ленинградской обл. от А. И. Тиханова Л. Ивлевой).
116. Богатырев 11. Г., 1971, № 31, с. 107.
117. Шадрин А., 1866, № 347, с. 112.
88
ГЛАВА ВТОРАЯ
Достаточно полных описаний ряженья отдельных традиций, как констатировал еще В. Я. Пропп, не существует, и лишь из многочисленных описаний ряженья в конце концов видно, что в нем нет места самозабвенной и беззаботной праздности, чисто смеховому разгулу. Веселое оживление, праздничная раскованность, стимулированный, даже гипертрофированный смех находятся здесь в ненарушаемом единстве с ожиданием страха, подавленностью, с причастностью каждого какой-то жути, принудительностью целого ряда действий. Именно на смене этих настроений, на схождении этих полюсов и осуществляется в целом праздничное бытие: <Весело и страшно было от игры доморощенных артистов», — подытожил свои детские воспоминания о ряженье в книге «Мой век» С. Т. Коненков.
Основной вывод, который может быть сделан из предпринятого здесь типологического обзора технических средств и приемов перевоплощения в дотеатрально-игровом фольклоре, состоит в следующем: в связи с задачами игровой типологии в первую очередь следует осознать разницу между ряженьем и неряженъем. Актуальность их противопоставления особенно наглядной становится при сравнении этих систем (по всем игровым критериям) в тех случаях, когда они реализуются из общего сюжетного арсенала. Каждый из этих типов как бы комплектует свой особый набор конкретных средств создания образа, а также соответствует определенному срезу в исторически многослойной системе народных представлений и верований.
4. Мир персонажей игры
Факир, вампир, гусар с цыганкой, Коза в тулупе вверх изнанкой, С пеньковой бородой монах...
А. Тарковский
Мир персонажей — это признак, который особо акцентируется нами в рамках проблематики игрового перевоплощения. Это обусловлено тем, что в конечном счете не без его посредства оцениваются разнообразные законы соотношения игровых явлений с действительностью, принципы взаимосвязи игрового текста и контекста, специфика семантических категорий, существенных для отдельных групп игр. И тем не менее принципиальное значение этот признак получает далеко не для всех игровых явлений.
В русском фольклоре широко представлены такие игры, которые невозможно описать адекватно их сущности на уровне действующих лиц. Речь в данном случае идет о том, что действующие в них лица по-настоящему осмысливаются только в контексте целого, каковым выступает здесь в первую очередь сюжет (соответственно, и значение свое они обнаруживают прежде всего в сюжетных сцеплениях с другими персонажами). На этом фоне заметным исключением предстает ряженье, целостная
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
89
картина которого складывается отнюдь не на сюжетном уровне. Для него и потребовалось ввести специальное понятие мира персонажей.
Обращаясь к примерам, отметим, что персонажи детской игры появляются именно в сюжетно обусловленных связях, иначе говоря — не обязательно все персонажи всех детских игр сразу. Взаимосвязи между ними как раз и устанавливаются на сюжетном уровне, а полный круг персонажей выявляется только при сравнении всего комплекса сюжетов, известных детскому репертуару той или иной традиции. При этом в конкретном коллективе детей может оказаться какое-то число излюбленных сюжетов, разыгрываемых наиболее часто и регулярно, а остальные, как бы оттесненные реальной практикой бытования, составят лишь некоторый резервный фонд. Непосредственно же в игровом процессе отдельные персонажи детской игры выступают лишь в той мере, в какой они имеют отношение к разыгрываемой в данный момент конкретной игре.
В результате мы, по сути дела, только с изрядной натяжкой можем говорить о мире персонажей детских игр (реально есть лишь мир сюжетов!) — в то время как понятие мира персонажей ряженья не требует особых оговорок и аргументации: во втором случае каждый персонаж как раз и существует в контексте всего данного мира. Соответственно этому и парадигматика ряженья оказывается, как увидим далее, не менее важной, чем его синтагматика.
Действительно, представляемый ряжеными мир измеряется и качественно оценивается обычно не посюжетно, а номенклатурой персонажей, взятых изолированно — в свободном и хаотичном перечислении независимо от разыгрываемых ряжеными сценок: не случайно они и рассматриваются, как правило, в произвольной линейной последовательности, вне «драматургического» стержня.
Наверное, аналогичное описание театра показалось бы нам достаточно абсурдным, хотя — вспомним — на уровне отдельной пьесы наше первоначальное, самое поверхностное, соприкосновение с миром действующих лиц закреплено даже таким традиционным жанром, как театральная программа. Безусловно, малопродуктивное по отношению к театру нового времени или даже, допустим, к детской игре описание мира персонажей имеет определенную ценность при подходе к итальянской комедии масок. С ним же мы сталкиваемся как с общепринятым способом отражения ряженья и в материалах собирателей, и в обобщениях исследователей.
Во многих случаях это обусловлено тем, что имеющиеся описания ряженья отличаются недостаточной полнотой и собственно сюжетный уровень (как микросюжеты, охватывающие отдельные персонажи в пределах какой-нибудь сценки, так и «сценарий» каждой локальной традиции в целом) отражают слабее всего. Кроме того, нельзя не заметить, что отдельные сценки, то есть сюжетно оформленные связи между персонажами, варьируются в большей степени, чем сами персонажи: возможны, например, разные сюжеты, объединяющие один и тот же круг персонажей (цыган подковывает лошадь, цыган продает лошадь и пр.); воз
90
ГЛАВА ВТОРАЯ
можно, напротив, разыгрывание одной и той же сюжетной схемы разными группами персонажей. Таким образом, для нас несомненно, что проблема мира персонажей в пределах ряженья достаточно объективно выявляет свое право на существование.
Когда персонажи ряженья рассматриваются как синтагматически выстроенный ряд, они обычно группируются чисто логически. Ряженье в целом представляется на этом фоне как пестрая и причудливая мозаика, состоящая как будто из любого произвольного числа элементов (ряд мыслится теоретически нс ограниченным). На самом же деле тщательное изучение собранного материала разбивает это представление и позволяет охарактеризовать мир персонажей как относительно стабильный: он выявляется сквозь все звенья повторяемости с известной полнотой и может быть зафиксирован в виде соответствующего списка или указателя. Трудно не заметить, что произвольность этого «мира», постулируемая многочисленными работами, в рамках каждой отдельной традиции вступает в явное противоречие с материалом и на поверку оказывается мнимой. На «материале» мир персонажей предстает не только количественно ограниченным, но и постоянным, воспроизводимым, более или менее равным самому себе. Вопреки мнению Н. И. Савушкиной,118 и обновления в нем оказываются особой природы: они происходят не путем раздвижения рамок этого мира и дополнительного внедрения ранее неизвестных ему персонажей, а путем переименования и некоторого переосмысления уже существующих (начальник, представитель власти — социального «верха» может получить в конкретной исторической среде название то чиновника, то старосты, то милиционера; военный персонаж может исторически конкретизироваться в лице солдата, драгуна, гусара, генерала, бойца, стрелка и пр.). Таким образом, можно предпо лагать стабильным и глубинный пласт идей, на которых эта традиция от случаю к случаю «возрождается».
В этом отношении крайне непохож на ряженье мир детской игры (особенно импровизационной), в какой-то своей части постоянно обновляемый за счет вытеснения одних сюжетов некоторым числом других, подсказанных самой жизнью, ее меняющимися ситуациями. Он в значительно большей мере характеризуется текучестью как следствием реакции на действительность, и это попятно в связи с обучающей и тренирующей функцией детской игры. В мире последней возможны нс только такие инновации, которые происходят при подстановке новых, актуальных значений на место обветшавших и переставших осмысливаться и которые связаны с перетолкованиями, перелицовками и пр., но в нем нередки и случаи прямого перенесения в игру всего подсмотренного и подслушанного в самой жизни: наряду с ориентацией на миф здесь весьма ощутима ориентация на быт. «Сырая» действительность повседневного зачастую входит в сюжетику детских игр в виде «истории», факта, анекдота (война, бытовые сцены, случаи уголовной хроники и т. п.), которые игра пытается дублировать в формах подражания им,
118. См.: Савушкина Н. И., 1974, N? 264, с. 163 — 164, 167.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
91
йо — случается — при «переводе» на детский язык несколько деформирует или редуцирует их.119
Мир персонажей детской игры не регламентирован в целом и не задан неким списком, пронизанным, как в ряженье, сложными многоуровневыми отношениями. Но, заданный посюжетно, он и обновляется вместе с сюжетами, которые то исчезают и забываются, то приходят в детский репертуар по мере освоения детьми новых сфер жизни, то есть изменяются в меру их интереса к движущейся социальной истории.
Что касается мира персонажей ряженья, то в этнографической и театроведческой литературе он традиционно описывается как комплекс зооморфных и антропоморфных существ с дифференциацией последних на фантастические и бытовые (в том числе профессиональные, сословные, этнографические, сатирические). Эта классификация — в ее собственных традициях — может быть дополнена еще одним, специфически фольклорным разрядом «персонажей»: это изображаемые людьми неодушевленные предметы (девушки — «деревья»; «кузнечные мехи», раздувание которых представляется поочередным сгибанием ног обнаженного человека, скрытого до поры под пологом; «масло», которое старательно сбивается маслобойщиком; и т. п.).120
Являясь формально-логической, данная классификация базируется на буквальном восприятии ряженья, на отношении к нему как к искусству реалистическому (искусству подражания), а не символическому, наконец, — на чрезмерном доверии либо к собирателю, описывающему мир ряженых так же бегло, как театральная программка знакомит зрителя с миром действующих лиц драмы,1*1 либо к отдельному информанту, который в объяснении ряженья и выдвигаемых им мотивировках не всегда является носителем коллективного сознания и знания.122
Вместе с тем безоговорочное вычленение названных типов персонажей вообще далеко не всегда оказывается возможным, целесообразным и содержательно оправданным. Предельная условность такого деления связана как с множественной семантикой игр ряженых, так и с реализацией в них отвлеченных идей путем их персонификации.
119 Общая концепция восприятия детьми мира взрослых предложена в работе: Лотман IO. 1974, N° 196.
120 П. Г. Богатырев говорит также о перевоплощении животных и неодушевленных предметов в человека, называя так, к примеру, обрядовое ряжение петуха в человеческую одежду или наряжение снопа и наделение его именем собственным (см.: Богатырев 11. Г., 1971, № 31, с. 15), что в терминологическом отношении является, пожалуй, недостаточно строгим и точным.
121. Непротиворечивость и компетентность описаний (как этнографическая, так и театроведческая) — достоинства очень немногих собирателей ряженья. С этим и связана одна из главных трудностей в его изучении, отмеченная в свое время в кн.: Пропп В. Я., 1963, № 249, с. 110. Известная направленность отличает, кстати, многие материалы РА РГО, собранные по единой программе с установкой представить народный праздник как увеселение, гулянье, развлечение. Многие из корреспондентов-священников воссоздавали картину ряженья таким образом, чтобы нс очернить свой приход «ересью» языческих обычаев
122 Вопрос о соотношении «носитель фольклора —- фольклорный текст» рассматривается в ст.: Левинтон Г. А., 1975, М 185.
92
ГЛАВА ВТОРАЯ
С нашей точки зрения, ошибка многих исследователей в том и состоит, что персонажи ряженья воспринимаются и анализируются ими как типы, непосредственно взятые из жизни, — в обедняющей их одноплановости и однозначности социальных качеств и признаков как таковых, вне призмы отражаемой ими мифологической концепции мира. Естественно, что таким образом «считываются» лишь верхние слои семантики, а к глубинным ее пластам взгляд исследователя вообще не проникает. Персонажи ряженья неуловимы до конца и труднообъяснимы в частностях (в комплексе того, что с ними происходит, что они произносят и делают), если подходить к ним с рассматриваемых позиций и пользоваться лишь ключом реалистического «перевода». Все интерпретации «бытовис-тического» толка малоплодотворны для объяснения ряженья, и в этом смысле не случайно Н. И. Савушкина ошибочно называет «солдата» в числе «отражающих новые общественные отношения» и появившихся в советские годы персонажей, а «барина» и «барыню» — вопреки многочисленным довольно ранним свидетельствам других европейских культур — относит к «сатирическим персонажам позднего происхождения».123 124
В том-то и дело, что ряженье — не подражание жизни, нс элементарное ее отражение; ряженье — это прежде всего воплощение определенного представления о мире, то есть отражение гораздо более высокого порядка. Совершенно невозможно рассматривать эти персонажи как индивидуализированные образы, целиком мотивированные определенной средой и состоящие из социальных качеств и признаков: в русской среде бытования они дают множество параллелей инокультурным традициям. Тут фактически нет национальной специфики в содержании, нет бытового плана в точном смысле слова, а есть общезначимые для многих фольклорных традиций карнавализовапные стереотипы мышления и поведения.
Например, распространенное объяснение «бытовых» персонажей, называемых по социальному (иерархическому), профессиональному или этническому признаку как отражающих будто бы черты определенного класса, сословия, цеха или народа, на самом деле наталкивается на значительные трудности при обращении к материалу. Ведь барин и барыня ряженья — не просто копии соответствующих социальных типов или пародийные образы последних, но прежде всего это носители идеи социальной инверсии как идеи ритуально-карнавальной. По разным причинам доктора, мельника, кузнеца нельзя назвать лишь персонажами, «изображающими представителей наиболее типичных для дореволюционной России профессий».125 Турки же, испанцы, остяки, китайцы и прочие так называемые «национальные» типы могут быть наряжены совершенно одинаково («разрисовывают собственные физиономии пробками
123. Савушкина Н. И., 1974, № 264, с. 163—164, 167.
124. В сравнительном плане наиболее интересными представляются персонажи карнавала (например, кузнец, дурак, черт, турок, Смерть и пр.), описание которых содержится в кн.: Winterstein А., 1925, X? 385, S. И, 16-17, 22 и. а. См. также: Lehmann H.t 1964, № 375, S. 23 (кузнец и врач); Пиотровский А. И., 1927, X? 237, с. 9—10 («хвастливый солдат*, «болтливый лекарь*, «оружейники* — «эти извечные маски народной комедии*); Толстой Н. И., 1979, X» 310, с. 315 — 317 (вооруженные персонажи русалийской дружины); и др.
125. Савушкина Н. И., 1974, X 264, с. 163.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
93
и прикладывают усы»12ь), и смысл их нужно видеть отнюдь не в достоверной передаче каких-то броских этнических признаков, а в общей их противопоставленности русским как чужих, как иноземцев или иноверцев. Точно так же одна деталь — гусиное крыло — одинаково служит знаком и гусара, и улана, и козачка, 7 делая их всех в равной мере представителями «каких-то фантастических армий».126 127 128
Ряженье дает много аналогичных примеров, и в каждом подобном случае дело, вероятно, не только в условности игры, не только в нарочитом пародировании или шаржировании как художественном принципе создания образа (ооычно именно в них исследователи предлагают видеть единственно возможную разгадку несоответствий между их собственными отсылками к реалиям в целях трактовки данного материала и самим материалом, которому среди этих реалий тесно129).
Все попытки понять ряженье лишь в его соотношении с ближайшим жизненным пластом, как и попытки найти все ответы непосредственно в плоскости языка (в названиях персонажей), во многих случаях неизбежно оставят нас «на уровне наблюдения», то есть на поверхности ряженья. Данные персонажи не могут рассматриваться каждый в отдельности — в одномерном соотнесении с его названием или только с определенным жизненным прототипом, иначе говоря — вне объединяющей их идеи. Здесь нужен особый ключ к глубинным слоям материала, который позволил бы выявить связи между отдельными персонажами, выраженные не столько сюжетно, сколько семантически, а — следовательно — и значение каждого из персонажей.
Особенно интересный в этом отношении материал может, как нам кажется, дать сопоставление городской и деревенской традиций святочного ряженья, которые одинаково удерживают его общее значение, но актуализируют его разными «списками» персонажей. Здесь имеется в виду следующее: некоторая часть персонажей в любой традиции ряженья служит отражением того, чтб мыслится в данной среде как чужое, инородное, внеположное ей.130
Для крестьян к этому разряду лиц относятся, например, барин, пан, солдат, офицер, генерал, начальник, чиновник, писарь, купец, сбитенщик и прочие «герои» ряженья, многие из которых при этом взаимозаменимы функционально, отличия которых друг от друга зачастую сводятся именно к разному названию131 (кстати, названия не всегда принадлежат самой традиции — нередко они даются собирателями). В мещанской, купеческой среде, по существующим описаниям (сравнительно малочисленным), к этому кругу персонажей относились крестьянин, дворовый, кухарка.
126. Шадрин А., 1866, N> 347, с. 111.
127. См.: [Кораблев С. 11.], 1851, № 165, с. 61.
128. Бартенев В., 1896, 19, с. 124.
129 См.: Богатырев 11. Г., 1966, .№ 34, с. 116.
130. Для традиции сельского ряженья впервые это было отмечено В. Я. Проппом, который писал: «<...> можно видеть, что наряжаются лицами, не принадлежащими к кругу деревенской молодежи> (Пропп В. Я., 1963, № 249, с. 111).
131. См., напр.: Шустиков А., 1892, № 351, с. ИЗ
94
ГЛАВА ВТОРАЯ
Продолжая сказанное, можно отметить, что для русского носителя традиции к числу таких типов в равной мере принадлежали и татарин, и турок, и малоросс, и другие так называемые «этнические» персонажи, которые обычно не были даны в одной местной традиции одновременно, не дублировали друг друга, но появлялись избирательно, будучи всякий раз своеобразным конкретным выражением одной и той же идеи (их можно рассматривать, таким образом, как варианты, принадлежащие плану выражения).
Параллельное изучение разных локальных «списков» персонажей приводит к выводу о том, что для ряженья в любой его разновидности — будь то деревенская или городская (мещанская, купеческая) — чрезвычайно характерна и важна демонстрация некоторого числа противопоставлений: мужского —женского, своего-чужого, молодого —старого, социально высокого — социально низкого. Один из членов такого противопоставления бывает отмечен особо: он воплощается в определенных персонажах как оппозиция реально данному, исходному. Не случайно один из наиболее распространенных видов ряженья — это карнавальное по своей природе переодевание молодых стариками (и наоборот), женщин мужчинами (и наоборот).132 Не случайно в нем велик удельный вес таких персонажей, как нищие, странники, разбойники, бродяги-горбуны — всевозможные изгои и захожие чужаки, лишенные определенной пространственной закрепленности, а вследствие этого наделявшиеся, как известно, особыми ритуальными качествами, в том числе сверхъестественной силой (ср. сказку, например).
Таким образом, некоторая группа персонажей действительно оказывается обусловленной социально, но отнюдь не в строго бытовой определенности этого понятия: их социальный характер вызван тем, что принцип ритуально значимой оппозиции реализуется здесь в его социальном выражении (в социальной интерпретации своего —чужого, верха —низа и пр.) и конкретизируется с помощью социальной терминологии. Здесь опять приходится сталкиваться с осмыслением социальных различий мифологическим сознанием, а не с их непосредственным слепком с действительности.
Точно такие же закономерности можно обнаружить и в мире ряженых животными. Большинство «зооморфных» действующих лиц, как будто наделенных конкретными признаками определенного зоологического вида (голова-маска «лошади», рога и борода * В
132. О неприятии обычая травестированного ряженья в крестьянской среде, не захваченной влиянием города, сообщает И. К. Копаневич (<Крестьянин, даже самый юный, ни за что не согласится одеться в женский костюм» (Копаневич И. К., 1896, № 163, с. 12)) Это свидетельство стоит особняком, вызывая сомнение в его отношении к праздничным формам ряженья. Вообще же ритуальные формы травестизма вызывали резкое осуждение церкви (о запрете женщинам одеваться в мужские одежды и наоборот см.: Пятая книга Моисея. Второзаконие, 21, 5; Номоканон 1624 года).
В свое время А. С. Фаминцын видел в транслированных образах ряженья представление о божественном гермафродитизме, которое он объяснял влиянием религиозных воззрений семитских народов (Фаминцын А. С., 1895, М 327, с. 27). Современная этнология связывает их с ритуальным снятием семиотически значимых бинарных оппозиций (см.: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н., 1974, No 134, с. 187-188, 2G9; Иванов Вяч. Вс., 1977, № 131).
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
95
«козла», клюв «журавля», «гуся» или «курицы»), не отличается, однако, стремлением ряженого отразить соответствующее животное во всей его видовой неповторимости.133 Легко показать, что внутри таких групп, как 1) журавль, курица, гусь, петух; 2) лось, бык, корова; 3) собака, волк, лисица, медведь, даже в пределах одной локальной традиции средства изображения персонажей не разнообразятся, а — наоборот — унифицируются (не случайно, кстати, ряженый медведем облачается не в медвежью, а — подобно козе, лошади, журавлю и пр. — в ритуальную овечью шкуру). Условность же в изображении животного не может быть в данном случае отнесена исключительно за счет определенной художественной тенденции. Дело здесь не в условности жанра, а в том, что корова (бык), свинья, собака, коза, лошадь (конь), верблюд, медведь, лисица, гусь, журавль, баран, лось, лягушка, пчелы — весь этот «зоосад» ряженья — не являются (вопреки широко распространенному мнению) «выхваченными непосредственно из жизни».134 Они воспроизводятся отнюдь не как копии соответствующих животных с оглядкой на специфически видовые черты последних, но как мифологически окрашенная идея этих животных, то есть берутся они в данном случае в тех значениях, которые несут печать мифологии и имеют ритуальный смысл. По существу это всего лишь игровое воплощение их значения в мифологическом смысле, а мифологически многие из них служат содержательными эквивалентами друг друга.135 Именно поэтому в облике и поведении «равнозначных» персонажей ряженья можно отметить много сходного, поэтому и многие совершаемые ими действия оказываются совершенно неоправданными с реалистической точки зрения, которая всегда связана с подражательностью и ориентацией непосредственно на действительность, — в то время как они получают истолкование лишь в мифологическом контексте.136
Отмеченная особенность ряженья отчасти объясняет и отношение к некоторым персонажам в среде так называемых зрите-
133. Напомним, что во многих описаниях подчеркивается такая, например, деталь, как нарочито страшная маска «лошади»; интерес же игр ряженых в козла, медведя, гуся, журавля, быка и др. состоит не в подражании повадкам животного, а в том, чтобы «подолы поднимать девкам» (РА ЛГИТМиК, Кириши-71 (север), тетр. 1, с. 98), «девок ломать» (РА ЛГИТМиК, Кириши-71, тетр. 2, с. 66 — 67), «клевать девок по ногам» {Завойко К., 1917, N? 118, с. 26), «клубить их по полу» (РА ЛГИТМиК, Кириши-70 (север), тетр. 2, л. 25 об.), «бодаться на девок» (РА ЛГИТМиК, Кириши-71 (юг), тетр. 1, с. 153) и т. п.
134. Варнеке Б. В., 6/г., № 44, с. 5.
135. Подобные отношения тождества описаны в кн.: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н., 1974, № 134 (см., в частности, с. 78, где перечисляется ряд «персонифицированных» образов коровьей смерти, в том числе и ее зооморфные символы).
136. Вряд ли надо доказывать, что представление с ряженой козой, падающей замертво и затем воскресающей, действия быка, бодающего «зрителей» так, чтобы им «было не только больно, но и стыдно» {Максимов С. В., 1903, 202, с. 298), или гуся, клюющего «девок по голове (иногда пребольно)» (там же), не являются в своей основе подражательными движениями и не связаны с игровым воспроизведением характерных свойств названных животных в условной, шаржированной или гротескной манере.
96
ГЛАВА ВТОРАЯ
лей, в том числе чувство страха, часто перерастающее, по свидетельству С. В. Максимова, собственно «эстетические» рамки и даже имеющее для участников представления весьма серьезные последствия.137 Всё это лишний раз доказывает, что прагматика ряженья не может быть без остатка сведена к прагматике праздничного развлечения и удовольствия. Это подтверждается и фактами «строгого отношения к обычаю рядиться» со стороны стариков,138 и позволительностью всевозможных вольностей и шалостей в системе поведения ряженых, и обязательным крещенским купанием рядившихся, которое было распространено практически повсеместно.
В связи с нашим общим выводом остановимся подробнее на одном частном примере. Кузнец святочной игры ряженых, по существу, чрезвычайно далек от того «деревенского кузнеца», с которым как с бесспорным прототипом его сближает, например, Н. И. Савушкина. Последний не может считаться прямым прообразом святочного кузнеца, поскольку ряженый всего лишь до известного предела «подражает» реальному кузнецу в его профессиональных действиях и собственно профессиональным «портретом» не исчерпывается. За гранью внешних совпадений начинаются расхождения, глубинные и принципиальные, но именно они в посвященных ряженью исследованиях не учитываются. Достаточно вспомнить и «костюм» ряженого, в котором нет чего-либо профессионально-типичного (иногда это костюм, по выражению собирателя, «не скрывающий ничего из организма», поскольку с ряженым кузнецом связан мотив обрядового обнажения), и предметы, которые он кует (преимущественно венцы и кольца — эти атрибуты брака), и саму ковку, нередко направленную на превращение старых в молодых. Добавим, что омолаживание стариков, в данной игре связанное с кузнечной терминологией, иногда становится результатом перемалывания, го есть выступает как функция мельника.139 Таким образом, кузнец и мельник ряженья подчас сопоставимы даже с бблыпим основанием, чем ряженый и реальный кузнецы.
Из сказанного напрашивается вывод о том, что «профессиональная» специфика в изображении ряженых кузнеца и мельника подчиняется мифологической трактовке кузнечного и мельничного ремесел (в их отношении к браку, плодородию, акту творения) и, следовательно, сложным образом опосредована. В равной мере это может быть распространено и на другие персонажи, которые принято рассматривать в связи с отдельными «земными» профессиями (плотник, печник, пекарь и пр.).
Отмеченные свойства мира персонажей делают актуальным поиск такого ключа к ряженью, который открыл бы нам возможность неискаженного его толкования и позволил убедиться
137. См., напр., описание игры «В покойника*: «Один вид покойника производит на девушек удручающее впечатление: многие из них плачут и даже заболевают после этой игры* (Максимов С. В., 1903, 202, с. 301).
138. Там же, с. 328.
139. См., напр., рукопись: Абрамович В. Простонародный полисский календарь. РА ВГО, разр. 8, N? 6. О мифологии мельника и мельницы см. также: Gleisberg Н. Beitriige zu einer Volkskunde des Mullers und der Muhle//Deutsche Jahrbuch fur Volkskundc. 1955. Bd. 1. S. 157—168
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
97
в том, что «святочное ряженье — отнюдь не маскарад*,140 как бы это ни противоречило мнению многих собирателей о его «маскарадной* природе. В этом свете утрачивает значение традиционное вычленение отдельных персонажей из общего списка для последующего их отождествления с жизненными прототипами и заслуживает первостепенного внимания определение смысловых границ персонажа в его соотношении с другими персонажами. Это означает, что наряду с синтагматикой ряженья подлежит изучению и его парадигматика, что формальной законченности и внешней цельности каждого «героя* может быть противопоставлена его принципиальная пограничность с другими персонажами и его внутреннее с ними единство — при всей кажущейся отграниченности от них.
То, что ряженье не было ориентировано на действительность в ее непосредственных формах, и обеспечило ему достаточно высокий уровень устойчивости, стабильности. Предметом его изображения была вневременная «действительность* мифологических представлений, а не изменчивая и подвижная действительность быта и истории: став отражением последней, ряженье неизбежно превратилось бы в игру на отдельные местные или исторически актуальные темы, как это случилось с некоторой частью детского игрового репертуара. В свою очередь это привело бы к постоянному произвольному, то есть обусловленному только личными вкусами и пристрастиями рядящихся, обновлению мира персонажей. С таким нарушением границ этого мира, со свободой вторжения в него всего неклассифицируемого и единичного (стиляга, спекулянт, полоумная Варвара и т. п.) и было связано по существу наблюдаемое в ряде случаев разрушение традиции. Фиксация перечисленных персонажей носит случайный характер, их появление не дает регулярности и находится за пределами предсказуемого — в то время как традиционный мир персонажей ряженья дает явную повторяемость в записях, которые относятся к разным времени и месту.
Говоря о повторяемости, следует анализировать все случаи несовпадения отдельных традиций, а саму повторяемость понимать не только как возможность буквального наложения одной традиции на другую. Во многих случаях частные несовпадения традиций могут оказаться теми различиями, которые, во-первых, касаются не содержательных характеристик местных вариантов ряженья, а лишь их терминологии (под разными названиями могут скрываться функционально и семантически сводимые друг к другу персонажи) и которые, во-вторых, связаны с выражением одной и той же идеи разным, для каждой традиции своим, количеством персонажей (на месте улана одной традиции появляются два, в принципе тождественных ему, — улан и драгун).
Таким образом, проблема неполного совпадения традиций имеет два аспекта. С одной стороны, однообразная картина ряженья в описаниях как бы разнообразится за счет различных обозначений персонажей: купец, торгованец, продавец набойки, сбитенщик и пр. — всё это лишь разные местные варианты одного и того же персонажа, символизирующего определенную ри
140. Пропп В. Я., 1963, № 249, с. 110.
4 Лариса Ивлева
98
ГЛАВА ВТОРАЯ
туальную идею в терминах купли-продажи;141 солдат, матрос, гусар, генерал, вооруженный стражник, стрелок — разные местные «вариации» на одну тему, местные модификации единого в сущности образа, который иногда бывает расщеплен и представлен как иерархический ряд внутри одной традиции. Отметим здесь и такую особенность ряженья, как возможность удвоения и даже умножения в нем числа абсолютно однотипных персонажей: в одной группе могут оказаться несколько стариков («бабы одеваются стариками»),142 рыболовов («Рыболовы приходили. Нарядятся, закроются. Когда один, когда двое»143), цыга нок («Цыгане зайдут в избу нарядивши, говорят по-цыгански, просят чего»144), нищих («,,Нищие“ просят милостыню»145), несколько купцов'*6 косцов'*7 мастеровых («В горницу вошла целая ватага мастеровых...»148), кикимор («В избу <...> вбежали кикиморы и принялись завывать, хлестать и парить вениками во все стороны <...>»149 150), покойников («<...> в избу для посиделок врывается иногда целая артель покойников»156) и т. д.
С другой стороны, каждая традиция знает определенный набор персонажей, в большем или меньшем объеме воспроизводимый ею каждый раз:151 она имеет и собственный «список» персонажей, и определенные границы возможного отклонения от него в реальной практике ряженья, то есть создает свой максимум персонажей, а также законы и условия его редукции до известного минимума — в тех рамках, которые способны, вероятно, обеспечить реализацию всего комплекса актуальных значений ряженья и достижение основной его цели.152 * * *
Мир ряженых, представленный максимальным набором персонажей, обладает рядом избыточных возможностей: особенность его, как и специфика любой обрядовой семиотической системы, связана с принципом многократного дублирования и, соответственно, с синонимией отдельных явлений. Полный набор персонажей обладает определенным запасом возможностей ритуальномагического воздействия в нужном направлении. Сокращенный его вариант, в котором синонимия представлена не многочлен-
141. О значении «лавки со всяким ломом и хламом (для продажи)* см.: Бахтин М. М., 1965, № 22, с. 427.
142. Селиванов В. В., 1902, № 269, с. 129.
143. РА ЛГИТМиК, Кириши-71, тетр. 3, № 31.
144. РА ЛГИТМиК, Кириши-71, тетр. 3, № 20.
145. Неуступов А. Д., 1913, № 218, с. 24.
146. [Пр-ский И.], 1864, М 251, с. 511.
147. [Архангельский А. С.], 1854, № И, с. 37.
148. Фенютин А. А., 1866, Nb 330, с. 121.
149. [Пр-ский Н.], 1864, № 251, с. 509-510.
150. Максимов С. В., 1903, № 202, с. 302.
151. К сожалению, собирательских наблюдений такого рода мало, как и вообще повторных записей ряженья в одной местности. Поэтому особого внимания заслуживает сообщение Вл. Александрова, учитывающего некоторые колебания в пределах списка персонажей одного села (см.: [Александров Вл.], 1864, № 7).
152. Указанием на это может служить информация собирателей в работах:
[Пр-ский И.], 1864, № 251, с. 517; Завойко К., 1917, № 118, с. 23. На ла-
тышском материале эта тенденция отмечена в работе: [Вольтер Э. Л.], 1890,
№ 60, с 101 102 (в числе обязательных «масок» здесь называются медведь,
козел и журавль)
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 99 ными рядами, а минимально, хотя и лишен таких сверхгарантий, тем не менее должен выражать основное значение ряженья и обладать его действенностью. В этом и заключается, видимо, проблема традиции и импровизации применительно к ряженью. Вероятно, поэтому в традиционном ряженье новые персонажи не присоединяются, не примыкают к уже существующим, а исторически вытесняют их, наследуя, во-первых, связанную с ними идею, во-вторых, их место в системе.
Именно в свете намеченных здесь закономерностей трудно согласиться с мнением П. Г. Богатырева, который видел сущность ряженья собственно в радости переодевания, переоблачения, в обновлении, связанном с перевоплощением в другое лицо. Это представление выросло в свою очередь из устоявшегося суждения о том, что для участников игры не имеет значения, в кого рядиться, что рядятся они так, как и в кого хотят, а важен при этом лишь сам процесс переряживания. Ряженье представало при таком подходе к нему как полный произвол вкусов и нескончаемое состязание в области остроумных находок и изобретательности, оно понималось как проявление индивидуального творчества и рассматривалось в итоге как маскарад («Святочное переряживанье есть русский народный маскарад
Любопытно отметить, что подобный взгляд на ряженье — это своего рода проекция собирательских его оценок; он находит подкрепление в большом количестве свидетельств, принадлежащих разным информантам. Имеются в виду многочисленные данные в пользу того, что выбор роли был целиком предоставлен фантазии рядящегося и что импровизационное начало ряженья обнаруживается прежде всего именно в выборе роли: «Вечером лица обоего пола, от мала до велика, „машкарутца" <...> кто во что горазд»;153 154 «<...> молодые ребята наряжаются кому как пришлось»;155 «<...> рядятся обыкновенно кто как вздумает, кто на что горазд».156
Однако такого рода психологическая установка, многократно повторяемая как общее место почти всех описаний ряженья, заставляет нас серьезно сомневаться в достоверности соответствующих выводов, поскольку они плохо согласуются с конечным результатом ряженья. Мир персонажей, утверждаемый подобными свидетельствами как хаотичный и неканонический, на самом деле всегда оказывается традиционно очерченным, замкнутым и — более того — тождественным самому себе. Если даже учесть относительную ценность подобного взгляда на ряженье, связанную с отражением в нем точки зрения отдельного участника обрядовой игры или отдельного ее «зрителя», то в целом этот взгляд невозможно все-таки признать истинным. Дело в том, что он слишком явно противоречит закрытости ряженья для тех индивидуальных фантазий, которые не санкционированы коллективной традицией и не могут быть впитаны ею до тех пор,
153. Снегирев И., 1838, № 280, с. 30.
154. Макаренко Л., 1913, № 201, с. 47.
155. [Кораблев С. П.], 1851, № 165, с. 61.
156. Завойко К., 1917, № 118, с. 24.
100
ГЛАВА ВТОРАЯ
пока она поддерживается «мифологией» ряженья (имеется в виду система всевозможных мотивировок и суеверных предписаний, дополняющая сам обычай рядиться, а также былички, в которых отражены последствия нарушенных предписаний).
С точки зрения всего коллектива, который заботится о соблюдении традиций, а в воспроизведении их усматривает залог собственной устойчивости, такой подход нельзя считать оправданным. При этом существенно отметить, что помимо «списка» персонажей особую роль играет еще и принципиальная узнаваемость каждого из них (узнаваемость самого персонажа, а не исполнителя!). Следовательно, речь должна идти еще и об использовании в ряженье традиционных, привычных средств перевоплощения, о воспроизведении персонажа в рамках свойственного данной традиции игрового языка.
Всё вместе это и составляет ту основу, на фоне которой в ряженье на разных уровнях господствует принцип повторяемости: повторяются — с некоторыми вариациями — идея, сюжетная схема, персонажи, наконец, сами приемы воплощения последних.
Понятие мира персонажей объединяет, как можно заключить, несколько разных проблем и направлений исследования. С одной стороны, оно подразумевает необходимость выявить характерную для русской традиции в целом совокупность действующих лиц, каждое из которых имеет своим ближайшим контекстом определенный микросюжет; с другой — предполагает попытку идентифицировать с этой точки зрения отдельные местные традиции. Помимо этого с ним сопряжена еще и задача обнаружения некоторых закономерных взаимосвязей между персонажами внутри одной локальной традиции (это проблема «сценария» игрового действия, то есть аспект, который выходит уже за рамки связанной с перевоплощением проблематики).
По сравнению с микросюжетными связями, которые в ряженье можно иногда выявить и установить на уровне отдельных эпизодов и сценок (лошадь —цыган, коза —доктор, цыган—-цыганка, медведь — поводильшик и др.), наибольшее значение получают сверхсюжетные нити, которыми персонажи объединяются в довольно крупные единства особого рода. Игры ряженых имеют в основе сравнительно неразвитое действие и в большинстве случаев не требуют для своего разыгрывания ни специальных «актерских» данных, ни продолжительного отрезка времени. Более или менее четкие формальные границы между отдельными играми и сюжетно связанными группами персонажей не мешают им укрупняться особым образом в едином мозаичном «полотне» — почти без перерыва следовать друг за другом и в итоге создавать довольно пестрое «многоактное» представление, в котором отдельные сценки (фрагменты) и персонажи связаны уже не сюжетными, а семантическими отношениями. В совокупности они и могут рассматриваться как тот полный текст, в контексте которого обособленные сюжетные ядра оказываются семантическими эквивалентами друг друга.
Эту ситуацию во многом способно прояснить параллельное рассмотрение ряженья и ряда детских игр, которые можно назвать одноименными (это, к примеру, детские и взрослые «жених и невеста», «покойник», а также изображение различных животных
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
101
взрослыми и детьми). Они связаны не только с разной средой бытования, но и с принципиально разным отношением к одним и тем же игровым сюжетам, с разной трактовкой одинаковых, казалось бы, персонажей.1 Соответствующие игры детей в большинстве своем сосредоточивают основное внимание на бытовых подробностях в развитии сюжетной линии, за каждым персонажем имеют легко узнаваемый жизненный прототип; сами сюжеты их замыкаются в наблюдаемой эмпирической действительности (в том числе обрядовой),157 158 которая и служит их основной питательной средой. Игры ряженых, которые поначалу тоже «обманывают» нас видимостью такой связи, на самом деле обнаруживают сложную структуру опосредований: их поверхностный пласт может соотноситься с социальной жизнью, а глубинный при этом будет просвечивать ритуальной и мифологической значимостью социальных форм и отношений. Таким образом, подражательной природе многих детских игр, в основе которых — не столько «герой», сколько событие, можно противопоставить способ мифологической интерпретации социальных, этнических образов, животных персонажей, который при исследовании и выявляет ряженье, создающее в целом недискретный, пронизанный особенным единством мир персонажей. Это типологическое различие, на наш взгляд, и составляет существенный штрих в общей характеристике игрового перевоплощения на фольклорном материале.
157 Анализируя формальные совпадения между ряженьем и играми детского репертуара можно прийти к выводу о существенной разнице, например, в ин-терпретации ими Уразов животных Для ^>го достаточно сравнить, в частности, детские игры «быкалн» {Потанин Г.. 1899, № 243, с. 172), «в лошади» (РА РГО, разр. 15, on. 1, 27, л. 19-20) с соответствующими «животными» ря-
Же"Ь158. Дети играют, например, в похороны и « свадьбы, «имитируя отдельные моменты обрядности» {Виноградов Г. С. 1924, № 55, с. 73): это не знак обряда, но миниатюра обряда, в которой сохранены его отдельные структурные звенья в их естественной последовательности.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЗАМЕТКИ ПО ТИПОЛОГИИ ИГРОВОГО ДЕЙСТВИЯ
Театр создает представления <...> действ о ван нем, для которого нужны и слова, и декорации, и геометрические места актера.
В. Сахновский.
Игра и спектакль
Актер выражает свои переживания, во-первых, в своих движениях (тела и лица) — в характере этих движений и их смене во времени (т. е. в ритме движений), во-вторых, <...> в словах и звуках (интонациях) — в характере этих слов и звуков во времени (т. е. в их ритме).
Ф. Ф. Комиссаржевский.
Творчество актера и теория Станиславского
Проблема действия в игре имеет множество аспектов, каждый из которых может стать самостоятельным типологизирующим лучом. Акциональный план игры, который понимается нами как ее конституирующее, а не фонообразующее начало, представляет собой систему нескольких уровней и определяется, с одной стороны, пространственным размещением участников (фактор движения или рисунка), с другой — динамикой событийного ряда во времени (фактор словесно-диалогического развития). Изучение пространственно-временной структуры действия предполагает соответственно учет таких важных слагаемых, как кинетическая (пластическая) и словесная организация действия (с последней может быть связан, в свою очередь, интерес к диалогу «сценическому» или «сценарному» и диалогу собственно игровому). Большинство из названных здесь аспектов действия так или иначе преломляется в плоскости взаимоотношений «актера» и «зрителя» в игровом фольклоре и представляется существенным в связи с проблемой игры как зрелища.
В настоящем разделе мы, конечно же, не сможем полностью охватить обозначенный комплекс проблем и дать всеобъемлющую типологическую картину игрового действия. Имея возможность коснуться лишь отдельных звеньев этой системы, прежде всего остановимся на проблеме «актер и зритель», а также рассмотрим основные типы игровой композиции.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
103
1. Актер и зритель
Стоит больших усилий пробраться сквозь массу зрителей в избу, где беседа <...>. Девушки сидят на лавках вдоль окон, средина свободна для игр, а в углу под полатями до самой входной двери помещается публика.
К. Н. Соловьев.
Родное село. Быт. нравы, обычаи и поверья
Игра играется не для зрителя, но единственно для удовольствия принимающих в ней участие.
В. Н. Харузина. Примитивные формы драматического искусства
Вопрос о том, для кого перевоплощаются участники народно-драматических игр (проблема воспринимающей среды, зрителя), выявляет на материале русского фольклора целый ряд специфических оттенков. Если, например, в театре адресата действия «нужно иметь налицо», его «нельзя примысливать, предполагать, как это делается читателем в прозе»,1 2 то для народно-игровых явлений это утверждение определенно теряет силу сквозного и универсального правила. С точки зрения соотношения «актера» и «зрителя» в игровом действии фольклорный материал обнаруживает гораздо большее разнообразие и позволяет наметить несколько типов игр.
1. Во-первых, мы можем говорить об играх незрелищного типа. К их числу принадлежит довольно большой класс явлений (прежде всего из детского репертуара), для которых противопоставление актера и зрителя несущественно потому, что зрителя как такового здесь попросту нет. Подобной игрой зритель вообще не предполагается. Данный тип можно охарактеризовать соответственно как случай «чистой» игры, игры для себя, в которой идеально акт перевоплощения и весь игровой процесс происходят независимо от наблюдательской точки зрения: все участники в равной мере охвачены игровой действительностью, то есть мыслят себя в иллюзорной атмосфере среди воображаемых персонажей. Это игра ради самой игры, и никаких других — вне игры — целей она не имеет, хотя следствием, как бы вторичным эффектом ее и может стать расширение социального диапазона личности играющего, повышение (понижение) его самооценки и пр. (это показано в ряде современных исследований так называемых «ролевых» игр4*). К игровым явлениям этого типа неприложимы не только критерии качества (мастерства) перевоплощения, но и вообще какие бы то ни было оценки со стороны (например, по шкале: хорошо —плохо, интересно—неинтересно, нужно-ненужно и т. п.). Для них не имеет значения, ни кто как играет, ни, соответственно, кто кого играет: каждый может стать любым персонажем, а часто в пределах одного игрового сюжета и бывает поочередно каждым из них.
1. Владимиров С. В., 1972, 57, с. 116.
2. См., напр.*. Кон И. С., 1978, № 161; Он же, 1977, №? 162.
104
ГЛАВА ВТОРАЯ
Детская игра — это как бы игра в наглухо закрытом помещении, игра-договор между равными. Вторжение в нее со стороны (устранение «стены») всегда воспринимается как помеха, которая нарушает естественный ход игрового процесса тем, что вводит в условный мир игры реалии другого порядка и таким образом отменяет все ее правила. Появление не предусмотренного игрой зрителя способно лишь разрушить игру этого типа, самодостаточность которой во многом зависит от условий договора между участниками, от одинакового понимания ими «реалий» игрового мира.
II. Во-вторых, можно говорить об играх зрелищного типа, которые по-разному реализуют соотношение «актера» и «зрителя».
1. Среди них есть такие, для которых противопоставление актера и зрителя малоактуально в том смысле, что более или менее четкий водораздел между активными и пассивными участниками представления установить невозможно. Такая граница, не задаваемая однозначно, постоянно колеблется, мерцает, многократно передвигаясь, и, соответственно, у каждого, кто занят в игре, остается возможность внутриигрового перемещения из одного разряда участников в другой. Подобными свойствами характеризуются многие обрядовые игры, которые дают интересные примеры совмещения в игровом процессе двух различных типов поведения — игрового и неигрового.
Например, в известной святочной игре «Умрупом» вслед за «отпеванием» мнимого покойника предполагается поочередное прощание «зрителей» с ним. По правилам игры, по условиям ее «сценария» от собравшихся на святочную беседу девушек требуется целовать ряженого покойника. Однако нередко они сопротивлялись этому требованию, окрашивая условную ситуацию шутейных похорон излишне натуралистической эмоциональной краской. В результате игра осложнялась внсигровыми моментами, как бы переходя таким образом в свою противоположность (по аналогии вспомним хотя бы тонкую грань между ряженьем и оборотиичеством). Можно предположить, что «по койник» воспринимался при этом не как ряженый и даже не как настоящий покойник, но, видимо, он осознавался уже как реальность демонического мира и потому вызывал ненаигранное чувство страха у присутствующих.
Такого рода срывы из сферы игровой иллюзии в область реальности зафиксированы неоднократно и связаны с разными играми. Вот, например, эпизод ряжения в «черта»: «Некоторые женщины прятались от него (черта. — Л. И.) в угол, а другие крестились и говорили: „А что, бабоньки, как да этакой когда попадется в лесу?" — Ведь от этого, подхватил один молодец, пи крестом, ни пестом не отобьешься».3
Многочисленные этнографические описания позволяют говорить о неодинаковой активности отдельных действующих лиц ряженья, о различных ступенях перевоплощения, которых в разных случаях требует игра. Для многих участников такого представления перевоплощение не было обязательным: они вступали,
3. Фенютии Л. Л., 1866, № 330, с. 121.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
105
вернее, втягивались в действие, не создавая при этом никакого образа. В этой функции оказывались либо все присутствующие поочередно, либо лица определенного пола и возраста, которые посредством взаимодействия с другой группой играющих магически приобщались к каким-то значимым для них ценностям. Они недаром подвергались насильственным и грубым «выходкам» медведя, рыболова, пекаря, не зря вынуждены были испытывать стыд и страх в таких играх, как «гусь», «кобыла», «бык» (девушек то насильно «кормили» срамными частями быка, то — наоборот — «скармливали» чудовищу-коню; им задирали подолы и другими способами обыгрывали эротическую идею подобных представлений); они не случайно получали от «кузнеца» — кто «венчальные принадлежности», кто (силою чисто эротического жеста, обозначаемого термином кузнечного ремесла) утраченную молодость (в обмен на поцелуй, которым награждался «кузнец» в конце каждого игрового тура) и пр. Всё это было так или иначе обрядово направлено на получение какого-либо блага в будущем — должно было способствовать здоровью, браку, производственной удаче.
Такой стихийной включенности присутствующих в развитие игрового действия противопоставлено стабильное вхождение ряда играющих в роль — под маской животного, в личине антропоморфного существа. Последняя часть играющих, нарушая ряд нормативных установлений и запретов, приобретала вместе с тем определенные ритуальные возможности и входила в мир особой свободы.
В качестве примера остановимся на святочной игре «В кузнеца». Играющий в ней главную роль обнаруживает свою принадлежность к кузнечному ремеслу рядом бутафорских предметов и других знаков — атрибутов профессии (деревянный или настоящий молоток в руках, лавка в качестве наковальни, иногда — нагой человек в роли кузнечных мехов и пр.). На сюжетном уровне его роль конкретизируется также выкриками и отдельными «профессиональными» движениями — он перевоплощается в так называемого «кузнеца» и действует от его имени.4 Девушки же, которым он по очереди «изготавливает» кольца и венцы, произвольно выбираются им из числа присутствующих и принудительно вовлекаются в игру, не переключаясь в условный мир всемогущего кузнеца активно и всецело: они принадлежат все-таки к разряду зрителей.
Однако проблема зрителя для игр рассматриваемого типа этим еще не решается до конца: на наш взгляд, она является гораздо более сложной, чем это представляется, когда говорят лишь о пассивном и активном зрительском начале. В целом ряде случаев — на основании большого числа бытующих в народе верований — в плоскости данной проблемы должно также оказаться представление
4. Не забудем, что речь здесь идет о необычном кузнеце. Это по-своему также обозначено в игровом действии* «У кузнеца во время удара свалились портки, но он этого не замечает и <...> любуется продуктом своей работы <...>, поворачивая его в разные стороны и поворачиваясь вместе с ним сам, чтобы все видели его обнаженные прелести» (Максимов С. В., 1903, № 202, с. 302).
106
ГЛАВА ВТОРАЯ
о ряженых как о тех, кто вошел в соприкосновение с демоническим, нечистым миром, влияющим на этот мир. Сложность подобной задачи заключается только в том, чтобы свести, наконец, в одно целое ряженье и его отражение в поверье, быличке, в данных народной терминологии, чтобы придать соответствующее значение свидетельствам такого рода: «В народе ходит даже слух, что тот, кто изображает покойников, будет схвачен ими в лесу и утащен неведомо куда».5
Рассматривая подобные народные игры как своеобразное «соборное» действо, исследователи все-таки обнаруживают в нем, как правило, зрителя всех рангов — и активно, и пассивно действующего, и безмолвно остающегося в стороне в роли абсолютного наблюдателя. Отмечая зыбкость такого деления аудитории на несколько групп, они, однако, постоянно ищут «зрителя» лишь в среде потенциальных «актеров». Этот-то круг и требуется разомкнуть. Именно здесь, как нам кажется, в изучении проблемы необходимо сделать еще один существенный шаг — шаг за эту видимую (хотя и подвижную) черту, чтобы освободиться в результате от традиционных представлений о зрителе как о публике, то в большей, то в меньшей мере отгороженной от актера некоторым видимым образом. На фольклорном материале к решению данного вопроса следует подойти еще и со стороны тех мифологических представлений, которыми была порождена большая группа народно-игровых явлений.
Мы не однажды и по разным поводам убеждались в том огромном значении, которое для целого ряда игр фольклорной традиции имеет противопоставление человеческого и демонического, жизни по ту и по эту сторону грани, которые образуют в целом некоторый замкнутый круг. На основе этого противопоставления и должен быть сделан существенный, на наш взгляд, вывод: обращенные как бы через людей в окружающий их другой мир, многие игры, очевидно, предполагали еще и особого, невидимого, зрителя — зрителя воображаемого.6 Направленное воздействие на этот6* мир, который мог становиться то добрым, то злым, в игровой форме осуществлялось наиболее полномочными членами коллектива, что служило, вероятно, основной целью подобных представлений. Таким образом, понятие «зрителя» значительно раздвигает свои границы на нашем материале, выявляя непривычную для театроведа многослойность. И, пожалуй, главным зрителем оказывается в данном случае тот, союз с которым «актеру» приходится искупать затем в день Водосвятия.
Многоярусная структура «зрителя», которая вскрывается в фольклоре, оказывается связанной со многими характеристиками игры. В частности, она находит отражение в игровой композиции (зритель разного типа, как выясняется, по-разному входит в струк
5. Там же.
6. Здесь можно указать, кстати, на некоторую аналогию, которую дает история древнегреческого театра: во время Великих Дионисий статуя Диониса выносилась из храма и устанавливалась в театре, репрезентируя тем самым божественного зрителя драматических состязаний.
ба. Это слово в тексте диссертации исправлено автором от руки на слово «тот». (Примем. рсд.)
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
107
туру самого действия, то замыкая его на себе хотя бы временно, то6® высвобождая заключенную в нем действенность, то сравнительно безучастно наблюдая и оценивая его со стороны).
И степень условности игрового мира, которая избирательно задается различными средствами и способами игрового перевоплощения, конечно же, во многом зависит от того, есть ли в игре зритель и каков он по своей природе. Максимальная условность, отмечаемая нами для многих детских игр, вероятно, может быть объяснена отсутствием в них зрителя: здесь всех объединяет изначальная договоренность относительно общих правил игры, равно всеми разделяются и принимаются законы игрового мира, а значит — никого не надо убеждать в правомерности его законов, ни от кого не надо добиваться веры в эту «условную реальность». Это игра посвященных, и концентрация условности в значительной степени рассчитана здесь на изоляцию играющих, их замкнутость на самих себе.
В свою очередь и «потусторонний», невидимый зритель обрядовой игры оставляет некоторый след в целом ряде ее характеристик. Например, неузнаваемость ряженого, по поводу которой нам уже пришлось писать в предыдущем разделе, составляет здесь постоянный фон игрового действия. Но сама неузнаваемость эта полифункциональна и чрезвычайно далека от однозначности сугубо игрового приема. С одной стороны, действительно будучи инструментом игрового «вибрирования» между реальностью и условностью, механизмом общения актера и зрителя, она выступает кроме того и как знак мифологической реальности, в которой неузнаваемость есть прежде всего показатель «потусторонней» природы героя.
Подытоживая всё сказанное в данном параграфе, подчеркнем, что категория зрителя представляется нам весьма существенным, даже опорным, фактором игры в разработке общей ее типологии.
2. Композиция в типологии игрового действия
Общие принципы игровой композиции могут быть рассмотрены как во временнбм, так и в пространственном отношении. Для первого из этих аспектов существенными окажутся характеристики сюжетного и метасюжетного динамизма, в том числе роль зрителя в развитии игрового действия. Для второго особое значение имеет установление разных типов организации игрового действия в пространстве, среди которых наиболее распространенными являются круговое/ двухлинейное решение действия (с фиксированной границей) и пространственно свободный, произвольный его вариант, обусловленный то пространственными возможностями избы, где происходит представление, то открытой площадью улицы.
В композиционной структуре игры, как правило, находит отражение ее прагматический аспект. В этом отношении весьма *
бб. Частица «то» заменена автором на союз «и» (с ликвидацией предшествующей запятой) от руки. (Примеч. ред.)
7. О символике круга см.: Уварова И. II., 1974, 320, с. 159.
108
ГЛАВА ВТОРАЯ
показательной следует признать циклическую структуру ряда игр. Сама цикличность эта может иметь различные формы выражения, разные функции и проявляться на разных уровнях игрового действия. Во-первых, в пределах одного сюжета композиция игры может определяться «перебором» отдельных участников, с чем постоянно приходится сталкиваться в обрядовых действиях, когда один, другой, третий — все активизируются по ходу игры. Во-вторых, можно говорить о такого рода цикличности в развертывании сюжета, когда его многократное «прокручивание» сопровождается «перебором» различных ролей одним и тем же играющим.
Разница между двумя названными типами моделирования игрового сюжета состоит в том, что в первом случае есть некий стабильный круг играющих определенную роль, остальные же приобщаются к игре попеременно, в довольно случайной последовательности (пока один вовлекается в игровое действие, другие участвуют в нем лишь потенциально). При этом в большинстве случаев зрительская активность не добровольна, а навязана: во-первых, ряженые являются в дом, а зритель предоставляет им «поле» для представления; во-вторых, «актер» целым рядом движений и реплик понукает собравшуюся толпу к активности, и это служит одним из двигателей действия. «Покупатель является, выбирает одну девку, осматривает ее, как осматривает на ярмарке лошадь, и говорит, что он хотел бы купить ее. Дальше идет торговля, полная неприличных жестов и непристойных песен. Купленная „кобыла" целуется с покупателем и садится с ним. Затем с теми же жестами и песнями происходит переторжка (выделено мною. — Л. И.)» 8 «<...> клювом ряженый (журавлем. — Л. И.) бьет попеременно присутствующих на вечеринке девушек, а те, чтобы откупиться от назойливой птицы, бросают на землю орехи, конфеты, пряники, которые журавль и подбирает»;9 «Из среды собравшихся на вечеринку выбирают парня и девушку, которых ставят пред воображаемым аналоем как жениха и невесту <...>. Повенчанных <...> заставляют целоваться, и если девушка отказывается от этого, то ее бьют жгутами <...>. Игра продолжается до тех пор, пока все не переженятся».10 В итоге такого рода цикличность как бы разрывается и оборачивается по существу линейно-кумулятивным развитием игры, когда многократность действия дает эффект ритуальной действенности и обеспечивает всеобщую магическую причастность определенному внеигровому результату.
Во втором из названных нами случаев цикличности круг участников игры, как правило, не меняется (иногда он убывает, если неудачливые не допускаются к участию в новой игровой фазе), но в его пределах происходят неоднократные ролевые перемещения. При этом можно отметить, что сюжет и концовка игры в каждом из указанных случаев бывают связаны весьма своеобразно: финал одинаков для разных игр — иначе говоря, он не соотнесен с сюжетным действием ни психологически, ни событийно. С одной стороны, он может быть продиктован опре
8. Максимов С. В., 1903, М 202, с. 298.
9. Копаневич И. К., 1896, № 163, с. 13.
10. Там же, с. 15.
ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
109
деленными ритуальными, в том числе магическими, задачами игры. С другой, мы имеем дело с разрешением драматического сюжета в некий спортивный итог.
Заметим также, что цикличность первого типа может удваиваться (и т. д.) еще и за счет того, что игры ряженых неоднократно повторяются при переходе из дома в дом, из села в село, из одной «беседы» в другую: «<...> девки и парни рядятся, ходят по домам, пляшут, коверкаются <...>»;и «Придут, поскачут и уйдут дальше (о ряженых на святки. — Л. И.)*;'2 «Затем переряженная, неугомонная молодежь и девицы ходят не только по своему селению, но и по соседним деревням, чтобы и там показать свою удаль».11 12 13 Кроме того, цикличность как своеобразный микропринцип в организации игрового действия этого типа по-своему закладывает основы «сценарпости» ряженья в целом, в котором дублирование, как мы уже видели, пронизывает всё насквозь, играя весьма существенную роль. Однако сценарий в целом представляет собой все-таки результат противоположной тенденции, а именно* складывания подобных звеньев в единую мозаичную картину, их своеобразное совмещение в рамках более или менее протяженного представления. Говорить в данном случае о сценарии на основании разрозненных данных — очень нелегкая задача. Однако наиболее подробные описания ряженья не ограничиваются всё же общей номенклатурой персонажей, но выявляют также и наиболее типичные их комбинации: «<...> слоняются группами <...> по всему селу из конца в конец. Самую занимательную группу в каждые святки составляют лошадь с верховым седоком, медведь с вожаком и при нем деревянная коза»;1 «Они (конь, коза, журавль, медведь. — Л. И.) составляли занимательные ансамбли (выделено мною. — Л. И.), импровизировавшие комедийные сценки»15 и пр. Такие группы могли появляться одновременно, при этом словно разрывая на синхронные фрагменты сплошную линию действия и сегментируя соответственно игровое пространство; они могли сменять друг друга (уходили одни — появлялись другие), но в любом случае представление ряженых в целом оказывалось весьма сложной зрелищно-игровой партитурой.
Выделенным здесь типам игровой композиции, которые являются наиболее распространенными в дотеатрально-игровом фольклоре, противостоит закрытая композиция некоторых игр. В основном она характеризует детские представления импровизационной природы, которые отличаются определенной сосредоточенностью на сюжете как таковом.
Таким образом, прагматика игры (фабульная, спортивная, ритуально-магическая) как бы впечатывается в игровую структуру, и тем самым каждый из композиционных типов игры как нельзя лучше соответствует своему назначению.
11. РА ГМЭ, ф. 7, on 1, № 42, л 1 (рукопись И. Щеглова).
12. РА ЛГИТМиК (записано 7 янв. 1979 г. в д. Мотохово Киришского р-на Ленинградской обл. от Г К. Фсдюхиной Л Ивлевой).
13. [Архангельский А. С.1, 1854, № И, с. 37.
14. РА ВГО, разр. VI, он. 1, № 22, л. 24 (рукопись А. Бережкова)
15. Носова Г. А., 1972, № 225, с 72.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
*
Формально наше исследование подошло к концу. Если говорить по существу, то поставленная в нем задача рамками настоящей работы, конечно, не исчерпана. Во многом это связано с объемом самой задачи, которая видится нам как в ее теоретической плоскости, так и в аспекте практического ее решения на конкретном игровом материале.
В принципе, настоящая диссертация могла бы целиком свестись к постановке собственно теоретико-методологической проблемы и ее разработке в самом общем виде. Однако в обосновании театроведческой концепции фольклора, которая получила вид теории игрового языка, автору трудно было ограничиться самым общим решением данной проблемы и не показать хотя бы некоторые возможности той теории и того метода, которые предложены здесь. В итоге были сделаны первые шаги на пути изучения дотеатраль-но-игрового языка русского фольклора в типологических формах его множественности.
Именно конкретно-типологический опыт освоения материала, который получил обоснование в системном представлении об игре и осуществлялся на двух соотносимых между собой пучках признаков, остается пока незавершенным. С одной стороны, комплекс выделенных опорных признаков перевоплощения и действия пока рассмотрен нами не полностью; с другой стороны, каждый из рассмотренных признаков обнаруживает возможность дальнейшего многоступенчатого разветвления. Таким образом, ни по критерию «вширь*, ни тем более по критерию «вглубь* Глава Вторая диссертации пока не может считаться типологией народно-игровых явлений в точном смысле слова. В настоящем виде это всего лишь фрагментарный опыт типологического исследования, который выявляет вместе с тем определенные связи и соответствия между отдельными игровыми признаками. Такого рода корреляции неоднократно отмечались нами в процессе описания материала (связь возрастных показателей со структурными характеристиками игрового действия, с определенными способами перевоплощения и пр.). На данном этапе работы было бы, бесспорно, преждевременным «подсчитывать* типы или давать им какие-либо обобщенные обозначения (позитивный результат исследования вообще, наверное, не в этом!). Для нас важнее было убедиться в том, что отдельные признаки, хотя и взяты нами избирательно, не являются тем не менее случайными и внесистемными. На это, как нам кажется, позволяет надеяться полученный результат исследования. Л это дает, в свою очередь, основание рассчитывать на то, что намеченное здесь направление работы имеет перспективу расширения, углубления на пути становления такой науки, как этнотеатроведенис.
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авдеев А. Д- Маска и ее роль в возникновении театра //VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Т. 6. М.: Наука, 1969.
С. 80-86.
2. Авдеев А. Д. Маска: Опыт типологической классификации по этнографическим материалам И Сборник МАЭ. Т. XVII. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 232-344; Т. XIX. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 39-110.
3. Авдеев А. Д. Происхождение театра: Элементы театра в первобытнообщинном строе. М.; Л.: Искусство, 1959. 266 с.
4. Айхенвальд Ю. Отрицание театра//В спорах о театре. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1914. С. 9-38.
5. Акимова Т. М. Русская народная драма XVII —XX вв.//Русский фольклор: Материалы и исследования. Вып. II. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 341 —348.
6. Акимова Т. М., Советов М. П., Цыганова Н. М. Описание этнографических записей, хранящихся в Этнографическом музее Саратовского края И Саратовский этнографический сборник. Вып. 1 / Под ред. Б. М. Соколова. 1922. С. 251-276.
7. [Александров Вл.] Деревенское веселье в Вологодском уезде: Этнографические материалы Вл. Александрова И Современник. 1864. Т. СШ. № 7. Июль. С. 169-200.
8. [Анимелле И.] Быт белорусских крестьян И Этнографический сборник. Вып. 2. СПб., 1854. С. 111-268.
9. Арановская О. Р. О фольклорных истоках театра Древней Греции И Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 36-54.
10. Аристотель. Об искусстве поэзии. М.: ГИХЛ, 1951. 182 с. (Сер. «Памятники мировой эстетической и критической мысли»).
И. [Архангельский А. С.] Село Давшино Ярославской губернии Пошехонского уезда / Публикация свящ. А. Архангельского // Этнографический сборник. Вып. 2. СПб., 1854. С. 1-80.
12. [Архангельский А. С.) Театр до-Петровской Руси: Публичная лекция А. Архангельского. Казань: Типогр. губернского правления, 1884. 42 с.
13. Асеев Б. Н. История русского драматического театра XVII —XVIII веков: Автореф. дисс. <...>. М., 1955. 31 с.
14. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от истоков до конца XVIII века. М.: Искусство, 1958. 415 с.; 2-е изд. М.: Искусство, 1977. 576 с.
15. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. III. М.: К. Солдатенков, 1869. 840 с.
16. Балашов Д. М. Драма и обрядовое действо: К проблеме драматического рода в фольклоре И Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 7-19.
17. Баллод Ф. В. Мистические действа в древнем Египте. Саратов, 1924. 20 с. (Отд. отт.: Учен, зап. Саратовского ун-та. Т. 1, вып. 4).
18. Балов А. В. Очерки Поше-хонья. (Ч.] I, 2: Увеселения//ЭО. 1897. № 4. С. 57-76.
19. Бартенев В. На крайнем северо-западе Сибири: Очерки 06-дорского края. СПб.: Типо-литогр. М. Ф. Пайкина, 1896. 154 с.
20. Бартрам Н. От игрушки к детскому театру. Л.: Изд-во Северо-западного обл. отд-ния Главной конторы < Известий ЦИК
112
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СССР и ВЦИК», 1925. 103 с. (Сер. «Дети и театр» под общ. ред. Н. Шер).
21. Басилов В. Н. Ташмат-бола//Глазами этнографов. М.: Наука, 1982. С. 157-179.
22. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. 527 с.
23. Белецкий А. И. Старинный театр в России. [Ч. ] 1: Зачатки театра в народном быту и школьном обиходе Южной Руси — Украины. М.: Изд-во Т-ва «В. В. Думнов, наследник 6р. Салаевых», 1923. 103 с.
24. Бентли Э. Жизнь драмы. М.: Искусство, 1978. 368 с.
25. Бережков Д. Село Шель-бово Юрьевского у. в этнографическом отношении И Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива ИРГО. Вып. 1. Пг., 1914. С. 159-163.
26. Берков П. Н. Русская народная драма // Русская народная драма XVII-XX веков: Тексты пьес и описания представлений / Ред., вступ. статья и комм. П. Н. Беркова. М.: Искусство, 1953. С. 9-40.
27. Берковский И. Я. Станиславский и эстетика театра // Театральные страницы. М.: Искусство, 1969. С. 25-151.
28. Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX —начале XX в.: Этнографические очерки. Л.: Наука, 1983. 233 с.
29. Бернштам Т. А. Традиционный праздничный календарь в Поморье во второй половине XIX —начале XX в.//Этнографические исследования Северо-Запада СССР. Л.: Наука, 1977. С. 88-115.
30. Бескин Э. М. История театра: Лекции 1—3. [М.]: Учпедгиз ЗУП, 1932-1933. 50 с.
31. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. 544 с.
32. Богатырев П. Г. Знаки в театральном искусстве И Труды по знаковым системам. [Вып.] VII. Тарту, 1975. С. 7-36.
33. Богатырев П. Г. Какви са специфичнее художествени средства на народнита драма у славян-ските народи? И Славянска филология. Т. II. София: Изд-во на БАН, 1963. С. 278-279. (Мате-риали за V Международен конгрес на славистите).
34. Богатырев П. Г. Народный театр // Русское народное творчество. М.: Высшая школа, 1966. С. 97-118.
35. Богатырев П. Г. О взаимосвязи двух близких семиотических систем: Кукольный театр и театр живых актеров И Труды по знаковым системам. [Вып.] VI. Тарту, 1973. С. 306-329.
36. [Божсрянов И. Н.] Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и масленицу: Исторический очерк И. Н. Божеряно-ва. СПб.: Изд. Ледерле и К0, 1894. 125 с.
37. Болонсв Ф. ф. Масленица у семейских Забайкалья во второй половине XIX —начале XX века // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в XVII—начале XX в.: Сб. научных трудов / Под ред. М. М. Громыко и Н. А. Ми-ненко. Новосибирск: Наука, 1975. С. 143-158.
38. Болонев Ф. ф. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина XIX —начало XX в.). Новосибирск: Наука, 1978. 159 с.
39. Бони Томашевский М. Театр и обряд//Маски. 1912 — 1913. № 6. С. 1-20.
40. Брыжинский В. С. Театральные формы устного народного творчества мордвы: Автореф. дисс. <...>. М., 1983. 17 с.
41. Брыжинский В. С. Театральные элементы в мордовском празднике «Проводы весны* И Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 60-70.
42. [Булгаковский Д. Г.] Пинчуки: Этнографический сб.: Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверья и местный словарь: Собрал в Пинском уезде Минской губернии Д. Г. Булгаковский И Записки
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
113
ИРГО по отд. этнографии / Под ред. Ф. М. Истомина. Т. 13, вып. 3. СПб., 1890. С. 1—200.
43. Бурлакова М. И., Николаева Т. М., Сегал Д. М., Топоров В. Н. Структурная типология и славянское языкознание И Актуальные проблемы славяноведения: Материалы Первого координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 219 — 228. (Краткие сообщения ИСиБ АН СССР. Т. 33-34).
44. Варнеке Б. В. История русского театра. 2-е изд. СПб.: Изд. Н. Н. Сергиевского, б/г. 703 с.
45. В-в Н. Игры детей на острове Сахалине и в С.-Петербурге И ЖС. 1906. Вып. 1, отд. I. С. 13.
46. Белецкая II. Н. Аграрномагическая основа и драматизация в традиционных святочных игрищах Македонии // Реферати XIII Конгреса савеза фолклориста Jyro-QaaBHje у До]рану. CKonje, 1968. С. 108-111.
47. Белецкая II. II. О некоторых ритуальных явлениях языческой погребальной обрядности: (К анализу сообщения Ибн-Фадлана о похоронах <русса») // История, культура, фольклор и этнография славянских народов: VI Международный съезд славистов. М.: Наука, 1968. С. 192-212.
48. Белецкая И. Н. Рудименты язычества в похоронных играх карпатских горцев И Карпатский сборник. М.: Наука, 1976. С. 106 — 111.
49. Белецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука, 1978. 240 с.
50. [Веселовский Алексей]. Русский театр и причины его застоя И Беседа. 1872. Кн. 4. С. 278-298 (Под псевд. W.).
51. Веселовский Алексей. Старинный театр в Европе: Исторические очерки. М., 1870. 410 с.
52. Веселовский А. II. Поэтика. Т. 1: 1870-1899 //Собр. соч. А. Н. Веселовского. Сер. 1, т. 1. СПб.: Типогр. Имп. Академии наук, 1913. 622 с.
53. Веселовский А. Н. Святочные маски и скоморохи: (Разыскания в области русского духовного стиха. [Вып.] VII-X) И Сборник ОРЯС Имп. Академии наук Т. 32. СПб., 1883. С. 128-222.
54. Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики // ЖМНП. 1899. Март. С. 62-131.
55. Виноградов Г. С. Детский народный календарь: Из очерков детской этнографии И Сибирская живая старина. Вып. 2. Иркутск, 1924. С. 55-86.
56. Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования / Отв. ред. Н. И. Толстой. М.: Наука, 1982. 256 с.
57. Владимиров С. В. Действие в драме. Л.: Искусство, 1972. 159 с.
58. Волошин М. Театр и сновидение//Маски. 1912 — 1913. К? 5. С. 1-9.
59. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л.: Прибой, 1929. 188 с.
60. [Вольтер Э. Л.] Материалы для этнографии латышского племени Витебской губернии: Собрал и снабдил объяснениями Э. А. Вольтер//Записки ИРГО по отд. этнографии. Т. XV, выл. 1. СПб.: Типогр. Имп. Академии наук, 1890. 386 с.
61. Восточный театр: С6. статей / Под ред. А. М. Мерварта. Л.: Academia, 1929. 406 с.
62. ВсеволодскийТернгросс В. Н. История русского театра в 2-х томах / Предисл. и общ. ред. А. В. Луначарского. Т. 1. Л.; М.: Теакинопечать, 1929. 576 с.
63. ВсеволодскийТернгросс В. Н. Предисловие И Игры народов СССР: С6. материалов, составленный В. Н. Всеволодским-Гернгроссом, В. С. Ковалевой, Е. И. Степановой, с введ. В. Н. Всеволодского-Гернгросса. М.; Л.: Academia, 1933 С. XV-LXIII.
64. ВсеволодскийТернгросс В. Н. Русская устная народная драма. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 135 с.
114
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
65. Всеволодский-Гернгросс В. Н. Русский театр от истоков до середины XVIII века. М.: Искусство, 1977. 485 с. (История русского драматического театра в семи томах. Т. 1).
66. Вундт В. Фантазия как основа искусства / Под ред. проф. А. П. Нечаева. СПб.; М.: Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1914. 147 с.
67. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка//Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 62 — 76.
68. Выготский Л. С. Психология искусства / Общ. ред. Вяч. Иванова. Предисл. А. Н. Леонтьева. Комм. Л. С. Выготского, Вяч. Вс. Иванова. 2-е изд. М.: Искусство, 1968. 576 с.
69. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций: Из неопубликованных трудов. М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1960. 500 с.
70. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. М.; Л.: Госиздат, 1930. 232 с.
71. Гагеман К. Игры разных народов. Вып. I —III. Л.: Academia, 1923-1924. (Вып. I: Индия. 143 с.; Вып. II: Япония. 222 с.; Вып. III: Китай, Африка. 111 с.).
72. Гайдебуров П. П. Народный театр: Первые итоги. Пг.: Петроградский Союз Рабочего Потребительского о-ва, 1918. 103 с.
73. [Герасимов М. К.] Из преданий и поверий Череповецкого уезда Новгородской губернии: Сообщение М. К. Герасимова // ЭО. 1898. № 4. Смесь. С. 126—132.
74. Герасимов М. К. Некоторые обычаи и верования крестьян Череповецкого уезда Новгородской губернии // ЭО. 1895. № 4. С. 122-125.
75. Глаголь С. Театр народов Северного Кавказа. Пятигорск, 1936. 105 с.
76. Гозенпуд А. А. Музыкальный театр России: От истоков до Глинки: Очерки. Л.: Музгиз, 1959. 781 с.
77. Голлсрбах Э, Ф. Театр как зрелище // Театрально-декора
ционное искусство в СССР. Л., 1927. С. 17-54.
78. Гондатти Н. Следы язычества у инородцев северо-западной Сибири. М., 1888. 91 с.
79. Горбачева Е. Л., Кузнецо ва Л. А. Игровые аспекты искусства как способ обнаружения нового в процессе социального познания // Наука и общество: Тезисы. Вып. 2. Иркутск: ИГУ, 1983. С. 44—47.
80. Городцов П. А. Праздники и обряды крестьян Тюменского уезда // Ежегодник Тобольского iy6. музея, состоящего под Авг. его Имп. Величества покровительством. Вып. 26 (1915). Тобольск, 1916. С. 1-65.
81. Гоян Г Путь развития русского театра: О преподавании истории русского театра. М.; Л.: Искусство, 1939. 125 с.
82. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М.: Наука, 1979. 368 с.
83. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике. Вып. З/Сост., ред. и вступ. статьи В. А. Звегинцева. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 60-94.
84. Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII —первая половина XIX в.). Новосибирск: Наука, 1975. 351 с.
85. Грос К. Душевная жизнь детей: Избранные лекции / Пер. О. И. Нечаевой и А. Н. Соколовой. СПб., 1906. 303 с. (Педагогическая б-ка под ред. А. П. Нечаева. Вып. 4).
86. Грос К. Душевная жизнь ребенка: Избранные лекции. Киев: Изд. Киевского Фребелевского о-ва, 1916. 242 с.
87. Гроссе Э. Происхождение искусства / Пер. с нем. А. Е. Грузинский. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1889. 293 с.
88. Гуревич Л. Творчество актера: О природе художественных переживаний актера на сцене. М.: Изд-во Академии художественных наук, 1927. 64 с. (Труды Гос. Академии художеств. Театральная сек ция. Вып. 2).
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
115
89. Гусев В. Е. Истоки русского народного театра: Учебное пособие. Л.: ЛГИТМиК, 1977. 86 с.
90. Гу сев В. Е. От обряда к народному театру: Эволюция святочных игр в покойника И Фольклор и этнография / Отв. ред. Б. Н. Путилов. Л.: Наука, 1974. С. 49-59.
91. Гусев В. Е. Предисловие// Театр: Научный реферативный сб. Вып. 1: Традиции русского фольклорного театра в отечественных и зарубежных исследованиях 70-х — начала 80-х годов. М., 1983.
С. 3-9.
92. Гусев В. Е. Русский фольклорный театр XVIII—начала XX вв.: Учеб, пособие. Л.: ЛГИТМиК, 1980. 93 с.
93. Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л.: Наука, 1967. 318 с.
94. Гухман М. М. Лингвистические универсалии и типологические исследования И Универсалии и типологические исследования: Мещаниновские чтения / Отв. ред. В. Н. Ярцева. М.: Наука, 1974. С. 29-53.
95. Гухман М. М. Типологические исследования И Теоретические проблемы советского языкознания / Отв. ред. Ф. П. Филин. М.: Наука, 1968. С. 71-90.
96. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. (Т. 1. 699 с.; Т. 2. 780 с.; Т. 3. 556 с.; Т. 4. 699 с.).
97. Данилов С. С. История русского драматического театра: Очерки. Молотов, 1944. 612 с. (На правах рукописи).
98. [Данилов С. С.] О театре: Сб. статей / Под общ. ред. С. С. Данилова и С. С. Мокуль-ского. Л.; М.: Искусство, 1940. 216 с.
99. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л.: Искусство, 1948. 588 с.
100. Дёмётёр Т. Праздничная обрядность в народном календаре и фольклоре И VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Москва,
3—10 авг. 1964 г. Т. 6. М.: Наука, 1969. С. 273-276.
101. [Ди ликторский Пр.] Святочные шалости в Пельшемской волости, Кадниковского уезда, Вологодской губернии Пр. Дилактор-ского // ЭО. 1898. № 4. Смесь. С. 133-135.
102. Добринская Е. И. Соотношение искусства и игры как эстетическая проблема: Автореф. дис. <...>. Л., 1975. 22 с.
103. [Добровольский В. H.f сост. ] Смоленский этнографический сборник. Ч. IV. М., 1903. XVI, 720 с.
104. Довнар-Запольский М. В. Белоруссы: Этнографический очерк И Довнар-Запольский И. В. Исследования и статьи. Т. 1. Киев, 1906. С. 257-316.
105. Довнар-Запольский М. В. Крестьянские игры в Минской губ. //ЖС. 1891. Вып. 4, отд. V. С. 203-208.
106. Евреинов Н. Н. Азазел и Дионис: О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов/Предисл. Б. М. Кауфмана. Л.: Academia, 1924. 204 с.
107. Евреинов Н. Н. Первобытная драма германцев: О роли козла в праистории германо-скандинавских народов. Пб.: Изд. «Полярной звезды», 1922. 31 с.
108. Евреинов Н. Н. Происхождение драмы: Первобытная трагедия и роль козла в истории ее возникновения: Фольклористиче-
ский очерк. Пб.: Петрополис, 1921. 58 с.
109. Евреинов И. Н. Театр как таковой: Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства и жизни. СПб.: Изд-во Н. И. Бутков-ской, [1912]. 120 с.
110. Едемский М. Вечерова-нье, песни и городки (хороводы) в Кокшеньге Тотемского уезда // ЖС. 1905. Вып. 3-4. С. 459-512.
111. Едемский М. Кулойско-Мезеиский край: (Этнологические наблюдения в 1927 г.)//Известия ИРГО / Отв. ред. акад. В. Л. Комаров. Т. 61. Л.: Госиздат, 1929. С. 81-118.
112. Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в по
116
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
словицах, поговорках и приметах. Т. 1: Всенародный месяцеслов. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1901. IX, 620 с.
ИЗ. Ефименко П. С, Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии // Известия ИОЛЕАиЭ. Т. XXX. М., 1877. С. 1—221. (Труды этнографического отдела. Кн. 5, вып. 1).
114. Жуве Л. Мысли о театре. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 298 с.
115. [Забелин И.] История русской жизни с древнейших времен: Сочинение И. Забелина. Ч. 2. М., 1879. 520 с.
116. [Забылин М.] Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия: Собраны М. Забылиным: В 4 ч. М.: Изд. книгопродавца М. Березина, 1880. 607 с.
117. Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии//ЭО. 1914. № 3-4. С. 81-178.
118. Завойко К. В Костромских лесах по Ветлуге-реке: (Этнографические материалы, записанные в Костромской губ. в 1914 — 1916 гг.)//Этнографический сборник. Вып. VIII (I). Кострома, 1917. С. 3-40. (Труды Костромского научного о-ва по изучению местного края).
119. -
120. Завойко Г. К. Колыбельные и детские песни и детские игры у крестьян Владимирской губернии//ЭО. 1915. X? 1—2. Отд. VII. Смесь. С. 119-133.
121. Звегинцев В. А. Современные направления в типологическом изучении языков И Новое в лингвистике. Вып. 3. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 9-18.
122. Зеленин Д. К. Загадочные водяные демоны «щуликуны» у русских // Lud Slowiafiski. Т. 1, z. 2. Krak6w, 1930. Dzial В. S. 220 — 238.
123. Зеленин Д. К. Истолкование пережиточных религиозных обрядов//СЭ. 1934. № 5. С. 3-16.
124. Зеленин Д. К. Общественные игры военного характера у чехов И Второй Всесоюзный географический съезд (25 — 31 янв. 1947 г.): Тезисы докладов на секции этнографии и антропологии. М.; Л., 1947. С. 21-22.
125. Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива ИРГО. Вып. 1. Пг., 1914. 483 с.; Вып. 2. Пг., 1915. С. 485-988; Вып. 3. Пг., 1916. С. 989 — 1279.
126. Иваницкий Н. Заметки о народных верованиях в Вологодской губернии//ЭО. 1891. № 3. С. 226-228.
127. Иваницкий Н. Материалы по этнографии Вологодской губернии И Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. 2. М., 1890. С. 1 — 234. (Известия ИОЛЕАиЭ при Московском ун-те. Т. 69).
128. Иваницкий Н. Сольвыче-годский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // ЖС. 1898. Вып. 1, отд. I. С. 3-74.
129. Иванов Вяч. Вс. Из заметок о строении и функциях карнавального образа И Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск: Изд-во Мордовского гос. ун-та, 1973. С. 37-53.
130. Иванов Вяч. Вс. К анализу абхазских народных игр И Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов. М., 1962. С. 86.
131. Иванов Вяч. Вс. К семиотической теории карнавала как инверсии двоичных противопоставлений И Труды по знаковым системам. Вып. VIII. Тарту, 1977. С. 45-57.
132. Иванов Вяч. Вс. Пространственные структуры раннего театра и асимметрия сценического пространства//Театральное пространство: Материалы научной конференции Ц978 г.]. М.: Сов. художник, 1979. С. 5-34.
133. Иванов Вяч. Вс. Типология и сравнительно-историческое языкознание // Вопросы языкознания. 1958. № 5. С. 34-42.
134. Иванов Вяч. Вс., Топо ров В. И. Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
117
реконструкции текстов. М.: Наука, 1974. 341 с.
135. Иванов Вяч. И. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. 303 с.
136. [Иванов П. В.] Игры крестьянских детей в Купянском уезде / Собрал П. В. Иванов. С предисл. Н. Ф. Сумцова. Харьков, 1889. 78 с.
137. Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях И Сборник Харьковского историко-филологического о-ва. Т. 3. Харьков: Типогр. К. П. Счасни, 1891. С. 156-228.
138. Ивановский В. И. Святочные обычаи «ряженье» и «гаданье» в Ващажниковской волости, Ростовского уезда, Ярославской iy-бернии. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1902. 25 с.
139. Ивлева Л. М. Обряд. Игра. Театр: К проблеме типологии игровых явлений И Народный театр/Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 20-35.
140. Игрушка: Ее история и значение. М.: Типогр. Т-ва И. А. Сытина, 1912. 245 с.
141. Игры детей в С.-Петербурге//ЖС. 1906. Вып. 3, отд. V. С. 53-59.
142. Игры народов СССР: Сб. материалов, составленный В. Н. Всеволодским-Гернгроссом, В. С. Ковалевой, Е. И. Степановой, с введ. В. Н. Всеволодского-Гсрнгросса. М.; Л.: Academia, 1933. LXIII, 563 с.
143. Исупов К. Проблема «игра и искусство» в связи с при-швинской теорией «творческого поведения» И Материалы XXVI Научной студенческой конференции. Тарту, 1971. С. 47-49.
144 К. Народные игры и пляски как переживания первобытного полового подбора // Знание: Ежемесячный научный и критикобиблиографический ж-л. 1876. Хе 12, дек. С. 19-43.
145. Кагаров Е. Г. Заметки по русской мифологии И Известия ОРЯС Академии наук. Т. 23, кн. 1. Пг., 1918. С. 114-124.
146. Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М.: Книгоизд-во «Практические знания», 1918.
73 с. (Культурно-бытовые очерки по мировой истории под ред. В. К. Никольского и А. А. Сидо-рова.^ Сер. А. Русская история.
147. Казанский Б. В. Метод театра: Анализ системы Н. Н. Ев-реинова. Л.: Academia, 1925. 172 с.
148. Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост., вступ. статья и примеч. ф. ф. Болонева, М. Н. Мельникова. Новосибирск: Наука, 1981. 351 с.
149. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Весенние праздники / Отв. ред. С. А. Токарев. М.: Наука, 1977. 358 с.
150. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Зимние праздники. М.: Наука, 1973. 351 с.
151. Каллаш В. Материалы для истории народного театра // ЭО. 1898. X? 4. С. 47-58.
152. Каллаш В. В. Страничка из истории русского народного театра//Русская мысль. Кн. 2. М.: Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушне-рев и К°, 1903. С. 99-115.
153. Капица О. Детский фольклор: Песни, потешки, дразнилки, сказки, игры: Изучение. Собирание. Обзор материалов. Л.: Прибой, 1928. 222 с.
154. Каптерев П. О детских играх и развлечениях И Энциклопедия семейного воспитания и обучения. Вып. 4. СПб., 1898. С. 1 — 57.
155. Каруновская Л. Несколько песен Костромской 1убернии И Музыкальная этнография:’ Сб. статей / Под ред. Н. Ф. Финдейзена. Л.: Изд-во Комиссии по изучению народной музыки при этнографическом отделе РГО, 1926. С. 12 — 29.
156. Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема / Отв. ред. А. А. Аникст. М.: Наука, 1971 224 с.
157. Кедрина Р. Е. Обряд «крещения» и «похорон кукушки» в связи с народным кумовством И ЭО 1912. X? 1-2. С. 101-139. (Отд. изд.: М., 1912. 39 с.).
158. Клейнер И. У истоков драматургии: Опыт обоснования
118
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
метода исследования драматургических произведений. Л.: Academia, 1924. 126 с.
159. Колоцца Д. А. Детские игры: Их психологическое и педагогическое значение / Пер. с итал. М.: Московское книгоизд-во, 1909. XVIII, 266 с. (Душевная жизнь детей. Б-ка педагогической психологии / Под ред. Н. Д. Виноградова и А. А. Громбаха).
160. Комиссаржевский Ф. Ф. Творчество актера и теория Станиславского. Пг.: Изд-кое т-во * Свободное искусство», б/г. 120 с. («Свободное искусство». Б-ка иллюстрированных монографий. Вып. 5).
161. Кон И. С. Открытие «Я». М.: Политиздат, 1978. 367 с.
162. Кон И. С. Проблема детства в современной американской этнопсихологии: Об исследованиях Б. и Д. Уайтинг //СЭ. 1977. № 5. С. 148-157.
163. Копаневич И. К. Рождественские святки и сопровождающие их народные игры и развлечения в Псковской губернии. Псков, 1896. 93 с.
164. Кораблев С. П. Очерк нравоописательной этнографии г. Онеги Архангельской губернии с собранием онежских песен и реестром слов, отличающих тамошнее наречие. М., 1853. 49 с.
165. [Кораблев С. П. ] Этнографический и географический очерк гор. Каргополя Олонецкой 1убернии, с словарем особенностей тамошнего наречия, составленный и изданный С. П. Кораблевым. М., 1851. 79 с.
166. [Коропчевский Д. А.] Волшебное значение маски И Современная наука. Вып. 2 — 3: Очерки Д. А. Коропчевского. СПб., 1892. С. 17-35.
167. Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях // Современник. Т. 83. 1860. С. 67-102.
168. Красноженова М. В. Из народных обычаев крестьян деревни Покровки И Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела ИРГО. Т. 2, вып. 6. Красноярск, 1914. С. 67—116.
169. Крупянская В. Ю. Народная драма «Лодка»: Генезис и литературная история И Славянский фольклор / Отв. ред. Б. Н. Путилов и В. К. Соколова. М.: Наука, 1972. С. 258-302.
170. Крупянская В. Ю. Народный театр // Русское народное поэтическое творчество / Под общ. ред. П. Г. Богатырева. М.: Учпедгиз, 1954. С. 382-391.
171. Крыжицкий Г. Экзотический театр. Л.: Academia, 1927. 78 с.
172. Кудрявцев В. Ф. Детские игры и песенки Нижегородской губернии // Нижегородский сборник. Т. IV. Н.-Новгород: Изд-во Нижегородского губ. статистического комитета, 1871. С. 169-238.
173. Кудрявцев В. ф. Зимние народные увеселения в гор. Василе: Этнографические материалы И Нижегородский сборник / Под ред. А. С. Гациского. Т. 3. 1870. С. 107-124.
174. Кузнецова С. С. Историография вопроса о происхождении ваянг-кулит и о первоначальном значении его пьес//Литература и время: Сб. статей. М.: Наука, 1973. С. 60-71.
175. Кулаковская Н. Н., Кулаковский Л. В. С маской, бубном и гудком^: Как возник и развивался народный театр. М.: Советский композитор, 1983. 84 с.
176. Кулаковский Л. В. Искусство села Дорожева: У истоков народного театра и музыки. 2-е изд. М.: Музыка, 1965. 154 с.
177. Кулаковский Л. В. Кострома — брянский хороводный спектакль //СЭ. 1946. № 1. С. ЮЗ-186.
178. Кулаковский Л. В. У истоков русского народного театра: Заметки фольклориста//Театр 1953. № 8. С. 164-167.
179. Курчанский М. Рождественские святки // Вера и жизнь. № 24. Чернигов, 1913. С. 30-37.
180. Ланг Ф. Рассуждения о сценической игре И Старинный спектакль в России: Сб. статей. Л.: Academia, 1928. С. 132- 183. (Гос. ин-т истории искусств. Русский театр. Вып. П).
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
119
181. Лапшин И. О перевоплощаемости в художественном творчестве // Лапшин И. Художественное творчество. Пг.: Мысль, 1922. С. 5-140.
182. Лапшин И. Философия изобретения и изобретение в философии. Т. 1. [Пг.]: Паука и школа, 1922. 194 с.
183. Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 2: Богослужебные и сценические древности. СПб., 1889. 328 с.
184. Леви Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении / Пер. Б. Шаревской. С пре-дисл. В. Никольского. М.: Гос. антирелигиозное изд-во, 1937. XXII, 517 с.
185. Левинтон Г. А. К проблеме изучения повествовательного фольклора И Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В. Я. Проппа. М.: Наука, 1975. С. 303-319.
186. Лекомцева М. И. К типологическому соотношению фонологических систем языков Балканского п-ва и Средиземноморья. М., 1974. 14 с. (Ill Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы, 4 — 10 сент. 1974 г., Бухарест).
187. Лекомцева М. И. Типология структур слога в славянских языках. М.: Наука, 1968. 224 с.
188. [Лиль-Адам В. В. де]. Деревня Княжая Гора и ее окрестности: Этнографический очерк В. В. де Лиль-Адама И Записки ИРГО по отд. этнографии. Т. IV / Под ред. А. И. Савельева. СПб., 1871. С. 235-366.
189. Лисициан С. Армянские старинные пляски. Ереван: Изд-во АН Арм.ССР, 1983. 245 с.
190. Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа: Автореф. дисс. <...>. Ереван, 1956. 46 с.
191. Лисициан С, Старинные пляски и театральные представления армянского народа. Т. 1. Ереван: Изд-во АН Арм.ССР, 1958. XVI, 613 с.; Т. 2. Ереван: Изд-во АН Арм.ССР, 1972. IX, 501 с.
192. Лисициан С. Танцевальный и театральный фольклор армянского народа: [Доклад на VII
Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, авг. 1964 г., Москва]. М.: Наука, 1964. 9 с.
193. Логиновский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Записки О-ва изучения Амурского края Владивостокского отд-ния Приамурского отд. ИРГО. Вып. 1, т. 9. Владивосток: Ти-погр. Н. В. Ремезова, 1904. С. 1-135.
194. Лотман Ю. М. Замечания по программе занятий // Тезисы докладов во Второй Летней школе по вторичным моделирующим системам, 16 — 22 авг. 1966 г. Тарту, 1966. С. 4.
195. Лотман Ю. М. О построении типологии культуры И Тезисы докладов во Второй Летней школе по вторичным моделирующим системам, 16 — 22 авг. 1966 г. Тарту, 1966. С. 82 — 83.
196. Лотман Ю. М. О редукции и развертывании знаковых систем: К проблеме «Фрейдизм и семиотическая культурология» И Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Вып. 1 (5). Тарту, 1974. С. 100-108.
197. Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры: (Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1). Тарту, 1970. 72 с.
198. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
199. Луначарский А. В. Социализм и искусство // Театр: Книга о новом театре: Сб. статей. СПб., 1908. С. 7-40.
200. МагизиновиЬ М. Историja игре. Београд: Просвета, 1951. 202 с.
201. Макаренко А. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении: Восточная Сибирь. Енисейская губ. // Записки ИРГО по отд. этнографии. Т. 36. СПб., 1913. VII, 293 с.
202. Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. 526 с. (Этнографическое бюро кн. Тенишева).
203. Маляревскгш П. Г. Очерк по истории театральной культуры
120
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Сибири. Иркутск: Кн. изд-во, 1957. 283 с.
204. Мандельштам О. О природе слова И Мандельштам О. О поэзии: Сб. статей. Л.: Academia, 1928. С. 26 — 46.
205. [Машкин]. Быт крестьян Курской губернии, Обоянского уезда г-на Машкина И Этнографический сборник ИРГО. Вып. 5. СПб., 1862. С. 1-119.
206. Мелетинский Е. М. К вопросу о применении структурносемиотического метода в фольклористике // Семиотика и художественное творчество. М.: Наука, 1977. С. 152-170.
207. [Мелков А. Л. ] Некоторые детские игры в Курской губернии: Запись А. Л. Мелкова//ЭО. 1914. № 3-4. С. 181-184.
208. Мерварт А. М. Индийский народный театр // Восточный театр: Сб. статей А. М. Мерварта, Л. А. Мерварт, Б. А. Васильева
и Н. И. Конрада / Под ред. А. М. Мерварта. Л.: Academia,
1929. С. 16-111.
209. Минх А. Н. Народные
обычаи, обряды, суеверия и пред-
рассудки Саратовской губ., собранные в 1861 — 1888 гг. // Записки ИРГО по отд. этнографии. Т. 19, вып. 2. СПб., 1889-1890. 152 с.
210. Можаровский А. Ф-Игры крестьянских детей И ЖС. 1899. Вып. 3, отд. II. С. 437 — 442.
211. Можаровский А. Ф. Очерки жизни крестьянских детей Казанской губернии в их потехах, остротах, стишках и песнях И Труды этнографического отд. ИОЛЕАиЭ при Московском ун-те. Кн. 4. М., 1877. С. 102-139.
212. Моров А. Г. Три века русской сцены. Кн. 1: От истоков до Великого Октября. М.: Просвещение, 1978. 319 с.
213. Морозов П. О. Народная драма И История русского театра. Т. 1 / Под ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса, при ближайшем участии А. А. Бахрушина и Н. А. Попова. Художеств, частью заведует К. А. Коровин. М.: Кни-гоизд-во «Объединение», 1914. С. 1-24.
214. Морозов П. О. Очерки по истории русской драмы XVII — XVIII столетий И ЖМНП. 1888. Янв. С. 145—162. (Отд. изд.: СПб., 1888. 17 с.).
215. Набиль А. Влияние народной традиции на становление и развитие комедийного театра Египта: Автореф. дисс. <...>. М., 1981. 22 с.
216. Народный театр/Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. 184 с.
217. Неклюдов С. Ю. О кривом оборотне: К исследованию мифологической семантики фольклорного мотива И Проблемы славянской этнографии. Л.: Наука, 1979. С. 133-141.
218. Неуступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде//Известия Архангельского о-ва изучения Русского Севера: Ж-л жизни Северного края. 1913. No 1. С. 23-26.
219. Нефедов Ф. Д. Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее притокам: а) от Рыбинска до посада Пучежа, б) от посада Пучежа до Казани, в) Заволжье // Труды этнографического отд. ИОЛЕАиЭ при Московском ун-те. Кн. 4. М., 1877. С. 40-69.
220. Нечаев И. Игры и песенки деревенских ребят Лаишевского уезда Казанской губернии И ЖС. 1891. Вып. 4, отд. V. С. 214 — 226.
221. Никифоров А. И. Народная детская сказка драматического жанра // Сказочная комиссия в 1927 г.: Обзор работ / Под ред. С. Ф. Ольденбурга. Л.: Изд-во РГО, 1928. С. 49-63.
222. [Никифоровский Н. Я.] Очерки Витебской Белоруссии. [Ч.] VI: Игры и игроки Н. Я. Никифоровского//ЭО. 1897. N> 2. С. 21-66.
223. [Никифоровский Н. Я.] Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах: Собрал в Витебской Белоруссии Н. Я. Никифоровский. Витебск: Губернская типо-литогр., 1897. 305 и 25 с.
224. Новиков /1. Несколько заметок о сибирской масленице И Си
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
121
бирская живая старина: Этнографический сб. Вып. 8 — 9. Иркутск, 1929. С. 175-178.
225. Носова Г. А. Пережитки обрядов и верований в традиционном фольклоре И Традиционный фольклор Владимирской деревни. М.: Наука, 1972. С. 69-82.
226. Нурджанов Н. X. Театральные маски Памира // Искусство таджикского народа. Душанбе, 1979. С. 149 — 162. (Ин-т истории АН Тадж.ССР. Вып. 4).
227. Овсянико-Куликовский Д, П, Лингвистическая теория происхождения искусства и эволюция поэзии И Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1. 2-е изд. Харьков, 1911. С. 20-33.
228. Огибенин Б. Л. Маска в свете функционального подхода И Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. С. 56-65.
229. Ончуков Н. Е. Северные народные драмы. СПб., 1911. XVI, 141 с.
230. Оссовецкий И. А. Словарь д. Деулино Рязанского р-на Рязанской области // Вопросы диалектологии восточнославянских языков / Отв. ред. Р. И. Аванесов. М.: Наука, 1964. С. 176-206.
231. Пейзсн Г. Этнографические очерки Минусинского и Канского округов Енисейской губ.: Из путевого журнала, 1857 г.//ЖС. 1903. Вып. 3, отд. II. С. 297 — 357.
232. {Первушин П. Ф. ] Песни, святочные гадания, поговорки и суеверия, собранные в Катайской волости Камышловского уезда Пермской губернии П. Ф. Первушиным И Записки Уральского о-ва любителей естествознания. Т. 15, вып. 1. Екатеринбург, 1895. С. 74-87.
233. Песни и сказки Ярославской области / Под общ. ред. Э. В. Померанцевой. Ярославль: Кн. изд-во, 1958. 360 с.
234. Петров В. Т. Элементы драмы в якутском фольклоре И Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 55-59.
235. Петров К. И., Репников Т. Е. Детские игры//ЖС. 1890.
Вып. 1, отд. IV (смесь). С. 1 — 10.
236. Пиотровский А. И. Празднество в РСФСР И Зеленая птичка. № 1. Пб.: Петрополис, 1922. С. 35-41.
237. Пиотровский А. И. Театр Аристофана И Аристофан, Театр: «Облака». «Осы». «Птицы» / Пер., введ. и комм. А. И. Пиотровского. М.; Л.: ГИЗ, 1927. С. 3-30.
238. Плеханов Г. В. Письма без адреса // Плеханов Г. В. Литература и эстетика. Т. 1: Теория искусства и история эстетической мысли. М.: ГИХЛ, 1958. С. 3 — 75.
239. Познанский Н. Ф. Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. Пг.: Типогр. А. В. Орлова, 1917. 327 с. (Записки историко-филологического ф-та Петроградского ун-та. Ч. 136).
240. Поляков М. Я. Теория драмы. Поэтика: Учеб, пособие. М.: ГИТИС, 1980. 118 с.
241. Попова А. Детские игры и забавы в сибирской деревне (село Распутине Яндинской волости Балаганского уезда Иркутской губернии) // Сибирская живая старина: Этнографический сб. Выл. 1. Иркутск, 1923. С. 106 — 120.
242. Поспелов П. Русские народные праздники с их обрядами И Руководство для сельских пастырей. Т. 1. Киев, 1871. (№ 1, с. 25-36; № 2, с. 65-77; Х<> 5, с. 167-181; X? 21, с. 119-136).
243. Потанин Г. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы//ЖС. 1899. Вып. 1, отд. I. С. 23 — 60; Вып. 2, отд. I. С. 167-235.
244. Потебня А. А. О купальских огнях и сродных с ними представлениях // Археологический вестник. Т. 1. М., 1868. С. 97-106, 145-153.
245. Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. [Ч.] 1: Рождественские обряды // ЧОИ ДР. 1865. Кн. 2. Апр.-Июнь. С. 1-84.
246. Предания о народных суевериях, поверьях и некоторых обычаях. М.: Типогр. С. Орлова, 1861. 184 с.
122
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
247. Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени / Отв. ред. В. Н. Прокофьев. М.: Наука, 1983. 207 с.
248. Пропп В. Я. Исторические основы некоторых русских религиозных празднеств И Ежегодник Музея истории религии и атеизма. [Т.] V: О преодолении религии в СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 272-296.
249. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования). [Л.]: Изд-во ЛГУ, 1963. 144 с.
250. [Прот-пов Н. П.] Рождество Христово: Повествование о том," как москвичи встречают этот праздник, а равно и Новый год / Сост. Н. П. Прот-пов. М.: Ти-погр. А. Семена, 1860. 88 с. ,
251. [Пр ский Н.] Баня, игрище, слушанье и шестое января: Этнографические очерки Кадников-ского уезда//Современник. 1864. Т. CIV. С. 499-522.
252. Путилов Б, Н. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. Л.: Наука, 1976. 244 с.
253. Путинцев Ф. Происхождение религиозных праздников / Под ред. М. В. Горева-Галкина. С предисл. Е. Ярославского. М.: «Красная новь» Главполитпросвета, 1924. 223 с.
254. Пяст В. Театр слова и движения И Искусство старое и новое: Сб. статей / Под ред.
К. Эрберга. Пб.: Алконост, 1921. С. 80-85.
255. Резанов Вл. И. Три песни-игры <...>//ЭО. 1904. № 1. С. 115-121.
256. Резанова Ек. Материалы по этнографии Курской губернии // Труды Курской губернской Ученой архивной комиссии. Вып. 1, ч. 1. 1911. С. 172-249.
257. Ровинский Д. Русские народные картинки. Т. 1—2. СПб.: Изд-во Р. Голике, 1900. 520 стб.
258. Рождественская И. В. Проблема сценического перевоплощения: Учеб. пособие. Л.: ЛГИТМиК, 1978. 130 с.
259. Рождественская Н. В. Специальные актерские способности// Наука о театре. Л.: ЛГИТМиК, 1975. С. 326-334.
260. Русская народная драма XVII —XX веков: Тексты пьес и описания представлений / Ред., вступ. статья и комм. П. Н. Беркова. М.: Искусство, 1953. 355 с.
261. Сабо Л. Комизм в народных драматических играх И Македонски фолклор. Год. XI. Бр. 21-22. Скоще, 1978. С. 177 — 188.
262. Саводник В. Хрестоматия для изучения истории русской словесности. Вып. 1: Народная словесность. М., 1914. 203 с.
263. Савушкина Н. И. Драматизированный образ в некоторых жанрах русского фольклора: (Доклад на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук. Москва, авг. 1964 г.). М.: Наука, 1964. 7 с. (См. также: VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Т. 6. М.: Наука, 1969. С. 120-127).
264. Савушкина Н. И. Народные драматические и театральные традиции в современной деревне (на материале Горьковской области) И Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 160-183.
265. Савушкина Н. И. Особенности театрального пространства в представлениях русских ряженых // Театральное пространство: Материалы научной конференции (1978). М.: Сов. художник, 1979. С. 327-334.
266. Савушкина Н. И. Русский народный театр / Отв. ред. Э. В. Померанцева. М.: Наука, 1976. 151 с. (Сер. «Из истории мировой культуры»).
267. Сахновский Вас. Игра и спектакль И В спорах о театре: Сб. статей. М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1914. С. 105-118.
268. Сахновский-Панкеев В. А. Актуальные проблемы теории драмы: Автореф. дисс. <...>. Л., 1973. 36 с.
269. Селиванов В. В. Год русского земледельца // Селиванов В. В. Сочинения. Т. 2 / Изд. под
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
123
ред. и с примеч. А. В. Селиванова. Владимир на Клязьме, 1902. С. 1-146.
270. Семенова О. П. Праздники Рязанской губернии, Даньков-ского уезда//ЖС. 1891. Вып. 4, отд. V. С. 199-202.
271. Семенова-Тян-Шанская О. «Жизнь Ивана»: Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний. СПб.: Типогр. М. М. Стасюлевича, 1914. XIV, 136 с. (Записки ИРГО по отд. этнографии. Т. 39).
272. Симонов П. В. Метод Станиславского и физиология эмоций. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 139 с.
273. Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества: Тезисы и аннотации (18-22 февр. 1963 г.). Л., 1963. 35 с.
274. Симпозиум по проблемам игры. М., 1963. 21 с.
275. Скаличка В. О современном состоянии типологии И Новое в лингвистике. Вып. З/Сост., ред. и вступ. статьи В. А. Звегинцева. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 19-35.
276. Скалозубов II. Л. Народный календарь И Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. 9. 1898. С. 69-80; Вып. 12. 1901. С. 116-126.
277. Скв-ва С. Проводы Ко-стромы-весны в Самарском уезде // Известия О-ва археологии, истории и этнографии при Имп. Казанском ун-те. Т. X, вып. 1. 1892.
С. 117-119.
278. Смирнов М. И. Культ и крестьянское хозяйство в Переславль-Залесском уезде И Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. Вып. 1. Переславль-Залесский, 1927. С. 3 — 66.
279. Смирнов Несвицкий Ю. А. Маяковский и народный театр И Пьеса и спектакль: Сб. статей. Л.: ЛГИТМиК, 1978. С. 125-136.
280. Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 1-4 (в 2 т.). Т. 1, вып. 2. М., 1838. 360 с.
281. Соболев А. II. Детские игры и песни И Труды Владимир
ской Ученой архивной комиссии Кн. 16. 1914. С. 1-48.
282. Соболев А. Н. Загробный мир по древнерусским представлениям: Литературно-исторический опыт исследования древнерусского миросозерцания. Сергиев Посад 1913. 93 с.
283. Соколов Б. М. Рождественские обряды и песни: Лекция в Саратовском ун-те, 1—8 февр. 1922 г. - ЦГАЛИ, ф. 483, on. 1, No 3258.
284. Соколов Б. М. Святочные обряды с точки зрения истории культуры. — ЦГАЛИ, ф. 483, on. 1, N? 3290.
285. Соколов Ю. К изучению народного драматического творчества. — ЦГАЛИ, ф. 483, on. 1, № 229.
286. Соколова В. К. Весеннелетние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX —начала XX в. М.: Наука, 1979. 287 с.
287. Соколовы Б. и Ю. Поэзия деревни: Руководство для собирания произведений устной словесности. [М.], 1926. 194 с.
288. Соловьев В. Первобытное язычество: его живые и мертвые остатки И Русское обозрение. 1890. No 8. С. 620 — 649; № 10. С. 485-516.
289. Соловьев Е. Т. Святки в среде купцов и мещан города Казани//Известия ИРГО / Под ред. И. И. Вильсона. 1876. Т. 12, вып. 2. С. 156—161. (Предисл. II. Щукина, с. 155-156).
290. Соловьев К. II. Родное село: Быт, нравы, обычаи и поверья. СПб.: Типо-литогр. Т-ва «Свет», 1906. 318 с.
291. Сологуб Ф. Театр одной воли И Театр: Книга о новом театре: Сб. статей. СПб.: Шиповник, 1908. С. 177-199.
292. Соломоник И. II. Традиционный театр кукол Востока: Основные виды театра плоских изображений. М.: Наука, 1983. 183 с.
293. Солоницына Л. Взаимодействие актера и публики как научная проблема И Методологические проблемы современного искусствознания: Сб. статей. Вып. 1. Л.: ЛГИТМиК, 1975. С. 90-101.
124
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
294. Спатару Г. И. Историческая молдавская драма / Отв. ред. К. Ф. Попович. Кишинев: Штиинца, 1980. 96 с.
295. Спенсер Г. Основания психологии. Т. IV. СПб.: Изд. И. И. Билибина, 1876. 354 с.
296. Старинный театр в России XVII— XVIII вв.: Сб. статей / Под ред. В. И. Перетца. Пб.: Academia, 1923. 179 с.
297. Степанов Н. П. Народные праздники на Святой Руси. СПб.: М. М. Розенофр, 1900. 186 с.
298. Структурно-типологические исследования / Отв. ред. Т. И. Мо-лошная. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 298 с.
299. Студенецкая Е. М. Маски народов Северного Кавказа И Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 82-105.
300. Сумцов Н. Ф. Культурные переживания // Киевская старина. 1889. Т. 26. Июль —Сент. С. 28-40, 378-427, 631-654.
301. Суна X. А. Древнее действо латышских ряженых // Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 71-81.
302. Таиров А. Я. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма / Сост. Ю. Головатенко. М.: ВТО, 1970. 604 с.
303. Тиандер К. Ф. Очерк истории театра в Западной Европе и России. Харьков, 1911. 256 с. (Вопросы теории и психологии творчества. Т. 3).
304. Тиандер К. Ф. Синкретизм и дифференциация поэтических видов // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 2, вып. 1: Синкретизм в поэзии: Драма. Эпос. Роман. Лирика. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1909. С. 1—46.
305. Тихонов В. Описание детских игрушек и игр в селе Мазу-нине Сарапульского уезда Вятской губернии И Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России / Под ред. Н. Харузина. Вып. 1. М., 1889. С. 1—9 (Приложения). (Труды этнографического отд. ИОЛЕАиЭ при Московском ун-те. Кн. IX).
306. Тихонравов Н. С. Начало русского театра И Летописи русской литературы и древности. Т. 3. М., 1861. С. 7 — 47.
307. Толстой И. И. Из заметок по славянской демонологии. [Ч.] 1: Откуда дьяволы разные// Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. [Вып.] 1 (5). Тарту, 1974. С. 27-32.
308. Толстой Н. И. Из заметок по славянской демонологии. [Ч.] 2: Каков облик дьявольский? И Народная гравюра и фольклор в России XVII —XIX вв. М.: Сов. художник, 1976.
С. 288-319.
309. Толстой II. И. Фрагмент славянского язычества: архаический ритуал-диалог // Славянский и балканский фольклор: Этнографическая общность и типологические параллели / Отв. ред. Н. И. Толстой. М.: Наука, 1984. С. 5 — 72.
310. Толстой Н. И. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности // Театральное пространство: Материалы научной конференции (1978). М.: Сов. художник, 1979. С. 308-326.
311. Топоров В. II. К происхождению некоторых поэтических символов: Палеолитическая эпоха // Ранние формы искусства: Сб. статей / Сост. С. Ю. Неклюдов Отв. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Искусство, 1972. С. 77-104.
312. Топоров В. II. О структуре некоторых архаичных текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева*//Труды по знаковым системам. [Вып.] V. Тарту, 1972. С. 9-63.
313. Торгов А. Святки: Историко-этнографический очерк // Живописная Россия. № 51. 1901. С. 669-673.
314. Троицкий А. И. «Похороны Костромы* [к статье А. В. Смирнова]//Труды Владимирской Ученой архивной комиссии. Кн. 16. 1914. С. 7-14.
315. Туганов М. Элементы театра в осетинском народном творчестве//Северная Осетия. Вып. 13. Орджоникидзе, 1959. С. 40 — 49.
316. Туляков Ю. Е. Становление эстетической культуры Древ
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
125
ней Руси (на материале народного театра): Автореф. дисс. <...>. М., 1983. 21 с.
317. Тынянов Ю. Н. О пародии И Тынянов Ю. II. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 284-309.
318. Тэйлор Э. Первобытная культура. Т. 1. СПб., 1872; 2-е изд. / Под ред., с предисл. и при-меч. проф. В. К. Никольского. М.: Соцэкгиз, 1939. 567 с.
319. Тэрнер В. Ритуальный процесс: Структура и антиструктура И Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 104-264.
320. Уварова И. П. «Малан-ка» в Молдавском селе // Народный театр / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМиК, 1974. С. 153-159.
321. Уварова И. П. Традиции старинного театра и русские сценические искания начала XX в.: Автореф. дисс. <...>. М., 1981. 24 с.
322. Удин Ж. д’. Искусство и жест. СПб.: Аполлон, 1912. 248 с.
323. У корней театра: [От редакции]//Маски. 1912. № 1.
С. 71.
324. Успенский В. А. Структурная типология языков. М.: Наука, 1965. 286 с.
325. Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей: Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского. М.: Изд-во МГУ, 1982. 248 с.
326. Успенский Д. И. Посиделки (в Тульском и Веневском уезде)//ЭО. 1891. N? 3. С. 228-230.
327. Фаминцын А. С. Древнеарийские и древнесемитские элементы славянских обрядов // ЭО. 1895. № 3. С. 27-28.
328. [Фаминцын А. С.] Скоморохи на Руси: Исследование А. С. Фаминцына. СПб., 1889. 191 с.
329. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М.: Прогресс, 1967. 672 с.
330. Фенютин А. А. Увеселения города Мологи // Труды Ярославского губернского статистического комитета. Вып. 1. 1866. С. 1-153.
331. Федоров П. Е. Религиозные обычаи, поверья и суеверия жителей слободы Ендовища Землянского уезда и выделившихся из нее приходов сел Латаного и Шумейки И Воронежская старина Вып. 2, отд. 2. 1903. С. 250-280.
332. Фрейд 3. Психологические этюды: Навязчивые действия и религиозные обряды: Поэт и фантазия. М., 1912. 205 с.
333. Фрейденберг О. М. Образ и понятие И Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М.: Наука, 1978. С. 173 — 487. (Сер. «Исследования по фольклору и мифологии Востока»).
334. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра: Период античной литературы. Л.: ГИХЛ, 1936. 454 с.
335. Фукъер Б. де. Игры древних: Описание, происхождение и отношение их к религии, истории искусства и нравам. Киев: Изд. «Киевского народного календаря», 1877. 207, XXVIII с.
336. Харитонов А. Врачевание, забавы и поверья крестьян Архангельской губернии, уездов Шенкурского и Архангельского И Отечественные записки. 1848. Т. 58, N? 5 (смесь). С. 1-24.
337. Харузин Н. Из западноевропейской этнографической литературы. (Ч. ] 1: О зачатках искусства у малокультурных народов И ЭО. 1895. N? 1. С. 108-118.
338. Харузина В. Игрушки у малокультурных народов // Игрушка: Ее история и значение: Сб. статей / Под ред. Н. Д. Бартрама. М., 1912. С. 85-140.
339. Харузина В. Н. Об участии детей в религиозно-обрядовой жизни//ЭО. 1911. No 1-2. С. 1-78.
340. Харузина В. Н. Примитивные формы драматического искусства//Этнография. 1927. N? 1. С. 57-85; N? 2. С. 283-300; 1928. No 1. С. 24 — 43; N> 2. С. 3-31.
341. Харузина В. И. (Рец. на кн.:] Meinhof С. Die Dichtung der Afrikaner. Berlin, 1911//ЭО. 1912. N? 3-4. C. 114-134.
126
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
342. Цейтлин Г. Народные игры в Поморье И Известия Архангельского о-ва изучения Русского Севера. 1911. N? 13. С. 7-21.
343. Цивьян Т. В. К мифологической интерпретации восточнороманского колядного текста «Плу-гушор» И Славянский и балканский фольклор: Этногенетическая общность и типологические параллели. М.: Наука, 1984. С. 96-116.
344. Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI —XIX веков: Очерки по истории народных верований. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 236 с. (Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. 40).
345. Чичеров В. И. Из истории новогодних игр и песен русского народа: Игра «Золото хоронить» и подблюдные песни // Академику В. В. Виноградову к его 60-летию: Сб. статей. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 270-284.
346. Что такое игра? И Курьер ЮНЕСКО. 1980. Февр. С. 6-7.
347. Шадрин А. Летние и зимние гулянья Шенкурского народа и окологородных крестьян: Этнографический очерк // Труды Архангельского статистического комитета за 1865 г. Кн. 1, отд. этнографический. 1866. С. 60—115.
348. Шейн П. В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах <...>. Т. 1, вып. 1. СПб.: Изд. Имп. Академии наук, 1898. 376 с.; Вып. 2. СПб.: Изд. Имп. Академии наук, 1900. С. 377 — 835.
349. [Шейн П. В.] Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. I, ч. 1. СПб., 1887. 562 с.; Ч. 2. СПб., 1890. 712 с.; Т. II. СПб., 1893. 715 с.
350. Шурц Г. История первобытной культуры. СПб.: Изд. А. Я. Острогорского, 1910. 888 с.
351. Шустиков А. Троичина Кадниковского уезда: Бытовой очерк//ЖС. 1892. Вып. 2.
С. 71-91; Вып. 3. С. 106-138.
352. Щукин Н. С. Народные увеселения в Иркутской губернии // Записки ИРГО по отд. этногра
фии. Т. 2. СПб., 1869. С. 383 — 398.
353. Щукин Н. Святки в среде купцов и мещан города Казани И Известия ИРГО. Т. 12, вып. II. 1876. С. 155-156.
354. Юдин Ю. И. Русская бытовая сказка и народный театр // Писатель и литературный процесс. Курск, 1975. С. 100-118. (Курский гос. педагогический ин-т. Научные труды. Т. 60 (153))
355. Якобсон П. М. Психология сценических чувств актера: Этюд по психологии творчества / Ред. и предисл. В. Колбановского. М.: ГИХЛ, 1936. 212 с.
356. Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание И Новое в лингвистике. Вып. З/Сост., ред. и вступ. статьи В. А. Звегинцева. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 95-105.
357. Ярцева В. Н, «Языковой тип» среди сопредельных понятий И Теоретические основы классификации языков мира / Отв. ред. В. Н. Ярцева. М.: Наука, 1980. С. 24-61.
358. Яцимирский Б. М. «Малайка» как вид святочного обрядового ряжения//ЭО. 1914. № 1-2. С. 46-77.
359. Ящуржинский X. Рождественская интермедия «Коза» И Киевская старина. 1898. Т. 10. Окт. С. 73-82.
360. Ящуржинский X. Свадьба малорусская как религиозно-бытовая драма И Киевская старина. 1896. Т. 15. Нояб., отд. 1. С. 234-273.
361. Alt A. Theater und Kirche in ihrem gegenseitigen Verhaltnisse historisch dargestellt. Berlin, 1841. 95 S.
362. Frobenius L. Die Masken und Geheimbiinde Afrikas Halle, 1899. 178 S. (Abhandlungen der Kaiserlichen Leopoldnischen Karoli-nischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Bd. 74).
363. Gregor J. Die Masken der Erde: Album. Munchen: R. Piper, 1936. 35 S.
УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
127
364. Gregor J. Weltgeschichte des Theaters. Bd. 1. Munchen, 1944. 325 S.
365. Grimm J. Gottinger ge-lehrte Anzeigen. 1838. T. VII. Apr. S. 546-560.
366. [Groos KJ Das Seelenle-ben des Kindes: Ausgewahlte Vorle-sungen von Dr. K. Groos. 6. Aufi. Berlin, 1923. (Кар. VII: Das Spiel, S 57 —78)
367. [Groos K. ] Die Spiele der Menschen von Dr. K. Groos. Jena, 1899. 158 S.
368. Groos K. Die Spiele der Tiere. Jena, 1896. 123 S.
369. Huizinga J. Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Hamburg: Rowohlt, 1962. 221 S.
370. Kuret N. Frauenbiinde und maskierte Frauen И Festschrift fiir Robert Wildhaber zum 70. Geburts-tag am 3. Aug. 1972. Basel, 1973. S. 334 — 348.
371. Kuret N. К fenomenologiji maske: Nekaj vidikov//Traditiones’ 2: Zbornik Instituta za slovensko narodopisje: Acta Instituti ethnog-raphiae slovenorum. Ljubljana, 1973. S. 97-120.
372. Kuret N. О nosivc(h slove-neskih semskih obicajev: (Uber die Trager der slowenischcn Masken-brauche)//Sloveniski etnograf. 16 — 17. 1963/64. S. 167—178.
373. Kuret N. Zwci Bowiden-Masken aus Valvasors Kupferstich-sammlung//Dona Ethnologica. Munchen, 1973. S. 53-59.
374. Ktitter W, Maskenzeiten und Larventypen in Siidwest-deutschland // Festschrift fiir Robert Wildhaber zum 70. Geburtstag am 3. Aug. 1972. Basel, 1973. S. 348-372.
375. Lehmann IL Volksbrauch im Jahreslauf. Munchen, 1964. 193 S.
376. Мйпг R. Vom Wesen des Dramas: Umrisse einer Theater- und Dramentheorie. Halle, 1963. 184 S. (Beitrage zur Gegenwartsliteratur. Bd. 28).
377. Pinon R. Probleme einer europaischen Kinderspielforschung П Sonderdruck aus «Hessische Blatter fiir Volkskunde». Bd. 58. 1967. S. 9-45.
378. Preuss K. Th. Der Unter-bau des Dramas // Vortrage der Bib-liothek Warburgs. 1927 — 1928. Bd. VII. S. 30-48.
379. Preuss K. Th. Friichtbar-keits-Damonen als Trager des alt-mexikanischen Dramas: Ein Beitrag zur Urgeschichte des mimischen Weltdramas // Archiv fiir Anthropologic. (N. F.). 1903. Bd. 1. S. 129-188.
380. Radermacher L. Kalender-Masken und Komodien-Masken П Philologus. 1932. № 4. S. 121 — 139.
381. Rosen K. Kindersparbiich-sen in Deutschland und Italien. Bd. 87. Globus, 1905. S. 270-281.
382. Singer S. Aufsatze und Vortrage. Tiibingen, 1912. 238 S.
383. Stumpjl K. Kultspiele der Germanen als Ursprung des mittelal-terlichen Dramas. Berlin, 1936. 262 S.
384. [Vries J. de.] Altgermani-sche Religionsgeschichte / Von J. de Vries. 2. Aufl. Berlin, 1956-1957. Bd. 1. XLIX, 505 S.; Bd. 2. 492 S.
385. Winterstein A. Am Ursprung der Tragodie. Leipzig; Wien; Ziirich: Imago, 1925. 278 S.
386. Wundt W. Volkerpsycholo-gie: Eine Untersuchung der Entwick-lungsgesetze von Sprache, Mythos und Sittc. Bd. 3: Die Kunst. 2. Aufl. Leipzig, 1908. 254 S.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВГО — Всесоюзное географическое общество
ВТО — Всесоюзное театральное общество
ГМЭ — Государственный музей этнографии народов СССР
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения
ЖС — Живая старина
ИОЛЕАиЭ — Императорское Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете
И(РГО) — Императорское Русское географическое общество
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР
(РАН)
ИСиБ — Институт славяноведения и балканистики АН СССР (РАН)
ЛГИТМиК — Ленинградский государственный институт театра, музыки и ки-
нематографии (ныне С.-Петербургская государственная Академия театрального искусства (фольклорный архив б. ЛГИТМиКа хранится в Российском институте истории искусств))
МАЭ — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Императорской Акаде-
мии наук
РА — Рукописный архив
СЭ — Советская этнография
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства
(ныне Российский государственный архив литературы и искусства)
ЧОИДР - Чтения в Обществе истории и древностей Российских
ЭО — Этнографическое обозрение
5 Лариса Ивлева
ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17-00-01 — театральное искусство, ноябрь 1985 года
(Архив РИИИ (Зубовский институт) и личный архив Л. М. Ивлевой)
Л. М. Ивлева (вступительное слово)
Обращаясь сегодня прежде всего к уважаемому составу Совета, ни усиливать, ни дополнительно пояснять то, что есть в тексте диссертации и отражено рефератом, я не буду, поскольку считаю, что сегодня за себя должен говорить сам представленный к обсуждению текст. Намеренно не касаясь концептуальной сути своей работы, я хочу всего лишь несколькими штрихами обозначить общую логику предложенного мною исследовательского пути и наметить некоторые ориентиры на будущее.
Бесспорно, что любая исследовательская работа в значительной мере является производным определенного научного контекста. Это касается и моей работы, посвященной типологии русского дотеатрально-игрового фольклора, причем касается в очень сильной степени, поскольку создавалась эта работа не только не на пустом месте, но — напротив — на месте, хорошо обжитом, освоенном и обустроенном многими поколениями предшественников. Театроведческая проблематика представленной диссертации — это по сути дела поле вопросов, постепенно, шаг за шагом вырисовывавшихся в литературоведении, фольклористике, этнографии, театроведении.
В 20-х годах нашего века С. Писарев и Р. Суслович, участники первых комплексных фольклорных экспедиций Института истории искусств, писали о том, что крестьянская театральность русского народа особых забот театроведам никогда не доставляла. Долгое время в истории науки ситуация действительно именно таким образом и складывалась: разными проявлениями этой «театральности» занимались то филологи, то фольклористы, то историки, то этнографы, растворявшие соответственно игровую значимость этих явлений в специфике своего предмета. И по сути дела только к 70-м годам вполне обозначилась линия смыкания, соединения театроведческих и фольклорно-этнографических задач в изучении этого материала — линия, проведенная прежде всего в известных трудах П. Г. Богатырева. На первом месте здесь следует назвать, конечно, его работу «Народный театр чехов и словаков», в которой этнографический материал впервые получил собственно театроведческое осмысление.
Таким образом, основной поворот в сторону театроведения уже обозначился, и, чтобы получить новое качество исследовательских результатов, на современном этапе оставалось совсем I
132
ПРИЛОЖЕНИЕ
немногое — оставалось лишь увидеть «игровую художественность» фольклора как его органическое, изначальное качество и попытаться определить природу и границы самой этой художественности. К такого рода замыслу я и . обратилась в начале 70-х годов, когда условия для его реализации складывались самым благоприятным образом, поскольку именно в это время был создан коллектив, в котором театроведческое направление исследования развивалось одновременно усилиями нескольких единомышленников. Здесь я хотела бы назвать работавших параллельно со мной коллег, поиски которых в области драматической природы свадьбы, хороводной культуры, собственно театральных форм фольклора стимулировали и мою типологическую работу: это А. Ф. Некрылова, В. Е. Гусев, В. В. Варганова, А. А. Соколов, Е. М. Рогачевская.
Одно из обязательных условий результативности начатого исследования состояло в достаточной полноте знания материала: этого требовал сам тип исследования. Здесь возникали и определенные трудности, поскольку основной массив необходимого для работы материала — это не собственные полевые записи, сделанные по единой методике, с установкой на соответствующий комплекс проблем, а записи, осуществленные ранее, нередко отрывочные, случайные, сделанные людьми разной компетенции. Это записи, разбросанные по разным источникам и нередко трудно соотносимые друг с другом по отдельным игровым параметрам. Эти трудности требовали преодоления на аналитическом уровне, что иногда заставляло обращаться к типологически близким фактам других восточнославянских культур, решать вопросы реконструкции и пр. В этом смысле я хотела бы отметить важность собственных полевых исследований, особенно экспедиционной работы в Полесье, которая необыкновенно много дала мне для понимания системы игрового фольклора в этнографическом комплексе, подтвердила ряд предварительных соображений о том, что игровая эстетика этого материала не может изучаться сама по себе. Свою благодарность за организационную возможность такой экспедиционной работы я хочу адресовать администрации Института театра, музыки и кинематографии, за условия творческого контакта — группе этнолингвистов ЙСиБ и МГУ, руководимой Н. И. Толстым.
В представленной на обсуждение Совета диссертации я стремилась и к тому, чтобы сделать результаты, к которым я пришла, значимыми не только в сфере теоретической науки: я учитывала также возможную их направленность на практику — практику и собственно театральную, и фольклорно-сценическую, связанную с сильными в наше время волнами фольклоризма.
Насколько мне удалось то, к чему я стремилась, будет ре шаться на весах всех моих рецензентов.
Б. Н. Путилов (официальный оппонент)
Я хотел бы начать свой отзыв с характеристики той каче ственной особенности диссертации, которой официальные оппо
ПРИЛОЖЕНИЕ
133
ненты обычно уделяют несколько слов, притом не самых главных, а именно: как написана работа. Безупречная точность формулировок, особенно когда они касаются узловых теоретических и методологических положений, и одновременно с этим — изящество письма; продуманная композиция отдельных частей и целого; тактичное, всегда к месту, пользование современной терминологией — всё это я расцениваю как проявление мастерства, за которым стоят филологическая культура и немалый труд. Но здесь есть и другая сторона дела. Говорят, ученый — это его стиль. В стиле диссертации просвечивают черты ее автора как ученого, и притом — существенно значимые для успеха данной работы: органическое осознание сложности, неоднозначности обсуждаемых в ней проблем и настойчивые поиски соответствующего им тонкого, нетопориого подхода, стремление не только получить реальные результаты, но и найти весомые аргументы, чтобы поддерживать состояние неопределенности, столь важное для дальнейших исследований в избранной области.
Актуальность и новизна диссертации — с точки зрения современного состояния и современных задач фольклористики — очевидны. В сфере теории они заключаются прежде всего в развернутой и хорошо обоснованной критике некоторых традиционных для нашей науки концепций, касающихся отношений фольклора и театра. Я выделил бы здесь в качестве центральных объектов критического анализа три темы: понимание игры в фольклористике; тезис о почти сплошной театральности фольклорных форм; теорию происхождения русского театра на почве фольклора и перерастания обрядовых форм в формы собственно театральные.
Что особенно существенно: убедительной критике подвергается и собственно фольклористическая, и театроведческая аргументация; ее слабость, уязвимость доказываются опять-таки с позиций современной театроведческой теории и с учетом всей специфичности фольклора как явления культуры. Забегая несколько вперед, подчеркну, что на протяжении всей работы это единство театроведческого и фольклористического взглядов будет проявляться и давать плодотворные результаты.
Естественно, что критический разбор теорий ведется во Введении и в Первой главе с исчерпывающим привлечением литературы вопроса, особенно по второй и третьей темам, что полемика, которую ведет автор, корректна, убедительна, что позиции «противников» не упрощаются и не выпрямляются — автор охотно находит у них материал не только для критики, но и для творческого развития.
Будучи как читатель и оппонент вовлеченным в дискуссию, я должен определить свою позицию: в целом и во многих част-постах я — на стороне автора. В чем-то я разделял ее позицию и раньше, независимо от нее (например, в убеждении, что ис-тория русского театра в его корнях, возникновении и основном направлении генетически с фольклором не соотносится), в чем-то опа меня убедила теперь (например, в иллюзорности множества прямых параллелей между фольклором и театром, привычно проводимых в нашей науке). Думаю, что после работы Ларисы Михайловны говорить о театральности фольклорных форм мож
134
ПРИЛОЖЕНИЕ
но лишь в метафорическом плане, а не всерьез. Более того, критика Ивлевой имеет, безусловно, значение, выходящее за пределы русского фольклора, ее результаты и аргументацию должны учитывать историки фольклора других народов и фольклористика в целом. Формула «от обряда к театру» всерьез поколеблена, и Л. М. совершенно права, когда рекомендует вопрос о правомерности этой формулы решать всякий раз исторически конкретно, применительно к данному материалу.
Критика теорий разворачивается в диссертации в единстве с критикой научной методологии. Это единство вообще присуще всей работе. Как показывает Л. М. Ивлева, к ошибочным, или спорным, или сомнительным теориям приводят ошибочные методы, иллюзорные, инерционные методические постулаты. По крайней мере два из них заслуживают специального внимания. Это, во-первых, идентификация фольклорных форм с театральными путем изучения не системы, а подбора избранных элементов, разрозненных, часто случайных, путем приблизительного их сопоставления. Другими словами, фольклористика, трактуя проблему театральности, не задумывалась всерьез над ее принципиальными критериями, не вводила уровень системности. В итоге оказывалось, что в фольклоре любой элемент напоминал какой-то элемент театра. Л. М. Ивлева показывает на конкретных примерах (скажем, на примере фольклорного диалога) фиктивность сходства. Второй объект методологической критики более значим, потому что выходит за рамки проблемы «фольклор — театр». Речь идет о преувеличенной наклонности к исто-ри ко-генетическим конструкциям, не подкрепленн ым надежи ым изучением материала, о различных «следах слепого генетизма, нс обремененного никакими доказательствами», об инерции историко-эволюционных построений. И здесь не могу не высказать своей солидарности с автором диссертации.
Мой обзор критических разделов работы в сфере теории и методологии вынужденно краток, схематичен и сух. А между тем читать эти разделы необычайно интересно, они полны собственных свежих идей автора, в них есть живой конкретный материал, есть не просто критика в обычном смысле, но система размышлений, опирающаяся на проработку огромного материала и его теоретическое обобщение. Вот почему собственно критические страницы диссертации очень трудно отделить от тех, где находят выражение позитивные концепции автора в сфере теории и методологии.
Принципиальная теоретическая новизна работы Л. М. Ивлевой, если опять-таки попытаться в предельно краткой форме сказать о ней, заключается в выделении тех фольклорных форм, которые — отвечая специально вычленяемым критериям и значениям понятия «игра» — могул' быть сопоставлены с «театром» по ряду универсалий и к которым, следовательно, могут быть продуктивно применены принципы театроведческого анализа. Эта новая для фольклористики задача потребовала от автора, во первых, дать специальную разработку проблем, связанных с понятием «игра» в общем плане и в плане собственно театроведческом и фольклористическом; во-вторых, выявить в массиве русского фольклора тот материал, который в первую очередь
ПРИЛОЖЕНИЕ
135
отвечает критериям «игра», и сделать его главным предметом конкретного театроведческого анализа; в-третьих, выработать специальную научную методику его исследования. Остановлюсь прежде всего на третьем моменте — на методологии. Автор многократно и вполне оправданно подчеркивает принципиальную важность типологического подхода как основополагающего для задач данного исследования. Игровые формы фольклора должны быть сопоставлены с культурой театра не генетически, а типологически, через универсалии, которые определяют в конечном счете природу сопоставляемых явлений. Л. М. Ивлева выступает как убежденный сторонник современного типологического исследования фольклора, причем в его структурно-типологическом варианте. Здесь она следует, с одной стороны, традициям своего учителя В. Я. Проппа, который всегда ратовал за то, чтобы структурно-типологический анализ предшествовал историко-генетическому и подготавливал его, а с другой, плодотворно использует достижения последнего времени в области структурно-типологического изучения разных фактов культуры. При всём том диссертацию Л. М. Ивлевой нельзя отнести к исследованиям структуралистского плана — это я говорю не в порядке похвалы, не в качестве упрека — просто констатирую, что, используя отдельные моменты современных новых направлений, она идет своим путем в поисках эффективных результатов в области типологии явления, ею изучаемого.
В порядке дискуссии замечу, что вполне справедливо противопоставляя структурно-типологический подход с его большими возможностями подходу эволюционистскому, автор диссертации как бы опускает вопрос о подходе историко-типологическом, при котором моменты диахронии могут быть непосредственно включены в процесс типологического исследования и где диахрония понимается совершенно иначе, чем в справедливо критикуемой генетической теории. Я не принадлежу к сторонникам безусловного разделения двух типологических подходов во время исследования и склонен думать, что элементы исторической типологии могут быть включены в то исследование, которое осуществила Л. М. Но для этого одного русского материала уже недостаточно.
Независимо от этого в диссертации мы находим развитие и обогащение общей методологии типологического изучения фольклора. Оно заключается и в специальном пассаже о понятии типа (с. G2 —63), и в противопоставлении классификаторскому подходу выделения типологических ступеней (там же), и в четком заявлении, согласно которому структурно-типологический подход всегда сопряжен, с одной стороны, с поиском и с установлением универсалий, а с другой, с определением типов их реализаций «в парадигматических рядах изменяющихся форм — сквозь множество конкретных вариантов и трансформаций» (с. 35), и в утверждении, что критерий типологии лежит в самом фольклорном материале (с. 65), наконец, в жестком выводе, согласно которому «теоретически необоснованно прямое использование явно типологических наблюдений для установления закономерностей генетического порядка» (Автореферат, с. 8 — 9). Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что защита, обоснова
136
ПРИЛОЖЕНИЕ
ние плодотворности и развитие принципов типологического изучения фольклора в работе осуществляются одновременно с общетеоретических позиций и на базе конкретного и свежего исследования материала.
Глава вторая диссертации — «Опыт типологии дотеатрально-игровых явлений (на материале русского фольклора)», состоящая из двух частей («Заметки по типологии игрового перевоплощения» и «Заметки по типологии игрового действия»), является превосходным образцом творческой реализации и дальнейшего развертывания основных теоретических идей автора. Л. М. Ивлевой удалось успешно осуществить намеченную ею программу типологического исследования ряда фольклорных форм в театроведческом ключе; «опыт создания театроведческого метаязыка для описания данного материала» (Автореферат, с. 5) оправдал себя. Ио к факторам, способствовавшим достижению столь зримых результатов, я добавил бы еще следующие: тонкое понимание автором специфики явлений фольклора, вовлекаемых в сферу изучения; по существу, соединение театроведческой методики с принципами этнографизма — последнее я считаю особенно важным и ценным. В наше время невозможно изучать какое бы то ни было явление фольклора вне понимания и раскрытия его разнообразных, особенно глубинных, связей с этнографией. Отдельные разделы Главы второй выразительно демонстрируют эффективность такого подхода. И напротив, в одном-двух местах ощущается недостаточность этнографической проработки материала, я имею в виду, например, § 2 — «Пол и возраст как регуляторы распределения игровых ролей»: известно, как значимы половозрастные критерии в различных сферах народного быта и культуры, поведения и т. д. Между тем в § 2 эти моменты сглажены и полной картины регулирования игровых ролей не складывается.
В целом же Глава вторая очень содержательна и заключает массу нового — в описании, в интерпретации, наконец, в самом главном — в выявлении универсалий и в характеристике их реализаций. В сущности, перед нами как бы заново открывается мир фольклорной игры, включая и сферу обрядовую.
Выскажу несколько замечаний (или задам несколько вопросов) по теме этой главы.
Во-первых, что значит «дотеатрально...»? Можно ли эту приставку «до-» понимать как подтверждение историко-типологических отношений между изучаемыми фольклорными явлениями и собствен но театром?
Далее. Очень интересные страницы в главе отданы проблеме типологии перевоплощения. Выделены три типа. Мой вопрос касается случаев перевоплощения словом, которое в фольклоре нередко оказывается формой действия и заменяет собственно действие. Я имею в виду те случаи, когда, например, колядовщики перевоплощают песней хозяев дома, в который они приходят, когда величальные песни перевоплощают жениха и невесту, и подобные. Дело не в примерах, а в принципе преобразующей функции слова.
На с. 103, в связи с характеристикой так называемых незрелищных игр, «игр для себя», утверждается, что к таким
ПРИЛОЖЕНИЕ
137
играм неприложимы «вообще какие бы то ни было оценки со стороны». Но, во-первых, у таких игр «зритель» все-таки всегда есть и от оценок с его стороны не убережешься, а во-вторых, оценки идут «изнутри» — и неизбежно сами участники как бы выступают «зрителями», оценивающими качество отдельных исполнителей, моментов игры, результатов и т. д.
Последнее относится к заключительным пассажам работы. Автор справедливо говорит о неисчерпанное™ задач исследования рамками выполненной работы, что, разумеется, нисколько не умаляет се значения. Было бы небесполезно (не в Заключении, а много выше, хотя можно и в Заключении) обозначить более или менее конкретно тот круг явлений русского фольклора (жанров, разновидностей), которые так или иначе отвечают предложенным критериям игры, те пласты материала, к которым применимы сформулированные на с. 43 — 44 категории «игровой модели», «игрового языка», «игровой формы выражения». А может быть, это пока преждевременно? По у автора, несомненно, имеются на этот счет свои соображения...
Обсуждаемая работа по всем параметрам соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автореферат и опубликованные работы дают четкое представление о теоретических, методологических основах и принципах работы и содержат изложение результатов конкретного исследования. Тем не менее работа заслуживает полной публикации — и, может быть, даже в расширенном объеме. Она явится заметным вкладом в то направление, которое удачно определено в диссертации термином «этнотеатроведение» и которому суждено сделать немало.
Прошу Ученый совет присудить Ларисе Михайловне Ивлевой искомую степень кандидата искусствоведения.
Л. М. Ивлева (ответ Б. Н. Путилову)
Я благодарна Б. Н. Путилову за безусловную поддержку ключевых положений моей работы, а также за намеченные в отзыве будущие повороты исследования, магистральные для темы в целом. Для меня сейчас чрезвычайно важно осознать разные перспективы движения вперед, и я очень рада тому, что сегодня получаю такую возможность. Особенную ценность в отзыве Бориса Николаевича составляет для меня всё, что связано с методологической стороной работы. Б. И. прав, когда говорит о разработанности в диссертации лишь положений структурной типологии применительно к игровому фольклору. Действительно, задача феноменологическая настолько разрослась в ходе исследования, что мне поневоле пришлось отделить ее от историко-типологического осмысления материала. Однако я вижу относительность грани между синхронией и диахронией и понимаю относительность перехода от одного этапа работы к другому. Я не отрицаю и не игнорирую в принципе историко-типологическую постановку вопроса, по вместе с тем и не осуществляю ее в данном случае. Я лишь стремлюсь к этому и очень хотела
6 Лариса Ивлева
138
ПРИЛОЖЕНИЕ
бы, чтобы с. 42 — 43 диссертации были восприняты именно как заявка такого рода.
К такого же рода заявкам относится, конечно, и обращение к термину «дотеатральный». И в этом смысле вопрос Б. Н. не только правомерен, но для меня он и более чем ожидан, а подсказанный в отзыве ответ, безусловно, предвосхищает постановку вопроса об историко-типологическом соотношении явлений дотеатра и театра. Я бы вообще предпочла не пользоваться этим термином на данном этапе, до возможности полного его обоснования, но, во-первых, он уже существует в научной практике (дотеатр), во-вторых, он — сравнительно удобная замена сложных и громоздких описательных конструкций, которые потребовались бы в противном случае.
Я очень благодарна Б/ Н. за те замечания, объективность и справедливость которых несомненна и которые мне остается только принять. Это, в частности, акцент Б. Н. на сглаженности общей картины регулирования игровых ролей по половозрастному критерию. С одной стороны, здесь, видимо, не вполне достаточен проработанный мною материал (вернее, не всегда достаточно качество его фиксации) — и это причина объективная. Но есть и еще одна сторона дела, пока не дотянутая мною, что и вызвало соответствующее пожелание Б. Н.: половозрастной критерий не просматривается через весь игровой материал однозначно, давая очень много всевозможных региональных вариаций. Здесь очень важна поправка на местные особенности в его осуществлении, и такого рода дальнейшая углубленная проработка материала еще впереди.
Ю. А. Смирнов-Несвицкий (официальный оппонент)
Работа Л. М. Ивлевой представляет собой безусловно новаторское исследование, открывающее новые рубежи и горизонты советского театроведения.
Основанное на фундаментальном материале русского игрового фольклора, исследование охватывает смежные области наук и научных отраслей. Обеспечивая свою работу плодотворной методологической установкой, автор исследования впервые в нашей театроведческой науке прибегает к системному рассмотрению прежде изолированных, имманентно развивавшихся разделов театроведения и фольклористики, определяя единый, связующий принцип анализа та^ких специальных проблем, как «междисциплинарный», единый для театра и игрового фольклора, язык, как происхождение театра, возникновение русского профессионального театра в связях и противосвязях с фольклорным творчеством, как теория игры в ее театроведческом аспекте и др.
И всё же, как ни существенно это качество широты, комплексности и системности в рассмотрении предмета исследования, как ни основателен анализ самой художественной ткани творчества народа и^ проницательны догадки о развитии театра в целом, научный потенциал работы определяется неизмеримо более существенным фактором, а именно: исследование, с кото
ПРИЛОЖЕНИЕ
139
рым мы имеем дело, производит фронтальный пересмотр всех предшествующих концепций, и не только применительно к оппозиции «театр — фольклор», но и собственно к истории и теории театра как такового.
Показывая бесперспективность историко-генетического подхода к изучению театра как единственно возможного, выводя исследование на рубежи структурно-типологического^ подхода к явлениям театра и фольклора, автор своей работой дает новый импульс дальнейшему изучению театрального творчества, предлагает конкретный методологический ключ будущим теоретикам и историкам театра.
В работе Л. М. Ивлевой получает доказательное оформление, свой «статус» такая новая отрасль в науке, как этнотеатроведение, — по существу, в исследовании определяются ориентиры нового научного направления.
Прежде всего благодаря методологическим открытиям, заключенным в работе, Л. М. Ивлева выстраивает оригинальную, глубоко аргументированную, основанную на внушительном фактологическом материале, экспедиционном опыте фольклориста концепцию игры в ее театроведческом аспекте, которая позволяет наметить плодотворную основу для типологического анализа темы «фольклор и театр».
Однако смысл исследования выходит за пределы указанной темы. В работе демонстрируется такая методология, которая позволяет устанавливать совершенно новые связи и п роти вое вязи в отношении к разным театральным эпохам, течениям, стилям и типам театров.
Глава первая диссертации выдвигает гипотезу, которая в ходе исследования перестает быть гипотезой, так как исследователю удается выстроить целостную и доказательную концепцию. Но предварительно автор подвергает аргументированной критике сложившиеся, традиционные представления о прямом вытекании театра из фольклора, обряда. Автора не смущают заявления предшественников такого рода, как например: «проблема ритуальных истоков театра в настоящее время может считаться в основном решенной», а «„ритуальная" гипотеза его происхождения превратилась в хорошо обоснованную теорию».
Л. М. Ивлева последовательно обнажает несостоятельность теории происхождения театра, выдвинутой в исследовании А. Д. Авдеева, которая основывается на идее обрядового происхождения драмы, впервые сформулированной Аристотелем, а также концепций А. Н. Веселовского, В. И. Всеволодского-Гсрнгросса, П. Г. Богатырева и т. д.
«Многие из этих работ, — замечает Ивлева, — несли в себе определенный заряд эволюционистских идей, отражая историю театра именно как „процесс развития от элементарных форм к сложным"».
Л. М. Ивлева обращает внимание на то, что генетические идеи развития театра дали и неверную исходную установку на механическое представление о ряде [таких] важных категорий, как, например, театральность. Театральность в большинстве театроведческих исследований предстает как перечень неизменных атрибутов театра, причем «список» составляется по образцу
140
ПРИЛОЖЕНИЕ
более поздних форм театра, но при этом проецируется на ранние его формы, как-то: костюм, грим, бутафория, даже режиссер — всё это переносится и на обрядовый фольклор.
В ряде положений автор вступает в полемику со своим научным руководителем, случай весьма редкий. И надо отдать должное научному руководителю работы В. Е. Гусеву, который с подлинно научной объективностью, я бы сказал, мужественностью, с уважительностью к своему молодому коллеге, занимает единственно верную позицию — помогает диссертанту, не препятствует ему раскрыть, развернуть собственные аргументы, в каком бы противостоянии ни находились они по отношению к тем или иным работам научного руководителя.
Диссертант также показывает, что слишком прямые связи, которые устанавливают некоторые ученые между театром и фольклором помимо театроцентризма, дают и другой перекос — своего рода театральный релятивизм (с. 25), когда сквозные признаки в театрах разных эпох как бы и не замечаются исследователями .
Ивлева при этом вовсе не отрицает возможность сопоставлений и сравнений театра с фольклором, целесообразность изучения, скажем, на русской почве игровых форм фольклора в сравнении с культурой театра, не отрицает и поиска такого методологического основания, которое бы сделало возможным и перспективным сопоставление прямых генетических зависимостей, сближение театра и фольклора. Однако справедливо исследователь отвергает чисто внешнюю, механическую связь в виде ли временной последовательности, в виде ли причинно-следственного ряда по генеалогической классификации.
В триаде «Обряд. Игра. Театро Л. М. Ивлева выделяет ядро, главное для сопоставления театра и обряда, — это игра в ее специфическом театроведческом понимании. На данном уровне возможен поиск сходства театральных систем, включая перевоплощение по Станиславскому. К сожалению, этот тезис остается не объясненным и нсразвернутым в достаточной мере. Создается даже, впечатление, что Ивлева в какой-то мере поступает безответственно, так как в данном случае речь идет о важнейшем для науки понятии — «перевоплощение по Станиславскому». Уже сама небрежность такой формулировки, вскользь упоминаемой, заставляет нас упрекнуть диссертанта и призвать его в дальнейших работах к развитию именно этого тезиса, что позволит теории гораздо ближе подойти к практике.
Итак, в разнородном, разноуровневом материале театра, фольклора, разных театральных систем Ивлева находит единое ядро, позволяющее войти внутрь системы театрального творчества, сопоставить его с фольклором, — это ядро: игровая модель, игровой язык, игровая форма выражения.
В игре Ивлева обращает внимание на два критерия основополагающих, постоянно присутствующих в разноприродном игровом материале, в разных системах театра и игры: это перевоплощение и действие. Анализу этих двух параметров и посвящена Глава вторая, наиболее насыщенная конкретным фактологическим, в том числе впервые изысканным автором, материалом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
141
Глава так и называется: «Опыт типологии дотеатрально-игровых явлений (на материале русского фольклора)».
В этой главе особенно ценным представляется нам не столько «технология» фольклорных игровых явлений, как-то: общие принципы распределения ролей, пол и возраст как регуляторы распределения ролей, способы и средства игрового перевоплощения, сколько сам объективно, как бы помимо воли диссертанта, образующийся подтекст главы. Этот подтекст можно расшифровать, на наш взгляд, следующим образом: игра как таковая (в се театроведческом понимании), в частности проявившая себя в игровых явлениях русского фольклора, заключает в себе некое специфическое игровое содержание, идущее от самой жизни, связанное с определенными темами, образами действительности. То есть возникает определенное поле фантазии, образов, сюжетов и даже соответствующей идеологической направленности, социальной и исторической ориентации играющих. В игре это выражено элементарно. В театре — более определенно и сложно. Так возникает собственно театральное содержание, авторство которого принадлежит актерам, режиссерам, организаторам театрального времени и пространства. Иными словами, театр отображает действительность не только посредством литературы, он черпает впрямую саму жизнь. Он сопротивляется литературо-центризму, если таковой навязывается ему. И элементарные «распределения ролей», способы и средства игрового перевоплощения, особенно «мир персонажей» игры, то есть всё [то], о чем пишет и что анализирует Ивлева, в театре вырастает и усложняется, становится содержательным фактором, ибо важно не только то, как распределяют роли, но и что, какое содержание угадывается за распределением, не только каким способом и какими средствами пользуются для перевоплощения, но и для чего, для каких целей пользуются именно данными способами и средствами. Что же касается «мира персонажей», то он, вероятно, и есть своеобразная содержательно-сценарная основа театра как искусства, в литературном театре преображенная драматургом.
Современных исследователей связей между актерами и зрителями безусловно привлечет вторая часть этой главы, где имеется анализ взаимоотношений актера и зрителя в игровом действии. И ценность его в том, что анализ этот не социологический, это не социолог, а театровед анализирует данную проблему, как бы доказывая, что природа связи публики и сцены вовсе не должна быть отдана на откуп социологии, и как раз главное, корневое в этой природе можно понять прежде всего исходя из театроведческого анализа.
При всём том интересе, который испытывает театровед к разделу «актер и зритель», всё же нельзя не отметить, что именно этот раздел вызывает ряд вопросов к диссертанту, а в целом проблема здесь, весьма важная для понимания соотношений игры и театра, слишком бегло излагается.
Многое здесь требует дополнительных уяснений. Игра незрелищного типа в структуре своей зрителя не предполагает, тем самым позволяет не судить играющих — хорошо ли, плохо ли, нужно — не нужно. Замечу, этот принцип используется широко
142
ПРИЛОЖЕНИЕ
любительским театром, а в некоторых случаях и профессиональным, например, известен исторический пример, когда критики «Сверчка на печи» в Первой студии считали неэтичным писать о том, хорошо ли, плохо ли играют актеры, настолько зрители были втянуты в наглухо закрытое помещение, где возникала полная иллюзия жизни и шкала «плохо — хорошо играют» вообще была неприменима, даже безнравственна, ведь речь шла как бы не о театре, а о живых душах.
Однако вернемся к незрелищной игре. Зритель в ее структуре отсутствует. Но в самих игрищах он ведь неистребим! Незрелищная игра изнутри зрелищна? 14 потенциальный зритель со стороны возможен? Разве не используется «ядро» такой незрелищной игры в театре? Разве на определенном этапе становления «системы» Станиславский не призывал «забыть» о зрителе, изолировать его от актеров?
К этому же ряду вопросов хочу отнести и вопрос о «неигровом поведении». Что это означает? Только ли натуралистические явления в фольклорных играх типа «покойницких»? Остается неосмысленным этот феномен диссертантом. Неигровое поведение требует особого внимания исследователя, так как данная проблема «не-игры в игре» имеет особое значение для психологического театра. Известно, что Станиславский вообще на определенных этапах своего творчества отрицал понятие «игра» применительно к своим спектаклям. И имел он в виду при этом вовсе не какую-либо обветшавшую наигранную театральность, но именно игру как таковую. Тут следует разобраться, что-то понять важное для диссертанта.
Важное, но все-таки частное по отношению к диссертации в целом. Труд Л. М. Ивлевой представляет собой своего рода событие в развитии нашей театроведческой пауки. Только необоснованные заявления диссертанта в разделе «Заключение» о том, что работа в ряде положений носит незавершенный характер, что автор «делает только первые шаги» и т. д., только тот факт, что работы Ивлевой пока малоизвестны в нашем театроведении, не стали широким достоянием, не вошли пока широко в обиход научный, не позволяют оппоненту заявить о том, что диссертант достоин не кандидатской, а докторской степени. Хотя по существу содержания работа представляет собой докторскую диссертацию. Л в качестве кандидатской работа безусловно заслуживает того, чтобы се автор был удостоен ученой степени кандидата искусствоведения. Считаю также необходимым высказать предложение на рассмотрение Ученого совета — рекомендовать к изданию рукопись Л. М. Ивлевой в целом в виде монографии.*
* Заключительный фрагмент выступления Ю. А. Смирнова-Несвицкого был подхвачен в ходе обсуждения диссертации д-ром искусствоведения И. И. Зсм-цовским: «Уважаемые коллеги! Я согласен с Ю А. Смирновым-Несвицким, что только формальные обстоятельства мешают превращению сегодня кандидатской зашиты в докторскую. Впрочем, „номенклатурные" критерии к этому исслсдова нию малоприменимы. Перед нами, я бы сказал, не исследование ради диссертации, а диссертация ради исследования. Защита Л. М Ивлевой — действительно крупное и долгожданное событие не только для театроведения. Эту работу как свою прочтут эстетики и фольклористы, типологи культуры и искусствоведы всех специальностей. (Сл. окончание на с. 143)
ПРИЛОЖЕНИЕ
143
Л. М. Ивлева (ответ IO. А. Смирнову-I Гесвицкому)
В связи с театроведческим аспектом диссертации мне очень важно понять общий смысл и рефлекс данной работы, выросшей прежде всего на фольклорном материале, в собственно театроведческом русле. В этом отношении меня чрезвычайно обнадеживает поддержка Ю. А. Смирновым-I 1есвицким общего подхода к проблеме игры в ее театроведческой постановке и всего, что связано с обоснованием этнотеатроведческого направления исследования. Пожалуй, лучшая оценка предложенного в работе метода и новое свидетельство его перспективности — это обозначенное в отзыве Ю. А. Смирнова-Несвицкого поле сопоставлений в диапазоне от фольклорно-игровых явлений до театра переживания (это наблюдения, связанные с ролью зрителя, не-игрой в игре и др.). Именно типологический подход, освобождая наш взгляд на игровые явления от генетизма, обеспечивает в данном случае большой простор для интересных и многообещающих сопоставлений по существу в системе игровых признаков, обнаруживает специфику игрового способа отражения жизни в разных его оттенках.
Во Второй главе диссертации меня действительно интересует не просто технология фольклорной игры, но самый механизм ее порождения через специальную технику и механику, механизм игровой специфики восприятия и отражения мира. То, что Ю. А. Смирнов-Несвицкий не просто почувствовал это, по и как бы продлил это на материале, более близком и знакомом ему по роду интересов, -- чрезвычайно важное для меня обстоятельство.
Я согласна с замечанием оппонента относительно беглости изложения тезиса о том, что на уровне рассмотрения игры в ее театроведческом понимании не учитываются многообразные оттенки и различия в конкретном характере действия, а также специфика частных случаев перевоплощения (с. 39). Этой формулировке действительно недостает конкретного содержания, но она важна для меня именно в связи с поиском универсального смысла перевоплощения в игре, по отношению к которому перевоплощение по системе К. С. Станиславского является исторически и типологически частным случаем. Как частные случаи я рассматриваю далее (в первой части Второй главы) только типы фольклорного перевоплощения, и это занимает большую часть Второй главы диссертации. Понятно, что в трактовке других частных случаев я нс могла стремиться к той же мере конкретности.
В облике, в мышлении, в методе и стиле Л. М. Ивлевой есть нечто классическое, но нс застывшее, а творчески инициативное. Чистота и глубина ее мироощущения и ее профессионализма действуют освежающе на теоретика и вдохновляюще на практика. Это глубокое, современное исследование, обращенное к теории и практике, к фольклористике и к фольклоризму. Публикация его будет иметь в своей области рубежное значение выход науки на парадигмально новый уровень. С этого уровня, с этой высоты в новом свете видны и ретроспектива, и перспектива науки, открывается целый веер актуальных исследовательских и практических задач*. (Примем, ред.)
144
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ -
СЕКТОРА НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) АН СССР <...>
Большинство кандидатских диссертаций по фольклору строится на основе двух обязательных слагаемых: нового, не введенного в научный оборот материала и его теоретического осмысления. Зачастую первое из этих слагаемых — новый материал — по своему значению намного превосходит теоретические выводы, к которым приходит диссертант. Диссертационные работы иного плана (имеются в виду прежде всего кандидатские диссертации), где теоретическое осмысление материала, давно введенного в науку, составляет суть исследования, создаются реже, являясь скорее исключением, чем правилом.
Представленный труд Л. М. Ивлевой «Дотеатрально-пгровой язык русского фольклора: Проблема теории и типологии» относится к этому редкому числу работ.
Исходным моментом исследования Л. М. Ивлевой было убеждение, что в русской народной культуре существует большой пласт фольклорно-этнографических явлений, которые могут и должны быть подвергнуты театроведческому анализу. Попытки такого рода делались на протяжении столетия, но не были, как правило, ни систематическими, ни специальными. Театроведческий подход к фольклору ограничивался темами «театр и ритуал», где преобладали генетические концепции, и в первую очередь понимание обряда как потенциального театра, а игры — как переходной стадии от ритуала к театру; темой «фольклор и театр», сводившейся в основном к поискам элементов театральности в фольклоре; а также темой «театрально-игровой фольклор и профессиональный театр», которая решалась однозначно — профессиональный театр есть высшая ступень в эволюции фольклорного театра.
Необходимо отметить исследовательскую смелость диссертанта: в работе подвергаются пересмотру, казалось бы, незыблемые, давно устоявшиеся и проверенные па большом материале положения, выводы, теории, за которыми стоят авторитеты таких ученых, как Н. С. Тихонравов, Ал. Веселовский, В. Н. Харузина, В. И. Вссволодский-Гернгросс, А. Д. Авдеев, В. И. Чи-черов, П. Г. Богатырев, В. Е. Гусев и др.
Своя, собственная точка зрения родилась у диссертанта, разумеется, не на пустом месте. Л. М. Ивлева учла «коллективный исследовательский труд многих поколений» ученых, так или иначе обращавшихся к проблеме игры, игрового фольклора, народного театра, и подвергла строгой научной критике все существовавшие и до сих пор господствующие концепции. Убедившись в невозможности объяснить явления игрового фольклора не только частной теорией обрядового происхождения драмы, ведущей свое начало от Аристотеля, но и вообще эволюционной теорией искусства, предполагающей «эволюцию под знаком прогресса» (от примитива к совершенству), Л. М. Ивлева пришла
ПРИЛОЖЕНИЕ
145
к необходимости искать новый подход к материалу, разрабатывать новую теорию игрового языка.
Л. М. Ивлева — ученица В. Я. Проппа, и данная работа является продолжением пропповского направления в науке, постулирующего выработку падежного метода, тщательную проверку предпосылок исследования, а также всестороннее, многоаспектное изучение материала в синхронном срезе, которое должно предшествовать генетическим и историческим разысканиям. В. Я. Пропп практически все свои книги начинал с утверждения, что только правильный метод гарантирует верность выводов: «<...> прежде всего должна быть правильно поставлена задача, и тогда правильный метод приведет к правильному решению» («Исторические корни волшебной сказки» (Л., "1946. С. 22)).
Итак, первостепенными задачами, вставшими перед Ивлевой, оказались: отбор материала и разработка «методологически обоснованных предпосылок и специфических категорий, то есть опыт создания театроведческого метаязыка» для описания игрового фольклора (с. 14). Отсюда и строение работы: Первая глава — это «изложение театроведческой теории игры» и возможных подходов к решению проблемы типологии игровых явлений, Вторая глава — практическое применение предложенной теории на материале русского фольклора.
В последнее время в фольклористике и этнографии много говорят о типологии, о генезисе, до бесконечности расширяя сферу их применения. При этом часто наблюдается подмена изучения самого феномена культуры, искусства разысканием его исторических корней, истоков, реконструкцией явления в целом или произвольно выбранных образов, мотивов, приемов, игнорируется первый необходимый этап — изучение материала не как суммы фактов и элементов, а как системы, обладающей собственной структурой, поэтикой, сферой бытования и живущей по своим внешним и внутренним законам. Поэтому весьма актуально обоснование Ивлевой тезиса о том, что изучать историю, протягивать исторические нити и тем более решаться на поиски генезиса можно, только досконально зная предмет изучения, что для последующих работ в плане диахронии должна быть создана падежная типологическая база.
Из сложного, запутанного комплекса значений «игры» диссертантом были выделены те значения, которые соответствуют театроведческому аспекту исследования. Затем на их основе и в результате осмысления большого количества разнообразного материала Ивлева сформулировала новое для фольклористики и театроведения понятие игры как «специфической модели и способа существования целого ряда культурных феноменов», включая театр, большую группу народных игр, многие моменты обрядное ги.
Подходя к игровому фольклору с театроведческой точки зрения, Л. М. Ивлева подчеркивает: театроведческая концепция обряда не есть фольклористическая или этнографическая, соотношение обрядового и необрядового нс должно ее занимать, так как в данном взгляде на материал важна не функция, а форма выражения. Ведь именно система языка, определенное — «игро
146
ПРИЛОЖЕНИЕ
вое» — соотношение плана выражения и плана содержания и создают в результате театр, хотя функционально он может долго оставаться по сути дела обрядом, ритуалом.
Основанная на прочном методологическом фундаменте систематизация громадного, чрезвычайно пестрого и неоднородного материала, попытка найти устойчивые величины, безусловно наличествующие в видимом, варьирующемся многообразии, увенчались успехом, привели к открытию двух главных, ведущих критериев — перевоплощения и действия, каждому из которых посвящена отдельная часть Второй главы. Выделение этих основных морфологических признаков театральности позволило объединить на определенном уровне исследования широкий круг явлений от народных игр до театра в собственном смысле слова.
Несомненным достижением Л. И. Ивлевой является то, что ей удалось увидеть систему там, где до нее обнаруживали лишь отдельные элементы и разрозненные факты (так называемые элементы театральности), строгую закономерность и обусловленность там, где просматривались лишь случайные сцепления или полная свобода выбора (мир персонажей ряжения), наконец, многоступенчатую иерархию типов на месте абсолютной несопоставимости или последовательного соподчинения (обряд — игра — фольклорный театр — театр профессиональный).
Особенно перспективно обоснованное диссертантом обращение к типологии как ступенчатому описанию в противоположность «классификационному» (с. 62), ибо только первое (типология) позволяет выявить и понять характерные для фольклорной традиции смешанные, пограничные, переходные, вариативные типы.
Практическую значимость такого описания материала демонстрирует вторая часть диссертации, где автор рассматривает в совокупности все формы игрового перевоплощения и типы игрового действия, убедительно освещая целый ряд важных театроведческих проблем, в том числе проблему «актер и зритель», типы сюжетной композиции театрально-игровых явлений, обеспечивающие создание различных эффектов (от сосредоточенности на сюжете до ритуальной действенности), проблему маски, исходя в трактовке из функционального ее понимания, что в конечном итоге позволило вскрыть семантику этих явлений и обозначить место их в истории культуры.
Принципиально новый подход к материалу, как уже было сказано, привел Ивлеву к переосмыслению устоявшихся понятий. Соотношение обряда и игры предстало теперь не как последовательность двух фаз, а как сосуществование взаимообусловленных формы и содержания; значительная часть обрядов получила свое полное и точное объяснение в свете доказательства того, что они суть «мифология — по содержанию (актуальному или пережиточному)» и «игра — по форме» (с. 48), а десемантиза-ция обряда, продолжающего существовать в тех же игровых формах, приводит к развлекательности, то есть в конечном счете к театру.
Оригинальная точка зрения позволила увидеть в новом свете хорошо известное и много раз описанное ряжение, мир персонажей которого, вопреки существующему мнению, оказывается не бесконечно открытым и отражающим явления социальной, бы
ПРИЛОЖЕНИЕ
147
товой действительности, а достаточно стабильным и по числу персонажей и участников, и в плане сюжетов. Из элементарного и наивного подражания жизни ряжение под пером Ивлевой превратилось в «воплощение определенного представления о жизни», то есть из развлекательного копирования возведено в мировоззрение.
Подробное рассмотрение в работе перевоплощения и превращения как двух крайностей, полюсов восприятия мира — игрового и антиигрового, наводит на массу интересных размышлений. Например, продолжив мысль автора в этом направлении и выйдя за рамки игрового фольклора, можно приблизиться к пониманию такого периодически повторяющегося явления, как поиски представителями профессионального театра чистой театральности: многие чуткие деятели сцены в моменты наибольшего приближения театра к быту (натуралистический театр), к жиз-неподобию, инстинктивно отказывались от такого полного перевоплощения, стоящего на грани превращения, когда сходит на нет игровая суть театра и ему грозит растворение (то есть смерть) в бытовизме.
Полученные Ивлевой результаты и продемонстрированная методика подхода к игровому фольклорному материалу закономерно ведут к необходимости внесения существенных коррективов в историю русского фольклорного и профессионального театра (в первую очередь его раннего периода), ибо становится несомненным парадоксальный до сего времени вывод: собственно фольклорный театр в России является вторичным по отношению и к русскому фольклору, и к профессиональному театру. Насущным оказывается и рассмотрение с предложенных позиций некоторых жанров традиционного и позднего фольклора — к примеру, хороводных игр, площадного фольклора, театрального лубка, любительского театра.
Работы, подобные диссертации Л. М. Ивлевой, предполагают продолжение. Это осознает и сам автор, считая данное исследование только началом, фрагментом большого будущего труда. Именно поэтому у любого, кто, знакомясь с работой Ивлевой, сразу и безоговорочно перейдет в ее «веру» или будет сопротивляться, отстаивать традиционную позицию, возникнет немало вопросов.
Скажем, как быть с понятием «подражание», которое не является ни перевоплощением, ни превращением, но присутствует во многих играх детей, в том числе и в играх драматизированных?
Примеры во Второй главе приводятся, как правило, из разных игр, а есть ли такие случаи, когда одна и та же игра дана в записях разных эпох, зафиксирована у разных социальных и возрастных групп и в нескольких регионах? Это дало бы возможность выявить различия и константы на уровне и синхронии, и диахронии.
Куда следует отнести ярмарочных зазывал, своеобразных представителей «народного театра одного актера», — к явлению игрового или чисто театрального плана?
Без сомнения, дальнейшая разработка намеченных проблем приведет автора и к такому сложнейшему, основополагающему
148
ПРИЛОЖЕНИЕ
вопросу, как соотношение понятий «игра», «зрелищность» и «праздничность». Видимо, тот факт, что эти проблемы не затронуты в диссертации, объясняется необходимостью серьезного обдумывания и привлечения более широкого материала, далеко выходящего за рамки игрового фольклора.
Нескол ько з амеч ан и й.
1. На стр. 55, говоря о лексико-семантической группе, которая объединяет терминологию ряжения, связанную с демонической, нечистой силой, Л. М. Ивлева за толкованием этих терминов обращается исключительно к словарю Вл. Даля. Между тем на интересные размышления могли бы навести и некоторые работы современных исследователей, в частности О. А. Черепановой (книга «Мифологическая лексика Русского Севера» (Л., 1983)), специально изучавшей языковые средства выражения мифологического материала. Собранные ею сведения о кикиморах, шишиморах, шуликунах, смутницах и т. п. персонажах вносят дополнительные штрихи в объяснение факта перенесения наименования нечистой силы на участников ряжения.
2. В параграфе «Пол и возраст как регуляторы распределения игровых ролей» первой части [Главы второй] исследования автор обращается к играм взрослых, в которых отмечено недифференцированное участие холостых парней и девушек, девушек и парней любого возраста, «совместные игры парней, с одной стороны, и женщин (молодых и пожилых), с другой». В теоретической работе, естественно, нет надобности детально описывать весь привлекаемый материал. Однако хотелось бы получить более подробную информацию об указанных играх, поскольку они редко упоминаются в научной литературе и практически не изучены.
3. К рассуждениям о ритуальном материале, употребляемом в ряжении (рогожа, мех), хотелось бы добавить такой факт, как одевание в рогожу, зашивание в шкуру животного (медведя) еретиков, что служило одной из тяжелейших форм наказания и подчеркивало связь обвиняемых с нечистой силой, с дьяволом.
4. Видимо, лучше не употреблять слова «зритель» даже в заковыченном варианте по отношению к игре вообще и особенно к фольклорно-этнографическим явлениям. Правильнее говорить о степени включенности в игру, где на одном полюсе — активный участник, а на другом — сопереживающий смотрящий, «зритель». Это же касается и термина «сценарий».
5. На стр. 69 приводится автором пример, когда молодые парни, собравшиеся разыгрывать «Царя Максимилиана», не желали рядиться женщинами. Ударение здесь следует сделать не на исключительности этого факта, а как раз на его закономерности: в данном случае форма игры сохранялась, но по содержанию представление ушло далеко от обряда, эго чистый фольклорный теато, причем театр конца прошлого века в Ярославле, где сильна была в это время традиция профессионального театра и наблюдалась активная ориентация на него любительских коллективов.
В заключение следует особо подчеркнуть, что работа написана прекрасным научным литературным языком, читается с захваты вающим и нтересом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
149
Талантливое, новаторское исследование Л. М. Ивлевой — событие в отечественной фольклористике, поэтому оно должно быть рекомендовано к печати в виде расширенной монографии.
Все приведенные в отзыве замечания носят сугубо частный характер, а вопросы подчеркивают перспективность и острую актуальность диссертационной работы. Автореферат полностью отражает содержание и строение работы. Таким образом, исследование Л. М. Ивлевой «Дотеатрально-игровой язык [русского] фольклора: Проблема теории и типологии» отвечает всем самым высоким требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор безусловно достоин присуждения ему ученой степени кандидата искусствоведения.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании сектора народнопоэтического творчества ИРЛИ 21 ноября 1985 г.
Заведующий сектором народно-поэтического творчества ИРЛИ, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
А. А. ГОРЕЛОВ
Л. М. Ивлева (ответ на отзыв ведущей организации)
Я благодарна фольклористам ведущего учреждения за подробный анализ основных содержательных узлов моей работы. Этот анализ и итоговый вывод из него я рассматриваю как свидетельство того, что критическая направленность диссертации, общая логика теоретических построений в ней, основная методологическая установка, разработанная мною применительно к игровому пласту материала, а также большая часть конкретнотипологических выводов получили коллективную поддержку фольклористов ИРЛИ. Частные вопросы,^ сформулированные в отзыве, а также ряд конкретных замечаний, безусловно, требуют ответа уже сегодня, и я постараюсь на них ответить.
Особое значение имеет для меня вопрос о случаях повторной записи одной и той же игры в разных регионах, половозрастных и социальных группах исполнителей. В отзыве он продиктован прежде всего интересом к выявлению различий в плане синхронии и диахронии. Могу сказать, что такого рода записи есть, более того — они неединичны и касаются разных игровых сюжетов. Однако вопрос о константах и различиях, выявляемых диахронией, в анализе подобных записей осложняется, на мой взгляд, проблемой локальных различии, и его корректное решение требует хорошего знания отдельных местных систем игры. С точки зрения игровой специфики материала наиболее перспективное направление сравнения связано для меня с изучением таких игр, которые я называю одноименными и которые бытуют в разной возрастной среде: в этих случаях возрастная переориентация свидетельствует об определенной корреляции между возрастными показателями и собственно игровыми приемами игры. 'Гут есть определенные закономерности, и это очень существенно именно в структурно-типологическом отношении.
Что касается ряда используемых в диссертации терминов (актер, зритель и пр.), то я осознаю их относительную терми-
150
ПРИЛОЖЕНИЕ
нологичность, что выражается не только в использовании кавычек, но и [в] вариативности ряда обозначений для соответствующих явлений. Отказаться от этих терминов совсем пока невозможно: абсолютные терминологические аналоги соответствующих явлений фольклора мной пока не найдены.
Вопрос по Второй главе, где в соответствующем параграфе анализируются разные типы возрастных объединений в игре, связан со случаями, которые действительно представляются редкими: источники, по которым выявлены случаи совместного участия в игре ряженых парней и женщин (молодых и пожилых), названы в тексте диссертации: это книга С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила* и описание А. Архангельского (№ И Библиографического указателя).
Работы О. А. Черепановой (названная в отзыве книга и другие) мне хорошо известны, но они ограничены рассмотрением материалов Русского Севера. В этом смысле я считала вполне оправданным обращение к словарю В. И. Даля, в котором зафиксированы разнорегиональные случаи совпадения названий ряженых с обозначениями персонажей народной демонологии. Фронтальное этнолингвистическое исследование лексического пласта ряженья еще предстоит, и я предполагаю заняться этим в будущем, но сейчас мне важно было показать лишь скрытую в народной терминологии возможность для интерпретации как собственно игровых, так и содержательных характеристик ряженья.
В. Е. Гусев (научный руководитель)
Диссертация Л. М. Ивлевой относится к типу фундаментальных теоретических исследований в области искусствознания. Предметом исследования избраны игровые формы русского фольклора, относящиеся к дотеатральному типу народного драматического творчества. В отличие от работ этнографов и фольклористов, Л. М. Ивлева впервые предпринимает последовательный театроведческий подход к исследуемому материалу, разрабатывает специальную теорию игры, позволяющую установить типологические отношения между народным обрядом, народными играми и театром.
Выделение дотеатральных видов народного драматического творчества, наряду с собственно фольклорным театром, необходимо для осознания стадиальных и типологических различий между этими формами, для их научной систематизации и для определения предмета исследования в каждом отдельном случае. Для историка театра обе формы представляют равный интерес, поскольку их изучение способствует познанию всего процесса происхождения и развития народного драматического творчества. При этом особую научную актуальность приобретает театроведческое исследование дотеатральных видов народного драматического творчества. Л. М. Ивлева глубоко и критически анализирует обширную научную литературу, обнаруживая несостоятельность господствующих эволюционистских концепций.
ПРИЛОЖЕНИЕ
151
Диссертация Л. М. Ивлевой — результат многолетней, сосредоточенной и целеустремленной исследовательской работы, основанной на большой и прочной источниковедческой базе, в частности, на архивных материалах и на собственных полевых записях во время специальных экспедиций. Представленный на защиту текст диссертации заметно отличается от первоначального варианта, написанного во время обучения в аспирантуре. Это — самостоятельное, оригинальное, в определенном отношении новаторское исследование. Публикации и доклады Л. М. Ивлевой по теме диссертации положительно восприняты научной общественностью. Ее статья «Обряд. Игра. Театр», опубликованная в сборнике ЛГИТМиК «Народный театр» (1974), особо выделена в многочисленных положительных рецензиях на этот сборник, появившихся как в СССР, так и в зарубежной периодике, вошла в научный обиход.
Рекомендую диссертацию Л. М. Ивлевой к защите <...>.
L
отзыв
ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ ДИССЕРТАЦИИ Л. М. ИВЛЕВОЙ
Я познакомился с диссертационной работой Л. М. Ивлевой по автореферату и предварительным публикациям. Считаю, что многолетний труд диссертантки заслуживает высокой оценки. Его теоретический уровень и широта привлеченного материала значительно превосходят обычный уровень кандидатских диссертаций.
Л. М. Ивлева подвергает весьма убедительной критике существующие теории происхождения русского народного театра, обнаруживая при этом прекрасную осведомленность в его истории и теории. Демонстрируя шаткость генетических построений, она предлагает обратиться к феноменологическому рассмотрению проблемы. В результате Л. М. Ивлевой удалось создать весьма оригинальную, логически стройную и тщательно продуманную общую теорию соотношения фольклора, народного театра и профессионального театра. В ее основание положена типология игровых форм (имеются в виду так называемые «ролевые игры»), которая построена в театроведческом аспекте. В целом это заставляет вспомнить популярную в современной культурологии, искусствоведении и фольклористике книгу Й. Хойзинги (J. Huizinga) «Homo ludens» («Человек играющий»). Вместе с тем концепция Л. М. Ивлевой вполне самостоятельна.
Л. М. Ивлева выделяет два важнейших структурообразующих компонента — перевоплощение и действие, образующих минимальный инвариант игровых форм.
Я не буду пересказывать концепцию Л. М. Ивлевой - она изложена в автореферате и несомненно будет подробно анализироваться официальными оппонентами. Скажу только, что концепция эта открывает советской фольклористике и театроведению увлекательные перспективы изучения фольклорного театра народов мира. Она несомненно будет еще неоднократно обсуждаться в фольклористической и искусствоведческой печати. Естественно, что некоторые особенности и составные элементы концепции Л. М. Ивлевой, как я могу судить о них по автореферату, мне также представляются дискуссионными. Так, например, мне думается, что в структуру минимального инварианта модели игровых форм целесообразно было бы включить (тем более при построении теории в театроведческом аспекте) коммуникативную функцию как «перевоплощения», так и «действия», причем в самом начале теоретических рассуждений, а не вводить ее только на одном из поздних этапов построения теории.
ПРИЛОЖЕНИЕ
153
Когда речь идет о «перевоплощении»-/«неперевоплощении* при исполнении архаических обрядов, связанных с архаическими мифами, нельзя не считаться с определенным дуализмом сознания их исполнителей. Они мыслили себя одновременно и самими собой и перевоплотившимися; они вощпэоизводили не сценарий мифа, а сам миф и его персонажей (так называемый «ин-тичиум»). При обсуждении ряжения и оборотничества и их игровой природы важно было бы учесть также так называемый обрядовый половой травестизм и т. п.
Вероятно, можно было бы найти и другие более крупные или мелкие вопросы для обсуждения. Самое же важное заключается в том, что диссертационное исследование Л. М. Ивлевой — весьма серьезная и самостоятельная работа сложившегося ученого, стимулирующая обсуждение фундаментальных проблем народного театра. Следует пожелать скорейшей ее публикации отдельной книгой.
Как я уже писал в начале отзыва, на мой взгляд, не может быть никаких сомнений в праве Л. И. Ивлевой претендовать на звание кандидата искусствоведения.
21.11.1985 г. Заведующий восточнославянским сектором
Института этнографии АН СССР и Главный редактор ж-ла «Советская этнография», члеи-корреспондеит АН СССР
К. В ЧИСТОВ
отзыв
ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ ДИССЕРТАЦИИ Л. М. ИВЛЕВОЙ
Исследование Л. М. Ивлевой, судя по автореферату и известным мне опубликованным работам автора, обладает новизной подхода к сложному комплексу фольклорно-этнографических материалов, часто именуемых «игровой фольклор» или «театральные формы фольклора».
Справедливая мысль диссертанта об отсутствии универсального театроведческого метода их изучения определила разработку автором ряда актуальных общих проблем: теории игры, типологии игровых форм, дотеатрального игрового языка.
Критически рассмотрев существующие теории соотношения обряда, игры и театра (обрядовое происхождение театра), театральной природы фольклора, автор осуществил структурно-типологический анализ, в основу которого положена идея соотнесенности обрядовых и игровых явлений с театром через инвариантное понятие игры.
Специфический дотеатральный игровой язык рассмотрен на двух кардинальных уровнях: перевоплощения и действия.
Обстоятельно освещены в работе система перевоплощения в фольклорной игре (проблема «актера», мир персонажей, их семантика, определяющая соотношение с действительностью, способы и средства перевоплощения, проблема маски) и типы игрового действия (зрелищность, особенности сюжетной композиции).
Названные вопросы не исчерпывают содержания работы, но представляются мне наиболее важными и перспективными ее итогами.
Исследование Л. М. Ивлевой безусловно заслуживает присуждения автору ученой степени кандидата искусствоведения <...>.
01.11.1985 г. Доктор филологических наук,
профессор кафедры русского устного народного творчества МГУ
Н. И. САВУШКИНА
ПРОЕКТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ специализированного совета К 092.06.01
Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова от 26.11.85 г.
(протокол № 8) о диссертации ИВЛЕВОЙ Ларисы Михайловны «ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ЯЗЫК
РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА: ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ И ТИПОЛОГИИ», представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.01 — театральное искусство
Диссертация Л. М. Ивлевой — оригинальное и новаторское исследование, в котором многочисленные явления и факты русской фольклорной традиции рассмотрены в театральном аспекте. С этой целью автор разрабатывает общую теорию игры и находит универсальные критерии атрибуции игровых явлений, что позволяет заново пересмотреть, отобрать и выстроить фольклорно-этнографические материалы, традиционно относимые по сумме разнородных признаков к народному театру.
Свободно и профессионально ориентируясь в огромном фольклорном материале (как источниковедческом, так и собственном полевом), диссертант подвергает его типологическому анализу, выявляет систему игрового языка, который оказывается в поставленной проблеме ключевым и дает возможность впервые выявить собственно театроведческий аспект соотношения понятий обряд — игра — театр.
«Мир игры» оказывается, по автору, весьма архаичным по происхождению типом человеческого поведения, которое моделирует мир и определяется системами признаков и приемов перевоплощения и действия. При этом театроведческий подход постоянно coHCTaci'cn в исследовании с принципами этнографизма, что позволяет автору при анализе игровых явлений не упускать из поля зрения и систематический смысл, и значение этих явлений в контексте всей традиционной народной культуры.
Во всех официальных и неофициальных отзывах отмечается принципиальный вклад диссертанта как в фольклористику, так и в театроведение. По существу, в исследовании методологически и теоретически обосновано новое научное направление — этно
156
ПРИЛОЖЕНИЕ
театроведение. Следствия и широта его научной перспективы отмечены оппонентами уже на уровне самой диссертации. В частности, подвергнуты убедительной критике и фактически опровергнуты существующие долгое время и казавшиеся бесспорными эволюционистские и генетические концепции происхождения театра; принципиально по-новому предстает тема «фольклор — театр» на русской почве и русском материале; иначе увидены в «языково-игровой» сущности и в исторической перспективе проблемы актерского перевоплощения, взаимоотношения актеров и зрителей и т. д.
Некоторые вопросы и замечания, высказанные оппонентами, носят частный характер и относятся, главным образом, к необходимости дальнейших разысканий диссертанта, который безусловно заслуживает искомую степень кандидата искусствоведения.
В отзывах особо отмечается точность формулировок автора, его высокая филологическая культура письма. Единодушно высказано предложение о необходимости публикации исследования Л. М. Ивлевой в виде монографии.
II
СТАТЬИ
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
(К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ)
...Детская или народная игра, деревенская пляска в иных случаях ближе подведут нас к решению вопроса о том, что такое театр и каким он должен быть, чем произведение великого драматурга...
А И. Белецкий. Старинный театр в России
Многочисленные попытки выявить отношение различных иг-ровых явлений фольклора к собственно театральному искусству (в частности, драматическому) привели в итоге к двум полюсам: на одном утвердилось мнение о почти сплошной театральности фольклора, на другом определился нигилистический взгляд на фольклорный театр.
Большинством историков культуры театрально-драматическая форма признана сравнительно поздним видом искусства, линия развития которого начинается в обряде; вырастая на обрядовой почве, он во многом отрывается от нее, так как требует особенно’ высокой степени самосознания личности. Впервые сформулированная Аристотелем («Поэтика», гл. 26), наиболее полное выражение эта идея получила в «Эстетике» Гегеля, в рамках мифологической концепции (у Я. Гримма,' например) и - особенно — в «Исторической поэтике» А. Н. Веселовского/
При этом театроведческое исследование народно-драматических явлений не было, как правило, самодовлеющим, а велось в аспекте истории формирования профессионального театра. В настоящей работе — в противоположность этому направлению рассматривается не проблема генетического родства народно-драматических и профессионально театральных явлений, не проблема первичности одних и вторичное™ других, а совсем иная сторона их взаимосвязи - отношения типологического «родства» между ними. ,
Существуют две театроведческие концепции обряда, соотносимые с различными определениями театра.
Первая связана с представлениями о генетическом родстве театра и ритуала и вытекает, по существу, из эволюционной теории искусства (последняя рассматривает театр в прогрессив-
• Опубл, в кн.: Народный театр: Сб. ст. / Отв. ред. В Е. Гусев. Л., 1974. С. 20-35.
160
СТАТЬИ
ном движении от примитивных синкретических форм к более зрелым, которое сопровождается жанровой дифференциацией). Синкретизм обрядовой поэзии — в соответствии с данной теорией — и есть залог многих будущих искусств.3 Наиболее выразительны в этом отношении схемы — генеалогии языка и поэзии, а также схема возникновения «новых форм искусства» из первобытной синкретической хоровой поэзии, которые выстраивает Д. Н. Овсянико-Куликовский.4 Согласно данной концепции, театром обряд еще не является, хотя ростки театральных элементов в нем уже прослеживаются несомненно: это теория потенциального театра, театра в зародыше, имеющая многочисленных сторонников.5
По справедливому замечанию В. Н. Всеволодского-Гернгрос-са, ритуальные действия оцениваются здесь с позиций современного театра, то есть в рамках «предвзятых эстетических теорий»;6 это очевидная попытка применить термины одной системы к другим, в которых не всегда отыскиваются эквиваленты и которые не дают, естественно, полного тождества с исходной. При этом исследование ведется в конечном счете не на уровне систем, а на уровне отдельных элементов: обряд как «неполный» театр «вычитается» из театра, а признаки, которые позволяют производить эту операцию, устанавливаются всякий раз произвольно.7
Это дает возможность сторонникам рассматриваемой концепции, выделяя непременно театральные, с их точки зрения, элементы и одновременно обнаруживая некоторые из них в разных искусствах и жанрах, говорить о каждом из последних если не как о собственно «театральном» тексте, то как об «очаге зарождения будущего театра».8 Миф, сказка, диалог, хоровая песня — довольно широкий круг явлений подключается сюда на основании произвольных, не всегда первичных и существенных признаков. В результате любые «диалоги... являются зародышами драматических произведений»9 и «почти всякий первобытный рассказ есть драма».10
Нельзя нс признать, что вообще так называемые «театральные» элементы присущи фольклору в большей мере, чем искусствам профессионально-словесным. Это известно любому фольклористу, который имел дело с живым фольклором или полноценной записью его. Непосредственная жизнь многих фольклорных жанров связана с особыми исполнительскими средствами, а именно — с художественным воплощением «текста» не только в слове (и музыке), но и в жесте, мимике, выразительном или изобразительном телодвижении. Воспринимаемые исследователем в качестве элементов театра, названные признаки создают представление о «театральных» возможностях фольклора, на наш взгляд, явно преувеличенное.
Теоретически понятие «театр» при этом никак не определяется; практически оно перестает существовать как обозначение самостоятельной системы, дающей не только набор отдельных признаков, по имеющей еще и особую их иерархию. Это понятие разрушается при любой попытке отнести его к тем явлениям, в которых исследователям мерещатся элементы сравнительно новых театральных систем. Вместе с тем подобные элементы (в
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
161
том числе и действительно театральные) не существуют сами по себе, а, находясь в сложных системных отношениях, либо определяют собой целые системы (если они выведены верно), либо являются не существенными для них. Кроме того, даже существенные элементы должны оцениваться еще и с точки зрения их первичности —производности.
Но другой концепции ставится знак полного равенства между обрядом и театром; все грани стираются, и — в случае диахронического подхода — тот и другой считаются лишь разными историческими фазами в жизни театра.11 Основываясь на определении театра как искусства действования, данная концепция выдвигает на первый план важный, однако недостаточный признак.12 Этот взгляд подвергался критике в разных аспектах. Остановимся здесь только на одном. Он сводился к замечанию о том, что обряд наделен преимущественно религиозно-магической, а не зрелищной функцией.13 Именно это обстоятельство и не позволяет критикам рассматриваемой точки зрения исследовать обряд в ряду театрально-игровых явлений. Однако признать подобные возражения достаточно основательными, видимо, нельзя во всех случаях, когда обряд дает требуемый минимум театральных атрибутов и может быть рассмотрен как своего рода театральная система.* В действительности трудно (а часто и вовсе невозможно) провести рубеж, по одну сторону которого — чистая магия, но другую — чистая зрелищность. В частности, многие обряды, послужившие материалом для теории В. Н. Всеволодекого-Гернгросса, существовали двояко: как сакральные и как профанные (с разным ареалом распространения).
Что касается указания на магическую функцию как основную для обрядовых действ, то, думается, в общетеатроведческом смысле этот признак вряд ли может стать ведущим. Кроме того, мы настолько привыкли к мнению об утилитарной функции фольклора, что часто забываем о внеэстетических функциях искусства вообще — публицистической, социально-политической, научной, которые сопутствуют эстетической, иногда порождают ее и с трудом могут быть от нее «очищены». Так же и театр не имеет лишь собственно зрелищной функции: она осложнена то идеологической (в том числе религиозной), то непосредственно или опосредованно воспитательной и т. п.
Принимая всерьез рассматриваемое здесь положение, историкам театра пришлось бы отказаться, к примеру, от античного театра, который нс выдержал бы подобной проверки на театральность. Таким образом, мы считаем возможным отклонить некоторую долю возражений против концепции В. Н. Всеволод-ского-Герн гросса. И все-таки не находим возможным полностью разделить ее.
Обе намеченные концепции дают в итоге столь неопределенное представление о театрально-драматическом искусстве, что возникает необходимость либо искать в разных явлениях фольклора отдельные театральные элементы, либо безоговорочно зачислять эти явления в категорию театральных. Примером попыток первого рода можно считать работы типа «сказка и театр»,
Об этом см. ниже.
162
СТАТЬИ
«песня и театр»; образец второго рода — взгляд на гадание, заговор и проч, как на разновидности собственно театральной деятельности (ср., например, увлекательную теорию Н. ф. По-знанского14).
Однако обряды неоднородны, и не всё в них, конечно, должно стать предметом театроведческой интерпретации. Обрядовая модель принципиально воспроизводима: периодически или от случая к случаю она — подобно пьесе — разыгрывается по некоторым заданным правилам, принятым членами коллектива. Однако обряд чрезвычайно далек от явлений театрально-игрового порядка, пока его участники остаются самими собой — пусть даже в не совсем обычных обстоятельствах.
Это легко проиллюстрировать рядом примеров из свадебного обряда. В его рамках случайные гости, роль которых никак не регламентирована ритуалом, в отдельных эпизодах не столько играют, сколько живут (правда, в условиях особой, праздничной атмосферы). Вместе с тем дружка, жених, невеста, их родители — это уже от начала до конца взятая на себя роль.* Ее границы — вехи свадебной церемонии: за пределами обряда дружка, например, свободен от целого ряда функций и может никак не согласовывать с ними свое поведение; обязательства, принятые вместе с этой ролью, за рамками свадьбы уже недей-ствител ьны.
Подобное раздвоение в поведении дружки или невесты на свадьбе, при котором они и равны, и одновременно неравны себе, есть знак того, что перед нами явление игрового порядка. Еще выразительнее в этом смысле участие ряженых в свадебном обряде. Аналогичным образом, водить козла, медведя в святки или на масленицу не значит еще играть. Но как только живого козла (медведя, коня) заменяет ряженый, изображающий то или иное животное шаржированно-подражательными движениями, голосом, с помощью специально изготовленных маски, костюма и т. д., или от настоящего животного отделяется своеобразный его «двойник» в лице поводыря (ср. роль кукольника), тогда появляется, условно говоря, игровой образ.15’
Относить решительно весь обряд к театральным явлениям было бы неправомерно; он должен быть разбит на отдельные сегменты, различные с точки зрения их театральной природы. На наш взгляд, практическое решение этого вопроса достижимо лишь при условии некоторого предварительного отхода от конкретного материала: оно должно базироваться на инвариантном представлении о природе театрально-драматического искусства, которое в дальнейшем позволит построить структурную типологию «театральных явлений».16
Задача описания последних как некоего инварианта диктует необходимость выхода за рамки имманентного исследования отдельных театральных систем. Создание общей театроведческой формулы обряда, народной игры и театра требует отвлечения от специфики множества конкретных текстов, от всего времен
* Особую благодарность приносим Г А. Левинтону за высказанное при обсуждении настоящей работы замечание относительно свадебного обряда, принятое нами.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
163
ного, исторически подвижного в театральном искусстве — от того, что делает театр вообще театром античности, классицизма, фольклорным театром и т. д. Особую роль при таком подходе играет сравнение отдельных «театральных» текстов и систем — но не с целью обнаружения специфики каждого (каждой) из них, а с целью определения общего для всех них ключевого признака. Актуальность приобретает, соответственно, создание такого эталона, с точки зрения которого получат общее значение все данные явления и тем самым определится место для каждого из них в отдельности: он позволит выявить и интерпретировать универсалии разного рода.
«Театральным» инвариантом обряда, народных игр и театра, переводящим театр, игры, обряды, местом и временем обозначенные, в явление театральное вообще, мы считаем игру. Это понятие характеризует большой круг явлений — от детских игр до трагедии. Попробуем раскрыть его содержание, придавая ему исключительно театроведческий смысл и отвлекаясь от существующих в разных науках многочисленных определений игры — физиологических, социологических, психологических, педагогических и проч.17
Игра в нашем смысле как особая знаковая система театрального порядка определяется двумя необходимо-существенными признаками, а именно: 1) перевоплощением и 2) действием, совершаемым в данный момент, то есть перевоплощением с распределением ролей, партий.* Она характеризуется также воспроизводимостью действия. Графически наше определение может быть представлено следующей схемой:
перевоплощение действие
игра
На данном уровне не учитываются различия в качестве действия, а также специфика частных видов перевоплощения.
Игра требует обязательного вхождения в роль, а значит, и существования играющего одновременно в двух мирах — действительном и вымышленном, или, по существу, «на грани миров».18 Играющий всерьез на то время, пока длится игра, воображает себя вымышленным лицом в вымышленной обстановке и делает это воображение доступным для других, то есть стремится, с одной стороны, к «автотрансформации», с другой — к «околдованию» всех неиграющих.
Подобное совмещение двух миров с возможностью переключения в любой из них свойственны разным искусствам. Однако игра в отличие от них связана со специфическим материалом. Способность человека к изображению, пересозданию, воспроизведению действительности в качестве этого второго мира, к воплощению образов художественного воображения осуществляется, объективируется здесь в действии, по особым законам сцениче
* Диалог, движение, жест, ряженье (в широком смысле слова) — всё это производные, вторичные признаки, и на них сейчас нет необходимости останавливаться.
164
СТАТЬИ
ского искусства. Естественно при этом, что логика игры и логика реальной действительности не обязательно совпадают.
Можно сказать, таким образом, что микроструктура игры — это играющий человек (актер, репрезентирующая его кукла, участник обрядового действия и проч.), в котором совмещены и произведение, и его создатель: не зная того отчуждения результатов творчества, с которым постоянно приходится сталкиваться в других искусствах, театральное произведение существует лишь однажды — в процессе создания.
«Сцена пишет актером, как живопись кистью», — вот, на наш взгляд, относительно удачная формула, найденная Н. Я. Берковским специально для театра,19 она вскрывает собственно игровое содержание театра и в этом смысле — при широком понимании терминов «актер» и «сцена» — применима к любому игровому явлению.
Игра возникает там, где человек в действии создаст из Я не-Я. Для этого имеется множество игровых приемов и средств: мимика, жесты, речевые интонации и такие внешние (по отношению к играющему) факторы, как обстановка, декорации, бутафория, костюм, грим, маска и проч., каждый (каждое) из которых в отдельности — вне игрового содержания — не создает еще театрально-драматического явления.
При таком содержании понятие игра вбирает весь театр, а наравне с ним значительную часть детских и народных, в том числе обрядовых, игр (однако обряд в целом еще не есть игра). Это понятие позволяет реализовать, таким образом, первую задачу типологии — выявление изоморфных (и тождественных) явлений. Наряду с ней чрезвычайно важна задача установления признаков, присущих лишь отдельным звеньям в цепи изоморфизма. В первую очередь следует отметить, видимо, что профессиональный театр и игры (детские, обрядовые, нсобрядовые) могут быть рассмотрены в большинстве случаев как игры разного тина. Соподчиняя их в равной мере инвариантному понятию игры, мы не ставим между ними знака полного равенства; наоборот, мы подчеркиваем этим, что, будучи на некотором уровне однородными явлениями, имеющими общее значение, на других — они лишь сопоставимы, но не равны. Эти различия, видимо, того же порядка, что и различия между народной сказкой и романом как прозаическими произведениями или между народной песней и литературным стихотворением, которые осознаются как поэтические тексты.
Таким образом, условно названными типами (театр и игры) структурно-игровая типология, конечно, не замыкается: она лишь начинается с них. К тому же ее создание поможет пересмотреть типовое соотношение названных групп (игры и театр), обычно выделяемых эмпирически; возможно, в них окажется некоторое число полностью пересекающихся признаков (в исполнительской технике, костюмировке, оформлении сценической площадки и проч.).
Особенного внимания с этой точки зрения заслуживает типологическая классификация в пределах системы собственно фольклорных игровых явлений — народной драмы, детских, обрядовых, нсобрядовых игр. Деление, зафиксированное данными
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
165
терминами, вряд ли всегда будет оправдано театроведчески: только структурная типология даст возможность убедиться в том, что одинаковые, к примеру, с точки зрения игровой модели игры при таком делении оказываются разобщенными. Можно заметить, например, исключительную подвижность признака обрядовой принадлежности, который даже в рамках одной традиции выступает то как непосредственно данный, то как генетически присущий явлению. По всей вероятности, типология фольклорно-игровых явлений с позиций театроведа должна в первую очередь учитывать материал нерасчлененно в отношении его обрядовой принадлежности. Особенно плодотворной в этом смысле представляется работа, начатая В. Н. Всеволодским-Гернгроссом:20 ему принадлежит первая попытка выявить типы народных игр с точки зрения специфически игровой модели, ими создаваемой.*
Поясним последнее обстоятельство примером.
С одной стороны, мы неоднократно встречаемся в фольклоре с такого рода повторяемостью, когда игра в Кострому выступает то как обрядовая, то как детская (бытует в репертуаре как детей, так и взрослых — с разной целевой установкой), хотя для театроведа, выявляющего собственно театральный язык игры, это уточнение решающего значения не имеет. С другой стороны, при переходе игры из обряда в развлечение детей (и наоборот) возможны существенные изменения в ее игровой структуре, которые должны быть отражены типологической классификацией.
Она поможет вскрыть однородные пласты игрового «языка» и создать наиболее экономный способ кодирования информации о структуре различных игровых «языков», в том числе фольклорных.2’ Пам представляется вполне осуществимой задача создания типологии игрового «языка», которая обозначит реально существующие «языковые» возможности в пределах типов и, следовательно, позволит изучить не только этот язык как таковой, но и конкретные способы его актуализации в отдельных текстах.
Сравнительно систематически игровая терминология применялась только в отношении профессионального театра. Однако, на наш взгляд, она является не менее важной и при описании обрядового фольклора в целях специально театроведческих — прежде всего в связи с задачей проследить приемы игрового перевоплощения в обряде (последнее — в свою очередь — может иметь и практическое значение).
Игровая типология предполагает прежде всего синхронное описание различных игровых явлений фольклора; тип может быть представлен и ритуальной сценкой, и детской игрой, и сценой народной драмы, отношения исторического следования и взаимодействия между которыми при этом никак не раскрываются и вообще не учитываются. Вероятно, не всегда и возможно выстроить их так, как хотелось сторонникам двух ведущих концепций XIX века — мифологической и историко-культурной, —
* Остается лишь пожалеть, что, не считая играми те ритуалы, которые обрядовую функцию полностью нс утратили, он не принимал их во внимание
166
СТАТЬИ
то есть в виде генеалогического древа, корнями уходящего в обряд.
Однако структурная типология в любом случае не дает ответа на эти вопросы, как и на вопрос о том, чтб тот или иной игровой прием означает. Диахронический анализ (историческая точка зрения на формы бытования, семантику отдельных игровых явлений) возможен в исследовании только тогда, когда особое место в нем займет историко-этнографический аспект.22
Не стремясь сейчас определять театр по разным признакам как специфический тип игры (это выходит за пределы поставленной в статье задачи), заметим, однако, что абсолютным и чрезвычайно древним аналогом его считаем народные игры — и обрядовые, и необрядовые. И тот и другие пользуются общим театрально-игровым языком. Для теоретика театра, бесспорно, важно выявить театральный язык фольклора, для историка — проследить этот язык в исторической перспективе. Однако объяснить игровой язык фольклора, полноценно понять его можно только в терминах этнографии. Выделить знаки — еще не значит прочитать их (хотя, конечно, значительно облегчить задачи прочтения). А театральные знаки фольклора часто имеют смысл лишь в системе обрядовых представлений или их «переживаний». Поэтому перевод данной разновидности театрального языка на общедоступный должен происходить «при свете этнографии».
Используя до некоторой степени общий театрально-игровой язык, игры разных типов различно реализуют его в тексте, имеют неодинаковые функции, по-разному соотносятся с действительностью.
В рамках данной работы мы считаем целесообразным раскрыть и конкретизировать ряд общих положений на обрядовом материале, который отличается рядом особых примет и представляет для театроведа особые трудности. Попробуем наметить некоторые признаки обрядово-игрового фольклора, пока не закрепляя их терминологически.23
В ритуально-игровых явлениях с помощью театрал ьного языка осуществляется магическое целенаправленное вмешательство в реальную жизнь — вызывается к жизни необходимое, изгоняется нежелательное, определенным образом конструируется предмет веры. С этим связан длинный ряд особенностей, и в первую очередь — устойчивость, точность, то есть надындивиду-альность воспроизведения обряда, которая всегда подконтрольна в данном коллективе: особую «память» общества хранят либо наиболее увгикасмые его члены, либо специально посвященные и полномочные в сакральном смысле, роль которых в исполнении обрядовых действий и игр может считаться аналогом режиссерской работы в театре.
Таким образом, обрядовую игру отличает ярко выраженная тенденция к тождеству при многократности воспроизведения: она не допускает актерской инициативы в творчестве, а, наоборот, стандартизирует актерскую деятельность. Здесь нет хороших или плохих актеров в нашем смысле слова, но зато высоко ценится магическая сопричастность играющих сверхъестественным началам мира.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
167
Кроме того, этим же обстоятельством определяется разная степень участия в игровом процессе различных действующих лиц — степень их активности в действовании и ступени перевоплощения.
С одной стороны, для значительного числа участников ритуала перевоплощение не было обязательным: они вступали, вернее — вовлекались в действие, не создавая при этом никакого образа. Как правило, это были лица, 1) которые посредством взаимодействия с другой группой играющих приобщались к магической силе, 2) на которых она была направлена или 3) с которых должна была перейти на явления окружающего мира. Следует заметить, однако, что поскольку обрядовые игры через вещи и отношения, непосредственно данные в игровом процессе, передают также отвлеченные идеи (см. дальше), символически обозначаемые через внешнее, видимое (а значит, всегда имеют второй план содержания), то, независимо от степени перевоплощения играющего персонажа, последний в силу закона подобия мыслится одновременно и как определенный образ.
С другой стороны, от остальных участников требовалось вхождение в роль либо в лице человека (кузнец, мельник, старик, покойник), либо в образе животного (надо было «войти» в шкуру медведя, коня, козла, журавля и др.),* либо фантастического существа (черт, ангел). Эта группа играющих почему-либо причислялась к наделенным магической силой.** В качестве примера достаточно остановиться на святочной игре в кузнеца. Играющий главную роль подчеркивает свою принадлежность к кузнечному ремеслу рядом бутафорских предметов (деревянный молот в руках, лавка как знак наковальни и др.), а на сюжетном уровне — движениями, выкриками, то есть максимально испытывает процесс перевоплощения.*** Девушки же, которым он «изготавливает» кольца и венцы, произвольно выбираются им из числа присутствующих на святочных посиделках и до известной степени случайно вовлекаются в игровой процесс, не создавая при этом никакого образа, не переключаясь в вымышленный мир «всемогущего» кузнеца активно.
* Интересно, что образ животного нередко создавался усилиями нескольких играющих, каждый из которых изображал часть целого.
** Это подтверждается многочисленными этнографическими фактами. Например, — боязненным отношением к ряженым, а также обычным после ряженья очищением от скверны — купанием в ледяной воде на Крещение* мир ряженых в поверьях часто отождествляется с миром мертвых (ср. старух, стариков, покойников — наиболее распространенных в ряженье персонажей). Этот мир конструируется обычно как обратный эмпирическому; отсюда — оборотиичество: ряженье женщин мужчинами, и наоборот. Ряженый и объект ряженья совмещаются в лице ряженого, на которого переходит, соответственно, нечистота мертвого. Мертвым же, как известно, приписывалась особая сила воздействия на мир живых, которая, естественно, в равной мере переносилась и на ряженого.
*** Здесь мы имеем пусть примитивную, но всё же игру. Что касается магической роли кузнеца в игре, то она значима еще и на фоне представлений о созидательной и врачсвательной деятельности кузнецов (в том числе космогонической и связанной с воскрешением людей) в различных религиозных и мифологических системах, а также в других фольклорных жанрах.
168
СТАТЬИ
Как правило, ритуальные игры не ограничиваются однократным представлением лежащего в их основе действия, а несколько раз точно повторяют его, всякий раз перенося действие на нового участника, чтобы магия могла распространиться на каждого из них.* При этом необходимо отметить игры своего рода «бесконечной» композиции: они основаны на кумуляции действия путем приобщения к нему всех играющих, а не па его качественном многообразии. Кончаются такие игры всегда «вничью», если учитывать лишь непосредственное распределение результатов игры между играющими. Однако есть игры другого типа, обязательно предполагающие какую-либо победу, некоторое приобретение для отдельных участников как знак конца игры и как се прагматическую установку.
Со взглядом на ряженых в обрядовых играх как на соприкасающихся через ряженье с фантастическим миром в целом ряде случаев должно быть согласовано, по-видимому, и решение вопроса о наличии здесь зрителя. Понимая обрядовую игру как «соборное действо», исследователи, как правило, все-таки обнаруживают в ней зрителя. Однако они всегда ищут его лишь в среде не допущенных к непосредственному участию в игре, но при этом созерцающих ее. Как нам кажется, в данном вопросе также необходимо освободиться от представлений о зрителе только как о публике, отгороженной от актера известной видимой чертой. К его решению надо попытаться подойти еще и со стороны тех представлений, которыми была порождена игра.
Как правило, подобные представления в качестве одного из наиболее существенных включают противопоставление человеческого и нечеловеческого, жизни и всего, что олицетворяет мир нежити. Отсюда вытекает чрезвычайно важное, на наш взгляд, обстоятельство: обращенные как бы через людей в этот окружающий их «нечеловеческий» мир, многие игры предполагали, очевидно, еще и особого «зрителя».**
Необходимо также обратить внимание на следующее обстоятельство. Любое игровое действие (будь то народная игра или театральное представление) разворачивает события таким образом, как будто они происходят в настоящем, то есть создает линейную последовательность событий. В этом смысле игра не знает ни прошедшего, ни будущего, ни разных ирреальных оттенков времени: все они — в силу особой природы самих игровых знаков — репрезентируются настоящим временем. В этом состоит одна из условностей игры вообще, которая в обрядовых играх имеет свою постоянную функцию: здесь мы встречаемся с особой категорией времени действия, которое средствами игры переводится в план настоящего, сейчас перед нами совершающегося. Связанные с такими событиями, периодами и фазами в жизни человека, природы, общества, которые повторяемы (нре-
* Этот прием чужд театру, в котором если и встречаются повторения, то они никогда не дают полного равенства, а либо служат выявлению происшедших перемен, либо несут чисто психологическую нагрузку.
** Можно указать на аналогию в истории древнегреческого театра: во время Великих Дионисий статуя Диониса выносилась из храма и затем устанавливалась в театре, репрезентируя божественного зрителя драматического агона
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
169
мена года, брак, земледельческие работы и проч.), обрядовые игры не зависят от того, в каком столетии, десятилетии, году происходит смена времен года, совершается брак, наступают земледельческие работы: важна в данном случае лишь идея повторяемости, периодического возвращения события, то есть, по существу, его вневременность, всевременность, универсальность. Таким образом, категория времени вообще чужда данным играм: в них проходит перед глазами и выражается в настоящем то, что было, есть, должно быть всегда, и тем самым отменяются все временные барьеры.
С последним обстоятельством связано и то, что в обрядовых играх всё остается безличным, не индивидуализируется и не получает конкретизации: кузнец, мельник, цыган, покойник, врач, жених и невеста святочных игр — это не конкретные лица, не характеры в собственном смысле слова, а обобщенные знаки профессии, ремесла, социального статуса. Аналогии этому можно найти и в искусстве профессионального театра, где данное явление не выступает, однако, с силой необходимости (например, «Жизнь человека» Л. Андреева).
Несомненно, заслуживает внимания и такая особенность игровых средств рассматриваемого фольклорно-драматического явления, как преобладание жеста и движения над словом. В композиции целого словесному диалогу (монологу), в том числе и песенному, отводится не такая уж значительная роль; действие в основном переносится на изобразительный жест (см., например, чрезвычайно показательное в этом отношении описание игры в лошадь24). Даже в тех случаях, когда речевой диалог значительно разрастается, он, как правило, не добавляет ничего нового к движению, жесту, мимике, а лишь комментирует их, выступает как их абсолютный синоним: ряженая коза скачет, топочет ногами, и эти движения передаются одновременно на языке слов («„Кызинка" пляшет, падает, валяется по полу. „Хозяин “ объявляет, что она заболела»25).
Условность большинства обрядовых игр — это условность символа, в основе которого лежат разные приемы магии подобия. Для них характерна множественная семантика. Обнажение человека, к примеру, мыслится наравне с этим как обнажение готовой плодоносить земли из-под льда и снега. Натуралистический, казалось бы, характер многих ритуальных игр есть доступное в действовании выражение отвлеченных идей. Здесь натурализм внешнего действия всегда имеет «подводное течение» и обязательно связан с возможностью второго содержательного плана, а основу его составляет принцип подобия.
Некоторого внимания заслуживает и особого рода повторяемость в народных играх обрядового характера. Она может быть прослежена на разных уровнях — сюжетном, образном, на уровне отдельных «театральных» приемов: нетрудно выделить так называемые «общие места» народных игр. В играх разного содержания мы встречаемся с такими обязательными персонажами, как старик, старуха, цыган, выступающими с постоянством масок итальянской commedia delTarte. Кроме того, обрядово-игровой фольклор дает устойчивость в значении таких действий, как удар палкой, плеткой, обливание водой, обмазывание грязью, на
7 Лариса Ивлева
170
СТАТЬИ
которых основано большое число святочных и весенних драматических игр. Вместе с тем как противоположность сказанному выступает явление синонимии на уровне действия, когда разные игровые действия дают общее поле значений (прыжок, удар, обнажение могут служить разным игровым воплощением одной и той же обрядовой идеи как в разных играх, так и в пределах одной из них). Чрезвычайно наглядно это прослеживается во многих святочных играх, одного рода эротическая идея которых может быть реализована действиями то кузнеца, то мельника и т. д.
Достаточно выяснено, что все обрядовые праздники состоят из одинаковых повторяющихся эпизодов. В свое время на отдельные проявления этой закономерности обращали внимание многие ученые. В рамках календарной обрядности она была отмечена Е. В. Аничковым.26 П. Г. Богатырев, не ограничившийся рассмотрением только календарно-обрядовых действ, обнаружил целый ряд совпадений святочных игр и игр похоронной обрядности («у румын мы встречаем одни и те же игры и на похоронах, и на посижениях при мерци, и на праздники коляды»),27 давая этому свою интерпретацию. Но вскрыл эту повторяемость как закон (и не только для игровых моментов обряда) лишь В. Я. Пропп.28 Даже предварительное ознакомление с материалом позволяет предположить, что для игр сфера этой повторяемости много шире, чем сфера только обрядовая.
С повторяемостью отдельных игр (сюжетов и собственно игровых моделей) в пределах годового цикла праздников связана еще одна важная черта — довольно ограниченное число сюжетов, имеющихся в обращении. Народный репертуар пополняется, как правило, не произвольным сочинением новых игр, а возобновлением старых, уже известных, а также их обновлением, трансформацией.
Народные игры имеют в основе довольно-таки неразвитое сю-жетно и примитивное действо, которое не требует для воспроизведения продолжительного отрезка времени. Более или менее четкие формальные границы между отдельными играми и представлениями не мешают им укрупняться особым образом — группироваться, объединяться, почти без перерыва следовать друг за другом и создавать в целом весьма пестрое многоактное представление, в котором разные сцены связаны не сюжетно, но семантически. Такое представление могло продолжаться нс один день подряд.
Следует заметить, что народные игры вообще (и особенно обрядовые) не требовали актерской специализации в той среде, где они бытовали. В этом смысле совершенно необязательны предположения о скоморохах — первых профессионалах в искусстве фольклорной игры — как наиболее вероятных его носителях и даже создателях. Любой член коллектива должен был считать себя подготовленным к тому, что ему придется играть в обряде определенную роль. Участие в той или иной роли было либо свободным и решалось по общей договоренности, как в обрядовых играх, либо же оно определялось жеребьевкой, копанием, счетом, то есть способами случайного принятия решения, поро-
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
171
лившими особый жанр «игровых прелюдий» (Г. С. Виноградов) — детские считалки и проч.
О собственно народной драме это можно сказать уже с большими оговорками: она в значительной мере предъявляет требование некоторого отбора участников для роли того или иного действующего лица, выдвигая на первый план условие индивидуальной одаренности, способности к импровизации (она уже не так связана жесткостью «сценария», как игра обрядовая), к запоминанию довольно развитого словесного диалога (среди исполнителей этих ролей в XIX-XX веках многие были грамотны, то есть могли овладевать письменно зафиксированным текстом, что имело особую важность при его размерах; и такие списки действительно обнаружены собирателями).
Для народных игр характерным отличием является повсеместность распространения: каждый коллектив, каждая деревня, каждая семья — вот сфера их бытования, вовлекающая громадное число людей. В противоположность этому народный театр, не говоря уже о профессиональном, распространяется в виде очагов, значительно суживая круг людей, причастных к нему непосредственно или пассивно, многих отлучая от него.
Ограничимся этими весьма предварительными наблюдениями в связи с поставленными задачами, подчеркнув следующие моменты. Решая вопрос синхронно-типологически, можно сказать, что профессиональный театр и народные игры представляют собой разные игровые типы. Вводя в исследование народных игр (которые, в свою очередь, также могут быть представлены разными типами) этнографический материал на разных стадиях его бытования, то есть переводя вопрос в русло диахронии, мы вынуждены будем признать, что народные игры — это дотеат-ральное игровое явление и что, соответственно, театрально-игровой язык сложился прежде театра и существовал длительное время до театра, по крайней мере такого, какой известен со времени классической античности. Синхронный метод делает возможным установление этого театрального «языка» во всех его «речевых» разновидностях, диахронный — делает доступными задачи его истолкования, объяснения в процессе смены одной системы другой и перерастания отдельных элементов из системы в систему.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. См.: Grimm J. Gottinger gelehrte Anzeigen. 1838. T. VII Apr S. 552 u. f.
2. См.: Веселовский A. H. Историческая поэтика. Л., 1940. («Три главы из исторической поэтики»).
3. Подробнее см.: Тиандер К. Ф. Синкретизм и дифференциация поэтических видов // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 2 вып. 1: Синкретизм в поэзии: Драма. Эпос. Роман Лирика. СПб 1909. С. 1-46.
172
СТАТЬИ
4. См.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Лингвистическая теория происхождения искусства и эволюция поэзии // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1. 2-е изд. Харьков, 1911. С. 25 — 26.
5. См., напр.: Тиандер К. Ф. Очерк истории театра в Западной Европе и России // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 3. Харьков, 1911. С. 156; Харузин Н. Из западноевропейской этнографической литературы. [Ч.] 1: О зачатках искусства у малокультурных народов//Этнографическое обозрение. 1895. № 1. С. 115.
6. Всеволодский-Гернгросс В. История русского театра в 2-х томах/Предисл. и общ. ред. А. В. Луначарского. Т. 1. Л.; М., 1929. С. 58.
7. Такого рода «перечни» театральных элементов вообще (фольклорных, в частности) можно отыскать и в любой «истории театра», и в работах фольклористов. Назовем здесь лишь несколько примеров. Так, П. О. Морозов общетеатральным знаменателем считает то триаду «действие — диалог — подражательно-изобразительный элемент» {Морозов П. О. Очерки по истории русской драмы XVII — XVIII столетий. СПб., 1888. С. 6), то «мимический инстинкт в действии» (Там же). К. Ф. Тиандер более последовательно расчленяет драматическую игру на три элемента — грим, жест и речь (см.: Тиандер К. Ф. Очерк истории театра в Западной Европе и России. С. 1). П. Г. Богатырев, например, определяет театральные элементы магических пьес-действ как диалог и звукоподражание, костюм, маску и т. д. (см.: Богаты рев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 33 (гл. «Народный театр чехов и словаков»)).
8. Всеволодский-Гернгросс В. История русского театра... Т. 1. С. 58.
9. Харузин Н. О зачатках искусства у малокультурных народов. С. 115.
10. Гроссе Э. Происхождение искусства. М., 1889. С. 246.
И. Близко к этому взгляду подходит В. Н. Харузина (см.: Харузина В. Н. Примитивные формы драматического искусства И Этнография. 1927. № 1—2; 1928. 1—2). Наиболее полно он был разра-
ботан в кн.: Всеволодский-Гернгросс В. История русского театра... Т. 1.
12. Подробнее см.: Авдеев А. Д. Происхождение театра* Элементы театра в первобытнообщинном строе. М.; Л., 1959.
13. Ср. аналогичную точку зрения в работе П. Г. Богатырева: «...При исполнении магических действий мы имеем различные театральные элементы <...>. И все же доминантной функцией в них будет магическая» {Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства, с. зз).
14. Познанский Н. Ф. Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. Пг., 1917.
15. Интересный в этом отношении материал содержится в сб.: Народные песни Брянщины: (Песни старинных народных праздников) / Вступ. статья, сост. и примеч. Т. П. Лукьяновой. Брянск, 1972. Пользуясь случаем, автор приносит благодарность Т. П. Лукьяновой за возможность ознакомления с описанными ею обрядами Брянщины.
16. Мы не можем определять виды народного искусства из сложившегося для профессионального искусства опыта классификации: операции измерения театра обрядом и, наоборот, проверка ооряда театром не могут дать никакого положительного результата. Кроме того, есть две опасности: 1) назвать разные вещи общими именами или 2) потерять при классификации некоторое число звеньев, выходящих за общие рамки разных классификаций.
17. См. работы: Грос К. Душевная жизнь детей: Избранные лекции. СПб., 1906; [Groos К. J Die Spiele der Menschen von Dr. K. Groos. Jena, 1899; Wundt W. Ethik. Stuttgardt, 1886. S. 145; Idem.
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР
173
Volkerpsychologie. Bd. 3. 2. Aufl. Leipzig, 1908. Кар. 3, а также работы Л. С. Выготского, Д. А. Колоцца, Е. А. Покровского.
18. См., напр.: Вундт В. Фантазия как основа искусства. СПб.; М., 1914; Шурц Г. История первобытной культуры. СПб., 1910. С. 685 и след.; Huizinga J. Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Hamburg, 1962. S. 153—166; Лапшин И. О перевоплощаемости в художественном творчестве И Лапшин И. Художественное творчество. Пг., 1922. С. 5 — 140; Лотман Ю. И. Структура художественного текста’. М., 1970. С. 82—90; Исупов К. Проблема «игра в искусство» в связи с пришвинской теорией «творческого поведения» И Материалы XXVI Научной студенческой конференции. Тарту, 1971. С. 47 — 49.
19. См.: Берковский Н. Я. Станиславский и эстетика театра//Театральные страницы. М., 1969. С. 45.
20. См.: Игры народов СССР: Сб. материалов, составленный В. Н* Всеволодским-Гернгроссом, В. С. Ковалевой и Е. И. Степановой. М.; Л.: Academia, 1933.
21. Термины «язык» (система) и «речь» (текст) понимаются в соответствии с тем общим значением, которое они получили в работах Ф. де Соссюра, распространяясь при этом на другую знаковую систему.
22. При этом создаются две возможности диахронического анализа — либо ретроспективная (путем постепенного обнаружения древнейших пластов под слоями более поздних), либо перспективная.
23. Данная работа — не завершенный опыт классификации, но лишь предварительный материал для нее. В дальнейшем типологическая классификация и должна создаваться в результате выявления целого ряда (пучка) признаков.
24. См.: Иваницкий Н. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность//Живая старина. 1898. Вып. 1, отд. I. С. 64-65.
25. Резанова Ек. Материалы по этнографии Курской губернии И Труды Курской губернской Ученой архивной комиссии. Вып. 1, ч. 1. 1911. С. 181.
26. См.: Аничков Е. В. Весенняя обрядовая поэзия на Западе и у славян. Т. V. М., 1903.
27. См.: Богатырев П. Г. Обряды, связанные с терминами «по-лазник» и «полаженник». — ЦГАЛИ, ф. 47, on. 1, № 37, л. 47.
28. См.: Пропп В. Я. Исторические основы некоторых русских религиозных праздников И Ежегодник Музея истории религии и атеизма. Т. V. М.; Л., 1961. С. 272-296; Он же. Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования). Л., 1963.
К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ЭТНОТЕАТРОВЕДЕНИЯ*
Проблема театроведческого подхода к фольклорно-этнографическим явлениям существует и осваивается довольно давно, в изучении ее накоплен ряд несомненных достижений и прочно устоявшихся решений. Но значит ли это, что данные явления стали объектом театроведения как науки? Известно, что предмет превращается в объект соответствующей науки тогда, когда он может быть описан на метаязыке данной науки. Что же касается театроведческого изучения фольклора, то пока оно базируется не на специальных понятиях такого метаязыка, а на общих представлениях о полиэлементности театра и о возможности его расщепления па некоторое число поливалентных -«атомов»-элементов. Подобные представления закрепляют общее значение театральности за каждым таким элементом в отдельности, в результате последний и объявляется носителем театральности как таковой, вместилищем субстанциональной для него театральности.
При практическом решении вопроса о театральности фольклора число подобных элементов и качественный их состав поразительно не совпадают у разных авторов (как неодинаковым оказывается и сугубо арифметическое представление этих авторов о целостности), а избирается каждый из них и произвольно, «по вкусу», и — главное — безотносительно к целой структуре, в которой он обнаруживается. Для сравнения театра с различными фольклорными явлениями берутся соответственно и разные признаки театра (либо их совокупности): то диалог, то жест, то костюм, то движение, то маска, частично и эпизодически, в разнообразных сочетаниях мерцающие в тех или иных слоях фольклорного материала. Ориентация на подобные «перечни» якобы театральных элементов, существенно варьируемые от автора к автору, в итоге и приводит к тому, что разные пласты, разный объем фольклорного материала попадают в орбиту театроведения. К тому же в этих перечнях обнаруживает себя то жесткий театроцентризм на базе поздних форм театра, вменяющий последнему в «обязанность» костюм, грим, бутафорию, даже режиссера и пр., то своего рода театральный релятивизм, когда особый набор признаков допускается для каждой театральной системы (сквозных признаков как бы нет).
* Опубл, в ж-ле: Зборник Матице српске за сценске уметности и музику. Бр. 3. Нови Сад, 1988. С. 7-12.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭТНОТЕАТРОВЕДЕНИЯ
175
Концепция театра как суммы элементов, каждого из которых достаточно для постановки вопроса о театральности того или иного явления, имела заметные последствия для изучения народной культуры. С опорой на эту концепцию, коренящуюся но существу в неразличении формы и функции, а также в жестко мыслимой функциональной детерминированности любого из вычленяемых элементов, строилось много неперспективных для этнотеатроведения отождествлений. Именно на ней держались всевозможные поверхностные суждения следующего типа: «любые диалоги <...> являются зародышами драматических произведений»-;1 «почти всякий первобытный рассказ есть драма».2
Такие попытки идентифицировать отдельные фольклорные жанры с театром нередко приводили к суждениям о сквозной театральности фольклора как особом качестве его исполнительской природы, создавали представление о чрезвычайно пестром, почти безграничном спектре «театральных» возможностей фольклора — представление, безусловно, и формальное, и преувеличенное, но вместе с тем широко распространившееся. Пожалуй, самый главный вопрос, возникающий в связи с подобными опытами, состоит даже не в том, насколько обязательны для живого функционирования отдельных фольклорных жанров те элементы театральности, которые называются в конкретных случаях (к примеру, жест как показатель исполнения сказки), а в том, насколько театральна сама природа таких элементов. Только общее решение данного вопроса и может показать, в какой мере объективно обнаруживают определенный запас театральности миф, загадка, причитание, сказка, хоровая песня диалогической структуры и пр. — довольно широкий круг фольклорных жанров, который объявляется (наряду с обрядом) либо «очагом зарождения будущего театра», либо его примитивной формой.
Отметим, кстати, что с неразработанностью театроведческого метаязыка в теории связано и то, что в исследованиях, как правило, речь не идет об игровой природе обряда, а говорится всего лишь об игровой тенденции в его развитии, о вспыхивающих то здесь, то там отдельных искрах театральности. Естественно, что изучается при этом не столько игровая суть обряда, сколько его путь к театру, понимаемый как путь его освобождения от магии и постепенной эстетизации.
Очевидно, что настало время обеспечить теоретическую базу для дальнейшего, а может быть, и нового решения проблемы театроведческого подхода к фольклорно-этнографическим явлениям. В настоящий момент их изучение в театроведческом аспекте прежде всего требует поиска и разработки специального исследовательского аппарата в виде методологически обосновываемых предпосылок и специфических категорий, то есть нуждается в создании театроведческого метаязыка для описания данного материала.
1. Харузии И. Из западноевропейской этнографической литературы. [Ч] 1: О зачатках искусства у малокультурных народов И Этнографическое обозрение. 1895. № 1. С. 115.
2. Гроссе Э. Происхождение искусства. М., 1889. С. 246.
176
СТАТЬИ
В качестве такого метаязыка может быть предложено специально разработанное и уточняемое далее понятие игры, которое представляет собой как бы общую театроведческую формулу многих обрядов, народных игр и театра. Следует подчеркнуть, что ни один из исторических типов театра сам по себе не может быть избран в качестве эталона театрального искусства в чистом виде. В этом смысле представляется необоснованной и ошибочной предпосылка Э. Бентли, предложенная им для будущей «классической типологии западной (театральной. — Л. И.) традиции»3 4 и сформулированная с опорой на итальянскую комедию масок как якобы самую репрезентативную форму театра.
Итак, игра в специфически театроведческом ее понимании — это язык, который определяется двумя необходимо-существенными ярусами признаков: первый из них связан с перевоплощением^ второй — с действием5 как наглядным способом изображения персонажа. Это значит, что игра в целом характеризуется зрительно воспринимаемым (зрелищным) действием от другого лица с возможным распределением ролей между действующими лицами. На данном уровне, позволяющем выявить существенное морфологическое сходство отдельных театральных систем, фрагментов праздников и обрядов, а также значительного слоя собственно народных (детских и взрослых) игр, не учитываются ни многообразные оттенки и различия в конкретном характере действия, ни специфика частных случаев перевоплощения. По отношению к перевоплощению и действию как таковым и диалог, и жест, и мимика, и маска, и костюм — всего лишь производные, вторичные и окказиональные признаки, определенное сочетание которых способно характеризовать только исторически конкретную (а потому преходящую) форму игры или се типо логическую разновидность, но никак не ее идеальную сущность. В этом смысле бесперспективным представляется, в частности, спор о словесной или пластической доминанте в театре, который
3. Бентли Э. Жизнь драмы. М.» 1978. С. 50.
4. Перевоплощение понимается нами как любое преображение, связанное с «принятием на себя роли другого» (Рождественская Н. В. Специальные актерские способности // Паука о театре. Л., 1975. С. 328), здесь же автором приводятся различные синонимические обозначения этого узлового понятия. По словам Н. Н. Евреинова, этот признак достаточно хорошо известен в формулировке Рошера: «Человек <...> ставит себя на место другого и зрителем зовется именем этого другого» (цит. по кн.: Евреинов Н. Н. Происхождение драмы: Первобытная трагедия и роль козла в истории ее возникновения: Фольклористический очерк. Пб., 1921. С. 6).
5. Об актуальности этого признака по отношению к театру свидетельствуют многочисленные высказывания теоретиков, историков, практиков театра, которые по возможности учтены нами. Приведем лишь некоторые из них: «Театр создает представление <...> действованием» (Сахновский В. Игра и спектакль // В спорах о театре: Сб. статей. М., 1914. С. 109); «Кто, где и как движется, действует и говорит — эти основные вопросы драматургии одинаково важны и для ритуала празднества, и для сценария зрелища (театр)» (Пиотровский А. И. Празднество в РСФСР//Зеленая птичка. N<? 1. Пб., 1922 С. 37). Явной гипертрофией этого признака была отмечена безусловно односторонняя концепция В. Н. Всеволод-ского-Гернгросса (театр как искусство действования), впоследствии критически пересмотренная самим автором.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭТНОТЕАТРОВЕДЕНИЯ
177
решается альтернативно в пользу то театра слова, то театра движения,6 — в то время как, с нашей точки зрения, театраль~ ность в целом определяется совсем не на этом уровне.
От играющего — в отличие от случаев психопатологической смены жизненных ролей - требуется и вхождение в определенную роль (перевоплощение), и соответственно выхождение, <воз-вращение» из нее (развоплощение), т. е. особую важность приобретает для него установка на условность игровой ситуации, ведь только в пределах отведенной партии ему и задается, от него и ожидается определенный тип поведения.
В целом это создает такой своеобразный поведенческий комплекс, который определяется двуединством разнокачественных слагаемых. В игре как бы скрещиваются две сферы - исходная, коренящаяся в действительности (ею обусловлены подконтрольные сознанию механика и техника игры), и воображаемая, иллюзорная (с нею связаны результат «присвоения* роли, ее «проживание* играющим и одновременно восприятие этой роли другими). Своеобразный сплав этих двух планов и создает мерцающую атмосферу игры с синхронностью существования играющего в двух мирах сразу (точнее, «на грани двух миров*7) — в том «магическом» пространстве, где реализуется особый, условный тип поведения, во многом не совпадающий с поведением будничным.
На всё время, пока длится игра, homo ludens становится своего рода заместителем изображаемого им персонажа, qui pro quo - воображает себя другим лицом, от имени которого он и действует в определенной вымышленной обстановке. По выражению Т Сальвини, он живет «двойной жизнью*;8 и на самом деле ему приходится постоянно поддерживать мерцающую иллюзию «собственной трансформации», стремясь при этом к «околдованию» других. Апологеты театральности как таковой (прежде всего Н Н Евреинов и Ю. Айхенвальд) основной стимул подобного поведения видели в исконно владеющей человеком страсти к самоизменеиию и обновлению, в якобы изначально присущей ему «радости метаморфозы». Последнюю они не только ретроспективно «наблюдали» в первобытности (особенно это относится к блестяще эрудированному Н. II. Евреинову), но и активно возрождали к жизни, внедряли в современность.
Вообще говоря, этот дуализм игровой деятельности, это совмещение в ней реального и «условно реального* миров при невозможности абсолютного переключения и полного соскальзывания в какой-либо из них не специфично для игры в ее театроведческом качестве. К настоящему моменту накоплено немало глубоких суждений о некоторых общих свойствах искусства в целом и игровой модели, включающей человека в каждую
6 См напр • Пяст В. Театр слова и движения // Искусство старое и новое: Сб статей. 116., 1921. С. 80-85; Савушкина И. И. Русский народный театр. М., 1976. С. 10—11.
7 Выготский Л. С. Психология искусства. 2-е изд. М., 1.168. С. 25.
8. Цит. по кн.: Гуревич Л. Творчество актера: О природе художественных Переживаний актера на сцене. И., 1927. С. 16
178
СТАТЬИ
единицу времени «в два типа поведения — практического и условного» (IO. М. Лотман).
Однако здесь сразу же необходимо внести и весьма существенное уточнение, т. к. игра в театроведческом значении имеет дело с явно специфическим материалом. Способность человека к изображению, воспроизведению и пересозданию действительности в формах иллюзорного мира со всей зрительной наглядностью объективизируется здесь в действиях от другого лица, которые В. Сахновский назвал «тайной творчества актера», передающего «то, чего нельзя записать, нельзя нарисовать, что бывает только, пока бывает».9
Можно сказать, что микроструктура игры и ее ядро — это играющий человек: «homo ludens» Й. Хойзинги, «личность перевоплощенного действующего» Ф. Ф. Комиссаржевского.10 Это и «живой» актер, и актер-кукла, это и скрывающийся под «харей» или рогожей участник обрядового действия, и без всякой личины создающий определенный образ участник детской драматической игры. Каждый из них обнаруживает сразу три своих ипостаси, будучи одновременно и 1) материалом игровой деятельности, и 2) ее конечным, но мимолетным, как бы «смертным» продуктом (метафора Ю. Айхенвальда «актер умирает» и выражает неовеществленность вовне, неотторжимость актерского искусства, как раз и связанную со спецификой «живого» материала), и 3) создателем этого продукта. К любому из них мы можем подходить не только как к инструменту игрового поведения, но и как к творцу, владеющему этим инструментом, и как к определенному результату игровой деятельности творца.
Игра возникает там, где человек в конкретном и зримом действии из Я создает НЕ-Я, где эти две образующие синхронизованы и сплетены в одну, двуединую, структуру. В любую единицу времени здесь сталкиваются и своеобразно пересекаются Я играющего и некое НЕ-Я, между которыми он, по сути дела, и балансирует. Для этого может использоваться большой арсенал конкретных приемов и средств, имеющих разнос значение для разных традиций и эпох, для разных типов игровой культуры (перевоплощение может требовать и мимики, и жеста, и маски, и определенной речевой интонации, и пр.). Для этого есть в резерве играющего различные вспомогательные условия и факторы, к которым относятся и демаркационное поле игры, и такие его знаки, как декорация, бутафория и пр.
Каждый из подобных приемов и факторов служит в системе игры собственно задаче перевоплощения и действия. Взятые же в отдельности, точечно, вне игры, они не имеют стабильного значения театральности, получая различные значения в культурных структурах разного типа. Диалог в игре существенно отличается, к примеру, от бытового диалога и от его изображения в прозе. Нет смысла увеличивать здесь число подобных примеров, зато есть необходимость еще раз подчеркнуть, что связь таких элементов с театром не может считаться жестко заданной
9. Сахновский В. Игра и спектакль С. 108—109.
10. Комиссаржевский Ф. Ф. Творчество актера и теория Станиславского. Пг., 6/г. С. 9.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭТНОТЕАТРОВЕДЕНИЯ
179
и универсальной. Поэтому и сам факт их наличия не должен рассматриваться как повод для однозначных выводов относительно театральности того или иного явления: за пределами игры действительно использующей их в целях перевоплощения и действия от другого лица, их функциональная нагрузка вне-(и не ) театральна. Это следует учитывать и в дальнейшем изучении проблемы «фольклор и театр», и в оценке уже сложившейся практики, обосновывающей представления о театральности на этом «элементном» уровне: практика такого рода, несомненно ошибочна и неплодотворна. Ведь погоня за внесистемными соответствиями такого рода в разнообразных отношениях и в разной мере размывает предмет исследования, оборачивается уходом в сторону от его специфики. J
Именно поэтому мы и считали необходимым разработать в первую очередь уровень универсалий — представить игру в качестве специфического способа существования целого ряда явлений культуры. Этот игровой ряд объединяет собственно театр большую группу т. н. драматических народных игр, многие фрагменты обрядности, хотя каждое из перечисленных явлений конечно, дает множество конкретных реализаций перевоплощения и обширное поле частных значений действия. Понятие игры и выстраивается нами как тот дополнительный этаж, на уровне которого выявляется довольно многопрофильный и, вероятно весьма архаичный тип человеческого поведения, определяемый перевоплощением и действием, — при этом независимо от исторической и типологической подвижности характеристик перевоплощения и действия, независимо от структуры их «полей» Вместе с тем важно подчеркнуть, что применительно к фольклорно-этнографическому материалу речь, как правило, должна идти не о собственно драматическом роде, чистой культуры которого (за исключением отдельных очагов неразветвленного и не сложившегося в некую законченную систему народного театра) фольклор, пожалуй, действительно не знает, а о существовании в нем игровой модели, игрового языка, игровой формы выражения, охватывающих и обслуживающих разнородные пласты материала. Комплекс же вытекающих отсюда вопросов, а именно: как сосуществует игровой язык с другими языками народной культуры, как создается в фольклоре специфически игровая модель мира и каковы особенности ее функционирования как уточняются на фольклорном материале категории перевоплощения и действия, — всё это и составляет тот узел проблем, которые предстоит решать этнотеатроведению.
РЯЖЕНЫЙ АНТИМИР (ПУГАЛАШКИ, КУДЕСА, СТРАШКИ)
Факир, вампир, гусар с цыганкой, Коза в тулупе вверх изнанкой, С пеньковой бородой монах...
Л. Тарковский
Еще можно встретить людей, для которых участие в традиционном ряженье — часть их прошлой жизни. Держалась эта традиция повсеместно — пусть и с разной сохранностью — примерно до середины 30-х годов нашего века, а затем началось ее уничтожение. Рассказы последних ее очевидцев вместе с десятками более ранних свидетельств создают как бы два разных образа ряженья. В одних случаях это всего лишь «потешное развлечение с переодеваньем» — «своего рода деревенский бал-маскарад».* 1 В других — бесовское и кощунственное действо, в котором подчеркнуто всё нечистое, от чего затем надлежит очиститься и что может обернуться тяжким наказанием (известны и былинки о домах, бесследно провалившихся вместе с теми, кто слишком усердно скакал, плясал, предавался шумным и греховным потехам).
Обрядовое ряженье встречается у многих народов. Оно известно в нескольких формах, каждая из которых так или иначе сопряжена с мотивом страшного мира. Одну из них (она характерна и для русской традиции) отличает связь с двумя особыми сторонами обрядовой культуры — игровой и смеховой.
Ряженье — это всегда внешнее преображение. Меняя свой облик («облик человеческий пременяюще»), сменяя лик на личину, «харю», «чертову рожу», ряженый стремится обычно к полной неузнаваемости. И это, как правило, удается ему с помощью набора стандартных средств. В его арсенале переодевание (в особом ходу у ряженых шкуры мехом наружу и всевозможное рванье) и традиционные приемы маскировки. Кроме того, он использует ряд поведенческих «масок» вроде особой пластики и особой дикции (тут и специфическая хореография, и страшные, как бы нечеловеческие, движения без слов, и, наоборот, протинеестественно громкие реплики).
Ряженье в целом — из числа универсальных компонентов обрядового поведения, но по функции и по смысловой нагрузке в ритуале ряженье ряженью — рознь. Одно дело, когда ряженый
* Опубл, в ж-ле: Арс: Тематический выпуск (№ 1 — 6): БЕЗДНА: «Я» на границе страха и абсурда. СПб., 1992 С 18- 23.
1. Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб , 1903 С. 326, 293.
РЯЖЕНЫЙ АНТИМИР
181
Оплакивают <деда». Село Москаленята. Белоруссия. Фото С. Жиркевича
словно играет в прятки с миром потустороннего. Здесь оно выступает как своего рода обрядовый «громоотвод», и его легко уподобить оберегу или заговорной формуле. Оно не просто безопасно — оно спасительно: к нему и прибегают в надежде направить опасную силу мимо цели, по ложному следу. Иное дело — игровая культура, где любой воображаемый персонаж как бы на виду у всех воплощается в ряженом. Ряженый и представляет такого героя «во плоти», действуя в его обличье и от его имени. Эту культуру то отождествляют с театральной, то определяют целиком как народпо-смеховую. Ио она до конца не вмещается ни в одни, ни в другие рамки: это и не театр, и не карнавал — это обряд, существующий в игровых формах и во многом связанный с традицией ритуального смеха.
Окрутй, пугалАшки, страшкй, кудесА — вот часть собирательных имен, которыми пользуются в народе для обозначения ряженых. Есть среди местных имен и такие, как шулйконы, ха-рюши, халява, фбфанцы, хухольники (большинство из них пере
182
СТАТЬИ
кликается с обрядовой и мифологической лексикой). Окрутники сбивались в ватаги — разной численности, почти всегда шумные («...берут сковороды, ухваты, кочерги, и стон стоит над деревней»2) и, как правило, неоднородные по составу масок. Они участвовали в святочном обходе дворов, в масленичном шествии, в русальской и купальской обрядности; было им место и в «сценарии» свадебного действа.
Среди них немало универсальных типов ряженья (это «цыгане», «старики» и «старухи», «женщины-мужчины» и «мужчины-женщины»); кроме того, каждый праздник имел еще и своих «героев».
Поведение окрутников — это активное действие: они врывались, влетали в избу, бесцеремонно вторгались в праздничную толпу, прыжками, плясками, задиристыми движениями расшевеливая всех вокруг, понукая собравшихся к разным формам общения. Одни из ряженых «шутят, острят и возбуждают непринужденные, иногда чуть не истерические, порывы хохота...».3 Другие нагнетают у присутствующих страх, и сам контакт с ними неизменно принимает форму принуждения. «Бывают ряженые нарядны, а бывают страшкй»4 (вариант: «морховаты страшки», т. е. оборванные). Мотив страха так или иначе фиксируют многие собиратели: «...один вид покойника (ряженого. — Л. И.) производит на девушек удручающее впечатление: многие из них плачут и даже заболевают после этой игры»;5 «девки до того боятся (ряженых. — Л. И.), что зачастую все убегают из избы»;6 «...приходили „по-страшкому“ — строжкам — страшно смотреть».7
В игровой атмосфере ряженья проступает «облик чудного, непривычного видения»8 — особого рода реальность. «Я ничуть не сомневался, — пишет С. Коненков, — что ряженые изображают настоящую жизнь, только особого рода».9 Та действительность, которая возникает при этом, отличается от исторической, этнографической или эстетической, и многие ее аналогии легко найти среди мифологических, в том числе демонологических воззрений народа. Как в целом, так и в деталях эта действительность — своего рода антимир. Не случайно резкую границу проводят собиратели «между шумною и разгульною святочной жизнью со всей бесовщиной и последующей обыденной жизнью».10
2. Архив Русского Географического общ-ва (далее — РГО), разряд 7, № 79, л. 49 (рукопись И. В. Степанове кого).
3. Селиванов В. В. Год русского земледельца // Селиванов В. В. Сочинения. T. 2. Владимир на Клязьме, 1902. С. 129—130.
4. Архив кафедры фольклора МГУ, ФЭ-05, 6683 (Архангельская обл.).
5. Максимов С. В. Цит. соч. С. 300.
6. Иваницкий Н. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // Живая старина. 1898. Вып. 1, отд. I. С. 65.
7. Архив кафедры фольклора МГУ, ФЭ-05, 6682 (Архангельская обл.).
8. Коненков С. Т. Мой век: (Воспоминания). 2-е изд. М., 1988. С. 33.
9. Там же.
10. Соловьев К. Н. Родное село: Быт, нравы, обычаи и поверья. СПб., 1906. С. 292.
РЯЖЕНЫЙ АНТИМИР
183
Окрутники свободны от многих установок, регулирующих отношения в коллективе: «...публика с ряженых не взыскивает: ряженым все позволительно».1 Их поведение — это и «намеренные толчки, сопровождаемые синяками, ссадинами и ушибами в общей толкотне», что считается «делом безобидным как виновниками, так и потерпевшими»,11 12 и «откровенные цинические разговоры и шутки».13 Это и «элемент несомненного кощунства»,14 15 и иные «при-шаливания» и «вольности» ряженых: «Шутки были чрезвычайно откровенные, фривольные, чаще похабные, но это по обычаю не возбранялось». Некоторые из «животных» бодают девок так, чтобы заставить их покраснеть; другие персонажи — вроде медведя, печемаза, рыболова или стрелка — стараются хорошенько вымазать присутствующих сажей или грязью; самое же большое удовольствие получает, по словам С. Максимова, «тот шут в маске, который забирается в бабью толпу, поталкивает и пощупывает, повертывает и обнимает».16 Пословица обобщает эту атмосферу: «С Рождества до Крещенья нету запрещенья».
Ряженье предстает как антимир и в системе персонажей: многие из них — подчеркнуто демонической природы. Как демонический осмыслен здесь, например, загробный мир — всевозможные «бёльки», «белбхи»; одетые в белое, с густо присыпанным мукой или мелом лицом, с зубами из репы «старчйхи», «покойники», «умруны»; уродливые «старики», которые залихватски пляшут, кувыркаются и становятся героями эротических сценок; наконец, «смерть». Еще одна грань этого мира — всех мастей «черти» и «нечистики»: здесь встречаются страшные «бу-кушки», «ведьмы», «ворожеи», «колдуны», «кикиморы», «домовые», «пужал&» и «пужалйцы», «русалки» (горбатые, на ходулях, с удлиненными руками), черти (в шубе навыворот, рогатые, хвостатые, «огнезрачные», с ног до головы измазанные сажей). Но в число демонических попадают и многие животные, и даже те, кто так или иначе несет на себе печать чужого мира — социально чужого, профессионально или этнически чужого. Таким образом, пополняют этот ряд и «коза», и «лошадь», и «медведь», которых ряженье нередко выставляет страшными. Примыкает сюда и целая галерея инородцев — от «цыган» до «китайцев», а кроме того, «мельник», «пекарь», «кузнец», чье ремесло нечисто.
* Особняком стоят в ряженье персонажи, которые окручаются во всё изношенное, старое, рваное: «Русалка какая ведь? Вся в рванье. Русалка на себя рванье и наденет. Идут, ей играют, а она пляшет, косоротится».17 Иногда связь с рваньем — этим
11. Носова Г. А. Пережитки обрядов и верований в традиционном фольклоре И Традиционный фольклор Владимирской деревни. И., 1972. С. 71.
12. Копанввич И. К. Рождественские святки и сопровождающие их народные игры и развлечения в Псковской губернии. Псков, 1896. С. 14.
13. Там же. С. 15—16.
14. Максимов С. В. Цит. соч. С. 300.
15. Рукописный архив сектора фольклора ИРЛИ, колл. 1, папка 19, № 2, с. 86
16. Максимов С. В. Цит. соч. С. 461-462.
17. Из личного архива автора (зап. от Е. Д. Початковой в пос. Лесной Шиловского р-на Рязанской обл.).
Святки. Ряженые. Село Понизовье. Смоленская область. Фото М. Власовой
РЯЖЕНЫЙ АНТИМИР
185
специфическим антиматериалом ряженья — отражается и в общем названии ряженых («тряпосьники»). Главенствуют тут, конечно же, «нищие», «странники», «оборванцы», одежда которых, по выражению С. Коненкова, — «живописные обноски». Мифологическое сознание превращает их в таких «пришельцев издалека», которым открыт и этот мир, и «тот», и ряженье обыгрывает их причастность к разным мирам.
Ключевой для окрутпичества можно считать и фигуру «цыгана»; о ряженых часто так и говорят: «цыганить», «ходить цыганом». Цыганить — это и просто побираться (ряженые ходят с мешком и получают от хозяев угощенье, а нередко и самовольно прихватывают всё, что плохо припрятано: с них, как известно, не взыскивают). Цыганить — это и не иметь какой-то жесткой при креплен ности к месту, бродяжничать; но это еще и ворожить, обладать тайным знанием (ряженая «цыганка» на все лады гадает девушкам). В образе цыгана сконцентрировалось многое из того, что интересует ряженье, — семантика этнически чужого, локально чужого, мифологически чужеродного (ведьмовского), а также профессионально выделенного (он нередко — «кузнец»). Не случайно «цыган» как персонаж (к тому же парный — «цыган» и «цыганка») становится квинтэссенцией ряженья, и оно в целом получает название «цыганить».
К названиям тут вообще стоит присмотреться: взятые вместе, они образуют что-то вроде «толкового словаря» ряженья. В них — ключ, который за чертой просто видимого открывает мифологические горизонты, обнажает суть обычая рядиться. Часть наименований (в том числе «окрутник», «нарядихи», «окрута») хорошо выявляет идею оборотиичества, глубоко заложенную в нем. Когда-то об этом писал А. Н. Афанасьев: «Язык и предание ярко засвидетельствовали тождество понятий превращения и переодевания».18 Это сопоставление он распространил, правда, и на слова с корнем -влак- (в одном ряду оказались окрутить — облачить — облако), а затем попытался увидеть как в окрутни-чествс, так и в обороти и честве отражение «облачного мира».
Действительно, идея превращения сближает ряженье и обо-ротпичество. В первом из них превращение ограничено рамками игры и, кроме того, фиктивно: ведь ряженый — это не другое лицо, а только представляющий его, и в поведении его сохраняется эта двуплановость. ’ Совсем другое дело — оборотиичество, которое отражает веру в возможность безусловного превращения в иное существо — будь то на время или навсегда. Для многих оборотней традиция оставляет большое поле таких трансформаций: «Ведьма и жабой, и ужом, и ким хочешь скинется»;19 «Оборотни принимают вид животных, как-то: свиней, собак, волков, лошадей и пр.»20
Множественность возможных обличий персонажа и говорит о том, что собственного лица у него нет. Оборогень многолик, и эта многоликость не знает ни начала, ни конца. Все мель
18. Афанасьев А. Н. Древо жизни: Избранные статьи. М., 1983. С. 399
19. Архив кабинета фольклора РИИИ (с Костюковичи Мозырского р-на Гомельской обл.; запись автора).
20 Рукописный архив ГМЭ, ф. 7, on. 1, ед хр. 31, л. 2.
186
СТАТЬИ
кающие и чередующиеся «лица» его равнозначны, и это демонстрируется быличкой, которая нередко как раз и устанавливает соответствия между ними. Лапа кошки, лягушки, в которых превращается ведьма, на самом деле — обманчивый образ руки (ноги), а повреждение этой мнимой лапы как раз и есть способ изобличить нечистую природу персонажа.
Народное суеверие вполне допускает способность к доподлинному превращению: это примета «нечистой и неведомой силы». Такое перевоплощение и есть оборотиичество, или превращение «туда и обратно». Оно обеспечено и сверхъестественной природой персонажа, и привилегией магического знания, которое его отличает.
Чаще всего оборотни являются в виде животных. Былички и суеверные рассказы изображают их как свиней, волков, собак, кобыл, медведей, сорок, гусей, куриц, журавлей, лягушек и пр., иногда — как неодушевленные предметы или как людей с зооморфными приметами, например хвостом или копытами.
Сравнение ряженья с оборотиичеством дает очень много совпадений: все перечисленные животные могут быть встречены и в ряженье. И всё же то превращение, которое в оборотиичестве мыслится как абсолютное и полное, в ряженье — только игровой прием. Возможность смены облика в первом случае обоснована магически (она — и в особой природе оборотня, и в магии слов, действий, предметов), а в ряженье — наоборот — магические способности возникают с переменой облика.
Конечно, огромна разница между ряженым в медведя или гуся, который лишь символически представляет превращение в каждое из этих животных, и ведьмой, которая, по поверью, на Святках оборачивается «свиньею да за девками пыляет»21 или, к примеру, колдуном, которому приписывают способность перекидываться разными животными. Одни из них «перекидываются», в то время как другие только «прикидываются», и вместе с тем явления эти — одного корня.
Попятно, что не случайно ядром мифологического комплекса, порожденного самим обычаем рядиться (и прежде всего — маской), стала мысль о переряживании как «бесовщине». «Крестьяне уверяют, — сообщает А. Дебрский, — что надевший маску уподобляется черту»;22 «Вместо того, чтобы быть христианами и почитать святые вечера по-христиански, изображают из себя демонов и маскируются во всяких зверей», — пишет Н. Скалозубов.23 Маска предстает в народном суеверии как довольно опасный предмет и признается местом возможного обитания печис-тиков.
Эти верования основательно расходятся с концепцией маски как створаживающего средства, как индивидуального способа отпугнуть демонов. Концепция эта широко бытовала в дореволюционной науке. Ио в ее рамках нельзя объяснить, почему маска
21. Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива РГО. Вып. 1. Пг., 1914. С. 65.
22. Рукописный архив ГМЭ, ф. 7, on. 1, ед. хр. 15 (рукопись А. Дебр-ского).
23. Скалозубов II. Л. Народный календарь // Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. 12. 1901. С. 118.
РЯЖЕНЫЙ АНТИМИР
187
<Дед» подавился костъёй. Село Москаленята. Белоруссия. Фото С. Жиркевича
опасна для того, кто надел ее, почему далеко не все носители традиции оберегались от злой силы с помощью маски. Да и само многообразие масок не находит в ней объяснения, как и сценки, которые разыгрывают замаскированные.
В драматургии ряженья многое связано с особым эффек-том — с неузнаваемостью ряженого (в этом он очень похож на фольклорных обитателей «того света»). Неузнаваемость в игре нагнеталась особыми способами: это могла быть необычная дик-ция или полное молчание ряженого, утрированная походка, хо-реографический рисунок роли. Как правило, ряженые произносили свои реплики резкими, писклявыми голосами, говорили «по-святбшному», «по-окрутницки», клали в рот гребень или пуговицу чтобы можно было петь не своим голосом. На руки надевали перчатки, а в качестве костюма служила ряженым одежда, которую пе увидишь в повседневности.
Всё это очень легко приписать игре, но в том-то и особенность ряженья, что это - не просто игровой прием: здесь то и дело просвечивают внеигровые мотивировки таких деталей поведения. Неузнаваемость - такая черта ряженых, которая вызыва
188
СТАТЬИ
ет у неряженых страх. Конечно, то, что изначально мотивировалось мифологически — принадлежностью ряженых потустороннему и нечистому миру, — еще и дополнительно обыгрывалось участниками представлений. Игра наращивала зрительское любопытство, нетерпеливое желание узнать, кто же скрывается под маской. Иногда между сторонами участников разворачивались настоящие баталии — продолжительные прения с шутками и смехом: «...старики восхищаются... подходят к каждому из замаскированных, глядят им в глаза, чтобы узнать, кто они; узнав, просят знакомых петь»;24 «— А я знаю, кто ты! — говорил на-ряженке один из мальчиков. — А ежели скажешь, уши оторву! — послышался ему ответ»;25 «Неряженая молодежь старается хотя бы по одежде, по голосу, по походке узнать, кто такие ряженые, однако это удается с трудом... Но вот ряженым надоело скрываться, открываются».26
Интересно, что едва ли не наибольший эффект неузнаваемости характеризует изобразительно нейтральные маски: у них нет конкретного названия, они как бы безымянны, и по внешнему виду их трудно однозначно соотнести с каким-нибудь определенным образом. Сама традиция эта, конечно, глубоко обря-дова, это как бы опыт зрелищного воссоздания в ритуале картины «того света». При этом ряженые имитируют большое расстояние, которое прошли якобы на пути к хозяйскому дому. Ссылкой на трудности пути нередко мотивируют они и требование угощения. Многое в их неотчетливом образе и поведении рассчитано на устрашающий эффект.
Хотя их облик несколько аморфен, две характеристики для него обязательны: всё в этих персонажах должно производить впечатление смешного на грани страшного (или же наоборот). Вообще персонажей, словно лишенных всякой «персональности», личин, у которых как будто нет индивидуально запечатленного облика, в русской традиции ряженья немало: на них может быть вывернутая шуба или какая-нибудь несусветная одежда и марля во всё лицо, иногда раскрашенная, с вырезанными щелочками для глаз. Существуют даже целые регионы, где именно подобный тип ряженого вообще доминирует. Пусть, на поверхностный взгляд, он и не создает никакого конкретного образа, тем не менее именно он концентрирует в себе общую природу ряженья как мира демонологического. Создаваемый в данном случае образ действительно не именуется традицией — он как бы «описывается» в ней на языке игры: он табуирован так же, как табуированы в народном обиходе названия многих явлений и существ.
Понимание таких фактов часто излишне базируется на сугубо эмоциональных мотивировках ряженья: в нем нередко преувели
24. Пейзен Г. Этнографические очерки Минусинского и Канского округов Енисейской губ.: Из путевого журнала, 1857 г. // Живая старина. 1903. Вып. 3, отд. II. С. 322.
25. Соловьев К. Н. Цит. соч. С. 288.
26. Не уступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде // Известия Архангельского о-ва изучения Русского Севера: Ж-л жизни Северного края 1913 No 1. С. 24-25.
РЯЖЕНЫЙ АНТИМИР
189
чивается такой чисто игровой стимул, как «радость метаморфозы». В этом случае оказывается, что исполнитель из желания обновиться, стать на время не-собой сам не знает, кем он нарядился и что представляет.
Но многие детали говорят здесь о другом: играющему, конечно же, ясно, какого типа персонаж он создает, хотя игровые средства, которые используются, безусловно, специфичны. В этих безликих персонажах можно уловить то страшное, то безобразное, что по своей мифологической природе безобразно. Персонаж в такой изобразительно нейтральной маске «кривляется», «вихляется», «шатается в безмолвии по избе или горнице», молчком пускается в пляс и выделывает ногами что-то невообразимое. Он кувыркается, гоняется безымянным пугалом. И все кидаются от него врассыпную, стараются вовремя укрыться за чужой спиной или в каком-нибудь плохо освещенном углу. А некоторые от страха и вовсе покидают гулянье. В свою очередь, он — к ужасу присутствующих — ловит их, валяет по полу, мажет грязью, подхватывает в пляске. И вся «нечленораздельность» его страшного и странного облика — не от мира сего, она и есть свидетельство мыслимой и по-своему воплощенной его демоничности.
Известная полярность сохраняется и в делении Святок на два отрезка — «страшные вечера» (первая половина Святок) и «святые вечера» (их вторая неделя). Это приводит и к размежеванию ряженых на две группы — на «тихих» («чистых»), которые ходят на святые вечера, и на «грязных» — всех этих «кострбм», «печемазов», «тряпбсьников», «фбфанцев», «шулю-хонов». Так еще раз обозначена существенная для ряженья грань: одной своей половиной оно смыкается с этим миром, представляется традицией чистого развлечения, гульбы, а другой половиной обращено к потустороннему миру.
Из многочисленных описаний видно, что веселое оживление, праздничная раскованность, свобода, стимулированный, даже гипертрофированный смех, вызываемый представлением ряженого (смех до упаду, взрывы и неудержимые раскаты хохота), находятся здесь в особом единстве с причастностью каждого какой-то опасной тайне и жути. Смеховой безудерж уживается здесь с ожиданием страха, с состоянием подавленности. Свобода и раскованность одних соседствуют с принудительностью целого ряда действий, с полной подневольностью других участников игры. Собственно, на чередовании, на схождении и расхождении этих полюсов и осуществляется праздничное бытие, во многом связанное в данном случае как с игровыми, так и чисто мифологическими возможностями ряженья и маски. Здесь использу-ется специфический язык общения с потусторонним миром.
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ Л. М. ИВЛЕВОЙ
1. Фольклорная экспедиция 1965 года [в Медвежьегорский р-н КАССР]//Вестник Ленинградского университета. 1966. № 14. Серия истории, языка и литературы. Вып. 3. С. 158 — 159. В соавторстве с А. Ф. Некрыловой.
2. Изучение фольклора // Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии: Сб. ст. / Сост. М. В. Побединский. Л., 1971. С. 205 — 213. В соавторстве с В. Е. Гусевым.
3. Конференция фольклористов в Ленинграде: [Историческое развитие народного театра, Ленинград, 24 — 26 мая 1971 г. ]//Советская этнография. 1972. № 2. С. 128—131. В соавторстве с О. Р. Арановской.
4. Скоморошины: (Общие проблемы изучения) И Славянский фольклор / АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Отв. ред. Б. Н. Путилов и В. К. Соколова. М., 1972. С. 110—124.
5. Горковенко А. Об одном аккорде у С. Прокофьева // Вопросы теории и эстетики музыки / Отв. ред. В. В. Смирнов. Вып. 12. Л., 1973. С. 97-101.
Подготовка публикации и комментарии.
6. Список публикаций о деятельности Семинара молодых фольклористов [Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии] (1968 —1971)//Проблемы музыкального фольклора народов СССР: Ст. и материалы / Сост. и отв. ред. И. И. Земцовский. М., 1973. С. 394-395.
7. Обряд. Игра. Театр: (К проблеме типологии игровых явлений)// Народный театр: Сб. ст. / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л., 1974. С. 20 — 35.
8. Колыбельные песни И Угличские народные песни: Из новых записей русских народных песен / Сост.-ред. И. И. Земцовский. Л.; М., 1974. С. 243 — 247. В соавторстве с А. А. Горковенко.
Вступительная статья к публикации текстов и комментарии к ним.
9. Песни и обряды земледельческих праздников//Там же. С. 258-261. В соавторстве с А. А. Горковенко.
Вступительная статья к публикации текстов и комментарии к ним.
10. Причитания//Там же. С. 248 — 249. В соавторстве с А. А. Горковенко.
Вступительная статья к публикации текстов и комментарии к ним.
И. Хороводные и плясовые песни//Там же. С. 250 — 255. В соавторстве с А. А. Горковенко.
Вступительная статья к публикации текстов и комментарии к ним.
12. [11 и III Чтения памяти П. Г. Богатырева, Ленинград, 16 — 17 ноября 1973 г., 11 — 12 декабря 1974 г.]//Русский фольклор. Т. 15: Социальный протест в народной поэзии/ИРЛИ АН СССР. Л., 1975. С. 289 — 290. В соавторстве с А. Ф. Некрыловой.
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ Л. И. ИВЛЕВОЙ
191
13. [III] Чтения памяти П. Г. Богатырева, Ленинград, декабрь 1974 г.//Советская этнография. 1975. № 6. С. 170—171. В соавторстве с Е. М. Рогачевской.
14. Фольклористические публикации сотрудников ЛГИТМиК: (1969—1974)//Современность и фольклор: Ст. и материалы / Отв. ред. В. Е. Гусев. М., 1977. С. 334 — 342. Серия «Фольклор и фольклористика» .
15. IV и V Чтения памяти П. Г. Богатырева [Ленинград, 15 — 17 октября 1975 г., 27 — 28 октября 1976 г.]//Советская этнография. 1977. № 4. С. 139-142.
16. Словник русских фольклористических терминов: (Проект) / ЛГИТМиК. Л., 1978. В соавторстве с В. Е. Гусевым, И. И. Земцов-ским, В. А. Лапиным, И. В. Мациевским, А. ф. Некрыловой, А. А. Соколовым.
17. Традиционный фольклор и современность: Всероссийская конференция молодых фольклористов, 20 — 26 февраля 1978 г., г. Кириши [Ленинградской обл.]: [Тезисы докладов] / Отв. ред. Е. В. Гиппиус. М., 1978. 69 с.
Член редколлегии.
18. Веселовский Алексей Николаевич//Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979. С. 102 — 103.
19. Конференция [VI и VII Чтения] памяти П. Г. Богатырева [Ленинград, 30 ноября-2 декабря 1977 г., 29 ноября-1 декабря 1978 г. ]//Советская этнография. 1979. № 6. С. 151 — 156.
20. Актуальные проблемы современной фольклористики: Сб. ст. и материалов / Редколл.: В. Е. Гусев (отв. ред. и сост.), И. И. Земцов-ский, И. В. Мациевский. Л., 1980. 224 с.
Член редколлегии.
21 Богатыревские чтения (1972—1979)//Там же. С. 204 — 209.
22. Ежегодные конференции памяти А. А. Горковенко//Там же. С. 209-210. В соавторстве с В. А. Лапиным.
23. Экспедиции в Киришский район Ленинградской области И Там же. С. 214-215.
24. Методы изучения фольклора: (VIII Богатыревские чтения) [Ленинград, 28-30 ноября 1979 г.]//Советская этнография. 1981. № 2. С. 151 -152.
25. К вопросу об игровой природе ряженья (на материале русской традиции) / ЛГИТМиК. Л., 1982. 38 с. Справку о депонировании см.: «Театр: Библиографическая информация». 1982. Вып. 10. С. 58.
26. Два методологических аспекта в театроведческом изучении обрядово-игрового фольклора И Методы изучения фольклора: Сб. науч, тр. / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л., 1983. С. 108 — 117.
27. Виктор Евгеньевич Гусев. Библиографический указатель научных трудов 0 941 —1981)/ЛГИТМиК. Л., 1984. 40 с.
Состапленис.
28. Дотсатрально-игровой язык русского фольклора: Проблема теории и типологии: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / ЛГИТМиК. Л., 1985. 21 с.
29. Към въпроса за игровата природа на маскирането: (По мате-риали от руската традиция)//Был га реки фолклор (София). 1985. Кн. 1. С. 3-15.
192
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ Л. М. ИВЛЕВОЙ
30. Мир персонажей в русской традиции ряженья: (К вопросу о ряженье как типе игрового перевоплощения) И Русский фольклор. Т. 24: Этнографические истоки фольклорных явлений / ИРЛИ АН СССР. Л., 1987. С. 65-75.
31. К вопросу о теоретических предпосылках этнотеатроведения// Зборник Матице српске за сценске уметности и музику. Бр. 3. Нови Сад, 1988. С. 7—12; То же. Традиционная музыка Азии: Проблемы и материалы: Сб. науч. ст. / Редколл.: Д. Амирова, С. Утегалиева (сост. и отв. ред.). Алматы, 1996. С. 10 — 16. (Сборник посвящен памяти Л. М. Ивлевой).
32. Ряженье в свете народной терминологии (на материале русской традиции) И Фольклор: Проблемы сохранения, изучения и пропаганды: Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции. Ч. 1. М., 1988. С. 120-121.
33. Жанры драматического фольклора в детском репертуаре: (Тезисы доклада)//VIII Международен симпозиум по проблемите на фол-клора «Фолклорът и детето»: [Сб. тезисов]. София, 1989. С. 58.
34. К вопросу о маске в традиционном русском быту И Зборник Матице српске за сценске уметности и музику. Бр. 4 — 5. Нови Сад, 1989. С. 149-159.
35. Зрелищно-игровые формы народной культуры: Сб. науч. ст. Л., 1990. 240 с. Серия «Фольклор и фольклористика».
Ответственный редактор и составитель.
36. Маска в системе ряженья: Игровой и мифологический аспекты: (К вопросу о маске в традиционном русском быту)//Там же. С. 34 — 45.
37. Масленичная похоронная игра в традиционной культуре белорусского Поозерья//Там же. С. 196—203. В соавторстве с А. В. Ро-модиным.
38. Пропп В. Я. Врубель и фольклор: (Текст доклада. Набросок)// Из истории русской фольклористики / ИРЛИ АН СССР. Отв. ред. А. А. Горелов. Вып. 3. Л., 1990. С. 238-256.
Подготовка публикации, вступительная статья и комментарий.
39. К вопросу о хореографии ряженья (на русском материале) // Народный танец: Проблемы изучения: Сб. науч. тр. / Сост. и отв. ред. А. А. Соколов-Каминский. СПб., 1991. С. 85-95. Серия «Фольклор и фольклористика».
40. Народный танец: Проблемы изучения: Сб. науч. тр. Л., 1991. 336 с.
Член редколлегии.
41. А еще вот какой был случай...//Бездна: «Я» на границе страха и абсурда. СПб., 1992. С. 24 — 28. (Журн. «Арс»: Тематический выпуск. № 1—6).
Публикация быличек, вступительная статья и комментарий.
42. Ряженый антимир: (Пугалашки, кудеса, страшки)//Там же. С. 18-23.
43. Список печатных работ А. А. Горковенко: [Материалы к библиографии] И Песенная лирика устной традиции: Науч, ст и публикации / Сост. и отв. ред. И. И. Земцовский. СПб., 1994. С. 261 - 262. Серия «Фольклор и фольклористика».
Составление библио1рафическо1 о списка.
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ Л. М. ИВЛЕВОЙ
193
44. Горковенко Л. А. Изучение песенных вариантов как средство раскрытия выразительного значения народнопесенных ладов (на материале украинской лирической протяжной песни)//Там же. С. 217 — 222.
Подготовка публикации. Без указания имени публикатора.
45. Горковенко А. А. Ладовые основы еврейской народной песни И Там же. С. 223 — 231.
Подготовка публикации. Без указания имени публикатора.
46. РЯЖЕНЬЕ В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ. СПб., 1994. 236 с.
47. Символизм одежды и вещей в ряженье//Малые города России: Культура. Традиции: (Материалы научно-практической конференции «Да возвеличится Россия!». Санкт-Петербург, январь 1994 r.J. М.; СПб., 1994. С. 111-115.
48. Окрутки, хухляки, страшки//Живая старина. 1995. Ко 2 (6) С. 29-30.
49. Пропп В. Я. Открытая лекция//Там же. К? 3 (7). С. 11 — 17. Публикация лекции, вступительная статья и примечания.
50. «Весна» - «лето» в системе весенней календарной обрядности Рязанщины И Экспедиционные открытия последних лет: Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970-х — 1990-х годов: Ст. и материалы / Сост. и отв. ред. М. А. Лобанов. СПб., 1996. С. 88 — 96. Серия «Фольклор и фольклористика».
51. Ряженый-демон, ряженый в демона... И Исследования по славянскому фольклору и народной культуре = Studies in Slavic Folklore and Folk Culture. Вып. 1 / Под ред. А. Архипова и И. Полинской. Berkeley, 1997. С. 63-82. В соавторстве с М. Л. Лурье.
Работы, подготовленные к печати
52. Иноэтнический образ в русском фольклоре // Русский фольклор в межэтнических связях и параллелях / Российский институт истории искусств. Отв. ред. и сост. В. А. Лапин. Вып. 1. СПб.
53. Обрядовый фольклор И Словарь театроведческих терминов / Российский институт истории искусств. Ред.-сост. С. К. Бушуева и А. П. Варламова. СПб.
54. Фольклорный театр//Там же.
55. Ярмарочный театр//Там же.
Подготовили В. Д. Кен, С. В. Кучепатова
СОДЕРЖАНИЕ
От составителя ............................................... 3
I ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ЯЗЫК РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА Проблема теоржм типологии
Введение. МИР ИГРЫ.......................................... 9
Глава Первая. ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР. К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ИГРОВЫХ ЯВЛЕНИЙ ............................................ 16
1 16
2 28
3 37
Глава Вторая. ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ДОТЕАТРАЛЫЮ-ИГРОВЫХ ЯВ-
ЛЕНИЙ (на материале русского фольклора)...................... 65
Часть Первая. ЗАМЕТКИ ПО ТИПОЛОГИИ ИГРОВОГО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ ............................................... 65
1. Общие принципы распределения ролей................. 66
2. Пол и возраст как регуляторы распределения игровых ролей . 72
3. Способы и средства игрового перевоплощения ........ 76
4. Мир персонажей игры.......................... 88
Часть Вторая. ЗАМЕТКИ ПО ТИПОЛОГИИ ИГРОВОГО ДЕЙСТ-
ВИЯ ..................................................... 102
1. Актер и зритель.............................. ЮЗ
2. Композиция в типологии игрового действия..... 107
Заключение ......................................... ... 110
Указатель использованной литературы.................... 111
Список сокращений ............................................ 128
ПРИЛОЖЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ .... 129
II СТАТЬИ
ОБРЯД. ИГРА. ТЕАТР (К проблеме типологии игровых явлений) .... 159
К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ЭТНОТЕАТРОВЕДЕНИЯ ...................................................... 174
РЯЖЕНЫЙ АНТИМИР (Пугалашки, кудеса, страшки)................ 180
Список опубликованных работ Л. М. Ивлевой
190
Лариса Михайловна Ивлева
ДОТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ЯЗЫК РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА
Утверждено к печати Ученым советом Российского института истории искусств МК РФ и РАН
Редактор издательства В. Д. Кен Художник Р. П. Костылев Технический редактор Н. Ф. Соколова Корректоры К. Д. Буланина, И. А. Динабург
ЛР № 061824 от 23.11.92 г.
Сдано в набор 20.03.97. Подписано к печати 30.09.97.
Формат 70>1001/16. Гарнитура Петербург. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печ. л. 12.5 + 1 вкл. (% п. л.). Уч.-изд. л. 16.5.
Тираж 1000. Заказ Afe 3467
Издательство ♦ Дмитрий Буланин»
197061, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 26/28
Санкт-Петербургская типография < Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
ВЫШЕЛ В СВЕТ ТОМ
СУДЬБЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Сборник статей и материалов памяти Ларисы Ивлевой
Сборник статей и материалов «Судьбы традиционной культуры» составлен в память об исследователе народной культуры, специалисте по фольклорному театру Ларисе Михайловне Ивлевой (1944—1995).
В первом разделе сборника помещены две статьи публицистического характера, принадлежащие самой Л. М. Ивлевой, — они констатируют угасание многовековой народной культуры и намечают неотложные задачи современной фольклористики. Здесь же приводятся отрывки из полевых записей, сделанных Л. М. Ивлевой в составе Полесских экспедиций.
Второй раздел объединяет статьи, исследующие, главным образом, обряд и ритуал в теоретическом и конкретно-историческом аспектах. Публикуется также расширенная запись установочной лекции В. Я. Проппа о поэтике фольклора. В третьем разделе сборника представлены этномузыковедческие работы, выполненные на широком региональном и разновременном материале и снабженные нотными приложениями.
Завершается книга публикацией фольклорных материалов — это сопровождаемые исследованиями и комментариями еврейская народная пьеса «Голиас-шпил» (записанная в начале века на Украине), два аутентичных рассказа о святочных посиделках в Тверской обл. и нотные транскрипции песен псковской деревни Рагозы.
Редактор-составитель В. Д. КЕН
Заказать книгу можно по адресу:
«Дмитрий Буланин»
199034, С.-Петербург, наб. Макарова, 4 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук
Телефон (812) 235-15-86
Телефакс (812) 346-16-33