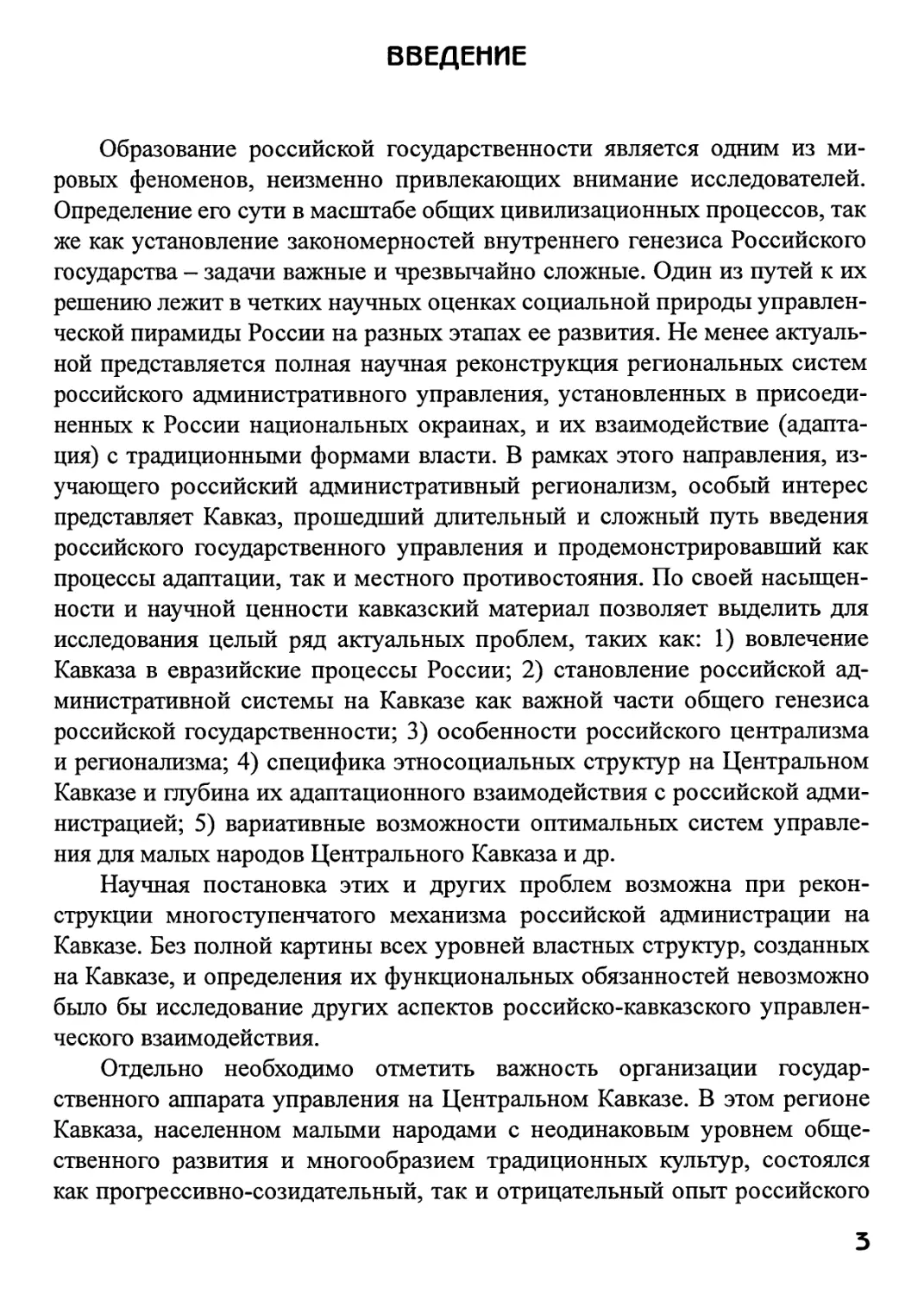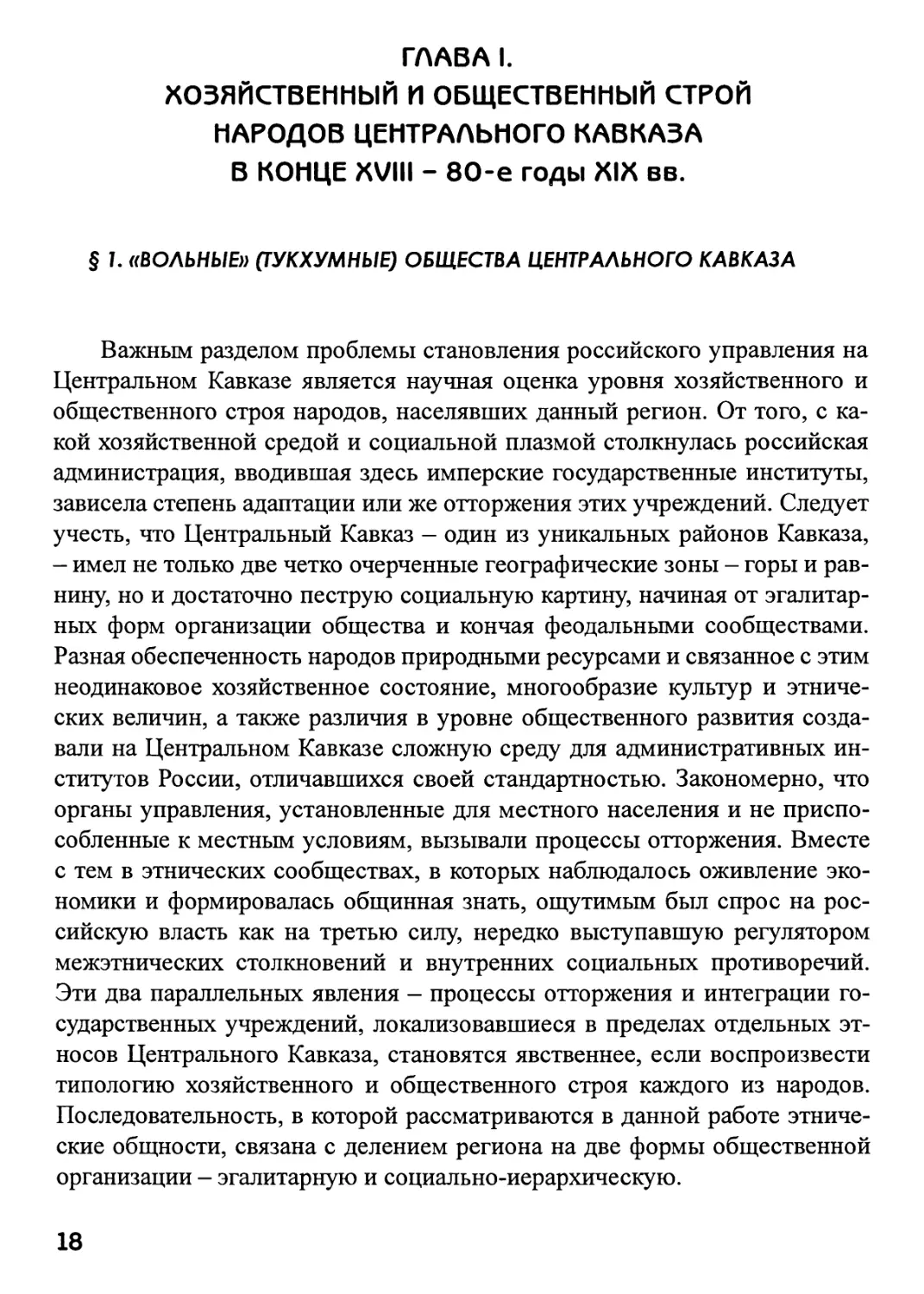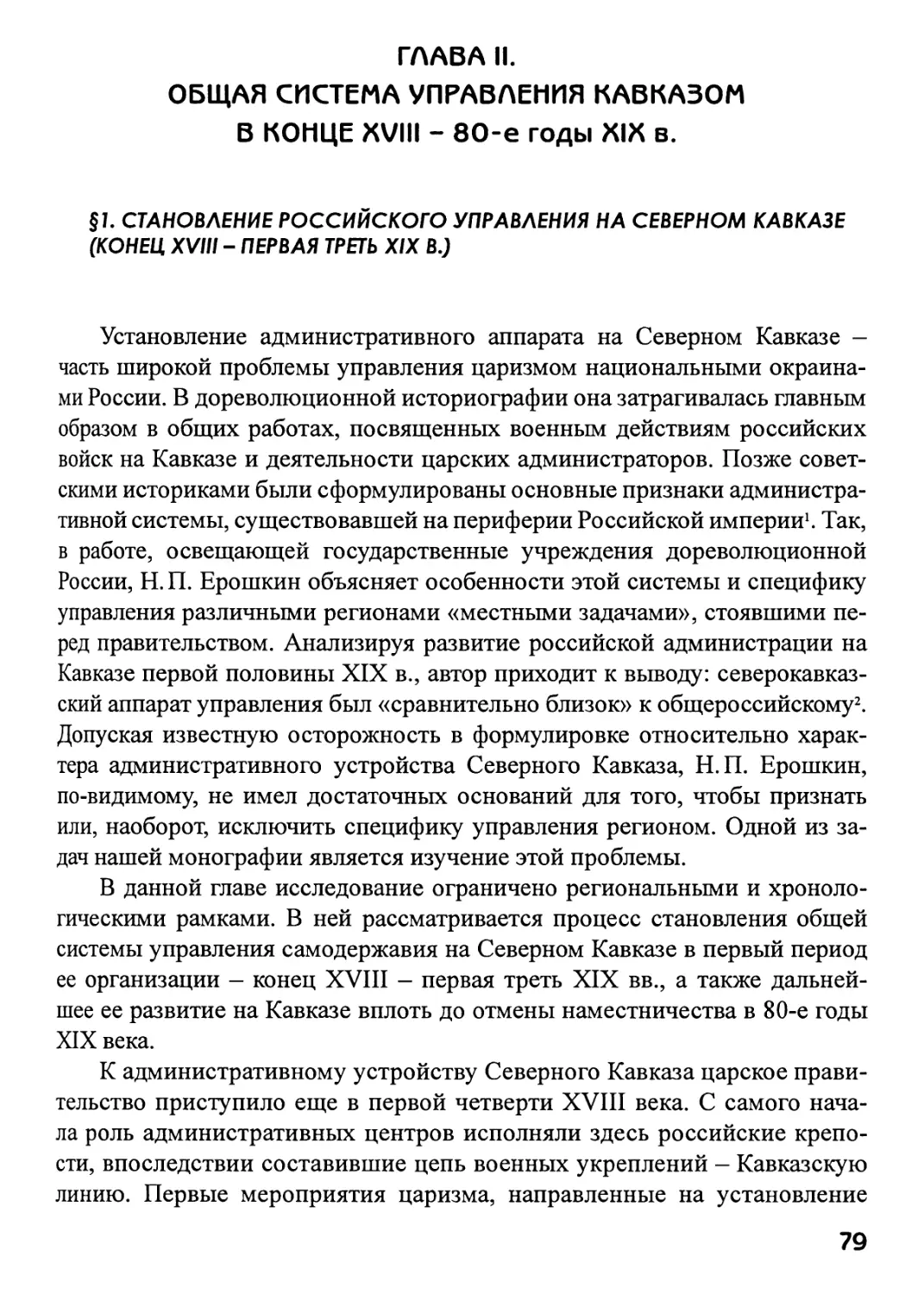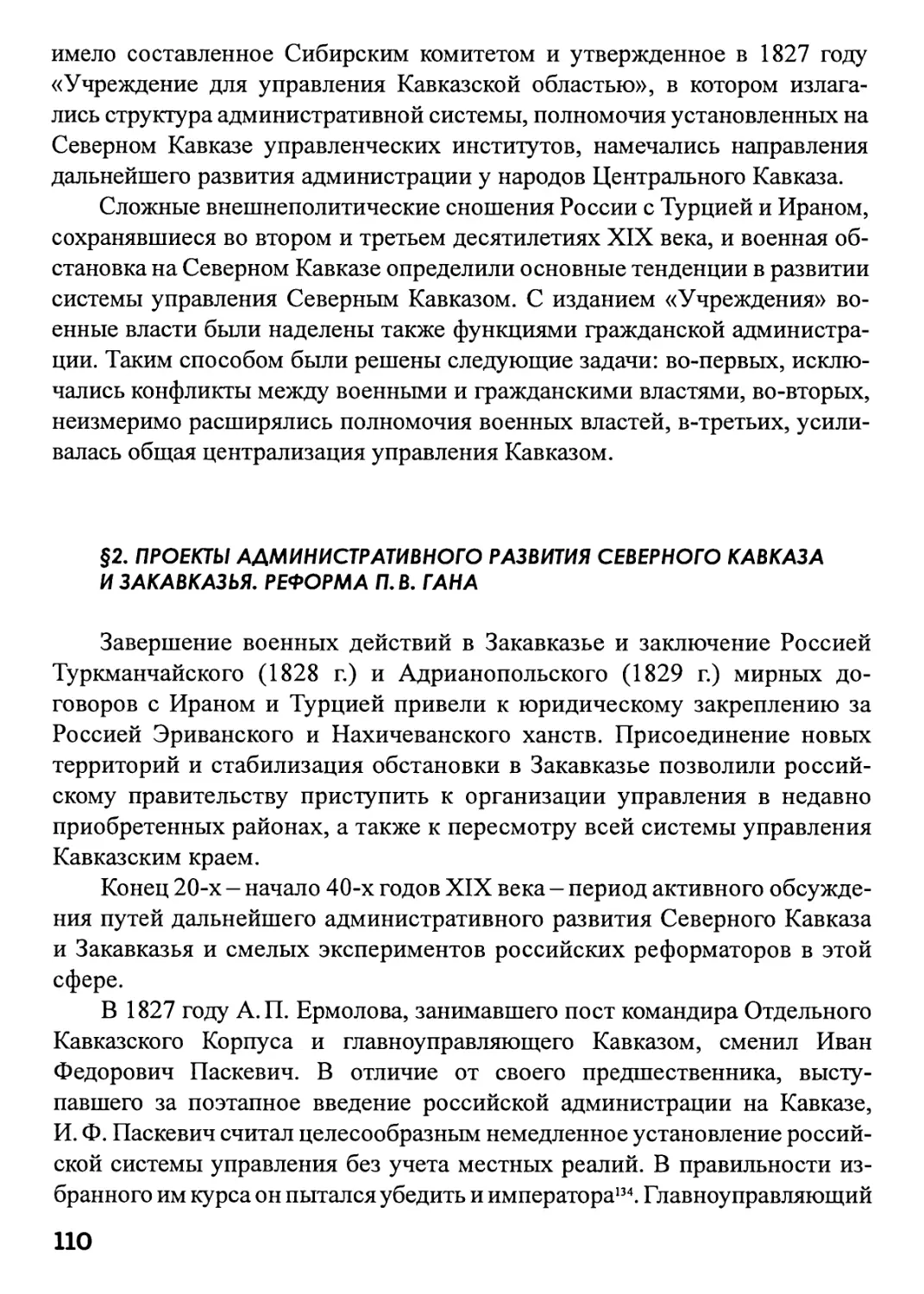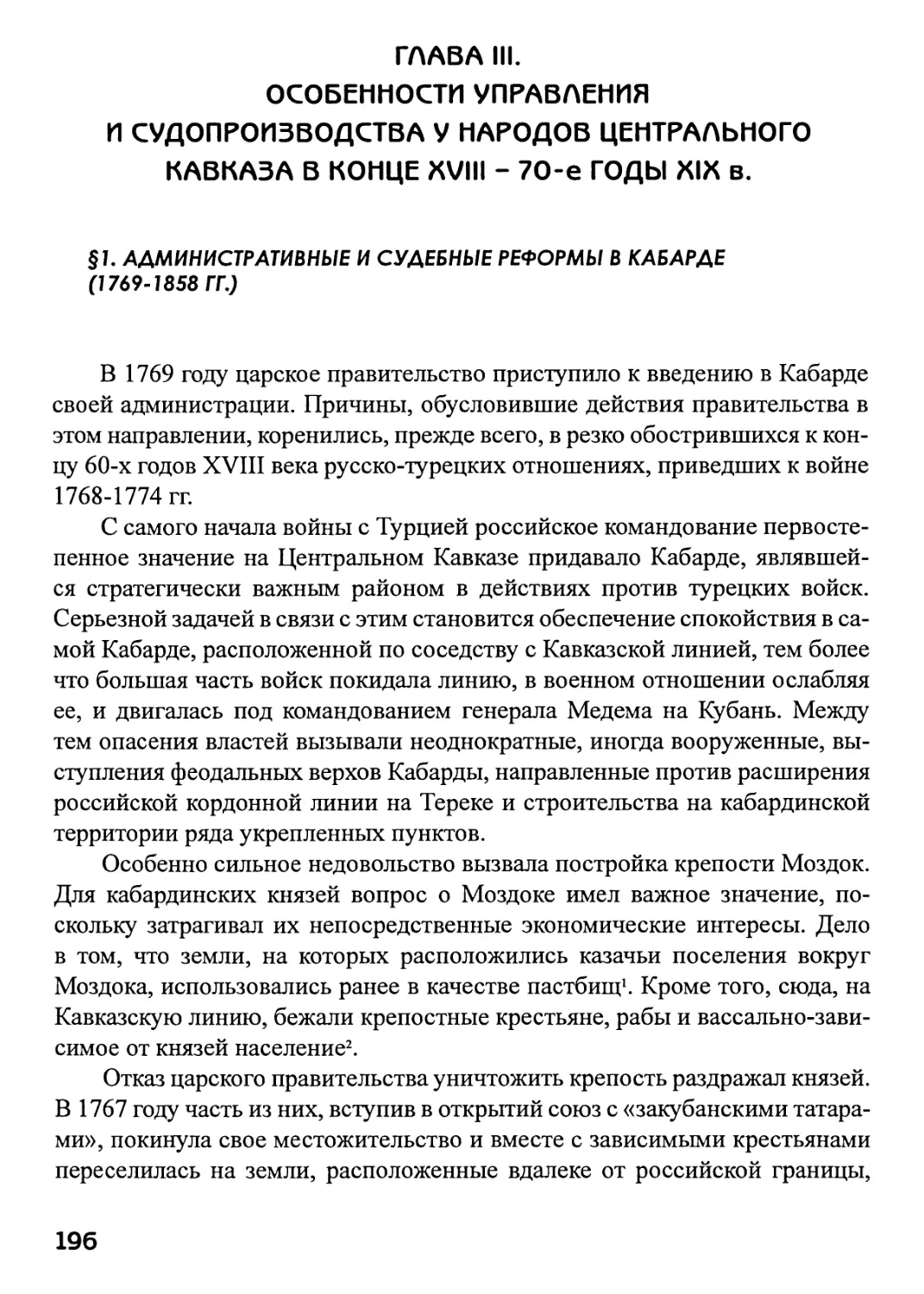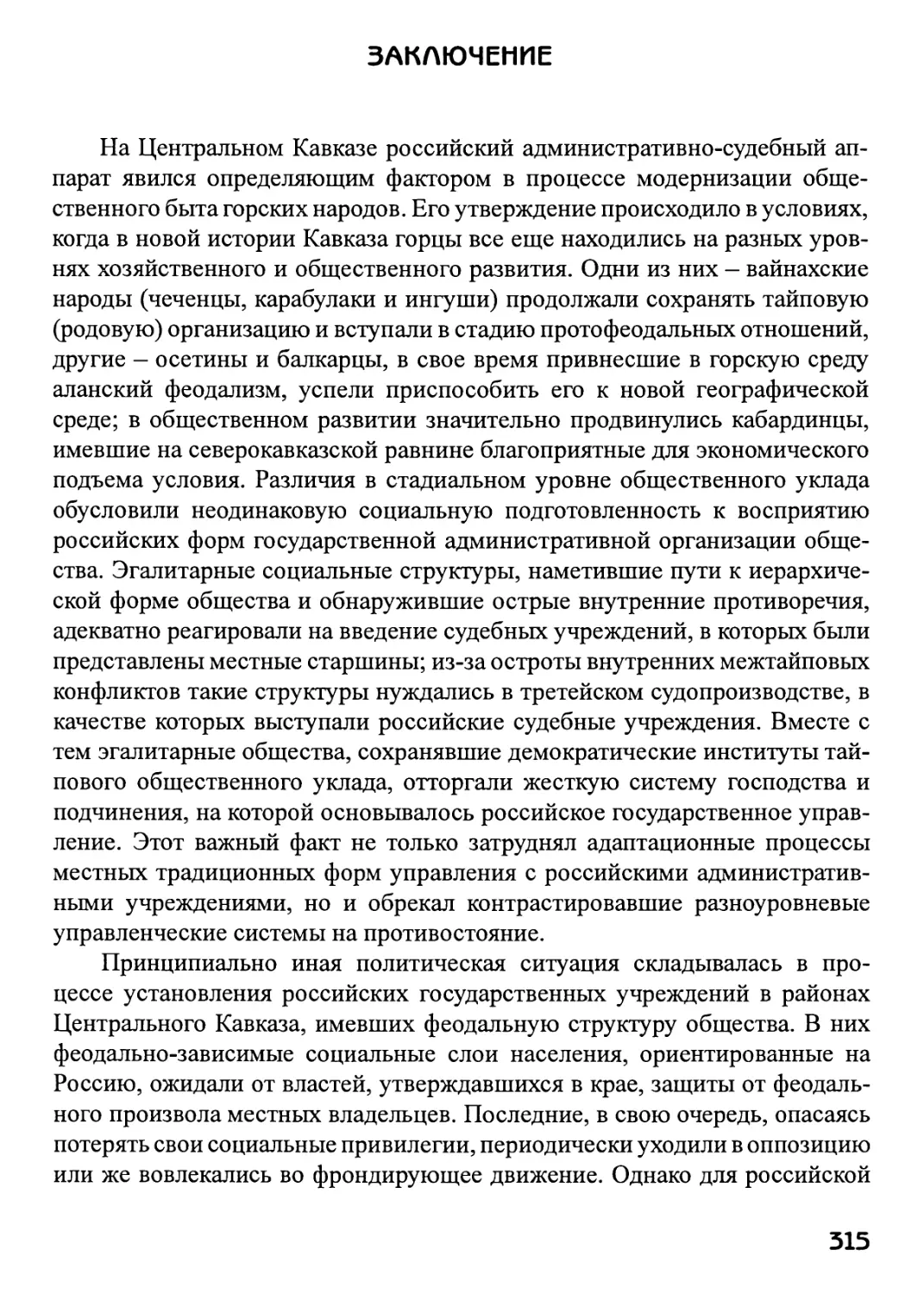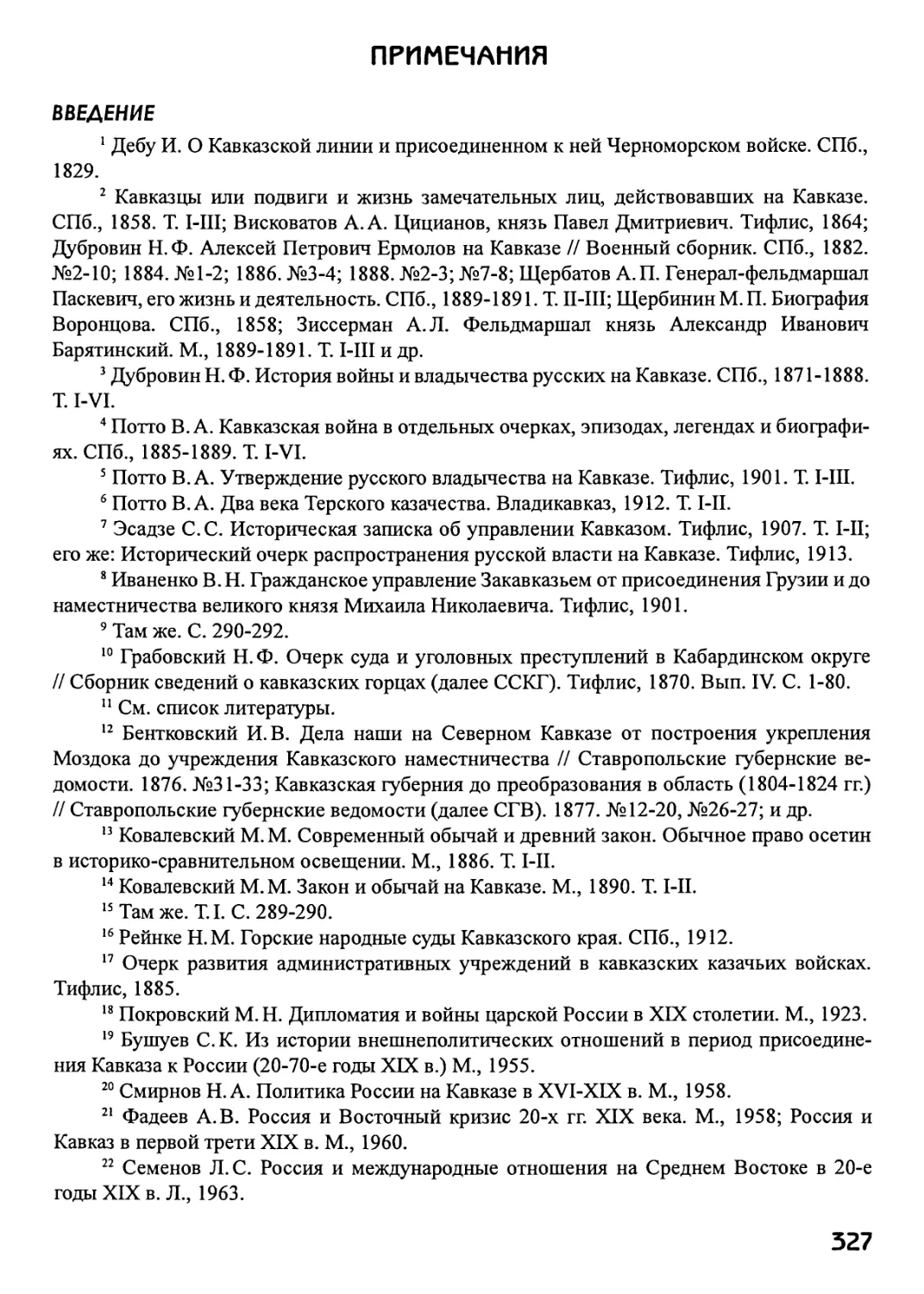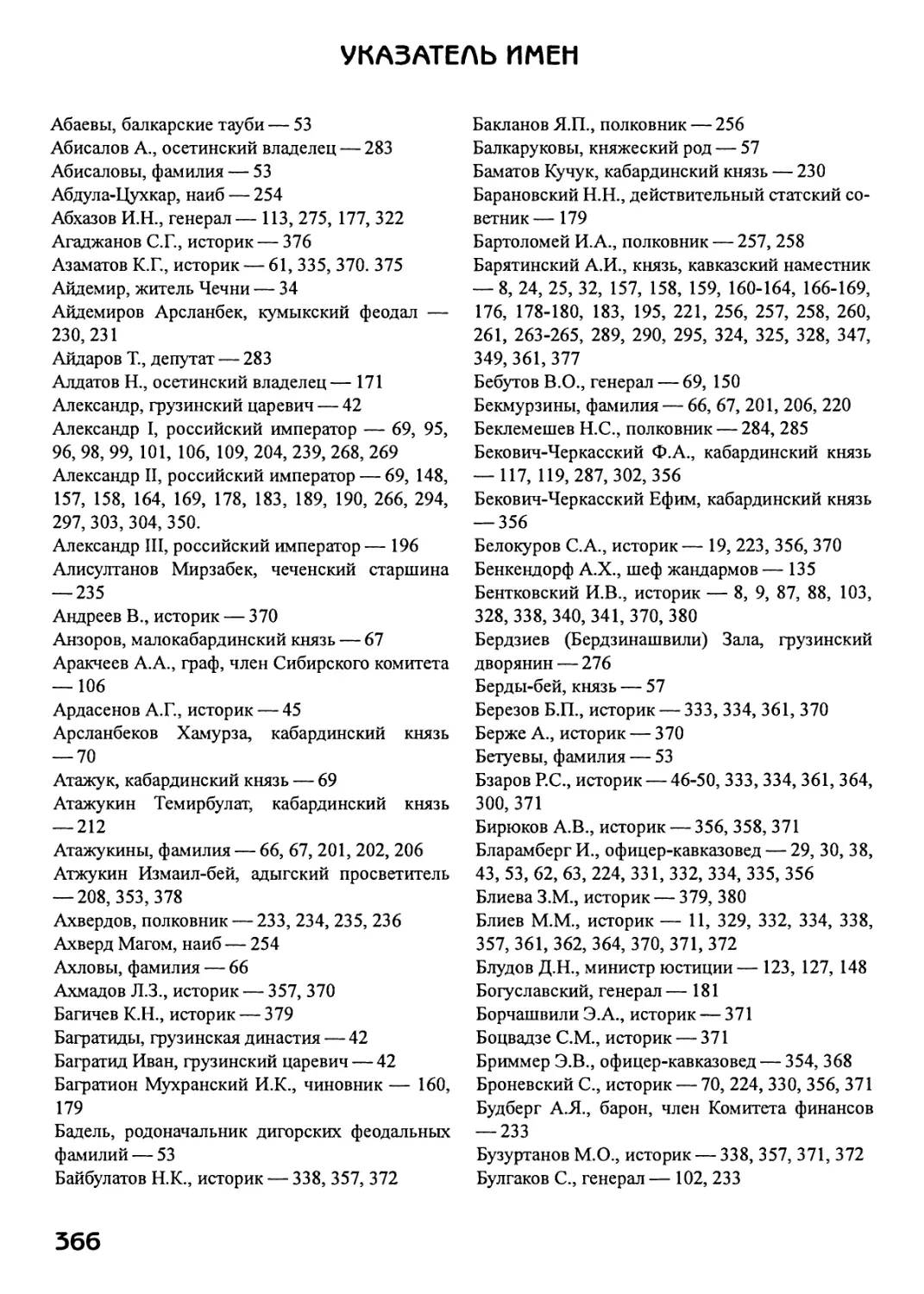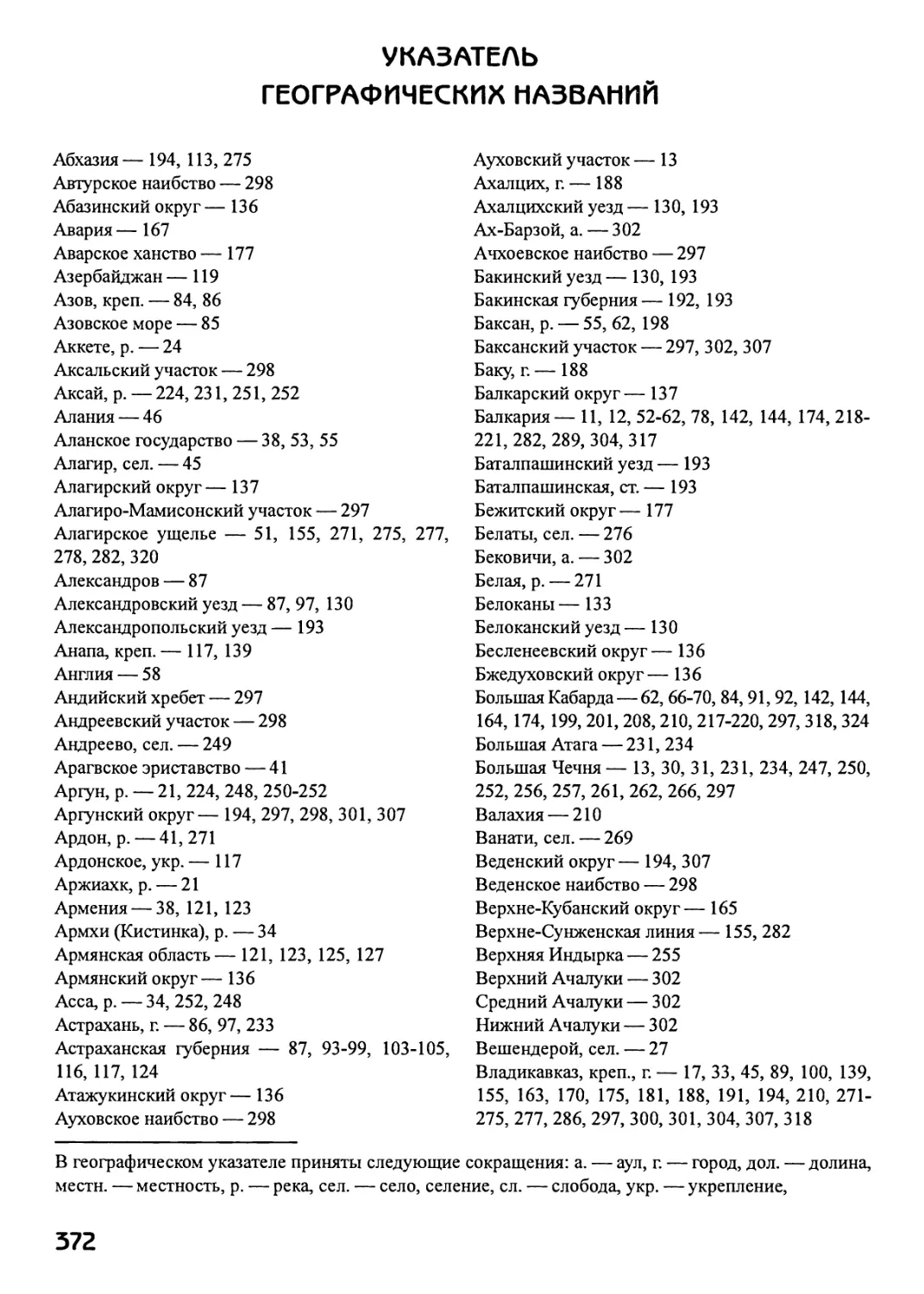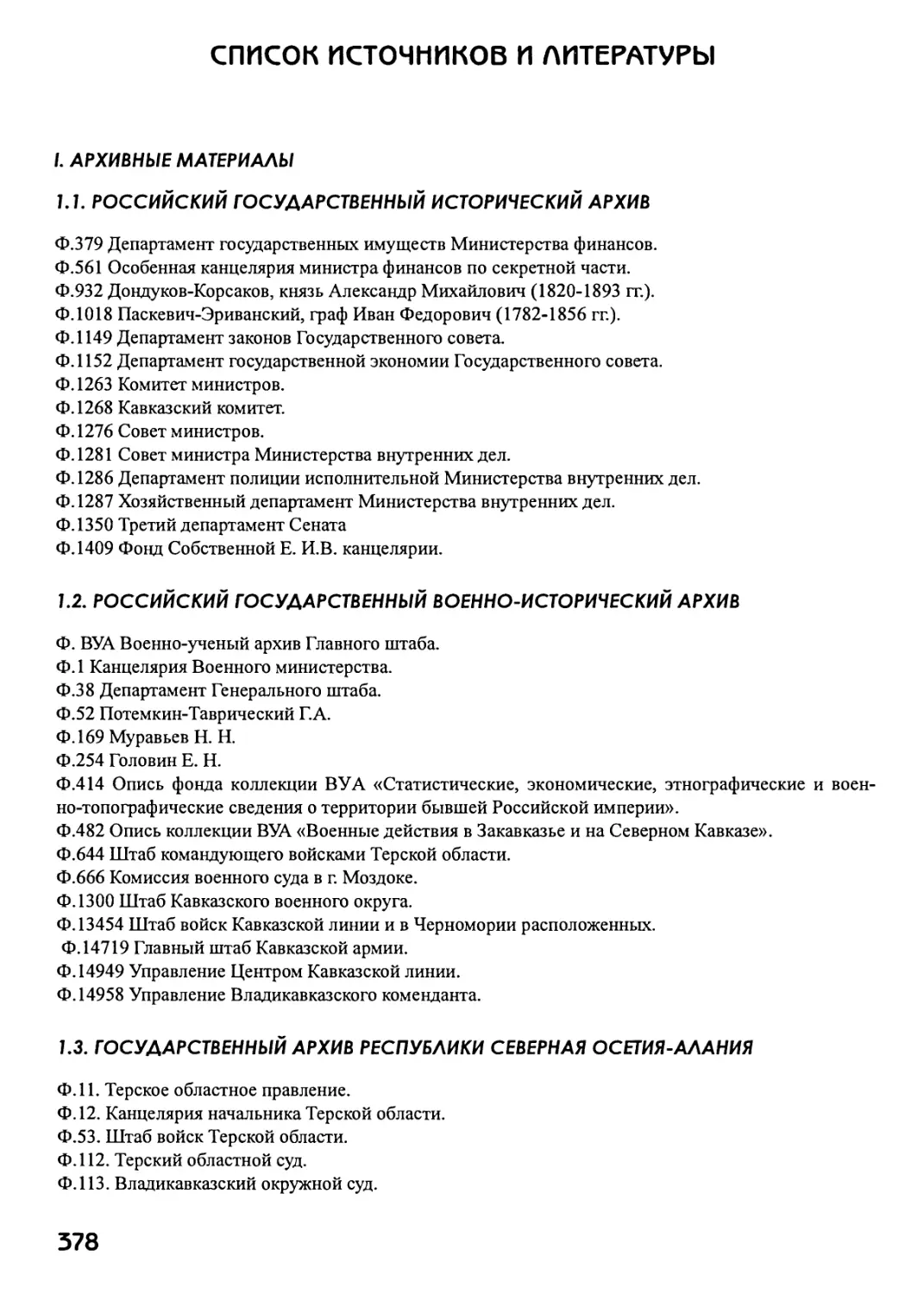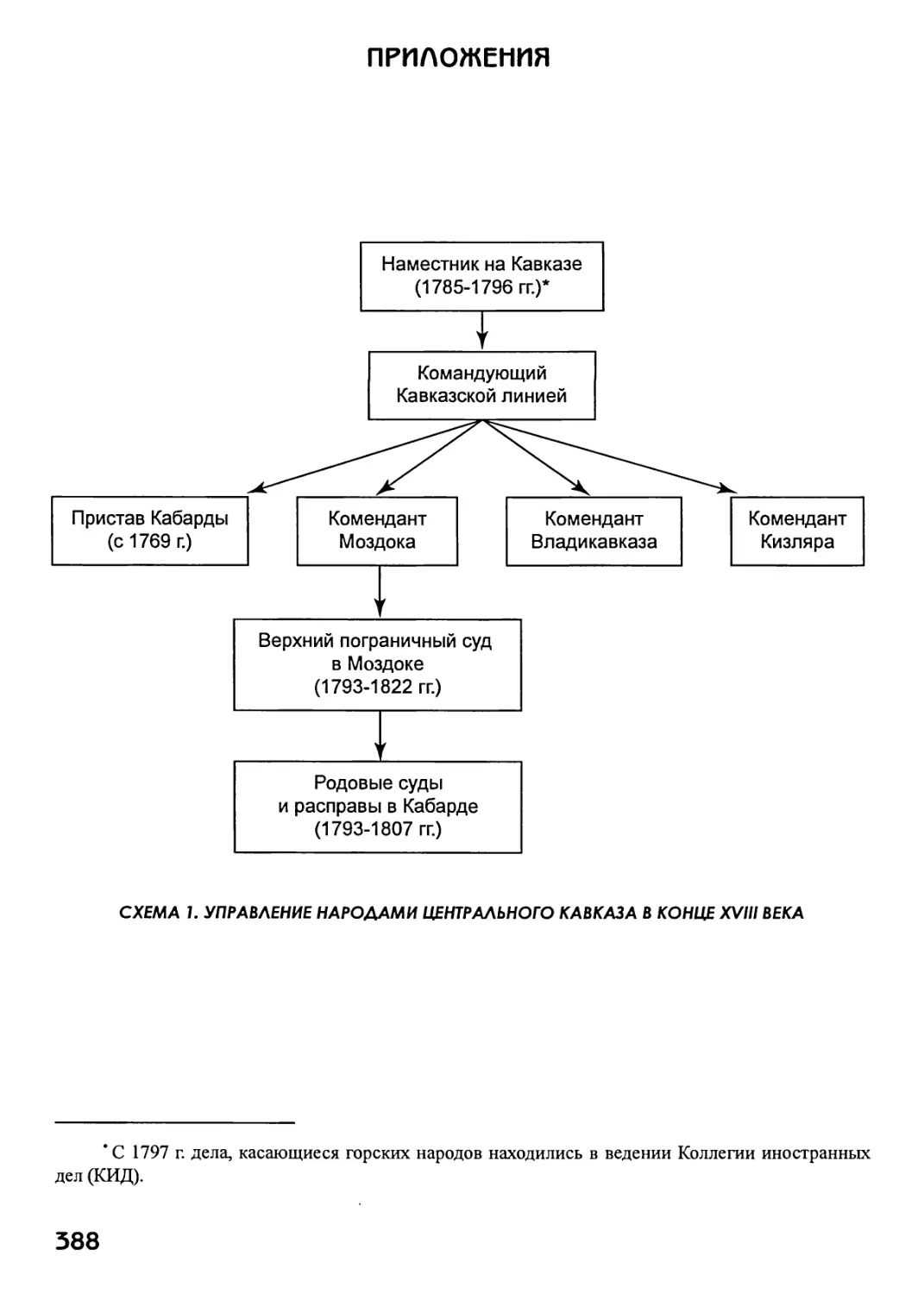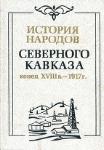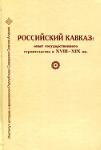Автор: Блиева З.М.
Теги: история история россии история кавказа новое время государственная власть
ISBN: 978-5-00081-049-1
Год: 2015
Текст
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
З.М. БЛИЕВА
РОССИЙСКИЙ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
И НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
В КОНЦЕ XVIII - 80-е ГОДЫ XIX ВЕКА
Владикавказ 2015
ББК63.3
Б 69
Рекомендовано к печати Учёным советом
Института истории и археологии РСО-А
Блиева З.М. Российский бюрократический аппарат и народы
Центрального Кавказа в конце XVIII — 80-е годы XIX века: монография /
З.М. Блиева. — 2-е изд., перераб. — Владикавказ: Институт истории
и археологии РСО-А: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю., 2015. — 398 с.
13ВМ 978-5-00081-049-1
Рецензенты: доктор исторических наук Д.И. Исмаил-Заде;
доктор исторических наук, профессор Б.К. Мальбахов
Монография посвящена исследованию российских административных и
судебных учреждений на Северном Кавказе в период их становления и развития. В
работе определены основные тенденции и особенности генезиса российского
бюрократического аппарата в регионе, рассматривается механизм взаимодействия
центральных и местных органов власти, предназначенных для горских народов.
Источниковую базу исследования составил документальный материал
архивных хранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, а также
опубликованные источники.
Книга адресована научным работникам, аспирантам, студентам исторических
и юридических факультетов, широкому кругу читателей.
ББК63.3
КВИ 978-5-00081-049-1
О Институт истории и археологии РСО-А, 2015;
© Блиева З.М., 2015
ВВЕДЕНИЕ
Образование российской государственности является одним из
мировых феноменов, неизменно привлекающих внимание исследователей.
Определение его сути в масштабе общих цивилизационных процессов, так
же как установление закономерностей внутреннего генезиса Российского
государства - задачи важные и чрезвычайно сложные. Один из путей к их
решению лежит в четких научных оценках социальной природы
управленческой пирамиды России на разных этапах ее развития. Не менее
актуальной представляется полная научная реконструкция региональных систем
российского административного управления, установленных в
присоединенных к России национальных окраинах, и их взаимодействие
(адаптация) с традиционными формами власти. В рамках этого направления,
изучающего российский административный регионализм, особый интерес
представляет Кавказ, прошедший длительный и сложный путь введения
российского государственного управления и продемонстрировавший как
процессы адаптации, так и местного противостояния. По своей
насыщенности и научной ценности кавказский материал позволяет выделить для
исследования целый ряд актуальных проблем, таких как: 1) вовлечение
Кавказа в евразийские процессы России; 2) становление российской
административной системы на Кавказе как важной части общего генезиса
российской государственности; 3) особенности российского централизма
и регионализма; 4) специфика этносоциальных структур на Центральном
Кавказе и глубина их адаптационного взаимодействия с российской
администрацией; 5) вариативные возможности оптимальных систем
управления для малых народов Центрального Кавказа и др.
Научная постановка этих и других проблем возможна при
реконструкции многоступенчатого механизма российской администрации на
Кавказе. Без полной картины всех уровней властных структур, созданных
на Кавказе, и определения их функциональных обязанностей невозможно
было бы исследование других аспектов российско-кавказского
управленческого взаимодействия.
Отдельно необходимо отметить важность организации
государственного аппарата управления на Центральном Кавказе. В этом регионе
Кавказа, населенном малыми народами с неодинаковым уровнем
общественного развития и многообразием традиционных культур, состоялся
как прогрессивно-созидательный, так и отрицательный опыт российского
3
администрирования. Изучение административных и судебных
учреждений на фоне внутренней социальной организации народов Центрального
Кавказа дает более ясное представление о взаимодействии местных
этнических сообществ с более высокими по социальной сути уровнями
российских государственных учреждений.
Хронологические рамки исследования обусловлены внешним и
внутренним историческим единством темы. Ее начало относится к высокой
активности русско-кавказских отношений и присоединению в 70-80-е годы
XVIII века Центрального Кавказа к России, завершение - к буржуазным
реформам, проведенным правительством на Кавказе, и учреждению здесь
российского «гражданского» управления в 70-80-е годы XIX века. В рамках
указанного времени имелись в виду два периода в установлении и
развитии российской администрации на Кавказе. Первый из них был связан с
ее становлением, начиная с 70-х годов XVIII века и кончая принятием в
1830 году Николаем I плана покорения горцев и повсеместного введения
российского аппарата управления. Второй период совпал с
присоединением к России закавказских территорий, а также с «промышленным
переворотом» в России, проведением буржуазных реформ, в том числе
административно-судебных, приведших к существенным переменам на Кавказе
как в сфере социальной организации общества, так и административного
устройства. При этом критерием периодизации в работе являлись не
только надстроечные элементы (политические, административные и др.), но и
базовые - общественно-экономические процессы в России и на Кавказе.
Некоторые хронологические и региональные отступления,
допускавшиеся в исследовании, вызывались необходимостью полнее раскрыть
проблему или же логикой самих фактов.
В дореволюционной историографии изучение проблемы российского
управления Кавказом имело ярко выраженную особенность, вытекавшую
из ее политического аспекта — неразрывности российского
бюрократического аппарата и самодержавия. Благодаря этому единству, самодержавие
и его управленческие институты, установленные на Кавказе, традиционно
являлись предметом внимания историков, принадлежавших, как правило,
к дворянскому направлению русской историографии. Приверженность к
официально-охранительной идеологии и отсутствие аналитического
подхода в исследовании такой сложной области, как генезис российского
государственного управления в Кавказском регионе, не лишали их работы
неоспоримых достоинств. К ним, несомненно, можно отнести стремление
авторов к позитивному освещению исторических фактов и привлечение
4
ими обширного круга архивных источников, утраченных к нашему
времени. Что касается буржуазного направления русской историографии, в
середине XIX века становившегося академическим, то оно, занятое общими
проблемами русской истории, лишь в редких случаях обращалось к
кавказским сюжетам.
Одной из первых работ, затрагивавших вопросы становления системы
управления Кавказом, было сочинение статского советника И. Дебу,
долгое время служившего на Кавказе.1 В ней дается подробное описание как
возникновения линии российских укреплений на Северном Кавказе, так и
дальнейшее ее развитие. По мнению И. Дебу, Кавказская линия
сооружалась не только в целях реализации военно-политических планов России, но
и для решения задач, связанных с установлением среди народов Северного
Кавказа административного аппарата управления. Важную для
современного исследователя информацию содержат части книги, посвященные
деятельности командующих Кавказской линией, а также небольшие
этнографические очерки о народах Центрального Кавказа. Касаясь общей
системы управления Кавказом, И. Дебу как на существенный недостаток в ней,
требующий немедленного устранения, указывал на совместное управление
Кавказской линией и Закавказьем.
Во второй половине XIX в., после окончания Кавказской войны, в
русской историографии значительно возрос интерес к кавказской
проблематике. Особое место в ней занимали вопросы о военном утверждении России
на Кавказе и о деятельности главноуправляющих, наместников и наиболее
известных русских генералов, служивших на Кавказе2.
70-80-е годы XIX века стали новым периодом для дворянской
историографии, посвященной Кавказу. Под влиянием достижений буржуазной
науки (М.С. Соловьев, В. О. Ключевский и др.), а также глубоких
общественных перемен в России дворянские историки-кавказоведы
значительно расширили круг своих научных интересов. В это время увеличивается
их внимание к истории народов Кавказа, к социально-экономическому,
политическому и административному развитию региона после его
присоединения к России.
Среди многочисленных авторов, занимавшихся проблемой
российско-кавказского взаимодействия, выделяются работы Н.Ф. Дубровина,
В. А. Потто, С. С. Эсадзе, В. Н. Иваненко и др.
Одной из первых фундаментальных работ по истории Кавказа
является многотомная книга Н. Ф. Дубровина «История войны и владычества
русских на Кавказе», написанная в основном на материалах, собранных капи-
5
таном Бушеном3. В ее отдельных разделах просматривается явная
подверженность автора влиянию буржуазного направления русской
историографии. Этим объясняется стремление Н. Ф. Дубровина воспроизвести
общественный строй народов Кавказа и снабдить этнографические очерки
описанием этнопсихологических особенностей кавказских народов. Однако
это влияние не коснулось основного предмета изучения -утверждения
российской власти на Кавказе. Как и его предшественники, дворянские
историки, Н.Ф. Дубровин твердо придерживался официально-охранительных
принципов, и его концепция русско-кавказских отношений ограничивалась
рамками политики самодержавия на Кавказе. С великодержавных позиций
освещается автором «покорение» Россией Кавказа и вопросы
административного развития Центрального Кавказа в конце XVIII - начале XIX в. Так,
Н.Ф. Дубровиным подробно описаны открытие в 1786 году Кавказского
наместничества, меры российского правительства в отдельных районах
Северного Кавказа (в частности, в Кабарде), способствовавшие
административному подчинению горских народов. Этот процесс рассматривался в
работе как историческая необходимость, связанная с вовлечением горцев в
цивилизованную систему российской общественно-политической и
административной жизни.
По своим научным интересам и концептуальным подходам к
Н.Ф. Дубровину близок В.А. Потто. Наиболее значительными его
исследованиями являются: «Кавказская война в отдельных очерках...»,4
«Утверждение русского владычества на Кавказе»5, «Два века Терского
казачества».6 С точки зрения фактического материала, особое внимание
заслуживают книги о Кавказской войне и Терском казачестве; приведенные в них
данные представляют несомненную ценность. Другая работа В. А. Потто
- «Утверждение русского владычества на Кавказе», написанная к
100-летнему юбилею присоединения Грузии к России, во многом дублировала
сочинение Н.Ф. Дубровина по этой же теме. Исследования В.А. Потто
выполнены в традициях дворянской историографии 60-х годов XIX века. В
них преимущественно дается описание военных событий, в меньшей
степени - административное продвижение России на Кавказе, проблемы
внутренней жизни народов Кавказа не затрагиваются вовсе. Несмотря на это,
работы В. А. Потто серьезно дополняют общий военно-политический фон,
в условиях которого происходило становление и утверждение российского
административного аппарата на Кавказе.
В русле русской дворянской историографии создавались монографии
С. С. Эсадзе, проявившего немалый интерес к истории развития россий-
б
ских административных учреждений на Кавказе7. Важным для нас
является специальное исследование С. С. Эсадзе, посвященное
установлению администрации на Кавказе, - «Историческая записка об управлении
Кавказом». Хронологические рамки работы связаны с присоединением
Грузии к России, окончанием Кавказской войны и проведением российским
правительством на Кавказе буржуазных реформ. Большую ценность имеет
приведенный автором во II томе в виде приложения материал по истории
Кавказского комитета. В «Исторической записке...» С.С. Эсадзе вопросы
административного устройства соотносит с военно-политическим
продвижением России на Кавказе, в результате чего тема об административном
управлении Кавказом теряет в работе доминантность. Это не позволило
автору воспроизвести целостную картину управленческой конструкции,
созданной на Кавказе. С. С. Эсадзе не затрагивает также генезисные
процессы, связанные со становлением российской администрации и
наращиванием бюрократического режима. Автор «Исторической записки...» основное
внимание уделяет Закавказскому региону. Касаясь Северного Кавказа, он
ограничивает свою задачу освещением в основном «военно-народной
системы», введенной в середине XIX века. Ее появление С. С. Эсадзе
объясняет общественными и политико-экономическими условиями, в которых
находился Кавказский край. Следует отметить и другое: С. С. Эсадзе не
касается административных мероприятий, проводимых российским
правительством на Северном Кавказе в конце XVIII - первой половине XIX в.
По задачам и методам разработки данной темы в одном ряду с
работой С. С. Эсадзе стоит монография В.Н. Иваненко8. Она также
относится к юбилейной серии «Утверждение русского владычества на Кавказе».
Название работы В. Н. Иваненко - «Гражданское управление Закавказьем»
- подчеркивало приоритетное значение Закавказского региона в
историческом исследовании. С фактической стороны - обеспеченности
историческими источниками исследование В.Н. Иваненко - одно из лучших
в русском кавказоведении. Здесь содержится значительный материал,
воссоздающий структуру общекавказских государственных учреждений
наместничества, расположенных в Тифлисе. Концепционная сторона
работы проявилась в попытке периодизировать политику России в области
административного устройства в Закавказье. Первый период этой
политики автор ограничивает 1801-1837 гг. и характеризует его как
«неустойчивый» в политическом и административном отношении. Стремление
Петербурга к учету традиционных общественных систем,
существовавших у кавказских народов, В.Н. Иваненко объясняет «неуверенностью»
7
правительства в собственных действиях и поисками лучших форм
административного управления Кавказом. Начало второго периода автор
связывает с образованием комиссии П. В. Гана и приездом Николая I на Кавказ
(1837 год), а его окончание с отставкой А. И. Барятинского (1862 год).9
Историк не скрывает своего негативного отношения к реформе,
проведенной на Кавказе П. В. Ганом, и восхищается деятельностью
наместников М. С. Воронцова и А. И. Барятинского, считая их знатоками кавказской
жизни. Второй период, по мнению В. Н. Иваненко, - время укрепления
позиций России на Кавказе и сильной наместнической власти.
В дореволюционное время большой интерес к истории Кавказа
проявляла периодическая печать. Часть авторов, публикуемых в кавказских
журналах и газетах, по своим взглядам тяготела к
буржуазно-либеральной российской интеллигенции. В отдельных статьях ими затрагивались
и вопросы управления кавказскими народами. Одна из таких статей,
опубликованная в 1870 году в «Сборнике сведений о кавказских горцах»,
принадлежит перу Н.Ф. Грабовского и представляет собой очерк о
судебных учреждениях, существовавших в Кабарде до 60-х годов XIX века.10 В
«Очерке» приводится значительный фактический материал, отразивший
практику местных судебных органов. Важно, что Н.Ф. Грабовский
стремился проследить процесс приспособления обычного права кабардинцев
к общероссийскому законодательству и таким образом воспроизвел опыт
использования обычного права в судах, установленных российскими
властями в Кабарде. Автор освещает структуру судебных учреждений, а также
функции, которые исполняли эти суды в Кабарде.
Серия статей по управлению Предкавказьем была напечатана в
газете «Ставропольские губернские ведомости» в 70-80-е годы XIX века.
Все они написаны секретарем Ставропольского статистического
комитета И.В. Бентковским11. Деятельность И. В. Бентковского в комитете и
возможность широко пользоваться архивными источниками обусловили
появление в его статьях ценнейших статистических и фактических данных
по Кавказской губернии. Работы И. В. Бентковского значительно
расширяют наши представления о продвижении на юг Кавказской линии
укреплений и учреждении Кавказского наместничества (1786 г.), о Кавказской
губернии и устройстве ее административных институтов вплоть до
учреждения Кавказской области.12 Достоинством его статей является не только
фактическая безупречность, но и их демократическая направленность.
Автор критически подходил к политике российского правительства на
Северном Кавказе и к практической деятельности кавказской администра-
8
ции. В частности, он отрицательно относился к попыткам искусственного
насаждения в Предкавказских степях дворянского землевладения, а также
ко всякого рода другим мерам, стеснявшим хозяйственную деятельность
коренного населения Кавказа. Критикуя российских администраторов,
И. В. Бентковский придерживался принципов, типичных для
буржуазно-либеральной интеллигенции.
Выдающимся явлением в формировании
буржуазно-демократического направления в русском кавказоведении стало обращение к
кавказской тематике М. М. Ковалевского - ученого с мировым именем, крупного
специалиста в области государства, права, социологии, этнографии и
истории общества. Зная о классических формах родовой и
военно-демократической организации горцев в прошлом, М.М. Ковалевский одну из
первых работ по Кавказу посвятил исследованию обычного права осетин. В
1886 году на основе обширного полевого и архивного материала автор
подготовил и издал монографик> «Современный обычай и древний закон».13
М.М. Ковалевский, применив историко-сравнительный метод, дал
глубокий анализ особенностей общественной организации и традиционных
норм права осетин. В другой работе, «Закон и обычай на Кавказе»14,
ученый выступил решительным противником сохранения практики
использования среди горцев наряду с российскими законами обычного права.
М.М. Ковалевский видел в обычном праве - «когда-то демократической
правовой норме» - носителя «насилия и произвола» и его отмену в
судопроизводстве считал «могущественным орудием общественного
обновления».15
Подобных идей придерживался также Н. М. Рейнке, опубликовавший
целый ряд работ о состоянии судопроизводства на Кавказе.16
В 80-е годы XIX века по распоряжению кавказской администрации
был издан «Очерк развития административных учреждений в Кавказских
казачьих войсках»17. Его автор неизвестен. Согласно данным,
приведенным в работе, не только горские общества, но и казачья часть населения
Северного Кавказа, имевшая собственную общину, подверглась серьезным
переменам. Они коснулись всей управленческой системы, в особенности,
сложившихся у казаков традиционных форм устройства. Очерк содержит
краткую справку по истории административного устройства казачьих войск
на Кавказе начиная с XVIII века. Автор очерка полемизирует с российской
администрацией о дальнейшем пути развития казачьих управленческих
структур и о целесообразности объединения горцев, казаков и
гражданского населения Терской области в одно управление. При этом обновление
9
казачьей общины, приспособление ее к условиям новой экономики,
административной системы — концептуальная нить «Очерка».
Итак, приведенные историографические факты свидетельствуют о том,
что проблема установления российских государственных учреждений на
Кавказе впервые была поставлена и являлась предметом изучения
исследователей, представлявших дворянское направление в русской исторической
науке. В 70-е - 90-е годы XIX века к этой тематике обращались и
представители либерально-буржуазной историографии, среди которых
наибольшие достижения в кавказоведении принадлежат М.М. Ковалевскому.
В первые годы советской власти прервалось дальнейшее развитие
традиционного русского кавказоведения. В 1923 году в небольшой работе
«Завоевание Кавказа», опубликованной М.Н. Покровским18, были
провозглашены идеологические основы новой исторической науки -
непримиримая критика самодержавия и его бюрократического аппарата и признание
политики России на Кавказе колониальной экспансией. Эти два
фундаментальных постулата, периодически застывавшие, оживали в зависимости
от политических коллизий, происходивших в СССР. В 50-е годы XX века
проводившиеся на страницах периодических изданий дискуссии по
проблемам присоединения Кавказа к России и Кавказской войне, несмотря на
их политизированность, частично освободили советское кавказоведение от
идеологических тисков, в которых оно находилось. Одной из первых
работ, реанимировавших эту область исторической науки, стала монография
С. К. Бушуева «Из истории внешнеполитических отношений в период
присоединения Кавказа к России (20-70-е годы XIX в.)».19 Вскоре появилась
работа Н. А. Смирнова «Политика России на Кавказе в ХУ1-Х1Х веках».20
Несмотря на ее очерковый характер и концептуальную зависимость, нельзя
не заметить явное стремление автора к возрождению русского
кавказоведения. Заметным отходом от политических установок, провозглашенных
еще в 20-е годы XX века, были работы А. В. Фадеева «Россия и Восточный
кризис 20-х гг. XIX века», «Россия и Кавказ в первой трети XIX в.».21
Достоинства исследований А. В. Фадеева заключались в поисках автором
социальной сущности многих сложных явлений российско-кавказского
взаимодействия. В 50-60-е годы важным научным направлением
становилось изучение международных отношений, под влиянием которых
развивались российско-кавказские контакты. В его рамках выполнена монография
Л. С. Семенова «Россия и международные отношения на Среднем Востоке
в 20-е годы XIX века»22 - одна из наиболее оригинальных работ,
опубликованных в 60-е годы. Тему Кавказа в системе международных отношений в
10
этот период завершило исследование О. П. Марковой «Россия, Закавказье
и международные отношения в XVIII веке».23 Привлекательной стороной
работы является ее высокая обеспеченность источниковой базой,
позволившая уточнить многие аспекты русско-азербайджанских и
русско-грузинских взаимоотношений.
Общее оживление советского кавказоведения не вывело из забвения
проблему российского административного управления Кавказским
регионом, без глубокого исследования которой не представлялась возможной
серьезная научная оценка политики России на Кавказе. Лишь отдельные
вопросы управления Кабардой, Осетией и Кавказской линией затрагивались
в работах С. К. Бушуева «Из истории русско-кабардинских отношений»24,
А. В. Фадеева «Очерки экономического развития Степного Предкавказья в
дореформенный период»,25 Т.Х. Кумыкова «Социально-экономические
отношения и отмена крепостного права в Кабарде и Балкарии»,26 М. М. Блиева
«Русско-осетинские отношения»27 и др. Тогда же была опубликована статья
Т. X. Кумыкова «Из истории судебных учреждений в Кабардино-Балкарии
(конец ХУШ-Х1Х вв.)».28 Исследователь отмечал оппозиционность
кабардинской знати к российской судебной системе. По мнению Т.Х. Кумыкова,
в установленных российским правительством судебно-административ-
ных учреждениях феодальные верхи видели ограничение своей власти.
Т.Х. Кумыков был одним из первых среди местных историков, кто
поднял данную проблему и обратил внимание на ее актуальность. По
утверждению самого автора, в статье делалась попытка «вкратце осветить
историю судопроизводства», существовавшую в Кабардино-Балкарии в конце
XVIII - 70-е годы XIX века. Инициатива историка, однако, долгое время не
имела продолжения.
Впервые исследовательский интерес к вопросам управления
национальными окраинами России, в том числе и Кавказа, проявил
Н. П. Ерошкин - автор «Истории государственных учреждений
дореволюционной России».29 Им были сформулированы основные признаки
административной системы, сложившейся в национальных районах, и
определены ее особенности.30 Указывая на них, Н. П. Ерошкин отмечал
следующие принципы этой системы: «особенное»
административно-территориальное деление (наместничество, области, магалы); наличие
специфических, нередко только для данной окраины характерных учреждений
и должностных лиц; слияние функций военного и гражданского
управления; слияние административных, полицейских, финансовых и судебных
учреждений в одном учреждении; привлечение самодержавием местной
11
феодальной и родоплеменной верхушки к управлению (чаще всего в
низовые звенья) с целью найти в них свою опору. Для многих окраин России
автор считал типичными довольно широкую самостоятельность
администраторов и «известную независимость» их от центральных, а временами
и от высших правительственных учреждений. Эту самостоятельность,
находившуюся в противоречии с централизаторскими тенденциями
самодержавного бюрократического аппарата России, как, впрочем, и
специфику управления окраинами вообще, Н. П. Ерошкин объяснял «местными
задачами», стоявшими перед правительством в различных национальных
районах. Так, специфика управления Кавказом, по его мнению,
определялась частыми войнами России с Турцией и Персией. Заметный вклад
в теорию вопроса административного освоения Кавказа в XIX веке
внесла Н. С. Киняпина. В статье «Административная политика царизма на
Кавказе и в Средней Азии в XIX веке»31 автор ставила перед собой задачу
раскрыть «принципы административной политики царского
правительства на окраинах» на примере Кавказа и Средней Азии. Н. С. Киняпина
пришла к выводу: опыт управления Кавказом нашел свое применение в
Средней Азии, включенной в состав России в 60-80-е годы XIX в. Касаясь
административного устройства Северного Кавказа первой половины
XIX века, Н. С. Киняпина подчеркивала постепенность при введении в
полиэтничном регионе новых управленческих институтов и подчинение
гражданской власти военной.
С середины 70-х годов XX века вопросы административного
освоения Кавказского края после его присоединения к России постепенно
становятся предметом исследования советских историков. В 1975 году
Ж. А. Калмыковым была выполнена диссертация «Система
административно-политического управления в Кабарде и Балкарии во второй
половине XIX - начале XX в.», опубликованная позже в виде монографии.32
Автор видел свою задачу в том, чтобы «освободиться от великодержавного
идеологического шаблона царизма и сталинизма и показать объективную
картину длительного процесса насильственной ломки традиционных
общественно-политических институтов кабардинцев и балкарцев и
внедрения в их жизнь колониальных порядков».33 Несмотря на политический
оттенок сформулированной им цели, Ж. А. Калмыкову не чуждо
понимание прогрессивной роли, которую Россия, несомненно, играла при
установлении на Северном Кавказе государственных форм административного
управления. В частности, им отмечалось «положительное влияние»
буржуазного законодательства России на судопроизводство в Нальчикском окру-
12
ге.34 Несомненным достоинством работы является широкое привлечение
архивного материала.
К диссертации Ж. А. Калмыкова тематически и хронологически
близка, но менее привлекательна работа Э. Д. Мужухоевой «Административная
политика царизма в Чечено-Ингушетии во второй половине XIX -
начале XX века».35 Автор отстаивала тезис о развитии феодализма в Чечне: по
мысли Э. Д. Мужухоевой, феодализм «в горной зоне» достиг «наивысшего
расцвета», а на равнине сложились «довольно развитые феодальные
отношения».36 Нет смысла опровергать столь ошибочное представление о
социальной организации чеченских и ингушских обществ, укажем на другое:
техническое оформление диссертации нередко ставит под сомнение
приводимые автором сведения. Так, например, сославшись на архивные
материалы РГВИА, опубликованные в сборнике документов, Э. Д. Мужухоева
указывает, что «в 1842 году в Мичиковском участке Чечни проживало 2000
семейств, в Ауховском - до 1500, в Большой Чечне - до 2500, в Малой - до
4000».37 В документе же, на самом деле, речь идет не о количестве
народонаселения Чечни, а о том, какое число вооруженных людей могли
выставить чеченцы: «мичиковцы могут поставить до 2000 вооруженных людей,
ауховцы - до 1500, Большая Чечня - 2500 и Малая - до 4000».38
В 1984 году нами была защищена диссертация на тему
«Административные и судебные учреждения на Северном Кавказе в
конце XVIII - первой трети XIX в.»39. В диссертации, опубликованной в 1993
году, а также в статьях выдвигалась задача - на основе архивных
источников исследовать генезис российского государственно-административного
аппарата на Северном Кавказе в период его становления.
Параллельно с изучением отдельных аспектов проблемы управления
Северо-Кавказским регионом после его присоединения к России
советскими историками разрабатывались вопросы, касавшиеся управленческих
институтов, установленных российским правительством в Закавказье. Особо
следует отметить работу В. Г. Туняна «Административная и экономическая
политика самодержавия в Закавказье в первой половине XIX в.»,40
подготовленную в виде докторской диссертации. Несмотря на традиционные
методологические посылки, В. Г. Тунян, используя значительный по
объему архивный материал, осветил целый ряд важных проблем: «постепенное
введение российской административной системы» при
«разграничительном отношении к христианскому и мусульманскому населению», «гибкое»
регулирование правительством «финансовых поступлений», приоритетное
развитие в Закавказье сельского хозяйства и «закрепление закавказского
13
рынка за продукцией русской промышленности». Рассматривая эти
процессы в виде «внешней и внутренней колонизации», автор, однако, не заметил
важных перемен, происходивших в регионе в первой половине XIX века.
Так, установление российского управления в Грузии сопровождалось
освобождением ее от господства Ирана и Турции и восстановлением
целостности страны, а присоединенная в 1828 году к России Восточная Армения
постепенно стала превращаться для армян в метрополию.
Своеобразным прорывом в изучении проблемы генезиса российской
государственности и создании на окраинах страны управленческих
систем следует считать издание коллективной монографии «Национальные
окраины Российской империи: становление и развитие системы
управления».41 Это первое серьезное исследование, в котором вопросы
установления региональных систем управления рассматриваются в масштабе всей
территории России. Главная цель, обозначенная авторами книги, -
«выявить особенности и закономерности генезиса, инфраструктуры и
механизма взаимодействия центральных и местных органов власти».42 Ряд задач,
поставленных в «Предисловии», выделены как перспективные - изучение
вопросов типологии автономных образований в составе России,
формирование чиновничества из коренных народов окраины, разработка единого
понятийного научного аппарата по данной теме и др. Особое значение для
дальнейшей работы исследователей по проблеме управления российскими
национальными окраинами имеет последняя глава монографии, в которой
предпринимается попытка разработать ее теоретическую основу. Авторам
в результате проведенного историко-сравнительного анализа удалось
определить характерные черты административной системы, сложившейся на
периферии Российской империи, выявить общие формы и факторы ее
образования и развития. Кавказскому региону в монографии посвящена
отдельная глава, написанная Д. И. Исмаил-Заде и Л. С. Гатаговой. Проследив
на фоне русско-кавказских отношений постепенное возведение
российской административной структуры, исследователи отметили наличие двух
периодов в государственно-административном строительстве на Кавказе.
По их мысли, первый период охватывает конец XVIII - середину XIX века
и характеризуется «ограниченностью действий правительства в
отношении коренных народов».43 Второй период начинается с «покорения горцев
в 1864 году» и отмечен «значительной активизацией правительственной
деятельности» на Кавказе.44 Глава, о которой идет речь, - одна из лучших
работ, посвященных проблеме установления российской администрации
на Кавказе; неполнота освещения отдельных ее аспектов объясняется,
14
по-видимому, заданными в коллективной монографии техническими
параметрами.
Среди работ, опубликованных в последнее время, научный интерес
представляет исследование Х.М. Думанова и Ю.М. Кетова по истории
организации суда и его правовым основам в Кабарде во второй половине
ХУШ-Х1Х века.45 Авторы обращают внимание на степень
целесообразности сочетания норм адата, шариата и российского законодательства,
применявшихся в Кабарде. Примечательной стороной работы является видение
X. М. Думановым и Ю. М. Кетовым адаптационных процессов в истории
организации судопроизводства в Кабарде.46
Следует сказать еще об одном авторе - Г. Н. Малаховой,
подготовившей монографию «Становление и развитие российского государственного
управления в конце ХУШ-Х1Х вв.».47 В книге привлекает как ее название,
так и оглавление. Не столь научно, однако, выглядит смысловая
организация работы, - большая часть источников заимствована из ранее
опубликованных исследований, работа компилятивна и не обладает высокой
исследовательской культурой.
От нее выгодно отличается кандидатская диссертация 3. X. Ибрагимовой
«Терская область под управлением М. Т. Лорис-Меликова»48, выполненная
на основе широкого круга исторических документальных материалов. В ней
ставилась задача изучения практической деятельности начальника Терской
области. З.Х. Ибрагимова делает акцент на политический аспект темы.
Именно в этом контексте рассматривается ею мухаджирство. Обращаясь
к исследованию серьезных изменений, происходивших на Центральном
Кавказе, автор часто остается на их политической поверхности, не
углубляясь в социальные истоки исторических событий. Например, описывая
сборы горцев к переселению в Турцию и то, как они «за бесценок»
распродавали земли, З.Х. Ибрагимова комментирует: «Горцы очень тяжело это
переживали, но скорее предпочитали разорение и смерть, чем покорность
русскому правительству».49
Судебной системе, установленной на Северном Кавказе во второй
половине XIX - начале XX века, посвящена кандидатская диссертация
И. В. Зозули.50 Автор понимает суть поставленной проблемы; она состояла
в том, чтобы показать, как в обширном регионе, где существовало
несколько принципиально разных систем судебных органов, учитывались местные
условия.
К вопросу управления Кавказом обращались современные зарубежные
историки-кавказоведы. Американский исследователь Л. Г. Райнеландер, из-
15
учавший управление Кавказом на примере Грузии, рассматривает его с
точки зрения соотношения двух тенденций в развитии здесь администрации
- регионализма и централизма.51 Под этими терминами он
подразумевает два подхода к задачам управления на Кавказе, стоявшим перед Россией
на разных этапах утверждения ее в регионе. Регионализм, по мнению
Л. Г. Райнеландера, предполагал гибкое приспособление управленческого
аппарата к местным обычаям, социальным, правовым нормам и
постепенную их перестройку на «российский манер». Сторонники же
централизма выступали за скорейшее внедрение на Кавказе бюрократических
органов, которые бы функционировали по образцу российской
делопроизводственной практики. Проследив борьбу двух течений в административной
политике России на Кавказе на протяжении первой половины XIX века и
констатировав победу регионализма, Л. Г. Райнеландер так и не объяснил
причины такого исхода.
Подводя итоги историографического обзора по проблеме
становления и развития российской административной системы на Кавказе,
необходимо отметить следующее. В свое время для советских историков тема
о присоединении Кавказа к России, сводившаяся к критике самодержавия
и обвинениям в колониальной политике, становилась своеобразным
идеологическим полем, на котором исследователи должны были, так или
иначе, проявлять свои политические пристрастия. Подобная ситуация в науке
«освободила» историков от разработки сколько-нибудь оригинальных
научных концепций и сводила их роль то к критике, то к восхвалению
политики России на Кавказе. Нечто похожее происходит в последние годы
с изучением проблемы российского управления в Кавказском регионе.
Не всегда зная, какую научную оценку дать сложным явлениям
российско-кавказского взаимодействия, отдельные исследователи
ограничиваются рассуждениями о «тяжести» колониальной политики России на Кавказе.
Расхождения в терминах невелики - от определения «внешняя и
внутренняя колонизация» до дефиниции «колония в экономическом смысле» и
«чистейшая колонизация». Между тем известно, что в колониях классического
типа, созданных европейскими державами, как правило, избегали введения
прямого управления, а устанавливали непрямое управление, консервируя
в них потестарные формы социальной организации и управленческих
систем. Принципиально иной процесс происходил в российско-кавказском
взаимодействии, в котором постепенное учреждение смешанного (прямого
в сочетании с непрямым) административного управления сменилось после
70-х годов XIX века переходом к общероссийским формам управления. В
16
этом процессе содержалось немало модернизирующих тенденций,
открывавших народам Кавказа новые перспективы для прогресса.
Источниковую базу исследования составил документальный материал
архивных хранилищ Москвы (Российский государственный
военно-исторический архив), Петербурга (Российский государственный исторический
архив) и Владикавказа (Центральный государственный архив Республики
Северная Осетия - Алания; отдел рукописных фондов Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований), источники,
опубликованные в XIX веке (Полное собрание законов Российской империи;
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией;
приложения к книге Ш. Ногмова «История адыгейского народа»; Ф.И. Леонтович
«Адаты кавказских горцев» и др.) и в советское время (Материалы по
истории Дагестана и Чечни (первая половина XIX в.); Материалы по обычному
праву кабардинцев; Кабардино-русские отношения; Материалы по истории
осетинского народа; Русско-осетинские отношения и др.), а также
воспоминания современников.
17
ГЛАВА I.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ П ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ
НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
В КОНЦЕ XVIII - 80-е годы XIX вв.
§ 7. «ВОЛЬНЫЕ» (ГУКХУМНЫЕ) ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
Важным разделом проблемы становления российского управления на
Центральном Кавказе является научная оценка уровня хозяйственного и
общественного строя народов, населявших данный регион. От того, с
какой хозяйственной средой и социальной плазмой столкнулась российская
администрация, вводившая здесь имперские государственные институты,
зависела степень адаптации или же отторжения этих учреждений. Следует
учесть, что Центральный Кавказ - один из уникальных районов Кавказа,
- имел не только две четко очерченные географические зоны - горы и
равнину, но и достаточно пеструю социальную картину, начиная от
эгалитарных форм организации общества и кончая феодальными сообществами.
Разная обеспеченность народов природными ресурсами и связанное с этим
неодинаковое хозяйственное состояние, многообразие культур и
этнических величин, а также различия в уровне общественного развития
создавали на Центральном Кавказе сложную среду для административных
институтов России, отличавшихся своей стандартностью. Закономерно, что
органы управления, установленные для местного населения и не
приспособленные к местным условиям, вызывали процессы отторжения. Вместе
с тем в этнических сообществах, в которых наблюдалось оживление
экономики и формировалась общинная знать, ощутимым был спрос на
российскую власть как на третью силу, нередко выступавшую регулятором
межэтнических столкновений и внутренних социальных противоречий.
Эти два параллельных явления - процессы отторжения и интеграции
государственных учреждений, локализовавшиеся в пределах отдельных
этносов Центрального Кавказа, становятся явственнее, если воспроизвести
типологию хозяйственного и общественного строя каждого из народов.
Последовательность, в которой рассматриваются в данной работе
этнические общности, связана с делением региона на две формы общественной
организации - эгалитарную и социально-иерархическую.
18
Чеченцы. Чечня относится к наиболее неизученным районам
Центрального Кавказа. Отсутствие о ней сколько-нибудь значительного
круга местных источников, обусловлено, прежде всего, поздним
появлением у чеченцев своей письменности. По Евг. Максимову и Г. Вертепову,
была и другая причина слабой изученности истории Чечни. Как отмечали
эти авторы, до 60-х годов XIX в. Чечня представляла собой «постоянный
очаг восстаний, мятежей и центр беспокойных элементов Кавказа» и
поэтому, «за малым исключением, всесторонних исследований»... здесь «почти
не предпринималось».1 Среди местных источников стоит выделить очерк
У. Лаудаева «Чеченское племя», опубликованный в 1872 году.2 Бесценными
в нем являются сведения о чеченцах, собранные У. Лаудаевым во время его
специальных поездок по Чечне. На уровне исторического источника можно
рассматривать также работу М. А. Мамакаева - другого чеченского автора,
в советское время издавшего «Чеченский тайп (род) в период его
разложения».3 Как и У. Лаудаев, М. А. Мамакаев основывает свое исследование
на широком полевом материале. Особого внимания заслуживают
источники, собранные и опубликованные С. А. Белокуровым4 и Е.Н. Кушевой5; в
них данные относятся к начальным периодам чеченской истории. Важным
для нас является «Описание Чечни», составленное в 1834 году капитаном
Генерального штаба И. И. Норденштаммом.6 Оно хронологически
близко к нашей теме и дает представление о Чечне накануне вовлечения ее в
Кавказскую войну. Капитан Генерального штаба собирал материалы в
полевых условиях с целью практического их использования и это придает
им дополнительную ценность. Особую значимость в освещении проблем
хозяйственного и общественного уклада чеченцев имеет
«культурно-экономическое исследование» Н.С. Иваненкова, опубликованное в 1910 году
под названием «Горные чеченцы».7 Данные Н.С. Иваненкова, полученные
им во время экспедиционных работ, следует рассматривать как наиболее
полные о Чечне XIX века.
Во второй половине XVIII века, после массового переселения чеченцев
с гор на равнину, территория Чечни расширилась и не подвергалась в течение
XIX века сколько-нибудь значительным изменениям; переселение из
равнинных районов в горные ущелья (в имамат Шамиля) происходило в виде мухад-
жирства и носило временный характер. Во второй половине XIX века горная
Чечня граничила на юге с Тифлисской губернией и Дагестанской областью;
на равнине она занимала южную часть Терско-Кумыкской низменности и
граничила со Ставропольской губернией. На этой территории, состоявшей
из двух географических зон - горной и равнинной, чеченцы расселялись не-
19
равномерно. Наиболее густо заселенной считалась Сунженская долина8. На
северных отрогах Центрального Кавказа, в так называемых Черных горах
«селения были реже», но также «многолюдны».9 Малонаселенными являлись
земли, расположенные в самых высоких горах. Сведения о численности
населения Чечни в XIX веке противоречивы. В 1834 году И. И. Норденштамм
приводил цифры - «от 116 тысяч до 120 тысяч» жителей, указывая на их
приблизительность.10 Более поздние и более точные данные о численности
населения Чечни приводил Н. С. Иваненков. По его известиям, к началу XX века
чеченцев в Терской области насчитывалось 205 тысяч душ.11 Евг.Максимов и
Г. Вертепов в своем статистико-экономическом очерке указывали на цифру
«184717 душ» как на «общее число чеченцев» к 1890 году.12 Как видно, в
XIX веке в пределах Центрального Кавказа чеченцы составляли один из
наиболее крупных этносов.
При оценке хозяйственного состояния Чечни XIX века
исследователями нередко высказывается мысль о том, будто на Северном Кавказе
она являлась своеобразной житницей. На самом деле различные районы
Чечни и отдельные ее общества находились далеко не в одинаковом
хозяйственном положении. Наиболее благоприятными для земледелия и
производства сельскохозяйственной продукции являлись Сунженская долина и
земли, прилегавшие к Тереку. На это указывал С. Броневский. В 1810 году,
- писал он, - чеченцы, обитавшие на Сунже и Тереке, успешно
занимались земледелием.13 И. И. Норденштамм отмечал, что «чеченцы, живущие
по Тереку и Сунже, прилежнее прочих занимаются хозяйством, особенно
хлебопашеством».14 Их же он относил к наиболее богатой части
населения. Вместе с тем, имея в виду всю Чечню, И. И. Норденштамм указывал,
что «Чечня производит более хлеба, чем нужно для прокормления жителей
ее».15 Несомненно, это высказывание капитана генштаба, участвовавшего
в военных экспедициях и воочию наблюдавшего хозяйственное
состояние чеченцев, в большей мере относилось к жителям Сунженской
долины и притеречных сел, поскольку он в том же «Описании» подчеркивал
ограниченность сельскохозяйственного производства «в гористой части
Чечни»,16 то есть в исторической метрополии чеченцев. Как уже
отмечалось, И. И. Норденштамм наблюдал равнинную и горную Чечню в начале
30-х годов XIX века. В последующие годы, начиная с 40-х гг., когда жители
Сунженской и Притеречной долины были охвачены движением мухаджир-
ства и большей частью переселились в горы, и в течение последующих
20 лет наиболее плодородные и богатые равнинные земли переживали
хозяйственный упадок. В этот сложный в политическом и экономическом
20
отношении период хозяйственная жизнь сосредоточилась в предгорных,
большей частью покрытых лесом, и горных территориях Чечни.
Эту хозяйственную зону Чечни Н. С. Иваненков разделил на пять
категорий. К первой он относил «Слободы Шатой». По его оценке, земли
этого района весьма посредственны: там, где можно было выращивать
земледельческие культуры, сползали почвы, в другом месте — «почва почти
отсутствовала», а селение Нихалой, расположенное близ Шатоя, часто
оказывалось в бедственном положении из-за разливов реки Аргун.17 Ко второй
категории Н. С. Иваненков относил общества Шароевское, Шикаровское,
Хакмадоевское и Кеселоевское, расположенные по обеим «сторонам» реки
Шаро-Аргун. Здесь благодаря «древним наносам» встречались хорошие
почвы, однако, достоинства их заметно снижались из-за высокогорья. К
третьей категории относилась территория, расположенная на горных
склонах восточной Чечни, где небольшие речки под общим названием Аржиахк
впадали в реки Шаро, Аргун и Аккете. Являясь безлесной местностью, она
имела неплохие почвы, но суровый горный климат не всегда давал созреть
даже альпийским сенокосам. По этой же причине плохо произрастали
земледельческие культуры. Более благоприятны были условия для
скотоводства, являвшегося основным занятием местных жителей. К четвертому
разряду автор относил земли к западу от реки Шаро-Аргун, где по тай-
повому признаку расположилось достаточно большое количество сел. В
этом районе возможности для земледелия и скотоводства были особенно
ограничены, поскольку здесь земли представляли собой «крутые размывы
горных кряжей». К пятой категории причислялись территории
высокогорья, где возможно было занятие только скотоводством. Здесь размещались
тайпы: Перой, Пежиперой, Чамгой, Сакентхой, Керестхой, Горзинтхой и
Хингихой. Эти тайпы больше времени уделяли вооруженным набегам, так
как из-за недостатка сенокосных мест они не могли свои материальные
нужды обеспечить за счет скотоводства. Районирование, проводившееся
Н.С. Иваненковым, полнее отражает реальную картину хозяйственного
состояния чеченцев, живших в горных районах. В этом отношении оценки,
которые дает И. И. Норденштамм горным хозяйствам Чечни,
представляются завышенными. По его характеристике, «в ичкерийских горах» хозяйства
«по устройству своему нисколько» не уступали «деревням на плоскости».18
По принципу районирования Чечни, к которому прибегал Н. С. Иваненков,
картина хозяйственного обустройства в горной Чечне выглядела
следующим образом: в северной ее части предпочтение отдавалось земледелию,
в средней полосе в равной мере - земледелию и скотоводству, в южных
21
- горных и высокогорных районах - главным занятием становилось
скотоводство.
На равнине выращивались все злаковые культуры, среди которых особое
место занимала кукуруза. По описанию И. И. Норденштамма, здесь
встречались кукурузные поля, где растения достигали необычной высоты: «...при
проходе отряда... конница, - писал он, - въехала» в кукурузное поле «и
всадников не видать было».19 Не так благополучно обстояло дело в горных
районах. В них растениеводство было ограничено и малоэффективно:
главными культурами в горах были пшеница и ячмень. Первая из них произрастала
«дурно», вторая - сеялась мало.20
Другую картину представляло собой скотоводство. По описанию
Норденштамма, в 30-е годы XIX века равнинная Чечня им занималась
ограниченно. Русский офицер объяснял это жарким климатом. На самом
деле выгоднее было заниматься земледелием, на продукты которого со
стороны горцев был повышенный спрос. Географические зоны сказывались
даже на породах скота. «Горский рогатый скот очень мелок»21, - писал
Н. С. Иваненков. Этот недостаток, однако, в горных условиях становился
достоинством. Мелкая скотина лучше была приспособлена к горной
экологии. «Цепкая и проворная», она «легко карабкается по самым крутым
склонам гор».22 Из-за малой молочной продуктивности коров доили также
овец и коз. Этим занимались мужчины. О скотоводстве, как о доминанте в
экономике чеченцев, свидетельствовал обычай, широко распространенный
у скотоводческих народов. Согласно ему в своеобразную аренду сроком на
три года отдавался крупный или мелкий рогатый скот. По истечении этого
срока арендатор возвращал это же количество скота и половину приплода.
Такая система при отдаче коров у чеченцев называлась «дадяла-хейли-во-
ту», при отдаче овец - «даляла-джавоту»23; подобное у осетин называлось
«ласкдзаран», у алтайских горцев - «полыш». Несмотря на общее сходство,
имевшееся с другими скотоводческими районами, «арендная» система
чеченцев обладала своей особенностью. Она была связана с тайповой
организацией общества. Обычай «дадяла-хейли воту» в Чечне часто возникал
«из желания зажиточного человека дать возможность заработать и завести
свое хозяйство какому-либо родственнику».24 На эту форму оказания
хозяйственной помощи своему сородичу толкал скотовода и другой обычай,
господствовавший среди чеченцев. Он известен как «байтал-вакхар». По
нему, если у одного хозяина численность скота заметно превышала
средний уровень, наблюдавшийся в тайпе, то глава рода собирал совет и
согласно его решению скот разбогатевшего подвергался дележу между членами
22
тайпа; равная доля доставалась также хозяину скота.25 Традиционные нормы
права, сложившиеся внутри тайпа, консервировали хозяйственную жизнь,
лишая ее стимулировавших рычагов. Этому способствовала также низкая
продуктивность животных, разводившихся в Чечне.
Социальное равенство сложилось и в наделах с землей, пригодной
для хлебопашества. Н. С. Иваненков «во многих местах» измерил
пахотные «загоны» и, по его подсчетам, средний размер одного участка в горной
Чечне не превышал 345 квадратных саженей. Более благоприятная картина
встречалась на равнине, где земельные участки достигали нескольких
десятин. Массовое переселение чеченцев на равнину, происходившее с конца
70-х годов XVIII века, серьезно меняло хозяйственный облик чеченцев.
Оно кардинально улучшало экономику Чечни не только на новых землях,
но и в горах, где в какой-то мере разряжалась земельная теснота. Однако
у равнинных чеченских хозяйств были свои сложности, не дававшие им
стабильного развития. Главной из них являлось непризнание российской
администрацией права частной собственности на земли,
предоставлявшиеся ею чеченским переселенцам. Последние смотрели на свои пахотные и
сенокосные участки как на временные владения. Сказывалась также
военно-политическая нестабильность, создавшаяся после 80-х годов XVIII века,
в особенности с началом движения шейха Мансура и массовой ислами-
зацией чеченцев. Вооруженные набеги горцев на равнину и карательные
экспедиции российских войск нередко приводили к разорению хозяйств
чеченских переселенцев. Позже по мере вовлечения Чечни в Кавказскую
войну хозяйственное положение жителей равнины еще более ухудшилось.
В 40-е годы XIX века среди равнинных чеченцев началось движение му-
хаджирства. Жители сжигали свои дома и вновь возвращались в горы.26 По
оценке главноуправляющего Кавказским краем Е. А. Головина, мухаджир-
ство приводило к «бедствиям и нищете»27, от себя добавим - возвращение
в горы и длительное пребывание чеченцев в составе имамата,
находившегося в состоянии войны с Россией, вызвали хозяйственную деградацию как
на равнине, так и в горах.
Состояние горных и равнинных хозяйств во многом определялось
уровнем орудий труда, которые использовались чеченцами при
обработке земли. Пахота производилась примитивным горским плугом,
называвшимся «ног-дук». Им можно было вспахать землю глубиной не более 3-х
вершков. В плуг впрягали быков, чаще молодых. Еще примитивнее
выглядела борона («мекка»), состоявшая из хвороста, концами прикрепленного к
ребром установленной доске. Плохо обработанная земля давала урожай, но
23
относительно невысокий из-за чрезмерной засоренности пашен сорными
растениями. Возвращение чеченцев-мухаджиров из имамата, в 40-е годы
XIX в. покинувших равнину, представляло собой сложный процесс. Лишь
на первых порах, когда еще шла Кавказская война, российские власти
проявляли интерес к переселению чеченцев с гор на равнинные земли, ими
ранее занимаемые. После завершения войны на Северо-Восточном Кавказе
политика Петербурга в отношении демографической карты Северного
Кавказа резко изменилась. Военный министр Д. А. Милютин убеждал
императора: «Мы должны настойчиво продолжать заселение края казаками».28
В этом он видел главное средство, чтобы «утвердиться в крае, водворить
в нем спокойствие и не опасаться уже потерять Кавказ».29 Поскольку
«чеченское племя» относилось к народам, «долее прочих» сопротивлявшимся
покорению Северо-Восточного Кавказа, то «для ослабления» его решено
было сначала избавиться от «враждебно настроенных» к России чеченцев,
а затем продолжить решение земельного вопроса в Чечне. Еще в 1860 году
генерал А. И. Барятинский, разделявший взгляды Д. А. Милютина,
объявил чеченскому народу, «что земли Чеченского округа будут распределены
между аулами в пользование на общинном праве, за исключением лишь
нескольких участков, предназначенных к отводу частным лицам»30. Тогда
же нагорная полоса Чечни была «очищена» «от горского населения». В
1860 году кавказская администрация, считая Нагорную Чечню
«притоном для хищнических партий», объявила эти земли казенной
собственностью. Здесь местное население имело право занимать земли «только для
пастбищ, под условием - не заводить в этом районе никакой оседлости»31.
Лишившись нагорной полосы, а также ряда земель на равнине, заселенных
казаками, чеченцы оказались в трудном хозяйственном положении. Выход
из него российские власти видели в том, чтобы «возбудить в некоторой,
наиболее беспокойной части чеченского населения стремление к
переселению в Турцию»32. Великий князь Михаил Николаевич, занимавший
должность наместника Кавказа, признавался, что «меры», принятые для
переселения в Турцию, «получили желаемый успех». Потеряв насиженные места
и не получив взамен землю на равнине, 5 тысяч семейств («более 23000
душ обоего пола») переселилось в Турцию. Великий князь был убежден,
что с переселением чеченцев в другую страну «правительство избавилось
от лиц, наиболее к нему враждебно настроенных и в то же время появилась
возможность обеспечить оставшееся на месте население Чечни
достаточным земельным довольствием».33 Наместник также доносил в Петербург
о стремлении чеченских эмигрантов, испытавших на чужбине лишения и
24
голод, вернуться на родину. Отказывая им в этом, наместник считал, что
это «вразумляет остальных из них», оставшихся на родине; по его оценке,
чеченский народ «начинает заявлять себя способным к усвоению
правильной гражданственности, бросил совершенно всякую идею о переселении
и выказывает наклонность сделаться со временем промышленным
населением».34 На самом деле чеченцы, перенеся все тяготы Кавказской войны и
столкнувшись с принципиально новым распределением земли, находились
на Северном Кавказе в нелегкой ситуации.
Что касается послевоенного их устройства и перераспределения
земли, то российские власти исходили из идеи подрыва тайповой
организации чеченского общества и возведения над этим обществом социальной
прослойки из крупных земельных собственников. При этом
предпочтение отдавалось чеченцам, находившимся на российской военной службе.
Наряду с родовыми землями, на которые они сохраняли равные права с
остальными членами тайпа, им отводились участки земли «в вечное и
потомственное владение». Такие наделы, например, получили полковник
Арцу Чермоев и поручик Турло Алханов35, полковник Кусум Курумов и
майор Бота Шамурзаев. Этим чеченским офицерам земли на равнине были
отведены отдельным распоряжением А. И. Барятинского. Количество
земли, становившейся частной собственностью офицера, зависело не только
от звания, но и от личных заслуг перед российским командованием. Так,
полковникам Арцу Чермоеву и Кусуму Курумову наместник определил по
556 десятин земли, а майору Бота Шамурзаеву, принимавшему активное
участие в карательных экспедициях А. И. Барятинского, было отмежевано
5761/2 десятин.36 Тех же политических принципов придерживался другой
наместник - великий князь Михаил Николаевич. По его распоряжению 57
военных и гражданских лиц получили в свое владение земельные участки.
Величина последних зависела от заслуг перед командованием. Так, один
участок состоял из 5 десятин, 36 участков были величиной от 30 до 50
десятин, два участка по 100 и 182 десятины, 8 участков от 200 до 300 десятин, 5
участков от 300 до 400 десятин, 3 участка от 556 до 570, один в 652 и один в
1017 десятин;37 последний, самый значительный участок, был выделен
русскому полковнику Белику, бывшему начальнику Чеченского округа. Всего
в частную собственность «за заслуги» было роздано чеченским офицерам
8674 десятины.38 Мы привели эти данные, поскольку на их основании
строятся выводы о господстве в XIX в. в Чечне феодальных отношений. Однако
становление феодальных отношений - процесс достаточно сложный и его
не могла решить одномоментная раздача земельных участков - пусть даже
25
в крупных размерах. В связи с этим, а также для более четкого
представления о том, на какую общественную организацию «накладывался» в Чечне
российский управленческий аппарат, отдельно стоит сказать о социальной
структуре, исторически сложившейся у чеченцев.
Картина общественного строя Чечни в ХУШ-Х1Х веках наиболее
полно воспроизведена в работах У. Лаудаева и М. Мамакаева. Не являясь
профессиональными историками, оба свою задачу видели лишь в описании
общественной организации чеченцев и в значительной мере избавили свои
работы от предвзятых оценок. У. Лаудаев, опубликовавший в 1872 году свой
очерк «Чеченское племя», указывал на господство в Чечне тайповой
(родовой) организации общества. По его данным, изначально число чеченских
тайпов составляло 59; в XIX веке он насчитывал их 100.39 М. Мамакаев
уточнил эту цифру, указав, что в середине XIX века в Чечне было 135
тайпов и 9 тукхумов - тайповых союзов;40 из-за консервативности тайповой
структуры число тукхумов не менялось на протяжении нескольких
столетий. Обычно в современных исследованиях акцент ставится на присутствие
феодализма в Чечне. Считается, что благодаря российскому влиянию
ослабевали тайповые отношения. Несомненно, что чеченские общества
стояли на пути поступательного развития. Однако состояние войны, в котором
периодически находилась Чечня с Россией, скорее сдерживало внутренние
социальные процессы и замедляло феодализацию чеченских обществ. Это
очевидное явление отметил У. Лаудаев. «В настоящее время, - писал он, —
когда обычаи чеченцев начинают меняться, сливаясь с русскою жизнью, -
связь фамилий», т. е. тайпов, «усиливается еще более».41 Эту особенность
чеченских тайпов не могли преодолеть и такие меры российских властей,
как наделение отдельных лиц военной и гражданской службы земельной
собственностью. На любое возвышение одного лица или тайпа
следовала негативная реакция со стороны других лиц и тайпов. «С возвышением
подобного лица и фамилия его приобретала влияние в народе»; «тогда, -
писал У. Лаудаев, современник этих явлений, - прочия, завидуя ей,
усугубляли свои силы для низведения такого лица и его фамилии в общий
разряд».42 Однако не только внутренняя «соревновательность», но и внешняя
опасность сплачивала тайпы, укрепляла их союзы - тукхумы. Притязания
на феодальное господство соседних владетелей - кабардинских и
дагестанских, а также стремление российских властей насадить в Чечне чуждые
ей социальные отношения, назначая туда владельцами соседних феодалов,
сильно повлияли на сплочение тайпов»,43 - писал М. Мамакаев. Этот же
автор насчитывал 23 принципа, на которых строился чеченский тайпизм.
26
Основополагающими из них, определявшими социальное лицо тай-
па, были принципы, связанные с собственностью и традиционной
организацией управления. М. Мамакаев не точно определил форму
землевладения, называя ее «правом на общинное владение»; не ясно - речь идет
о родовой общине или территориальной. В записи У. Лаудаева основным
видом земельной собственности была тайповая. «Земля, - писал он, -
делилась при собрании целого народа; когда фамилия получала свою часть,
то для отстранения на дальнейшее время поземельных недоразумений,
все присутствовавшие брались свидетелями в означении границ».44 Это
же подтверждал Ф.И. Леонтович, изучавший адаты кавказских горцев.
«Право личной поземельной собственности, - писал он, - доселе не
существуют в Чечне».45 Раздел земли происходил между тайпами,
становившимися собственниками земли. Внутри же тайпа она не подлежала
разделу с правом частной собственности на нее. Тайповая земля каждый
год делилась на отдельные участки и по жребию распределялась сроком
на один год подворно.46 Таким образом, на основе обычного права тайп
выступал в качестве верховного собственника земли, а отдельная семья -
ее пользователем.47 Подобная практика, при которой землей владел тайп,
а индивидуальная семья получала равный с другими членами рода
участок земли, сохранялась вплоть до начала XX века; исключение
составляли села Вешендерой, Чишки и Дачу-барзой.48 В этом отношении следует
отметить следующее важное обстоятельство. В Вешендероевском
обществе, где из-за вмешательства российских властей была нарушена
традиционная система владения землей и где наряду с крупными владельцами
появились безземельные, было решено «переделить землю между всеми
поровну.49 В результате подобных мер верх брал тайповый принцип
владения землей. В начале XX века Н. С. Иваненков констатировал, что на
началах уравнительных переделов чеченские общества продолжали
вести свое «земельное хозяйство».50
Тайповые земли делились на отдельные разряды.. К общим не
подлежавшим переделу, относились горные пастбища, берега рек и выгоны.
Общие земли, подвергавшиеся разделу, составляли пахотные участки и
сенокосные луга. Кроме того, были также «собственные» земли,
приобретенные по праву первого захвата, в результате покупки или же «через
очистку лесов».51 В приобретении новых участков земли как правило
участвовал весь тайп. Не менее важным источником приобретения земли
являлось получение ее от российских властей на равнине. Но,
переселяясь, горы покидал весь тайп или же большая его часть. На новом месте
27
сохранялось традиционное исторически сложившееся землепользование.
Несомненно, что в Чечне были также общинные (сельские) и частные
формы землевладения, например, земли, выделенные российскими
властями отдельным лицам. Но при этом господствовавшей формой
землевладения в ХУШ-Х1Х веках оставалась тайповая, определявшая характер
общественной организации.
В унисон этой форме собственности был другой принцип тайпизма,
существенно влиявший на сохранение в Чечне социального равенства. Он
связан с порядком наследования имущества умершего. Такое наследство
делили члены его семьи и ближайшие сородичи. Важным при этом являлся
«переход имущества умершего к тайпу»52, в котором право распорядиться
наследством принадлежало предводителю и совету старейшин.
Тайповым земельно-производственным и имущественным
отношениям соответствовали принципы управления. По своей природе они
соотносились с военно-демократической стадией развития общества. Главными
органами управления являлись совет старейшин, избранные советом
предводитель (хъалханча) и военачальник (баяччи). Решения, как совета
старейшин, так и предводителя, были обязательными для всех членов тайпа.
Что касается военачальника, то он своей властью мог пользоваться только
в условиях войны. Совет старейшин заседал открыто, каждый, кто желал
принять участие в его работе, мог не только присутствовать, но и
высказывать свое мнение. Предводитель, тем более военачальник не обладал
постоянством во власти. Тайп имел право на смещение и на избрание
новых лиц. О стадиальной завершенности тайпа и его устойчивости перед
военно-политическими и социальными потрясениями XIX века
свидетельствует идеологическая самодостаточность чеченского рода. Несмотря на
распространение в Чечне ислама и даже на насильственное его насаждение
во время Кавказской войны, чеченский тайп имел «свое божество» и тем
самым сохранял свою идеологическую автономность. По свидетельству
М. Мамакаева, чеченцы продолжали почитать своих тайповых божеств и в
новейшее время.53 Религиозная самодостаточность тайпа была столь велика,
что род «справлял праздники, связанные с культом своего божества».54 Это
же проявлялось в традициях, сохранившихся в XIX веке при захоронении
члена тайпа: тайп имел собственное кладбище, на котором хоронили только
членов своего рода.
Эти и другие основы чеченского тайпизма были развиты до той
степени, когда тукхум, как более высокий уровень общественной организации,
не брал еще на себя решения хозяйственных и социальных вопросов. Как и
28
ранее, за ним устойчиво сохранялись функции военно-политические,
главным образом оборонительные.
Устойчивые консервативные тайповые отношения обуславливали
социальную эгалитарность чеченского общества. И. Бларамберг, наблюдавший
чеченцев в первой половине XIX века, считал, что «они все равноправны,
предпочтение оказывают лишь тем, кто преуспел в набегах на соседей».55
Это не означало, что чеченское общество социально было малоподвижно и
не имело заметных предпосылок для общественного прогресса. При
относительном сохранении внутреннего равенства в тайпе, где из родовых
старейшин и военачальников формировалась тайповая знать, общественное
неравенство как ведущий социальный процесс был перенесен в межродовые
отношения. Этот факт чеченской истории подчеркивал У. Лаудаев.56 Об этом
свидетельствовали также социальные противоречия, протекавшие не внутри
тайпа, а в межтайповых связях. «Сильные фамилии, - писал У. Лаудаев, -
обижали слабые».57 Развивавшаяся межтайповая иерархия содержала в себе
имманентные предпосылки для усиления тукхумных союзов; последние
брали на себя защиту тайпов, входивших в родовой союз. Со временем тук-
хум, заботившийся об охране тайпа от притязаний более сильных тайпов,
расширял сферу своих функций. Наряду с военно-политическими он
обретал также управленческие права.58 Указывая на усиление межтайповых
союзов, У. Лаудаев в качестве причины отмечал не только межродовые
противоречия. Серьезное влияние на это оказывало развитие русско-чеченских
отношений. «Сливаясь с русской жизнью, - писал У. Лаудаев, - связь фамилий
(тайпов - 3. Б.) усиливается еще более».59 В данном случае имела значение
как противоречивость русско-чеченских отношений, так и внутренняя
социальная конфликтность самого чеченского общества. Столкновения с
российскими властями, начавшиеся со второй половины XVIII века, вели к
консолидации тайповых союзов, а внутренние межтайповые распри, ставшие
причиной переселения части чеченцев на российскую территорию60,
усиливали тукхумные отношения. Социальные противоречия, однако,
наблюдались не только между чеченскими тайпами. Они, очевидно, переносились
и на межтукхумные отношения. Не случайно, что контакты с российскими
властями привели Чечню к политическому расколу. Так, чеченцы,
занимавшие правый берег Сунжи и бассейн реки Терек, относились к «мирным»,
другие, населявшие территорию предгорной равнины - «вплоть до
высоких сланцевых гор», рассматривались как «независимые», «немирные».61
Расколотость чеченского общества на два лагеря приводила к осложнению
внутриполитической жизни Чечни. Она положительно сказалась на интен-
29
сивности набеговой практики. «Немирные» чеченцы, занимавшие лесистые
и горные территории, стремились вовлечь в вооруженные набеги своих
соплеменников на равнине. Если последние отказывались участвовать в
набегах, то они сами подвергались разбою. Со временем чеченские поселения
на равнине превратились для горцев в базу, из которой совершались набеги
на казачьи станицы. Эту особенность политического уклада, сложившегося
к XIX веку, отметил тот же И. Бларамберг. «Чеченцы высокогорья, - писал
он, - поддерживают» с жителями равнины «дружеские отношения, так как
это им необходимо во время набегов на русские территории».62 Но такой,
казалось, выгодный военно-экономический союз не был прочным и
постоянным. Российские власти, боровшиеся с набеговой системой, направляли
карательные экспедиции главным образом против равнинной Чечни, более
доступной для войсковых отрядов. Это вооруженное давление на жителей
равнины подрывало набеговое сотрудничество, наметившееся между горной
и равнинной Чечней. Давало о себе знать и другое - межтайповые
противоречия, усугублявшие политический раскол в Чечне. По оценке У. Лаудаева,
для Чечни этого времени характерной являлась межтайповая и межтукхум-
ная разобщенность. «Из этого неединодушия чеченских обществ, - писал
он, - проистекала ничтожность политического значения их страны».63
Серьезным переменам Чечня подверглась после вовлечения ее в 40-е
годы XIX века в Кавказскую войну. Установление в 1839 году в чеченских
обществах российской администрации64, введение в них тяжелых
повинностей, иногда взимавшихся с помощью карательных мер65, а также
охвативший Чечню голод66 послужили причиной массового восстания, приведшего
Чечню к событиям Кавказской войны. В эти годы социальная обстановка
Чечни была настолько накалена, что Шамиль без особого труда развернул
среди чеченцев мухаджирское движение. В него вовлекались не только
так называемые «немирные» горцы, но и равнинные жители, считавшиеся
«мирными». Последние сжигали свои дома и уходили в горы в качестве
мухаджиров.67 Итогом этого движения стало переселение большей части
населения Чечни в государство Шамиля. С начала 40-х гг. XIX века и до
окончания Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе Большая и
Малая Чечня находились в составе имамата; лишь небольшая ее
территория, примыкавшая на севере к Кавказской линии, оставалась подвластной
российскому командованию на Кавказе. Глубокие социальные и
административные реформы, проводившиеся Шамилем в имамате,
распространялись также на чеченские общества. Однако с самого начала обнаружилась
неподготовленность этих обществ как к внутренним преобразованиям, так
30
и к исламским нормам организации общественной жизни, вводившимся
в имамате. Шамилю приходилось прибегать к насильственным мерам,
вплоть до вооруженных карательных экспедиций68, чтобы реорганизовать
общественный уклад чеченцев и приспособить его к государственной
организации общества. Несмотря на это, политическое развитие Чечни,
находившейся около 18-ти лет в составе имамата, имело заметные
результаты. Впервые чеченские общества подверглись системному
политико-административному воздействию со стороны государственных институтов.
Широко применяя методы насилия, Шамиль утверждал в имамате, в том
числе в Чечне, государственные принципы господства и подчинения. Он
положил начало исламской правовой культуре, превосходившей
традиционную адатную. Имам создал также государственную структуру
управления и впервые в истории Чечни ввел должность «наиба всей Чечни», что,
бесспорно, было важно для тайпово и тукхумно разделенного чеченского
общества. Однако из-за напряженной военной обстановки и постоянных
экономических трудностей Шамиль был лишен возможностей
сколько-нибудь заметно изменить главную для Чечни общественную структуру, какой
являлась тайповая. В условиях всеобщей нищеты, в которой находились
массы населения Чечни в имамате, тайп оказался спасательным кругом,
помогавшим выжить чеченским мухаджирам. Благодаря этому из Кавказской
войны тайп вышел еще более окрепшим; были приостановлены даже те
важные общественные процессы, которые ранее наметились на равнине.
Усилия Шамиля создать в Чечне класс землевладельцев свелись к его
разовым распоряжениям, принципиально не менявшим тайповую
собственность земли. Из-за всеобщей экономической деградации Чечни не могли
стать «феодалами» также чеченские наибы. Попытки использовать наиб-
скую власть в целях наживы встречали со стороны тайпов упорное
сопротивление. В пору политического кризиса, охватившего в середине XIX века
имамат, в Большой и Малой Чечне, все еще находившихся в составе
государства Шамиля, устойчивой среди населения становилась пророссийская
политическая ориентация. С ней было связано наметившееся массовое
переселение чеченцев на равнину - на территорию, контролировавшуюся
российским командованием.
После окончания на Северо-Восточном Кавказе войны главным в
жизни Чечни становился земельный вопрос. От его решения во многом
зависело не только экономическое развитие, но и перспективы и характер
общественных отношений. Российские власти учитывали также политические
аспекты разрешения поземельного вопроса. Наместник А. И. Барятинский,
31
объяснявший «разбойный» образ жизни чеченцев их родовыми устоями,
ставил задачу введения в Чечне вместо тайповой общинную форму
земельной собственности. С этой целью, как уже отмечалось, он объявил
земли Нагорной Чечни, в которой особенно сильны были тайповые союзы и
откуда интенсивно предпринимались набеги, казенной собственностью.
Распределение на общинных началах «казенной» земли предполагало
размеры надела на один двор 9 десятин69, что в горных условиях считалось
недостаточным. При этом около 60 тыс. десятин Нагорной Чечни российское
командование отнесло к резерву, подлежавшему распределению в частную
собственность; резервная земля раздавалась чеченским офицерам,
состоявшим на русской службе, и тем, кто в годы Кавказской войны сохранил
верность России. Острота земельного вопроса в Нагорной Чечне ярко
иллюстрируется следующим фактом - председатель Комиссии по
размежеванию земель и чеченское население вместе требовали отмены казенной
собственности на землю горной Чечни.70 Обстановка еще больше
осложнилась, когда многие чеченцы, в 1865 году переселившиеся в Турцию,
вернулись в Чечню71; переселенцы большей частью были выходцами из горной
Чечни. Запрещая последним поселение в горной полосе, а также не давая
своего согласия на расширение подворных участков, российская
администрация «в видах поощрения земледелия» в Чечне предложила
нуждавшимся в земле «производить» в предгорной полосе «расчистку лесных
земель, оставляя расчищенные пространства в потомственном владении лиц,
завладевших ими и приведших их в состояние, годное для земледелия».72
К концу 60-х гг. XIX века в результате российских мер
распределения земли в Чечне сложились четыре формы земельной собственности:
а) горское земледелие, основанное на традиционном (тайповом)
землевладении; б) нагорно-лесное, строившееся на заимке и разработке лесных
пространств; в) надельно-аульное, установленное русским правительством
и базировавшееся на общинных началах; г) частновладельческое, впервые
вводившееся российским правительством для отдельных «местных
деятелей», отличившихся перед Россией.73 Несмотря на новые формы
собственности, несомненно, преследовавшие прогрессивные общественные
цели, российская администрация, желавшая подорвать в Чечне тайпизм, не
создавала для этого экономических предпосылок. Она заведомо снижала
размеры земельных наделов, что приводило население к тяжелому
экономическому положению. В этих условиях не могло быть речи о
социальном прогрессе, ведшем к установлению новых общественных отношений.
Чтобы представить, в сколь стагнационном состоянии оказались экономика
32
и общество Чечни к 70-м гг. XIX века, достаточно указать на средний надел
земли, приходившийся на одного работавшего мужчину. Он был в Чечне
самым незначительным - составлял в среднем 1,23 десятины удобной или
полуудобной земли.74 В Европейской России показатель по этому же
наименованию достигал 4,1 десятины не только на одного мужчину, но
нередко и на одного едока. Тяжелым экономическим положением во многом
объяснялась нестабильность политической обстановки в Чечне, социально
не успокоившейся и после Кавказской войны. В 1865 году в Чечне едва не
вспыхнуло восстание. В 1877 году, после начала русско-турецкой войны
внутриполитическое напряжение привело Чечню к всеобщему восстанию.
Карабулаки. Ингуши. Как и чеченцы, карабулаки и ингуши,
населявшие Центральный Кавказ, относятся к вайнахским племенам со схожим
эгалитарным общественным укладом тайповой организации. Карабулаки
занимали территорию, расположенную между Чечней и Ингушетией; с
восточной стороны они соседствовали с Чечней, с запада - с Ингушетией.
В конце XVIII века часть карабулаков поселилась на землях по правому
берегу Сунжи. Считалось, что карабулаки являлись одним из воинственных
и экономически благополучных племен.75 Согласно преданию, они
пытались подчинить себе соседние народы. Последние, объединившись,
«уничтожили всех карабулаков», а оставшиеся из них находились затем в
зависимом положении от чеченских обществ. В 30-е годы XIX в. численность
карабулаков составляла «15000 душ», «разбросанных по 22 поселениям».76
Судя по источникам, малочисленность карабулаков наблюдалась также в
XVIII веке. Их хозяйственные занятия были традиционны - скотоводство
и земледелие. Особенно широкое развитие получило у карабулаков
пчеловодство.77 Однако главное их богатство состояло в овцеводстве. Несмотря
на относительно стабильную хозяйственную жизнь, организация общества
ничем особенным не отличалась от общественного уклада Чечни. Как
типичное военно-демократическое общество, оно было ориентировано на
набеговую систему, благодаря которой особое место в нем занимали баяччи
-военные предводители, организаторы набегов; набеги карабулаков
достигали «окрестностей Владикавказа».78
Политическое положение карабулакского племени отличалось
неустойчивостью. В пору господства кумыкских князей в Чечне ясачными этих же
князей были также карабулаки.79 Испытывая засилье со стороны Кумыкии
и Чечни, они ранее чеченцев стали покидать горные районы и селиться на
равнине. В 70-х гг. XVIII века карабулаков на равнине было больше, чем
чеченцев. В эти годы отмечалось их засилье в отношении чеченских пере-
33
селенцев; тогда среди горцев, поселившихся на равнине, карабулаки
считались «сильнейшим» племенем»80. Позже, по мере переселения чеченцев
на равнину, притязания на господство над карабулаками появились у самих
чеченцев.81 В 30-е гг. XIX века карабулаки, как равнинные, так и горные
испытывали притеснения со стороны Чечни; известный чеченский наездник
Айдемир, вместе с Бейбулатом Таймазовым участвовавший в совместных
набегах, соглашался на покорность России при условии, что российское
командование «дозволит ему враждовать с карабулаками».82 Притязания
чеченских баяччи усилились в годы Кавказской войны, когда Чечня вошла
в состав имамата. В это время главнейшими требованиями,
предъявлявшимися к карабулакам, являлись поставки продовольствия и участие в
военных действиях против российских войск. С этой целью чеченские наибы
пытались распространить свое влияние на горных карабулаков.83 Что
касается карабулаков, то в составе Карабулакской милиции они
участвовали на стороне российских войск в военных операциях против Шамиля. В
60-е гг. XIX века, при новом распределении горных и равнинных земель,
проводившемся российскими властями, карабулаки покинули Северный
Кавказ и переселились в Турцию.
Вайнахские племена - назрановцы, галгаевцы, галашевцы, джера-
ховцы, кистинцы, галгаевцы, цоринцы, известные под общим
названием ингуши - населяли горные территории в верховьях р. Сунжи, Ассы и
Арм-хи (Кистинка). Самоназвание «ламуры», т.е. жители гор, отразило
особенность географической среды, в которой жили ингуши. Этноним -
«ингуши» - позднее (XVIII век) название этой группы вайнахских племен,
живших несколько особняком от родственных племенных образований. В
30-е гг. XIX века ингушей насчитывалось 1780084. Из них к назрановцам
относилось 11 тысяч. В 1865 году Н.Ф. Грабовский насчитывал ингушей
6754 душ обоего пола.85 Столь резкое сокращение численности населения
объяснялось переселением его части в Турцию.
Расселение ингушей на равнине - позднее явление. Первое их
поселение на равнине - «Шалхи» относится к 60-м гг. XVIII века. После
присоединения к России (1770 год) на предгорной равнине Центрального Кавказа
стали появляться их тайповые поселения. Небольшое число этих
поселений под общим названием «назрановцев» разместилось на территории
современной Назрани.
Особенность экономического положения Ингушетии определялась
географической средой - тяжелыми для хозяйственной деятельности
условиями гор. Сложная военно-политическая обстановка на Центральном
34
Кавказе лишала трудолюбивых горцев уверенности в будущем своем
обустройстве, поэтому их жилища «представляли собой плохонькие
деревянные хижины, - такие, которые не жаль покинуть в случае нападения».86
Переселение части ингушей на равнину несколько разрядило
демографическую плотность в горных ущельях и способствовало оживлению
хозяйственной жизни. Но даже в новых, несомненно, более благоприятных
условиях экономическое положение ингушей не могло быть отнесено к
благополучному. Н.Ф. Грабовский детально воспроизводил состояние
экономики Ингушетии, в котором она находилась к 1865 году. По его
данным, по уровню жизни ингуши делились на три категории -
«зажиточных», среднего достатка и тех, кто «ровно ничего не имел». У зажиточных,
«коих было крайне редко»87, как правило, имелось «две-три лошади, пара
ишаков, две пары быков, десять-двенадцать штук коров и телят и 200
баранов».88 Вторая категория, составлявшая «наибольшую часть»,
«довольствовалась одной лошадью или одним ишаком, одним быком, парою коров
и 10-12 баранами; многие имеют лишь одну корову».89 Н.Ф. Грабовский,
детально рассматривавший хозяйственное положение ингушских обществ,
приводил средние статистические данные о поголовье скота и количестве
хлеба, приходившемся на одну семью. Так, в Джерахском обществе,
занимавшем относительно выгодное географическое положение, на один двор
доставалось - 0,5 лошадей, 0,3 ишаков, 1,5 штук рабочего рогатого скота,
4 штуки коров и телят, 24,7 баранов и 2,5 четвертей хлеба.90 Если учесть,
что горские семьи, занимавшиеся в основном скотоводством,
представляли собой большие патронимические «союзы», то хозяйственное положение
ингушских обществ являлось достаточно тяжелым. Н. Ф. Грабовский его
оценивал как нищенское, при котором антисанитария, кожные
заболевания и «мириады насекомых» наблюдались как распространенное явление.91
Н. Ф. Грабовский среди ингушских обществ не видел «сословных
подразделений»92; имущественные различия, отмеченные им, не приводили к
сколько-нибудь глубокому социальному расколу. Следует также отметить,
что в Ингушетии не было для общественной иерархии необходимых
предпосылок. Скотоводство - основное занятие ингушей, о состоянии которого
писал Н. Ф. Грабовский, не могло явиться экономической базой для
возвышения родовой знати до феодального сословия. Земледелие, как
второстепенная отрасль хозяйственной деятельности, основывалось на тайповых
формах земельной собственности; в Ингушетии господствовали две
формы собственности - частная и «общественная».93 К частной собственности
относились небольшие пахотные участки, экономический ресурс которых
35
в горных условиях был крайне незначительным. В общественной
собственности находились «выгоны и во многих местах покосные земли и леса»94,
т. е. главная база хозяйственной жизни ингушей.
Эгалитарность общественной жизни сказывалась на состоянии
религиозных верований. В XVIII веке язычество среди ингушей
оставалось в виде монотеизма. К этому времени относится слабое
проникновение из Дагестана и Чечни исламского влияния. Из-за политических
мотивов большая предрасположенность обнаруживается к
христианскому движению, связанному с русско-ингушскими отношениями и
присоединением Ингушетии к России. Принятием христианства ингушские
общества выражали свое сопротивление кабардинским и кумыкским
(аксайским) владетелям, претендовавшим на феодальное господство в
Ингушетии.95 В начале XIX века в изменившейся на Северном Кавказе
политической обстановке усилились в Ингушетии христианское и
исламское влияния. Российские администраторы пытались сохранить
среди ингушей позиции православной церкви, дагестанские и чеченские
«миссионеры» вовлекали их в исламское движение. А. П. Ермолов,
считавший ингушей идолопоклонниками, не имевшими «никакой
религии»96, пытался привлечь экзарха Грузии к миссионерской деятельности
среди ингушей. Шотландские миссионеры, в свою очередь, навещали
ингушей с целью установления у них канонов католической церкви.97
Однако усилия грузинских миссионеров, как и шотландских, удаленных
Ермоловым из Ингушетии, не имели успеха. Дело доходило до
возвращения ингушей из равнинных поселений, где разворачивалась
миссионерская работа, в горные районы, ранее ими занимаемые.98 Причиной
тому являлись как «социальная неподготовленность» ингушских
обществ к большой религии, так и давление на них со стороны
кабардинских владетелей.99 В 30-е гг. XIX века, в особенности после карательной
экспедиции генерала Абхазова в Ингушетию, усилилось политическое
воздействие на ингушские общества, при котором российские власти,
опасавшиеся распространения среди них мюридизма, насаждали
христианство, а лидеры Кавказской войны - ислам. Это привело не столько
к религиозному расколу, сколько к политическому; одна часть ингушей
считалась христианами, другая - магометанами. Формальный
религиозный раскол не вызывал сколько-нибудь заметного противостояния во
внутренней жизни Ингушетии. Скорее наблюдалась тяга со стороны
христианской части населения к переходу в ислам. Не случайно, что
в 1836 году назрановские христиане просили владикавказского комен-
36
данта о разрешении им участвовать в мусульманском празднике бай-
рам совместно с магометанской частью ингушского населения.100 Не
исключено, что сказывалось влияние Кавказской войны, в ходе которой
на Центральном Кавказе наблюдалась исламизация горских обществ. С
другой стороны, следует подчеркнуть — в целом Ингушетия на
протяжении всей Кавказской войны оставалась в стороне от нее; она
устойчиво находилась в составе Российской государственности. Вооруженные
попытки овладеть Ингушетией и переселить ингушей в имамат,
предпринятые весной 1841 года Шамилем, были неудачны. Российские
войска совместно с ингушскими отрядами оказали упорное сопротивление
ополчению Шамиля. Николай I за боевые заслуги в войне с имаматом
наградил ингушей «особым знаменем».101 Языческие верования в
сочетании с христианством и магометанством или «религиозный сумбур»,
как выразился Н. Ф. Грабовский, с 60-х гг. XIX века совершили заметный
крен в сторону исламизации ингушских обществ. Он был проявлением
оппозиционности этих обществ, вызванной политикой Российского
правительства. С начала 50-х гг. XIX века Петербург, желая оградить
Владикавказ от набегов ингушских отрядов, решил приступить к
компактному расселению ингушей в районе Назрани. С переселением
ингушей ущемлялись их интересы на владение землей. «Политизация» на
этой почве ингушских обществ вела к массовой их исламизации,
следствием которой явилось переселение значительной части населения
Ингушетии в Турцию.
§ 2. НАРОАЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА С ФЕОДАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ
ОБЩЕСТВА
Осетия. В XVIII веке на Центральном Кавказе Осетия занимала не
только северные склоны и предгорья Главного Кавказского хребта, но и
его южные горные и равнинные районы. Такое расселение, несколько
необычное на Кавказе, указывало на древнюю автохтонность осетин на
Кавказе, своими историческими корнями уходившими в индоевропейский
скифский мир, широко представленный кобанской цивилизацией как на
Северном Кавказе, так и в Закавказье. Об осетинах, как о древнем
населении в Закавказье и на Северном Кавказе, имеется немало сообщений в
источниках. В них «часть Кавказа» на севере и на юге «называлась ясские
37
горы», т.е. осетинские горы.102 Первые значительные перемены в
расселении осетин в Закавказье стали происходить в результате завоевательной
политики грузинской царицы Тамары (XII в.), а затем вторжения в Закавказье
полчищ Чингис-хана, овладевших Грузией и южной частью Осетии. Тогда
же, в ХШ-ХУ вв. татаро-монголами было разрушено Аланское
государство, одно из самых крупных в Восточной Европе. Большая часть его
жителей была вынуждена мигрировать в Европу, другая - оттеснена в горные
районы Центрального Кавказа. Частичное возвращение осетин на
равнину - на историческую территорию началось в XVIII веке с установлением
тесных русско-осетинских отношений. Необходимо подчеркнуть, что до
монгольского нашествия, судя по всему, в горных районах Осетии
господствовал военно-демократический общественный уклад; именно отсюда,
чаще всего, совершались походы на Грузию и Армению. Заселение
горной территории равнинными жителями Алании, находившимися на стадии
феодального развития, значительно изменило социальный облик горных
обществ Осетии. Этот факт осетинской истории отмечен в исторических
источниках: когда осетины «бежали в горы со своими приверженцами, -
писал Бларамберг, - то там захватили или получили верховную власть над
жителями высокогорья».103 Одновременно с этим существенным
изменениям подвергались как приоритеты хозяйствования, так и принципы
общественного развития пришлых равнинных поселенцев. Для них, как и для
местных горцев, среди других хозяйственных занятий скотоводство
становилось главной отраслью экономики. Катастрофа ХШ-Х1У вв., приведшая
к потере государственности и вынудившая часть аланского населения
переселиться в горы, привела также к возврату старых форм организации
общества и укреплению территориальной общины. Результатом этих
процессов во многом следует считать новое формирование осетинских обществ.
Исследователи располагают описанием этих обществ с незначительными
разнящимися их границами. Так, в Южной Осетии дореволюционные
историки отмечали наличие семи обществ: Рача, Кударо, Кешельта, Лиахви и
Медждут, Магладолети, Дзамур, Куд и Гудови. Эти общества были
«расположены на южном склоне Кавказа и идут с запада на восток, образуя Осетию
в собственном смысле слова»104. Нельзя не обратить внимание на
определительную часть фразы в работе Бларамберга: - «...Осетия в собственном
смысле слова». Она была не случайна - общества Южной Осетии, менее
затронутые переселенцами из равнинных районов Северного Кавказа,
представляли собой основной район с древним традиционным названием
«Осетия». В Северную Осетию входили общества: «Турсо, Нара, Зарамага,
38
Дигор (дугур), Валаджир (Валлагир), Куртати, Тагиати (Тагаур)». Эти семь
обществ были расположены на северном склоне Центрального Кавказа, из
них Трусовское, Нарское и Зарамагское общества относились к
высокогорным. Несмотря на их этническую целостность, единство в хозяйственной
жизни и традиционной культуре, семь разновеликих осетинских обществ
представляли собой «историко-географические» образования, каждое из
которых имело свою собственную «территориальную» завершенность и
нередко заметные различия в уровне общественного развития. Очевидной
была еще одна особенность: социальная неоднородность,
господствовавшая в Осетии, не помешала осетинским обществам выработать
одинаковые формы управления, приводившие к гражданской организации
общественной жизни.
С присоединением Грузии к России, в особенности с превращением
Тифлиса в своеобразный военно-политический центр России на Кавказе,
в делопроизводстве и административной практике стали вводиться
новые географические термины; в частности, Кавказ подвергся делению на
Северный Кавказ и Закавказье. По этой же логике Осетия,
расположенная на северных и южных склонах Кавказского хребта, в официальных
документах упоминается как две «области» - северная и южная; у самих
осетин не было подобного деления. Свою страну традиционно они
называли «Ирыстон». Во внутренней жизни осетин большое значение имели
сложившийся административный контур страны, сохранявшиеся
племенные различия, а также особенности сформировавшихся местных
обществ. Так, например, общество Рача напоминало «округ», занимавший
истоки левобережья верховий реки Риони и граничивший с Имеретией. В
него входило 12 населенных пунктов. Овцеводство являлось их главным
занятием.105
По-другому выглядело Кударское общество. Его название нередко
переносилось на всех жителей южной части Осетии. Исследователи
относят их к иранским скифам, родственным осетинам племенам, населявшим
Закавказье еще до появления здесь грузино-иберийского населения. Они
занимали «просторные долины Джоджоры. Плодородные почвы Кударо
позволяли заниматься не только скотоводством, но и земледелием:
выращивали пшеницу, ячмень, овес и кукурузу.106 В XIX веке в Кударском
обществе насчитывалось 17 поселений. Относительно крупным считалось
Чешельтское общество, состоявшее из 23 сел. В нем слабо были развиты
как скотоводство, так и земледелие. Население было больше занято
производством грубых шерстяных тканей, сбывавшихся в Грузию.
39
Более сложной, чем размеренная внутренняя хозяйственная жизнь
этих обществ, являлась общественно-политическая обстановка, в
которой они находились в XVIII - 70-е гг. XIX века. Сложность ее
вызывалась, прежде всего, соседством с двумя грузинскими княжествами -
Картли-Кахетинским на востоке и Имеретинским на западе. Сама южная
часть Осетии, именуемая со второй половины XIX века Южной Осетией,
с раннего средневековья представляла собой феодальную страну. Лишь
в горных и высокогорных ее районах сильны были традиции соседской
общины. Однако эта общая социальная картина периодически менялась
из-за притязаний грузинских княжеств. Они в силу своей слабости не
рассчитывали на вооруженное покорение Южной Осетии, но им
удавалось подчинить себе отдельных югоосетинских владельцев. Так, князья
Эристави (Ерыстаута), феодальный род которых восходил к VI веку,
желая укрепить свою власть, прибегли к покровительству грузинского царя.
Пользуясь этим, последний, ссылаясь на персидского шаха, в подданстве
которого он находился, стремился играть роль феодального сюзерена.
Но не всех представителей Эристави, владевших Ксанским обществом,
устраивала такая вассальная зависимость своего правителя. В 1778 году,
например, Георгий Эристави, укрепившись в селе Сиата, оказал
упорное вооруженное сопротивление отрядам грузинского царя. Потерпев
поражение, Эристави, его семья и братья были арестованы и
доставлены в Тифлис.107 Ираклий II, прибывший в Южную Осетию, объявил, что
Ксанское общество ему досталось от отца, которому его якобы
пожаловал персидский шах Надир.108 Из заявлений, сделанных в Ксани,
явствовало, что царь, назначавший ксанским жителям грузинских владетелей,
имел острые конфликты с крестьянами. Последние требовали, чтобы их
освободили от грузинских феодалов, соглашаясь при этом на
назначение к ним осетинских владетелей.109 В Ксани Ираклий II, выговаривая
населению за непослушание, жаловался, что он «привел» ксанцам
осетинских феодалов - Шанше и Зураба, но они, как и Георгий Эристави,
«отстранились» (отложились) от него.110 За карательной экспедицией
Ираклия II последовало его решение о «зачислении» крестьян
осетинских обществ Ксани и Лиахви в «разряд» казенных.
Ростому Эристави, брату Георгия Эристави, как не участвовавшему
в сопротивлении грузинскому царю, вместо владений в Южной Осетии,
отвели земли в Грузии - «по Гвердис-дзири и Карталинии».111 Столь
решительные действия Ираклия II в Ксанском и Лиахвском обществах не
означали, что в Южной Осетии грузинский царь имел прочные позиции.
40
Опираясь на поддержку персидского шаха и угрожая осетинам, он
пытался под видом политического покровительства вовлечь отдельные
осетинские общества в систему грузинских феодальных отношений, заставляя
их нести повинности. После 1783 года, когда Ираклий II отошел от
персидского шаха и перешел под покровительство России, югоосетинские
общества, с 1774 года считавшие себя в составе России, стали оказывать
сопротивление грузинскому царю. В 1791 году глава Картли-Кахетинского
княжества жаловался: «Как я мог взять саупросо или сауплисцуло (виды
повинностей - 3. Б.) ... с потусторонних и посюсторонних осетин..., и
если даже было бы возможным, то прошло бы много времени, так как
надо было бы составлять списки подворно, и пока это проделали бы,
возможно, что обнажились бы шашки и пролилась бы кровь».112
Стоит отметить, что феодализм в Грузии, длительное время
развивавшийся под неослабным влиянием восточно-азиатского феодализма
Ирана и Турции, отличался особой тиранической агрессивностью. На его
вооружении были не только насильственные методы насаждения своего
господства - обычные при феодализме, но и идеология этнической
дискриминации. Исповедуя «феодальный» расизм, грузинские тавады,
закрепощая осетинских крестьян, заставляли их отказываться от своей
этнической принадлежности к осетинам: так осетин Иван, житель Цхинвали, в
1782 году оказавшись в долговой яме, продал себя грузинскому феодалу
Поракашвили, и, становясь крепостным, писал о себе как о «бывшем
осетине».113 В том же году царевич Вахтанг предписал жителям Арагвского
Эриставства, где проживало смешанное население, не вступать
грузинским женщинам в брак с осетинами: кто «выдаст дочь за осетина и
сроднится с ним, - говорилось в уложении царевича, - посчитаем это как
вероломство и крепко взыщем».114 Осетинские семьи из Плиевых, Гачиевых,
Ларсановых, «и целиком Тедеевы», становясь крепостными крестьянами
грузинского князя Палавандишвили, имевшего персидский титул «узба-
ши», давали письменное «поручительство» в отказе от Осетии, обещая,
что они «ни с дружеской, ни с вражеской целью в Осетию не пойдут без
воли на то своего нового хозяина».115
Экспансия грузинских феодалов не ограничивалась пределами
Южной Осетии. Она достигала северных склонов Кавказского хребта, в
частности центральной части Осетии, жителей «верховья реки Ар дон».
Опасаясь ее напора, «нарские старшины и народ» в 1784 году
обратились к П. С. Потемкину с просьбой «взять страну под покровительство
России» и не дать «больше нас никому в обиду».116
41
После присоединения Картли-Кахетинского княжества к России
российские власти в Тифлисе пытались развязать тугой политический
узел, связанный с феодальной экспансией грузинских тавадов и
сопротивлением ей осетинского крестьянства. С одной стороны, Россия,
желая укрепить свое политическое положение в Грузии, где
формировалась антироссийская оппозиция во главе с представителями свергнутого
царского дома, оберегала феодальные притязания грузинских тавадов в
Южной Осетии, с другой - восстанавливала права осетинских
владетелей и в первую очередь «помещиков Эриставых», в свое время
лишенных имений.117 Укрепление с помощью России позиций грузинских
феодалов в Южной Осетии привело к новым повинностям, ложившимся на
плечи осетинских крестьян.118 Наряду с царевичем Иваном Багратидом,
под властью которого находились ксанские крестьяне, последовал также
«Приказ» царевны Кетеван, обязывавшей Цхра-Цкаройских и Босельских
осетин «дать» царской особе «подарки и повинности».119 Осетинское
крестьянство, ожидавшее от российских властей защиты от феодального
наступления грузинских владетелей, выражало недовольство политикой
России, направленной на усиление социального гнета в Южной Осетии.
Этим воспользовались представители свергнутой княжеской династии
Багратидов - царевичи Александр, Юлон, Парнаоз и др. Они вовлекали в
свое антироссийское движение недовольную часть югоосетинского
крестьянства. Начиная с 1802 года, с карательной экспедиции подполковника
Симоновича и до 1812 года, до восстания в Кахетии, в Южную Осетию
направлялись российские войска для подавления крестьянских
антифеодальных и антироссийских движений.120
Несмотря на сложности отношений, складывавшихся между
осетинскими обществами Южной Осетии и российской военной и гражданской
администрацией, отдельные общества обращались к командованию с
просьбой о принятии их под свое покровительство «на тех самых
правах», на которых они находились «при грузинских царях».121
После завершения русско-иранской (1804-1813 гг.) и
русско-турецкой (1806-1812 гг.) войн и серьезного ослабления грузинской оппозиции,
выступавшей за отторжение Грузии от России, Петербург продолжал
среди грузинской знати поиски политической опоры. Зная о традиционной
экспансии грузинских феодалов в Южную Осетию, российская военная
администрация в Тифлисе использовала этот хорошо видимый фактор и
усилила свою поддержку феодальных притязаний грузинских тавадов в
югоосетинских обществах. В этом особенно преуспели П. А. Ермолов,
42
Г.И. Розен, Е.А. Головин и СМ. Воронцов, приступившие к
планомерным карательным экспедициям в Южной Осетии.
Лишь осенью 1864 года при проведении крестьянской реформы в
Закавказье осетинские крестьяне официально были освобождены122 от
крепостной зависимости. Однако предоставление им личной свободы не
обошлось без дискриминационных положений, отвечавших настроениям
грузинской знати: согласно реформе, в Южной Осетии на один
крестьянский двор отводилось земли около 2 десятин тогда как в других местах -
Тифлисской и Кутаисской губерниях средний крестьянский надел состоял
из 4,7 десятины. Было ясно - ставилась политическая задача, призванная
вызвать отток осетинского населения из Южной Осетии в поисках земли
во внутренние районы Грузии, чтобы снять таким образом с повестки дня
югоосетинский вопрос.
При всем хозяйственно-экономическом и этнокультурном единстве
северных районов Осетии с районами южной части Осетии осетинские
общества, занимавшие территории по другую сторону Кавказского
хребта, находились в других социальных условиях. Наиболее важным из них
являлось господство, хотя и феодальных, но таких общественных
отношений, которые по своему генезису носили естественноисторический
характер, отвечали стадиальному уровню внутреннего развития и не
отягощались вторжениями извне чуждых для Осетии социальных отношений.
В хозяйственной жизни североосетинские общества, расположенные
в горных районах Центрального Кавказа, не отличались сколько-нибудь
от соседних горцев. Вплоть до 20-х гг. XIX века, до массового
переселения осетин с гор на равнину, основным занятием этих обществ
оставалось скотоводство. Этот факт экономического уклада отмечали многие
авторы, наблюдавшие хозяйственную жизнь осетин. «Стада овец, - писал
Ю. Клапрот, - являются богатством» североосетинских обществ.123 Это
же подчеркивал И. Бларамберг.124 К. Кох, современник И. Бларамберга,
отмечал, что скот - главный объект восхищения осетин.125 Несмотря на
это, в североосетинских обществах разведение крупного рогатого скота
и коневодство не получили широкого развития; на их разведение влияли
горные условия хозяйствования.
Повторяя типологию хозяйств горцев Большого Кавказа, у осетин
северной части Осетии отмечалась одна важная особенность. Она касалась
земледелия. В нем все еще сохранялись традиции, унаследованные с аланско-
го периода обитания осетин на равнинах Северного Кавказа. В земледелии
наиболее устойчивым оказался набор орудий труда, которым жители про-
43
должали пользоваться также в горных условиях. Любопытно, что ингуши,
восточные соседи северных осетин, заимствовали эти же земледельческие
орудия, сохраняя их осетинские названия. Традиционная привязанность к
земле просматривалась и в той цене, которую имел пахотный участок:
считалось, что «каждый кусок пахотной земли стоит животного, на нем
поместившегося». Из-за недостатка удобных для земледелия пахотных угодий
широкое развитие получила практика создания искусственных (террасных)
земельных участков; в современной нам горной Осетии хорошо сохранились
следы террас, лестницей уходящих с низин до высокогорных альпийских
лугов. Экономический эффект от земледелия был невелик, однако его значение
в жизни североосетинских обществ было немалое: несмотря на невысокие
урожаи, при потере скота (болезни, набеги, захват скота и пр.)
земледельческие продукты являлись единственным средством выживания.
Ко второй половине XVIII века относится начало переселения осетин
на северокавказскую равнину. Оно было связано с продвижением на юг
Кавказской линии укреплений и основанием на ней крепости Моздок. По
данным Б. А. Калоева, переселенцы, оседавшие не только в крепости, но
и вблизи от нее, были выходцами со всех североосетинских обществ.126
Вторая волна переселения осетин на Кавказскую линию относится к
началу XIX века, когда основную часть переселенцев составили жители
Дигорского общества. Наконец, в конце XIX века в этом же районе стали
поселяться жители из Закинского, Нарского, Алагирского и Куртатинского
обществ горной Осетии.127 Но массовое переселение осетин на равнину, на
историческую территорию, которую они занимали в аланский период
своего прошлого, стало возможным в 20-е гг. XIX века, после освобождения
Осетинской равнины от кабардинских поселений (кабаков). Осетинские
села, как правило, создавались близ русских укреплений под прикрытием
российских войск; главная для них опасность состояла в набегах
вооруженных отрядов, нападавших со стороны Кабарды и Чечни.128 Нередко
переселение с гор на равнину происходило под давлением российских властей,
заинтересованных в этом по тем или иным конъюнктурным соображениям.
Несмотря на это, переселение части населения североосетинских обществ
на равнину кардинально меняло хозяйственное положение Осетии. Оно
заметно разряжало земельную тесноту в горных районах, а самое главное
- появление новой географической зоны (равнины) создавало выгодные
условия для широкого занятия земледелием. Осетинское крестьянство,
располагавшее богатым опытом земледельческого труда, быстро осваивало
равнинное земледелие, выращивало все культуры, традиционные для степ-
44
ных районов Северного Кавказа. Это приводило к важным хозяйственным
переменам, среди которых немалое значение имело установление
экономического баланса между двумя типами хозяйств - горным и равнинным.
Формирование нового хозяйственного строя сопровождалось применением
более совершенных орудий труда. Этот факт хорошо был подмечен
выдающимся осетинским социологом XIX века А. Г. Ардасеновым, писавшим:
«Почувствовав себя на просторе, на земле, которая веками, быть может, не
знала плуга, они, осетины, прежде всего, переменили свою соху «дзывыр»
на тяжелый передковый плуг, напоминающий малороссийский».129
Начиная с XIX века, в связи с осложнением военно-политического
положения на Кавказе, Осетия становилась одним из центров по
производству некоторых видов оружия - боевых щитов, холодного оружия,
свинцовых пуль, пороха и др.; в Дигорском обществе, например, было налажено
производство ружей, сабель и ножей.130 В Осетии, располагавшей
богатыми залежами цветных металлов, хорошо владели примитивными приемами
добычи и выплавки цветных металлов - таких как свинец и серебро. С 40-х
гг. XIX века на базе местных сырьевых ресурсов берет свое начало развитие
в Осетии промышленного производства цветных металлов. Становление
в 50-е гг. XIX века этой отрасли экономики вызвало появление в Осетии
промышленно-производственных центров - Садонского, Алагирского и
Владикавказского. Особое значение Осетии на Центральном Кавказе было
связано также с Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогами,
позволявшими России наладить сообщение с Закавказьем. Оживление
экономики Осетии и обновление ее хозяйственного строя вызвали на Центральном
Кавказе развитие торговых отношений, благодаря которым становилось
реальным установление мирного уклада жизни у горцев. Отмечая этот
важный политический процесс, тот же А. Г. Ардасенов в 80-е гг. XIX века
писал, что «лет пятьдесят тому назад считалось подвигом, если осетину
удавалось совершить путешествие (даже на мирной арбе) в Малую Кабарду
- так было небезопасно, и так мало вследствие этого горцы сходились с
народностями, окружавшими их».131
Особенность в историческом формировании осетинских обществ
заключалась, прежде всего, в наличии у каждого из них некой
автономности, обусловленной не столько «феодальной раздробленностью», сколько
их естественно-географическим размещением: каждое общество, занимая
определенную территорию, располагалось по водоразделам рек и их
притоков, создававших между ними четкие границы. Это своеобразие
наиболее заметно было в Северной Осетии, где по ущельским абрисам об-
45
разовались Тагаурское, Куртатинское, Алагирское и Дигорское общества.
Внутри каждого из них сформировались соседские общины, в генезисе
которых значение имел не столько географический ландшафт, сколько ряд
других обстоятельств: принадлежность каждого члена общины к
близкородственным фамилиям, сложившееся землепользование и земельные
отношения, социальная стадиальность общины и др. Общинная структура в
организации осетинских обществ хорошо просматривалась повсеместно.
Например, в Куртатинском обществе, где было несколько соседских
общин, особенно выделялись как самые сильные две общины - Куртатинская
и Цимитинская.132 В ряде случаев община имела социальное своеобразие,
выделявшее ее среди других. Так, в Дигорском обществе такие общины,
как Донифарс, Кумбулта и Лезгор отличались от других своим особым
демократическим устройством. Была еще одна особенность
североосетинских обществ. Она состояла в неравномерности или, точнее, в
неодинаковом уровне их общественного строя. Можно предположить, что в этом
сказалась возможная, но при этом разная зависимость осетинских общин
от того «готового» социального потенциала, который был «занесен» в
горные районы переселенцами из равнинной Алании после разгрома
государственности. Бесспорно, однако, значение другого фактора - земельного
ресурса, имевшегося в каждом отдельном ущелье и определявшего как
уровень хозяйственной жизни, так и общественного уклада. Впрочем, чтобы
полнее представить организацию североосетинских обществ и уровень их
социальной стадиальности, стоит дифференцированно привести по ним
основные характеристики. В свое время к такому разграничительному
освещению общественных отношений, сложившихся в разных обществах
Осетии, призывал М. М. Ковалевский. Оправданность такой методики
подтвердили также последние работы Р. С. Бзарова, исследовавшего общества,
о которых идет речь, по типологическому методу.133
Тагаурское общество относилось к Восточной Осетии. Оно
занимало три ущелья - Дарьяльское, Геналдонское и Кобанское. Общественный
строй его складывался в трех исторических измерениях: 1) в
зависимости от горных условий, в которых шло становление «базовой» модели
феодализма; 2) переселение в 20-е гг. XIX века на равнину и перемены в
социальных отношениях; 3) земельное и сословное размежевание 50-х гг.
XIX века, приведшее к ослаблению Тагаурии. Эти, в сущности, разные
периоды одного и того же общественного уклада пережили не только та-
гаурцы, но и другие североосетинские общества.
Тагаурское общество имело отчетливую социальную иерархию и де-
46
лилось на следующие сословия: феодалов (их именовали тагиата, алдары
или же уазданлаги), свободных общинников (фарсаглагов), составлявших
основную массу населения, детей от вторых жен (кавдасардов) и холопов
(кусагов). Особенность приведенной иерархии заключалась в том, что в ней
господствующее положение феодалов основывалось на фамильном
владении землей, на которой фарсаглаги могли выступать лишь как арендаторы.
Всего фамилий, относившихся к высшему сословию, было 11. В
конкретных условиях Тагаурии социальная значимость этих фамилий повышалась
также благодаря праву контроля на Военно-Грузинской дороге,
пролегающей по Дарьяльскому ущелью, и взиманию на ней пошлины с
проезжавших транспортов. Три тагаурских феодальных фамилии - Дударовы,
Кануковы и Джантиевы придавали особое значение этой важной
коммуникации Кавказа; Дударовы, например, благодаря дороге приобрели
известность не только на Кавказе, но и в столицах Ирана и Турции.134
Земельная собственность, однако, оставалась главной ценностью,
обеспечивавшей феодалам верховенство в Тагаурском обществе. По В. Б. Пфафу,
изучавшему Осетию в XIX веке, «каждая алдарская фамилия»
располагала своей феодальной «территорией», на «которой поселились и
свободные осетины»135. Из этого вытекала как земельная рента, так и целый ряд
других условий, ставивших «арендатора» в феодальную зависимость.
Однако ее, эту зависимость, не стоило рассматривать как «крепостное
право», поскольку за фарсаглагом, посаженным на земле феодала,
сохранялась личная свобода при переходе к другому владельцу. Опубликованные
Ф.И. Леонтовичем адаты, зафиксировавшие сложившиеся в горах
социальные отношения, рассматривают фарсаглагов «как совсем вольных людей»,
отмечая при этом, что феодальная зависимость наступает «только в таком
случае, если они живут на землях, принадлежащих» феодалу. Обычное право
предусматривало поселение фарсаглага на алдарской земле и возникавшую
из этого зависимость как договорные отношения.136 В связи с переселением
на равнину, в котором наиболее активно участвовала алдарская знать,
социальная картина, связанная с положением фарсаглагов, значительно
изменилась. На это обратил внимание Р. С. Бзаров, сославшийся на факты покупки
земли фарсаглагами у феодалов, после чего ранее зависимый крестьянин мог
выступать «на равных с алдарами». К этому исследователь добавляет, что
такое своеобразное освобождение от алдарской зависимости, происходившее
после приобретения фарсаглагом земли, касалось только сферы
землевладения.137 Между тем феодальная зависимость, возникавшая на основе
алдарской собственности на землю, со временем обрастала (помимо отработочной
47
ренты) рядом других повинностей, в том числе появлением
внеэкономической зависимости. Этот факт был особенно заметен, когда и алдары, и фарса-
глаги, поселяясь на равнине и получая земельные наделы от российских
властей, казалось, находились в одном правовом положении, при этом алдары,
ссылаясь на прежнюю зависимость фарсаглагов, продолжали предъявлять к
последним феодальные притязания.138 Эти притязания у алдар были и позже,
даже после того, когда им российские власти «за потери прав над простым
народом» отвели «особые участки по 225 десятин» земли.139
Отдельное сословие, менее многочисленное, чем фарсаглагское,
составляли кавдасарды. Их могли иметь и алдары, и фарсаглаги. Отличие,
однако, состояло в том, что первые обладали ими по определению,
возводившему его в положение феодала. Из этого вытекало и правовое
положение кавдасарда; кавдасард, принадлежавший алдару, нес гораздо
больше повинностей, чем кавдасард фарсаглагского происхождения. С другой
стороны, алдарский кавдасард обычно своим «происхождением» имел
преимущество перед фарсаглагским. В отношении кавдасарда феодал
выступал в качестве полноправного хозяина, позволявшего ему
распоряжаться его жизнью - «безнаказанно изувечить и даже убить».140 Вместе с
тем алдарский кавдасард, наделенный фамилией отца, при разделе
имущества или же в случае, если алдар прогонял его, получал от имения отца
алдара свою долю. Выделившись от отцовской семьи, - что было крайне
сложно, - кавдасард, ранее выполнявший главным образом домашние
работы, освобождался от каких-либо повинностей. Среди кавдасардов,
получивших свободу, было немало таких, кто становился основателем
новой кавдасардской фамилии, по социальному положению приравненной
к фарсаглагской.141 По данным, приводимым Р. С. Бзаровым, в 1867 году
было освобождено 822 кавдасарда - 309 мужчин и 513 женщин.142 Эти
данные отражали количество кавдасардов на момент их официального
освобождения, число же крестьян, считавшихся кавдасардского
происхождения, было гораздо больше.
Самыми многочисленными и социально бесправными в Тагаурском
обществе были кусаги - холопы, в отношении которых использовались
различные названия - алхад (купленный), гурдзиаг (грузин), уацайраг
(пленный), отражавшие, как правило, их происхождение. Холопов,
выполнявших все виды хозяйственных работ, могли приобрести все три
предыдущих сословия, однако, обычно их было больше у феодалов,
располагавших не только средствами для приобретения холопа, но и военной
дружиной, с которой они совершали набеги и захватывали пленных.
48
В 30-50-е гг. XIX века, в пору «всеобщей» феодализации осетинских
обществ на равнине, произошла «полная неопределенность прав
переселенцев на земли», что породило «множество самых запутанных
поземельных споров».143 В связи с этим в 1859 году кавказская
администрация, отказывавшая алдарам в закреплении за ними права собственности
на выделенные в начале 50-х гг. XIX века наделы земли, приступила к
новому перераспределению земли. Вместо 225 десятин, которыми алдары
располагали на равнине, им отводилось «по 39 десятин на каждый двор»,
т. е. столько же, сколько и другим сословиям.144 Тогда же производились
изменения в размещении равнинных сел «и перемещения жителей из
одних аулов в другие».145 Последнее, по сути, являлось отселением
зависимых крестьян от алдар и собственно проведением крестьянской
реформы, подрывавшей феодальные отношения в тагаурском обществе. Новое
распределение земли между населенными пунктами производилось на
правах общинного землепользования, что также служило ослаблению
позиции тагаурских алдар. Процессы эти затянулись вплоть до 1866 года146,
а землеустроительные работы в пределах «равнинной Тагаурии»
продолжались еще в 70-е гг. XIX века.147
Куртатшское общество, располагавшееся западнее Тагаурского
общества, сложилось в границах, географически относящихся к Куртатинскому
ущелью. Его природно-климатические условия столь же отличались от
«географии горной Тагаурии», сколь разнились и социальные
отношения. Исследователи, как правило, рассматривают Куртатинское общество
как единый исторически сложившийся социум. Сами куртатинцы
достаточно четко разделяли себя на общины - Куртатинскую, Цимитинскую,
Лацинскую и др. Каждая из них имела собственную территорию
расселения, «органы управления», свои святилища. На эту общинную разделен-
ность Куртатинского общества указывает в своей работе Р. С. Бзаров. Не
вдаваясь в подробности специальной части, отметим, что исследователь
рассматривает Куртатинское общество как «союз гражданских общин»,
автономных в сфере землевладения.148 Р. С. Бзаров приводит также факты,
свидетельствовавшие о Куртатинском обществе как о едином социальном
организме. От себя добавим, что наиболее значительным в нем являлось
наличие в важном военно-стратегическом месте общего для всего
общества оборонительного комплекса, перекрывавшего вход в Куртатинское
ущелье. В центре комплекса располагались село Дзивгис и Дзивгисское
святилище, воспринимавшееся как общее для всех общин; в святилище
обязанности «дзуарылаг» (священнослужитель) мог выполнять выходец
49
из любой общины. В случае военной опасности, которая обычно угрожала
с северной стороны ущелья, в Дзивгисском комплексе оборону занимали
все, независимо от принадлежности к общине.
Более сложным, чем общая социальная организация Куртатинского
общества, явилась научная оценка сложившихся в нем внутренних
общественных отношений. Ярко выраженный характер территориальной
общины и развитое осознание фамильного единства, — не только в
землепользовании, но и в социальных притязаниях, - заслонили феодали-
зированность Куртатинского общества. Неслучайно, что ряд авторов
(М. М. Ковалевский, Д. Лавров и др.) это общество относили к родовой
демократии. Неоднозначное понимание социальной природы
сложившихся общин в Куртатинском обществе происходило и по другой
причине. В отличие от Тагаурского общества, где для феодалов существовала
социальная номинация «алдар», в Куртатинском обществе в качестве
синонима использовался только «уздан», уходивший в более раннюю
эпоху осетинской истории. При этом все фарсаглагские фамилии, имевшие
собственный участок земли, были претендентами на эту
привилегированную номинацию. Сами куртатинцы, знавшие все друг о друге, критерием
признания первостепенности фамилии считали родовитость
происхождения в далеком прошлом, что, несомненно, свидетельствовало о наличии
в этом обществе отголосков «архаического феодализма» аланской эпохи.
Подобное заимствование происходило и позже. Так, фамилия Томаевых,
относившаяся в XIX веке к первостепенным, поселилась в Куртатинском
обществе (Кора), ранее став в Южной Осетии феодальной.149
Но главным основанием, позволявшим судить о феодальности
Куртатинского общества, служила сфера землепользования. Р. С. Бзаровым
приводятся конкретные сведения, в том числе из архивных источников
об использовании земли для получения ренты: Томаевы в Кора отдавали
часть земли в наделы крестьянам, обязанным нести повинности, Есиевы
в Карца предоставляли земли под покос и пастьбу, на землях Умара
Кариева жили 11 дворов фарсаглагов, выполнявших повинности, и др.150
О земельной собственности «уазданлага», использовавшейся в целях
получения феодальной ренты, и о феодальных повинностях фарсаглагов
писал также Ф. И. Леонтович, приводивший адаты Куртатинского общества:
«Если фарсаглаг, - указывалось в адате, - живет на земле,
принадлежащей уазданлагу или в его ауле, то он обязан заплатить уазданлагу, хозяину
земли или аула». В записи Леонтовича перечислялись также феодальные
повинности, предусмотренные адатом.151
50
В 1824 году владикавказский комендант Н. П. Скварцов,
занимавшийся переселением куртатинцев на равнину, отвел последним по 40 десятин
земли. Позже, при размежевании на равнине христиан и мусульман, для
узданских и фарсаглагских фамилий надел земли на двор был увеличен
для христиан до 43 десятин, для мусульман - 42 десятин.152 Таким
образом, феодальное сословие Куртатинского общества фактически было
приравнено к фарсаглагам и кавдасардам.
Алагирское общество^ расположенное между Куртатинским и
Дигорским обществами, по общей общественной конфигурации и
внутренней социальной организации отдельных его общин во многом
повторяло феодализм в Куртатинском ущелье.153 Объяснялось это,
по-видимому, не только сходством природно-географических условий. Сказалось
и другое. В свое время Куртатинское общество формировалось
благодаря миграционным процессам, происходившим в Алагирском обществе;
отсюда большая часть мигрантов направлялась в Куртатинское ущелье.
Преимущество Алагирского общества перед другими состояло в
следующих обстоятельствах: оно своей южной окраиной было связано с Южной
Осетией, по Алагирскому ущелью проходила Военно-Осетинская дорога
и, наконец, здесь сосредоточились богатейшие месторождения цветных
металлов. Но в рассматриваемое время ни одно из этих преимуществ не
использовалось в такой степени, чтобы оно существенно повлияло на
темпы общественного развития.
Социальная структура Алагирского общества, как и Куртатинского,
состояла из узденства «уазданлаг» или «стыр мыггаг»154 и зависимых от него
крестьян - фарсаглагов, кавдасардов и холопов. Картину феодального быта
указанного общества превосходно воспроизвел Коста Хетагуров в своем
известном этнографическом очерке «Особа». По его описанию,
феодальные поселения «были неприступны, башни «литые» - из тесаного камня на
известковом цементе».155 Соответственно выглядело внутреннее убранство
дома, принадлежавшего алагирскому феодалу. В нем можно было
«встретить своеобразные кровати, диваны и кресла с оригинальной резьбой.
Утварь здесь многочисленнее, разнообразнее и ценнее, здесь было больше
золота, серебра, меди, железа и стали в виде громадных котлов для
варки пива, холодного и огнестрельного оружия, кувшинов и т. д.»156 В ином
материальном срезе жили крестьяне в «фарсаг-ауле». «Зайдите в первую
попавшуюся дверь..., - писал Коста Хетагуров, - нагнитесь больше, чтобы
не удариться о притолоку. Сенцы перегорожены жердями или плетнем. В
первом отделении вас удивленно встречает корова, из второго на вас сквозь
51
перегородку смотрит несколько пар добродушных глаз овец и коз».157 В
целом же феодализм в Алагирском обществе был архаичным и
относился к ранним его формам. Его относительно быстрое развитие в условиях
равнинного земледельческого хозяйствования, начавшегося после 20-х гг.
XIX века, было прервано в конце 50-х - начале 60-х гг. XIX века
введением общинного пользования землей. Стоит также отметить, что подворный
надел земли на равнине для алагирцев составлял 27 десятин158 — один из
самых низких среди других переселенцев, покинувших горы.
Дигорское общество занимало западную часть Северной Осетии.
Расположенное в бассейне реки Урух и ее притоков, оно с запада
граничило с Балкарией, с севера- с Малой Кабардой. Этим объяснялись его
хозяйственные контакты как с балкарцами, так и с кабардинцами. По своим
географическим условиям Дигорское общество было сходно с Тагаурским;
если последнее имело уникальные пастбища в Трусовском ущелье, в
горных районах Коби и Гуда, то Дигорское общество располагало
пастбищами плато «Харес» и «Тагоре». Переселение на предгорные равнины в
XVIII веке, азатем отно сительно массовый исход дигорцев в начале XIX века
на Кавказскую линию значительно повысили экономико-хозяйственные
возможности жителей, занимавшихся в горных районах скотоводством.
И. Бларамберг подчеркивал наличие в Дигории «обширных пастбищ» и
то, что в ней скотоводство составляло «основное богатство».159
В Дигорском обществе образовались Донифарское, Стур-Дигорское,
Тапан-Дигорское, Уаллагкомское и др. общины, каждая из которых имела
свою собственную общественную завершенность. Точно такой же
завершенностью обладало и само Дигорское общество, состоявшее из общин.
Подобная двухступенчатая общественная структура максимально была
приближена к горным условиям жизни, к профильно-хозяйственной
деятельности. О сбалансированности наиболее важных сторон
жизнеобеспечения Дигорского общества свидетельствует общая забота об обороне и
защите своей безопасности: в самом выгодном в военном отношении месте
(Лезгор) был размещен один из лучших в Осетии оборонительных
комплексов и святилище «Дигори-зед». Попутно стоит заметить - в Дигорском
обществе военному делу придавали особое значение. По сообщениям
И. Бларамберга, «дети князей Имеретии» учились «воевать у дигорцев».160
По уровню социально-иерархических отношений Дигорское общество
приравнивалось к Тагаурскому. Это замечали также авторы XIX века. По
оценке К. Коха, «дигорцы вместе с тагаурцами являются единственными
осетинами, среди которых некоторым удалось объявить себя властителями местно-
52
ста»161. В Дигорском обществе к наиболее влиятельным феодальным
фамилиям относили Тугановых, Абисаловых, Караджаевых, Кубатиевых, Кабановых,
Чегемовых и Бетуевых. Для них существовала социальная номинация -
«баделята», возможно сравнительно позднего происхождения. Появление
феодального сословия в Дигорском обществе местные предания объясняли так
же, как и происхождение балкарских таубиев. Это одно из свидетельств того,
что до прихода балкарцев на Центральный Кавказ горные районы
современной Балкарии населяли дигорцы, у которых пришлые племена уже застали
феодальные отношения. Одним из первых, кто записал легенду о прибытии
«баделят» в Дигорию, был И. Бларамберг. Он же связывал их с мадьярами,
поскольку сами баделята выводили себя из Маджар162. Эту же версию
независимо от И. Бларамберга приводит также Б. В. Скитский. Легенду о
происхождении феодальных фамилий Балкарии из рассказа балкарского таубия Абаева
записали в 80-е гг. XIX века М.М. Ковалевский и В.Ф. Миллер. Согласно ей,
как и баделята, таубии пришли «из Маджар», отождествляя при этом
«маджар» с венграми.163 Однако русские ученые, изучавшие горцев Центрального
Кавказа, поясняли, что под названием «маджар» «следует разуметь прежнее
население хазарского города Маджар».164
В легенде, о которой идет речь, сообщалось, что отряд из маджар
явился в Дигорию под предводительством Баделя, у которого «от первой жены»
родилось семь сыновей, ставших основателями семи феодальных фамилий.
Важно также отметить: до прихода Баделя в Дигорию и возвышения его
сыновей «дигорцы были совершенно свободны и имели республиканское
управление; они выбирали наиболее храбрых из своей среды в качестве
судей и защитников».165 Это сообщение легенды позволяет предположить,
что в период татаро-монгольского нашествия феодализм, сложившийся
в Аланском государстве, переместился с равнины в горную Дигорию как
«готовая» субстанция и фактически был наложен на
военно-демократическую структуру, которую здесь он застал. В связи с этим следует обратить
внимание на Донифарс - общину, занимавшую в Дигорском обществе
особое положение: здесь не было баделят; претендовавшие на это фамилии
- Гагаевы и Кануковы скорее относились к родовой знати. Похожее было и
в таких общинах, как Лезгор и Кумбулта; их вместе с Донифарсом русский
офицер Штедер называл «республиками».166
Что касается общественной стратификации, то в Дигорском обществе
наряду с феодальным сословием баделят, были зависимые от них
крестьяне: адамихаты, напоминавшие тагаурских фарсаглагов, хехезы,
считавшиеся пришлыми из других осетинских обществ и поселявшиеся на земле фео-
53
дала, кумаяги, - как и кавдасарды, - дети феодалов от вторых жен и косаги
- холопы. По сравнению с Тагаурским обществом, с которым по уровню
общественного строя равнялось Дигорское, стоит отметить в последнем
более жесткую систему господства и подчинения, созданную феодальным
сословием для зависимых сословий. Соседство этой системы с
общинами, сохранявшими «республиканский» строй, было одним из серьезных
источников внутренних конфликтов, часто возникавших в Дигорском
обществе. Но основной причиной противоречий, наблюдавшихся в этом
обществе, был феодальный режим, установленный сословием баделят. На это
обращал внимание Петербурга наместник Кавказа великий князь Михаил
Николаевич, считавший, что тяжесть феодальных повинностей являлась
«постоянною причиною самых враждебных столкновений между баделя-
тами и простым народом».167 В конце 40-х - начале 50-х гг. XIX века борьба
между феодальным сословием и «черным народом» разрасталась вокруг
распределения земли на равнине. Феодальные притязания баделят,
добивавшихся сохранения на равнине крупных земельных наделов, а заодно и
закрепления за собой зависимых крестьян, встречали упорное
сопротивление со стороны последних, требовавших переселить их «от баделятов на
другое место, какое угодно будет русскому правительству».168 Земельное
размежевание, проведенное в 1853 году, привело к тому, что баделята
получили крупные наделы (2/3 всей равнинной земли), а крестьяне -
оставшуюся землю на правах общинного пользования; одновременно произошло
разделение христиан и мусульман.169 Однако задача снизить социальный
накал в Дигорском обществе так и не решилась. Из-за недостатка общинных
земель, отданных для крестьян, многие из них были вынуждены остаться
у баделят, в пользу которых отбывали «крайне тяжелые как личные, так и
поземельные повинности».170 В конце 1864 года из-за острых столкновений
между баделятами и их зависимыми сословиями, создававших
политическую напряженность, наместник великий князь Михаил Николаевич был
вынужден вернуться к вопросу о земельных наделах баделят, полученных
ими ранее от его предшественника М. С. Воронцова. Одновременно
великий князь распорядился об отмене «всяких» личных повинностей, которые
несли дигорские крестьяне баделятам.171 Это решение наместника вызвало
недовольство последних и послужило главным поводом для новой волны
переселения в Турцию. Освобождение зависимых сословий в Дигорском
обществе завершилось в 1867 году на равнине, однако оно лишь
формально коснулось горных районов, где продолжали сохраняться феодальные
отношения.
54
Подводя итог, заметим, что на относительно небольшой территории
Осетии, занимавшей южный и северный склоны Кавказского хребта,
наиболее выпукло отразился весь спектр разноуровневых общественных
организмов, характерных для всего Центрального Кавказа. Вместе с тем
было очевидно, сколь политически напряженно складывалось
взаимодействие внутренних социальных сил. В этих условиях ослабление
феодализма в Осетии и усиление территориальной общины, происходившее после
50-х гг. XIX века, бесспорно, создавали благоприятную предстартовую
общественную среду для развития новых, более прогрессивных
социально-экономических отношений.
Балкария. Одним из уникальных районов Центрального Кавказа
является Балкария, расположенная к западу от Осетии, к югу от Кабарды и
жившая изолированно «в верхней части высоких снеговых гор».172 Она
отдельными обществами занимала ущелья по рекам Черек, Чегем и Баксан.
Балкария относится к наиболее неизученным районам Кавказа. Первым,
и, пожалуй, наиболее ценным источником о балкарцах следует считать
описание В.Ф. Миллера и М.М. Ковалевского, опубликованное ими под
названием «В горских обществах Кабарды».173 В виде источника в
этнографическом и военном описании Кавказа представляет также интерес работа
И. Бларамберга, где небольшой раздел посвящен балкарцам. Отдельные
отрывочные сообщения о «балкарах» встречаются, начиная с XVII века.
По данным источников, относящихся к первой трети XIX века,
численность балкарцев составляла 4 тысячи.174 Без указания на источник,
Т.Х. Кумыков приводит цифру - «11 тысяч душ» (к середине XIX века).
175 Не исключено, что в начале XIX века Балкария, имевшая тесные связи
с Кабардой, где свирепствовали эпидемии, была захвачена
распространившимися на Северном Кавказе холерой и чумой, в результате чего
могло произойти резкое сокращение ее населения.
В науке установлено, что балкарцы, являющиеся тюркоязычным
народом, пришлые на Центральном Кавказе. Известно также, что горные
районы Большого Кавказа, в которых в свое время они поселились,
ранее были заняты аланами. Данные языка, топонимики и антропологии
свидетельствуют о длительном смешанном проживании на территории
современной Балкарии осетин и балкарцев, приведшем к ассимиляции
местного населения. Столь мирный исход как самого заселения новой для
балкарцев территории, так и совместного (смешанного) проживания двух
разноязычных народов позволяет предположить, что балкарцы ранее
входили в состав Аланского государства.
55
Экономика Балкарии состояла главным образом из скотоводства,
традиционного для горных районов Большого Кавказа. Дореволюционные
исследователи писали о больших стадах, разводившихся в Балкарии, и
табунах лошадей, «прекрасно приспособленных для езды в горах»; он же
отмечал, что балкарцы «в больших количествах» продают своих лошадей в
Мингрелии и Имеретии.176 Интенсивные формы занятия скотоводством не
всегда обеспечивались в горных условиях кормовой базой, что заставляло
балкарцев в зимнее время «отгонять свой скот в Кабарду»; это ставило «их
в зависимость от кабардинских князей»;177 при благоприятных
хозяйственных условиях - хорошем урожае, тучных пастбищах и сенокосах
балкарцы воздерживались от перегона своих стад в Кабарду и «содержали» их
«на своей территории даже зимой».178 Очевидно, тем самым они избавляли
себя от подчиненности кабардинским владельцам. Занятие земледелием,
ограниченное природными условиями, в хозяйственном отношении было
малопродуктивным. Несмотря на это, В. Миллер и М. Ковалевский
обратили внимание на то, как в Балкарии «каждый удобный клочок земли» был
«тщательно унавожен, возделан и орошен канавой».179 Такой уровень ухода
за пахотными участками, прежде всего, свидетельствовал о крайнем
недостатке земли, пригодной для обработки. В. Миллер и М. Ковалевский
упоминают небольшие пахотные участки общей площадью в одну десятину,
проданные за 2000 руб.; в 80-е гг. XIX века подобная цена земли
рассматривалась на Северном Кавказе как очень высокая.180
Общественный строй балкарцев М.М. Ковалевский, вместе с
В.Ф. Миллером посетивший Балкарию, рассматривал как феодальный. При
этом вывод М. М. Ковалевского о том, что «общественный строй» балкарцев
«всего ближе подходит под понятие феодального»181, был сделан с
заметной осторожностью. «Странной может показаться, - писал он, - ... мысль
проводить параллель между железными баронами средних веков и
горскими таубиями (балкарскими феодалами - 3. Б.), которые ни внешним своим
видом, ни повседневным домашним обиходом, ничем существенно не
отличаются... от односельчан - их прежних холопей».182 Продолжая эту мысль,
В.Ф. Миллер и М.М. Ковалевский находили «смешной» претензию
безграмотных и в большинстве случаев неимущих «мужиков», когда в 1853 году
балкарские таубии «заявили русскому правительству о своем желании быть
занесенными в ряды потомственного дворянства».183 М.М. Ковалевский,
автор многочисленных работ, посвященных общественному строю народов
Кавказа, в том числе горцев, считал, что феодализм балкарцы принесли с
собой, поселившись в средневековье в высокогорных районах Центрального
56
Кавказа. Опираясь на устные предания, записанные в Балкарии, В. Ф. Миллер
и М. М. Ковалевский, пришли к выводу, что аборигены, которыми они
считали «осетин-христиан», имели «демократическое родовое устройство».184
С другой стороны они приводят предание о приходе феодального
балкарского рода Балкаруковых на территорию современной Балкарии, где они
застают «уже готовое поселение», которым правит местный «князь» по
имени Берды-бей.185 По преданию Берды-бей и прибывшие сюда же на новое
место Балкару ковы были одного «происхождения», но разными по уровню
феодальных притязаний. Берды-бей «довольствовался» «собиранием одной
только дани с соседнего населения», «состоявшей из одного барана с каждого
двора, а Балкаруковы, свергнувшие Берды-бея, раздавали землю в
собственность новым хозяевам, создают новые «сословия».186 Согласно преданию,
Берды-бей - местная княжеская династия, - явно аланского происхождения,
заселившая горы, уже обладая сложившимися феодальными традициями, но
успевшая к приходу Балкаруковых адаптироваться в новых географических
условиях и отказаться от ряда феодальных требований. «Деградация»,
произошедшая с «династией» Берды-бей, со временем будет наблюдаться и у
балкарских тауби; в XIX веке из 720 балкарских дворов, зарегистрированных
российской администрацией, «более 400 дворов, в состав которых» входили
частью обедневшие «таубии», частью члены «других сословий», вовсе не
были «наделены землею».187 Обедневшие и оказавшиеся без земли таубии
- результат прежде всего ослабления в горных условиях феодализма,
оформившегося у балкарцев на равнине и преобладания роли сельской общины,
становившейся важным средством выживания горцев.
Публикации по истории Балкарии, выполненные в советское
время188, подтвердили высказывания Миллера и Ковалевского о феодальной
стадии общественной организации балкарцев в ХУШ-Х1Х вв. Балкарское
общество, как и кабардинское, и осетинское, обладало достаточно четкой
феодальной социальной структурой. Господствовавшее сословие - аксю-
ек («белая кость»), быслаты, секельги, таубии - сформировалось здесь
настолько, а его права оказались столь непререкаемыми, что во второй
половине XIX века российское правительство фактически узаконило его
привилегированное положение, признав за ним право носить титул
«таубии», т.е. горского князя.
Социальный облик общества, о котором идет речь, определялся
формами собственности, сложившимися в Балкарии. Но сначала о
хозяйственных видах земельных участков. Их, этих видов, было три: покосный,
пахотный и пастбищный. Наиболее ценными являлись покосные участки,
57
обеспеченные орошением. Они, собственно, и создавали для скота
кормовую базу в зимнее время, которое в горах занимало около 6 месяцев.
На втором месте были пастбищные участки. Наиболее
распространенной формой собственности являлась подворная собственность на
пахотные участки. Они, как правило, принадлежали тому, кто вложил немалый
труд, чтобы создать такой участок. Несмотря на это, традиционно земля в
любом ее хозяйственном назначении принадлежала феодалам-таубиям. В
балкарском обществе последние - «верховные предводители на войне»,
они же «стражи общего спокойствия в мире», им «принадлежит та
сумма политических прав, которая» выражается «понятием княжеского
суверенитета».189 М. М. Ковалевский особенность феодальных отношений
в Балкарии видел в том, что здесь привилегированные роды «не только
правят всеми остальными семьями, но и являются по отношению к ним
верховными собственниками занятой ими земли».190 Это положение тау-
биев он сравнивал с феодальной Англией и Францией, где также «никто
не владеет землей иначе, как в зависимости от небольшого числа
сеньоров».191 М.М. Ковалевский подчеркивал, что в «среде балкарцев» земля
принадлежит таубиям, «все остальные сословия: «каракеши», «чагары»,
«казаки» и отпущенные на волю рабы, или «азаты»... сидят на землях
«таубиев», неся в их пользу наперед определенные повинности и
платежи».192 Но феодальной собственностью таубиев на землю не
исчерпывались сословно-земельные отношения. Так, каракиши пользовались
личной свободой «относительно земли», на которую они были «водворены»,
обрабатывали и которая составляла их «неотъемлемую собственность».193
Ограничением на владение землей являлось обычное право, согласно
которому каракиши «без разрешения на то таубия» не могли продать ее
другому. Они имели право передать свою землю родственнику, при условии,
если последний соглашался отбывать повинности таубию.194 В случаях,
когда каракиш не имел родственников, земля поступала в полное владение
феодала. Возможно, этим объяснялось, что в середине XIX века 1/3 всех
пахотных и сенокосных участков принадлежала тринадцати феодальным
фамилиям Балкарии.195 Подобная концентрация земли в руках небольшой
группы феодальных собственников для Центрального Кавказа не
считалась высокой. Земли, принадлежавшие таубиям, занимали также ясакчи и
чагары, попадавшие в зависимость от феодала.
Социальная зависимость от таубиев, естественно, складывалась от
отношения зависимого сословия к земельной собственности. Каракиши, хотя
и считались живущими на земле таубия, лично были свободные и не могли
58
быть проданы другому феодалу, но таубий обладал правом продажи
повинностей, им взимаемых с каракиша.196 Последний и сам имел право выкупить
у таубия повинности, которые он нес перед ним; цена их составляла 60
рублей ежегодной платы и суммарно отражала выгоды от повинностей,
ложившихся на плечи каракиша. Они состояли из выполнения разных
хозяйственных работ для таубия - во время сенокоса, сбора сена, его перевозки, пахоты,
обработки пахотного участка, жатвы, перевозки хлеба, внесения удобрений
на участок и др.197 Некоторые виды работ - выпас овец или лошадей каракиш
выполнял со своего согласия и за плату. Если к таубию приезжали гости, то
часть хлопот, связанных с их приемом и содержанием, брали на себя кара-
киши. При выплате таубием кровнику денежной или другой компенсации,
выдаче замуж дочери или же поминок каракиши обязаны были вносить
соответствующий взнос феодалу.198 Отношения между таубием и каракишем
регулировались 37 пунктами, записанными в 1866 году русской
администрацией на Кавказе.199 Однако столь явные феодальные отношения,
сложившиеся между знатью и каракиши - основным сословием балкарского общества,
не свидетельствовали о завершенности балкарского феодализма.
Вторыми по своему социальному положению были ясакчи (податные
крестьяне), лично свободные, но феодально более зависимые, чем
каракиши. Ясакчи обрабатывали под посевы хлебов землю, принадлежавшую
таубию. В зависимости от размеров участка, который возделывал ясакчи,
он вносил таубию подать хлебом от 2 до 9 мешков; в денежном выражении
это составляло от 5 до 23 рублей.200 За «покосную и пастбищную землю,
также являвшуюся собственностью таубия, ясакчи платили в зависимости
от количества у него скота в продолжение 4 лет от 1 до 3 баранов, а с
пятого года - от 15 до 100 баранов; от этой повинности освобождались только
бедные.201 Ясакчи, сидевший на земле таубия, выполнял целый ряд других
повинностей, ставивших его в полукрепостную зависимость.
В еще большей феодальной зависимости, чем ясакчи, находились
чагары, «во всякое время по приказанию владельца» выполнявшие «все
работы». Наряду с этим они несли повинности: если у чагара есть
бараны, он дает таубию одного барана летом и одного барана зимой; при
выдаче замуж дочери за счет полученного калыма платит своему хозяину
одного быка и корову; если у таубия не было ясакчи или же холопов, то
чагары обязаны были по очереди выполнять в доме все работы, обычные
для холопов. Каракиши, ясакчи и чагары, которые при более развитом
феодализме теряли бы личную свободу, в XIX веке сохраняли за собой
право иметь своих собственных холопов.202 Во второй половине XIX века
59
благодаря расширению торговых отношений и оживлению экономики
Балкарии, новый импульс получили, прежде всего, процессы
феодализации. Они вели к усилению феодальной зависимости крестьян - в первую
очередь каракишей, составлявших основную массу населения.
Наконец, четвертой категорией зависимых от феодала людей были
казаки и караваши. Они жили в доме таубия, выполняли все домашние,
дворовые и комнатные работы, находились от феодала в неограниченной
зависимости.203 Казаки и караваши считались безобрядными холопами,
поскольку обычное право не предусматривало для них какой-либо
регламентации, ограничивавшей власть и волю владельца. В этом они мало
чем отличались от чеченского лая, осетинского саулаг, кабардинского
унаута - категорий, составлявших на Центральном Кавказе институт
рабовладения. Однако положение рабов во многом зависело от степени
общественного развития, определявшего спектр применения в хозяйстве
владельца рабского труда: более развитые феодальные отношения
предполагали жесткую привязанность раба к имению владельца и широкое
применение его труда. По-разному, например, смотрели таубии на своих
казак и караваши, оседавших в их хозяйствах, и чеченские обладатели
рабов (лай), рассматривавшие их как военную добычу, предназначенную
в основном для продажи. Не случайно, что при достаточно большом
количестве поступления в Чечню пленников — рабов, во время крестьянской
реформы их у чеченских владельцев оказалось менее 300 человек, тогда
как в феодальной Балкарии, территория которой была значительно
меньше Чечни, рабов насчитывалось 1000.
Следует отметить: использование рабского труда в Балкарии, в
экономике которой преобладало скотоводство, имело большое значение. Оно
серьезно влияло на формирование и накопление феодальной
собственности и, в конечном счете, на развитие феодальных отношений.
В целом, несмотря на наличие четкой феодальной структуры, в
которой каждое сословие имело свой социальный облик, процесс
феодализации в Балкарии отличался не только своей незавершенностью, но и
чертами горской консервативности. Вместе с тем явным является тот факт, что
у балкарцев феодализм один из ранних на Северном Кавказе. Признаками
неразвитости в Балкарии феодализма следует считать существование
нескольких категорий зависимых сословий в пределах одной и той же
хозяйственной отрасли, а также преобладание в нем отработочной ренты.
Среди причин, сдерживавших феодализацию балкарских обществ,
можно выделить две основные - ограниченность земельных площадей для
60
развития скотоводства в крупных масштабах и обычное право,
регулировавшее «не свойственные» ему социальные отношения.
Первая причина не только сдерживала хозяйственные процессы, но
и периодически ставила балкарцев в зависимость от кабардинских
владельцев. Что касается обычного права, то оно, возникнув в условиях
родовых отношений, в своей значительной части незаметно вошло в
правовую организацию балкарского феодального общества.204 Обычное право
вполне справлялось с относительно несложной феодальной структурой,
защищая интересы господствующей знати; в силу своей традиционности
и «просторности» оно позволяло феодальной знати широко толковать его
нормы. Но адатная норма не учитывала запросы поступательного
развития общества. Она, принадлежа к другой общественной ступени, имела
слишком много правовых белых пятен, не обеспечивала балкарское
общество правопорядком и создавала условия для анархии и произвола. В
связи с этим балкарский историк К. Г. Азаматов отмечал благотворное
влияние русской администрации на общественную жизнь балкарцев во
второй половине XIX - начале XX века, переходивших от обычного права
к российскому законодательству.205
60-70 годы XIX века Балкария переживала важные перемены. Во
многом они были обусловлены крестьянской реформой, начатой в 1866 году.
Реформе подверглись как отношения, сложившиеся между феодальной
знатью и зависимыми от нее категориями, так и право на собственность
и имущество. Освобождение от феодальной зависимости получили 4722
каракишей и 3336 других сословий.206 При этом выкупная сумма,
вносившаяся таубиям за освобождение зависимых крестьян и рабов, составила
1444415 рублей.207 Переделу подверглась также основная собственность,
принадлежавшая зависимым сословиям; всего последние имели 785
лошадей, 6053 крупного рогатого скота, 40,258 голов баранов и 409 ослов, а
также пахотные, покосные участки и другую недвижимость. После реформы
у зависимых сословий осталось 343 лошади, 2074 рогатого скота, 13814
голов баранов, 254 ослов; таубиям досталась так же часть пахотных и
покосных участков, ранее принадлежавших их зависимым.208
Несмотря на тяжелые для зависимых сословий условия
освобождения, крестьянская реформа для Балкарии явилась серьезным стимулом
экономического подъема. Значительный прорыв от консервативных форм
хозяйствования к более прогрессивным видам организации экономики,
основанной на принципиально новых социальных отношениях, дали
уже в первый год после реформы новые результаты: в Балкарии коли-
61
чество лошадей стало 3289, ослов - 1424, рогатого скота - 15747,
баранов - 118273.209 Понятно, столь резкий скачок роста поголовья скота
происходил главным образом за счет хозяйств высшего сословия, но стоит
подчеркнуть - динамичность балкарской экономики коснулась и
освобожденных сословий.210
Кабарда. На Центральном Кавказе Кабарда занимала особое положение.
И. Бларамберг считал, что оно объяснялось «воинственным рыцарским духом»,
«храбростью, проявленной» «в борьбе против крымских татар».211 На самом
деле значение имело другое - достаточно высокий для Северного Кавказа
уровень общественного строя и та политическая роль, которую Кабарда играла в
регионе. Находясь на стадии, ведшей к образованию централизованной
государственности и формированию народности, Кабарда установила тесные связи с
Российским государством и одновременно проявляла стремление занять
господствующее положение на Центральном Кавказе.
Кабарда располагалась на относительно просторной равнинной части
Центрального Кавказа - по рекам Малка, Баксан и Терек. Она делилась
на Большую и Малую Кабарду: Большая Кабарда размещалась на «бак-
санских землях», Малая - восточнее, в районе Татартупа и бассейна реки
Терек. Сведения о численности населения довольно многочисленны,
однако носят противоречивый характер. Несомненно, что в XVIII веке
кабардинцы на Центральном Кавказе представляли собой один из крупных
этнических массивов. Об этом свидетельствовала и обширность территории,
которую они заселяли, и политико-культурное влияние, оказываемое ими
на соседей. По данным Т.Х. Кумыкова, в конце XVIII в. в Кабарде
проживало 300 тысяч душ обоего пола.212 В начале XIX века наблюдалось резкое
сокращение населения. В 1834 году И. Бларамберг указывал, что в Кабарде
оставалось жителей «не более 30 тысяч душ».213 Официальные данные,
приведенные Т.Х. Кумыковым, - 35 тысяч душ обоего пола. Их
подтверждал также В. К. Гарданов, проведший тщательный подсчет численности
населения адыгских племен.214 Причиной для столь серьезного
демографического коллапса послужила эпидемия чумы и холеры. Т.Х. Кумыков
приводит свидетельство генерала И. П. Дельпоцо, являвшегося приставом
Кабарды и видевшего разразившуюся здесь демографическую катастрофу;
согласно его данным, в начале XIX века кабардинцев «не осталось более У
доли».215 Наиболее тяжелыми эпидемическими годами явились 1809-1810.
В современной постперестроечной политизированной литературе
высказывается мысль, будто главной причиной сокращения населения Кабарды
стала завоевательная политика России на Кавказе. Но при таком сценарии
62
предполагались бы широкомасштабные военные действия и адекватная
им гибель людей. Исторические источники - типологически разные и в то
же время многочисленные - не создают подобной картины. Карательные
экспедиции российских войск, направлявшиеся против феодальной
фронды кабардинских владетелей, вступали в вооруженное столкновение, как
правило, с небольшими отрядами князей, исключавшими сколько-нибудь
значительные сражения и людские потери.
Единого мнения в литературе нет и о хозяйственном строе Кабарды,
имевшем свои особенности. Дискуссии подверглась также проблема
соотношения основных отраслей хозяйства. Т.Х. Кумыков, признававший
скотоводство основным занятием кабардинцев, утверждал, что со второй
половины XIX века земледелие занимало здесь господствующее
положение.216 Позже он уточнил свой тезис и пришел к выводу, что «в первой
половине XIX века земледелие наряду со скотоводством было основным
занятием населения» Кабарды.217 В. К. Гарданов указывал на другое -
преобладание в середине XIX века скотоводства в хозяйственной жизни
кабардинцев.218 Это положение он аргументировал экономической
целесообразностью, - разведение скота считалось более выгодным, чем занятие
земледелием. Авторы, однако, несколько преувеличивали уровень
состояния скотоводства и рынка животноводческих продуктов в первой трети
XIX века, в условиях, когда Кабарда пережила один из наиболее тяжелых
периодов в своей истории.
Свободный от предвзятых пристрастий по поводу типологии хозяйств
Кабарды, И. Бларамберг, наблюдавший состояние экономики кабардинцев в
30-х гг. XIX века, отмечал наличие в Кабарде «плодородных земель»,
позволявших «выращивать любые сорта зерновых культур». Вместе с тем он
подчеркивал, что у кабардинцев «нет ни садов, ни огородов из-за того, что они
часто меняли места своих поселений»,219 т. е. вели полукочевой образ жизни.
Стоит отметить — тезис о полукочевом и кочевом хозяйствовании в Кабарде,
встречаемый в дореволюционной литературе, также вызывает возражения.
В. К. Гарданов приводит данные, свидетельствовавшие о стационарных в
Кабарде поселениях, в частности, о княжеских дворах, обнесенных каменной
оградой.220 Но он же указывает на факты, когда поселения переносились «с
места на место».221 Очевидно, что скотоводческие хозяйства, подчас достаточно
крупные, в поисках лучших пастбищ и в целях безопасности были вынуждены
менять не только стойбища, но и места поселения. Подобное «кочевание»
может являться показателем степени целесообразности ведения хозяйства, но не
уровня как самого хозяйствования, так и социальной жизни.
63
Картины хозяйственного строя проясняются, если обратиться к
статистике. По данным Т. К. Кумыкова, извлеченным из Государственного
архива Кабардино-Балкарской республики, в 1867 году на население Кабарды,
численность которой составляла около 45 тысяч, приходилось: лошадей -
27957, крупного рогатого скота - 85504, овец - 196618. При этом на сто
душ населения Кабарды приходилось лошадей - 53, крупного рогатого
скота- 172, овец - 370, всего -595.222 Не менее любопытны сведения о
распределении скота по социальным прослойкам, основными собственниками
которого являлись феодальная знать и зависимые от нее крестьяне. Темрюко
Ахлов, относившийся к знати, но не являвшийся самым крупным
владельцем, имел 10 кобылиц и одного жеребенка, 800 овец и 700 голов крупного
рогатого скота.223 Вместе с тем Н. Ф. Грабовский отмечал, что
«кабардинский холоп... так беден, как только можно вообразить себе бедность в
самой последней инстанции».224 При численности 12292 крестьянских душ,
находившихся в феодальной зависимости от владельцев, после
крестьянской реформы одна лошадь приходилась на 36 крестьян, один баран - на
четырех человек, одно животное крупного рогатого скота - на двух
человек.225 Хозяйственный контраст, создавшийся между владельцами, с одной
стороны, и зависимыми сословиями - с другой свидетельствовал о далеко
зашедшем в Кабарде процессе феодализации. В пореформенный период
наблюдалась еще одна особенность в хозяйственной жизни кабардинцев.
Бывшие зависимые крестьяне, лишенные значительной части своего
имущества, в том числе скота226, и обязанные вносить выкупную плату за
освобождение от владельца, были вынуждены заниматься земледелием и
заготовкой леса, имевшего спрос в городах Северного Кавказа. Судя по
описанию Н.Ф. Грабовского, до крестьянской реформы земледелию в Кабарде
не уделялось «никакого внимания».227 В новых условиях освобожденные
крестьяне, не имевшие средств для запашки, шли в наем к состоятельным,
за что имели часть собранного хлеба. Эта система значительно оживила
занятия земледелием. Однако земледелие имело однобокое развитие -
выращивали в основном просо, истощавшее почвы. По данным того же
Н.Ф. Грабовского, в 1868 году в Кабарде было собрано зерновых: проса -
135,835 четвертей, кукурузы - 21, 909 четвертей, пшеницы - 3,878
четвертей, овса- 1,341 четвертей.228 Освобождение крестьян от феодальной
зависимости и их обращение к земледелию как к основному занятию создало в
Кабарде своего рода уникальную ситуацию - состоятельные по-прежнему
продолжали заниматься главным образом скотоводством, приносившим
им наибольшие выгоды, бывшие зависимые овладевали культурой земле-
64
делия.229 Этот, казалось, хозяйственный раскол отчетливо выражал глубоко
феодальный характер экономики Кабарды. Он же свидетельствовал о том,
что, несмотря на крестьянскую реформу, а также на вовлечение Кабарды в
торгово-денежные отношения, она еще длительное время будет оставаться
в рамках исторически сложившейся социальной организации.
Специфика хозяйственного строя, при котором приоритетной
отраслью экономики являлось скотоводство, обусловила неординарные формы
феодальной собственности; не заметив их, дореволюционная
историография отрицала у адыгов наличие земельной собственности.230
На довольно просторных равнинных территориях Северного Кавказа,
на которых долгое время господствовали кабардинские
владетели-скотоводы, не всегда обозначались сколько-нибудь четкие и долговременные
границы для пастбищ и сенокосов - основной базы хозяйственной жизни
кабардинцев. Эта особенность хозяйственного строя Кабарды породила в
ней нетрадиционное развитие феодальной собственности на землю, -
правовые нормы кабардинцев признавали законным захват земли и
возможность с помощью силы присвоить ее в свою собственность.231 Со временем
в Кабарде образовались феодальные владения в виде княжеских
территорий с более или менее ясными границами, любое нарушение которых было
способно вызвать острый межфеодальный конфликт. Этим, пожалуй,
объяснялось то, что обычное право кабардинцев, записанное в XIX веке, — это
в первую очередь право феодальное, отражавшие интересы владельцев-у-
орков - пши и узденей, в зависимости от которых находилась остальная
масса населения232. Это положение на основе широкого круга источников в
специальном исследовании подтвердил X. М. Думанов, пришедший к
выводу о том, что «в первой половине XIX в. кабардинское общество
делилось на два противоположных класса: класс феодалов (уорк) и класс
крестьян (лъхукъуэль), т. е. на «благородных» и «неблагородных».233 Понятно,
что при таком глубоком социальном расколе общества, земля как основной
ресурс жизнеобеспечения не могла оставаться вне общественной
стратификации. Стоит принять во внимание и другое - феодальная собственность
на землю формируется не только в условиях, когда земледелие становится
приоритетным занятием общества, но и при генезисе феодальных
отношений в сфере скотоводческих хозяйств. При втором пути формирования
феодализма земельная собственность распространяется, прежде всего, на
пастбища и сенокосы. Важно также отметить, что крупные скотоводческие
хозяйства, поделившие кабардинское общество на два социальных
разряда - «благородных» и «неблагородных», стремилось размежевать послед-
65
них и в праве на владение землей. Неслучайно самые напряженные
социальные противоречия перерастали в острые столкновения из-за земли. В
записке генералу П.Х. Граббе секретарь Временного кабардинского суда
Я. Шарданов жаловался, «что князья и уздени владеют» землей «по праву
сильного, а не имеющие силы остаются без всего, отчего доныне делаются
вражды, ссоры и даже между самыми сильными».234 Заслуживает
внимания тот факт, что в 40-е гг. XIX века Кабарда, потерявшая в начале века
большую часть населения, в результате чего освободились значительные
массивы земель, больше всего в своих отношениях с российскими
властями была обеспокоена сохранением за собой земельных площадей. В
рапорте военному министру А. И. Чернышеву генерал П. X. Граббе сообщал
о том, как его попытка использовать свободные земли под русские
поселения встретила в Кабарде сопротивление. Кабардинцы, - писал генерал,
- «начали входить в сношения с Шамилем, призывая его к себе и обещая
ему содействие всей Кабарды».235 П.Х. Граббе удалось
административными методами локализовать конфликт, однако он пришел к выводу, что по
поводу земельного вопроса в Кабарде необходимо соблюдать «большую
постепенность и осторожность».236
В кабардинской историографии (Т.Х. Кумыков, Х.М. Думанов и др.)
установлено, что князь - владелец; князь выступал в качестве верховного
собственника земли. По праву владения землей «вся территория Кабарды
была разделена... между шестью княжескими» родами.237 Большая
Кабарда являлась «владением» Атажукиных, Мисостовых, Кайтукиных и
Бекмурзиных, Малая Кабарда - Гиляхстановых и Тайсултановых238. На
запрос начальника Кабардинского округа о том, кому принадлежит земля в
Малой Кабарде, Кабардинский окружной суд объяснял, что «искони она
являлась собственностью Тайсултановых и Мударовых, Ахловых из рода
Гиляхстановых».239 В ответе суда пояснялось, что на этих же правах земля в
Большой Кабарде принадлежала Атажукиным, Мисостовым, Бекмурзиным
и Кайтукиным.240 Особенностью феодализма в Кабарде являлось отсутствие
в нем до крестьянской реформы общинника и общинной земли. Вместо
распространенной на Центральном Кавказе формы распоряжения землей,
при которой вольное общество выступало в роли верховного собственника
земли, в Кабарде шесть княжеских родов брали на себя феодальное
право владения землей и право ею распоряжаться. Тот же суд, объяснявший
право князей на владение землей, категорично подчеркивал, что земля
«не принадлежала народу».241 Это не означало, что кабардинские князья
являлись единственным «феодальным сословием». На правах верховного
бб
сюзерена князь, приглашая узденей, имевших своих холопов, наделял их
землей, превращая тем самым в своих вассалов. Таким образом, земля в
руках князя становилась средством усиления своей военной дружины и
«умножения подвластных узденей».242 Судя по разъяснению Кабардинского
окружного суда, подобная форма княжеского землевладения представляла
собой исторически сложившуюся систему, со временем ставшую
традиционной. Этим, очевидно, объяснялось, что между узденями, получавшими
от князя землю, были и такие, кто «издревле приобрел право поземельной
собственности в границах одного или нескольких княжеских владений»243.
В результате создавалась сложная форма поземельных отношений между
сюзереном и его вассалами. Так, князь, предоставив «по приглашению»
узденю землю сохранял за собой право «согнать» его «со своей земли».244
Но он лишался этого права, если уздень считался подвластным ему лишь
по расположению своей земли на территории княжества.245 Например,
малокабардинский князь Анзоров имел землю, расположенную в пределах
другого княжества в Большой Кабарде. Несмотря на это, земельная
собственность Анзорова в Большой Кабарде, имевшего свои княжеские земли
и в Малой Кабарде, становилась его родовой собственностью. Что касается
земельных отношений князя и узденя, то согласно обычному праву
последний мог наследовать занимаемую им землю, именоваться первостепенным
узденем, приглашать на свою землю другого узденя, но не имел права ни
закладывать, ни продавать землю, которая ранее ему была
предоставлена князем. На праве феодальной земельной собственности основывалась
«обязательная повинность народа, отбываемая своим князьям и
землевладельцам за право пользоваться землею».246 Особенность формы земельной
собственности в Кабарде состояла также в том, что земля не находилась в
частной собственности отдельных лиц, а принадлежала целому роду -
княжескому или же узденскому.247 Этот факт, как и нормы права,
регулировавшие отношения собственности, лишь по внешним признакам напоминали
«родовые отношения», однако ничего общего не имели по своей
социальной сущности с эгалитарной организацией родового общества. Стоит
обратить внимание и на то, что уникальные формы земельной собственности
создавали в Кабарде феодализм, отличавшийся экономическим
динамизмом: наличие всего шести княжеских родов, владевших в Кабарде землей,
не являлось ограничением для пополнения рядов феодального сословия.
Напротив, «приглашение» князем узденей и наделение их землей, со
временем становившихся крупными землевладельцами, представляло собой
достаточно гибкую форму развития феодальных отношений вглубь и вширь.
67
Одновременно эта система являлась важным средством снижения
политического накала в межкняжеских отношениях. Она не позволяла углубиться
феодальной раздробленности, благодаря чему князья сравнительно легко
добивались межкняжеской консолидации. Земельная собственность уор-
ков, иной раз расположенная на территории разных княжеств, создавала
нечто похожее на замысловатые узоры единого кабардинского феодального
ковра, символизировавшего единство страны и народа.
Кабардинское феодальное общество являлось социально стратным.
В нем были представлены сословия, характерные для развитого
феодального общества. В 1870 году на основе материалов, собранных Комиссией
по разбору личных и поземельных прав туземцев Терской области, была
опубликована статья «Привилегированные сословия Кабардинского
округа», содержавшая в себе выводы указанной Комиссии. В ней в Большой
и Малой Кабарде признавались два главных сословия - «благородных» и
«неблагородных».248 Однако социальная мозаика кабардинского общества
этим далеко не исчерпывалась. Ее отличительной чертой являлась
социальная «многоступенчатость», в которой верховенство принадлежало князю
(пши). В феодальной организации кабардинского общества князь занимал
особое положение. Он считался «естественным и прямым покровителем
народа».249 Периодически российские власти, в особенности военное
командование, занимались определением родовитости кабардинских князей,
их социальным статусом в Кабарде; от знатности рода, к которому могли
принадлежать «туземцы», зависело и присвоение воинского звания, и
зачисление в должности. Вопрос о знатности кабардинских князей, как
сугубо практический, возникал еще в 70-е гг. XVIII века.250 Уже тогда был
составлен список князей и первой степени узденей, получивших от
правительства «высочайшие грамоты»; за заслуги некоторые князья были
произведены в штаб-офицеры, уздени 1 степени - в капитаны. Александр I
приравнял узденей к князьям и присвоил тем и другим звания капитанов.
Николай I исправил эту «неточность»: князей произвел в штабс-капитаны,
узденей 1 степени - в прапорщики.251 Однако кабардинские князья,
рассматривавшие себя в ранге «русского дворянства», не были удовлетворены
своим положением в табели о рангах. Впрочем, у российских властей
также не было четкого представления о социальной структуре кабардинского
общества, где «узден» (уорк), претендовавший на дворянство, мог
находиться в вассальном положении от князя. В 20-е гг. XIX в. А. П. Ермолов
поднял вопрос перед Кавказским дворянским депутатским Собранием о
родовой знатности кабардинских князей и узденей и возможности причис-
68
ления их к дворянству. К нему возвращались и позже - в 30-е гг. XIX века.
Дворянское Собрание признавало знатность как князей, так и узденей. Оно
находило, что «кабардинские князья и уздени, татарские султаны и
мурзы... и осетинские старшины по званию своему считаются
отличительными от обыкновенных простых родов».252 Вместе с тем по поводу признания
кабардинских князей и узденей в статусе дворянства было принято
половинчатое решение: «... те только из них, — отмечалось в решении, - могут
быть считаемы в дворянском достоинстве, которые службою своею
российскому правительству приобрели отличия, усваивающие дворянство».253
Вопрос о родовитости высшего сословия вновь возник перед
российской администрацией в 1855 году в связи с коронацией Александра
II. На ней могли присутствовать представители, признанные в
княжеском происхождении и выдвинутые местной знатью в качестве
депутатов. Большая Кабарда на коронацию императора рекомендовала майора,
князя Атажук - Атажукина, осетинские (дигорские) баделята - генерала,
князя Туганова.254 Выдвижение только этих двух депутатов, удостоенных
участия в церемонии царской коронации, вызвало ревнивое
недовольство многих обществ Северного Кавказа, в том числе Малой Кабарды и
Тагаурского (осетинского) общества. Включая в состав депутации
представителя Малой Кабарды и Тагаурии, генерал В. О. Бебутов подчеркивал,
что «мало-кабардинцев ни по происхождению, ни в каком бы то ни было
другом отношении нельзя считать ниже жителей Большой Кабарды».255
В феодальной Кабарде сословие пши имело особое положение. Кроме
широких социальных преимуществ — роли верховного обладателя
земельной собственности, владетель крупного скотоводческого хозяйства пши
(князь) являлся личностью, неприкосновенность которой
гарантировалась обычным правом. В кабардинском обществе «звание князя столь
было священно», что подвластные обязаны были для защиты своего
владельца «жертвовать не только своим имуществом, но и самою жизнью».256
Комиссия по разбору личных и поземельных прав туземцев Терской
области рассматривала дореформенное положение кабардинского народа как
«состояние подданства» от князей.257 Кабардинский князь «от
подвластного ему кабардинца (исключая тлакотлеша и дижинуго) мог требовать и
присвоить себе все его состояние, в том числе дочь и даже жену; не властен
был только над его жизнью».258
Личность князя была неприкосновенна и оберегалась не только нормами
права, а самой господствовавшей в кабардинском обществе феодальной
идеологией, доводившей ее до положения священного существа. В. К. Гарданов
69
приводит случай, когда на скачках холоп позволил себе оскорбить молодого
князя Мисостова. Последний выстрелил в холопа, в ответ холоп убил князя.
Реакция на это была мгновенная: «народ самовольно растерзал холопа, сжег
его дом и передал его семейство наследникам убитого князя».259 Столь
суровая расправа над виновником убийства князя могла постичь не только
холопа. Если даже уорк позволял себе подобное преступление, то он и
«ближайшие взрослые его родственники мужского пола, по кабардинскому обычаю,
лишались жизни, а остальное семейство отдавалось в рабство наследникам
убитого князя, дом же и имущество убийцы подвергались разграблению».260
Лишь в том случае, если князь был убит тлекотлешем или деженугом
(узденем 1 степени) было возможно ограничиться уплатой за кровь
значительной суммы. Однако Комиссия Терской области считала, что «подобного рода
убийств в Кабарде еще не было».261
Высокое положение, занимаемое князем в кабардинском обществе,
обеспечивалось размерами и числом подвластных крестьян. Аристократическое
происхождение, размеры собственности земли и число крестьян
определяли могущество кабардинского князя. По данным В. К. Гарданова, в
середине XVIII века известный князь Большой Кабарды Хамурза Арсланбеков
(Росланбеков) владел 15 «кабаками» - деревнями, в которых проживало «до
тысячи человек».262 Вместе с табунами лошадей и стадами рогатого скота
это позволяло Хамурзе Арсланбекову, возглавившему в XVIII веке партию
«кашкатовцев», играть заметную политическую роль в судьбе Кабарды. От
него не отставал другой князь Большой Кабарды - Джанхот Татарханов,
вместе с братьями имевший подвластных тридцать кабаков. По подсчетам
В. К. Гарданова, у этого княжеского двора было зависимых «до 5 тыс.
человек»263. Особое значение в княжеском укладе Кабарды имела не только
неприкосновенность личности князя, но и его собственности; например,
«воровство лошади из его табуна неминуемо влекло за собою тяжелое
возмездие».264 Это сложившееся правило привело к тому, что в Кабарде, где,
как и на всем Северном Кавказе, развито было конокрадство, было принято
«отдавать своих лошадей в княжеские табуны для того именно, чтобы,
прикрывшись именем князя, сохранить их в целости».265
Возможно, что такое отношение к собственности князя, как и к нему
самому, являлось результатом ни одной только «тиранической власти»,
которой, по оценке Комиссии, обладал князь. Очевидно, имело значение и то,
что он нередко выступал для других членов общества гарантом сохранения
собственности и тем самым брал на себя функцию государственной власти.
Речь идет не только о практике, когда лошадей укрывали от воровства в
70
княжеском табуне. Обращает на себя внимание и другое. В 1773 году
командующий корпусом войск на Северном Кавказе генерал И. Ф. Медем
обратился к кабардинским князьям с требованием прекратить вооруженные
нападения на ингушей.266 В связи с этим один из князей, Касай Атажукин,
объяснял, что ингуши «крадут у кабардинцев скот и увозят, и так де иным
способом с ними зделаться не можно, окроме того, что их усмирять
оружием».267 При этом кабардинские князья предупреждали, что в случае если
российские власти выступят в защиту ингушей, «они совсем отложатся от
протекции» России. Совместное нападение на ингушей и княжеское
единодушие в оценке этого вооруженного инцидента, похоже, было вызвано
действительно защитой собственности своих соотечественников,
которую брали на себя князья. В этом контексте вполне обоснованным следует
признать идею Е.Дж. Налоевой о существовании в позднем
средневековье кабардинского княжества в виде ранней феодальной
государственности; об этом сообщал русскому царю терский воевода А. И. Хворостинов:
«...а ведется де, государство, у них так, что на княжение сажают рядом (т.
е. по очереди — 3. Б.), а ныне де Осламбеков ряд пришол», — писал царю
воевода268. Позже в Кабарде сохранился порядок, при котором «на большом
княжеском совете... избирали главного князя - самого старшего по
возрасту из князей».269 Отсюда происходила четкая дифференциация - владелец
только подвластными деревнями назывался «куадже-пши», избранный в
качестве главы Кабарды - «чилле-пши».270 Однако в период новой истории
Кабарды отмечалось ослабление власти «чилле-пши», избрание
которого превращалось не более чем в соблюдение политической традиции. По
справедливой оценке Е.Дж. Налоевой, это объяснялось экономическим и
политическим усилением самих кабардинских княжеств, каждое из
которых представляло собою «завершенную» форму хозяйственного и
политического образования.271
Князья в Кабарде не были единственным привилегированным
сословием. В социальной иерархии высокое положение занимали тлекотлеши -
л'акъуэльэщ. Комиссия по разбору личных и поземельных прав туземцев
Терской области название этого сословия переводила как «рожденный от
могущественного». X. М. Думанов уточнил прочтение социальной
номинации «тлекотлеш» как «сильное колено, поколение, сильная ветвь».272 Хан-
Гирей называл тлекотлешей «первостепенными дворянами» и
рассматривал их «в виде великих вассалов» кабардинских князей.273 В другой своей
работе этот же автор о тлекотлеши писал, что они «... были княжеские
вассалы со столь значительными правами, что они ограничивали власть самих
71
князей».274 Особое положение этого социального сословия подчеркивала
также Комиссия, считавшая, что «оскорблять» тлекотлешей боялись даже
князья.275 Определение В. К. Гарданова тлекотлешей как подобие «русских
бояр - вотчинников» серьезно дополняет социальный облик
первостепенных уорков. При этом исследователь имел в виду прежде всего земельные
права тлекотлешей: они целыми «фамилиями» владели землями,
переходившими к ним по наследству не только от отца к сыну, но и от братьев,
дядей и т.д.276 Важным преимуществом первостепенных уорков являлось
и то, что «они всегда жили отдельными от князей аулами», а занимаемые
ими земли имели свое родовое наименование. Тлекотлеши обладали
также «правом по своему благоусмотрению со всем своим аулом
переселяться с одного места на другое», однако такое «переселение совершалось в
пределах» той территории, которая принадлежала его князю - сюзерену.277
Рассматривая социальный статус тлекотлешей, Комиссия отмечала, что
нередко кабардинские князья «искали себе покровительства» у
первостепенных уорков, у которых «в народе» «голос» был «сильнее».278 Несомненно,
что тлекотлеши этим дорожили и не исключено, что социальные амбиции
их были нацелены на полную независимость, открывавшую им княжеское
положение. Возможно, этим объяснялось то, что тлекотлеши «на княжнах
и княгинях никогда не женились»279, опасаясь попасть в большую
зависимость от сюзерена; в браки они вступали «между собой» или же «брали
жен из домов» осетинских «алдар..., т. е. из равных себе сословий».280
По своему социальному положению в одном ряду с тлекотлешами были
дыжиниго. Судя по тому, что это сословие отмечено в русских источниках
XVI века, его образование тесно связано с ранним периодом феодализации
Кабарды. Степень привилегированности и ее правовой обеспеченности у
дыжиниго одинаковая с тлекотлешами. Несмотря на это, Е.Н. Кушева это
сословие относила к «узденям второй степени».281 Такого же взгляда
придерживался ряд других исследователей. Однако нельзя не принять во внимание
выводы Комиссии, располагавшей свидетельскими показаниями о
сословиях в Кабарде, согласно которым устанавливается сословное равенство между
тлекотлешами и дыжиниго. Что касается различий в сословных названиях,
то не исключено, что предположение X. М. Думанова о дыжиниго как о
пришлых инородцах имеет основание для специального изучения.282
В сословную группу господствующего класса входили беслан-уорки,
составлявшие вооруженную силу князя. За службу князю они в качестве
вознаграждения получали землю и различные привилегии. Беслан-уорки
использовались кабардинскими князьями в целях военной добычи, что
72
явно указывало на преемственную связь кабардинского феодального
общества с традициями периода военной демократии. В зимнее время,
когда сокращались хозяйственные работы, князья собирали своих уорков и
предпринимали набеги на соседей.
По своему социальному положению близко к беслан-уорку стоял
уорк-шаутлугус (всадник, сопровождающий беслан-уорка). Эта категория
по своему положению уступала трем другим. Уорк-шаутлугусы являлись
наиболее подвижной прослойкой феодальной верхушки кабардинского
общества. Так, чтобы из уорк-шаутлугус перейти в разряд беслан-уорк,
достаточно было заслужить доверие князя и в подтверждение этого
подарок в виде оружия или какой-нибудь другой вещи. Что касается различия
между беслан-уорком и уорком-шаутлугусом, то для первого считалось
неприличным заниматься самому хозяйственными делами - пахать, косить,
возить дрова и т.д., для вторых же это рассматривалось как естественная
деятельность. К различиям можно также отнести и то, что беслан-уорки
могли жениться на дочерях тлекотлешей, а уорк-шаутлугусы не имели этой
привилегии.
Зависимое население, как и класс феодалов, делилось на несколько
категорий.
Отдельное сословие составляли вольноотпущенники (азат), ранее
находившиеся в крепостной зависимости; они за выкуп или же из
«религиозных побуждений» получали свободу. По мере оживления
экономической жизни в первой половине XIX в. в Кабарде численность азатов
увеличивалась. Зависимые крестьяне для получения свободы вносили
феодалу значительный выкуп, дополняя ряды вольноотпущенников-аза-
тов. Однако получивший свободу азат обязан был продолжать жить в
одном ауле с владельцем, а если последний менял жительство, то следовать
за ним. Экономическое преуспевание и покровительство владельца могли
обеспечить азату переход в разряд уорк-шаутлугусов.
Социально-родственными азатам, но более зависимыми от
владельцев были оги - крестьяне, перешедшие из крепостного сословия в класс
свободных земледельцев. Численность огов была невелика. В некоторых
районах Кабарды (Мало-Кабардинском и Черкесском участках) этой
категории вообще не оказалось. Степень их эксплуатации определялась
следующими повинностями: заготовка сена во время покоса в течение пяти
дней феодалу и его доставка, с пары быков, впрягаемых в плуг, семья ога
обязывалась платить владельцу от 2 до 4 арб проса и т.д. Владелец со
своей стороны предоставлял огу землю под пашню, покос и пастбище.
73
В феодальной зависимости находились тфокотли, имеющие в
источниках и литературе различные формы транскрипции. X. М. Думанов
справедливо указывал на путаницу, допускаемую при определении социального
облика этой категории крестьян. С нашей точки зрения, одна из грубых
ошибок состоит в том, что при описании социального положения
кабардинских тфокотлей иногда исследователи рассматривают их в единстве с
тфокотлями горных черкесов. Между тем, несмотря на полное сходство в
названиях, в сущности, они различные социальные категории. Черкесские
тфокотли - свободные общинники, из них формируется родовая знать,
ориентированная на феодализацию. Несомненно, что в свое время в таком
же положении были и кабардинские тфокотли. В отличие от черкесских
обществ, Кабарда, находившаяся в иной географической и хозяйственной
среде, совершила длительный путь глубокой феодализации, не оставив
тем самым ни одно «свободное сословие» без сколько-нибудь заметной
феодализации; одна из серьезных погрешностей в изучении
общественного строя Кабарды состоит в экстраполировании социальных процессов,
присущих горным адыгам, на общественную структуру кабардинцев.283
Понятно, нет источников, которые позволили бы реконструировать
вовлечение кабардинских тфокотлей в общий ход феодального развития. Но
бесспорно другое: в XVIII - первой половине XIX века тфокотли - крепостные
крестьяне284, составлявшие основную массу зависимого сословия; лагуна-
пыты, которых иногда рассматривают как отдельное зависимое сословие,
- те же тфокотли, «пристроенные» ко двору князя или уорка, становились,
тем самым, дворовыми крестьянами.285 Накануне крестьянской реформы,
по данным Т.Х. Кумыкова, они, являясь основным классом крепостного
крестьянства, насчитывали около 10 тысяч.
Самой угнетенной частью населения были унауты - рабы. Как и везде
на Центральном Кавказе, основным источником рабства в Кабарде было
пленение людей во время военных набегов на соседние народы. Унауты
составляли полную собственность владельца, жили в его доме,
передавались по наследству, их труд использовали в домашнем хозяйстве.
Сложная феодальная иерархия, сложившаяся в Кабарде, в XVIII -
первой половине XIX века вызывала в обществе глубокие социальные
противоречия. Межфеодальные распри и противостояние угнетенного
крестьянства феодальным сословиям являлись главной чертой внутриполитической
жизни Кабарды. Присоединение Кабарды к России не принесло
стабильности в кабардинское общество, на которую рассчитывали пророссийски
настроенные князья, а еще больше обострило ситуацию. Зависимые сословия
74
с помощью российских властей надеялись получить освобождение от
феодального гнета. Уже в XVIII веке нередки обращения кабардинских
крестьян к российской администрации с просьбой помочь им обрести свободу.
Так, в 1777 году «старейшины черного кабардинского народа» обратились
«тайно от своих владельцев» к астраханскому губернатору И. В. Якоби и
«неутешно» ему «жаловались»: «князья и узденья их не только разоряют,
но, отымая, жен и детей их продают в отдаленные горские жилища, в Крым
и самую турецкую область... забирают с них совсем неумеренные подати
кто что захотел только взять» и что «их самих» превращают в «ясырей».286
Еще ранее в Кабарде разразилось крупное крестьянское восстание, в
котором участвовало «числом до 10000 крестьян».287 Причиной к восстанию
послужил не только феодальный гнет, но и требование от крестьян
переселиться на реку Куму, подальше от российской границы. Кабардинское
крестьянство, пользуясь близостью границы и фактической поддержкой
российских властей, уходило от своих владельцев и переселялось в
пределы российской территории. Выступление крестьян было поддержано
российской стороной, обещавшей восставшим военную помощь. Со своей
стороны кабардинские владельцы угрожали российскому правительству
перейти на жительство в горы и объединиться с горными адыгами в
набегах на русскую границу.
В кабардинской историографии конфликт между российскими
властями и кабардинскими владельцами иной раз сводится к сопротивлению
владельцев строительству на Северном Кавказе русских крепостей, якобы
лишавших их пастбищных земель. Однако более острым в
русско-кабардинских отношениях второй половины XVIII века был вопрос о
поддержке российским властями крестьянства Кабарды в их социальном
противостоянии князьям. Феодальная знать теряла пастбищные земли из-за
строительства крепостей и была обеспокоена стремлением подвластных
поселиться в них и получить, таким образом, свободу.288
Важным социальным событием в Кабарде явилось ограничение
российскими властями феодального произвола - запрещение продажи,
дарения и отчуждения холопов «всяким иным порядком из пределов области в
другую»289, а затем проведение в ней в 60-е годы XIX века крестьянской
реформы. Идея проведения такой реформы на Кавказе, в особенности после
отмены крепостного права в губерниях Закавказья (1864 год), подтолкнула
ряд кабардинских владельцев предложить свои условия освобождения
зависимых сословий. Князья просили о разрешении освободить зависимое
население «путем добровольных соглашений» за выкуп согласно принято-
75
му у них обычному праву.290 Российская администрация предложила свои
правила освобождения крестьян, дополнявшие княжеские. Во-первых,
добровольные соглашения между владельцами и зависимыми должны были
составляться «при содействии и руководстве особо учрежденных
посреднических судов из чинов горской администрации и депутатов от
населения»; во-вторых, условия освобождения для зависимых крестьян должны
были являться «весьма умеренными» по сравнению с «прежними
обычными нормами», к которым прибегали князья.291 По проекту, внесенному
владельцами, зависимые сословия освобождались «исключительно с...
согласия» крестьянина, который бы «платил выкуп, если был в зрелых летах
и способен к работе, от 150 до 500 руб., и, кроме того, оставлял владельцу
все имущество свое, даже одежду».292 Как видно, кабардинские феодалы
предлагали условия проведения крестьянской реформы, при которых
основная масса крестьянства, находившаяся в состоянии нищеты, оставалась
бы в прежнем зависимом положении. По этим условиям не подлежали
освобождению холопы (унауты), представлявшие собой домашних рабов и
не имевшие никакой собственности.
Крестьянская реформа в Кабарде проводилась по схеме,
предложенной российской администрацией на Кавказе. В ее основу легла идея
компромисса - соблюдались как интересы владельцев, так и зависимых
сословий. Устанавливался единый размер выкупа - 200 рублей, а имущество
крестьянина подвергалось разделу между ним и владельцем; дети и
пожилые освобождались бесплатно. Девушки, относившиеся к крестьянскому
сословию, освобождались «немедленно»; выкуп они вносили только при
выходе замуж «из калыма». В случае, если зависимый крестьянин не
желал своего освобождения или же не имел к этому необходимых средств, он
оставался с владельцем в прежних феодальных отношениях, однако
сроком не более 6 лет. Стоит заметить, крестьяне выкуп вносили в рассрочку,
при этом обязательным был лишь первый взнос сразу после освобождения;
это значительно облегчало крестьянам выход из крепостной неволи. Что
касается унаутов, то они фактически оставались на определенный срок в
прежнем своем положении.
Сложным для Кабарды оказался земельный вопрос; по условиям
освобождения крестьяне «вступали в пользование землей наравне с
остальным горским населением свободного происхождения». Реализация этого
положения затруднялась дефицитом в Кабарде свободного земельного
фонда. Несмотря на «половинчатость» крестьянской реформы в Кабарде,
необходимо подчеркнуть важное ее значение: в сущности, Россия высту-
76
пила в роли освободителя кабардинского крестьянства. Обращало на себя
внимание то, что российское правительство, проводившее крестьянскую
реформу на Кавказе, несло немалые финансовые расходы: только в
первый год этой реформы (1867 год) расходы на ее проведение по Терской
области составили 152000 рублей. Деньги использовались как для выкупа
крестьян, так и для компенсации владельцам.293
Крестьянская реформа в Кабарде проводилась в условиях
напряженной политической обстановки. Уже в начале 1867 года владельцы,
«недовольные намерением правительства освободить крестьян», принялись за
агитацию среди населения, призывая к переселению в Турцию.294 Эти
владельцы были арестованы и «высланы затем под надзор полиции во
внутренние губернии империи».295 Несмотря на эту меру, кампания,
направленная как на срыв реформы, так и организацию новой волны переселения
в Турцию, продолжалась. На этот раз ее возглавили «преимущественно
муллы».296 Эти политические настроения сохранялись и позже; имея в виду
Кабарду, российская администрация констатировала, что «высшее
сословие все еще с трудом мирится с теми новыми условиями, в которые оно
поставлено произведенными в последнее время реформами».297
Итак, из приведенных нами данных видно, что в ХУШ-Х1Х вв.
Центральный Кавказ представлял собой уникальный исторически
сложившийся район, имевший единство хозяйственной жизни. В разных своих
частях он обладал одним и тем же уровнем производительных сил, схожим
опытом хозяйственной деятельности и общностью материальной культуры.
Отмечалась также целостность правовых форм организации основ
общественной жизни, регулировавших сложившиеся социальные отношения;
при этом обычное право оставалось главным нормативным основанием, на
котором возводились стадиально разноуровневые общества.
Вместе с тем Центральный Кавказ населяли этнически различавшиеся
народы, каждый из которых имел свой собственный исторический опыт
развития, свою особую модель общественной организации, свой особый
этнопсихологический склад. В пределах одного и того же
общественного уклада можно было наблюдать разные уровни социального развития.
Так, среди вайнахских племен, живших тайповой организацией общества,
по темпам внутреннего социального роста значительно опережали
чеченцы, раньше других (карабулаков и ингушей) освоившие земли на равнине
Центрального Кавказа и освободившиеся от зависимости соседних
владельцев. В пределах одной общественной формации Осетия, Балкария и
Кабарда находились не только на разных ступенях феодализма, но и каждая
77
из них имела свою собственную модель организации общества. В целом же
Центральный Кавказ был разделен на две географические и хозяйственные
зоны - горную и равнинную, а в общественной жизни имел два типа
стадиальности. Вайнахские племена переживали военно-демократическую,
эгалитарную организацию общества, обнаруживавшую признаки
ослабления тайповых основ и усиления тукхумных (территориально-общинных).
Осетия, Балкария и Кабарда имели отчетливую социальную
стратификацию феодального общества. При этом феодализм, как вполне созревшая
форма общественного развития, в позднем средневековье «разместился»
в горных районах Осетии и Балкарии в виде особого социального пласта,
сложившегося еще в Аланском государстве. Однако в новой
географической среде феодальные традиции, унаследованные Осетией и Балкарией,
подверглись значительным изменениям; в этом немалое значение имело и
моноотраслевое (скотоводческое) развитие хозяйства. До переселения на
равнину феодализм в Осетии отличался неравномерностью в разных
обществах и заметной консервативностью. С 20-х гг. XIX века в Осетии
наметилось усиление феодальных отношений, а в 60-е гг. XIX в., после
земельной реформы, относительно плавное вовлечение ее в капиталистическую
экономику. Несколько ослабленный и незавершенный феодализм Балкарии
приобрел после крестьянской реформы закономерную динамичность и
легко приспосабливался к развивавшимся товарно-денежным отношениям.
Наиболее развитого уровня феодализма к XVIII веку достигла Кабарда,
занимавшая значительную часть равнинной территории Центрального
Кавказа. Концентрация земельной собственности в руках шести
княжеских родов и преобладание экономики, основанной на скотоводстве,
обусловили здесь развитие много сословной иерархии феодального общества
с формированием в нем сильной власти господствовавшей знати. Здесь
феодализму были присущи глубокие внутренние социальные
противоречия и тенденции к развитию вширь. К началу XIX века Кабарду
постигла демографическая катастрофа, приведшая ее к хозяйственному
упадку и снижению той роли, которую она играла на Центральном Кавказе.
Крестьянская реформа ослабила феодализм в Кабарде и открыла новые
экономические перспективы.
На эту пеструю этническую и неоднородную социальную
поверхность наносилась в виде инородной субстанции российская
административная система управления, эффективность которой основывалась на
постепенности ее внедрения и обостренности внутренних противоречий,
свойственных всем обществам Центрального Кавказа.
78
ГЛАВА II.
ОБЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАВКАЗОМ
В КОНЦЕ XVIII - 80-е годы XIX в.
§1. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
(КОНЕЦ XVIII - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX В.)
Установление административного аппарата на Северном Кавказе -
часть широкой проблемы управления царизмом национальными
окраинами России. В дореволюционной историографии она затрагивалась главным
образом в общих работах, посвященных военным действиям российских
войск на Кавказе и деятельности царских администраторов. Позже
советскими историками были сформулированы основные признаки
административной системы, существовавшей на периферии Российской империи1. Так,
в работе, освещающей государственные учреждения дореволюционной
России, Н. П. Ерошкин объясняет особенности этой системы и специфику
управления различными регионами «местными задачами», стоявшими
перед правительством. Анализируя развитие российской администрации на
Кавказе первой половины XIX в., автор приходит к выводу:
северокавказский аппарат управления был «сравнительно близок» к общероссийскому2.
Допуская известную осторожность в формулировке относительно
характера административного устройства Северного Кавказа, Н.П. Ерошкин,
по-видимому, не имел достаточных оснований для того, чтобы признать
или, наоборот, исключить специфику управления регионом. Одной из
задач нашей монографии является изучение этой проблемы.
В данной главе исследование ограничено региональными и
хронологическими рамками. В ней рассматривается процесс становления общей
системы управления самодержавия на Северном Кавказе в первый период
ее организации - конец XVIII - первая треть XIX вв., а также
дальнейшее ее развитие на Кавказе вплоть до отмены наместничества в 80-е годы
XIX века.
К административному устройству Северного Кавказа царское
правительство приступило еще в первой четверти XVIII века. С самого
начала роль административных центров исполняли здесь российские
крепости, впоследствии составившие цепь военных укреплений - Кавказскую
линию. Первые мероприятия царизма, направленные на установление
79
системы управления, касались казачьих поселений Предкавказья. Так,
после основания в 1724 году крепости Святого Креста созданы были
Гребенское и Аграханское войска, подчиненные войсковым атаманам и
Военной коллегии.3 Установление среди казачества Северного Кавказа
управленческого аппарата царизма связывалось с задачей привлечения
населения Предкавказья к обороне южных границ России. В дальнейшем,
по мере активизации политики России на Кавказе, формирование судеб-
но-административной системы управления приняло характер
устойчивого процесса.
В 1735 году, после постройки крепости Кизляр, казачество было
объединено в Кизлярское войско, имевшее четкую военно-управленческую
структуру4. С его созданием на коменданта кизлярской крепости
возлагались обязанности первой административной инстанции для казачьих войск
Северного Кавказа. Если учесть, что функции второй и третьей
инстанций исполняли губернатор и Военная коллегия, то можно говорить о
вполне сложившихся основных правительственных институтах управления
Предкавказьем.
Организация российского военно-административного центра на
Кавказе - Кизляра - имела большое значение не только для
административного устройства казачества. В своей политической деятельности кизляр-
ский комендант особое внимание уделял развитию разносторонних связей
с местным населением Северного Кавказа. Уже в начале 1738 года
комендант крепости Красногородцев писал о регулярном привозе в гребенские
городки «из горских разных мест для продажи бурок, шерсти, бумаги и
прочего шерстяного».5
В 30-е - 40-е годы XVIII века часть коренного населения Кавказа, в
частности Закавказья, находившегося в определенной зависимости от
Ирана и Турции, стала переселяться в район Кизляра. Советский историк
В.Н. Гамрекели писал по этому поводу, что «с первых же годов
существования крепости Кизляр возле нее разрослась многочисленная грузинская
колония».6 Военно-административная деятельность правительства России
в Предкавказье затронула и переселенцев. В 1736 году Правительствующий
Сенат издал указ о принятии на военную службу грузин и армян, о
формировании из них военных подразделений и раздаче им при Кизляре «в
пристойных местах под дворы, огороды и под пашню надлежащие места»7.
Миграционный процесс захватил также и горцев Центрального Кавказа,
страдавших от междоусобиц и малоземелья. Так, в 40-е годы XVIII века
вопрос о переселении на российскую границу стали ставить осетины, жив-
80
шие в горах и нуждавшиеся в плодородных землях. Об этом же просили
кизлярскую администрацию ингушские старшины.8
В 1762 году, с приходом Екатерины II к власти, идея о более
энергичном проведении в жизнь «опыта» с Кизлярской крепостью и о
распространении этого опыта на другие районы Северного Кавказа становится
фактически внешнеполитической программой правительства России. Серьезным
шагом, предпринятым в этом направлении, явилось учреждение на юге
Предкавказья новой крепости в урочище Моздок. Проект ее был
подготовлен еще в 1757 году. В соответствии с ним укрепление, оставаясь русским,
должно было состоять из осетин, переселенцев из горных районов. Поэтому
в переписке по вопросу о постройке крепости она называлась Осетинской9.
Мысль о возведении российской крепости с жителями из местных народов
получила свое дальнейшее развитие в октябре 1762 года, когда Екатерина
санкционировала решение об основании Моздока. В указе о Моздоке
предписывалось заселить крепость представителями христианских народов
- грузинами и армянами, а также крещеными осетинами, кабардинцами
и ингушами.10 В докладе Сената военно-политическое назначение новой
крепости определялось как «главнейшее и полезнейшее намерение... ради
скорейшего усиления Кизлярского края».11
К практической реализации решения правительства военные власти на
Кавказе приступили в 1763 году. В течение двух лет под руководством
полковника Гака в урочище был воздвигнут форпост, который вскоре стал
важным военно-политическим и административным центром на Центральном
Кавказе. В 1765 году по образцу Кизляра Моздок получил постоянный
гарнизон и комендантское управление.
В результате на Северном Кавказе начали функционировать два
однотипных военно-административных пункта со сходными целями и
задачами. Оба коменданта - кизлярский и моздокский - формально обладали
одинаковыми правами и действовали в рамках обычного
военно-комендантского управления. На деле же в деятельности каждого из них, равно
как и в данной им власти, имелись существенные различия. Кизлярский
комендант (и это наблюдалось особенно в 60-е - 70-е гг. XVIII в.)
оставался лицом, ведавшим практически всем Предкавказьем и
подчинявшимся астраханскому губернатору. Территориальная сфера деятельности
моздокского коменданта была значительно уже. К ней относился Моздок,
Моздокская линия (часть Кавказской линии) и дела, касавшиеся связей
российских властей с горцами Центрального Кавказа. Всю же деловую
переписку с астраханским губернатором и правительственными учреждения-
81
ми Петербурга моздокский комендант вел через Кизлярское комендантское
управление. Не случайно поэтому к кизлярскому коменданту,
олицетворявшему большую власть, чем комендант в Моздоке, продолжали обращаться
не только народы Северо-Восточного Кавказа, к местожительству которых
близко располагался Кизляр, но и кабардинцы, осетины, ингуши,
населявшие Центральный Кавказ.12 Комендант Кизляра непосредственно получал
предписания из Петербурга.13 Такое несколько различное положение двух
юридически одинаковых учреждений, по-видимому, объяснялось тем, что
с самого начала Моздок рассматривался как средство, служащее для
«усиления Кизлярского края».
Тем не менее Моздок быстро рос и укреплялся. Как и намечалось
правительством, особенностью, отличавшей его от многих российских
крепостей на Северном Кавказе, являлась не только этническая
неоднородность, но и преобладание в крепости коренных жителей Кавказа. Здесь
селились осетины, грузины, армяне, кабардинцы, греки, персы и другие.14
Жители Моздока пополнялись также за счет переселения волжских и
донских казаков. Летом 1765 года по высочайшему указу на Моздокской
линии были образованы новые станицы Наурская, Каменовская, Мекенская,
Галюгаевская15; их население составили 517 казаков, прибывших с Волги и
200 семей с Дона.16
Подобного организованного переселения в Моздок из районов
Кавказа, естественно, не производилось. Чтобы привлечь местные
народы на Моздокскую линию, кавказская военная администрация
предоставляла переселенцам земельные участки на несколько лет, освобождала их
от податей и торговых пошлин, оказывала помощь в строительстве жилых
домов.17 Зависимым осетинским и кабардинским крестьянам,
переселявшимся в район Моздока и принимавшим христианство, гарантировались
«вольности» и переход в категорию «свободных».
Правительство учитывало также необходимость идеологического
воздействия на горцев. Одним из мероприятий в этом направлении стало
открытие в крепости школы для обучения «осетинских, ингушских и прочих
горских народов детей»18. Кроме того, Осетинская духовная комиссия,
разместившаяся в Моздокской крепости, обязана была заниматься не только
распространением христианства в Осетии и Ингушетии и крещением всех
не христиан, поселявшихся на русской границе, но и «склонять к
переселению в Моздок коренных жителей Центрального Кавказа».19 По данным
В.Н. Гамрекели, в 1777 году население Моздока (без русского гарнизона)
насчитывало 1020 человек.20 Из крещеных горцев здесь была образована
82
Горская моздокская команда, впоследствии присоединившая к себе казаков
Луковской станицы.
Таким образом, уже в 60-70-е годы Россия в своей политике на Северном
Кавказе впервые предприняла попытку привлечь местное население к той
же военно-административной организации, которая проводилась ею ранее
среди казачества Предкавказья.
Действия царизма, однако, ограничивались условиями Белградского
мирного договора, лишавшего Россию возможности продвижения на
Кавказ. Даже Моздок и Моздокская линия, которые царское правительство
территориально «причисляло к здешним границам»21, вызывали протест со
стороны Турции.
Положение изменилось после окончания русско-турецкой
войны 1768-1774 годы. В соответствии с заключенным после нее Кючук-
Кайнарджийским мирным договором Россия получала Азов, Керчь, Еникала
и Кинбурн, приобретала выход к Черному морю и право прохода русских
кораблей через проливы. Крымское ханство становилось независимым от
Турции, и тем самым предрешался его последующий переход к России.
Кючук-Кайнарджийский мир серьезно менял и положение Центрального
Кавказа. Как известно, одним из его условий было признание за Россией
Большой и Малой Кабарды. Теперь, с точки зрения международного
права, этот район становился неотъемлемой частью Российской империи.
Заключение выгодного для России мира с Турцией предоставило царскому
правительству также возможность присоединить к России Осетию22, Чечню
и Ингушетию.23 Разновременно (в 1770 году - Ингушетия, в 1774 году -
Осетия, а в 1781 году - Чечня) эти районы Центрального Кавказа вошли
в состав России. Присоединение Центрального Кавказа, важного в
военно-стратегическом отношении, имело серьезное значение для России и
укрепляло ее позиции на Кавказе. Необходимо отметить, что последнее
явилось результатом не только активности царской дипломатии. Как
отмечал А. В. Фадеев, оно было также следствием растущего тяготения к союзу
с Россией местных кавказских владетелей и роста числа сторонников
русской ориентации среди самых различных слоев коренного населения24.
С середины 70-х годов XVIII века Центральный Кавказ, вошедший в
состав России, становился объектом, где правительство самодержавия
осуществляло свои общеполитические планы, одновременно превращаясь в
район, доступный для постепенного административного устройства.
Однако на пути реализации политики России на Кавказе и его
административного преобразования оставались еще серьезные трудности. Дело
83
в том, что ЬСючук-Кайнарджийский договор, принесший России немалые
выгоды, далеко не означал прочного урегулирования отношений двух
государств - России и Турции. Османское правительство, вынужденное дать
свое согласие на невыгодные ему условия мира, не намеревалось их
соблюдать. Особенно тяжелой потерей для Турции было Крымское ханство.
Половинчатый характер решения вопроса о Крыме неизбежно вел к новым
военным конфликтам.
В этой обстановке Россия, стремившаяся к дальнейшему упрочению
своей позиции на Кавказе, пыталась действовать в Закавказье. С этой
целью она активизировала политику в Грузии, которой угрожала опасность
турецкой агрессии. Вскоре в 1783 году между правительством России и
грузинским царем Ираклием II в Георгиевске был заключен
дружественный договор, согласно которому Россия брала на себя обязанность
защищать Грузию от внешних врагов и вводила на ее территорию свои войска, а
Грузия, в свою очередь, обещала не вступать без ведома России в сношения
с соседними государствами.25
Ближайшую задачу на Кавказе царизм видел в создании здесь
«барьера» на пути Турции и Ирана. Такой «барьер» предполагал образование
в Закавказье под покровительством России федерации из дружественных
России феодальных владений. В рамках этой идеи активно
поддерживалось стремление армянского народа к восстановлению своей
государственности, а также формирование из Кавказского Азербайджана нового
владения под протекторатом России.26
Наряду с этими шагами в Закавказье царское правительство с новой
энергией продолжало заниматься делами, связанными с политическим
и административным освоением Северного Кавказа. Оно, как и раньше,
большое значение придавало Моздоку и Моздокской линии. Дальнейшее
укрепление этой линии предоставляло России возможность соединения ее
с отошедшими к России после русско-турецкой войны прибрежными
землями Азовского моря. Согласно проекту, предложенному Г. А. Потемкиным,
Моздокская линия преобразовывалась в Моздокско-Азовскую.27 Постройка
ее длилась с 1777 по 1782 год. Она начиналась от Екатеринограда, при
впадении р. Малка в Терек, пересекала предкавказские степи в северо-западном
направлении через крепость Св. Дмитрия (Ростов) и оканчивалась у Азова.
По проекту Г. А. Потемкина, возведенные укрепления: Екатериноградское,
Ставропольское, должны были не только укрепить границу, но и положить
начало русской колонизации на Северном Кавказе. Для заселения и
обороны этой линии с упраздненной Царицынской линии переводился Волжский
84
казачий полк, разместившийся на протяжении семидесяти верст от Моздока
до верховьев реки Тамузлово.
Вначале Кавказская линия представляла собой систему военных
укреплений и поселений, где управление строилось на основе
военно-пограничных положений. По мере роста населения Предкавказья за
счет переселенцев из России и горцев возникла необходимость
административного преобразования линии. «14 тысяч русских людей, - писал
В. А. Потто, - принявшихся за плуга в пустынных дотоле землях, не могли
не послужить достаточным основанием к будущему гражданскому
развитию края».28 Особое значение при этом придавалось централизации
административной власти в Предкавказье. В начале февраля 1784 года,
согласно указу Екатерины II, для «единообразного управления кавказскими
делами» было образовано наместничество. Оно объединяло Саратовскую
губернию с Кавказским краем. Управление наместничеством поручалось
П. С. Потемкину, с 1782 года занимавшему должность командующего
Кавказской линией. Он приходился Г. А. Потемкину-Таврическому
троюродным братом и был его ближайшим помощником и доверенным
лицом в сношениях с Кавказом».29 В этом назначении просматривалась идея
Екатерины II - вплести присоединенные территории Кавказа и Крыма
в единую административную систему государства. Установление здесь
наместнического управления проходило в соответствии с
общероссийской губернской реформой 1775 года. Очевидно, однако, что объединение
Кавказа с Саратовской губернией в одно наместничество являлось лишь
формальной мерой, не способной решить задачу установления
«управления, свойственного образу мыслей и жития новых подданных»30, на столь
обширной территории.
Если раньше казачье население Предкавказья и горские народы
Северного Кавказа находились в ведомстве астраханского губернатора,
то теперь, с расширением владений России на Кавказе с запада до Азова,
управление ими из Астрахани стало неудобным. Более того, с
возведением новых укреплений и размещением воинских гарнизонов на Кавказской
линии Астрахань утратила прежнее политическое и стратегическое
значение.31 Поэтому неудивительно, что через год после указа об
«единообразном управлении» Саратовской губернией и Кавказом правительство
нашло целесообразным разделить наместничество. По указу, изданному 9
мая 1785 года, учреждалось Кавказское наместничество32. В нем не было
четкого обозначения границ из-за их подвижности. «Постановление о
границах Кавказского наместничества, - писала Екатерина II, - возлагаем
85
на соглашение наших генерал-губернаторов и правящих ту должность».33
Наместником императрицы на Кавказе оставался П. С. Потемкин.
Кавказское наместничество составили Астраханская и новая,
образованная одновременно с наместничеством, Кавказская губерния. В
последнюю вошли шесть уездов: Екатериноградский, Георгиевский,
Александровский, Ставропольский, Моздокский и Кизлярский. Их
административные центры возводились в степень уездных городов с
применением в них общих городовых положений. «Во вновь учрежденных городах,
- писал И. В. Бентковский, - не было еще жителей, а уже повелено было
ввести городовое положение».34 Во всех уездных городах открывались
присутственные места, уездные и нижние земские суды, казначейства; в
Екатериноград, Георгиевск, Александров и Ставрополь были назначены
городничие. Коменданты сохранялись лишь в Кизляре и Моздоке.35
Город Екатериноград, согласно указу, определялся губернским.
Эксцентричное расположение главного города нового наместничества
достаточно ясно выражало тенденцию к дальнейшему расширению
российских владений на Кавказе. Как отмечал А. В. Фадеев, об этом же
свидетельствовало и то, что наместничество, включавшее в основном степную
полосу Предкавказья, уже именовалось Кавказским.36 Екатериной II были
отпущены значительные денежные суммы наместнику и новым уездным
городам (кроме Кизляра и Моздока) - каждому городу по 10 тыс. рублей.37
Отметим также, что учреждению наместничества, его
административному совершенствованию царское правительство придавало большое
значение. Об этом свидетельствует письмо Екатерины II, адресованное
П. С. Потемкину в феврале 1786 года. В нем императрица предлагала
«объявить свое высочайшее удовольствие по случаю открытия Кавказского
наместничества всем в том участвующим дворянам сей губернии, горским
князьям и удостоверить каждого в искреннем е. и. в. желании, чтобы новый
образ управления приносил им новые выгоды, послужил утверждению их
спокойствия и благоденствия».38
Для дальнейшей организации административных и судебных
учреждений в наместничестве и их инспектирования Екатерина II срочно
направила на Северный Кавказ сенаторов графа А. Р. Воронцова и графа
А. В. Нарышкина. Сенаторам поручалось также привести в надлежащий
вид столицу наместничества. За короткое время в Екатеринограде были
осуществлены значительные работы, благоустраивавшие город. Тогда же
здесь были построены здания под различные учреждения: дом для
генерал-губернатора, вице-губернаторский дом, дома для директора
экономики, присутственных мест, таможенных советников, аманатов и др.
86
И. В. Бентковский, изучавший управление Кавказской губернией, обратил
внимание на размах и поспешность, с которой правительство занялось
административным устройством и совершенствованием власти в крае. Он
расценивал ее как «непостижимую быстроту действия даже в наш век
паровых и электрических сообщений».39 Автор, однако, ограничился
риторическим приемом и не пытался объяснить причины торопливых, но в то
же время достаточно продуманных действий правительства на Северном
Кавказе.
Как известно, период с 1774 года и до начала русско-турецкой войны
1787 года характеризовался укреплением внешнеполитических позиций и
ростом международного авторитета России. Русская дипломатия умело
использовала сложившееся в ее пользу соотношение сил. Но, как уже
отмечалось, Турция развернула энергичную подготовку к войне против России,
стремясь занять Крым и все Северное Причерноморье, строила планы
овладения Кавказом и Закавказьем. При этом ближайшей и основной
целью турецкой политики продолжал оставаться Крым. Именно эта
внешнеполитическая ситуация диктовала России политико-административные
действия на Северном Кавказе: в ее рамках и следует рассматривать
учреждение Кавказского наместничества. С этой же целью накануне
разрыва с Турцией Екатерина II совершила свое путешествие на юг. Это была
демонстрация со стороны императрицы, знакомившейся с приобретенным
краем и со своими новыми подданными. Екатерину II сопровождала
многочисленная свита, иностранные дипломаты, которые должны были видеть
прочность позиций России в присоединенных к ней районах.40
В 1787 году Екатерина II направилась в Крым, но годом раньше, когда
создавалось Кавказское наместничество, предполагалось, что она посетит
столицу новой административной единицы, появившейся на политической
карте России. Тот же И. В. Бентковский отмечал, что к приезду Екатерины
и ее фаворита Г. А. Потемкина-Таврического в Екатеринограде «построены
были из кирпича большие триумфальные ворота».41
Управлению Кавказским наместничеством были присущи центра-
листские тенденции, выражавшиеся в стремлении ввести в Кавказской
губернии административные институты, традиционные для внутренних
губерний России. При этом общая децентрализация местного управления
в России после губернской реформы 1775 года нашла свое отражение и
на Кавказе. Как и другие наместники, П. С. Потемкин обладал
чрезвычайными полномочиями, заключавшимися в широкой самостоятельности от
высших государственных учреждений. Наместник подчинялся
непосредственно Екатерине II и был наделен военной и гражданской властью.
87
В 80-е годы XVIII века российским правительством пока еще не
предусматривались административные учреждения, специально
предназначенные для управления Кабардой, Осетией, Чечней и Ингушетией. Вовлечение
в орбиту административного управления народов Центрального Кавказа
(так называемых «внешних инородцев», населяющих территорию,
лежавшую за Кавказской линией, и оказавшихся поэтому вне географических
границ наместничества) связывалось на первых порах с тем, что горцы
сами «найдут собственную свою выгоду в причислении под управление,
установленное Россией».42 С целью приобщения горских народов к
российскому управлению предполагалось возможное их участие в выборе судей
«согласно званию их и состоянию».43 В этом смысле представляется
интересным предписание П. С. Потемкина наместническому правлению. «А
как сия губерния, - указывал наместник, - имеет всяких жителей
подданных е. и. в.: кабардинцы, татары на Кубани живущие, кумыки по поморью
Каспийскому и под горами живущие, ингушевцы при крепости Кавказе
(Владикавказе) находящиеся и знатная часть осетин, Кавказские горы
занимающих, кои хотя еще не состоят по всем отношениям нового
управления, но подданные российскому императорскому престолу, суть надлежит
наместническому правлению предложить во все нижние суда, дабы сим
народам нигде и ни под каким видом ни мало притеснения не было, на про-
тиву, стараться всякое дело, всякую просьбу их решить в самой скорости,
дабы судом без волокитным и познанием пользы установленных судами
приучат и восчувствовать ту... всех и каждого в безопасном состоянии
пребыванием и всякого законного стяжания от учрежденных законов».44
Царское правительство понимало, что административное подчинение
северокавказских народов пройдет более безболезненно и сведет к
минимуму вооруженные конфликты при создании условий для постоянного
контакта между горским населением и администрацией Кавказской
губернии и при появлении личной их заинтересованности в этом контакте. Для
этого администрации наместничества предписывалось «употреблять все...
способы к приласканию тамошних народов, отдаляя от них притеснения
и все, что может им неприятно быть в образе умствования и понятия о
вещах».45 Особенно важным было поощрение и предоставление полной
свободы в торговле местному населению на Кавказской линии и в городах
Кавказского наместничества46, оказание помощи горцам, переселявшимся
на равнину в случае вооруженного нападения соседей.47
Полезным признавалось правительством строительство «в близости
подгорных народов»48 городов. Они должны были способствовать раз-
88
витию экономических отношений и, главное, «обуздать своевольных»
и «сохранить в них порядок», расширить и укрепить южную границу.49
Постройка новых крепостей южнее Кавказской линии стала особенно
важной после заключения России с Грузией Георгиевского трактата, в котором
Россия брала на себя обязательство военного покровительства над Грузией.
Возникла необходимость в коммуникации, обеспечивавшей постоянную
связь России (в частности Кавказской линии) с Грузией. С целью
решения поставленной задачи правительство приступило к строительству
дороги по Дарьяльскому ущелью (Военно-Грузинской дороги) и к постройке
крепости у входа в это ущелье, которая должна была служить
перевалочным пунктом и обеспечить безопасное продвижение по дороге. Об этом же
просили и осетинские старшины, намеревавшиеся переселиться из горной
местности на указанную территорию и нуждавшиеся в защите царского
правительства от ингушей и кабардинцев.50 В 1784 году здесь была
основана крепость Владикавказ. Ее название символизировало как
военно-стратегическое назначение крепости, так и ту внешнеполитическую формулу,
которой теперь руководствовалась Россия на Кавказе.
Однако крепости и укрепления, возводившиеся вблизи земель,
населенных местными жителями Северного Кавказа, несли на себе нагрузку
не только военно-стратегического характера. Они, как отмечалось ранее,
обладали также административными функциями. Первыми
административными центрами на Северном Кавказе для горского населения стали
Кизляр, Моздок, а немного позже и Владикавказ. В 80-е годы XVIII века
существовала уже довольно четкая зависимость народов Центрального
Кавказа от определенного коменданта крепости. Так, в поле зрения киз-
лярского коменданта находились чеченцы, в ведомстве моздокского
коменданта - осетины, населявшие земли недалеко от Моздока, и
кабардинцы; владикавказский комендант занимался делами осетин и ингушей,
переселявшихся на Владикавказскую равнину, и, в некоторой степени,
осетин, живших в горах. Как видим, в основу такого разделения был
положен территориальный принцип, вероятно, он не являлся
следствием какого-то законодательного акта, а произошел скорее стихийно. На
принадлежность того или иного народа к определенному ведомству
указывают прошения, адресованные коменданту близлежащей крепости. В
качестве иллюстрации приведем письмо чеченского старшины Алихана
Нурмаматова к Кизлярскому коменданту А. М. Куроедову, датированное
1783 годом. В нем автор обращался с просьбой к царским властям при-
89
слать своего представителя для размежевания земли и разрешения
земельного конфликта, возникшего между ним и Кайтукой Баковым,
основавшим новый аул на реке Сунже.51
В обязанности комендантов входил также сбор информации,
касавшейся горских народов. В своих действиях кордонные начальники,
«имевшие надзирание за ближайшими народами», руководствовались
указаниями командующего на Кавказской линии.52
В 1793 году, одновременно с учреждением в Кабарде родовых судов
и расправ, в Моздоке открылся Верхний пограничный суд. Первоначально
местонахождением пограничного суда предполагалось сделать губернский
город Екатериноград53, однако функции, которые должен был нести этот
суд, требовали как можно более близкого расположения к местности,
населенной кабардинцами. Одной из причин того, что Верхний
пограничный суд стал моздокским, явилось также большое количество нерусского
населения в Моздоке, нуждавшегося в судебных органах. Хотя Верхний
пограничный суд предназначался, главным образом, для решения
уголовных преступлений, совершенных кабардинцами, здесь разбирались дела,
относящиеся к нерусским жителям Моздока и его окрестностей.54 Сюда
поступали уголовные дела, касавшиеся измены, убийства, разбоя, грабежа,
воровства с вооруженным нападением, явного ослушания начальства. В
Верхний пограничный суд, обладавший верховной властью над
кабардинскими родовыми судами и расправами и являвшийся для них высшей
инстанцией, направлялись апелляции на решение родовых судов и расправ по
гражданским искам.55 Уголовные преступления должны были
разбираться «по высочайшим законам В. И. В. и с мнением суда», представлялись
генерал-губернатору; «гражданские же дела, - говорится в положении о
Верхнем пограничном суде, - рассматривать... по кабардинским
обыкновениям».56
В состав суда входили шесть владельцев и шесть узденей от Большой и
Малой Кабарды, два представителя от армян и грузин, живших в Моздоке, и
один представитель от татарских мурз. Царскую администрацию
представляли моздокский комендант (он же председатель суда), пристав в Кабарде и
полковой штаб-офицер, а также канцелярские служащие. Ей принадлежал
в моздокском суде «решающий голос».
Для того, чтобы полнее представить состав суда, приведем «Примерное
положение штата», утвержденное указом 5 сентября 1799 года и
раскрывающее особенности его состава:
90
Таблица 1
«Комендант моздокский, полковник Таганов; 300 руб.
Из воинских членов подполковник Ураков,
находящийся приставом при Кабарде;
сверх жалованья по чину
Другой штаб - офицер от полков или комиссариат,
жалованье из гарнизона; департамента
От Большой Кабарды:
родов владельцы: Мисоста Атажукина, Бекмурзина и
Кайтукина по одному владельцу от каждого рода по
выбору их самих; 4 человека
Из узденей первой степени по родам 4 человека
владельцев от четырех родов по одному
От Малой Кабарды:
от двух родов Таусултанова и Гелесланова 2 человека
по одному владельцу от каждого рода;
По родам владельцев от узденей 2 человека по одному
Из армян и грузин, поселившихся в Моздоке, 2 человека
Из мурз татарских, живущих около Бешметовых гор...
и имеющих хозяйство, и по смежности их с
кабардинцами частые с ними дела
Секретарь, протоколист, регистратор, архивариус,
переводчик, мулла для письменных дел»57
200 руб.
по 250 руб.
по 150 руб.
250 руб.
150 руб.
по 80 руб.
1 человек 150 руб.
150 руб.
Все заседавшие в Верхнем пограничном суде, исключая российских
штаб-офицеров, в соответствии с установленными правилами
переизбирались родами, членами которых они являлись, через каждые три года.
По имевшимся уголовным делам суд вел переписку с кавказским
наместническим правлением и палатами на основании §429 и §430 Учреждения о
губерниях.
В 1796 году наместничества в России были упразднены. Согласно
указу «О новом разделении государства на губернии», изданному 12 декабря
1796 года, Кавказское наместничество переименовывалось в Астраханскую
91
губернию.58 Вскоре указом 26 февраля 1797 года «для отправления дел,
касающихся до азиатских народов..., в подданстве российском состоящих»,
в Коллегии иностранных дел был открыт департамент, что означало, по
мнению авторов «Истории Министерства иностранных дел», более
определенное сосредоточение дел в «особой экспедиции».59
В 1800 году Государственная коллегия иностранных дел приняла
решение передать кавказские народы, населявшие Астраханскую губернию, и
«залинейных жителей», с 1796 года находившихся под управлением
астраханских генерал-губернаторов, «а ныне управляющихся командующим
Кавказской линией и военным губернатором Астрахани К. Ф. Кноррингом»,
из ведомства командующего линией в подчинение специально
назначенного главного пристава.60 На эту должность Коллегия иностранных дел
назначила коллежского советника Макарова. Как отмечал А. Лилов, целью
учреждения главного приставства являлось облегчить командующему на
Кавказе «бремя управления и сосредоточить его внимание, главным
образом, на делах военных и на соблюдении тишины по кордону».61
Главный пристав для коренных жителей Северного Кавказа был
представителем гражданской власти. Он выступал посредником между
народами Северного Кавказа и администрацией Астраханской губернии и
должен был представлять ходатайства «о решении дел калмык, трухмен-
цев, кабардинцев и прочих других народов»62 в административные
учреждения губернии. Ему вверялся скорее прокурорский надзор за ходом дел,
чем какая-нибудь исполнительная власть.63 Согласно инструкции, данной
Макарову Коллегией, в его обязанности входила регуляция отношений
между горскими народами и «россиянами» и разбор наиболее спорных и
крупных конфликтов, возникавших между ними. В таких случаях главному
приставу предписывалось вершить суд на основании законов Российской
империи, однако исполнение своего решения он должен был требовать от
владельцев или старшин виновного. В случае же, если виновным
оказывался русский, главному приставу следовало обращаться с просьбой об
исполнении приговора к российскому начальству.64 Мелкие ссоры, часто
вспыхивавшие между горцами и русскими в городах Астраханской
губернии во время заключения торговых сделок и т. п., могли разбираться
городовыми командирами, а в Астрахани Азиатским судом и Калмыцкой
канцелярией. Уголовные преступления должны были передаваться главным
приставом на рассмотрение астраханскому военному или гражданскому
губернаторам и отсылались последними в ближайшие суды Астраханской
губернии. Дела, касавшиеся раздела имущества, наследования, долгов и
92
т.п., с которыми горские народы могли обращаться к главному приставу,
по инструкции разбирались на основании «заведенных у данного народа
правил».65 В соответствии с инструкцией, главному приставу Макарову
предписывалось также оказывать всем состоявшим в его ведомстве
народам покровительство и защиту, наблюдать, чтобы народы эти пользовались
«беспрепятственно рыбной ловлей..., пашенными угодьями..., торговым
промыслом», «не возбранять приезд в Петербург старшинам народов и
доносить о том в Коллегию иностранных дел».66
В подчинение главного пристава переходили все частные
приставы, а именно - состоявшие при народах, кочевавших по губернии, и
кабардинский пристав. До учреждения должности главного пристава
приставы находились в непосредственной зависимости от командующего
Кавказской линией, он же назначал приставов и подавал представление в
Правительствующий Сенат об утверждении чиновника в эту должность.
Теперь, с 1800 года, Макаров получал право самостоятельно «отыскивать»
приставов и утверждать их через Государственную коллегию иностранных
дел, в непосредственной зависимости от которой находился и он сам.
Кроме того, в своем «Наставлении» Коллегия предлагала Макарову
обратить особое внимание на управление горскими народами и, если, по
его мнению, существовала необходимость «что-либо установить или
учредить между ними»67, составить подробное описание этих народов и
имевшегося управления ими и вместе с собственными предложениями подать
в Коллегию иностранных дел. С командующим на Кавказской линии
главный пристав сносился лишь в случае необходимости принятия военных
мер, направленных против горских народов68.
Таким образом, на Северном Кавказе для управления местными
народами устанавливался особый институт приставства во главе с главным
приставом. Он, как уже отмечалось, являлся своего рода связующим звеном
между военной и гражданской администрацией Астраханской губернии, с
одной стороны, и кавказскими народами - с другой, и находился в прямой
зависимости от Государственной коллегии иностранных дел. Подчинение
Коллегии объяснялось, по-видимому, тем, что среди многочисленных
вопросов, связанных с делами северокавказских народов, были и
политические, относящиеся к внешнеполитической деятельности правительства
России на Кавказе. Коллегия иностранных дел, очевидно, не надеялась на
компетентность военных властей на Кавказе в решении сложных
политических вопросов, которые то и дело возникали в конце XVIII века, и в
самом начале XIX века.
93
Однако подобное развитие административной организации
Астраханской губернии вызвало бурную реакцию со стороны губернской
администрации и в первую очередь командующего Кавказской линией
Карла Федоровича Кнорринга. В высшие правительственные
учреждения последовали рапорты и отношения, адресованные на имя императора
Александра I, Министра финансов графа Васильева и Д. П. Трощинского, в
которых К.Ф. Кнорринг, пытаясь убедить правительство в
нецелесообразности внесения изменений в управление кавказскими народами,
утверждал, что «они привыкли уже знать свое начальство в особе командующего
Кавказской линией».69
Существовали и более серьезные причины, заставлявшие
усомниться в перспективности нововведения. С учреждением должности главного
пристава и передачей в его ведомство местных народов фактически
возникала двойная их подчиненность главному приставу и командующему. В
особенности это касалось народов, пограничных с Кавказской линией, в
частности, кабардинцев. С одной стороны, кабардинцы через своего
пристава подчинялись главному приставу, с другой - необходимость каждое
лето перегонять скот внутрь Кавказской линии заставляла обращаться за
разрешением к командующему линией и ставила их в определенную
зависимость от К. Ф. Кнорринга. Кроме того, командующий регулировал и
делал назначения на получение горцами соли из озер Астраханской
губернии. Он же выплачивал из суммы, которая отпускалась ему министерством
финансов, жалование части горских владельцев, имевших российские
воинские чины.
Что касается других горских народов Центрального Кавказа,
находившихся под надзором комендантов крепостей, то они
практически оставались под началом командующего, поскольку коменданты
были в непосредственной от него зависимости. В то же время
инструкция не исключала «соседственных Астраханской губернии горских
обитателей»70 из ведомства главного пристава.
Установление административного института, выполнявшего функцию
посредника между горцами и царской администрацией, безусловно,
ограничивало ее в действиях и сужало права военной администрации в лице
командующего. Вместе с этим увеличивалась бумажная волокита. Раньше,
до 1800 года, приставы сносились по делам северокавказских народов
прямо с командующим на линии, минуя другие инстанции, и от него получали
предписания о дальнейших действиях. Под контролем командующего
находились суды и расправы в Кабарде и моздокский Верхний пограничный
94
суд. Теперь, с передачей всех частных приставов под наблюдение
главного пристава, не имевшего полномочий самостоятельно принимать
решения и по многим вопросам обращавшегося в Коллегию иностранных дел,
окончательное решение дел затягивалось. Особенно болезненно
сложившаяся ситуация должна была отразиться на судах и расправах в Кабарде и
Верхнем пограничном суде в Моздоке, поскольку они через кабардинского
пристава оказывались в ведомстве Коллегии. Кроме того, заметно
увеличивались финансовые расходы. По штатному расписанию Астраханской
губернии расходы на частных приставов, в том числе и кабардинского, не
превышали 2.720 руб. в год. Оклад же, определенный только одному
главному приставу, составлял 5.900 руб.71
Несмотря на серьезные «неудобства», возникшие в управлении
местными жителями, а также усилия генерала К. Ф. Кнорринга, должность
главного пристава не была упразднена. Однако из его ведомства были изъяты
«залинейные народы». В документах, начиная с 1803 года, коллежский
советник Макаров именовался уже не «главным приставом при кочующих в
Астраханской губернии народах, кабардинцах и прочих других народах»72,
а «главным приставом при кочующих в Астраханской губерний народах».
В успешном осуществлении политики России на Кавказе огромную
роль играло сосредоточение всей полноты власти в одних руках. Особенно
важное значение местная централизация власти приобретала с
присоединением Грузии к России в 1801 году.
Присоединение Грузии и расширение тем самым территории на
Кавказе, принадлежавшей России, ставило перед царизмом вопрос не
только об административном устройстве Грузии, но и о реконструкции
управленческого аппарата на Кавказе вообще.
Составление проекта поручалось Комитету, в свое время
учрежденному для наблюдения за развитием торговли на Каспийском море и
общим положением на Кавказе.73 В него входили граф Валериан Зубов, граф
Николай Румянцев, Николай Мордвинов и граф В. Кочубей. Вскоре
императору Александру I был представлен доклад, получивший резолюцию «быть
сему».74 Основные положения доклада членов комитета нашли свое
отражение в указе Правительствующего Сената, опубликованном в 1802 году.75
Согласно указу, гражданское и военное управление краем
сосредоточивалось в руках одного лица, получившего теперь звание начальника
Астраханской и Кавказской губерний, инспектора Кавказской линии и
главноуправляющего в Грузии. В проекте указа говорилось: «Никакому
сомнению подвержено быть не может, что главное начальство над сими областя-
95
ми (Кавказской и Астраханской губернией - 3. Б.) и Грузией должно быть
поручено одной доверенной особе, снабженной весьма пространственной
властью, и которой бы к свободному действованию и во отвращение, чтобы
между испрашиванием на все разрешения не терялось иногда безвозвратно
время».76
Указом предусматривалось разделение бывшей Астраханской
губернии на две губернии - Астраханскую и Кавказскую. Астраханская
губерния при этом включала в себя Астраханский, Енотаевский, Красноярский
и Черноярский уезды; Кавказская - Кизлярский, Моздокский,
Александровский, Ставропольский и Георгиевский уезды.77 Предлагая
такое разделение, Комитет ссылался на «обширное пространство губернии и
связанные с этим неудобства в управлении. Кроме того, упадок торговли в
Астрахани - российском торговом центре на Каспийском море, требовал
пристального внимания и постоянного присутствия здесь начальника
губернии. Для управления всей Астраханской губернией в Астрахань
определялся губернатор, обладавший полнотою гражданской власти и
сносившийся «по гражданским и текущим делам» с Правительствующим Сенатом и с
императором.78 О вопросах военно-политического характера астраханский
губернатор обязывался доносить главноуправляющему
(главнокомандующему) Грузии.
В Кавказскую губернию также назначался гражданский губернатор. В
отсутствие главноуправляющего в губернии он, как и астраханский
губернатор, имел право обращаться в Правительствующий Сенат или в
министерства. Однако оба губернатора - и астраханский и кавказский - должны
были сообщать главноуправляющему о содержании бумаг, отправляемых в
высшие правительственные учреждения.
Заметим попутно, что административное устройство в Грузии
развивалось несколько иначе. Здесь правительство России учитывало наличие в
Грузии (до ее присоединения к России) государственного механизма,
оставившего в грузинском обществе свои устойчивые традиции. В какой-то
мере это обстоятельство принималось во внимание при составлении указа
об управлении Кавказским краем. В соответствии с указом, для управления
Грузией назначался правитель Грузии. На время своего отсутствия
главнокомандующий снабжал правителя инструкцией, предписывавшей ему
дальнейшие его действия.79
Известная самостоятельность в принятии решений губернаторами и
отчасти правителем Грузии в отсутствие главнокомандующего объяснялась
трудностями в сообщении между Грузией и Кавказской линией. Положение
96
особенно осложнялось зимой, когда сообщение через Военно-Грузинскую
дорогу прекращалось вовсе.
Постоянным местом пребывания главнокомандующего считался
Георгиевск, ставший после образования Кавказской губернии губернским
городом. Однако его присутствие предусматривалось в том из трех
управлений, ему подчиненных, где в данный момент возникала в этом
необходимость.
Система управления Кавказским краем и Астраханской губернией,
учрежденная указом 1802 года, укладывалась в следующую схему:
Особое внимание в докладе, представленном Александру I Комитетом,
уделялось политике, проводившейся кавказской администрацией в
отношении горских народов.
С присоединением Грузии возросло военно-стратегическое значение
территорий, занимаемых осетинами, ингушами, чеченцами и
кабардинцами, поскольку через их земли пролегал путь, связывавший Кавказскую
линию и Россию с Грузией. На данном этапе, когда к России только что была
присоединена Грузия и возникла реальная возможность скорого
присоединения всего Закавказья, царское правительство старалось не обострять
отношений с горскими народами и не предпринимать активных действий,
способных вызвать недовольство.
Главнокомандующему поручалось непосредственно самому
наблюдать за горскими народами.80 С целью предоставления
главнокомандующему широких полномочий в управлении Кавказом в его подчинение
переходили главный пристав и частные приставы, одновременно зависевшие от
Коллегии иностранных дел.
97
В рескрипте Александра I от 26 сентября 1802 года князю Павлу
Дмитриевичу Цицианову, сменившему К.Ф. Кнорринга и
занявшему 8 сентября 1802 года пост инспектора Кавказской линии, начальника
Астраханской и Кавказской губерний и главноуправлящего Грузией,
помимо указаний относительно действий в Грузии, коротко сообщалась
программа правительства в отношении народов Кавказа. В ней
северокавказские народы традиционно делились на два разряда: первые, живущие
внутри Кавказской линии, и «совершенно подданные России» (ногайцы,
калмыки, трухменцы). В управлении этими народами, по мнению
правительства, «нетрудно преуспеть, если порядочное устройство в отводе для
кочевьев земель существовать будет».81
Ко второму разряду относились кабардинцы, осетины, чеченцы и
ингуши, «в горах обитающие и независимые или в наружности
подвластными почитающиеся»82. Говоря о горских народах, царское правительство
считало «лучшей и коренной политикой ... отвращать между ними всякое
единомыслие».83 Что касается управления ими, то П. Д. Цицианову
предписывалось «не вмешиваться во внутренние их дела». Главная цель на
данном этапе сводилась к пресечению действий местных жителей, в той или
иной степени задевавших интересы России.
Недовольство кабардинцев российской административной политикой
ставило под сомнение рентабельность моздокского Верхнего пограничного
суда и родовых судов и расправ в Кабарде. Эти первые
административные институты, предназначенные для управления горским населением и
обладавшие поэтому определенной спецификой, являлись в какой-то мере
экспериментальными. Такой подход к ним заставлял правительство искать
новые методы управления, наиболее приемлемые в условиях Кавказа.
В связи с этим князю П. Д. Цицианову поручалось установить
причины волнений в Кабарде и в случае необходимости внести коррективы в
управление.84
В 1805 году им был представлен проект, в котором предлагались
некоторые изменения в системе управления кабардинцами. Ценность этого
проекта как исторического источника состоит, однако, прежде всего в том,
что в нем излагались основные направления политики кавказской
администрации, проводимой в отношении всех местных народов, подлежавших
дальнейшему и полному административному подчинению.
В основе системы, предложенной главноуправляющим, лежал принцип
постепенности. По его мнению, «перемены нравов и обычаев азиатских»
можно было «ожидать с переменою целых и нескольких поколений».85
Идея «перемены нравов», выдвинутая П. Д. Цициановым, заключалась,
98
во-первых, в «перемене воспитания горцев, во-вторых, в введении среди
жителей роскоши и, в-третьих, в сближении с российскими нравами».86
Немаловажным условием признавалось также покровительство
российскими властями (хотя бы «наружное») мусульманской вере и
распространение среди населения Кавказа христианства. По мысли П. Д. Цицианова,
в управлении кавказскими народами следовало руководствоваться их
обычаями и традициями. Иначе, считал он, несоответствие юридических
норм, привычных для горцев и российского законодательства, могло
парализовать деятельность административных учреждений, в частности
судов, действовавших в соответствии с законами Российской империи.
П. Д. Цицианов предписывал начальникам на Кавказской линии оставлять
горских владетелей «в прежнем их отношении к подданным»,
предоставлять им возможность производить суд и управление по обычаям страны.87
Но в то же время владельцы и старшины должны были находиться в поле
зрения начальников российских гарнизонов. Чаще всего это были
гарнизоны, расположенные поблизости населенных пунктов под предлогом
защиты их территории от соседей.
Благодаря такой системе управления, кавказская администрация
решала сразу несколько стоявших перед ней задач: во-первых, внешне она
делала вид, что не вмешивается во внутренние дела кавказских народов и тем
самым сводила к минимуму их выступления против России; во-вторых,
частично устранялись неудобства управления местными народами,
связанные с обоюдным незнанием языка; в-третьих, отпадала необходимость
увеличения штата чиновников, в которых администрация на Кавказе
постоянно испытывала недостаток и, наконец, в-четвертых, царское правительство
избавлялось от больших финансовых затрат, неизбежных при введении на
всем Северном Кавказе российских учреждений.
В продолжение последующих десяти лет (до назначения на
Кавказ А. П. Ермолова) царское правительство не предпринимало
сколько-нибудь серьезных мер, направленных на изменение сложившейся
административной системы. Дело в том, что продолжавшаяся
русско-иранская война (1804-1813 гг.) и начавшаяся в 1806 году русско-турецкая
война (1806-1812 гг.) отрицательно влияли на политическую обстановку на
Северном Кавказе. Положение особенно обострялось происками Турции,
призывавшей местных феодалов к выступлению против России. Как
писал В. Потто, «многочисленные эмиссары турецкого правительства,
снабженные султанскими фирманами..., щедро одаривали деньгами и
снабжали влиятельных лиц, подстрекая горцев к поголовному восстанию против
99
нас».88 Такой же тактики - тактики воздействия на горцев с помощью
своих агентов, снабженных фирманами, деньгами, придерживалось и шахское
правительство, провоцировавшее северокавказские народы к восстанию
против России.89
Призывы иностранных правительств к войне не всегда находили
отклик и поддержку со стороны населения Центрального Кавказа. Однако
здесь нарастало повстанческое движение, вызванное злоупотреблениями
кавказской администрации. Причинами выступлений горцев, в частности,
являлось строительство на кабардинских пастбищных землях нового
военного укрепления-Кисловодского, а также восстановление Владикавказской
крепости, сооружение Военно-Грузинской дороги и использование на этих
объектах горского населения. К этому следует добавить, что царские
администраторы вольготно чувствовали себя на Кавказе. В этом отношении
характерно признание самого Александра I, отмечавшего, что «если
свойственно горским народам покушаться на всякие хищничества, то, с другой
стороны, по сведениям, довольно достоверным, нельзя оправдать, кажется,
и поступков с ними разных чиновников или жителей наших, позволяющих
себе нередко отгонять их скот и делать им и другие притеснения,
отвлекающие их от нас и истребляющие всякую верность».90
Все эти обстоятельства: войны России с Ираном и Турцией, рост
недовольства населения Центрального Кавказа политикой царизма и
распространение на всем Северном Кавказе опасных эпидемических заболеваний
(в начале XIX века здесь свирепствовала чума), - создавали весьма
тяжелую обстановку для широкой административной деятельности и
вынуждали правительство придерживаться политики невмешательства во
внутреннюю жизнь горцев.
В начале XIX века система управления Северным Кавказом была
далека от совершенства. Как в грубо сработанной машине, в ее громоздком
военно-административном аппарате не была отлажена работа отдельных
звеньев: не были распределены обязанности средних и низовых
управленческих органов, а, главное, неясными оставались функции гражданской
администрации и прерогативы военных властей. В действиях военных и
гражданских властей существовала несогласованность, нередко
приводившая к конфликтным ситуациям.91 В этом смысле весьма характерными
оказались отношения, сложившиеся между командующим Кавказской
линией генералом от инфантерии Булгаковым и губернатором Кавказской
губернии Малинским. Эти два представителя российской администрации на
Кавказе - один, олицетворявший военную власть, другой - гражданскую,
100
не удосуживались даже снабжать друг друга необходимой информацией о
положении дел на местах и о принимаемых каждым из них
административных и политических шагах. На этой почве, как отмечал И. О. Дебу,
«завелась между обоими управлениями колкая и неприязненная переписка,
которая немало послужила к продолжению... разорения Кавказского края».92
Конфликт между командующим и кавказским гражданским губернатором
развивался не только из-за нежелания согласовывать свои действия. Он
носил более серьезный характер и был связан с перспективой развития
военной и гражданской администраций. Губернатор Малинский пытался
распространить влияние гражданских властей и на народы Центрального
Кавказа93, которые находились в преимущественном управлении кавказской
военной администрации. Со своей стороны Булгаков предпринимал
усилия, направленные как на сохранение полноты своих полномочий, так и на
их расширение. Отношения между двумя администраторами обострились
настолько, что «доклады и доносы от одного лица на другое, поступавшие
в министерство, требовали решений, от которых еще более увеличивалось
несогласие и укреплялась вражда между сими чиновниками».94 После
очередного конфликта, происшедшего между генералом Булгаковым и
губернатором Малинским из-за того, что последний своей властью разрешил
жителям Кизляра торговые и другие сношения с народами Центрального
Кавказа, среди которых господствовала эпидемия чумы, в дела кавказских
администраторов вмешалось царское правительство. По просьбе
военного министра правительство для расследования неурядиц между двумя
административными учреждениями и их руководителями направило на
Северный Кавказ, в Георгиевск, генерал-майора Вердеревского.95 И. Дебу
полагал, что Вердеревский был предвзят в оценке действий Булгакова и
подверг его «колким насмешкам..., последствием коей было удаление его
от командования и скорая кончина».96 Однако документы свидетельствуют
о несколько иной позиции Вердеревского.97 На заседании Комитета
министров, на котором обсуждался доклад Вердеревского о
взаимоотношениях военных и административных властей на Кавказе, было отмечено, что
«генерал-майор Вердеревский полагает нужным подчинить гражданскую
власть военному начальнику на Кавказской линии командующему,
объясняя, что безопасность Кавказской губернии совершенно зависит от
бдительного надзора кордонной стражи в военном начальстве состоящей».98
Кроме того, усиление роли военных властей Вердеревский связывал со
сложной военно-политической обстановкой, сложившейся на Кавказе. По-
видимому, его доводы были достаточно аргументированными. Во всяком
101
случае, Комитет министров, обсуждавший этот вопрос, пришел к выводу,
«что удобнее было бы поручить Кавказскую и Астраханскую губернии
военному начальству, которым в военное время зависеть бы по военной только
части от главнокомандующего в том краю армией».99 Комитет также
постановил снять Кавказскую губернию из ведомства Министерства внутренних
дел и подчинить полностью главноуправляющему в Грузии.100 Решение это
было принято в конце 1810 года, и кавказская администрация пыталась его
реализовать. Однако, как и раньше, функции гражданской и военной
администраций не были определены. Поэтому кавказские власти
неоднократно обращались к правительству с просьбой преобразовать на Кавказе весь
управленческий аппарат. Так, в 1814 году кавказский губернатор сетовал:
«Здесь в некоторых местах власть полиции перемешана с зависимостью от
военного начальства, как, например, в Моздоке нет городничего, а
управляет комендант, гражданскому начальству не подчиненный».101
Серьезные перемены после ревизии Кавказской губернии,
проведенной Вердеревским, произошли в положении чиновников. С этого
времени, по свидетельству И. В. Бентковского, канцелярские служащие, статские
чиновники могли быть зачислены на военную службу и продолжать
выполнять свои обычные обязанности.102 Примечательно, что «все до одного»
канцелярские служащие пожелали служить в армии, поскольку это
улучшало их материальное положение.103 Готовность быть на военной службе
и исполнять обязанности гражданского чиновника губернатор Малинский
объяснял следующими обстоятельствами: «а) вредный для приезжих
климат, доказательством чему были три комплекта умерших здесь губернских
чиновников в течение десяти лет существования сей губернии; все до
одного из бывших здесь губернаторами моих предшественников здесь померли;
б) недостаток порядочных домов для жизни...; в) по отдаленности края
все привозимое продается дороже, а жалованье производится менее».104
Царское правительство, безусловно, знавшее об особо тяжелых условиях
чиновничьей службы на Кавказе, использовало их для того, чтобы придать
гражданской администрации военно-бюрократический характер. Такая
политика правительства в отношении устройства Кавказской губернии
превращала фактически ее административную систему в военно-полицейское
управление. И. В. Бентковский писал, что «положение губернии в
двадцатилетний период до преобразования ее в область было... военное».105
После окончания русско-турецкой и русско-иранской войн, а также
завершения ведения военных действий в Западной Европе Россия
активизировала свою политику на Кавказе. Именно с этим многие дореволюци-
102
онные авторы связывали назначение в 1816 году на пост
главноуправляющего Алексея Петровича Ермолова.106 В отличие от своего
предшественника Н. Ф. Ртищева, которого в правительственных кругах рассматривали
как человека нерешительного, А. П. Ермолов иначе оценивал обязанности
управляющего Грузией, Астраханской и Кавказской губерниями и
командующего армией на Кавказе. Он верно уловил ту идею - идею
концентрации власти в одних руках и местной централизации управления на Кавказе,
которую преследовало правительство, учреждая звание
главноуправляющего.
В «Записке» к Александру I А. П. Ермолов, анализируя
инструкции, данные в 1801 году генералу Ф.К. Кноррингу и в 1802 году князю
П. Д. Цицианову, писал: «Итак, намерение В. И. В. ясно. Вы желали
соединить в лице главного начальника Астраханского, Кавказского и Грузинского
краем все единство власти столь необходимое по отдаленности той
страны».107 Однако А. П. Ермолов, ознакомившийся по прибытии на Кавказ с
существовавшей здесь системой управления, пришел к выводу, что «цель»,
поставленная в свое время российским правительством перед первыми
кавказскими главноуправляющими, с течением времени заметно
«отдалилась». В той же «Записке» к Александру I А. П. Ермолов указывал на
несоответствие прав главноуправляющего с его званием. Причину создавшейся
ситуации он видел, прежде всего, в их неопределенности. «Сообразив
права сии, - писал новый главноуправляющий, - я встретил в них неясность,
которая при самом начале остановит меня в свободном действии».108
А. П. Ермолов считал, что сложившийся на Кавказе
военно-административный механизм находился в слишком большой зависимости от
различных ведомств Петербурга. В связи с этим главноуправляющий
предлагал провести некоторую реорганизацию в субординации
правительственных учреждений Петербурга и кавказской администрации. Им был даже
составлен проект этой реорганизации, который предусматривал главным
образом расширение его собственных прав, а также изменения в системе
соподчинения кавказских институтов управления центральным
правительственным органам.
Прежде всего, А. П. Ермолов требовал для себя полную «свободу
действия». Ее он рассматривал как необходимое условие для осуществления
планов царизма на Кавказе. Согласно проекту, командование войсками
и управление Грузией, Астраханской и Кавказской губерниями должны
были перейти полностью в непосредственное управление А. П. Ермолова.
Все кавказские чиновники, независимо от занимаемой ими должности,
103
лишались возможности самостоятельно обращаться в центральные
государственные учреждения. «Поставить министерства, - писал в «Записке»
А. П. Ермолов, - в сношение по всем частям с единым только мною».109
Кроме того, в соответствии с предложенным проектом, Сенат и
министерства теряли право давать отставку, отпуск или отзывать от должности
представителей кавказской администрации, находившихся в их подчинении,
без согласия главноуправляющего. Все новые постановления и
законоположения, касавшиеся территорий, попадавших в сферу его
административной деятельности, А. П. Ермолов просил предварительно согласовывать с
ним. Он резко ограничивал круг лиц, компетентных контролировать его
действия. Это право главноуправляющий оставлял после монарха за
правительствующим Сенатом и министрами. Ревизия в Кавказском крае могла
производиться только с его разрешения. Ермолов ставил также вопрос о
предоставлении ему возможности заключать контракты на суммы более 10
тысяч рублей «на правах, которые присвоены в действующей армии
главнокомандующему» .110
Таким образом, проект А. П. Ермолова был направлен на
концентрацию власти в руках главноуправляющего и против централистских
тенденций, получивших (хотя и слабое) развитие в системе управления Кавказом.
Проект А. П. Ермолова об управлении Кавказом изучался членами
Комитета министров.
Несмотря на то, что главноуправляющий, добиваясь для себя особых
полномочий, объяснял это «деловыми соображениями», в Петербурге
отнеслись к его просьбе однозначно. Министр внутренних дел и
управляющий Министерством юстиции в отзыве на записку А. П. Ермолова прямо
подчеркивал, что «цели оной (записки - 3. Б.) есть единоличное
управление, то есть предполагается вверить в самостоятельное управление
три губернии одному лицу, не ограничивая его существующими
узаконениями».111 Министр внутренних дел допускал подобное управление для
Грузии, в которой до присоединения к России «цари и вельможи,
обличенные царской доверенностью, управляли землею» и где
«единоличному управлению никто не удивится».112 Однако такое управление он
исключал в отношении Кавказской и Астраханской губерний, поскольку жители
этих районов, — писал министр, — «давно уже видят зарю цивилизации».113
Наделение А. П. Ермолова особыми полномочиями и отсутствие контроля
за его действиями со стороны высших и центральных учреждений могли,
по мнению министра, резко снизить ответственность главноуправляющего
перед правительством.
104
20 июля 1816 года после обсуждения «Записки» А. П. Ермолова на
заседании Комитета министров был издан указ Александра I, состоявший из
преамбулы и трех пунктов. В его общей части указывалось, что каждый
вступающий в должность главноуправляющего на Кавказе обязан
руководствоваться «теми правилами», которые были установлены для его
предшественников. Царское правительство категорически запретило Ермолову
самостоятельно предпринимать какие-либо меры, направленные на
изменение административной системы, сложившейся к этому времени на Кавказе.
В случае необходимости осуществления здесь преобразований
главноуправляющему предлагалось сделать «представление о том, что нужно
переменить» в высшие органы власти и ожидать их решения.114
Отклонение проекта, выдвинутого А. П. Ермоловым, не означало, что
царское правительство рассматривало систему управления Кавказским
краем как окончательно оформившуюся и отказалось от дальнейшего ее
приспособления к местным условиям.
В 1818 году оно провело сенаторскую ревизию на Кавказе. Ее
руководители, сенаторы Б. А. Гермес и Д. Б. Мертваго, завершив свою
работу, пришли к выводу о том, что необходимо перестроить управление на
Кавказской линии. В записке, составленной сенаторами, подчеркивалась
целесообразность дальнейшего приспособления кавказской
администрации к политической обстановке, складывавшейся на Кавказе.115 «Настоящее
ее (Кавказской губернии - 3. Б.) устройство, - писали Б. А. Гермес и
Д. Б. Мертваго, - ее положению и роду населения не свойственно».116
В связи с этим А. П. Ермолову было поручено составить
«предположение об удобнейшем и местным обстоятельствам того края более
сообразном управлении».117
В августе 1821 года записка А. П. Ермолова о реорганизации
административного управления была представлена в Государственный Совет, а
затем по распоряжению императора передана в Сибирский комитет118,
который недавно завершил работу над новым «Учреждением для управления
Сибирью» и был знаком со спецификой управления национальными
окраинами России. На наш взгляд, представляет интерес состав Сибирского
комитета. В него входили М. М. Сперанский, барон Б. Б. Кампенгаузен, граф
А. А. Аракчеев, граф Д. А. Гурьев, граф В. П. Кочубей и князь А. Н. Голицын.
Взяв за основу записку А. П. Ермолова, Сибирский комитет разработал два
проекта «Учреждения для управления Кавказской областью».119 Первый из
них не изменял существенно систему управления Кавказом и лишь вносил
определенность в обязанности административных учреждений. Второй
105
проект был составлен членами комитета по аналогии с «Учреждением для
управления Сибирью», с учетом местных особенностей Кавказского края.
Оба проекта летом 1822 года были отосланы А. П. Ермолову в Тифлис для
того, чтобы, ознакомившись с ними, главноуправляющий мог внести в них
свои замечания.
В это же время, хотя окончательный вариант проекта «Учреждения»
еще не был завершен, Правительствующий Сенат нашел возможным
опубликовать указ, включавший в себя общие положения изменения
кавказской административной системы. По указу 24 июля 1822 года120 Кавказская
губерния переименовывалась в область. Причиной переименования
явилось не только небольшое число жителей в губернии, на которое
указывали сенаторы Б. А. Гермес и Д. Б. Мертваго. Переименование Кавказской
губернии в область свидетельствовало, прежде всего, о признании
специфики в управлении ею, о неприемлемости применения общего положения
к управлению Северным Кавказом и необходимости составления для него
специального положения.
Количество уездов по указу сокращалось до четырех: Александровский
уезд упразднялся, и населенные пункты, ранее в него входившие,
теперь присоединялись к соседним уездам. Областным городом назначался
Ставрополь, который, по мнению сенаторов Б. А. Гермеса и Д. Б. Мертваго,
осуществлявших ревизию в Кавказском крае, был «единственным местом,
на город похожим».121 Вместо «гражданского губернатора» учреждалась
должность «начальника области», на которую назначался командующий
войсками на Кавказской линии. Кроме того, военным властям подчинялись
градская и земская полиции в Моздоке и Кизляре; они передавались в
ведомство комендантов. Этим устранялась, с точки зрения правительства,
неопределенность в административно-управленческих функциях военных
и гражданских властей.122 Горские («залинейные») народы правительство
оставляло в военном управлении. Судопроизводство дел гражданского
характера у горцев по-прежнему должно было осуществляться в
соответствии с нормами обычного права, однако рекомендовалось, «где это будет
удобно», назначать для наблюдения за разбором гражданских дел
российского чиновника. Существенные изменения были предусмотрены
правительством в отношении производства уголовных преступлений,
совершенных горскими жителями. Теперь моздокский Верхний пограничный суд,
который раньше занимался разбором уголовных дел, упразднялся, и они
передавались в военный суд.123
106
Таким образом, особое значение царизм придавал развитию
кавказской администрации в сторону усиления военных властей. Это в
значительной степени было вызвано обострением международной
обстановки на Ближнем и Среднем Востоке в период Восточного кризиса 20-х гг.
XIX века.124 Утверждение нового положения об управлении Северным
Кавказом произошло в ходе русско-иранской войны 1826-1828 гг., уже
после отставки А. П. Ермолова, когда главноуправляющим Кавказом стал
Иван Федорович Паскевич.
В 1827 году Николай I утвердил «Учреждение для управления
Кавказской областью».125 В основу его лег второй проект, разработанный
Сибирским комитетом и имевший немало общего с «Учреждением для
управления Сибирью».
Подвергая преобразованию управленческий аппарат Кавказской
области, российское правительство, как и раньше, оставалось приверженцем
его централизации. При этом усиливалась как роль
главноуправляющего, так и руководящая и контролирующая функция самого правительства.
Кроме того, очевидной продолжала оставаться тенденция к усилению и
расширению полномочий военных властей.
Кавказская область учреждалась в пределах бывшей Кавказской
губернии и состояла с Грузией в одном главном управлении.
Управления в области делились на четыре ступени: главное
управление, областное управление, окружное управление и волостное управление.
Главное управление находилось в Тифлисе, поэтому в
административном отношении Северный Кавказ управлялся из Грузии. Во главе
главного управления стоял главноуправляющий в Грузии, подчинявшийся
Правительствующему Сенату126 и наделенный административными,
хозяйственными, финансовыми и судебными полномочиями. В его обязанности
входило общее руководство деятельностью всех управлений и их контроль.
Главноуправляющему, как главнокомандующему подчинялись также все
российские войска, расположенные на Кавказе.127
Областное управление Кавказской области учреждалось в Ставрополе.
Его возглавлял начальник Кавказской области, который, как уже
отмечалось, являлся одновременно командующим войсками Кавказской линии.
Начальник области наделялся прерогативами дивизионного командира.
Он подчинялся непосредственно главноуправляющему. Основная
обязанность начальника состояла в том, чтобы обеспечить «внешнюю
безопасность» Кавказской области. В его ведомстве находились дела, касавшиеся
благоустройства живших на линии казаков и представителей кавказских
107
народов и учреждение карантинов. Часть «залинейных» инородцев» («по
усмотрению главноуправляющего») были определены в его управление.128
В их числе оказались народы Центрального Кавказа: осетины,
кабардинцы, ингуши и чеченцы. В связи с этим командующий на линии получал
право назначать для управления кавказскими жителями «специальных
начальников».
Кавказская область подразделялась на округи: Ставропольский,
Георгиевский, Кизлярский и Моздокский. Во главе каждого округа
стоял окружной начальник - военный чиновник, являвшийся комендантом
окружного города и подчинявшийся командующему на Кавказской линии.
Он должен был контролировать соблюдение карантинов в окружном
городе, а также проезд через территорию округа воинских команд и выдавать
местному населению Северного Кавказа подорожные паспорта («билеты»).
В его ведомстве находились также дела соседних округу горских народов.
Окружному начальнику как коменданту подчинялись воинские команды и
казаки округа.129
Реформа 1822-1827 гг. внесла определенную ясность в систему
управления нерусскими народами Северного Кавказа. В «Учреждении для
управления Кавказской областью» административному устройству
«внешних» (залинейных) и внутренних инородцев» посвящена седьмая глава.130
Интерес для нас представляет второй отдел этой главы, в котором
содержится информация об управлении «внешними инородцами»:
кабардинцами, осетинами, ингушами и чеченцами.131 Они, как и раньше, полностью
состояли в ведении линейных воинских командиров. Роль высших
инстанций исполняли начальник области (командующий Кавказской линией) и
главноуправляющий (главнокомандующий). Областные и окружные
управления не были включены в административную структуру, созданную
правительством для горцев.
В «Учреждении» имелись общие положения, касавшиеся горской
системы судопроизводства. В нем подтверждалось право военного суда,
закрепленное еще в 1822 году указом Александра I, осуществлять
производство уголовных преступлений, совершенных северокавказскими народами.
Однако «Учреждение» запрещало администрации вмешиваться в разбор
гражданских дел; вмешательство допускалось лишь в том случае, если
тяжущиеся стороны обращались к российским властям - «линейному
начальству» - с просьбой о посредничестве. В нем предписывалось в «исковых
делах и других неудовольствиях» между «инородцами» предоставлять им
право «разбираться на основании древних обычаев».132 Дальнейшее рас-
108
смотрение дел такого рода в окружном или областном судах не
осуществлялось.
Сибирским комитетом были предусмотрены меры, направленные на
дальнейшее закрепление и развитие царской администрации среди
горского населения. В качестве основных мероприятий они предлагали,
во-первых, переселить всех желающих на внутреннюю сторону Кавказской
линии, в пределы области, и, во-вторых, постепенно усовершенствовать и
приспособить к местным условиям российские управленческие
институты. Переселение кавказских народов в Кавказскую область возлагалось
на главнокомандующего, он же должен был давать разрешение горцам на
переселение. Что касается адаптации аппарата управления горскими
народами к условиям Кавказа, то здесь авторы «Учреждения» предлагали, как
пробную меру, установить среди «залинейных» народов местные
полицейские органы; полиция, по мнению Сибирского комитета, могла состоять
из воинской стражи. Смысл этих мероприятий заключался в том, чтобы
Кавказская линия перестала играть роль границы между Кавказской
областью и территориями, занимаемыми горским населением, и приобрела
характер «временного учреждения».
Согласно высочайшему указу от 6 февраля 1827 года, данному
императором Сенату, «Учреждение для управления Кавказской области» должно
было пройти трехгодичное испытание «удобности оного с тем, чтобы по
окончании сего срока, были представлены Е. В. замечания, кои опыт
укажет, для нужных по оным исправления».133
Итак, период становления системы управления на Северном Кавказе
охватывает конец XVIII - первую треть XIX вв. Начав с установления
управленческого аппарата в Предкавказье, царское правительство
постепенно захватило в сферу своего административного влияния народы
Центрального Кавказа. При этом на первом этапе общее административное
устройство Северного Кавказа являлось формально таким же, как в
центральных губерниях России (наместничество, губерния); однако именно в
это время начинает формироваться система специфических
административных и судебных учреждений для управления горскими народами
(родовые суды и расправы, Верхний пограничный суд и др.).
После окончания русско-турецкой и русско-иранской войн и
завершения военных действий в Западной Европе Россия активизировала свою
политику на Кавказе. На третье десятилетие XIX века приходится
интенсивное административное освоение Северного Кавказа и оформление
существовавшего здесь аппарата управления. Особое значение для этого
109
имело составленное Сибирским комитетом и утвержденное в 1827 году
«Учреждение для управления Кавказской областью», в котором
излагались структура административной системы, полномочия установленных на
Северном Кавказе управленческих институтов, намечались направления
дальнейшего развития администрации у народов Центрального Кавказа.
Сложные внешнеполитические сношения России с Турцией и Ираном,
сохранявшиеся во втором и третьем десятилетиях XIX века, и военная
обстановка на Северном Кавказе определили основные тенденции в развитии
системы управления Северным Кавказом. С изданием «Учреждения»
военные власти были наделены также функциями гражданской
администрации. Таким способом были решены следующие задачи: во-первых,
исключались конфликты между военными и гражданскими властями, во-вторых,
неизмеримо расширялись полномочия военных властей, в-третьих,
усиливалась общая централизация управления Кавказом.
§2. ПРОЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
И ЗАКАВКАЗЬЯ. РЕФОРМА П. В. ГАНА
Завершение военных действий в Закавказье и заключение Россией
Туркманчайского (1828 г.) и Адрианопольского (1829 г.) мирных
договоров с Ираном и Турцией привели к юридическому закреплению за
Россией Эриванского и Нахичеванского ханств. Присоединение новых
территорий и стабилизация обстановки в Закавказье позволили
российскому правительству приступить к организации управления в недавно
приобретенных районах, а также к пересмотру всей системы управления
Кавказским краем.
Конец 20-х - начало 40-х годов XIX века - период активного
обсуждения путей дальнейшего административного развития Северного Кавказа
и Закавказья и смелых экспериментов российских реформаторов в этой
сфере.
В 1827 году А. П. Ермолова, занимавшего пост командира Отдельного
Кавказского Корпуса и главноуправляющего Кавказом, сменил Иван
Федорович Паскевич. В отличие от своего предшественника,
выступавшего за поэтапное введение российской администрации на Кавказе,
И. Ф. Паскевич считал целесообразным немедленное установление
российской системы управления без учета местных реалий. В правильности
избранного им курса он пытался убедить и императора134. Главноуправляющий
110
писал царю: «Чем больше я вхожу в познание сих народов, тем более
удостоверяюсь, что направление политики и отношений наших к ним были
ошибочны»135. «Надлежит, - продолжал он, - прежде всего, стараться
приблизить народ к общему духу россиян. Что же может распространить
решительное влияние на их характер как не правление!» 136
Необходимость административного устройства Кавказа осознавали
многие. В. А. Потто указывал на огромное количество разнообразных
проектов, которыми было завалено Военное министерство137. Одни, например,
предлагали действовать против горцев, продвигаясь не с равнины к горам,
а, напротив, с гор к плоскостям, строить в горах крепости и устанавливать
наблюдательные посты. Другие советовали покорять горцев не оружием, а
просвещением, торговлей, водворением среди них роскоши и даже
пьянства138. Были предложения учредить лицей или кадетский корпус, в
котором воспитывались бы черкесские юноши вместе с детьми черноморских
казаков. Некоторые шли еще дальше и предлагали «смягчить» нрав горцев,
приобщив их к «музыке посредством открытия музыкальных школ». Все
перечисленные проекты Военное министерство отправляло в Тифлис «на
рассмотрение». Там их читали и после короткого отрицательного ответа
сдавали в архив139.
В противоположность планам «культурного» покорения горцев проект
И. Ф. Паскевича основывался исключительно на силе оружия. На Северном
Кавказе введение нового военно-административного деления — Левый
фланг, Правый фланг, Центр и Владикавказское комендантское управление
- свидетельствовало о превращении этой части Кавказа в объект военных
действий140. По его мнению, гражданскому устройству должны были
предшествовать военные экспедиции, которые привели бы местное население к
покорности и сделали бы возможным дальнейшее административное
строительство. Главнокомандующий собирался воспользоваться пребыванием
на Кавказе двух дивизий, не отправленных на турецкий фронт, и
«произвести разом единовременное движение против всех горских племен»141.
Этим маневром И. Ф. Паскевич рассчитывал «быстро и без особого
труда» завладеть всеми важнейшими пунктами в горах, прочно утвердиться в
предгорьях и, таким образом, отняв «у неприятеля» возможность получать
провиант, вынудить его к покорности142. В сущности, это был план,
которого придерживался А. П. Ермолов в течение всего своего управления. По
меткому замечанию В. А. Потто, то, чего достиг А. П. Ермолов упорным
трудом, продвигаясь шаг за шагом, И. Ф. Паскевич собирался осуществить
одним стремительным натиском143.
111
В записке на имя Николая I фельдмаршал И. Ф. Паскевич предложил
два плана покорения горцев144. Первый состоял в том, чтобы «войдя
стремительно в горы, пройти оные во всех направлениях»145. Главнокомандующий,
однако, понимал, что такой «генеральный разгром» мог произвести
впечатление, но не дал бы серьезных результатов. Он считал, что горцы, не
имевшие, «ни богатых селений..., ни даже прочных жилищ», скорее всего
«будут оставлять одно место за другим, угоняя скот вместе с семействами
в отдаленные горные ущелья». «В такой войне, — писал И. Ф. Паскевич
императору, - гоняясь за бегущим и скрывающимся неприятелем, не может
быть большой потери убитыми и ранеными; но могут войска утомиться и,
не имея твердых пунктов соединения, ни коммуникаций верных, должны
будут возвратиться без успеха»146. Второй план заключался в том, чтобы,
войдя в горы, занять выгодные пункты, построить укрепления и установить
безопасные коммуникации. «Таким образом, - отмечал И. Ф. Паскевич,
- подаваясь вперед с осмотрительностью и покоряя одну область после
другой, завоевание горцев будет, хотя медленное, но вернее и
благонадежнее»147. Объединив оба эти плана, фельдмаршал рассчитывал
использовать их в зависимости от обстоятельств. В итоге, запланированные на
1830 год широкомасштабные действия окончились несколькими частными
экспедициями: генералы И.Н. Абхазов и П. Я. Ренненкамф были
направлены в Ингушетию, Северную и Южную Осетии, генерал К. Ф. Гессе - в
Абхазию, генерал-лейтенант барон Розен послан в Дагестан148. Дальнейшие
действия против горцев переносились на весну 1831 года. Но они так и не
состоялись. Причиной этому послужил не только отъезд И.Ф. Паскевича.
Взгляды главнокомандующего на ведение войны на Кавказе к этому
времени значительно изменились. Покидая Кавказ, он оставил своим
преемникам инструкции, в которых рекомендовал держаться преимущественно
пассивной обороны149.
Иной характер в этот же период носила политика И.Ф. Паскевича
в Закавказье. Заключенный 2 сентября 1829 г. Адрианопольский мир с
Турцией, закрепив за Россией Анапу, Поти, Гурию, Ахалцихский пашалык,
содействовал укреплению военно-стратегического положения в регионе
и стабилизировал границы закавказских владений. Наступившая полоса
мирного развития создавала условия для обращения к важной проблеме -
организации управления в Закавказье, включения в общую систему
управления Кавказом новых присоединенных к России территорий.
24 апреля 1830 г. И. Ф. Паскевич обратился с рапортом к царю о
положении дел на Кавказе,150 в котором предлагал повсеместно ввести общегу-
112
бернское учреждение и российское законодательство, создать единое
административное управление. Техническую разработку проекта будущего
устройства предполагалось осуществить при содействии
сенаторов-ревизоров Е. И. Мечникова и П. И. Кутайсова, прибывавших в регион. В
отчетах сенаторов П. И. Кутайсова и Е.И. Мечникова за 1830 год отмечалось:
«...полученные сведения ясно и убедительно открывают, что управление
Грузией изменялось при каждом почти главноуправляющем, смотря по
образу его мнения о делах или по характеру, более или менее
властолюбивому... Законы, на коих основываются здесь по всем делам решения, - суть:
российские, царя Вахтанга, армянские, греческие, а в мусульманских
провинциях велено следовать и поступать, как было при ханах. Сими законами
руководствуются не только в делах частных, но в делах, с казенным
интересом сопряженных... Все здесь изложенное прямо показывает, что едва ли
есть пример подобного хаоса и в самых неблагоустроенных государствах»151.
Сенаторы считали, что такое положение дел должно быть немедленно
исправлено путем учреждения такого же порядка, какой существует в России.
Средством достижения поставленной цели П. И. Кутайсов и Е. И. Мечников
считали заселение Кавказа русскими колонистами, раздачу имений в
собственность русским чиновникам и укрепление дворянского сословия152. Все
эти меры должны были привести к русификации края и
политико-административной привязке его к России. Вскоре, 11 мая 1830 г., доклад о
преобразовании системы управления Кавказским краем, составленный сенаторами,
Николаю I представил военный министр А. И. Чернышев. Идея
русификации нашла в его лице полную поддержку: «Через одно только установление
повсеместного единообразия и введение благодетельных российских
законов Закавказский край может слиться с общим составом империи не только
способом своего управления, но и чувствами приверженности..., чрез что
отвратятся все неудобства, беспорядки и произвольные действия, доселе
встречаемые в оном по гражданскому управлению»153. В основе поддержки
военным министром проекта лежала надежда на скорое решение военных
задач в Закавказье и, как следствие, объединение всего Кавказа в единое
управление. В политическом отношении реформа, по его мнению,
способствовала бы «успешному надзору» властей над гражданской жизнью.
Территориальное деление Кавказа (прежде всего Закавказья) по
географическому принципу признавалось верным. Единственным препятствием
на пути нового устройства А. И. Чернышев считал незнание местным
населением русского языка, что, как ему казалось, могло затруднить
применение российского законодательства. Из сложившейся ситуации военный
113
министр видел два выхода: «либо издать свод законов на местных языках,
либо назначить чиновников, знающих языки»154. Первое по
«значительности издержек» признавалось неудобным, а второе - «затруднительным».
А. И. Чернышев выступил с предложением представить проект на
рассмотрение главам ведомств, имевшим непосредственные интересы в регионе.
Мнения министров, И. Ф. Паскевича и сенаторов намечалось заслушать в
Комитете министров. 18 мая 1830 г., приняв к сведению итоги обсуждения,
Николай I приказал сенаторам, доложившим об «открытых ими
неустройствах», обдумать предложение И. Ф. Паскевича при «личном совещании»155.
28 апреля 1831 г. фельдмаршал сообщил царю о подготовке
сенаторами П. И. Кутайсовым и Е.И. Мечниковым проекта о преобразовании
управления. В основе управленческой схемы лежали три основных
элемента: 1) «Верховное правительство», 2) устройство в Закавказье двух
губерний (христианской и мусульманской) и 3) уездное деление156. Образование
«Верховного правительства» обосновывалось необходимостью
централизации власти в крае для эффективности надзора за присутственными
местами, разгрузки высших правительственных ведомств от кавказских
дел и преодоления сложностей, связанных с удаленностью региона от
Петербурга. Высший орган планировался из присутствия, канцелярии и
обер-прокурорской части. Во главе его стоял президент
(главноуправляющий), являвшийся «государственным наместником». Членами Верховного
правительства были также вице-президент, тифлисский военный
губернатор, пять высокопоставленных служащих. В ведение верховного правления
передавались гражданские дела. Обер-прокурор обладал «объясняющим
голосом» закона.
22 мая 1831г. проект поступил на рассмотрение в Государственный
совет. Департамент законов, найдя его содержание «трудным и обширным»,
не спешил с обсуждением157. К отсрочке слияния кавказской
административной системы с общероссийской привела также смена
главноуправляющего на Кавказе. Преемник И. Ф. Паскевича отвергал идею введения
гражданского управления на Кавказе.
Весной 1831 г. И. Ф. Паскевич по распоряжению Николая I был отозван
из Кавказского края и назначен главнокомандующим армией в Польше.
Исполнение обязанностей главнокомандующего на Кавказе временно
возлагалось на генерал-адъютанта Никиту Петровича Панкратьева. На
период правления последнего, до приезда в Тифлис нового
главноуправляющего, И. Ф. Паскевичем была подготовлена и направлена в Петербург
Записка «О порядке управления Кавказской областью и Закавказьем в от-
114
сутствие главноуправляющего Грузией»158. Основная идея, изложенная в
записке, состояла в подчинении Н. Ф. Панкратьеву военной
администрации. Управляющему гражданской частью в Закавказье предоставлялись
«власть и права» генерал-губернаторов «по существующим
узаконениям»159. Гражданская администрация северокавказского региона по всем
вопросам должна была обращаться непосредственно в российские высшие
и центральные учреждения - «при отделении гражданского управления
Кавказской области и Астраханской губернии особо от ныне
существующего управления Главноуправляющего в Грузии». И. Ф. Паскевич
устанавливал субординацию кавказских администраторов, высших и центральных
учреждений Петербурга на переходный период. «Начальник Кавказской
области и Черномории и Астраханский военный губернатор, управляя
вверяемою им ныне отдельно гражданской частью, подчиняются Сенату и
прочим высшим местам и лицам; порядок и степень подчинения их
определяются общими положениями. Представления Сенату и отношения с
министрами они делают прямо от себя»160. Финансирование Кавказской
области, производившееся ранее через главноуправляющего в Грузии,
теперь осуществлялось напрямую. Особые распоряжения были сделаны
И.Ф. Паскевичем в отношении дел, находившихся в канцелярии
главноуправляющего в Тифлисе и «не получивших окончательного
решения»161. Все они возвращались для завершения в канцелярии начальника
Кавказской области и Астраханского военного губернатора.
Записка - проект И. Ф. Паскевича по поручению императора была
представлена управляющим главным штабом е. и. в. генерал-адъютантом
графом Гуревичем в Комитет министров и одобрена 26 мая 1831 года.
Временное «положение» действовало на Кавказе до 13 сентября
1831 года, до назначения в Грузию командира Литовского пехотного
корпуса генерала от инфантерии барона Григория Владимировича Розена162.
Одним из первых его распоряжений после прибытия в Тифлис было
изъятие Астраханской губернии из юрисдикции главноуправляющего в
Грузии и подчинение ее по гражданской части непосредственно Сенату
и министерствам, а по военной - общим правилам, составленным для
российских генерал-губернаторов163. Целесообразность этой меры
являлась очевидной. Астраханская губерния, из политических соображений
включенная еще в конце XVIII века в состав Кавказского наместничества,
всегда управлялась по общероссийским правилам, предназначенным для
внутренних губерний. Расширение владений России на Кавказе в начале
третьего десятилетия XIX в. делало управление из Тифлиса Астраханской
115
губернией бессмысленным и, кроме того, обременительным. Сужение же
пределов территории, подчиненной барону Г. В. Розену, давало ему
возможность «всецело заняться обширным Кавказским краем»164.
Важное значение правительство по-прежнему придавало
укреплению Кавказской линии. 2-го октября 1832 г. на имя главноуправляющего
Г. В. Розена военным министром А. И. Чернышевым было направлено
отношение, в котором излагалось мнение императора об устройстве укреплений
на Кавказской линии. «Государю императору, - писал военный министр,
- благоугодно, дабы оборона Кавказской линии сохранила разделение на
три части, - Правый фланг, Центр, Левый фланг и четвертый участок,
образуемый Черномориею, сходно с разделением, бывшим во время
командования Отдельным Кавказским Корпусом графа Паскевича»165. Каждый из
отделов находился в ведении особого генерала; на них ложилась «прямая
обязанность ближайшей защиты и охранения вверенных им частей»166. В
соответствии с указанным документом были четко обозначены границы
внутри Кавказской линии. Черноморская линия простиралась от
крепостей Геленджик и Анапа вверх по Кубани до границы Кавказской
области. Командование этим участком поручалось генерал-майору Сильвестру
Сигизмундовичу Малиновскому. Правый фланг включал в себя территорию
от Черномории до Хумаринского укрепления по р. Кубань. Руководство им
было поручено генерал-майору князю Федору Александровичу Бековичу-
Черкасскому. Центральную часть линии, возглавляемую генерал-майором
Петром Николаевичем Фроловым, составили земли между Хумаринским и
Ардонским укреплениями. Центр, в свою очередь, делился на два участка:
Кисловодскую и Кабардинскую линии.
В Левый фланг входило пространство от Назрановского
укрепления до Каспийского моря. Командующим флангом был назначен
генерал-майор Александр Захарьевич Горихвостов. Что касается управления
Владикавказского коменданта, в ведении которого находились Военно-
Грузинская дорога, Осетия и Ингушетия («пространство со стороны
Кавказской линии, между Ардонским и Назрановским укреплениями, а
со стороны Грузии ограничивающееся Кобинским постом»), то оно
объявлялось «особенным участком» под командованием генерал-майора И. С.
(Иван Альбрехт Стефан) Оранского167.
Общее командование Кавказской линией поручалось
генерал-лейтенанту Алексею Александровичу Вельяминову, сменившему генерала от
кавалерии Геогрия Арсентьевича Эмануеля, раненного в сражении при
116
Окташ-Ахчи в августе 1831 года168. Командующий Кавказской линией
одновременно исполнял обязанности начальника Кавказской области.
В годы правления В. Г. Розена прекращаются попытки установить
гражданскую форму правления среди народов Кавказа. В исторической
литературе барона Розена характеризуют как правителя, хорошо
знакомого с нравами и обычаями населения Кавказа, понимавшего
необходимость сохранения местных судов, основанных на обычном праве и
выступавшего против радикальной ломки системы управления в крае169. На
самом же деле в основе действий нового главноуправляющего лежало не
только глубокое знание жизни горцев Кавказа, но, прежде всего,
приверженность к военно-административной системе управления. Считая ее
более эффективной и экономичной, В. Г. Розен упразднил гражданские
институты, учрежденные И. Ф. Паскевичем для местного населения, и
повсеместно ввел систему приставства.170 В 1836 году в одном из
отчетов он предлагал: «все покорные нам народы, обитающие вне Кавказской
линии, а также народы, кочующие в Кавказской области, оставить под
управлением особых приставов, начальника Кавказской области, под
главным начальством главноуправляющего в Грузии»171. Особенно ярко
позиция В. Г. Розена нашла отражение в его проекте о преобразованиях
в Кавказской области. Ссылаясь на то, что «Учреждение для управления
Кавказской областью» 1827 года после «трехгодичного
испытательного срока» должно было пересматриваться в соответствии с
замечаниями кавказской администрации, главноуправляющий предлагал большую
часть населения Кавказской области перевести в казачье сословие и
уничтожив таким образом «гражданское управление, бесполезное для края и
тягостное для казны, учредить одно общее военное в целой области»172.
В. Г. Розен собирался обратить в казачье сословие как русских
поселенцев, так и «армян, грузин, католиков, осетин, черкесов... и другого
звания людей, показанных по ведомости»173. Такая перекройка сословной и
этнической структуры Кавказской области, кроме «сохранения огромных
сумм для казны», по его мнению, имела бы «благоприятные
политические следствия», «ибо когда горцам сделается известным, что все жители
принадлежат к военному сословию, исправно вооружены, они (горцы)
сделаются более миролюбивыми».174
В. Г. Розен отвергал введение российского гражданского управления
не только у народов Северного Кавказа, но и в Закавказье и ходатайствовал
«об оставлении на время по крайней мере в некоторых областях военного
управления».175 Возможность изложить свою точку зрения по этому вопро-
117
су главноуправляющий получил после обращения к нему Государственного
совета с предложением составить предварительное заключение по проекту
И. Ф. Паскевича и сенаторов П. И. Кутайсова и Е. И. Мечникова.176
Государственный совет, приняв во внимание мнение баронаВ. Г. Розена,
а также сомнения Департамента законов о целесообразности
повсеместного ввода гражданского управления, постановил создать Комитет из четырех
министров (военного, финансового, внутренних дел и юстиции) для
составления положения об управлении Закавказьем. 11 июня 1833 года государь
утвердил журнал Государственного совета с предоставлением прав
«старшего члена» Комитета военному министру177. Назначение А. И. Чернышева
председателем «Комитета об устройстве Закавказского края» (Закавказского
Комитета) указывало на важное стратегическое положение региона и
значение, придаваемое реформе.
12 декабря 1833 года сенатор П. И. Кутайсов обратился к
председателю Комитета с негласной запиской об ускорении преобразования
управления Закавказьем. На заседании 25 января 1834 года члены Комитета
согласовали общие начала, на которых предполагалась организация
управления Закавказским краем. Решено было эту часть страны именовать
«Закавказской Россией». В ноябре 1834 года Комитет рассмотрел «Дело о
преобразовании управления Закавказьем»178 и счел власть
главноуправляющего края по гражданской части неопределенной. Неприемлемой
признавалась и идея образования Верховного правительства Закавказья, как
органа, слабо зависящего от правительства России. Комитет отметил также
нежелательность соединения в лице главноуправляющего края
полномочий президента и судьи с правом самостоятельного решения значительного
круга вопросов. Предложение И. Ф. Паскевича и сенаторов о разделении
региона на две губернии - христианскую (10 уездов, включавших в основном
Грузию) и мусульманскую (8 уездов - Азербайджан и восточная Армения)
признавалось возможным, а стремление к повсеместному вводу
«российского управления» положительным. При этом члены Комитета
подчеркивали необходимость сохранения специфических форм управления: «По
трудности сообщений с сими областями и потому, что они заключают в себе
племена, не признающие подданства нашего и еще беспокойные, Главному
управлению тамошнему и Центральному суду относительно власти в
решении надлежит иметь вид учреждений, более свойственных отдаленной
колонии, нежели внутренней области государства»179. Предлагаемый
характер управления члены Комитета объясняли желанием приспособить
создаваемые государственные структуры к «характеру местных народов».
Грузины, имеретинцы, мингрельцы и армяне признавались единоверными
118
и дружественными России, «оседлые татары» - годными к «гражданскому
общежитию», а горцы - «враждебными к порядку»180.
Проект правил нового устройства был представлен Комитетом на
рассмотрение в Государственный совет и царю. 22 февраля 1835 года Николай
I предписал членам Комитета и барону В. Г. Розену присутствовать при
обсуждении проекта в Департаменте законов Государственного совета.
В марте 1835 года главноуправляющий прибыл в Петербург181. На
заседании Государственного совета В. Г. Розен представил «Отчет управления
Кавказским краем по частям военной и гражданской с 1832 по 1835 год»,
а также специально подготовленный им «Очерк Кавказского края»182.
Последний содержал историко-политический обзор всего кавказского
региона и должен был убедить высшие органы власти России и, прежде
всего, императора в верности избранного административного курса. Для
исследователя вышеназванные источники имеют огромное значение, т.к.
охватывают территорию от Предкавказья до Закавказья. Отмечая, что
каждый из народов, населявших Кавказский край, имел свои отличительные
нравственные и политические черты, главноуправляющий делил Кавказ
«на три разряда».183 К первому разряду автор относил Кавказскую область
и земли войска Черноморского. «Край сей, - писал он, - может
называться совершенно русским,...внутреннее управление его зависит вполне от
воли правительства».184 Жители Кавказской области, находившиеся «под
гражданским, а частью под военно-гражданским управлением», также
подразделялись на три группы: русские переселенцы - «обыватели всех
состояний» и помещичьи крестьяне, управление которыми строилось на
основании общих положений о гражданском устройстве; во вторую
группу входили военные поселяне, представленные линейным казачеством,
имевшие военно-гражданское управление. Обе эти категории людей, по
мнению барона В. Г Розена, были готовы к любым изменениям в
административном аппарате. Сложнее ситуация обстояла с последней группой
- «иноверцами, коренными обитателями» Кавказской области и «мирными
племенами, разновременно покоренными силою оружия» и населявшими
северо-восточные и западные скаты Кавказских гор и «равнины к ним
прилежащие»185. Введение среди них российских государственных
учреждений признавалось неприемлемым. Как указывал В. Г. Розен, «в нынешнем
настоящем быту» кавказских народов «нейдет наша гражданственность».
Результативным он считал создание военно-административной системы,
«приноровленной в возможных случаях» к российскому устройству, но
действующей «сообразно обстоятельствам и обычаям их».186
119
Во второй разряд входили Закавказские земли. Население Закавказья
подразделялось на две группы в соответствии с исповедуемой религией. К
народам «оседлым и исповедующим христианскую веру» относились
грузины, имеретинцы, гурийцы и армяне. Устанавливая в Грузии, Имеретии,
Гурии и Армении административные учреждения, В. Г. Розен
рекомендовал учитывать особенности, присущие жителям каждой из них. Так,
гурийцы должны были иметь специальное военно-гражданское управление,
учитывавшее их обычаи и традиции, поскольку территориально примыкали к
Турции, в которой проживали их родственники и соплеменники. Такую же
систему управления предлагалось ввести в Армении, недавно вошедшей в
состав России. «Для Армянской области, - писал В. Г. Розен, -
коллегиальное правление по предписанным формам еще неудобно; ибо если
областной начальник по их жалобам и просьбам не давал им скорого решения,
предоставляя сие рассуждению Правления, то он тем самым терял власть
и влияние на них, что в пограничном крае весьма вредно»187. Наиболее
возможным установление управленческих институтов, близких к
общероссийским, но с учетом национальных особенностей признавалось в Грузии.
В мусульманских провинциях главноуправляющий допускал только
военное управление. «Соседство Персии и их связи с единоверными
обитателями... дают их умам вредное направление, и мы еще не можем
надеяться на их верность».188
Третий разряд составили горские народы, обитавшие на северных и
южных склонах Кавказских гор. И этот разряд традиционно был поделен на
три «подразделения». В первое вошли мингрельцы, абхазцы, сванеты, ели-
су йцы, казикумыкцы, мехтулинцы и подвластные Шамхала Тарковского.
Второе подразделение включало в себя «общества», покорные России, «с
большим или меньшим влиянием на их внутреннее управление».189 Третью
группу составили все вообще непокорные племена», «из коих многие
известны токмо по названиям».190 Для народов последнего третьего
разряда наиболее приемлемой признавалась система приставства.191 Чтобы
постепенно подготовить горцев к российской гражданственности, барон
В. Г. Розен считал особенно важным приобщение их к христианской
религии, образованию и оказание горским народам медицинской помощи.
Определенные действия в этом направлении были им предприняты. В
частности, в 1833 году к назрановским ингушам для обращения их из «му-
сульмано-язычества» в христианскую веру посланы были проповедники, в
крепости Владикавказ планировалось открытие училища «для детей
ближайших горцев»; служащим карантинов приказывалось «оказывать горцам
всякое медицинское пособие».192
120
Основная идея, изложенная в «Очерке», сводилась к тому, что в
организации управления Кавказом, пестром в политическом,
социально-экономическом и культурном отношениях, необходимо применение
различных форм управления. Кавказские народы, - писал В. Г. Розен, - «не могут
быть подведены под одну черту, под одни формы общего управления. Здесь
одни народы представляют первобытное состояние, другие сделали
только шаг к азиатской гражданственности под влиянием персиян и турков, а
в третьих, оная только начала развиваться под благотворным скипетром
в. и. в.»193. Одной из главных задач в системе управления Кавказом являлась
централизация всей власти в руках главноуправляющего. «Я, - утверждал
главнокомандующий, - смею полагать также, что во всем Кавказском крае,
необходимо теперь не единство в учреждениях, но единство во власти, в
которой должно сосредотачиваться все управление, а, равно, и почти во
всех провинциях, нужна неразделенность управления военного с
гражданским в лице местного начальства»194.
«Очерк Кавказского края» вместе с «Отчетом» за 1832-1835 гг. были
представлены Николаю I. Государь, внимательно изучив их, выразил
«совершенное благоволение» В. Г. Розену за управление Кавказским краем и
командование Отдельным Кавказским корпусом.
Участвуя в заседаниях Государственного совета по вопросу об
управлении Кавказом и не разделяя многих положений, изложенных в проекте
Комитета об устройстве Закавказского края, В. Г. Розен подал «особое
мнение» в Департамент законов. 9 мая 1835 года Департамент принял
заключение по проекту: учредить в Закавказье Главное управление и Главный
суд на началах, предложенных Комитетом; образовать две губернии с
учетом географического фактора, эффективности надзора и «сходства
племен»; в отдельных случаях допустить существование областей по
примеру Сибири; сохранить исторические наименования различных частей
региона - так, как они имелись в официальном титуле императора;
допустить представителей коренных народов к службе в правительственных
учреждениях первой степени. Общее собрание Государственного совета
утвердило заключение Департамента законов 15 мая 1835 г. Оно
поручило Закавказскому Комитету завершить разработку положения о Главном
управлении и Главном суде, а главноуправляющему Кавказом представить
проект состава областных, уездных или окружных территориальных
единиц. Итогом работы ожидался проект, который бы учитывал мнение как
сторонников русификации системы управления, так и тех, кто выступал
за постепенный ввод губернского учреждения. После двухлетних дебатов,
121
в феврале 1837 года, Государственный совет принял решение прекратить
дальнейшее обсуждение дела, сославшись на то, что барон В. Г. Розен так и
не представил свою часть проекта.
Разработанные Комитетом проекты не были утверждены. Причиной
этому стали многочисленные замечания по проектам главноуправляющего
В. Г. Розена. Составленный В. Г. Розеном проект управления Армянской
областью во многих пунктах противоречил проектам Закавказского Комитета,
в частности, в вопросе о том, какое должно быть управление в Закавказье
- военное или гражданское.195
Государственный совет признал необходимым «начать дело сначала».
С этой целью 17 марта 1837 г. он принял решение послать на Кавказ
специальную комиссию для подготовки окончательного проекта управления
краем. Комитет во главе с А. И. Чернышевым должен был составить
инструкцию для кавказской комиссии и осуществлять надзор над ее
деятельностью. В тот же день царский указ Правительствующему Сенату узаконил
существование комиссии196.
30 марта 1837 года Закавказский Комитет составил «Моменты для
инструкции Закавказской комиссии». Комиссии поручалось, не рассматривая
местные законы, финансы и таможенную систему, составить «одну форму
нового устройства»197. Предписывалось сосредоточить внимание на
разработке трех ступеней управления: главном, среднем (губернские и
областные присутствия) и низшем (уездном). В Грузии Комитет рекомендовал
ввести губернское учреждение, в Имеретии и Армении - «сокращенное
управление», а в мусульманских провинциях - «более муниципального»
(городового) с применением «азиатских обычаев» под руководством
российских служащих. Комитет советовал комиссии избегать большого
количества территориальных единиц, увеличения числа чиновников и
затягивания деятельности. На содержание комиссии выделялось 175200 руб.
серебром198. «Моменты» были преобразованы в инструкцию. В соответствии с
последней комиссия во всех своих действиях подчинялась Закавказскому
Комитету, ей также предписывалось не вмешиваться в деятельность
главы кавказской администрации. При подготовке «Положения» комиссия
в случае необходимости имела право запрашивать различную
информацию через главноуправляющего, в том числе и составленный им проект.
В. Г. Розен фактически отстранялся от участия в подготовке реорганизации
управления Кавказом.
Долго искали человека, способного возглавить комиссию. По
предложению министра юстиции Д. Н. Блудова и князя А. И. Чернышева, вы-
122
бор пал на 40-летнего сенатора Павла Васильевича Гана. 4 апреля 1837 г.
вышел указ о назначении его председателем комиссии. Членами комиссии
стали представители от четырех ведомств: военного - М.П. Вронченко,
юстиции - Н. А. Нефедьев; Министерство внутренних дел вначале
представлял О. И. Квист, позже его заменил Чичагов. Правителем дел был
определен С. Легкобытов199. Все участники комиссии являлись
высококвалифицированными специалистами. Барон П. В. Ган имел опыт управления
Курляндской губернией, являлся членом Совета Министерства внутренних
дел. Полковник Генерального штаба М.П. Вронченко в 1834-1835 гг.
выполнял специальное поручение в Малой Азии, был знаком с
военно-стратегическим положением Кавказа. Надворный советник Н. А. Нефедьев
исполнял обязанности Астраханского губернского прокурора, Чичагов был
чиновником четвертого класса Министерства внутренних дел. В комиссию
включены были также два чиновника от финансового ведомства.200
В начале июня комиссия прибыла в Тифлис и 25 июня 1837 года
приступила к деятельности. Несмотря на то, что еще в апреле барон В. Г. Розен
был отстранен Николаем I от «составления подробных положений о
губернском и уездном управлении Закавказьем»,201 П. В. Ган, как
председатель комиссии, потребовал от главноуправляющего представления
полного проекта. 28 августа 1837 года В. Г. Розен направил в комиссию
«Предположения о разделении Закавказского края» и копию «Очерка
Кавказского края», составленного им прежде.202 Ознакомившись с
документами, П. В. Ган остался недоволен «Предложениями» и сообщил в
Комитет о неразработанности проекта. Интересна характеристика,
которую дает сенатору Гану в своих мемуарах граф М.А. Корф. Последний
был уверен, что поручение, возложенное на барона Гана, не
соответствовало его способностям. «Учившись в Германии и служив исключительно
по дипломатической части в Остзейском крае, он был несведущ в русских
законах; самый язык наш он знал очень несовершенно и был более
способен к деятельности придворной... нежели к законодательной или
административной».203 Без симпатий к председателю Кавказской комиссии
относился и историк В.Н. Иваненко - автор «Гражданского управления
Закавказьем». По его мнению, «прибыв в край, пестрящий чрезвычайным
разнообразием местности, племен и их исторического прошлого, П. В. Ган
тотчас же убедился, что изучать особенности и нужды туземцев будет
делом для него неподходящим, и потому решил немедленно приступить к
составлению самого проекта по готовым образцам, имевшимся в его
портфеле. .., и пользуясь текстом свода законов».204
123
Неудивительно, что между сенатором Ганом и главноуправляющим,
придерживавшихся разных взглядов, сложились непростые отношения.
Председатель Комиссии избрал весьма своеобразный способ убеждения
противника. Он затеял своего рода «сенаторскую ревизию», выслушивая и
разбирая жалобы на распоряжения местных властей.205
В конце сентября - начале октября 1837 года Николай I посетил
Тифлис. Из Имеретии, Армянской области и Грузии на имя царя
поступило более 1590 прошений, жалоб и обращений. Часть прошений
инспирировали лица, близкие к П. В. Гану. Воспользовавшись ситуацией, барон
П. В. Ган в присутствии В. Г. Розена доложил Николаю I о беспорядках
и злоупотреблениях, «как бы случайно обнаруженных им при изучении
края».206 Главноуправляющий обвинялся в чрезмерном сосредоточении
власти, пренебрежении к контролю над деятельностью присутственных
мест, отсутствии внимания к финансовой и судебной частям, сохранении
тягостного для населения комендантского правления, пренебрежении
интересами государственной собственности. «Благородный Розен», как
называл его впоследствии император Александр II, не ожидавший ничего
подобного, растерялся и не смог дать необходимых объяснений.207 Итогом
интриги явилось создание следственной комиссии во главе с П. В. Ганом и
учреждение на Кавказе 7 декабря 1837 года шестого округа жандармов для
раскрытия «зла» в механизме управления Закавказьем.
В конце ноября 1837 года В. Г. Розен был уволен с должности
главноуправляющего и назначен сенатором в Москву. Однако до приезда
нового главноуправляющего, до марта 1838 года, ему поручалось исполнение
прежних обязанностей. П. В. Гану рекомендовалось избегать столкновений
с В. Г. Розеном.
С удалением барона Розена «исчезло главное препятствие»,208
стоявшее на пути сторонников русификации системы управления краем. 11
ноября военный министр А. И. Чернышев доложил Николаю I о записке,
составленной сенатором Ганом «О настоящем состоянии Закавказского
края».209 В записке предлагались следующие меры по устройству региона:
а) в административном делении учитывать три главных этноса - грузин,
армян и азербайджанцев; б) осуществлять развитие сельского хозяйства и
естественных богатств; в) производить «свободный сбыт» местных
произведений в Россию; г) уделять внимание светскому и духовному
просвещению; д) изучать взаимоотношения беков, наибов, агаларов,
стремящихся оформить «крепостное состояние» крестьян. Управление
региона предусматривало отделение исполнительной власти от судебной и
финансовой путем создания Верховного совета правления и Верховного
124
суда. В крае планировалось открытие коммерческого банка, биржи,
школы искусств.210
Изучение «Записки» П. В. Гана поручалось управляющему делами
Комитета об устройстве Закавказского края статс-секретарю Михаилу
Павловичу Позену. К 20 ноября 1837 г. М.П. Позен составил «Мысли об
устройстве гражданского управления Закавказья». Предложения П. В. Гана,
предусматривавшие ускоренные темпы экономического развития окраины,
он считал неприемлемыми. М. П. Позен спрашивал: «При таком
благосостоянии края... надежна ли будет связь, соединяющая его с империею,
достаточны ли будут наши средства к сохранению политических прав против
покушений народа образованного, промышленного и богатого в краю, так
резко отдаленном от нас местностью и климатом?».211 Статс-секретарь
высказывался за «тесное соединение» окраины с государством. Предлагалось
ввести губернские учреждения, создать Совет Главного управления,
организовать две административно-территориальные единицы: земли
особых владетелей и земли, имеющие русское административное устройство.
Ставилась задача улучшения качественного состава чиновников и
введения в крае единого законодательства.
Предложения М. П. Позена были одобрены А. И. Чернышевым и
царем, в результате правительство приняло решение - взять их за основу
преобразования высшей ступени в управлении регионом. Закавказской
комиссии поручалось разработать проект будущего среднего и низшего звеньев
кавказского административного аппарата.
В феврале 1838 года барон Ган доложил об окончании возложенного на
него поручения. В.Н. Иваненко отмечал, что быстрота, с которой был
составлен проект, поразила всех: и Закавказский Комитет, и Государственный
совет. Некоторые выражали сомнение по поводу того, что люди, никогда не
бывавшие прежде на Кавказе, за восемь месяцев смогли «достаточно
ознакомиться с местностью, разобраться в хаосе новых впечатлений и выработать
программу для своих занятий».212 Однако большинство в правительстве
отнесло это за счет исключительных способностей П. В. Гана. Комиссия была
закрыта и проект «Положения об управлении Закавказской Россией»
передан на заключение новому главноуправляющему Кавказского края Евгению
Александровичу Головину и Закавказскому Комитету.213 В августе 1838 года
Е.А. Головин составил заключение по проекту. Главноуправляющий
признал его соответствующим «общим видам» правительства.21416 декабря
1839 г. состоялось обсуждение «Положения», в ходе которого определились
три различных подхода к управлению кавказской окраиной: колониальный,
125
постепенный переход к губернскому управлению и отношение к Кавказу
как к составной части России. Министр финансов Е. Ф. Канкрин настаивал
на том, что «на Грузию на первый раз, надобно смотреть более как на
колонию, нежели как часть России, ибо национальность тамошних жителей
весьма не скоро может слиться с обывателями прочих частей России, давно
уже европейское направление получивших».215 Важным недостатком
проекта П. В. Гана называлось увеличение числа гражданских чиновников - до
2300 (помимо военных и таможенных), содержание которых
приравнивалось к «новому косвенному налогу», наложенному на кавказских жителей.
Глава финансового ведомства предложил ограничиться созданием одной
губернии и малых областей. При этом он указывал, что «ошибочно было
бы отчуждать Закавказский край от России вовсе, но также несбыточно и
то стремление, чтобы все отношения управления и местной жизни вылить
в одну форму»216.
С критикой в адрес проекта П. В. Гана выступил и министр
государственных имуществ граф П. Д. Киселев. Уклонившись от дискуссии по
признанию Кавказа колонией, он выразил «сомнение в целесообразности
полного применения административной системы внутренних губерний к
отдаленному региону». Нерешенность сословных вопросов,
неопределенность казенной и личной собственности, действие законодательства царя
Вахтанга в Грузии, а у мусульман и горцев их законов П. Д. Киселев
считал факторами, тормозящими ввод российского гражданского управления.
Министр справедливо замечал, что «все неустройства по части
гражданского управления за Кавказом происходят едва ли не от преждевременного
введения там наших законов, ибо законы каждой страны должны
проистекать из элементов народной жизни и соответствовать всем его
потребностям и отношениям»217. Он высказывался за распространение в Грузии,
Имеретии и Армянской области губернского «Положения», а в
мусульманских провинциях - «переходного» к нему, с образованием в дальнейшем
губернии.
Министр внутренних дел Л. А. Перовский помехой в реализации
проекта П.В. Гана счел разноукладность кавказского населения и позднее
включение в состав России отдельных территорий. Он предложил
провести апробацию губернского «Учреждения» и российского законодательства
в Грузии и лишь затем распространить его на другие области. Это мнение
поддержал министр юстиции. Д. Н. Блудов ссылался на нехватку
чиновников для полного штата двух губерний, незнание русского языка
населением, а также на существование у закавказских народов собственных
законодательных актов218. Военный министр А. И. Чернышев, не представивший
126
специальных замечаний, согласился с точкой зрения членов Закавказского
Комитета о несовершенстве «Положения».
Мнение министров оказало воздействие на позицию
главноуправляющего Е. А. Головина. 2 декабря в Петербурге, выступив против полного
ввода в Закавказье гражданского управления, он представил А. И. Чернышеву
записку, назвав ее как «Общий взгляд на Закавказский край». В ней
рисовалась «мрачная картина» положения Грузии из-за неопределенности
ее статуса и «алчности приказных чиновников».219 Обращалось внимание
на влияние Кавказской войны на состояние дел в Закавказье.220 В частных
беседах с членами Комитета Е. А. Головин неоднократно высказывал свои
опасения по поводу повсеместного установления губернского учреждения
и русского законодательства и как и управляющий Министерством
внутренних дел предлагал проверить «последствия» реформы на примере Грузии.
Неопределенность и известная подвижность в позиции Е.А. Головина
вполне объяснимы. Генерал долгое время служил в Польше и впервые
попал на Кавказ (в марте 1838 года). Не успев за столь короткое время хорошо
изучить край, он принимал ту сторону, которая казалась ему более
убедительной.
Закавказский Комитет охарактеризовал проект сенатора П. В. Гана как
«плод неоригинального творчества». «Это, - резюмировали члены
комитета, - устройство гражданского управления», разработанное «по общим
началам губернского управления, существующего в России, с
некоторыми только изменениями, и введении за Кавказом российских законов».221
«Положения» П. В. Гана, как совершенно не учитывавшие местные
особенности и нужды населения, признавались «нуждающимися» в переработке.
Комитет предложил сенатору совместно с главноуправляющим и членом
Комитета М.П. Позеном заново составить проект. Работая над будущим
устройством Кавказа, они должны были руководствоваться следующими
положениями:
1. Предоставить «местностям с мусульманским населением» более
простую форму управления, сходную с существующей, «не настаивая на
разделении властей и применяясь к действительным нуждам и понятиям
жителей. С этой целью, дав мусульманским провинциям более или менее
однородное устройство, не соединять их в губернию или область и,
учредив контроль за деятельностью провинциальных управлений, не заводить
апелляционных и ревизионных инстанций».
2. Не допускать в «мусульманских провинциях» спешки с введением
российских законов и правительственных судов, предоставив жителям в
127
«делах тяжебных разбираться у полицейских властей или в словесных
народных судах по своим обычаям и законам. Рассмотрение уголовных дел
предполагалось по российским законам военно-судными комиссиями.
3. В местностях с христианским населением «в делах тяжебных»
допускать применение грузинских законов и обычаев, «в пределах крайне
необходимых и точно очерченных».222
Таким образом, Закавказский Комитет брал на себя роль охранителя
местных традиций и обычного права народов Кавказа. Но П. В. Ган не
отчаивался. Спасая свой проект, в котором замечания Комитета не оставляли
нетронутой ни одной статьи, сенатор при помощи М. П. Позена внес в него
отдельные изменения и вновь представил в Комитет. На заседании Комитета
он пытался убедить членов в том, что в мусульманских провинциях давно
существуют русские городовые суды, разбирающие дела по российским
законам, что ни словесных, ни медиаторских судов там нет и что упразднить
русские суды, значило бы сделать шаг назад на пути сближения Кавказа с
Россией.223 Как ни категорично звучали доводы П. В. Гана, члены Комитета
высказали, и не без оснований, сомнения по поводу
аргументированности его утверждений. Сенатор и главноуправляющий были приглашены
для личных объяснений. П. В. Ган настаивал на том, что неудовольствие и
путаницу вызывают не русские законы, а их смешение с грузинским
правом и местными обычаями. Это подтвердил также Е. А. Головин.224 Чтобы
окончательно убедиться в объективности оценок П. В. Гана, Закавказский
Комитет пригласил на заседание директора канцелярии
главноуправляющего. Последний пояснил, что «ни законов, ни следов какого-нибудь
законодательства» на Кавказе «вовсе нет».225 В итоге Комитет, сославшись на
заявления сенатора П. В. Гана и генерала Е. А. Головина и упомянув всех
лиц, предлагавших введение в крае российских законов, - И. Ф. Паскевича,
сенаторов П. И. Кутайсова и Е.И. Мечникова - одобрил проект П. В. Гана.
10 апреля 1840 года он стал законом.226
В высочайшем повелении Николая I, данном по этому поводу
главноуправляющему Кавказом говорилось: «Я убежден, что составленный
после многолетних изысканий и при непосредственном участии Вашем
проект вполне соответствует особенным обстоятельствам и
гражданскому быту жителей за Кавказом. Твердая и непременная воля моя состоит
в том, чтобы верноподданные мои за Кавказом воспользовались на самом
деле всеми благими последствиями моих попечений и дарованного им
промыслом Божьим счастья принадлежать к составу обширного царства
русского. К сей цели обязаны вы устремить все ваши усилия».227 Николай
128
I повелел Е. А. Головину привести закон в исполнение совместно с
сенатором П. В. Ганом. Высший контроль за проведением реформы был
предоставлен Комитету, учрежденному 24 апреля 1840 года228 под тем же
названием, что и предыдущий (Комитет об устройстве Закавказского края).
Между Е.А. Головиным и П. В. Ганом был заключен письменный договор
о соблюдении между ними этикета, чтобы не умалить достоинства ни гла-
ноуправляющего, ни «сановника, призванного доверием Его Величества на
дело столь важное»229. Граф М. А. Корф в своих «Записках» писал, что оба
выехали из Петербурга на Кавказ и приступили к делу - «Ган с обычною
ловкостью и изворотливостью, Головин - с робостью и сомнением».230
К началу января 1841 года реформа государственного устройства
Кавказского края была повсеместно завершена - открыты присутственные
места, назначены чиновники по выбору П. В. Гана.231
В действие вступили следующие законоположения: 1) «Учреждения для
управления Закавказским краем»; 2) «Штаты управления»; 3) «Положение
о городском общественном управлении в Тифлисе»; 4) «Положение о
комитетах земских повинностей» и 5) «Положение о преимуществах
чиновников за Кавказом».232
«Учреждение для управления Закавказским краем» делило Закавказье
на две части: Грузино-Имеретинскую губернию и Каспийскую область.
Грузино-Имеретинская губерния делилась на 11 уездов: 1) Тифлисский,
состоявший из Тифлисского и Душетского уездов и земель горцев по
Военно-Грузинской дороге; 2) Горийский, - в него вошли Горийский уезд,
западная половина Душетского уезда и Южная Осетия; 3) Телавский;
4)Белоканский;5)Кутаисский;6)Елизаветпольский;7)Александропольский;
8) Эриванский; 9) Нахичеванский; 10) Ахалцихский; 11) Гурийский.
Каспийская область состояла из 7 уездов: Шемахинского, Шушинского,
Нухинского, Ленкоранского, Бакинского, Дербентского и Кубинского.
Во главе всего Кавказского региона по-прежнему оставался
главноуправляющий, он же командир Отдельного Кавказского Корпуса. По
правам и обязанностям главноуправляющий приравнивался к
генерал-губернаторам внутренних губерний, но «по отдельности и особенным
обстоятельствам края», ему предоставлялось право в случае жалобы или «иного
по службе повода» отменять, основанные на общих законах
постановления и приводить в исполнение свои распоряжения. Каждый раз,
отступив от российских законов, главноуправляющий должен был сообщать
об этом в Сенат и, кроме того, нес личную ответственность за принятое
им решение.
129
При главноуправляющем учреждался Совет Главного управления, в
который входили главноуправляющий - как председатель, военный
губернатор и пять членов (трое военных и двое гражданских) по
назначению царя. К функциям Совета относились: 1) контроль губернских
учреждений, утверждение годовых отчетов, проведение ревизий,
рассмотрение жалоб частных лиц и протестов губернских прокуроров на
действия присутственных мест; 2) разрешение трудностей, встреченных при
исполнении законов; издание инструкций и наставлений; подготовка для
правительства проектов, требовавших дополнений или изменения
законов; 3) утверждение смет городских, земских, местных и других доходов,
расходов и повинностей; 4) утверждение казенных подрядов и
контрактов; 5) рассмотрение сословных прав отдельных фамилий. При
несогласии главноуправляющего с большинством членов Совета дело подлежало
передаче Сенату.
Организация губернских присутственных мест в Закавказье была та
же, что и во внутренних российских губерниях, хотя в тексте документа
существовала оговорка: принимать «во внимание» местные особенности,
«в виду неравной подготовленности той и другой части Закавказья к
восприятию гражданственности». Здесь, как и в России, имелись гражданский
губернатор (областной начальник), председательствовавший в губернском
(областном) правлении, казенная палата, палата государственных иму-
ществ, палата уголовного и гражданского суда, губернский прокурор с
помощником, губернский и уездный землемеры. Вся разница между
учреждениями губернии и области состояла в том, что в последней за неимением
официально признанного дворянства не учреждались Дворянское
депутатское собрание и Приказ общественного призрения.
Устройство уездных управлений было также российским. В каждом
городе имелся городничий, в каждом уезде - уездный начальник с
помощником, уездный суд, уездный стряпчий, врач и казначейство.233
Непосредственным блюстителем народной жизни, проводником
культуры и исполнителем всех распоряжений администрации и суда являлся
участковый заседатель (3-4 в уезде). Он проводил следствие по всем
преступлениям и проступкам, разрешал гражданские иски и споры на сумму
не более 5 рублей, судил за кражи до 10 рублей и за маловажные
проступки. «Главнейшая же его обязанность - наблюдать за исправным взносом
податей и повинностей». При участковом заседателе для исполнения его
поручений был поставлен помощник из местных и переводчик.234 В
будущем предполагалось гражданское устройство сельских управлений.
130
Вся правительственная деятельность последующего периода
исчерпывалась законодательными и административными поправками к этому
учреждению.
Трудно отрицать, что в конце 30-х - начале 40-х гг. XIX в. Закавказье
и его административные институты являлись основным плацдармом
творчества российских законодателей. Тем не менее существовали проекты,
затрагивавшие и другие части Кавказского края. Один из них изложен в
рапорте генерала Е. А. Головина Правительствующему Сенату от 9 ноября
1838 г.,235 а также в его отчете «Об управлении Кавказским и Закавказским
краем», представленном на имя Николая I 30 декабря 1839 г.236
Главноуправляющий предлагал провести некоторые преобразования в
управлении Кавказской областью. Предполагалось упразднить окружные
советы с поручением комендантам местного надзора за полицией. В
городах Моздоке и Кизляре признавалось необходимым закрыть окружной суд,
полицейское управление и армянский суд, а вместо них учредить ратушу.
Крепостные, опекунские, сиротские и тяжебные дела между армянским
населением этих двух городов передавались в Кавказский областной суд. На
полицейские должности, по мнению Е.А. Головина, целесообразно было
назначать военных офицеров.237 Причинами возможного переустройства он
называл ограниченное число населения в области (26 тыс. душ),
находившегося в ведении гражданских властей, и предстоявшее лишение армян
привилегий, дарованных им в 1799 году.
30 декабря 1839 года генерал Е.А. Головин отослал в Петербург
«Всеподданнейшую записку о представлении Кавказскому областному
начальнику, командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории
прав, сопряженных со званием военного губернатора».238 Основная идея,
высказанная в записке, - вывести гражданское управление Кавказской
области и Черномории из ведения главноуправляющего и подчинить
командующему на Кавказской линии. Е. А. Головин указывал, что в силу своего
географического положения Кавказская область не может быть
соединена в одно управление с Грузией. Администрация области не имела
права самостоятельно обращаться в министерства без изучения дела
главноуправляющим. Пересылка документов в Тифлис, основную резиденцию
главноуправляющего, и возвращение обратно, в учреждения Кавказской
области, занимали порой несколько месяцев. «От упомянутого
порядка, - писал он, - происходит то, что частные лица терпят в делах своих
промедление, безгласные сироты томятся в ожидании законной защиты и
охранения прав собственности, казна часто должна нести убытки и пра-
131
вительство лишается удобства к своевременному введению и исполнению
важных предположений по части хозяйственной и административной».239
Ходатайство Е.А. Головина было удовлетворено. 7 мая 1840 года вышел
указ Сената, в котором главноуправляющий освобождался от
управления гражданской частью в Кавказской области; оно подчинялось
непосредственно начальнику Кавказской области с предоставлением ему прав
главноуправляющего.240 Сенат оставил без изменений управление
«внешними инородцами» Кавказской области. Они по-прежнему управлялись
Е.А. Головиным. Главноуправляющий наделялся властью
главнокомандующего на основании «Учреждения о большой действующей Армии».
Военное управление всего Кавказа, в том числе и Кавказской области, как
и раньше, сосредотачивалось в руках Е.А. Головина.241 В сложной
военно-политической обстановке, сложившейся на Кавказе в 30-40-е гг. XIX в.,
такое решение признавалось единственно верным.
30 декабря 1839 года, одновременно с «Запиской», в Петербург
главноуправляющим был отправлен отчет «Об управлении Кавказским и
Закавказским краем». В нем Е.А. Головин поднимал вопрос об устройстве
управления в Осетии (см. III гл.). Он считал «полезным для всех
осетинских обществ, по сию сторону Кавказского хребта обитающих»,
назначение «одного главного пристава из военных русских офицеров, оставив
при нем в виде помощников четырех частных приставов».242 Речь шла о
южной части Осетии, вошедшей в Горийский уезд Грузино-Имеретинской
губернии. Осетинский пристав подчинен был грузинскому гражданскому
губернатору.243 Подчинение военного офицера (пристава) гражданскому
чиновнику являлось достаточно грубым нарушением. Однако само
признание необходимости в Осетии приставского правления свидетельствовало
о понимании автором специфики, которая должна была присутствовать в
создаваемой П. В. Ганом управленческой структуре.
Реформа, проведенная сенатором Ганом в Закавказье, достаточно
быстро «принесла результаты», осложнившие деятельность
государственных институтов на Кавказе. Новое «Учреждение» вызвало недовольство
различных сословных групп: «жаловался народ, чиновники, жаловался и
приходил в отчаяние Головин».244 Формализм опутал всю
правительственную систему - никто не смел подать просьбу уездному начальнику,
минуя участкового заседателя. В Гурии, Осетии, Белоканах начались
волнения. Особенно сильное сопротивление встретили российские чиновники
при попытке увеличить доходы государственной казны за счет повышения
податного обложения и замены натуральных повинностей денежными245.
132
Николай I, встревоженный событиями в Закавказье, в начале 1842 года
командировал в Грузию военного министра князя А. И. Чернышева
и статс-секретаря М.Т. Позена для выяснения причин недовольства.
А. И. Чернышев посетил не только Закавказье, но и Северный Кавказ:
крепости Внезапную, Грозную, Владикавказ, Кизляр, Назрановское
укрепление.246 Поездка А. И. Чернышева обошлась казне в 27269 руб. 86 коп.
сер., 3950 руб. асе. и 100 червонцев.247 Познакомившись с краем в
военном и гражданском отношении, военный министр, наделенный
широкими полномочиями, восстановил в некоторых местностях Кавказа обычное
право, изъял часть Закавказья из гражданского управления и подчинил его
военному начальству. На должности уездных начальников, поставленных
П. В. Ганом, министр назначил строевых штаб-офицеров. На основании
сделанных им распоряжений из горских племен, расселенных в Телавском,
Тифлисском и Горийском уездах, были образованы три отдельных округа:
Тушино-пшаво-хевсурский, Горский и Осетинский. Каждый округ
подчинялся надзору особого окружного начальника, снабженного инструкциями,
«более свойственными для управления названными народами».248 Надзор за
всеми округами «по отдаленности губернского начальства» вверялся
«особому главному начальнику горских народов».249 Вскоре А. И. Чернышев
вернулся в Петербург, а член Закавказского Комитета М. П. Позен остался
для проведения «подробной ревизии».250 Изучив полученные материалы,
М.П. Позен представил Николаю I доклад со следующим общим выводом:
«Новое учреждение устранило произвол во всех частях управления и само
по себе в основных началах имеет важные преимущества. При самом
введении его не было никаких затруднений. Однако в применении к
многоразличным племенам закавказским оно основной цели
правительства-доставить жителям желаемые выгоды, - к сожалению, не достигает. Механизм
управления с отделением суда от полиции сделался слишком сложным;
число чиновников удвоилось».251
Доклад М. П. Позена был направлен военному министру с резолюцией
царя: «Нельзя без сожаления читать, - так искажаются все благие
намерения правительства такими лицами, на мнение которых, казалось, можно
было положиться. Предъявите сей рапорт Комитету министров, - требовал
император, - чтобы все убедились в непростительной неосновательности
барона Гана, которого надменность ввела правительство в заблуждение
и принуждает безотлагательно приступить к отмене еще столь недавно
утвержденного».252 Фактически это был приговор как реформе П. В. Гана,
так и самому реформатору.
133
В высших эшелонах власти вновь встал вопрос о подготовке новой
реформы по управлению Кавказским краем. О важности, которая придавалась
разработке новой административной системы, свидетельствовал факт
одновременного создания 30 августа 1842 года двух высших органов: Комитета
по делам Закавказского края и Временного VI отделения Собственной
е. и. в. канцелярии. В ноябре 1842 года Е.А. Головин был отстранен от
должности главноуправляющего и на Кавказ назначен Александр Иванович
Нейдгардт. Перед А. И. Нейдгардтом и новыми Комитетами, фактически
возглавившими управление регионом, Николай I поставил задачу
«скорейшего водворения в Закавказском крае прочного устройства,
соответствующего обстоятельствам края и действительным потребностям его
жителей».253
Председателем Комитета по делам Закавказского края оставался
А. И. Чернышев. В его состав вошли председатель Департамента законов
Государственного совета, министры: финансов, внутренних дел, юстиции,
государственных имуществ. Осенью 1842 года в Комитет были введены
цесаревич Александр и шеф корпуса жандармов. Присутствие в Комитете
наследника престола, проявлявшего с 1840 года живой интерес к борьбе
против горцев Кавказа, явилось следствием желания Николая I ввести
цесаревича в курс проблем, касавшихся отдаленной российской окраины.
Членство же А.Х. Бенкендорфа диктовалось поступлением большого
числа жалоб на административный аппарат Закавказья. В октябре 1842 года
закавказский шестой округ жандармов был реорганизован в шестое
отделение. Перед ним ставилась задача стать всевидящим оком самодержавия.254
Временное VI отделение Собственной е. и. в. канцелярии возглавил
М. П. Позен. Если Комитет учреждался для «предварительного
рассмотрения и соображения всех вообще дел по управлению краем, подлежащих
рассмотрению верховной власти», то Временное отделение - «для
обработки всех новых положений по устройству края и для делопроизводства по
Комитету по делам Закавказского края».255 Временное отделение составили
две экспедиции: первая занималась перепиской по устройству
экономической части региона и производством дел, поступавших в Комитет; вторая
заведовала перепиской по общему управлению, полицейской и судебной
частям Закавказья, собирала различную информацию о Кавказе, вела
повседневное делопроизводство. Управляющий отделением обладал правом
самостоятельного сношения с министрами, главноуправляющим и
главами кавказской администрации. Он получил право еженедельного доклада
царю о Кавказе.
134
Министры сохраняли свое влияние на подведомственные им
кавказские учреждения. По вопросам, превышавшим их власть, министры
обязывались представлять дела в Закавказский Комитет и лишь после
окончательного утверждения монарха приступали к их реализации.
К числу таких дел, рассматривавшихся в Министерстве военного
департамента генерального штаба по делам кавказским, совместно с Комитетом
относились записки и доклады по проекту «Положения об управлении
покорными горскими народами на Кавказе обитающими». Переписка по этому
проекту длилась с марта 1839 года по апрель 1844 года.256 Интересна
история авторства проекта. Еще в 1837 году Николай I, узнав о
«неудовлетворительности существующего управления горцами», поручил главам
кавказской администрации барону В. Г. Розену и начальнику Кавказской области,
командующему Кавказской линии генерал-лейтенанту А. А. Вельяминову,
изложить предложения об управлении горцами.257 Составление самого
проекта император возложил на флигель-адъютанта полковника Хан-Гирея.
Кавказская администрация определила в помощники Хан-Гирею
лейб-гвардии Кавказского горского полуэскадрона штабс-ротмистров Мамат-Гирея
Подысова и Арсланбека Туганова. Но Хан-Гирей не смог в полной мере
исполнить поручение из-за «всей его обширности» и представил «свои
соображения» об управлении одним из закубанских народов.258 После
назначения на Кавказ Е. А. Головина новый главноуправляющий, «имея в виду
высочайшую волю», продолжил сбор сведений об управлении
кавказскими горцами. К этой же работе он привлек Павла Христофоровича Граббе,
сменившего А. А. Вельяминова в 1838 году. Командующий Кавказской
линией П. X. Граббе поручил в свою очередь составление проекта своему
подчиненному - капитану Николаю Ивановичу Вольфу. В 1839 году
капитан Н. И. Вольф представил П. X. Граббе проект «Положения об
управлении мирными горскими народами». «Горцы», жившие вдоль всей
линии укреплений, в соответствии с проектом подчинялись «начальнику»
Кавказской линии и Черномории и разделялись на шесть управлений: 1)
начальника Прибрежной линии; 2) начальника Черноморской линии; 3)
начальника Правого фланга Кавказской линии; 4) начальника Центра линии;
5) Владикавказского комендантства; 6) начальника Левого фланга линии.259
Каждое из управлений делилось «по племенам» на приставства
и округи. Так, в управление начальника Правого фланга должны были
войти главное Баталпашинское приставство, состоявшее из шести
округов - Ногайского, Абазинского, Бесленеевского, Кабардинского,
Карачаевского и Армянского, и главное Усть-лабинское приставство,
155
включавшее Темиргоевский, Махошевский и Бжедуховский округи.
Управление начальника Центра Кавказской линии капитан Вольф
разделил на три главных приставства: Велико-кабардинское приставство
(Атажукинский и Кайтукинский округи), Мало-кабардинское
приставство (Кажантиновский и Елисановский округи) и Кабардино-осетинское
приставство (Чегемский, Балкарский и Дигорский округи). В
управление Владикавказского коменданта по версии автора проекта вошли
главное Осетинское приставство (Алагирский, Чмитинский, Тагаурский,
Джерахский округи) и главное Ингушское приставство (Назрановский,
Галгашевский, Карабулакский, Галгаевский и Кистинский округи).
В ведение командующего Левым флангом линии определялись
главное Кумыкское приставство, главное Салатовское приставство, главное
Горское приставство и главное Чеченское приставство.260 Самым мелким
административным подразделением являлись «особые волости» - аулы
с населением не менее 15 семей. Во главе их назначались старшины. В
обязанности аульных старшин входил надзор за жителями села,
раскладка повинностей, взыскание с провинившихся за маловажные проступки,
исполнение всех требований начальства и доставление приставу
различной информации. Аульные старшины подчинялись непосредственно
частным приставам, частные - главным приставам, главные -
начальникам частей линии. Главные приставы утверждались в должности
главноуправляющим в Грузии по представлению начальника Кавказской линии
и Черномории, частные приставы назначались начальником линии по
рекомендации командующих частями линии, старшины - командующими
частями линии по согласованию с главными приставами.
Проект Вольфа охватывал и такую важную сферу в управлении
северокавказскими народами, как порядок судопроизводства. Согласно
«Положению», судебные иски между горцами могли решаться шариатским
или третейским судом. Шариатскому суду подлежал традиционный
перечень дел - «до веры и совести касающиеся, по несогласию между мужем
и женой, между родителями и детьми».261 Для их разбора избирался судья
из «мулл, кадиев или эффендиев».262 Апелляционной инстанцией выступал
муфтий. При этом решение последнего подлежало утверждению
главноуправляющего в Грузии. Для рассмотрения дела по шариату требовалось
обязательное согласие тяжущихся сторон. В случае несогласия истца или
ответчика дело передавалось в третейский суд.263
Третейскому суду, основанному на адатном праве, подлежали исковые
и тяжебные дела. Достаточно подробно описана процедура определения
136
судей. Для суда по адату, истец и ответчик избирали судей, которые
разбирали иск или тяжбу в соответствии с нормами обычного права. В
случае недовольства решением суда одной из сторон, судьи с общего согласия
избирали постороннее лицо, на беспристрастное мнение которого
стороны могли положиться. По окончании дела истец и ответчик обязаны были
«вознаградить судей» согласно народным обычаям. Приговор третейского
суда не подлежал апелляции. Его решение могло быть обжаловано лишь в
случае нарушения судьями адата. Срок для подачи жалобы «на
несоблюдение установленного порядка и обряда» ограничивался первыми четырьмя
месяцами с момента вынесения решения. В качестве апелляционной
инстанции выступали пристав, а затем «высшее начальство».264 В
маловажных делах, не превышавших цены иска 25 рублей серебром, решение
главного пристава считалось окончательным. В случае, если тяжба или иск
становились предметом рассмотрения «местного высшего начальства», дело
разбиралось в соответствии с российским законодательством. Решения
судов как третейского, так и шариатского, согласно §79 «Положения»
оформлялись письменно и представлялись через частных приставов главному
приставу.265 Последние обязаны были ежемесячно представлять кордонным
начальникам ведомости, составленные по форме, в которых содержалась
информация по всем делам, решенным шариатским или третейским судом.
Уголовные преступления, совершенные горцами, делились на два
разряда - тяжкие и маловажные. К важным уголовным преступлениям
относились «возмущение, умышленное убийство, разбой, грабеж и насилие,
измена, укрывательство хищников, побег в непокорные аулы, воровство и
угон скота на сумму выше ста рублей серебром в третий раз. Тяжкие
преступления находились в юрисдикции военных судов и судились на
основании российских законов. Маловажные уголовные дела подлежали
разбирательству приставов, начальников частей линии и начальника Кавказской
линии «на основании народных обычаев и общих учреждений».266
В ряде случаев в определении наказания виновного присутствовала
сословная дифференциация. Так, телесные наказания допускались в
отношении «простолюдинов». Представители высшего сословия могли
подвергаться лишь аресту и штрафам.
Исполнение судебных приговоров являлось обязанностью приставов.
Для этой цели при каждом главном приставе и частных приставах состояли
казаки и несколько конных всадников — представителей от местного
населения. По нормам шариата услуги последних оплачивались аулами и
селениями поочередно. В случае неповиновения кого-либо из горцев приставы
137
имели право «требовать от владельца и старшин без всякой платы
вооруженных людей для понуждения ослушных к исполнению судебных
приговоров» или для ареста.267 Штрафы, взыскиваемые с виновных, раздавались
в виде награды владельцам и участникам военной экспедиции. Особый
параграф в «Положении о суде» посвящен «ослушанию целого аула или
многих аулов». Согласно документу, для усмирения и наказания
неповинующихся начальник Кавказской линии имел право использовать войска.
Проект Н. И. Вольфа «Положение об управлении мирными горцами» по
приказу П. X. Граббе был направлен Александру Павловичу Пулло
(командующий Сунженской линией), Хан-Гирею, Владимиру Осиповичу Гурко
(с 1842 г. командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории,
начальник Кавказской области) и Петру Петровичу Нестерову (с 1842 г.
комендант крепости Владикавказская). Итогом обсуждения стал проект
П. X. Граббе об управлении «мирными» горцами, в основе которого лежали
проекты капитана Вольфа, Хан-Гирея и пожелания, высказанные
командующими частями Кавказской линии.268
В 1841 году черновой вариант проекта был готов, но
главноуправляющий не спешил с его отправкой в Петербург. Вначале, по его мнению,
необходимо было получить разрешение Николая I на представление другого
проекта - «Об учреждении военно-окружных начальников в Закавказском
крае», который частично затрагивал управление горцами.269 Узнав в конце
1841 года о возможном посещении Кавказского края военным министром,
Е. А. Головин решил ничего не предпринимать до приезда А. И. Чернышева.
«Положения об управлении покорными горскими народами, на Кавказе
обитающими», были направлены в высшие органы власти в июне 1842 г.
Рассмотренные царем, они в конце октября того же года были
переадресованы в Комитет об устройстве Закавказского края.270
«Коренным основанием» проекта, как считал сам Е. А. Головин,
являлись народные обычаи горцев; установление российских законов
признавалось невозможным.271 «Положение» содержало общие принципы
управления. Оно состояло из шести основных разделов. Первый из них
назывался «Разделение горских племен и порядок управления ими». Покорные
горские народы делились на девять военных округов. Каждый округ
подчинялся ближайшему военному начальнику. Округи подразделялись на
главные и частные приставства. Права и обязанности военно-окружных
начальников в будущем должны были регламентироваться подробной
инструкцией. Проект определял лишь их «общие черты». Они заключались в
охране общественного порядка, в наблюдении «за справедливым и безот-
138
лагательным решением всех гражданских и судебных» (уголовных) дел, а
также за правильной раскладкой податей и повинностей. Начальники
военных округов, «имея высший надзор за действиями владетелей», не
вмешивались в разбирательство дел гражданского характера; в их ведение
попадали уголовные преступления.272
Второй раздел посвящался управлению духовенством.
Главноуправляющий признавал нецелесообразным и для правительства опасным
объединение всех горских мусульманских народов под верховной властью
одного муфтия. Он делил духовное управление на части по числу главных
приставов и предлагал поручить управление и надзор кадиям. Для их
подготовки он намеревался открыть два училища: одно в Ставрополе, другое
в Дагестане.273
Третий раздел определял права и обязанности горцев. По мысли
Е.А. Головина, российская администрация на Кавказе выступала
основным гарантом личной безопасности горцев и неприкосновенности
имущества каждого. Права горских князей, узденей и владельцев оставались «в
настоящем их положении». Население обязывалось нести повинности. В
основе раскладки повинностей на аулы лежал географический принцип.
Ближайшие к военным действиям жители должны были содержать
пограничные посты; аулы, прилегающие к главным путям военного сообщения,
- давать подводы; «более отдаленные» - ремонтировать дороги и
расчищать леса и «самые отдаленные» - платить определенную сумму денег,
назначенную корпусным командиром. Горцы обязывались выдавать
аманатов и, в случае необходимости, выставлять вооруженное конное и пешее
войско «для отдельного или совместного действия с русскими войсками
против хищников и возмутителей общественного спокойствия».274
Четвертый и пятый разделы регламентировали порядок
судопроизводства и меры к исполнению судебных приговоров. Е.А. Головин писал о
существовании «почти во всех племенах горских два рода судов: духовный
(шариат) и третейский (адат)». При этом он указывал, что «допущение
судопроизводства по правилам шариата доставит духовенству опасный в делах
гражданских перевес». Предлагалось ограничить действия духовного суда
и поручить ему разбирательство семейных и религиозных дел. Исковыми и
тяжебными делами должны были заниматься третейский и окружной суды.
Окружные суды, состоявшие из «почетных туземцев», учреждались
военно-окружным начальником при каждом главном приставе. Председателем
суда считался пристав. Суд действовал на основании правил, составленных
для словесных судов. Дела «по определению прав личного состояния и ка-
139
сающиеся казны» решались на основании российских законов, серьезные
уголовные преступления подлежали военному суду. Документ
устанавливал границы полномочий судов: третейский суд разбирал иски, ценность
которых не превышала 25 руб. серебром, окружные суды - до 100 рублей
серебром, военно-окружные начальники занимались исковыми делами до
200 руб. серебром; дела, превышающие эту сумму, поступали к корпусному
командиру. Для исполнения судебных приговоров и охраны общественного
порядка при приставах учреждалась вооруженная стража из
представителей местного населения («от 10 до 15 нукеров»)275.
Последний, шестой раздел, содержал штатное расписание,
разработанное Е. А. Головиным. На жалованье и нужды 13 главных и 44 частных
приставов запрашивалось 76 тыс. рублей, для найма нукеров - 28 тыс. руб.
сер. На открытие новых 39 приставств предполагалось ежегодно тратить
53102 руб. сер. и т.д.276
По каждому из пунктов «Положения» Николай I сделал свои
замечания. Так, для уменьшения числа частных приставов признавалось
полезным «смежные племена» объединять в одно приставство. Император
рекомендовал с осторожностью относиться к отстранению духовенства от
гражданских дел, «дабы не сделать слишком крутого переворота в порядке
судопроизводства».277 Местному начальству поручалось склонять горцев к
обращению в третейский суд «не силой, а убеждением».278 Недоволен был
Николай I и распределением повинностей, проведенным в соответствии с
географическим положением аулов; это «нарушало их уравнительный
характер». Более справедливым он считал оплату труда горцев за несение
ими земских повинностей из казны. «Таким образом, - рассуждал
император, - содействие горцев нашим предприятиям откроет им источник
денежных сборов, недостаток которых останавливает у них развитие
промышленности»279. Серьезным пробелом проекта признавалось отсутствие
в нем мероприятий, направленных на рост материального благосостояния
покоренных народов, в частности учреждения ярмарок «по примеру уже
существующих в Анапе, Новороссийске, Прочном Окопе, Нальчике».280
Благосостояние горцев, - указывал император, - «вот цель, к которой мы
стремиться должны для постепенного сближения с русским населением
Кавказа».281
К «Положению» Николай I сделал также «дополнительные
предположения». Их главная цель - намерение правительства слить со временем
горские общества с казачьим населением края - сохранялась «в
совершенной тайне». Для достижения поставленной задачи на горцев постепенно
140
одну за другой предполагалось возложить обязанности линейных казаков.
Рекомендовалось не обременять их излишними требованиями и
взысканиями, особенно телесными наказаниями, а также способствовать развитию
между казаками и горцами «дружелюбных отношений на обоюдных
выгодах».282
Главноуправляющему Кавказом поручалось пересмотреть проект в
соответствии с замечаниями императора. В апреле 1844 г. А. И. Нейдгардт,
однако, получил новое распоряжение - «окончательное рассмотрение и
приведение в исполнение управления покорными горскими народами Кавказа
отложить до другого более благоприятного времени».283 Кавказская война,
развернувшаяся в Дагестане и Чечне с новой силой, и события на Северо-
Западном Кавказе заставили правительство в Петербурге и кавказскую
администрацию сосредоточиться на решении других проблем.
В фондах Военно-исторического архива в делах Военного
министерства по проекту «Положения» об управлении горскими народами»...
сохранились материалы, дающие достаточно полное представление о том,
как управлялись народы Северного Кавказа в начале 40-х гг. XIX века.
Происхождение их связано с разработкой вышеупомянутого проекта и со
сбором информации в высших органах власти России об институтах
управления горцами, сложившихся к концу 30-х - началу 40-х гг. XIX в. Один
из таких документов «Записка» начальника штаба Отдельного Кавказского
корпуса генерал-майора Павла Евстафьевича Коцебу.
Все горские народы состояли «под главным начальством Командира
Отдельного Кавказского корпуса, а обитающие в пределах Кавказской
линии - под начальством Командующего войсками на Кавказской
линии».284 Управление горцами сосредоточивалось в Тифлисе, в Генеральном
штабе Отдельного Кавказского корпуса, на Северном Кавказе - в особой
Канцелярии для управления мирными горцами, учрежденной при штабе
командующего линией. Следующим звеном в этой управленческой структуре
были начальники флангов Кавказской линии, коменданты, бригадные
командиры. Так, начальнику Черноморской линии подчинялись «мирные
черкесские племена», занимавшие земли «от устья Кубани и до впадения в нее
реки Лабы»; начальнику Черноморской береговой линии - народы,
«живущие на восточном черноморском берегу от реки Ингури до устья Кубани»,285
начальнику Правого фланга - «народы, обитающие между Кубанью, Усть-
Лабою и Кавказским хребтом».286 В ведении начальника Центра Кавказской
линии полковника, князя Владимира Сергеевича Голицына (в должности с
1842 г.) находились Малая Кабарда, Карачай, Дигория и Балкария. (Большая
141
Кабарда подчинялась Голицыну не через приставов, а через Временный
кабардинский суд и не была включена в общий список). Владикавказский
комендант ведал частью Осетии и Ингушетией - «горцами, обитающими
по обе стороны Военно-Грузинской дороги от слободы Николаевской до
Казбека, на пространстве, ограниченном Большой и Малой Кабардой и
чеченскими племенами».287 Один из наиболее трудных участков -
управление чеченцами, кумыками и ногайцами, поручался начальнику Левого
фланга Кавказской линии генерал-майору Роберту Карловичу Фрейтагу (в
должности с 1842 г.). Северный и Нагорный Дагестан временно
находились в ведении командира первой бригады 19 пехотной дивизии, Южный
и Центральный Дагестан управлялись дербентским военно-окружным
начальником, лезгины - командиром третьей линейной бригады грузинских
батальонов. Управление закавказскими горскими народами вверялось
«местным военным начальникам».288
Одной из ключевых фигур военно-комендантской формы
правления был пристав. Приставская система стала складываться на Северном
Кавказе еще во второй половине XVIII в. В 30-е гг. XIX в. она приобрела
классические формы. Управление каждого народа поручалось
специальному приставу. Приставы назначались преимущественно из русских
офицеров, знакомых с обычаями и жизнью горцев, иногда ими становились
«благонадежнейшие и достойнейшие из горцев».289 Последних посылали
к «племенам, более прочих известных своеволием и дикостью нравов».290
При учреждении очередного приставства составлялась инструкция, в
соответствии с которой пристав нес службу. Обязанности пристава состояли в
наблюдении «за внутренним и внешним спокойствием», контролируемых
населенных пунктов и в предупреждении «сношений горцев, состоявших
в его управлении, с немирными» соседями.291 Он нес ответственность за
справедливое решение спорных дел и передачу виновных в уголовных
преступлениях в военный суд. При приставе находились помощники и кадий,
занимавшийся духовными делами. В подчинении приставов и их
помощников состояли горские владельцы и старшины. На них лежала
ответственность за «внутреннее управление подвластными жителями» в соответствии
с нормами обычного права. Одной из важных обязанностей приставов
являлось приведение в исполнение распоряжений начальства, касавшихся
управляемого ими народа.
Сохранившаяся служебная переписка между генерал-майором
П.Е. Коцебу и начальниками флангов Кавказской линии содержит
рекомендации последних об устранении недостатков приставской системы и
142
их отношение к возможным переменам в управлении горцами. Так,
генерал-майор Р. К. Фрейтаг был уверен, что «при настоящем положении»
вверенного его управлению края, «новый порядок не принесет никакой
пользы, потому что азиатцы всякое нововведение считают нарушением
прав своих, чем могут воспользоваться неблагонамеренные люди и
поколебать шаткие и легкомысленные умы народа».292 Как на неотложную меру,
практически все начальники флангов указывали на усиление власти
пристава и повышение его статуса в глазах местного населения. Считалось,
что «необходимо дать приставу власть», дававшую ему право «взыскивать
за неисполнение приказаний начальства. Первое условие управления ази-
атцами - скорое решение и немедленное законное взыскание».293 Авторитет
пристава среди местного населения напрямую, по мнению Р. К. Фрейтага
и полковника В. С. Голицына, зависел от величины его жалованья: «власть
приставов не может быть действительной, - объясняли они, - пока им не
назначат лучшего жалованья. Не имея средств к жизни, приставы живут за
счет своих кунаков, которым поневоле за их хлеб соль стараются сделать
всевозможные льготы и сколько возможно поддерживают их. Не имея
денег, пристав не пользуется никаким уважением, и от того приказания его
редко выполняются».294
В 1843 году А. И. Нейдгардт, сменивший на посту
главноуправляющего Е.А. Головина, внес предложение о реорганизации Левого фланга
Кавказской линии, Центра и управления Владикавказского комендантства
«как по части военной, так и в отношении управления покорными
племенами».295 Причиной будущих перемен стали частые нападения горцев на
транспорт, проезжавший по Военно-Грузинской дороге, также
неопределенность в том, какая часть кордона принадлежит управлению Центра,
а какая Владикавказскому комендантству. Не меняя сути сложившегося
управления - приставской системы, А. И. Нейдгардт упразднял
зависимость северокавказских народов от комендантов крепостей, превращая
военно-комендантскую форму правления в военную.
Центр Кавказской линии теперь состоял из бывшего Центра и
территории, подведомственной владикавказскому коменданту. Новый центр
делился на следующие части: 1. Владикавказский округ, включавший
Владикавказское комендантство «с причислением к оному Дигории». Во
главе округа назначался Владикавказский окружной начальник; ему
подчинялись как войска, расположенные в округе, так и народы, его
населявшие. Владикавказский комендант оставался заведовать только крепостью
и подчинялся окружному начальнику. Местом постоянного пребывания на-
143
чальника являлся Владикавказ. 2. Кабардинский округ состоял из Большой
Кабарды и Балкарии. Во главе его также стоял окружной начальник,
находившийся в Нальчике. 3. «Кисловодская линия в том виде, в каком она
ранее находилась, присоединяла к себе управление карачаевских племен».
Заведование ею поручалось командиру Волгского полка, который
одновременно именовался начальником Кисловодской линии. В его ведение
попадал карачаевский пристав. Резиденцией начальника линии была
определена станица Ессентукская. 4. В Моздокскую линию вошли бывшая
Кабардинская линия и Малая Кабарда. Начальнику Моздокской линии
подчинялся пристав Малой Кабарды. Моздок приобретал статус города и
переходил в военном и полицейском отношениях в ведение начальника линии.
Должность моздокского коменданта упразднялось. Начальник Моздокской
линии должен был находиться в Моздоке, приставу же Малой Кабарды
предписывалось переехать в один из малокабардинских аулов, «дабы имел
возможность ближе наблюдать за жителями».296
Начальник Центра Кавказской линии обязан был «иметь
местопребывание свое в Екатериноградском Заречном укреплении - пункте
наиболее центральном и удобном как для сношений с главным начальством
Кавказской линии, так и с подведомственными ему лицами».297
Левый фланг Кавказской линии делился на два участка: Сунженскую
и Кумыкскую линии. В Сунженскую линию входила территория по левому
берегу Сунжи до ее впадения в Терек. Командование линией поручалось
командиру Куринского егерского полка, в его ведение поступали
чеченцы, брагунцы и чеченский пристав. Кумыкская линия состояла из Терской
линии укреплений и постов, находившихся «в Кумыкских владениях». В
управлении начальника Кумыкской линии оставались чеченцы, кумыки и
ногайцы, «живущие в Кумыкских владениях», а также главный кумыкский
пристав и частные приставы.298
Таким образом, к 1845 году для управления горскими народами Кавказа
сложилась военная форма правления. Во главе ее стоял
главноуправляющий, действовавший через Генеральный штаб Отдельного Кавказского
Корпуса; ему подчинялся командующий Кавказской линией (он же
начальник, военный губернатор Кавказской области). При штабе командующего
Кавказской линией имелась Особая канцелярия для управления мирными
горцами (Ставрополь), занимавшаяся текущими делами. К высшему звену
в военно-административной системе относились также начальники
флангов Кавказской линии. Среднее и низшее звенья были представлены
приставами, их помощниками, а также владельцами и старшинами.
144
§3. КАВКАЗСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО (1844-1882 ГГ.)
В системе российского политико-административного устройства
Кавказа ведущую роль сыграло наместническое управление. История
развития наместничества на Кавказе подразделяется на два этапа. Первый
(1785-1796 гг.) - учреждение Кавказского наместничества в Предкавказье
в рамках общероссийской губернской реформы 1775 года с типичными
для центральных районов России органами власти. Административные
действия российского правительства в этот период были продиктованы не
столько стремлением «обустроить» край, сколько сложившейся
внешнеполитической ситуацией и ярко выраженной тенденцией к дальнейшему
распространению российских владений на Кавказе. Второй этап охватывает
более длительное время - с конца 1844 года по 1882 год. Он начинается,
когда в высших государственных учреждениях Петербурга
общепризнанной стала необходимость установления общей на всей территории Кавказа
специальной формы управления.
Идея введения наместнического управления на Кавказе
принадлежала М. П. Позену - управляющему Временного VI отделения Собственной
е. и. в. канцелярии, образованного для разработки законодательных
предложений по устройству Закавказья. С инициативой установить на Кавказе
новую, особую форму управления М.П. Позен выступил в начале 1844 года.
Его замысел предусматривал создание структуры, наподобие той, которая
существовала для царства Польского - учреждение должности
статс-секретаря по делам Кавказа, на этом посту управляющий Временным
отделением видел себя с непосредственным подчинением ему наместника.
Временное VI отделение и Закавказский комитет теряли свое значение и
упразднялись.
Однако до учреждения должности статс-секретаря предстояло
рассмотреть вопрос о назначении наместника. По мнению Николая I,
А. И. Нейдгардт, не проявивший должного рвения на кавказской службе, не
могзанятьновыйпостнаместника. Отставка главноуправляющего,
«изнемогавшего от непосильных трудов», была принята299. Историк В.Н. Иваненко
писал, что Кавказ, погубивший репутации Ермолова, Розена, Гана, Головина
и Нейдгардта, требовал «человека, равно обладавшего и военными
дарованиями и государственной мудростью»300. Поражения российских войск
на кавказском фронте и неудачи в сфере административного управления
вынуждали правительство к особенной придирчивости в выборе будуще-
145
го наместника. Выбор императора, по рекомендации М. П. Позена, пал на
новороссийского генерал-губернатора Михаила Семеновича Воронцова. В
своем письме М.С. Воронцову Николай I изложил мотивы, побудившие
избрать именно его на пост главы Кавказского края: это - «необходимость
соединения в одних руках разрозненных военной и гражданской властей,
как одного из радикальных средств противодействия Шамилю и
упорядочивания административной системы». «Зная ваше всегдашнее пламенное
усердие к пользам государства, - писал император, - выбор мой пал на
вас в том убеждении, что вы, как главнокомандующий войск на Кавказе и
наместник мой в сих областях с неограниченным полномочием,
проникнутые важностью поручения и моим к вам доверием, не откажитесь
исполнить мое ожидание»301. Граф М. А. Корф в своих мемуарах вспоминал:
«Император боялся только одного, что престарелый ветеран не примет
важного, но слишком затруднительного поста, сулившего огромные
заботы при весьма загадочных лаврах, и с историческим, популярным в
целой Европе именем своим, предпочтет проблематической славе тот
заслуженный покой, которым он наслаждался»302. Однако шестидесятилетний
М. С. Воронцов считал себя «способным» и «потому обязанным нести
павшее на него бремя»303.
24 декабря 1844 г. царским указом М.С. Воронцов назначался
наместником Кавказским и главнокомандующим Отдельным Кавказским
Корпусом, а 2 января 1845 года он прибыл в Петербург для определения
круга своих полномочий304. В ходе обсуждения проекта царского рескрипта
между М. П. Позеном и М. С. Воронцовым возник конфликт. Было заметно,
что управлявший Временным отделением сравнивал собственные
властные прерогативы с полномочиями, которые получал от императора
наместник. В разгоревшемся споре Николай I занял сторону М.С. Воронцова.
М. П. Позен был отправлен в отставку. Вместе с ним ушла в небытие и идея
об учреждении должности статс-секретаря по делам Кавказа305.
Николай I не изменил своего решения и по поводу упразднения
Временного VI отделения и Комитета об устройстве Закавказского края.
Их деятельность, связанная с подготовкой к открытию нового высшего
органа власти для управления Кавказом — Кавказского комитета,
признавалась завершенной. Указ Сената от 3 февраля 1845 года306 устанавливал
новый порядок высшего управления краем. Название комитета «Кавказский»,
вместо «Закавказского», красноречиво свидетельствовало о расширении
функций комитета и распространении их на весь Кавказский край - от
закавказских территорий до Кавказской области. В состав комитета во-
146
шли опытные чиновники, занимавшие высокие государственные посты:
военный министр генерал-адъютант кн. А. И. Чернышев (председатель),
великий князь цесаревич Александр Николаевич, шеф жандармов
генерал-адъютант граф А. Ф. Орлов, министр государственных имуществ граф
И. Д. Киселев, председатель Департамента законов Государственного
совета граф Д. Н. Блудов, министр внутренних дел граф Л. А. Перовский,
министр юстиции граф В. Н. Панин. Управляющим делами Кавказского
комитета был назначен В. П. Бутков. Этот состав не менялся до 1852 года307. Дела
комитета вела специальная канцелярия. Ее штат состоял из управляющего
делами, двух помощников, архивариуса и шести писарей. Управляющий
делами, по представлению председателя комитета, назначался и
увольнялся царем, все остальные чиновники канцелярии назначались и
увольнялись управляющим. Канцелярия Кавказского комитета в порядке ведения
делопроизводства руководствовалась правилами, принятыми в Комитете
министров. Этот пункт особо оговаривался в «Положении о Канцелярии
Кавказского комитета от 3 февраля 1845 года»308. Все дела, направлявшиеся
из министерств и главных управлений в Кавказский комитет, поступали к
управляющему делами комитета, В. П. Бутков докладывал о них
председателю. Переписка с кавказским наместником, министрами и
главноуправляющими производилась самим председателем; с департаментами
министерств и канцеляриями переписку вел управляющий делами.
В компетенцию Кавказского комитета входило рассмотрение всех
дел по Закавказью и Кавказской области; их решение выносилось за
рамки полномочий министерств и главноуправляющих. Даже в тех случаях,
когда какой-либо вопрос требовал принятия общих мер, касавшихся всей
России, в том числе и Кавказа, последний, Кавказ, выделялся из общего
делопроизводства и передавался на рассмотрение в Кавказский комитет309.
Предоставление кавказскому наместнику неограниченных прав
повлекло за собой установление законов, регулировавших порядок
взаимодействия наместника и Кавказского комитета310. Первоначально
предполагалось, что наместник по всем делам своего управления должен обращаться
в министерства, а затем министерства направляли бы дела для дальнейшего
прохождения в Государственный совет, Комитет министров и Кавказский
комитет. В 1846 году этот порядок был изменен. М.С. Воронцов по всем
вопросам, решение которых превышало его власть, обращался
непосредственно к председателю Кавказского комитета, а в особо важных
случаях - прямо к императору. При этом наместник обладал правом сноситься
с министерствами в обход Кавказского комитета. В результате сфера де-
147
ятельности Комитета сводилась к решению вопросов об
административном управлении, судопроизводстве, финансах, торговле, промышленности,
землевладении, сельском хозяйстве, переселении, просвещении, службе
чиновников311. Проблемы военно-политического характера оставались за
рамками Кавказского комитета и считались прерогативой царя и военного
министра. Некоторый парадокс ситуации состоял в том, что М. С. Воронцов
порой игнорировал А. И. Чернышева как председателя комитета и
обращался к нему же, но как к военному министру.312
В соответствии с указами Николая I от 30 января 1845 года «Об
усилении прав гланоуправляющего гражданской частью на Кавказе»313 и от
6 января 1846 года «Правилами об отношениях Кавказского Наместника»314
весь Кавказский край от Закавказья до Предкавказских степей составлял
Кавказское наместничество и подчинялся М.С. Воронцову. Кавказский
наместник, наделенный военными и дипломатическими
полномочиями, обладал неограниченной гражданской властью. В параграфе первом
«Правил» указывалось, что «все вообще находящиеся в Закавказском
крае и Кавказской области правительственные места и лица как
принадлежащие к общему губернскому управлению, так и отделенные от оного,
вполне подчиняются наместнику кавказскому»315. Наместнику поручался
надзор за действиями всех военных и гражданских чиновников, а также
государственных учреждений на Кавказе независимо от их
принадлежности к тому или другому ведомству. Никто из представителей кавказской
администрации не имел права обращаться в высшие и центральные органы
власти России без специального разрешения наместника. В свою очередь,
министерства и высшие российские учреждения обязаны были направлять
распоряжения, циркуляры и т. д. для губернских и областных учреждений
Кавказа только через наместника. Наместнику подчинялись все созданные
российским правительством на Кавказе судебные органы. Губернские и
областные прокуроры представляли свои протесты не министру юстиции, а
кавказскому наместнику316. Наместник занимался распределением
денежных средств и контролировал их расходование317.
М. С. Воронцов добился, «чтобы влияние министров на дела
вверенного ему края было совершенно прекращено», и никакие распоряжения
министров, имевшие силу для всей империи, не были допустимы на Кавказе
без предварительного согласия наместника318. Все справки, отчеты,
сведения, объяснения по делам гражданского управления должны были
требоваться министерствами «не иначе, как через наместника Кавказского»319.
М.С. Воронцов признавал возможным лишь право министра финансов
148
осуществлять ревизию финансовой деятельности кавказского
административного аппарата.
Совет Главного управления Кавказом сохранялся. Его председателем
формально являлся наместник, однако исполнение обязанностей
председателя возлагалось на начальника гражданской частью в Закавказском крае320.
Рамки полномочий Совета предоставлялось определить М. С. Воронцову
самостоятельно. Используя имевшиеся полномочия, наместник подверг
перестройке отдельные звенья административного аппарата на Кавказе.
30 ноября 1845 года он сообщил А. И. Чернышеву о своем желании
произвести изменения в статусе канцелярии наместника. В пояснительной
записке необходимость возведения канцелярии в ранг департамента
министерства обосновывалась обширностью пределов региона и наличием
границ с Турцией и Ираном. Намечалось сосредоточить управление края в
канцелярии наместника, которая заведовала бы и делами Совета Главного
управления321. В начале 1846 г. мнение М. С. Воронцова получило
высочайшее утверждение322. Директором канцелярии стал СВ. Сафонов. Вскоре
выяснилась громоздкость канцелярского «сооружения». В связи с этим в
1848 году начальнику Главного управления В. О. Бебутову было передано
заведование текущими делами и подчинена часть особой канцелярии
наместника. В этот же период из двух палат государственных имуществ
учреждалась экспедиция государственных имуществ на правах министерского
департамента.
В 1846 году М.С. Воронцов обратился к Николаю I с
предложениями о введении в областях сокращенного управления и о создании новых
областей в Закавказье323. Идея упрощенного управления заинтересовала
императора и была им одобрена. 30 ноября Кавказский комитет заслушал
проект М.С. Воронцова. Комитет нашел нужным с учетом опыта
«особых» управлений Польши, Финляндии и Сибири переименовать области
в губернии, их округи - в уезды и не обозначать в названии
административно-территориальных единиц этническую принадлежность живущего в
ней населения. Так, Комитет признал, что «названия Закавказских
губерний: -Грузинской или Грузино-Армянской, Имеретинской, Дагестанской и
Каспийской вообще неудобно и несогласно с общим порядком, принятым
в Империи»324. 14 декабря 1846 г. Николай I утвердил «Положение о
разделении Закавказского края»325. Учреждались Тифлисская, Шемахинская,
Кутаисская и Дербентская губернии (Эриванская губерния была
образована в 1849 г.) Руководство Тифлисской, Шемахинской, Кутаисской
и Дербентской губерниями вверялось военным губернаторам с правом
149
управления гражданской частью. По военной части они состояли в
ведомстве военного министерства и подчинялись главнокомандующему
Отдельным Кавказским Корпусом, а по гражданскому управлению -
наместнику Кавказа и начальнику гражданского управления. На них
возлагалось «неусыпное попечение о безопасности и спокойствии»326 вверенных
губерний. Допускалось использование войск для восстановления
«порядка»327. Гражданское управление Закавказского края выглядело следующим
образом: 1. Главное управление - начальник гражданского управления,
он же - председатель Совета Главного управления, закавказская
казенная палата, комиссия государственных имуществ, приказ общественного
призрения и врачебное управление; 2. Губернское управление, с 10 апреля
1840 года действовавшее в соответствии с «Учреждением о губерниях» от
10 апреля 1840 года, но без казенной палаты и без палаты государственных
имуществ; его возглавлял военный губернатор; 3. Окружное управление
осуществлялось специальным положением; 4. Местное управление -
уездное, участковое, сельское.
Перемены в области управления затронули и Кавказскую область.
Согласно высочайшему рескрипту от 30 января 1845 года, к общему
составу кавказского гражданского управления присоединялась Кавказская
область. Кавказскому областному начальству запрещалось по вопросам,
превышавшим их власть, обращаться в министерства. Высшей
инстанцией для областного управления становился наместник328. По прибытии на
Кавказ М. С. Воронцову поручалось рассмотреть возможность отделения
от Кавказской области земель, принадлежавших военному ведомству, и
отмены «влияния на гражданское управление командующего войсками на
Кавказской линии или ограничить его известными пределами»329.
Вопрос об отделении земель и разделении функций военного и
гражданского ведомств в Кавказской области наместник обсудил с
начальником области (он же командующий Кавказсой линией) генерал-лейтенантом
Николаем Степановичем Завадовским. Последний докладывал, что
«гражданское и военное население Кавказской области перемешано так, что или
казачьи станицы окружены селениями казенными и помещичьими, или сии
последние казачьими станицами»330. При таком смешении поселений
разделение их поземельных границ было невозможно. Для подчинения
жителей области одному ведомству, по мнению Н. С. Завадовского, пришлось
бы или присоединить к Кавказскому линейному казачьему войску все
гражданское население с землями от Кизляра до Ставрополя, в том числе и
города, или перевести казаков в гражданское ведомство. Первая мера гро-
150
зила экономической катастрофой. Она лишала казну податных и земских
сборов, фактически уничтожала торговлю и промышленность области, т. к.
страх быть причисленным к казачьему сословию, наверняка, заставил бы
купцов и промышленников покинуть пределы Кавказской области. Вторая
-не могла быть допущена «по военным обстоятельствам края»331.
Действующую административную систему Н.С. Завадовский считал
наиболее эффективной. Он объяснял, что внутри Кавказской области
военная и гражданская власть действует каждая в сфере своего ведомства и
не зависят друг от друга. «Только главное ими управление составляется
в лице Командующего войсками областного начальника»332. С
разделением этих должностей Н. С. Завадовский связывал появление большого
количества «неудобств» в управлении. «По огромному пространству земли
Кавказской области и Закавказья, по разнородности и сложности вопросов
и дел и по необыкновенной деятельности, требуемой обстоятельствами
края, невозможно Кавказскому наместнику содержать в памяти
положения всех частей с такой подробностью, с какой может быть и должен знать
Командующий войсками областной начальник. С уничтожением его звания
или разделением власти на части, все частные начальники будут
обращаться с представлениями к наместнику, отчего возникнет большая переписка
и произойдет медленность в решении дел, не терпящих отлагательства»333.
Генерал-лейтенанту Завадовскому удалось убедить М.С. Воронцова в
бесперспективности отделения военного управления от гражданского.
В 1846-1847 гг. обсуждался также вопрос о переименовании Кавказской
области в Ставропольскую губернию. 19 апреля 1847 года дело о
переименовании рассматривалось в Кавказском комитете.334 Основанием для
будущих перемен комитет счел тот факт, что управление области устроено
«почти на тех же главных началах, как и все вообще губернии империи,
с некоторыми незначительными изъятиями».335 Эта мера была поддержана
как администрацией области, так и наместником. Переименование области
в губернию преследовало цель установить единообразие в
административно-территориальном делении как всего Кавказского края, так и «в общем
именовании разных частей государства»336. Как и закавказские губернии,
новая губерния получила свое название от имени центрального города -
Ставрополя. 2 мая 1847 года вышел указ о преобразовании Кавказской
области в Ставропольскую губернию; ее округи приобрели статус
уездов, а Кавказский областной суд - Ставропольской палаты уголовного и
гражданского суда. Ставропольская губерния управлялась в соответствии
с «Учреждением», изданным в свое время для управления Кавказской об-
151
ластью. Командующему войсками на Кавказской линии поручалось, как и
прежде, управление гражданской частью Ставропольской губернии337.
В 1848-1849 гг. правительством были предприняты новые изменения
в порядке общего управления Ставропольской губернией (указы от 18
декабря 1848 г. и от 26 октября 1849 г.) 338. По предположению наместника,
Кавказский комитет принял решение применить к управлению губернией
некоторые из постановлений, действовавших в общем российском порядке
губернского устройства. Основанием к этому послужило увеличение
народонаселения Ставропольской губернии за счет его притока из
внутренних районов России. Согласно указу, ставропольский гражданский
губернатор в своих действиях обязан был руководствоваться правилами,
изложенными в общем Наказе гражданским губернаторам, в соответствии со
статьями 291-639, т. 2 Свода Общего Губернского Учреждения, изданного
в 1842 году. При этом упразднялся Губернский Совет в Ставрополе. Его
функции распределялись между губернским Правлением и управляющим
гражданской частью в Ставропольской губернии. Гражданский
губернатор получал право взамен Совета собирать под своим председательством
начальников отдельных частей для рассмотрения дел «особой важности
и требующих общего соображения»339. Канцелярия губернского Совета
переименовывалась в Канцелярию управляющего гражданской частью
Ставропольской губернии. Таким образом, структура гражданского
управления Ставропольской губернией практически полностью повторяла
местные административные учреждения, существовавшие в России. Между
тем определенная специфика в подчинении административного аппарата
губернии продолжала сохраняться. Как и все административные
учреждения на Кавказе, ставропольское местное управление по-прежнему
находилось в полной зависимости от наместника Кавказского и не могло
самостоятельно делать представления в высшие и центральные
государственные учреждения России. Порядок назначения и увольнения чиновников по
ставропольскому губернскому правлению и Канцелярии ставропольского
гражданского губернатора определялся правилами, особо
установленными для Кавказского и Закавказского края. Так, управляющему гражданской
частью в губернии предоставлялось право назначения и увольнения
чиновников от 14 до 7 класса включительно; назначение должностей, начиная с
6 разряда и выше, являлось прерогативой наместника.
«Инородцы» в Ставропольской губернии управлялись особыми
приставами. Они не зависели от губернских и уездных властей и подчинялись
как и раньше, непосредственно командующему Кавказской линией. По
152
указу от 15 января 1849 года приставы утверждались в должности
наместником Кавказским. По поводу процедуры назначения пристава в указе
подчеркивалось, что «государь император... повелеть соизволил предоставить
князю Воронцову самому утверждать приставов горских народов, сообщая
об этом для сведения и зачисления по армии или кавалерии тех из них,
которые будут назначены из войск регулярных»340.
К концу 40-х годов XIX в. управление «мирными и покорными»
горцами, находившимися в ведении начальников частей Кавказской линии и
командующего, не претерпело серьезных изменений. Согласно «Военно-
статистическому обозрению Российской империи», точных,
установленных правил для управления этими народами не существовало; «они
управлялись по древним обычаям и дела их решались по адату или шариату»341.
В военно-историческом архиве нами обнаружены материалы,
свидетельствующие о том, что «Положение о шариатском, третейском и
уголовном суде», составленное капитаном Н.И. Вольфом в 1839 году в виде
проекта, применялось в период правления М. С. Воронцова. Оно действовало
для всех горских народов, «покорных России».342
Горские народы Правого фланга Кавказской линии343 были разделены
на пять приставств. 1. Главное приставство закубанских народов
занималось делами ногайцев: «Мансуровским, Кипчаковским, Султановским и
абазинцами Дударукова аулов». 2. Тахтамышское приставство заведовало
ногайцами «рода Тахтамышевцев», частью абазинских и частью
кабардинских аулов. 3. Приставство бесленеевское и закубанских армян ведало
ногайцами «Наврузовской фамилии, частью Султановского племени,
народом Бесленеевским и Закубанскими армянами». 4. Приставство «за-Лабин-
ских народов» заведовало темиргоевцами, «хатукаевским, бжедуховским»
и частью бесленеевского народа. 5. Приставство при управлении
командующего Зеленчукской линией ведало частью абазинцев и кабардинцами.344
К управлению начальника Центра Кавказской линии принадлежали
«кабардинцы, дигорцы, малкарцы, карачаевцы, часть абазинцев»345. В военном
отношении Центр по-прежнему делился на четыре линии: «Кисловодскую,
Внутреннюю Кабардинскую, часть Военно-Грузинской дороги до
пределов Владикавказского военного округа»346. Центру Кавказской линии как
и ранее подчинялись четыре приставства: Малокабардинское, Дигорское,
Малкарское и Карачаево-Абазинское; Большая Кабарда имела отдельное
управление и находилась в непосредственном ведении начальника Центра
линии347.
25 июня 1845 года высочайшим указом из части Центра Кавказской
линии и территории, подведомственной владикавказскому коменданту,
153
был образован Владикавказский военный округ348. В соответствии с
указом начальником его назначался бывший комендант Владикавказской
крепости генерал-майор Петр Петрович Нестеров349. Звание
начальника Владикавказского округа приравнивалось бригадному
командиру350. Владикавказский военный округ состоял из четырех приставств:
«1) алагирского и куртатинского народов; 2) горских народов; 3) назранов-
ского и 4) начальника Верхне-Сунженской линии»351. В алагирское и кур-
татинское приставство вошли жители Осетии, населявшие Алагирское и
Куртатинское ущелья. К приставству горских народов были отнесены осе-
тины-тагаурцы и ингуши-джерахи, цоринцы, кистинцы, малхинцы и галга-
евцы. Назрановское приставство составили ингуши-назрановцы,
приставству при управлении начальника Верхне-Сунженской линии
принадлежали ингуши-галашевцы352.
Левый фланг Кавказской линии в основном населяли чеченцы, кумыки
и ногайцы. Кумыки и ногайцы входили в Главное кумыкское приставство.
Оно разделялось на три частных приставства - андреевское, аксаевское и
костекоевское. Из жителей Левого фланга наиболее многочисленными
считались чеченцы. В 40-е гг. XIX века одна их часть находилась под
управлением российской администрации, вторая - состояла в имамате Шамиля.
К «покорным» России относились Надтеречные чеченские аулы - Старый
Юрт, Новый Юрт, Брагуны, а также аулы, расположенные близ
укреплений Умахан-Юрт, Закан-Юрт, Урус-Мартановского, крепостей Грозной и
Воздвиженской. Надтеречные чеченцы, население Старого и Нового Юрт
и Брагун подчинялись чеченскому приставу. Его местопребыванием
являлось укрепление Горячеводское. Остальные «покорные» чеченцы
находились в ведении воинских начальников близлежащих крепостей353.
С. Эсадзе отмечал, что горская администрация при М. С. Воронцове
оставалась почти в том же виде, как во времена А. П. Ермолова; горцами
«заведовали приставы, подчиненные в административном отношении
начальникам отделов Кавказской линии»354.
Лейтмотивом административной деятельности М. С. Воронцова
являлось повсеместное использование принципа «сокращенного управления»,
позволявшего экономить казенные средства и усиливать эффективность
механизма управления.
Особое внимание наместник обратил на улучшение контингента
чиновников. В годы управления М. С. Воронцова «общей системой» стало
назначение на чиновничьи должности представителей коренных народов
Кавказа. С. Эсадзе писал о «русском элементе», «сравнительно ослаблен-
154
ном» в административных учреждениях при М. С. Воронцове355. Этому
способствовали разные причины. Одна из них - негативное отношение всех
слоев общества к русскому чиновничеству, особенно к его низшему звену.
А. В. Фадеев отмечал, что возможность легкой наживы и бесконтрольного
хозяйничания на далекой окраине манили на Кавказ всякого рода
авантюристов, уже запятнанных различными преступлениями. В рядах
кавказского чиновничества первого призыва находились преимущественно
неудачники и мелкие карьеристы, обольщенные преимуществами службы в
крае. Кавказ был той окраиной Российской империи, где служба
оговаривалась специальными льготами. За приезд сюда давался чин коллежского
асессора, равный чину майора в военной табели о рангах356. Помимо
звания, чиновники получали дополнительное денежное поощрение, право на
получение ордена св. Владимира 4-й степени, пенсии и др. В участковых
начальниках местные жители видели «олицетворенное лихоимство»357. В
40-е годы, после реформы П. В. Гана, число чиновников на Кавказе резко
возросло. В отчете за 1845 год М. С. Воронцов писал о своем «изумлении»
значительным числом чиновников разных ведомств, ищущих мест и
должностей. «В 1840 году, - отмечал наместник, - с открытием разных
присутственных мест были вызываемы чиновники из России. Краткость времени
и настоятельная нужда в них лишали всякой возможности обратить строгое
внимание на выбор чиновников; присутственные места наполнялись
людьми, которых правительство нашло необходимым вслед за тем лишить мест.
Независимо от сего ежегодно увеличивается число туземцев, получивших
образование в гимназиях и других заведениях России, которые стараются о
получении мест»358. Содержание русского чиновничества требовало
дополнительных издержек от казны из-за переездов, необходимости включать в
штаты переводчиков и выполнения обещанных государством льгот. В
апреле 1852 года с целью частичного сокращения расходов князь М. С. Воронцов
даже обратился к председателю Кавказского комитета с предложением об
отмене преимуществ, дарованных чиновникам, вызываемым из России на
службу в Кавказский край. Однако эта инициатива не была поддержана359.
Назначение в административные и судебные органы представителей
местного населения разом решало все эти задачи. Кроме того, привлечение их к
разработке и подготовке законодательных и административных вопросов,
по мысли М. С. Воронцова, должны были приобщить окраины к
общерусской гражданственности и связать «разноплеменный край» с империей360.
Путь сближения кавказских народов с Россией М. С. Воронцов видел не в
репрессивных методах управления, а в учете специфики края, в постепен-
155
ных и осторожных действиях администрации. «Всякая перемена, - писал
наместник Кавказа государю, - и всякое нововведение, изменяющее
вековые обычаи, чрезвычайно трудно к введению везде, но особенно в здешнем
крае, а потому в подобных случаях надобно действовать с большою
осторожностью. Насильственные меры не только не принесут добра, но могут
иметь очень дурные последствия»361.
Десятилетнее наместничество М. С. Воронцова составляет особый
период в истории Кавказа. При нем произошло формирование основных
административных структур наместничества362. В годы его управления
многое было сделано для развития экономики, культуры и просвещения края.
Тогда же было установлено пароходное сообщение между портами Черного
и Каспийского морей, открыто большое число школ, учреждена Публичная
библиотека в Тифлисе, образованы кавказские отделы Географического
общества и Общества сельского хозяйства, положено начало изданию
газеты «Кавказ» и «Кавказского календаря». По распоряжению наместника в
Тифлисе был построен театр с представлениями на русском и грузинском
языках и итальянской оперой363.
В 1854 году наместник обратился к Николаю I с прошением об
отставке в связи «со слабостью здоровья»364. 19 октября 1854 года указом
государя М. С. Воронцов был освобожден от должности наместника и
покинул Кавказ. Его преемники - Николай Андреевич Реад, а затем Николай
Николаевич Муравьев, занятые главным образом военными действиями
на Северо-Восточном Кавказе и в Крымской войне, не оставили заметных
следов в истории управления Кавказом.
Новый этап в развитии административных учреждений на Кавказе
начинается с 22 июля 1856 года - со вступлением на пост наместника
Александра Ивановича Барятинского. Сравнивая князя Барятинского с
его предшественником, В.Н. Иваненко подчеркивал, что «... Муравьев
уступил место молодому, блестящему, очень умному князю Александру
Ивановичу Барятинскому. В полную противоположность своему
предместнику - мрачному и суровому, Барятинский любил жизнь, общество, блеск
и больше всего великолепие власти»365. Пользуясь личной дружбой
Александра II, новый наместник Кавказа получил право приступить
«собственною властью» к осуществлению «нужных преобразований» и сообщать об
изданных распоряжениях только «для сведения» Кавказскому Комитету.
12 сентября 1856 года специальным указом определялась отчетность
наместника и кавказской администрации. Начальникам губерний Кавказского
и Закавказского края предписывалось представлять всеподданнейшие
156
отчеты государю через А. И. Барятинского с тем, чтобы последний
представлял их царю «со своими отметками»366. Губернаторам запрещалось
самостоятельно отсылать отчеты или их копии во все российские высшие и
центральные органы власти. Кроме того, 25 апреля 1857 г. был издан указ,
регламентировавший отношения наместника Кавказского и Сената. Князь
Барятинский получал право приостанавливать исполнение указа Сената
по делам судебным, гражданским или уголовным в случае «местных
неудобств, затруднения или вреда» для Кавказского края. При поступлении
в Сенат дел, имевших отношение к Кавказу, Сенат лишался возможности
направлять их для рассмотрения в министерства и мог обратиться только к
наместнику367.
Получив должность наместника, но еще не успев выехать из
Петербурга, А. И. Барятинский уже предпринял первые шаги для полной
своей независимости. 8 августа он подал Александру II докладную
записку, в которой просил изъять все доходы и расходы по Кавказскому краю из
ведомства Министерства финансов и предоставить их в полное
распоряжение наместника, как это было до 1840 года368. Таким образом, уже через 16
дней после назначения на Кавказ, А. И. Барятинский освободился от опеки
министра финансов.
Прибыв в Тифлис, он приступил к разработке проектов гражданского
и военного управления краем и вскоре представил их императору. По
мнению историка С. Эсадзе, быстрое развитие гражданской жизни Кавказского
и Закавказского края служило поводом к частым переменам в устройстве
местных административных установлений. Несмотря на целый ряд
предпринятых в разное время реформ, гражданские учреждения края
постоянно нуждались в новой реорганизации, вызываемой множеством
накопившихся законодательных работ369.
4 апреля 1857 года для работы над проектами нового
административного устройства региона А. И. Барятинский создал особую
государственную структуру в Тифлисе, в определенной мере напоминавшую II
отделение Собственной е. и. в. канцелярии и получившую название Временного
отделения при Главном управлении наместника Кавказского370. Его штат
составили - управляющий, главный производитель редакционных работ,
два редактора и несколько писарей. Законодательное отделение возглавил
д. с. с. Александр Алексеевич Харитонов, управлявший перед этим
казенной палатой. Позже на посту управляющего его сменил Василий Антонович
Инсарский - «великий мастер по части литературной и кодификационной
обработки предложений Барятинского»371. Одновременно с учреждением
157
Временного отделения наместник приказал провести тщательный сбор
информации обо всех губернских и уездных учреждениях, «о доходах и
расходах и прочих тому подобных предметах, входящих в состав
административной статистики»,372 и об общем состоянии края. Изучив
присланный материал, наместник обнаружил серьезные изъяны в сложившейся
административной системе. Одним из таких недостатков А. И. Барятинский
счел сосредоточение вопросов по всем отраслям управления в небольшой
канцелярии наместника. По этой причине к наместнику «восходила масса
бумаг по всем делам и на нем тяготело все бремя распорядительной и
исполнительной власти»373. При этом с образованием канцелярии наместника
(1846 г.) Совет Главного управления и начальник Главного управления
лишались влияния на многие дела гражданского характера, т. к. через
канцелярию они поступали непосредственно наместнику374.
В условиях Кавказской войны стремление А. И. Барятинского снять с
себя «бремя» гражданской власти являлось вполне оправданным. Плодом
деятельности наместника и Временного отделения в этом направлении
стало «Положение о Главном управлении и Совете наместника Кавказского»375,
введенное в действие с 1 января 1859 г.; «Положение» было утверждено
21 декабря 1858 года князем Барятинским самостоятельно «по высочайше
представленной ему власти», без учета существовавших нормативных
правил прохождения подобных документов через инстанции высших
правительственных законодательных органов.
По «Положению» канцелярия наместника и экспедиция
государственных имуществ упразднялись и в структуре Главного управления
учреждались пять департаментов, фактически исполнявшие роль министерств.
В.Н. Иваненко отмечал, что, «отстранив всякую зависимость от
министров и других высших установлений», А. И. Барятинский вынужден был
учредить в Тифлисе «те самые законодательные и высшие
административные и судебные учреждения, услугами которых он перестал
пользоваться в Петербурге»376. Функции Министерства внутренних дел возлагались
на департамент общих дел, в котором сосредоточились распоряжения
«по частям: инспекторской, учебной, почтовой, медицинской,
карантинной, строительной и по всем предметам, не входящим в круг действия
других управлений377. Его возглавил Алексей Федорович Крузенштерн -
бывший директор канцелярии наместника, занявший одновременно пост
начальника Главного управления378. Характеризуя А.Ф. Крузенштерна,
В. А. Инсарский писал о нем как о человеке «очень порядочном и близком
наместнику, но сравнительно еще очень молодом и решительно ничем не
158
выдающемся»379. За департаментом общих дел следовал судебный
департамент. Он предназначался для рассмотрения принадлежавших ведению
наместника дел судебного и судебно-полицейского характера; ему поручался
высший надзор и «распоряжения по судебной части вообще». Директором
департамента судебных дел был назначен князь Иван Константинович
Багратион-Мухранский380. Далее шел департамент финансов,
сосредоточивший руководство доходами, расходами, земскими денежными
повинностями края, заведывание «питейными сборами, горной и соляной частями»
и таможенным управлением. В его обязанности входило проведение мер,
способствовавших оживлению внутренней и внешней торговли и
развитию «заводской и мануфактурной промышленности». Во главе его стал
д. с. с. А. А. Харитонов, достаточно долго занимавшийся финансами края.381
В функции департамента государственных имуществ вошло заведывание
казенными землями, государственными крестьянами и «государственным
имуществом вообще»382. Должность директора этого департамента занял
Юлий Федорович Витте - отец будущего премьер-министра России383.
Пятым департаментом в Главном управлении наместника было Особое
управление сельского хозяйства и колоний иностранных поселенцев. Оно
ведало казенными лесами, казенными сельскохозяйственными
заведениями, учрежденными для развития сельскохозяйственной культуры края и
колониями иностранных поселенцев. 29 ноября 1859 года, через год после
реорганизации деятельности Главного управления, в его структуре
появилось еще одно новое подразделение - контрольный департамент,
занимавшийся ревизией денежных отчетов, подчиненных наместнику гражданских
учреждений384. Поддержав А. Ф. Крузенштерна при создании контрольного
департамента, А. И. Барятинский, тем не менее, считал его функции
надуманными. В. А. Инсарский в своих «Записках» вспоминал, что наместник
сам как-то сказал ему: «Этот департамент Крузенштерн сочинил для своего
приятеля Хрысцинича»385.
При Главном управлении существовал коллегиальный орган - Особое
управление о земских повинностях присутствие по Закавказскому краю,
состоявшее из высших чиновников Главного управления. В нем
обсуждались и утверждались раскладки земских повинностей в крае и сметы
подрядов, распределялось расходование крупных сумм. При наместнике
находилась особая Дипломатическая канцелярия386.
Все департаменты, имевшие своих директоров или управляющих,
подчинялись начальнику Главного управления, который считался главным
помощником наместника по гражданской части и одновременно руководил
159
департаментом общих дел. Через него к наместнику поступали все
доклады департаментов, координировалась их деятельность.
Вместо Совета Главного управления учреждался Совет наместника
Кавказского. Согласно «Положению», ему представлялись на
рассмотрение только те вопросы, которые наместник считал возможным поручить
Совету в том или ином конкретном случае. Председателем Совета был
назначен генерал-адъютант Григорий Дмитриевич Орбелиани, а членами
- попечитель Кавказского учебного округа камергер двора е. и. в. барон
Александр Павлович Николаи, Ипполит Александрович Даспик-Дюкруаси
и члены бывшего Совета Главного управления Андрей Михайлович
Фадеев, Дмитрий Иванович Кипиани, Федор Евстафьевич Коцебу, Андрей
Францевич Десимон и Василий Иванович Смиттен387. Прежде
большинство членов Совета наместника Кавказского заведывало отдельными
частями Совета Главного управления: учебной, почтовой, таможенной и
государственными имуществами; после того, как все эти части отошли
в ведомство департаментов, они остались не у дел. В годы управления
А. И. Барятинского деятельность Совета была малозаметной. Возможно,
поэтому в конце 1857 года генерал-адъютант князь Г. Д. Орбелиани
получил второе назначение - на должность тифлисского генерал-губернатора.
Его главной обязанностью стало замещение А. И. Барятинского при
отъездах из края.
Временное отделение, разработавшее положения о Главном
управлении и Совете наместника Кавказского, сохранялось. Оно
переименовывалось во Временное отделение по делам гражданского устройства края
и по-прежнему занималось разработкой «бесчисленных законопроектов
А. И. Барятинского»388. Руководство отделением не менялось. Оно
поручалось д. с. с. Инсарскому, который, одновременно исполнял обязанности
директора Походной канцелярии. Последними учреждениями
гражданского характера, установленными в годы управления А. И. Барятинского,
были статистические комитеты, открытые осенью 1862 года в Закавказье
и Ставропольской губернии. Сбор информации о крае комитеты
осуществляли через чиновников земской полиции и одновременно подчинялись
Центральному статистическому комитету при Министерстве внутренних
дел389.
Нетрудно заметить, что новые административные учреждения,
созданные на Кавказе в 1856-1862 гг., фактически дублировали высшие и
центральные органы Петербурга. Тем самым они расширяли права наместника
и автоматически ослабляли влияние вышестоящих учреждений. В указан-
160
ный период Кавказский комитет, лишенный реальной власти, превратился
в подобие передаточной инстанции.
Преобразования в системе гражданского управления на Кавказе
проводились наместником в виде опыта. Первоначально испытательный срок для
новых учреждений ограничивался двумя годами390, затем его действие было
продлено до 1 января 1863 года. В сентябре 1862 года А. И. Барятинский
обратился к Александру II с просьбой оставить Главное управление и Совет
наместника без изменений до 1 января 1866 года391. Однако их действие
продлилось до назначения на Кавказ великого князя Михаила Николаевича.
В годы наместничества великого князя Михаила Николаевича «опыт»
А. И. Барятинского из-за сложной структуры и большой дороговизны был
признан неудачным.
Кардинальные изменения князь Барятинский произвел в области
военного управления. В 1857 году Отдельный Кавказский Корпус был
преобразован в Кавказскую армию, а главнокомандующий корпусом получил
полномочия командующего армией.
Реорганизация в военных структурах началась уже в первые дни
пребывания Барятинского в Тифлисе. 16 августа 1856 года вышел указ «Об
учреждении новых управлений на Кавказе»392. По мнению
наместника, в последние годы власть командующего войсками Кавказской линии
и Черномории стала «совершенно бесполезной», т. к. командующий был
удален от главного театра военных действий и фактически занимался
«одной только хозяйственной частью»393. Руководство военными
операциями и управление горскими народами на Северном Кавказе перешло к
«начальникам раздробленных районов»394. Для успешного ведения войны
А. И. Барятинский считал необходимым сосредоточить власть в руках
нескольких высших начальников, разделив Кавказ по естественным
географическим районам. Взгляды наместника, таким образом, полностью
соответствовали основным положениям указа, изданного 16 августа 1856 г.;
инициатором последнего выступил сам император. Согласно указу,
местные военные управления Кавказского края «были соединены со званием
начальников дивизий, бригадных и полковых командиров»395.
Кавказская линия и Черномория делились на пять частей: 1. Правое
крыло Кавказской линии должны были составить Правый фланг, Центр,
Черномория и первое отделение Черноморской береговой линии. Начальник
19-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Викентий Михайлович
Козловский получил звание командующего Правого крыла Кавказской
линии. 2. В Левое крыло Кавказской линии вошли Левый фланг линии и
161
Владикавказский округ. Левое крыло подчинялось начальнику 20-й
пехотной дивизии генерал-майору Николаю Ивановичу Евдокимову,
одновременно являвшемуся командующим войсками Левого крыла Кавказской
линии. 3. «При-Дербентская губерния», Северный и Нагорный Дагестан
подчинялись начальнику 21-й пехотной дивизии, командующему войсками
Прикаспийского края генерал-майору Григорию Дмитриевичу Орбелиани
2-му. 4. Лезгинская кордонная линия и Джаро-Белоканский военный округ
поручались начальнику Кавказской гренадерской дивизии
генерал-майору барону Ипполиту Александровичу Вревскому 2-му, ставшему теперь
командующим войсками Лезгинской кордонной линии. 5. Пятый отдел -
Кутаисское генерал-губернаторство подчинялось «командующему в том
крае войсками»396 Кутаисскому генерал-губернатору, начальнику 18-й
пехотной дивизии, генерал-лейтенанту князю Александру Ивановичу Гагарину.
Начальникам 19-й и 20-й пехотных дивизий присваивались власть и
права командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории. Звание
командующего на Кавказской линии и в Черномории вместе с его
управлением упразднялось. Для управления войсками и местными жителями в
каждом из пяти отделов создавался штаб397.
Вопрос о разделении Кавказской линии и пересмотре границ между
двумя ее частями был вновь поставлен князем А. И. Барятинским перед
военным министром генерал-адъютантом Н. О. Сухозанетом в середине
января 1857 года. Границы, установленные между бывшим Владикавказским
округом и прежним Центром Кавказской линии, не отвечали главному
условию - разделению горцев в административном подчинении таким
образом, чтобы каждый народ оказался под управлением одного начальника.398
Правое крыло простиралось от Черного моря до Военно-Грузинской
дороги и значительно превышало по длине Левое крыло. Граница проходила от
Главного Кавказского хребта между реками Дур-дур и Змейкой до
станицы Николаевской и далее по Военно-Грузинской дороге, по реке Терек до
станицы Екатеринодарской. Таким образом, одна часть Осетии и Большая
Кабарда находились в пределах Правого крыла и подчинялись
генерал-лейтенанту В.М. Козловскому, а вторая часть Осетии и Малая Кабарда - в
пределах Левого крыла Кавказской линии и управлялись генерал-майором
Н. И. Евдокимовым. Неравнозначным оказалось также распределение
военных сил между Правым и Левым крылом линии. Командующий
войсками Левого крыла не имел достаточного числа линейных казаков и милиции
для содержания кордона со стороны Владикавказа и для действий в горах;
Владикавказский казачий полк был разделен на две половины, принадле-
162
жавшие разным крыльям, и руководство им становилось достаточно
проблематичным. Более разумным А. И. Барятинский считал присоединение
Большой Кабарды, всего Владикавказского и Горского казачьих линейных
полков к Левому крылу Кавказской линии, позволявшее уравнять
протяженность обеих территорий и объединить всю Осетию и Кабарду под
управлением командующего войсками Левого крыла. Пограничная черта
между Правым и Левым крылом, по предложению наместника Кавказского,
прошла по течению р. Малки, от подошвы Эльбруса до границы между
Волжским и Горским полками. Бывший Центр Кавказской линии разделен
между двумя крыльями линии, и в связи с этим его управление
упразднялось399.
По инициативе князя Барятинского определенные изменения
произошли в сложившейся к тому времени приставской системе. В 1857 году
на Правом крыле Кавказской линии вместо существовавших шести при-
ставств образовалось четыре: нижне-прикубанское (темиргоевцы, егору-
каевцы, натухайцы, бжедуховцы); закубанских ногайцев (бесленеевцы,
закубанские армяне, карамурзинские и кипчаковские ногайцы); тахтамыш-
ское (тахтамышевские аулы); и карачаевское (абазинские и тебердинские
аулы)400. Левое крыло Кавказской линии с народонаселением в 182000 душ
делилось на четыре округа: Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский
и Кумыкский. Для управления каждым из этих округов назначался особый
начальник, имевший чин полковника или генерал-майора, подчинявшийся
непосредственно командующему войсками Левого крыла.
Во всех округах учреждались народные суды, обладавшие судебными
и административными функциями. Они предназначались «для
судопроизводства, разбора жалоб и тяжб, обсуждения вопросов о нуждах и
потребностях» местного населения401. В качестве образца нового судоустройства
был взят Чеченский суд, открытый еще в 1852 году М.С. Воронцовым в
Грозном (см. гл. III). Суды состояли из председателя - начальника
округа, главного кадия и нескольких депутатов, назначаемых от всех горских
обществ. Адъютант начальника округа одновременно являлся
делопроизводителем суда. Указом 10 декабря 1857 года кавказской администрации
в Тифлисе поручалось разработать подробные инструкции для народных
судов, определить круг обязанностей и прав начальников округов и их
помощников402.
Указы 1856-1857 годов, касавшиеся реорганизации военного
управления, не были подкреплены специальными положениями и
инструкциями. Их разработка началась уже после опубликования указов. Такая
163
спешка объяснялась задачами, которые ставились Александром II перед
А. И. Барятинским - скорейшее завоевание Восточного и Западного Кавказа
и окончание Кавказской войны.
Усилиями наместника и начальника Главного штаба Кавказской
армии генерал-адъютанта Дмитрия Алексеевича Милютина403 было
разработано и 1 апреля 1858 года утверждено царем «Положение об управлении
Кавказской армией»404. В нем указывалось, что все войска в Кавказском
крае составляют Кавказскую армию и подчиняются
главнокомандующему. Действие «Положения» распространялось на Главный штаб армии,
управления командующих войсками, артиллерийское управление,
управление военных инженеров, управление походного атамана и морскую
часть. Главный штаб состоял из канцелярии начальника Главного штаба,
управления генерал-квартирмейстера и управления дежурного генерала.
Отделение по управлению горскими народами входило в состав
управления генерал-квартирмейстера405. Северный Кавказ в
военно-административном отношении продолжал делиться на пять отделов: Правое
крыло, Левое крыло, Прикаспийский край, Лезгинскую кордонную линию и
Кутаисское генерал-губернаторство. Распоряжения главнокомандующего
должны были приводиться в исполнение через командующих войсками в
пяти отделах: командующего войсками Правого крыла Кавказской линии,
командующего Левого крыла, командующего войсками в Прикаспийском
крае, командующего войсками на Лезгинской линии и кутаисского
генерал-губернатора. Должности бригадных командиров в 19-й, 20-й, 21-й и
Кавказской гренадерской дивизиях и бригадные штабы упразднялись406. На
основании «Положения» командующие войсками получали широкие
полномочия и самостоятельность над всеми родами войск, расположенных на
вверенной им территории, в том числе и по военно-судной части. В их
ведении находилось местное население Кавказа. Они обладали властью над
гражданскими учреждениями на правах, которыми пользовался с 1840 года
бывший начальник Кавказской области и командующий Кавказской
линией и Черноморией407.
В связи с завоеванием Россией новых территорий на Западном Кавказе
географические очертания Правого крыла Кавказской линии менялись.
Теперь оно простиралось от северо-восточных берегов Черного моря до
верховьев реки Малка и состояло из части бывшего первого отделения
Черноморской береговой линии, земли черноморских казаков,
бывшего Правого фланга Кавказской линии и «недавно занятых пространств»
за Кубанью408. Правое крыло линии составили три округа: Черномория,
164
Лабинский округ и Верхне-Кубанский округ. Наказному атаману
Черноморского казачьего войска поручалось исполнение обязанностей
командующего Черноморской кордонной линии. Черноморская кордонная
линия делилась на три участка: первый - от берега Черного моря до поста
Славянского; второй - от поста Славянского до Тенгинской батареи; и
третий - от Тенгинской батареи до границы линейного казачьего войска, т. е.
до поста Изрядного409.
Лабинский округ подчинялся командиру 2-ой бригады
линейного казачьего войска. Ему были подведомственны линии: Белоречинская,
Лабинская, Мало-Лабинская, Урупская и кордонные участки на Кубани, к
которым относились Усть-Лабинский, Прочно-Окопский и Ставропольский.
Участками и линиями заведовали командиры бригад и полков линейного
казачьего войска и командиры пехотных полков410.
Верхне-Кубанский округ образовался из Баталпашинского участка
Кубанской линии, а также Зеленчукской и Кисловодской линий. Начальство
в этом округе возлагалось на командира 6-й бригады Кавказского
линейного казачьего войска, а кордонными линиями и участками - на командира
7-й бригады Кавказского линейного казачьего войска и командиров
казачьих полков. Начальникам Лабинского и Верхне-Кубанского округов
подчинялись приставства: первому - нижне-прикубанское и закубанских
ногайцев, второму - тахтамышевское и карачаевское411.
Деление Левого крыла Кавказской линии, в отличие от Правого,
носило не столько военный, сколько административный характер. Все покорное
население на этом крыле Кавказской линии разделялось на четыре округа:
Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский и Кумыкский412. Для
управления каждым из них назначались начальники в чине полковников или
генерал-майоров, подчинявшиеся непосредственно командующему
войсками Левого крыла. Начальник округа имел в своем распоряжении
нескольких помощников, назначаемых из штаб- или обер-офицеров или
представителей местной знати. На Левом крыле Кавказской линии отсутствовали
приставства. Вместо них округи делились на участки413.
Прикаспийский край, так же как и Левое крыло Кавказской линии,
разделялся на округи и участки. Лезгинская кордонная линия по-прежнему
делилась на правый и левый фланги. Начальникам флангов линии в военном
отношении подчинялись: начальнику Правого фланга- Нухинский уезд,
начальнику левого фланга - Тушино-Пшаво-Хевсурский округ. В Кутаисском
генерал-губернаторстве особому местному начальнику, инспектору
линейных батальонов, в военном отношении подчинялась Абхазия414.
165
Таким образом, установленная на Северном Кавказе
военно-административная система управления сводилась к следующему делению: отделы,
округи, участки, приставства. По мнению А. И. Барятинского, введенное
устройство устраняло «главное затруднение, препятствовавшее достижению
правительственных целей на Кавказе - чрезвычайное разнообразие края»415.
«Краеугольным камнем русского владычества» на Кавказе
наместник называл введение «устройства окончательного управления горскими
племенами»416. А. И. Барятинский был убежден, что Кавказская война
разгорелась из-за неустановленной вовремя в этом крае административной
системы. Он указывал, что «русские раз уже владели Чечней и Аварией
непосредственно или чрез подчиненных России ханов, наше влияние
простиралось на всю восточную половину гор. Все это мы утратили чрез
неустройства нашего управления и злоупотребления, истекавшие из этого
неустройства»417. Для достижения главной цели - полного и
окончательного покорения Кавказа, наместник считал единственно верным учреждение
«народного управления на новых началах»418.
Общественно-политическое и экономическое положение Кавказского
края являлось, с точки зрения А. И. Барятинского, той плодородной почвой,
на которой в итоге выросла военно-народная система управления. Он
указывал, что горские народы, различные по нравам и общественному быту,
поступили в российское управление почти на одинаковых условиях - «с
сохранением религии, прежнего внутреннего порядка и прежних
отношений между сословиями, суда и расправы по народным обычаям».419 В своем
отчете государю за 1857-1859 гг. наместник выражал уверенность, что с
введением общей для всех горцев военно-народной системы, они утратят
свою воинственность и превратятся в мирных поселян. В качестве примера
вновь приводилась Чечня, в которой с 1852 года на основе адата
действовал Чеченский народный суд.420 Установленная в Чечне система управления
должна была стать образцом для управления другими горскими
народами. Оказываемое А. И. Барятинским предпочтение народному управлению
основывалось на глубоком понимании сложившегося у горцев
общественного строя. Он полностью одобрял тот факт, что в Чеченском округе на
русском военном начальстве лежали только «заботы главного управления»,
судопроизводство же и местное управление осуществлялись выборными
представителями от народа421. Проводимую российской администрацией
политику поддержки шариата А. И. Барятинский считал крайне
ошибочной. Внедрение Шамилем норм шариата в возводившуюся им
государственно-административную систему он также называл одним из серьезных
166
просчетов имама. По свидетельству князя Барятинского, «...это начало
было общим и русской власти, и враждебному нам мюридизму. Шамиль
и его предшественники не щадили ничего, чтобы везде стереть родовые
отличия, уничтожить народное законодательство и поставить на его место
шариат. Кавказское начальство с самого нашего владычества здесь,
стремясь приобресть скорое сочувствие населения и пренебрегая родовыми
интересами, старалось восстановить мусульманское духовенство,
предполагая, что духовенство есть лучшее орудие к сближению с массами»422.
Особенно опасным и тактически безграмотным, по мысли наместника,
являлось сохранение после окончания Кавказской войны норм шариата -
идеологии мюридизма. Одну из главных задач российских властей князь
А. И. Барятинский видел в «обессиливании» и отстранении шариата и
восстановлении в жизни народов Северного Кавказа норм обычного права. Он
допускал сохранение за шариатским судом вопросов духовного характера,
все же остальные дела должны были решаться в словесных судах на
основе адата. Адат, по мнению наместника, являлся тем мостом, который, в
конечном итоге, должен был привести жителей Кавказа к российской
законодательной системе, «ибо адат, не имея начала духовного,
беспрепятственно может покоряться изменениям, тогда как изменения в шариате, по
самому смыслу его, составляет уже вопрос совести и верования
мусульманина»423. В качестве первого шага в этом направлении предлагалось
составление письменного изложения адата для каждого из народов «сообразно
с новым его положением и согласно с потребностями русской власти»424.
Усовершенствования требовали и способы разбора уголовных дел. В
разных районах Кавказского края за одно и то же преступление виновные
несли разную меру наказания. По поручению наместника специальные
структуры занимались написанием «Уголовного Положения» для горцев.
«Положение» составлялось на основе свода российских уголовных правил
с включением в него «всех родов преступлений», за которые местное
население подвергается наказанию. Проект этого свода законов был разослан
начальникам четырех главных отделов Кавказской армии.425
Важным шагом российской администрации в крае явилось
определение поземельной собственности различных сословий. С этой целью в
1857 году А. И. Барятинским был учрежден комитет, который
обязывался разобрать и решить вопрос по земельному владению между жителями
Левого крыла. Позже наместник нашел более удобным вместо одного
общего комитета открыть комитеты в каждом из округов Левого крыла
отдельно. Помимо рассмотрения дел о земельной собственности, комитеты
167
занимались также определением личных прав сословий. Особенно
заинтересованными в работе комитетов оказались представители высшего
сословия. Так, в Кумыкском округе все княжеские фамилии обратились к
начальству с просьбой приступить к размежеванию земель округа, предложив на
расходы по этому предприятию две тысячи рублей426.
Перспективной и в то же время жизненно необходимой и
безотлагательной мерой А. И. Барятинский называл Александру II формирование
постоянных воинских частей из горцев. По мнению наместника, «с
совершившимся покорением восточного Кавказа и приближающемся покорении
западного... после многолетней беспощадной борьбы горских племен
против России, при огромном количестве людей, привыкших с малолетства
кормиться одним оружием, не знавших никогда другого орудия
промышленности кроме ружья, закрыть разом всякий исход воинственному духу
этих племен, заставить голодать тысячи отважных разбойников,
пользующихся по своей храбрости решительным влиянием в народе, было бы
делом весьма опасным. Такое насильственное внезапное затишье
непременно приготовило бы новый взрыв. Теперь уже слышны жалобы многих
горских обществ, что они не могут существовать без грабежа подгорного
края; это значит, что между ними развился многочисленный класс людей,
который умеет жить одним оружием и должен или продавать нам свое
мужество, или обратить его против нас»427. Наместник был убежден, что
такое «анормальное положение общества» со временем придет в порядок,
но, - предупреждал он, - в продолжение еще многих лет Россия должна
«держать открытым клапан этого парового котла», всегда готового
взлететь на воздух428. Для привлечения местного населения к постоянной
боевой службе в виде опыта были сформированы Дагестанский конно-иррегу-
ларный полк и Анапско-Горский полуэскадрон, позже переименованный в
Кубанский эскадрон. По мнению А. И. Барятинского, для удержания в
повиновении горских жителей не было «ничего могущественнее постоянных
дружин, составленных из самих горцев»429. Получая достаточное
содержание, обладая правом в любой момент рассчитаться и выйти из дружины,
«горцы служили верно и не щадили своих земляков»430. А. И. Барятинский
подчеркивал, что против населения гор сотня конного Дагестанского
полка гораздо надежнее батальона и что с небольшим числом местных
дружин правительство может «удерживать горы в повиновении вернее, чем
с многочисленными русскими полками»431. В будущем предполагалось
заменить постепенно горцами Донские казачьи полки, стоявшие в пределах
Кавказского наместничества.
168
Князь Барятинский, как и его предшественники, одним из способов
сближения народов Кавказа с Россией считал покровительство развитию
торговли, промышленности, народного образования. Им была
разработана схема выдачи денежных ссуд и продовольственной помощи
переселенцам из гор для обустройства на равнине и населению Правого и Левого
крыла в случае засухи и других стихийных бедствий432. Кроме того, в
1858 году по приказу наместника был составлен проект об учреждении
горских училищ для детей высших сословий. Их открытие
предполагалось во Владикавказе, Нальчике, крепости Грозной, Усть-Лабе и других
населенных пунктах433.
После опубликования «Положения о Кавказской армии» в течение
всего 1858 года командующие войсками обязывались наместником
направлять в Главный штаб Кавказской армии свои соображения об управлении
горскими народами. На основании материалов, направленных в Главный
штаб из разных частей Кавказа, начальником штаба Д. А. Милютиным
была подготовлена «Записка о преобразовании приставских управлений
на Кавказе»434. Записка дает представление о приставских управлениях,
существовавших до 1858 года на Кавказе, и об их реорганизации. Часть
«Записки», содержавшую штабное расписание и расходы на приставства,
целесообразно привести полностью.
«На Правом крыле Кавказской линии.
С 17 ноября 1847 года на основании Высочайшего повеления по смете
Министерства Внутренних Дел распределены следующим образом.
1) на главное приставство Закубанских народов 900 руб.
2) на приставство Бесленеевских народов и Закубанских
Армян 300 руб.
3) на приставство Тахтамышевских аулов 300 руб.
4) на приставство Темиргоевского, Егерукаевского,
Хатукаевского и Бжедухского народов 300 руб.
5) на приставство Карачаевского народа 300 руб.
Итого 2,100 руб.
В этом распределении приставств последовали после 1847 года
следующие изменения:
169
1) в 1848 году Карачаевскому приставству подчинены
Абазинские переселенцы и на расходы по управлению ими 100 руб.
определено отпускать добавочных приставу
2) в 1851 году приставство Темиргоевского, Егерукаевского,
Хатукаевского и Бжедухского народов упразднено, а взамен его - _п -
в 1852 году учреждено приставство Нижне-Прикубанских
народов и приставу его определено содержание
3) в 1855 году главное приставство Закубанских народов
упразднено и взамен его учреждено приставство Карамурзинских и 300 руб.
Кипчаковских Ногайцев, на которое расходуется
4) наконец, в 1856 году для аулов, переселенных в 1855 году на
р. Теберду, учреждено приставство Тебердинское с производ- 150 руб.
ством приставу
Остаточные суммы от этих преобразований употреблялись доныне на
содержание других вновь учрежденных или усиленных управлений.
Ныне предполагается образовать всего 4 приставства:
1) приставство Нижне-Прикубанское, которое оставить в прежнем
виде;
2) приставство Закубанских Ногайцев, которое составить из
прежнего Бесленеевского и Закубанских Армян с присоединением приставства
Карамурзинских и Кипчаковских Ногайцев;
3) приставство Тахтамышское в прежнем виде;
4) приставство Карачаевское с присоединением к нему Абазинских и
Тебердинских аулов.
На содержание этих четырех приставств полагается определить
следующие суммы:
1) столовых денег каждому из четырех приставов по 1 1 ?п б ЯП
280 руб. 20 коп. ' РУ ' К0П*
2) на канцелярские расходы каждому по 30-ти руб. 120 р.
3) на содержание 4-х переводчиков ^ по 150 руб.
по одному на каждое приставство 600 руб.
4) на содержание при каждом приставе по писарю ,„ ^ яп
по 16 руб. 95 коп.
170
5) на содержание помощников приставов Карачаевского и
Тахтамышского* по 300 руб. каждому, если они будут из ту- ^пп -
земцев, если же из русских офицеров, то полагается
выдавать им жалованье по чину
Всего 2,508 руб. 60 коп.
Сверх всего как на приставе лежит исполнительная власть и как он
обязан, проживая среди вверенного его надзору населения, делать частые
разъезды, то признается необходимым иметь при каждом из приставов
постоянную и надежную стражу из Азиатцев в числе 8 чел. Учреждение этой
стражи имеет значение не столько административное, сколько военное.
Азиатцев полагается иметь из милиционеров.
На Левом крыле Кавказской линии
на содержание приставских управлений горских племен,
обитающих в пределах нынешнего Левого крыла Кавказской линии, с 17 ноября
1847 года ежегодно ассигнуется:
1) на приставство Уруспиевского, Чегемского, Хуламского и -гт &
Балкарского народов
2) на приставство Мало-Кабардинское 450 руб.
3) на приставство Дигорское 300 руб.
4) на содержание канцелярии бывшего начальника
Владикавказского военного округа для управления мирными 742 руб. 85 коп.
горцами
5) на столовые адъютанта сегоже начальника по заведыва-
нию делами по военной части и по кордонам
двум писарям при этом адъютанте 33 руб. 90 коп.
99 руб. 75 коп.
и на канцелярские расходы 273 руб. 75 коп.
140 руб. 10 коп.,
914 руб. 85 коп.
6) на содержание главного приставства горских народов
бывшего Владикавказского округа
7) на приставство Алагирских и Куртатинских народов 414руб. 28 коп.
Помощники эти необходимы: первому по разбросанности аулов, состоящих в
Карачаевском приставстве; а второму в том внимании, что в ведение Тахтамышского
приставства должны поступать аулы беглых кабардинцев и других племен, которые имеют
быть водворены между Малым Зеленчуком и Урупом на земле, высочайше указанной для
поселения туземцев.
171
8) на приставство Назрановского народа
9) на приставство Карабулаков и Чеченцев
10) 2-м старшинам Галгаевского народа
11) 2-м знаменщикам Назрановского народа
12) на главное Кумыкское приставство
13) на приставство Костековское
14) на приставство Аксаевское
15) на приставство Надтеречных чеченцев и Брагунского
народа
Итого
628 руб. 55 коп.
314 руб. 28 коп.
240 руб.
240 руб.
1,600 руб.
150 руб.
150 руб.
750 руб.
7,468 руб. 56 коп.
С 1847 года по 1858 год в этих приставских управлениях последовали
следующие изменения:
1) в октябре 1852 года приставство Надтеречных Чеченцев
и Брагунского народа, за учреждением Управления
Чеченского народа, упразднено
2) тогда же учреждено Главное Управление Чеченского
народа в Грозной с следующим штатом:
Начальнику Чеченского народа столовых
2-м старшим адъютантам
Переводчику арабского языка
Переводчику чеченского языка
4-м писарям
денщикам
Главному кадию
3-м народным старшинам (по 300 руб. каждому)
4-м окружным наибам (по 500 руб. каждому)
На канцелярские расходы
экстраординарные расходы
заготовление дров
Итого
3) в апреле 1856 года прекращено содержание 2-м
старшинам Галгаевского народа
4) тогда же учрежден один из 4-х помощников главного
пристава народов бывшего
Владикавказского округа
750 руб.
1,000 руб.
300 руб.
300 руб.
150 руб.
67 руб. 80 коп.
8 руб.
900 руб.
900 руб.
2,000 руб.
300 руб.
750 руб.
125 руб.
6,801руб. 20 коп.
240 руб.
142 руб.
172
5) тогда же для племен Галгаевского, Цоринского,
Джераховского и Кистинского учреждено особое пристав- 735 руб. 35 коп.
ство Нагорное, содержание коему определено в год
6) с 1853 года по распоряжению генерал-адъютанта кн.
Воронцова производится жалованье кадию Андреевской 120 руб.»435
деревни
В соответствии с «Положением», принятым 1 апреля 1858 года о
сохранении на Правом крыле Кавказской линии четырех приставств, автор
«Записки» подчеркивал временность такого управления. К концу 50-х
годов XIX века приставская система как форма управления изживала себя
и требовала полной реорганизации. В «Записке» Главного штаба армии
перечислялись причины безотлагательности перемен. К ним относились:
1. «Разновременность принесения покорности небольшими обществами
одного и того же племени и другие обстоятельства были причиной» того,
что один и тот же народ находился в управлении нескольких приставств.
2. Большое число и «малозначительность» приставств создавали
трудности в контроле действий приставов, вели к неоправданным расходам
государственных средств и не всегда позволяли «избирать в эти должности
людей, способных и соответствующих назначению» 3. На основании «Правил
о третейском и шариатском суде» пристав не участвовал в судебном
разбирательстве; эта важная сфера общественной жизни горцев оставалась
вне надзора и влияния российских властей436. Недостатки в приставской
системе отмечал еще А. П. Ермолов, предложивший в 1822 году учредить
в качестве альтернативного органа власти Временный Кабардинский суд,
обладавший как судебными, так и административными полномочиями.
В 1852 году в Чечне приставство заменили Чеченский народный суд и
Главное Чеченское управление.
В конце 50-х годов XIX века наиболее подготовленным из пяти
отделов Кавказа к отмене приставства оказалось Левое крыло Кавказской
линии. Именно здесь и предполагалось провести значительные
административные преобразования. Как уже упоминалось выше, Левое крыло
делилось на четыре округа: Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский
и Кумыкский. «Записка о преобразовании приставских управлений»
четко определяет границы и предполагаемые основные управленческие
структуры округов. Так, в Кабардинский округ вошли Большая и Малая
Кабарда, Балкария (приставства Уруспиевского, Балкарского, Чегемского
и Хуламского народа) и временно Дигория. Последнюю позже долж-
173
ны были передать в Военно-Осетинский округ. В Нальчике учреждался
Кабардинский народный суд; в него назначались представители от
народа. Военно-Осетинский округ состоял из бывшего Владикавказского
военного округа, приставств - Алагирского, Куртатинского, Назрановского,
Нагорного, Карабулакского и галашевцев. В 1859 году территория Военно-
Осетинского округа была расширена за счет присоединения к нему части
Тифлисской губернии. Нарский участок Осетинского округа Тифлисской
губернии и Мамисонское ущелье в соответствии с указом от 19 июня
1859 года становились частью Левого крыла Кавказской линии и
управлялись из Владикавказа437. В Народный суд Военно-Осетинского округа вошли
11 депутатов от каждого общества.
Чеченский округ территориально совпадал с Чечней. Здесь
сохранялись Главное Чеченское управление и Народный суд. Кумыкский округ
образовался из земель кумыков и ногайцев. Для них в Хасав-юрте
учреждался Народный суд438.
В «Записке» определялись качества, которыми, по мнению ее
составителей, должен был обладать начальник округа: «Начальником каждого
округа» назначалось «такое лицо, которое по своему званию и личным
качествам имело бы вес и пользовалось бы уважением в крае»439. Обязательным
условием авторы называли определение окружному начальнику
«достойного содержания для поддержания в глазах горцев уважения к
представителю русской власти»440.
Границы Левого крыла Кавказской линии и сопредельных военных
управлений корректировались в течение всего 1859 - начала 1860 года. Так,
приказы, изданные 7 августа и 27 ноября 1859 года, рубежом между Левым
крылом и Прикаспийским краем определили Сулак и Андийское Койсу441,
а пограничная черта между Правым и Левым крыльями Кавказской
линии, проходившая по р. Малке, была перенесена на новую границу между
Карачаем и Кабардой442. Таким образом, Левое крыло начиналось от горы
Эльбрус, проходило по Водораздельному хребту между притоками рек
Кубань и Терек до горы Эшкакон и далее по р. Эшкакон доходило до
земель 7-й бригады Кавказского линейного казачьего войска «к западу по сей
границе и по границе, разделяющей 6-й и 7-й бригад сего Войска»443.
Четкое определение частей Кавказской линии и стремление уравнять
их фактически явились предвестниками коренных административных
преобразований, произошедших на Северном Кавказе в 60-е гг. XIX в. В
связи с окончанием военных действий в Дагестане и частично на Северо-
Западном Кавказе Кавказская линия потеряла значение «пограничной кор-
174
донной черты». Указами, последовавшими 8 февраля, 20 февраля и 3 мая
1860 года,444 она упразднялась, и учреждались новые административные
единицы: на базе Правого крыла бывшей Кавказской линии создавалась
Кубанская область, Левое крыло преобразовывалось в Терскую область.
Командующие Кавказской линией получали звания командующих
войсками Кубанской и Терской области и одновременно исполняли обязанности
начальников Кубанской и Терской областей445. Вся территория от Главного
Кавказского хребта до внутренних российских губерний, включавшая
Терскую, Кубанскую области и Ставропольскую губернию, получила
название Северного Кавказа.
Административные изменения затронули и кавказские казачьи
войска. Еще в 1857 году генерал-адъютант А. И. Барятинский поручил
командующему войсками Правого крыла составить проект нового
управления Северным Кавказом, который соответствовал бы «сделанным после
1845 года территориальным приобретениям, военным задачам и
административным потребностям»446 края. В 1859 году по указу императора
для разработки нового «Положения о казачьих войсках» был учрежден
Временный комитет в Ставрополе. В 1860 году Кавказское линейное и
Черноморское казачьи войска были упразднены. Черноморское казачье
войско с присоединенными к нему землями шести бригад Кавказского
линейного войска составили Кубанское казачье войско. Из оставшихся бригад
Кавказского линейного казачьего войска было образовано Терское казачье
войско. Его земли вошли в состав Терской области. Командующие
войсками (начальники) в новых областях получали звания наказных атаманов
соответствующих казачьих войск и сосредоточили в своих руках управление
как казаками, так и горцами447.
Население во вновь образованных областях состояло: в Кубанской
- из казачества и небольшого числа гражданского населения и горцев; в
Терской области горские народы по численности в три раза превышали
казачество. Для каждой из этих групп населения существовали особые
учреждения, подчиненные Военному министерству. Высшее заведывание
горцами принадлежало главнокомандующему, действовавшему
посредством особого центрального учреждения. 24 мая 1860 года по
распоряжению А. И. Барятинского 3-е отделение управления
генерал-квартирмейстера Кавказской Армии, занимавшееся северокавказскими народами,
упразднялось, и вместо него при Главном штабе Армии открывалась новая
структура - Канцелярия по управлению кавказскими горцами448. Кроме
общей Канцелярии при Главном штабе, учреждения для управления горцами
175
состояли из канцелярии при начальнике области, областного суда,
окружных начальников, пользовавшихся правами уездных правлений, горских
народных судов при округах, приставов или наибов и аульных старшин.
Предполагалось издать положение об общественном аульном правлении.
В Кубанской области для управления горцами, после переселения
большинства их в Турцию, была учреждена должность попечителя с небольшой
канцелярией449.
Города в областях имели особое упрощенное управление,
подчиненное канцелярии начальника области. Там же сосредоточивались дела по
управлению крестьянскими поселениями и колониями.
Весной 1860 года административные преобразования затронули
Дагестан. С окончанием Кавказской войны упразднялись все прежние
управления Прикаспийского края и временные управления в Дагестане,
учрежденные командующими войсками Прикаспийского края и Лезгинской
кордонной линии. Прикаспийский край и Лезгинская кордонная линия
образовывали Дагестанскую область450. Дагестанская область делилась
на 4 военных отдела: Северный, Средний, Верхний и Южный; 6
округов: Даргинский, Кайтаго-Табасаранский, Казикумухский, Гунибский,
Самурский и Бежитский; 4 ханства: Тарковское, Мехтулинское, Кюринское
и Аварское и одно наибство - Присулакское451. Начальник Дагестанской
области, он же командующий войсками области, подчинялся
непосредственно главнокомандующему и объединял все отрасли управления. Для народов
Дагестана, как и других горцев, устанавливалась военно-народная система
управления. При каждом из окружных управлений учреждались окружные
суды под председательством окружных начальников. В них входили
выборные депутаты от народа и кадий. При ханских управлениях открывались
словесные суды, а в аулах - сельские суды452.
Чиновники, служившие в военно-народных управлениях Терской и
Дагестанской областях и в Натухайском округе Кубанской области,
наделялись значительными преимуществами. К числу лиц,
пользовавшихся льготами, причислялись начальники округов и их помощники,
управлявшие участками в округах, военные начальники Верхнего и Среднего
Дагестана, помощники Шамхала Тарковского и Аварского, Мехтулинского
и Кюринского ханов, карачаевский и тахтомышский приставы и их
помощники Кубанской области. Все они получали прибавку к жалованью:
прослужившие на Кавказе «5 лет - четверть оклада, 10 лет - половину, 15 лет
- три четверти, 20 лет - полный годовой оклад. При отставке и назначении
пенсий чиновников военно-народных управлений 5 лет службы приравни-
176
вались 7 годам. Главнокомандующий получал право ежегодно
представлять к наградам трех чиновников «вне установленных правил»453.
Таким образом, в годы управления Кавказом А. И. Барятинским
происходит беспрецедентное усиление военного и гражданского
административного аппарата, наместник Кавказский полностью выводится из-под
контроля всех высших и центральных органов власти России и
подчиняется только императору. Все эти меры должны были привести к
выполнению главной задачи - окончанию Кавказской войны и административному
освоению завоеванных территорий. В конце 50-х - начале 60-х гг. XIX в.
Северо-Восточный и Северо-Западный Кавказ были покорены и с этого
времени самостоятельность кавказских органов власти стала постепенно
ограничиваться.
В 1862 году князь Барятинский, последние два года тяжело болевший и
покинувший Кавказ, обратился к Александру II с прошением об увольнении
его с должностей наместника и главнокомандующего Кавказской армией454.
В качестве возможных кандидатов на должность кавказского наместника в
правительственных кругах назывались генерал-адъютант Д. А. Милютин,
петербургский генерал-губернатор А. А. Суворов и великий князь Михаил
Николаевич455. Александр II остановился на кандидатуре брата. Широкие
полномочия, присвоенные в свое время наместнику Кавказскому, а также
решение на Кавказе новых задач - проведение «великих реформ» -
определили выбор императора. Назначение на Кавказ Михаила Николаевича, в
котором император видел своего сподвижника по реформам456, имело еще и
политическое значение - незадолго до этого, в том же 1862 году,
наместником в Царство Польское был направлен другой брат Александра II, великий
князь Константин Николаевич.
Управление Кавказом великим князем Михаилом Николаевичем,
продолжавшееся восемнадцать с половиной лет - с 6 декабря 1862 года
по ноябрь 1881 года, - хронологически укладывается почти в весь
период правления Александра II. Разумеется, оно не могло не вобрать в себя
те тенденции, которые характеризовали эпоху императора-либерала. В
60-70-е годы шла перестройка всего государственного аппарата России.
Отмена крепостного права, создание новых финансовых и судебных
учреждений, органов городского самоуправления - все это внесло свои
изменения в кавказский аппарат управления.
К приезду нового наместника крестьянская реформа затронула лишь
Ставропольскую губернию, в остальной части Кавказа продолжали
сохраняться крепостное право и зависимость крестьян от феодалов. Вопросом
177
выработки специальных положений по освобождению крестьян
занимался в свое время и А. И. Барятинский - для этой цели при Главном
управлении наместника был учрежден Особый Центральный комитет, а на
местах - уездные дворянские собрания. В 1861 году князь Г. Д. Орбелиани,
замещавший болевшего А. И. Барятинского, разработал проект земельной
реформы на Кавказе и изложил его в своем «отзыве» на имя военного
министра. Наиболее сложным, по мнению Г. Д. Орбелиани, являлся вопрос,
какая система должна стать основой землевладения - общинная или
частнособственническая. Сельская община, - рассуждал автор, - имела то
преимущество, что она препятствовала пролетаризации крестьянства,
частная же собственность могла содействовать более совершенному развитию
сельского хозяйства. Г. Д. Орбелиани предлагал закрепить за князьями и
дворянами определенные земли на правах частной собственности, но с
условием, чтобы они не предъявляли никаких претензий на другие земли, в
том числе и на земли зависимых крестьян. Согласно проекту, землей
наделялись и те лица, которые по происхождению не принадлежали к высшему
сословию, «но с усердием и преданностью» служили России и достигли
тех чинов и наград, «которые по законам империи дают право дворянства».
Таким образом, предлагалось сочетание общинной формы землевладения
с частной457. Проект получил одобрение в Петербурге. Однако до приезда
на Кавказ великого князя Михаила Николаевича к его реализации никто не
приступал. Деятельность Центрального Комитета и уездных дворянских
собраний также оставалась формальной. При первом же приеме дворян в
Тифлисе великий князь поставил перед ними задачу «скорейшего решения
крестьянского вопроса»458. Общее руководство Центральным комитетом
наместник возложил на себя. Членами комитета назначались тайный советник
А. М. Фадеев, действительные статские советники князь И. К. Багратион-
Мухранский и Старицкий, директора департаментов Главного управления
Н.Н. Барановский, Ю.Ф. Витте, тифлисский губернатор и предводитель
дворянства. Должность председателя исполнял начальник Главного
управления наместника А. П. Николаи. Проекты, разработанные Центральным
комитетом в Тифлисе, были рассмотрены в Кавказском комитете и Главном
крестьянском комитете и утверждены 13 октября 1864 года. Обнародование
реформы последовало в форме высочайшего указа Правительствующему
Сенату о приведении в действие «Дополнительных к положению 19
февраля 1861 года правил о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
в Тифлисской губернии», «Местного положения о поземельном устройстве
крестьян, водворенных на помещичьих землях в Тифлисской губернии»
178
и «Правил об устройстве сельских обществ, их общественного
управления и повинностей государственных и общественных»459. В 1865 году в
Кутаисской губернии, Имеретии, Гурии, Мингрелии создавались
комитеты, занимавшиеся проведением крестьянской реформы.
С изданием законоположений о крестьянах в закавказских губерниях
и на основании Положения о Главном управлении наместника Кавказского
9 декабря 1867 года «для заведывания и устройства крестьян»
учреждались Комитет об устройстве крестьян и Канцелярия по делам устройства
крестьян. Эти органы являлись аналогами высших крестьянских
учреждений Петербурга - Главного комитета об устройстве сельского состояния и
Земского отдела Министерства внутренних дел. Комитету и Канцелярии
поручалось составление проектов особых положений и правил по
крестьянскому вопросу, наблюдение за применением в крае законоположений
19 февраля 1861 года, разрешение конфликтных ситуаций при земельных
спорах. Местные учреждения по крестьянским делам в Закавказских
губерниях также повторяли органы власти, предназначенные для проведения
крестьянской реформы и действовавшие во внутренних губерниях России.
Крестьянские дела рассматривались двумя инстанциями: мировыми
посредниками и губернскими по крестьянским делам присутствиями460.
Особой осторожности требовало проведение крестьянской реформы
и определение поземельных прав среди горских народов Кавказа. Условия
пользования землей горцев Северного Кавказа, Закатальсткого округа и
Сухумского отдела имели особенности, резко различались между собой.
Одной из главных задач в связи с этим стало «разрешение этого
вопроса без потрясений общественного порядка»461. Первые поземельные
комитеты появились на Северном Кавказе еще в 1846-1847 гг.462 Так, 29
ноября 1846 года во Владикавказском округе по просьбе тагаурских старшин
М. С. Воронцовым был открыт «Комитет для разбора прав разных
сословий Тагаурского общества», функционировавший до 1852 года. В 1857 году
командовавший войсками Левого крыла Н.И. Евдокимов обратился к
А. И. Барятинскому с предложением вновь учредить Комитет «для
решения поземельных споров туземцев как бывшего Владикавказского округа,
так и остального населения Левого крыла Кавказской линии»463. На этот
раз Комитет действовал всего один год - с 16 ноября 1857 года по октябрь
1858 года; в апреле 1859 года вместо него во Владикавказе открылся особый
«Окружной Комитет для разбора личных и поземельных прав покорных
туземцев», который также просуществовал недолго. 16 октября 1860 года
его полномочия были переданы в канцелярию по управлению горцами
179
при штабе войск Терской области464. В 1862 году на территории Терской
области начали свою работу поземельные учреждения: два комитета -
Кабардинский и Кумыкский и две комиссии Чеченская и Владикавказская.
В период проведения крестьянской реформы на Северном Кавказе и эти
комитеты и комиссии, как не имевшие единства, были упразднены. 11
декабря 1864 года приказом военного министра по инициативе наместника
во Владикавказе учреждалась общая для всей Терской области «Временная
комиссия для разбора поземельных прав туземного населения»465. В каждом
из четырех округов области создавались ее отделы. Такие же поземельные
учреждения устанавливались в Дагестанской области и Закатальском
округе. В Кубанской области, где основная масса местных жителей (400 тысяч
душ) в течение 1863-1864 годов переселилась в Турцию, горское
население составляло всего 90 тысяч человек. Кавказская администрация
приняла решение сгруппировать оставшихся в Закубанском крае горцев в
особом районе. Лучшие земли Кубанской области не вошли в район горских
округов и достались казачьему населению466. 30 декабря 1869 года функции
«Временной комиссии», занимавшейся земельным вопросом в Терской
области, были расширены и она преобразовалась во «Временную комиссию
для разбора сословных прав горцев Кубанской и Терской областей»467.
Центральный государственный комитет, руководивший
проведением земельной реформы на Северном Кавказе, был установлен уже после
оформления поземельно-сословных учреждений на местах. Его открытие
состоялось летом 1866 года в Тифлисе. Одной из основных задач
центрального «Комитета по освобождению зависимых сословий у горских народов»
являлась выработка общих принципов по проведению крестьянской
реформы в регионе. В состав Комитета вошли генерал-майор Богуславский,
д.с.с. князь Туманов, полковник Старо сельский, подполковник Генерального
штаба Черкесов и член-делопроизводитель Генерального штаба
подполковник Павлов. Председателем назначался генерал-адъютант Карцов (вскоре
его сменил князь Святополк-Мирский).468
В 70-е годы XIX века комиссии и комитеты, занимавшиеся
проведением крестьянской реформы, как выполнившие свои функции,
разновременно были закрыты.
Во второй половине 60-х годов XIX века вслед за проведением
реформы по освобождению крестьян на Кавказе началось преобразование
судебной системы. Судебная реформа составила целую эпоху в истории
«упрочения русской гражданственности на Кавказе»469. Судебные уставы
20 ноября 1864 года узаконили на всей территории России новые буржу-
180
азные принципы судоустройства и судопроизводства. Они вводили
формальную несменяемость судей и независимость суда от администрации,
гласность и публичность заседаний суда, состязательный процесс,
институты адвокатуры, присяжных заседателей, выборный мировой суд. В
указе о распубликовании судебных уставов говорилось, что целью реформы
является «водворить в России суд, скорый, правый, милостивый, равный
для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и вообще утвердить в народе уважение к закону.. ,«470. По
судебной реформе в России вводились две системы судебных учреждений:
суды с избираемыми судьями - мировые суды и съезды мировых судей, и
суды с назначаемыми судьями - окружные суды и судебные палаты.
Перед кавказской администрацией стояла непростая задача -
согласовать общероссийские судебные уставы «с нуждами населения и местными
особенностями»471 Кавказского края.
В начале 1865 года для разработки проектов реформы в Тифлисе был
учрежден особый Комитет. Его возглавил начальник Главного управления.
В него вошли члены Совета наместника, все начальники подразделений
Главного управления, особо назначенные чиновники. Для участия в
работе Комитета в Тифлис были вызваны начальники губерний и областей472.
По мнению властей, в закавказских губерниях - Тифлисской, Кутаисской,
Эриванской и Бакинской, а также в Ставропольской губернии -
существовали все условия для немедленного введения в них новых судебных
учреждений; что касается Терской, Кубанской и Дагестанской областей,
Закатальского и Сухумского округов, то здесь проведение реформы
признавалось преждевременным, т. к. судебные уставы подлежали
согласованию с установленными в них принципами военно-народного управления.
В 1865 году Временное отделение в Тифлисе приступило к разработке
законоположений о распространении на Кавказе нового судоустройства.
Плодом его деятельности явилось «Положение о применении судебных
уставов 20 ноября 1864 года», утвержденное 22 ноября 1866 года. 9 декабря
1867 года указ о реформе суда вступил в действие во всех частях
кавказского наместничества473.
Согласно ему, в Закавказье и Ставропольской губернии назначались
мировые судьи для каждого мирового отдела, образовывались окружные
суды для каждой губернии и судебная палата в Тифлисе - для всего края.
Мировой отдел соответствовал уезду. Разбирательству мирового судьи
были отнесены все гражданские дела о движимом и недвижимом
имуществе ценой не свыше 2000 рублей, гражданские дела- «о завладении и лич-
181
ных обидах» и мелкие уголовные преступления. На мировые учреждения
возлагались следственные действия, заведование опеками и
засвидетельствование актов в тех местностях, где не было нотариусов. Иски между
сельскими жителями оставались в ведении крестьянских судов.
Окончательное решение мировые судьи выносили по гражданским
делам стоимостью не выше 100 рублей и по уголовным, наказание за которые
не превышало трех дней ареста. Во всех остальных случаях решение
мирового судьи могло быть обжаловано в окружном суде474.
Окружные суды являлись апелляционной инстанцией для мировых
судей. Кроме того, в них разбирались на правах первой степени суда все
гражданские и уголовные дела, превышавшие ведомство мировых судей. Жалобы
на окружные суды рассматривались в судебной палате в Тифлисе; ее
решение являлось окончательным. Кассационным органом в отношении
судебной палаты был судебный департамент Правительствующего Сената475.
Установленным судебным органам подчинялись межевые дела:
обязанности, лежавшие в свое время на Закавказской межевой палате, были
переданы в Тифлисскую судебную палату, а обязанности межевых
комиссий - в окружные суды.
Общий надзор за судебными учреждениями и должностными лицами
судебного ведомства возлагался на наместника на правах министра юстиции.
К концу 60-х годов XIX века, по мнению кавказской администрации,
на Северном Кавказе сложились предпосылки для проведения судебной
реформы. Этому способствовали, во-первых, изменение национального
состава северокавказского региона476 за счет переселения большого числа
горцев-мусульман в Турцию и заселения на освобожденные земли выходцев
из внутренних губерний России; во-вторых, подчинение казачьего
населения и горцев гражданской администрации. На последнем факте
остановимся подробнее. При образовании Терской и Кубанской областей (1860 г.) для
каждой группы населения - казачества, горских народов и гражданских
жителей - были установлены разные органы управления. Вскоре
выяснилось, что областные учреждения не в силах справиться с возложенными на
них административными функциями. Встал вопрос о реорганизации
сложившейся системы управления. Разработку проекта об управлении
казачеством А. И. Барятинский поручил Временному комитету, созданному в
1860 году для переустройства казачьих войск под председательством
начальника Кубанской области генерал-адъютанта графа Н. И. Евдокимова.
Основой проекта послужила идея, высказанная Александром II: «Казачье
население, отбывая по-прежнему военную свою обязанность, может и
182
должно в то же время пользоваться общими для всех частей империи
благами гражданского управления»477. По мнению авторов проекта,
применению «общих начал управления» к административному устройству
казаков способствовали «исключительные местные условия»: чересполосное
владение землей горцев и казаков и отсутствие связи между
учреждениями для гражданского, казачьего и горского населения. В 1869 году
проект «Положения о Кубанском и Терском казачьих войсках», составленный
Временным комитетом и рассмотренный в Главном управлении
иррегулярных войск, был утвержден императором. Должности наказных атаманов
по-прежнему возлагались на начальников областей. Для военного
управления сохранялись войсковые штабы и учреждались управления атаманов
отделов; для гражданского управления казачеством была принята «с весьма
незначительными отступлениями, общая для кавказских губерний система
учреждений»478 с подчинением гражданских органов власти Министерству
внутренних дел. В судебном отношении казачество также приравнивалось
к населению внутренних российских губерний.
Что касается горского населения, то в Терской и Кубанской областях
по инициативе М. Т. Лорис-Меликова - начальника Терской области,
военно-народное управление упразднялось479. Предложение Лорис-Меликова
о подчинении горского населения областей общероссийским гражданским
законам «с незначительными временными изъятиями»480 было внесено
им в тифлисские высшие органы управления в период активного
обсуждения вопроса о намечавшихся преобразованиях в казачьих войсках, в
1867 году. Идея, высказанная начальником Терской области и
поддержанная наместником Кавказским, нашла свое отражение в отчете последнего
Александру П. В 1869 году великий князь Михаил Николаевич писал брату,
что «возрастающий достаток и рождающиеся новые потребности»
заставляют горцев «искать от нас уроков и руководства в новых для них
условиях жизни»481. Сказанное, - продолжал наместник, - особенно характерно
для жителей Терской и Кубанской областей, «где частое общение горцев
с русскими обусловливается соседством и экономическими
интересами»482. Касаясь системы военно-народного управления, установленной для
горских народов Кавказа, наместник признавал ее «в общем пригодной»
для Дагестана и других районов, но при этом ходатайствовал о введении
в Терской и Кубанской областях общей для всего населения гражданской
администрации483. С 1 января 1871 года на их территории для всех групп
населения вводились общие гражданские учреждения и российское
законодательство «с некоторыми временными изъятиями для горцев»484.
183
Таким образом, в северокавказском регионе появилось достаточно
большое число жителей, подчиненных гражданской администрации485, что
делало возможным проведение судебной реформы.
К моменту реформирования судебной системы на Северном Кавказе
в Кубанской области существовали Черноморский окружной суд и
городовые суды в Екатеринодаре, Ейске, Темрюке. Накануне реформы 1864 года
в Терской и Дагестанской областях вступили в действие Терский и
Дагестанский областные суды. Все они предназначались для лиц
гражданского ведомства. Горцы и казаки, основные жители Кубанской и Терской
областей, могли обращаться в эти суды при возникновении имущественных
и других тяжб между ними и гражданским населением. До 1869 года роль
судов для казаков исполняли станичные, полковые и войсковые правления
Терского и Кубанского казачьих войск. Для горцев в конце 50-х годов по
инициативе А. И. Барятинского были установлены народные суды: окружные и
участковые. В народных судах по адату рассматривались все «тяжебные»
и мелкие уголовные дела. Тяжкие уголовные преступления разбирались в
окружных судах гласным судебным следствием. Наказание же присуждалось
начальником области или главнокомандующим Кавказской армией в
административном порядке в соответствии с российским законодательством486.
Подготовительные работы по реорганизации судоустройства и
судопроизводства были завершены к концу 1870 года. Указом от 1 декабря
1870 г. в Кубанской и Терской областях и Черноморском округе вводились
судебные уставы 20 ноября 1864 года и положение о нотариальной части
от 14 апреля 1866 года. Законоположения вступали в действие 1 января
1871 года. Терский областной, Черноморский окружной суды, Кизлярский
уездный суд и Екатеринодарский, Ейский и Темрюковский городские суды,
а также народные суды Терской и Кубанской областей упразднялись. В
Екатеринодаре и Владикавказе открывались окружные суды с
прокурорским надзором, судебные мировые и следственные участки, нотариальные
архивы и конторы487. Терская и Кубанская области и Черноморский округ
делились на судебно-мировые участки, в каждый из которых назначался
мировой судья.
Позже, чем в других северокавказских административных единицах
(в 1875 году), областной суд был отменен в Дагестанской области. Вместо
него в Дербенте, Порт-Петровске и Темир-Хан-Шуре были открыты
мировые отделы, которые подчинялись Бакинскому окружному суду488.
Окружные суды Терской, Кубанской и Дагестанской областей
находились в ведении Тифлисской судебной палаты. Особенностью кавказских
184
окружных судов являлось отсутствие присяжных заседателей в окружных
судах и выборности мировых судей (они назначались наместником)489. Это
было вызвано опасением правительства в слишком либеральном
рассмотрении дел в крае, основным населением которого были крестьяне и
казаки, и с недавней нестабильностью в регионе490. Современники, вспоминая
первые шаги судебной реформы на Северном Кавказе, писали: «Кто
вспомнит, что перед этим было закончено покорение края, кто только подумает,
что мог представлять из себя в то время этот край, тот вполне поймет, чем
вызваны указанные изъятия: мировых судей некому было выбирать, а
присяжными судьями некому было быть»491.
Для горских народов устанавливалась особая система
судопроизводства. Для них открывались горские словесные суды, действовавшие на
основании «Временных правил горских словесных судов» и разбиравшие
дела по адату. Они были введены в округах под председательством
начальника округа или его помощника. Членами суда назначались
представители местной знати. В них разбирались тяжкие уголовные преступления.
Имущественные споры и мелкие уголовные преступления
рассматривались в аульных судах. В случае недовольства одной из сторон решением
аульного суда жалоба подавалась в горский словесный суд.
Присяжные заседатели в горских судах также не участвовали. Причинами
приятия такого решения назывались: «низкий уровень культурного развития
местного населения, чрезвычайная его разноплеменность и недостаточная
распространенность среди инородцев знания русского языка»492.
Как видно, судебная реформа, носившая половинчатый характер
в России, на Кавказе проводилась в еще более ограниченном виде. В
Закавказье и на Северном Кавказе отсутствовали важные составляющие
реформы: выборность мировых судей и институт присяжных заседателей,
не были учреждены мировые съезды. Небольшое число центров действия
мировых судов создавало значительные неудобства для местных жителей;
введение судопроизводства на русском языке затрудняло процесс и нередко
приводило к необъективности493.
Характеризуя проведение судебной реформы на Кавказе, барон
Николаи свидетельствовал, что «она прививается не без труда, не без
препятствий, не без неудобств. На каждом шагу чувствуется недостаточность
числа и способностей деятелей, а также и необходимого согласия между
вступившею в новые права властью судебною и ограниченной в своих
правах властью административною; с другой стороны - неподготовленность
самого населения сознать преимущества дарованных ему благ»494.
185
В 1865 году на Кавказ была распространена военно-окружная
реформа. Во внутренних губерниях России реформа проводилась в соответствии
с указом от 6 августа 1864 года. Вся территория России разделялась на
15 округов. Во главе округа стоял главный начальник, он же командующий
войсками. Ему подчинялись все войска и военные учебные заведения
округа. Командующий войсками округа непосредственно подчинялся Военному
министерству. Военно-окружная система в России имела ряд преимуществ:
ликвидировалась излишняя централизация управления, создавались более
благоприятные условия для оперативного руководства войсками,
сокращались сроки мобилизации резервов в военное время. В условиях России, с ее
огромными пространствами, это приобретало первостепенное значение495.
Образование Кавказского военного округа последовало ровно через
год, 6 августа 1865 года. Войска Кавказского округа сохраняли прежнее
название - «Кавказская армия». Военно-окружная реформа проводилась на
основании общих положений «с условиями особых дополнительных
правил»496, отражавших местные особенности края. Руководство Кавказским
военным округом вверялось главнокомандующему Кавказской армией;
к нему определялся помощник. В состав военно-окружного управления,
кроме военных округов, было включено образованное тогда же и
просуществовавшее в течение 14 лет Кавказское Горское управление, в котором
сосредоточивалось делопроизводство по управлению всеми горскими
народами497. Кроме того, при Кавказском округе должны были состоять
походный атаман казачьих войск и полевой аудиториат. В отличие от
российских командующих округами, кавказский главнокомандующий округом
обладал большими правами в отношении личного состава и при решении
хозяйственных вопросов. Председательство в военно-окружном совете
возлагалось на помощника главнокомандующего; в его ведении
находились также хозяйственные отделы военно-окружного управления и Горское
управление. Военно-окружной совет на Кавказе представлял свои
заключения не в Военный Совет, как советы других округов, а непосредственно
главнокомандующему. Последний обладал правом решения дела «в
пределах представленной ему власти»498, в случае, если оно выходило за рамки
его компетенции, дело направлялось в Военное министерство. В
окружном штабе сосредоточивалось делопроизводство по управлению войсками
армии и поселенными казачьими войсками - Кубанским и Терским499. Во
главе штаба стоял начальник и два его помощника; при штабе находился
священник Кавказской армии; здесь же был образован
военно-топографический отдел. Во всем остальном штаб Кавказского округа был идентичен
штабам других округов500.
186
Из-за разбросанности расположения на Кавказе войск, одного общего
начальника местных войск не было. Заведывание местными командами в
Кубанской, Терской и Дагестанских областях возлагалось на начальников
этих областей501; в Закавказском крае и Кутаисском генерал-губернаторстве
учреждался особый начальник местных войск и два помощника. При этом
все полевые войска были изъяты из-под руководства начальников областей
и на основании общего положения поручались начальникам дивизий. За
начальниками областей был оставлен лишь надзор за удовлетворением
хозяйственных нужд полевых войск502.
В 1874 году военно-административное деление Кавказа увеличилось с
образованием нового военного отдела - Закаспийского. Управление
отдела вверялось особому начальнику с правами и обязанностями областного
командующего войсками. В 1877 году с применением к Кавказскому
военному округу нового положения об управлении местными войсками были
учреждены должности начальника местных войск округа и во всех
кавказских губерниях должности воинских начальников503.
Одновременно с проведением военно-окружной реформы сильно
сокращался состав Кавказской армии. В 1866 году численность войск была
уменьшена на 336 офицеров и на 14016 нижних чинов, а немного раньше
сокращен срок обязательной службы в Кубанском и Терском казачьих
войсках504.
Итак, в результате реформы был упразднен огромный военный
аппарат Кавказской армии: главный штаб и ряд его управлений заменил аппарат
военно-окружного управления. Наместник Кавказа превращался в
обыкновенного командующего войсками в Кавказском военном округе с правом
корпусного командира505.
Особого внимания заслуживает применение в отдельных городах
Кавказа городской реформы 1870 года. Ее проведение поручалось самому
наместнику. О прохождении реформы он обязан был сообщать в Кавказский
комитет. Городская реформа проводилась не одновременно во всех
городах, а с разрывом в два-три года. В Закавказье первым право
самоуправления получил Тифлис. 1 января 1875 года здесь была открыта Тифлисская
городская Дума и губернское по городским делам присутствие506. В городах
Кутаиси, Гори, Ахалцихе преобразования также начались в 1875 году, а в
Эривани и Баку - в 1877 году507. Городовое положение распространялось и
на города Северного Кавказа. Так, 29 апреля 1874 года оно было введено
во Владикавказе, с 13 марта 1875 года стало действовать в Кизляре, а с
1 января 1876 года- в Моздоке508.
187
Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX в. привели и к реорганизации
кавказского административного аппарата в целом. Кавказский комитет,
созданный в свое время для разрешения наиболее сложных вопросов в
области экономического и административного управления Северным Кавказом
и Закавказьем и необходимость существования которого в 40-50-е годы
XIX века ни у кого не вызывала сомнения, в конце 50-х - начале 60-х годов
утрачивает свое былое значение. В 60-70-е годы с постепенным
вовлечением Кавказа в общероссийскую административную и экономическую
систему потребность в таком учреждении стала отпадать. В 1862 году, почти
одновременно с назначением нового наместника, в высших эшелонах власти
возникло предложение о закрытии Комитета и передаче его канцелярии в
Комитет министров509. В 1864 году для рассмотрения этого вопроса было
созвано особое совещание, которое так и не вынесло окончательного решения
из-за противоречивого мнения его членов. Особенно активно за сохранение
Кавказского комитета выступил великий князь Михаил Николаевич, лично
присутствовавший на совещании. Он назвал эту меру преждевременной.
Упразднение Комитета было невыгодно наместнику510, т. к. уравнивало его в
правах с губернаторами. Вопрос о дальнейшей судьбе Кавказского комитета
был передан в Комитет министров, который пришел к выводу о
«желательности» его существования. По мнению членов Комитета министров, в
противном случае кавказские дела оказались бы распыленными по различным
госучреждениям, что затруднило бы быстрое продвижение дел и
разрешение важных вопросов511. Резолюцией Александра II, оставленной в журнале
Комитета министров от 17 июля 1865 года, Кавказский комитет
сохранялся, порядок течения дел в нем восстанавливался тот, который существовал
до 1861 года512. Председателем Кавказского комитета становился
председатель Комитета министров513. Все законодательные вопросы передавались в
Государственный совет. Последнее распоряжение превращало некогда
важное высшее учреждение в передаточную инстанцию, тем более, что Комитет
уже до этого утратил некоторые свои функции, и сохранение его в таком
виде было весьма сомнительно. Но судьбу Комитета решали люди
заинтересованные, связывавшие с ним свои материальные интересы514. Все члены
Кавказского комитета, за редким исключением, являлись членами Комитета
министров. Таким образом, сложилась ситуация - «Комитет в Комитете».
Ограничительные меры затронули также права и власть наместника.
Если в 1856-1862 гг. необходимость окончания военных действий на Северо-
Восточном и Северо-Западном Кавказе заставляла Александра II снабдить
наместника неограниченными полномочиями и вывести его из-под контро-
188
ля всех высших органов России, то теперь проведение на Кавказе реформ в
общероссийских рамках делало целесообразным тесное сотрудничество и
частичное подчинение наместника и его аппарата высшим и центральным
государственным учреждениям. В «Учреждении управления Кавказского и
Закавказского края» указывалось, что «Наместник Кавказский в
действиях своих подчинен непосредственно верховной власти»; он назначается и
увольняется «по усмотрению» императора указом Правительствующему
Сенату и приказами в установленном общем порядке515. Все дела
управления, «не предоставленные личному решению» наместника, должны были
направляться им в высшие законодательные и исполнительные органы
власти516. Наместник обязывался предоставлять непосредственно Александру
II: «1) все важнейшие случаи по гражданскому управлению края; 2)
проекты новых узаконений или постановлений, касающиеся всех или многих
отраслей управления в совокупности, и 3) годовые по установленным
правилам отчеты»517. Во всех остальных случаях кавказскому наместнику
предписывалось обращаться к председателю Кавказского комитета. При этом
наместник обладал правом «требовать мнения министров» по
интересующим его вопросам и получать на них ответы напрямую. С кассационными
департаментами Сената наместник сносился через министра юстиции. Как
и прежде, все распоряжения и циркуляры министров и
главноуправляющих направлялись в кавказские административные учреждения только
через наместника. В том случае, если наместник считал невозможным или
неудобным привести в действие министерское распоряжение или
циркуляр, он уведомлял об этом председателя Кавказского комитета518.
В 1865 году Особому комитету в Тифлисе, занимавшемуся
проведением судебной реформы на Кавказе, была поручена разработка новых
положений и штатов по центральным (Главное управление, Совет Главного
управления и др.), губернским и уездным учреждениям. К концу 1867 года
Комитет подготовил «Положение о Главном управлении наместника
Кавказского»519. В соответствии с ним 9 декабря 1867 года520
административные права наместника сокращались за счет расширения прав Главного
управления. Принадлежавший наместнику Кавказскому высший надзор
по гражданскому управлению, пограничным делам и за мусульманским
духовенством сосредоточивался в Главном управлении наместника. В
состав Главного управления вошли: Совет Главного управления, департамент
Главного управления наместника, Управление государственными имуще-
ствами, лесами, делами сельского хозяйства и промышленности;
управления частями: учебной, почтовой, горной, медицинской и карантинно-та-
189
моженной; Особое о земских повинностях присутствие; комитеты:
строительно-дорожный, по устройству крестьян, Кавказский статистический
комитет и состоявшие в ведении Главного управления особые учреждения521.
При наместнике «для пограничных сношений» находился специальный
чиновник, присланный Министерством иностранных дел. Дела гражданского
ведомства подчинялись непосредственно начальнику Главного управления
наместника. На эту должность великий князь Михаил Николаевич
назначил барона А. П. Николаи. Представления губернаторов и начальников
областей попадали на стол наместника только после тщательного их изучения
начальником Главного управления. Последний мог сноситься с
министрами и главноуправляющими в Петербурге как по поручению наместника,
так и самостоятельно. При начальнике Главного управления учреждались
канцелярия и чиновники особых поручений.
По «Положению» 9 декабря 1867 года Совет Главного управления
наместника Кавказского определялся как совещательный орган. Обсуждению
в Совете подлежали: дела о предании суду должностных лиц, рассмотрение
«важнейших дел», вызванных жалобами на постановления губернских
учреждений, рассмотрение ежегодных финансовых смет местных доходов и
расходов Кавказа и Закавказского края, установление в городах новых
сборов, дела о недоимках, назначение вознаграждений из казны частным лицам
за имения и т. п. Через Совет Главного управления проходили проекты
наказов наместника подведомственным ему учреждениям об их регламенте и
дела по законодательным вопросам. В Совет входили: начальник Главного
управления (председатель), директор департамента Главного управления,
начальник Управления государственными имуществами, старший
председатель судебной палаты и три члена по назначению наместника. В него мог
быть приглашен любой из чиновников, возглавлявший какое-либо
структурное подразделение по усмотрению председателя или наместника522. В
1875 году Совет Главного управления был переименован в Совет наместника
Кавказского523. На новый Совет возлагались также обязанности «Кавказского
комитета об устройстве крестьян», состоящего при Главном управлении
наместника. Комитет об устройстве крестьян упразднялся524. Причиной
реорганизации называлась «необходимость усилить способы наместника
Кавказского по управлению Кавказским и Закавказским краем и дать Совету
Главного управления положение, более соответствующее назначению его как
совещательного учреждения» при наместнике. С этой же целью вводилась
новая должность помощника наместника Кавказского, который должен был
возглавить Совет наместника. В функции помощника входило исполнение
190
поручений наместника по гражданскому управлению, в том числе и ревизия
подведомственных наместнику губернских и уездных административных
учреждений. В случае отсутствия наместника на Кавказе его обязанности
переходили помощнику. На эту должность указом от 25 декабря 1875 года
назначался генерал-адъютант Д. И. Святополк-Мирский.
В Департамент Главного управления передавались дела «по
частям: распорядительной, судебной, финансовой и земской. Во главе
Департамента стоял директор; внутренняя организация Департамента,
пределы его власти, обязанности и ответственность чиновников
определялись наказом наместника и правилами Общего учреждения
министерств»525.
Управление отдельными частями в составе Главного управления было
распределено между соответствующими органами. Государственные
имущества, сельское хозяйство и промышленность поручались Управлению
государственными имуществами и его начальнику. Для управления учебными
заведениями образовался особый Кавказский учебный округ во главе с
попечителем и подчинявшимися ему советом попечителя, окружного инспектора
и канцелярии. Почтовые учреждения объединялись в Кавказский почтовый
округ. Управление медицинской частью гражданского ведомства вверялось
особому чиновнику медицинского ведомства - управляющему. Карантинно-
таможенная служба возглавлялась также управляющим. При управляющих
имелись канцелярии. Статусом особых учреждений в ведении Главного
управления обладали Особое о земских повинностях присутствие,
занимавшееся вопросами сельского хозяйства в Закавказье, Строительный
дорожный комитет, руководивший хозяйственно-технической частью гражданских
сооружений, Кавказский статистический комитет, составлявший и
издававший статистические сведения о крае, Комитет и канцелярия по устройству
крестьян. Кроме того, в ведение Главного управления передавались
цензурный комитет и ряд научных учреждений526. В основании своей деятельности
все перечисленные органы власти руководствовались общеимперским
законодательством, наказами и инструкциями наместника.
Судебная реформа, изъявшая из ведения административных
гражданских учреждений обязанности по суду и следствию, сделала
актуальной выработку новых положений о гражданском управлении Кавказом. В
Особом Комитете вопрос об этом был поднят еще в 1865 году527, а 9 декабря
1867 года был опубликован высочайший указ «О преобразовании
управления Кавказского и Закавказского края»528. Указ устанавливал в крае новое
административное деление. К существовавшим на Кавказе четырем губерниям
191
добавлялась пятая-Елисаветпольская; в ее состав вошли части Тифлисской,
Бакинской и Эриванской губерний. Кроме того, изменялись границы
губерний; Ставропольская губерния разделялась на три уезда: Ставропольский,
Пятигорский и Новогригорьевский. Последний образовался из части
Кизлярского уезда; другая его часть вместе с городом Кизляром
передавалась в состав Терской области. Кутаисская губерния состояла из семи
уездов: Кутаисского, Шаропинского, Рачинского, Озургетского, Зугдидского,
Сенакского и Лечгумского. Тифлисская - из шести уездов: Тифлисского,
Ахалцихского, Горийского, Душетского, Телавского и Сигнахского.
В Бакинскую губернию вошли шесть уездов: Бакинский, Кубинский,
Шемахинский, Гокчаевский, Джеватский и Ленкоранский; в Эриванскую
- пять уездов: Эриванский, Александропольский, Эчмиадзинский,
Новобаязетский и Нахичеваниский. Елисаветпольскую губернию
составили Елисаветпольский, Казахский, Зангезурский, Шушинский и Нухинский
уезды529. Существовавшее ранее в некоторых губерниях Закавказья деление
уездов на участки отменялось. «Положение о преобразовании управления
Кавказского и Закавказского края» четко определяло правила работы и
обязанности административных учреждений различных ведомств: губернских
правлений, уездных начальников, уездной и городской полиции, управления
государственными имуществами и т. д.530 Новое устройство освобождало
административные гражданские органы власти от судебных функций. Все они
«обратились к прямому и непосредственному своему назначению -
охранению общественного спокойствия и безопасности, предупреждению
преступлений и попечению о развитии народного благосостояния»531. Управление
губерниями, уездами и городами, а также государственными имуществами
устанавливалось на основании общего губернского «Учреждения»,
действовавшего на территории всей России.
В начале 1871 года с введением общего гражданского управления
административно-территориальному переустройству подверглись Кубанская
и Терская области. Кубанская область состояла из земель Кубанского
войска (12 станиц Войска были переданы Ставропольской губернии),
городов, селений государственных крестьян, солдатских слободок,
колоний и горских округов532. Кубанская область разделялась на пять уездов:
Екатеринодарский, Ейский, Темрюкский, Майкопский и Баталпашинский.
Укрепление Майкоп и станица Баталпашинская получили статус городов.
Областным городом назначался Екатеринодар. Территория Терской
области была расширена за счет присоединения к ней отдельных районов
Ставропольской губернии, части Кизлярского уезда вместе с Кизляром и
192
Георгиевском. Областным городом оставался Владикавказ. Область
делилась на семь округов: Владикавказский, Георгиевский, Грозненский,
Аргунский, Веденский, Кизлярский и Хасав-юртовский. Крепость Грозная
переименовывалась в город533.
В Дагестанской области, Закатальском округе и Сухумском
отделе по-прежнему сохранялась военно-народная система управления.
Великий князь Михаил Николаевич указывал, что, несмотря на свое
ходатайство о введении в Терской и Кубанской областях
общегражданского управления, он убежден в полной пригодности военно-народной
администрации534. К концу 60-х годов XIX в. в ханствах Дагестана и в
Абхазии полностью были устранены от власти ханы и владетели. На
всей территории Дагестана и Абхазии также вводилось
военно-народное управление535.
Характеризуя в целом усилия кавказской администрации при
проведении буржуазных реформ, следует, прежде всего, отметить, что практически
все они на территории Кавказа носили еще более ограниченный характер,
чем в России. Часть реформ вообще не затронула регион, например,
возможность реализации на Кавказе земской реформы сразу была отвергнута
Особым Комитетом 1865 года536; городская реформа проводилась всего в
нескольких городах края. Основная причина отсрочки некоторых реформ
или осуществление их в неполном объеме объяснялась правительством
неподготовленностью к ним кавказских жителей. Социально-экономическая
многоукладность, полиэтничность, прочность местных традиций, в том
числе норм обычного права, поликонфессиональность - все это создавало
серьезные трудности на пути реформирования Кавказа. Однако, несмотря
на половинчатость реформ, их проведение во многом решало задачу, давно
поставленную правительством перед главноуправляющими и
наместниками Кавказа - привязки края к России не только в политическом, но и в
административном отношении.
Частичная унификация кавказских учреждений с общероссийскими и
сохранение в некоторых районах специальных институтов для управления
горскими народами не помешали высшим чиновникам в Петербурге
прийти к выводу об административном слиянии Кавказа с Россией. Институт
наместничества как особая форма государственно-административного
устройства признавался ненужным. 1881 год, год убийства царя-либерала,
оказался рубежным как для России, так и для Кавказского наместничества.
В административной политике получила развитие тенденция к
централизации управления. Часть министров видела в самостоятельности кавказской
193
администрации главное препятствие в полной интеграции Кавказа в
общероссийскую систему управления537. И хотя мнения по поводу
ликвидации Кавказского наместничества разделились, в ноябре 1882 года оно было
упразднено538.
Параллельно с ликвидацией наместничества был вновь поставлен
вопрос о закрытии Кавказского комитета. Предложение об упразднении
комитета ставилось правительством в течение последних нескольких лет. Так,
после окончания русско-турецкой войны, в 1879 году, «Высшая комиссия
по изысканию средств к сокращению государственных расходов»
выступила с инициативой о закрытии Кавказского комитета и его канцелярии, на
содержание которых тратились значительные суммы - 27537 рублей
ежегодно539. Другим основанием для ликвидации комитета являлся тот факт,
что к этому времени в его компетенции оставались малозначительные дела
о перемещениях личного состава высшего и местного управления, о
наградах кавказским чиновникам и назначении им пенсионного содержания.
Вопросы армии, политики, экономики, культуры, образования были
переданы в другие высшие и центральные государственные учреждения540, и если
они проходили через Кавказский комитет, то формально. В связи с этим
комиссия находила, что для решения дел, превышавших власть наместника,
последний мог обращаться в высшие органы власти в общеустановленном
порядке. Однако в защиту Комитета выступил его бывший председатель
граф П.Н. Игнатьев (С 26 февраля 1872 г. по 20 декабря 1879 г. занимал
пост председателя Комитета министров). Предложение Высшей
комиссии об упразднении Комитета было отклонено. Лишь в 1881 году в ходе
дискуссии об отмене наместнического управления на Кавказе в Комитете
министров возобновилось обсуждение вопроса о правомерности
существования Кавказского комитета. В начале 1882 года судьба
наместничества и Комитета окончательно определилась. Журнал Комитета министров
от 26 января 1882 года содержит следующую запись: «Е.И. В.
сопроводили предначертать следующие мероприятия: 1) должность наместника
Кавказского упразднить; 2) Кавказский комитет упразднить; 3) сношения с
министерствами установить на тех же основаниях, какие ныне существуют
в губерниях, подчиненных генерал-губернаторам»541. Причиной принятия
такого решения новый император называл «несуществующие уже
исключительные условия»542 на Кавказе и как следствие этого - «отсутствие
местных управлений на Кавказе»543. Высочайшим указом от 29 ноября 1882 года
должность наместника Кавказского и Кавказский комитет упразднялись544.
Целью настоящих административных преобразований стало «достижение
194
сокращения расходов, упрощение управления» и объединение Кавказского
края «с существующим строем остальной части России»545. Александр III
сам в общих чертах обозначил будущее административное устройство
Кавказа. Вместо наместника Кавказского учреждалась должность главно-
начальствующего гражданской частью и командующего войсками «с
представлением лицу, которое будет назначено на эти должности, всех прав
генерал-губернатора»546. Министерствам поручалась разработка инструкций
для местных управлений Кавказа и проектов их устройства. Руководство
возлагалось на председателя Комитета министров М. X. Рейтерна. Сроком
окончания работ император назвал 1 января 1883 года. Проекты нового
управления Кавказом должны были рассматриваться в Комитете
министров с участием великого князя Михаила Николаевича547.
26 апреля 1883 года был опубликован указ «О преобразовании
управления Кавказского и Закавказского края»548. Вместо наместнического
управления устанавливалась следующая структура власти: главноначальствую-
щий гражданской частью, его помощники, Совет Главноначальствующего,
управления отдельными частями разных ведомств. Военно-народное
управление для горских народов сохранялось в отдельных частях
Кавказа.549 Главноначальствующий на Кавказе А.М. Дондуков-Корсаков,
а после него и Г. А. Голицын неоднократно поднимали вопрос о
расширении их полномочий. Отдаленность Кавказа от центра нередко
замедляла решение важных для окраины проблем. Как писал впоследствии граф
И. И. Воронцов-Дашков, «опыт централизации управления Кавказом из
С.-Петербурга, с учреждением на месте должности
главноначальствующего гражданской частью с расширенною несколько властью обычного
генерал-губернатора, длившееся свыше двадцати лет, дал довольно печальные
результаты. Кавказ вместо того, чтобы идти по пути развития за центром
империи, отстал от него, и вина в этом лежит не на местной кавказской
власти, а на центральных учреждениях. Главноначальствующие, снабженные
усиленными правами в сфере предупреждения и пресечения
общественного и государственного правопорядка, имели возможность только
возбуждать вопросы перед подлежащими ведомствами, вести с последними
длинную и почти всегда бесплодную переписку и отказываться от своих
проектов, встречая в ведомстве явное несочувствие своим начинаниям»550.
195
ГЛАВА III.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
И СУДОПРОИЗВОДСТВА У НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАВКАЗА В КОНЦЕ XVIII - 70-е ГОДЫ XIX в.
§7. ААМИНИСТРАТИВНЫЕ И СУАЕБНЫЕ РЕФОРМЫ В КАБАРАЕ
(1769-1858 ГГ.)
В 1769 году царское правительство приступило к введению в Кабарде
своей администрации. Причины, обусловившие действия правительства в
этом направлении, коренились, прежде всего, в резко обострившихся к
концу 60-х годов XVIII века русско-турецких отношениях, приведших к войне
1768-1774 гг.
С самого начала войны с Турцией российское командование
первостепенное значение на Центральном Кавказе придавало Кабарде,
являвшейся стратегически важным районом в действиях против турецких войск.
Серьезной задачей в связи с этим становится обеспечение спокойствия в
самой Кабарде, расположенной по соседству с Кавказской линией, тем более
что большая часть войск покидала линию, в военном отношении ослабляя
ее, и двигалась под командованием генерала Медема на Кубань. Между
тем опасения властей вызывали неоднократные, иногда вооруженные,
выступления феодальных верхов Кабарды, направленные против расширения
российской кордонной линии на Тереке и строительства на кабардинской
территории ряда укрепленных пунктов.
Особенно сильное недовольство вызвала постройка крепости Моздок.
Для кабардинских князей вопрос о Моздоке имел важное значение,
поскольку затрагивал их непосредственные экономические интересы. Дело
в том, что земли, на которых расположились казачьи поселения вокруг
Моздока, использовались ранее в качестве пастбищ1. Кроме того, сюда, на
Кавказскую линию, бежали крепостные крестьяне, рабы и вассально-зави-
симое от князей население2.
Отказ царского правительства уничтожить крепость раздражал князей.
В 1767 году часть из них, вступив в открытий союз с «закубанскими
татарами», покинула свое местожительство и вместе с зависимыми крестьянами
переселилась на земли, расположенные вдалеке от российской границы,
196
за Кубань, в верховья реки Кумы. Кабардинские князья, переселившиеся
сюда, обнаруживали сепаратистские тенденции в отношении России; более
того, они готовили нападение на Моздок3.
Хотя большинство кабардинских владельцев по-прежнему признавало
свое подданство России, обстановка, сложившаяся в Кабарде к концу 60-х
годов XVIII века, оставалась весьма напряженной. Этому способствовала
также агитация, проводимая султанскими агентами на Северном Кавказе.
В Кабарду, в частности, посылались указы турецкого султана с
обращением к кабардинцам быть послушными крымскому хану и «усердными
вместе с ногайскими, черкесскими деревнями и кубанским войском против
нарушителей вечного мирного трактата»4. Иначе говоря, турецкий султан
призывал кабардинских феодалов вступить к нему в такое же вассальное
положение, в каком находились от него крымский хан и население ряда
районов побережья Черного моря и выступить против России, якобы не
соблюдающей Белградский договор 1739 года.
В этих условиях царизм рассчитывал, в основном, на поддержку
крестьянского населения Кабарды, так как оно, будучи недовольное
насильственным переселением на Кубань, в свою очередь, надеялось с помощью
российской администрации вернуться на прежние, насиженные места. Эта
часть крестьян, требовавшая от российских властей покровительства и
«иметь своим опекуном русского офицера»5, могла стать опорой для
российского командования, решавшего задачи укрепления Кавказской военной
линии. По приказу командующего войсками на Кавказской линии генерала
Медема кабардинцы, переселившиеся в верховья Кумы, были возвращены
обратно «на прежние места по реке Баксану», и весь народ приведен к
присяге на подданство российской императрице6.
Не желая оставлять у себя в тылу «народ сомнительной
преданности», командующий, занятый «устройством кабардинских дел»,
предложил учредить новую административную должность - должность
пристава. Главной обязанностью пристава являлось осуществление общего
надзора за Кабардой. Вскоре, 3 ноября 1769 года, высочайшим указом7 «для
наблюдения за кабардинскими князьями» сюда был назначен приставом
секунд-майор Дмитрий Таганов, внук известного в то время
ногайского владельца Мусы Мурзы - «главного над солтанаульскими татарами,
составляющими большую часть кубанского народа»8. Кабардинские
владельцы должны были отныне согласовывать свои действия с приставом.
Пристав периодически менял свое местопребывание. Летом он
находился в Кабарде, а зимой переезжал в Моздок и оттуда осуществлял связь с
197
Кабардой. Одновременно устанавливалась правительственная оплата за
исполнение обязанностей пристава. «А дабы пристав мог без нужды себя
содержать и кабардинцев, как... гостей, угощать, - отмечалось в указе о
приставе, - определено ему в жалованье на подарки и приласкание
кабардинцев по 1570 рублей 11,5 копеек в год»9.
Так, в 1769 году введением должности пристава, по существу, было
положено начало утверждению в Кабарде царской военной администрации.
В середине 80-х годов XVIII века отношения между Россией и
Турцией вновь обострились. Положение на юге страны усложнялось
также развернувшимся в Чечне в 1785 году религиозным движением,
возглавляемым Шейхом Мансуром10. В связи с этим в Кабарде была
введена воинская повинность11. Согласно реформе 1786 года, здесь
создавался постоянный контингент войск; на случай войны
предусматривался созыв временного ополчения. Это положение распространялось
также на Осетию и Ингушетию, где для службы во Владикавказе и
охраны близлежащих дорог ингуши должны были выставить 300 человек,
а осетины 50012. И все же основная тяжесть воинской повинности легла
на кабардинцев - «народ издавна преданный и дружелюбный России»13.
По именному указу 26 августа 1786 года, направленному Екатериной II
князю П. С. Потемкину, Кабарда объявлялась «поселенным войском»14.
В обязанности «войска» входила охрана линии по кабардинской границе
от набегов «закубанцев». Число кабардинцев, постоянно
находившихся на царской службе, определялось следующим образом: «от Большой
Кабарды 600 человек, из них 12 князей и 24 узденя; от Малой Кабарды
- 300 человек (6 князей и 12 узденей). Всего 900 человек. Если война
велась Россией с какой-либо европейской державой, Кабарда должна была
послать 200 отборных наездников из добровольцев. На случай военных
действий на Кавказе обе Кабарды - Большая и Малая - выставляли
войска «сколько могут», «по усмотрению российского командования»15. За
службу в войске вводилась плата: рядовым по 12 рублей и по две
рубашки в год, узденям по 50 рублей в год, князьям по 120 рублей в год. С
присвоением кому-либо из князей и узденей армейского чина жалованье
выплачивалось в соответствии со званием. Шесть князей и столько же
узденей состояли ординарцами при кавказском наместнике.
Формирование кабардинского войска (или милиции) поручалось
генерал-аншефу Теккели. Всего к 1787 году было собрано 5000 воинов16. 13
сентября 1787 года П. С. Потемкин с полным правом мог рапортовать
генерал-фельдмаршалу Г. А. Потемкину: «Кабардинское земское войско со-
198
бралось на Малке и ожидало приезду из служащих владельцев с каждой
фамилии по одному, которым назначу следовать к вершинам Кубани, от
Каменного моста спуститься по берегу до корпуса...<<17. Кабардинское
ополчение принимало активное участие в боевых действиях против Турции
и в борьбе с Шейхом Мансуром. В рапорте от 27 января 1788 года князь
П. С. Потемкин отмечал его заслуги в разгроме турецких войск и мюридов
и высоко оценивал действия кабардинцев18.
В конце 80-х - начале 90-х годов XVIII века в Кабарде возобновились
антирусские выступления (см. II гл. §1). Новая волна недовольства среди
князей была вызвана постройкой крепостей Кавказской и Усть-Лабинской.
Перенесение Кавказской линии к югу и расширение военно-казачьей
колонизации на Северном Кавказе лишало князей части их зимних пастбищ в
прикубанских и прикумских степях и пригодных для пашни земель. Кроме
того, недовольство среди кабардинских князей и духовенства объяснялось
также существовавшим над ними военно-административным контролем
царских властей. Наконец, репрессии царской администрации против про-
турецки настроенных князей вызывали негодование даже среди
сторонников сближения с Россией, т.к. ответственность за виновных по принципу
круговой поруки несли и невиновные19.
Положение в Кабарде, осложнившееся отступничеством части
кабардинских князей, сильно тревожило царское правительство. В своем
«высочайшем повелении» генерал-губернатору Ивану Васильевичу Гудовичу
Екатерина II писала о кабардинских князьях, называя их поведение
«наглостью» и «хищничеством». Представитель царской администрации в
Кабарде - пристав, не только не имел возможности предотвратить
возмущение кабардинцев или урегулировать очередной конфликт, возникший
между князьями и администрацией, но на время был вынужден, спасаясь,
бежать за пределы Кабарды в Моздок20. Военные экспедиции, к которым
прибегали власти для «обеспечения спокойствия», также оказались не в
состоянии нормализовать обстановку.
Нужна была сила, способная ослабить, прежде всего, влияние местной
феодальной верхушки, и лишь затем представлялось возможным
укрепление позиции царской администрации в Кабарде. Такой силой, по мнению
Екатерины II, могло стать «правосудие». В предписаний И. В. Гудовичу
императрица указывала, что «не единою силою оружия предлежит побеждать
народы, в неприступных горах живущие и имеющие в оных от войск
наших убежище, но паче правосудием и справедливостью смягчать,
выигрывать сердца и приучать их более обращаться с русскими»21.
199
Так, в Кабарде решено было ввести новое судопроизводство. По
утверждению историка Т. X. Кумыкова, царская администрация
разработала два проекта системы судопроизводства. В одном из них предлагалось
установить общий для всей Кабарды суд под председательством
представителя царской военной власти и отменить разбор дел в соответствии с
нормами обычного права, в другом - признавалось целесообразным
создать несколько судебных органов, осуществлявших делопроизводство по
привычному для горцев адату22. К сожалению, Т. X. Кумыков, говоря о
проекте «общего суда», ограничился лишь упоминанием о его существовании,
не сделав при этом ссылки на источник. Сведений о проекте «общего суда»
нет у других авторов, не обнаружен он и нами. Что касается второго
проекта, то он хорошо известен историкам. Согласно ему, в Кабарде «на первое
время» учреждались «родовые суды» и «родовые расправы», идентичные
расправам, установленным царским правительством в Оренбурге «для
киргиз»23 (казахов, живущих на территории Омской области24).
В основе системы судопроизводства лежал сословный принцип. Его
дополнял родовой принцип: по нему определялось число судов. Родовые
суды предназначались для владельцев (князей, с их подвластными), а
родовые расправы - для узденей и их подвластных.
Уровень общественного развития горских народов и полное
несоответствие адатных и шариатных постановлений с действующими в империи
законами делали невозможным введение здесь системы управления общей
с российской. С. Эсадзе писал по этому поводу, что установление среди
горского населения чуждого ему управления являлось опасным в
политическом отношении25.
Первоначально предполагалось установить суды и расправы по
числу родов в Кабарде: в Большой Кабарде, в которой существовало
четыре княжеских рода (Атажукины, Мисостовы, Бекмурзины и Кайтукины),
открыть четыре родовых суда и четыре расправы, а в Малой Кабарде
для Таусултановых и Гиляхстановых - два родовых суда и две
расправы26. Однако такое количество судов и расправ главнокомандующий на
Кавказе И. В. Гудович нашел «неудобным» и невыгодным для
государственной казны и сократил их число вдвое. Общий родовой суд и общая
родовая расправа устанавливались на каждые две княжеские фамилии:
суд и расправа для родов Мисостовых и Атажукиных, суд и расправа для
Бекмурзиных и Кайтукиных, равным образом, для владельцев двух родов
Таусултановых и Гиляхстановых учреждался один родовой суд и одна
родовая расправа27.
200
Высшей инстанцией в отношении судов и расправ являлся Верховный
пограничный суд в Моздоке (см. II гл. §1). Именно сюда поступали на
апелляцию кабардинские дела. Здесь же осуществлялось делопроизводство
уголовных преступлений. В Пограничном суде судопроизводство велось в
соответствии с общероссийским законодательством. Таким образом,
гражданское судопроизводство отделялось от уголовного. Уголовные дела были
изъяты из юрисдикции местных судов в Кабарде, что, безусловно,
ограничивало власть феодалов и духовенства.
Открытие судов и расправ в Кабарде состоялось в 1793 году. В их
компетенцию входил разбор гражданских дел по адату.
Каждый родовой суд должен был состоять из «лучших владельцев»:
председателя и двух заседателей, в избрании которых участвовали лишь
представители высшего сословия. Родовые расправы составлялись из
узденей: председателя и семи заседателей, в число последних входил также
представитель духовенства - кадий или первенствующий мулла28. Члены
родовых судов и расправ переизбирались через каждые три года. Царские
офицеры или чиновники в судопроизводстве не участвовали29.
Родовые суды и расправы существовали самостоятельно друг от друга
и друг от друга не зависели.
Т.Х. Кумыковым приводятся интересные документы, описывающие
ход первых выборов, длившихся три дня, - с 1 по 3 сентября 1793 года.
В одном из них говорится: «По учинении 30 числа прошедшего августа
Атажукова и Мисостова роду владельцам присяги на выбор судей за
поздним в тот день временем начался оной владельцем по голосам на другой
день... и продолжался три дня и по нынешнее число все судьи как в
родовой, так и в Пограничный суды того роду из владельцев равно и в уз-
денские расправы почти всех выбраны»30. «Предвыборная кампания» была
ожесточенной, поскольку для двух княжеских фамилий создавался всего
один суд; естественно, всех волновал вопрос: представитель какого рода
займет место председателя.
Судьи и заседатели избирались на общем сходе открытым
голосованием, в котором участвовали лишь лица, имевшие княжеское или дворянское
происхождение31.
Предоставление известной самостоятельности кабардинцам в
судопроизводстве и привлечение социальной верхушки горских народов к
представительству в моздокском Верхнем пограничном суде объяснялось
рядом причин. Основной из них являлось то, что царские власти с
помощью уступки князьям и духовенству стремились, прежде всего, укрепить в
201
Кабарде социальную опору самодержавия. Кроме того, к этому вынуждало
администрацию и незнание царскими властями сословно-поземельных
отношений народов Северного Кавказа и применяемого у горцев в
судопроизводстве адата.
Введение царизмом новой системы судопроизводства, без сомнения,
имело большое значение для административного подчинения Кабарды.
Предоставив кабардинским князьям и узденям самостоятельность в
решении дел гражданского характера, царские власти на Кавказе в то же время
полностью взяли в свои руки делопроизводство уголовных преступлений.
Они разбирались в моздокском Верхнем пограничном суде на основании
законов Российской империи. Таким образом, отдавая лишь часть дел в
ведение князей и духовенства, кавказская администрация получила
юридическое право наказывать горцев в случае их нападения на казачьи станицы
и воинские гарнизоны, расположенные на Кавказской линии. В
зависимости от масштаба нападения и его последствий дело могло рассматриваться
в суде как измена, убийство, разбой, воровство.
Царское правительство, однако, не считало систему
судопроизводства, учрежденную в Кабарде, окончательно оформившейся. 28 февраля
1792 года в высочайшем указе И. В. Гудовичу Екатерина II подчеркивала,
что суды и расправы «признано полезным» установить только «на первое
время»32. В эту фразу, по-видимому, императрица вкладывала двойное
содержание, с одной стороны, стремление к дальнейшему подчинению
кабардинцев общеимперской администрации, с другой - желание
приспособить учреждаемые правительством на Кавказе управленческие институты
к местным условиям.
Хотя судебная реформа, проведенная в Кабарде, носила сугубо
классовый характер, духовенство и часть владельцев встретили ее враждебно.
Особое возмущение правящей верхушки вызывало подчинение родовых
судов и расправ моздокскому коменданту, а также то, что все «без
изъятия» кабардинские уголовные дела рассматривались по российским
законам. В родовых судах и расправах они видели ограничение своих
привилегий и политических прав и нарушение местных обычаев, защищавших
их права, тем более в условиях постоянного ухода части крестьян от
своих владельцев.
Через год после проведения реформы, в феврале 1794 года, а затем и
в 1795, 1799 и в 1804 годах в Кабарде имели место выступления,
направленные против установленных здесь судебных органов. Их инициаторы
- кабардинские феодалы и духовенство, отстаивавшие свое самовластие,
202
требовали ликвидировать суды и расправы и признать единственным
учреждением суд кадиев, производимый по шариату. Характер и
направленность этих выступлений обстоятельно описаны кабардинскими
историками33. Не останавливаясь на этом подробно, заметим лишь, что введение в
Кабарде судов и расправ всколыхнуло все слои кабардинского общества.
Они усматривали в этом акте вмешательство в устоявшийся на
протяжении веков и освященный обычаями порядок. Настаивая на выдвинутых
требованиях, феодалы прибегали к саботажу выборов в родовые суды и
расправы. Несмотря на то, что царские войска подавляли волнения,
наладить постоянное функционирование судебных учреждений в Кабарде так
и не удалось.
Перед правительством, таким образом, возникал вопрос о том,
насколько приемлема для управления кабардинцами установленная в 1793 году
система судопроизводства. В рескрипте 31 июля 1804 года
главноуправляющему Кавказским краем князю П. Д. Цицианову Александр I запрашивал,
действительно ли эти судьи необходимы кабардинцам. «Должно, конечно,
- говорилось в рескрипте, - чтобы они исполнили то, что им однажды по-
велено было, но когда совершенное спокойствие водворится, то не удобнее
ли будет оставить их иметь прежнюю расправу кадиев»34.
Правительство поручило П. Д. Цицианову определить причины
волнений кабардинцев и в случае необходимости позволяло внести коррективы
в управление35. Вскоре П. Д. Цицианов представил на «высочайшее
рассмотрение» проект изменения системы управления в Кабарде.
Свои предложения главноуправляющий начал с того, что подчеркивал
необходимость изъятия из обихода слова «пристав», как непонятного и ни
о чем не говорящего кабардинцам. В связи с этим П. Д. Цицианов отмечал
также, что «слово пристав в азиатском народе никакого почтения и
уважения к себе не привлекает», поскольку кабардинцы, как и все «азиатцы,
привыкли почитать силу, следовательно, и особу ее во власти имеющую
и оное означающую»36. Должность пристава - фактического посредника
между администрацией Кавказской линии и населением,
главнокомандующий предлагал переименовать в «начальника». Последний, по мысли
П. Д. Цицианова, обязательно должен был находиться в чине
генерал-майора, так как многие кабардинские князья к этому времени имели
полковничьи чины.
В своем проекте П. Д. Цицианов предлагал также переименовать
Кабарду в «Кабардинскую область» и впредь избегать в переписке
употребления такого понятия, как «кабардинский народ». «Это, - полагал главно-
203
управляющий, - лишний раз напоминало бы тамошнему населению о его
тесной связи с Россией»37.
Характеризуя политику, проводимую в Кабарде царской
администрацией, основные принципы которой состояли в «поддержании узденей в
неповиновении к их князьям» и в раздаче пенсионов прорусски настроенным
феодалам, П. Д. Цицианов отмечал ее бесперспективность в достижении
главной цели — обращения кабардинцев в «спокойных обывателей» и в
«полезный для империи народ»38. Главноуправляющий Кавказского края
выдвигал новую политическую программу, способную, по его мнению,
ускорить административное подчинение края. В основе ее лежали те же
общие положения, которые П. Д. Цицианов предлагал в отношении
кавказских народов вообще (см. II гл.§1). Они состояли «в перемене их
воспитания, введении в Кабарде роскоши и в сближении кабардинцев с
российскими нравами»39. Для достижения этой цели, по мысли П. Д. Цицианова,
в Георгиевске и Екатеринограде необходимо было открыть училища для
обучения «русскому и татарскому языкам» детей кабардинских князей и
узденей. После училищ, согласно проекту, они направлялись бы «для
усовершенствования наук» в кадетские корпусы с последующим
распределением в отдаленные от Кавказской линии полки40. Из дворянских детей, не
способных к учению, П. Д. Цицианов собирался формировать
кабардинский гвардейский эскадрон; расходы на него должны были составить 30
тыс. рублей.
В области экономических мер главноуправляющий признавал
целесообразным продолжить покровительство растущей в Кабарде торговли.
Отметим, что П. Д. Цицианов, не дожидаясь принятия проекта, предпринял
шаги, направленные на развитие торговли в Кабарде. В частности, им была
отменена пошлина для кабардинцев на ввозимые в русские города для
продажи товары41.
Касаясь изменения системы судопроизводства в Кабарде,
П. Д. Цицианов считал, что на данном этапе нужно пойти на уступку
кабардинским феодалам и духовенству. Он находил возможным вместо
родовых судов и расправ установить в качестве низшей инстанции духовный
суд и поручить муллам и кадиям разбор дел по шариату. При этом, однако,
обязательным условием главноуправляющий ставил ежемесячную
отчетность духовных лиц, осуществляющих судопроизводство, моздокскому
Верхнему пограничному суду42.
Одобрив в целом программу, предложенную П. Д. Цициановым,
Александр I, однако, не согласился переименовать «кабардинский народ»
204
в «Кабардинскую область»43. Что касается должности пристава, то она
получила название «управляющего делами Кабарды». Назначенному на
эту должность генерал-майору Ивану Петровичу Дельпоцо поручалось
«склонять кабардинцев отдавать своих детей в школы и к поступлению
в гвардейский эскадрон»44. С особой осторожностью кавказская
администрация отнеслась к введению в Кабарде духовного суда,
восстанавливавшего, по существу, претензии кадиев на судопроизводство. Не случайно,
что в одном из предписаний для Дельпоцо (29 января 1805 г.) указывалось:
«Главнейшее, что нужно дознать..., не подает ли перемена к отклонению
их (кабардинцев - 3. Б.) от русских»45.
Датой введения судопроизводства по шариату следует считать
1807 год, поскольку первое упоминание о его существовании было
сделано в «Народном условии», принятом летом этого года; в этом
документе оговаривались правила функционирования духовного суда - мехкеме.
Впервые полный текст «Народного условия» был опубликован в
историческом исследовании Ш.Б. Ногмова «История адыгейского народа»,
написанном еще в 1843 году46, а затем из работы Ш.Б. Ногмова его
позаимствовал известный кавказовед Ф.И. Леонтович при составлении сборника
адатов кавказских горцев. «Народное условие», по Ф.И. Леонтовичу,
представляло собой «маслагат» (народный ряд), составленный и утвержденный
кабардинцами на народном собрании путем пересмотра и формулировки
адатных норм47. В его статьях трактовались взаимные обязанности между
различными сословиями кабардинского общества, определялись условия
выкупа пленных, выплаты десятины духовенству, организации суда и
наказания за преступления; кроме того, отдельные его статьи регулировали
семейные отношения и наследование имущества.
В соответствии со статьями «Народного условия» в Кабарде
открывались два духовных суда (мехкеме): один для Мисостовых и Атажукиных,
другой для Бекмурзиных и Кайтукиных48.
В число членов мехкеме избирались: в качестве «старшего судьи» -
валий49, два или три князя, восемь представителей от узденей, сменявших
друг друга через каждые три месяца, секретарь и кадий50. Таким образом,
духовные суды, как и ранее родовые суды и расправы, носили сословный
характер, и участие в них было доступно лишь привилегированным
сословиям. При этом в состав суда входило не только духовенство. Большинство
мест в мехкеме принадлежало социальным верхам Кабарды. Такое
«сотрудничество» князей и духовенства явилось компромиссом между двумя
кабардинскими сословиями, претендовавшими на власть.
205
Непременным условием функционирования духовных судов являлось
их невмешательство в дела друг друга. В случае принадлежности истца к
одному мехкеме, а ответчика к другому, дело разбиралось в мехкеме
последнего51. Судебные дела, касавшиеся двух или более лиц, —
представителей разных родов - могли рассматриваться также на совместных
заседаниях мехкеме52.
Помимо мехкеме право заниматься судопроизводством получали
живущие в аулах муллы и кадии. Принятое ими решение приравнивалось к
решению мехкеме и не подлежало апелляции. Недовольному разбором дела
просителю под угрозой штрафа в 100 рублей запрещалось обращаться к
духовным лицам соседних аулов.
Пункты «Народного условия», не разрешавшие подавать куда бы то
ни было апелляцию, как бы сами по себе исключали для кабардинцев
возможность подать жалобу в моздокский Верхний пограничный суд. Кроме
того, «Народное условие», являвшееся, по определению Ф.И. Леонтовича,
«книгой для руководства в судебных приговорах»53, своеобразным
кодексом, содержало статьи, касавшиеся таких уголовных преступлений, как
воровство, нанесение материального ущерба, убийство узденем своего чага-
ра, то есть дела, относящиеся к компетенции Верхнего пограничного суда.
Это обстоятельство также ограничивало вмешательство моздокского суда
во внутреннюю жизнь кабардинского общества, вело к усилению власти
феодалов над зависимым населением.
Таким образом, принятием «Народного условия» и учреждением суда
по шариату князья и духовенство добились, во-первых, полной
бесконтрольности судопроизводства, во-вторых, существенно ослабили в Кабарде
русское влияние, и, в-третьих, разбор дел по шариату способствовал
усилению феодальной эксплуатации.
Духовные суды сохранялись до 1822 года.
Наряду с указанием о применении в судопроизводстве шариата
«Народное условие» содержало пункты, в которых имелось указание об его
ограничении. Участвовавшие в составлении «Народного условия»
представители зависимых сословий Кабарды сумели отстоять ряд выдвинутых
ими требований, ограничивавших произвол князей и духовенства. Так,
истец и ответчик не имели право обращаться к кадию «скрытно», а обязаны
были вместе подать в суд свои жалобы. Решение суда также должно было
объявляться одновременно и истцу, и ответчику. В случае нарушения
установленных правил проситель (нарушитель) и кадий подвергались штрафу
20 рублей серебром в пользу валия54. Интересы кабардинского крестьян-
206
ства нашли свое отражение и в пункте № 20 «Народного условия»: здесь,
помимо указания «всякое дело в народе решать по шариату», имелась
оговорка - «за исключением претензий князя с узденями, узденей с
крепостными»; последние по-прежнему, как и до принятия «Народного условия»,
разбирались в соответствии с обычным правом, адатом55.
Таким образом, в требовании разбирать дела, касавшиеся
представителей двух разных сословий, заключалась попытка предупредить
необъективное решение дела в пользу стороны, принадлежавшей к более высокому
сословию.
Тем не менее духовные суды играли реакционную роль в
общественной и политической жизни Кабарды. Об этом, как об очевидном факте,
писал видный общественный деятель Кабарды конца XVIII - начала XIX века
Измаил-бей Атажукин: «На учинении кабардинскими владельцами,
узденями и народом присяги в непоколебимой верности к всероссийскому
престолу и к безмолвному послушанию российскому начальству» мешает
«кабардинское магометанского закона духовенство,... развращающее вообще
всех оных обитателей от соединения с христианами, каковые суть
россияне»56. Отрицательно относился к мехкеме и граф И. В. Гудович,
назначенный на Кавказ после гибели П. Д. Цицианова. 16 мая 1808 года он писал
князю Куракину: «Теперь... вся власть перешла в руки неблагомыслящего
России духовенства, которому предоставлен суд»57.
В условиях русско-иранской войны, начавшейся в 1804 году, а также
открытия в 1806 году русско-турецкого фронта, основной задачей
кавказской администрации стало пресечение действий, направленных против
России. Чтобы сохранить в Кабарде свое управление и тем самым усилить
свое влияние, администрация старалась посредством подкупа привлекать
«сколько возможно» на свою сторону эффендиев и кадиев. В рапорте
командующего на Кавказской линии генерала Булгакова отмечалось, что
иметь влияние на кабардинское духовенство - «значит, иметь самую
слепую подчиненность» кабардинцев58.
Однако не все администраторы на Кавказской линии разделяли мнение
о необходимости проводить такую политику. В их числе был и
управляющий делами Кабарды генерал-майор И. П. Дельпоцо. В 1808 году он
представил правительству проект преобразования управления кабардинцами
под названием «Записка о Большой и Малой Кабарде»59. Автор «Записки»
предлагал ввести в Кабарде «образ правления», основанный на «военном
праве», сохранив при этом за местным населением возможность в
отношениях между собой руководствоваться некоторыми древними обычаями60.
207
Обязательным условием успеха Дельпоцо считал отмену шариата.
Согласно проекту И. П. Дельпоцо, вместо «духовного суда»
устанавливался общий для всех кабардинцев суд под названием «Главного кабардинского
суда»61. В состав суда, по проекту, входили представители всех свободных
сословий: кабардинские князья, уздени, «вольные люди нижнего состояния».
Председателем в суде мог быть только представитель российской власти.
Удобнее всего, как полагал И. П. Дельпоцо, было закрепить эту должность
за управляющим Кабардой. В ведение Главного кабардинского суда входили
как уголовные, так и гражданские дела местного населения, разбираемые
«по изданным законам», т.е. общим для всей России законодательством.
В каждых двух княжеских родах управляющим Кабардой
устанавливалась земская полиция: сюда же назначался комиссар с переводчиком и
тридцатью казаками. По проекту в обязанности комиссара входил разбор
незначительных конфликтов между жителями и надзор за исполнением
решений Главного суда.
Местонахождением Главного суда намечалась крепость, построенная
в глубине Кабарды, которая впоследствии превратилась бы в
административный и экономический центр. С этой целью И. П. Дельпоцо предлагал в
окрестности крепости поселить армян и кабардинцев, занимавшихся
торговлей. Кроме того, в крепости намечалось строительство
административных зданий. Как видно, постройка крепости призвана была решить задачи
не только военно-административного характера, но и экономические - она
способствовала бы сближению торговых связей Кабарды с Россией, что, в
свою очередь, вело в дальнейшем к прекращению торговли с Турцией,
сводило к минимуму вероятность протурецкой ориентации Кабарды.
Для успешного осуществления выдвинутого плана И. П. Дельпоцо
считал достаточным размежевать кабардинские земли, определив
каждому владельцу его собственность и переселить жителей горных
районов Кабарды на равнинные земли. Автор проекта отводил 12 лет на то,
чтобы переселенцы могли наладить свое хозяйство. Затем, по истечении
установленного времени, производилась перепись всего населения, на
него налагались казенные подати, а территория Кабарды
присоединялась к Кавказской губернии62. Слияние Кабарды с Кавказской
губернией, по идее управляющего Кабардой, должно было привести к
русификации судопроизводства и, стало быть, к административному
подчинению Кабарды.
Подобное «кабардинскому» управление И. П. Дельпоцо предлагал
ввести и в Осетии63.
208
Однако представленный И. П. Дельпоцо проект правительство не
поддержало. Только позже, во время управления Кавказским краем
А. П. Ермоловым, были реализованы отдельные положения проекта.
В основу структуры аппарата управления Кабардой, сложившейся к
началу второго десятилетия XIX в., фактически было положено
военно-административное управление. Это видно из отношения генерала А. П. Тормасова
графу Румянцеву, датированного 28 января 1811 г64. Содержание документа
не оставляет сомнения в том, что Кабарда всецело подчинялась кавказским
военным властям. «Дела кабардинские, - говорится в нем, -
непосредственно состоят под ведомством главнокомандующего здешним краем, по
ближайшим местным обстоятельствам - под ведомством дивизионного на
линии Кавказской начальника,.. .благоустройство же между ними наблюдается
определенным над ними главным приставом»65.
Таким образом, в административной зависимости Кабарды от царских
властей строго соблюдалась военная иерархия.
Самодержавие, несмотря на наличие здесь в начале XIX века
сложившейся системы административной подчиненности местного населения
военным властям, практически не вмешивалось во внутреннюю жизнь
кабардинского общества. Это объяснялось не только трудностью
осуществления контроля за деятельностью кабардинских владельцев и духовенства, в
определенной степени вызванной принятием статей «Народного условия»,
предупреждавших возможность подчинения духовных судов кавказской
администрации. Управление Кабардой затруднялось также
свирепствовавшей в начале XIX века на территории Кабарды чумой. А. П. Ермолов,
назначенный на Кавказ в 1816 году, в своих записках об управлении краем
писал, что «моровая язва» уничтожила почти «совершенно все население
Малой Кабарды и опустошила Большую»66.
Дальнейшие военно-административные мероприятия в Кабарде, как
и в других районах Северного Кавказа, во многом определялись
серьезными осложнениями в международной жизни и, в первую очередь, новым
обострением противоречий между Россией и Турцией. Особенно опасное
развитие эти противоречия приняли в 1821 году в связи с восстаниями в
Греции и Валахии. Россия стремилась воспользоваться этими
восстаниями, а Турция, в свою очередь, предприняла ряд антирусских санкций. В
результате в 1821 году между Турцией и Россией произошел
дипломатический разрыв.
В этих условиях в 1822 году был разработан план военной
экспедиции в Кабарду. Основная ее цель заключалась в обеспечении безопасного
209
передвижения по дороге, соединявшей Екатериноград с Владикавказом67.
На протяжении ста верст эта дорога пролегала вдалеке от казачьих станиц
и близ гор, где жили кабардинцы. Это делало уязвимой дорогу, имевшую
важное военно-стратегическое значение. А. П. Ермолов считал
необходимым, во-первых, построить новые крепости на территории Кабарды,
расположив их у выходов из ущелий, и, во-вторых, выселить кабардинцев из
горной местности и поселить между российскими укреплениями и
казачьими станицами.
Под командованием полковника Коцарева в Кабарду был послан
отряд, состоявший из тысячи человек Кабардинского полка и 200
линейных казаков68. Вступив в Кабарду, войска разделились на две части:
одна приступила к постройке укреплений, другая исполняла роль
подвижного резерва, задача которого сводилась к пресечению
выступлений кабардинцев, направленных против строительства крепостей69.
Действия А. П. Ермолова вызвали новую волну протеста кабардинцев.
В 1822 году князья подняли восстание, которое по размерам и упорству
сопротивления превзошло предшествующие. Оно было подавлено силой
оружия.
После подавления выступлений А. П. Ермолов разослал по всей
Кабарде прокламации70. В них содержалось требование немедленно
выселиться из гор, определялись гражданские права и обязанности
кабардинцев и их отношение с царскими властями. Объявив кабардинскую землю
собственностью самодержавного правительства, главноуправляющий
краем обещал раздавать ее, по своему усмотрению, тем лицам, которые будут
преданы России71. В своей прокламации А. П. Ермолов оставлял за
кабардинцами право в их общественной жизни руководствоваться адатом и
обещал свободу вероисповедания72.
Всем владельцам, переселившимся на равнинные земли, сохранялось
их звание, право собственности на землю (в том числе и на горные
пастбища) и давалось обещание возвратить беглых крепостных. Князья же и
уздени, оставшиеся в горах, лишались дворянского достоинства и всего
имущества, а их крепостные получали свободу73.
Подтвердив в прокламации крепостную зависимость крестьян от их
владельцев, кавказская администрация, однако, запрещала князьям и
узденям лишать рабов жизни. Владельцу, нарушившему это условие, грозило
жестокое наказание, а семья убитого раба получала свободу.
Для достижения своих целей кавказская администрация использовала,
таким образом, социальные противоречия.
210
В обязанность всех кабардинцев, независимо от их социального
положения, вменялось убивать или выдавать военным властям князей и
узденей, объявленных царской администрацией изменниками.
Особое внимание А. П. Ермолов обратил на преобразование в Кабарде
системы судопроизводства. Причиной проведения новой судебной
реформы явилось стремление правительства ограничить власть мусульманского
духовенства- основного противника русской ориентации, за последнее
десятилетие заметно укрепившего свои позиции в Кабарде. Здесь при
составлении проекта будущего суда для жителей Кабарды нашла отражение
основная линия проекта, выдвинутого в свое время И. П. Дельпоцо, -
централизация судопроизводства и отказ от множественности судов. Кроме того,
кавказские власти пытались не только вернуть утраченные в 1807 году
прерогативы, но и расширить свое влияние. Прокламацией от 29 августа
1822 года А. П. Ермолов известил кабардинцев об учреждении для них в
крепости Нальчик Временного кабардинского суда74. Поводом к его
открытию и отмене мехкеме послужили «многочисленные жалобы
кабардинского народа» на несправедливое решение дел по шариату.
В отличие от существовавших ранее в Кабарде судебных органов
члены Временного суда не избирались кабардинским дворянством, а
назначались администрацией. Суд состоял, в основном, из представителей
кабардинских князей и узденей («по одному от каждого рода или фамилии»)75.
Председателем суда А. П. Ермолов назначил правителя Кабарды
подполковника Кучука Джанхотова, «губернским секретарем» Касая Картулова,
секретарем Якуба Шарданова; судьями: от князей Гаджи Мурзабека
Хамурзина, капитана Темирбулата Атажукина; от узденей Али Мурзу
Коголко, Беслана Куденетова, Али Конова. В число судей входил также
кадий, который избирался членами суда. Для ведения документации в суд
был прикомандирован российский чиновник. В состав Временного суда
могли быть включены также представители «низшего сословия». В случае
разбора спорных дел между владельцами или узденями с их
подвластными или между людьми низшего сословия в него приглашались «народные
депутаты»76.
Для Временного кабардинского суда А. П. Ермолов утвердил
правила, определявшие его деятельность: «Наставление Временному суду,
учрежденному в Кабарде, для разбора дел между кабардинцами впредь до
издания особенных правил»77. В основу «Наставления», по утверждению
В. Потто, А. П. Ермолов положил «Записку о народных обычаях
кабардинцев» капитана Якуба Шарданова (секретаря Временного суда), составлен-
211
ную им по поручению А. П. Ермолова78. Хотя «Наставление» должно было
действовать «до издания особенных правил», оно применялось в течение
всего периода существования суда, т.е. с 1822 по 1858 год. Позже новые
командующие внесли в «Наставление» ряд частных изменений и
дополнений, но его основные принципы остались прежними. Н. Н. Муравьев в
1855 году писал А. П. Ермолову: «Я был в Нальчике, где устав ваш и
прокламации служат единственным руководством для дел, встречающихся не
только между кабардинцами, но даже и между племенами, живущими в
горах»79.
Согласно «Наставлению», разбору во Временном кабардинском суде
подлежали гражданские дела. Уголовные преступления, совершенные
горцами, в соответствии с указом от 24 июля 1822 года состояли в ведомстве
военного суда и разбирались по российскому законодательству. Примечательно,
что с 1822 года усиливается общее влияние российских законов на
судопроизводство в Кабарде. Так, в «Наставлении Временному суду»
подчеркивалось, что «гражданские и спорные дела между кабардинцами и претензии на
них от людей инородных» должны решаться по адату, «приспособляя его в
зависимости от важности случаев к правам российским»80.
Гражданские дела по «Наставлению» делились на несколько групп.
Две первые из них подлежали юрисдикции Временного суда.
Первая категория дел. Тяжбы, стоимость которых превышала 200
рублей. В этом случае недовольная разбором дела сторона имела право
подать жалобу на решение суда российскому в Кабарде начальнику81.
Вторая категория дел. «Маловажные проступки». Ими признавались:
«воровство на сумму не свыше 200 рублей, обман, захват чужого
насилием, ссоры, драки, оскорбление». Они рассматривались обычно, согласно
адатным постановлениям, и приговор суда обжалованию не подлежал.
Виновные наказывались розгами (не более ста ударов) или же на них
налагался штраф82.
Третья категория дел. «Маловажные проступки подвластных перед
владельцами». Разбор этих дел Временный кабардинский суд позволял
осуществлять самим князьям и узденям. Однако наказание при этом не
должно было превышать умеренного штрафа83.
Кадий, являвшийся членом суда, не имел права вмешиваться в
судопроизводство перечисленных трех категорий дел.
Отдельную группу гражданских дел составляли дела, разбиравшиеся
по шариату и находившиеся в ведении духовенства. В нее вошли: «дела до
веры и совести касающиеся, дела по несогласию между мужем и женой,
212
дела между родителями и детьми и дела, не имеющие улик, ясных
доказательств и письменных свидетельств»84.
В «Наставлении» определялись преступления, причислявшиеся к
уголовным: «убийство, измена, возмущение в народе, побег за пределы линии
со злым намерением, подвод хищников к злодействам и сношения с ними,
набеги в границы линии, обнажение оружия в ссорах с причинением ран»85.
Несмотря на то, что уголовные преступления были изъяты из ведомства
Временного кабардинского суда, в него в дальнейшем передавались на
рассмотрение дела, связанные с ранениями при ссорах.
Соблюдение пункта о предании военному суду «при обнажении
оружия при ссорах с причинением ран» осложнялось тем, что в условиях
кавказской действительности первой половины XIX века подобного рода
преступления были довольно частым явлением и нередко совершались
представителями высшего сословия кабардинского общества86.
Временный кабардинский суд, кроме юридических, осуществлял
также административные функции. Так, на учрежденный в Кабарде суд
возлагалась обязанность собирать сведения о податях и повинностях,
отбываемых подвластными в пользу владельцев и духовенства. В суде также
выдавались билеты жителям Кабарды, направлявшимся в Кавказскую область87.
Временный суд становился фактически важнейшим исполнительным
органом по всем отраслям внутреннего управления Кабардой.
Первые годы Временный кабардинский суд действовал формально и
практически не исполнял возложенные на него обязанности. В 1824 году
А. П. Ермолов в предписании суду от 31 августа с негодованием упрекал
судей в бездействии. «До сего времени, - писал он, - народ не
пользуется еще правосудием и защитою от притеснений: сильнейшие действуют
как хотят, и жалобы лежат без решения: судьи, не думая о своих
обязанностях, редко бывают в суде, а дела отправляют в домах и духовенство
допускается в разбирательство дел гражданских, несмотря на мое
запрещение»88. Мерами, которые должны были заставить членов суда наконец
приступить к порученной им деятельности, стали экономические санкции.
Занимавший должность Начальника Кабарды полковник Подпрятов
запретил сбор средств с народа в пользу судей до тех пор, пока последние не
составят ведомости о податях и повинностях, отбываемых зависимыми
сословиями, о том, «сколько у каждого владельца или узденя состоит
семейств или дворов подвластных и холопов»89, не оформят общие списки
владельцев и узденей и не займутся судопроизводством в соответствии с
«Наставлением»90.
213
Кабардинские князья, в свою очередь, выдвинули кавказским властям
собственные требования. Их недовольство вызывал контроль
администрации за действиями судей и запрет шариата при рассмотрении
гражданских и уголовных дел91. Князья и духовенство неоднократно обращались
к А. П. Ермолову, а затем к И.Ф. Паскевичу с прошениями сделать
«законы Магомета» в судопроизводстве «главными»92. С применением шариата
представители высшего сословия связывали открывавшиеся широкие
возможности для всякого рода злоупотреблений. Коран и в особенности Сунна
не давали, как им казалось, четких правовых формулировок, и спектр их
понимания кабардинским духовенством мог быть разнообразен; кроме
того, знание шариата являлось привилегией мулл и основная часть
жителей Кабарды, хорошо знакомая с адатом, не имела представления о
мусульманском праве. С шариатом не знакомы были и российские чиновники, в то
время, как нормы обычного права ими изучались и считались в некоторой
степени уже освоенными. В сложившейся ситуации царские власти
отдавали приоритет адату. Но если в 20-е годы XIX века позиция администрации
отличалась категоричностью и Временному кабардинскому суду
предписывалось строго руководствоваться «Наставлением», то позже в
документах встречаются предписания, например, начальника Центра Кавказской
линии, содержащие рекомендации о разборе дела, направленного в суд, по
адату или шариату в зависимости «от усмотрения суда или желания
тяжущихся сторон»93.
В 30-е - 40-е годы XIX века «Наставление», составленное
А. П. Ермоловым Кабардинскому суду, далеко не всегда исполнялось. Об
этом свидетельствуют материалы судебных дел, сохранившиеся в архиве
Кабардино-Балкарской республики и опубликованные Б. А. Гардановым94.
Так, по шариату могли рассматриваться тяжбы между владельцами и
холопами, дела об убийстве, воровстве, разделе имущества между
родственниками. В то же время дела, подлежавшие по «Наставлению» «духовному суду»,
по согласованию сторон решались в соответствии с адатом. Бывали случаи,
когда одно и то же дело разбиралось одновременно по обычному праву и по
шариату. Последний факт Б. А. Гарданов связывал с тем, что шариат в том
виде, в каком он тогда применялся, был приспособлен к местному адату95.
В 1839 году Я.М. Шарданов, анализируя деятельность Временного
суда за 16 лет, указывал на серьезные нарушения в работе судей. Он писал,
что получаемые судом «от начальства предписания оставались без
исполнения, дела без решения, а просители без удовлетворения»96. Сложившийся
порядок секретарь суда объяснял неграмотностью судей, незнанием ими
214
основных принципов судопроизводства и их нежеланием - «отсутствием
привычки» заседать долгое время в суде.
Тогда же, в 1839 году, Я. Шарданов представил кавказской
администрации проект97 преобразований, в которых, по его мнению, остро
нуждался этот судебный орган. Автор предлагал изменить состав суда и
ввести в него трех русских офицеров, определив их в должности президента
суда, члена суда и аудитора для производства дел, откомандировать в суд
из казачьих полков как переводчиков офицера и трех казаков и
восстановить при суде почетную стражу из 30 казаков, назначенную в 1822 году
А. П. Ермоловым98.
В своем проекте Я.М. Шарданов затронул также вопросы общего
управления Кабардой. Решение военно-политических проблем он видел
в ужесточении военно-полицейского контроля над местными жителями.
«Чтобы не было в Кабарде пристанодержательства закубанских и
чеченских абреков, - подчеркивал секретарь суда, - необходимо определить
кабардинскому народу для полицейского управления оным из русских
чиновников пристава, возложив на него обязанности бдительно смотреть
посредством разъезда противные действия ... и... намерения»99. В помощь
приставу из четырех знатных фамилий предполагалось назначить по
одному старшему князю, обязав их следить за исполнением приказов
начальства, наблюдать за «нравственным поведением» «зависимого населения»
и «переменами в народе», появлением «злонамеренных людей» и обо всем
сообщать приставу и начальнику Кабарды100.
Идею о реорганизации судопроизводства в Кабарде вслед за
Я. М. Шардановым высказал и командующий войсками на Кавказской
линии генерал-лейтенант В. О. Гурко. В конце 1842 года, узнав о
несоблюдении кабардинскими судьями правил, составленных для суда, он обратился к
главноуправляющему Кавказским краем А. И. Нейдгардту с предложением
о пересмотре ермоловского «Наставления». Командующий линией
обращал внимание Нейдгардта на «совершенно изменившиеся с ермоловских
времен обстоятельства в Кабарде»101. Гурко отмечал, что предписания, «кои
были достаточны в 1822 году и имели несомненные и весьма полезные
последствия», теперь оказались «во многом недостаточными, неполными и
в некоторых случаях неудобоисполнительными»102. Одним из аргументов,
выдвинутых им в пользу нового судопроизводства, являлось содержание
в самом названии суда определения «временный», указывавшего на
необходимость перемен в будущем. Однако предложения генерал-лейтенанта
В. О. Гурко, как впрочем и проект Я. Шарданова103, не получили поддерж-
215
ки в Тифлисе. Перестройка и совершенствование сложившихся в Кабарде
судебно-административных учреждений не входили в планы российских
чиновников. Перед высшими должностными лицами на Кавказе стояли
более глобальные задачи. Одна из них - унификация системы управления
северокавказскими народами и создание для горцев «общих правил». В
начале 1843 года из штаба Отдельного Кавказского Корпуса командующему
линией пришел ответ, в котором «Наставление», данное А. П. Ермоловым
Временному кабардинскому суду, признавалось «весьма достаточным» до
издания новых общих для всех горских народов правил104. В полученном
предписании, кроме того, В. О. Гурко давалось поручение заняться
организацией специальной комиссии по составлению свода законов, «на обычаях
кабардинского народа основанных»105. Предполагалось, что в нее войдут
представители от временного суда и от российской администрации106.
В 1843 году ответственность за подготовку сборника адатов
кабардинцев командующий Кавказской линией возложил на начальника Центра линии
полковника В. С. Голицына. В течение года начальник Центра линии
предпринимал активные меры для получения необходимой информации от
членов Временного суда. «Наконец, - как писал в последствии В. С. Голицын,
- после долгого молчания, судьи представили копию с собрания народных
обычаев, которая по неудовлетворительности своей не могла служить
руководством к составлению общего свода законов для горских народов»107.
Отстранив членов суда от подготовки сборника, начальник Центра решил
привлечь «почетнейших стариков» Кабарды. Кроме них, в комиссию по
инициативе В. С. Голицына вошли ротмистр Давыдовский и майор Я. Шарданов.
В 1844 году комиссия завершила работу над сборником. В него были
включены адаты кабардинцев, а также прокламации 1822 года и «Наставление»
А. П. Ермолова. Одна из записей в сборнике указывала, что «на будущее
время» всякое дело в Кабарде может решаться по шариату, «кроме дел,
касающихся до черного народа, который не согласен на это»108. По мнению
В. С. Голицына, оформленные письменно адаты нанесли серьезный удар по
влиянию духовенства на судопроизводство. В рапорте командующему
линией он отмечал, что шариатское разбирательство в Кабарде «день ото дня
теряет очевидную силу свою; народ постигать начинает выгоды быть
судимыми по законам, а не по произволу одного лица»109.
Составленный сборник адатов достаточно долго применялся в
судопроизводстве Кабарды; его использовали как во Временном суде, так и
позже в Кабардинском окружном суде.
К 30-м - 40-м годам XIX века относятся и сведения о первых по-
216
пытках установления российского управления среди обществ Балкарии
- Малкарского, Чегемского, Балкарского, Хуламского и Урусбиевского110.
В официальных документах того времени они получили название «пяти
горских обществ, сопредельных с Большой Кабардой».111 Их
административному освоению предшествовали следующие события.
11 января 1827 года, по свидетельству В.Н. Кудашева, автора книги
«Исторические сведения о кабардинском народе», представители горских
тауби сами приехали в Ставрополь к командующему Кавказской линией
генерал-лейтенанту Г. А. Эмануелю и «подали ему прошение о принятии в
русское подданство»112. Они просили привести их и весь балкарский народ
к присяге, выражали готовность отдавать своих детей в аманаты и «служить
русскому царю»113. Условия, которые ставили перед российскими
властями горцы, сводились к сохранению их народных обычаев и прав
владельцев, получению владельцами издавна установленной дани с подданных,
свободному исповеданию мусульманской религии и разбирательству дел
по шариату. Требования, выдвинутые балкарскими тауби, были одобрены
Николаем 1.И. Ф. Паскевич писал об этом начальнику Главного штаба
кавказских войск Дибичу: «Государь с удовольствием узнал о подданстве горцев
и приписал это событие благоразумным мерам и кроткому с сими горцами
обхождению генерал-лейтенанта Г А. Эмануеля»114. ГА. Эмануелю, как
тонкому и умелому политику, император «выразил свое высочайшее
благоволение»115. Правительство, однако, не спешило с открытием в Балкарии
российских административных и судебных органов. В конце 20-х - 30-х годов
его действия свелись к поручению надзора за горскими обществами
воинским начальникам ближайших укреплений и к включению Балкарии вместе
с Кабардой в состав Центра Кавказской линии116.
Впервые мысль о необходимости усиления административного
контроля над горскими обществами Балкарии и учреждения приставства
высказал Якуб Шарданов в своем проекте о реорганизации суда и управления в
Кабарде в 1839 году117. А в начале 40-х годов вопрос об организации
управления в Балкарии стал предметом обсуждения российских властей на Кавказе.
27 января 1843 года полковник В. С. Голицын направил
главноуправляющему генерал-адъютанту А. И. Нейдгардту рапорт, в котором сетовал на то, что
балкарцы, хуламцы, уруспиевцы, чегемцы и малкарцы не имеют пристава,
«через что, - подчеркивал он, - затрудняется присмотр за ними
центрального управления Кавказской линии»118. Малочисленность обществ делала
возможным назначение одного общего для них пристава. Инициатива
начальника Центра получила одобрение Нейдгардта. К сожалению, нам не удалось
217
установить точную дату введения в Балкарии приставства, известно, что в
1847 году на его содержание уже выделялось по 300 руб. в год.
Определенные трудности испытывала кавказская администрация в
Малой Кабарде, управлявшейся отдельно от Большой особым пристав-
ством. Еще в 1829 году ее владелец Бекович-Черкасский119 выразил свой
протест российским властям, считая, что права жителей Малой Кабарды
ущемлены во Временном кабардинском суде. Он указывал на то, что
интересы малокабардинцев в суде представляют не князь или князья, а всего
лишь один уздень, «не смеющий подать голос против нескольких князей
Большой Кабарды»120. Бекович-Черкасский выступил с проектом
организации отдельного судебного учреждения для Малой Кабарды. Членами
нового суда должны были стать малокабардинские князья и уздени, кадий и
представители от низших сословий, избираемые каждые два года «по
общим баллотировкам»121. Для обсуждения «общих дел» и решения споров
между жителями Большой и Малой Кабарды Бекович-Черкасский
предлагал проводить совместные, «главные» заседания суда в Большой Кабарде
«в месяц или в два один раз»122. «Таким образом, - писал он, - каждый
будет иметь возможность в полной мере исполнить цель своего назначения
- быть защитниками прав, сословию ею дарованных»123. Отказ
правительства в открытии малокабардинского суда (его учреждение состоялось лишь
в 1855 году в виде временной меры в Псидахе124) послужил основанием для
самостоятельного разбирательства Бековичем-Черкасским, как владельца
Малой Кабарды и ее пристава, споров между зависимым населением125.
В конце 30-х - начале 40-х годов XIX века обстановка в Малой Кабарде
осложнилась. 8 сентября 1843 года полковник В. С. Голицын в «Записке о
средствах управления Кабардой» докладывал о «ложном направлении»,
избранном приставом и владельцем Малой Кабарды Бековичем-Черкасским
в его «сношениях с подвластными, которых он более и более отклоняет
от сближения с российским правительством»126. В 1837 году недовольство
зависимых сословий действиями князя Бековича-Черкасского,
увеличившего повинности, привело к вооруженным выступлениям крестьян и
бегству 400 холопов в горы. Теперь кавказская администрация опасалась, что
расширение его владений за счет дополнительной нарезки земли,
проведенной по распоряжению императора127 в начале 40-х годов, и агрессивная
экономическая политика пристава-владельца приведут к новым народным
волнениям. В качестве одной из мер, способных нейтрализовать ситуацию,
начальник Центра называл удаление князя Бековича-Черкасского из Малой
Кабарды, определив в его огромные владения специально назначенного
218
из чиновников управляющего, а судопроизводство поручить российскому
штаб-офицеру. Альтернативной мерой для удержания населения Малой
Кабарды в повиновении, - по мысли В. С. Голицына, - могло стать
присутствие на их землях круглогодично «затеречного отряда»128. Он выражал
уверенность в том, что «пристав с орудиями, пехотой и кавалерией всегда
в состоянии будет принудить немедленно всех и каждого, начиная с князя
Бековича, к исполнению требований начальства»129. Однако командующий
Кавказской линией и Черноморией В. О. Гурко, на имя которого полковник
В. С. Голицын направил докладную записку, отклонил его предложения. В
1843 году высшее руководство на Кавказе приняло решение о
реорганизации отдельных частей Кавказской линии, устранявшей, как им казалось,
многие военно-политические проблемы на Военно-Грузинской дороге, во
Владикавказском комендантстве и Центре (см. II гл. §2), в том числе и в
Малой Кабарде. Территория последней вошла в состав Моздокской линии.
В ведении начальника Моздокской линии Малая Кабарда находилась до
мая 1845 года. Военные действия в Дагестане и Чечне и угроза нападения
войск Шамиля на Малую Кабарду со стороны Чечни вновь привели к
передислокации войск с целью укрепления военных рубежей. 11 мая 1845 года
полковник В. С. Голицын получил предписание о передаче управления
Малой Кабардой от начальника Моздокской линии Владикавказскому ко-
мендантству в подчинение генерал-майора П. П. Нестерова130 и о
вхождении ее в состав Владикавказского округа131.
В 1845 году те же причины заставили российскую администрацию
вспомнить об идее установления в Кабарде жесткого полицейского
контроля, высказанной Якубом Шардановым в 1839 году. Вся территория
Кабарды была поделена на 2 участка132. Полицейский надзор над
кабардинцами и ответственность за все происшествия на дорогах возлагались на
кабардинских князей. Полицейский участок от станицы Александровской
до Нальчика поручался одному из князей Бекмурзиных или Кайтукиных.
Пространство от Нальчика до «известного брода» (?) находилось под
присмотром князя из фамилии Атажукиных или Мисостовых. Кандидатуры
князей определялись судьями Временного кабардинского суда и
утверждались начальником Центра Кавказской линии133.
В 1858 году в рамках преобразования административной системы
на Северном Кавказе из Большой и Малой Кабарды и Балкарии был
образован Кабардинский округ. Он делился на три участка - Баксанский,
Черекский и Малокабардинский. Временный кабардинский суд
упразднялся, и вместо него в Нальчике учреждался Окружной народный суд134, ис-
219
поднявший функции высшей судебной инстанции в Кабардинском округе.
Первоначально в новом суде планировалось широкое представительство
населения разных частей округа. Согласно «Записке» Милютина (см. II гл.
§3), в народный суд должны были войти как депутаты от Большой Кабарды
(4 чел.), так и представители от Малой Кабарды (2 чел.) и горских обществ
Балкарии (1 чел.)135. Всего - 7 депутатов. Однако при утверждении проекта
суда его состав сократился до 4 депутатов. Должность председателя в нем
занял начальник Кабардинского округа. В соответствии с принципами
военно-народного управления, утвержденными А. И. Барятинским, судьи не
назначались как ранее во Временном суде, а являлись выборными. Члены
суда избирались в трех участках. Каждый из них обладал правом направить
одного своего представителя в суд. Представитель от «черного народа»,
т. е. крестьян, избирался на окружном народном сходе Кабарды136.
Окружной суд, как когда-то Временный кабардинский суд, обладал
административными и судебными полномочиями. Н.Ф. Грабовский так
определял его обязанности - «принятие мер для исполнения всех
относящихся до народа распоряжений правительства, надзор за благосостоянием
и нравственностью кабардинцев и разбирательство тяжебных дел
между ними»137. Судопроизводство осуществлялось в соответствии с
нормами обычного права кабардинцев. Решения суда подлежали обязательному
утверждению со стороны начальника округа. Исключение составляли
незначительные иски, стоимость которых не превышала 250 рублей.
Кроме окружного, были созданы три участковых суда: Баксанский,
Черекский и Малокабардинский. Во главе каждого из них стоял начальник
участка. Члены суда избирались сроком на один год на участковом
собрании выборщиками, присланными от селений и сельских обществ. Решение
участкового собрания о составе суда вступало в силу после его
утверждения начальником округа.
Итак, начиная с конца 60-х годов XVIII в., с учреждения института
приставства и до 50-х годов XIX века, до введения военно-народного
управления, основной тенденцией в политике российских властей в Кабарде
являлось установление такого административного аппарата, который
способен был бы не только внести «порядок в беспорядке», но и обеспечил
бы надежную военно-политическую обстановку на Центральном Кавказе.
Сохранение стабильности в Кабарде, как отмечалось, становилось
особенно актуальным при обострении противоречий между Россией и Турцией,
Россией и Ираном, а затем при развитии военных действий на Северо-
Восточном и Северо-Западном Кавказе.
220
Другой тенденцией в административном освоении Кабарды являлось
также стремление царизма охватить управленческим аппаратом сферу
социально-экономических отношений Кабарды. Достижение этой цели в
Кабарде, переживавшей сложные социальные противоречия, давало
гарантию царским властям скорого и полного административного утверждения
в Кабарде.
В решении этой задачи серьезный шаг был сделан А. П. Ермоловым. С
1822 года происходит активное вмешательство кавказских властей во
внутреннюю жизнь кабардинского общества. Объявив кабардинские земли
собственностью правительства, то есть российской территорией, и определив
гражданские права и обязанности кабардинцев, А. П. Ермолов тем самым
закрепил за царизмом это право — право раздавать по своему усмотрению
земли в Кабарде, лишать или, наоборот, присваивать кабардинцам дворянство,
регулировать взаимоотношения между владельцами и крепостными.
В зависимость от царской администрации попало также
судопроизводство: установленные в Кабарде Временный суд, а позже Кабардинский
окружной суд и участковые суды исполняли судебно-административные
функции и находились под контролем кавказских военных властей; в
1822 году впервые были составлены специальные правила деятельности
суда и производства дел, причем, в «Наставлении» ставился вопрос о
влиянии российских законов на судопроизводство Кабарды путем
приспособления адатных норм и шариата к законам Российской империи. В 1844 году
усилиями российской администрации 33 нормы обычного права
кабардинцев и установленные кавказскими властями правила были оформлены в
единый письменный сборник, ставший на долгие годы основным сводом
законов для судебных учреждений Кабарды. Именно эти конкретные меры,
предпринятые в Кабарде правительством самодержавия, способствовали
утверждению здесь его влияния и установлению в Кабарде российской
военно-административной системы управления.
§2. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЧНЕЙ (XVIII - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)
Русские источники впервые упоминают о чеченцах в 80-е гг. XVI в.138
В них, а также в «Книге Большому Чертежу» (1627 г.) - крупнейшей
карты России XVII в. - чеченцы именовались ококи, окохи, осоки, шибуты,
мичкизы и др.139 Происхождение русского этнонима «чеченцы» связано с
221
возникновением в XVIII в. на равнине, близ впадения реки Сунжи в Терек,
аула Чечен. Основание аула Чечен, как и Старо-Юрт, Герменчук, Майртуп,
Гудермес и др., относится ко времени поселения на правом берегу Терека
гребенских казаков.140 Именно под их прикрытием чеченцы создавали свои
первые аулы на равнине. От основания аула Чечен до его становления в
качестве этнонима, очевидно, прошло немало времени. Устойчиво этноним
«чеченцы» в русских источниках начинает встречаться в XVIII в.
В позднем средневековье среди народов, населявших Большой Кавказ,
чеченцы были среди первых, кто установил тесные отношения с
русскими. У. Лаудаев приводил чеченские предания о поселении в «давние
времена» русских в Чечне. Согласно документальным данным, собранным
С. А. Белокуровым и Е.Н. Кушевой, русско-чеченские контакты восходят к
концу XVI - началу XVII в.141 В установлении этих отношений главная роль
принадлежала Терскому городу, возникшему в 1588 г. в устье реки Терек.142
С самого начала Терский город стал для горной Чечни экономически
привлекательным. Поселившись в Терском городе и рядом с ним создав
свой компактный анклав, чеченцы (окочане) занимались земледелием,
скотоводством и рыболовством. Многие из них привлекались на «государеву
службу». Как правило, она состояла в сопровождении русских послов на
Кавказе («посылках») и в сборе информации («... и мы, холопи твои, не
щадя голов своих в шихотники ходим и многих языков имывали»).143
Вскоре на «обладание» чеченцами-переселенцами стали предъявлять
права дагестанские владетели и кабардинский князь Ших-Мурза,
объявивший себя «Окоцким» (Окуцким), а затем Сунчалей. Притязания князей
были поддержаны российским правительством. Эмоционально и при этом
аргументировано терские окочане пытались объяснить ошибочность
политики российского правительства в отношении чеченцев, ставших по воле
государя подданными кабардинского князя. Челобитная терских окочан,
требовавших освобождения от кабардинского владетеля, была
рассмотрена в правительстве, после чего последовало решение: «отписать, чтоб им
сказати: велено их Сююнчалею ведати службою; а будет Сюючалей
станет им какую теснота чинити, и они б на него били челом государю».144 В
XVII в. Чечня фактически оказалась поделенной между дагестанскими и
кабардинскими владетелями, превратившими ее в ясячную страну. Шамхал
Тарковский, нуцал аварский, хан кумыкский и кабардинские владетели
держали Чечню под неослабным контролем. Россия, заинтересованная в укреплении
своих позиций на Северном Кавказе и заигрывавшая с наиболее влиятельной
знатью Дагестана и Кабарды, не препятствовала ее притязаниям на чеченцев.
222
Создававшаяся в XVII в. система российского влияния на Чечню через
дагестанских и кабардинских феодалов, несмотря на выступления против нее со
стороны чеченцев, к середине XVIII в. сохранялась как устойчивая политика.
С нею, с этой системой господства в Чечне соседних владетелей, часто
связывались разрешение или же препятствия в разрешении тех или иных вопросов,
ставившихся чеченцами перед российской администрацией. Например, -
такой важный вопрос, каким для Чечни являлось переселение на равнину. Оно,
как правило, предполагало назначение к переселенцам «нового владетеля»,
фактически получавшего права феодального «сюзерена». Чеченцы, зная об
этой позиции российской администрации, вместе с просьбой о переселении
на равнину иногда сами называли владетеля, которому они были готовы
подчиняться. Зависимость чеченцев от кабардинских и дагестанских владетелей
была достаточно условной и нередко в случае конфликта между сторонами
заканчивалась изгнанием феодалов.
В 40-е гг. XVIII в. русско-чеченские отношения, развивавшиеся из-за
однобокой политики Петербурга сложно и довольно противоречиво,
привели Чечню к расколу: во взаимоотношениях с Россией чеченцы разделились
на так называемых «мирных» и «неприязненных», или «независимых».145
Судя по всему, раскол произошел не сразу и обрел не столько
политическую окраску, сколько четкие географические очертания. Переселенцы,
жившие в бассейнах рек Сунжа и Терек, составили «мирных» чеченцев. В
этом районе они получили плодородные пахотные земли и сенокосы.146 К
«немирным» относились чеченцы, населявшие горные районы, начиная «от
Черных гор» и до высокогорья; они селились по течению рек, впадающих
в Аксай и Сунжу «наипаче по реке Аргун».147 По данным С. Броневского,
в начале XIX в. число деревень «мирных» чеченцев составляло 24148,
«независимых», или «неприязненных» - 50.149 Раскол, наступивший в Чечне,
ни социально, ни «идеологически» не разводил чеченское общество по
разные стороны. Между «мирными» и «немирными чеченцами»
существовали тесные, - по выражению И. Бларамберга, - «дружеские»
отношения.150 Более того, между горцами («немирными») и жителями равнины
(«мирными») формировался естественный для гор и равнины баланс
экономического сотрудничества. Стоит к этому добавить: «мирные» чеченцы
быстрее продвигались на равнине к новой организации общества,
«немирные» оставались привязанными к консервативным устоям горского уклада
жизни - военной демократии с ее набеговой системой.
Таким образом, к середине XVIII в. в отношениях с Россией Чечня
находилась в русле двух прямо противоположных течений, - с одной сто-
223
роны, стихии вооруженных набегов на русскую границу и казачьи
поселения и, с другой, устойчивой политической ориентации на Россию, имевшей
свои внутренние мотивы.
На пути к тесным русско-чеченским контактам серьезным
препятствием стали обострившиеся кабардино-вайнахские противоречия. У
кабардинских владетелей вызывали недовольство расширявшиеся связи
между Россией и Чечней, угрожавшие, как им казалось, их влиянию на
вайнахские народы. На этой почве вооруженные отряды кабардинцев
наносили чеченцам, карабулакам и ингушам «крайние обиды и разорения».151 В
1747-1748 гг. в условиях кабардино-вайнахского противостояния ряд
чеченских обществ принял российское подданство; среди них были: Герменчук,
Чебутли, Шали, Алда и др. Наступившее оживление в русско-вайнахских
отношениях было активно поддержано российским правительством: всем
старшинам, присягнувшим России, а их было более пятидесяти,
назначалось постоянное жалованье. Подобные меры придавали русско-чеченским
отношениям определенную стабильность; не случайно, эти же старшины
в 1756 году «учинили присягу, просили, чтоб под протекцию России
приняты были».152
На отношения между Чечней и Россией политическое давление
оказывали Турция и Иран. Свое безраздельное господство в Закавказье эти
страны пытались распространить и на Северный Кавказ. Настойчивость
турецких эмиссаров, как правило, отвергалась вайнахскими племенами,
заинтересованными в торгово-экономических и политических контактах с
Россией.153 Старшины крупных обществ - Алды, Гехи и - другие заявляли,
что со стороны России «никаких себе разорений не видели и жили до сего
времени в покое, чего и впредь желают».154
В середине XVIII в. военно-политическая ситуация на Северном
Кавказе значительно осложнилась. Сказывалась в регионе как
агрессивная политика Турции, так и начавшееся освоение Россией Предкавказья.
Последнее приводило к активизации действий российских властей в
отношениях с северокавказскими народами. Важным итогом в этом процессе
было переселение чеченцев на равнину. Тогда же вместо тайповых и тук-
хумных номенклатур (шибуты, мичкизы и др.) впервые возникает практика
применения в русском делопроизводстве единого этнонима - «чеченцы» и
названия страны - «Чечня».155 Единое название народа и страны,
совместная борьба, направленная на освобождение от зависимости дагестанских и
кабардинских владельцев, лишь на первый взгляд кажутся внешними
атрибутами менявшегося внутреннего и внешнего мира Чечни. На самом деле
224
они свидетельствовали о серьезных подвижках, происшедших в жизни
чеченских обществ. Главным из них являлось осознание себя единым
народом и формирование идеи освобождения Чечни от «чужеземного» засилья.
При этом серьезной ошибкой российского правительства было стремление
сохранить в Чечне власть дагестанских и кабардинских владельцев. Россия,
игравшая роль неудачного посредника, фактически способствовала
консолидации чеченского общества против общих врагов. Чеченские старшины
постепенно отходили от внутренней разобщенности, начиная осознавать
необходимость объединения для решения сложных политических и
военных задач.
Во второй половине XVIII в. борьба чеченцев была направлена не
только против кабардинских и дагестанских феодалов, но и
поддерживавших их российских властей. В 1757 году «чеченцы вышли из должного
повиновения своим владетелям и совсем оказались противными российской
стороне», - писал П. Г. Бутков.156 Военная коллегия поручила кизлярскому
коменданту генерал-майору Фрауендорфу «разорить и искоренить»
чеченцев, живших на равнине. Правительство собиралось «очистить» с
помощью карательных экспедиций равнинные земли от взбунтовавшихся
чеченцев и поселить на их места других переселенцев из горной Чечни. В 1758 г.
в карательной экспедиции, кроме терско-кизлярского войска, принимали
участие кумыкские и кабардинские владетели, изгнанные из Чечни. Первое
же сражение убедило российские власти в нереальности задуманного
плана. Равнинные чеченцы были оставлены в своих поселениях, кумыкские
же и кабардинские владетели временно прекратили свои притязания на
«подвластных» чеченцев157. Тем не менее карательные меры были
продолжены в виде внезапных рейдов на чеченские села. Официальные власти
Кизляра заявляли, что «поиски» прекратятся только после того, как
чеченцы возместят урон, нанесенный казачьим поселениям во время
набегов. Периодически российской администрации удавалось договориться с
чеченцами, и тогда военные столкновения на русской пограничной линии
затихали.158 Однако напряженное состояние русско-чеченских отношений
становилось их главной чертой. Причина частых конфликтов двух сторон,
на наш взгляд, заключалась в следующих факторах; во-первых, в упорном
стремлении российской администрации видеть во главе чеченского
общества соседних феодалов; и, во-вторых, в набеговой системе, вытекавшей из
стадиального уровня развития чеченского общества.
Кроме параметров, разводивших в политических интересах Россию
и Чечню по разные стороны, существовали и другие, предрасполагавшие
225
последнюю к установлению добрососедских отношений - перспектива
переселения на равнину и освоение новой территории русской пограничной
линии с ее торговыми центрами.159 Желая закрепить за собой созданные на
равнине хозяйства, чеченцы проявляли заинтересованность в
урегулировании своих отношений с российской администрацией. Конфликты с
последней из-за набегов, предпринимавшихся чеченцами, и карательных мер
российских властей, нередко преодолевались относительно безболезненно.
Историки, изучавшие этот период русско-чеченских отношений, отмечают
стремление чеченцев к расширению торговли с российскими
пограничными поселениями,160 а также устойчивую политическую ориентированность
равнинных чеченцев на Россию.161
Россия, в свою очередь, также заинтересованная в укреплении своих
позиций на Северном Кавказе, периодически меняла свою тактику в
отношении Чечни. К концу 70-х гг. XVIII в. от политики насильственного
подчинения чеченцев дагестанским и кабардинским владетелям она перешла
к мирному урегулированию конфликтов, приводивших чеченцев к
противостоянию с соседними феодалами. Чеченская сторона, как правило,
заинтересовано откликалась на мирные переговоры. Чтобы придать большую
действенность своему посредничеству, российские власти вновь
предоставили чеченцам возможность переселения на равнину. В 1778 г. на
равнинные земли, расположенные по берегу р. Сунжа, переселилась «деревня»
Алда - одна из самых крупных в Чечне. Годом позже против казачьей
станицы Наурской поселилось «село» Гехи,162 гехинцы приняли российское
подданство, а местные кизлярские власти взяли на себя обязанность
охранять их от притязаний кумыкских владельцев.163 Крепостническое
государство, каким являлась Россия, кардинально, однако, не могло изменить свои
взгляды по вопросу о том, как и кем должно управляться чеченское
общество. В Петербурге по-прежнему были уверены, что удержать «буйную
Чечню» возможно только с помощью соседних с Чечней князей и ханов,
щедро вознаграждаемых за это денежными пособиями.
В начале 70-х гг. XVIII в. произошло временное ослабление позиции
России по вопросу об управлении Чечней кабардинскими и
дагестанскими владетелями. Оно было вызвано всплеском набеговой системы и тогда
же обострившимися русско-чеченскими противостояниями. Сказывалось и
другое - правительство вынашивало планы присоединения Чечни и было
заинтересовано в урегулировании русско-чеченских отношений. За
присоединение Чечни к России взялся кизлярский комендант А. М. Куроедов,
занявший эту должность в 1779 году. В рапорте на имя Г. А. Потемкина он
226
призывал «возвратить» чеченский народ «от заблуждения» и «привести»
его «в точное повиновение и через то доставить здешнему краю
спокойствие».164 С целью более успешного решения поставленной политической
задачи правительство предоставило чеченцам возможность массового
переселения на равнину, позволяя «известным своей преданностью
людям... строить аулы».165 По словам У. Лаудаева, чеченцев к переселению
побуждало «много естественных причин: ичкеринцы и шатоевцы
размножились так, что им невозможно было существовать в горах, кормить овец
и скот, тогда как обширная, привольная и девственная плоскость была как
нельзя более удобна для скотоводства».166 «Безземельные и малоземельные
фамилии, - писал У. Лаудаев - стараются заискивать любовь русских
своею преданностью, дабы этим добыть себе землю».167 В 1780 г. многие
чеченские общества приняли присяги и просили подданства.168 Переселенцы
обязаны были выполнять следующие условия: 1) быть покорными
российскому монарху; 2) возвращать русских пленных и «всего украденного»;
3) участвовать в совместных военных предприятиях, проводимых Россией
на Северном Кавказе; 4) ответственность за набеги и разбои возлагалась
на те населенные пункты, куда приводили «следы». Гарантией выполнения
этих условий должны были служить аманаты; кизлярская администрация
брала их «от влиятельных людей»,169 но особенно важно было сохранение
за российскими властями права собственности на землю, на которой жили
переселенцы,170 поселяясь на российских землях, чеченцы оказывались в
фактической зависимости от России.
Делая ставку на заинтересованность чеченцев в скорейшем
переселении на равнину, российская сторона планировала предложить Чечне
достаточно жесткие условия присоединения к России. Уже в 1780 году, приступив
к обсуждению вопроса о присоединении, Россия потребовала от Чечни
подчинения кабардинским и дагестанским феодалам. Она намеревалась
назначить их «управителями» Чечни с целью прекращения чеченцами набегов,
как на российскую границу, так и в сопредельные Чечне районы Северного
Кавказа. Чеченские общества по-разному отнеслись к выдвинутым
требованиям. Одни из них, желая получить землю на равнине, готовы были
согласиться на любые условия, другие сомневались в необходимости
присоединения к России.171 Среди чеченских обществ были также яростные
противники присоединения. К ним относились общества из горной Чечни, так
называемые «немирные чеченцы». Разброс политических позиций в Чечне
на целый год оттянул заключение договора. Лишь в январе 1781 г.
российская администрация смогла приступить к переговорам о конкретных пун-
227
ктах договора. В чеченскую делегацию, полномочную вести переговоры о
присоединении к России, вошли представители от «больших чеченских и
аджиаульских старшин». В Кизляр не приехали делегаты Больших Атагов.
«Договор», подлежавший «подписанию» с обеих сторон, состоял из
преамбулы и конкретных статей, определявших характер политического
присоединения Чечни к России. В преамбуле, в частности, подчеркивалось: «Мы,
большие чеченские и аджиаульские старшины и народ, добровольно,
чистосердечно, по самой лучшей совести объявляем..., что чувствуя от е. и.
в. щедрые милости и мудрое управление, прибегаем под покровительство,
выспрашиваем высочайшее повеление о принятии всех старшин и народ
по-прежнему в вечное подданство».172 «Договор» о присоединении Чечни к
России состоял из 11 статей. Согласно им, Россия формально сохраняла за
Чечней ее внутреннюю независимость. Она не вводила российскую
администрацию и признавала тайповое управление в Чечне: «старшин в деревнях
избирать им самим беспрепятственно, кого в ту должность удостоят по
древним обычаям».173 По-разному можно было трактовать другую статью
«договора», частично определявшую политический статус Чечни: «Владельцев
наших почитать и во всем им повиноваться». Под «нашими владетелями»
российское правительство, скорее всего, подразумевало соседних Чечне
феодалов, с помощью которых собиралось управлять чеченскими обществами.
Прибегая к непрямому управлению, правительство надеялось в итоге
полностью подчинить Чечню. Ключевой являлась статья о набегах. Она
запрещала чеченцам совершать набеги на российскую пограничную линию, а также
предписывала «...с поданными России кумыками, кабардинцами и
осетинами быть в добром согласии, а в случае несогласия и воровства разбираться
во всем по древним кумыкским обычаям». Введение «кумыкских обычаев»
в Чечне, жившей по нормам собственного обычного права, лишний раз
подчеркивало, насколько далека была российская администрация от понимания
внутренней организации и устоев Чечни.
Несмотря на явную неприемлемость «договора», чеченская делегация
в Кизляре одобрила его: «...Дали обязательство... старшины и народ».174
В 1781 г., после подписания договора между Чечней и российской
пограничной линией, казалось, наступил мир. Чечня была взята
кавказскими военными властями под административный контроль. Он
поручался кизлярскому коменданту и командирам кордонов Кавказской линии. В
1782 г., уверовав в стабильность обстановки и заручившись аманатами,
П. С. Потемкин, занимавший должность командующего Кавказской
линией, приступил к восстановлению в Чечне феодальных прав соседних
228
владельцев, официально объявив их управителями чеченских обществ
и значительно расширив границы княжеств. Так, кумыкскому феодалу
Арсланбеку Айдемирову наряду с кизлярскими чеченцами поручалось
управлять отдельными обществами в горной Чечне; брагу некому
владельцу Кучуку Баматову отдавались в управление чеченцы - «горячев-
цы». Одновременно П. С. Потемкин направил карательную экспедицию в
Атаги, не пожелавшим присягнуть в подданстве России. Войска возглавил
полковник Кек. Напав сначала на Атаги, Кек развернул военные действия
против селения Алда.175 По свидетельству П. Г. Буткова, после карательных
мер, предпринятых российскими войсками в Чечне, надежды на мирное
развитие русско-чеченских отношений не стало.176 Следствием военной
экспедиции были насильственное подчинение чеченских селений
российским властям (атагинцы прислали П. С. Потемкину аманатов, о своей
покорности объявили также жители Гехи и Алды) и вспыхнувшая в связи с
этим ожесточенность чеченцев против русских.177
Карательная экспедиция имела серьезные политические последствия.
400 чеченцев, погибших во время сражений, а также такие случаи, как
избиение «сквозь строй» шпицрутенами, для чеченского общества,
переживавшего «героическую пору», были достаточно серьезной причиной
идеологического неприятия России как покровительствующей страны. Договор
1781 года со стороны Чечни по существу был полностью дезавуирован;
лишь российская администрация по-прежнему продолжала рассматривать
чеченцев как подданных России. Идеология отторжения от России
постепенно овладевала всеми чеченскими обществами. Острие антироссийской
борьбы направлялось, прежде всего, против российских управителей -
дагестанских и кабардинских владельцев. «Когда князья, по обязанности
своей, - писал У. Лаудаев, - стали заявлять свою власть, то чеченцы, не
привыкшие к ней, не исполняли условий с князьями».178 Стоило «управителю»
прибегнуть к насильственным мерам, принуждая кого-либо выполнить
требование властей, как весь тайп или же несколько тайпов заступались
за своего сородича так, что «управитель» уходил туда, «откуда пришел».179
Одни лишь Надтеречные чеченцы, поселившиеся на правом берегу Терека,
«повиновались князьям, да и то более из боязни русских, нежели самих
князей».180
В 1783 г. борьба чеченцев против российских управителей приняла
ожесточенный характер. Российские военные и гражданские власти на
Кавказе были в растерянности. По данным П. Г. Буткова, именно тогда
впервые среди военных родилась идея - «...или истребить» чеченцев «со-
229
вершенно, жертвуя немалою частью своих войск, либо утеснить их, отняв
все плоские места, так необходимые им для скотоводства и земледелия».181
Однако план насильственного возвращения чеченцев в горы или же их
уничтожение, не нашел поддержки в Петербурге. Екатерина II призывала
П. С. Потемкина и его подчиненных к осторожности и даже «сердечности».
Наставляя их, она указывала на необходимость поисков мирных контактов
с народами Кавказа. Российские войска на Кавказе, согласно директивам
из Петербурга, перестали вмешиваться в борьбу чеченских обществ с
соседними феодалами-управителями. Это было главным обстоятельством,
предрешившим судьбу последних. Дагестанские и кабардинские владетели
вынуждены были покинуть Чечню. «Сии владетели, одни возвратились в
Аксай и Эндери, откуда пришли; другие, с позволения российского
правительства, основали новые селения на плоскости между Сунжи и
правого берега Терека».182 Из Чечни, в частности из Герменчука и Шали, были
изгнаны кабардинские князья Девлетгереевы, пользовавшиеся особой
милостью в Петербурге; Алисолтан Касболатов, дагестанский владелец из
Аксая, управлявший Топли и его племянники - Казбулат и Хамзан,183 также
вынуждены были бежать из Чечни. Из Чечни были удалены кабардинские
князья Кайтукины. Они переселились в район Наура. Был изгнан из Чечни
и такой известный на Северном Кавказе кумыкский владелец из Эндери как
Арсланбек Айдемиров. Арсланбеку Айдемирову принадлежала немалая
заслуга в установлении и мирном течении русско-чеченских отношений и
в особенности в переселении чеченцев на равнину. В Чечне он владел «...
Большой Атаги, Большой Чечни и Топли».184 В официальных документах
Арсланбека Айдемирова называли «владелец чачанский»; в свое время
такой же чести был удостоен «черкасский» князь Ших-Мурза, прозванный
«Окуцким». Вслед за своим отцом Айдемиром Бардыхановым, Арсланбек
Айдемиров состоял на российской государственной службе. В
государственных учреждениях России - Сенате, Синоде и Коллегии иностранных
дел его считали надежным союзником. В упрочении позиций российских
властей в Чечне на Арсланбека Айдемирова возлагали большие надежды.
Изгнание феодальных владельцев, возведенных в 1781 г. российской
администрацией в ранг «управителей» Чечней, во многом предопределило
дальнейшее развитие социально-политических процессов в чеченском
обществе, открывая широкий простор военно-демократическим принципам в
социальной жизни, являвшимся традиционной основой чеченского уклада.
В связи с изгнанием соседних феодалов следует отметить: в отдельные
районы Чечни на короткое время самими чеченцами были все же «призваны»
230
кабардинские и дагестанские владетели, поскольку большая часть чеченцев,
согнав владельцев, «буйствовала и предавалась насилию»,185
«благоразумнейшие» чеченцы, - отмечал У. Лаудаев, - чтобы восстановить
общественный порядок и положить конец «беспорядкам», «для этого они в различных
аулах приглашали к себе князей для княжения, обязываясь на содержание их
платить ясак».186 Ичкеринцы и часть шатоевцев призвали к себе владельцев,
происходивших от боковой линии аварских ханов, жители Большой Чечни
позвали кумыцких феодалов, Малой - кабардинских князей. Новое
призвание князей состоялось без какого-либо участия российских властей. Однако
и на этот раз, - как подчеркивал У. Лаудаев, - итог был тот же: как только
владетели заявили о своих феодальных притязаниях, они тут же были
выдворены из Чечни. Отторжение «чужеземных» князей, стремившихся к
феодальной организации чеченского общества, являлось естественным социальным
явлением. Феодализм как стадиальный тип структуры общества был
несовместим с традиционной эгалитарной организацией Чечни в XVIII в.;
отсюда - ожесточенность и одновременно легкость, с которой чеченцы
справлялись с феодальными притязаниями соседних владельцев.
Итак, в XVIII в. русско-чеченские отношения, имевшие широкую
экономическую и политическую основу для взаимодействия, развивались в
двух прямо противоположных направлениях: с одной стороны, они
обнаруживали тенденцию к установлению тесных контактов, с другой -
приводили к жесткому противостоянию с российскими официальными властями.
Разносторонние русско-чеченские связи и присоединение Чечни к России
были, однако, обречены на углубление их противоречивости из-за
контрастирующих между собой двух общественных систем - российской
феодально-крепостнической и чеченской эгалитарной. Попытки российских
властей преодолеть взаимный социоструктурный барьер путем назначения
в Чечню соседних феодалов в качестве управителей лишь усложняли
русско-чеченские отношения и приводили к противостоянию сторон.
Итогом такого разноуровневого стадиального взаимодействия явилось
движение Шейха Мансура, развернувшееся в Чечне в 80-е годы XVIII века.
С Шейхом Мансуром в Чечне утверждался ислам, в котором наряду с
основными догматами стала соседствовать идея «борьбы с Россией». В этом
состояла не только особенность исламизации чеченских обществ, но и
управленческого разрыва, произошедшего между Чечней и российскими
властями. Вследствие этого в конце XVIII в. административный контроль
российских властей над чеченцами носил условный характер; основной
задачей России в указанный период стало вооруженное подавление
народного движения.
231
Лишь в начале XIX века вновь был поставлен вопрос об
административной зависимости Чечни. В 1807 году, после карательной экспедиции,
контроль над чеченской территорией и надзор «за поведением» чеченцев
и кумыков поручался главному калмыцкому приставу. Одной из основных
причин, побудивших правительство передать Чечню в ведение
калмыцкого пристава, явилась начавшаяся в 1806 году война России с Турцией.
Открытие военных действий на южном фронте и отсутствие в связи с этим
на Кавказской линии большей части войск ограничивали возможность
кордонного начальства осуществлять контроль над вайнахскими
обществами; кроме того, война способствовала обострению отношений между
мусульманским населением Кавказа и царской администрацией;
участились набеги чеченцев на Кавказскую губернию. На некоторое время из-за
набегов было даже прервано сообщение между Кизляром и Астраханью.
Только в начале февраля 1807 года, после прибытия из бакинского
похода отряда генерала Булгакова, военная администрация сумела
сформировать и направить в Чечню карательные отряды.187 Для наказания «буйных
чеченцев» было организовано три отряда: первый - под командованием
генерала С. Булгакова, второй - под командованием генерал-лейтенанта
Мусина-Пушкина и третий - графа Ивелича. Через месяц
главноуправляющий И. В. Гудович доносил в Петербург министру иностранных дел,
барону А. Я. Будбергу о результатах экспедиций: «Чеченцы, - писал он, - силою
оружия доведены до такого состояния, что долго будут чувствовать
нанесенный им удар и, конечно, не скоро придут в силу... усмирив и покоря их
теперь, левый фланг нашей линии обеспечен».188
После предпринятых карательных мер контроль над чеченскими
обществами был передан из ведомства кордонных командиров калмыцкому
приставу полковнику Ахвердову. Сведения об этом сохранились в журнале
заседаний Комитета министров. В нем, в частности, отмечалось, что «по
определении подполковника Ахвердова главным приставом к
калмыцкому народу... высочайше повелено иметь ему надзирание за поведением
мирных чеченцев».189 Примечательно, что местонахождением главного
калмыцкого пристава был избран Кизляр190 - город, близко расположенный к
чеченской территории и в то же время значительно удаленный от кочевьев
калмыков. Этот факт, по-видимому, объясняется двумя обстоятельствами.
Основные административные органы для управления калмыками к этому
времени были созданы, и калмыцкое население находилось уже под
надежным контролем. Кроме того, земли, по которым кочевали калмыки,
располагались внутри Кавказской губернии, и правительство, судя по все-
232
му, рассчитывало сохранить их административную подчиненность и
постоянное функционирование установленных для них административных
учреждений, - в частности, суда Зарго, с помощью губернских
гражданских властей и благодаря редким посещениям кочевьев главного пристава.
Пребывание же калмыцкого пристава в Кизляре ясно указывало на то, что
наиболее важной задачей пристава являлась организация постоянного
надзора над Чечней и северо-восточной частью Кавказа.
Однако в русско-чеченских отношениях все еще сохранялась
определенная напряженность. По этой причине в подчинении
подполковника Ахвердова находилась не вся территория, занимаемая чеченцами. Под
управлением российских властей оказались, главным образом, чеченские
деревни, расположенные недалеко от Кавказской линии: Большой Чечен,
Алда, Большая Атага, Малая Атага, Кахко-Юрт, Шагдин, Герменчук,
Чехкери, Гехи, Шали.191 В «обвещении» чеченцам - «старшинам, духовным
лицам и всему народу» - кавказская администрация сообщала населению,
что «отныне» оно по всем своим «надобностям» сможет обращаться к
приставу.192 Командующему Кавказской линией было дано распоряжение о
пропуске через все российские кордоны чеченцев, «надобность к приставу
имеющих».193
11 июля и 12 декабря 1807 года в предписаниях И. В. Гудовича
полковнику Ахвердову устанавливались в общих чертах права и обязанности
пристава в отношении жителей Чечни. При этом главную задачу Гудович
определил так: «Приложите всемерную вашу попечительность на
восстановление в народе сем доброго порядка и спокойствия,... приказывайте
им..., дабы они ни под каким видом не имели никаких связей и сообщений
с ворами и хищниками и такого сорта людей к себе не принимали, имеете
сим мирным чеченцам позволять за билетом вашим свободный... приезд и
также обратно свободный пропуск, наблюдая однако..., чтобы под
предлогом надобностей... не приезжали для воровства;...по просьбам их
делайте по возможности вашей удовлетворение; по таким же делам, в которых
вы сами удовлетворить их не можете, делайте, куда следовать будут ваши
представления и отношения».194
Проводя политику невмешательства во внутреннюю жизнь кавказских
горцев, российская администрация стремилась в то же время к
осуществлению более строгого контроля над ними. Для достижения этой цели
российские власти в Чечне пытались использовать сельских старшин. В
предписании полковнику Ахвердову и в отношении к графу Румянцеву195
главноуправляющий Кавказским краем И. В. Гудович приравнивал сельских
235
старшин по их правам к частным приставам. Именно через них жители
деревни в соответствии с установленными правилами могли обращаться со
своими просьбами («делать представления») к управлявшему чеченцами
полковнику Ахвердову. На них же возлагалась обязанность - сообщать
односельчанам требования, предъявлявшиеся к чеченцам со стороны
администрации, и исполнение наказания, которое по приказу властей объявлялось
тому или иному жителю деревни. Закрепив своей властью за старшинами
права и привилегии, которыми они обладали ранее, и наделив их новыми,
правительство пыталось разрешить одновременно две задачи, с одной
стороны, добиться административного подчинения старшин, с другой - найти
в них свою политическую опору, привлечь их на свою сторону. С этой же
целью царская администрация стала назначать некоторым чеченским
старшинам пенсионы. Их, в частности, в 1807 году получали Цуцу Жамбатырев
и Мирза-бек Алисултанов.196
Непрямое вмешательство российских властей во внутренние дела
чеченского общества не исключало разбирательства преступлений,
совершавшихся на территории Чечни, в судебных органах, создававшихся
царской администрацией на Северном Кавказе. Так, в 1809 году в Верхний
пограничный суд в Моздоке приставом Ахвердовым было передано дело
«о нападении в Брагунской деревне на владельца майора Кучука Таймазова
и его старшего сына Исмаила»197 и попытке убить их. В преступлении
обвинялись средний и младший сыновья Кучука Таймазова — Казбулат и
Адильгирей и шесть чеченцев. Инициатива о наказании виновных
принадлежала потерпевшей стороне. Кучук Таймазов обратился к графу
И. В. Гудовичу с жалобой, после которой главноуправляющий отдал приказ
Ахвердову вызвать преступников в Кизляр и «за крепчайшим караулом»
доставить в моздокский Верхний пограничный суд.198 Однако судебное
разбирательство не было доведено до конца. Кучук Таймазов сам приехал
в Кизляр вслед за арестованными сыновьями и ходатайствовал о
прекращении дела; он писал И. В. Гудовичу и полковнику Ахвердову о том, что
простил обидчиков.199 Обращение жителей Чечни к российским властям с
просьбой о наказании виновных было скорее исключением, чем
установившимся правилом. В данном случае для нас имеет значение сама
возможность судебного производства над виновным в преступлении,
совершенном на территории Чечни.
Правительство предусмотрело также ряд экономических мер,
направленных на развитие торговых отношений между чеченцами и населением
Кавказской губернии. По приказу И. В. Гудовича для всей покорной России
234
части Чечни отменена была пошлина, взимаемая на кизлярской
пограничной таможне с вывозимых из Чечни и ввозимые сюда товары. Теперь эта
пошлина взыскивалась с тех, «кои купят у чеченцев или продадут им», т.е.
только с одной торгующей стороны. Кроме того, чеченцам, как, впрочем,
и всем другим горским народам, находившимся в российском подданстве,
правительство отпускало соль.200
До 1811 года Чечня состояла в ведомстве калмыцкого пристава.
Сменивший к тому времени полковника Ахвердова новый пристав,
подполковник Халчинский, неоднократно обращался к главноуправляющему с
просьбой разделить управление подведомственными ему народами между
двумя различными инстанциями. Объясняя причины неудобства иметь в
одном ведении калмыков и чеченцев, пристав указывал на то, что частые
набеги чеченцев не позволяют ему отлучаться из Кизляра, «от чего, -
сетовал Халчинский, - произошло затруднение в делах калмык и...
подведомственных ему чиновников и членов суда Зарго привело в
недеятельность».201 Этот вопрос по просьбе кавказских властей рассматривался на
заседании Комитета министров и в соответствии с его решением,
утвержденным императором 29 ноября 1811 года, подполковник Халчинский был
освобожден от управления чеченцами и кумыками. По-прежнему оно
поручалось кордонным начальникам. Генерал Н. Ф. Ртищев в своем
предписании шефу Суздальского пехотного полка князю Эристову, как начальнику
местного кордона, поручал «управление кумыками и чеченцами». Генерал
предписывал также, чтобы «все дела, относящиеся до сих народов,
принять в свое заведование...; поступать же вам в звании управляющего сими
народами... по точным моим предписаниям, а без того нималейше ничего
не предпринимать».202
Как видно, к концу первого десятилетия вновь были предприняты
попытки наладить в Чечне российский военно-административный контроль.
Приведенные нами данные позволяют судить лишь о начале
формирования здесь царского административного аппарата управления. В результате
в 1807-1812 гг. в Чечне сложилась следующая система административного
подчинения: главноуправляющий - командующий Кавказской линией -
калмыцкий пристав - сельские старшины - жители чеченских деревень.
С 1812 года, как отмечалось, калмыцкий пристав был заменен кордонным
командиром.
В первую очередь обращал на себя внимание тот факт, что российское
правительство не предпринимало серьезных попыток, направленных на
установление в Чечне, граничившей с Кавказской линией и беспокоившей
235
ее, административных учреждений, как это было в свое время в Кабарде.
По-видимому, решающее значение при этом имели следующие
обстоятельства: I) труднопроходимые леса, покрывавшие Чечню, делали ее
территорию малодоступной и создавали значительные сложности для
установления контроля над чеченскими обществами; 2) сказывалось влияние на
степень развитости системы управления тех внутренних социальных
процессов, которые происходили в этот период среди чеченских тайпов;
имеются в виду происходившие ускоренными темпами социальное расслоение
общества и тесно связанные с этим процессом религиозные движения.
В первом десятилетии XIX века широкой административной
деятельности правительства препятствовали также войны России с Турцией,
Ираном, антирусская агитация, которую проводили среди
мусульманского населения Северного Кавказа агенты этих стран. Определенную роль
сыграли распространение среди народов Центрального Кавказа
эпидемических заболеваний и неудачный опыт кавказских властей при введении
административных учреждений в Кабарде.
После окончания русско-турецкой и русско-иранской войн
правительство активизировало свою политику на Кавказе. Новый
главноуправляющий А. П. Ермолов, назначенный на Кавказ в 1816 году, разработал целую
систему постепенного освоения горных и предгорных районов Северного
Кавказа. Она заключалась в строительстве большого комплекса военных
укреплений, крепостей и дорог. Ее реализация в Чечне началась с
перенесения линии укреплений с Терека на Сунжу и закладки новых
укреплений - Преградного стана, Назрановского укрепления и крепости Грозной
(1818 г.). Их постройка позволила кавказским властям приступить к более
полному административному подчинению края. Крепость Грозная стала
резиденцией командующего Левым флангом Кавказской линии, к этому
времени практически ставшего управляющим Чечней.
Тогда же, в 1818 году, в Чечне было учреждено приставство.203 В него
вошли все чеченские деревни, лежавшие по правому берегу Терека. В
должность пристава, по рекомендации начальника Левого фланга Кавказской
линии генерал-майора Николая Васильевича Грекова, А. П. Ермолов
назначил есаула моздокского казачьего полка А. А. Чернова. Одной из первых
задач, возложенных на пристава, явилось создание из «мирных аулов»
чеченской конницы и «караулов», обязывавшихся быть «всегда готовыми на
битву со своими немирными собратьями».204
К сожалению, у нас нет текста правил, составленных А. П. Ермоловым
первому чеченскому приставу. Однако нами найдена инструкция, в
236
1825 году полученная преемником А. А. Чернова - есаулом Золотаревым
от генерал-майора Н.В. Грекова. Один из ее пунктов дает нам право
предположить, что она во многом схожа с инструкцией, которой ранее
пользовался первый чеченский пристав. В пункте, о котором идет речь, было
сказано: «Надобно, чтобы чеченцы с переменою пристава не видели
никакой перемены в правлении и чтобы они видели, что власть и способности
умершего перешли к занявшему его место».205 Именно это пояснение дает
основание сделать предположение об идентичности инструкции генерала
Н.В. Грекова с «Правилами» А.П. Ермолова.
Содержание инструкции свидетельствует о разнообразии
обязанностей пристава. Так, он осуществлял полицейский контроль над Чечней,
ему полагалось знать обо всем, «что происходит в народе, приставу
подчиненном». Сбор информации производился «через преданных ему людей и
переводчиков», доставлявших сведения «о предприятиях и намерениях
народа» за определенную мзду («ласки и поощрения»). ш На приставе
лежала также ответственность за поимку нарушителей порядка. В тех случаях,
когда вина «преступника» была «не слишком важна», пристав имел право
поступить с ним по своему усмотрению; он мог отправить задержанного
чеченца под караулом в Наур (русский редут) или же высечь плетьми и
отдать поручившимся за него родственникам. Если же совершенное
преступление носило уголовный характер, то виновный под конвоем доставлялся
в крепость Грозную к командующему Левым флангом Кавказской линии.
Кроме того, на пристава возлагалось решение задач политического и
идеологического свойства. Он должен был лично знать обо всех
выбираемых в деревнях муллах, имевших к тому времени большое влияние на
население, поддерживать связь с чеченскими старшинами и «оказывать им
уважение». Каждый раз, посещая чеченские деревни (не реже одного раза
в месяц), пристав обязывался «внушать народу» мысли «о спокойствии,
прекращении воровства, о повиновении начальству и об охранении от
хищников своих земель».207
В функции чеченского пристава входила также агитация жителей
деревень, расположенных по Сунже и за Сунжей, к переселению на Терек.
Близость «теречных» земель к Кавказской линии позволяла кавказской
администрации проводить здесь более глубокий контроль, чем это было на
остальной территории Чечни.
Одной из важнейших задач, возложенных на пристава, являлся надзор
за выполнением чеченцами воинской повинности - службы в коннице и
караулах. С этой целью он должен был собирать сведения о числе домов в
237
каждой деревне и о том, «сколько из них имеют лошадей»; он же наблюдал
за тем, чтобы никто из зажиточных чеченцев не забил и не продал своего
коня в надежде избежать службу. Пристав периодически объезжал караулы
и наказывал всех, кто «отлучится своевольно с караула», «не выйдет по
наряду» или «при вызове конницы... отстанет умышленно от своих
товарищей».208 В случае несоблюдения воинской дисциплины приставу
рекомендовалось наказывать нарушителей плетьми или отправлять их вне очереди
в караул.
Пристав обладал правом вести судебное разбирательство. Разбором
«жалоб и распрей» он занимался во время своих поездок в чеченские
деревни; они совершались один, два раза в месяц. Вообще же судопроизводство
находилось в руках «стариков, для сего избранных», и старшин. Чеченский
пристав подчинялся командующему Левым флангом.
Итак, к началу третьего десятилетия XIX в. в Чечне сложилась
следующая система военно-административного управления: командующий
Кавказской линией - командующий Левым флангом линии - чеченский
пристав.
В середине 20-х годов ситуация в Чечне резко обострилась. Осенью
1824 года по приглашению известного чеченского «баяччи» Бейбулата
Таймазова здесь появился проповедник мюридизма. Им был мулла Магома,
объявивший себя имамом Чечни. Его деятельность, а также призыв к
газавату были вкупе с деятельностью Бейбулата Таймазова - известного во
всей Чечне организатора набегов на русскую границу. Обстановка
усугублялась присутствием в Чечне эмиссаров Ирана и возможным открытием
иранского фронта. В условиях угрозы новой войны с Ираном 27 сентября
1825 года Александр I в рескрипте повелевал А. П. Ермолову
«восстановить в собственных наших владениях и окружающих народах совершенное
спокойствие и порядок».209 В 1825 - начале 1826 годов по всей территории
Чечни были проведены карательные экспедиции, в ходе которых сжигались
селения и вырубались сады.210 В своих записках А. П. Ермолов вспоминал,
что в мае «потух мятеж во всех местах, и все главнейшие селения
приведены в послушание и представили аманатов».211 После военных действий
1825-1826 годов в Чечне А. П. Ермолов обнародовал составленные им еще
15 марта 1826 года в укреплении Внезапной «Правила чеченскому народу».
В них определялась главная цель, преследовавшаяся главнокомандующим:
«Дабы люди неблагонамеренные, привыкшие к воровству и злодействам,
не могли, устрашая вас (чеченцев - 3. Б.) ложными вымыслами, вновь
поколебать спокойствие, я начертаю правила».212 Правила включали в себя
238
как права и обязанности чеченцев, так и кавказской администрации. Обе
стороны обязывались соблюдать «начертанное». Чеченцам предлагалось
вновь присягнуть на «верное подданство» России и вернуть всех
российских пленных. Им запрещалось принимать в селениях муллу Магому и
иметь сношения с «мошенником, называющим себя имамом», являвшимся,
по мнению А. П. Ермолова, главной причиной «возмущения» чеченцев, а
также кабардинских абреков и других «подобных воров».213 Чеченцы
привлекались к караульной службе и несли ответственность за присутствие
или проезд «хищников» через их землю. Они обязаны были сообщать
российским властям о местонахождении пленных, угнанного скота и лошадей,
снабжать крепость Грозную сеном и бревнами. При наказании чеченца за
убийство «в границах российских» действовал принцип круговой поруки.
Селение должно было изгнать «убийцу со товарищами» и их семьями. В
случае, если селение отказывалось наказывать преступников, выданные
жителями аманаты заключались под строгий арест, условия их
содержания ужесточались. Если указанная мера не производила нужного
эффекта, аманаты отправлялись в Россию, а все село признавалось виновным. В
соответствии с «Правилами», из чеченских селений изгонялись и те, кто
отказывался возвращать российских пленных.214
Ермоловские «Правила» ограничивали самоуправство кавказской
администрации в отношении аманатов. Условия их содержания четко
регламентировались: «Аманатов деревень, которым дано прощение,
содержать лучше прежнего и не под арестом, давая им свободу сколько можно.
Родственников их допускать беспрепятственно иметь с ними свидание».215
Основное бремя по выдаче аманатов легло на наиболее состоятельную
часть чеченского общества: «Аманатов переменять другими через четыре
лица, но из фамилий, известных и хороших, имеющих собственные земли,
от пришельцев из гор и других мест, не имеющих собственных земель,
аманатов не принимать».216 Администрации запрещалось взыскивать с
чеченцев денежные штрафы под любым предлогом, в том числе и «под
видом выкупа пленных», брать под арест невинных людей, на основании
того, что они являются односельчанами «воров и убийц».217 Российскому
начальству ответственность за совершенное преступление позволялось
возложить на ближайших родственников убийцы, в случае, если
последний скроется. Отдельные пункты «Правил» содержали принципы,
которыми при судопроизводстве должны были руководствоваться власти. «В
спорах и делах чеченцев с российскими подданными» предписывалось
«делать беспристрастный разбор». С таким же беспристрастием рекомен-
239
довалось разбирать дела чеченцев, живших «во владениях кумыкских».218
В этом случае, «дабы чеченцы не подвергались несправедливой обиде»,
им позволялось «иметь с собою кадия из своего селения».219 Кавказской
администрации поручалось всячески поощрять развитие торговли среди
чеченцев - «дабы свободной торговли давать иметь билеты без
затруднения и защищать их от всяческих обид».220 Она же обязывалась выдавать
чеченцам билеты на проезд в Тифлис.
«Правила» заканчивались у грозой в адрес ослу шников: «Предупреждаю
народ чеченский, - подчеркивалось в них, - что если за сими
снисходительными мерами будут продолжаться возмущения и беспокойства, я
вынужденным найду приступить к строгому наказанию и смертью
непокорных. .., ибо хорошо знаю землю чеченскую».221
На дальнейшее административное развитие определенное влияние
оказали мероприятия правительства, связанные с преобразованием общей
системы управления Северным Кавказом. Как уже упоминалось ранее (см.
II гл. §1), в «Учреждении для управления Кавказской областью» (1827 г.)
излагались общие черты предполагаемого для кавказских горцев
административного аппарата и основные направления его генезиса.
Вскоре после опубликования «Учреждения» кавказские власти,
руководствуясь его положениями, приступили к разработке проектов будущих
судебных учреждений для Чечни и к совершенствованию существовавшей
здесь системы приставства. Уже к концу 1827 года (20 декабря)
командующий Левым флангом Кавказской линии В.Ф. Энгельгардт подал
командующему войсками Кавказской линии проект новой инструкции,
составленной им для чеченского пристава. В нее были включены, помимо
ранее принятых положений, новые, касавшиеся главным образом охраны
личной собственности каждого, развития торговли, судопроизводства,
перестройки института аманатства и замены штрафами наказания розгами.
Желая привлечь на сторону кавказской администрации чеченскую знать,
старшин и зажиточную часть населения Чечни и найти в них поддержку,
В. Ф. Энгельгардт убедительно советовал приставу Золотареву «поощрение
торговли» и «святость хранения и сбережения собственности». Он писал,
что эти меры должны «более... привязать чеченцев к... российским
законам», «...нежели оружие и взыскание по строгости».222 В.Ф. Энгельгардт
надеялся также сократить число совершаемых чеченцами набегов,
прибегая к суровым наказаниям к похитителям «собственности посторонних».
Более подробными, чем в «Инструкции» 1825 года, являлись
положения проекта, затрагивавшие организацию судопроизводства. По проекту,
240
пристав сам мог назначать в судьи старшин из «известных ему в поведении
и суждениях»223 жителей деревни, которые под его руководством
занимались ведением дел. Все дела разбирались обычно в соответствии с нормами
адата; если же собравшиеся не могли придти к какому-либо единому
решению, они имели право пользоваться шариатом. В ряде случаев инструкция
предлагала тот или иной вид наказания виновного. Так, за воровство
налагался штраф от 10% до 50% от стоимости украденного, если совершивший
кражу не был в состоянии возвратить украденное или уплатить штраф, он
поступал к потерпевшему в работники на срок, определенный судьями.224
Большим достоинством новой инструкции являлась отмена в Чечне
телесных наказаний. До установления на Северном Кавказе российского
управления этот вид наказания не был известен горским народам, поэтому
применение розг вызывало острое недовольство жителей и порою
приводило к началу кровной мести. В связи с этим приставу запрещалось
применять телесные наказания без санкции старшин, осуществлявших суд над
виновным. Розги отменялись также и для лиц, уклонявшихся от воинской
повинности; теперь «те, кто при вызове конницы и других нарядов
отстанет от своих товарищей», обязаны были уплатить штраф по одному рублю
серебром за каждые пропущенные сутки.225
Автор проекта указывал на бессмысленность наложения взыскания
на аманатов (заложников) и аманатского хозяина226 за проступки жителей
их деревни. В. Ф. Энгельгардт полагал, что наказывать аманатов и
аманатского хозяина администрация должна лишь тогда, когда последний знал
о набегах, «воровстве и прочих зломышлениях» и не сообщил властям.
Несомненно, инструкция, составленная В.Ф. Энгельгардтом, обладала, по
сравнению с действовавшей, рядом достоинств. В ней не только
конкретизировались и подробно объяснялись права и обязанности пристава
(например, в области судопроизводства), но и учитывались важные стороны
жизни чеченцев - такие, как общественный уклад горцев, их традиционная
культура и др.
Однако командующий Кавказской линией Г. А. Эмануель не утвердил
инструкцию, предложенную В. Ф. Энгельгардтом, и тем самым
предотвратил ее реализацию. В отклонении новой инструкции были свои причины. К
концу 1827 года в вышестоящих кавказских военно-административных
учреждениях был разработан и утвержден проект суда, предназначенный для
разбора дел между чеченцами и карабулаками.227 В связи с этим большая
часть пунктов, ранее включенных В.Ф. Энгельгардтом в инструкцию для
пристава, по мнению Г. А. Эмануеля, теряла свой смысл. Командующий
241
Кавказской линией одобрил лишь один из них - отмену телесных
наказаний и взыскание вместо них с населения штрафов. В остальном ранее
существовавшие правительственные установления, касавшиеся
деятельности пристава, оставались без изменений. В его обязанности по-прежнему
входили сбор информации и надзор над населением Чечни, контроль над
выполнением воинской повинности и конвоирование нарушителей
порядка, которые теперь доставлялись им в зависимости от вида совершенного
преступления - в гражданский или военный суд.
«Чеченский народный суд», - именно такое название избрали для него
кавказские власти, - предполагалось открыть в крепости Грозной,
превратившейся к тому времени в военно-административный центр. В
предписании генералу В.Ф. Энгельгардту командующий Кавказской линией
Г. А. Эмануель сообщал, что «по желанию чеченского народа я учреждаю в
крепости Грозной Чеченский суд».228 К указанному предписанию
прилагались текст правил, которыми обязаны были руководствоваться судьи,
обращение командующего к чеченцам и карабулакам с объявлением об
открытии суда и инструкция Г. А. Эмануеля чеченскому приставу, несколько
измененная командующим в связи с установлением суда. Чеченский народный
суд, по-видимому, не был введен в действие, и идея его создания осталась
нереализованной. Имеющиеся документы не несут об этом конкретной
информации. Тем не менее сам факт существования проекта Чеченского суда
и стремление российской администрации претворить этот проект в жизнь
немаловажны; он дает более четкое представление о тенденциях, которых
придерживались кавказские власти, устанавливая судопроизводство у
горских народов Северного Кавказа.
Уже при первом знакомстве с правилами Чеченского суда
становится очевидным, что в основу его проекта легло «Наставление»,
утвержденное в 1822 году А. П. Ермоловым для Временного кабардинского суда.
Однако, в отличие от Кабардинского суда, правительство, формируя состав
Чеченского народного суда, проявило определенную «демократичность».
Так, его члены не назначались российской администрацией, как это было в
Кабарде, а являлись выборными, что, по-видимому, нашло свое отражение
в названии суда - «Народный». Здесь, по нашему мнению, сыграли роль
разные уровни социального развития вайнахского и кабардинского
общества, а также большая степень административной подчиненности Кабарды
российским властям.
В соответствии с правилами, судьи Чечни избирались народом из
людей, «достойнейших по происхождению и способностям».229 Общее их
242
количество составляло пять человек. В суд входили - один представитель
«из брагунских владельцев», один - из «владельцев Надтеречных», один -
старшина от чеченцев, живших вдоль по берегу р. Сунжа, один - старшина
от чеченцев, занимавших земли за р. Сунжа, и один - старшина от карабу-
лаков. Выборными являлись также заседатели Чеченского народного суда.
Их представительство было значительно: один «уздень» и почетный
старшина от Брагу некой деревни и один старшина от Надтеречных чеченцев. В
Чеченский суд, как и в кабардинский, в случае возникновения споров при
разборе дел приглашались «народные депутаты» - «люди по летам и
приобретенному уважению признанные». Для разбора духовных дел в состав
суда были введены духовные лица - «один от Надтеречных жителей и
другой от жителей, живущих по Сунже и за Сунжей».230
Таким образом, при формировании состава суда, несмотря на то, что
члены его избирались народом, соблюден был социальный принцип.
«Свобода», предоставленная чеченцам в выборе судей,
контролировалась, однако, присутствием в составе суда российских офицеров.
Должности председателя суда и секретаря занимали русские офицеры,
назначенные командующим.
Судопроизводству Чеченского народного суда подлежали гражданские
дела чеченцев и карабулаков. Как и в Кабарде, эти дела делились на три
группы и решались «по древним обычаям и обрядам, приспособляя оные
поколику важность случаев дозволит к правам российским».231 Формой
наказания виновного являлся штраф, который взыскивался деньгами или
имуществом в пользу суда. По указу от 24 июля 1822 года уголовные
преступления, совершавшиеся представителями вайнахских народов,
рассматривались военным судом согласно российскому законодательству.
Особую статью в «Правилах» для суда составляли дела духовного
характера - «до веры и совести касающиеся; по несогласию между мужем
и женой» и т.п.; они разбирались по шариату так называемым «духовным
судом», состоявшим из членов суда, обладавшими духовным саном;
духовные лица в решении гражданских дел участия не принимали,232 так же как
светские судьи не участвовали в принятии решений по шариату.
В «Правилах» подробно описывалась процедура судопроизводства, и к
ним прилагались формы, по образцу которых должны были вестись записи
в журнале суда. Ревизия всех дел осуществлялась командующим Левым
флангом раз в месяц.
Аналогично Кабардинскому суду Чеченский суд наделялся
функциями исполнительной административной власти. По поручению российских
243
властей на него возлагался сбор сведений о податях и повинностях,
отбываемых подвластными в пользу владельцев; здесь же выдавались чеченцам
билеты для проезда на Кавказскую линию.
Таким образом, учреждение Чеченского народного суда
свидетельствовало о стремлении кавказской администрации к усилению
административного контроля над Чечней путем установления зависимой от российских
властей системы судопроизводства и постепенного приспособления
обычного права горцев к общероссийскому законодательству.
Хлопоты, связанные с открытием Чеченского народного суда,
командующий линией поручил генерал-майору В.Ф. Энгельгардту. Последний,
однако, отрицательно относился к идее создания в Чечне судопроизводства
по типу кабардинского. Он направил командующему Кавказской линией
рапорт, в котором изложил причины, на его взгляд, препятствовавшие
учреждению в Чечне суда общего для всего населения.233 Главной из них, по
мнению В. Ф. Энгельгардта, являлся различный уровень общественного
развития равнинной и горной Чечни. Выражая свои сомнения в приемлемости
такого суда для Надтеречных чеченцев, он указывал на весьма условный
характер зависимости жителей чеченских деревень от их владельцев (нередко
кумыкских и кабардинских князей),234 обладавших правом быть
избранными в судьи. В.Ф. Энгельгардт отмечал, что «князья, живущие над Тереком,
имеют в своих деревнях большей частью вольных чеченских узденей,
нежели крестьян, от коих (они - 3. Б.) берут в подданстве и верности их присяги...
Такое подданство существует только до первого между ними спора; после
чего узденья избирают себе другое жительство.... Князья с помощью только
узденей могут владеть над чеченцами..., на их землях поселившимися».235
Генерал-майор В.Ф. Энгельгардт подчеркивал возможность
усложнения отношений между населением горной Чечни и кавказскими властями в
связи с установлением общих для всех чеченцев судебных органов. В том
же рапорте командующему В.Ф. Энгельгардт сообщал, что «соединить их
(горских чеченцев - 3. Б.) теперь под одним судебным разбирательством
с терецкими жителями - совершенно расстроить всех горских жителей,
и ничем так их обидеть нельзя, как представить ихнему разбирательству.
Они имеют в своей памяти, что терецкие и кабардинские князья при
встрече с чеченцами дают им дорогу».236
В.Ф. Энгельгардт разработал свой проект судебной системы. Он
считал необходимым учреждение одного суда для разбирательства дел горских
и Сунженских чеченцев, другого - для чеченцев, живших над Тереком. Во
главе каждого из них должен был стоять выбранный народом кадий.
244
В проекте доказывалась нецелесообразность передачи горцев за
«кровоотмщение» военному суду. Более эффективным способом борьбы
с кровной местью считалось осуществление судопроизводства по
шариату. Любопытно, что В.Ф. Энгельгардт намеревался создать и возглавить
специальную комиссию из духовных лиц (кадия и двух мулл) с целью
разработки для населения Чечни на основе обычного права, шариата и
российского законодательства своеобразного «кодекса».
По проекту В.Ф. Энгельгардта, в каждой чеченской деревне
предполагалось создание выборного суда. При этом учитывались трудности,
которые могли возникнуть во время выборов в горной Чечне из-за большого
количества там малочисленных деревень. Чтобы избежать их, командующий
предлагал провести в небольших горных аулах, расположенных недалеко
друг от друга, общие выборы и открыть для них один суд.237
В состав суда, - как предполагалось, - входили трое судей и так
называемый аманатский хозяин. Однако если обязанности судей являлись чисто
судебного свойства (разбор спорных дел, наложение штрафов на виновных),
то аманатский хозяин практически исполнял бы функции полицейского; на
него возлагался надзор за жителями деревни, сбор сведений об их «добром
и худом поведении», он же приводил бы в исполнение решение суда. Чтобы
обеспечить постоянное функционирование, суда населению запрещалось
устраивать перевыборы для всех членов суда одновременно. Ежегодно
позволялось переизбирать только одного судью. По В. Ф. Энгельгардту, после
выборов население каждый раз обязывалось приносить мулле присягу «в
послушании и повиновении судьям».238
В проекте В.Ф. Энгельгардта оговаривались условия разбирательства
конфликта между жителями разных деревень. В этом случае обе деревни
должны были выслать в назначенное место своих судей. Председателем
такого суда становился бы выбранный народом кадий.
Несмотря на довольно широкую самостоятельность,
предоставленную в проекте будущим судебным учреждениям, их автор, тем не менее, не
отказался от идеи осуществления постоянного контроля за деятельностью
судов. Каждую субботу, по мысли В. Ф. Энгельгардта, к нему должны были
поступать письменные сообщения о делах, рассмотренных судьями в
местных судах за последнюю неделю. Кроме того, ни один судебный приговор
не мог быть приведен в исполнение без санкции В.Ф. Энгельгардта и
состоявших при нем кадия и муллы, являвшихся высшей инстанцией. Сюда
же, в Грозную, к командующему два раза в месяц имели право обращаться
все лица, недовольные решением суда.
245
В целом следует отметить, что проект, представленный В.Ф.
Энгельгардтом, отражал особенности социального состояния чеченского
общества и являлся более удачным. Однако ни проект В.Ф. Энгельгардта,
ни проект Чеченского народного суда не были введены в действие.
Переходный характер экономики и общественного уклада чеченцев, а,
главное, вовлечение Чечни в Кавказскую войну явились главными причинами,
серьезно затруднившими российское административное развитие в Чечне.
Именно они обусловили то, что появившиеся в конце третьего десятилетия
проекты управления Чечней не были претворены в жизнь. Таким образом,
в первой трети XIX в. Чечня, в отличие от других районов Центрального
Кавказа, во многом оставалась «не освоенной» российскими
административными учреждениями.
30-е годы XIX века - время постоянных вооруженных столкновений
чеченцев и российских войск. Командующий войсками на Кавказской
линии П. X. Граббе оценивал этот период русско-чеченских отношений как
«крайне неопределительный и неясный».239 В записке, представленной
им на имя военного министра А. И. Чернышева, П. X. Граббе подчеркивал
запущенность административного устройства Чечни. По его отзыву, «О
прочном управлении, по крайней мере, мирных обществ, никто не думал и
кроме 3 или 4 приставов, наблюдавших за Надтеречными чеченцами и
кумыками и андреевского городового суда для разбора тяжебных дел между
туземцами, суда, существовавшего только по названию, не было сделано
никакой попытки для подчинения этих обществ какому-либо начальству с
определенными правами и обязанностями. Все ограничивалось
предписаниями командующего Сунженской линией (полковника А. П. Пулло - 3. Б.),
который сносился прямо или через воинских начальников со старшинами и
кадиями селений.240 Но по оценке П. X. Граббе, полковник А. П. Пулло «не
мог» наладить административный «порядок» и справиться с
злоупотреблениями, «которые были следствием» сложившегося «положения вещей»,
отдалявших «время совершенного покорения этих племен».
Формально структура управления чеченцами, подвергшаяся столь
резкой критике со стороны командующего войсками Кавказской линии,
представляла собой следующую схему. На Северном Кавказе ее возглавлял сам
командующий войсками, ему подчинялись начальник Сунженской линии,
управлявший «мирными племенами, прилегавшими к нему»241 и приставы.
В ведении чеченского пристава находились: терские чеченцы - выходцы
из Большой и Малой Чечни, переселившиеся с разрешения российского
правительства на земли между реками Сунжа и Терек; Сунженские че-
246
ченцы, обитавшие по реке Сунжа между реками Аргун, Гудермес и Асса;
брагунские чеченцы, жившие по правому берегу Терека при впадении в
него Сунжи.242 Чеченцы, поселившиеся на землях кумыкских владельцев
- качкалыки и мичиковцы, управлялись главным кумыкским приставом
генерал-майором князем Муссой Хасаевым. Для «кумыкских чеченцев»
действовали те же органы власти, что и для кумыков - частные приставы
и Андреевский городовой суд.243 Председателем городового суда являлся
начальник укрепления Внезапное, членами суда- главный кумыкский
пристав и избранные от народа депутаты и кадий. При разборе дел чеченцев
позволялось присутствие чеченского кадия. Все спорные и исковые дела
разбирались по адату или шариату.244 Приговор суда приводился в
исполнение «через старших князей».245 Главному кумыкскому приставу поручалось
наблюдение за исполнением приговора.
В 1839 году, до своего похода в Ахульго, П.Х. Граббе совершил
экспедицию в Чечню. Она проводилась в рамках общего военного плана,
составленного российским командованием. Тогда же отряд под началом
генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского продолжил строительство укреплений
на восточном берегу Черного моря, а дагестанский отряд, возглавляемый
самим главнокомандующим генерал-лейтенантом Е. А. Головиным,
отправился против самурских обществ. Зоной действия третьего, так
называемого чеченского отряда во главе с генерал-лейтенантом П. X. Граббе,
определялись Северный Дагестан и Чечня.246 Кроме русских солдат, в отряд
вступили представители коренного населения Кавказа. «Был сделан вызов
всех желающих участвовать в экспедиции волонтеров из покорных горских
племен Кавказской линии. До 500 конных изъявили это желание, -
преимущественно из кумыков, кабардинцев, осетин, Надтеречных чеченцев».247
Карательная экспедиция в Чечню увенчалась для П.Х. Граббе успехом.
Большая часть чеченцев была покорена, села выдали аманатов. Завершив
военные действия в Ахульго, генерал П. X. Граббе приступил к разработке
проекта об управлении Левым флангом Кавказской линии, в том числе и
чеченцами. Обращаясь к военному министру, он указывал, что «ближайшее
знакомство с бытом горцев и настоящим положением их обществ убедили»
его в том, что «первым предметом внимания начальства должно быть
устройство управления на прочных и сколько можно единообразных началах для
всех этих покорных или покоряющихся племен».248 Проект П.Х. Граббе
предполагал подчинение «мирных» чеченцев командующему Левым
флангом Кавказской линии генерал-майору В. А. Гржегоржевскому и
разделение жителей Чечни между тремя приставствами - Главным чеченским
247
приставством, Главным кумыкским приставством и Главным лезгинским
приставством. Одновременно они освобождались от управления
командующего Сунженской кордонной линией генерала А. П. Пулло. В
основе деления на приставства лежало «географическое положение земель и
многосложные отношения горцев».249 «Главное чеченское приставство»
подразделялось на три «частных приставства» с резиденцией в Грозной. В
«частные приставства» вошли чеченские общества, обитавшие на равнине
от реки Даут-Мартан до реки Мичик и до Ичкерийских гор. Чеченскому
приставу поручалось также наблюдение за аулами, расположенными
близко к р. Терек - от станицы Червленная до Моздока. В Главное кумыкское
приставство, поделенное между 4 частными приставами, кроме кумыков
и ногайцев, вошли чеченцы, жившие по р. Мичик и по Качкалыковскому
хребту и покорные ичкерийские аулы. Местонахождением кумыкского
пристава являлось селение Андреево; на него возлагалось наблюдение
«за пространством между укреплением Внезапным и Уммахан-Юртом». К
третьему, - Главному лезгинскому приставу (4 частных приставства), из
чеченцев были причислены ауховцы, которые впоследствии должны были
войти в состав кумыкского приставства. Главными и частными приставами
П.Х. Граббе назначил «благонадежных чиновников, знакомых с горцами
и испытанной преданности».250 Их список командующий линией обещал
военному министру А. И. Чернышеву выслать позже. «Содержание при-
ставской стражи» оплачивалось жителями Чечни. Оно обходилось свыше
20 тыс. руб. серебром в год.251
Наряду с проектом «Об управлении мирными племенами», П. X. Граббе
подготовил «Правила для управления покорными горцами». Они
предусматривали выдачу аманатов по «назначению» кавказских властей,
исполнение всех требований и распоряжений поставленного над ними
пристава, исправление дорожных повинностей, конвоирование проезжавших.
Горцам запрещалось переходить из одного аула в другой для постоянного
жительства без разрешения начальства, давать убежище абрекам и
мюридам и участвовать «в пагубном учении Шамиля».252 Генерал П.Х. Граббе
допускал возможность прощения абреков и возвращения их на прежние
места проживания. При этом властям предписывалось проявлять «строгую
разборчивость», а прямая ответственность за будущее поведение абреков
возлагалась на жителей аулов, в которых они поселялись. «Для
побуждения горцев к исполнению приказаний» при каждом главном приставе
предусматривался небольшой отряд из горцев.253
Административная система, введенная генералом П.Х. Граббе, про-
248
существовала недолго в Чечне. Особенностью ее являлись жесткость
административного режима, игнорирование традиционных управленческих
институтов, веками складывавшихся у горцев, придание прямому
управлению приоритетного значения. В основе новой системы управления лежала
политическая концепция Николая I, ориентировавшая российское
командование на «покорение непокорных». Но именно эта «формула»,
призывавшая к насильственным мерам установления российской власти на Кавказе,
в значительной своей части охваченном Кавказской войной, содержала в
себе имманентные причины недолгой жизни административного
управления П.Х. Граббе. Весной 1840 г. начавшееся массовое восстание против
этого режима прежде всего охватило Чечню, что стоило рассматривать как
определенную закономерность; отличаясь эгалитарностью организации
общества, Чечня не только отвергла новую администрацию, но и была
вовлечена в Кавказскую войну. Причины такого развития событий осознавались
самим российским командованием. Тот же генерал П.Х. Граббе, объясняя
разыгравшиеся события 1840 г., указывал на административно
«стесненное положение жителей нагорной Чечни».254 Непосредственным поводом к
выступлению чеченцев послужили жестокости генерала А. П. Пулло,
предпринимавшего карательные экспедиции, и попытки властей обезоружить
жителей горских сельских обществ.255
В 1840-м году в подчинении кавказской администрации оставались
брагунские чеченцы - 1270 человек, кумыкские чеченцы - 2670 человек и
частично терские чеченцы- 5700 жителей; из них преданными российским
властям считались - 2800 - в основном население Нового и Старого Юрта.
Большая часть Чечни вошла в состав имамата Шамиля.
В военно-историческом архиве сохранилось дело, заведенное по
рапорту генерал-майора Менда, дающее полное представление о
создавшейся расстановке сил в Чечне к 1840 году.256 Политическая ситуация в Чечне,
как следствие административных мер российского командования,
достаточно ясно просматривается в таблице 2.
Как видно из приведенных данных, в 1840 году в ведении кавказской
администрации оставалось всего 8170 жителей Чечни; эта часть населения
расселялась на северных окраинах Чечни. Она сохраняла российскую
ориентацию в ходе Кавказской войны и после ее завершения. Подавляющее же
большинство чеченцев стало «мухаджирами» и вошло в состав имамата.
Шамилю подчинились общества Малой и Большой Чечни, а также жители,
населявшие горные котловины бассейна рек Сунжа и Терек - к востоку от
Аргуна.257
249
Таблица 2
Наименование
племен, обществ
1. Чеченцы,
живущие
на землях
кумыцких
2. Ако или
акинцы
3. Пшехой
4. Шибузи
или Шатой
5. Шаро
6. Джани,
1Бутри
7. Чарбили
или Табутри
8. Ичкери
Места ими
обитаемые
Обитают в
отдельных
небольших
деревнях
Между
галгаевцами
и дальними
кистинцами
Около
истоков
р. Мартан
По реке
Аргун
По верховьям
реки Шаро
По реке
Аргун
По реке
Аргун
Обитают по
верховьям
рек Аксай и
Халхало
Народонаселение
я
Си
§
Я
2670
1
Он
О й
с Й
>% я
с
335
XI
я
Он
я
4000
7000
7000
900
6000
3200
2
<->
СП
2670
335
4000
7000
7000
900
6000
3200
Образ
управления, степень
преданности
русскому
правительству
7 покорных
селений.
Управляются точно так же,
как и кумыки.
Изъявили
покорность в
1839 году. В
1840
отложились.
Не изъявили
покорности
российскому
правительству.
Часть
покорилась в 1839 году.
Покорные
ичкеринцы
причислены к
Главному
лезгинскому
приставу. В 1840 году
отложились.
250
9. Качкалыки
10. Мичик
П.Аух
12. Терские
13.
Сунженские,
составляющие Малую
и Большую
1 Чечню
14. Брагун-
ские
Обитают по
северному
скату Кач-
калыкского
хребта
Обитают по
р. Мичик у
южной
подошвы Кач-
калыкского
хребта
Обитают по
верховьям
р. Аксая и р.
Хулхулу
По правому
берегу Терека
Обитают по
Сунже между
р. Аргуном,
Гудермесом и
Ассою
На правом
берегу р.
Терек при
впадении в него
р. Сунжи
Итого чеченского племени
2800
Б. Чечня -
М. Чечня -
2700
8170
3250
1600
4360
10560
8600
9545
2900
10560
8600
50160
3250
1600
4360
5700
2700
2700
67875
Управлялись
кумыкским
приставом. В 1840 году
отложились.
Были покорны,
причислялись
к кумыкскому
приставу. В
1840 году
отложились.
Были покорны и
причислялись к
главному
лезгинскому приставу.
В 1840 году
отложились.
Управлялись
чеченским
приставом.
Полностью покорны. В
1840 году часть
из них
отложилась.
Были покорны,
управлялись
Главным
чеченским приставом.
В 1840 году
снова отложились.
Покорны с
давнего времени.
Управляются
чеченским
приставом.
С первых же дней образования имамата Шамиль энергично принялся
за введение новой системы управления. Свое государство он
административно разделил на три части, среди которых Чечня составляла отдельную
251
область. Области в свою очередь делились на наибства. В этой
административной структуре функционировали начальник Чеченской области и наибы
- главы наибств. Начальник области входил в высшее руководство имамата
и напрямую подчинялся имаму. В первое время территория Чечни
состояла из трех наибств, позже их число менялось в зависимости от появления
конкретного «волевого» исполнителя власти. Наибства делились на
округи, управляемые мазунами; при мазуне находился мулла, занимавшийся
вместе с мазуном судопроизводством. Главной фигурой в чеченской
административной системе являлся наиб; очевидно, по этой причине начальник
Чеченской области одновременно состоял наибом. Наиб обладал всей
полнотой военной и гражданской власти. В своем распоряжении он имел
воинский отряд - важный ресурс для реализации исполнительной власти. Как
руководитель военного отряда начальник области практически был
приравнен к другим наибам. Что касается местной («сельской») власти, то она
отдавалась муллам; в каждой деревне было по одному мулле «для решения
дел словесно».258 Муллы представляли собой первую инстанцию суда. Его
решения рассматривались мазуном и принимали силу после утверждения
наибом. Зная о слабых исламских традициях в Чечне, Шамиль пытался
придать «чеченской администрации» больше шариатского контекста.
На жесткость административного управления, установленного для
чеченцев, бесспорно сказывалось расположение резиденции имама в Дарго
- центре Чечни. Нередко Шамиль направлял в Чечню карательные
экспедиции, в ряде случаев такими экспедициями он руководил лично сам.259
По словам самого Шамиля, специально созданный им карательный отряд
направлялся как в Дагестан, так и в Чечню.
Высшим совещательным органом в имамате являлся «Совет ученых»,
созданный еще в 1829 году; позже Шамиль преобразовал его в «Съезд
наибов». Общее управление имаматом осуществлялось из чеченского Дарго,
где по предложению Джемал-Эддина, духовного наставника Шамиля, был
учрежден Верховный совет («Диван-ханэ»). Ему принадлежало все
административное управление государством и полномочия «верховного
судопроизводства».260 Диван-ханэ состоял из узкого круга лиц, главным образом
имевших духовное звание и зарекомендовавших себя личной
преданностью имаму. Он заседал ежедневно, кроме пятницы, и обсуждал
«важнейшие дела, относившиеся к главному управлению страной».261 При особых
случаях, когда решались неотложные вопросы, Диван-ханэ открывал свои
заседания «по несколько раз в день».262
Придавая важное значение политической стабильности в Чечне,
252
Шамиль стремился во главе местных наибств иметь опытных
военачальников и умных администраторов. В первое время наибами в Чечне он,
как правило, назначал мюридов нечеченского происхождения, повторяя
тем самым ошибки российских властей. Так, во главе Чеченской области
первым стал Абдула Цухкар, тесть Шамиля, выходец из Кази-Кумуха;263 в
Большую Чечню, представлявшую собой отдельное наибство, в
должности наиба Шамиль назначил Ахверда Магому - этнического аварца.264 Как
и раньше, когда российские администраторы назначали управлителями
чеченских обществ владетелей из Дагестана и Кабарды,
административная политика имама вызывала у чеченского населения негативную
реакцию. Нередко дело доходило до открытого недовольства и Шамилю
приходилось, принимая жесткие меры, вмешиваться в конфликты.265 Вскоре
он был вынужден пересмотреть свою кадровую политику,
проводившуюся в Чечне. На должности наибов, наряду с другими, Шамиль стал
выдвигать также чеченских баяччи. Последние обычно являлись воинами,
отличившимися в набегах на русскую границу, или же представителями
сильных тайпов. Такими, например, были наибы-чеченцы Шуаиб-мулла,
Тали, Тапи, Исса, Хаджи-Юсуф, Уллубей и др. Вполне возможно, что при
подборе чеченских кандидатов в наибы, влияние на Шамиля оказывалось
со стороны чеченских тайпов. Скорее всего, этим объяснялось то, что
некоторые чеченские наибы, например, Тапи и Исса, находили широкую
поддержку среди местного населения, но в то же время оставались в
немилости у имама.266 Заметив административный эффект от назначения
наибами чеченских баяччи, Шамиль решил выдвинуть из самих чеченцев
главу Чеченской области. На съезде наибов в Андии (1844 год) он
предложил на эту должность Шуаиб-муллу, наиба Большой Чечни,
принадлежавшего тайпу Цонтери, преуспевавшего в походах на русскую границу.
Но такое выдвижение на столь высокое место представителя одного тай-
па, ранее не имевшее прецедентов, не могло не вызвать ревнивого
отношения у других тайпов. Как и ожидалось, прошло всего несколько дней
после избрания Шуаиб-муллы главой Чеченской области, как он самими
чеченцами был убит. В ответ на это Шамиль предпринял жестокие меры
- уничтожил два населенных пункта вместе с жителями, в том числе
стариками и детьми.267
В установлении административного аппарата в Чечне у Шамиля было
немало других сложностей. Среди них главной оставалась эгалитарность
чеченских обществ. При подавляющем господстве социального равенства
Шамиль вводил в Чечне систему господства и подчинения. В частности,
253
на Чечню он распространил «Положение о наибах», принятое на съезде
наибов в 1843 году268 и основанное на концепции - не считаться с
«мнением народа», если оно приводит к «нарушению порядка». «Положение о
наибах» предоставляло чеченским наибам неограниченные полномочия, в
том числе право на любые формы наказания вплоть до казни.269 Все
население Чечни несло воинскую повинность. По первому требованию «великого
имама» каждая семья обязана была выставить одного вооруженного
конного или пешего воина, снабдив его провиантом.270 Мужское население Чечни
делилось на «десятки». Десяток нес ответственность за действия
каждого своего члена. Кроме личного наказания виновного, весь десяток обязан
был внести за него штрафные деньги 50 руб. серебром. Неявка на службу и
ослушание старших наказывались розгами или сажанием в яму. Для
поощрения к военной службе Шамиль установил денежные и воинские награды.
Как и наибы, мазуны в своих решениях руководствовались особым
сводом законов, составленным Шамилем. Преступления в округе
первоначально рассматривались мазуном, и если виновный не заслуживал
смертной казни, то решения приводились в исполнение через муртазеков. В
особых случаях дело передовалось наибу, обладавшему правом вынесения
смертного приговора. Как правило, смертной казнью наказывали за побег
к неприятелю, измену и шпионаж. Законодательство Шамиля под страхом
смертной казни или телесного наказания запрещало чеченцам всякие
связи, в том числе и торговлю с российскими властями.
На содержание государственного аппарата имамата и
сформированных регулярных войск требовались немалые средства. Шариатская казна
пополнялась за счет следующих налогов: закиат (закят) - десятая часть от
доходов, хамус - пятая часть от всей добычи во время похода, байтул-мал
- штрафные деньги, взыскиваемые за разные преступления, а также
имущество, оставшееся после смерти казненного.271
К середине 40-гг. XIX века способы управления имама Чечней стали
вызывать недовольство местного населения. П. X. Граббе сообщал
военному министру, что Шамиль, желая «утвердить власть свою», «употребляет
самые насильственные средства - берет аманатов, предает смерти
изъявляющихся покориться, жгет деревни и села. Поступки эти производят
ропот между чеченцами».272 По сути, политика имама во многом дублировала
действия, проводившиеся на территории Чечни российскими войсками в
20-е - 30-е годы; нередко они отличались еще большей жестокостью. В
1846 году официальные документы российской администрации
изобилуют сообщениями об отчаянных попытках Шамиля сохранить за собой под-
254
властные аулы Чечни и о «довольно значительном числе чеченцев»,
желавших переселиться на земли, управлявшиеся российскими приставами.
В 1848 году (10 октября) для управления чеченцами,
переселившимися от Шамиля в окрестности укреплений Нестеровское, Ачхоевское, поста
Казак-Кичу и на земли на правом берегу Сунжи от поста Эльдырхановского
до Верхней Индырки, а также для карабулаков, переселенных с территории
назрановского общества, был назначен пристав. Название приставства
отражало этнический состав его жителей - «приставство над карабулаками и
чеченцами».273
К числу жителей, склонявшихся все больше к пророссийской
ориентации, относилась в основном зажиточная прослойка чеченского
общества. Малоимущее население по-прежнему поддерживало Шамиля. 5 мая
1845 года князь М. С. Воронцов в своем отношении к А. И. Чернышеву
подчеркивал, что большинство жителей Малой Чечни, «в особенности люди
зажиточные и пожилые, действительно желают покориться» российскому
правительству, но что им противодействует «молодая и бедная часть
народонаселения, которая от враждебных против нас действий ожидает для
себя средств существования» и находит в них возможность удовлетворять
своей наклонности к удальству»274...
Возвращение Чечни под управление российского правительства
являлось одной из важнейших стратегических задач Кавказской войны. Богатая
хлебом и скотом, она исполняла роль экономического резерва имамата
Шамиля. В 1850 году кавказским командованием был разработан план
военных действий на территории «житницы мюридистского государства».275 В
этом же году в Малую Чечню направлялись четыре экспедиции. Успешные
военные операции генерал-майора Николая Павловича Слепцова под
Цоки-Юртом и Датыхом, полковников Егора Ивановича Майделя и Якова
Петровича Бакланова на реке Мичике, полковника Николая Семеновича
Кишинского на Кутешинских высотах - в течение всего 1850 года -
завершились рядом экспедиций князя А. И. Барятинского в Большую Чечню276.
В 1852 году предгорные районы Большой и Малой Чечни были отторгнуты
от государства Шамиля. С этого времени основными направлениями
политики России в Чечне стали переселение жителей горной Чечни на
равнинные земли, ближе к русским поселениям, и административное устройство
всей ее территории.
Смена политики, ориентированная на организацию
военно-гражданского управления в Чечне, исходила в большей мере от самого наместника
М. С. Воронцова. На последнего, как и на А. И. Барятинского, немалое влия-
255
ние оказывал Бота Хамурзов - чеченец, бывший наиб Шамиля, бежавший к
русским и ставший советником А. И. Барятинского и М. С. Воронцова. Бота
Хамурзов, хорошо знавший о кризисном положении в имамате, убеждал
наместника перед карательными мерами развертывать среди чеченцев,
испытывавших серьезные материальные трудности, переселенческое
движение.277 Ранее отличившийся в карательных экспедициях А. И. Барятинского
бывший наиб, призывавший к смене политики в Чечне, надеялся, что при
организации административного управления ему достанется роль главы
над чеченским обществами. Однако другие планы были у российского
командования.
В 1852 году генерал-лейтенант А. И. Барятинский,
командовавший Левым флангом Кавказской линии, представил наместнику
М. С. Воронцову проект «Об управлении в Большой и Малой Чечне».
Главной идеей проекта являлось объединение всей Чечни под властью
«особого Начальника чеченского народа» и учреждение при нем
«народного судилища».278 Одобрив предложенное А. И. Барятинским
административное устройство и разрешив его введение «в виде опыта»,
М. С. Воронцов направил копию проекта Барятинского и доклад о
предпринятых им мирных действиях военному министру князю Василию
Андреевичу Долгорукову. В нем необходимость административного
«обустройства» чеченцев обосновывалась «увеличением покорного
народонаселения» и «беспрестанными просьбами чеченцев переселиться под
российское «покровительство».279 Наместник, характеризуя жителей Чечни
как «самое беспокойное и своевольное племя из всех племен
кавказских», указывал на необходимость учреждения здесь такого управления,
которое «держало бы их в повиновении начальству, имело бы постоянный
бдительный надзор над ними и вместе с тем заботилось бы об
устройстве и улучшении быта чеченцев».280 В течение октября 1852 года проект
А. И. Барятинского обсуждался в Военном министерстве и Кавказском
комитете; решение последнего было утверждено императором 5 ноября
1852 года.281 В нем особо подчеркивалось, что успех намеченных
административных мероприятий полностью зависит от «качества того лица»,
которое будет назначено на должность Начальника чеченского народа.
Кавказский комитет рекомендовал наместнику «избрать такое лицо,
которое своими беспристрастными и справедливыми действиями могло бы
приобресть доверие и любовь чеченского народа, и чрез то содействовать
переселению к ним и других непокорных еще жителей Чечни».282
Политическую значимость будущего Начальника чеченского наро-
256
да хорошо осознавал и М. С. Воронцов. На этот пост наместник назначил
человека, давно состоявшего при нем, пользовавшегося его личным
доверием и исполнявшего особые поручения, - гвардии полковника Ивана
Алексеевича Бартоломея.
Уже весной (в апреле 1852 года) российские власти
приступили к осуществлению основ проекта административного устройства
Чечни.283 Реализация его началась с решения финансовых вопросов.
А. И. Барятинский, командовавший Левым флангом Кавказской линии,
обратился к наместнику с просьбой выделить на содержание чеченского
управления по три тысячи рублей в год. Тогда же для начальника
чеченского народа за две тысячи рублей был куплен у майора фон Кульмана 2-го дом
в Грозной, ставший официальной резиденцией И. А. Бартоломея.284 При
введении нового управления в Чечне М. С. Воронцов и А. И. Барятинский
стремились отойти от приставской системы, хорошо знакомой чеченцам и
вызывавшей негативную реакцию со стороны местных жителей. При этом
российские администраторы пытались придать максимальную значимость
должности Начальника чеченского народа. Обсуждая вопрос о
чрезвычайных полномочиях И. А. Бартоломея, А. И. Барятинский даже внес
предложение о присвоении ему «звания воеводы». Однако эта идея не была
поддержана М. С. Воронцовым, так как учреждение «воеводства» откосилось
к компетенции императора, кроме того, учреждаемые в Чечне органы
власти рассматривались наместником как «временные».285
Особые полномочия И. А. Бартоломея нашли отражение в «Положении
о чеченском народе». В нем «Начальник чеченского народа» назначался
«главным помощником» начальника Левого фланга Кавказской линии.286
«Положение о чеченском народе» упраздняло «приставства над
чеченцами» и «устанавливало округи»,287 во главе которых стоял «начальник»
И. А. Бартоломей. Что касается структуры Главного управления Чечней,
то оно состояло из начальника, двух помощников, старшего адъютанта
«для занятий по письменным делам чеченского управления» и двух
переводчиков, один из которых переводил «письменно», другой -
«словесно».288 На должности «окружных старшин» назначались наиболее
влиятельные чеченцы, «коих» А. И. Барятинский рекомендовал «отличить
наибами»;289 заметно было, что российские власти использовали опыт,
накопленный Шамилем в деле управления горцами. По данным генерала
Н.Н. Муравьева, в Чечне было создано 5 наибств.290 Устанавливая
администрацию в чеченских селах, А. И. Барятинский учитывал особенности
организации общества - местная власть принадлежала тайповой знати.
257
Учрежденная российскими властями сельская (аульская) администрация
состояла из старшины, муллы, кадия и из «двух стариков». К
компетенции последних относились «дела» жителей аула, разбором которых они
занимались. В сельской администрации главной фигурой становился
старшина. «Ему беспрекословно» должны были подчиняться местные
жители, «через него» надлежало исполнять «все приказания
начальства».291 Аульские старшины, в свою очередь, подчинялись окружным
старшинам (наибам) - последние же Главному управлению чеченским
народом. Система подчиненности обуславливала порядок назначения на
должности. Начальник чеченского народа определялся командующим
Левым флангом Кавказской линии и утверждался наместником. Наибы
округов назначались Начальником чеченского народа и при согласовании
с наместником утверждались командующим Левым флангом. Примерно
такой же порядок вводился при назначении сельских старшин,292 от
деятельности которых зависела обстановка в Чечне. Из этой управленческой
цепи, создававшейся в Чечне, несколько выпадали чеченские аулы,
расположенные при российских крепостях. Они находились под
административной юрисдикцией «старших местных воинских начальников».293
В 1852 году в рамках общей реорганизации органов власти в Чечне
при Главном управлении был открыт Чеченский суд (Мэхкемэ Чачани). В
первые годы работы дела в суде разбирались по шариату. Во главе Мэхкемэ
Чачани стоял Начальник чеченского народа. Членами суда являлись кадий
и трое избранных обществом старшин («стариков»), получавших денежное
содержание от российской администрации. Судя по должностным окладам
(главный кадий получал в год 900 рублей, окружной наиб - 500 рублей), 294
деятельности кадия придавалось большое значение. «Три старика» -
представители от народа, участвовавшие в работе «Макхаме Чачани», в год
получали по 300 рублей.295 Как видно, в концепции, связанной с организацией
власти в Чечне, важное значение придавалось социальному авторитету
людей, привлекавшихся к управлению Чечней.
Концентрация власти (судебной и распорядительной) происходила на
уровне Начальника чеченского народа. В связи с этим несколько
ослабевала наибская и старшинская власть, рассматривавшая все вопросы на основе
шариата; решения наибов и старшин подлежали утверждению со стороны
Начальника чеченского народа. Отдельно оговаривалось условие, согласно
которому, если уголовное дело касалось не самих только чеченцев, но и
русского или русских, то дело рассматривалось по российским законам в
военном суде.296
258
Своими собственными полномочиями в Чечне обладал
командующий Левым флангом Кавказской линии. Он распоряжался
военнопленными, определял наказания по делам «следственным и военно-судным»,
решал вопросы ссылки в Россию и возвращения сосланных.297 Согласно
«Положению», «все резолюции» командующего Левого фланга,
касавшиеся Чечни, «скреплялись» резолюциями Начальника чеченского народа.
А. И. Барятинский учитывал трудности организации власти в Чечне и
видел их в эгалитарном состоянии чеченских обществ. Перспективу
создания эффективно действующей власти он связывал с ослаблением тайповых
отношений. Сложности административного устройства, встречавшиеся
и ранее в Чечне, А. И. Барятинский объяснял также тем, что на равнине
часть чеченского населения расселилась мелкими хуторами,
затруднявшими установление административного контроля над местными
жителями. Он отмечал, что «родичи всегда водворялись вместе, старшины были
семейными начальниками, общая порука законом, и все происходившее
в роде, а, следовательно, и в целом племени, оставалось тайною для
русской власти».298 А. И. Барятинский подчеркивал деление чеченцев на тай-
пы, «иногда весьма многочисленные», члены которых связаны взаимной
ответственностью и порукой.299 Вместе с тем он был убежден, что новое
управление, вводимое им в Чечне, «истекает из обычаев» самих чеченцев.
Исходя из этого, Чечня с ее административным управлением
представлялась А. И. Барятинскому как единая и самостоятельная область,
требовавшая особого учета местных условий.
Административные шаги российского командования в Чечне,
провоцировавшие переселенческое движение из имамата на российскую
территорию, не остались незамеченными со стороны Шамиля. Ответом на
действия командования явилось назначение Шамилем главой Чечни своего
наиба - Талгика, отличавшегося особой жестокостью и преданностью имаму.
Главная задача, ставившаяся имамом перед главой Чечни Талгиком, состояла
в том, чтобы ужесточить контроль над чеченскими обществами, не допустить
их сближения с российским командованием и приостановить
переселенческое движение из имамата. Административные меры, направленные на
решение этой задачи, не ограничились учреждением должности главы Чечни.
Одновременно предпринимались политические действия, преследовавшие
укрепление наибского звена имамской администрации. Еще в 1847-1848
годах Шамиль произвел в Чечне смену наибов. Тогда уже он заметил
неустойчивость политической обстановки в чеченских обществах. Это заставило
его возобновить более раннюю практику назначения наибов, когда наряду с
259
чеченскими лидерами на должности наибов выдвигались также мюриды из
Дагестана. Желая заручиться преданностью последних, Шамиль, отвечая на
вызов А. И. Барятинского, приступившего к административному
обустройству Чечни, новым наибам предоставил больше властных полномочий,
заодно закрыв глаза на их злоупотребления.300 Н. А. Волконский отмечал, что
обновленный состав наибов, в особенности нечеченского происхождения,
жил в Чечне «зажиточно», «имели обширное хозяйство, хутора, иногда
целые аулы, населенные их батраками».301 Этот же автор указывал на то, что
новые наибы не только «обирали народ безнаказанно и немилосердно», но и
нередко «надували, когда им было угодно, самого имама».302
С помощью воинских отрядов, которыми располагали наибы Шамиля,
удалось приостановить переселение из имамата чеченцев. Это, а также
неверие в мирный переселенческий план, вынашивавшийся М. С. Воронцовым
и его советником Бота Хамурзовым, явились мотивами, послужившими
основанием для А. И. Барятинского предпринять летом 1852 года в глубь
Большой Чечни очередную карательную экспедицию.303 Жестокое
поражение в лесах Чечни304 А. И. Барятинского заставило наместника покинуть
Тифлис и прибыть на Северный Кавказ. М. С. Воронцову удалось
провести переговоры с отдельными представителями чеченских обществ по
поводу переселения их на равнину, на подконтрольную российским властям
территорию. Самоуверенность, которую демонстрировал наместник на
переговорах, имела немалое значение для возобновления в имамате
переселенческого движения. По свидетельству Д. И. Романовского, вскоре
произошло «чрезвычайное увеличение» чеченских «мирных аулов»,
покинувших государство Шамиля и поселившихся на окраине крепости Грозной,
в местности Истису и у подножия Качкалыкского хребта.305 По сведениям
М. Я. Ольшевского, в короткое время число чеченских переселенцев
составило «480 душ обоего пола».306
В связи с новым витком переселенческого движения А. И. Барятинский,
желая поддержать его среди чеченцев, все еще не знавших об условиях
переселения на равнину, разработал «Правила об управлении чеченским
народом».307 Они затрагивали интересы как чеченцев, которым предстояло
покинуть имамат и поселиться на равнине, так и тех, кто по разным причинам
был вынужден выехать из Чечни. В «Правилах» прежде всего определялись
имущественные права, возвращавшихся в Чечню беженцев. Срок
давности, при котором сохранялись права на землю, на движимое и недвижимое
имущество, ранее принадлежавшее «беженцу», устанавливался 8 лет.308 По
истечении этого срока, если ранее не подавался российским властям иск,
260
«того просьба» отклонялась и расследование «по сему предмету» «не
производилось».309 Исключение из этого правила допускалось для
«малолетних сирот». Право «искать свое имущество» они сохраняли до достижения
совершеннолетия, «то есть 15-летнего возраста». Своеобразную
реабилитацию получали чеченцы, ранее «сосланные в Россию и отданные в
солдаты и арестантские роты». «По возвращении на родину» они в
восьмилетний срок получали право на возврат имущества.310 Отдельно оговаривался
пункт, согласно которому вышедшие из имамата Шамиля «холопы и люди
подвластные», добивавшиеся своего освобождения, получали в качестве
привилегии право на бессрочный возврат имущества. Ограничения сроком
в восемь лет на возвращение земли и другого имущества имела основная
масса чеченского населения, оказавшаяся в составе имамата. Объяснялось
это стремлением российских властей ускорить темпы переселенческого
движения из государства Шамиля. С этой же целью российская военная
администрация на Кавказе ужесточила правила, запрещавшие торговлю с
«непокорными» чеченцами, т.е. с теми, кто продолжал находиться в
имамате. Если же «кто из покорных нарушал это предписание и был «уличен
в торговле и передаче товаров непокорным», он подвергался аресту «для
отсылки в арестантские роты».311 При этом задержанные товары
подлежали конфискации.
Блокадные задачи в отношении жителей имамата решали пункты
правил, направленные против набегов, предпринимавшихся отрядами
чеченцев. «Покорным аульным жителям предоставлялся» в распоряжение весь
скот, который они сумеют отбить у «непокорных» чеченцев. Кроме того,
«за поимку» «непокорного», к тому же совершавшего набеги, полагалось
вознаграждение - оружие, лошадь и 20 руб. серебром. За одно только «пе-
редержательство» виновный ссылался в Сибирь, а имущество его
доставалось тому, кто доносил российским властям о верноподданности имаму.312
Наряду со строгостями для «непокорных» объявлялись также
«преимущества к улучшению благосостояния» покорных чеченцев. К ним относились
предоставленные «за установленную казною цену» права перевозки
провианта «в магазины» Левого фланга Кавказской линии; при постройке в
Большой Чечне российских крепостей «только чеченцы» допускались «к
поставке стройматериалов»; они имели «исключительное» «право
заготовлять» для российских войск «сено по установленной цене».313
Как и организация административной системы, «Правила об
управлении чеченским народом» существенно повлияли на обстановку в Чечне.
На глазах чеченцев, испытывавших хозяйственные трудности и произвол
261
имамских наибов, российским командованием создавалось нечто
стабильное, обещавшее восстановление мирных основ жизни. К тому же «Правила»
не только открывали перспективы возвращения к созидательной
деятельности, но и ультимативно ставили вопрос о выходе Чечни из состава
имамата и переселении чеченцев на равнину. В новом 1853 году переселение
с гор, т.е. с территории государства Шамиля, начинало приобретать
массовый характер. Важно отметить, возвращение на равнину происходило под
строгим военно-административным контролем командования, не всегда
считавшегося с желанием переселенцев занять места, ранее ими
покинутые. А. И. Барятинский придерживался идеи создания крупных населенных
пунктов, считая их более удобными для реализации своих
административных планов. Учитывалось и другое, не менее важное - создание крупных
населенных пунктов на равнине вело к «размыванию» тайповых
отношений; новые поселения чеченцев состояли «от нескольких сот и до тысячи»
домов.314 В чеченском обществе вместо тайпа усиливалась сельская
община. Столь важная перемена в общественной жизни была также связана с
самой Кавказской войной, приводившей к укреплению в Чечне тукхумных
отношений. Нельзя не обратить внимание, что именно этот процесс был
хорошо подмечен А. И. Барятинским - будущим кавказским наместником,
автором военно-народной системы управления. Позже в представленном
им за 1857-1859 гг. отчете он подчеркнул: «Теперь, когда роды (тайпы -
3. Б.) разбиты по селениям, старшина стал из домашнего (родового - 3. Б.)
общественным начальником; собственный род, поддерживая его, тем самым
поддерживает в его лице официальную власть, а соперничество между
родами раскрывает все их тайны».315 Происходившие в Чечне перемены
между тем не являлись кардинальными. Изменения, наблюдавшиеся на уровне
упрочения тукхумной общественной структуры, не вели к надлому эгали-
тарности чеченского общества. Кроме того, идея ослабления тайпа
способствовала решению главной задачи - установлению российского управления.
При этом ряд мер, проведенных А. И. Барятинским с целью упрочения в
Чечне российской власти, фактически способствовал укреплению тайповых
отношений. Так, создав в Чечне суд, командующий Левым флангом,
допускал применение в нем и шариата «на первых порах». Вскоре, однако, по
политическим мотивам (борьба с мюридизмом) А. И. Барятинский запретил
использование шариатских норм права и вместо него обязывал вести дела по
российским законам и адату.316 В данном случае возвращение к адату - к
нормам права родовой организации общества вело к усилению тайповых устоев,
но не к их ослаблению. На восстановление в практике суда адатного пра-
262
ва, запрещенного в государстве Шамиля, адекватно отреагировала тайповая
Чечня, все еще находившаяся в условиях родового общества. В 1859 году,
после семилетней деятельности Чеченского суда, А. И. Барятинский
свидетельствовал, что мехкемэ в Чечне внушило такое доверие населению, что при
всей замкнутости жизни чеченцев «женщины приходят из отдаленных мест
жаловаться по своим домашним делам без всякого принуждения; адат взял
уже в этом суде полный перевес над шариатом».317 То, о чем писал по поводу
мехкемэ наместник в своем отчете, отмечал также Д. И. Романовский. По
оценке последнего, суд в Чечне «сделался уважительным» учреждением
чеченцев настолько, что «молва о нем» распространилась «в других соседних
горских обществах».318 Бесспорно, что после восемнадцатилетнего
пребывания Чечни в составе имамата, где она, не поспевая за социальными
процессами, происходившими в государстве Шамиля, нередко оказывала упорное
сопротивление шариату, население с энтузиазмом воспринимало
возвращение к обычному праву - более демократичному и понятному, чем шариат.
Необходимо иметь в виду, что в чеченском мехкемэ применение адата было
достаточно широким, оно охватывало внутренний общественный уклад
чеченцев. Что касается российского законодательства, применяемого в суде, то
оно ограничивалось «Правилами об управлении чеченским народом».
В начале 1853 года А. И. Барятинским были составлены
«Дополнительные правила для управления чеченским народом».319 Как и ранее
составленные «Правила», «Дополнительные правила» являлись
нормативным документом; Чеченскому суду наряду с адатом предлагалось
использование его при рассмотрении дел.
«Дополнительные правила» были направлены в основном на борьбу с
набеговой системой, составлявшей в чеченском обществе часть
хозяйственной деятельности и приносившей немало забот кавказской администрации.
Они определяли меру ответственности жителей аулов и старшин «за следы
хищников», запрещали работорговлю, пленение людей, похищение и
порабощение свободных людей. Так, жители чеченских аулов подвергались
штрафу, если похитители прогоняли угнанных лошадей и скот мимо их аула
днем в одной версте от жилищ. Величина штрафа составляла за похищенную
лошадь 20 рублей, за крупный рогатый скот - 10 рублей, за барана- 2 рубля.
Если следы угнанного скота приводили в селение, то его жители
обязывались или выдать виновных, или уплатить «уворованное по стоимости».320
Особая роль в «Дополнительных правилах» отводилась старшинам.
Последние, с одной стороны, отвечали по всей строгости «за следы
хищников», совершивших кражу и «другие преступления», с другой - их слово
263
являлось решающим в признании аула виновным. Они обязаны были
осмотреть местность вместе с военной командой, преследовавшей похитителей,
и засвидетельствовать наличие улик. Подобные действия возможны были
только в течение первых суток после кражи; более позднее
«засвидетельствование следов» делало невозможным удовлетворение иска. В случае,
если старшины не признавали предъявленные аулу обвинения, воинским
командам предписывалось «выслушивать их объяснения» и «доводить до
сведения начальства».321 Эти же правила действовали и в случаях, когда
преследователями похитителей оказывались не российские военные или
казаки, а сами чеченцы.
Специальные пункты «Дополнительных правил» посвящались
похищению людей и работорговле. Например, согласно параграфам «13» и
«16» считалось, что, если «кто-нибудь из покорных чеченцев свободного
состояния отыщет своего родственника, проданного в холопы, местное
начальство обязано было тотчас отобрать показания у найденного,
навести справку: в какое время, из какого места и кем выкраден он и за какую
сумму и кем продан».322 Следующими действиями «местного начальства»
являлось немедленное освобождение пленника (раба) и возвращение его
родственникам без всякой компенсации хозяину-покупателю; на продавца
же налагался денежный штраф - по 10 рублей серебром за каждый год
плена (рабства). Российская администрация снимала с себя ответственность
за похищение или продажу в рабство людей, «украденных из гор, когда
они были непокорны».323 В этом случае семья сама должна была выкупать
пленника у его владельца; властям же предписывалось наблюдать за тем,
чтобы сумма уплаты была равнозначна цене, уплаченной в свое время
владельцем при покупке пленника-холопа.324
В 1854 году установленные командованием для чеченцев «Правила
об управлении чеченским народом» и «Дополнительные правила» были
распространены как на горцев Левого фланга Кавказской линии, так и на
Центр, Владикавказский округ и местных жителей Правого фланга.
Система управления Чечней, получившая название
«военно-народной», сохранялась здесь около двадцати лет, до введения общего
гражданского управления на территории Терской области в начале 1871 года.
А. И. Барятинский, как и М. С. Воронцов, был уверен, что военно-народное
управление - самая удачная форма административного устройства для
горцев. Не случайно в 1856 году, заняв должность наместника Кавказа, он,
учреждая для всех горских народов военно-народное управление, в
качестве образца изберет административную систему, разработанную им для
264
Чечни и утвержденную М.С. Воронцовым. Однако в начале 50-х годов
система управления чеченцами, разработанная А. И. Барятинским,
рассматривалась в Петербурге как «временная, краткосрочная мера». Российское
правительство имело свое собственное видение вопроса о дальнейшем
административном развитии чеченских обществ. Так, в 1852 году
военный министр В. А. Долгоруков сообщал главнокомандующему на
Кавказе М. С. Воронцову секретное указание Николая I «об окончательном
устройстве покорных чеченцев». По мысли императора, наиболее
целесообразной формой административного развития Чечни являлось слияние
чеченцев с казачьим населением. Для достижения этой цели Николай I
предлагал М. С. Воронцову «исподволь и постепенно вводить их
(чеченцев - 3. Б.) в круг обязанностей казаков», привлекать к военным
действиям «особыми командами при казачьих полках, соблюдая благоразумную
осторожность и не оскорбляя обычаев их». Николай I даже делал прогнозы
возможного причисления аулов Малой Чечни к восьмой казачьей бригаде;
что касается Большой Чечни, то ее причисление «к бригадному округу», -
считал он, - «укажет дальнейший ход дел». Примерно такой же императору
виделась перспектива «обустройства» других горских народов, живших по
соседству с Кавказской линией.
Трудно сказать, что в дальнейшем помешало осуществлению планов
императора. Возможно, препятствием стала его скорая смерть и
вступление на престол Александра II, иначе, чем его предшественник,
представлявшего будущее не только Кавказа, но и всей России. Несомненно,
сказалась также изменившаяся с окончанием Кавказской войны
военно-политическая ситуация на Кавказе, лишившая смысла слияние горского населения
с казачеством. Не последнюю роль, по-видимому, сыграло и другое -
позиция кавказских властей, имевших свое особое мнение об
административном развитии Чечни.
§3. УПРАВЛЕНИЕ ОСЕТИЕЙ И ИНГУШЕТИЕЙ (КОНЕЦ XVIII - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)
Процесс установления административной системы царизма в Осетии
и Ингушетии, в особенности ее начальный этап, тесно связан с
переселением осетин и ингушей на равнинные земли.
Первыми, кого коснулось административное устройство, оказались
осетины, поселившиеся вблизи Моздока и в самой крепости во второй
265
половине XVIII века. В 1764 году кизлярский комендант генерал-майор
Потапов докладывал в Коллегию иностранных дел об осетинах-дигорцах
(до 4 тысяч человек), переселившихся «из гор в низкие места при урочище
Моздок».325 Уже при составлении проекта крепости Моздок в центральных
государственных учреждениях России решался вопрос о характере
управления переселенцами. Наиболее разумным Коллегия иностранных дел
признала тогда «дозволить» горским переселенцам пользоваться
«казачьими вольностями»; при этом имелось в виду дальнейшее постепенное их
слияние в управлении с казачьим населением Северного Кавказа и
привлечение горских переселенцев к военной службе.326
С учреждением в Моздоке комендантского управления все моздокские
осетины были причислены к ведению коменданта крепости. Позже, в конце
XVIII века, после открытия в Моздоке Верхнего пограничного суда, здесь
стали разбираться тяжбы и уголовные преступления нерусского населения
Моздока и его окрестностей, в том числе и осетин. Известны также случаи,
когда к услугам моздокского коменданта и Верхнего пограничного суда
прибегали жители горной Осетии.327
Большое значение для России в деле подчинения Центрального
Кавказа имело строительство у входа в Дарьяльское ущелье новой
крепости: «6 мая 1784 года, после торжественного молебствия с водоосвеще-
нием, при громе русских пушек, заложено было... укрепление, названное
Владикавказом».328 Близкое ее расположение к землям, занимаемым
осетинами и ингушами, определило дальнейшую судьбу крепости и
сделало Владикавказ, по меткому выражению генерал-майора Ф.О. Паулуччи,
«столицей» для этих горских народов.329 Основание крепости дало
возможность царскому правительству установить общий надзор за Осетией и
Ингушетией, он поручался владикавказскому коменданту.
Этому способствовало переселение осетин и ингушей из гор в
район Владикавказа - на Владикавказскую равнину. Прошения,
подаваемые осетинскими и ингушскими старшинами кавказским властям о
переселении на равнину, почти всегда содержали просьбу прислать к
ним, на их новое местожительство, «власть имущего человека»
(офицера) с казачьей командой для охраны от «воровских нападений» со
стороны Кабарды и Чечни. Такие военные отряды находились, например,
в ингушских селах, расположенных по Сунже,330 и в осетинских селах
Караджаево,331 Джанхотов-Ларс, Иналово и др.332 В официальных
документах командиры команд иногда именовались кавказскими
администраторами приставами.
266
Переселение горцев на равнинные земли и довольно часто
возникавшие в связи с захватом земель при переселении «по праву первопоселения»
земельные конфликты, регулированием которых занимались царские
власти, также вели к усилению влияния России в Осетии и Ингушетии.
В конце XVIII - начале XIX вв. в горной местности, главным образом
в Тагаурском ущелье, надзор за местными жителями осуществляли
командиры небольших укреплений (редутов), расположенных вдоль Военно-
Грузинской дороги. Так, в «обвещении» графа И. В. Гудовича «тагаурским
старшинам и народу» (14 декабря 1807 года) главноуправляющий, обещая
принять меры против злоупотреблений командира Ларского укрепления
майора Гринева, просил жителей ущелья по-прежнему обращаться со
своими просьбами к властям через майора Гринева.333
Иногда, желая привлечь на сторону России представителей горской
феодальной верхушки, администрация поручала обязанности посредника
между горцами и собой кому-нибудь из «внушающих доверие»
правительству осетинских феодалов. В 1808 году таким посредником, в частности,
был тагаурский владелец Дударуко, к которому «во всех надобностях своих
относились тагаурцы».334
Административный контроль в Южной Осетии, отделенной от
остальной ее части Главным Кавказским хребтом, долгое время оставался
невозможным из-за ее географического расположения и труднодоступное™
югоосетинских горных ущелий. Освоение юга Осетии началось только
после присоединения к России Карталино-Кахетии, с территории которой
проход российских войск в ущелья значительно облегчался. В 1801 году
правительство Александра I объявило о перенесении границ империи в
Закавказье и приступило к учреждению нового управления на
приобретенных землях. Образовав из Карталинской и Кахетинской провинций
Грузинскую губернию, царские власти приняли решение о включении в
ее состав «закавказской» Осетии.335 Осетинские села вошли в четыре уезда
Грузинской губернии: Горийский, Дорийский, Душетский и Сигнахский.
Административно-судебные преобразования предполагалось проводить
«тихими шагами».336 В гражданском судопроизводстве Петербург
рекомендовал К. Ф. Кноррингу «по примеру Кабарды» придерживаться в Грузии
местного, привычного народу законодательства, а уголовные преступления
судить по общероссийским военным законам.337 Тогда же, в 1802 году, в
отдельных югоосетинских селах были открыты судебные органы. Их
организация напрямую связана с военной экспедицией во главе с
подполковником Симоновичем, направленной в Южную Осетию, чтобы пресечь по-
267
пытки грузинских царевичей втянуть ее жителей в антироссийскую
борьбу. Пытаясь достичь поставленной цели мирными средствами, Симонович
стремился избежать вооруженных конфликтов с населением. Для этого он
привлек к переговорам известного общественного деятеля Осетии Ивана
Ялгузидзе (Габараева) и осетинских старшин. В результате большинство
осетинских сел приняли присягу на верность России. Александр I, лично
следивший за экспедицией Симоновича в Южной Осетии, был доволен ее
мирным исходом.338 В феврале-марте 1802 года, желая подкрепить
достигнутые успехи мероприятиями судебно-административного характера,
подполковник Симонович учредил суды в селах Джава, Кешельта и Ванати.
Судьями в них стали грузинские князья и избранные народом осетинские
старшины. К ведению судов относились лишь гражданские споры сельчан,
уголовные преступления, как и на всем Кавказе, подлежали военному суду.
Не вникая во внутреннюю жизнь осетинских обществ, Симонович
установил в осетинских судах грузинское гражданское законодательство, а
вышестоящей инстанцией назначил Горийский гражданский суд.339
Итак, в конце XVIII - начале XIX вв. российскому управленческому
аппарату подчинялись в основном моздокские осетины; под постоянным
контролем царской администрации находилось ингушское и осетинское
население новых сел, построенных на Владикавказской равнине и вдоль
реки Сунжи, и тагаурцы, через территорию которых проходила важная в
стратегическом отношении для России Военно-Грузинская дорога. Горные
районы северной части Осетии и Ингушетии, наравне с равнинными,
принадлежали общему ведению владикавказского коменданта. Южная Осетия
с 1801 года вошла в состав Грузинской губернии.
К административному преобразованию Осетии кавказские власти
приступили во втором десятилетии XIX века - в период активизации политики
России на Северном Кавказе.
В 1816 году правительство занялось «внутренним устройством»
осетин. В ноябре 1816 года по предложению главноуправляющего
Кавказом А. П. Ермолова в Осетии учреждалось волостное управление.
Волостные управы состояли из выборных «уважаемых народом
старшин». В их ведении находились вопросы, касавшиеся внутренней жизни
осетин. Выбранные обществом старшины разбирали ссоры между
односельчанами, делали раскладку повинностей, наблюдали за их исполнением.340
Установление в Осетии волостного управления не предполагало пока
активного вмешательства администрации во внутренние дела населения.
Однако эту самостоятельность А. П. Ермолов считал явлением времен-
268
ным. Он рассматривал волостное управление как начальный этап
полного административного подчинения Осетии. Учреждением такого
управления царское правительство преследовало следующие цели: «Доселе, -
писал А. П. Ермолов в предписании к командующему Кавказской линией
генерал-майору И. П. Дельпоцо, - не было между ними никакого
порядка, и они не разумеют необходимости власти; учреждение же волостного
правления нечувствительно к тому их приуготовит и обуздается частная
воля каждого».341
По плану А. П. Ермолова, во главе Осетии должен был находиться
«военный начальник» из царской администрации. Частые земельные
конфликты осетин-переселенцев с соседями (кабардинскими владельцами и
ингушскими старшинами), а также набеги, совершаемые последними на
новые осетинские села, во многом определили обязанности «военного
начальника». Он должен был заниматься вопросами, касавшимися
взаимоотношений Осетии с Кабардой, Ингушетией, Чечней и т.д. «Через него
должно было быть требуемо удовлетворение обид, наносимых окрестным
жителям».342 В ведении «военного начальника» находились не только дела
политического порядка, но и уголовные преступления. А. П. Ермолов
указывал по этому поводу: «Без него («военного начальника» - 3. Б.) и
самое гражданское правительство не может приступить к следствию даже по
делам уголовным». Вмешательство «военного начальника» во внутренние
дела Осетии допускалось лишь в тех случаях, когда решение осетинских
старшин затрагивало интересы царского правительства, «явно
противилось общему устройству».
Тогда же, в 1816 году, А. П. Ермолов выдвинул идею о привлечении
осетин к военной службе. Введение в Осетии воинской повинности
предполагалось провести в два этапа. Вначале, - предписывал А. П. Ермолов
генерал-майору Дельпоцо, - необходимо «приуготовить осетин самым
осторожным образом к тому».343 С этой целью - «приуготовления», по
мысли главноуправляющего, из осетин «следовало создать ополчение для
внутренней стражи, дабы испытать их способность». Затем «ополчение»
могло быть использовано для охраны российской военной кордонной
линии на Северном Кавказе.
В период управления А. П. Ермолова, в 1818 году, на Осетию и
Ингушетию были наложены дорожная и подводная повинности.344
Крестьяне обязывались предоставлять воинским частям подводы,
перевозить казенную амуницию, привлекались к ремонту и строительству дорог.
Размеры повинностей, однако, не были определены правительством, и это
269
создавало широкие возможности для эксплуатации местного населения.
Основная их тяжесть легла на население равнинных земель - жителей сел,
расположенных близ Военно-Грузинской дороги.345
Установление воинской, дорожной и подводной повинностей тесно
связано с активизацией политики России на Кавказе и с возросшим
стратегическим значением Военно-Грузинской дороги. Этими же обстоятельствами
объясняется и глубокая заинтересованность правительства в дальнейшем
выселении осетин из горных районов. Переселение разряжало обстановку
в горной полосе Осетии (в частности в Тагаурии), через которую проходили
пути военного назначения, и способствовало укреплению позиций России
в Осетии вообще.346 Главноуправляющий Кавказа А. П. Ермолов
справедливо указывал, что горцев легче подчинить военно-административной
власти на равнине, нежели в «их крепких местах».347
Царские власти, зная о дефиците земли в горной Осетии и учитывая
желание населения переселиться на плодородную равнину, в 1822 году
сами обратились к осетинам с предложением занять отведенные
администрацией под поселение территории. Владикавказский комендант Николай
Петрович Скварцов разработал специальный план, в соответствии с
которым должно было проходить переселение.348 По плану Н. П. Скварцова
переселенцам из Дигорского ущелья отводились земли «от хребтов гор
по речке Разбин, впадающей в Дур-Дур, и по левой стороне оной вниз до
хребта Татартупово», а также земли от устья Белой речки до реки Курпс.
Выходцы из Алагирского ущелья должны были занять территорию от
речки Курпс до реки Ардон; из Куртатинского ущелья - от реки Ардон до
реки Майрамадаг; тагаурцам предназначались земли от реки Майрамадаг
до Терека вниз и вверх по его течению до Владикавказа.349
Увеличение населения в равнинной Осетии привело к необходимости
административного преобразования этого района. В связи с этим А. П. Ермолов
в предписании (30 августа 1822 г.) генералу Карлу Федоровичу Сталю,
сменившему И. П. Дельпоцо на посту командующего Кавказской линией,
приказывал приложить «все старания» для устройства осетин, «выселяющихся
из гор», и до нового своего распоряжения поручал «осетин, выходящих из
Дигорского ущелья начальнику в Кабарде,350 а осетин из Алагирского
ущелья - владикавказскому коменданту».351 В ведении коменданта находились
тагаурские и куртатинские переселенцы, а также ингуши, подчинявшиеся
Н.П. Скварцову через «назрановского пристава».352
Следующим шагом, предпринятым кавказскими властями для
усиления административного влияния в Осетии и Ингушетии, явилось установ-
270
ление во Владикавказе для осетин и ингушей суда, находившегося в
ведении царских властей.
В 1828 году, параллельно с разработкой проекта Чеченского
народного суда, кавказские администраторы занимались составлением «правил»
будущего Владикавказского инородного суда. Моделью для него, как и для
Чеченского суда, послужил Временный кабардинский суд. Любопытно, что
оба проекта были отосланы генералом Г. А. Эмануелем в Грозный
командующему Левым флангом Кавказской линии В. Ф. Энгельгардту и во Владикавказ
коменданту Н. П. Скварцову в один и тот же день — 16 января 1828 года.
Идентичность проектов новых судебных учреждений, их
одновременная разработка и рассылка позволяют предположить, что в конце
третьего десятилетия XIX века правительство намеревалось провести на
Центральном Кавказе судебную реформу, в результате которой на всей его
территории для местных народов учреждались судебные органы,
подчиненные царской администрации.
Кавказская администрация, по-прежнему придерживавшаяся курса
выселения осетин из труднодоступных для российских войск гор на
плодородные равнинные земли, пыталась найти поддержку в проводимых ею
административных мероприятиях, прежде всего, в лице многочисленного
свободного крестьянства Осетии, более всего заинтересованного в
переселении. Такая политическая направленность действий правительства
нашла свое отражение в предписании Г. Л. Эмануелем коменданту крепости
Н. П. Скварцову об установлении во Владикавказе инородного суда. Сделав
приписку «секретно», командующий Кавказской линией так определил
цель существования будущего судебного учреждения: «Цель сего суда
должно быть вообще народное спокойствие и, в особенности,
приобретение доверенности и преданности простого народа посредством
наблюдения и строжайшего беспристрастия при разбирательстве дел оного с
владельцами или старшинами».353
Кроме того, командующий указывал Н.П. Скварцову на
необходимость пресечения спекуляции солью, покупаемой владельцами и
старшинами во Владикавказе в соляном магазине. «В отвращение сего, - писал
генерал-майор Г. А. Эмануель, - необходимо, во-первых, привести в
известность народонаселение - тагаурцев и прочих управляемых вами народов,
и, во-вторых, объявить черни, чтобы каждый имеющий надобность в соли,
явился сюда... для покупки оной».354
К предписанию об открытии суда прилагались установления,
касавшиеся его деятельности - «Правила, на которых должен существовать
271
Владикавказский суд, учреждаемый в крепости Владикавказ для
разбирательства дел Тагаурцов, Куртатинцов, Алагирцов и Назрановцов».355
Они полностью повторяли правила, составленные для Кабардинского
и Чеченского судов, поэтому нет необходимости в их перечислении.
Отметим лишь, что Владикавказский инородный суд предназначался для
разбора гражданских дел в соответствии с адатом, приспособленным «по-
колику важность случаев позволит к правам российским», и выполнял те
же административные функции, которые возлагались на Кабардинский и
Чеченский суды. Председателем Владикавказского суда мог быть только
владикавказский комендант или назначенный им российский офицер. По
рекомендации коменданта крепости Н.П. Скварцова председателем суда
стал плац-майор Курила.
Открытие Владикавказского инородного суда планировалось
провести после выборов судей и утверждения списка судей генерал-майором
Г. А. Эмануелем.
В состав суда должны были войти «почтеннейшие владельцы»,
представлявшие различные общества Осетии, и старшины от назрановских
ингушей: два владельца от тагаурцев, один - от куртатинцев, один - от ала-
гирцев и двое ингушских старшин. Членом суда являлся также кадий,
ведению которого принадлежали «духовные дела». В него могли быть
включены представители «низшего сословия» горцев - «народные депутаты». Их
участие в суде допускалось в случае разбора спорных дел.356
При формировании состава суда владикавказский комендант
столкнулся, однако, с рядом трудностей. Ингушские старшины отказались от
участия во Владикавказском суде. Они ссылались на различие адатных
норм осетин и ингушей и просили учредить для них в Назрани
«народный суд из избранных народом старшин». Контроль за
функционированием суда ингушские старшины предлагали поручить их приставу майору
Щелкачеву, находившемуся в подчинении коменданта Владикавказской
крепости.357 В случае же возникновения конфликтов между осетинами и
ингушами последние обещали прислать во Владикавказ для решения дела
двух членов из своего суда. Несмотря на то, что кавказская администрация
удовлетворила просьбу старшин и позволила Ингушетии не участвовать в
работе суда, в документации, касавшейся его открытия, по-прежнему
указывалось, что Владикавказский инородный суд предназначается не только
для осетин, но для «назрановцев».
В состав суда не был избран также кадий. В «правила»,
предназначенные для ведения дело- и судопроизводства в Осетии и Ингушетии, россий-
272
ские власти механически позаимствовали из «Наставления»,
составленного А. П. Ермоловым в 1822 году для Временного кабардинского суда, пункт
о предоставлении разбору по шариату кадием дел «до веры и совести
касающихся», и других, являющихся, по мнению администрации, делами
духовного характера. При этом правительство не учло ограниченную степень
проникновения ислама в Осетию в первой трети XIX в., его неразвитость.
Н. П. Скварцов по этому поводу докладывал Г. А. Эмануелю: «Для решения
во Владикавказском инородном суде для духовных дел кадий не избран по
не состоянию оного между народами тагаурским, куртатинским и алагир-
ским. Кроме состоящих между тагаурцами мулов, но оные неграмотные
и вовсе в таковых делах (т. е. в шариате - 3. Б.) не сведущие».358 В связи с
этим комендант крепости предлагал назначить во Владикавказский суд
кадия из Кабарды, который бы в случае необходимости «суждения духовного
дела» приглашался бы властями во Владикавказ.
Таким образом, в состав суда со стороны горского населения вошли
лишь осетинские феодалы. В списке, представленном на утверждение
командующему линией, перечислены следующие фамилии: Исмаил Худзаев
(куртатинец), Созоруко Калаев (алагирец), Хамурза Тулатов и Алхаст
Кундухов (тагаурцы). Срок их пребывания в числе членов суда
ограничивался до одного года. В апреле 1828 года, еще до открытия Владикавказского
суда, царская администрация подготовила замену избранным судьям. «А на
будущее время, - писал Н. П. Скварцов, - назначены из каждой фамилии
по два человека, которые обязаны через год по очереди поступать им на
смену».359
В июле 1828 годасостоялосьторжественноеоткрытиеВладикавказского
инородного суда. Чтобы придать особую значимость новому учреждению,
кавказские власти разработали специальный церемониал, в соответствии с
которым должно было пройти открытие. Тагаурцам, куртатинцам, алагир-
цам и жителям равнинной Осетии и Ингушетии было объявлено, что они
отныне могут обращаться со своими жалобами во Владикавказ в
инородный суд.
Однако в таком виде суд просуществовал недолго. В 1830 году на
территории Осетии и Ингушетии была установлена система приставства, а
Владикавказский инородный суд реорганизован в окружной.
Вопрос о необходимости назначения приставов к осетинам и
ингушам обсуждался в правительственных кругах уже в 1828 году. Сведения
об этом содержит официальная переписка между Г. А. Эмануелем и
Н.П. Скварцовым.360 При этом в 1828 году российские власти не планиро-
273
вали повсеместное учреждение в Осетии и Ингушетии приставства и
намеревались ограничиться назначением пристава в отдаленные от российских
крепостей ущелья Куртатинское и Алагирское.
В 1829 году окончание русско-турецкой войны и ожидавшееся в связи
с этим возвращение войск позволили царскому правительству приступить
к осуществлению плана полного и беспрекословного подчинения горцев
административно-политическому режиму российских властей. Мирное
утверждение здесь российской администрации правительство считало
пройденным этапом и желало сделать это с помощью военной силы,
которая, парализовав население, придаст большую прочность системе
управления горскими народами.361 По указанию императора, в 1829 году
главнокомандующий Кавказского края граф И. Ф. Паскевич разработал план
«покорения горцев» (см. II гл.§2). Он предлагал провести несколько военных
экспедиций: вначале осуществить экспедицию против лезгин и чеченцев в
восточной части Кавказа, затем направить экспедиции в Абхазию, Осетию,
Ингушетию, Кабарду и за р. Кубань362. Однако нараставшее мюридистское
движение в Дагестане и Чечне, волнения в Абхазии и среди закубанских
горцев, а также задерживавшееся возвращение войск с турецкого фронта
заставили царизм отказаться от больших экспедиционных маршей и
наметить серию мелких карательных экспедиций.363
В183 0 году две такие экспедиции, направленные в Осетию и Ингушетию,
должны были положить конец грабежам по дорогам, ведущим из Тифлиса
в Имеретию и во Владикавказ. Первая экспедиция во главе с Павлом
Яковлевичем Ренненкампфом отправлялась на южные склоны Главного
Кавказского хребта, против «осетин северной Карталинии», вторая,
возглавляемая генерал-майором Иваном Николаевичем Абхазовым, - против
тагаурцев, джерахов, кистов и галгаев.364 Фельдмаршал И.Ф. Паскевич-
Эриванский так определил их цель: «Приведение сих народов к должному
повиновению, учреждение между ними основания гражданского
порядка... и рассмотрение местных средств к обеспечению Военно-Грузинской
дороги».365
Военные действия в Южной Осетии начались 19 июня и продолжались
меньше месяца. Итогом экспедиции П. Я. Ренненкампфа стало установление
здесь института приставства. До 1830 года на территории юга Осетии,
формально находившейся в составе Горийского уезда Грузии, отсутствовали
органы управления, предназначенные специально для осетинских обществ. По
приказу И. Ф. Паскевича осетинские села выделялись из Горийского уезда
и образовывали «особое приставство».366 Учреждение жесткой военно-ад-
274
министративной системы, по мнению главноуправляющего, должно было
способствовать «усмирению жителей» и положить конец многочисленным
восстаниям, вспыхивавшим на юге Осетии в течение последних трех
десятилетий. «Особое приставство» разделялось на четыре моуравства367 - при-
ставства. В первое приставство вошли жители «Хвце, Дзивы, Джавского,
Кешельтского и других ущелий, расположенных вниз от сел. Джавы»368;
во второе - села Коштинского, Джамагского, Рокского, Згубирского,
Гвидинского, Чипранского, Тлийского и Герсевского ущелий; в третье -
население Магладолетского, Келиантского, Бритаульского, Кногского и
Малолиахвского ущелий до сел. Белоты; в четвертое - Джамурское
ущелье.369 Осетинскими приставами П. Я. Ренненкампф назначил грузинских
дворян, знавших осетинский язык - Заалу Бердзеева (Бердзенашвили),
князя Гогию Павленова, Лаурсобы Пурцеладзе и Элизара Тулаева.370 Несмотря
на то, что осетинские села были выведены из Горийского уезда и составили
отдельное приставство, все приставы, кроме Джамурского, находились в
административном ведении Горийского окружного начальника. Джамурского
пристава, Элизара Тулаева, кавказские власти сочли «более удобным»
подчинить Главному приставу (управляющему) горских народов, живущих по
Военно-Грузинской дороге, майору Чиляеву.371
Стараясь предотвратить восстания осетинских крестьян в будущем,
И. Ф. Паскевич решил ликвидировать главную их причину - феодальные
притязания грузинских князей Мачабели и Эристави. Всех жителей юга
Осетии главноуправляющий причислил к казенным крестьянам,
объявив, что осетины никогда не находились во владении этих помещиков
и что последние предъявили свои права на осетинские села уже после
утверждения российской власти в Грузии. Другим аргументом,
выдвинутым И. Ф. Паскевичем стал факт неподчинения осетинских крестьян
князьям Мачабели и Эристави на момент проведения карательных действий
И.Ф. Ренненкампфом.372 Отстаивая свою позицию, главноуправляющий
обратился к Николаю I с просьбой - «высочайшим повелением» пресечь
домогательства грузинских помещиков. «Удовлетворение их желаний, -
подчеркивал он, - возбудит бесчисленное множество подобных же
требований и правительство наше, кровью воинов и другими
пожертвованиями распространяя власть свою, не будет в состоянии приобрести
малейшего участка земли, без того, чтобы на оный не явилось претендателя».373
Император поддержал И. Ф. Паскевича. Многочисленные жалобы князей
Эристави сенаторам-ревизорам Е. И. Мечникову и П. И. Кутайсову, в
которых они описывали произвол военных чиновников, пользовавшихся, по их
275
словам, имуществом осетинских крестьян и взыскивавших с них оброк, ни
к чему не привели.
Вторая экспедиция, возглавляемая И. Н. Абхазовым и направленная в
ущелья северной части Осетии и Ингушетии, также завершилась
административными преобразованиями. В 1830 году здесь, как и в Южной Осетии,
учреждалась система приставства и, кроме того, Владикавказский
инородный суд реорганизовывался в окружной.
Для тагаурцев, куртатинцев и ингушей назначался общий пристав.
Его резиденцией стала крепость Владикавказ. По распоряжению князя
И.Н. Абхазова эту должность занял хорунжий Константинов.374 Царское
правительство широко привлекало к управленческой деятельности
социальные верхи Осетии. К приставу прикреплялись четыре помощника из
местных феодалов. Так, под контролем подпоручика Элъ-Мурзы Дударова
находилось население Куртатинского ущелья, прапорщик Сафук Тулатов
управлял тагаурцами, живущими в горах, Вара Тулатов - равнинными та-
гаурцами, ингуши — «джераховцы, кистинцы и галгаи» — поступили в
ведение осетинского владельца поручика Таусултана Дударова.375 Однако не вся
территория Северной Осетии и Ингушетии состояла в управлении
пристава Константинова и его помощников. Назрановские ингуши по-прежнему
оставались в подчинении своего пристава Щелкачева, а селами Алагирского
ущелья, расположенными в глубине горной Осетии далеко от российских
крепостей, управлял назначенный властями «управляющим» (приставом)
«старшина» Натеке Алдатов. Как и пристав Константинов, назрановский
и алагирский приставы состояли в ведении Владикавказского коменданта.
Приставам и помощникам пристава Константинова «для надлежащего
руководства их по должностям»376 были разосланы «наставления»,
определявшие обязанности приставов и помощников.
Одной из них являлись обязанности полицейского характера. Приставы
и помощники осуществляли строгий надзор за тем, чтобы «никто ничего
вредного не предпринимал», они же «принимали меры об исправлении и
уничтожении беспорядков», доносили в вышестоящие инстанции «об ос-
лушностях», вели следствие по уголовным делам.377
Пристав, кроме того, занимался на вверенной его надзору территории
расквартированием проходивших войск, отводил для войсковых лошадей
пастбища и сопровождал войска во время их передвижения до границы
своего управления, следил за исправностью дорог и мостов.
Сбор податей, наложенных после экспедиции И. Н. Абхазова на
население Осетии и Ингушетии, поручался также приставу и его помощникам
276
и накладывал на них ряд обязательств. Они занимались также сбором
информации «о произведениях земли, о сбыте произведений, о хозяйстве... с
показанием выгоды ежегодно от оного получаемых; о промыслах и других
доходах», о ценах на хлеб и другие продукты питания, о случаях пожара и
падежа скота и т.п. Подать, взимаемая в 1830 году с населения и
составлявшая «с дома» по одному барану, две курицы и восемь фунтов сыра, должна
была переводиться в деньги и расходоваться на жалованье чиновников, а
точнее, на содержание установленного здесь управленческого аппарата.
Подати, собираемые приставами и их помощниками в Тагаурском,
Куртатинском и Алагирском ущельях Осетии, а также в обществах
Ингушетии, и вся информация о жителях поступали во Владикавказский
окружной суд, которому они подчинялись.
Владикавказский окружной суд, как и ранее существовавший
инородный суд, призван был заниматься дело- и судопроизводством осетин и
ингушей и обладал административной властью.
При реорганизации Владикавказского инородного суда, практически не
приступившего к выполнению возложенных на него функций, в окружной
царская администрация в корне изменила судебное разбирательство. Если
раньше разбор дел осуществлялся согласно обычаям и традициям горских
народов, то теперь предписывалось «в производстве дел и решении оных
руководствоваться правилами и порядком, начертанными в Учреждении
о губерниях для уездных судов».378 Использование общероссийского
законодательства позволило рассматривать во Владикавказском суде не только
гражданские дела, но и уголовные преступления.
Применение в судопроизводстве общероссийских законов не могло не
привести к изменению состава суда. Участие в суде требовало специальной
подготовки и знания законодательства. Поэтому в соответствии «с
высочайше» утвержденным указом (1 апреля 1831 г.) «О штате Владикавказского
окружного суда» в его состав теперь входили: председателем -
владикавказский комендант, судьями - два гражданских чиновника, два «депутата
от народа» с совещательными голосами и секретарь суда.379 Как видим,
представители от местного населения Осетии и Ингушетии, обладавшие
лишь совещательными голосами, практически не участвовали в вынесении
приговора.
Так, впервые на Центральном Кавказе в судопроизводстве
гражданских дел горских народов были применены законы России.
Учреждение именно в Осетии и Ингушетии общероссийской
судопроизводственной системы, однако, не являлось закономерным актом,
277
обусловленным историческим и административным развитием этих
регионов. Причины, вызвавшие полное переустройство суда на «российский
манер», кроются, главным образом, в направленности
общественно-политических взглядов главноуправляющего Кавказом графа И. Ф. Паскевича-
Эриванского, в частности, в его отношении к административному
развитию всего Кавказского края. 24 апреля 1830 года в рапорте
императору И.Ф. Паскевич доносил: «Везде учреждения временные; странная
смесь российского образа правления с грузинским и мусульманским; нет
единства ни в формах управления, ни в законах, ни в финансовой
системе».380 Лучшим средством устранения указанных недостатков в
управлении И.Ф. Паскевич считал введение на всем Кавказе «российского образа
управления и законов». В результате такого переустройства, по мнению
фельдмаршала, «жители будут более сближаться с Россией» и «менее будут
отчуждены от прочих частей государства».381
И. Ф. Паскевич отрицательно относился и к системе военного
управления. В том же рапорте императору фельдмаршал писал, что теперь, «когда
победоносным оружием водворен мир и введению внутреннего
устройства не препятствуют беспокойства внешние,...лучшее время для
введения гражданского устройства».382 Все это нашло свое отражение главным
образом в системе судопроизводства Осетии и Ингушетии, установленной
после экспедиций 1830 года.
Итак, в начале 30-х годов XIX века в Осетии и Ингушетии
завершился процесс становления российских административно-судебных
учреждений. При этом особенностью административного развития Осетии стала
ее расчлененность и подчинение различным управленческим структурам.
Так, тагаурцы, куртатинцы, алагирцы и население равнинных сел
оказались в ведении Владикавказского коменданта, жители Дигорского ущелья
были объединены в одно управление с кабардинцами и управлялись
начальником Центра Кавказской линии, а осетины, населявшие южные скаты
Главного Кавказского хребта, вошли в состав Грузинской губернии. Такая
раздробленность в управлении Осетией объяснялась географической
обособленностью ее обществ друг от друга.
В 1834 году, с назначением на должность главноуправляющего барона
Г. В. Розена, на повестку дня вновь выносится вопрос об упразднении
гражданской администрации и установлении военного управления. Мотивируя
свое предложение, Г. В. Розен ссылался не только на трудность соотносить
гражданскую и военную администрацию, но и на расходы, связанные с их
содержанием.
278
Одним из первых учреждений, которых коснулись преобразования
Г. В. Розена, явился Владикавказский окружной суд. В 1836 году власти
сочли необходимым закрыть его как лишнюю административную
инстанцию. На протяжении шестилетнего существования суда здесь было
рассмотрено всего 18 дел, в том числе 12 уголовных.383 Аргументируя такое
течение дел, барон Г. В. Розен подчеркивал невозможность осуществления
судопроизводства среди горских народов по общероссийским законам; он
писал, что «умы горцев не приуготовлены для прочного между ними
гражданского устройства».384
С 1836 года в Северной Осетии и Ингушетии продолжала
существовать лишь система приставства. Все приставы теперь находились в
непосредственном подчинении коменданта Владикавказской крепости.
Гражданские тяжбы решались «на местах приставами и их помощниками
«сообразно понятиям и обычаям горцев»,385 уголовные преступления
осетин и ингушей передавались в военные суды.386
С назначением на Кавказ барона Г. В. Розена изменилась политика
российской администрации в Южной Осетии. Г. В. Розен, как и его
предшественники, признавая Осетию как целостную страну, был сторонником
поддержки феодальных притязаний грузинских тавадов на юго-осетинское
крестьянство. В 1837 году, пытаясь найти опору в грузинских феодальных
верхах, он вернул осетинские села во владение князьям Эристави.387 Ту же
политику в отношении грузинских помещиков на юге Осетии проводил и
преемник Г. В. Розена генерал Е. А. Головин.
В 1838 году Е.А. Головин, вступив в должность
главноуправляющего Кавказским краем, с особым вниманием изучил приставскую систему
в Южной Осетии. По мнению нового главноуправляющего, она требовала
некоторой реорганизации. 22 июля 1838 года Е.А. Головин направил
военному министру А. И. Чернышеву рапорт, в котором излагал концепцию
будущего административного устройства.388 При этом одним из главных в
документе являлся пункт о целесообразности замены приставов
грузинского происхождения на русских. О «неудобствах» системы управления,
введенной в Осетии И.Ф. Паскевичем, писал военному министру еще
Г. В. Розен. Тогда, как на «ощутительный недостаток», Г. В. Розен указывал
на отдаленность Южной Осетии от «главного местного начальства» и на
неисполнение приставами из грузинских князей и дворян, редко
посещавших осетинские села и «не пользовавшихся доверенностью населения»,389
своих обязанностей. С просьбой о замене грузинских приставов русскими
чиновниками обращались в Тифлис и жители юга Осетии, оказавшиеся под
279
двойным гнетом. Грузинские приставы, как и князья Мачабели и Эристави,
считали подведомственные им села Осетии собственными вотчинами и не
оставляли свои попытки обложить население податями. В рапорте
министру А. И. Чернышеву Е.А. Головин предлагал вывести осетинских
приставов из ведения горийского окружного начальника и земского суда и,
учредив новую должность главного пристава, подчинить приставов ему.
Вышестоящей инстанцией для главного пристава объявлялось грузинское
губернское начальство.
В 1838 году главным приставом юга Осетии был назначен
капитан Васильев. Его резиденцией стало одно из осетинских сел. Как
прежде окружному начальнику, капитану Васильеву подчинялись три
частных пристава, четвертый - Джамурский пристав - оставался в ведении
Управляющего горскими народами по Военно-Грузинской дороге.390
В 1841 году в ходе реформы, проводимой сенатором П. В. Ганом, Южная
Осетия вновь вошла в состав Горийского уезда Грузино-Имеретинской
губернии.391 В соответствии с «Положением», разработанным П. В. Ганом, в
осетинских ущельях учреждались участковые заседатели, а
административным органам Осетии, как и всего Закавказского края, предписывалось
руководствоваться общими законами империи, с необходимыми «по
местным обстоятельствам изменениями и дополнениями».392 Эффект от новой
административной политики не заставил себя ждать. При первой попытке
участкового заседателя князя Джавахова арестовать за проступок одного из
жителей Нарского ущелья чиновник с угрозами был изгнан и долгое время
не решался приезжать к нарцам.393
В 1840-1841 гг. Южную Осетию вновь охватили крестьянские волнения.
В высших российских и кавказских органах власти основную вину за
происшедшее возлагали на главного пристава майора Васильева и участкового
заседателя Джавахова. По распоряжению военного министра А. И. Чернышева
они отстранялись от службы; кроме того, назначалось расследование
«поступков означенных лиц».394 Результаты комиссии, занимавшейся изучением
деятельности главного пристава и участкового заседателя, а также общий
провал в Закавказье реформы П. В. Гана убедили А. И. Чернышева в том, что
причиной недовольства жителей Осетии стали не только действия
чиновников, но и установленная здесь система управления. В 1842 году, прибыв на
Кавказ и лично ознакомившись с ситуацией, сложившейся в военном и
административно-гражданском отношении в Закавказском крае, А. И. Чернышев
отдал приказ отделить всех закавказских горцев, в том числе и осетин, от
уездного управления и образовать для них особые военные округа.395
280
С 1844 года на юге Осетии вводилось военно-окружное устройство. Ее
территория и участки, прилегавшие к Военно-Грузинской дороге в составе
Грузино-Имеретинской губернии, образовывали два округа: Осетинский и
Горский. Обязанности и пределы власти окружных начальников
определялись в общих чертах специальной инструкцией.396 Начальнику Горского
округа присваивалось звание Начальника горских народов с подчинением
ему начальника Осетинского округа. Округи делились на участки, их
возглавляли помощники окружных начальников.
В 1843-1845 гг. военно-окружная система была учреждена в Северной
Осетии и в Ингушетии.397 Ее окончательное оформление здесь относится
к 1845 году, когда указом от 25 июня из части Центра Кавказской линии
и Владикавказского комендантства образовался Владикавказский военный
округ.398 Начальником округа Е.А. Головин назначил бывшего
владикавказского коменданта генерал-майора П. П. Нестерова. Начальнику округа
подчинялись четыре приставства: 1) приставство горских народов; 2) при-
ставство алагирского и куртатинского народов; 3) назрановское
приставство и 4) начальник Верхне-Сунженской линии.399 Пристав горских народов
управлял осетинами - тагаурцами и ингушами - джерахами, цоринцами,
кистинцами, малхинцами и галгаевцами. К алагирскому и куртатинско-
му приставству относились жители Осетии, населявшие Алагирское и
Куртатинское ущелья. Назрановское приставство составили ингуши - на-
зрановцы, к приставству при управлении начальника Верхне-Сунженской
линии принадлежали ингуши - галашевцы.400
В 1843 году в ходе формирования Владикавказского округа и
реорганизации Центра Кавказской линии Дигорское ущелье (дигорское
приставство) на короткий срок было объединено в одно управление с остальной
частью Северной Осетии. Однако в 1845 году в связи с новыми
преобразованиями на Кавказской линии дигорское приставство вновь передали в
ведение начальника Центра Кавказской линии, занимавшегося вопросами
Кабарды и Балкарии.
В начале 40-х годов XIX в. российские власти на Кавказе в своей
деятельности не ограничивались поисками путей дальнейшего развития
управленческого механизма. Серьезное значение кавказская администрация
придавала процессу реализации общей программы по сбору сведений «об адате
или суде по обычаям кавказских горцев»401 и созданию письменных
сборников адатов. К этому времени нормы обычного права признавались
властями главным способом осуществления судопроизводства среди горских
народов. В связи с этим командующий Кавказской линией генерал-лейтенант
281
И. А. Гурко поручил генерал-майору П. П. Нестерову, поручику Магомету
Дударову и прапорщику Есенову организовать сбор адатов осетин во всех
обществах Осетии. Первые тетради с записями адатов осетин, составленные
капитаном Норденстренгом, были представлены командующему линией 31
марта 1844 года. К концу 40-х годов работа по сбору информации о нормах
обычного права тагаурского, куртатинского, алагирского и дигорского402
обществ завершилась. К 1849 году были записаны также адаты ингушей дже-
раховского общества, назрановцев, кистин, галгаев.403 Успешное
выполнение программы по изучению и сбору судебных норм горцев и учреждение
окружного управления вызвали реорганизацию органов судопроизводства в
Осетии и Ингушетии. В 1847 году для горских народов, входивших в округ,
во Владикавказе восстанавливался суд для разбора дел осетин и ингушей.
Владикавказскому народному суду предписывалось осуществлять
судопроизводство в соответствии с нормами обычного права горцев.404
Кавказские власти приняли также решение учредить судебные органы в
Дигорском обществе Осетии. 11 мая 1847 года в дигорском приставстве по
инициативе начальника Центра Кавказской линии генерал-майора Хлюпина
и «по беспрестанным жалобам дигорских старшин»405 был открыт Дигорский
народный суд. Установив суд самостоятельно, без одобрения начальства,
генерал-майор Хлюпин обратился к командующему войсками Кавказской
линии Н. С. Завадовскому с просьбой поддержать принятое им решение и
ходатайствовать перед наместником Кавказским об учреждении Дигорского суда.
Объясняя свои действия, генерал-майор Хлюпин ссылался на неспособность
дигорского пристава единолично разбирать огромный поток жалоб
«дигорских старшин на подвластных и сих последних на старшин»406 и на
неисполнение старшинами судебных решений пристава. Заручившись поддержкой
Н. С. Завадовского, а позже и М. С. Воронцова, начальник Центра Кавказской
линии поручил организацию работы суда и контроль за ним начальнику линии
Военно-Грузинской дороги полковнику Михаилу Сергеевичу Ильинскому. В
состав Дигорского суда вошли выборные старшины и депутаты «от черного
народа». Старшин в суде представляли штабс-капитан Ислам Каражаев,
подпоручик Каламурза Туганов, Дударуко Кубатиев и Асламурза Абисалов,
депутатов «от черного народа» - фарсагааги - Гивис Цаголов, Дзиды Зокоев,
Гивис Камболов и Тотрыко Айдаров. На судей возлагалось разбирательство и
решение тяжб между «всеми классами дигорцев - старшинами, фарсагаагами,
тумами и холопьями»407 и выдача билетов (паспортов) жителям для
свободного проезда на Кавказскую линию. В правилах, составленных для Дигорского
суда, содержался перечень возможных судебных дел: «споры, обиды, пре-
282
тензии, воровство скота, лошадей и прочего, обманы и ложные поступки со
вредом другому, захваты чужого с насилием, ссоры и драки без обнажения
оружия, оскорбления старшинам, фарсаглагам и тумам от холопьев,
превышающие меру домашнего исправления или между первых один другому».408 В
своей работе суд должен был руководствоваться адатом дигорцев независимо
от того, являются ли обе стороны местными жителями или же одна из них
представлена «инородным» лицом. В разряд «инородных» попадали
представители горских народов, в том числе и осетины, не проживавшие в дигорском
приставстве. Дела казаков и русских с дигорцами подлежали разбирательству
российской администрации по российскому законодательству. Посредником
между истцом и ответчиком в этом случае выступал пристав.
Из ведения Дигорского суда извлекались также уголовные
преступления: «а) убийство; б) измена; в) возмущение в народе; г) набеги, нападения
и хищничества на границе линии, обнажение оружия в ссорах с
причинением ран».409 Они находились в юрисдикции военных судов и судились по
общероссийским законам.
Кавказская администрация установила для суда письменное
делопроизводство. Предполагалось, что каждое решение суда, жалобы и ход дел
будут записываться в книгу на арабском, турецком или русском языках и
подтверждаться печатью и подписями членов суда. Исполнение именно
этого пункта правил вызвало у судей серьезные затруднения. 8 октября
1847 года дигорские старшины докладывали новому начальнику Центра
Кавказской линии полковнику Николаю Степановичу Беклемишеву
(весной 1847 года генерал Хлюпин умер от холеры), что направленный для
управления дигорским народом войсковой старшина Гайтов, нуждается в
помощнике, знающем «русскую грамоту», и что письменные дела,
принятые Гайтовым от его предшественника хорунжего Романова и требующие
исполнения, а также поступающие от администрации письменные
указания, лежат «без должного движения».410 Судьи признавались в незнании
арабского, турецкого и русского письма и просили, чтобы присланный для
пристава Гайтова помощник занялся и оформлением судебного журнала.
У дигорских старшин на примете уже имелся кандидат на должность
помощника пристава - поручик Владикавказского линейного казачьего полка
Рейт. Однако начальник Центра линии счел более разумным назначить
помощником пристава казака Кизлярского полка, осетина Ивана Карданова.411
Кавказские власти, обозначив примерные правила деятельности
суда, поручили дигорскому приставу, его помощнику и судьям
разработать подробные правила для судопроизводства «на основании обрядов
283
и обычаев дигорского народа». Составленные ими правила
администрация намеревалась, внимательно изучив, утвердить. Пока же власти
рекомендовали судьям за «маловажные дела», в том числе проступки
зависимых крестьян перед владельцами, налагать небольшой штраф
и давать возможность владельцам самим наказывать провинившихся
«на основании обычаев, не взыскивая свыше меры преступления».412
Окончательное решение суд имел право принимать по тяжбам,
стоимость которых не превышала 50 руб. серебром. В остальных случаях
недовольная разбором суда сторона могла обратиться с апелляцией к
начальнику линии Военно-Грузинской дороги. Дела «особой важности», а
также вызывавшие «затруднения» у судей и начальника линии Военно-
Грузинской дороги, последний передавал на рассмотрение начальника
Центра Кавказской линии.
Решения в Дигорском суде принимались большинством голосов в
присутствии пристава или его помощника. В тех случаях, когда пристав
не соглашался с приговором судей он налагал запрет на его исполнение и
доносил об этом начальству.
В правилах Дигорскому суду отдельно выделялись дела,
разбиравшиеся по шариату: «а) до веры и совести касающиеся; б) по несогласию
мужей и жен; в) между родителями и детьми; г) не имеющие улик, нужных
доказательств и письменных свидетельств».413 Для разбора этих дел в суд
приглашался кадий. Царская администрация строго следила за тем, чтобы
шариатскому суду не подвергались христиане-дигорцы.
Особо оговаривались способы сбора свидетельских показаний.
Свидетели в обязательном порядке приносили присягу в присутствии
эфендиев или православного священника в зависимости от их
вероисповедания, и лишь после присяги пристав и судьи могли приступать к
опросу. Лица с сомнительной репутацией («зазорного поведения») лишались
права выступать в роли свидетелей.
Все штрафы и денежные взыскания с виновных, присуждаемые
судьями, хранились в суде и расходовались только с разрешения
начальника Центра Кавказской линии. Генерал-майор Хлюпин, а позже полковник
Беклемишев требовали предоставления квартальных отчетов о
собранных суммах. Из них выплачивалось жалованье членам Дигорского суда,
а оставшиеся деньги употреблялись «на общественные надобности».414
Кавказская администрация учреждала Дигорский суд «в виде
опыта». Наместник М. С. Воронцов требовал докладывать ему о
деятельности нового судебного органа постоянно. 16 марта 1849 года началь-
284
ник штаба войск Кавказской линии на запрос «о последствиях опыта»
Дигорского народного суда рапортовал в Тифлис о преодолении судом
трудностей, связанных с неисполнением в отдельных случаях его
решений из-за разногласий между судьями. «Теперь, - доносил военный
чиновник, - с общего согласия (дигорцев - 3. Б.) переменены некоторые
судьи, которые в присутствии начальника Центра линии приведены к
присяге, и должно надеяться, что дела будут решаться справедливо».415
Начальник штаба и командующий Н. С. Завадовский заключали:
необходимо оставить этот суд в настоящем его положении впредь, пока не
представится надобность в изменении».416
Отдельную группу административных учреждений, действовавших
на территории Осетии, составили сословно-поземельные комитеты и
комиссии. Их появление связано с переселением осетин на равнину и
общественно-экономическими изменениями, вызванными этим
процессом. Переселение на равнину привело к образованию новой
материально-технической базы для развития феодальных отношений. Земледелие
заняло определяющее место в хозяйственной жизни осетин. Скованные
малоземельем в горах, феодальные отношения получили на равнине
возможность развиваться на благодатной производственной базе.417 В
сложившихся условиях представители осетинского привилегированного
сословия предпринимали все меры для юридического оформления своих
прав и привилегий.
В 1846 году тагаурские старшины обратились к наместнику
М. С. Воронцову с просьбой о выдаче им актов на право потомственного
владения землей и об утверждении их сословных прав.418 Решение вопроса
требовало тщательного изучения общественных и поземельных
отношений осетин. Именно этим и должен был заняться «Комитет для разбора
прав разных сословий Тагаурского общества», учрежденный по
инициативе кавказских властей. Главой Комитета М. С. Воронцов назначил
начальника Владикавказского военного округа генерал-майора П. П. Нестерова. В
его состав вошли главный пристав горских народов, командиры Горского
и Владикавказского казачьих полков, полковник Казбек (Казбеги) и
несколько кабардинских князей. 20 марта 1847 года во Владикавказе
состоялось официальное открытие Комитета. В 1848 году его функции были
расширены, кроме сбора материалов о сословиях и поземельном праве
осетин, Комитету поручалось рассмотрение ходатайств осетин (жителей
Владикавказского округа), достигших офицерских чинов, о
предоставлении им «званий высших сословий».419
285
Комитет во главе с П. П. Нестеровым подготовил Записку-проект, в
котором авторы предлагали правительству пути преодоления земельных
споров. В проекте Комитет отказывал осетинским феодалам в праве на владение
равнинными землями, объявляя их «государственными». В качестве меры,
регулировавшей социальные отношения на равнине, П. П. Нестеров
называл раздельное поселение феодалов и фарсаглагов. Для обособленного
расселения общинников предполагалось выделить земли из государственного
фонда или же выкупить их у кабардинского князя Бековича-Черкасского. В
проекте предлагалось также удовлетворить сословные требования тагаур-
ской знати. Одиннадцать знатных фамилий Тагаурии признавались в ранге
высшего сословия.420 Эта часть проекта была утверждена наместником, и в
начале 1848 года власти обнародовали решение о признании
принадлежности тагаурских алдар к высшему сословию. М. С. Воронцов, однако, отверг
идею об обособленном поселении феодалов и фарсаглагов.
Итогом деятельности Комитета стала констатация им остроты
межсословных конфликтов тагаурцев и указание на преждевременность принятия
серьезных мер по урегулированию сословных и поземельных вопросов.
В 1849 году Комитет для разбора прав разных сословий Тагаурского
общества подвергся реорганизации. Новый Комитет должен был заняться
«правами и преимуществами» сословий всех горских народов, населявших
Владикавказский округ (главным образом осетин и малокабардинцев), а
также определением и реализацией российской переселенческой
политики - «состоит ли надобность выселить и куда именно часть населения
округа, затем в каком именно качестве следует наделить земельных
переселенцев».421 Состав Комитета полностью менялся. Его председателем
назначался генерал-майор барон Ипполит Александрович Вревский,
членами - начальник Владикавказского округа генерал-майор М. С. Ильинский,
начальник Центра Кавказской линии полковник князь Георгий Романович
Эристов, офицер генерального штаба, топограф (для подробной съемки
и размежевания земель), делопроизводитель из пехотных офицеров,
переводчик осетинского и кабардинского языков и 12 депутатов от разных
осетинских обществ и кабардинцев.422 За период работы Комитета в нем
обсуждался вопрос о сословных преимуществах осетинской знати и
подготовлен проект о проведении межевания земли в равнинной Тагаурии. В
основе проекта лежал принцип, выдвинутый Комитетом П. П. Нестерова-
раздельное поселение и наделение землей феодалов и крестьян.
В 1852 году наместник приказал закрыть Комитет. Причиной его
закрытия называлось отсутствие возможности собирать Комитет в полном
286
составе. Обязанности всего Комитета передавались лично генерал-майору
И. А. Вревскому; в его распоряжении временно «до окончания дел»
оставались топограф и переводчик. Решение практических задач - «подробная
съемка и межевание земель в Тагаурском обществе и другие межевые
работы во Владикавказском округе и Малой Кабарде»,423 осуществлял корпус
топографов под руководством барона И. А. Вревского.
Такое положение дел сохранялось до 1857 года, до учреждения
кавказскими властями нового органа - «Комитета для разбора личных и
поземельных прав туземцев Левого крыла Кавказской линии» под
председательством генерал-лейтенанта А. П. Грамотина. Ему поручалось разбирать
поземельные споры в Осетии, завершить изучение сословных отношений
осетин и продолжить деятельность по межеванию и наделению землей
переселенцев на равнине. Ту же работу Комитету предстояло выполнить в
остальных округах Левого крыла: Кабардинском, Кумыкском и Чеченском.
В 1858 году Комитет для разбора личных и поземельных прав
туземцев Левого крыла Кавказской линии был распущен, как неоправдавший
ожиданий кавказской администрации. Более «полезным» признавалось
учреждение отдельных комитетов в каждом округе.424 В апреле 1859 года
такой Комитет для осетин открывался в Военно-Осетинском округе под
председательством исполнявшего обязанности начальника округа
полковника М.А. Кундухова. За короткое время Комитет собрал необходимые
сведения для разъяснения сословных и поземельных прав осетин, привел
в порядок дела по Осетии грамотинского Комитета и предоставил проект
нового распределения равнинных земель с увеличением наделов для
высшего сословия.425 Разногласия высших российских чиновников при
обсуждении проекта привели к его отклонению; в октябре 1860 года комитет был
ликвидирован.
Дальнейшие изменения в административном развитии Осетии и
Ингушетии произошли в конце 50-х годов XIX века. На их территории,
как и на всем Северном Кавказе, учреждалась для горцев военно-народная
система. До упразднения Владикавказского военного округа здесь
продолжала сохраняться приставская система, а главным судебным органом для
осетин и ингушей оставался Владикавказский народный суд. В 1858 году
в ходе общей реорганизации административных учреждений на Северном
Кавказе суд и приставства в Осетии и Ингушетии были упразднены.
287
§4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 60-70-Е ГОДЫ XIX В.
В конце 50-х годов XIX века с изменением военно-политической
обстановки на Северном Кавказе правительство вновь обратилось к
административному устройству Кабарды, Осетии, Балкарии, Чечни и Ингушетии.
В этот период для политики России характерно стремление к общей
унификации институтов управления, созданных для горских народов Кавказа.
Именно в этом аспекте следует рассматривать дальнейшее развитие
системы управления северокавказскими народами. Указами 8 февраля, 20
февраля и 3 мая 1860 года Левое крыло Кавказской линии, в состав которого
административно входили кабардинцы, осетины, балкарцы, чеченцы, кумыки
и ингуши, преобразовывалось в Терскую область.426 Командующий
войсками Левого крыла Кавказской линии Н. И. Евдокимов назначался
начальником Терской области и командующим войсками Терской области. Деление
на округи - Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский и Кумыкский
сохранялось.4276 сентября 1860 года по ходатайству князя Г. Д. Орбелиани,
временно замещавшего А. И. Барятинского на должности командующего
армией, Военно-Осетинский округ переименовался во Владикавказский.428
Основанием для переименования послужило несоответствие названия
округа составу его населения, включавшего кроме осетин, также ингушей,
карабулаков и жителей Малой Кабарды. Рапорт князя Г. Д. Орбелиани
военному министру генерал-адъютанту Н. О. Сухозанету содержал
подробное объяснение и другой причины возвращения к прежнему названию
округа. «В указе 10 декабря 1857 года, - писал главнокомандующий, -
наименование Владикавказский не было принято при составлении проекта об
управлении покорными племенами на Кавказе», с целью избежать
«смешения с прежним округом Владикавказским, существовавшем до 1856 года и
имевшем совсем иное значение; название Военно-Осетинского было дано
для отличия сего округа от другого Осетинского, который входил в состав
Тифлисской губернии, а ныне упразднен».429
Административное развитие Терской области проходило в русле
созданной А. И. Барятинским системы военно-народного управления. Одной
из первых реорганизация затронула Канцелярию по управлению
покорными туземцами, учрежденную 1 апреля 1858 года при командующем
войсками Левого крыла Кавказской линии.4304 ноября 1860 года указом Сената она
переименовывалась в Канцелярию по управлению горцами Терской обла-
288
сти. В Канцелярии сосредоточивались все вопросы по управлению
коренными жителями Терской области кабардинцами, осетинами, чеченцами и
др. Поводом для изменения названия послужил тот факт, что «все племена,
населявшие Терскую область», уже принадлежали «к покорным».431
К моменту образования Терской области для нее не были разработаны
специальные «Положения» и областная администрация в своих действиях
руководствовалась «Инструкцией для окружных начальников Левого
крыла Кавказской линии», утвержденной Барятинским 23 марта 1860 года.432
«Инструкция» состояла из восьми глав и детально воспроизводила схему
управления округами, права и обязанности окружных начальников,
помощников окружных начальников, участковых начальников, правила
работы народных и медиаторских судов и назначения их членов, порядок
управления в аулах.
Глава первая - «Состав управления округами, порядок назначения и
увольнения лиц, окружное управление составляющих»,433 определяла круг
военных чинов - генералы и полковники, - которые могли быть назначены
на должность начальника округа. Начальнику округа полагался помощник
из обер-офицеров, состоявший лично при нем. Округи делились на
участки, управлявшиеся штабе- или обер-офицерами - начальниками участков
(наибами). В месте пребывания начальников округов и начальников
участков учреждались окружные и участковые народные суды. Начальники
округов, их помощники и начальники участков назначались
главнокомандующим Кавказской армией (наместником), а утверждались в этих
должностях и увольнялись по приказу императора.
Вторая, третья и четвертая главы посвящены правам и
обязанностям начальников округов, их помощников и участковых начальников.
Инструкция объявляла окружного начальника «ближайшим начальником
туземного населения».434 Вступая в должность, начальник округа обязан
был представить командующему войсками - начальнику Терской области,
в непосредственном подчинении которого он находился, подробное
донесение о состоянии округа и о нерешенных делах по окружному управлению
и народному суду. Таким образом, высшие кавказские инстанции получали
возможность достаточно точно поставить перед недавно назначенным
чиновником перспективные задачи.
Основным занятием окружного начальника являлось исполнение
административно-полицейских функций. Для охраны «общественного
спокойствия и безопасности» в его распоряжение выделялись милиционеры,
состоявшие «на казенном довольствии»,435 их число определялось началь-
289
ником Терской области (командующим войсками). Кроме того,
окружному начальнику разрешалось привлекать для исполнения различных
поручений офицеров из горцев и «других лиц, живущих в округе без всякой
службы»436 и получавших от казны содержание. В случае «явного
неповиновения» какого-либо аула начальник округа обладал правом использовать
против населения войска, расположенные в округе. Особое внимание в
«Инструкции» придавалось сбору информации о прибывших в округ
лицах, имевших «сильное влияние» на народ. Так, «Инструкция»
рекомендовала окружным начальникам допускать «к отправлению религиозных
обязанностей» только тех мулл и эфендиев, которые имеют
«одобрительные аттестаты» от своего местного начальства и ведут себя
«благонамеренно»,437 в противном случае они высылались из округа. Документ запрещал
окружным начальникам вести переговоры с абреками; последние, а также
их укрыватели, после ареста могли быть высланы на поселение в Сибирь
или во внутренние районы России без суда, решением начальника округа.
Обо всех происшествиях в округе и о своих действиях окружной начальник
должен был немедленно сообщать начальнику области. Прерогативой
начальников округов являлась выдача местным жителям билетов (паспортов)
сроком до одного года для проезда по всему Кавказу и во внутрироссий-
ские губернии. Администрацией был разработан бюрократический путь,
после прохождения которого представителям горских народов выдавался
билет. Для получения билета требовалось ходатайство участкового
начальника, а также специальная справка от окружного народного суда о том, что
данное лицо «благонадежного поведения», что за ним не остается никаких
общественных невыполненных повинностей и что на время его отсутствия
его семья обеспечена содержанием. Кроме того, человек, хлопотавший о
получении билета, должен был убедить администрацию в том, что он
отправляется в поездку «именно для той надобности, для которой просит
отлучку».438
В ведении окружных начальников находились и такие вопросы, как
«охрана народного здравия», «меры для обеспечения жителей
продовольствием», сбор статистических сведений о состоянии вверенного округа,
распределение повинностей, разрешение на выдачу пострадавшим от
стихийных бедствий и пожаров (по приговору народного суда) из
общественных сумм пособий до 10 руб. сер. и др.439 Окружные начальники обязаны
были периодически объезжать вверенные им населенные пункты, чтобы
иметь полное представление о «нуждах и положении жителей» и
принимать во время таких объездов от населения просьбы и жалобы, которые, по
290
возможности, рекомендовалось рассматривать на месте. В случае болезни
или отсутствия окружного начальника его замещал помощник. Помощник
окружного начальника имел и постоянные обязанности, ему поручалось
попечение об арестованных горцах и наблюдение за правильностью и
скоростью следственных действий над ними.440
В непосредственном подчинении окружного начальника состояли
участковые начальники. Их обязанности в основном дублировали функции
окружных начальников, но применительно к участку. Участковые
начальники вместе с отрядом из нескольких милиционеров наблюдали за
общественным порядком, занимались сбором информации о лицах, имевших
влияние на народ, делали объезды сел участка, выдавали билеты сроком до
6-ти месяцев для проезда по Терской области, докладывали обо всех
происшествиях окружному начальнику. Участковые начальники имели право
наказывать жителей за маловажные проступки арестом на срок не более
15 суток. Горцы, совершившие уголовные преступления, доставлялись
участковыми к окружному начальнику, а затем из округа к командующему
войсками.441
В главах пятой, шестой и седьмой «Инструкции» рассматривались
вопросы судопроизводства.442 Глава пятая определяла порядок разбирательства
уголовных преступлений и тяжебных дел. Уголовные преступления
судились по российским законам в военных судах по представлению
командующего войсками. Уголовными преступлениями считались: побег в горы к
«непокорным горцам», неповиновение начальству, укрывательство «абреков
и других хищников», грабеж и разбой, святотатство, похищение казенного
имущества, убийство, нанесение увечья.443 Тяжбы между горцами
по-прежнему разбирались по адату в народных и медиаторских судах. «Инструкция»
устанавливала 10-летний срок давности со дня происшествия для исков о
движимом и недвижимом имуществе. При этом к разбирательству
принимались лишь те дела, по которым право собственности было нарушено с
момента вступления населения в подданство России. Этот параграф, хотя и
распространялся на все население Терской области, касался главным
образом жителей Чеченского и Кумыкского округов. Этим, по-видимому,
объясняется и включение в инструкцию ряда пунктов соглашения, подписанного
российской администрацией и чеченцами в 1852 году. Срок давности не
распространялся на малолетних сирот до достижения ими совершеннолетия, на
горцев, сосланных в Россию и отданных в солдаты и в арестантские роты
(если они не лишались прав состояния), на захваченных в плен и проданных
в рабство.444 «Инструкция» определяла права собственности владельцев на
291
зависимое население. Если владелец предъявлял иск о принадлежности ему
людей, «пользовавшихся свободой»445 с момента принятия их в российское
подданство или не менее трех поколений (при этом допускалось, что
представитель первого поколения часть своей жизни находился в феодальной
зависимости), то владельцу отказывали в праве иска, и за ответчиком и его
потомством навсегда утверждалось свободное состояние. В том случае, если
истцом выступал человек, «отыскивающий свободу», который мог доказать
неправильность своего порабощения или его предков до третьего поколения
(после поступления их в подданство России), то он и его потомки навсегда
получали свободу. С целью ограничения числа тяжб о движимом и
недвижимом имуществе в «Инструкции» предусматривался специальный параграф
по определению суда, налагавший денежный штраф на истца, начавшего
«неправильную тяжбу» и на лжесвидетелей.446
Глава шестая «О народных судах» предназначалась для
руководства окружным народным судам, учрежденным в 1858 году вместо
Владикавказского, Кабардинского и Чеченского судов, а также
участковым народным судам.447 Членами судов являлись избранные народом
депутаты. Общество, кроме депутатов, избирало также кандидатов в судьи
в пропорции один к одному, которые при необходимости могли заменить
члена суда при разборе дела. Согласно «Инструкции», выборы проходили
по следующим правилам: 1) право быть избирателем или избираемым
предоставлялось всем лицам мужского пола, достигшим 18-летнего возраста;
2) избирателями и избираемыми не могли быть люди «известные дурным
поведением и вредным образом мыслей»; 3) выборы проводились в
соответствии с местными обычаями или по баллотировке (по решению
окружного начальника). 448 Правила предусматривали двухстепенные выборы в
окружные суды. Каждый аул назначал двух или трех доверенных лиц,
которые в определенный день собирались у участкового начальника и в его
присутствии избирали не менее двух кандидатов от общества на
вакантное место. Их выбор подтверждался подписью или «рукоприкладством»
доверенных лиц и заверялся участковым начальником. Окончательный
выбор членов окружного суда из числа кандидатов принадлежал окружному
начальнику, исполнявшему в суде функции председателя. Число членов в
окружном народном суде обычно составляло 8 человек. После окончания
выборов начальник округа подавал список членов окружного народного
суда на утверждение начальнику Терской области (командующему
войсками). Социальный и религиозный состав суда также определялся
командующим войсками и окружными начальниками.449
292
Члены участковых народных судов избирались по тем же принципам,
что и члены окружных судов, но утверждались начальниками округов. Их
число зависело от количества жителей и населенных пунктов,
социального и религиозного состава участка. Судьи окружных и участковых судов
избирались сроком на один год, но после окончания их срока могли быть
избраны вновь. Члены окружных судов, включая кадия, получали от казны
жалованье на основании штата, утвержденного Александром II 1 апреля
1858 года. Члены участковых судов содержались за общественный счет.
Должность председателя участкового суда принадлежала участковому
начальнику.
Окружные суды являлись судебно-административными органами.
Кроме разбора тяжебных дел, в их обязанности входило (по поручению
окружного начальника) обсуждение «мер, предпринимаемых по
благоустройству и управлению краем» и приглашение на заседание суда «лиц,
которые своими практическими советами могли быть полезны в этом деле».450
«Инструкция» запрещала вмешательство или ходатайство
посторонних лиц при разборе и обсуждении дел, подлежавших судопроизводству
народных судов. В ведении народных судов находились следующие дела:
1) исковые, спорные и тяжебные по претензиям о движимом и недвижимом
имуществе и долговые; 2) «по отысканию свободы» рабами; 3) об опеке
имений; 4) по спорам между родителями и детьми, мужем и женой; 5)
религиозные для мусульманской части населения; 6) воровство; 7) ссоры с
применением оружия, не повлекшие за собой увечья раненного; 8) обсуждение
мер для устройства края; 9) выдача справок-свидетельств местным
жителям, выезжавшим за пределы округа для получения билетов; 10)
оформление купчих, закладных и других обязательств; 11) выдача свидетельств
о благородном происхождении (утверждалось наместником) и о
независимости от владельцев (утверждалось начальником области). 451 Достаточно
подробно разработан авторами «Инструкции» институт опеки. Выбор
опекунов над имуществом несовершеннолетних, владельцев, потерявших
способность управлять своей собственностью (умалишенных, слишком
расточительных, жестоких в обращении со своими подвластными и проч.) или
находившихся долгое время в отъезде поручался окружным народным
судам. При этом суды обязаны были составить письменное представление об
опеке, в котором излагались причины учреждения опеки, сведения о лицах,
назначенных в опекуны, содержалась подробная и точная опись всего
имущества, поступившего под опеку; здесь же оговаривалось вознаграждение
опекуну за его труды в соответствии с нормами права. Представление об
293
опеке утверждалось начальником округа. Для наблюдения за действиями
опекунов народные суды требовали от последних отчеты, а в случае
необходимости проводили ревизии. Опека отменялась после прекращения ее
причин с разрешения начальника округа.452
Все дела в окружных народных судах решались на основании
постановлений, утвержденных главнокомандующим. Вопросы, не вошедшие в
эти постановления, разбирались по адату; шариату подлежали лишь дела
мусульман, «до веры и совести касающиеся», и те, которые народный суд
передавал на рассмотрение по шариату; шариатское решение утверждалось
народным судом. Если суд считал постановления шариата
противоречащими российскому законодательству (смертная казнь, отсечение руки, ноги и
др.), то они заменялись решением «по усмотрению» народного суда.453
В «Инструкции», утвержденной А. И. Барятинским, детально
разработан регламент судебных заседаний. Народные суды под председательством
окружных и участковых начальников должны были разбирать и решать
дела в присутствии всех членов. Заседания в судах проходили ежедневно с
8 часов утра до 13 часов, с обязательным присутствием председателя суда
с 11 часов дня. Исключение составляли воскресные и праздничные дни и
каникулярное время (три недели весной во время полевых работ и три
недели летом во время жатвы). В период каникул один из депутатов суда по
жребию оставался в суде для выдачи справок-свидетельств горцам на
получение билетов.
Все просьбы и жалобы, поступавшие в окружной суд, записывались
в настольный журнал, а затем докладывались делопроизводителем в суде.
Решения суда выносились большинством голосов; в случае их равенства,
голос председателя давал перевес той стороне, с которой он был согласен.
Принятое решение заносилось в журнал и подписывалось всеми членами,
согласными с этим решением; мнение несогласных депутатов также
вносилось в журнал и подкреплялось подписями; решение дел по шариату
заносилось в настольный журнал с указанием статьи «Корана». В участковых
народных судах дела разбирались таким же порядком, но без письменного
производства; жалобы и решения записывались участковым начальником в
специальный журнал.454
Присутствие на суде ответчика и, при необходимости, свидетелей
являлось обязательным условием процесса. Их неявка возможна была лишь
при чрезвычайных обстоятельствах. Если суд принимал решение о
разбирательстве дела в присутствии присяжных, то он же определял их список.
Тяжбы между представителями разных кавказских народов рассматрива-
294
лись в соответствии с нормами обычного права ответчика. Решения
окружных и участковых судов объявлялись в присутствии тяжущихся сторон и
скреплялись их подписями. Истцу и ответчику выдавались копии решения
суда, засвидетельствованные судьями и делопроизводителем.455
Все постановления окружных народных судов приводились в
исполнение начальниками округов, а участковых - участковыми начальниками.
Лица, недовольные решением дела в участковом народном суде, могли
направить апелляцию в окружной суд. Определения окружных народных
судов можно было обжаловать, подав апелляцию командующему
войсками в течение 4-х месяцев, по истечении этого срока право апелляции
терялось. Решения суда «об отыскании свободы» в обязательном порядке
представлялись на утверждение командующего войсками (начальника
области). 456
Тяжущиеся могли не прибегать к услугам окружных и участковых
судов. Об этом свидетельствует глава VII «О медиаторском суде».457 Истец
и ответчик по обоюдному согласию обращались к медиаторам
(посредникам), которых избирали сами, с просьбой рассмотреть дело. Медиаторский
суд мог состояться и по предложению участкового и окружного суда. В
случае недовольства одной из сторон решением суда посредников тяжущийся
обращался в участковый или окружной суд.
Восьмая глава «Инструкции» определяла порядок управления аулами.
В каждом ауле для полицейского надзора обществом избирались старшины
и десятские (из расчета на 50 дворов - не более 1-го десятского). Лица,
занимавшие низшие общественные должности - аульные старшины,
десятские, муллы и др., утверждались начальником округа. Аульные старшины
следили за порядком и имели право наказывать провинившихся жителей
арестом до 5-ти дней. Старшины и десятские содержались за счет
общества и получали от жителей ежегодное вознаграждение хлебом, скотом или
деньгами в количестве, определенном начальником округа и утвержденном
командующим войсками.458
«Инструкция для окружных начальников» действовала на территории
Терской области с 1860 года по 1862 год.
Осенью 1861 года, после назначения на пост командующего войсками
и начальника Терской области Дмитрия Ивановича Святополка-Мирского
(21 сентября 1861 г.), 459 главнокомандующий армией князь Г. Д. Орбелиани
поставил перед только что получившим должность чиновником задачу -
составление проекта о преобразовании военно-народных управлений и об
учреждении охранной стражи и земской полиции в Терской области.
295
В качестве образца князь Г. Д. Орбелиани советовал использовать
«Положение об управлении Дагестанской областью», утвержденное
Барятинским 5 апреля 1860 года.460 Воспользовавшись рекомендацией и
положив в основу проекта «Положения об управлении Терской областью»
уже апробированное в Дагестане «Положение», Д. И. Святополк-Мирский
включил в свой проект и некоторые пункты «Инструкции для
окружных начальников». В конце января 1862 года проект Д. И. Святополка-
Мирского был отправлен в Петербург и в течение четырех месяцев
обсуждался в Совете Военного министерства, а затем в Кавказском
комитете. 29 мая 1862 года «Положение об управлении Терской областью» было
утверждено Александром И. В «Положении» четко определялись границы,
военно-административное разделение и структура государственных
учреждений области.461 Терская область граничила на севере с землями 4-й
бригады Кубанского казачьего войска и Ставропольской губернией, на
востоке с Каспийским морем и рекой Сулак, на юге с Андийским и Главным
Кавказским хребтом, на западе с Кубанской областью, от которой она
отделялась Эльбрусом и водораздельной линией от Эльбруса до истоков р.
Кумы. Кроме земель горских народов, Терская область включала также
территорию, занимаемую Терским казачьим войском, немецкими
колонистами и жителями военных слободок. Ее административным центром
объявлялся Владикавказ. Терская область состояла из трех военных
отделов, отдельного управления и городового управления. Военные
отделы делились на Западный, Средний и Восточный. Каждый отдел состоял
из округов. Западный - из Кабардинского округа, включавшего Большую
и Малую Кабарду, Балкарское, Безенгийское, Хуламское, Чегемское и
Урусбиевское горские общества, из Осетинского округа, в который
вошла территория северной части Осетии, и из Ингушского округа,
состоявшего из Назрановского, Карабулакского, Галгаевского, Кистинского,
Акинского и Цоринского обществ. Средний отдел делился на Чеченский
округ - Большая и Малая Чечня, Надтеречные и качкалыковские чеченцы,
Аргунский округ - Шатоевское, Чантинское, Чаберлоевское и Шароевское
общества и Ичкерийский округ - Ичкерия. В последний, Восточный отдел,
вошли два округа: Кумыкский, включавший жителей Кумыкской
плоскости, и Нагорный, его составили Салатавское, Ауховское и Зандакское
общества.
Округи разделялись на участки: Кабардинский - на Баксанский,
Черекский и Малокабардинский; Осетинский - на Дигорский, Тагауро-
Куртатинский и Алагиро-Мамисонский; Ингушский - на Назрановский,
296
Карабулакский и Горский. В Среднем отделе участки получили название
наибств. Чеченский округ состоял из шести наибств - Ачхоевского, Урус-
Мартановского, Аргунского, Автурского, Надтеречного и Качкалыковского,
Аргунский округ - из Чантинского, Шатоевского, Чаберлоевского и
Шароевского, Ичкерийский округ - из Даргинского и Веденского наибств.
Округи Восточного отдела делились: Кумыкский - на Аксаевский,
Андреевский и Нагайский участки, Нагорный - на Ауховское, Салатовское
и Зандакское наибства.
Отдельное управление Терской области составил округ Кавказских
минеральных вод, а городовое - Владикавказское управление. Отдельное
и городовое управления действовали на основании особых
положений. Терское казачье войско управлялось своим наказным атаманом и
Войсковым правлением и в то же время в военном отношении
подчинялось начальникам военных отделов и военному начальнику округа
Кавказских минеральных вод.
Государственные учреждения, установленные в Терской области,
подразделялись на три группы: военные, гражданские и учреждения для
управления горскими народами. Все они находились в подчинении
начальника Терской области. По военному управлению он пользовался правами
командиров корпусов, не отделенных от армии, по гражданскому
ведомству - действовал на правах, предоставленных генерал-губернаторам, по
управлению горскими народами его права определялись «особым
положением».
В период реорганизации административных структур области главная
роль отводилась двум направлениям: военному и управлению горскими
народами. При начальнике Терской области для производства дел
учреждались Штаб командующего войсками и Канцелярия начальника Терской
области по управлению туземцами. В Канцелярии сосредоточивалась вся
переписка по управлению кабардинцами, осетинами, чеченцами,
ингушами и др. Специального учреждения, ведавшего гражданским населением
при начальнике Терской области, создано не было, эти функции
выполняло одно из подразделений Канцелярии по управлению туземцами - стол
(отдел) для переписки по гражданским делам. Во главе Канцелярии стоял
правитель, назначавшийся из штаб-офицеров. Его обязанности
ограничивались общим руководством и правом докладывать непосредственно
начальнику области о делах по гражданскому столу. Вопросы, касавшиеся
местного населения, из канцелярии направлялись начальнику Штаба и
докладывались последним начальнику области. Такой порядок предписы-
297
вался «до того времени, пока туземное население... будет состоять в
военном управлении».462 Военным положением объяснялось и сосредоточение в
руках начальника области административной, хозяйственной, финансовой,
судебной и военной власти.
Следующее звено в административной системе Терской области
представляли начальники военных отделов, руководившие «военным и
внутренним управлением округов».463 Им подчинялись начальники округов.
Военное министерство, разработавшее штатные ведомости для
учреждений Терской области, в целях экономии денежных средств приняло
решение о совмещении начальниками отделов собственных обязанностей с
обязанностями начальников отдельных округов. Так, в Осетинском
округе функции начальника округа исполнял начальник Западного отдела, в
Чеченском округе - начальник Среднего отдела, в Кумыкском — начальник
Восточного отдела. Обязательным условием для назначения на этот пост
являлся чин генерал-майора; остальные начальники округов имели чины
штаб-офицеров. При каждом начальнике округа состояли помощник,
военное управление, окружной суд, медик и фельдшер для жителей округа.
Округ делился на участки или наибства, которые управлялись
участковыми начальниками или наибами (в должности капитана или майора).
Инструментом, «при помощи которого начальники военно-народных
управлений» наблюдали «за внутренней безопасностью и
благоустройством»464 Терской области, были избраны охранная стража и земская
полиция. Охранная стража полагалась начальнику Терской области, начальникам
отделов и округов; при участковых начальниках, а также при начальниках
Ингушского и Нагорного округов учреждалась земская полиция. Охранная
стража и земская полиция исполняли полицейские функции и составляли
постоянный конвой при начальниках. Они использовались для рассылки
приказов, сбора сведений о крае, а «в случае нужды арестовывали тех
жителей, которые будут подлежать этому».465 Полицейская стража набиралась
из представителей местного населения по их желанию. Каждый начальник
сам выбирал людей для своей стражи, предпочтение, как правило,
отдавалось выходцам из известных фамилий. Служба в охранной страже
считалась государственной, и все лица, принятые в нее, получали жалованье и
пользовались правами, присвоенными служащим в иррегулярных войсках,
- могли получить звание урядника, юнкера или прапорщика милиции и
быть награжденными медалями. В тех округах и участках, где
учреждалась земская полиция, в помощь начальникам назначались пятисотенные
и сотенные старшины и их помощники. Они были местными жителями
298
сел и в случае требования начальства являлись на службу вооруженными;
кроме того, старшины и их помощники занимались сбором информации на
участке. За исполнение обязанностей они получали от казны от 5 руб. до
20 руб. в месяц.
После утверждения «Положения об управлении Терской областью»
некоторую реорганизацию претерпела судебная система военно-народных
управлений. Во Владикавказе при Д. И. Святополке-Мирском открывался
Главный народный суд Терской области. Он учреждался как апелляционная
инстанция для разбора жалоб на решения окружных народных судов, а
также как орган, занимавшийся поручениями начальника области, обсуждением
вопросов административно-хозяйственного порядка. Главный суд состоял из
8-ми депутатов и 3-х кадиев по выбору народа. Население округа обладало
возможностью направить в Главный народный суд одного представителя.466
Председательство в суде поручалось «особому лицу» по выбору
начальника Терской области с утверждением наместником Кавказским. Решения в
суде принимались большинством голосов на основании правил,
составленных для горских народов кавказской администрацией, по адату или шариату.
Судебные постановления утверждались начальником области, а в случаях,
представлявших «важность», постановление Главного суда с заключением
начальника Терской области направлялось наместнику в Тифлис.
В 1862 году окружные и участковые народные суды не претерпели
изменений, параграфы «Положения», касавшиеся их работы,
фактически повторяли «Инструкцию для окружных начальников» 1860 года.467
В «Положении» лишь уточнялось число депутатов в окружных судах: в
Осетинском, Кабардинском, Ингушском, Кумыкском и Нагорном
окружных народных судах по 6 депутатов, в Чеченском окружном суде - 12
депутатов, в Аргунском - 8 депутатов и в Ичкерийском - 4 депутата. Их
число зависело от количества участков в округе - каждый участок избирал в
окружной народный суд двух депутатов. Апелляции на решения окружных
судов подавались истцом или ответчиком начальникам военных отделов,
которые в свою очередь направляли жалобы начальнику области и затем
последний передавал их в Главный народный суд или разрешал их
собственной властью.
Уголовные преступления, как и прежде, не входили в компетенцию
народных судов и рассматривались в комиссиях Военного суда по
российским военно-уголовным законам.
Дальнейшие преобразования административной системы,
проводившиеся в Терской области, объяснялись главным образом необходимостью устра-
299
нить «неудобства», возникшие после введения «Положения об управлении
Терской областью» и экономическими мотивами. Так, в 1865 году по
инициативе наместника Кавказского были упразднены управления начальников
Западного и Восточного военных отделов.468 31 января 1865 года, за семь
месяцев до реорганизации военных отделов, командующий Кавказской армией
(наместник) великий князь Михаил Николаевич направил доклад военному
министру, в котором аргументировал будущие перемены. Он писал: «Более
чем двухлетний опыт показал, что соединение в одном лице двух
должностей представляет то существенное неудобство, что начальник отдела, при
занятиях своих по делам всего отдела и при частых поездках по вверенному
ему району, не имеет возможности надлежащим образом следить за ходом
дел в округе, ему подчиненном».469 Кроме того, наместник подчеркивал, что
начальники отделов «по делам как административным, так и судебным»
превратились в передаточную инстанцию, замедлявшую «прохождение
вопросов» и таким образом «парализовали власть и значение окружных
начальников».470 Решение проблемы великий князь видел в упразднении должностей
начальников Западного и Восточного отделов, «как утративших надобность
в этих частях области» в связи с изменением военно-политической
обстановки на Кавказе и в учреждении особых окружных управлений в Осетинском,
Чеченском и Кумыкском округах471. В Среднем отделе «по причине еще не
вполне выяснившихся отношений чеченского населения к России»472
управление начальника отдела сохранялось. В помощь ему дополнительно
учреждалась новая административная должность - начальник Чеченского округа.
Предполагаемые наместником Кавказским преобразования в
административной структуре Терской области были оформлены Военным
министерством в приказ 8 сентября 1865 года.473
Некоторые изменения произошли и в Главном народном суде и
затронули в основном его штатное расписание.474 Общее число членов суда
теперь составило 30 человек. В состав Главного суда от Осетинского,
Ингушского и Кабардинского округов избиралось 8 депутатов и 2 кадия,
от Чеченского, Ичкерийского и Аргунского - 8 депутатов и 2 кадия, от
Кумыкского и Нагорного округов - 6 депутатов и 2 кадия. Переводчики и
писари выводились из штата суда; их обязанности, по-видимому,
возлагались на делопроизводителя. «Для постоянного отправления должности»475
председателя Главного народного суда наместник рекомендовал
начальнику области назначить одного из офицеров или чиновников, состоявших по
особым поручениям. Высшая кавказская администрация определила также
порядок заседаний суда. Народный суд должен был заседать по два раза в
год во Владикавказе, крепости Грозная и Хасав-Юрте.
300
В 1865-1867 гг. административно-территориальной реорганизации
подверглись Ингушский и Кабардинский округи. В Ингушском округе
упразднялся Карабулакский участок. Сохранение названия этого участка после
полного выселения карабулаков с Кавказа правительство сочло «неуместным».
С июня 1867 года Ингушский округ разделился на Горский, Назрановский
и Псидахинский участки. Новый Псидахинский участок состоял из земель,
приобретенных правительством у князей Бековичей-Черкасских и из
аулов Кескем, Псидахе, Сагопш, Ах-Барзой, Бековичи, Эльберт, Верхний,
Средний и Нижний Ачалуки. Изменились и границы Назрановского
участка, к нему присоединилась территория между Курпом и Тереком и земли
1-го Сунженского полка, входившие до этого в Малокабардинский участок
Кабардинского округа. Иные причины заставили власти прибегнуть к
изменению числа участков в Кабардинском округе. Кавказская администрация
объясняла свои действия «невозможным сообщением горной части Кабарды
с плоскостью в течение 8-ми месяцев».476 Кабардинский военный округ
был разделен вместо 3-х на 4-е участка: Малокабардинский, Баксанский,
Черекский и Горский. Новый Горский участок состоял из пяти горских
обществ: «Балкар, Безенги, Хулам, Чегем и Урусбий»477.
В 60-е годы XIX века отдельную группу государственных
учреждений в Терской области представляли комиссии и комитеты, установленные
для разбора личных и поземельных прав осетин, кабардинцев, чеченцев,
ингушей и других народов Центрального Кавказа. История создания этих
комитетов начинается с 1846 года,478 однако наибольшая их активность
приходится на 60-е годы и связана прежде всего с проведением крестьянской
реформы 1861 года на Кавказе. В начале 60-х годов на территории Терской
области работали два комитета - Кабардинский (с ноября 1861 года) и
Кумыкский (с марта 1860 года) и две комиссии - Чеченская (с 22 марта
1862 года) и Владикавказская (с 12 мая 1862 года). Трудами этих, а также
существовавших до них учреждений, занимавшихся вопросами личных и
поземельных прав горцев, был собран обширный материал, в дальнейшем
облегчивший разбор спорных межевых дел. Решая возложенные на них
задачи, комиссии и комитеты, однако, постоянно сталкивались с серьезными
проблемами, связанными со спецификой землепользования,
существовавшей среди народов Северного Кавказа. Особенно затруднена была
деятельность Чеченской комиссии, возглавляемой подполковником Генерального
штаба Ризенкамфом и получившей в марте 1862 года задание провести в
Чеченском округе межевание земли, а также определить земельных
собственников с наступлением полевых работ. Ситуация в Чечне осложнялась
301
высокой подвижностью ее населения в годы Кавказской войны и
начавшимся в этот период захватом освобождавшихся земель.
Кроме того, в областной администрации долгое время
неопределенным оставался вопрос финансирования комитетов и комиссий. Начальник
Терской области Дмитрий Иванович Святополк-Мирский неоднократно
обращался к исполнявшему обязанности наместника князю Г. Д. Орбелиани с
просьбой увеличить их денежное содержание.
В 1862 году кавказские власти приняли решение «из-за недостатка
средств в казне» переложить все «дополнительные» расходы земельных
комитетов и комиссий на местных жителей.
В январе 1864 года великий князь Михаил Николаевич, видевший в
своем назначении на Кавказ исполнение главной цели правительства -
проведение здесь буржуазных реформ, обратился к военному министру
Д. А. Милютину с предложением упразднить Кумыкский и Кабардинский
комитет, равно как и Чеченскую и Владикавказскую комиссии. Наместник
Кавказский подчеркивал, что отсутствие единства в их действиях
препятствует решению общих земельных вопросов. Сетуя на нерасторопность
комитетов и комиссий, он указывал на то, что они «оставляли
нетронутыми насущный предмет народной жизни - поземельную собственность».479
Наместник предлагал вместо отдельных комитетов и комиссий учредить
одну общую Временную комиссию. Создание новой комиссии обсуждалось
не только в Совете Военного министерства, но и в Кавказском комитете. 4
декабря 1864 года480 Александр II на основании журнала Кавказского
комитета утвердил распоряжение наместника об открытии во Владикавказе
«Временной комиссии для разбора личных и поземельных прав
туземного населения Терской области». Председателем комиссии великий князь
Михаил Николаевич назначил состоявшего при нем для особых
поручений коллежского советника Дмитрия Магометовича Кодзокова, уроженца
Кабарды, «близко знакомого с местными условиями и бытом» местных
жителей, человека «опытного и образованного».481 Начальнику Терской
области генерал-лейтенанту Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову,
занявшему этот пост 17 апреля 1863 года, поручалось составить программу
деятельности комиссии. Представленная им «Краткая записка об
основаниях и порядке занятий Временной комиссии»482 содержала 16 пунктов. В
«Записке» был обозначен достаточно широкий круг вопросов, входивших
в компетенцию комиссии: «привидение в известность численности
населения» области «по племенам и сословиям», «количества земли, каждым
племенем и обществом занимаемое, нанесение этих земель на планы»,
302
определение границ между ними483 и т. п. Попытки отрегулировать
сословный вопрос и «внести ясность» в сословные отношения
северокавказских народов предпринимались российскими властями с конца 40-х гг.
XIX в., тем не менее и в 60-е годы он по-прежнему оставался
нерешенным. Временная комиссия должна была завершить над ним работу. Ей
предписывалось провести «полное обсуждение», какими правами в
применении к общим законам Российской империи обязаны пользоваться
представители различных сословий, составить перепись лиц высшего
сословия каждого из народов, а также тех, «кто пожалован чинами и
орденами со включением их семейств».484 Важнейшей задачей комиссии
оставалось изучение земельных отношений горцев, выработка путей
разрешения земельных конфликтов, распределение и закрепление
земельной собственности «по племенам, обществам и фамилиям».485 «Записка»
М.Т. Лорис-Меликова достаточно подробно определяла
бюрократическую часть работы Временной комиссии. По всем делам, касавшимся
сословных и имущественных прав, ей предписывалось принимать решения
коллегиально, «облекая постановления свои в форму журналов».486 В
обсуждении, как правило, принимали участие председатель комиссии,
старшие члены, обладавшие правом голоса по всем делам, и младшие члены,
имевшие возможность проголосовать лишь в случае личного участия в
подготовке вопроса к рассмотрению. При изучении дел разного характера
комиссия могла командировать часть членов на место или выехать в
полном составе. Однако «для доставления комиссии необходимых сведений»
наиболее целесообразным признавалось использовать народных
депутатов, избранных для этих целей от различных обществ» Осетии, Кабарды,
Балкарии, Ингушетии, Чечни и Кумыкии. В отличие от членов комиссии,
полностью находившихся на казенном обеспечении и получавших
жалованье, депутаты исполняли свои обязанности на общественных началах,
без всякого содержания из казны.
Чтобы облегчить сбор информации и увеличить эффективность
работы Временной комиссии, в каждом округе создавались ее отделы в
составе 1-2 членов комиссии, депутатов от народа и начальника округа в роли
председателя.487 Кумыкский отдел Временной комиссии для разбора
личных и поземельных прав располагался в с. Хасавюрт, Чеченский отдел -
в кр. Грозная, Осетинский - во Владикавказе, Кабардинский - в слободе
Нальчик.488
В 1874 году, после десятилетней деятельности, комиссия, завершив
порученную ей работу, представила отчет в Главное управление намест-
303
ника Кавказского. Результаты деятельности Временной комиссии были
рассмотрены на заседании Совета наместника и направлены в Петербург
в Кавказский комитет. В 1880 году Кавказский комитет, изучив
полученные материалы, принял решение - с 1881 года упразднить комиссию,
как выполнившую свои функции, и передал дело в Комитет министров и
Государственный совет. В высших и центральных государственных
учреждениях развернулась дискуссия о закрытии или сохранении комиссии и
поручении ей новых задач, например, разработки вопроса о сословных правах
мусульман на Кавказе.489 С этого времени началась бюрократическая
волокита и, как следствие, неопределенность дальнейшей судьбы комиссии,
длившаяся четверть века. В 1907 году министр юстиции, подготовивший
окончательный проект об упразднении Временной комиссии, учрежденной
для разбора личных и поземельных прав горцев, писал в объяснительной
записке к проекту, что комиссия «завершила порученные ей работы еще в
1874 году, в производстве сословной комиссии не имеется никаких
нерешенных дел, и она бездействует».490 Таким образом, с 1874 года по 1907 год
орган, существовавший лишь формально, ежегодно получал на свое
содержание около 10 тысяч рублей.491
Во второй половине 60-х годов XIX в. кавказская администрация
форсированно занималась проведением на Кавказе судебной реформы.
Установлению в Терской области новых судебных органов
препятствовала существовавшая здесь военно-народная форма управления,
вступавшая в противоречие с общероссийскими судебными и
административными институтами. Для создания условий, способствовавших проведению
российских буржуазных реформ в области, необходимо было изменить
административную политику и взять курс на «упрочение русской
гражданственности».492 В конце 60-х годов с инициативой отказаться от
военно-народной системы управления в Терской области выступил ее
начальник - М.Т. Лорис-Меликов.493 Начальнику Терской области, однако,
не принадлежало авторство идеи об отмене сложившейся на Северном
Кавказе системы управления. В течение нескольких лет в Петербурге и
Тифлисе предметом постоянных дискуссий являлся вопрос о том, в
каких частях северокавказского региона стало возможным ее упразднение.
Кавказские и российские чиновники признавали, что «Положения об
управлении горцами» имели значение переходных мер и должны были
подготовить местных жителей к политическому и административному
«слиянию с русским населением и подчинению общедействующим в
империи законам».494 В результате было принято решение сохранить воен-
304
но-народное управление в Дагестанской области, население которой еще
недавно враждебно относилось к России, и отменить его в Кубанской
области, где горское население составляло менее шестой части всех
жителей. Окончательное решение об изменении управления Терской
областью, населенной в основном северокавказскими народами (149745 душ
муж. пола - горцы, всего жителей - 226652493), в Главном управлении
наместника Кавказского приняли, выслушав точку зрения М. Т. Лорис-
Меликова, убежденного в том, что введение в Терской области
общероссийских государственных учреждений не затронет интересов
проживавших в ней народов, а также в том, что горцы готовы принять грядущие
перемены.
В 1868-1869 гг. в Кавказском комитете и Государственном совете
обсуждался проект нового «Положения об устройстве в Предкавказском
крае двух областей - Кубанской и Терской». В связи с этим в высших
органах власти обозначились две позиции в отношении их дальнейшего
административного развития. Так, управляющий делами Кавказского
комитета В. П. Бутков на заседании Государственного совета выступил за
переименование областей в губернии, а округов - в уезды, что должно
было, как он считал, окончательно нивелировать северокавказские
государственные учреждения с общероссийскими. Объясняя свою точку
зрения, В. П. Бутков указывал, что название «область» принято допускать
только на окраинных территориях. Северный Кавказ, расположенный не
на российской границе, он рассматривал как внутренний район
государства. В качестве наиболее весомого аргумента он приводил факт
существования губерний в пограничной черте Закавказского края. В. П. Бутков,
таким образом, полностью игнорировал разный уровень общественного
строя народов Кавказа и связанную с этим специфику
административного развития региона. Другого мнения придерживалось большинство
членов Государственного совета - барон М. А. Корф, граф Ф.П. Литке,
Фундуклей, Д.Д. Левшин, князь С.Н. Урусов и ГА. Тройницкий. Они
напомнили членам Совета о том, что территория Терской и Кубанской
областей почти полностью занята казачьим и горским населением. При
таком положении в крае, несмотря на введение в нем общероссийских
административных и судебных учреждений, - подчеркивали они, -
необходимо, «чтобы в руках местных начальников была сосредоточена
военная и гражданская власть,... и лица, поставленные во главе управлений,
не именовались губернаторами, так как с этим званием сопряжены ныне
гражданские только обязанности».496 Эта позиция, поддержанная
большинством, сохраняла право на введение в Терской и Кубанской областях
305
особых «Положений» наравне с утверждением в них общероссийских
административных и судебных структур.
30 декабря 1869 года указом497 Правительствующего сената за
начальником Терской области сохранялось звание командующего войсками и
наказного атамана казачьего войска; в его руках по-прежнему находились
гражданская и военная ветви власти. При этом на помощника начальника
области возлагалось непосредственное заведывание местными войсками в
области, на правах начальника войск в военном округе. Областное
управление, расположенное во Владикавказе, кроме предписанных ему общим
губернским управлением функций, исполняло также обязанности земских
учреждений и ведало государственными имуществами.
В соответствии с новым «Учреждением управления Кавказским
краем» Терская область разделялась на семь округов: Георгиевский (позже
Пятигорский), Владикавказский, Грозненский, Аргунский, Веденский,
Кизлярский и Хасавюртовский. Этническую принадлежность населения
округов решено было не выносить в их названия, поскольку это
противоречило общегубернским нормам.498
В состав Георгиевского округа вошли бывший Кабардинский округ, г.
Георгиевск и слобода Кисловодская. Центром округа стала слобода Нальчик.
Во Владикавказский округ вошли Осетинский и Ингушский округи,
города Владикавказ и Моздок и земли 1-го и 2-го Владикавказского и 1-го
Сунженского казачьих полков, в Грозненский округ - земли Моздокского,
Гребенского и 2-го Сунженского казачьих полков и Чеченский округ. В
Кизлярский округ - территория, принадлежавшая Кизлярскому полку и
город Кизляр. Бывшие Ичкерийский и Нагорный округи были
переименованы соответственно в Веденский и Хасавюртовский; Аргунский округ
сохранил свое название.
В отличие от округов в названии участков использовались названия
населенных пунктов, этническая принадлежность жителей или просто
нумерация. Так, в начале 70-х годов Георгиевский округ делился на
четыре участка: Горячеводский, Малокабардинский, Баксанский и Черекский.
Общегражданское управление, введенное для всего населения Терской
области, в том числе для горцев и казачества, при формировании
участков исключало необходимость учета национального состава жителей.
Практически все участки Георгиевского округа имели смешанное
население.499 Такая же картина наблюдалась в других округах, например, во
Владикавказском округе; в нем, кроме того, вместо названия участков
существовала нумерация: 1-й участок составляли осетинские горные села и
306
казачьи станицы, 2-й - осетинские горные и равнинные селения и казачьи
станицы, 3-й - горные селения Джераховского ущелья и ряд казачьих
станиц, 4-й - равнинные ингушские села и казачьи станицы, 5-й - несколько
казачьих станиц и ряд селений бывшего Ингушского округа.500
Округами, как и прежде, руководили российские офицеры - окружные
начальники. Им присваивались права и обязанности, принадлежавшие по
общим законам уездным исправникам и уездным полицейским
управлениям, на них же возлагалось наблюдение за исполнением земских
повинностей, за общественным управлением в казачьих станицах, горских аулах и
немецких колониях.501
Российское правительство, взявшее курс на полное
административно-судебное слияние Кавказа с центральными губерниями, в Кубанской и
Терской областях частично сохранило институты управления,
учитывавшие особенности региона. Специальные формы управления
устанавливались в низших звеньях - в участках. В них управление строилось на
основании «Положения об общественном управлении в казачьих войсках»502 и
«Положения о сельских (аульных) обществах, их общественном
управлении и повинности государственных и общественных в горском населении
Терской области».5031 января 1871 года, с отменой военно-народных
управлений, указанные «Положения» вступили в силу.
«Положение об аульных обществах» было утверждено кавказской
администрацией накануне, 18 ноября 1870 года. Согласно «Положению»,
сельское общественное управление составили сельский сход, сельский
старшина и сельский суд. На них возлагались обязанности
административного и полицейского контроля, суда и обеспечения своевременного
поступления государству налогов с населения. Для удобства в управлении в одно
сельское общество объединились аулы и отдельные дворы; большие, в
основном равнинные, села, как правило, представляли отдельные сельские
общества.504
Сельский (аульный) сход состоял из всех совершеннолетних
домохозяев общества. Он мог быть созван сельским старшиной как самостоятельно,
так и по приказу начальника округа, его помощника или начальника
участка. На сход не допускались жители, находившиеся под следствием, судом
и надзором общества. Ведению сельского схода подлежал широкий круг
вопросов, которые по их характеру условно можно разделить на три
группы: административные, судебные и финансовые. В первую группу вошли
выборы сходом должностных лиц и проверка их действий, совещания о
ходатайстве об общественных нуждах и избрание поверенных лиц, кото-
307
рым поручалось хождение по инстанциям и подача жалоб «по делам
сельского общества», прием и увольнение членов общества и распоряжение
общественными землями. Вторую группу составили приговоры схода об
удалении из сельского общества «вредных и порочных членов» (сроком не
более трех лет, при условии утверждения приговора начальником участка),
назначение опекунов и попечителей по имениям стоимостью до 100
рублей и контроль над ними, принятие решений и мер к взысканию недоимок.
Третья группа статей «Положения» устанавливала порядок объявления
сходом сборов на общественные нужды, раскладки казенных и земских
повинностей, назначения ссуд из сельских запасных магазинов и «всякого
рода вспомоществований» нуждающимся жителям, принятия решений о
расходовании общественных капиталов, определения жалованья или
вознаграждения должностным лицам, избранным обществом.505
Малочисленные аулы могли в отдельных случаях (когда речь шла об
интересах данного населенного пункта) собирать свои частные сходы.
Обычно это были дела, касавшиеся пользования и распределения земель
между жителями села, внутренней раскладки государственных и земских
податей и повинностей, предварительное совещание по вопросам, которые
предполагалось обсудить на общем сельском сходе.
Постановления сельского схода признавались законными, если на
нем присутствовали сельский старшина и не менее половины
домохозяев, имевших право участвовать в сходе. Дела здесь решались с общего
согласия всех членов или по большинству голосов. Недовольная решением
схода сторона имела возможность подать жалобу начальнику округа через
начальника участка. Все приговоры оформлялись письменно.
Ключевой должностной фигурой в сельском обществе являлся
сельский (аульный) старшина, избиравшийся населением и исполнявший
полицейские и общественные обязанности. В перечне полицейских функций,
записанных в «Положении», назывались следующие: объявление
местному населению законов и распоряжений правительства, соблюдение
порядка в общественных местах, обеспечение безопасности жителей и их
имущества от преступных действий, пресечение слухов, наносивших вред
общественному спокойствию, арест бродяг, беглых и военных дезертиров
и их отправка полицейскому начальству, донесение властям о самовольно
отлучившихся из общества, о преступлениях и беспорядках, случившихся
в сельском обществе, исполнение приговоров схода и суда. В случае
совершения преступления на территории, порученной сельскому старшине, им
проводились предварительные следственные действия. Старшина обладал
308
правом наказывать жителей «за маловажные проступки»506 - непристойное
поведение в церкви или мечети, самовольная отлучка кого-либо из членов
сельского общества от местожительства на расстояние более 30 верст,
непочтение, грубость младших по отношению к старшим или к
должностным лицам, неповиновение работников хозяевам, непослушание
родителям, пьянство и т. п. За перечисленные проступки виновные наказывались
старшиной штрафом до одного рубля, арестом до двух дней или
определялись на два дня на общественные работы. Власть сельского старшины не
распространялась на представителей привилегированных сословий и лиц,
имевших офицерские чины; они могли быть оштрафованы или арестованы
только по разрешению окружного начальника.
При производстве личных взысканий и при исполнении приговоров
сельских судов старшина обязан был приглашать двух свидетелей
«преимущественно из стариков сельского общества».507 Это же правило
действовало при проведении старшиной предварительного дознания по
проступкам и преступлениям, а также при совершении финансовых операций -
приеме от сборщика общественных денег и их расходовании.
К административным (общественным) обязанностям сельского
старшины принадлежали: созыв и роспуск сельского схода, определение
вопросов, которые выносились на его обсуждение, наблюдение за
исполнением обязанностей остальных должностных лиц общества, за исправным
состоянием дорог, мостов, перевозов, водопроводных каналов и т. п., за
целостностью меж и межевых знаков на землях сельского общества, за
современным и правильным составлением камеральных списков, за порядком в
училищах, больницах и других общественных заведениях, учрежденных за
счет населения. Сельскому старшине предписывалось также надзирать за
отбыванием жителями различных повинностей, контролировать
деятельность торговых заведений и точность весов и мер на базарах, заведовать
общественным хозяйством, денежными суммами, общественным хлебом,
понуждать членов сельской общины к исполнению договоров и других
обязательств, заключенных как между собой, так и с посторонними лицами,
охранять от растраты арестованное имущество неплательщиков. По
просьбам жителей, собравшихся покинуть сельское общество или выехать за
его пределы, старшина должен был выписывать свидетельства, служившие
основанием начальникам участка и округа для выдачи билетов.508
Иногда сельские общества избирали помощников старшины, их
число не регламентировалось «Положением» и диктовалось «надобностью».
Помощники сельских старшин обычно выбирались в обществах, состояв-
309
ших из небольших аулов и отдельных дворов, характерных для горных
частей Терской области.
В общественной иерархии села важная роль принадлежала
сборщику податей. Он не только занимался взиманием установленных денежных
сборов, податей и недоимок, но и нес личную ответственность за
правильное ведение финансовой документации, раздачу населению квитанций о
выплатах. Ответственность сборщика податей перед обществом
прекращалась после предоставления им отчета сельскому сходу.
Все должностные лица в сельских обществах за преступления по
должности подвергались суду в общих судебных учреждениях - областном
или окружном суде.509
С 1 января 1871 года с отменой военно-народного управления,
изменилась и система судопроизводства Терской области. Главный народный
суд - высшая апелляционная инстанция по делам северокавказских
народов области, упразднялся; вместо окружных народных судов
устанавливались горские словесные суды, слово «окружной» было исключено из
названия словесных судов «дабы не смешивать с Владикавказским окружным
судом»,510 участковые народные суды сменили сельские (аульные) суды.511
Ликвидировался также Терский областной суд, учрежденный в 1864 году
для гражданского населения области и действовавший по
общероссийскому законодательству;512 его функции передавались открывшемуся в
1871 году Владикавказскому окружному суду. Как и Терский областной
суд, Владикавказский окружной суд разбирал дела по законам Российской
империи, однако, в отличие от первого, он предназначался для всего
населения Терской области, в том числе северокавказских народов.
Сельские (аульные) суды являлись составной частью сельского
общественного управления. Судебное разбирательство в них проводилось на
основе обычного права и статей 32-52 «Положения о сельских (аульных)
обществах». Судьи в аульные суды избирались на сходе из домохозяев
сроком на один год и утверждались по представлению окружного начальника
начальником области. «Положение» не определяло их точное количество в
суде, главным условием ставилось - не менее трех и нечетное число судей.
Сельский старшина не мог влиять на ход дел в суде, за исключением того
случая, когда он сам избирался членом суда. В ведении аульных судов
находились дела по маловажным проступкам жителей и гражданские иски.
Маловажные проступки подразделялись на две группы. К первой
относились преступления против личной безопасности: порча воды в
колодцах и водоемах, продажа испорченных продуктов, отказ в помощи при по-
310
жаре, наводнении и т. п., избиение без причинения увечья. Вторую группу
преступлений составляли нарушения имущественных прав:
злоумышленная запашка, потрава чужого поля или порча имущества, обмер и обвес
при продаже, присвоение чужой вещи, необъявление об имуществе
заведомо краденном, злоумышленная растрата хозяйского имущества, кража,
мошенничество (стоимостью не более 10 рублей в первый или во второй
раз). Сельский суд обладал правом приговаривать виновных к
общественным работам сроком до шести дней или денежному взысканию до трех
рублей, или к аресту до семи дней. Выбор рода и меры взыскания за
каждый проступок предоставлялся на усмотрение самого суда. Независимо от
наказания, назначенного судом, виновный должен был возместить истцу
нанесенные «вред и убыток».513
Для разбора гражданских исков в сельских судах «Положение»
устанавливало ограничение в цене до 30 рублей. Стоимость иска не имела значения в
том случае, если обе стороны выражали желание судиться именно в аульном
суде. Истец и ответчик при этом давали подписку в том, что они
предоставляют разбор дела данному суду и признают его приговор окончательным.
В сельском обществе тяжущимся по-прежнему разрешалось
обращаться к третейскому суду. Избрав эту форму разрешения спора, стороны
обязывались подчиниться его решению, и теряли право обращения в
другие судебные органы.
Развитие торговли и института собственности, зарождение в
социально-экономическом строе северокавказских народов элементов,
характерных для буржуазных отношений, привели к появлению различных форм
обязательств среди горцев. В связи с этим кавказская администрация
возложила на сельские суды функции нотариальных контор. В них
заверялись договоры, сделки, завещания о движимом и недвижимом имуществе
стоимостью не более 100 рублей. В «Положении» приводится процедура
оформления завещания. Оно оглашалось завещателем в присутствии
судей и двух свидетелей, а затем записывалось в книгу сделок и договоров и
скреплялось подписями всех присутствовавших.514
Приговоры сельских судов считались окончательными и обжалова-
нью не подлежали. Исключение составляли Владикавказские осетинские
аульные суды. С 1 декабря 1874 года их решения могли быть отменены
наместником Кавказским.515 Решения сельских судов Терской области
отменялись в тех случаях, когда они превышали данные им полномочия или
вели судебное разбирательство с нарушениями. Недовольный действиями
суда ответчик, истец или участковый начальник, обнаруживший наруше-
311
ния, могли в течение месяца обратиться с жалобой в горский словесный
суд, который аннулировал решение сельского суда.
Горские словесные суды Терской области, как и сельские суды,
представляли собой специальные органы судопроизводства,
предназначенные для северокавказских народов. В Терской области было учреждено
семь горских словесных судов: Нальчикский - для балкарцев и
кабардинцев, Владикавказский - для осетин, Назрановский - для ингушей,
Хасавюртовский - для кумыков, Грозненский, Веденский и Аргунский
- для чеченцев.516 Горские словесные суды рассматривались кавказскими
властями как временные, установленные на переходный период до
полного распространения российского законодательства в области. Это нашло
свое отражение в принципах организации словесных судов и в порядке
судопроизводства. В соответствии с «Временными правилами для горских
словесных судов» разбор дел в них осуществлялся «на основании
местных обычаев, а по делам, для решения которых обычай не сложился, - по
общим законам империи».517 Небольшая группа дел могла разбираться по
шариату; к ней принадлежали дела о заключении и расторжении брака (в
том числе о разделе имущества при разводе), о законности рождения и дела
о наследстве. Горский словесный суд состоял из депутатов от населения,
их число определялось штатами. Должность председателя в суде занимал
окружной начальник или его помощник. При рассмотрении дел по шариату
председательствующий приглашал на заседание суда состоявшего при суде
кадия. Разбор дел в судах проходил устно и публично, приговор выносился
по большинству голосов.
Ведомству горских словесных судов по уголовным делам
подлежала лишь часть преступлений, предусмотренных «Уложением о
наказаниях уголовных и исправительных»; к ним относились: 1) неумышленное
убийство, нанесение ран, увечья во время ссоры или драки; 2) убийство,
увечье по неосторожности; 3) нарушение пределов необходимой обороны;
4) кража со взломом, кража с применением оружия, если цена
похищенного не превышала трехсот рублей и кража совершалась в первый или второй
раз; 5) похищение и изнасилование женщин; 6) дела по предупреждению и
прекращению вражды и кровомщения.518
Из ведения судов изымались дела, по которым вместе с горцами
соучастниками преступления выступали лица, не подсудные горским
словесным судам, дела о преступных деяниях, совершенных горцами
против лиц, не принадлежавших к горскому населению, а также
уголовные преступления, не вошедшие в перечень дел, подлежавших разбору
312
в словесных судах. Все они решались во Владикавказском окружном
или в мировом суде по российским законам. Кроме того, горец,
намеревавшийся подать жалобу и заявить о совершенном против него
преступлении имел право выбора между горским словесным судом и окружным
судом.
При вынесении приговора словесный суд руководствовался одной из
рекомендаций «Положения». По ней суд определял «по совести - степень
виновности обвиняемого, по обычаю — количество вознаграждения
потерпевшему и по закону - положенное виновному наказание».519 Приговоры
суда, превышавшие по общероссийским законам власть мировых судей, но
находившихся по «Временным правилам» в компетенции горских судов,
передавались на утверждение начальнику области. Решение суда
считалось окончательным в тех случаях, когда денежный штраф с одного лица
не превышал 30 руб., арест налагался не более чем на месяц, а
вознаграждение за вред и убытки ограничивалось 100 руб. Все остальные приговоры
горских судов могли быть обжалованы в течение месяца начальником
области. Вошедшие в силу приговоры исполнялись местной полицией.
Кавказская администрация строго следила за тем, чтобы жалобы
и иски подавались в тот горский суд, в округе которого было совершено
преступление. Возникавшие между горскими судами споры разрешались
начальником области, между мировыми и горскими словесными судами и
судебным следователем - окружным судом, между горскими словесными и
окружными судами - Тифлисской судебной палатой.
Разбор гражданских исков в горских словесных судах также
ограничивался властями, их стоимость не могла быть выше 2000 руб. В число
разрешенных гражданских исков входили споры по договорным
обязательствам, обеспеченным залогом недвижимого имущества, дела о наследстве
и его разделе, об опеке. Однако горским судам разрешалось принимать на
рассмотрение любой гражданский иск в том случае, если обе тяжущиеся
стороны примут решение о разборе их дела именно в горском суде и
письменно признают его решение окончательным. Точно так же по взаимному
согласию истец и ответчик могли обратиться во Владикавказский
окружной суд для разбора дела по своему характеру, попадавшему в ведение
горских судов.520
В тех округах, где не было нотариусов, словесному суду поручалось
засвидетельствование заключенных горцами обязательств.
Ряд проступков, совершенных жителями Терской области, разбирался
в горских судах одним председательствующим без участия депутатов. Это
313
были дела «против порядка управления, спокойствия граждан, против
народного здравия, нарушения уставов о паспортах» и т.п.521
Вскоре после учреждения в Терской области горских словесных
судов осетины и кабардинцы обратились к кавказским властям с просьбой об
установлении для них российского законодательства. 28 октября 1871 года
для осетин был создан мировой отдел Владикавказского окружного суда, а
Владикавказский горский словесный суд упразднен. Просьбу кабардинцев
власти отклонили, признав ее преждевременной.522
Итак, к 1860 году российские власти достигли единства в системе
административных и судебных учреждений, установленных для осетин,
кабардинцев, балкарцев, чеченцев и ингушей, сохранив при этом для них
специальную форму - военно-народное управление.
В конце 60-х - начале 70-х годов в связи с проведением на Кавказе
общероссийских буржуазных реформ и переменой
административно-политического курса в регионе правительство приняло решение о полной
унификации кавказских государственных органов власти с внутрироссийскими.
Военно-народное управление Терской области, как вступившее в
противоречие с реформами, было упразднено. Все население области -
«гражданское», казаки и горцы объединились в единое управление. Действия
правительства в этом направлении нашли отражение в реорганизации
областных и окружных административных учреждений по типу российских. При
этом специфика в управлении северокавказскими народами сохранялась на
уровне низшего «аульного» звена, а также судебных институтов - аульных
судов и горских словесных судов.
314
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На Центральном Кавказе российский административно-судебный
аппарат явился определяющим фактором в процессе модернизации
общественного быта горских народов. Его утверждение происходило в условиях,
когда в новой истории Кавказа горцы все еще находились на разных
уровнях хозяйственного и общественного развития. Одни из них - вайнахские
народы (чеченцы, карабулаки и ингуши) продолжали сохранять тайповую
(родовую) организацию и вступали в стадию протофеодальных отношений,
другие - осетины и балкарцы, в свое время привнесшие в горскую среду
аланский феодализм, успели приспособить его к новой географической
среде; в общественном развитии значительно продвинулись кабардинцы,
имевшие на северокавказской равнине благоприятные для экономического
подъема условия. Различия в стадиальном уровне общественного уклада
обусловили неодинаковую социальную подготовленность к восприятию
российских форм государственной административной организации
общества. Эгалитарные социальные структуры, наметившие пути к
иерархической форме общества и обнаружившие острые внутренние противоречия,
адекватно реагировали на введение судебных учреждений, в которых были
представлены местные старшины; из-за остроты внутренних межтайповых
конфликтов такие структуры нуждались в третейском судопроизводстве, в
качестве которых выступали российские судебные учреждения. Вместе с
тем эгалитарные общества, сохранявшие демократические институты тай-
пового общественного уклада, отторгали жесткую систему господства и
подчинения, на которой основывалось российское государственное
управление. Этот важный факт не только затруднял адаптационные процессы
местных традиционных форм управления с российскими
административными учреждениями, но и обрекал контрастировавшие разноуровневые
управленческие системы на противостояние.
Принципиально иная политическая ситуация складывалась в
процессе установления российских государственных учреждений в районах
Центрального Кавказа, имевших феодальную структуру общества. В них
феодально-зависимые социальные слои населения, ориентированные на
Россию, ожидали от властей, утверждавшихся в крае, защиты от
феодального произвола местных владельцев. Последние, в свою очередь, опасаясь
потерять свои социальные привилегии, периодически уходили в оппозицию
или же вовлекались во фрондирующее движение. Однако для российской
315
администрации на Кавказе сколь были непонятны эгалитарные общества,
противостоявшие ее управленческим институтам, столь же хорошо
осознавалось социальное положение, сложившееся в феодальных обществах
Центрального Кавказа. Лавируя между противостоящими внутренними
политическими силами местных народов, российские администраторы имели
заметный успех в установлении государственных учреждений в Балкарии,
Кабарде и Осетии. Сказывалось и другое - особенности феодальных
отношений и фамильно-корпоративный характер здесь феодализма. Господство
адатных норм права и отсутствие государственных нормативов открывали
простор для расширительного толкования обычного права, позволявшего
феодалу установить над зависимыми от него сословиями неограниченную
власть. Опасность такого развития власти местных феодалов в еще
большей мере содержалась в фамильно-корпоративной форме собственности и
самого феодализма в целом. Оба указанных социальных фактора создавали
для российских властей широкую социальную опору как среди
феодально-зависимых сословий, так и свободных общинников.
Разноуровневые общественные структуры, сложившиеся на
Центральном Кавказе, а также внутренние и внешнеполитические
перемены, происходившие на протяжении последней четверти XVIII века и до
80-х гг. XIX века в самой России, обусловили установление в разные
периоды у горских народов различных форм российского
административного управления. Этот длительный и достаточно сложный процесс протекал
по определенным этапам. Так, период становления российского аппарата
управления у северокавказских народов, охвативший конец XVIII - первую
треть XIX века, по характеру формировавшейся администрации разделялся
на два этапа: начальный, включавший конец XVIII в. и второе десятилетие
XIX в., и этап более интенсивного охвата региона российской
администрацией и оформления управленческих структур; хронологические рамки
второго этапа ограничивались 1822-1830 гг. В этот период российское
правительство фактически сочетало на Центральном Кавказе непрямую, прямую
и смешанную формы управления. При этом на первом и втором этапах их
пропорциональное соотношение периодически изменялось.
К административному устройству Северного Кавказа царское
правительство приступило еще в первой четверти XVIII века, начав его с
казачьего населения Предкавказья. С постройкой крепостей Кизляра и Моздока и
переселением в окрестности Моздока части (хотя и незначительной)
местного населения Северного Кавказа горцы впервые столкнулись с
российским управлением. В это время, в 60-е - 70-е годы, Россия в своей политике
316
на Северном Кавказе предприняла попытку привлечь местные этнические
анклавы, образовавшиеся на российской границе, к той же
военно-административной организации, которая существовала ранее среди казачества
Предкавказья. Действия царизма, однако, ограничивались условиями
Белградского мирного договора.
Ситуация изменилась после окончания русско-турецкой войны
1768-1774 гг. и заключения Кючук-Кайнарджийского мира, серьезно
менявшего положение народов Центрального Кавказа. Одним из условий
договора явилось признание за Россией Большой и Малой Кабарды. Заключение
выгодного для России мира с Турцией предоставило российскому
правительству также возможность удовлетворить неоднократные просьбы
Осетии, Ингушетии и Чечни о присоединении к России. Разновременно (в
1770 году Ингушетия, в 1774 году Осетия, а в 1781 году Чечня) эти районы
Центрального Кавказа вошли в состав России.
Таким образом, в конце XVIII века Центральный Кавказ становится
политически доступным для постепенного введения административного
аппарата царизма. Образование в 1785 году в степной полосе Предкавказья
Кавказского наместничества достаточно ярко выражало тенденцию к
дальнейшему распространению российских владений на Кавказе. Однако в
80-е годы правительство продолжало ограничивать свои действия в
отношении народов Центрального Кавказа и свело их к развитию торговых
связей между населением наместничества и горскими жителями, а с
постройкой Кавказской линии укреплений - к установлению за ними
военного контроля. В это время российскими властями пока еще не
предусматривались административные учреждения, специально предназначенные для
управления Кабардой, Осетией, Ингушетией и Чечней. Вовлечение их в
российскую систему управления и успешное ее функционирование
связывалось на первых порах с тем, что горцы «сами найдут собственную
выгоду в причислении под управление, установленное Россией».
Первые административно-судебные институты для народов
Центрального Кавказа начали вводиться с 1793 года. Ими стали Моздокский Верхний
пограничный суд и родовые суды и расправы, созданные в Кабарде. При
этом если родовые суды и расправы предназначались только для Кабарды,
то в Моздокский суд практически имело право обращаться все нерусское
население Моздока и его окрестностей; зафиксированы также отдельные
случаи обращения в этот суд жителей Осетии и Чечни.
В 1800 году Коллегией иностранных дел решено было установить для
управления местными народами Центрального Кавказа особый институт
317
приставства во главе с главным приставом. Цель учреждения должности
главного пристава, являвшегося представителем гражданской
администрации, российское правительство видело в облегчении командующему
«бремени управления» и в сосредоточении «его внимания, главным образом, на
делах военных». Он должен был исполнять роль связующего звена между
кавказскими народами и царской администрацией и подчиняться
непосредственно Коллегии иностранных дел. Однако возникала двойная
подчиненность народов, граничивших с Кавказской линией, военным и
гражданским властям. Дело в том, что коменданты крепостей, осуществлявшие
надзор за Осетией, Чечней и Ингушетией, а также пристав Кабарды,
будучи лицами военными, подчинялись командующему Кавказской линией.
Кроме того, возросшая с введением должности главного пристава
бумажная волокита и финансовые расходы, а также острое недовольство военной
администрации передачей местного населения в гражданское ведение
заставили власти усомниться в перспективности нововведения.
В 1801 году присоединение Грузии ставило перед Россией вопрос не
только об административном устройстве новых территорий, но и о
реконструкции управленческого аппарата на Северном Кавказе. В 1802 году в
Предкавказье была образована Кавказская губерния. Тогда же
главноуправляющему поручено было непосредственно самому наблюдать за горскими
народами.
В 1804 году кн. Цицианов определил основные принципы
административной политики в отношении горцев Центрального Кавказа. Он
предписывал руководствоваться обычаями и традициями местных народов,
оставляя за горскими владетелями права в отношении зависимого населения с
сохранением «им возможности производить суд и управление по обычаям
страны». Но в то же время владельцы и старшины должны были находиться
в поле зрения начальников российских гарнизонов, расположенных вблизи
от населенных пунктов.
Эти положения нашли свое отражение в административных
мероприятиях правительства, проводимых им среди северокавказских народов в
начале XIX в. Однако из-за сложившейся на Кавказе обстановки российские
власти не предпринимали серьезных шагов, направленных на изменение
традиционной системы управления. Войны России с Францией, Ираном и
Турцией, рост феодальной фронды и набеговой практики на Центральном
Кавказе, а также распространение опасных эпидемических заболеваний
создавали весьма тяжелую обстановку для широкой административной
деятельности и вынуждали власти придерживаться политики невмешательства
318
во внутреннюю жизнь горцев. Так, в Кабарде российское командование
согласилось пойти на уступки князьям и духовенству, позволив им решать
дела в духовном суде по шариату. Что касается Осетии и Ингушетии, то в
первом десятилетии XIX века они по-прежнему оставались под контролем
владикавказского коменданта и начальников воинских команд,
разместившихся в отдельных селах под предлогом охраны местных жителей от
военных набегов соседей. В 1807 году лишь на равнинной части Чечни были
осуществлены временные меры, направленные на усиление здесь военного
контроля и подчинение чеченских старшин кавказским царским властям;
они вызывались участившимися набегами чеченцев на Кавказскую линию.
После окончания русско-турецкой и русско-иранской войн и
завершения военных действий в Западной Европе Россия активизировала политику
на Кавказе. В 1816 году на равнинной части Осетии устанавливалось
волостное управление; в этом же году А. П. Ермолов выдвинул идею о
привлечении осетин к военной службе. В 1822 году, после переселения части
осетин на равнинные земли, властями сразу же была определена зависимость
переселенцев от того или иного ведомства: выходцы из Дигорского
ущелья подчинялись «начальнику в Кабарде», из «Алагирского, Тагаурского и
Куртатинского - коменданту Владикавказской крепости». В такое же
административное положение попадали переселенцы из Чечни; в деревни,
лежавшие по правому берегу Терека, в 1818 году назначался пристав, а на
население налагалась воинская повинность. В том же году часть Ингушетии
(«назрановские ингуши») получила приставское управление.
Как видно, на первом этапе (конец XVIII - второе десятилетие XIX в.)
общее административное устройство Северного Кавказа формально ничем
не отличалось от центральных губерний России (наместничество,
губерния). Но именно в этот период началось формирование системы
специфических административных и судебных учреждений, создававшихся для
управления горскими народами.
24 июля 1822 года был издан указ, в котором Кавказская губерния
переименовывалась в область. «Записка об управлении Кавказом»,
составленная А. П. Ермоловым в 1816 году, и сенаторская ревизия, проведенная
в 1818 году сенаторами Б. А. Гермесом и Д. Б. Мертваго, послужили своего
рода толчком к проведению реформы в управлении Северным Кавказом.
Реорганизация административных структур на Северном Кавказе,
последовавшая за указом 1822 года, захватила и народы Центрального Кавказа,
находившиеся в ведении командования Кавказской линии. Подчеркнув,
что они «остаются в военном управлении», российские администраторы
319
позволяли «инородцам» осуществлять судопроизводство гражданских дел
по обычному праву и рекомендовали при этом «назначать для наблюдения
за разбором дел российского чиновника»; уголовные же преступления с
этого времени передавались в военный суд.
С 1822 года происходит активное вмешательство кавказских властей
во внутреннюю жизнь кабардинского общества. Объявив кабардинские
земли государственной собственностью и определив права и обязанности
кабардинцев, правительство закрепило за собой право раздавать по своему
усмотрению земли в Кабарде, лишать или, наоборот, присваивать
кабардинцам дворянство, регулировать взаимоотношения между владельцами и
крепостными.
В зависимости от российской администрации оказалось также
судопроизводство: установленный в 1822 году в Кабарде Временный суд
исполнял судебно-административные функции и находился под контролем
военных властей. Его состав не был выборным, как в ранее
существовавших здесь судебных учреждениях (родовые суды и родовые расправы,
духовный суд), а назначался администрацией. В правилах, определявших
деятельность суда, ставился вопрос об усилении влияния российских
законов на судопроизводство Кабарды путем приспособления адатных норм и
шариата к законам Российской империи.
Именно эти конкретные меры, предпринятые в Кабарде царскими
властями, усиливали здесь российское влияние, способствовали
установлению военно-административного управления.
В 1827 году Николай I утвердил «Учреждение для управления
Кавказской областью», составленное Сибирским комитетом. Авторы
документа разработали структуру аппарата управления Северным Кавказом и
функции установленных здесь административных институтов.
Издание «Учреждения для управления Кавказской областью»,
определявшее основные направления в развитии администрации у народов
Центрального Кавказа, а также общая направленность
военно-политических действий Петербурга на «полное покорение горцев» явились
главными причинами, побудившими российских администраторов приступить к
подготовке судебной реформы в Осетии, Ингушетии и Чечне. Считалось,
что итогом реформы должно стать учреждение здесь судебных органов,
идентичных по своим функциям Временному кабардинскому суду и
подчиненных российскому командованию на Кавказе.
В 1828 году открытие такого суда для осетин и ингушей состоялось
во Владикавказе. Однако новая его реорганизация, проведенная правитель-
320
ством после карательной экспедиции Абхазова в 1830 году, привела к
существенным переменам как в работе суда и в его составе, так и в
управлении местным населением. Здесь впервые в гражданском судопроизводстве
горских народов были применены законы России, а членами суда стали
русские чиновники. В этом же 1830 году в Осетии и Ингушетии вводилась
система приставства, и все население облагалось податями.
В Чечне проведению судебной реформы и ее дальнейшему
административному развитию помешала начавшаяся Кавказская война.
Для российского управленческого аппарата на Северном Кавказе
третьего десятилетия XIX века характерным являлось наделение военных
властей правами и обязанностями гражданской администрации
(главноуправляющий, он же - главнокомандующий войсками на Кавказе;
начальник (губернатор) Кавказской области, он же - командующий войсками
Кавказской линии; окружной начальник - обязательно военный чиновник
и т.д.).
В целом, к концу первой трети XIX века созданная на Северном
Кавказе, в том числе и в центральной его части, администрация представляла
собой аппарат прямого и смешанного управления, однако он был
достаточно приспособленным к местным условиям. Его специфика определялась
постоянно существовавшей здесь военной обстановкой, частыми войнами
России с Ираном и Турцией, а также социально-экономическими
условиями Центрального Кавказа.
30-70-е годы XIX века - время дальнейшего развития российских
институтов управления на Центральном Кавказе, тесно связанное с
реорганизацией административного устройства на Кавказе в целом.
Хронологически оно охватывает несколько этапов: 30-50-е годы XIX века, когда
основным способом управления народами Центрального Кавказа являлась
приставская система; 1858-1870 гг. - действие военно-народной формы
управления; 1871-1882 гг. - проведение буржуазных реформ и отказ от
специальных управленческих институтов как на Центральном Кавказе, так
и во всем Кавказском крае. Для данного периода характерен постепенный
отход от прямой и приоритетность смешанной формы управления,
окончательно утвердившейся с введением военно-народной системы. Его
логическим завершением стала политическая направленность правительства на
полное административное слияние Кавказа с Россией.
К 1830 году Россия завершила военные действия в Закавказье и
заключила Туркманчайский и Адрианопольский мирные договоры с Ираном и
Турцией, тем самым закрепив юридически за собой Эриванское и Нахиче-
321
ванское ханства. Присоединение к России новых обширных территорий и
предстоявшее их административное освоение выдвинули на первый план
проблему реконструкции всего управленческого механизма, сложившегося
на Кавказе, и образования общекавказских государственных учреждений.
К 1830-1844 гг. относятся поиски правительством
политико-административных подходов и путей реформирования системы управления
Кавказом, разработки и обсуждения проектов, будущих преобразований в
Закавказье и на Северном Кавказе.
Решением именно этих вопросов занимались специально
сформированные в Петербурге временные комитеты - Комитет об устройстве
Закавказского края, комиссия под руководством П. В. Гана и VI отделение
Собственной е. и. в. канцелярии. Высшими чиновниками были определены два
возможных направления в «гражданском обустройстве» Кавказа. Первое
- «централистское», его ярым пропагандистом являлся П. В. Ган,
предлагавший установление здесь общероссийских бюрократических органов и
административное слияние Кавказского региона с Россией; сторонники
второго направления - «регионализма» - признавали необходимость учета
социально-экономической и политической специфики Кавказа и
выступали за введение в крае особого управления. Большая реалистичность пути,
обозначенного «регионалистами», стала очевидной после полного провала
кавказской реформы П. В. Гана. В 1844 году Николай I поддержал идею
установления на Кавказе специальной, отличной от российской, формы
управления - наместничества. 24 декабря царским указом М. С. Воронцов
был назначен наместником Кавказским, а немного позже в Тифлисе при
наместнике учреждены общекавказские центральные органы власти, по
своим функциям приравненные к министерствам - Главное управление,
Совет Главного управления и др. Их реформирование, а также появление в
последующие годы новых кавказских центральных учреждений не лишало
первые ранее присвоенного им статуса.
Одновременно с образованием Кавказского наместничества и
организацией его управленческих структур Петербург сформировал высший
государственный орган власти - Кавказский комитет, долгие годы
являвшийся проводником российской политики в различных сферах кавказской
жизни. Отношения Кавказского комитета и наместника регулировались
«Положением о правах наместника»; согласно документу, наместник не
столько подчинялся Кавказскому комитету, сколько сотрудничал с ним.
Широкие полномочия, самостоятельность и независимость наместника
Кавказского от большинства государственных учреждений объяснялись
322
военно-политической ситуацией, сложившейся на Кавказе и, прежде всего,
развернувшейся Кавказской войной. Во второй половине 50-х годов XIX в.
стремление Александра II к скорейшему покорению Северо-Восточного и
Северо-Западного Кавказа, завершению военных действий и
административному освоению завоеванных территорий привело к беспрецедентному
усилению кавказского военного и гражданского административного
аппарата. Занимавший пост наместника А. И. Барятинский был полностью
выведен из-под контроля всех высших и центральных органов власти и
подчинялся только императору, а Кавказский Отдельный Корпус преобразован
в Кавказскую армию.
Что касается управления народами Центрального Кавказа, то для них,
как, впрочем, и для других горских народов Кавказа, существовала воен-
но-приставская система управления, сложившаяся в 30-е годы XIX века,
которая в середине 30-40-х годов приняла четкие очертания. Во главе ее
стоял главнокомандующий (он же - главноуправляющий, позже -
наместник), ему подчинялся командующий Кавказской линией. При штабе
командующего линией действовала особая Канцелярия для управления
мирными горцами (г. Ставрополь), занимавшаяся текущими делами. К
верхнему звену приставской военно-административной системы принадлежали
также начальники флангов Кавказской линии. Среднее звено составляли
приставы, низшее - владельцы и старшины. Управление каждого
отдельного народа поручалось приставу и его помощникам. Приставы назначались
преимущественно из русских офицеров, знакомых с обычаями и жизнью
горцев, иногда ими становились горские владельцы, находившиеся на
российской военной службе.
Однако приставская система была далеко не совершенной. На ее
недостатки указывал еще А. П. Ермолов, предложивший в 1822 году в
качестве альтернативы учредить в Большой Кабарде Временный кабардинский
суд, наделенный судебными и административными полномочиями.
Большое число приставов создавало трудности в контроле за их деятельностью,
а неучастие в судебном разбирательстве и низкое жалованье придавали
должности пристава «малозначительность» в глазах местного населения.
Постепенный отказ от приставского управления начинается в 50-е годы
XIX века. Уже в 1852 году для Чечни, большая часть населения которой так
и не приняла российских приставов, А. И. Барятинский разработал проект
нового устройства, позже получившего название «военно-народного
управления». Во главе Чечни А. И. Барятинский поставил российского офицера
- «начальника чеченского народа», на нем лежали «заботы главного управ-
323
ления». Управление чеченцами российские власти осуществляли через
окружных и сельских старшин, руководивших местной администрацией,
а также через Чеченский народный суд. После назначения А. И.
Барятинского на пост наместника введенная им в Чечне административная система
была объявлена образцовой.
Первые мероприятия, направленные на внедрение военно-народного
управления среди горских народов Кавказа, в том числе и в центральной
его части, и широкое использование при этом «чеченского опыта», были
предприняты А. И. Барятинским в 1857-1858 гг. в ходе реорганизации
Кавказской линии и образования Кавказской армии.
Общественно-политическое и экономическое положение Кавказского края явилось, с точки зрения
наместника, той плодородной почвой, на которой в итоге выросло
военно-народное управление. В нем учитывались разные условия жизни
народов Центрального Кавказа при одновременном стремлении создать единую
систему управленческих институтов для всех горцев. 1 апреля 1858 года в
соответствии с «Положением об управлении Кавказской армией» бывшая
Кавказская линия разделялась на округи, управлявшиеся особыми
начальниками; в окружных центрах открывались выборные народные суды.
В 1860-1862 гг. с образованием Терской области произошло полное
оформление административных структур военно-народной системы на
Центральном Кавказе. При этом сложилась следующая административная
градация: наместник (главнокомандующий), начальник Терской области
(командующий войсками), начальники отделов Терской области,
окружные начальники, участковые начальники, сельские старшины и десятские.
Одновременно открывались государственные учреждения,
занимавшиеся текущими делами по вопросу управления горскими народами области.
Так, в 1860 году при Главном штабе Кавказской армии была учреждена
Канцелярия по управлению кавказскими туземцами, в 1865 году ее
сменило Горское управление, образованное при помощнике наместника. В
Терской области при командующем существовала Канцелярия по управлению
горцами области; свои канцелярии имели также окружные и участковые
начальники. Здесь же для судопроизводства горских народов области
открывались Главный народный суд, окружные и участковые народные суды,
действовавшие на основе обычного права.
В 60-е годы XIX века, после покорения Северо-Восточного и
Северо-Западного Кавказа, самостоятельность кавказских органов власти стала
постепенно ограничиваться. Решение новых задач, поставленных
Александром II перед кавказской администрацией, - проведение на Кавказе буржу-
324
азных реформ в общероссийских рамках — делали целесообразным тесное
сотрудничество и частичное подчинение наместника и его аппарата
высшим и центральным государственным учреждениям.
Буржуазные реформы 60-70-х гг. привели к реорганизации
кавказского административного аппарата в целом. Кавказский комитет, созданный
в свое время для решения наиболее сложных вопросов в области
экономического и административного управления Кавказом, утратил свое
былое значение - потребность в нем стала отпадать. Ограничительные меры
затронули также права и власть наместника. Военно-окружная реформа,
распространенная в 1865 году на Кавказ, фактически уравнивала его с
командующими других военных округов России.
В 60-70-е гг. административное развитие Центрального Кавказа
проходило в русле проводившихся на Кавказе реформ. Их реализации на
территории Терской области мешала, однако, существовавшая здесь
военно-народная система управления, в свое время установленная для горского
населения. По сути, вступая в противоречие с российскими буржуазными
реформами, она препятствовала их проведению на Центральном Кавказе.
В связи с этим 1 января 1871 года был издан указ об упразднении
военно-народной управленческой структуры в Терской области: все жители
области - «гражданские», казаки и горцы - объединялись в единое
управление. Действия правительства в этом направлении нашли отражение в
перестройке областных и окружных административных и судебных
учреждений по типу российских. При этом специфика в управлении народами
Центрального Кавказа сохранялась на уровне низшего «аульного звена» и
отдельных судебных органов - аульных судов и горских словесных судов.
В 70-е гг. XIX века на Центральном Кавказе были проведены
буржуазные реформы в соответствии с курсом унификации кавказских
государственных органов власти с внутрироссийскими.
Характеризуя в целом усилия администрации наместничества,
занятой реализацией реформ, следует прежде всего отметить, что практически
все преобразования на территории Кавказа носили еще более урезанный
характер, чем в России. Часть из них, например, земская реформа,
вообще не затронула регион. Основная причина отсрочки некоторых реформ
или осуществление их в неполном объеме объяснялась правительством
неподготовленностью к ним жителей Кавказа. Социально-экономическая
многоукладность, полиэтничность, прочность местных традиций, в том
числе норм обычного права, поликонфессиональность - все это создавало
серьезные трудности на пути реформирования общественного уклада, сло-
325
жившегося у народов Центрального Кавказа. Несмотря на половинчатость
реформ, их проведение имело для административного развития Кавказа
судьбоносное значение. Оно во многом решало задачу, давно ставившуюся
перед главноуправляющими и наместниками, - тотальную привязку
Кавказа к России не только в политическом, но и в административном
отношении. В 1882 году с целью завершения процесса полной интеграции Кавказа
в общероссийскую систему управления царское правительство
ликвидировало Кавказское наместничество и Кавказский комитет.
Итак, реконструкция и определение «технических» параметров
административного аппарата управления, созданного российским
правительством на Центральном Кавказе, позволили четче установить его
социальные аспекты и приживаемость, во многом зависевшую от генезиса
горских общественно-экономических структур. Сложившаяся здесь к 80-м
гг. XIX века организация административной власти, с одной стороны,
отвечала политическим целям, выдвинутым Петербургом, с другой -
раздвигала феодальные и этнические барьеры, связывая
административно-правовым механизмом ранее разобщенные территории, учитывала особенности
внутреннего традиционного общественного устройства каждого этноса.
На этом этапе кавказскую управленческую систему следует рассматривать
как парадигму, наиболее оптимально отвечавшую российской
капиталистической экономике, активно вторгавшейся в общественную жизнь
народов Кавказа. Такая административная конструкция не противоречила
логике внутренних социальных процессов, которыми были охвачены районы с
выраженным опытом феодального развития. Например, Кабарда, Балкария
и Осетия относительно плавно входили в новые экономические
отношения; именно этой задаче отвечали государственные институты и правовые
нормы, вводившиеся на Центральном Кавказе. Несомненно также и то,
что некоторое отставание в общественном развитии вайнахских народов
и высокая степень потестарности их традиционных форм управления
становились причиной нередких столкновений с российскими властями.
Наряду с этим позитивную роль в динамике приживаемости нового аппарата
управления играло стремление российской администрации к широкому
привлечению не только феодальной, но и тайповой знати к деятельности в
административных и судебных учреждениях низшего, а иногда и среднего
звена.
326
ПРИМЕЧАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 Дебу И. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске. СПб.,
1829.
2 Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе.
СПб., 1858. Т. МП; Висковатов А. А. Цицианов, князь Павел Дмитриевич. Тифлис, 1864;
Дубровин Н.Ф. Алексей Петрович Ермолов на Кавказе // Военный сборник. СПб., 1882.
№2-10; 1884. №1-2; 1886. №3-4; 1888. №2-3; №7-8; Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал
Паскевич, его жизнь и деятельность. СПб., 1889-1891. Т. П-Ш; Щербинин М. П. Биография
Воронцова. СПб., 1858; Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович
Барятинский. М., 1889-1891. Т. МП и др.
3 Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871-1888.
Т. 1-У1.
4 Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и
биографиях. СПб., 1885-1889. Т. 1-У1.
5 Потто В. А. Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис, 1901. Т. МП.
6 Потто В. А. Два века Терского казачества. Владикавказ, 1912. Т. 1-П.
7 Эсадзе С. С. Историческая записка об управлении Кавказом. Тифлис, 1907. Т. 1-П;
его же: Исторический очерк распространения русской власти на Кавказе. Тифлис, 1913.
8 Иваненко В.Н. Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии и до
наместничества великого князя Михаила Николаевича. Тифлис, 1901.
9 Там же. С. 290-292.
10 Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе
// Сборник сведений о кавказских горцах (далее ССКГ). Тифлис, 1870. Вып. IV. С. 1-80.
11 См. список литературы.
12 Бентковский И. В. Дела наши на Северном Кавказе от построения укрепления
Моздока до учреждения Кавказского наместничества // Ставропольские губернские
ведомости. 1876. №31-33; Кавказская губерния до преобразования в область (1804-1824 гг.)
// Ставропольские губернские ведомости (далее СГВ). 1877. №12-20, №26-27; и др.
13 Ковалевский М. М. Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин
в историко-сравнительном освещении. М., 1886. Т. 1-П.
14 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1890. Т. М1.
15 Там же. Т. I. С. 289-290.
16 Рейнке Н.М. Горские народные суды Кавказского края. СПб., 1912.
17 Очерк развития административных учреждений в кавказских казачьих войсках.
Тифлис, 1885.
18 Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М., 1923.
19 Бушуев С. К. Из истории внешнеполитических отношений в период
присоединения Кавказа к России (20-70-е годы XIX в.) М., 1955.
20 Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в ХУ1-Х1Х в. М., 1958.
21 Фадеев А.В. Россия и Восточный кризис 20-х гг. XIX века. М., 1958; Россия и
Кавказ в первой трети XIX в. М., 1960.
22 Семенов Л. С. Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20-е
годы XIX в. Л., 1963.
327
23 Маркова О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в. М., 1966.
24 Бушуев С. К. Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик, 1956.
25 Фадеев А. В. Очерки экономического развития Степного Предкавказья в
дореформенный период. М., 1957.
26 Кумыков Т. X. Социально-экономические отношения и отмена крепостного права в
Кабарде и Балкарии. Нальчик, 1959.
27 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения в XVIII - первой трети XIX в.
Орджоникидзе, 1970.
28 Кумыков Т.Х. Из истории судебных учреждений в Кабардино-Балкарии (конец
XVIII-XIX вв.) // Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского
института. Нальчик, 1963. Т. XXIX.
29 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России.
М., 1983.
30 Там же. С. 185-186.
31 Киняпина Н. С. Административная политика царизма на Кавказе и в Средней Азии
в XIX в.//Вопросы истории. М., 1983. №4.
32 Калмыков Ж. А. Система административно-политического управления в Кабарде
и Балкарии во второй половине XIX - начале XX века.//Автореферат канд. дисс. Нальчик,
1975.; Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии (конец XVIII - начале
XX века). Нальчик, 1995.
33 Там же. С. 3.
34 Там же. С. 56-57.
35 Мужухоева Э.Д. Административная политика царизма в Чечено-Ингушетии во
второй половине XIX - начале XX века.: Канд. дисс. М., 1989.
36 Там же. С. 28.
37 Там же. С. 41.
38 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в. Махачкала, 1959.
С. 404.
39 Блиева З.М. Административные и судебные учреждения на Северном Кавказе в
конце XVIII - первой трети ХЕХ в.: Автореферат канд. дисс. Ленинград, 1984.
40 Тунян В. Г. Административная и экономическая политика самодержавия в
Закавказье.: Докт. дисс. Тбилиси, 1990.
41 Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы
управления // Ответственные редакторы С.Г. Агаджанов, В. В. Трепавлов. М., 1998.
42 Там же. С. 5.
43 Там же. С. 314.
44 Там же. С. 314-315.
45 Думанов Х.М., Кетов Ю.М. Адыгэ хабзэ и суд в Кабарде во второй половине
ХУШ-Х1Х в. Нальчик, 2000.
46 Там же. С. 120-122.
47 Малахова Г. Н. Становление и развитие российского государственного управления
на Северном Кавказе в конце XVIII-XIX в. Ростов-на-Дону, 2001.
48 Ибрагимова З.Х. Терская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова
(1863-1875 гг.).: Канд. дисс.М., 1998.
49 Там же. С. 118.
328
50 Зозуля И. В. История развития судебной системы на Северном Кавказе во второй
половине XIX - начале XX вв.: Канд. дисс. Ставрополь, 1999.
51 Кпше1апс1ег Ь.Н. Кшзха'з ипрепа1 роИсу. ТЬе ас1тш15{га1юп оГ1пе Саисазиз т 1пе
пг51 Ьа1ГоГте пше^еепЙг сепШгу // СапасИап 81ауотс рарегз. СЖа^а, 1975. Уо1. 17. №2-3. Р.
218-235.
ГЛАВА I
1 Максимов Е., Вертепов Г. Чеченцы. Владикавказ, 1896. С. 3.
2 Лаудаев У. Чеченское племя // ССКГ, 1872. Вып. 6.
3 Мамакаев М. А. Чеченский тайп (род) в период его разложения. Грозный, 1973.
4 Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. М., 1889. Вып. I.
5 Русско-чеченские отношения. Вторая половина ХУ1-ХУП в. (сборник документов).
М., 1997.
6 Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. III. 4.1. Махачкала, 1940.
7 Иваненков Н.С. Горные чеченцы // Терский сборник. Вып.7. Владикавказ, 1910.
8 Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т.З. 4.1. С. 310.
9 Там же.
10 Там же. С. 311.
11 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 1.
12 Максимов Е., Вертепов Г. Указ. соч. С. 31.
13 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М.,
1823. Ч. П. С. 176.
14 Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. III. 4.1. С. 302.
15 Там же.
16 Там же. С. 303.
17 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 95-96.
18 Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. III. 4.1. С. 303.
19 Там же. С. 302-303.
20 Там же. С. 303.
21 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 105.
22 Там же.
23 Там же. С. 107.
24 Там же. С. 108.
25 Маргошвили Л.Ю. К вопросу о переселении вайнахов на территорию Грузии
//Грузино-северокавказские взаимоотношения. Тбилиси, 1981. С. 131.
26АКАК.Т.1Х.С341.
27 Там же.
28 АКАК. Т. XII. С. 933.
29 Там же.
30 Всеподданнейший отчет главнокомандующего Кавказской армией за 1863-1869 гг.
СПб., 1870. С. 32-33.
31 Там же. С. 33.
32 Там же. С. 111.
33 Там же. С. 112.
34 Там же.
329
35 Гриценко Н. П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов в XVIII
- первой половине XIX в. Грозный, 1961. С. 178.
36 Максимов Е., Вертепов Г. Указ. соч. С. 51.
37 Там же.
38 Там же.
39 Лаудаев У. Указ. соч. С. 11.
40 Мамакаев М. А. Указ. соч. С. 18.
41 Лаудаев У. Указ. соч. С. 15.
42 Там же.
43 Мамакаев М. А. Указ. соч. С. 22.
44 Лаудаев У. Указ. соч. С. 39.
45 Леонтович Ф.И. Адаты Кавказских горцев. Материалы по обычному праву
Северного и Восточного Кавказа. Одесса, 1883. Вып. II. С. 79.
46 Там же. С. 79-80.
47 Там же. С. 79.
48 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 35.
49 Там же.
50 Там же.
51 «П» Заметки о Чечне и чеченцах // Терский сборник. Владикавказ, 1878. Вып. I.
С. 269-270.
52 Мамакаев М. Указ. соч. С. 35.
53 Там же. С. 37.
54 Там же.
55 Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое
и военное описание Кавказа. Нальчик, 1999. С. 360.
56 Лаудаев У Указ. соч. С 15.
57 Там же.
58 Там же.
59 Там же.
60 Бларамберг И. Указ. соч. С. 353.
61 Там же. С. 354-358.
62 Там же. С. 354.
63 Лаудаев У Указ. соч. С. 16.
64 Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. III. 4.1. С. 430-433; Движение
горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века (далее ДГСВК). Махачкала, 1959. С.
229-230.
65 Юров А. Три года на Кавказе. 1837-1839 // Кавказский сборник (далее 884). Тифлис,
1884.Т.Х.С.268.
66 ДГСВК. С. 245.
67АКАК.Т.1Х.С341.
68 Там же. Т. XII. С. 1468.
69 Гриценко Н.П. Указ. соч. С. 187.
70 Там же. С. 186-187.
71 Максимов Е., Вертепов Г. Указ. соч. С. 47.
72 Там же. С. 46.
330
73 Там же. С. 52.
74 Там же. С. 53.
75 Бларамберг И. Указ. соч. С. 349.
76 Там же.
77 Кабардино-русские отношения в ХУ1-ХУШ вв. М., 1957 Т. П. С. 240;
Бларамберг И. Указ. соч. С. 350.
78 АКАК. Т. VI. Ч. П. С. 506.
79 ДГСВК. С. 689.
80 АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 512.
81 Там же.
82 Там же. ТУП. С. 919.
83 Там же. Т.Х. С. 497.
84 Бларамберг И. Указ. соч. С. 348.
85 Грабовский Н.Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка
Ингушевского округа. ССКГ. Тифлис, 1870. Вып. II. С. 7.
86 Бларамберг И. Указ. соч. С. 334.
87 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 9.
88 Там же.
89 Там же.
90 Там же.
91 Там же. С. 15; о скудном состоянии экономики Ингушетии писал также и
Бларамберг. (Бларамберг И. Указ. соч. С. 337).
92 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 15.
93 Там же. С. 13.
94 Там же.
95 Бларамберг И. Указ. соч. С. 346.
96 АКАК. Т. VI. Ч. П. С. 501.
97 Там же. С. 506; Там же. Ч. I. С. 479.
98 Там же. С. 417.
99 Там же. С. 423-425.
100 Там же. Т. VIII. С. 707.
101 Там же. Т. IX. С. 270.
102 Бларамберг И. Указ. соч. С. 222.
103 Там же. С. 225.
104 Там же. С. 232.
105 Там же. С. 232-233.
106 Там же. С. 233.
Ю7 История Осетии в документах и материалах. Цхинвали, 1962. С. 226-227.
108 Там же. С. 227.
109 Там же.
110 Там же.
111 Там же. С. 131.
112 Там же. С. 173.
113 Там же. С. 148.
114 Там же.
115 Там же. С. 154.
116 Там же. С. 152.
117 История Юго-Осетии в документах и материалах. Сталинир, 1960. С. 32-36.
118 Там же. С. 25-31.
119 Там же. С. 31-32.
120 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения. С. 280-331.
121 История Юго-Осетии в документах... С. 44-46.
122 Там же. С. 215-217.
123 Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808
// Осетины тазами русских и иностранных путешественников. Орджоникидзе, 1967.
С.173.
124 Бларамберг И. Указ. соч. С. 255.
125 Кох К. Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку в 1837-1838 гг.
// Осетины глазами русских и иностранных путешественников. С. 264.
126 Калоев Б. А. Моздокские осетины. М., 1995. С. 3.
127 Там же. С. 3-4.
128 Гаибов Н.Д. О поземельном устройстве горских племен Терской области.
Исторический очерк. Тифлис, 1905. С. 193.
129 В.Н. Л. Переходное состояние горцев Северного Кавказа. Тифлис, 1896. С. 8.
130 Рейннеггс Я. Общее историко-топографическое описание Кавказа // Осетины
глазами русских и иностранных путешественников. С. 101.
131 В.Н. Л. Указ. соч. С. 8.
132 Бзаров Р. С. Три осетинских общества в середине XIX века. Орджоникидзе, 1988.
С. 32-33 и др.
133 Там же.
134 Блиев М.М. Русско-осетинские отношения... С. 293 и др.
135 Пфаф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии // ССКГ. Тифлис, 1871.
С. 206.
136 Леонтович Ф.И. Адаты Кавказских горцев. Одесса, 1883. Вып. П. С. 14.
137 Бзаров Р. С. Указ. соч. С. 88.
138 Березов Б. П. Переселение осетин с гор на плоскость. Орджоникидзе, 1980. С. 123,
124 и др.
139 Гаибов Н. Д. Указ. соч. С. 27.
140 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 26.
141 Бзаров Р. С. Указ. соч. С. 104.
142 Там же. С. 106.
143 Гаибов Н.Д. Указ. соч. С. 194.
144 Всеподданнейший отчет... С. 21.
145 Там же.
146 Там же.
147 Гаибов Н.Д. Указ. соч. С. 214.
148 Бзаров Р. С. Указ. соч. С. 41.
н9 История Юго-Осетии в документах... С. 507-508.
150 Бзаров Р. С. Указ. соч. С. 50-51.
151 Леонтович Ф.И. Указ. соч. Т. И. С. 15-17.
332
152 Гаибов Н. Д. Указ. соч. С. 208-209.
153 Ф. X. Гутнов в работе «Средневековая Осетия» называет Алагирское и Куртатинское
общества «демократическими». (См.: Гутнов Ф.Х. Средневековая Осетия. Владикавказ,
1993. С. 149.).
154 Там же. С. 147.
155 Хетагуров К. Собр. соч. М., 1974. Т. И. С. 235.
156 Там же. С. 240-241.
157 Там же. С. 239.
158 Гаибов Н. Д. Указ. соч. С. 202-203.
159 Бларамберг И. Указ. соч. С. 238.
160 Там же. С. 240.
161 Кох К. Указ. соч. С. 260.
162 Бларамберг И. Указ. соч. С. 239-240.
163 Миллер В. и Ковалевский М. В горских обществах Кабарды. Вестник Европы. Кн.
IV. СПб., 1884. С. 553-554.
164 Там же. С. 554.
165 Бларамберг И. Указ. соч. С. 239.
166 Блиев М.М. Указ. соч. С. 45.
167 Всеподданнейший отчет... С. 22.
168 Березов Ю.П. Указ. соч. С. 136.
169 Там же. С. 138-139.
170 Гаибов Н. Д. Указ. соч. С. 196.
171 Там же. С. 197.
172 Бларамберг И. Указ. соч. С. 321.
173 Миллер В., Ковалевский М. Указ. соч. С. 554.
174 Бларамберг И. Указ. соч. С. 322.
175 Кумыков Т. X. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в.
Нальчик, 1965. С. 38.
176 Бларамберг И. Указ. соч. С. 323.
177 Там же. С. 322.
178 Там же.
179 Миллер В. и Ковалевский М. Указ. соч. С. 548.
180 Там же.
181 Там же. С. 568.
182 Там же. С. 569.
183 Там же.
184 Там же.
185 Там же.
186 Там же. С. 570.
187 Там же. С. 582.
188 Документы по истории Балкарии 40-х - 90-х гг. XIX в. Нальчик, 1959; Очерки
истории балкарского народа. Нальчик, 1961; Азаматов К. Г. Социально-экономическое
положение и обычное право балкарцев в первой половине XIX в. Нальчик, 1961 и др.
189 Миллер В. и Ковалевский М. Указ. соч. С. 575-576.
333
190 Там же. С. 576.
191 Там же.
192 Там же.
193 Крестьянская реформа в Кабарде. Документы по истории освобождения
зависимых сословий в Кабарде в 1867 году/Составитель Ф. А. Кокиев. Нальчик, 1947. С. 92.
194 Там же.
195 Азаматов К. Г. Указ. соч. С. 40.
196 Крестьянская реформа в Кабарде. Документы... С. 92.
197 Там же. С. 92-95.
198 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып.1. Одесса, 1883. С. 276-277.
199 Крестьянская реформа в Кабарде. Документы... С. 92-95.
200 Там же. С. 95.
201 Там же. С. 96.
202 Там же. С. 92.
203 Там же.
204 Азаматов К. Г. Указ. соч. С. 61.
205 Там же. С. 107.
206 Крестьянская реформа в Кабарде. Документы... С. 214-215.
207 Кумыков Т.Х. Указ. соч. С. 240.
208 Грабовский Н. Ф. Экономическое положение бывших зависимых сословий
кабардинского округа // ССКГ. Тифлис, 1870. Вып. III. С. 4.
209 Там же. С. 9.
210 Там же.
211 Бларамберг И. Указ. соч. С. 194.
212 Кумыков Т.Х. Указ. соч. С. 56.
213 Бларамберг И. Указ. соч. С. 210.
214 Гарданов В. К. Общественный строй адыгских народов. М., 1967. С. 42.
215 Кумыков Т.Х. Указ. соч. С.56.
216 Кумыков Т.Х. Социально-экономические отношения и отмена крепостного права
в Кабарде и Балкарии. С. 26.
217 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие... С. 61.
218 Гарданов В. К. Указ. соч. С. 100-101.
219 Бларамберг И. Указ. соч. С. 203.
220 Гарданов В.К. Указ. соч. С. 82.
221 Там же.
222 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие... С. 68.
223 Там же. С. 89.
224 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 13.
225 Там же. С. 4.
226 Там же. С. 3-4.
227 Там же. С. 21.
228 Там же.
229 Там же. С. 22-23.
230 Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // КС. Тифлис, 1910.
Т. XXI. С. 131 и др.; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе.
334
СПб., 1871. Т.1. Кн. 1. С. 193; В советское время проблема общественного строя и форм
собственности подвергалась специальному обсуждению. Одни его участники отрицали
в прошлом Кабарды наличие феодализма, другие - приводили аргументы в пользу
феодальной организации кабардинских обществ. Высказывались также противоречивые
суждения - признавая в Кабарде феодализм, отвергалась мысль о генезисе феодальной
собственности на землю; См., например, Пожидаев В. П. Хозяйственный быт Кабарды.
Воронеж, 1929.
231 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие... С. 131.
232 Материалы по обычному праву кабардинцев (первая половина XIX века). Нальчик,
1956. С. 7.
233 Думанов X. М. Социальная структура кабардинцев в нормах адата. Нальчик, 1990.
С. 257.
234 Цит. по кн.: Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие... С. 131.
235АКАК.Т. IX. С.411.
236 Там же.
237 Думанов Х.М. Указ. соч. С. 184.
238 Там же.
239 Там же. С. 184-185; его же: Новые документы о земельных отношениях в Кабарде
в дореформенный период // Из истории феодальной Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1980.
С. 216-217, 218.
240 Думанов Х.М. Новые документы... С. 217-218.
241 Там же. С. 218.
242 Там же.
243 Там же.
244 Там же.
245 Там же.
246 Там же. С. 219.
247 Там же. С. 219-220.
248 Привилегированные сословия Кабардинского округа. ССКГ. Тифлис, 1870. Вып.
III. С. 1.
249 Там же. С. 2.
250 АКАК. Т. IX. С. 408.
251 Там же.
252 Там же.
253 Там же.
254 Там же. Т. XI. С. 706.
255 Там же. С. 711.
256 Привилегированные сословия... С. 2.
257 Там же.
258 Там же.
259 Гарданов В. К. Указ. соч. С. 164.
260 Привилегированные сословия... С. 2.
261 Там же. С. 3.
262 Гарданов В. К. Указ. соч. С. 166.
263 Там же. С. 166-167.
335
264 Привилегированные сословия... С. 3.
265 Там же.
266 Кабардино-русские отношения в ХУЬХУШ вв. М., 1957. Т. II. С. 306-307.
267 Там же. С. 308.
268 ц^ по ст: Налоева Е.Дж. Об особенностях Кабардинского феодализма // Из
истории феодальной Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1980. С. 19.
269 Думанов Х.М. Социальная структура кабардинцев... С. 134.
270 Гарданов В. К. Указ. соч. С. 157.
271 Налоева Е.Дж. Указ. соч. С. 19.
272 Думанов Х.М. Социальная структура кабардинцев... С. 135.
273 Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978. С. 119-120.
274 Хан-Гирей. Князь Пшьской Аходягоко. СМОМПК. Вып. XVII. 1893. С. 13.
275 Привилегированные сословия... С. 6.
276 Гарданов В. К. Указ. соч. С. 139.
277 Привилегированные сословия... С. 7.
278 Там же. С. 6.
279 Там же. С. 7.
280 Там же.
281 Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. М., 1963. С. ПО.
282 Думанов Х.М. Социальная структура Кабарды... С. 138.
283 На эту особенность дореволюционной и советской историографии указывала
Е.Дж. Налоева. См.: Налоева Е.Дж. Указ. соч. С. 8.
284 Думанов Х.М. Социальная структура кабардинцев... С. 150; В.К. Гарданов
считал, что в XVIII - первой половине XIX века продолжалось разложение тфокотлей на
феодальную знать и зависимых крестьян. Однако его суждения относились к горным
черкесам, но не к Кабарде. (См.: Гарданов В. К. Указ. соч. С. 197).
285 Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие... С. 151;
Думанов X. М. Социальная структура кабардинцев... С. 150-151.
286 Кабардино-русские отношения. Т. II... С. 323.
287 Там же. С. 270.
288 Там же. С. 348.
289 Всеподданнейший отчет... С. 94.
290 Там же. С. 55.
291 Там же. С. 56.
292 Там же.
293 Там же. С. 61.
294 Там же. С. 106.
295 Там же.
296 Там же. С. 108.
297 Там же. С. 115; Более полно крестьянская реформа в Кабарде представлена в
публикации документов, подготовленной Г. А. Кокиевым.
336
ГЛАВА //
1 См. введение.
2 Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 185-186.
3 Потто В. А. Два века Терского казачества (1577-1801 гг.). Т. И. С. 21.
4 Очерк развития административных учреждений в кавказских казачьих войсках.
С. 2-3.
5 Байбулатов Н.К., Блиев М.М., Бузуртанов М.О. и др. Вхождение
Чечено-Ингушетии в состав России // История СССР, 1980. №5. С. 54.
6 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII веке.
Тбилиси, 1968. С. 40.
7 Там же. С. 40.
8 Русско-осетинские отношения. Т.1. Орджоникидзе, 1976. С. 248-252.
9 Там же. С. 397-410.
10 Кабардино-русские отношения в ХУ1-ХУШ вв. Т. II. С. 219-220.
11 Там же.
12 См. Кабардино-русские отношения в ХУЬХУШ вв. Т. И. С. 275-276,286-287 и др.;
Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом. С. 170-180; 183-191.
13 Кабардино-русские отношения в ХУЬХУШ вв. Т. II. С. 249-250, 262-268, 289-290.
14 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом. С. 42; АКАК.
Т.1.С. 81.
15 Потто В. А. Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис, 1904. Т. I.
С. 26-27.
16 Ларина В. И. Очерки истории городов Северной Осетии. Орджоникидзе, 1960. С. 41.
17 Кабардино-русские отношения в ХУ1-ХУШ вв. Т. П. С. 219-220, 229-230.
18 Материалы для истории осетинского народа. ТУ С. 34.
19 Блиев М. М. Русско-осетинские отношения. С. 207.
20 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом. С. 52.
21 Кабардино-русские отношения в ХУ1-ХУШ вв. Т. П. С. 219.
22 Блиев М.М. Указ. соч. С. 235.
23 Байбулатов Н. К., Блиев М. М., Бузуртанов М. О. и др. Указ. соч. С. 7.
24 Фадеев А. В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века. С. 75.
25 Новосельцев А. П. Георгиевский трактат // История СССР. 1983. №4.
С. 57-58.
26 Маркова О. П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. С. 4.
27 Эсадзе С. С. Исторический очерк распространения русской власти на Кавказе. С. 24.
28 Потто В. А. Два века Терского казачества. Т. II. С. 147.
29 Маркова О. П. Указ. соч. С. 159.
30 РИО. СПб., 1880. Т. XXVII. С. 242.
31 Фадеев А. В. Очерки экономического развития Степного Предкавказья в
дореформенный период. С. 28.
32 ПСЗ 1.Т. XXII. № 16193. С. 338.
33 Там же. См. также: Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на
Кавказе. СПб., 1886. Т. П. С. 224.
34 Бентковский И. В. Первоначальное устройство административных учреждений в
Кавказской губернии // СГВ. Ставрополь, 1886. №39.
337
35 См.: Адрес-календарь. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве.
СПб., 1786-1796.
36 Фадеев А. В. Указ. соч. С. 29.
37 Бентковский И. В. Указ. соч. №40.
38 Там же. №39.
39 Там же, №40.
40 Лефорт А. А. История царствования государыни императрицы Екатерины П. М.,
1888. Т. IV. С. 50.
41 Бентковский И. В. Указ. соч. №39.
42 ПСЗ 1.Т. XXII. №16194. С. 389.
43 Там же.
44 Бентковский И. В. Указ. соч. №39.
45 ПСЗ 1.Т. XXII. №16194. С. 389.
46 Здесь следует отметить закон о поощрении торговли. В нем, в частности,
говорилось: «Учредить базарные цены по всем крепостям и обвестить о них в Кабарде через их
начальника, а на левом фланге через кизлярского коменданта; в предместьях при
крепости Георгиевской, Константиновской учредить рынки... и чтобы они (горские народы) в
торге, промыслах и прочих позволенных учреждениях имели свободу, и чтобы военные и
гражданские начальники не оттесняли их в том ни под каким видом, но паче всяким
благодеянием... их подкрепляли» (Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т. И. С. 224).
47 ЦГА Республики Дагестан.Ф. 379. Оп. 1. Д. 196. Л. 43.
48 ПСЗ 1.Т. XXII. №16194. С. 389.
49 Там же.
50 РГВИА. Ф. 52. Оп.1/194. Д. 331. Ч. 4. Л. 29-30.
51 ЦГА Республики Дагестан.Ф. 379. Оп. 1. Д. 196. Л. 43.
52АКАК.Т.1.С746.
53 Там же. Т. II. С. 1123; См. также: Мамышев В.Н. Кавказцы или подвиги и жизнь
замечательных лиц, действовавших на Кавказе. СПб., 1858. Вып. 1. С. 45.
54 РГВИА. Ф. 482. Д. 3. Л. 18-20.
55 АКАК. Т. П. С. 1123.
56 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 237. Л. 46.
57 Там же. Л. 45.
58 ПСЗ 1.Т. XXIV. №17634. С. 229.
59 Очерки истории Министерства иностранных дел. 1802-1902. СПб., 1902. С. 89.
60 АКАК. Т. I. С. 728.
61 Лилов А. Материалы для истории Кавказа и Закавказья//Газ. Кавказ, Тифлис, 1867.
№69.
62 АКАК. Т. I. С. 728.
63 Лилов А. Указ. соч. №69.
64 АКАК. Т. I. С. 730.
65 Там же. С. 746.
66 Там же. С. 730, 746.
67 Там же. С. 731.
68 Там же. С. 748.
69 Там же. С. 748.
338
70 Там же. С. 731.
71 Там же. С. 747, 748.
72 Под «прочими другими народами», по-видимому, подразумевались горские
народы.
73 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 237. Л. 1.
74 Комитетом при составлении проекта была использована «Записка графа В. А.
Зубова» (Там же. Л. 4-4 об.). О «Записке» см.: Семенов Л. С. Новое об источниках по истории
экономических связей России и Востока в первой четверти XIX в. // Вестник
Ленинградского университета. Л., 1958. №8. С. 163-173.
75АКАК. Т. П. №1889.
76 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 237. Л. 3 об. -4.
77 АКАК. Т. II. №1889.
78 РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 237. Л. 6 об - 7.
79 Там же.
80 Там же. Л. 8.
81 АКАК. Т. II. С. 9.
82 Там же.
83 Там же.
84 Там же. №1889.
85 РГИА. Ф.1268. Оп. 1. Д. 951. С. 185.
86 Там же. С. 480-481.
87 Там же. С. 183.
88 Потто В. А. Утверждение русского владычества на Кавказе. Т. II. Ч. 1. С.80.
89 Маркова О.П. Восстание в Кахетии 1812 года. М., 1951. С. 42.
90 АКАК. Т. И. С. 9.
91 Разобщенность в действиях военных и гражданских властей в Кавказской
губернии отражала не только недостатки в управлении собственно Кавказом, но и такую общую
черту бюрократического механизма России, как ведомственность.
92 Дебу И. Указ. соч. С. 176.
93 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 21. Л. 214 об.
94 Дебу И. Указ. соч. С. 176.
95 Там же; Бентковский И. В. Кавказская губерния до преобразования в область
1804-1824 гг. // СГВ. 1877. №16.
96 Дебу И. Указ. соч. С. 176-177.
97 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 21. Л. 214-215.
98 Там же.
99 Там же. Л. 215.
100 Бентковский И. В. Указ. соч. СГВ, 1877. №18.
101 Очерк развития административных учреждений в кавказских казачьих войсках.
С. 15.
102 Бентковский И. В. Указ. соч. №18.
103 Там же.
104 Там же.
105 Там же.
106 См., например, Загурский Л. Краткий очерк ермоловского времени на основании
339
VI тома Актов, собранных Кавказской археологической комиссией. Тифлис, 1876. С. 4;
Андреев В. Ермолов и Паскевич // Кавказский сборник. Тифлис. Т. I, 1876. С. 26;
Дубровин Н. Ф. Алексей Петрович Ермолов на Кавказе//Военный сборник, 1882. №2. С. 205-240.
107 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 15. Л. 6-6 об.
108 Там же. Л. 5.
109 Там же. Л. 6 об.
110 Там же. Л. 8, 12.
111 Там же. Л. 22.
112 Там же.
113 Там же. Л. 23.
114 Там же. Л. 54-54 об.
115 АКАК. Т. VI. Ч. 1.С.579.
116 ПСЗ 1.Т. XXXVIII. №29138; РГИА. Ф. 1149. Оп. 1. Д. 8. Л. 13.
117 РГИА. Ф. 1149. Оп. 1. Д. 8. Л. 13.
118 Там же. Л. 3.
119 Там же. Л. 328-333.
120 ПСЗ 1.Т. XXXVIII. №29138.
121 Бентковский И.В. Кавказская губерния во время А.П. Ермолова с 1816 по 1824 гг.
//СГВ. 1886. №30.
122 ПСЗ 1.Т. XXXVIII. №29138.
123 Там же.
124 Фадеев А. В. Россия и Восточный кризис 20-х гг. XIX в.; Семенов Л. С. Россия и
международные отношения на Среднем Востоке в 20-е гг. XIX в.
125 ПСЗ П. Т. II. СПб., 1830. №877. С. 107.
126 Необходимо отметить, что указом 19 апреля 1819 года был учрежден Азиатский
департамент МВД, «специально занимавшийся делами «азиатских народов». В ведении
первого отделения этого департамента находились горские народы Кавказа. (См.
Семенов Л. С. Указ. соч. С. 57).
127 ПСЗ И. Т. II. №877. С. 108-110.
128 Там же. С. 110-112.
129 Там же. С. 114-117.
130 Там же. С. 121-123.
131 Там же. С. 122-123
132 Там же.
133 АКАК. Т. IX. С. 531.
134 КЫпе1апс1ег Ь.К Ки551а'5 ипрепа1 роНсу. Р. 230.
135 РГИА. Ф. 1018. Оп. 1. Д 225. Л. 2 об.
136 АКАК. Т. VII. С. 35.
137 Потто. В. А. Кавказская война. Ставрополь, 1994. Т. V. С. 5.
138 Там же. С. 6.
139 Там же.
140 Там же. С. 297.
141 Там же. С. 6.
142 Там же.
143 Там же.
340
144 РГИА. Ф. 1018. Оп. 1. Д. 225. Л. 1-7.
145 Там же.
146 Там же.
147 Там же.
148 Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность.
СПб., 1891. Т. III. С. 266-280.
149 Потто. В. А. Кавказская война. ТУ. С. 14.
150 АКАК. Т. VII. С. 35.
151 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане. М.-Л., 1936. Ч. I. С.
233-234.
152 Там же. С. 231.
153 РГВИА. Ф. 1. Оп. 1 (Ч. 2а). Д. 3894. Л. 16 об.; Тунян В.Г. Административная и
экономическая политика самодержавия в Закавказье. 1801-1853 гг.: Докт. дисс. Тбилиси,
1990. С. ИЗ.
154 Там же.
155 Там же. Л. 24.
156 АКАК. Т. VII. С. 53.
157 Эсадзе С. С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. I. С. 67.
158 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 711. Л. 343.
159 Там же. Л. 344 об.
160 Там же. Л. 344.
161 Там же. Л. 345 об.
162 АКАК. ТУШ. С.1.
163 ПСЗ II. Т. VII. №5060.
164 АКАК. Т. VIII. С. П.
165 Там же. С. 351.
166 Там же.
167 Там же.
168 Миансаров М. М. Опыт справочного систематического каталога печатных
сочинений о Кавказе, Закавказье и племенах, эти края населяющие. СПб., 1874. Т.1. С. 701.
169 Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы
управления. С. 262.
170 См. ш. III.
171 АКАК. Т. VIII. С. 831.
172 Там же. С. 829.
173 Там же. С. 830.
174 Там же. С. 330; См. также: Очерк развития административных учреждений в
кавказских казачьих войсках. С. 16.
175 Эсадзе С. Указ. соч. 68.
176 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 2. Л. 75-90.
177 Там же. Ф. 1149. Оп. 2. Д. 23А.Л. 47; 117-123.
178 Там же. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 4. Л. 41.
179 Там же. Л. 42 об.
180 Там же. Л. 43.
181 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 289.
341
182РГИА. Ф. 1268. Оп. 1.Д.З.
183 Там же. Л. 3.
184 Там же. Л. 3,88.
185 Там же. Л. 89-89 об.
186 Там же. Л. 89 об.
187 Там же. Л. 93-94 об.
188 Там же. Л. 94-94 об.
189 Там же. Л. 95.
190 Там же. Л. 96 об.
191 Там же. Л. 128.
192 Там же. Л. 106-107.
193 Там же. Л. 98. об.
194 Там же. Л. 100-100 об.
195 ПСЗ II. Т. XV. Отд. 2. №13368.
196 Там же. Т. XIII. Отд. 2. №11243.
197РГИА. Ф. 1268. Оп. 1.Д.4.
198 Там же. Л. 31-33.
199 Там же. Ф. 561. Оп. 1. Д. 161. Л. 140, 158-177.
200 Там же. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 4А.Л. 26, 41, 49, 70.
201 Там же. Д. 7А.Л. 54.
202 Там же. Д. 28.
203 Из записок графа Корфа. С. 31-33.
204 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 291.
205 АКАК. Т. 8. №57.
206 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 291.
207 Записки графа Корфа. С. 33-34.
208 Там же.
209 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 15. Л. 99-100.
210 Там же.
211 Тунян В. Г. Указ. соч. С. 130.
212 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 292.
213 РГИА. Ф. 561. Оп. 1. Д. 206. Л. 4 об.
214 Там же. Л. 2-677.
215 Там же. Ф. 1268. Оп. 26. Д. 1. Л. 78 об.
216 Там же. Л. 78 об, 79.
217 Там же. Оп. 1. Д. 142. Л. 1-10.
218 Там же. Оп. 26. Д. 1. Л. 68-75.
219 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6378. Л. 55.
220 Там же. Л. 52-62.
221 РГИА. Ф. 1268. Оп. 26. Д. 1. Л. 76 об.
222 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 293.
223 АКАК. Т. IX. №23.
224 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 296.
225 Там же.
226 ПСЗ II. Т. XV. №13368.
227 АКАК. Т. IX. №24.
228 ПСЗ П. Т. XV. №13413.
229 АКАК. Т. IX. №25.
230 Из записок графа Корфа. С. 39.
231 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 297.
232 ПСЗ II. Т. XV. №13368.
233 Там же.
234 Там же.
235 АКАК. Т. IX. С. 531.
236 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 39. Л. 150-164.
237 АКАК. Т. IX. С. 534.
238 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 692. Л. 1-4 об.
239 Там же. Л. 3 об.
240 АКАК. Т. IX. С. 548.
241 Там же.
242 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 39. Л. 151.
243 Там же.
244 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 298.
245 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 169. Л. 18-21, 45-65, 78.
246 АКАК. Т. IX. С. II.
247 Там же.
248 Эсадзе С. С. Указ. соч. С. 79.
249 Там же.
250 АКАК. Т. IX. С. П.
251 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 299.
252 Из записок графа Корфа. С. 46.
253 ПСЗ И. Т. XVII. №16008.
254 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 331. Л. 9-13 об.
255 ПСЗ И. Т. XVII. №16008.
256 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 68. Л. 1-51.
257 Там же. Л. 13.
258 Там же. Л. 5 об.
259 Там же. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 233. Л. 5.
260 Там же. Л. 16-19.
261 Там же. Л. 14.
262Тамже.Л.40-144об.
263 Там же. Л. 1.
264 Там же. Л. 2.
265 Там же. Л. 2 об.
266 Там же.
267 Там же. Л. 5.
268 Там же.
269 Там же. Ф. 38. Оп. 7. Д. 68. Л. 6.
270 Там же. Л. 13.
271 Там же.
272 Там же. Л. 13 об. - 14 об.
273 Там же. Л. 14 об.-15.
274 Там же. Л. 15-16.
275 Там же. Л. 17-17 об.
276 Там же. Л. 18.
277 Там же. Л. 27 об.
278 Там же. Л. 28.
279 Там же.
280 Там же.
281 Там же.
282 Там же. Л. 34 об.
283 Там же. Л. 51.
284 Там же. Л. 1.
285 Там же. Л. 2 об.
286 Там же. Л. 1-1 об.
287 Там же. Л. 1 об.
288 Там же. Л. 2.
289 Там же. Л. 2 об.-3.
290 Там же.
291 Там же.
292 Там же. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 386. Л. 2 об.
293 Там же.
294 Там же. Л. 3 об.
295 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 4866. Л. 1-10 об; АКАК. Т. IX. С. 744-747.
296 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 4866. Л. 7.
297 Там же.
298 Там же. Л. 9-9 об.
299 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 347.
300 Там же.
301 Там же. АКАК. Т.Х. С. 21.
302 Из записок графа Корфа. 51.
303 Там же.
304 РГВИА. Ф. 169. Оп. 1. Д. 1. Л. 18 об.
305 Из воспоминаний А. А. Харитонова // Русская старина 1894. №2. С. 104, 105.
306 ПСЗ И. Т. XX. Отд. I. №18702. С. 168.
307 Лисицына Г. Г. Указ. соч. С. 142.
зов ргИА ф 12б8. Оп. 1. Д. 697. Л. 30-31 об; ПСЗ П. Т. XX. №18702. С. 168.
309 ПСЗ П. Т. XX. №19230. С. 566.
310 Там же. Т. XXI. Отд. 1. №19590.
311 Лисицына Г. Г. Указ. соч. С. 142.
312 Там же.
313 ПСЗ П. Т. XX. Отд. 1. №18679. С. 151-152.
314 Там же. Т. XXI. Отд. 1. №19590; РГВИА. Ф. 13456. Оп. 5. Д. 326.
315 ПСЗ И. Т. XXI. Отд. 1. №19590.
316 РГВИА. Ф. 13454. Оп.5. Д. 326. Л. 5 об. - 7.
317 Там же. Л. 7.
318 Там же. Ф. 414. Д. 305. Л. 235.
319 Там же.
320 ПСЗ И. Т. XX. Отд. 1. №18679. С. 152.
321 Тунян В. Г. Указ. соч. С. 140.
322 ПСЗ П. Т. XXI. Отд. 1. №19706. С. 26.
323 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 125. Л. 10-11.
324 РГИА. Ф. 1268. Оп. 26. Д. 9. Л. 490.
325 ПСЗ II. Т. XXI. Отд. 2. №20701.
326 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 345. Л. 266-266 об.
327 Там же.
328 РГВИА. Ф. 13456. Оп. 5. Д. 326. Л. 3; ПСЗ II. Т. XX. Отд. 1. №18679. С. 152.
329 РГВИА. Ф. 13456. Оп. 5. Д. 326. Л. 3-3 об.
330 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 360. Л. 12 об.
331 Там же. Л. 13.
332 Там же. Л. 13 об.
333 Там же. Л. 14.
334 Там же. Л. 33.
335 Там же.
336 Там же.
337АКАК. Т.Х.С. 703.
338 ПСЗ П. Т. ХХШ. №22836. С. 95-96; Т. XXIV. Отд. 2. №23607. С. 138-139.
339 Там же. Т. XXIV. Отд. 2. №22836. С. 138.
340 Там же. №22929. С. 39.
341 Военно-статистическое обозрение Российской империи СПб., 1851. Т. XVI. Ч. 1.
С. 101.
342 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 5. Д. 1340. Л. 1-5 об.
343 Правый фланг Кавказской линии на короткое время был поручен командующему
Черноморией и Черноморской береговой линией. Военные действия заставили
правительство вновь подчинить правый фланг непосредственно командующему Кавказской линией
в 1854 году. РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 1238. Л. 1-2.
344 Военно-статистическое обозрение... С. 120.
345 Там же. С. 121.
346 Там же.
347 Там же.
348 ПСЗ И. Т. XXI. №20171. С. 650.
349 Вместо П. П. Нестерова должность коменданта крепости занял плац-майор
Черепанов, произведенный в полковники; Там же. С. 651.
350 Там же. С. 650.
351 Военно-статистическое обозрение... С. 137.
352 Там же. С. 137-143.
353 Там же. С. 148-149.
354 РГВИА. Ф. 414. Д. 305. Л. 236.
355 Там же.
356 Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. С. 242-243.
345
357 Эсадзе С. Указ. соч. С. 88.
358АКАК.Т.Х.С. 843.
359 Там же. Т. XII. С. 81-84.
360 Эсадзе С. С. Указ. соч. С. 89.
361 АКАК. Т.Х. С. 843; Эсадзе С. Указ. соч. С. 89.
362 Национальные окраины российской империи. С. 270.
363 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 349-350.
364 Там же. С. 351.
365 Там же. С. 431-432; АКАК. Т. XII. С. 1.
366 ПСЗ II. Т. XXXI. №30951. С. 847.
367 Там же. Т. XXXII. №31759. С. 329.
368 АКАК. Т. XII. С. 2.
369 Эсадзе С. С. Указ. соч. С. 90.
370 АКАК. Т. XII. С. 8.
371 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 433.
372 АКАК. Т. XII. С. 9.
373 Там же. С. 1316.
374 Там же. С. 1317.
375 РГИА. Ф. 1268. Оп. 20. Д. 151; АКАК. Т. XII. С. 25-43.
376 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 432.
377 АКАК. Т. XII. С. 25.
378 Там же. С. 43-44.
379 Записки Инсарского // Русская старина. Сентябрь 1897. С. 584; Иваненко В. Н. Указ.
соч. С. 434-435.
380 АКАК. Т. XII. С. 43-44.
381 Там же.
382 Там же. С. 25.
383 Там же. С. 43-44.
384 Там же. №35. С. 53.
385 Записки Инсарского. С. 585.
386 Эсадзе С. Указ. соч. С. 94; АКАК. Т. XII. С. 62-63.
387 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 436; АКАК. Т. XII. С. 44.
388 Иваненко В.Н. Указ. соч. С. 436; АКАК. Т. XII. С. 25.
389 АКАК. Т. XII. С. 87.
390 Там же. Т. XII. С. 26; ПСЗ П. Т. XXXIV. Отд. 1. №34148. С. 98.
391 АКАК. Т. XII. №60. С. 84.
392 ПСЗ П. Т. XXXI. №30850. С. 717; АКАК. Т. XII. С. 613-614.
393 АКАК. Т. XII. С. 1275.
394 Там же. С. 1276.
395 Там же. С. 614.
396 ПСЗ П. Т. XXXI. №30850. С. 717; АКАК. Т. XII. С. 613-614.
397 ПСЗ П. Т. XXXI. №30850. С. 717; АКАК. Т. XII. С. 613-614.
398 АКАК. Т. XII. С. 625.
399 Там же.
400 ПСЗ И. Т. XXXII. №32541. С. 995; Фадеев Р. А. Записки о кавказских делах. СПб.,
1889. С. 45-47.
346
401 ПСЗ II. Т. XXXII. №32541. С. 995.
402 Там же.
403 В сентябре 1856 года по настоянию Барятинского должность начальника
главного штаба была восстановлена. Вместо генерал-адъютанта Коцебу ее занял генерал-майор
Милютин, одновременно получивший звание генерал-адъютанта. АКАК. Т. XII. С. 613.
404 ПСЗ II. Т. XXXIII. Отд. 1. №32938. С. 367-390;
405 Там же. С. 368.
406 Там же. С. 370.
407 Там же.
408 Там же. С. 372.
409 Там же.
410 Там же.
411 Там же.
412 АКАК. Т. XII. С. 1288.
413 ПСЗ И. Т. XXXIII. №32938. С. 372.
414 Там же. С. 373.
415 АКАК. Т. XII. С. 1278.
416 Там же.
417 Там же. С. 1287.
418 Там же.
419 Там же. С. 664.
420 Там же. С. 1287.
421 Там же.
422 Там же.
423 Там же.
424 Там же.
425 Там же. С. 1289.
426 Там же.
427 Там же. С. 1290.
428 Там же.
429 Там же.
430 Там же.
431 Там же.
432 Там же.
433 Там же. С. 1287, 1307.
434 Там же. С. 644.
435 Там же. С. 645-646.
436 Там же. С. 644.
437 Горские народы Тифлисской губернии по управлению делились на три округа: 1)
Тушино-Пшаво-Хевсурский, состоявший из двух участков — Тушинского и Пшаво-Хев-
сурского; 2) Горский, в который вошли три участка — Хевсурский, Мтиулетский и Ксан-
ский; и 3) Осетинский - из трех участков - Джавский, Малолиахвский и Нарский. Каждый
из этих округов имел особого начальника с помощниками и канцелярией. На
помощников было возложено управление участками. Начальнику Горского округа было присвоено
звание Главного начальника горских народов. Тушино-Пшаво-Хевсурский округ в воен-
347
ном отношении подчинялся Начальнику Лезгинской кордонной линии, а по
гражданскому управлению непосредственно Тифлисскому военному губернатору. После разделения
Осетинского округа оставшаяся его часть в Тифлисской губернии присоединялась к Го-
рийскому уезду и переименовывалась в Осетинский участок. См. АКАК. Т. XII. С. 651;
ПСЗ II. Т. XXXIV. Отд. 1. №34641. С. 588.
438 АКАК. Т. XII. С. 646.
439 Там же.
440 Там же.
441 Там же. С. 1169.
442 Там же. С. 657.
443 Там же. С. 661.
444 ПСЗ П. Т. XXXV. №35421. С. 122; №35822. С. 604; АКАК. Т. XII. С. 58, 662.
445 ПСЗ И. Т. XXXV №35822. С. 604; АКАК. Т. XII. С. 663.
446 Очерк развития административных учреждений в кавказских казачьих войсках.
С. 27.
447 Эсадзе С. С. Указ. соч. С. 195.
448 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 387. Л. 1-2; ПСЗ И. Т. XXXV №35962. С. 813; АКАК.
Т. XII. С. 662.
449 Очерк развития административных учреждений в кавказских казачьих войсках.
С. 28.
450 АКАК. Т. XII. С. 1199.
451 Там же. С. 1201-1202.
452 Там же. С. 1203-1204.
453 ПСЗ П. Т. XXXVI. Отд. 1. №36931. С. 686-687; Там же. Т. ХХХХ1. №43379.
С. 673.
454 Во время отсутствия фельдмаршала Барятинского его обязанности исполнял
генерал-адъютант кн. Г. Д. Орбелиани.
455 Эсадзе С. С. Указ. соч. С. 199.
456 Национальные окраины Российской империи... С. 281.
457 РГИА Ф. 1268. Оп. 12. Д. 105. Л. 45.
458 Кавказ. 1863. №32.
459 Барон А. П. Николаи. Воспоминания из моей жизни. Крестьянская реформа в
Закавказском крае//Русский архив. СПб., 1892. Т. П. С. 32-33.
460 Эсадзе С. С. Историческая записка об управлении Кавказом. Приложения. Т. И.
СПб., 1907. С. 14.
461 Там же. Т. I. С. 447.
462 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 455. Л. 19.
463 Там же. Л. 22.
464 Там же. Л. 25-25 об.
465 Там же. Л. 66.
466 Эсадзе С. С. Указ. соч. С. 464-465.
467 РГИА Ф. 1276. Оп. 3. Д. 90. Л. 7.
468 Там же. С. 447.
469 Струков Д. П. Августейший генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил
Николаевич. Очерк жизнеописания. СПб., 1906. С. 292.
348
470 ПСЗ II. Т. XXXIX. №20982.
471 Эсадзе С. С. Указ. соч. Приложения. Т. II. С. 9.
472 Отчет по Главному управлению наместника Кавказского за первое десятилетие
управления Кавказским и Закавказским краем его императорским высочеством великим
князем Михаилом Николаевичем. 6 декабря 1862-6 декабря 1872. Тифлис, 1873. С. 35.
473 ПСЗ II. Т. ХХХХП. Отд. 2. №45260.
474 Там же.
475 Там же; Эсадзе С. С. Указ. соч. Приложения. Т. II. С. 21.
476 В 1870 году в Кубанской области всего проживало 278566 душ мужского пола, из
них казаков - 210449, гражданского населения - 26957, горцев - 41160; в Терской
области всего - 226652 душ мужского пола, из них казаков - 57606, населения гражданского
ведомства- 19307, горцев - 149745.
477 Очерк развития административных учреждений кавказских казачьих войск.
С. 31.
478 Там же. С. 33.
479 Отчет по Главному управлению... С. XII, 60-61.
480 Эсадзе С. С. Указ. соч. Т. И. С. 82.
481 Всеподданнейший отчет. С. 120.
482 Там же.
483 Там же.
484 Отчет по Главному управлению... С. XII, 60-61.
485 Там же. С. XII.
486 ГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 52. Д. 14. С. 100.
487 ПСЗ И. Т.Ь. Отд. 2. №55411. С. 485-486.
488 Учреждения управления Кавказского и Закавказского края. СПб., 1876. С. 29.
489 СПЗ II. Т. 1Л. Отд. 1. №55651. С. 165.
490 Зозуля И.В. Указ. соч. С. 93.
491 К вопросу о введении в Кубанской области суда присяжных // Кубанские
областные ведомости. 1897. 20 мая. №106. С. 3.
492 Учреждение судебных установлений. Издание неофициальное.
Составитель Н. Шрейбер. СПб., 1910. С. 431.
493 Национальные окраины Российской империи. С. 279.
494 Отчет по Главному Управлению... С. V.
495 История России XIX - начала XX вв. / Под ред. В. А. Федорова. М., 2000. С. 279.
496 Струков Д. П. Указ. соч. С. 330.
497 Там же; ПСЗ П. Т. ХЫ. Отд. 1. №43358. С. 611; ПСЗ П. Т. ХЫХ. Отд. 1. №55672.
С. 920.
498 Струков Д. П. Указ. соч. С. 330.
499 Русское военное обозрение // Военный сборник. СПб., 1865. Т. ХЬУ. С. 27.
500 Там же.
501 Там же. С. 28-29; Чернявский. Кавказ в течение 25-летнего царствования государя
императора Александра II (1855-1880). СПб., 1898. С. 47-49.
502 Струков Д. П. Указ. соч. С. 340.
503 ПСЗ П. Т. Ы1. Отд. 1. №57195. С. 390.
504 Струков Д. П. Указ. соч. С. 340; ПСЗ П. Т. Х1ЛП. Отд.1. №45534. С. 161.
349
505 Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 253.
506 Струков Д. П. Указ. соч. С. 350.
507 ПСЗ И. Т. Х1ЛХ. Отд. 2. №53996. С. 138.
508 Сборник сведений о Северном Кавказе. Ставрополь, 1906. Т.1. С. 8, 50, 53.
509 Эсадзе. С.С. Указ. соч. Приложения. Т. П. С. 3.
510 Лисицына Г. Г. Указ. соч. С. 142.
511 Там же.
512 Эсадзе С. С. Указ. соч. Приложения. Т. П. С. 6.
513 В 1856 году председателем Кавказского комитета был назначен шеф жандармов
генерал-адъютант граф А.Ф. Орлов. В 1861 году после смерти А.Ф. Орлова на
протяжении трех лет председатель Кавказского комитета не назначался, его функции на
заседаниях выполнял кто-нибудь из старших членов Комитета.
514 Лисицына Г. Г. Указ. соч. С. 143.
515 Учреждения управления Кавказского и Закавказского края. С. 3.
516 Там же. С. 4.
517 Там же. С. 5.
518 Там же. С. 6.
519 Отчет по Главному управлению... С. 37.
520 ПСЗ П. Т. ХЫ1. Отд. 2. №45265. С. 391-399; Там же. №45269. С. 406-407.
521 Там же.
522 Там же. С. 392.
523 Там же. Т.Ь. Отд. 2. №55259. С. 345; Там же. Т. Ы. Отд. 1. №55746. С. 249.
524 Там же. Т.Ь. Отд. 1. №57369. С. 633-634.
525 Там же. Т. ХЫ1. Отд. 2. №45265. С. 394.
526 Там же. С. 394-399.
527 Там же. Т. ХЫ1. Отд. 1. №45259. С. 383.
528 Там же. С. 382-386.
529 Там же. С. 383; Там же. Т. ХЫП. Отд. 1. №45491. С. 127-129.
530 Там же. С. 384-385.
531 Струков Д. П. Указ. соч. С. 294.
532 Там же. С. 296.
533 ПСЗ II. Т. ХЫУ. Отд. 2. №47847. С. 87.
534 Всеподданнейший отчет... С. 118.
535 Там же. С. 68-73.
536 Отчет по Главному управлению... С. 40.
537 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4229. Л. 280-285 об.
538 ПСЗ III. Т. П. Отд. 1. №637.
539 Эсадзе С. С. Указ. соч. Приложения. Т. II. С. 7.
540 Там же. С. 7-9; Лисицына Г.Г. Указ. соч. С. 143.
541 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4229. Л. 283 об. -284.
542 Там же. Л. 284.
543 Там же.
544 ПСЗ III. Т. П. Отд.1. №637.
545 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4229. Л. 284 об.
546 Там же.
350
547 Там же.
548 ПСЗ III. Т. III. №1521.
549 Там же. №1522.
550 Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем генерал-адъютанта
графа Воронцова-Дашкова. СПб., 1907. С. 115-156.
ГЛАВА III
1 Смирнов Н. А. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях ХУ1-ХУШ вв.
Нальчик, 1948. С. 65-66.
2 См. Скитский Б. В. Холопий вопрос и антирусское движение кабардинских князей
в пору независимости Кабарды (1739-1779). Владикавказ, 1930.
3АКАК.Т.1.С. 82.
4 См. Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в ХУ1-Х1Х вв. С. 93, 98.
5 Потто В. А. Два века Терского казачества. Т. II. С. 140.
6 Там же.
7 Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 1869.
Т.1.С.264.
8АКАК.Т.1.С. 83.
9 Потто В. А. Указ. соч. С. 140.
10 Смирнов Н. А. Указ. соч. С. 138.
11 Бушуев С. К. Из истории русско-кабардинских отношений. С. 94.
12 ПСЗ 1.Т. XXII. № 15432. С. 678.
13 Грабовский Н. Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба горцев за ее
независимость // ССКГ. Тифлис, 1876. Вып. IX. С. 118.
14 ПСЗ 1.Т. XXII. № 15432. С. 678.
15 Там же.
16 Вилинбахов В. Б. Из истории русско-кабардинского боевого содружества. Нальчик,
1982.С.197.
17 Кабардино-русские отношения. Т. П. С. 365.
18 Бушуев С. К. Указ. соч. С. 94.
19 История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней. М.,
1967. Т. I. С. 172.
20АКАК.Т.1. С. 84.
21 Там же. Т. П. С. 1123.
22 Кумыков Т.Х. Из истории судебных учреждений в Кабардино-Балкарии (конец
ХУШ-Х1Х вв.) // Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского
института. Нальчик, 1963. Т. XXIX. С. 91.
23 АКАК. Т. П. С. 1123; см. также: Кавказцы. Иван Васильевич Гудович. СПб., 1858.
Т.И.С.41.
24 Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 188.
25 Эсадзе С. С. Указ. соч. Т.1. С. 167.
26 АКАК. Т. И. С. 1123.
27 Там же. С. 1126.
28 Грабовский Н. Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе.
С. 5.
351
29 АКАК. Т. П. С. 1123.
30 Кумыков Т.Х. Указ. соч. С. 92.
31 АКАК. Т. И. С. 1123.
32 Там же.
33 См.: История Кабардино-Балкарской АССР. Т.1. С.174-175; Кумыков Т.Х. Указ. соч.
С. 93.
34 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т. IV. С. 388.
35 АКАК. Т. И. С. 1889.
36 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 376. Л. 1, 4.
37 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 480.
38 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 376. Л. 2; РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 480.
39 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 376. Л. 3.
40 Там же.
41 Там же.
42 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 482.
43 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т. IV. С. 389.
44 Там же. С. 390; РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 481.
45 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 951. Л. 482.
46 Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. Нальчик, 1958.
47 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып. I. С. 48.
48 Ногмов Ш.Б. Указ. соч. §10. С. 189; см. также: Леонтович Ф.И. Указ. соч. §64.
С. 242; Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 7.
49 Валий - значит, владелец, в его звание обычно избирали старшего по годам князя.
50 Ногмов Ш.Б. Указ. соч. §27. С. 191; см. также: Леонтович Ф.И. Указ. соч. §65.
С. 242.
51 Ногмов Ш.Б. Указ. соч. §10. С. 189; Леонтович Ф.И. Указ. соч. §64. С.242.
52 Кумыков Т.Х. Указ. соч. С. 94.
53 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 50.
54 Ногмов Ш.Б. Указ. соч. §6. С. 189; Леонтович Ф.И. Указ. соч. §69. С.244.
55 Ногмов Ш.Б. Указ. соч. §20. С. 190; Леонтович Ф.И. Указ. соч. §67. С.243.
56 Туганов Р. У. Русско-кабардинские отношения в конце XVIII - начале XIX вв. (К
общественно-политической деятельности Измаил-бей Атажукина).: Автореф. канд. дис.
Ленинград, 1983. С. 17.
57 АКАК. Т. III. С. 659.
58 Там же. 1870. Т. IV. С. 870.
59 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18491. 37 Л.
60 Там же. Л. 24.
61 Там же. Л. 23 об.
62 Там же. Л. 24 об.-27.
63 Там же. Л. 32.
64 АКАК. Т. IV. С. 877.
65 Там же.
66 Ермолов А. П. Записки во время управления Грузией (1816-1827) // Чтения в
императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете.
М, 1866. Кн. II. С. 18.
352
67 Бриммер Э.В. Служба артиллерийского офицера, воспитывавшегося в первом
кадетском корпусе и выпущенного в 1812 году. Записки // Кавказский сборник. Тифлис,
1894. Т. XV. С. 104-105.
68 Дубровин Н. Ф. Алексей Петрович Ермолов на Кавказе // Военный сборник. СПб.,
1884. Т. I. С. 11.
69 Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и
биографиях. Т. И. Вып. 3. СПб., 1886. С. 451; см. также: ГПБ, отдел рукописей. Ф. 325; Козада-
евА.В.Д.ЗЗ.С. 78.
70 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 257-270.
71 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 12.
72 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 259.
73 Там же. С. 200.
74 Там же. С. 263.
75 Там же. С. 264.
76 Там же. С. 264, 265.
77 Там же. С. 264-270.
78 Потто В. Указ. соч. С. 453.
79 Там же.
80 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 265.
81 Там же.
82 Там же. С. 266.
83 Там же. С. 267.
84 Там же.
85 Там же. С. 266.
86 Материалы по обычному праву кабардинцев. Составитель Б. Гарданов. Нальчик,
1956. С. 13-14.
87 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 267.
88 Из документальной истории кабардино-русских отношений. Вторая половина
XVIII - первая половина XIX в. / Составитель Х.М. Думанов. Нальчик, 2000. С. 360.
89 Там же.
90 Там же.
91 Материалы по обычному праву кабардинцев. С. 12.
92 Там же. С. 15-20; Из документальной истории кабардино-русских отношений.
С. 357-403.
93 Материалы по обычному праву кабардинцев. С. 16, 212.
94 Там же. С. 25-344.
95 Там же. С. 16.
96 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 282. Л. 32.
97 Там же. Л. 32-37; Материалы Я.М. Шарданова по обычному праву кабардинцев
первой половины ХЕХ в. / Составитель Х.М. Думанов. Нальчик, 1986. С. 278-282.
98 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 282. Л. 32об. - 34 об.
99 Там же. Л. 35.
100 Там же.
101 Там же. Д. 387. Л. 2 об.
102 Там же.
353
103 В 1839 году Я. Шарданов своими действиями вызвал широкое недовольство
кабардинских князей. Полковник барон Россильон, проводивший расследование по
жалобам кабардинцев, обвинил Шарданова в поступках, «вызвавших вражду почетнейших
фамилий» и в «тайном желании волновать умы народа». Он предложил выслать
Шарданова в Россию, назначив ему пенсию с учетом его прежних заслуг. Однако перед ссылкой
он должен был составить «добавления» к «прокламации» Ермолова, в которых бы точно
определялись отношения между князьями, узденями и зависимым населением, а также
сообщались сведения «о принадлежности земель в Кабарде и о землях, составлявших
собственность удалившихся за Кубань кабардинцев». По распоряжению
главноуправляющего генерал-лейтенанта Головина Шарданов был вызван в Ставрополь, где и должен был
приступить к работе. Идеи о реорганизации суда и управления в Кабарде, содержавшиеся
в «дополнительном проекте», к «добавлениям» были изложены Шардановым не по
поручению властей, а по собственной инициативе. РГВИА. Ф. 13454. Оп. 5. Д. 27. Л. 1-2 об.
104 Там же. Л. 4.
105 Там же. Нейдгардт, давая поручение, ссылался на 13-й пункт «Наставления»
Ермолова: «Владельцам, узденям и просто народным депутатам поручено заняться
составлением правил, на законах и обычаях кабардинского народа основанных для дел всякого
рода, которые по рассмотрении начальством могут быть исправлены и утверждены». (Там
же).
106 Леонтович Ф.И. Указ. соч. Нальчик, 2002. Вып.1. С. 79-85.
107 Там же. С. 83-84.
108 Там же. С. 217.
109 Там же. С. 84.
110 В 1827 году военные власти зарегистрировали в Балкарии около 4 тысяч душ
мужского пола. По данным, собранным бароном Вревским в 1837 году, в пяти балкарских
обществах насчитывалось: аулов — 10; дворов — 1553; душ мужского пола — 5020. В проекте
управления мирными горцами, составленном в 1839 году, указываются другие данные: в
10 аулах - 3400 душ мужского пола. Наиболее многочисленным считалось Балкарское
общество: 4 аула, 780 дворов, 212 душ мужского пола. (Очерки истории Балкарского народа с
древнейших времен до 1917 года / Под редакцией А. В. Фадеева. Нальчик, 1961. С. 45-46).
111 Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. С. 233.
112 Там же. С. 242.
113 Там же.
114 Там же.
115 Там же.
116 Балкария и Большая Кабарда находились в ведении начальника Центра
Кавказской линии до 1856 года.
117 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 282. Л. 36-37.
118 Там же.Д. 386. Л. 15 об.
119 В 1824 году князья Бековичи-Черкасские Федор и Ефим и их мать были
признаны российскими властями наследниками малокабардинских князей Мурадовых. Акт о
вступлении их во владение в Малой Кабарде был утвержден комитетом министров 19
мая 1825 года. Кумыков Т.Х. Социально-экономические отношения и отмена крепостного
права в Кабарде и Балкарии. С. 115-117.
120 АКАК. Т. VII. С. 373.
354
121 Там же.
122 Там же.
123 Там же.
124 Там же. Т. XII. С. 645.
125 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 478. Л. 3-4 об.
126 Там же. Л. Зоб.
127 Там же. Л. 4.
128 Там же. Л. 4.
129 Там же.
130 Там жЕ.Д. 675. Л. 3 об.
131 Малая Кабарда находилась в составе Владикавказского округа до 1861 года.
132 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 675. Л. 2об-3.
133 Там же. Л. 3.
134 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 17.
135 АКАК. Т. XII. С. 647.
136 Думанов Х.М., Кетов Ю.М. Адыгэ хабзэ и суд в Кабарде во второй половине
ХУШ-Х1Х в. С. 51.
137 Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 17.
138 Русско-чеченские отношения. Сборник документов. М., 1997. С. 7.
139 Там же; Книга Большому Чертежу. М.-Л., 1950. С. 88.
140 Косвен М.О. Описание гребенских казаков XVIII в.//Исторический архив М.,
1958. №5.
141 Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. М., 1889. Вып. 1.; КушеваЕ.Н. Указ.
соч. В статье А. В. Бирюкова, опубликованной в журнале «Вопросы истории», начало
непосредственных контактов России с горскими народами Северного Кавказа датируется
1722 г. Предложенная датировка, на наш взгляд, является более чем неточной.
(Бирюков А. В. Российско-чеченские отношения в XVIII - середине XIX в. // Вопросы истории.
1998. №2. С. 44).
142 Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавказе. Нальчик, 2001. С. 101.
143 Кабардино-русские отношения в ХУ1-ХУШ вв. М, 1957. Т. 1. С. 63.
144 Белокуров С. А. Указ. соч. С. 561
145 Броневский СМ. Указ. соч. Т. 1. С. 176-181.
146 Там же. С. 176; Бларамберг И. Указ. соч. С. 354.
147 Броневский СМ. Указ. соч. С. 177; Бларамберг И. Указ. соч. С. 354-355.
148 Броневский СМ. Указ. соч. С. 175.
149 Там же. С. 179.
150 Бларамберг И. Указ. соч. С 355.
151 РГАДА. Ф. 259. Оп. 22. Д. 1575. Л. 858-860.
152 АВПРИ.Ф. «Осетинские дела». Оп. 128/И. Д. 1. Л. 886-887.
153 Ахмадов Я.З. Взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII в.
Махачкала, 1977. С. 13.
154 Киняпина Н. С, Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во внешней
политике России. М., 1984. С 42.
155 По У. Лаудаеву название «чеченцы» русские заимствовали у кабардинцев (см. Ла-
удаев У. Чеченское племя // ССКГ Вып. VI. Тифлис, 1872. С. 4.
355
156 Бутков П. Г. Указ. соч. 4.1. С. 259.
157 Там же. С. 260.
158 Ахмадов Я.З. Из истории чечено-русских отношений//Вопросы истории
Дагестана. Махачкала, 1977. Т.2. С. 297-300.
159 Лаудаев У. Указ. соч. С. 4-5.
160 Фадеев А. В. О некоторых социально-экономических последствиях
присоединения Чечено-Ингушетии к России // Известия ЧИНИИИЯЛ. Т.2. Вып.1. Грозный, 1960.
161 Тавакалян Н. А. О русской ориентации чеченцев и ингушей до их вхождения в
состав России // Археологический сборник. Вып. 2. Грозный, 1968. Тавакалян Н. А.
Присоединение Чечено-Ингушетии к России и его последствия. Автореф. док. дис. М., 1972.
162 Алдинцы и гехинцы представляли собой крупные чеченские общества. «Мирные»
чеченцы, поселившись на равнине, «служили проводниками чеченцев и делали нападения
на станицы казаков» (Фарфоровский С. Борьба чеченцев с русскимиУ/Русский архив. М.,
1914. №4. С. 455). В развиваемой горцами системе набегов, положение мирных чеченцев
становилось достаточно сложным. Горцы требовали от них разносторонней поддержки в
набегах на казачьи станицы, с другой стороны, горцы же довольно часто совершали
разбойные нападения на мирных чеченцев. Российские власти, зная о помощи мирных чеченцев в
набегах горцев, обрушивали на первых карательные меры. Таким образом, равнинные
чеченцы подвергались двойному военному давлению. (Фарфоровский С. Указ. соч. С. 455).
163 Бутков П. Г. Указ. соч. Ч. П. С. 62.
164 Байбулатов Н.К., Блиев М.М., Бузуртанов М.О. и др. Указ. соч. С. 58.
165 Лаудаев У. Указ. соч. С. 19.
166 Там же.
167 Там же.
168 Гриценко Н.П. Указ. соч. С. 29.
169 Лаудаев У. Указ. соч. С. 7-8.
170 Там же. С. 7.
171 Бутков П. Г. Указ. соч. Ч. П. С. 62.
172 Основные положения «договора» приведены в работе П. Г. Буткова (См.:
Бутков П. Г. Указ. соч. С. 62-65; Виноградов В. Б., Умаров С. Вхождение Чечено-Ингушетии в
состав России. Грозный, 1979. С. 45-47).
173 Бутков П. Г. Указ. соч. Ч. П. С. 62.
174 Подписание договора состоялось в ауле Чечен; см.: Бутков П. Г. Указ. соч. С. 63.
175 Там же. С. ПО.
176 Там же. С. 111.
177 Там же.
178 Лаудаев У. Указ. соч. С. 26.
179 Там же.
180 Там же.
181 Бутков П. Г. Указ. соч. С. 112.
182 Бутков П. Г. Указ. соч. Ч. II. С. 112.
183 Там же; Русско-осетинские отношения. Т.П. С. 204; Бирюков А.В. Указ. соч.
С. 45
84 Там же.
85 Лаудаев У. Указ. соч. С. 26.
356
186 Там же.
187 Материалы по истории Дагестана и Чечни. С. 143-145.
188 Потто В. А. Утверждение русского владычества на Кавказе. Т. III. Ч. 1. С. 85; см.
также: АКАК. Т. III. С. 119.
189 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 22. Л. 99 об.
190 АКАК. Т. III. С. 670.
191 Там же С. 669.
192 Там же. С. 670.
193 Там же.
194 Там же. С. 670, 674.
195 Там же. С. 673, 675.
196 Там же. С. 670.
197 РГВИА Ф. 13454. Оп. 2. Д. 15. Л. 16-15 об.
198 Там же. Л. 16-17об.
199 Там же. Л. 18-19об.
200 АКАК. Т. III. С. 670, 675.
201 РГИА. Ф. 1263. Д. 22. Л. 99 об. - 100.
202 АКАК. С. 874.
203 Потто В. Указ. соч. Т. 1. С. 260.
204 Там же. С. 263; см. также: АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 500.
205 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 73. Л. 7.
206 Там же. Л. 6.
207 Там же.
208 Там же. Л. 6. 6 об. 7.
209 Записки Ермолова. С. 441.
210 Там же. С. 424.
211 Там же. С. 426.
212 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 218. Л. 7-8.
213 Там же.
214 Там же. Л. 7-7 об.
215 Там же. Л. 7 об.
216 Там же.
217 Там же.
218 Там же. Л. 8.
219 Там же.
220 Там же.
221 Там же.
222 Там же. Оп.2.Д. 73. Л. 2.
223 Там же. Л. 3.
224 Там же. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 73. Л. 3 об.
225 Там же. Л. 5.
226 Аманатский хозяин—лицо, выдававшее аманата кавказским властям; на нем
лежала моральная ответственность за жизнь аманата, в связи с этим аманатский хозяин обязан
был вести надзор за жителями деревни (или деревень), от которых брался аманат.
227 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 73. Л. 17-28.
357
228 Там же. Л. 17.
229 Там же.
230 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 73. Л. 19 об.
231 Там же.
232 Там же. Л. 22.
233 Там же. Л. 9-11 об.
234 См. гл. I.
235 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 73. Л. 9 об. - 10.
236 Там же. Л. 11.
237 Там же. Л. 14.
238 Там же.
239 Там же. Ф. ВУА. Д. 6379. Л. 3 об. - 4.
240 Там же. Л. 4.
241 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 222. Л. 2 об.
242 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6381. Л. 20-21.
243 Там же. Л. 14.
244 Там же.
245 Там же.
246 Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.).
Пятигорск, 2002. С. 406.
247 Милютин Д. Описание военных действий 1839 года в Северном Дагестане. СПб.,
1850. С. 24.
248 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6379. Л. 7об. - 8.
249 Там же. Л. 8-8об.
250 Там же. Л. 9-9об.
251 Бушуев С. К. Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. М.-Л.,
1939. С. 90.
252 Там же.
253 Там же.
254 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6380. Л. 28.
255 Бушуев С. К. Указ. соч. С. 90; История народов Северного Кавказа конец XVIII в.
-1917 г. М., 1988. С. 152.
256 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6381. Л. 19-21.
257 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа. М., 1959. С. 401-402.
258 Военно-статистическое обозрение... С. 153.
259 АКАК. Т. XII. С. 1468.
260 Шамиль и Чечня // Военный сборник. СПб., 1859. Т. IX. С. 136.
261 Там же.
262 Абдурахман. Выдержки из записок Абдурахмана сына Джемал Эддинова о
пребывании Шамиля в Ведене и о прочем. Тифлис, 1862. С. 9.
263 Движение горцев... С. 413.
264 Там же. С. 245.
265 Там же. С. 616.
266 Ржевусский А. 1845 год на Кавказе // Военный сборник. Тбилиси, 1882. Т. VI.
С. 400.
358
267 АКАК. Т. IX. С. 881.
268 Низам Шамиля // ССКГ. Тифлис, 1870. Вып. III. Гл.: 9,10, И и 12.
269 Юров А. 1845-й год. КС. Т. VI. С. 43.
270 Там же.
271 Там же. С. 154.
272 Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1967. Т.1. С. 107-108.
273 ПСЗ. П. Т. XXIII. №22641. С. 640.
274 АКАК. Т. X. С. 362.
275 Бушуев С. К. Указ. соч. С. 138.
276 Там же.
277 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. С. 446-447.
278 РГВИА. Ф. 38. Он. 7. Д. 200. Л. 1-2.
279 Там же.
280 Там же.
281 ПСЗ. П. Т. XXVII. Отд. 1. №26740. С. 648.
282 Там же; РГИА. Ф. 1268. Он. 6. Д. 412. Л. 4 об.
283 РГВИА. Ф. 14719. Оп. 3. Д. 550. Л. 3.
284 Там же. Л. 3, 8.
285 Там же.
286 Там же. Л. 27.
287 Там же. Л. 27 об.
288 Там жЕ.Д. 549. Л. 27.
289 Там же. Л. 27 об.
290 АКАК. Т. XI. С. 57.
291 Там же. Л. 28.
292 Там же. Л. 28 об.
293 Там же.
294 Там же. Л. 31.
295 Там же.
296 Там же. Л. 29 об.
297 Там же.
298 АКАК. Т. XII. С. 1289.
299 Там же.
300 Там же. С. 143.
301 Там же.
302 Там же.
303 АКАК. ТХ. С. 54.
304 Волконский Н. А. Погром... С. 166.
305 Романовский Д. И. Генерал-фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский
и Кавказская война (1815-1879) // Русская старина. СПб., 1881. №1-3. С. 281.
306 Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год // Русская старина. СПб., 1893.
Т. ЬХХГХ. С. 170.
307 РГВИА. Ф. 14719. Д. 549. Л. 17-26.
308 Там же. Л. 17.
309 Там же. Л. 17 об.
359
310 Там же. Л. 17 об.-18.
311 Там же. Л. 19.
312 Там же. Л. 20.
313 Там же. Л. 26.
314 АКАК. Т. XII. С. 1289.
315 Там же.
316 РГИА. Ф. 1268. Оп. 6. Д. 412. Л. 1 об.; ПСЗ II. Т. XXVII. Отд. 1. №26740. С. 641.
317 АКАК. Т. XII. С. 1289.
318 Романовский Д. И. Указ. соч. С. 185.
319 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 593. Л. 1 об.
320 Там же. Л. 2-2об.
321 Там же. Л. 3.
322 Там же. Л. Зоб.
323 Там же. Л. 4-4об.
324 Там же. Л. 4.
325 РГИА. Ф. 1350. Оп. 56. Д. 270. Ч. 1. Л. 184-184 об.
326 Русско-осетинские отношения в XVIII веке. Сборник документов. Орджоникидзе,
1976.Т.1.С.402.
327 Там же. Орджоникидзе, 1984. Т. П.
зге Потто В. А. Два века терского казачества. Т. П. С. 144.
329 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 1. Д. 85. Л. 26-26об.
330 Там же. Ф. 482. Д. 20; Ф. ВУА. Д. 407. Ч. 1. Л. 95-103.
331 АКАК. Т. 1.С. 717.
332 Березов Б. П. Переселение осетин с гор на плоскость (XVIII-XX вв.).
Орджоникидзе, 1980. С. 71, 77.
333 АКАК. Т. III. С. 216.
334 Там же. С. 219.
335 История Юго-Осетии в документах и материалах (1800-1864 гг.). Сталинир, 1860.
Т. II. С. 4.
336 АКАК. Т. I. №543.
337 Там же.
338 Блиев М.М., Бзаров Р. С. История Осетии с древнейших времен до конца XIX в.
Владикавказ, 2000. С. 254.
339 История Юго-Осетии в документах и материалах. С. 47.
340 АКАК. Т. VI. Ч. 1.С.685.
341 Там же.
342 Там же.
343 Там же.
344 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 74. Л. 1-1 об.
345 Там же. Л. 1.
346 Блиев М.М. Указ. соч. С. 333.
347 АКАК. Т. VI. Ч. П. С. 362.
348 Материалы по истории осетинского народа. Сборник документов. Орджоникидзе,
1942. Т. П. С. 189-190.
349 Там же.
360
350 Население Дигорского ущелья с начала XIX века подчинялось
административному управлению, установленному в Кабарде. См.: АКАК. Тифлис, 1873. ТУ. С. 525; РГ-
ВИА. Ф. 414. Д. 301. Л. 89; РГВИА. Ф. 13454. Оп. 1. Д. 116. Л. 67-67 об.
351 АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 472.
352 После постройки на р. Сунжа Назрановского укрепления к ингушам, населявшим
близлежащие территории, был назначен пристав. Первым «назрановским приставом»
стал майор Циклауров; в июне 1826 года, по приказу А. П. Ермолова, «за слабый надзор за
ингушами» Циклауров был освобожден от занимаемой им должности и обязанности
пристава поручены майору Щелкачеву. См.: РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 74. Л. 12 об; АКАК.
Т. VI. Ч. П. С. 516.
353 Там же. Л. Зоб.
354 Там же.
355 Там же. Л. 7-10.
356 Там же. Л. 7.
357 Там же. Л. 12 об.
358 Там же. Л. 22.
359 Там же. Л. 14.
360 Там же. Л. 13-14.
361 Блиев М.М. Указ. соч. С. 349-350.
362 Там же. С. 350-351.
363 РГИА. Ф. 1018. Оп. 1. Д. 225. Л. 3.
364 АКАК. Т. VII. С. 353-354.
365 Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность.
СПб., 1891. Т. III. С. 273.
366 История Юго-Осетии в документах и материалах. С. 58-59.
367 Чудинов В. Окончательное покорение осетин // Кавказский сборник. Тифлис,
1889. Т. XIII. С. 68.
368 Там же.
369 Там же.
370 АКАК. ТУП. №304.
371 Там же. Т. VIII. №291.
372 Там же. Т. VII. С. 385.
373 Там же. Т. VIII. №294.
374 РГИА. Ф. 1152. Оп. 1. Д. 16. Л. 4 об.
375 Там же. Л. 4 об.-5.
376 АКАК. Т. VII. С. 272-273.
377 РГИА. Ф. 1152. Оп. 1. Д. 16. Л. 11-16.
378 АКАК. Т. VII. С. 272-273.
379 ПСЗ П. Т. VI. № 4474. С. 280; РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 692. Л. 8.
380 Эсадзе С. С. Указ. соч. Т. 1. С. 180.
381 Там же.
382 Там же. С. 181.
383 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 692. Л. 8.
384 Там же.
385 Там же. Л. 9.
361
386 Сохранилось дело об убийстве жителя «деревни Наваков» осетина Тепсура Золо-
ева его родственниками, рассмотренное в военном суде в Ставрополе в 1839 году.
Причиной убийства стал спор вокруг участка пахотной земли, полученной братьями Бранацем,
Тепсуром и Магометом Золоевыми после смерти их отца. На допросе подозреваемые в
убийстве Бранац и Магомет Золоевы и их брат по матери Хамурза Кадиев рассказали,
что Бранац, недовольный разделом имущества, угрожал убить родственников, а затем
бежал в с. Нар. Вернувшись в родное село через пять лет, он возобновил свои угрозы, за
что и был убит братьями. Судей поразил тот факт, что преступники «сами во всем
сознались, нисколько не стесняясь». Нормы обычного права, по которым жили подсудимые,
не предполагали серьезного наказания за содеянное. Вердикт судей, по мнению горцев,
был неоправданно суров. Согласно Своду военных постановлений Российской империи,
части I, ст. 106 и ст. 107, подсудимые Бранац Золоев и Хамурза Кадиев приговаривались
к наказанию шпицрутенами через пятьсот человек по одному разу и ссылке в Сибирь на
каторгу. Магомет Золоев как несовершеннолетний освобождался от телесного наказания
и ссылался на каторжные работы сроком на 5 лет с дальнейшим поселением в Сибири.
(РГВИА. Ф. 13454. Оп. 5. Д. 1339. Л. 1-2).
387 АКАК. Т. VIII. №294.
388 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 84. Л. 1-6.
389 Там же. Л. 2.
390Тамже.Л.Зоб.-4,6.
391 Грузинская губерния была переименована в Грузино-Имеретинскую в 1837 году.
392 История Юго-Осетии в документах и материалах. С. 66-67.
393 АКАК. Т. IX. №629.
394 История Юго-Осетии в документах и материалах. С. 67.
395 ПСЗ II. Т. XVII. №16199.
396 Иваненко В. Н. Указ. соч. С. 337.
397 См. га. II.
398 ПСЗ П. Т. XXI. №20171.
399 Военно-статистическое обозрение... С. 137.
400 Там же.
401 Леонтович Ф.И. Указ. соч. Вып.1. С. 77-78.
402 Сбор сведений об адатах дигорцев был поручен начальнику Центра Кавказской
линии.
403 Леонтович Ф.И. Указ. соч. Вып. П. С. 112-116.
404 АКАК. Т. XII. С. 664.
405 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 466. Л. 1-1 об.
406 Там же.
407 Там же. Л. 2 об.
408 Там же. Л. 3.
409 Там же. Л. 3 об.
410 Там же. Л. 8-8 об.
411 Иван Карданов был против его желания назначен помощником управляющего ди-
горским народом сроком на один год с сохранением «всего того, что получают казаки».
(Там же. Л. 12).
412 Там же.
362
413 Там же
414 Там же. Л. 15.
415 Там же. Л. 17.
416 Там же.
417 Бзаров Р. С. Указ соч. С. 143.
418 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 455. Л. 19.
419 Там же. Л. 19 об.
420 Блиев М.М., Бзаров Р. С. История Осетии. С. 301.
421 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 455. Л. 19 об. -20.
422 Там же.
423 Там же. Л. 21.
424 Там же. Л. 23 об.
425 Бзаров Р.С. Указ. соч. С. 15; ОРФ СОИГИ.Ф. 16. Оп. 1. Д. 3. Л. 53.
426 См. II гл.
427 Там же.
428 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 390. Л. 1-2; ПСЗ II. Т. XXXV. Отд. И. №36130. С. 96.
429 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 390. Л. 1-2.
430 ПСЗ П. Т. XXXV. №36278.
431 Там же.
432 АКАК. Т. XII. С. 1192-1198.
433 Там же. С. 1192.
434 Там же. С. 1193.
435 Там же.
436 Там же. С. 1194.
437 Там же.
438 Там же.
439 Там же.
440 Там же.
441 Там же.
442 Там же. С. 1195-1198.
443 Там же. С. 1195.
444 Там же.
445 Людьми, «пользующимися действительной свободой, правильно или
неправильно» признавались все, живущие своим домом или у посторонних лиц, отдельно от
владельца, и не отбывающие в отношении владельца никаких повинностей. (Там же. С. 1195).
446 Там же.
447 Там же. С. 1196.
448 Там же.
449 Там же. С. 1197.
450 Там же.
451 Там же.
452 Там же.
453 Там же.
454 Там же. С. 1198.
455 Там же.
363
456 Там же.
457 Там же.
458 Там же.
459 ОРФ СОИГСИ.Ф. 2. Оп. 1. Д. 16.
460 РГИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 99. Л. 4.
461 ПСЗ П. Т. XXXVII. Отд. 1. №38326; РГИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 99. Л. 110-122.
462 РГИА. Ф. 1268. Оп. 10. Д. 99. Л. 111.
463 Там же.
464 Там же. Л. 113.
465 Там же.
466 Первый состав суда избирался командующим войсками. (Там же. Л. 112).
467 В будущем планировалось составить новые инструкции о порядке выборов судей,
работе и делопроизводстве народных судов (Там же. Л. 113).
468 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 493. Л. 58.
469 Там же. Л. 1об.-2.
470 Там же. Л. 3.
471 Там же. Л. 1, 2 об.
472 Там же. Л. 2.
473 Там же. Л. 58.
474 Там же. Л. 6.
475 Там же. Л. 11.
476 Там же. Л. 102.
477 Там же.
478 См. II гл. и III гл., §3.
479 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д.455. Л. 1.
480 ПСЗ П. Т. XXXIX. №41526.
481 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 455. Л. 2.
482 Там же. Л. 3-5.
483 Там же. Л. 3.
484 Там же. Л. 4.
485 Там же. Л. 3 об.
486 Там же.
487 История народов Северного Кавказа (конец XVIII - 1917 г.). М., 1988. С. 263.
488 Там же.
489 РГИА. Ф. 1276. Оп. 3. Д. 90. Л. 7-8.
490 Там же. Л. 8 об.
491 Там же. Л. 8.
492 См. II гл.
493 отчеты по Главному управлению... С. XII, 60-61; РГИА. Ф. 932. Оп. 1. Д. 303.
Л. 2 об.
494 РГИА. Ф. 1149. Оп. 7. Д. 112. Л. 47.
495 Там же. Л. 52 об.
496 Там же.
497 Там же. Л. 308; ПСЗ П. Т. ХЬГ/. №47847.
364
498 Учреждение управления Кавказского и Закавказского края. С. 32; ПССII. Т. ХЫУ.
№47772.
499 ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 52. Д. 14. Л. 146-166.
500 Мужухоева Э.Д. Управление Чечено-Ингушетией в 40-е годы XIX - начале
XX в. С. 92.
501 Учреждение управления Кавказского и Закавказского края... С. 34.
502 Там же. С. 35.
503 Там же.
504 Положение о сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и
повинностях государственных и общественных в горском населении Терской области.
Владикавказ, 1870. С. 1-22.
505 Там же. С. 3-7.
506 Там же. С. 8-9.
507 Там же. С. 9-10.
508 Там же. С. 12.
509 Там же. С. 21.
510 ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 52. Д. 14. Л. 100-101.
511В Кабарде участковые народные суды были заменены на сельские суды в 1868 году
(Калмыков Н.А. Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии. Нальчик,
1995. С. 28).
512 ЦГА РСО-А. Ф. 112. Оп. 1. Д. 1-153.
513 РГИА. Ф. 1149. Оп. 7. Д. 112. Л. 207 об; Положение о сельских (аульных)
обществах. .. С. 20.
514 Положение о сельских (аульных) обществах... С. 20-21.
515 ПСС П. Т. ХЫХ. Отд. 2. №54142.
516 ЦГА РСО-А. Инвентарная книга №1312 «Временные правила для горских
словесных судов в Кубанской и Терской областях». С. 1.
517 РГИА. Ф. 1268. Оп. 15. Д. 143. Л. 15.
518 Там же.
519 Там же.
520 Там же.
521 Там же.
522 Там же. Ф. 932. Оп. 1. Д. 309. Л. 1 об.
365
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абаевы, балкарские тауби — 53
Абисалов А., осетинский владелец — 283
Абисаловы, фамилия — 53
Абдула-Цухкар, наиб — 254
Абхазов И.Н., генерал— 113, 275, 177, 322
Агаджанов С.Г., историк — 376
Азаматов К.Г., историк — 61, 335, 370. 375
Айдемир, житель Чечни — 34
Айдемиров Арсланбек, кумыкский феодал —
230,231
Айдаров Т., депутат — 283
Алдатов Н., осетинский владелец— 171
Александр, грузинский царевич — 42
Александр I, российский император — 69, 95,
96, 98, 99, 101, 106, 109, 204, 239, 268, 269
Александр II, российский император — 69, 148,
157, 158, 164, 169, 178, 183, 189, 190, 266, 294,
297, 303, 304, 350.
Александр III, российский император— 196
Алисултанов Мирзабек, чеченский старшина
— 235
Андреев В., историк — 370
Анзоров, малокабардинский князь — 67
Аракчеев А.А., граф, член Сибирского комитета
— 106
Ардасенов А.Г., историк — 45
Арсланбеков Хамурза, кабардинский князь
— 70
Атажук, кабардинский князь — 69
Атажукин Темирбулат, кабардинский князь
— 212
Атажукины, фамилия — 66, 67, 201, 202, 206
Атжукин Измаил-бей, адыгский просветитель
— 208,353,378
Ахвердов, полковник — 233, 234, 235, 236
Ахверд Магом, наиб — 254
Ахловы, фамилия — 66
Ахмадов Л.З., историк — 357, 370
Багичев К.Н., историк — 379
Багратиды, грузинская династия — 42
Багратид Иван, грузинский царевич — 42
Багратион Мухранский И.К., чиновник — 160,
179
Бадель, родоначальник дигорских феодальных
фамилий — 53
Байбулатов Н.К., историк — 338, 357, 372
Бакланов Я.П., полковник — 256
Балкаруковы, княжеский род — 57
Баматов Кучук, кабардинский князь — 230
Барановский Н.Н., действительный статский
советник— 179
Бартоломей И.А., полковник — 257, 258
Барятинский А.И., князь, кавказский наместник
— 8, 24, 25, 32, 157, 158, 159, 160-164, 166-169,
176, 178-180, 183, 195, 221, 256, 257, 258, 260,
261, 263-265, 289, 290, 295, 324, 325, 328, 347,
349, 361, 377
Бебутов В.О., генерал — 69, 150
Бекмурзины, фамилия — 66, 67, 201, 206, 220
Беклемешев Н.С., полковник — 284, 285
Бекович-Черкасский Ф.А., кабардинский князь
— 117, 119,287,302,356
Бекович-Черкасский Ефим, кабардинский князь
— 356
Белокуров С.А., историк— 19, 223, 356, 370
Бенкендорф А.Х., шеф жандармов — 135
Бентковский И.В., историк — 8, 9, 87, 88, 103,
328, 338, 340, 341, 370, 380
Бердзиев (Бердзинашвили) Зала, грузинский
дворянин — 276
Берды-бей, князь — 57
Березов Б.П., историк — 333, 334, 361, 370
Берже А., историк — 370
Бетуевы, фамилия — 53
Бзаров Р.С., историк — 46-50, 333, 334, 361, 364,
300, 371
Бирюков А.В., историк — 356, 358, 371
Бларамберг И., офицер-кавказовед — 29, 30, 38,
43, 53, 62, 63, 224, 331, 332, 334, 335, 356
Б лиева З.М., историк — 379, 380
Блиев М.М., историк — 11, 329, 332, 334, 338,
357, 361, 362, 364, 370, 371, 372
Блудов Д.Н., министр юстиции— 123, 127, 148
Богуславский, генерал— 181
Борчашвили Э.А., историк — 371
Боцвадзе СМ., историк — 371
Бриммер Э.В., офицер-кавказовед — 354, 368
Броневский С, историк — 70, 224, 330, 356, 371
Будберг А.Я., барон, член Комитета финансов
— 233
Бузуртанов М.О., историк — 338, 357, 371, 372
Булгаков С, генерал— 102, 233
Збб
Бутков В.П., историк— 148, 226, 230, 306, 352,
357,358,371
Бушей, офицер-кавказовед — 6
Бушуев С.К., историк — 10, 11, 328, 329, 352,
359, 360, 369, 371
Васильев, граф, министр финансов — 95
Васильев, капитан — 281
Вахтанг, грузинский царевич — 41
Вельяминов А.А., генерал— 117, 136
Вердеревский, генерал— 102, 103
Вертепов Г., историк — 19, 20, 330, 331, 332,
375
Вилинбахов В.Б., историк — 352, 371
Виноградов В.Б., историк — 357, 371
Висковатов А.А., историк — 328, 371
Витте Ю.Ф., действительный статский советник
—160, 179
В.Н.Л., историк —333, 371
Волконский Н.А., офицер-кавказовед — 260,
361,372
Вольф Н.И., капитан— 136, 139, 154
Воронцов М.С., князь, кавказский наместник
— 8, 43, 54, 147, 148-152, 154-157, 164, 180, 256,
257, 258, 261, 265, 266, 283, 285-287, 323, 328,
379
Воронцов А.Р., граф-сенатор — 87
Воронцов-Дашков И.И., кавказский наместник
— 196, 352, 367
Вревский И.А., генерал — 287, 288
Вронченко М.П., полковник— 124
Гайтов, дигорский пристав — 284
Гагарин А.И., генерал — 163
Гаибов Н.Д., историк — 333, 334, 372
Галоян Г.А., историк — 372
Гальцев В.С, историк — 372
Ган П.В., сенатор — 8, 124-130, 133, 134, 146,
156,281,323
Гамрекели В.Н., историк — 81, 84, 367, 372
Гарданов В.К., историк — 63, 70, 72, 215, 335-
337, 354, 369, 372
Гатагова Л.С, историк — 14
Гагичаевы, фамилия — 41
Гизетти А., историк — 380
Гиляхстановы, фамилия — 66, 67, 201
Гермес Б.А., сенатор— 106, 107, 320
Гессе К.Ф., генерал— 113
Голицын А.Н., князь, член Сибирского комитета
— 106
Голицын Г.А., главноначальствующий— 196
Голицын В.С., генерал — 144, 217, 218, 219, 220
Головин Е.А., главноуправляющий, Командир
Отдельного Кавказского Корпуса — 23, 43, 126,
128-130, 132, 136, 139-141, 144, 146, 248, 280-
282, 355, 367
Горихвостов А.З., генерал— 117
Городецкий Б.М., историк — 380
Граббе П.Х., генерал — 66, 136, 139, 247, 248,
249, 250, 255
Грабовский Н.Ф., историк — 8, 34, 35, 37, 64,65,
271, 328, 332, 335, 352, 353, 356, 372
Грамотин А.П., генерал — 288
Греков Н.В., генерал — 237, 238
Гриценко Н.А., историк — 331, 332, 357, 372
Гржегоржевский В.А., генерал — 248
Гринев, майор — 268
Гудович И.В., главноуправляющий,
главнокомандующий — 200-203, 208, 233-236, 268
Гурко В.О., генерал— 139, 216, 217, 220, 283
Гурьев Д.А., генерал— 106
Гутнов Ф.Х., историк — 334, 372
Давлетгереевы, фамилия — 231
Давыдовский, ротмистр — 217
Данилевский И., историк — 373
Даспик-Дюкруаси И.А., статский советник —
161
Дебу И., историк —5, 101, 328, 340, 373
Дегоев В.В., историк — 357
Дельпоцо И.П., генерал —63, 205,206,208,209,
221,270,271
Джанхотов Кучу к, подполковник — 212
Десимон А.Ф., тайный советник — 161
Джантиевы, фамилия — 47
Джемал-Эддин, проповедник— 153, 360
Дзагуров ГА., историк — 380
Дзамихов К.Ф., историк — 356, 373
Долгоруков В.А., генерал — 257, 266
Дондуков-Корсаков А.М.,
главноначальствующий—196, 367
Дружинина Е.И., историк — 373
Дубровин Н.Ф., историк — 5, 6, 328, 335, 339,
341,353,354,373,380
Дударов М., поручик, осетинский владелец
— 282
Дударов Т., осетинский владелец — 277
Дударовы, фамилия — 47
Дударов Эль-Мурза, осетинский владелец —
277
Думанов Х.М., историк — 14, 15, 65, 66, 72, 73,
367
74, 329, 336, 337, 338, 354, 356, 369, 370, 373
Евангулов Г.Г., историк — 373
Евдокимов Н.И., генерал— 162, 163, 180, 183,
289
Есенов, прапорщик — 282
Есиевы, фамилия — 50
Екатерина II, российская императрица — 82, 86-
88,199,203,231
Ермолов А.П., главноуправляющий, Командир
Отдельного Кавказского Корпуса — 36, 43, 69,
100, 106-108, 111-112, 146, 155, 174, 209, 210-
212, 240, 243, 269, 270, 271, 174, 320, 324, 328,
344, 354, 355, 358, 362, 365, 370
Ерошкин Н.П., историк — 11, 12, 80, 329, 338,
351,352,373,380
Жанбатырев Цуцу, чеченский старшина — 235
Заводовский Н.С., генерал— 151, 152, 283
Загурский Л., историк — 340, 373, 380
Зайончковский П.А., историк — 380
Зиссерман А.А., историк — 373
Зозуля И.В., историк— 15, 329, 350, 373
Зокоев Дз., депутат — 283
Золоев Тепсур, житель Осетии — 363
Золоев Магомет, житель Осетии — 363
Золоев Бранац, житель Осетии — 363
Золотарев, есаул — 238, 241
Зубов Валериан, граф — 96, 340, 373
Ибрагимова З.Х., историк— 15, 330, 374
Иван, осетин, житель Цхинвала — 41
Иваненков Н.С., историк — 330, 331, 374
Иваненко В.Н., историк — 5, 7, 8, 19-23, 124,
126, 146, 157, 159, 328, 343, 344, 345, 347, 363,
374
Ивелич, граф, генерал — 233
Игнатьев П.Н., граф — 195
Ильинский М.С., генерал — 283, 287
Инсарский В.А., действительный тайный
советник—158-161, 347, 369
Ираклий II, грузинский царь — 40, 41, 85
Исса, наиб — 254
Исмаил, сын Таймазова Кучука — 235
Исмаил-Заде Д.И., историк— 14
Кабановы, фамилия — 53
Кайтукины, фамилия — 66, 67, 201, 206. 220,
231
Кадиев Хамурза, житель Осетии — 363
Казбалай, сын Таймазова Кучука — 235
Казбек, полковник — 286
Казболат, дагестанский владелец — 231
Калаев С, осетинский старшина — 274
Калмыков Ж.А., историк— 12, 329, 366, 374
Калоев Б.А., историк — 44, 332, 374
Кампенгаузен Б.Б., барон— 106
Канкрин Е.Ф., министр финансов — 126
Кануковы, фамилия — 47
Карцов, генерал —181
Кариев Умар, осетинский владелец — 50
Камболов Г., депутат — 283
Каражаев И., осетинский владелец — 283
Карданов Иван, помощник прокурора — 284,
364
Караджаевы, фамилия — 53
Картунов Касай, кабардинский владелец — 212
Касболатов Алисолтан, дагестанский владелец
— 231
Квист О.И., действительный статский советник
— 124
Кетеван, грузинская царевна — 42
Кетов Ю.М., историк— 14, 15, 329, 356
КиняпинаН.С., историк— 12, 329, 357, 374
Кипиани Д.И., действительный статский
советник— 161
Киселев И.Д., министр государственных иму-
ществ— 127, 148
Кишинский Н.С., полковник — 256
Клапрот Ю., языковед, академик — 43, 332
Клычников Ю.Ю., историк — 359, 374
Ключевский В.О., историк — 5
Кнорринг К.Ф., гланоуправляющий,
главнокомандующий — 93, 95, 96, 99, 268
Ковалевский М.М., историк — 9, 10, 46, 50, 53,
55, 56-58, 328, 334, 335, 374, 376
Коголко Али Мурза, кабардинский владелец
— 212
Кодзоков Д.М., статский советник — 303
Козловский В.М., генерал— 163
Козубский К., историк — 380
Ко киев Г. А., историк — 337, 374
Колосов Л.Н., историк — 374
Конов Али, кабардинский владелец — 212
Константин Николаевич, великий князь — 178
Константинов, полковник — 277
Корф М.А., граф, член Государственного совета
— 124. 130, 147, 306, 343-345, 369
Косвен М.О., историк — 356, 375, 376
Кочубей В.П., граф, член Сибирского комитета
— 96,106
Кох Н., путешественник — 43, 52, 332, 334
368
Коцебу П.Е., генерал — 142, 143, 161, 347
Крикунова Е.О., историк — 368
Крузинштерн А.Ф., действительный статский
советник—159, 160
Кубатиев Д., осетинский владелец — 283
Кубатиевы, фамилия — 53
Кудашев В.Н., историк — 218, 355, 375
Куденетов Беслан, кабардинский владелец —
212
Фон Кульман, майор — 258
Кумыков Т.Х., историк— 11, 55, 63, 64, 66, 201,
202, 329, 334, 335, 336, 337, 352, 353, 356, 375
Кундухов А., осетинский владелец — 274
Куракин, князь — 208
Куроедов А.М., комендант — 90, 227
Кушева Е.Н., историк — 19, 72, 223, 337, 370,
375
Кутайсов П.И., сенатор — 114, 115, 119, 129,
276
Лавров Д., историк — 50
Ларсанова, фамилия — 41
Ларина В.И., историк — 339, 375
Лаудаев У, историк — 19, 26, 27, 29, 30, 223,
228, 230, 232, 330, 331, 357, 375
Левшин Д.Д., член Государственного совета
— 306
Легкобытов В., историк— 124, 376
Ленин В.И., государственный деятель — 377
Леонтович Ф.И., историк— 17, 27, 50, 206, 207,
331, 333-335, 353, 354, 363, 369
Лефорт А.А., историк — 339
Лилов А., историк — 90, 339, 375
Лисицына Г.Г., историк — 345, 351, 375
Литке Ф.П., член Государственного совета —
306
Ломинадзе Р.А., историк — 375
Лорис-Меликов М.Т., граф, генерал — 15, 184,
303, 304-306, 329
Магома, мулла — 239, 240
Магомедов Р., историк — 369
Майдель Е.И., полковник — 256
Макаров, советник — 93, 94, 96
Максимов Е., историк— 19, 20, 330-332, 375
Малиновский С.С., генерал— 117
Малинский, губернатор— 101, 102, 103
Мальбахов Б.К., историк — 375, 376
Мамакаев М.А., историк — 19, 26-28, 330, 331,
376
Мамбетов ГА., историк — 376
Мамышев В.Н., историк — 339, 376
Мансур, шейх — 23, 199, 200, 232
Маргошвили Л.Ю., историк — 330, 376
Маркова О.П., историк— 10, 338, 340, 376
Мачабели, фамилия — 276, 280
Медем И.Ф., генерал — 71, 197, 198
Мертваго Д.Б., сенатор — 106, 107, 320
Мечников Е.И., сенатор — 114, 115, 119, 129,
276
Миансаров М.М., историк — 342, 380
Миллер В.Ф., историк — 53-57, 334, 335, 376
Милютин Д.А., военный министр — 24, 165,
170, 178, 220, 303, 347, 359
Мисостов, кабардинский князь — 70
Мисостовы, фамилия — 66, 61, 201, 202, 206,
220
Михаил Николаевич, великий князь — 24, 25,
54, 162, 178, 179, 184, 189, 191, 194, 196, 301,
303, 328, 350, 369
Мордвинов Николай, граф, сенатор, член
Государственного совета — 96
Мударовы, фамилия — 66
Мужухоева Э.Д., историк — 12, 13, 329, 366,
376
Муравьев Н.Н., кавказский наместник — 157,
212,258,367
Мурадовы, фамилия — 356
Мусса Мурза, ногайский владелец— 198
Мусин-Пушкин П.К., генерал — 233
Надир, персидский шах — 40
Налоева Е.Дж., историк — 71, 337, 376
Нарышкин А.В., сенатор — 87
Нейгардт А.И., главноуправляющий, командир
Отдельного Кавказского Корпуса — 135, 142,
144,146,218,355
Нестеров П.П., генерал — 139, 155, 220, 282,
286, 287, 346
Нефедьев Н.А., надворный советник— 124
Николаи А.П., барон, статс-секретарь — 161,
179,191,347,367
Николай I, российский император — 4, 7, 37, 69,
108, 113, 115, 120, 122, 125, 129, 132-136, 139,
141, 146, 147, 150, 157, 218, 250, 266, 276, 321,
323
Новосельцев А.П., историк — 338, 376
Ногмов Ш, историк— 17, 206, 353
Норденштамм И.И., офицер-кавказовед — 19-
22
Нурмалатов Алихан, чеченский старшина — 90
369
Ольшевский М.Я., историк — 261, 361, 376
Оранский И.С. (Иван Альбрехт Стефан),
генерал— 117
Орбелиани Г.Д., грузинский князь — 160, 161,
179,289,296,303
Орлов А.Ф., генерал, шеф жандармов — 148, 351
Павленов Г., грузинский князь — 276
Павлов, подполковник— 181
Пагирев Д.Д., историк — 380
Палавандишвили, грузинский князь — 41
Панин В.Н., министр юстиции — 148
Панкратьев Н.П., генерал— 115, 116
Парнаоз грузинский царевич — 42
Паскевич И.Ф., главноуправляющий, командир
Отдельного Кавказского Корпуса — 108, 111-
119, 129, 214, 218, 275, 276, 279, 280, 328, 341,
342, 367, 379
Пашуто В.Г., историк — 376
Перовский Л.А., министр внутренних дел —
124, 148
Плиевы, фамилия — 41
Подпрятов — 212
Подысов Мамат-Гирей, штабс-ротмистр— 136
Пожидаев В.П., историк — 335, 377
Позен М.П., управляющий VI отделением
Собственной е.и.в. канцелярии—126, 128, 129, 133-
135, 146, 147
Покровский Н.И., историк — 360, 377
Покровский М.Н., историк— 10, 328
Поракашвили, грузинский князь — 41
Потемкин П.С., кавказский наместник — 42, 85-
89, 199,200,229,230, 131
Потемкин-Таврический Г.А., государственный
деятель — 86, 88, 227, 367
Потто В.А., историк — 5, 6, 86, 100, 112, 212.
328, 338, 340, 341, 342, 352, 354, 358, 361, 377
Преображенский А.А., историк — 377
Пулло А.П., генерал — 247, 249, 250
Пульнер И.М., историк — 380
Пурцеладзе Л., грузинский дворянин — 276
Пфаф В.Б., путешественник — 47, 333, 377
Раевский Н.Н., генерал — 248
Райнеландер Л.Г. (Кпше1апс1ег Ь.Н.), историк —
15,16 329,341,377
Рамонов, хорунжий — 284
Рейннеггс Я., путешественник — 333
Раскин Д.И., историк — 380
Рейнке Н.М., историк — 9, 328, 377
Реад Н.А., кавказский наместник— 157
Рейтерн М.Х., граф, председатель Комитета
министров —196
Ренненкампф П.Я., генерал— 113, 275, 276
Ржевусский А., офицер-кавказовед — 360
Ризенкампф, подполковник — 302
Робакидзе А.И., историк — 377
Розен Г.И., главноуправляющий, командир
Отдельного Кавказского Корпуса — 43, 116-118,
120-125, 136, 146, 279, 280
Романовский Д.И., офицер-кавказовед — 261,
264, 361, 377
Россильон, барон, полковник — 355
Ртищев Н.Ф., главноуправляющий,
главнокомандующий — 236
Румянцев Н.П., граф, статс-секретарь,
председатель Государственного Совета—96, 210, 235
Сафонов СВ., тайный советник— 150
Святополк-Мирский, князь, генерал— 181, 192,
296, 297, 300, 303
Семенов Л.С., историк— 10, 329, 341, 377, 378
Сербина К.Н., историк — 369
Симонович, генерал — 42, 268, 269
Скитский Б.В., историк — 83, 352, 378
Скварцов Н.П., полковник — 51, 271, 273, 274
Слепцов Н.П., генерал — 256
Смиттен В.И., действительный статский
советник—161
Смирнов Н.А., историк— 10, 328, 352, 378
Соловьев М.С., историк — 5
Сперанский М.М., член Сибирского Комитета
— ???
Сталь К.Ф., генерал — 335, 378
Старицкий, статский советник— 179
Старо сельский, полковник— 181
Струков Д.П., историк — 350, 351, 378
Суворов А.А., генералиссимус — 178
Сухозанет И.О., военный министр — 163
Тавакалян Н.А., историк — 357, 358
Таганов Дмитрий, пристав — 198
Таймазов Бейбулат, чеченский старшина — 34,
239
Таймазов Кучук, майор — 235
Талгиком, наиб — 260
Тали, наиб — 254
Тамара, грузинская царица — 38
Тали, наиб — 254
Тарковский, шамхал— 121, 177, 223
Татарханов Джанхот, кабардинский князь — 70
Таусултановы, фамилия — 66, 201
370
Тедеевы, фамилия — 41
Тогошвили Г.Д., историк — 369
Томаевы, фамилия — 50
Тройницкий Г.А., член Государственного совета
— 306
Тормасов А.П., главноуправляющий,
главнокомандующий — 210
Тотоев Ф.В., историк — 378
Трепавлов В.В., историк — 376
Трощинский Д.П., член Непременного совета—
95
Туганов К., подпоручик — 283
Туганов Р. У, историк — 353, 378
Туганов Арсланбек, штабс-ротмистр — 136
Тулаев Э., грузинский дворянин — 276
Тулатов X., осетинский владелец — 274
Гулатов В., осетинский владелец — 277
Тулатов С, осетинский владелец — 277
Туманов, князь, действительный статский
советник—181
Тунян В.Г., историк— 13, 329, 341, 343, 378
Тхамоков Н.Х., историк — 378
Уллубей, наиб — 254
Умаров С, историк — 357, 371
Урусов С.Н., князь, член Государственного
совета—306
Усманов М.А., историк — 375
Фадеев А.М., тайный советник — 161, 179
Фадеев АВ., история — Щ П, 87,156,328,329
338, 339, 341, 347, 348, 355, 357, 377-379
Фарфоровский С, историк — 357
Федоров В.А., историк — 350
Филонов С, историк — 379
Фрауцендорф, генерал — 226
ФрейтагР.К., генерал— 143, 144
Фролов П.Н., генерал— 117
Фундуклей, член Государственного совета —
306
Хаджи-Юсуф, наиб — 254
Халчинский, подполковник — 236
Хамзан, дагестанский владелец — 231
Хамурзин Гаджи Мурзабек, кабардинский князь
— 212
Хамурзов Бота, наиб — 257, 261
Хан-Гирей, офицер, адыгский просветитель —
136, 139, 337, 369, 379
Харитонов А.А., действительный статский
советник—158, 160,345
Хасаев Мусса, князь, генерал— 248
Хетагуров Коста, поэт, общественный деятель
— 51,334,379
Хворостинов А.И., терский воевода — 71
Хлюпин, генерал — 283-285
Худзаев Исмаил, осетинский владелец — 274
Цаголов Г., житель Осетии — 283
Циклауров, майор — 362
Цицианов П.Д., князь, главноуправляющий,
главнокомандующий — 99, 100, 204, 205, 208,
319,328
Цицнадзе, историк — 379
Цховребов И.Н., историк — 369
Черкесов, подполковник— 181
Чермоев Арцу, полковник — 25
Чернов А.А., есаул — 237, 238
Чернышев А.И., военный министр — 66, 114,
115, 117, 119, 123, 125-128, 133, 134, 135, 139,
148-150,247,249,256,281
Чернявский, историк — 350, 379
Чегемовы, фамилия — 53
Чиляев, майор — 276
Чичагов, действительный статский советник —
124
Чудинов В., историк — 362, 379
Шамиль, имам — 19, 30,31,34,37, 147,167, 168,
249-263, 359, 360, 379
Шамурзаев Бота, майор — 25
Шарданов Я. Н., капитан — 66, 212, 215, 216,
2Щ 220,354,355,369
Щелкачев, майор — 273, 277, 362
Шрейбер Н., историк — 350
Щербатов А.П., историк — 328, 342, 362, 379
Щербинин М.П., историк — 328, 379
Ших-Мурза, кабардинский князь — 223, 231
Эмануель ГА., генерал — 118, 218, 242, 243,
273, 274, 379
Энгельгардт В.Ф., генерал — 241-247
Эристов, грузинский князь — 236
Эристави (Ерыстаута), фамилия — 40, 276, 280
Эристави Георгий, грузинский князь — 40, 287
Эристави Зураб, грузинский князь — 40
Эристави Шанше, грузинский князь — 40
Эсадзе С.С., историк — 5-7, 155, 158, 201, 328,
338, 342, 344, 347, 349-352, 363, 379
Юлон, грузинский царевич — 42
Юров А., историк — 331, 360, 379
Якоби И.В., губернатор — 75
Ялгузидзе (Габараев) Иван, осетинский
просветитель — 269
371
УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Абхазия—194, 113,275
Автурское наибство — 298
Абазинский округ— 136
Авария— 167
Аварское ханство —177
Азербайджан — 119
Азов, креп. — 84, 86
Азовское море — 85
Аккете, р. — 24
Аксальский участок — 298
Аксай, р. —224, 231, 251, 252
Алания — 46
Аланское государство — 38, 53, 55
Алагир, сел. — 45
Алагирский округ— 137
Алагиро-Мамисонский участок — 297
Алагирское ущелье — 51, 155, 271, 275, 277,
278, 282, 320
Александров — 87
Александровский уезд — 87, 97, 130
Александропольский уезд — 193
Анапа, креп. — 117, 139
Англия — 58
Андийский хребет — 297
Андреевский участок — 298
Андреево, сел. — 249
Арагвское эриставство — 41
Аргун, р. — 21, 224, 248, 250-252
Аргунский округ— 194, 297, 298, 301, 307
Ардон, р. — 41, 271
Ардонское, укр. — 117
Аржиахк, р. — 21
Армения — 38, 121, 123
Армхи (Кистинка), р. — 34
Армянская область— 121, 123, 125, 127
Армянский округ— 136
Асса, р. —34,252,248
Астрахань, г. — 86, 97, 233
Астраханская губерния — 87, 93-99, 103-105,
116, 117,124
Атажукинский округ—136
Ауховское наибство — 298
Ауховский участок —13
Ахалцих, г. —188
Ахалцихский уезд — 130, 193
Ах-Барзой, а. — 302
Ачхоевское наибство — 297
Бакинский уезд — 130, 193
Бакинская губерния— 192, 193
Баксан, р. — 55, 62, 198
Баксанский участок — 297, 302, 307
Баку, г.—188
Балкарский округ— 137
Балкария— 11, 12, 52-62, 78, 142, 144, 174, 218-
221,282,289,304,317
Баталпашинский уезд —193
Баталпашинская, ст. — 193
Бежитский округ— 177
Белаты, сел. — 276
Бековичи, а. — 302
Белая, р. — 271
Белоканы— 133
Белоканский уезд — 130
Бесленеевский округ—136
Бжедуховский округ— 136
Большая Кабарда—62, 66-70, 84,91,92,142,144,
164, 174, 199, 201, 208, 210, 217-220, 297, 318, 324
Большая Атага — 231, 234
Большая Чечня— 13, 30, 31, 231, 234, 247, 250,
252, 256, 257, 261, 262, 266, 297
Валахия — 210
Ванати, сел. — 269
Веденский округ— 194, 307
Веденское наибство — 298
Верхне-Кубанский округ—165
Верхне-Сунженская линия — 155, 282
Верхняя Индырка — 255
Верхний Ачалуки — 302
Средний Ачалуки — 302
Нижний Ачалуки — 302
Вешендерой, сел. — 27
Владикавказ, креп., г. — 17, 33, 45, 89, 100, 139,
155, 163, 170, 175, 181, 188, 191, 194, 210, 271-
275, 277, 286, 297, 300, 301, 304, 307, 318
В географическом указателе приняты следующие сокращения: а. — аул, г. — город, дол. — долина,
местн. — местность, р. — река, сел. — село, селение, ел. — слобода, укр. — укрепление,
372
Владикавказская равнина — 269, 267
Владикавказский военный округ — 155, 162,
172, 175, 265, 282, 286, 287, 288
Владикавказский округ— 144, 282, 289, 307
Владикавказское, укр. — 267
Внезапное, укр. — 133, 249
Военно-Осетинский округ— 164, 174, 175, 282,
288, 289
Военно-Грузинская дорога — 45, 47, 90, 269,
271,276,281,283,285
Военно-Осетинская дорога — 45, 51
Волга, р. — 83
Восточная Армения — 14, 119
Восточная Осетия — 46
Гехи, а. — 234
Галгашевский округ— 137
Галюгаевская, ст. — 83
Гвидинское ущелье — 276
Геленджик, креп. — 117
Геналдонское ущелье — 46
Герсевское ущелье — 276
Георгиевск, г. — 87, 100, 194, 205, 307
Георгиевский округ— 109, 194, 307
Георгиевский уезд — 87, 97
Герменчук, а. — 222, 234
Кавказский хребет —37, 39, 41, 43, 55, 163, 268,
275, 279, 297
Гокчаевский уезд — 193
Гори, г. —188
Горский участок — 297, 302
Горийскийуезд— 130, 133, 134, 193, 268, 275
Горский округ— 134, 282
Греция — 210
Грозная, креп. — 133, 170, 173, 194, 237-240,
243,249,261,301,304
Грозненский округ— 194, 307
Грузинская губерния — 150, 268, 269, 279
Грузинский край—104
Грузино-Армянская губерния — 150
Грузино-Имеретинская губерния — 130, 133,
281,282
Грузия — 6, 7, 13, 15, 36, 38-42, 85, 90, 96-99,
103, 104, 107, 116-121, 123, 125, 127, 128, 132,
133, 137,268,269,275,276,319
Гуда, сел. — 52
Гудермес, р. — 248
Гудермес, а. — 222
Гунибский округ— 177
Гурийский уезд —130
Гурия—121, 133, 180
Дагестан— 17, 36, 113, 139, 142, 175, 177, 184,
194, 220, 223, 253, 254, 260, 275, 297
Дагестанская область— 19, 177, 181, 182, 185,
188, 194, 305
Дагестанская губерния— 150
Даргинское наибство — 298
Даргинский округ— 177
Дарьяльское ущелье — 46, 47, 90, 267
Датых, сел. — 256
Дачу-Барзой, сел. — 27
Дербент— 185
Дербентская губерния— 150, 163
Дербентский уезд — 130
Дигория—142, 144, 175
Дигорский округ—137
Дигорское ущелье — 271, 282
Дигорский участок — 297
Джава, сел. — 269, 276
Джавское ущелье — 275
Джамагское ущелье — 276
Джанхотов-Ларс — 266
Джаро-Белоканский военный округ— 163
Джеватский уезд — 193
Джерахский округ— 137
Джоджора, дол. — 39
Дзивы, ущелье — 275
Дзивгис, сел. — 49, 50
Дон, р. — 83
Даут-Мартан, р. — 249
Дур-дур, р. —163,271
Душетский уезд— 130, 193, 268
Ейский уезд — 193
Екатеринодар г. — 193, 205, 210
Екатеринодарская, ст. —163
Екатеринодарское Заречное, укр. — 145
Екатериноград, г. — 87, 88, 91
Екатериноградское, укр. — 85
Екатериноградский уезд — 87, 193
Елисаветпольская губерния— 193
Елисаветпольский уезд— 130, 193
Елисановский округ— 137
Еникала, креп. — 84
Енотаевский уезд — 97
Ессентукская, ст. —145
Закавказская губерния— 180
Закавказский край—125-128, 130, 132-135, 139,
144, 151, 157, 158, 190, 193, 196, 281, 306, 323
Закубанский край — 181
373
Зангезурский уезд — 193
Зандакское наибство — 298
Закатальский округ— 180-182, 194
Згубирское ущелье — 276
Змейка, р. — 163
Зугдидский уезд —193
Иналово, сел. — 267
Имеретия —39, 52, 56, 121, 123, 125, 127, 180,
275
Имеретинская губерния—150
Имеретинское княжество — 40
Ингури, р. —142
Ингушетия — 33-37, 83-84, 89, 113, 117, 142,
266, 268, 269-283, 288, 289, 304, 318-322,
Ингушский округ —297, 299, 301, 302, 307, 308
Иран— 150, 221, 225, 237, 239
Иристон — 39
Истусу, местн. — 261
Ичкерийский округ — 297, 298, 301, 307
Ичкерийские горы — 249
Ичкерия — 297
Кабарда — 6, 8, И, 12, 15, 44, 55, 56, 62-79, 89,
91,92,95,96,99,197-223,237,243,244,254,267,
268, 270, 271, 275, 282, 289, 302, 304, 317-321
Кабардинская линия — 117, 145
Кабардинский округ — 66, 136, 144, 164, 174,
220, 221, 288, 289, 297, 301, 302, 307
Кавказская губерния — 8, 87, 88, 96, 97-99, 103,
104, 106-108, 209, 233, 234, 319
Кабардинский военный округ — 302
Кавказская область — 8, 106, 108-111, 116, 118,
120, 132-136, 145, 147-152, 165, 188, 204, 205,
241,321,322
Кавказский край — 86, 98, 100, 104, 106, 107,
111, 114, 117-134, 147, 149, 152, 155. 157, 158,
162, 168, 182, 190, 196, 204, 205, 209, 216, 237,
275, 279, 280, 307, 322
Кавказская линия— 11, 44, 52, 81-110, 132, 136,
137, 139, 142-145, 153-155, 162-165, 170, 172,
174-176, 180, 197-200, 204, 208, 210, 215-218,
220, 229, 233, 234, 236, 243-248, 258, 259, 262,
270, 272, 282-290, 318-320, 324
Кавказский Азербайджан — 85
Кавказский округ—187
Кавказские минеральные воды, округ — 298
Кавказский военный округ— 187, 188
Кавказская крепость — 200
Кавказское наместничество — 8, 86, 88, 89, 92,
147-196, 323
Казикумухский округ— 177
Казахский уезд — 193
Кайтого-Табасаранский округ— 177
Кайтукинский округ— 136
Кажантиновский округ —137
Каменовская, ст. — 83
Карабулакский участок — 297, 302
Карабулакский округ— 137
Карачай— 142, 175
Караджаево, сел. — 267
Карачаевский округ— 136
Картли, княжество — 40-42, 269
Каспийская губерния —150
Каспийская область — 130
Каспийское море — 97, 297
Кахно-Юрт, сел. — 234
Качкалыкский хребет — 261
Качкалыкское наибство — 298
Керчь, креп. — 84
Кескем, а. — 302
Кешельта, сел. — 269,
Кешельтское ущелье — 276
Кизляр, креп., г.— 81-83, 87, 90, 100, 107, 132,
133, 151, 188, 193, 194, 225, 229, 233, 234, 236,
307,317
Кизлярский округ— 109, 194, 307
Кизлярский уезд— 193, 194
Кинбурн, креп. — 84
Кисловодск, г. — 100
Кисловодская линия—117, 144, 145
Кисловодская слобода — 307
Кистинский округ— 137
Кногское ущелье — 276
Кобанское ущелье — 46
Коби, сел. — 52
Коштинское, сел. — 276
Красноярский уезд — 96
Крым —75, 86, 88
Крымское ханство — 84, 85
Ксани, сел. — 40
Кубань, р. — 117, 142, 175, 197, 198, 200, 275
Кубань, местн. — 89, 117, 165
Кубанская область — 176, 177, 181, 183-185,
188, 193, 194, 297, 306, 308
Кубинский уезд— 130, 193
Кума, р.—198,297
Кумыкия — 33, 304
Кумыкская линия — 145
Кумыкская плоскость — 297
374
Кумыкский округ— 164, 169, 174, 175, 288, 289,
297, 299, 301
Курп, р. —271,302
Куртатинское ущелье — 49, 51, 271, 275, 277,
278, 282, 320
Курляндская губерния — 124
Кутаисская губерния — 43, 150, 180, 182, 192,
193
Кутаиси— 188
Кутаисская губерния — 43, 150, 180, 182, 192,
193
Кутаисский уезд — 130, 193
Кюринское ханство —177
Лабинский округ— 165, 166
Ларское, укр. —268
Левое крыло Кавказской линии— 162-167, 174-
176, 180, 288-290
Левый фланг Кавказской линии—136, 137, 143-
145, 155, 156, 162, 166, 233, 237-241, 248, 257-
259, 262, 265, 272
Лезгинская кордонная линия— 163, 165, 177
Лезгор, сел. — 52
Ленкоранский уезд — 130, 193
Лечгумский уезд —193
Лорийский уезд — 268
Луковская, ст. — 84
Майкопское, укр. — 193
Майкопский уезд — 193
Майртуп, а. — 222
Майрамадаг, р. — 271
Малая Кабарда — 45, 52, 62, 66, 68, 69, 84, 91,
92, 142, 143, 145, 163, 174, 199, 208, 210, 218-
221,282,289,297,318
Малая Чечня — 13, 30, 31, 150, 247, 252, 256,
257, 266
Малая Атага, сел. — 234
Малка, р. — 62, 85, 164, 165, 175, 200
Мало-Кабардинский участок — 74, 297, 302,
307
Малолиахвское ущелье — 276
Малый Зеленчук, сел. — 172
Мамисонское ущелье — 175
Мартан, р. — 251
Махашевский округ—136
Мекенская, ст. — 83
Мехтулинское ханство —177
Минглерия — 56, 180
Мичиковский участок— 13
Мичик, р. — 252
Моздок, креп. — 44, 82-84, 87, 90-92, 95, 100,
103, 107, 132, 145, 188, 197-201, 235, 249, 266,
267,307,317,318
Моздокская линия — 82-85, 145, 220
Моздокско-Азовская линия — 85
Моздокский уезд — 87, 97
Москва, г. — 16
Надтеречное наибство — 298
Назрановский округ— 137
Назрановский участок — 297, 302
Назрановское, укр. — 117, 133, 237
Назрань, укр. — 37, 273
Нальчик ел., укр., креп., г. — 139, 144, 145, 162,
170,175,212,220,304,307
Нальчикский округ— 12
Нагорная Чечня — 24, 32
Нагорный Дагестан —143
Нагорный округ —297, 299, 301, 307
Нарское ущелье — 281
Катухинский округ— 177
Наурская, ст. — 231
Наура, район — 231
Нахичеванский уезд — 130, 193
Нахичеванское ханство — 111, 322
Нестеровское, укр. — 256
Николаевская (слобода) — 143
Нихалой (селение) — 21
Ногайский округ— 136
Новобалзетский уезд — 193
Новогригорьевский уезд —193
Новороссийск— 139
Новый юрт — 250
Нухинский уезд— 130, 193
Озургетский уезд — 193
Окташ-Ахчи, сел. — 118
Омская область — 201
Оренбург, г. — 201
Осетинский округ — 134, 175, 282, 297, 299,
301,307
Осетия— 11, 37, 38, 39, 41, 43, 44-47, 52, 55, 57,
78, 83, 84, 89, 117, 142, 199, 266, 268, 269-283,
288,289,297,304,317-322
Персия— 12
Петербург, Санкт-Петербург, г. — 7, 17, 25, 42,
54, 83, 105, 116, 133, 134, 139, 142, 147, 158, 161,
179, 180, 191, 194, 196, 227, 230-233, 265, 268,
304,321,323
Польша—150, 178
Порт-Петровск, г. — 185
375
Правое крыло Кавказской линии — 162-165
Правый фланг Кавказской линии — 112, 117,
136, 142, 162, 165, 166, 264, 265
Предкавказье — 81, 82, 84, 86, ПО, 317, 318,
319
Прикаспийский край—163, 165, 175, 177
Присулакское наибство —177
Притеречная долина — 20
Прочный Окоп, укр. — 139
Псидахинский участок — 302
Псидахе, сел. — 302
Пятигорский уезд — 193
Разбин (речка) — 271
Рачинский уезд — 193
Риони, р. — 39
Рокское ущелье — 276
РСО — Алания— 17
Сагопси, а. — 302
Садон, сел. — 45
Салатовское наибство — 298
Самурский округ— 177
Саратовская губерния — 20, 86, 152, 153, 161,
176, 297
Сибирь —150
Северная Осетия —39, 43, 46, 52, 113, 277, 280,
282
Северная Карталиния — 274
Северный Дагестан — 143
Северное Причерноморье — 88
Сигнахский уезд — 193, 268
Сенакский уезд —193
Сиата, сел. — 40
Ставрополь, г. — 139, 145, 87, 108, 151-153, 218,
324
Ставропольский округ — 20, 178, 182, 193, 194,
297
Ставропольский уезд — 87, 97, 193
Ставропольское, укр. — 85
Старый Юрт, а. — 222, 250
Сулак, р. — 297
Сунжа, р. — 20, 29, 31, 33, 34, 91, 145, 222, 224,
226, 231, 237, 244, 247, 248, 250, 256, 267, 269
Сунженская линия— 145, 139, 247
Сунженская долина — 20
Сухумский округ— 182
Тагаурское ущелье — 248, 269, 320
Тагауро-Куртатинский участок — 297
Тагаурский округ— 137
Тарковское ханство — 177
Тамузлово, р. — 86
Татартуп, сел. — 62
Таторс, местн. — 52
Теберда, р. — 171
Телавский уезд— 130, 134, 193
Темир-Хан-Шур, г. — 185
Темиргоевский округ— 136
Темрюкский уезд — 193
Терек, р. — 20, 29, 62, 85, 222-224, 230, 231, 237,
238, 247-250, 252, 271, 302, 320
Терско-Кумыская низменность — 20
Терская область — 9, 15, 20, 68, 70, 72, 176,
177,181-185, 188, 193, 194, 265, 289, 290, 291-
293, 296, 297-308, 311-315, 325, 326
Тебердинские аулы— 164, 171
Тахтомышевские, а. — 170
Тифлис, г. —7, 39, 40, 42, 107, 108, 115, 116, 124,
125, 130, 132, 142, 157, 162, 164, 179, 181,-183,
188, 190, 216, 241, 280, 286, 275, 304, 323
Тифлисский уезд— 134, 193
Тифлисская губерния — 19, 43, 150, 175, 179,
182, 193, 289
Тлийское ущелье — 276
Топли, сел. — 231
Трусовское ущелье — 52
Турция— 12, 14, 15, 24, 34, 37, 41, 54, 77, 81, 84,
85, 88, 100, 111, 121, 150, 177, 181, 183, 197, 199,
200, 209, 210, 221, 225, 233, 237, 318, 319, 322
Тушино-Пшаво-Хевсурский округ— 134, 166
Умахан-Юрт, сел. — 249
Урух, р. — 52
Урус-Мартановское наибство — 298
Уруп, р. — 172
Усть-Лабинская крепость—199
Усть-Лабинское приставство —136
Финляндия— 150
Франция — 58, 319
Халхало, р. — 251, 252, 256
Харес, местн. — 52
Хасав-Юрт, сел. — 175, 301, 304
Хасавюртовский округ— 194, 307
Хвце, ущелье — 276
Хумаринское, укр. — 117
Царицынская линия — 85
Центральный Дагестан — 143
Центр Кавказской линии— 112, 117, 136, 137,
142-145, 154, 162-164,215-220,282-287
Цоки-Юрт —256
Цхинвали, сел. — 41
376
Чаберлоевское наибство — 298
Чантинское наибство — 298
Чегем, р. — 55
Чегемский округ— 137
Черек, р. — 55
Черекский участок — 74, 297, 302, 307
Червленная, ст. — 249
Черное море —84, 157, 163, 165, 198
Черноморская линия— 136, 142, 162, 165
Черноморская кордонная линия— 165
Черноморские земли—120
Черноморский округ—185
Черноярский уезд — 97
Черномория— 116, 117, 132, 136, 137, 139, 162,
163, 165, 220
Чехкери, сел. — 234
Чечен, а. — 222, 223
Чеченский округ — 25, 164, 174, 175, 288, 289,
292,297,301,302,307
Чечня— 19, 20-34, 36, 44, 84, 89, 142, 167, 174,
175, 199, 220, 222-239, 242-250, 252-267, 270,
275, 289, 303, 318-322, 324, 325
Чеченская область — 253, 254
Чипранское, сел. — 276
Чишки, сел. — 27
Чмитинский округ—137
Шагдин, сел. — 234
Шали, сел. — 234
Шаро-Аргун, р. — 21
Шаро,р. —21, 251
Шароевское наибство — 298
Шаропинский уезд — 193
Шатой, сел. — 21
Шемахинская губерния —150
Шемахинский уезд— 130, 193
Шотаевское наибство — 298
Шуминский уезд— 130, 193
Эльберт, а. — 302
Эльбрус, гора— 164, 297
Эриванское ханство — 111, 322
Эриванский уезд— 130, 193
Эриван, г. — 188
Эриванская губерния— 182, 193
Эшкакон (гора) —175
Эшкакон, р.— 175
Эчмиадзинский уезд —193
Южная Осетия — 38-43, 50, 51, ИЗ, 130, 269,
275,280,281
377
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
/. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.1. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
Ф.379 Департамент государственных имуществ Министерства финансов.
Ф.561 Особенная канцелярия министра финансов по секретной части.
Ф.932 Дондуков-Корсаков, князь Александр Михайлович (1820-1893 гг.).
Ф.1018 Паскевич-Эриванский, граф Иван Федорович (1782-1856 гг.).
Ф.1149 Департамент законов Государственного совета.
Ф.1152 Департамент государственной экономии Государственного совета.
Ф.1263 Комитет министров.
Ф.1268 Кавказский комитет.
Ф.1276 Совет министров.
Ф. 1281 Совет министра Министерства внутренних дел.
Ф.1286 Департамент полиции исполнительной Министерства внутренних дел.
Ф. 1287 Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел.
Ф.1350 Третий департамент Сената
Ф.1409 Фонд Собственной Е. И.В. канцелярии.
1.2. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ
Ф. ВУА Военно-ученый архив Главного штаба.
Ф. 1 Канцелярия Военного министерства.
Ф.38 Департамент Генерального штаба.
Ф.52 Потемкин-Таврический Г.А.
Ф.169 Муравьев Н.Н.
Ф.254 Головин Е. Н.
Ф.414 Опись фонда коллекции ВУА «Статистические, экономические, этнографические и
военно-топографические сведения о территории бывшей Российской империи».
Ф.482 Опись коллекции ВУА «Военные действия в Закавказье и на Северном Кавказе».
Ф.644 Штаб командующего войсками Терской области.
Ф.666 Комиссия военного суда в г. Моздоке.
Ф.1300 Штаб Кавказского военного округа.
Ф. 13454 Штаб войск Кавказской линии и в Черномории расположенных.
Ф. 14719 Главный штаб Кавказской армии.
Ф. 14949 Управление Центром Кавказской линии.
Ф. 14958 Управление Владикавказского коменданта.
7.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Ф.11. Терское областное правление.
Ф.12. Канцелярия начальника Терской области.
Ф.53. Штаб войск Терской области.
Ф.112. Терский областной суд.
Ф.113. Владикавказский окружной суд.
378
7.4. ОТАЕЛ РУКОПИСЕЙ ФОНАОВ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕАОВАНИЙ
Ф.2.Ф.16.
2. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
2.1. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем
управлениям в Российской империи на... 1765-1796, 1802-1835 г. СПб., 1765-1835.
2.2. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Тифлис, 1866-1904. Т. 1-ХП.
2.3. Архив Государственного совета. СПб., 1874. Т. IV. Ч. П. 1010 с.
2.4. Барон А.П. Николаи. Воспоминания из моей жизни. Крестьянская реформа в Закавказском
крае // Русский архив. СПб., 1892. Т. II. С. 30-42.
5.5. Бриммер Э. В. Служба артиллерийского офицера, воспитывавшегося в первом кадетском
корпусе и выпущенного в 1812 году. Записки // КС. Тифлис, 1894. Т. XV. С. 52-261.
5.6. Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем генерал-адъютанта графа
Воронцова-Дашкова. СПб., 1907. 164 с.
5.7. Всеподданнейший отчет главнокомандующего Кавказской армией за 1863-1869 гг. СПб., 1870.
53 с.
5.8. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в. Сборник документов.
Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1959. 783 с.
5.9. Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII веке
/ Составитель В.Н. Гамрекели. Тбилиси: Мецниереба, 1968. 335 с.
5.10. Документы по истории Балкарии 40-х - 90-х годов XIX в. / Составитель Е.О. Крикунова.
Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1959. 261 с.
5.11. Записки Ермолова / Составитель В.А. Федоров. М.: Высшая школа, 1991. 464 с.
5.12. Записки Инсарского // Русская старина, 1897. Сентябрь. С. 578-596.
5.13. Из воспоминаний А.А. Харитонова // Русская старина, 1894. Март. С. 63-93. Апрель. С. 124-
156. Май. С. 171-201.
5.14. Из документальной истории кабардино-русских отношений. Вторая половина XVIII - первая
половина ХЕХ в. / Составитель Х.М. Думанов. Нальчик: Эльбрус, 2000. 478 с.
5.15. Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // Русская старина, 1900. Январь.
С. 26-56.
5.16. История Осетии в документах и материалах (с древнейших времен до конца XVIII в.) /
Составители Г.Д.Тогошвили и И.Н. Цховребов. Цхинвали: Госиздат Юго-Осетии, 1962. Т. I. 265 с.
5.17. История Юго-Осетии в документах и материалах / Составитель И.Н. Цховребов. Сталинир:
Госиздат Юго-Осетии, 1960. 738 с.
5.18. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. Документы и материалы. М.: АН СССР, 1957.
Т. И. 424 с.
5.19. Книга Большому Чертежу / Подготовлена К.Н.Сербиной. М.-Л.: Наука, 1950. 228 с.
5.20. Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60 годы XIX в. М.-Л.: АН
СССР, 1936. Ч. I. 463 с.
5.21. Крестьянская реформа в Кабарде. Документы по истории освобождения зависимых сословий в
Кабарде в 1867 году/Составитель Ф. А. Кокиев. Нальчик: Кабард. кн. изд-во, 1947. 271 с.
5.22. Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и
Восточного Кавказа. Одесса, 1882. Т. I. 437 с.
5.23. Материалы по истории Дагестана и Чечни (первая половина XIX в.) / Под ред. С.Бушуева,
Р.Магомедова. Махачкала: Даг. гос. изд-во, 1940. Т. III. 4.1. 471 с.
5.24. Материалы по истории осетинского народа. Орджоникидзе: Госиздат Сев.-Осет. АССР, 1942.
Т. II. 362 с.
379
5.25. Материалы по обычному праву кабардинцев первой половины XIX в. / Составитель
Б.А. Гарданов. Нальчик: Кабард. кн. изд-во, 1956. 426 с.
5.26. Материалы Я.М. Шарданова по обычному праву кабардинцев первой половины XIX века /
Составитель Х.М. Думанов. Нальчик: Эльбрус, 1986. 320 с.
5.27. Ногмов III. История адыгейского народа. Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1958.
Приложения. С. 188-198.
5.28. Осетины глазами русских и иностранных путешественников (ХШ-Х1Х). Орджоникидзе:
Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. 319 с.
5.29. Отчет по Главному управлению наместника Кавказского за первое десятилетие управления
Кавказом и Закавказским краем его императорским высочеством великим князем Имхаилом
Николаевичем 6 декабря 1862-6 декабря 1872. Тифлис, 1873. 381 с.
5.30. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. ХХП-ХХХ1Х;
Собрание 2-е. СПб., 1830-1880. Т. И-ЫУ; Собрание 3-е. СПб., 1882-1884. Т. 1-Ш.
5.31. Русско-осетинские отношения в XVIII веке. Сборник документов / Составитель М.М. Блиев.
Орджоникидзе: Ир, 1976. Т. I. 513 с.
5.32. Русско-чеченские отношения. Вторая половина ХУ1-ХУП в. / Составитель Е.Н. Кушева.
Сборник документов. М.: Восточная литература, 1997. 416 с.
5.33. Учреждения управления Кавказского и Закавказского края. СПб., 1876. 70 с.
3. МОНОГРАФИИ, СТАТЬИ И АР.
3.1. Азаматов К.Г. Социально-экономическое положение и обычное право балкарцев в первой
половине XIX века: Автореф. канд. дис. Нальчик, 1967. 22 с.
3.2. Алексей Петрович Ермолов 1777-1861. Биографический очерк. СПб., 1912. 207 с.
3.3. Андреев В. Ермолов и Паскевич // КС. Тифлис, 1876. Т. I. С. 197-213.
3.4. Ахмадов Я.З. Взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII веке. Автореф. канд. дис.
Махачкала, 1977. 16 с.
3.5. Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. М., 1889. Вып. I. 584 с.
3.6. Бентковский И. Дела наши на Северном Кавказе от построения укрепления Моздока до
учреждения Кавказского наместничества с 1765 до 1786 гг. // Ставропольские губернские ведомости,
1876. №31-33.
3.7. Бентковский И.В. Моздокские крещенные осетины и черкесы, называемые «казачьи братья»//
Ставропольские губернские ведомости, 1880. № 3-6.
3.8. Бентковский И.В. Кавказская губерния до преобразования в область. 1804-1824 гг. //
Ставропольские губернские ведомости, 1877. № 12-20, № 26-27.
3.9. Бентковский И.В. Кавказская губерния во время А.П. Ермолова с 1816 по 1824 гг.//Ставрополь-
ские губернские ведомости, 1886. № 27-30.
3.10. Бентковский И.В. Краткий исторический очерк положения наших дел на Северном Кавказе
до открытия в 1786 году Кавказской губернии//Северный Кавказ. 1885. № 44-45.
3.11. Бентковский И.В. О политико-географическом и административном устройстве Кавказа.
Первое Кавказское наместничество // Биржевые ведомости. 1866. № 30.
3.12. Бентковский И.В. Первоначальное устройство административных учреждений в Кавказской
губернии // Ставропольские губернские ведомости. 1886. № 39-43, 46.
3.13. Березов Б.П. Переселение осетин с гор на плоскость (ХУШ-ХХ вв.). Орджоникидзе: Ир, 1980.
240 с.
3.14. Берже А. Краткий обзор горских племен на Кавказе. Тифлис, 1857. 46 с.
3.15. Бзаров Р.С. Три осетинских общества в середине XIX века. Орджоникидзе: Ир, 1988. 152 с.
3.16. Бирюков А.В. Российско-чеченские отношения в XVIII — середине XIX в. / Вопросы истории.
М., 1998. № 2. С. 44-57.
380
3.17. Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное
описание Кавказа. Нальчик: Эль-Фа, 1999. 403 с.
3.18. Блиев М.М. О времени присоединения народов Северного Кавказа к России
//Вопросы истории. 1970, № 7. С.43-56.
3.19. Блиев М.М. Осетия в первой трети XIX века. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1964.
173 с.
3.20. Блиев М.М. Русско-осетинские отношения (40-е гг. XVIII - 30-е гг. XIX в.). Орджоникидзе:
Ир, 1970. 379 с.
3.21. Блиев М.М., Бзаров Р.С. История Осетии с древнейших времен до конца XIX в. Владикавказ:
Ир, 2000. 351 с.
3.22. Борчашвнлн Э.А. Социально-экономические отношения в Чечено-Ингушетии в конце XVIII
и в первой половине XIX в.: Автореф. канд. дис. Тбилиси, 1978. 25 с.
3.23. Боцвадзе Т.Д. Социально-экономические отношения в Кабарде в первой половине XIX века.
Тбилиси: Мецниереба, 1965. 124 с.
3.24. Броневский СМ. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М, 1823. Т.
I. 352 с.
3.25. Бузуртанов М.О., Умаров С.У., Виноградов В.Б. Навеки вместе. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-
во, 1980. 117 с.
3.26. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Т. I. 548 с.
3.27. Бушуев С.К. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к
России (20-70 гг. XIX в.). М.: МГУ, 1955. 115 с.
3.28. Бушуев С.К. Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик: Кабард. кн. изд-во, 1956.
191с.
3.29. Вехи единства: Сборник статей. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1982. 164 с.
3.30. Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией и народами Кавказа в XVI - начале
XX вв.: Сборник статей. Грозный: Б.и., 1981. 192 с.
3.31. Взгляд на Кавказскую линию. (Писано в 1813 году) // Северный архив, 1822.
№2. С. 163-183.
3.32. Вилинбахов В.Б. Из истории русско-кабардинского боевого содружества. 2-е изд. доп. и испр.
-Нальчик: Эльбрус, 1982. 253 с.
3.33. Виноградов В.Б. Генезис феодализма на Центральном Кавказе // Вопросы истории. 1981. №
I. С. 35-50.
3.34. Висковатов А.В. Князь Павел Дмитриевич Цицианов. Тифлис, 1845. 69 с.
Владикавказ//Статьи из неофициальной части «Терских ведомостей». Тифлис, 1869. С. 1-3.
3.35. В. Н. Л. Переходное состояние горцев Северного Кавказа. Тифлис, 1896. 41с.
3.36. Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб., 1851. Т. XVI. Ч. I. С. 5-171.
3.37. Волконский Н.А. Окончательное покорение Восточного Кавказа/ЛСавказский сборник.
Тифлис, 1879. Т. IV. С. 69-436.
3.38. Волконский Н.А. Погром Чечни в 1852 году // Кавказский сборник. Тифлис, 1880. Т. V. С.
1-234.
3.39. Вопросы истории классообразования и социальных движений в дореволюционной
Чечено-Ингушетии (XVI-нач.XX вв.): Сборник статей. Грозный: Б.и., 1980. 121 с.
3.40. Байбулатов Н.К., Блиев М. М., Бузуртанов М.О. и др. Вхождение Чечено-Ингушетии в
состав России//История СССР, 1980. № 5. С. 48-63.
3.41. Гаибов Н.Д. О поземельном устройстве горских племен Терской области. Исторический очерк.
Тифлис, 1905. 342 с.
3.42. Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. М.: Мысль, 1976. 455 с.
3.43. Гальцев В.С. Из истории колонизации Северного Кавказа//Изв. СОНИИ, 1957. Т. XIX.
С. 101-114.
381
3.44. Гальцев В.С. Кавказская линия и терское казачество к началу XIX столетия // Изв. СОНИИ,
1940. Т. IX. С. 90-129.
3.45. Гамрекели В.Н. Вопросы взаимоотношений Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII
веке: Автореф. докт. дис. Тбилиси, 1972. 46 с.
3.46. Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов. М.: Наука, 1967. 331 с.
3.47. Гарданов В.К. Обычное право, как источник для изучения социально-экономических
отношений у народов Северного Кавказа в XVIII - начале XIX в. // Советская этнография. 1960. № 5. С.
12-29.
3.48. Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе // ССКГ, 1870.
Вып. IV С. 1-80.
3.49. Грабовский Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба горцев за ее независимость //
ССКГ. Тифлис, 1876. Вып. IX. С. 112-212.
3.50. Грабовский Н.Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушевского
округа//Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. III. С. 1-27.
3.51. Граф Дибич на Кавказе в 1827 году // Древняя и новая Россия, 1980. Т. III. С. 174-180.
3.52. Гриценко Н.П. Истоки дружбы. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1975. 196 с.
3.53. Гриценко Н.П. К вопросу о феодальных отношениях в Чечено-Ингушетии
(Историографический очерк) // Изв. Сев.-Кав. науч. центра высшей школы. Общественные науки. 1976. № 4. С. 16-23.
3.54. Гриценко Н.П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов в XVIII — первой
половине XIX в. Грозный: Грозненский рабочий, 1961. 191 с.
3.55. Гутнов Ф.Х. К вопросу об общественном строе Алагирского общества (XVI-XVIII вв.)//Архе-
ология и традиционная этнография Северной Осетии. Орджоникидзе, 1985. С. 119-128.
3.56. Гутнов Ф.Х. Социальные отношения в Северной Осетии во второй половине XVIII - начале
XIX в.: Автореф. канд. дис. Л., 1981. 17 с.
3.57. Гутнов Ф.Х. Средневековая Осетия. Владикавказ: Ир, 1993. 228 с.
3.58. Данилевский И. Кавказ и его горские жители в нынешнем их положении. М., 1846. С. 151-160.
3.59. Дебу И. О Кавказской линии. СПб., 1829. 463 с.
3.60. Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавказе. Нальчик: Эль-Фа, 2001. 409 с.
3.61. Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). М.:
АН СССР, 1955.368 с.
3.62. Дубровин Н.Ф. Алексей Петрович Ермолов на Кавказе//Военный сборник, 1882. № 2-10; 1884.
№ 1-2; 1886. № 3-4; 1888. № 2-3, 7-8.
3.63. Дубровин Н.Ф. Деятельность Тормасова на Кавказе//Военный сборник, 1874. № 9-12; 1878.
№ 1-3.
3.64. Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871-1888. Т. 1-У1.
3.65. Дубровин Н.Ф. Пять лет из истории войны и владычества русских на Кавказе (1813-1816 гг.)
// Военный сборник, 1880. № 6-8.
3.66. Думанов Х.М. Новые документы о земельных отношениях в Кабарде в дореформенный пери-
од//Из истории феодальной Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1980. С. 216-223.
3.67. Думанов Х.М. Социальная структура кабардинцев в нормах адата. Нальчик: Эльбрус, 1990.
262 с.
3.68. Евангулов Г.Г. Местная реформа на Кавказе. СПб., 1914. 67 с.
3.69. Ерошкин И.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Высшая школа, 1983. 352 с.
3.70. Ерошкин И.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. М.: Мысль,
1981.252 с.
3.71. Загурский Л.П. Краткий очерк ермоловского времени на основании VI тома АКАК. Тифлис,
1876. 23 с.
3.72. Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. М., 1889-1891.Т. 1-Ш.
382
3.73. Зозуля И.В. История развития судебной системы на Северном Кавказе во II половине - начале
XX в.: Канд. дисс. Ставрополь, 1999. 225 с.
3.74. Зубов П. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных оному земель.
СПб., 1834-1835. Т. 1-Ш.
3.75. Ибрагимова З.Х. Терская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова (1863-1875).: Канд.
дисс. М, 1998. 275 с.
3.76. Иваненко Н.Г. Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии и до
наместничества великого князя Михаила Николаевича. Тифлис, 1901. 525 с.
3.77. Иваненков Н.С. Горные чеченцы. Владикавказ, 1910. 150 с.
3.78. Из истории феодальной Кабарды и Балкарии: Сборник статей. Нальчик: КБНИИ, 1981. 229 с.
3.79. Исторический очерк распространения и устройства русского владычества над Кавказом и в
Закавказье // Журнал Министерства внутренних дел, 1849. 4.28; 1850. 4.30; 1851. 4.31.
3.80. История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен и до наших дней. М.: Наука, 1967.
Т. I. 482 с.
3.81. История народов Северного Кавказа (конец XVIII- 1917). М.: Наука, 1988. 659 с.
3.82. История Северо-Осетинской АССР. М.: АН СССР, 1959. 334 с.
3.83. Итоги и задачи изучения внешней политики России. М.: Наука, 1981. 287 с.
3.84. Калмыков Ж.А. Из истории судебных учреждений в дореволюционной Кабардино-Балкарии
(1890-1917) // Изв. Сев.-Кав. науч. центра высшей школы. Общественные науки, 1975. № I. С. 87-92.
3.85. Калмыков Ж.А. К вопросу о сельском административном управлении в Кабарде и Балкарии в
конце XIX - начале XX вв. // Ученые записки КБНИИ, 1974. Т. XXVI. С. 42-58.
3.86. Калмыков Ж.А. Система административно-политического управления в Кабарде и Балкарии
во второй половине XIX — начале XX вв.: Автореф. канд. дис. Нальчик, 1975. 22 с.
3.87. Калмыков Ж.А. Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии (конец XVIII —
начало XX века). Нальчик: Эльбрус, 1995. 128 с.
3.88. Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа. М.: Наука, 1981. 48 с.
3.89. Калоев Б.А. Моздокские осетины. М.: Наука, 1995. 245 с.
3.90. Киняпина Н.С. Административная политика царизма на Кавказе и в Средней Азии в XIX
веке//Вопросы истории. 1983. № 2. С. 35-47.
3.91. Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). Пятигорск: изд-
во ПГЛУ, 2002. 494 с.
3.92. Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1980. Т. I. 290 с.
3.93. Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в истори-
ко-сравнительном освещении. М., 1886. Т. 1-П.
3.94. Ко киев Г.А. Из истории сношений России с Кавказом (ГХ-ХЕХ вв.) // Ученые записки Кабард.
НИИ, 1946. Т. I. С. 33-81.
3.95. Колосов Л.Н. К вопросу о тенденциозности Актов Кавказской археографическое комиссии (К
библиографии известного кавказоведа А. П.Берже)//Вопросы истории, исторической науки
Северного Кавказа и Дона. Грозный, 1980. С. 154-157.
3.96. Косвен М.О. Описание гребенских казаков XVIII в.//Исторический архив. М., 1958. № 5.
С. 181-183.
3.97. Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. 283 с.
3.98. Кумыков Т.Х. Из истории судебных учреждений в Кабардино-Балкарии (конец ХУШ-Х1Х
вв.)//Ученые записки КБНИИ, 1963. Т. XIX. С. 90-101.
3.99. Кумыков Т.Х., Азаматов К.Г. Особенности земельных отношений у народов Северного
Кавказа в первой половине — XIX в. // Социально-экономические проблемы российской деревни в
феодальную и капиталистическую эпохи. Ростов-на-Дону, 1980. С. 157-169.
3.100. Кумыков Т.Х. Общественный строй адыгских народов в XVIII - первой половине ХЕХ вв. //
Ученые записки КБГУ, 1971. Вып. 43. С. 27-36.
383
3.101. Кумыков Т.Х. Присоединение Кабарды к России и его прогрессивные последствия. Нальчик:
Кабардино-Балкария, кн. изд-во, 1957. 134 с.
3.102. Кумыков Т.Х. Социально-экономические отношения и отмена крепостного права в Кабарде
и Балкарии (1800-1869 гг.). Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1959. 172 с.
3.103. Кумыков Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX веке.
Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1965. 420 с.
3.104. Кушева Е. Н., Усманов М.А. К вопросу об общественном строе вайнахов // Советская
этнография, 1978. № 10. С. 110-116.
3.105. Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина XVI - 30-е
годы XVII вв. М.: АН СССР, 1963. 371 с.
3.106. Кушева Е.Н. О некоторых особенностях генезиса феодализма народов Северного Кавказа//В
кн.: Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969. С. 179-187.
3.107. Ларина В. И. Очерки истории городов Северной Осетии XVIII-XIX вв. Орджоникидзе:
Сев.-Осет. кн. изд-во, 1960. 218 с.
3.108. Лаудаев У. Чеченское племя // ССКГ. Тифлис, 1872. Вып. VI. С. 1-62.
3.109. Лилов А. Материалы для истории Кавказа и Закавказья // Кавказ, 1867. № 62, 66, 69.
3.110. Лисицына Г.Г. Кавказский комитет 1845-1882 гг. // КЛИО, 1997. № 2. С.140-148.
3.111. Ломинадзе Р.А. Административное устройство Восточной Грузии в первой половине XIX
веке (1801-1842): Автореф. канд. дис. Тбилиси, 1980. 25 с.
3.112. Максимов Е.И., Вертепов Г. Чеченцы. Владикавказ, 1896. Вып. П. 100 с.
3.113. Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до Ермолова. М.: Книга, 1998. 351 с.
3.114. Мальбахов Б.К. Кабарда на этапах политической истории (середина XVI - первая четверть
XIX века). М.: Книга, 2002. 502 с.
3.115. Мамакаев М.А. Чеченский тайп в период его разложения. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во,
1973. 98 с.
3.116. Мамбетов Г.А. К историографии кабардинского феодализма//Вопросы истории исторической
науки Северного Кавказа и Дона. Грозный, 1980. С. 168-173.
3.117. Мамышев В.Н. Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на
Кавказе. СПб., 1858. Вып. 1.71с.
3.118. Маргошвили Л.Ю. К вопросу о переселении вайнахов на территорию Грузии //
Грузино-северокавказские взаимоотношения. Тбилиси, 1981 С. 121-133.
3.119. Маркова О.П. Восстание в Кахетии 1812 года. М.: АН СССР, 1951. 335 с.
3.120. Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в. М: Наука, 1966.
323 с.
3.121. Миллер В., Ковалевский М. В горских обществах Кабарды // Вестник Европы. СПб., 1884.
Кн. IV. С. 12-67.
3.122. Мужухоева Э.Д. Административная политика царизма в Чечено-Ингушетии во второй
половине XIX в. - начале XX века.: Канд. дисс. М., 1989. 222 с.
3.123. Мужухоева Э.Д. Организация управления Чечено-Ингушетии в 40-60 гг. XIX в. //
Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII - нач. XX в.). Грозный,
1982. С. 68-80.
3.124. Налоева Е.Д. К вопросу о государственном строе Кабарды первой половины XVIII в. //
Вестник КЕНИИ, 1972. Вып. 2. С. 69-86.
3.125. Народы Кавказа / Под ред. М.О. Косвена. М.: АН СССР, 1960. Т. I. 612 с.
3.126. Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления /
Ответственные редакторы С.Г. Агаджанов, В.В Трепавлов. М: Славянский диалог, 1998. 416 с.
3.127. Новосельцев А.П. Георгиевский трактат // История СССР. 1983. № 4. С. 51-60.
3.128. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т. , Черепнин Л.В. Пути развития феодализма. М: Наука,
1972. 333 с.
384
3.129. Обозрение российских владений за Кавказом / Под ред. В. Легкобытова. СПб., 1836. Ч.П. 401 с,
3.130. Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII - нач.
XX в.): Сборник статей. Грозный: Б.и., 1982. 191 с.
3.131. Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год // Русская старина. СПб., 1893. Т. ЬХХГХ.
С. 157-203.
3.132. Очерк развития административных учреждений в кавказских казачьих войсках. Тифлис, 1885.
45 с.
3.133. Очерк северной стороны Кавказа/ЛСавказ. 1847. № 2.
3.134. Очерки истории балкарского народа с древнейших времен до 1917 года / Под ред.
А.В. Фадеева. Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1961. 217 с.
3.135. Очерки истории Министерства иностранных дел 1802-1902. СПб., 1902. 206 с.
3.136. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1967. 315 с.
3.137. «П» Заметки о Чечне и чеченцах // Терский сборник. Владикавказ, 1878. Вып. I. С. 267-280.
3.138. Пожидаев В.П. Хозяйственный быт Кабарды. Воронеж: Ред.-изд. к-т НКЗ, 1925. 106 с.
3.139. Покровский М.Н. Дипломатия и война царской России в ХГХ столетии. М., 1923. 320 с.
3.140. Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М, 2000. С. 511.
3.141. Потто В.А. Два века терского казачества. Владикавказ, 1912. Т. 1-Й.
3.142. Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. СПб.,
1885-1889. Т. 1-1У.
3.143. Потто В.А. Утверждение русского владычества на Кавказе. Тифлис, 1901. Т. 1-Ш.
Преображенский А.А. Из исторической роли охраны позднефеодальной России в свете дореволюционных
трудов В. И. Ленина // Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма. М., 1970. С. 367-
374.
3.144. Привилегированные сословия Кабардинского округа // ССКГ. Тифлис, 1870. Вып. III.
С. 1-11.
3.145. Пфаф В.Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии // ССКГ, 1871. С. 127-176.
3.146. Рейнке Н.М. Горские народные суды Кавказского края. СПб., 1912. 71 с.
3.147. Робакидзе А.И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе // Советская этнография.
1978. № 2. С. 15-24.
3.148. Романовский Д.И. Генерал фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский и
Кавказская война (1815-1879) // Русская старина СПб., 1881. № 1-3.
3.149. Русское военное обозрение // Военный сборник. СПб., 1865. Т. ХЬУ.
3.150. Сборник сведений о Северном Кавказе. Ставрополь, 1906. Т. I. С. 1-138.
3.151. КЫпе1апбег Ь.Н. Ки551а'5 нпрепа1 роНсу. ТЬе аётпизи-аиоп оГте Саисазиз т те пгз* пап" 01*
те пте(еепт сетшу//Сапао,1ап §1ауотс рарегз, Опл^а, 1975, уо1. 17, № 2-3, р. 218-235.
3.152. КЬше1апо*ег Ь.Н. Тпе сгеаиоп оГте Саисазюп укеге&епсу // 81ауошс апё Баз! Еигоре ге\у. Ь.,
1981, уо1. 59, №1, р. 15-58.
3.153. Шипекпйег Ь.Н. Уюегоу Уогошзоу'з аётпизи-аиоп оГте Саюазиз // СопГ. оп 'ЧМайопаИзт а
5ос1а1 спап§е т Тгап5саиса51а", арг. 24-25, 1980. АУазЬ., 1980. 35 р.
3.154. Семенов Л.С. Новое об источниках по истории экономических связей России и Востока
первой четверти ХГХ в. // Вестник Ленинградского университета. 1958. № 8. С. 163-173.
3.155. Семенов Л.С. Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20-е гг. XIX в. Л.:
ЛГУ, 1963. 142 с.
3.156. Скитский Б.В. К вопросу о феодализме в Дигории. Орджоникидзе: Б.и., 1933.90 с.
3.157. Скитский Б.В. К вопросу о феодальных отношениях в истории ингушского народа // Изв.
ЧИНИИ, 1959. Т. I. Вып. 1. С. 157-197.
3.158. Скитский Б.В. Очерки истории горских народов. Избранное. Орджоникидзе: Б.и., 1972. 379 с.
3.159. Скитский Б.В. Сословный вопрос в Северной Осетии во второй половине XVIII века и в
начале ХГХ века. Изв. СОНИИ, 1954. Т. XVI. С. 69-100.
385
3.160. Скитский Б.В. Холопий вопрос и антирусское движение кабардинских князей в пору
независимости Кабарды (1739-1779) Владикавказ: Растзинад, 1930. 35 с.
3.161. Смирнов Н.А. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях ХУ1-ХУШ вв. Нальчик,
1948. 240 с.
3.162. Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в ХУ1-ХГХ вв. М.: Соцэкгиз, 1958. 244 с.
3.163. Социальные отношения и классовая борьба в Чечено-Ингушетии в дореволюционный период
(XI-нач. XX в.): Сборник статей. Грозный: Б.и., 1979. 191 с.
3.164. Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // КС. Тифлис, 1900. Т. XXI.
С. 53-173.
3.165. Струков Д.П. Августейший генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич.
Очерк жизнеописания в двух частях. СПб., 1906. 769 с.
3.166. Тавакалян Н.А. Присоединение Чечено-Ингушетии к России и его последствия: Автореф.
докт. дис. М, 1972. 64 с.
3.167. Тотоев Ф.В. Общественно-экономический строй Чечни (вторая половина XVIII - 40-е годы
XIX вв.).: Автореф. канд. дис. М., 1966. 15 с.
3.168. Туганов Р.У. Русско-кабардинские отношения в конце XVIII — начале XIX в. (К
общественно-политической деятельности Измаил-бей Атажукина): Автореф. канд. дис. Л., 1983. 17 с.
3.169. Тунян В.Г. Административная и экономическая политика самодержавия в Восточной
Армении от Туркманчайского мира до Крымской войны. 1828-1853 гг.: Автореф. канд. дис. М, 1982.20 с.
3.170. Тунян В.Г. Административная и экономическая политика самодержавия в Закавказье 1801-
1853 гг.//Докт. дисс. Тбилиси, 1990. 423 с.
3.171. Тунян В.Г. Подготовка закавказской административно-судебной реформы 1840 года и
Восточная Армения. Вестник МГУ. История. 1981. № 5. С. 13-20.
3.172. Тхамоков Н.Х. Социально-экономический и политический строй кабардинцев в XVIII веке.
Нальчик: Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1961. 202 с.
3.173. Фадеев А.В. Вопрос о социальном строе кавказских горцев XVIII-XIX вв. в новых работах
советских историков // Вопросы истории 1958. № 5. С. 130-137.
3.174. Фадеев А.В. К вопросу об уровне экономического развития кавказских горцев в середине
XIX века // Научные доклады высшей школы, 1959. № 1. С. 55-71.
3.175. Фадеев А.В. Основные этапы в развитии русско-кавказских связей // Ученые записки
КЕНИИ, 1960. Т. XVII. С. 18-25.
3.176. Фадеев А.В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в дореформенный
период. М.: АН СССР, 1957. 259 с.
3.177. Фадеев А.В. Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX в. М.: АН СССР, 1958. 396 с.
3.178. Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века. М.: АН СССР, 1960. 396 с.
3.179. Фадеев Р.А. Записки о кавказских делах. СПб., 1889. 249 с.
3.180. Филонов С. Кавказская линия под управлением генерала Емануеля // Кавказский сборник,
1894. Т. XV; 1898. Т. XIX; 1899. Т. XX.
3.181. Хан-Гирей. Записки о Черкессии. Нальчик: Эльбрус, 1978. 333 с.
3.182. Хетагуров КЛ. Публицистика. Орджоникидзе: Госиздат Сев.-Осет. АССР, 1941. 188 с.
3.183. Хетагуров КЛ. Собрание сочинений. М.: Ир, 1974. Т. II. 243 с.
3.184. Цицнадзе З.Ф. Административно-территориальное деление Грузии в ХГХ в. // Изв. АН СССР.
История. 1980. № 3. С. 56-71 (на груз. яз.).
3.185. Чернявский. Кавказ в течение 25-летнего царствования государя императора Александра II
(1855-1880). СПб., 1898. 61 с.
3.186. Шамиль и Чечня // Военный сборник. СПб., 1859. Т. IX. С. 3-157.
3.187. Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность. СПб.,
1889-1891. Т. П-Ш.
386
3.188. Щербинин М.П. Биография Воронцова. СПб., 1858. 354 с.
3.189. Чудинов В. Окончательное покорение осетин // Кавказский сборник, 1889. Т. XIII. С. 1-124.
3.190. Эсадзе С.С. Историческая записка об управлении Кавказом. Тифлис, 1907. Т. 1-П.
3.191. Эсадзе С.С. Исторический очерк распространения русской власти на Кавказе. СПб., 1913.
71с.
3.192. Юров А. Три года на Кавказе (1837-1839) // Кавказский сборник. Тифлис, 1884. Т. VIII. С.
1-241.
4. СПРАВОЧНЫЕ ИЗААНИЯ
4.1. Багичев К.Н. Объяснительный каталог библиотеки его императорского высочества великого
князя Георгия Александровича в Абастумане // Кавказ и соседние с ним страны. Тифлис, 1894. 232 с.
4.2. Бентковский И.В. Библиографический указатель историко-статистических материалов и
статей, помещенных в периодических изданиях с 1853 по 1888 год. СПб., 1889. 12 с.
4.3. Высшие и центральные государственные учреждения России 1801-1917 / Отв. редактор Н.П.Е-
рошкин, отв. составитель Д.И.Раскин. СПб.: Наука, 1998. Т. I. 302 с.
4.4. Гизетти А. Библиографический указатель к печатным на русском языке сочинениям о военных
действиях русских воск на Кавказе. СПб., 1901. 256 с.
4.5. Городецкий Б.М. Библиографическая литература о Кавказе // Северо-Кавказский край, 1927.
№2. С. 128-136.
4.6. Городецкий Б.М. Кавказ в русских журналах // На Кавказе. 1909. № 6. С. 212-214.
4.7. Дзагуров Г.А. Указатель статей по кавказоведению, помещенных в газете «Терские ведомости»
(с 1883 г. по 1916 г.). Владикавказ, 1923. 18 с.
4.8. Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871. Т. I. Кн. 3.
4.9. Загурский Л.П. Краткий список книгам, статьям и изданиям, относящимся к кавказоведению.
Кавказский календарь на 1890 г. и на 1891 г. -Тифлис, 1890-1891.
4.10. Козубский К. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1895.
177 с.
4.11. Миансаров М.М. Опыт справочного систематического каталога печатных сочинений о
Кавказе, Закавказье и племенах, эти края населяющие. СПб., 1874. Т. I. 804 с.
4.12. Пагирев Д.Д. Предметный указатель к «Перечню некоторых книг и статей из заметок о
Кавказе. Тифлис, 1914. 530 с.
4.13. Пульнер И.М. Материалы для библиографии Кавказа // Советская этнография. 1936. № 4-5.
С. 230-270.
4.14. Российские военные и гражданские чиновники на Кавказе. XIX в. Справочник / Составитель
З.М. Блиева. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2003. 210 с.
4.15. Словарь кавказских деятелей. Тифлис, 1890. 85 с.
4.16. Справочник по истории дореволюционной России. Библиографический указатель. 2-е изд.,
переем, и доп. / Под ред. П.А. Зайончковского. М.: Книга, 1978. 639 с.
387
ПРИЛОЖЕНИЯ
Пристав Кабарды
(с 1769 г.)
Наместник на Кавказе
(1785-1796 гг.)*
Командующий
Кавказской линией
Комендант
Моздока
Комендант
Владикавказа
Комендант
Кизляра
Верхний пограничный суд
в Моздоке
(1793-1822 гг.)
Родовые суды
и расправы в Кабарде
(1793-1807 гг.)
СХЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ НАРОААМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА В КОН11Д XVIII ВЕКА
* С 1797 г. дела, касающиеся горских народов находились в ведении Коллегии иностранных
дел(КИД).
388
Комитет министров
Коллегия иностранных
дел*
Военное министерство
Министерство внутренних
дел**
Главноуправляющий
(главнокомандующий) Георгиевск
Главный пристав
1800-1802
Командующий
Кавказской линией
Пристав
Кабарды**
Комендант
Моздока
Гражданский губернатор
Кавказской губернии
Комендант
Владикавказа
Главный
калмыцкий
пристав
Верхний
пограничный
суд в Моздоке
Мехкеме в
Кабарде
(1807-1822)
Комендант
Кизляра
Сельские
старшины в
Чечне ****
СХЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ НАРОДАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА В 1802-1822 ГГ.
* С 1819 года горские народы находились в ведении Азиатского департамента КИД.
** Гражданский губернатор с 1810 года подчинялся непосредственно главноуправляющему
Кавказским краем.
*** Пристав Кабарды был подчинен КИД в 1800-1802 гг.
""Чечня до 1806 года и после 1812 г. находилась в ведении командования Кавказской линии.
389
миняшзьвн ионжЛа'мо иимояиоиоа,8Б1э
вмоУео|/\| 1нвУнэиом
'миняшзьвн ионжЛа'мо иимомоУео|/\|
вмоаэшс1о^ 1нвУнэ1люм
'миняивьвн ионжЛа'мо ии>юаэуиа"о^
в^киеи» 1нвйнэ1люм
'миняивьвн ионжЛа'мо иимоа"киеи>1
>з
о
^
о
СО
га
т
га
V
5
о
1—
X
га
сц
-8-
з
г:
X
з
с;
тав
о.
1__
г:
т
X
Т
00
т—
00
т—
О
'
ая)
со
о
О.
1
ка-|
о
га
2
<Ь сЬ
х з:
з о-
3 и
9-«
га з:
ю *
со
га
СО
га
ь
г:
(х
|1_
га
X
пг
с;
X
з
ы
О
т
о
X
га
о.
в
0)
3
П
X
з:
М
II
я &«
Я к
3 о.
I §е
4 м ^з
и С о
5 о Я
2 § ^
и 5 2
^ я 3
ю о Я
я О К
ч ^ а
<и о н
0 о -.
«9 8
Я аз
* СО еЗ
° « н
я 3 о
я я к
и я я
^ в> *
я ^ е
2 ^ 2
1 * Й
е § §
53 ^ 2
- г ><
%*
)Я к
г° Н
1—I Г)
ОР
Он
г
<и о
Я" а.
1 §
я
>^ й
3 §
га ад
^ I
Х I
2 б?
2= ^
3| 3 5га
В 8 I 1 !
з: о. о- н ^
о. с >» га х
С >»2 Ь а:
ЕНЧЗЗ
авюис1и иимос!Л|Л1Вжу
N ав10иа!и иимо1ЭШзау-нвшв|/\|
авюис1и иимомо^-мто>1
И авюиди иимо1яиэтэ>|-омоавм<у
1*
ика
стн
0)
2>
ГО
рия
о:
*
го
^
л
1-
X
ф
7
го
ь-
о
СП
ф
с!
Ф
X
о.
ифлис)
н
го
т
рст
ф
ь
з:
X
:>
5 ,^
' 8в-Г
= о.^ I
р 5: 2 I
о х о —I
Ф ГО
го о
X *
я б "
С «О ^
3 2-ё-
-х^ё
О.Х ^
Ф Л о.
с;
х
X
ф
с;
ш
го
о.
с
>»
ОГО
X
ш
го
с;
1_
ф
т
°
О
ф
з;
X
ф
^
т
го
упр
ф
о
X
т
го
с;
|_
*
6
5 1
со о
"о 8.
1 Р
ф —*
ю >з;
II
га >з:
,5 о
га гг
* I
го^
«■е-
х"5
ф
о
Чечене
ф
°
Т
ш
га
с;
| 1-
вление
га
о.
>»
Окружные
старшины
Сельские
старшины
'г5
ил С
Не
Ц4 ^ 00
о. <о
5 """
< ил
из а;
Ч О э"
«5 51 *
ил а.
О иэ
2
е 5
о 2 ■-
о ^ со
^ со
'18
ГО ф
з:
X
-°
го
т
го
X
го
«=г
ф
>ч
о
0X0
X
з:
т
го
0-
(эохоУоаэква'си)
„,(^29810»)
авюиа'и иихонэьэ^
УАэ иихониЬЯвдвх
И1яннэиэс1а
аюэгпдо хихоа"ол
И1ви авюиа'и
авюиа'и
ииж)ниУа'вдвхо1/в|Л|
ИЛэ
ипнУоа'вн ииж><]а1иН
авюиа'и июва'амН
„ ииниа иохонэжнАо
-энхс!аа хиняивнвн
авюиа'и иихоаонва'евн
^аоУоо'вн xиxоа,о^ (иигп
-ошиава"иЛ) авюиа'и
еоУоа'вн о.юхони±в±а,Лх
и о.юхэо'шбцв авюиа'и
эхювкЛ иохоа"вн а
эхювьЛ
иохоахвииоивуу а
эхювьЛ июхэаежН а
эхювкЛ 1П10хонво>| а
эхювкЛ момо1Э1/Ли1|/м а
эхювьЛ иохоа'Аэаэх а
>-^ ехювкЛ ыоюдвУАу хиняивквн
Я
Я
я
я
я
я
о-
о
я
*
ч
Я _•
Он Л
я
я
л
я
о.
о
га 9 ъ>
Ё I а
•в § а
х "г я*
н х Й
§ а §•
аН
^ й я
я я *
4 л Л
§ ё 1
5 5 §
§||
н§
о я Н
о- я и
3 я гч
я я ^
х * 2
«« о
2 §§
^ | 2
2 « о
° гV ^
Н^ &
О
- 5 ё
к ^ ■?
&. рр с
3 I й
а>
с?Г
391
лис)
■е-
^
н-
ИИ1Л1
>Х О-
зеки
ой А
го ^
* о
СО со
го 5
^ Ш
13
X __
ь >^
о з;
Наме
андующ
^
о
^
она
го
ь
ф
о
X
мен
ф
о.
ш
ф
X
ф
«^
рав
с
Ф
о
авн
с;
1—
ю
то
,Ё
вный
то
с:
с
1-
ф
т
о
О
ф , т
5 т то
5ё & 5
сг 22 2 х
К О. О Ф
о с
X ^
Контроль- 1
ный депар-1
тамент
2 1
Особое
управление сельски
хозяйсвом и
иностранными
поселенцами
• ш 1
Департамент
государе
твенных
имущест
парта-
нт
нансов
ф ф ^
сс 2-9- |
^
л Л
х ь
ю о.
Ф ТО Н
«=1 С X
>* ф Ф
О 3: 2
с;
■ ф
ТО с*
ь- ч7
о. *
то н ==
Ф Ф Ю
ст. 2 о
^' ф .
Арми
этдел
авле-
и
казск
шта
для
горе
одам
ш ^ ф о; о.
то о- ^ ^ то
^ С X X X
стника
азского
ф ^
2 ш
то то
X ^
* 2
^ о
С ^ ТО
§ 5 ^
т 2 о.
то >ч ^
X Ы О
О '5
то ст. *Р
'5 ■
^ _о со
X х Я
& Я 3
о °-0,
ф
-А
ш
<">
^
участ
ф
л
X
сГ
наро
л
«=Г
з-
ИМИНЯ^ВЬЕН
91яаомювьЛ
ф
-°
т
о
^
участ
ф
л
X
сГ
наро
-л
«з
&
иминяивьвн|
а1яаомювьЛ|
С?
иминяшзьвн
91яаомювьЛ
ф
л 9
т -О —
О х л
^ сг с!
<? ТО
начальник
Кабардинского
округа
1
^
^
окружной
народный суд
(Нальчик)
->-
ИМИНЯ1ЛЗКВН
эпаомю
вьЛ
участковые
народные
суды
1
о
2
■
•о
3
I
ад
а:
1X1
<
ад
2
I
О
ы
ъ>
X
л
с;
то
т
то
X
р
о
л. ^
Ф О
х х
х то
й"ю
^ >»
т ы
Р
>ч
п
^
о
^ о
^ |_
X О
х ^
5 о
то!
то л
1 ^
руга
^
о
ы.
ачальн!/
X
то
1 >-
О- >ч
ОМО
окр
ерн
кого
:г о
О
о
и
а:
I
а.
<:
ад
з:
о?
а:
ч
со
О
3
ад
О
щ
о.
с:
<
1
О
о
а:
а.
■
О
а:
а:
ад
О
ОО
ад
з:
а:
ад
<
00
О
а:
5
к!
392
о
1 Начальник
Ингушского
| округа
Начальники
участков
0.10)100^
о.юмохвцЛдва'в)!
о-юновонвдевн
аюиониИс1в9В>Ю1ГБ1Л|
о.10Ж)э>1с1ан
олоюнвохвд
аюмоноои1Л1Б|Д|-оо'щвцу
о.юиони1В10|Л)|-оо'Лвлв1
о.юмоо'о.жЕ/
Начальник
Игнеринс-
кого огруга
Начальники
наибств
о-юяонэйэд
оюиони.ю'вЕ/
о 2
х <
1 Б
о.юмовэоо'егп
аюмоаэоцс1э9вь
о.юж)аэо1Вгп
о.ю>юни1нвь
^
X
X
с;
го
т
го
X
р
о
т
о.
2
го
X
2
й:
о
х.Б
о.юмоао>пяцвхьв)|
о-юмоаэохьвн
оюиэйЛл&у
ОЮЯЭН&](1у
о.ю>юаонв1а'в|А|оЛо!д
аюжгаэохьу
* 4
ф 5;
з о
X О
О о.
го
X
II
аюхохеНнеё
о.ю>юао1вивэ
О-ЮюаохЛу
К
ев
го го
го ^
X
0-Юхоив.юн
о-юиоаээдйну
О-Ююаэвоху
-^ 1яИЛоэ1Янйос1внэ1яао>цовнд|
2
со
X
2
о
о
о.
О!
со
я
о.
I 1 ^»
О
X
<=:
о
I— <и
Он
п
о
х
а.
3 д
о- ^
393
394
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕАЕНИЕ 3
ГЛАВА I. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ НАРОАОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА В КОНЦЕ XVIII — 80-е голы XIX ев 18
§ 1. «ВОЛЬНЫЕ» (ТУКХУМНЫЕ) ОБЩЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 18
§ 2. НАРОАЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА С ФЕОААЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ОБЩЕСТВ А.... 37
ГЛАВА II. ОБЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАВКАЗОМ В КОНЦЕ XVIII —
80-е голы XIX в 79
§7. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
(КОНЕЦ XVIII — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX В.) 79
§2. ПРОЕКТЫ ААМИНИСТРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЗАКАВКАЗЬЯ.
РЕФОРМА П.В. ГАНА 110
§3. КАВКАЗСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО (1844-1882 ГГ.) 145
ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И СУАОПРОИЗВОАСТВА
У НАРОАОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА В КОНЦЕ XVIII —
70-е ГОАЫ XIX в 796
§7. ААМИНИСТРАТИВНЫЕ И СУАЕБНЫЕ РЕФОРМЫ В КАБАРАЕ (1769-1858 ГГ.) 796
§2. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЧНЕЙ (XVIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 221
§3. УПРАВЛЕНИЕ ОСЕТИЕЙ И ИНГУШЕТИЕЙ (КОНЕЦ XVIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА
XIX В.) 265
§4. ААМИНИСТРАТИВНЫЕ И СУАЕБНЫЕ УЧРЕЖАЕНИЯ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 60-70-е
ГОАЫ XIX в 288
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 75
Примечания 327
Указатель имен 366
Указатель географических названий 372
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 378
ПРИЛОЖЕНИЯ 388
397
Научное издание
БЛИЕВА ЗАЛИНА МАРКОВНА
РОССИЙСКИЙ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
И НАРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
В КОНЦЕ XVIII — 80-Е ГОДЫ XIX ВЕКОВ
2-е изд., перераб.
Редактор Н.Е. Желдакова
Технический редактор Е.Н. Маслов
Корректор Г.Г. Васильева
Компьютерная верстка А.В. Черная
Подписано в печать 10.07.15.
Формат бумаги 70x901Аб. Бум. офс. Гарнитура шрифта "Т|те$".
Печать цифровая. Усл. п. л. 25,32. Уч-изд. л. 24,66.
Тираж 500 экз. Заказ № 63.
Государственное бюджетное учреждение
«Институт истории и археологии» Республики Северная Осетия-Алания
362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
Отпечатано ИП Цопановой А.Ю.
362002, г. Владикавказ, пер. Павловский, 3